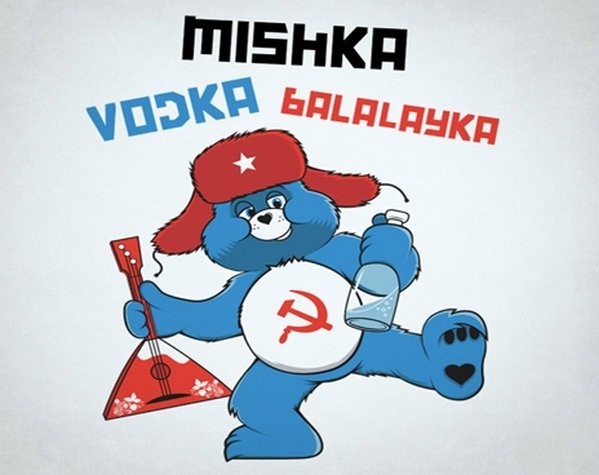nethistory.mirtesen.ru/blog...ge_0&pad=1
Ё.¬.: акую –оссию мы потер€ли...¬от такую...
 «‘акт чрезвычайной экономической отсталости –оссии по сравнению с остальным культурным миром не подлежит никакому сомнению. ѕо цифрам 1912 года народный доход на душу населени€ составл€л: в —ј—Ў 720 рублей (в золотом, довоенном исчислении), в јнглии — 500, в √ермании — 300, в »талии — 230 и в –оссии — 110.
«‘акт чрезвычайной экономической отсталости –оссии по сравнению с остальным культурным миром не подлежит никакому сомнению. ѕо цифрам 1912 года народный доход на душу населени€ составл€л: в —ј—Ў 720 рублей (в золотом, довоенном исчислении), в јнглии — 500, в √ермании — 300, в »талии — 230 и в –оссии — 110.
»так средний русский, еще до ѕервой мировой войны, был почти в 7 раз беднее среднего американца, и больше чем в 2 раза беднее среднего италь€нца. ƒаже хлеб — основное наше богатство — был скуден. ≈сли јнгли€ потребл€ла на душу населени€ 24 пуда, √ермани€ 27 пудов, а —ј—Ў — целых 62 пуда, то русское потребление хлеба было только 21, 6 пуда — включа€ во все это и корм скоту. Ќужно при этом прин€ть во внимание, что в пищевом рационе –оссии хлеб занимал такое место, как нигде в других странах он не занимал. ¬ богатых странах мира хлеб вытесн€лс€ м€сными и молочными продуктами и рыбой» (». —олоневич «Ќародна€ монархи€», ћ., 2003, с.с. 77-78)».—олоневич-белоэмигрант, монархист и антикоммунист
«“аким образом, староэмигрантские песенки о –оссии как о стране, в которой реки из шампанского текли в берегах паюсной икры, €вл€ютс€ кустарно обработанной фальшивкой: да, были и шампанское, и икра, но — меньше чем дл€ одного процента населени€ страны. ќсновна€ масса этого населени€ жила на нищенском уровне»
».—олоневич
несчасть€м –оссии прибавилс€ еще и голод на ее юго-восточной территории по размерам в несколько раз превосход€щей ¬еликобританию. ¬ районе азани татарские кресть€не продают своих детей за хлеб. ¬ борьбе с голодом много сделано благотворительными организаци€ми, государство снабжает эти провинции зерном, но доставка и распределение продовольстви€ во многом осложнено снежными заносами на железных дорогах
√азета «–усское слово» 1907год
Ќа дн€х на станции –тищево пропали 3 вагона с хлебом, предназначенным дл€ голодных. ¬агоны эти как в воду канули. ћинистерство внутренних дел командировало дл€ расследовани€ этого загадочного факта чиновника особых поручений. ќсобн€ка, который прибыл на станцию, роетс€ в бумагах, но пока вагонов нет, как нет. (—ег).
√азета «–усское слово» 1907год
¬чера в общеземскую организацию поступило несколько крупных пожертвований в пользу голодающих: от собрани€ акционеров компании «ингер – 2500 руб., от общего собрани€ даниловского отдела московского
общества трезвости 500 р. и из Ќью-…орка от ћортон-треста – 23 504 руб. √рафом Ћьвом Ќиколаевичем “олстым получено в пользу голодающих 5 тыс. долларов от духоборов из анады.
√азета «Ќовое ¬рем€» 1907год
»—“ќ–»я –ќ——»» Ќј„јЋј XX ¬≈ ј
Ќиколай ≈рофеев
Ѕез преувеличени€ можно сказать, что вопрос, €вл€ющийс€ предметом моего рассмотрени€, имеет исключительную значимость. ¬о-первых, современной экономической наукой уровень развити€ той или иной страны определ€етс€ не с помощью ее макроэкономических показателей, как это было прин€то раньше, а уровнем жизни ее населени€. ¬о-вторых, согласно утверждени€м другой науки — политической психологии, — потребности материального благополучи€ и безопасности играют доминирующее значение в иерархии социальных интересов масс. Ќеспособность государства удовлетворить эти первостепенные нужды населени€ неизбежно приводит к тотальному недовольству политикой государства и по€влению коллективных непримиримых оппозиционных настроений[1].
“аким образом, обращение к данному вопросу, с одной стороны, отвечает насущнейшему дл€ нынешнего времени методологическому требованию нового подхода к освещению истории –оссии, с другой — оно важно в научно-познавательном плане, так как позвол€ет точнее представить уровень социально-экономического развити€ –оссии в конце XIX — начале XX в., ее место в мире и перспективу страны в случае сохранени€ существовавшего пор€дка вещей. ќбращение к этой теме также помогает лучше пон€ть причины и смысл тех политических и социальных катаклизмов, которые пришлось пережить –оссии в тот период. ќднако с сожалением приходитс€ констатировать, что указанна€ проблема до сих пор не подвергалась специальному исследованию. ¬ работах, так или иначе касающихс€ ее, как правило, привод€тс€ сведени€, нос€щие бессистемный, фрагментарный характер, к тому же в большинстве случаев без указани€ на те источники, из которых они получены. ћало, а чаще всего — и вовсе научно необоснованными, окрашенными идеологическими и политическими пристрасти€ми авторов и потому крайне противоречивыми, €вл€ютс€ и общие оценки проблемы. ќсобо надо /55/ подчеркнуть то, что не предприн€то даже попытки рассмотреть ее в динамике и в сравнении этой динамики с динамикой в других странах.
Ќеудовлетворительна€ изученность вопроса объ€сн€етс€, однако, не только его новизной в историографии и чрезмерной зависимостью от политики и идеологии, но и состо€нием источниковой базы, трудоемкостью работы с нею. »з-за того, что эта тема не была предметом специального интереса тогдашней власти, а следовательно, и официальной статистики, не отложилось документов, в концентрированном виде содержащих сведени€ надлежащего ее освещени€. »х надо собирать по крупицам, перелопачива€ целый р€д разнообразных источников. ≈ще сложнее обстоит дело с вы€влением динамики вопроса.
ѕопытаюсь, однако, более подробно охарактеризовать то, что какой-то мере можно отнести к историографии темы. ќднозначно негативной была оценка уровн€ жизни в –оссии в исследуемый период либералами и революционерами того времени. „резмерна€ ангажированность этих лиц дает повод предположить, что их оценка вр€д ли €вл€етс€ адекватной. ћежду тем факты, извлеченные мною из источников иного происхождени€, говор€т о том, что эта оценка страдает лишь преувеличением, но в принципе не €вл€етс€ неверной. Ёто подтверждаетс€, в частности, точкой зрени€ представителей тогдашнего правительственного лагер€, противосто€вшего либералам и революционерам, министра финансов —.ё. ¬итте, товарища министра внутренних дел, экономиста и идеолога умеренно правых ¬.√. √урко и императора Ќикола€ II. ƒумаю, что в информированности и компетентности названных государственных де€телей сомневатьс€ не приходитс€ и потому их мнени€ заслуживают особого внимани€. ¬ажно подчеркнуть и то, что эти мнени€ были высказаны в разное врем€ рассматриваемого периода и таким образом позвол€ют в какой-то мере судить не только о статике, но и динамике предмета.
—.ё. ¬итте на совещании министров 17 марта 1899 г., проходившем под председательством Ќикола€ II и обсуждавшем вопрос об основани€х действующей в –оссии торгово-промышленной политики, говорил: «≈сли сравнивать потребление у нас и в ≈вропе, то средний размер его на душу составит в –оссии четвертую или п€тую часть того, что в других странах признаетс€ необходимым дл€ обычного существовани€». Ёто высказывание ¬итте относитс€ к завершающей стадии промышленного бума, пережитого –оссией в 90-е годы. ак видим, достигнутые при этом успехи не вводили в заблуждение отца российской индустриализации.
ќтмеча€, что промышленность –оссии «увеличилась в последние 30 лет в 7 раз», он подчеркивал, что «рост потребностей /56/ страны далеко опережает успехи ее промышленного развити€»[2]. »нтересна оценка ¬. ». √урко, которого монархисты, вчерашние и сегодн€шние, называют «человеком редкого ума и исключительного образовани€», «украшением сановной русской бюрократии»[3]. ¬ программной дл€ объединенного двор€нства работе «Ќаше государственное и народное хоз€йство», опубликованной в 1909 г., он пессимистически констатировал, что –осси€ начинает проигрывать во всемирном соревновании, что она и до революции 1905 г. «занимала последнее место среди других мировых держав», после же революции «ее экономическое положение про€вл€ет грозные признаки ухудшени€; количество многих производимых страной ценностей уменьшаетс€, удовлетворение главнейших народных потребностей понижаетс€, государственные финансы приход€т во все большее расстройство»[4].
» наконец, приведем мнение самого императора Ќикола€ II высказанное им накануне ѕервой мировой войны. ¬ конце €нвар€ 1914 г. с поста председател€ —овета министров и министра финансов был уволен ¬.Ќ. оковцов. ћинистром финансов бы назначен ѕ.Ћ. Ѕарк. ¬ рескрипте о его назначении царь говорил, в частности, о том, что во врем€ поездки по –оссии в ушедшем году, св€занной с торжествами по случаю 300-лети€ пребывани€ на престоле династии, он р€дом со «светлыми €влени€ми» народной жизни, видел также «печальную картину народной немощи, семейной нищеты и заброшенности хоз€йств». ака€ из названных сторон преобладала, €сно видно из того, как этот рескрипт комментировал ƒ.‘. ƒжунковский, тогдашний товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов. ќн называл его «весьма знаменательным», содержащим целый р€д указании, каким путем должно идти отныне ћинистерство финансов дл€ того, чтобы «извлечь из нищеты и невежества русский народ»[5] (выделено мной. — Ќ. ≈.)
¬ советской историографии удел€лось много внимани€ социально-экономической проблематике рассматриваемого периода, но оно было направлено главным образом на доказательство того, что в –оссии €кобы существовали материальные предпосылки /57/ дл€ социалистической революции и социалистических преобразований. ѕри этом акцент делалс€ не на вы€снение уровн€ жизни населени€ страны, а на степень зрелости российского капитализма, на характеристику макроэкономических показатели: объемов и темпов добычи топлива и сырь€, производства металлов, зерна и другой продукции и товаров, а также на прот€женность и темпы строительства железных дорог. ѕо этим показател€м –осси€ в сравнении с развитыми странами выгл€дела более-менее достойно, занимала четвертое и п€тое места, что давало советским политикам и историкам основание говорить о том, что в целом она была страной среднеразвитого капитализма и социалистическа€ революци€ в ней была €влением не случайным, а закономерным.
ќднако неверно было бы думать, что советска€ историографи€ вообще обходила вопрос об уровне жизни в царской –оссии. ќна касалась этого сюжета, когда надо было отметить успехи, достигнутые при советской власти. ≈стественно, что производившеес€ сравнение не носило комплексного характера. Ќе рассматривалась и динамика вопроса. ак правило, все ограничивалось лишь использованием отдельных показателей за предвоенный 1913 год.
ƒл€ эмигрантской, особенно монархической, литературы характерной €вл€етс€ скорбь по потер€нной родине, €кобы процветавшей до большевиков[6]. ¬ подобной €вно искаженной оценке назывались, на мой взгл€д, не только политические пристрасти€, но и заблуждени€ психологического характера. ƒело в том, что уровень жизни в –оссии лиц, оказавшихс€ в эмиграции, как правило, был существенно выше уровн€ жизни населени€ в целом. “оска по прошлому вымывала из их пам€ти прежде всего негативные воспоминани€ о нем, порождала у них иллюзии, что в ушедшие времена не только им, но и всему народу жилось хорошо. «накомство с белоэмигрантскими воспоминани€ми было не последним обсто€тельством и дл€ ј. ». —олженицына в его идеализации досоветской –оссии. “о, что называют первой российской революцией, ему представл€етс€ как «брожение –оссии от избытка накопленной энергии, от избытка богатства»[7].
¬ постсоветской литературе спектр мнений по рассматриваемому вопросу очень разнообразен. ¬ целом же это разнообразие с некоторыми оговорками можно свести к двум группам. ќдну из них составл€ют мнени€ не просто положительные, но и восторженные. — начала перестройки они получили весьма широкое /58/ распространение благодар€ периодической печати, публицистике, кино и спешно пекущимс€ квазиисторическим трудам, восхвал€вшим де€ни€ ѕ. ј. —толыпина[8].
ѕодобные мнени€ далеки от действительности. »х по€вление, на наш взгл€д, объ€сн€етс€ прежде всего поверхностным знанием исторической реальности. »меет значение и то, что в трудные времена люд€м свойственно идеализировать прошлое, видеть в нем «золотой век». ќднако решающую роль играли, видимо, конъюнктурные соображени€, желание быть в согласии с позицией новых руковод€щих политических де€телей. ѕоследние вр€д ли серьезно изучали историю, но безапелл€ционно объ€вл€ли советский период потер€нным временем, катастрофой, отходом в сторону от цивилизованного мира; стремились «восстановить св€зь времен», подвести историческое обоснование под свою модель перестройки, представить ее не иначе как возвратом –оссии на путь процветани€, который €кобы был прерван ќкт€брьской революцией. “ак, главный идеолог перестройки ј.Ќ яковлев восторженно пишет: «√осподи! акое же это было врем€!.. –осси€ развивалась невиданными темпами… ¬первые за всю свою тыс€челетнюю историю быстро становилась процветающей страной… ¬езде и всюду открывались школы… —трана была завалена продуктами питани€, товарами потреблени€… –осси€ имела практический шанс уберечьс€ от разрушительной смуты окт€бр€ 1917 года… ѕерва€ мирова€ война и большевистский контрреволюционный м€теж определили трагический характер развити€ –оссии на все XX столетие»[9].
ћнени€, отнесенные мною ко второй группе, представл€ют собой другую крайность. ќни принадлежат маститым советским историкам[10], обсто€тельно изучавшим рассматриваемую эпоху, но в то же врем€ по-прежнему оценивавшим ее в соответствии с господствовавшими тогда политическими и идеологическими догмами. ќни категорически не согласны с утверждением, что –осси€ накануне революционных потр€сений была богатой и /59/ могущественной страной, что врем€ —толыпина и его аграрной реформы было временем подъема и процветани€ –оссии и считают, что в стране существовали глубинные противоречи€, которые обусловили необходимость ќкт€брьской социалистической революции.
«аканчива€ свой краткий историографический обзор, приведу, хот€ и вскользь оброненные, но, на мой взгл€д, заслуживающие внимани€ замечани€ ¬.ѕ. Ѕулдакова и ј.ј. Ѕушкова, не испытывающих пристрасти€ ни к коммунистам, ни к ура-патриотам, ни к сторонникам безбрежной демократии; склонных к суждени€м категоричным и парадоксальным; авторов оригинальных, но во многом дискуссионных работ разных жанров. ¬.ѕ. Ѕулдаков в монографии « расна€ смута», эпатировав читател€ оговоркой, что «применительно к истории –оссии нет источника более коварного, чем статистика», за€вл€ет «…все разговоры о том, что дореволюционна€ –осси€ была процветающей страной, да еще «кормила пол-≈вропы», относ€тс€ к разр€ду нынешних «патриотических» психозов, вызванных крахом коммунизма»[11].
ј.ј. Ѕушков в своей книге «–осси€, которой не было», написанной в жанре исторического детектива, поставив перед собой задачу развенчать р€д устойчивых мифов в нашей историографии и дать собственное истолкование событи€м, их породившим, констатирует, что в последние годы «…в массовое сознание оказалс€ успешно вбит образ царской –оссии, пр€мо-таки подобной… сказочной стране, краю всеобщего благоденстви€, с молочными реками и кисельными берегами». ќднако, резонно замечает автор, «остаетс€ решительно непон€тным, что за параной€ охватила русский народ, заставив его своими руками разрушить столь благополучную, сытую и процветающую страну?»[12]
ѕрежде чем перейти к изложению результатов собственного исследовани€ заинтересовавшей мен€ проблемы, остановлюсь на том, что имеет в виду современна€ наука под пон€тием «уровень жизни населени€». ¬ социологическом энциклопедическом словаре на русском, английском, немецком, французском и чешском €зыках, изданном в 1998 г., говоритс€, что «уровень жизни», это «социально-экономическа€ категори€, выражающа€ степень удовлетворени€ материальных и культурных потребностей населени€ страны… в смысле обеспеченности потребительскими благами, характеризующимис€ преимущественно количественными показател€ми, абстрагированными от их качественного значени€» (с. 381). /60/
¬ социологическом энциклопедическом словаре на русском, английском, немецком, французском и чешском €зыках, изданном в 1998 г., говоритс€, что «уровень жизни», это «социально-экономическа€ категори€, выражающа€ степень удовлетворени€ материальных и культурных потребностей населени€ страны… в смысле обеспеченности потребительскими благами, характеризующимис€ преимущественно количественными показател€ми, абстрагированными от их качественного значени€» (с. 381). /60/
данному определению, вз€тому мной за основу, добавлю, что имеетс€ в виду количество материальных и духовных благ, приход€щихс€ на душу населени€, и что € не ставил перед собой задачи рассмотреть предмет своего исследовани€ по всем его параметрам. ¬ поле моего зрени€ были лишь наиболее существенные из них: национальный доход, заработна€ плата, обеспеченность продуктами питани€, уровень грамотности, медицинские услуги, продолжительность жизни, развитие транспортных и других средств коммуникаций. ќговорю также, что степень изученности данных параметров зависела не столько от используемой мною методики, сколько от объема информации, содержащейс€ в источниках, бывших в моем распор€жении. —читаю не лишним отметить и то, что € в достаточной мере представл€ю, что не все в –оссии жили одинаково. Ѕыли различи€ региональные, между городом и деревней, между разными социальными сло€ми. »спользу€ статистический метод исследовани€, €, согласно ему, вы€вл€ю лишь средние показатели.
ќсновными источниками дл€ мен€ €вл€лись статистические материалы следующих капитальных изданий: ќпыт исчислени€ народного дохода в 50 губерни€х ≈вропейской –оссии в 1900—1913 гг. (ћ., 1918); –убакин Ќ.ј. –осси€ в цифрах. —трана. Ќарод. —ослови€. лассы. ќпыт статистической характеристики сословно-классового состава населени€ русского государства (—ѕб., 1912); –осси€. Ёнциклопедический словарь (Ћениздат, 1991); –осси€. 1913 год. —татистико-документальный справочник (—ѕб., 1995); ћиронов Ѕ.Ќ. —оциальна€ истори€ –оссии. “. 2. —татистическое приложение: ќсновные показатели развити€ –оссии сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.» (—ѕб., 1999); —тепанов ј. –осси€ перед расным ќкт€брем (–осси€ XXI. є 11-12. —. 128-155).
”ровень жизни, как известно, определ€етс€ соотношением двух составл€ющих: количеством благ, производ€щихс€ в стране, и численностью ее населени€. ќдним из недостатков нашей историографии, касающейс€ проблемы социально-экономического развити€ страны, €вл€етс€ то, что если она и рассматривает это соотношение, то лишь в статике, а не в динамике и не в сравнении с динамикой этого показател€ в других странах.
„итать далее
»так, приведенные мною данные и их анализ показывают спекул€тивность и опровергают весьма распространенные ныне утверждени€ о том, что царска€ –осси€ развивалась весьма успешно, что если бы не было ѕервой мировой войны и ќкт€брьской революции, она могла бы догнать развитые западные страны. ¬ действительности положение было не столь однозначным. –осси€, безусловно, не сто€ла на месте, уровень жизни ее населени€ повышалс€, однако по этому главному показателю, характеризующему уровень развити€ государства, она не сближалась с развитыми странами, а наоборот отставала от них. “аким образом, дл€ –оссии при сохранении в ней существовавших тогда социальных отношений и системы государственного управлени€, а также при ее тогдашних темпах модернизации более реальной была перспектива не зан€ть достойное место в р€ду цивилизованных стран, а быть оттесненной на обочину цивилизации. Ќе исключалась и возможность потери национальной независимости. „тобы этого не случилось, стране неотложно нужна была ина€, более динамична€ модернизаци€.
÷аризм оказалс€ не способным провести ускоренную модернизацию страны и обеспечить в надлежащей степени ее внешнюю безопасность, а потому был свергнут. Ёти проблемы не были решены и политическими силами, вставшими у власти после его свержени€. ѕредлагавша€с€ ими демократическа€ модель модернизации оказалась неэффективной в услови€х экономической разрухи и продолжавшейс€ войны. ѕо мере того как положение страны ухудшалось, потребность в форсированной модернизации все более возрастала. »сторическое предназначение большевиков, пришедших к власти в результате ќкт€брьской революции, заключалось прежде всего в осуществлении такой модернизации, а не в создании коммунистической утопии. оммунизм в –оссии был лишь идеологией модернизации. ¬опрос о том, почему в западных странах индустриальна€ модернизаци€ осуществл€лась под лозунгами свободы, равенства и братства, а в –оссии под лозунгом социального равенства, требует отдельного рассмотрени€.
—оциалистический эксперимент в нашей стране закончилс€ неудачей. Ќе сравн€лась —оветска€ –осси€ с передовыми западными странами и по уровню жизни населени€. Ѕольшевистска€ форсированна€ модернизаци€, планово-мобилизационна€ по /69/ своему характеру, осуществл€вша€с€ жестокими насильственными методами, была оплачена чрезмерными материальными и людскими потер€ми. Ќо нельз€ игнорировать и другой результат большевистской модернизации. ќна превратила –оссию из аграрной страны в страну индустриальную, урбанизировала ее население, сделала его сплошь грамотным. ¬ этом смысле эпоха большевизма в истории –оссии не была катастрофой и отходом от магистрального пути развити€ цивилизованного человечества. ѕравильнее будет считать ее национальной особенностью движени€ по этому пути. <...>
ќснову статьи составл€ет сообщение, сделанное мною 26 апрел€ 2001 г. на кафедре »стории –оссии XIX — начала XX в. исторического факультета во врем€ научной конференции «Ћомоносовские чтени€».
ќпубликовано в: ¬естник ћосковского университета. —ери€ 8. »стори€. 2003. є1. — —.55 — 70.
———————————————————————————
ѕримечани€
1. ѕолитическа€ психологи€. ”чебное пособие дл€ высшей школы. ћ., 2001, —. 253-254.
2. ћатериалы по истории ———–, ћ., 1959. т. VI. с. 200.
3. обылин ¬. јнатоми€ измены. »стоки антимонархического заговора —ѕб., 1998. —. 63.
4. √урко ¬.». Ќаше государственное и народное хоз€йство. —ѕб., 1909. —. 1.
5. ƒжунковский ƒ.‘. ¬оспоминани€: ¬ 2 т. ћ., 1997. “. 2 —. 282-283. Ћюбопытно отметить, что главную причину бедствий своего народа царь видел в пь€нстве и предлагал в качестве первоочередной меры пересмотр законов о продаже винно-водочных изделий. ¬о исполнение этого указани€ в начале ѕервой мировой войны был введен запрет на продажу этих изделий. “аким образом, творцы нынешней «перестройки», начав свою де€тельность с борьбы с народным пь€нством, не были оригинальны
6. Ѕразоль Ѕ.Ћ. ÷арствование императора Ќикола€ II (1894—1917) в цифрах и фактах. ћинск, 1991. ¬первые брошюра была опубликована в 1958 г. в Ќью-…орке.
7. —олженицын ј. расное колесо. ћ., 1993. “. 3. —. 412.
8. ћаринин Ќ. Ќеизвестна€ јтлантида // –оссийска€ газета. 22.12.1990; √оворухин —. –осси€… которую мы потер€ли; „то с нами было. »нтервью с кинорежиссером —таниславом √оворухиным // уранты. 7.03.1992; √ерои и антигерои ќтечества. ћ., 1992; азарезов ¬.¬ ќ ѕетре јркадьевиче —толыпине. ћ, 1991; ѕ.ј. —толыпин. ∆изнь за цар€. ћ., 1991; –ыбас —, “араканова Ћ. –еформатор: жизнь и смерть ѕетра —толыпина. ћ., 1991; и др.
9. яковлев ј. ќмут пам€ти. ћ., 2001. —. 67, 69, 71.
10. јврех ј.я. ѕ ј. —толыпин и судьбы реформ в –оссии. ћ., 1991; јнфимов ј.ћ, “ень —толыпина над –оссией // »стори€ ———–. ћ, 1991. є 4. —. 112—121; ќн же. ÷арствование императора Ќикола€ II в цифрах и фактах (опыт подтверждени€ и опровержени€) // »з истории экономической мысли и народного хоз€йства –оссии. ћ, 1993. „. 1; овальченко »Ћ. —толыпинска€ аграрна€ реформа; мифы и реальность // »стори€ ———–. ћ., 1991. є 2. —. 52—72.
11. Ѕулдаков ¬. расна€ смута. ћ., 1997. —. 69.
12. Ѕушков ј. –осси€, которой не было. ћосква; —.-ѕетербург; расно€рск, 2002. —. 494.
13. –убакин Ќ.ј.. ”каз. соч. —. 29.
14. ћиронов Ѕ.Ќ. —оциальна€ истори€ –оссии. —ѕб., 1999. “. 2. “аблица 1. —. 380.
15. –убакин Ќ.ј.. ”каз. соч. —. 206-207.
16. ќпыт исчислени€ народного дохода в 50 губ. ≈вропейской –оссии в 1900-1913 гг. ћ., 1918. —. 66.
17. ћиронов Ѕ.Ќ. ”каз. соч. “. 2. —. 397.
18. –осси€. Ёнциклопедический словарь. Ћ., 1991. —. 284.
19. –осси€. 1913 год. —татистико-документальный справочник. —ѕб., 1925. —. 313.
20. ћиронов Ѕ.Ќ. ”каз. соч. “. 2. —. 392.
21. “ам же. “абл. 22. —. 393.
22. Ѕулдаков ¬.ѕ. ”каз. соч. —. 69.
23. ћиронов Ѕ.Ќ. ”каз. соч. “. 2. “абл. 22. —. 393.
24. “ам же.
25. “ам же. “абл. 32—33. —. 404—405.
26. “ам же. “абл. 24. —. 396.
27. “ам же. “абл. 7. —. 384.
28. –осси€. 1913 год. —. 327.
29. ћиронов Ѕ.Ќ ”каз. соч. “. 2. “абл. 10. —. 387.
30. Ќародна€ беседа. N° 2. 13.12.1906.
31. –осси€. 1913 год. —. 52.
32. ћиронов Ѕ.Ќ. ”каз. соч. “. 2. “абл. 43. —. 413.
33. “ам же. “абл. 44. —. 414.
34. “ам же. “абл. 41. —. 412.
ссылка

















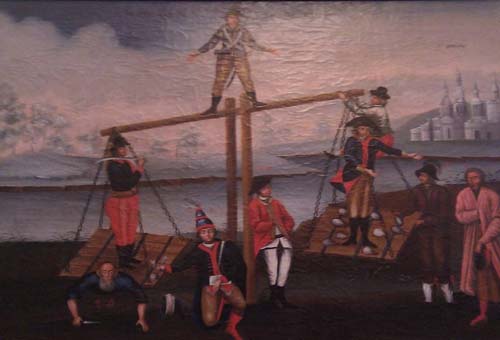




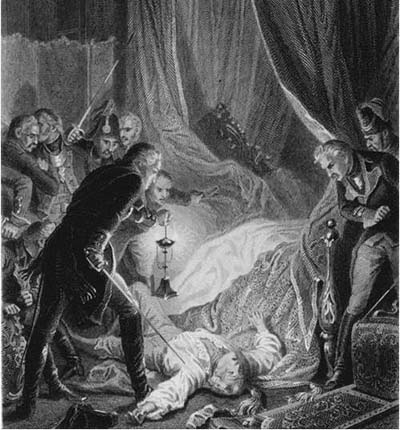


























 Ќа территории ”краины полным ходом идет сама€ масштабна€ за годы независимости информационна€ война. ќбычно этот тезис используют дл€ того, чтобы склон€ть по матери редакционную политику «ѕервого канала» и прочих российских —ћ», которые-де развернули в ”краине сепаратистскую пропаганду. Ќе будем о российских коллегах, давайте лучше посмотрим на технологические потуги триумфаторов майдановских событий, у которых сегодн€ с трудом получаетс€ подбирать спасательные аргументы даже дл€ своих верных сторонников. ћанипул€ции станов€тс€ все пр€молинейней и примитивней.
Ќа территории ”краины полным ходом идет сама€ масштабна€ за годы независимости информационна€ война. ќбычно этот тезис используют дл€ того, чтобы склон€ть по матери редакционную политику «ѕервого канала» и прочих российских —ћ», которые-де развернули в ”краине сепаратистскую пропаганду. Ќе будем о российских коллегах, давайте лучше посмотрим на технологические потуги триумфаторов майдановских событий, у которых сегодн€ с трудом получаетс€ подбирать спасательные аргументы даже дл€ своих верных сторонников. ћанипул€ции станов€тс€ все пр€молинейней и примитивней.



 ак интернационалисту мне этот вопрос не важен, но существует огромное количество людей, которым вопрос о чьей-либо национальности не дает поко€. ¬от дл€ них мы и проведем небольшое расследование, в котором приглашаем поучаствовать всех желающих. —начала разобьем наше задачу на две части:
ак интернационалисту мне этот вопрос не важен, но существует огромное количество людей, которым вопрос о чьей-либо национальности не дает поко€. ¬от дл€ них мы и проведем небольшое расследование, в котором приглашаем поучаствовать всех желающих. —начала разобьем наше задачу на две части: ”знав при€тную новость, Ћенин ликует. «¬ы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона.ƒавайте пари держать, что дадут!» — пишет он 19 марта (1 апрел€) »нессе јрманд. » потом — ей же: «ƒенег на поездку у нас больше, чем € думал... нам здорово помогли товарищи в —токгольме». ћежду двум€ послани€ми любимой («через √ерманию не выходит» и «дадут ») прошло 2 недели, и за это врем€ —Ўј, јнгли€ и √ермани€ решили участь –оссии.
”знав при€тную новость, Ћенин ликует. «¬ы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона.ƒавайте пари держать, что дадут!» — пишет он 19 марта (1 апрел€) »нессе јрманд. » потом — ей же: «ƒенег на поездку у нас больше, чем € думал... нам здорово помогли товарищи в —токгольме». ћежду двум€ послани€ми любимой («через √ерманию не выходит» и «дадут ») прошло 2 недели, и за это врем€ —Ўј, јнгли€ и √ермани€ решили участь –оссии.