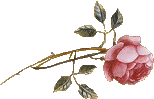По дороге домой я иногда заезжаю в булочную Шмуэля. Тучному Шмуэлю уже за шестьдесят, он бездетный вдовец, который недавно перенес операцию на открытом сердце, покряхтел-покряхтел и вернулся на работу – а чем еще ему прикажете заниматься? Когда-то, лет десять назад, я пытался привести в порядок его бухгалтерию, но у старика творился такой вдохновенный бардак с квитанциями, что после нескольких безуспешных попыток переучить его мне пришлось сдаться и оставить Шмуэля драться с налоговой инспекцией в одиночку. Моя капитуляция резко улучшила наши личные отношения, но сильно затруднила расчет за хлеб. То Шмуэль категорически отказывается принимать от меня деньги и уверяет, что это специально испеченные булочки для моих детей, то я, якобы торопясь, убегаю, не дожидаясь сдачи, – в целом, мы, видимо, в расчете, но при этом оба свято уверены в том, что делаем друг другу одолжение. Вот и сегодня, проторчав почти весь день в налоговой инспекции с дураком-клиентом, я заскочил к Шмуэлю за горячими булочками.
- Как дела, Сеня? Тебе как всегда? – приветствовал меня хозяин. Я поздоровался, одновременно подтвердив кивком заказ, и поинтересовался причиной хмурого вида толстяка-булочника.
- Сегодня годовщина смерти моей бабушки, – пояснил он. – Она сама растила меня после войны – мой папа погиб на фронте, а мама умерла в Кишиневском гетто. Я всегда в этот день вспоминаю бабу Шифру, хотя мало что осталось в голове после всех этих лет, войн, потерь и радостей. Ты не очень торопишься, Сеня?
Я очень торопился, но сказать об этом, конечно, не мог. Собственно, времени на ответ Шмуэль всё равно мне не оставил.
- Ты знаешь, баба Шифра была простой женщиной. И меня вырастила тоже простым человеком, без закидонов. Никогда я не мечтал стать профессором математики, или, наоборот, каким-нибудь Виленским Гаоном. Булочная – вот и все мои достижения в жизни. Зато я никогда не голодал: что не продавал другим, тем ужинал сам. И никаких амбиций у меня не было. Хотя, бабушка, думаю, была бы мной довольна. Она наверняка сказала бы: «Шмулик, значит, так угодно Богу» – бабушка всегда была религиозной. Ты знаешь, Сеня, после войны во всем Кишиневе не осталось ни одного шойхета – буквально некому было резать птицу. Бабушка очень волновалась о кошерности, но сама не хотела резать – не из жалости, просто руки у нее были слабые, а с годами к тому же начали трястись. И наши соседи по двору делали это за нее. Жили у нас во дворе такие тихие украинцы – Антон и Настя, муж и жена. Мы, дети, называли их Антостя. Вот эти Антостя очень грамотно, я бы даже сказал, артистично резали птицу и не брали за это ни копейки. Бабушка не могла ими нахвалиться, пока однажды к нам в гости не пришел старый знакомый нашей семьи, так он узнал Антона. Уже через много лет бабушка мне сказала, что Антон во время войны работал в Кишиневском гетто – он закапывал трупы. И перед тем, как зарыть расстрелянных, Антон обыскивал их – ты же знаешь, Сеня, кое-какие драгоценности удавалось припрятать во время обысков. Но не от Антона: он и лохмотья обыскивал, и пальцами где надо шуровал в поисках бриллиантов, и, говорят, не брезговал открывать убитым рты. И если там были золотые зубы, ну, ты понимаешь, Сеня... Якобы после войны кто-то из зубных врачей проболтался, что Антон поставлял зубным техникам золото.
Я слушал Шмуэля, тихо холодея.
- И бабушка твоя не сдала его властям, а так и жила с ним в одном дворе? – удивленно спросил я.
- Сам он не убивал, – пожал плечами Шмуэль, – крови на нем нет, а как можно требовать от людей не наживаться на чужой смерти? Правда, иметь с ним дела бабушка больше категорически не хотела. Она начала резать куриц сама, но делала это плохо и очень переживала за несчастных. А помочь ей в свои шесть лет я не мог.
Шмуэль замолчал, закурив запрещенную врачами сигарету. Напомнить ему о вреде курения в такую минуту я не решился. Тут двери в булочную широко распахнулись, и вошли двое молодых ребят восточного вида. Они вопросительно взглянули на Шмуэля, тот кивнул, и парни начали сметать хлеб в принесенные с собой ящики. Я не удивился: уже много лет булочник каждый вечер бесплатно отдавал остатки дневной выпечки товариществу «Еда нуждающимся». Больше того, он ни в какую не соглашался даже представить в налоговую инспекцию справку об этом, что могло освободить его от части налогов. Глядя на резво работающих молодых людей, я вспомнил историю, приключившуюся в нашем районе лет девять назад. А случилось вот что: три марокканских подростка насмотрелись «Крестного отца» и решили организовать местную мафию. В один прекрасный день они явились к Шмуэлю и предложили ему защиту и покровительство за ежемесячно выплачиваемую им сумму. Шмуэль безропотно согласился платить и только попросил «рэкетиров» прийти за деньгами вечером, когда касса будет полна. Ничего не подозревавшие начинающие «мафиози», явившись за гонораром, были неприятно удивлены, столкнувшись в булочной с добровольными сотрудниками «Еды нуждающимся». О чем уж они там говорили, я не знаю, доподлинно известно только, что это была именно беседа: без оскорблений, угроз и тем более насилия. Но уже минут через пятнадцать после начала разговора в булочную вбежали запыхавшиеся «деды мафии», то есть отцы «отцов мафии». Новые гости, не мудрствуя лукаво, взяли за ухо каждый своего сына и сказали, что помогут детям осуществить их заветную мечту – брать в местных магазинчиках товар бесплатно. Так трое новоявленных Аль Капоне раз в неделю начали собирать по вечерам продукты у хозяев лавок и привозить их на кухню «Еды нуждающимся», где готовился завтрашний обед для неимущих семей. Я захотел отвлечь Шмуэля от невеселых воспоминаний и спросил его, правдива ли эта история или это очередная городская легенда. Шмуэль зашикал и замахал на меня руками, а один из собиравших багеты и булки сотрудников обернулся на меня, и даже на его смуглом лице я увидел густой румянец. Кажется, я тоже покраснел. Шмуэль посмотрел на меня и укоризненно покачал головой.
- В нашем городе после войны в бараках кирпичного завода жили арестованные немецкие солдаты, – как бы невпопад сказал он. – Когда их возили на работу, мы, мальчишки, швырялись в них камнями, и один раз я случайно попал прямо в лоб конвоиру. Конвоир выскочил из грузовика и поймал меня. Я уже думал, что он меня излупцует до полусмерти, а конвоир посмотрел на меня, тихо сказал: «А, жиденок. Ладно – кидай!», стер кровь со лба, дал мне легкую затрещину и вернулся в грузовик. Все наши ребята специально собирались по пути следования грузовиков и кидались в немцев камнями, улюлюкали, ругали их самыми страшными словами, которые мы тогда знали. Только Мойше всегда улыбался им и приветственно махал рукой. Нет, Мойше не был «фашистолюбом» – Мойше просто был сумасшедшим. Лет ему было, наверно, пятнадцать, и он был бездомным. Да-да, бездомным. Никто не знал, где он ночует, где пропадает целыми днями. Иногда он появлялся и стучал в двери квартир, где жили евреи. Только евреи. Когда бы и где Мойше ни появился, его кормили, давали умыться, отдавали свою старую одежду, когда его одежда совсем изнашивалась. Но всё это во дворе – войти в дом к кому бы то ни было он наотрез отказывался. Один раз Мойше хотел помочь бабушке Шифре зарезать курицу. Но когда Мойше увидел кровь, он упал и потерял сознание. Тут же сбежались соседи и начали кричать на бабушку, зачем она разрешила Мойше помочь ей. С тех пор бабушка резала куриц сама, но, как и прежде, каждый день в обеденное время выходила со двора на улицу и всматривалась, не бродит ли поблизости Мойше, чтобы дать ему тарелку супа. Мы жили, прямо скажем, не слишком сытно, но суп бабушка всегда варила на троих. Когда я стал намного старше, а Мойше навсегда исчез из Кишинева, бабушка рассказала, что Мойше потерял всю свою семью в гетто, сам чудом выжил, но то, что выдержало тело, оказалось не под силу детскому рассудку. После войны его пытались пристроить, но Мойше убегал и из сиротских домов, и от приемных родителей – он мог жить только на свободе.
- И куда же он делся? – спросил я севшим голосом.
- Замерз зимой во сне, наверное, – Шмуэль пожал плечами. – Кого тогда интересовала судьба сумасшедшего еврейского ребенка? Ладно, Сеня, я тебя утомил своей болтовней, да и ребята уже закончили собирать хлеб с полок. Забирай свой багет, булочки для деток и иди с Богом. В день поминовения бабушки я ни с кого денег не беру.
Я взял вкусно пахнущий пакет, пришел домой, раскрыл набитый едой пятисотлитровый холодильник, вытащил оттуда и поставил на плиту кастрюлю с вчерашним борщом и сел у кухонного стола дожидаться, не постучит ли в дверь Мойше.