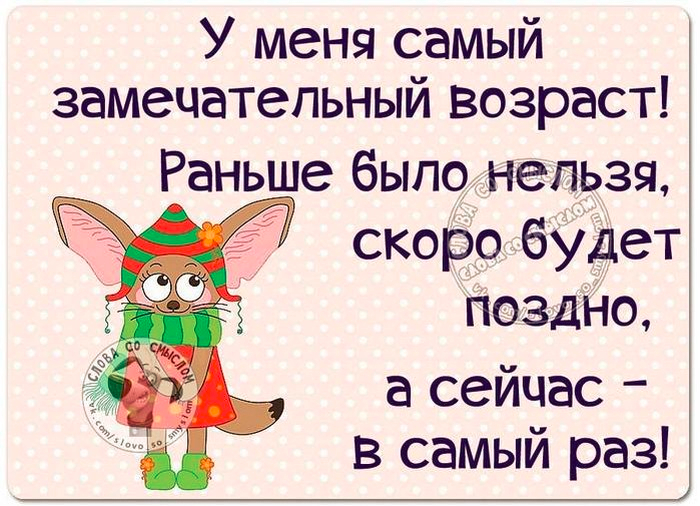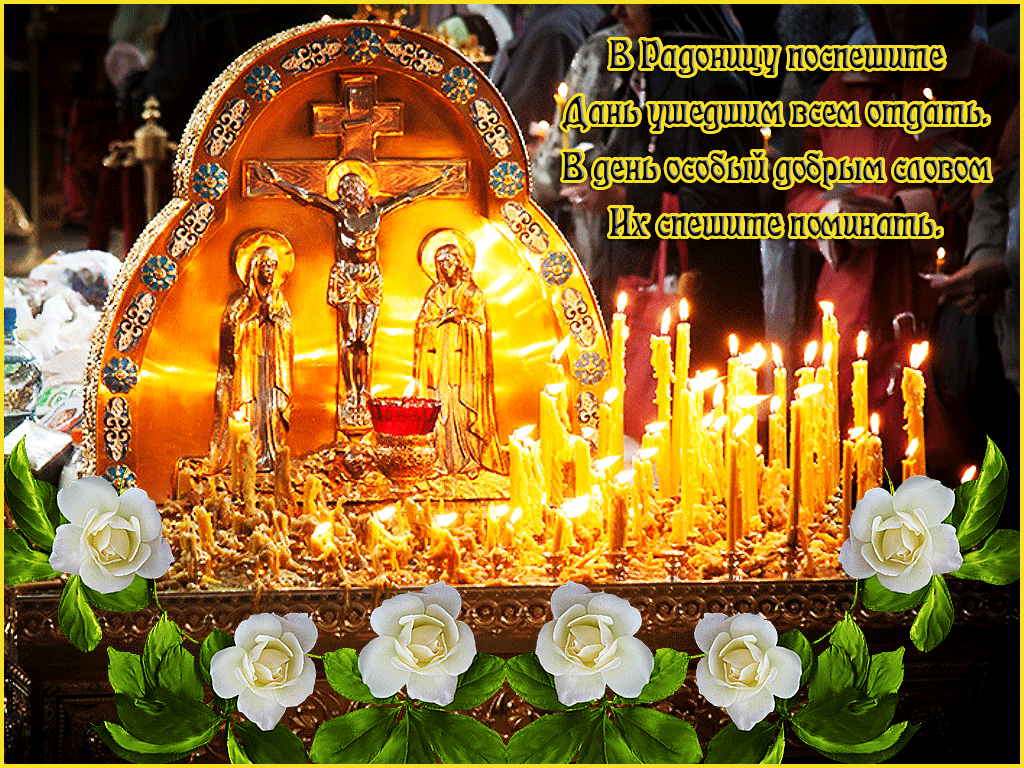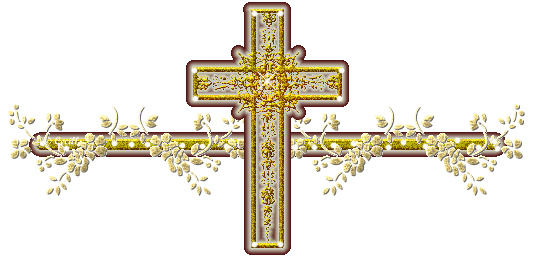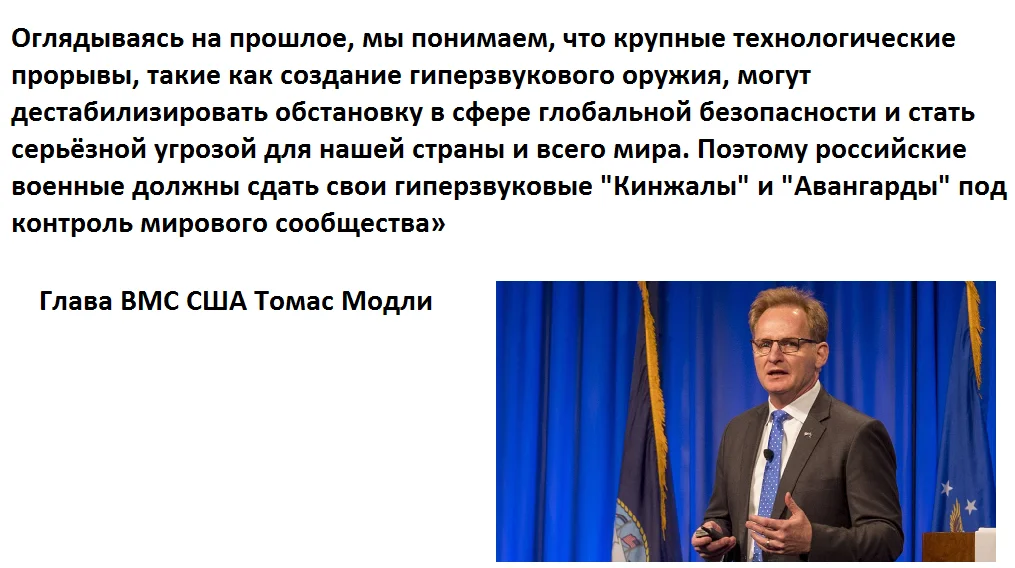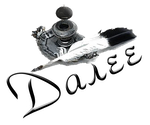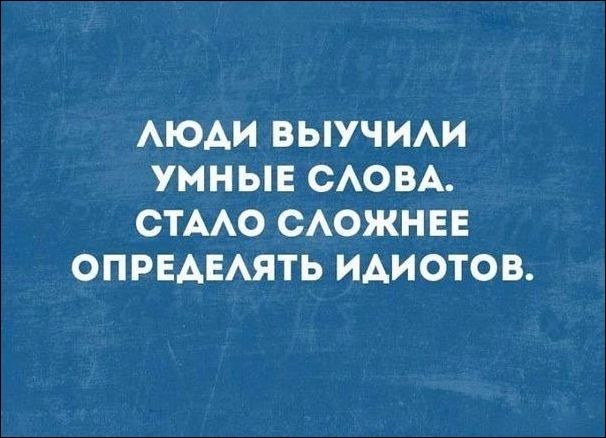Часть 1. Прошлое, настоящее и будущее
В чём отличия прошлого, настоящего и будущего в преломлении истории человечества?
Чтобы получить ответ, далеко заглядывать не обязательно, на мой взгляд, достаточно пары-тройки столетий, чтобы внести необходимую ясность. Тем более, что эта пара-тройка наиболее изучена, как раз-таки, в силу её временнóй близости.
Так вот, в общих чертах, если исключить идеологические мифологии, то диалектика заключается в обратно-пропорциональной зависимости вектора времени от наличия свободы в обществе.
Судите сами.
XIX век — время исключительно свободных дискуссий во всех науках, от гуманитарных, до естественных. Брали под сомнение всё: спорили, ругались, свободно отстаивали свою точку зрения, не боялись никаких репрессий и дискриминаций по научным предпочтениям и воззрениям.
К примеру, исключительно жёстко рубились на предмет происхождения человека, в частности, и эволюционной теории Чарльза Дарвина, вообще. Конечно, были исключения, например, по религиозным мотивам, но они, как водится, только подтверждали правило.
XX век жёстко сузил поляну всяческих принципиальных дискуссий, оставив для споров узкие обочины, а всех противников «вечных истин» записал в нерукопожатных маргиналов, вплоть до физического устранения оных. В дальнейшем стоит ожидать усугубления процесса, ибо впереди нас ждёт-недождётся совсем уж всеобщая универсальная энциклопедия знаний, обязательная для изучения и цитирования в качестве единственно-верного источника.
Такая вот свобода слова, за которую боролись и напоролись.
Или, например, хвалёная глобализация, так и не преодолевшая государственных границ ни в XX, ни, тем более, в XXI веках.
Между тем, в том же XIX веке фактически все границы были прозрачны, путешественникам не требовалось никаких виз и из страны в страну можно было спокойно попадать с личным оружием и прочими атрибутами, хоть и безобидными, но ныне совсем запрещёнными и подлежащими не только конфискации, но и суровому наказанию за их обнаружение. Я, кстати, вовсе не про «травку», а, к примеру, про «список запрещённых книг», предметы искусства, антиквариат и пр.
К границам и их прозрачности можно присовокупить всё усиливающийся контроль за передвижением и деятельностью каждого, отдельно взятого, человека, на что направлена вся мощь технического прогресса, воплощённого в близко маячащем цифровом рабстве, оно же электронный концлагерь.