-Рубрики
-Музыка
- Донна Саммер (Donna Summer) -
- Слушали: 25536 Комментарии: 0
- 14 июня 2024. Frank Duval- It was Love (Была любовь).
- Слушали: 13439 Комментарии: 0
- Донна Саммер (Donna Summer)
- Слушали: 25536 Комментарии: 0
- 20 ноября 2023 года. Пелагея - Казак.
- Слушали: 9283 Комментарии: 0
- Донна Саммер (Donna Summer) -
- Слушали: 25536 Комментарии: 0
-Видео

- Чёрное море в Сухуми 23 октября 2019 год
- Смотрели: 17 (0)

- Сухуми 2019
- Смотрели: 3 (0)

- 1 Скрипка в Метро Селигерская. Александр
- Смотрели: 5 (0)

- Сентябрь 2019. Санаторий Волга, Кострома
- Смотрели: 8 (0)

- Сентябрь 2019. Современный Танец ТВЕРК в
- Смотрели: 8 (0)
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Сообщества
Участник сообществ
(Всего в списке: 6)
Всё_для_блога
Секреты_здоровья
Кошколюбам
JMusic
Сообщество_Творческих_Людей
Говорим_пишем_спорим
-Статистика
Создан: 05.02.2010
Записей: 4163
Комментариев: 142
Написано: 4522
Записей: 4163
Комментариев: 142
Написано: 4522
Исследуется наличие справедливости, законности, государственного интереса, безопасности и здоровья граждан.
ГЛАВА 2503. 11 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА. 101 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Самые высокие мысли подсказывает нам сердце. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Ренату АКЧУРИНУ - 75 лет! 4 мудрых совета от патриарха кардиохирургии о том, как жить долго и счастливо
3 дня назад
1407 нравится
20 тыс. дочитываний
Легенды Союзного государства
Распечатай мне сердце на принтере!
2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, одному из главных действующих кардиохирургов Союзного государства академику РАМН Ренату АКЧУРИНУ исполняется 75 лет.
Добраться до юбиляра оказалось не так просто: до сих пор каждый день, всю его первую патриарх российской хирургии проводит в операционной
- Ренат Сулейманович, что сложнее лечить - сердце или душу?
- Наверное, душу. Это ведь многолетнее лечение. Бенджамин Спок писал, что когда ребенок родился, вы уже опаздываете с началом его воспитания. Ребенка надо уже в утробе матери воспитывать надо, формировать душу. И мама - первый человек, который этим занимается. Так что с сердцем немного проще.
АКЧУРИН Ренат Сулейманович. Академик РАМН, профессор, заместитель Генерального директора Российского кардиологического научно -производственного комплекса Минздрава РФ по хирургии, руководитель Отдела сердечно — сосудистой хирургии, лауреат Государственных премий СССР и РФ, кавалер многочисленных наград за заслуги в области здравоохранения, член ряда международных научных и благотворительных обществ, включая хирургическое общество Дебейки и Ротари.
ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР
Самые высокие мысли подсказывает нам сердце.
Вовенарг
- В России среди основных причин смертности сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают первое место.
- Так дело обстоит везде, на всех континентах и во всех странах: и в Америке, и в России, и в Австралии. На них приходится самая высокая доля смертности, почти 60%. И, несмотря на усиленную работу правительств в разных странах в совершенно разных направлениях и самые различные профилактические мероприятия, тенденции к снижению нет.
- Профилактика эффекта не даёт?
- Даёт, но иногда не совсем тот. Хорошо работает реклама здоровой жизни. Например, в Финляндии народ понял, что трезвость и физическая активность приводит к долголетию и перестал пьянствовать. Это уже победа. Снизилось ожирение и сразу упало число фатальных инфарктов. Подобное прослеживается и в России, хотя число операций с каждым годом растёт.
Государство поднимает цены на алкоголь, и это тоже правильно. Если ты такой уж ценитель, то лучше на те же деньги купи немного и оцени вкус действительно качественного напитка, а не заливай в горло спиртосодержащие жидкости как бензин в бак машины
Так что профилактика постепенно приносит плоды. Самое главное - не снижать темпов и двигаться вперёд. Не уменьшать финансирование здравоохранения, что сегодня очень актуально, не уменьшать усилий по профилактическим мероприятиям, продолжить серьёзную работу по формированию общественного мнения.
- То есть, мы пришли к обратному: профилактика актуальнее и важнее лечения?
- Правильнее будет сказать, что она не менее важна, чем лечение. Нельзя забывать и про реабилитацию после лечения. Больной, который прошёл нормальную реабилитацию после операции на сердце - будь то коронарное шунтирование или замена клапана - чувствуют себя гораздо лучше. И качество жизни у него повышается, и работоспособность растёт.
- Вкладывать в реабилитацию для государства - экономически выгодно?
- Совершенно верно. Сейчас Минздрав разрабатывает стандарты к реабилитации.
- А раньше с ней как было?
- Тоже плохо, но ещё хуже было с лечением, поэтому первое внимание мы уделяли тому, чтобы как-то уйти от той жалкой советской цифры, когда на весь Советский Союз, на 240 миллионов населения делалось 10-12 тысяч операций на сердце в год. Сейчас в России делается порядка 50 тысяч операций на 140 миллионов. Это скачок огромный.
- Процентное количество заболеваний было примерно таким же?
- Абсолютно таким же. По продолжительностью жизни мы выигрывали. В 1985-м году продолжительность жизни в России была на первом месте в Европе.
Мужчины жили в среднем до 75 лет,
сегодня – 62 года.
Если мы действительно хотим бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, надо больше вкладывать во все звенья лечения, включая профилактику, само лечение и реабилитацию. И это делается.
- Санкции не мешают?
- Самые страшные санкции - это внутренние. Люди, которые ничего не делают, ссылаются на санкции и ждут у моря погоды по старому советскому образцу, они ничего не добьются. Мало того, что они сами ничего не делают, они других тормозят.
СОВЕТ № 1 ОТ АКАДЕМИКА АКЧУРИНА
Избегайте малоподвижного образа жизни. Даже на работе выделите несколько минут на небольшую гимнастику. Пройдитесь, поприседайте, сделайте несколько глубоких наклонов.
КАК ЖИТЬ ДОЛЬШЕ
Целому морю — нужно все небо,
Целому сердцу — нужен весь Бог.
М. И. Цветаева
- Главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, конечно, возраст?
- Нет, гиподинамия. Колоссальный фактор риска. Люди, которые сидят изо дня в день в одной позиции, в кабинетах работают, не делают никаких упражнений, не занимаются собой – вот они в самом центре группы риска. Ведь все просто: встань, отойди от стола и сделай хоть 10 приседаний, уже продлишь себе жизнь. Но ведь не сможешь сделать, если годами сидишь, не двигаясь!
Немаловажный фактор - продовольственная корзина. Чем больше в ней животных жиров, тем хуже прогноз. Нужна растительная пища, разгрузочные дни, нужно отказываться от большого количества углеводов.
- Есть углеводоманы - люди, которые безумно любят хлеб и едят его в неимоверных количествах. Выходит, они – в первых претендентах на инфаркт или инсульт?
- Не всегда. Чем выше качество хлеба, тем меньше поправляется человек. Итальянцы это доказали, они едят макароны из твёрдых сортов пшеницы и не полнеют. А углеводы мягких сортов быстро включаются в цикл Кребса и превращаются в жиры. Возникает избыточная полнота переходящая в ожирение.
- Сейчас в любом спортивном магазине продаются шагомеры, специальные программы есть на телефонах и смартфонах. Все условия, только двигайся
- Шагомеры есть, палки для шведской ходьбы тоже есть. Она, кстати, очень хорошо развивает дыхание и предохраняет человека от падения в зимний период. В среднем ежедневная нагрузка должна быть эквивалентна шести – семи километрам пешего хода средним темпом. Для велосипеда - 15-20 километров. Очень хорошо ходить на лыжах. Едешь, и на природу любуешься. Тут можно километры не считать, а просто наслаждаться. Я родился в теплых краях, в Узбекистане, поэтому к лыжам как-то не приспособился, хотя умею кататься и на беговых, и на горных и даже на водных.
- Вы сами спортом занимаетесь?
- Физкультурой по утрам. Плаваю пару-тройку раз в неделю, проплываю два-три километра. Но мне-то гиподинамия не грозит, я почти весь день стою в операционной. Тут другая опасность: надо долго стоять с наклонённым позвоночником - это тоже чревато сложностями.
РАБ ЛАМПЫ
Сердце может прибавить ума, но ум не может прибавить сердца.
А. Франс
- Работа хирурга с последним швом не заканчивается. Нельзя себе представить, чтобы врач вышел из операционной, переоделся и спокойно поехал домой. Хирург становится "рабом лампы": ты не можешь уйти от больного, которого сегодня оперировал, и у тебя остались какие-то сомнения. Потому что знаешь, что в течение двух часов у него изменится гемодинамика, движение крови, он расправится, согреется, и может начаться кровотечение. Ко всему этому надо быть готовым. Так и сидишь, высиживаешь больных, как курица на яйцах.
- На каком уровне находится наша кардионаука?
- Сейчас говорить о кардионауке мы не можем, слишком много в ней практичного. Во-первых, за последние десятилетия очень серьезно расширился диапазон хирургических вмешательств. Во-вторых, на операцию стали приходить очень старые больные. Сработал эффект терапевтического лечения и профилактики.
- То есть, раньше человек получил бы инфаркт, условно говоря, еще в пятьдесят, когда организм полон сил, а сейчас он спокойно изнашивает сердце до восьмидесяти, когда и сам уже еле ходит?
- Можно и так сказать. Приходят чаще всего уже тогда, когда заболевание дошло до необходимости хирургического вмешательства. Но тут возникают ножницы между возрастом больного и возможностью сделать ему операцию. Как правило, это происходит после 80 лет. Такие больные у нас появляются все чаще и чаще. Больше десяти процентов от общего потока. Если вы посмотрите средний возраст оперированных в какой-нибудь американской хорошей больнице, типа госпиталя «Методист» в Хьюстоне, вы увидите, что средний возраст пациентов порядка 78-80 лет. У нас пока порядка 70 лет. Потому что мы оперируем, к сожалению, и молодых. Но у всех этих молодых россиян за плечами или курение, или злоупотребления наркотиками, алкоголем и прочей гадостью, или пищевые нарушения.
- На Западе такого нет?
- В таких размерах – давно нет. Там просто хорошая активная терапия приводит стариков к последней черте, за которой уже лекарства не действуют и нужно решать вопрос в пользу операции. Чем старше пациент, тем меньше шансов на обычное терапевтическое лечение, тем больше – что он подвергнется операции, либо в связи с дегенеративными изменениями клапанов, либо в связи с атеросклерозом артерий.
СОВЕТ № 2 ОТ АКАДЕМИКА АКЧУРИНА
Постарайтесь ограничить потребление животных жиров и мучных продуктов. Из хлебных и макаронных изделий выбирайте приготовленные из высококачественных твёрдых сортов пшеницы.
ПУТЬ К СЕРДЦУ
Мира восторг беспредельный Сердцу певучему дан.
А. А. Блок
- Настолько сложно устроен человеческий организм, часто ли он преподносит сюрпризы?
- Это потрясающая, удивительно хитро отстроенная саморегулирующаяся система. Он очень многое терпит от нас, негодяев, когда мы его напрягаем, гоним куда-то. Возьмите злоупотребление во время праздников: кажется, как можно такое выдержать? А органы наши выдерживают, до тех пор, пока мы сами их не уничтожим непомерными и длительными нагрузками. Нужно соблюдать умеренность во всем, и тогда все будет нормально.
- Было у вас такое, что вы видите – человека спасти невозможно, а он все равно выживает?
- Бывало несколько иначе. Приходишь в операционную и понимаешь, что ты ничего не сделаешь. Но все равно делаешь, и твой маленький труд сохраняет больному жизнь. Так случалось несколько раз. Многие говорят, что все можно посмотреть ещё до операции.
- Ну да, ведь есть рентген, МРТ, КТ, анализы всех видов.
- Ничего подобного. До операции ты, конечно, ставишь на 90% весь диагноз, почти все узнаешь о больном. Но ты открыл грудную клетку, только глянул на это... Сначала хочется уйти. Мы же имеем дело не со здоровыми сердцами, а с больными, которые иногда уже перенесли два или три инфаркта. Ты открыл и увидел, что на тебя смотрит почти слепой белый глаз акулы. Никакой сократительной функции, сердце едва бьётся. Вот тут хочется все закрыть и уйти. Но не попытаться сохранить жизнь этого человека ты не можешь, и стараешься что-то сделать. Иногда получается.
- Как я понял, программа «Гибридные технологии в лечении сердечнососудистых заболеваний» , в подготовке которой вы принимаете участие, как раз позволяет грудную клетку не открывать.
- Программа, продвигаемая в рамках Союзного государства Беларуси и России, предусматривает совмещение потрясающе высокого уровня белорусской сердечно-сосудистой хирургии и белорусских наработок в области биотканей и российских успехов в сфере гибридных медицинских технологий. У нас есть несколько центров, которые занимаются гибридной хирургией сердца и сосудов. Хотелось бы всех, и белорусов, и россиян посадить за круглый стол, поговорить о серьёзности намерений и качестве того, что они делают. Совместные усилия двух государств и таких групп врачей могли бы привести к возможности выполнения в кардиохирургии малоинвазивного вмешательства.
- Малоинвазивное – это когда площадь вмешательства минимальна? Лапароскопия?
- Лапароскопическая хирургия – один из видов малоинвазивного вмешательства, самый распространённый, но не единственный. Главная цель всех гибридных операций - радикальное уменьшение времени пребывания больного на койке, травматизма операции, её объёма, объёма операционной травмы, быстрый возврат больного к работе и улучшение качества его дальнейшей жизни. Если все это удастся сделать, я буду считать, что главная моя задача в жизни выполнена.
- Как будут проходить операции, если эта программа воплотится в жизнь?
- Несколько лет назад умер мой большой друг, великий кардиохирург Майкл Дебейки. Он всю жизнь оперировал у других сердца и сосуды, и уже на девятом десятке сам нажил себе огромную аневризму аорты.
- То, о чем вы говорили: повышение возраста кардиобольных.
- Такие аневризмы сопровождаются драматическим расширением сосудов до 10- 12 сантиметров в диаметре, и возрастающей в геометрической прогрессии опасности разрыва этой аневризмы, что и произошло с великим хирургом. Расширение, в свою очередь, приводит к прогрессирующей сердечной недостаточности. Сердце из желудочка выбрасывает в один удар 50-70 миллилитров крови, а аневризма настолько велика, что поглощает весь этот выброс, и кровь дальше не идёт. Развивается сердечная недостаточность.
- Как грыжа на автомобильном колесе. Накачиваешь камеру, а надувается пузырь...
- Плановая операция в этом случае сопряжена с огромным разрезом. В некоторых случаях – от угла левой лопатки до лобка. Косой длинный разрез через всё тело. Больной разваливается на две части, и ты постепенно латаешь эту огромную аневризму. Смертность при таких операциях достигает 10%.
- Помогает гибридная хирургия?
- Да. Она использует хирургический доступ в бедренной артерии. Вы открыли бедренную артерию, тщательно промерили с докторами все размеры этой аневризмы и решили, как её перекрыть. Методом, который разработал ещё советский хирург Николай Володось в Харькове, вы вводите через бедро свёрнутый в жгут протез и расправляете его в нужном месте, перекрывая верхнюю и нижнюю шейки аневризм – участки за которые он может самофиксироваться. После чего кровь идёт через нормальный диаметр, сердечный выброс соответствует диаметру протеза, и у больного сердечной недостаточности нет. Огромный мешок вокруг поставленного протеза постепенно тромбируется и рассасывается. Это настоящий прорыв в лечении больных, о котором можно было только мечтать.
- Вы сказали, что Володось разработал этот метод еще в Советском Союзе. Больше четверти века назад. Почему его тогда ещё не начали использовать?
- Причин много. Я не берусь кого-то судить, судить вообще нельзя никого, но думаю, с одной стороны, ему помешали хирурги, которые привыкли делать операции по-старинке. С другой стороны, мало кто верил, что это будет работать, хотя Володось уже тогда продемонстрировал хорошие результаты. Никто в промышленности не взялся производить эндопротезы для таких операций серийно. Возможно, виной была нищета нашего здравоохранения.
- Медицина в СССР содержалась на остаточном принципе.
- Именно так. Хотя народ все-таки ходил здоровым.
- Так ведь и гиподинамии не было. В мире такие операции уже делаются?
- Конечно, они и у нас делаются. Но мы страшно зависим от импорта. И он очень недешёв. Средний эндопротез для замены отдела аорты обойдётся в 10-18 тысяч евро. Это дорого. Если речь идёт о замене аортального клапана, то здесь уже все 34 тысячи евро. Поэтому это довольно дорогая штука.
- Неужели такая трубочка может стоить дороже хорошего автомобиля?
- Конечно, может, ведь от этой «трубочки» зависит жизнь человека. Минздрав принял решение, что такие закупки должны квотироваться, и с 2015 года распределяет квоты. Это уже большой шаг вперёд, потому что доказать кому-то в Минфине, что это необходимо, сложно. Экономические трудности приводят к серьёзным ограничениям.
- Программа предусматривает производство этих эндопротезов?
- Именно это мы и хотим сделать, чтобы не зависеть от импорта. Вот вам факт, который необходимо всем знать и работать в нужном направлении. Китайцы начали делать такие эндопротезы ещё лет десять назад, когда подобные операции ещё только начинались. Сегодня они могут вам предложить десятки вариантов эндопротезов, но не по европейской цене, а в два раза дешевле. Китайцы немедленно повторяют все, что интересное делается в мире. Они не стесняются и мир их за это не преследует. Вам надо, и они вам принесут точную копию американского протеза неплохого качества.
- Молодцы, что тут скажешь.
- Ничего не скажешь. Можно только позавидовать и перенять опыт, хотя бы частично. Нельзя все время с Европой и с Америкой раскланиваться в отношении прав на изготовление лечебных и медицинских вещей, когда у тебя люди гибнут. Нельзя. Не хотите ссориться – сделайте своё, если сможете. Если нет, тогда покупайте. Вопрос стоит в защите нашего населения. Это вопрос безопасности страны, безопасности не меньшей, чем военная и значительно более актуальной.
СОВЕТ № 3 ОТ АКАДЕМИКА АКЧУРИНА
Постарайтесь проходить в день не менее 10 тысяч шагов. Купите палки для шведской ходьбы и устраивайте с ними небольшой вечерний променад. В выходные выделите несколько часов для лыжной или велосипедной прогулки. Еженедельно посещайте бассейн.
СКОРО В 3D!
Легкое сердце живет долго.
У.Шекспир
- Как вы оцениваете возможность использования искусственных органов: искусственного сердца, искусственных клапанов?
- Мне кажется, что это направление не просто развивается, а идёт семимильными шагами, так же, как развивались в своё время мобильные телефоны. Каких-нибудь двадцать лет назад мы понимали, что есть мобильные телефоны, но не представляли себе, что они могут стать такими необходимыми и незаменимыми.
- То есть, качество изготовления и доступность искусственных органов растут?
- Не в этом главное, хотя и здесь достигнут несомненный успех. В связи с тем, что мы учимся создавать трёхмерные скульптуры, осваиваем так называемый 3D-принтинг, появляется некогда бывшая совершенно фантастической возможно выполнить и 3D-принтинг внутренних органов из биологической ткани. Вот эта задача на сегодня становится все более реальной, хотя пока и только в словесном исполнении. То, о чем раньше никто и не думал. Раньше говорили, что Бог сотворил за шесть дней весь мир, так вот, 3D-принтинг биологических органов - это сравнимо будет, да простят меня религиозные люди. Хотя, получится или нет, я пока не знаю.
- Ну, по частям должно получиться…
- Я сторонник того, чтобы орган, который предстоит кому-то трансплантировать, был полноценным. Он должен обладать всеми свойствами нормального органа и развиваться в организме человека. Только тогда, по несчастью по отношению к донору и по счастью по отношению к реципиенту, возникает возможность его трансплантации. Какой орган можно создать с помощью 3D-принтинга, ещё неизвестно, но работы по этой части уже начались.
На 3d-принтере уже пытаются печатать сердца. Это, правда маленькое, всего 2,5 см, создали учёные Тель-Авивского университета под руководством профессора Тала Двира (Израиль). Несмотря на размер и искусственное происхождение, оно пульсирует и умеет прокачивать кровь. Фото: https://cs7.pikabu.ru/
- Раз уж мы заговорили о трансплантации. Сколько говорят, что во многих странах мира принято после катастрофы, если человек при жизни не написал отказ от трансплантации, использовать не пострадавшие органы для пересадки и спасения людей.
- У нас такой презумпции нет совсем. Она не принята по умолчанию. Но, тем не менее, люди работают и пытаются создать в этой области какое-то приемлемое законодательство. Здесь очень многое зависит ещё от культурного уровня и от уровня развития базовой медицины. Если мы с вами отъедем от столицы в какую-нибудь периферию, то поймём, что до этого ещё шагать и шагать. В это надо вкладывать серьёзные средства и требовать, причём довольно серьёзно с руководства субъектов Российской Федерации. Развивать систему не просто на словах, и не просто строить «потёмкинские деревни», а контролировать, чтобы были охвачены все пациенты, чтобы все в России могли пройти диспансерное наблюдение и использовать весь потенциал врачебный – очень, кстати, немаленький. Но когда это будет, трудно сказать. По крайней мере, все к этому стремятся или хотя бы думают об этом.
- Все ли?
- Нормальные прогрессивные люди должны об этом думать.
СОВЕТ № 4 ОТ АКАДЕМИКА АКЧУРИНА
Даже если вы считаете себе полностью здоровым человеком, не поленитесь хотя бы раз в пару лет проверить сердечно-сосудистую систему. Устраивайте своему организму регулярные «техосмотры» и он прослужит вам долго
БРАТЬЯ ПО СЕРДЦУ
…И если сердце, разрываясь,
Без лекаря снимает швы,
Знай, что от сердца — голова есть,
И есть топор — от головы…
М. И. Цветаева
- Ваш прогноз в отношении сердечно-сосудистых заболеваний в мире и в России. Что нас ждёт в ближайшее время?
- Я думаю, что сегодняшний тренд по сердечно-сосудистым заболеваниям останется. С 2000 года в России построено порядка 10-15 высокотехнологичных федеральных центров, каждый из которых несет сумасшедшие нагрузки. Очень хорошее и правильное решение. Идеологию их создания выдвинули здесь - в кардиоцентре, в нашем отделении, ещё в 1997-м году. Пока трудно решается задача подбора для них персонала. Представьте себе автомобиль Rolls-Royce, в который посадили водителя УАЗика. Ему же ещё надо научиться. Так что, Rolls-Royce у нас уже есть, остаётся научиться им управлять. Кстати, молодёжи приходит очень много, что радует. Они хорошо учатся, хорошо работают, делают большие операции. Молодцы.
- Вы сказали, что новую программу готовите совместно с белорусскими учёными. Достаточно символичное совпадение: 2 апреля мы отмечаем не только ваш юбилей, но и День единения народов Беларуси и России. Что вы можете всем нам пожелать? Крепкого здоровья?
- Считается, если врач, то обязательно «здоровья». Но, знаете, как говорил наш символ активного долголетия Владимир Зельдин, «На «Титанике» все были здоровыми». Поэтому, всем людям - любви и дружбы. Мы очень близки друг к другу. Я в общежитии все пять лет жил с белорусом, мы дружим до сих пор. Это большой, хороший учёный и человек. Поэтому главное – дружбы. Глубокого взаимного уважения на всех уровнях. Надо понимать, что все, чего достиг наш брат, сосед, достойно глубокого уважения и подражания. Не надо бояться подражать хорошему. Не надо русско-купеческого: "Захочу, это у меня завтра будет". Ты захоти и сделай так, чтобы было. Вот и все.
Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
ТРОМБОЗ ЭКОНОМИКИ

Кто это должен делать?


|
Метки: божьев александр божьев принтнр день хирург сердце душа человек мысли профилактика лечение цена небо бог инфаркт аорта лекарь |
ГЛАВА 2502. 8 апреля 2021 года. 98 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Вы очень больны. Но мы вас вылечим. C вас... План "Барбаросса". Александр Божьев. |

Бритва, которой брился 40 лет тому назад мой папа, а я продолжаю.

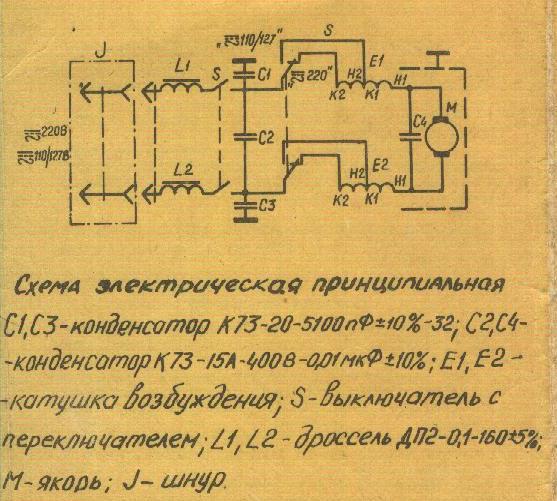
Тридцать лет отставания
Кто и как привел советскую микроэлектронику к краху.
Считается, что современной России не дано выйти на передовые позиции в производстве микроэлектроники. По выражению академика Евгения Велихова, «в науке каждая страна находит свою нишу. У США это гаджеты, Россия же всегда была сильна фундаментальными вопросами, энергетикой». Но именно электронные компоненты, микропроцессорная техника сегодня определяют развитие многих других высокотехнологичных отраслей, в том числе энергетики. По силам ли нам сократить отставание на этом направлении и как сейчас решаются подобные проблемы?
Ключевая технология
Производство интегральных микросхем (ИС) – ключевая технология современной промышленности. ИС, образно говоря, – это чудо мысли, фактически целая область науки, рожденная в XX столетии. Микросхема размещается на одном-единственном кристалле – полупроводниковом чипе (чип – англ. chip – тонкая пластинка). В нее входят миллионы полупроводниковых диодов, резисторов, транзисторов, выполненных на микронном уровне, и она может в целом обладать законченным сложным функционалом вплоть до целого микрокомпьютера.
Современные микросхемы разнообразны по конструкции и назначению. К ним предъявляется ряд требований по быстродействию, помехоустойчивости, потребляемой мощности, надежности и другие.
О сложности и миниатюризации ИС говорит такой факт. Сколько, например, транзисторов может поместиться в ширине человеческого волоса 0,08 миллиметра (80 микрон)? Если транзистор размером 14 нанометров (0,014 мкм), то примерно около 5700 транзисторов, которые в микросхеме выглядят величиной с вирус гриппа (0,12 мкм). А при размере семь нанометров – около 1,5 миллиарда транзисторов.
“ Проектирование и отработка техпроцессов микросхем, микроконтроллеров и микропроцессоров требует больших финансовых затрат, на что сегодня способны немногие страны ”
Для того чтобы разработать новую архитектуру чипа, от проекта до производства обычно требуется три – пять лет. Сам цикл производства каждой ИС на одной общей кремниевой (Si) подготовленной подложке толщиной около миллиметра и диаметре 200 миллиметров роботизированными механизмами и многослойными процессами фотолитографии может занимать до трех месяцев при выполнении до 1500 отдельных технологических операций. Вместе с фотолитографией транзисторы создаются, печатаясь слой за слоем на кремнии. Таким образом рождаются сотни идентичных микросхем на одной кремниевой подложке путем формирования различных слоев и рисунков элементов микросхемы. Подложка в конце стадии процесса разрезается на отдельные прямоугольные кристаллы – чипы. Затем золотой нитью распаивают выводы и помещают в их корпуса.
Проектирование и отработка техпроцессов микросхем, микроконтроллеров и микропроцессоров требует больших финансовых затрат, на что сегодня способны немногие страны.
Среди ИС важное место занимает производство микропроцессоров, обеспечивающих обработку данных. Все современные процессоры размещаются на одной микросхеме и представляют сложнейшее устройство с множеством технических характеристик. Если попытаться классифицировать их основные характеристики с точки зрения пользователя, то можно выделить четыре группы: производительность, энергоэффективность, функциональные возможности, стоимость.
Биполярный прорыв
В 1947 году группой ученых США был изобретен первый транзистор, положивший начало миниатюризации электроники. В конце 1958-го и в первой половине 1959-го в полупроводниковой промышленности состоялся прорыв c выпуском биполярного транзистора. Американский ученый Джек Килби изобрел тогда первую интегральную схему, за что был удостоен Нобелевской премии по физике. В 1959 году американская компания Fairchild Semiconductor впервые в мире создала интегральную схему, пригодную для массового производства. Она была одной из ключевых фирм Кремниевой долины в 60-х годах, став одним из ведущих производителей операционных усилителей и других аналоговых интегральных схем.
В 70-х годах минимальный контролируемый размер серийно производимых микросхем составлял 2–8 микрометра, в 80-х – 0,5–2. В 1971 году вышел первый промышленный микропроцессор – Intel 4004. В нем было всего 2250 транзисторов.
В 1975 году Гордон Мур, один из основателей Intel, вывел закон, согласно которому число транзисторов на схеме удваивается каждые два года, однако сегодня ряд специалистов считают, что это правило уже достигло своих пределов.
В 1978-м фирма в микропроцессоре Intel 8086 разместила 29 тысяч транзисторов на кристалле. Легендарный Pentium 4 уже включал 42 миллиона транзисторов. Сегодня эти числа дошли до миллиардов, например в AMD Epyc Rome поместилось 39,54 миллиарда транзисторов.
Первые микросхемы до 90-х выпускались по технологическому процессу 3,5 микрометра. Эти показатели означали непосредственно линейное разрешение литографического оборудования. Так, в среднем внедрение индустрии новых техпроцессов происходило каждые два года, при этом обеспечивалось удвоение количества транзисторов на единицу площади: 45 нанометров (2007), 32 (2009), 22 (2011), производство 14 нанометров начато в 2014 году, но техпроцессы подходят к своему пределу. Например, Intel осваивает 10-нанометровый технологический процесс, фирма AMD использует для некоторых своих графических процессоров GPU уже 7-нанометровый, а TSMC (Тайвань) начала работу над 5-нанометровым техпроцессом (под техпроцессом обычно понимают размер транзисторов).
Продукцию по техпроцессу в три нанометра Samsung планирует выпускать уже в этом году. Если разработчикам действительно удастся приблизиться к таким размерам, то один транзистор можно будет сравнить уже с некоторыми молекулами. При размере два нанометра один транзистор будет состоять всего из 10 атомов, поэтому это тот предел, когда, возможно, потребуется искать применение графена. Графеновые компьютеры, если такие появятся, смогут работать в разы быстрее и мощнее, а экраны будут иметь толщину листа бумаги.
Среди ИС важное место занимает производство микропроцессоров, обеспечивающих обработку данных. Здесь основным направлением повышения производительности компьютеров является переход к многоядерным процессорам и увеличение работы их тактовой частоты с применением программного кода, выполняемых за один такт процессора.
В современных многоядерных процессорах на одном кристалле кремния располагается два и более вычислительных ядер. При этом каждое ядро способно поддерживать вычисление двух и более потоков.
Большинство таких устройств работает по следующей схеме. Например, если в компьютере используется 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, программа может загрузить работой сразу все четыре ядра, при этом суммарная частота процессора будет составлять 7,2 ГГц. Если запущено сразу несколько программ, каждая из них может использовать часть ядер процессора, что тоже приводит к росту производительности компьютера.
Компания Adapteva представила 64-ядерные микропроцессоры Epiphany IV, которые показывают производительность до 70 гигафлопс (количество операций с плавающей запятой в секунду), при этом потребляя менее одного ватта электроэнергии.
Три компании из десятки производят свои чипы на Тайване. Заводы Intel, кроме США, есть еще в Израиле и Ирландии, а заводы американской Micron – на Тайване, в Сингапуре, Японии. В целом Тайвань, Корея и Япония дают больше половины мирового производства, а если к ним добавить Китай и занимающие большую часть «остального мира» Сингапур и Малайзию, то Юго-Восточная Азия займет три четверти мирового производства.
В Старом Свете, собственно, есть только четыре фабрики: завод Intel в Ирландии, завод STM во французском Кролле, завод Global Foundries в Дрездене (это та самая фабрика AMD, старое оборудование которой купил многострадальный «Ангстрем-Т») и завод Infineon тоже в Дрездене. Еще три фабрики в процессе строительства – STM в окрестностях Милана, Bosch в Дрездене, Infineon в австрийском Филлахе.
TSMC также является лидером по доле рынка контрактного производства полупроводниковой продукции. В финансовом выражении его доля составляла 51,9 процента. На втором месте находилась компания Samsung с 18,8-процентной долей. Тройку лидеров на 2020 год замыкала Intel.
На данный момент массово доступны двух- и четырехъядерные процессоры, в частности Intel Core 2 Duo на 65-нанометровом ядре Conroe (позднее на 45-нм ядре).
Компания ZiiLabs – дочернее предприятие Creative Technology – анонсировала 100-ядерную систему на чипе ZMS-40. Пиковая производительность системы при вычислениях с плавающей запятой составила 50 гигафлопс.
Сегодня для выпуска процессоров по нормам семь нанометров и меньше используется специальное очень дорогое оборудование, которое выпускает только одна компания – нидерландская ASML. Сложность заключается в генерации и свойствах электромагнитного излучения необходимой длины волны, которое проецирует топологию процессора на подложку через маску в процессе фотолитографии.
В установках ASML применяется излучение длиной волны 13,5 нанометра (EUV, сверхжесткий ультрафиолет). Эта длина волны находится уже на границе с рентгеновским излучением. Для экспонирования используются не линзы, а зеркала и вакуум в качестве среды, поскольку для сверхжесткого ультрафиолета линзы воздух и жидкости являются непрозрачными материалами. По некоторым оценкам специалистов, стоимость разработки оборудования для EUV-литографии на сегодня может составлять миллиардные финансовые затраты. Таким образом, следует отметить, что зарубежная электроника постоянно развивается, занимая передовые позиции. А как складывается положение дел у нас?
Советское наследие
Особенно большая потребность в развитии элементной базы электроники в СССР возникла с созданием первых ЭВМ. Первый универсальный программируемый компьютер в Европе был создан командой ученых под руководством Героя Социалистического Труда Сергея Лебедева из Киевского института электротехники. ЭВМ заработала в 1950 году. Она содержала около шести тысяч электровакуумных ламп и потребляла 15 киловатт. Машина могла выполнять около трех тысяч операций в секунду. 25 декабря 1951 года началась ее регулярная эксплуатация. В 1958-м выпустили БСЭМ-2, которая выполняла до 10 тысяч операций в секунду, включала четыре тысячи ламп, пять тысяч диодов, 200 тысяч ферритовых сердечников. Выпущено было 67 единиц. Тройка лучших вычислительных машин – «БЭСМ», «Стрела» и «М-2» встали на службу для решения нужд военной обороны страны, науки и даже народного хозяйства.
Первая в СССР полупроводниковая интегральная микросхема была создана на основе планарной технологии, разработанной в начале 1960 года в НИИ-35 (переименован в НИИ «Пульсар») коллективом, который в дальнейшем был переведен в НИИМЭ («Микрон»). Создание первой отечественной кремниевой интегральной схемы было сконцентрировано на разработке и производстве с военной приемкой серии интегральных кремниевых схем ТС-100 (37 элементов). А первая отечественная микросхема создана в 1961 году в Таганрогском радиотехническом институте (ТРТИ). Параллельно работа по разработке интегральной схемы проводилась в центральном конструкторском бюро при Воронежском заводе полупроводниковых приборов (ныне ОАО «НИИЭТ»). Время требовало системного развития электроники и принятия ряда решений.
В 1962 году решением ЦК КПСС организован Зеленоградский научный центр микроэлектроники. Можно сказать, что 1962-й стал годом рождения микроэлектронной промышленности одновременно в США и СССР. Главным конструктором нашей первой микросхемы стал Юрий Осокин. В 1963 году там же, в Зеленограде основан один из основных производителей интегральных схем в СССР – центр микроэлектроники «Ангстрем».
2 марта 1965 года создано Министерство электронной промышленности СССР (МЭП). Как видим, начало бурного развития электроники и вычислительной техники у нас пришлось на 70–80-е годы прошлого столетия – время противостояния двух систем, возглавляемых США и СССР. В 1974 году на «Ангстреме» (НИИ-336) появился первый советский микропроцессор. В 1979-м – 16-разрядная микроЭВМ, в 1985-м – первый в мире 16-разрядный ПК «Электроника-85». С 1980 года во всех школах был введен предмет информатики и вычислительной техники.
В 70–80-х годах СССР занимал второе место в мире по производству микроэлектроники и даже в начале 90-х поставлял простейшую электронику в Китай. В свое время СССР добился достаточно серьезных достижений в создании компьютерной техники и процессоров «Эльбрус», которые тогда были лучше западных аналогов. Примером этому может служить серия советских суперкомпьютеров «Эльбрус», созданных в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) в 70–90-х годах. Это же название носит серия микропроцессоров и систем, произведенных на их основе и выпускаемых сегодня ЗАО «МЦСТ» (Московский центр SPARC-технологий). Многопроцессорный вычислительный комплекс (МВК) «Эльбрус-1» (разработан в 1973–1979-м) сдан государственной комиссии в 1980 году. Он был построен по нормам ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика микросхемы) и состоял из биполярных транзисторов производительностью 12 миллионов операций в секунду, что соответствовало высокому мировому уровню того времени.
«Эльбрус-2» разработан в 1977–1984 годах, сдан в 1985-м. Производительность на 10 процессорах – 125 миллионов операций в секунду. Построен на базе интегральных схем ИС-100. Всего выпущено до 200 машин «Эльбрус-2» с разным числом процессоров. Каждый процессор имел частоту 20 МГц. Итоговая производительность была уже 125 млн о/пс – это сравнимо с процессорами архитектуры Cortex, который занимал не одну комнату и требовал серьезного охлаждения, а теперь помещается в очень малом чипе в смартфоне. В 1984 году завод печатных плат «Квант» стал одним из самых мощных проектов советской электронной промышленности.
Вклад «эффективных менеджеров»
Но после распада СССР электронная промышленность была отброшена назад. В России в 90-х годах она пришла в упадок из-за острого финансового и политического кризиса, а также отсутствия заказов на разработку и создание новых изделий. Приватизация предприятий привела микроэлектронику к развалу. Частные акционеры просто не смогли удержать нужные темпы развития, что привело к многократному отставанию от Запада, Китая, Малайзии. Если доля военной и гражданской отечественной электроники на мировом рынке электроники в 1980-м составляла 26 процентов, то к 2018 году снизилась до 0,8.
К сожалению, время было преступно упущено: с 1994 по 2000 год, например, компания Intel сделала огромный скачок: в процессорах повышены частоты на порядок, технологии техпроцесса микросхем усовершенствовались. А «Эльбрусы» так и остались на уровне начала 90-х годов. Поскольку весь компьютерный рынок прежде всего определяется процессорами и операционными системами. К тому же в данной производственной области возникли еще и кадровые проблемы. В 1991 году около 100 тысяч советских (российских) ученых и инженеров в области электроники и других областей убыли в США, другие страны. Это была катастрофа.
Николай Домницкий,
подполковник в отставке

Погода сегодня 08 04 21

|
|
ГЛАВА 2501. 7 апреля 2021 года. 97 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Добро пожаловать в парк-отель "Берёзки" поправить здоровье после ковида. Шухер! Александр Божьев. |
ГЛАВА 2500 !!! 31 МАРТА 2021 ГОДА. 90 ДЕНЬ 2021 ГОДА. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ВОЗРАСТАТЬ? ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ.
Князь Александр Невский родился в 1221 году, в семье новгородского князя Ярослава Всеволодовича. В 1236 году он стал князем новгородским и в первые годы своего княжения построил несколько крепостей для обороны от монголо-татарских орд, грозивших с востока.
Но главная опасность грозила Новгороду с запада. С начала XIII века новгородским князьям приходилось удерживать атаки набиравшего силу Литовского государства и наступление немецких рыцарей-крестоносцев. С севера же наступали шведы, возможно, решившие, что Русь настолько разгромлена монголо-татарами, что можно без потерь захватить финские земли, традиционно принадлежавшие новгородским князьям.
Шведское войско вторглось на новгородские земли летом 1240 года. Корабли шведов вошли в Неву и остановились в устье ее притока — реки Ижоры. Это было страшное испытание для молодого князя Александра, но он с честью его выдержал, проявив свой талант полководца и политика. С небольшой дружиной он выступил в поход и неожиданно напал на лагерь захватчиков. Битва закончилась блестящей победой новгородцев. Эта победа прославила двадцатилетнего Александра, именно в честь нее он и получил прозвание — Невский.





Шведский стол



Главный гериатр Минздрава рассказала о принципах реабилитации пожилых после COVID-19
КОРОНАВИРУС ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ВАКЦИНАЦИЯ
Для пожилых, переболевших коронавирусной инфекцией, характерен синдром мальнутриции — недостаточности питания, который значительно ухудшает прогноз восстановления. Об этом в интервью «Известиям» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
«Чтобы остановить вирус, сегодня лучше привиться и оставаться в родной стране»
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова — о важности вакцинации, условиях снятия ограничений и новых вариантах коронавируса
«Для быстрого восстановления требуется значительное количество белка, довольно высокая калорийность пищи. Поэтому мы разработали специальные программы питания», — подчеркнула специалист.
Кроме того, по ее словам, у переболевших COVID-19 развивается саркопения — уменьшаются мышечная масса и сила.
«Для коррекции этого синдрома мы используем специальную физическую активность и питание с увеличением количества белка. Для молодых людей мы рекомендуем 0,8 г белка на 1 кг массы тела, а пожилым людям, перенесшим COVID, — от 1,2 до 1,5 г на 1 кг массы тела», — добавила Ольга Ткачева.
Некоторым пациентам назначают сиппинги — специальные добавки к питанию, которые содержат белок.
Пандемия коронавируса подтолкнула к изучению процессов старения, также отметила Ольга Ткачева. Ни одна эпидемия в мире еще не была так зависима от возраста: из людей старше 80 лет умирает каждый четвертый, а из тех, кто младше 40, — десятые доли процента.
На бога надейся , но и сам...

Шухер!
Вложение: 13404952_shuher.docx
![]() Вложение: 13404952_shuher.docx
Вложение: 13404952_shuher.docx
|
Метки: божьев александр божьев санаторий прайс пляж запад невский талант полководец шухер здоровье церковь ковид вакцинация смертность |
ГЛАВА 2500!!! 31 МАРТА 2021 ГОДА. 90 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Заболеваемость продолжает возрастать? Читайте газету ПРАВДА. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире растет.
По словам Марии Ван Керкхове, руководителя технического подразделения ВОЗ по чрезвычайным болезням, глобальная заболеваемость коронавирусом продолжает возрастать уже в течение пяти недель, и это не может не вызывать серьезной озабоченности экспертов здравоохранения, передает «РИА Новости».
Керкхове отметила, что распространение COVID-19 интенсивными темпами продолжается в 4 из 5 регионов, в которых действует ВОЗ. Последняя неделя показала 8-процентный прирост числа зараженных.
Только на европейских территориях заболеваемость подскочила на 12 %, преимущественно по причине британского варианта. В юго-восточных азиатских странах заболеваемость возросла на 48 %, главным образом «постаралась» Индия. В Средиземноморье, в частности — на востоке региона, показатель составил 8 %, а в западно-тихоокеанском регионе отмечено 29 % прироста.
В ВОЗ обратили внимание на совокупный тренд увеличения количества зараженных и отмечают, что ситуацию осложняет давление, оказываемое гражданами ряда стран на органы власти из-за недовольства ограничительными мерами, а также недостатки в распределении вакцин и появление новых штаммов.
ПЛАЗМАФЕРЕЗ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
С.Е.Хорошилов ¹, С.Д.Теребов ², А.А.Божьев ³, А.А.Постников ⁴, С.О. Минин ⁵
¹ ГВКГ МО России ² ЦП ВМФ МО России ³ ООО “Координатор” ⁴ Первый МГМУ МЗ РФ, Москва 5 КГБ (городская больница), Клин
Участники современных боевых конфликтов кроме огнестрельных и осколочных ранений подвергаются опасности тяжелых термических и химических повреждений, размозжению и длительному позиционному сдавлению тканей. Минно-взрывные ранения часто сопровождаются одномоментным массивным размозжением мягких тканей с высвобождением в результате цитолиза миоглобина, трансаминаз, протеолитических ферментов. Обширные поражения приводят к попаданию в кровоток большого количества тканевого тромбопластина, миоглобина, других компонентов из поврежденных клеток, повышению уровня фибриногена. Все это вызывает в организме гиперкоагуляционную фазу диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), ухудшение реологических свойств крови и нарушение микроциркуляции. В дальнейшем в результате коагулопатии потребления наступает гипокоагуляционная фаза ДВС-синдрома и продолжают нарастать нарушения реологии и микроциркуляции крови, как в очаге повреждения, так и во всех жизненно важных органах, приводя к почечной, печеночной недостаточности, энцефалопатии, сердечной недостаточности. Внутривенные вливания солевых и коллоидных растворов, а также компонентов донорской крови, позволяя восстановить объем циркулирующей крови, улучшить реологические и микроциркуляторные показатели крови, порой оказываются недостаточными для выведения из кровотока избыточного свободного миоглобина, фибриногена и других компонентов поврежденных клеток, поддерживающих ДВС-синдром, остаточные реологические
и микроциркуляторные нарушения. В подобной ситуации использование лечебного плазмафереза оказывает положительное патогенетическое влияние на содержание внутрисосудистого русла. В гиперкоагуляционную фазу ДВС-синдрома удаление 30-40% объема циркулирующей плазмы - ОЦП (800-1200 мл) с полуторо-двукратным объемным замещение солевыми растворами (12002000 мл) позволяет извлечь из кровотока значительное количество фибриногена, миоглобина, компонентов поврежденных клеток, что позволяет прервать гиперкоагуляцию, предупредить коагулопатию потребления, улучшить реологические и микроциркуляторные показатели крови. В условиях гипокоагуляционной фазы ДВС-синдрома удаление 40-50% ОЦП (1200-1600 мл) с замещением свежезамороженной плазмой (1500-2000 мл), кроме извлечения из кровотока вышеперечисленных патологических компонентов, приводит к восстановлению активности свертывающей и фибринолитической систем крови, ликвидируя гипокоагуляцию и восстанавливая микроциркуляцию крови. Наш опыт применения лечебного плазмафереза у пострадавших с синдромом длительного и позиционного сдавления, обширными термическими и химическими ожогами и отморожениями показал снижение после процедуры очищения крови уровня миоглобина, фибриногена, продуктов деградации фибриногена, улучшение показателей реологии и микроциркуляции крови. У пострадавших с синдромом длительного позиционного сдавления раннее использование плазмафереза, приводя к снижению уровня свободного миоглобина крови, предупреждало возникновение острой почечной недостаточности. У получивших плазмаферез на стадии миоглобинового нефроза с наступившей анурией ускорялись сроки восстановления выделительной функции почек. Использование плазмафереза у пострадавших на стадии ожоговой токсемии позволяло вывести пострадавших из прекоматозного состояния, ускорить репаративные процессы кожных покровов. Таким образом, лечебный плазмаферез показан и может быть рекомендован в составе комплексного лечения последствий тяжелых повреждений пострадавших при боевых действиях. Опыт оказания помощи в этих условиях подтверждает перспективность использования плазмафереза в комплексе лечебных мероприятий.
Известный советский дипломат Вячеслав Матузов об истинных "авторах" развала СССР
Вячеслав Николаевич Матузов известный в бывшем советский и российский дипломат и в настоящем времени независимый политолог и консультант.
Несколько главных выдержек из его биографии. В 1970 году Вячеслав Николаевич был назначен Первым секретарем посольства Советского Союза в Ливане. Через четыре года дипломат продолжил заниматься Ближним Востоком в Международном отделе ЦК КПСС, где проработал в течении шестнадцати лет.
Матузов в 1990 году получил пост Советника Посольства СССР в США, а через год Российской Федерации.
С 2016 года Матузов является Президентом Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, а также членом Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии.
Работая долгое время в международном отделе ЦК КПСС, был очевидцем многих событий и знаком с тайной "кухней" подготовки и осуществления плана по развалу Советского Союза.
Именно поэтому его воспоминания об этих событиях представляют для нас огромный интерес.
В своём интервью информационному агентству EADaily в 2019 году Вячеслав Матузов раскрывает нам истинных "авторов" "перестройки" и развала СССР.
Привожу самые интересные выдержки из данного его интервью.
• О том, кто "стоял" за Андроповым и способствовал его карьерному росту:
"...Андропов же был первым секретарем ЦК комсомола Карело-Финской ССР. За ним стоял Отто Куусинен . А с кем был связан Куусинен? С генерал-лейтенантом госбезопасности Евгением Питоврановым . Это «отец» всех андроповых, примаковых и других деятелей "перестройки"..."
• О роли генерала Питовранова:
"...Нитка тянется от Коминтерна и Льва Троцкого . «Красной нитью» в данной истории проходит борьба Иосифа Сталина с троцкизмом в рядах силовых ведомств. На мой взгляд, это все создавалось на базе спецслужб ..."
Хочу напомнить читателям, что генерал-лейтенант Евгений Петрович Питовранов с июня 1946 года был заместителем начальника, а с сентября 1946 года - начальником Второго главного управления МГБ СССР (управление контрразведки). С декабря 1950 года — заместитель министра государственной безопасности СССР. С 5 января по 5 мая 1953 года генерал Питовранов возглавлял внешнюю разведку в должности заместителя начальника Первого Главного Управления МГБ СССР
• О тайном механизме "перестройки", задуманной Андроповым:
"...дальнейшие изменения («перестройка») осуществлялись не на базе КГБ, а с помощью КГБ, но за рамками КГБ. Откуда появился Примаков? Это не система КГБ. Он из боковых отростков, которые создал Андропов, будучи уже председателем КГБ и членом Политбюро...Это были параллельные структуры, которые дублировали КГБ. Внешне они работали в связке с партийным аппаратом. Но в реальности эти институты были настолько сильными, находясь под покровительством Андропова..."
• О роли генерала КГБ Олега Калугина:
"...Эти же силы создали ленинградский центр, куда они в свое время перебросили генерал-майора Олега Калугина , который в ПГУ (первое главное управление КГБ) руководил отделом США и Канады, а также был начальником внешней контрразведки ПГУ..."
• О главной роли Примакова в "перестройке":
"...Я считаю, что центральной фигурой, которая осуществляла переход от «перестройки» к перестрелке и нынешней ситуации, был Евгений Максимович. Полагаю, что Борис Ельцин и Горбачев были людьми второстепенного плана. Это была внешняя картина. А реальный механизм, который контролировал весь процесс — до перестройки, перестройку и после перестройки, когда формировались всякие австрийские институты, был завязан на Примакова и других наследников плана Андропова...Он (Примаков) являлся главной действующей фигурой, которая завершила план Андропова по переустройству Советского Союза. Говоря простым языком, Примаков был смотрящим за процессом — все эти годы...Механизм «перестройки» осуществлялся сторонниками Примакова вне КГБ, частично привлекая оттуда кадры, которые Андропов лично создавал...""
• О взглядах Евгения Примакова:
"...В октябре 1974 года, когда я был в Ливане, работал на должности первого секретаря посольства, у меня умерла мать. Я полетел в Новосибирск на похороны. На обратном пути я позвонил Вадиму Румянцеву , которого тогда сделали заместителем заведующего в ЦК. Он позвал к себе. В гостях у него были Примаков с супругой… А тогда Примаков был членом редколлегии газеты «Правда». Что такое газета «Правда» в те годы? Если появлялась маленькая негативная заметка про чиновника, то его сразу снимали с должности. Вдруг я слышу от Примакова: «Социалистическая система себя изжила. Надо от нее отходить и начинать жить как на Западе»...."
• О Горбачёве:
"..Горбачев — очень недалекий человек, двуличный. У него не было позиции, за исключением желания уничтожить социализм. Горбачев переоценивает значение своих взглядов, чтобы ему на Западе больше платили. Он выносил на Политбюро и принимал решение в зависимости от того, кто к нему первый подходил...Горбачев - это тряпка, пешка, вообще ничто. За распадом СССР стояли наследники Андропова. То есть были созданы условия перехода от той системы, в которой мы жили, к западному образцу..."
• О технологии " раскачивания" ситуации в СССР:
"....технологично раскачивали ситуацию... чуть позже целенаправленно создали дефицит товаров. Я не про колбасу, которую скупали мешками, а потом её не хватало, и за ней ехали толпы людей из сельской местности, хотя там её исторически никогда, собственно, и не употребляли — в деревнях традиционно ели мясо собственного приготовления. Было более важное: накануне 1991-го вдруг из продажи исчезли табачные изделия. Это стало серьёзным испытанием для тех, кто не мог жить без сигарет..."
• О том, как велась многолетняя подготовка по развалу СССР:
"...Я с 1968 по 1988 год работал в Международном отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическими партиями капиталистических стран. Подготовку развала СССР видел непосредственно. В нашем отделе «варилась» основная «каша». Работали будущие помощники и советники Михаила Горбачёва: Анатолий Черняев, Георгий Шахназаров, Карен Брутенц… Теория смены социально-политического строя в Советском Союзе прорабатывалась десятилетиями.
Начиналось всё с 1953 года, я считаю. Можно вспомнить имена, такие как Фёдор Бурлацкий, Александр Бовин. Они считали себя очень продвинутыми, консультировали не только Бориса Пономарёва, но и Михаила Горбачёва. Пономарёв же был кандидатом в члены Политбюро, секретарём ЦК, заведующим Международным отделом Центрального комитета. Вся эта работа велась на протяжении долгих лет.
• О создании структур по подготовке развала СССР:
"...Я считаю, что именно Андропов, будучи руководителем КГБ с 1967 года, составил схему изменения социально-политического строя СССР. Но действовал он не через КГБ,..И тогда он стал развивать боковые структуры на базе Академии наук СССР...Институт США и Канады… Первым его руководителем стал Георгий Арбатов. Сын его, Алексей — «яблочник», специалист по американским структурам безопасности. Ещё Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), который после ухода Яковлева в Политбюро возглавил Евгений Примаков. До этого Примаков несколько лет возглавлял Институт востоковедения..."
"...знаете, кто был одним из организаторов этого венского института( речь идёт о Международном институте прикладного системного анализа) и руководителем его московского филиала? Зять Алексея Косыгина — Джермен Гвишиани, заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) — нашей, по сути, службы технологической разведки! ... Андропов сыграл, может быть, решающую роль в создании этой «группировки». В Ленинграде, кстати, был также создан центр, аналогичный московскому филиалу венцев. И в Северной столице, не будем забывать, обучался и формировался Чубайс..."
• О предательстве министра иностранных дел СССР Шеварднадзе:
"..После 82-ого года к нам в международный отдел ЦК КПСС вдруг стали "десантироваться" какие-то люди. Андропов боялся опираться на тот аппарат в своей деятельности, в разрушительной его части, который он возглавлял. Шеварднадзе был главным потому, что основной поток шёл по линии послов. В 2002 году меня пригласили в Багдад на научную конференцию. Выступает Тарик Азиз( тогда министр иностранных дел Ирака) и говорит, что Шеварднадзе пытался доказать западникам, что он не верит в Россию. И он(Тарик Азиз) говорит, что у нас главным предателем считается Шеварднадзе. Джеймс Бейкер( госсекретарь США в 1989 -1992 гг.) мне( Тарику Азизу) рассказывал, что Америка заплатила ему миллион долларов. И Шеварднадзе дал указание проголосовать в декабре 1990 года в Совете безопасности ООН за разрешительную резолюцию по началу первой войны против Ирака "Буря в пустыне"..."
Александр Колпакиди. Интервью с Вячеславом Матузовым. 2019 год.
Божьев Александр Александрович, врач, кандидат медицинских наук, автор 250 научных работ
по:
анестезиологии,
реаниматологии,
экспериментальной хирургии,
трансфузиологии,
скорой помощи
(см. в интернете).
Общий трудовой стаж 51 год,
Одесский Окружной военный госпиталь № 411
1958-1960
в качестве санитара
Второй Московский медицинский институт
196о-1967
студент
Работал с академиками:
В.А. Неговским
1967-1972,
в качестве аспиранта и мнс;
Б.В.Петровским
1972- 1975 в качестве мнс и научного секретаря;
В.И.Шумаковым
1975-1980,
в качестве руководителя лаборатории координации научных исследований по созданию искусственных органов;
А.И.Воробьевым
1980-2011,
в качестве специалиста по чрезвычайным ситуациям, снс.
Александр Божьев член Союза спасательных формирований РКПС МВД России,
член Союза советских офицеров.
Член КПРФ с 1971 года,
партийный стаж 50 лет.
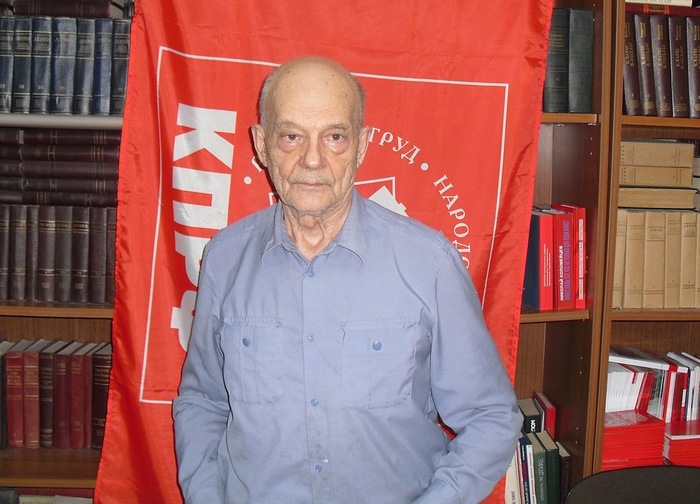

Читайте Газету ПРАВДА!
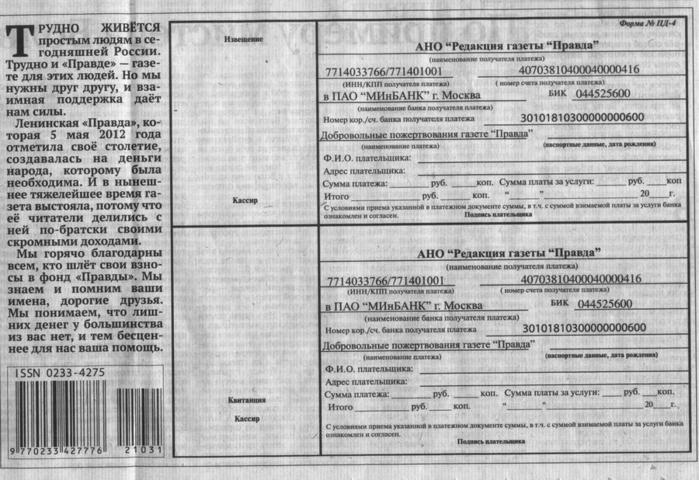
Всегда в полёте!

Вечный покой вряд ли обрадует
Играет и поёт Александр Божьев
|
Метки: божьев александр божьев дипломат работа интерес правда биография сотрудничество перестройка советский союз ссср россия рф |
ГЛАВА 2499. 26 МАРТА 2021 ГОДА. 85 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Всё течёт, всё меняется. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Ранее
КПСС,
теперь

Ранее
Второй Московский медицинский институт (2 ММИ) имени И.В. Сталина,
теперь

Ученые обнаружили, что гипертония полезна для здоровья
11 марта 2021 в 20:33 Жизнь
Гипертония или высокое кровяное давление являются фактором риска для ряда состояний здоровья, включая сердечно-сосудистые проблемы, диабет и другие нарушения обмена веществ.
Но всегда ли должно быть причиной для беспокойства высокое кровяное давление? Новые открытия ставят под сомнение это предположение, пишет сайт medicalnewstoday.com.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), до 75 миллионов человек в Соединенных Штатах имеют высокое кровяное давление.
Что такое высокое кровяное давление?
Точно ответить на этот вопрос сложно, поскольку эксперты все еще обсуждают пределы, которые считаются нормальным артериальным давлением. В настоящее время организации предлагают различные рекомендации по определению значений высокого кровяного давления. Например, Национальный институт сердца, легких и крови объясняет, что у взрослых гипертония - это «постоянное систолическое значение 140 мм рт. Ст. (Миллиметры ртутного столба) или выше».
Однако Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предполагает, что гипертония возникает, когда у человека систолическое артериальное давление составляет 130 мм рт. В то же время (CDC) считает, что люди с систолическим артериальным давлением 120–139 мм рт. Ст. Только «подвержены риску» гипертонии. Как правило, врачи советуют своим пациентам, особенно пожилым людям, следить за своим кровяным давлением и контролировать его. Это сделано для того, чтобы он не достиг порога гипертонии, которую многие медицинские работники считают фактором риска сердечных заболеваний и инсульта, среди прочего.
Однако исследование, проведенное учеными из Charit?-Universit?tsmedizin Berlin в Германии, теперь показывает, что некоторые пожилые люди могут не испытывать других проблем со здоровьем, если у них высокое кровяное давление. На самом деле, отмечают исследователи, некоторые люди в возрасте 80 лет могут даже сообщать о преимуществах гипертонии.
Отход от «общего подхода»
Новое исследование, результаты которого были опубликованы в European Heart Journal, рассматривало результаты исследования с участием 1628 женщин и мужчин со средним возрастом 81 год. Все они были в возрасте 70 лет и старше, когда они присоединились к исследованию и принимали гипотензивные лечение. Исследователи собрали данные о состоянии здоровья участников. Они опрашивали участников каждые 2 года и оценивали их артериальное давление, помимо других показателей здоровья. В ходе 6-летней оценки исследователи провели статистический анализ, чтобы увидеть, как артериальное давление может повлиять на риск смерти у людей.
Они также сообщили о потенциальных сбивающих с толку факторах, таких как пол, образ жизни, индекс массы тела (ИМТ) и количество лекарств от высокого кровяного давления, которые принимал каждый человек. Исследователи обнаружили, что люди старше 80 лет, у которых артериальное давление ниже 140/90 мм рт.
На 40% выше риск смерти,
чем у сверстников с артериальным давлением выше этих пороговых значений. Даже люди, которые уже перенесли инсульт или сердечный приступ, показали аналогичную связь между уровнем артериального давления и риском смерти.
Команда также подчеркнула, что у людей с артериальным давлением ниже 140/90 мм рт. Ст. Риск смерти на 61% выше, чем у тех, чье артериальное давление остается высоким, несмотря на режим приема антигипертензивных препаратов.
«Наши результаты ясно показывают, что в этих группах пациентов антигипертензивная терапия должна корректироваться в соответствии с потребностями человека», - сказал автор исследования доктор Антониос Дурос. «Нам необходимо отойти от общего подхода к применению рекомендаций профессиональных ассоциаций ко всем группам пациентов».
«В качестве следующего шага мы хотим изучить, каким группам пациентов действительно помогает гипотензивное лечение», - заключает соавтор исследования профессор Эльке Шефнер .
Windows XP - бабушка, но еще актуальная. Где она еще используется, и почему я ее не тороплюсь переустанавливать
11,4 тыс. дочитываний
Добрый день, уважаемые читатели!
Сегодня только школьник не знает, что такое Windows XP, потому что он ее скорее всего не застал. Эта операционная система является легендой!
Я ее вообще считаю лучшим продуктом Microsoft из когда-либо существующих!
Прабабушка WIndows 10
Сегодня Windows XP продолжает использоваться по нескольким направлениям:
• Банкоматы (их большинство использует в качестве базы изменно Windows XP);
• Старые устройства (мне когда отдают древние ноутбуки на чистку, там стоит эта добрая бабушка-система);
• Предприятия.
Если брать во внимание банкоматы, то их сейчас огромное количество во всех странах. Чтобы каждый перевести на другую ОС, банкам нужно потратить много времени и денег! И есть американский подход: зачем отказываться от того, что работает давно и стабильно?
СМ. в Интернете: Медицинская помощь при ЧС. Александр Божьев и соавторы.

![]() Вложение: 13405165_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf
Вложение: 13405165_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf
|
Метки: божьев александр божьев кпсс кпрф институт гипертония контроль смерть автор Windows Microsoft помощь результат группа лечение |
ГЛАВА 2498. 21 МАРТА 2021 ГОДА. 80 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Вообще, вся медицина - доказательная. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Виталий Рук
«Знаю пациентов, которые три раза болели коронавирусом»: врач-инфекционист минской больницы о вакцине, последствиях и будущих пандемиях
Специалист рассказывает об особенностях второй волны коронавируса. а также о том, у кого больше шансов перенести ковид легче, кто рискует заболеть снова и сколько времени надо, чтобы избавиться от всех последствий
Юлия РОМАНЬКОВА
Маски необходимо носить всем, не стоит расслабляться.
Врач-инфекционист 4-й городской клинической больницы Виталий Рук уже год работает с коронавирусными пациентами. Поэтому об особенностях второй волны коронавируса и уроках волны первой может говорить с учетом имеющегося опыта.
- Был ли смысл вводить карантин в масштабах страны, как это делали за рубежом?
marksandspencer.ru
- Карантин, на мой взгляд, нужен в том случае, если медицина легла и уже не справляется. Карантин угнетает человека. Его последствия - и падение иммунитета, и алкоголизм, и потеря работы. Я убежден, что карантин вводить было нельзя. Причем так уже думают почти во всех странах мира. А вот масочный режим, конечно, надо было пораньше ввести…
- Значит, маски все-таки помогают и спасают?
- Конечно! Но есть много нюансов.
- Например, если у тебя маска одна и ты постоянно носишь ее в кармане…
- …и она уже черная. А вот суперэффективной она становится, если маски носят все.
- Может, с вакцинацией мы не опоздаем. Хотя по поводу российской вакцины мнения неоднозначные…
- Я хорошо отношусь к российским вакцинам. У соседей осталась хорошая постсоветская система, кто бы что ни говорил. Вообще, вся медицина - доказательная. Но по коронавирусу такой исключительной доказательной базы пока нет и быть не может, потому что для этого нужны годы работы. Но векторные вакцины используются уже лет 15, и сам механизм, реакция изучены. Может, от заражения вакцина обезопасит не всех, но тяжесть течения болезни точно облегчит. Конечно, у любой вакцины есть противопоказания. Она исследуется. Но тем, кому можно, лучше привиться.
- А вы прививались?
- Да. Вопрос не в боязни за себя, а в ответственности за общество. Чтобы не допустить пандемии, должно быть 60 - 70% населения привито.
«Во время второй волны коронавирус стал менее предсказуемым»
- Как проявил себя коронавирус во время второй волны?
- Вторая волна намного сильнее - коронавирус стал более заразным, тяжелым и менее предсказуемым.
- Вы встречали пациентов, которые болеют коронавирусом повторно? Болезнь второй раз протекает легче?
- Я знаю пациентов, которые болели даже три раза. Это люди со слабым иммунитетом. И не всегда второй раз болезнь протекает легче.
- А вы болели коронавирусом?
- Да, и мне очень не понравилось. Спустя 5 месяцев титр антител у меня был очень незначительным, поэтому я сделал прививку.
- Правда ли, что чем моложе человек, тем легче он переносит коронавирус?
- Нет. Пожилой человек может переболеть намного легче, чем молодой. Все зависит от генетики и факторов риска. Почему, например, от ковида умирают знаменитые спортсмены? У них ведь сильный иммунитет. Но при таком иммунитете существует высокий риск гиперреактивного иммунного ответа на инфекцию, что может привести к тяжелым последствиям. По этой причине я бы не советовал принимать бесконтрольно иммуностимуляторы. В случае с коронавирусом нужен сбалансированный иммунитет. Поэтому лечение коронавируса в большинстве случаев направлено не на уничтожение вируса, а на моделирование иммунитета.
Насколько тяжело будет болеть ковидом человек, зависит и от сопутствующих заболеваний. Высокая вероятность более тяжелого течения болезни с осложнениями у людей с ожирением, диабетом.
«Степень поражения легких не всегда напрямую влияет на течение болезни»
- Что делать, если есть подозрения, что заразился ковидом?
- Нужно сделать тест ПЦР. Потому что антитела (их наличие определяет анализ крови) вырабатываются только к восьмому дню. Но даже ПЦР не всегда показывает правильные результаты. Его эффективность - 64 - 67%.
- При коронавирусе у многих диагностируют пневмонию. У кого-то легкие поражены на 10%, а у кого-то на 50%. Как это влияет на последствия?
- Степень поражения легких не всегда напрямую влияет на течение болезни. При 50-процентном поражении иммунитет может адекватно отреагировать на вирус, и через две недели человек спокойно выздоровеет. Но в то же время 35 - 40% поражения могут вызвать эту самую гиперреакцию иммунитета, что разрушит легкие за три дня.
Если, к примеру, у человека, переболевшего ковидом, спустя 20 дней КТ показывает 40% поражения легких, ему надо просто продолжать заниматься реабилитацией: хорошее питание, физиопроцедуры, свежий воздух и т. д. Просто процесс восстановления длительный. А вот если у человека поражение 40% на пятый день болезни - это опасно и требует определенных мер.
- Какие могут быть последствия коронавируса? Они временные или проблемы останутся надолго?
- После коронавируса большое количество угроз связано с тромбоэмболиями, инсультами, инфарктами. Поэтому после болезни надо соблюдать рекомендации врача по приему антикоагулянтов.
Часто наблюдается повреждение нервной системы - слабость, депрессия, нарушение сна, панические атаки, галлюцинации. В этих случаях тоже надо решать проблему с врачом, который назначит соответствующее лечение.
Случаются также поражения печени и почек (в основном после назначенного курса лечения это проходит), сердца (если месяц-два наблюдаются боли в сердце, следует сделать УЗИ). После болезни, перенесенной в очень тяжелой форме, может остаться дыхательная недостаточность.
Обычно при соблюдении рекомендаций врача (как правило, это щадящий режим, прием витаминов, здоровый образ жизни, физиотерапия) восстановление происходит за 3 - 4 недели. Последствия могут оставаться до пяти месяцев, но, как правило, это все проходит.
«Такое чувство, что я всегда ходил в этом костюме»
- Как ваши домашние отнеслись к тому, что вы будете работать с коронавирусными пациентами?
- Надо - значит надо. Я сказал, что могу изолироваться в общежитии (такая возможность предоставлялась врачам при необходимости) или остаться дома. Близкие только поначалу боялись, волновались. Вы не поверите, но на работе я чувствую себя более защищенным, чем в метро! После работы в грязной зоне ты сбрасываешь всю одежду, принимаешь душ. Но не факт, что после метро ты на одежде что-то не принесешь домой, а на работе серьезный подход.
- Еще год назад вы работали кардиологом. Как коронавирус изменил ваши рабочие будни?
- Я уже не помню, какими они были раньше. Такое чувство, что я всегда ходил в этом костюме. Вначале было дискомфортно, но спустя 3 - 4 месяца все привыкли. Защитный костюм, все эти щитки, маски - это никак не напрягает. Всегда интересно там, где надо помогать. Поэтому сейчас работать даже интереснее. Конечно, немного скучаю по кардиологии, но это же когда-нибудь закончится.
- А когда это закончится? Когда мир сможет выбраться из этой напасти?
- Сложно что-то прогнозировать. Надеюсь, через год-два-три коронавирус станет не таким опасным. Очень большое значение имеет вакцинация. Ведь искоренили же таким образом, например, натуральную оспу, которая уносила 200 - 250 миллионов жизней ежегодно.
- Возможны подобные эпидемии в будущем?
- Да. Способность организма противостоять инфекциям у современного человека гораздо ниже. И это закладывается с детства. Сейчас у детей, подростков, которые по большей части сидят в компьютерах и телефонах, незакаленный иммунитет. Они менее адаптированы к любой инфекции. Глобализация, перенаселение, химические загрязнения - все это тоже влияет.
Читайте на WWW.KP.BY: https://www.kp.by/daily/27240/4368440/


|
Метки: божьев александр божьев пациент волна маски карантин масштаб опыт алкоголизм система архив вирас бактерия человек генетика спортсмены лечение |
ГЛАВА 2497. 18 марта 2021 ГОДА. 77 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Крым, Россия - навсегда. Газета ПРАВДА. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Путин выступил в Лужниках по случаю годовщины присоединения Крыма.



Москва Погода 18 03 21

|
Метки: божьев александр божьев выступление лужники крым россия |
ГЛАВА 2496. 18 марта 2021 ГОДА. 77 ДЕНЬ 2021 ГОДА. В марте 2014 года Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума. О коронавирусе. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
В Крыму разрешили массовые мероприятия в годовщину возвращения в Россию.

В Крыму решили временно отменить запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса.
Соответствующее решение приняли власти региона.
Отмена карантина происходит в связи с празднованием очередной годовщины присоединения полуострова к России. Так, власти Крыма разрешили проводить мероприятия байкерскому клубу «Ночные волки», смотр отрядов Юнармии и кадетских классов.
Также органам местного самоуправления разрешили устраивать свои мероприятия, посвящённые торжественной дате. При этом до годовщины на полуострове были запрещены все публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, кроме некоторых исключений.
В марте 2014 года Крым вошёл в состав России по итогам референдума.
Аудио О коронавирусе.
Слушай во Вложении.
![]() Вложение: 13403209_audio_o__koronaviruse.docx
Вложение: 13403209_audio_o__koronaviruse.docx
|
Метки: божьев александр божьев крым празднование |
ГЛАВА 2495. 17 марта 2021 ГОДА. 76 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Больной не излечивается от коронавируса продолжает болеть еще 6-8 месяев. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом
Главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина рассказала о симптомах, которые возникают спустя месяцы после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, на данный момент медики больше относятся к коронавирусной инфекции как к васкулиту, а не поражающей легочную ткань респираторной инфекции. Она отметила, что это связано с тем, что COVID-19 влияет на эндотелий сосудов во всех органах.
Врач подчеркнула, что пациент не излечивается от коронавируса до выписки, а продолжает болеть еще шесть — восемь месяцев.
Пульмонолог уточнила, что период под названием «чистый постковид» появляется спустя три месяца после появления первых признаков COVID-19. На данном этапе у пациента фиксируются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, неврологические и постреанимационные симптомы, характерные для системного васкулита.

Подводя итоги встречи с президентом, Геннадий Андреевич сообщил, что главе государства была представлена антикризисная программа КПРФ. Он напомнил о снижении численности населения и росте бедности, вызванных пандемией коронавируса. "Ситуация в корне изменилась", - подчеркнул лидер коммунистов.
![]() Вложение: 13403100_23_02_21_vestnik.doc
Вложение: 13403100_23_02_21_vestnik.doc
|
Метки: божьев александр божьев симптомы эарахение COVID-19 коронавирус итог президент программа КПРФ ситуация предатели бедность население |
ГЛАВА 2494. 12 марта 2021 ГОДА. 71 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Какие данные нельзя хранить на смартфоне. Города, где я бывал. Чума. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Эксперт рассказал, какие данные нельзя хранить на смартфоне.
Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал в беседе с RT, какие данные нельзя хранить на смартфоне и как лучше защитить свой мобильный телефон.
«Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: всё, что вы готовы хранить в своём почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне. Уровень защиты данных на смартфоне сейчас примерно как уровень защиты вашего почтового ящика. Вообще, данные на серверах и компьютерах, смартфонах, подключённых к сети, хранить нельзя, лучше иметь удалённые носители», — пояснил эксперт.
По словам Масаловича, в мобильном телефоне категорически нельзя хранить таблички с паролями и учётными данными.
«Нельзя использовать одинаковые пароли на разных сервисах. Пароли надо менять как минимум раз в квартал. Удобнее разделить кредитные карты: то есть счёт, на котором много денег, сделать доступным только из отделения. То есть когда вам нужно провести крупный платёж, вы должны в отделение прийти», — добавил он.
Кроме того, по мнению специалиста, стоит завести карту для текущих расчётов, на которой лежала бы небольшая сумма.
Масалович также пояснил, что все устройства нужно считать отдельными и нигде не ставить галочку «Запомнить меня».
«На современных смартфонах сейчас есть функции, которые позволяют хоть чуть-чуть вас спрятать: например, во всех новых версиях, на всех платформах есть галочка «Динамический сменный MAC-адрес», её надо ставить и при этом отключать Bluetooth», — подчеркнул аналитик.
Собеседник RT добавил, что вместо того, чтобы носить с собой в смартфоне фотографию первой страницы паспорта, гораздо надёжнее иметь распечатанные сканы.
Если их нужно сфотографировать и переслать, то потом эти данные нужно стереть, пояснил он.
«Утрата смартфона — более чем реальное событие. Его можно выронить в транспорте, его могут украсть. Однофакторная авторизация, которая у большинства стоит, проламывается на раз. Кроме того, есть технические средства, как со смартфона снимать информацию, даже не имея вашего ПИН-кода», — рассказал Масалович.
Он отметил, что по возможности лучше разделить рабочий и личный мир, чтобы для разных целей были разные смартфоны и аккаунты.
Кроме того, Масалович заявил, что если в личном кабинете интернет-магазинов вам предлагается запомнить данные банковской карты, чтобы каждый раз при покупке не вводить данные, то лучше этого не делать.
Ранее эксперт дал советы по защите от новой схемы мошенничества.
Александр Божьев


Города, где я бывал в США:
Нью-Йорк
Вашингтон
Бостон
Чикаго
Хьюстон
Солт-Лейк-Сити
и др.
Мне теперь становятся всё ближе
Эти МАЯКОВСКОГО слова:
«Я хотел бы жить и умереть в Париже,
Если 6 не было такой земли — Москва».
Москва. Битцевский парк. 12 марта 2021 года. Ночь - минус 14, день - минус 8.
Фото Анатолия Постникова.

Враг не дремлет.
Гадание на кофейной гуще?

Inna Megorskaya
Мнения о здравоохранении
Доктор Сницарь
КАЛЕНДАРЬ ИНФЕКТОЛОГИИ.
15 февраля 1911 года умер Илья Мамонтов.
Из всех смертей медиков, поехавших с Заболотным на чумную эпидемию в Харбин и погибших, это – самая известная. Я помню, как потрясло меня первое прочтение его последнего письма матери. Потом, когда начал преподавать, каждое занятие по особо опасным инфекциям или чуме я начинал с этого письма.
Неравнодушных глаз не было, и может быть, эти мальчики и девочки впервые задумывались, что такое инфекции, что такое медицина, врачебное служение, будничный подвиг, который может закончиться смертью... Пафос, высокий штиль, другое время, другие люди и отношения – скривитесь вы, и может быть, будете по-своему правы. Какое служение, если с медициной у многих в наше время ассоциируются в первую очередь взятки и профессиональное невежество. И опять не скажу, что этого нет. Думаю, и во времена Чехова были другие врачи, они описаны Антоном Павловичем. Но был и доктор Дымов – неприметный, тихо делавший своё дело, работавший на двух ставках, чтобы содержать семью и, не задумываясь, вдохнувший дифтерийные плёнки чужого ребёнка, не реализовавший свой талант и блестящее будущее... Они и сейчас есть, такие доктора. Их просто не замечают, считается, что так и надо, и ничего героического нет в этом будничном труде. И да, так и есть. Только когда они уходят, окружающие закусывают губу и с отчаяньем произносят: «Прозевали!»
Вот написал эти слова, и встал перед глазами Николай Олегович Гортынский. Работал у нас такой доктор-инфекционист. Ничем не примечательной, совершенно не героической наружности. Тихий, улыбчивый, незлобивый и неконфликтный. Такие нравятся начальству, не вызывают чувства зависти у коллег, о них вспоминают в последнюю очередь, когда лихорадочно решают, кого в этом году по разнарядке отметить ко Дню Медика, и в то же время они первые, о ком вспоминают, когда никто не хочет дежурить 1 января. Этот не скажет «А чё я?» и молча поедет в командировку, подменит товарища, возьмёт на себя «неудобного» больного...
Почему вспомнил? Подвига он не совершил, не успел – если не считать подвигом ежедневный труд, когда в своё сердце вбираешь боль людей. Ушёл в одночасье, не от инфекции – «от сердца». Намного раньше обычно отмеряемого человеку, никогда на больничный не ходил, раз – и всё...
И подумалось: «Упустили...» И ещё подумалось – он без слов собрался бы и уехал в тот Харбин и со своей застенчивой улыбкой вытаскивал бы зачумленных страшных китайцев из фанзы, а потом перекуривал бы за углом, сдвинув маску набок, переводя дух и помаргивая близорукими глазами. Как Мамонтов. Может, они там где-то на эпидемиях и встречаются, ушедшие инфекционисты?
А ещё у него остался сын, который почему-то считает его настоящим мужчиной и почему-то захотел стать врачом, а пока работает у нас медбратом, в отделении, где работал его отец...
Илья был такой и не такой.
«Сонливый и рассеянный увалень, это был отличный товарищ, щедрый и покладистый» – так описывает его Валентин Пикуль.
«Рослый, добродушный и очень талантливый юноша, отличавшийся удивительной душевной чистотой и благородством» – это из «ЖЗЛ» Глеба Голубева о Заболотном.
А вот женский взгляд врача, тоже не удержавшегося и написавшего об этой истории, – Ларисы Поздняковой: «Высокий, статный, чуть полноватый юноша. Щёгольские усики, щёгольское пенсне, которое он то и дело роняет. Рассеянность и невнимательность, достойные войти в анекдоты».
Позади Пажеский корпус, пять курсов Военно-Медицинской академии, впереди блестящее будущее... А ещё позади работа добровольцем на двух петербургских эпидемиях холеры. Из холерных бараков он и вывел за руку мальчонку, родители которого умерли, и привёл сироту в свой дом.
«– У него никого нет, – сказал домашним. – Зовут его Петькой, а отчество по мне будет – Ильич... Я усыновлю его!
Так, не будучи женат, стал отцом».
Продолжаю цитировать вперемешку этих авторов, разбирайтесь, где кто:
«Вечером он вернулся домой – согнутый от боли.
– Что с тобою? – спросила мать.
– Я сделал себе противочумные прививки.
– Зачем?
– Еду в Харбин... на чуму!
– Сын мой, надо же иметь голову на плечах.
– На плечах, мама, не только голова, но и погоны будущего врача. Если чуму не задержать в Харбине, она каак...»
Вспомнил, какими глазами смотрела на меня мама, когда похожим вечером я заявил, что еду бороться с детской смертностью в далёкий Таджикистан, где не так давно стреляли и изгоняли русских – душанбинская независимость 90-го года. Нахраписто тараторил что-то о важности миссии, о разгуле инфекций, о спасении детей, о долге – сбиваясь и перескакивая, боясь возражений и запрета. А мама всё смотрела... Не Харбин, и не чума, конечно, но... Не посмела мама отговаривать и перечить, потому что накануне напутствовала другую бригаду – туда же. А чем её сын лучше?
Дальше – мрачный городишко, неимоверная усталость, заметённые снегом штабеля трупов какого-то необычного асбестово-фиолетового оттенка, отвыкание от рукопожатий, борьба с чёртовой рассеянностью, превратившейся из забавного анекдота в смертельную опасность, и бал в клубе КВЖД...
«– А разве... Вот не думал, что на чуме танцуют.
– Чудак! Может, это наш последний вальс в жизни...»
Аня Снежкова. «Невысокая и худенькая, с тёмно-русой косой и внимательным взглядом». На групповом фото по центру. Позади курсы сестёр милосердия, мечты о счастье, книги про любовь...
«Трудно придумать менее подходящие декорации для рассказа о любви. Январские морозы, истоптанный грязный снег да пронзительный ветер. Большой, нескладно построенный город – город времянок и хибар с земляными полами и заклеенными бумагой окнами. Саманные хижины-фанзы, в которых теснятся вперемешку здоровые, больные и умершие. Тяжёлый густой дым костров, в которых горят заражённое тряпье и трупы. Резкий, едкий запах хлорной извести, сладковатая вонь карболки. Чудовищные грязь, нищета и скученность. Но у Ильи и Ани была молодость. И любовь».
В Харбине была лёгочная чума – самая страшная, самая смертоносная. Массово, а не отдельными случаями, она не встречалась нигде со времён средневековой «чёрной смерти». От неё не защищали профилактические прививки, от неё не было лечения. От неё просто умирали. И умирали быстро, за несколько часов, за пару суток, редко кому удавалось протянуть 5-6 дней.
«Хракнет человек кровию и через три дни умираше», – это из летописи, которую я любил приводить на тех же занятиях по чуме... Какие ещё нужны описания? Вот она – вся клиника в одной строчке.
«...Казалось, что фанза давно вымерла. Но едва санитары тряхнули дверь, как отовсюду посыпались на снег китайцы. Илья не поверил своим глазам: фанза – вроде будки, а населяли её человек сорок, и, конечно, половина из них уже заражённые; они выкрикивали угрозы, а из их ртов текла кровь чёрного цвета. Мамонтов полез на чердак, откуда долго сбрасывал вниз труп за трупом... Через несколько минут спустилась оттуда и Аня, её халат был изорван и покрыт пылью, а марлевая повязка съехала набок.
– Если бы вы знали, что там делается! – чихая и кашляя, проговорила девушка. – Все вперемешку...
Когда мертвецов набралось две телеги, Аня Снежкова сказала:
– Теперь ты понял, что такое одна китайская фанза...»
«А смерть уже ходила вокруг них, кашляла им в лицо, отплёвываясь кровью. Первым, ещё в декабре, умер французский бактериолог Жерар Менье, преподававший в одной из китайских школ медицины и приехавший в Харбин добровольцем, как и все они. Умер первый командир «летучего отряда» студент Лев Беляев – красавец, весельчак и талант. Умерли врачи Мария Александровна Лебедева из Подмосковья и Владимир Мартынович Михель из Томска...»
Мы уже писали о них, писали, писали, писали... весь декабрь, январь, февраль, ведя летопись смертей той страшной эпидемии. Вот они, пятеро, в ряд на фото: Л. М. Беляев, М. А. Лебедева, В. М. Михель, Ж. Менье, И. В. Мамонтов... И ведь все они, собравшиеся здесь, знали, на что идут, – для большинства из них это была не первая эпидемия.
Врачи, заразившись, сами заполняли бланки истории болезни на своё имя, а в последней графе выводили по-латыни роковые слова: «Exitus letalis». Почерк обречённых был разборчивый, у женщин даже красивый – я видел эти температурные листы, отбирая материалы для нашего музея инфекционной службы в запасниках петербургского музея ВМА. Когда до смерти оставалось совсем немного, умирающему – по традиции – подносили шампанское, он пил его и прощался с коллегами. Потом все выходили и оставляли его одного...
Пройдёт еще 35 лет, прежде чем удастся вылечить человека от лёгочной чумы. А пока можно только облегчить умирающим последние дни и часы жизни. Подать воды. Вытереть пот. Поддержать уколом камфары слабеющее сердце. Просто пожать руку.
«...Заболотный отозвал в сторону Аню Снежкову.
– Анечка, – сказал он ей. – Илья хороший человек, но малость нескладный. Чумогонство не терпит рассеянности. Даже слишком собранные натуры, застёгнутые и замотанные до глаз, и то иногда ошибаются. А он за всё хватается голыми руками, колбы путает, пенсне у него вечно болтается на шнурке... (здесь я вспомнил вечно не завязанные нижние тесёмки масок моих студентов, елозящие по животу пациента, когда они склонялись над ним для пальпации – А.С.). Присмотрите за этим лохматым хлопчиком!
– Хорошо, Данила Кириллыч, – отвечала Снежкова. – Я-то ведь очень осторожна в работе, промашки нигде никогда не допущу...»
«– Вымыл, вымыл руки! Ну что вы ко мне все пристаете? Хотите, ещё раз пойду помою, пожалуйста!»
«...Полный противочумный костюм включает прорезиненный комбинезон под белым халатом, резиновые сапоги и резиновые перчатки, очки-«консервы» и ватно-марлевую повязку, закрывающую половину лица. Последнее, что видят умирающие в бараке – закрытые масками лица санитаров и холодный блеск очков, за которыми не видно глаз... Аня снимала перчатки, чтобы тёплыми ладонями пожать умирающему холодеющие руки. Снимала маску, низко склонялась к койке, шептала слова утешения. Она старалась быть осторожной, аккуратно проходила дезинфекцию... Нет, она не рисковала попусту – просто делала своё дело, помогала людям. Помогала чем могла. Так она проработала месяц. Уже начался февраль, и эпидемия уже шла на убыль, когда Аня закашлялась и увидела на платке пятна крови...
В больнице за ней ухаживал Илья. Сидел рядом, поил горячим чаем и бульоном с ложечки, читал ей какие-то книги, рассказывал про своих мать, сестёр, про своего Петьку... Товарищи просили Илью быть осторожнее – но разве можно осторожничать, когда умирает любимая?»
Пытались отстранить его от ухода за Аней, но Илья настоял на своём с какой-то совершенно несвойственной ему решительностью и резкостью.
«– Это уже какая-то дискриминация! – разбушевался он. – Я буду жаловаться Даниилу Кирилловичу! Специально приехал на эпидемию из Петербурга за чёрт знает сколько вёрст, а меня не допускают к больным! Мне трижды делали прививки, могу подтвердить справками, если не верите. И никакой особой опасности решительно нет. А вы подумали о том, какое тяжёлое впечатление произведет на Аню, если она увидит, что я боюсь к ней подойти?!»
«...Илья Мамонтов сидел у окна, неловко зажав под мышкой градусник, и что-то рисовал на морозном стекле.
– Вот не везет! Такой день, а я простудился, – смущённо пробасил он, стараясь не смотреть на нас.
Термометр показал 37,4. Лёгкий жар, слабость, кашель – в самом деле это могла быть и простуда.
– На анализ! – велел ему Заболотный...
Первый анализ – чисто. Второй – чисто. Третий. Четвёртый.
– Продолжайте и дальше, – настоял профессор...
Десятый анализ. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый.
– Всё чисто, – сказал лаборант. – Никакой чумы.
– Хорошо, – повеселел Заболотный. – Ради моего успокоения, голубчик, сделайте четырнадцатый, и на этом закончим...
Четырнадцатый анализ был ужасен.
– Ну, что вы молчите? – спросил Данила Кириллович.
– Кишмя кишит... гляньте сами!
...Заболотный принес Илье несколько вялых тюльпанов. Где, как нашел он их в охваченном болезнью городе?
– Отдайте их лучше Анечке!
– У Ани уже есть цветы...
Товарищи так и не сказали Илье, что Аня умерла накануне, и цветы положили к ней в гроб…»
На день влюблённых, о котором они тогда... знали?
В палате чумного барака Илья писал письмо маме. Раньше всё не получалось написать подробно, некогда было. А сейчас вдруг оказалось немного свободного времени...
«Дорогая мама, заболел какой-то ерундой, но так как на чуме ничем, кроме чумы, не заболевают, то это, стало быть, чума. Милая мамочка, мне страшно обидно, что это доставит тебе огорчение, но ничего не поделаешь, я не виноват в этом, так как все меры, обещанные дома, я исполнял.
Честное слово, что с моей стороны не было нисколько желания порисоваться или порисковать. Наоборот, мне казалось, что нет ничего лучше жизни, но из желания сохранить её я не мог бежать от опасности, которой подвержены все, и стало быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения служебного долга. И, как это тебе ни тяжело, нужно же признаться, что жизнь отдельного человека – ничто перед жизнью общественной, а для будущего счастия человечества ведь нужны же жертвы.
Я глубоко верю, что это счастье наступит, и если бы не заболел чумой, уверен, что мог бы жизнь свою прожить честно и сделать всё, на что хватило бы сил, для общественной пользы. Мне жалко, может быть, что я так мало поработал, но я надеюсь и уверен, что теперь будет много работников, которые отдадут всё, что имеют, для общего счастья и, если потребуется, не пожалеют личной жизни. Жалко только, если гибнут даром, без дела. Я надеюсь, что сёстры будут такими работниками.
Я представляю счастье, каким была бы для меня работа с ними, но раз не выходит, что поделаешь… Жизнь теперь – это борьба за будущее… Надо верить, что всё это недаром, и люди добьются, хотя бы и путем многих страданий, настоящего человеческого существования на земле, такого прекрасного, что за одно представление о нём можно отдать всё, что есть личного, и самую жизнь.
Ну, мама, прощай… Позаботься о моем Петьке!
Целую всех. Хочу еще написать Саше и Маше, что ещё, конечно, успею.
Твой Иля».
Он успел дописать его и спрятал в тумбочку возле кровати, прежде чем болезнь помутила ему сознание.
Илья не знал, что это письмо навеки останется в истории медицины рядом с телеграммой Деминского – телеграммой, которая будет отправлена через год: «Труп мой вскройте как случай экспериментального заражения человека от сусликов...» И не думал Илья, конечно, ни о каком месте в истории. «Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славой жить...» Впрочем, эти стихи тоже ещё не были написаны.
А если бы знал он про свою посмертную славу, то без сомнения променял бы её на жизнь. А ещё вернее – на жизнь Ани.
Илья умер в вечерних сумерках 15 февраля.
Из русской противочумной организации от чумы погибли 39 человек. Из них 2 врача, 2 студента, 4 фельдшера, 1 сестра милосердия, 30 санитаров. Всего же по Манчжурии за время эпидемии погибли 942 медика. Вечная им память. И вечная слава их подвигу, совершённому во имя «будущего счастия человечества», о котором мечтал, умирая, так и не доучившийся студент Илья Мамонтов.
Андрей Сницарь.
Использованные материалы: Г. Голубев «Заболотный», В. Пикуль «Письмо студента Мамонтова», Л. Позднякова «Рассказ о любви и чуме».
|
Метки: божьев александр божьев гавана Нью-Йорк Вашингтон Бостон Чикаго Хьюстон солт-лейк-сити парк родина |
ГЛАВА 2493. 11 марта 2021 ГОДА. 70 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Производство ЧИП-ов. Что можно сварить из любви? АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Может ли Россия сейчас закрыться ото всех и жить нормально, имея свои газ, нефть и продукты как было в СССР
Владимир Сильченко


Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему ее сыновья решили жить в Соединенных Штатах.
Она объяснила, что старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале, а младший занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают сотрудники из России, Японии и других стран.
"Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито", — сказала Малышева в интервью для Teleprogramma.pro.
К ВОЗРОЖДЕНИЮ СОЦИАЛИЗМА!
Владимир Сильченко


Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему ее сыновья решили жить в Соединенных Штатах.
Она объяснила, что старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале, а младший занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают сотрудники из России, Японии и других стран.
"Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито", — сказала Малышева в интервью для Teleprogramma.pro.
К ВОЗРОЖДЕНИЮ СОЦИАЛИЗМА!
![]() Вложение: 13402557_vestnik.doc
Вложение: 13402557_vestnik.doc
|
Метки: божьев александр божьев чипы производство нефть газ ссср рф социализм капитализм поколение |
ГЛАВА 2492. 10 марта 2021 ГОДА. 69 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Варианты всегда есть. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

"Хорошие времена - хорошие люди,
Плохие времена - плохие люди", - Шилов (Ментовские войны).

Легкость бытия: минимум треть носителей SARS-Cov-2 не замечают болезни.
Почти 75% людей с положительным результатом теста на COVID-19 и без симптомов так и остаются статистически «здоровыми»
Ольга Коленцова, Анна Урманцева
УДАЧЛИВАЯ ТРЕТЬ
Переболел и не заметил
Зарубежные ученые выяснили, что минимум треть людей переносят COVID-19 без симптомов. Такой результат дал анализ итогов тестов на антитела. Согласно другим методам расчета, основанных на опросах, число «здоровых» зараженных составляет от половины до двух третей от всех инфицированных. По сведениям российских экспертов, около 70–80% людей входят в категорию переносящих COVID-19 или без симптомов, или очень легко — настолько, что они не замечают признаков заражения или не приписывают их коронавирусу. Проблема в том, что эти «бессимптомники», не соблюдая санитарные меры, скорее всего, заражают окружающих.
Удачливая треть
В конце октября прошлого года глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что COVID-19 протекает без симптомов примерно у половины заболевших в Москве. На протяжении января 2021 года в сводках по количеству больных в России называлась доля не имевших симптомы людей в среднем 10–13%.
Статистика относит человека к бессимптомным больным, если он не имел признаков COVID-19 во время проведения ПЦР-тестирования. Однако ученые из Научно-исследовательского института Скриппса (США) уточнили, что, если на момент тестирования у человека нет симптомов, это не значит, что они не разовьются позже. Для понимания более точного количества бессимптомных на протяжении всего периода болезни носителей вируса ученые нашли и проанализировали исследования, включавшие в себя результаты ПЦР-тестов и тестов на антитела зараженных COVID-19. Важную информацию несло отслеживание дальнейшей истории болезни протестированных людей.
Ковидная личность: людей разделили на 16 типов по реакции на пандемию
Категоризация позволит точнее прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом
В ходе анализа научных работ авторы фиксировали количество участников исследований, положительные результаты тестов, число людей, не имевших симптомов во время проведения теста и длительное время после него. Всего для анализа была взята 61 работа. Взятые исследования проводились в странах Европы, городах США, Китае и некоторых южноамериканских государствах.
Сначала исследователи выявили людей, не имевших симптомов на момент проведения ПЦР-теста, однако зараженных COVID-19. 40–70% таких людей не приобретали симптомов и в дальнейшем (разброс полученных результатов обусловлен разными выборками по странам).
Также авторы изучили результаты анализов на антитела и здоровье людей, сдавших их. Примерно треть людей, имевших антитела IgG к COVID-19, не сообщали ни о каких признаках болезни. Конечно, надо учесть, что антитела имеют не все переболевшие. Причина может быть в ложно-отрицательном результате теста или отсутствии специфической реакции иммунитета. Однако, по мнению авторов, это наиболее достоверная оценка, так как специфические антитела появляются уже после того, как болезнь отступила, следовательно, в дальнейшем симптомы COVID-19 у человека уже не появятся.
На основе проведенного исследования ученые сделали вывод, что доля бессимптомных носителей коронавируса составляет «по крайней мере одну треть» от всех случаев.
Переболел и не заметил
Конечно, восприятие симптомов — вещь субъективная. Если один человек не заметит небольшую усталость, слабость в мышцах или спишет это на недосып, другой в качестве симптома COVID-19 учтет малейшее ухудшение самочувствия, которое может быть вызвано сменой погоды.
Редкое обоняние: потеря запахов при COVID усиливает иммунный ответ
В носу много клеток, с которыми связывается коронавирус, что вызывает активацию лимфоцитов и более сильную выработку антител
— К бессимптомным больным статистика зачастую относит и тех, кто переносит COVID-19 легко, — отметил директор Центра Genetico Артур Исаев. — Людей из этих двух категорий, по нашим данным, около 70–80%. Что касается проверки этого количества по тестам на антитела, здесь есть нюанс. Если человек переболел без симптомов или легко, это может значить, что организм справился с инфекцией на ранней стадии, и антитела для борьбы не понадобились. Поэтому такой тест не дает точного показателя по числу бессимптомных и даже легко переболевших. Согласно нашим локальным опросам, перенесли COVID-19 без всяких признаков болезни 20–30% людей, что довольно близко к результатам, полученным авторами работы.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100»), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал «Известиям», что уже проведена масса исследований в разных странах, включая Россию, по проверке антител против SARS-CoV-2 у населения в целом. И доля имеющих антитела примерно в 10 раз выше числа официально переболевших. Это доказывает, что «бессимптомников» как минимум очень много.
Богоявленский, Божьев, Михайлов, Постников:
"Особенности обеспечения медицинской помощи при массовых поражениях"

Погода сегодня - 10 марта 2021 года.
Продолжаются морозы - на весну так не похоже...
Усадьба Узкое. Москва.
Анатолий Постников


|
Метки: божьев александр божьев ковид времена люди болезнь число коронавирус симптомы статистика учёные неучёные результаты авторы ответ антитела |
ГЛАВА 2491. 9 марта 2021 ГОДА. 68 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Спутник V, по данным на сегодня, ни болезнь Паркинсона, поражений сердца не даёт. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
gor Sokolov
Аденовирусные вакцины, последствия и пути доставки вектора.
Не думал уже писать по аденовирусным вакцинам, но сработал триггер в лице уважаемой
Елена Кадырова
, у которой в ленте в четвертый раз встретил ссылку на интересный пост врача-инфекциониста о безопасности аденовекторных прививок.
Пост в ЖЖ: https://olegusss1.livejournal.com/730.html
Дискуссия ведется и у Елены Кадыровой:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4328347073843162&id=100000037354155
Перечислю основные тезисы публикации в ЖЖ, которые реально могут волновать человека при решении о вакцинации Спутником V, а последний – типичный представитель аденовекторных вакцин:
1. Действие вакцины основано на заражении здоровых клеток организма аденовирусной частицей (вектором), которая заставит клетку производить белок коронавируса, на который и вырабатывается иммунитет. Клетка после этого неизбежно погибнет.
2. В каждой дозе спутника содержится от 50 до 150 миллиардов аденовекторов, погибнет ~100 миллиардов клеток человека от каждой дозы.
3. Вакцина вводится внутримышечно, что, по мнению автора, практически идентично внутривенному введению – заразится и погибнет огромное количество кардиомиоцитов и нейронов (включая Черную субстанцию), на которых есть рецептор для аденовирусов.
4. Это может привести к таким последствиям, как аритмия, дилятационная кардиомиопатия, паркинсонизм, поперечный миелит. Или даже к увеличенной вероятности возникновения ВИЧ инфекции.
Такое на ночь прочтешь - … сновидения будут яркие, но, мягко говоря, беспокойные, с твердым выводом утром: какой Спутник, а вдруг СПИД?
Разбираемся - по п.1 возражениий нет, посыл коллеги верный. Все клетки, которые заразятся аденовирусным вектором, погибнут или путем апоптоза (клетка определит, что она инфицирована и убьет себя сама), или будет уничтожена Т-киллером (он обнаружит ненормальные белки на поверхности и убьет клетку-мутант). Есть и еще несколько альтернативных вариантов смерти, но скорее всего до этого времени зараженные клетки не «дотянут». Итого: зараженные аденовирусом клетки гибнут. Все.
Но на этом этапе есть и позитивная новость. Да, я о генной модификации, онкогенности, трансгенной мутации и т.д. Ну так погибнут же именно те клетки, которые заражены аденовирусом. Какая мутация? Какая онкогенность? При этом я вообще молчу о том, что аденовектор Спутника – это совсем не ленти- или ретровирусы, которые потенциально могут быть онкогенными. Вообще не упоминаю, что геном аденовируса не встраивается в геном клетки, а образует эписомальную ДНК рядом с ДНК хозяина, т.е. никакого мутанта нет в реальности.
https://www.intechopen.com/.../adenoviral-vector-based...
Идем дальше. Все зараженные клетки погибнут, мутаций не будет. Да, скажете вы… Но это гибель 100 млрд. клеток после каждой дозы Спутника…
Это неверное предположение и тут надо остановиться подробнее. Сразу скажу о достаточно известном факте: у взрослого человека примерно 50-70 млрд клеток гибнет каждый день. КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Это примерно 0.1-0,2% всех клеток человека. Но если говорить о динамике поступления вакцины – ну не все же 100 млрд частиц ринутся проникать в клетки одновременно, сметая все на своем пути, это все же будет растянуто по дням и неделям. Не все же 100 млрд достигнут своей индивидуальной цели, кто-то потеряет свои инфекционные свойства, а кого-то иммунная система будет «прибивать» очень эффективно и в больших количествах. Я промолчу, поскольку для пояснения некорректности предположения есть более значимые вещи.
Первое, что хочу сказать - путь введения вектора играет ОГРОМНУЮ роль: внутривенный, внутримышечный, подкожный или интраназальный. Это абсолютно разные вещи, нет никаких «почти тоже самое», о чем говорит автор в ЖЖ. Приведу такой пример: огромное количество исследований выполнено с внутривенным и даже внутриартериальным (в печеночную артерию) введением аденовекторов. При этом (внимание!) дозы для приматов вплоть до 5 триллионов на кг (на кг!) приводили только к ограниченному гепатиту, что нивелировалось уменьшением дозы. И это внутривенно! Значит справляется организм обезьяны с 50-и кратной дозой от человеческой? Да, справляется. И клетки остаются целыми...
А что с внутримышечным и почему собственно внутримышечный способ избран, как нужный для вакцинации?
Первое - БЕЗОПАСНОСТЬ. Эксперименты на макаках показывают, что дозировки в 200 (!) раз превышающие дозу Спутника 3 раза в неделю на протяжении 2-ух месяцев позволяют им оставаться здоровыми. Ну серьезный же аргумент: 200 Спутников 3 раза в неделю в течение 2 месяцев. Много в Спутнике? Как бы мало ни было… Конечно можно говорить, что, например, в Janssen меньше в 2 раза. И то, и другое - допустимые и далеко не высшие дозировки.
Второе – ИММУНОГЕННОСТЬ. Чтобы вакцина сработала, она должна правильным образом подать свой антигенный материал. Он должен пройти некоторые этапы представления нашему организму, без которых... ну не заработает иммунитет. При внутримышечном способе доставки вакцины основные действия разыгрываются ЛОКАЛЬНО, в мышце. Образуется малюсенькое 0.5 мл депо и заражаются окружающие клетки скелетной мускулатуры, фибробласты, макрофаги и дендритные клетки. Вместе с этим ток аденовекторов распространяется лимфогенно в ближайщие лимфатические узелки. Вот вся эта зона и будет генерировать иммунный ответ. Последовательное представление в мышце, ток в лимфатические узлы нужного антигенного материала приводит к правильному ответу организма. Такого ответа не получить внутривенным способом или получить с токсическими дозами.
Получается, что аденовектор не поступает в кровь при внутримышечном введении? Сконцентрирую ваше внимание: именно так, он не поступает в кровь в тех количествах, в котором мы привыкли понимать для лекарств. Динамика будет выглядеть так:
1) 0.5 мл депо в мышце, заражение окружающий клеток, как неиммунных, так и иммунных, которые оттянут на себя первый удар, сделав барьер, но вот тут некоторое количество вируса полетит в кровь. Но вы должны понимать, что в кровь будет сочится по капле из бочки. И кровь - это не "живая" вода для органического материала, там много ферментов, антител и активных клеток иммунитета.
2) зараженные клетки в очаге начнут вырабатывать сигнальные цитокины и хемокины, прибегут множество иммуннокомпетентных клеток (примерно 2-3 часа), образуя свалку воспаления, заражения и презентации антигена, барьер станет железным, и с этого момента (всего 2-3 часа) начнется "поедание" введенной дозы.
3) иммунологически активные клетки потянутся в ближайшие лимфоузлы, захватив с собой вирус и обрабатывая его там по своим правилам.
Говорим ли мы при этом о поступлении вируса в кровь? Строго говоря - да, из очага асептического воспаления какая-то часть попадет, но ни о каком поражении кардиомиоцитов или нейронов говорить не приходится (об этом дальше). А вот в части определения вектора в гепатоцитах (печени), особенно вектором 5 типа, – по модельным животным (где использовалась большая концентрация аденовектора) данные есть, поэтому понятно, о чем предупреждает Гамалея, говоря – осторожно при гепатитах. Доза в Спутнике конечно смехотворная для гепатита, но… отражено должно быть, и это правильно. А боль, температура в месте введения – это как раз иммунная реакция на файбер аденовируса, его нити. Это нормально.
При этом есть же исследования на мышах, хомяках, кроликах и других модельных животных. Им давали внутримышечно дозу аденовектора, такую же, как в Спутнике и … подвергали секции, исследовали все: мозг, сердце, печень, костный мозг, лимфатические узлы и многое другое. Основное место иммунных реакций – место введения, мышца и ближайшая область подкожной клетчатки. Клетки, которые обеспечивают иммунный ответ – дендритные клетки и макрофаги. При этом CAR рецептор, упомянутый в статье (как и неупомянутый RGD)… дендритным клеткам были не нужны, у них другой гепарин-зависимый рецептор связи с аденовекторами. Никто никуда не идет. И все именно так, как и в теории должно быть. А что с той каплей, которая просочилась в кровь? Так на этих же животных и показано, что отсутствуют данные про заражение и сердца, и мозга. Причем независимых исследований много, очень много и при концентрациях... ну во сколько раз мышка меньше человека?..
Да - замечено присутствие аденовекторов в лимфатических узлах кишечника и селезенки, а для 5-типа аденовектора – в печени. В очень незначительных количествах, через 3 месяца – они не определялись. Повторю - и это в человеческих дозах для мышки или кролика.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4009923/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777703/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17319743/
https://gut.bmj.com/content/48/5/733
А теперь трезво посмотрим на 100 млрд аденовекторных частиц. Почему 100, а не 200 или 1 миллиард? Потому что это принятая и понятная в иммунологии доза векторов при внутримышечном введении, которая вызывает иммунный ответ ПРЕЖДЕ, чем будет убита иммунитетом, оставаясь глубоко безопасной для человека. Сделаем меньше – не сработает, больше – можно, но ограниченно растут риски, не надо.
Иными словами - это то депо, которое работает несколько дней в мышце, поддерживая "знакомство" с шипом коронавируса. И, заканчивая дело о "гибели" 100 млрд клеток, и как мы видим - это локальное действие в мышце: учитывая тот факт, что в месте введения не возникает дефекта ткани, разумно предположить, что динамика гибели небольшая, поскольку успевают регенеративные процессы. Ну ведь это так. И большую часть из введенных векторов все же иммунитет прикончит.
Что касается дилятационной кардиомиопатии и угрозы Паркинсона. Вопрос простой – как туда попадет вектор? Из капли? Хорошо (но сомнительно, что долетит), попал - но он же не размножается, а нужна инфицирующая доза. В экспериментах, чтобы подтвердить это явление, аденовектор вводят прямо в перикардиальную сумку... и нет кардиомиопатии. Прямо в перикард. Исследователи берут модельные животные, извините, режут их на кусочки, и в каждом органе определяют методом ПЦР концентрацию генома аденовектора на разных сроках. При этом, в сердце и мозге не только при внутримышечном, а при внутривенном введении их не обнаруживают. Тропонины, упомянутые в статье, здесь просто излишни. Но (!) Можно ли абсолютно уверенно утверждать, что капля из бочки, ее единственная молекула не ударит туда, куда никто не рассчитывал? Нет, нельзя. Прививка все же всегда остается прививкой. Как, принципиально, любой медикамент...
Далее, внимательно знакомимся со статьями, которые в публикации в ЖЖ являются значимыми и основаниями для подтверждения выводов (я их все нашел в Pubmed):
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9036860/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2871380/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10077520/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24291282/
В первой ссылке показывается, что CAR-рецептор действительно является рецептором для аденовирусов. Это давно известный факт, и не только он. Вторая: ограниченная 17 пациентами наблюдения работа по Коксаки вирусу (он тут при чем?). В третьей прослеживали связь миокардита неизвестной этиологии с аденовирусной инфекцией: у 12 из 94 обнаружили аденовирус 2 типа (какое это отношение имеет к вакцинации нереплицирующимся вектором 26 и 5 типа?). Последняя работа вообще посвящена модулирующему эффекту CAR рецептора в сердце на аритмию при ишемии миокарда. Я с уважением отношусь к научным публикациям…, но если они по теме, и на этом основании можно сделать какие-то выводы.
Хорошо, а что говорит по Паркинсону научный обзор? А он говорит о способах лечения болезни Паркинсона с помощью векторов разного типа, в том числе и аденовирусного. Я бегло просмотрел много литературы также по Черной субстанции, которая упоминается в обзоре ЖЖ (поражение нейронов которой часто вызывают болезнь Паркинсона). Она… не содежит CAR-рецептора и трудноуязвима для аденовируса…
https://www.cell.com/.../fulltext/S1525-0016(16)39290-5
Тем не менее, ряд утверждений по единичным случаям того же поперечного миелита (на миллионы вакцинированных) заслуживают уважения. Надо понять, связаны они или нет с аденовекторной вакциной. Или тот же синдром Гийена-Барре. Но это очень и очень редкие осложнения.
И хочу еще одно добавить: конечно, на любую прививку могут быть осложнения. Неожиданные. Но их надо изучать, понимать, сопоставлять с известными фактами, предыдущими нарушениями, особенно аутоиммунной природы. А говорить: в сердце CAR-рецептор и у многих будет кардиомиопатия... Неправильно хотя бы потому, что этому не соответствуют текущие исследования, нет подтверждающих данных от вакцинированных, а тактика предположения на будущее... Ох много можно придумать... основы, работы, данные нужны.
По ВИЧ уже не буду комментировать. Там такая запутанная история, что уже ничего непонятно. И, скорее всего, заражения просто нет. Но. Если кто-то занимает активную гомосексуальную позицию и так же активно ведет беспорядочную половую жизнь, то вакцина аденовектора 5 типа может в некоторых ситациях (предварительное инфицирование аденовирусом) увеличить риск передачи ВИЧ инфекции между партнерами.
https://www.thelancet.com/.../PIIS0140-6736(20.../fulltext
Вместо заключения:
Спим спокойно, Спутник V, по данным на сегодня, ни болезнь Паркинсона, ни поражений сердца в широкой практике не даст. Гораздо важнее - вопросы защиты от различных штаммов, было бы великолепно, если бы институт Гамалеи провел такие исследования.
Записки Айтишника
108 311 подписчиков
Что будет если Россию отключат от Интернета?
Слухи про отключение нашей страны от мирового Интернета витают уже давным-давно.
Не будем тут касаться какой либо политики, обсудим лишь техническую часть и то, что мы потеряем если вдруг это произойдет.
Различного рода эксперты считают что такой сценарий маловероятен, но все же, думаю многим будет интересно.
Начнем сразу с минусов:
— Мы лишимся доступа к популярным сайтам и социальным сетям: AliExpress,Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Google, Youtube, Википедии и другим;
— Не будут работать все популярные мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber;
— Работа различных умных устройств для дома (датчики, камеры), которые используют сервера за рубежом будет невозможна. Как и некоторого промышленного оборудования. В общем, всего того, что используют сервера не на территории нашей страны;
— Будет невозможно получать обновления Windows, Android, iOs и все других программ, разработчики которых находятся за границей;
— Мы не узнаем что творится за рубежом. Единственный способ — принять какое-нибудь радио, но лично у меня в AM диапазоне «ловится» только какое-то китайское радио;
— Связь с друзьями и родственники за рубежом будет возможна как в старые времена, приходишь на главпочтамт, заказываешь звонок и ждешь. Или же вообще будет невозможно, ведь телефония сейчас работает через Интернет.
Ну или обычной почтой.
— Естественно возможность заказа чего-либо из за рубежа будет, но стоимость будет огромной;
— Перестанут работать платежные системы Visa, MasterCard, но у нас уже есть свой родной «Мир».
Перейдем к плюсам:
Первое время будет туго, но мы ко всему привыкаем.
— Появятся свои сайты — аналоги Инстаграмов, Твиттеров, ТикТоков. Яндекс Эфир будет вместо Ютуба.
— Появятся новые национальные мессенджеры. Возможно это будет ICQ (да, она еще работает и просто прекрасна во всем) или же Яндекс Мессенджер;
— Со временем заработает часть устройств, которые не могли работать без зарубежных серверов. Если конечно их удастся нашим программистам «хакнуть» и будет экономическая выгода;
— Начнется разработка национальных операционных систем взамен Windows и Android.
Конечно это займет длительное время и возможно если страну вновь подключат, то все это дело свернут;
— Различные мошенники и спамеры исчезнут как класс — если все сервера будут принадлежать нашей стране, то вычислить звонок или атаку будет проще простого;
— Станет больше программистов и технических специалистов. Ведь многие сейчас живут в РФ и работают на другие страны;
— Возможно будут смотреть в сторону производства на территории нашей страны различных гаджетов и компьютеров;
Ну что? Пофантазировали и ладно.
Конечно никто ничего не отключит, эта ситуация, повторюсь, крайне нереальна. Но представить нам никто не запрещает.
|
Метки: божьев александр божьев вакцина |
ГЛАВА 2490. 8 марта 2021 ГОДА. 67 ДЕНЬ 2021 ГОДА. С началом Весны и надеждами. Праздник 8 марта! Группы крови. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |


ЖЕНЩИНАМ К 8 МАРТА
Анатолий Постников
Милые Девушки, чудные Дамы,
Мы каждый день восхищаемся Вами:
Вашей походкой, улыбкой, глазами,
Очень высокими каблучками,
Вашими нежными голосами,
Вашими цепкими ноготками,
Вашими острыми язычками,
И золотыми такими руками,
Вашим весёлым отзывчивым нравом,
Тем, что на Вас не бывает управы,
Тем, что затейницы Вы на забавы,
Тем, что всегда Вы бываете правы…
Словом есть веские в жизни причины,
Чтоб обожали Вас Ваши мужчины!
Есть только миг... Играет и поёт Александр Божьев
Слушай во Вложение: 13402381_igraet_i_poyot_aleksandr_bozhev.docx
! ! !
2 часа назад, источник: Lenta.Ru
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что прирост заболевших COVID-19 в стране, который достиг уровня 60−70 тыcяч человек в день, является неприемлемым и вызывает опасения. Об этом сообщает CBS.
COVID-19: новые случаи за 90 дней
По словам специалиста, он обеспокоен тем, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах начало выходить на плато после «очень резкого» спада за последние полторы недели.
«Выход на плато на уровне от 60 до 70 тысяч новых случаев в день — это неприемлемый уровень. Это действительно очень высоко», — сказал Фаучи.
Инфекционист добавил, что власти будут и дальше полагаться на массовую вакцинацию и рекомендованные ограничения в борьбе с пандемией.
Русская Семёрка
196 895 подписчиков
Какая группа крови среди русских самая распространенная
Кровь – идентифицирующий показатель личности, который передается от отца к ребенку и не изменяется на протяжении всей жизни. Группы крови считаются древнее расы и национальности человека. По мнению ученых, главным отличием между всеми людьми, считается как раз не цвет кожи или этническое происхождение, а кровь.
Состав крови изменялся и формировался на протяжении тысячелетий, что связано со становлением иммунитета человека и его пищеварительной системы. В те времена пищевод человека лучше всего перерабатывал белковую пищу (в основном). Эта особенность повлияла на то, что теперь у людей с первой группой крови повышенная кислотность желудка, и они чаще других страдают язвенной болезнью.
Со временем, когда численность населения стала увеличиваться, люди стали включать в свой рацион растительную пищу, так как мяса в нужном количестве не было. Употребление растительной пищи отразилось на составе крови, и поэтому возникли еще три другие группы крови. Новые группы наделили людей полезными качествами. Так люди с геном А – считаются самыми приспособленными к жизни в современных условиях. Этот ген ранее был гарантией выживания человека во время таких эпидемий как холера, чума. Кроме того, люди с данным геном более спокойны, прагматичны, дисциплинированны, они легко находят общий язык с людьми, поэтому и чувствуют себя более комфортно.
Наиболее распространенной в мире является первая группа крови. Первая группа крови была обнаружена у 45% населения земли. А самой редко встречающейся считается четвертая группа. В России, кстати, первая положительная группа крови также является самой распространенной. А это означает, что россияне – это целеустремленная, дисциплинированная, стремящаяся к лидерству, физически выносливая нация. Именно по этому, в России много выдающихся спортсменов, политических лидеров и т. д.
Первая группа крови считается универсальной, так как подходит для переливания (в ней не содержится антигенов). Вторая группа крови может переливаться только людям с второй и четвертой группой, так как в ней содержаться антигены. Третья группа соответственно может переливаться только людям с третьей или четвертой группой, а четвертая – только людям с четвертой, главное правильно выбрать резус. А вот переливать четвертую, вторую и третью группы крови, человеку с первой – категорически нельзя.
Если редкой – четвертая отрицательная.
Русская Семёрка
196 895 подписчиков
Какая группа крови среди русских самая распространенная
262 тыс. дочитываний
1,5 мин.
Кровь – идентифицирующий показатель личности, который передается от отца к ребенку и не изменяется на протяжении всей жизни. Группы крови считаются древнее расы и национальности человека. По мнению ученых, главным отличием между всеми людьми, считается как раз не цвет кожи или этническое происхождение, а кровь.
Состав крови изменялся и формировался на протяжении тысячелетий, что связано со становлением иммунитета человека и его пищеварительной системы. В те времена пищевод человека лучше всего перерабатывал белковую пищу (в основном). Эта особенность повлияла на то, что теперь у людей с первой группой крови повышенная кислотность желудка, и они чаще других страдают язвенной болезнью.
Со временем, когда численность населения стала увеличиваться, люди стали включать в свой рацион растительную пищу, так как мяса в нужном количестве не было. Употребление растительной пищи отразилось на составе крови, и поэтому возникли еще три другие группы крови. Новые группы наделили людей полезными качествами. Так люди с геном А – считаются самыми приспособленными к жизни в современных условиях. Этот ген ранее был гарантией выживания человека во время таких эпидемий как холера, чума. Кроме того, люди с данным геном более спокойны, прагматичны, дисциплинированны, они легко находят общий язык с людьми, поэтому и чувствуют себя более комфортно.
Наиболее распространенной в мире является первая группа крови. Первая группа крови была обнаружена у 45% населения земли. А самой редко встречающейся считается четвертая группа. В России, кстати, первая положительная группа крови также является самой распространенной. А это означает, что россияне – это целеустремленная, дисциплинированная, стремящаяся к лидерству, физически выносливая нация. Именно по этому, в России много выдающихся спортсменов, политических лидеров и т. д.
Первая группа крови считается универсальной, так как подходит для переливания (в ней не содержится антигенов). Вторая группа крови может переливаться только людям с второй и четвертой группой, так как в ней содержаться антигены. Третья группа соответственно может переливаться только людям с третьей или четвертой группой, а четвертая – только людям с четвертой, главное правильно выбрать резус. А вот переливать четвертую, вторую и третью группы крови, человеку с первой – категорически нельзя.
Если учитывать не только группу, но резус - фактор, то самой распространенной в мире является первая положительная группа, а самая редкой – четвертая отрицательная.
Не пропустите новые публикацииРусская Семёрка
2996 нравится
|
Метки: божьев александр божьев кровь |
ГЛАВА 2489. 7 марта 2021 ГОДА. 66 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Бойся козла спереди, коня - сзади, дурака - со всех сторон. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Погода сегодня 7 марта 2021 года


Доказана связь COVID-19 с группой крови.
РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.
По мере того, как исследователи во всем мире работают над выявлением факторов риска тяжелой формы COVID-19, появляется все больше доказательств того, что определенные группы крови могут быть связаны с повышенным риском заражения этим заболеванием. Новое исследование подробно описывает одно из первых лабораторных исследований в этой области.
Ученые-медики из больницы Brigham and Women's в Бостоне проанализировали, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения.
После того как авторы оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках и красных кровяных тельцах у людей с I, II и III группами крови, выяснилось, что RBD имеет сильное предпочтение для связывания с респираторными клетками людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови.
Респираторные клетки — это клетки эпителия, который выстилает стенки легочных альвеол, и именно через них осуществляется газообмен.

|
Метки: божьев александр божьев |
ГЛАВА 2488. 4 марта 2021 ГОДА. 63 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Общество специалистов доказательной медицины. Пониженная температура тела. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
«Душа должна в науке быть тверда,
Там страх не должен подавать совета,
Ведь истина не может быть скромна,
Как свет», – так МАРКС писал об этом.
(1818-1883)
Анатолий Постников
см. Вложение: 13401916_1_14_04__2020_smert_i_ozhivlenie_kniga_2020_s_muz.docx
Подводя итоги: антиковидная плазма
• Инфекционные болезни
• Вирусология
Общество специалистов доказательной медицины
https://www.facebook.com/osdm.org/
26.02.21 JAMA опубликовал систематический обзор с мета-анализом 10 рандомизированных испытаний (РКИ) реконвалесцентной плазмы при COVID-19.
Всего в обзор было включено 1060 пациентов из 4 РКИ, опубликованных в рецензируемых журналах, и из 6 других РКИ (5 препринтов и 1 пресс-релиз).
Исследование показало, что лечение реконвалесцентной плазмой по сравнению с плацебо или стандартным лечением не влияет на риск смерти от всех причин (относительный риск 0,93 [95% ДИ, 0,63-1,38] для 4 рецензируемых РКИ и 1,02 [95% ДИ, 0,92-1,12 для всех 10 РКИ]).
Также между пациентами, получавшими антиковидную плазму, и теми, кто получал плацебо/стандартное лечение, не было различий в других клинических исходах, включая продолжительность пребывания в стационаре, использование ИВЛ и клиническое улучшение или ухудшение.
Между тем переливания плазмы чреваты осложнениями, включая фебрильные реакции, реакции с ознобом, аллергические реакции, передачу инфекции (ВИЧ, гепатит) и др.
Предыдущие материалы по теме:
29.01.2021: В Москве исследуют применение плазмы вакцинированных от коронавируса в лечении больных
19.01.2021: Симон Мацкеплишвили о возможности применения плазмы вакцинированных
10.01.2021: https://rg.ru/2021/01/10/reg-cfo/sobianin-bolee-10-tysiach-moskvichej-sdali-plazmu-dlia-bolnyh-koronavirusom.html
Ссылка на оригинал: https://www.facebook.com/osdm.org/posts/4501288936553974
О чём говорит пониженная температура тела?
В эпоху пандемии коронавируса появился новый тренд — регулярное измерение температуры тела. Если с повышенной температурой тела всё более или менее понятно, то пониженная температура тела вызывает массу вопросов и ненужных страхов.
Есть устоявшееся мнение, что температура тела в норме – 36,6. Однако на самом деле нормальный диапазон температуры здорового человека находится в пределах от 35,8 и до 37,2. Это нормальное среднесуточное колебание температуры тела. Утром температура пониженная, к вечеру может подняться на 0,5-1 градус. Однократное выявление температуры 35,8 и ниже без каких-либо неприятных симптомов не является патологией. Это может быть связано с обычной усталостью и временным упадком сил.
Снижение температуры тела ниже 35,8 на протяжении длительного времени необходимо уже расценивать как проблему и обращаться к врачу для выяснения причин такого состояния, особенно если низкая температура тела сопровождается длительной слабостью, упадком сил, постоянной сонливостью, ощущением холода, дрожи. Температура 35,0 говорит о серьёзном переохлаждении организма. Это повод для вызова скорой помощи и срочного лечения.
Каковы наиболее частые причины длительного понижения температуры тела?
Как наиболее актуальная и частая причина на сегодняшний день – это период восстановления после коронавирусной инфекции. Это вирус крайне необычный и отличается широким разнообразием клинической картины. Острая фаза заболевания может протекать как с повышенной, так и с пониженной температурой. После выздоровления также может сохраняться температурный хвост не менее месяца.
У реконвалесцентов после ковидной инфекции отмечается стойкое повышение температуры тела до – 37,2-37,3, стойкое понижение до 35,5-35,6 или выраженные колебания в течение суток. Это нормально. Если эти явления сохраняются больше 4 х недель после выздоровления и сопровождаются вялостью, адинамией, зябкостью и другими симптомами, то лучше обратиться к врачу и исключить другие причины пониженной температуры тела, которые могли появиться в результате инфекции или существовали ранее в скрытой форме.
Стойкое понижение температуры тела бывает при сахарном диабете, печёночной недостаточности, острой и хронической алкогольной интоксикации, при заболевании центральной нервной системы. Низкая температура тела, зябкость и адинамия может быть единственным симптомом болезни Паркинсона, а характерное дрожание может полностью отсутствовать. Низкая температура тела может быть следствием инсульта.
Пониженная температура тела чаще всего бывает связана с низким уровнем гемоглобина – малокровием и снижением функции щитовидной железы. Часто встречается на фоне постоянного приёма таких лекарств, как антидепрессанты, нейролептики и В-адреноблокаторы.
Если пониженная температура тела не связана с патологическими процессами, то для поднятия температуры и общего тонуса рекомендованы умеренные физические нагрузки, полноценный отдых и добавление острых специй в пищу, при отсутствии патологии желудочно-кишечного тракта. Острая пища помогает активизировать процессы термогенеза и повысить температуру тела здорового организма.
![]() Вложение: 13401916_1_14_04__2020_smert_i_ozhivlenie_kniga_2020_s_muz.docx
Вложение: 13401916_1_14_04__2020_smert_i_ozhivlenie_kniga_2020_s_muz.docx
|
|
ГЛАВА 2487. 3 марта 2021 ГОДА. 62 ДЕНЬ 2021 ГОДА. У каждого своя доля на везение. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Глазьев:
Запад 25 лет жил безбедно за счет России, теперь этому приходит конец.
По мнению академика РАН Сергея Глазьева, в условиях глобального передела планеты и падения таких центров силы, как США и Европа, у России появляется шанс стать одним из лидеров мирового развития. Об этом он рассказал на съезде Общества «Царьград».
Развал СССР и полная утрата экономического суверенитета превратили страну в сырьевой придаток западных стран. Ситуацию усугубляли огромный отток капитала и утечка специалистов за рубеж. Это обогатило европейскую и американскую экономики, но поставил на грань выживания отечественную.
После краха Советского Союза США и Евросоюз сумели безбедно прожить ещё четверть столетия – считает академик.
С 2009 года мир вступил в фазу смены циклов системного накопления капитала. Каждая такая смена экономических циклов чревата военными и экономическими конфликтами за сферы влияния, и в этих условиях развитие былых мировых гегемонов (США и Европа) замедляется, а набирающие силу периферийные центры (Юго-Восточная Азия, Китай и Россия) могут совершить технологический рывок и претендовать таким образом на мировое лидерство.
Такие центры, по мнению академика, развивая иные институты, применяя новые организационные формы хозяйствования и опираясь на технологические усовершенствования, способны совершить настоящий рывок в экономике.
Россия должна лишь использовать инструменты и собственный потенциал, успев поймать момент. Уверен, что мы можем это сделать – надо лишь сменить принципы экономического развития
– полагает Сергей Глазьев.
Источник: topcor.ru
|
Метки: божьев александр божьев запад планета сила капитал рубеж экономика лидерство инструменты потенциал развитие |
ГЛАВА 2486. 2 марта 2021 ГОДА. 61 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Оптимизация. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Производство ...

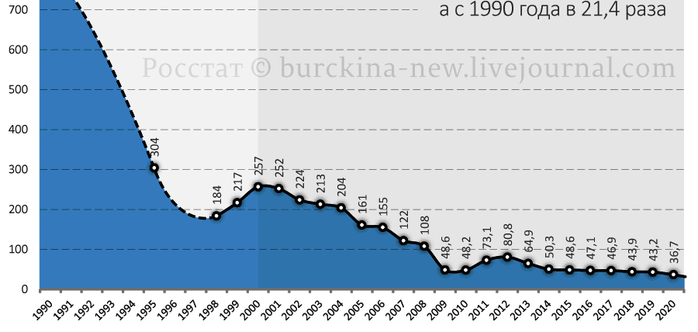
Из трудовой книжки А.А.Божьева

Москва.1960 год.
Студент первого курса лечебного факультета 2 Московского медицинского института А.А.Божьев
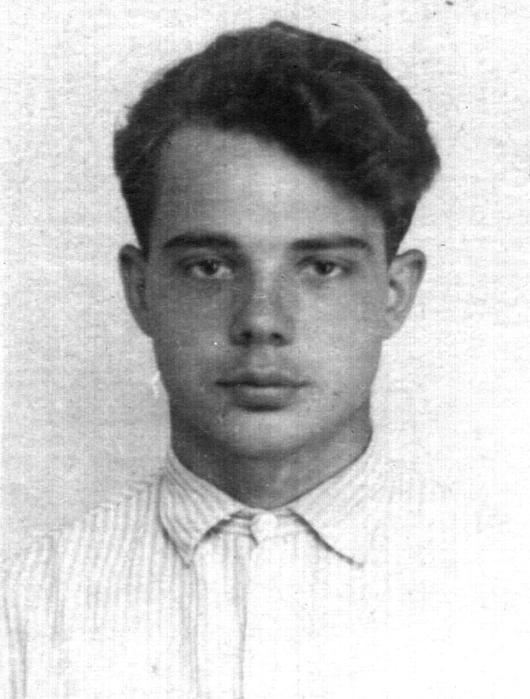
1960 - 1970 гг. - учёба во 2-м Московском Медицинском институте и Аспирантуре Академии медицинских наук СССР.
Божьев А.А. и соавторы. Искусственное кровообращение в реаниматологии.

См. Вложение: 13401760_28_04_20_napechatano_kniga_2020.pdf

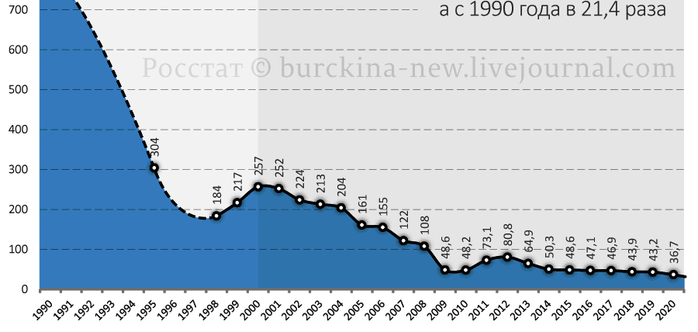
Из трудовой книжки А.А.Божьева

Москва.1960 год.
Студент первого курса лечебного факультета 2 Московского медицинского института А.А.Божьев
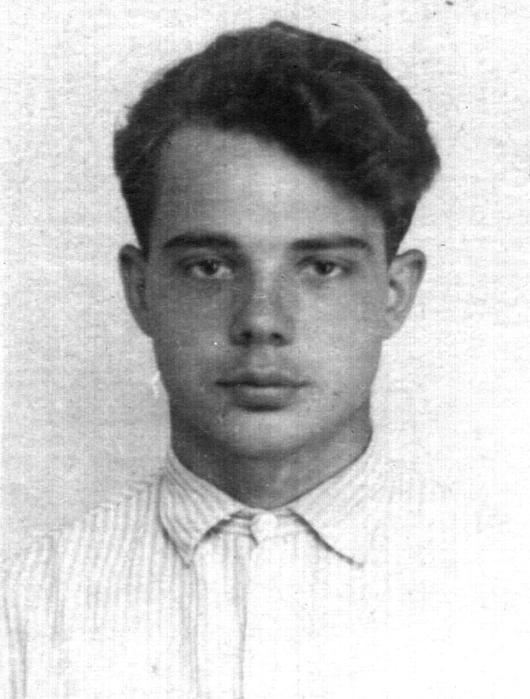
1960 - 1970 гг. - учёба во 2-м Московском Медицинском институте и Аспирантуре Академии медицинских наук СССР.
Божьев А.А. и соавторы. Искусственное кровообращение в реаниматологии.

См. Вложение: 13401760_28_04_20_napechatano_kniga_2020.pdf

|
Метки: божьев александр божьев оптимизация подшибники книжка ММИ врач аспирант реанимация реаниматология лёгкие ковид факультет институт |
Понравилось: 1 пользователю
ГЛАВА 2485. 1 марта 2021 ГОДА. 60 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Уроки, которые мы получаем, и выводы, которые не делаем… АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
Как частота пульса влияет на продолжительность жизни
Irina Ctyurova
В Китае по пульсу ставят диагноз. В России ему придают значение только, когда он отклоняется от нормы. Но оказывается, частота пульса напрямую влияет на продолжительность жизни. Об этом говорят известные врачи.
Какой пульс действительно нормальный?
Врач-кардиолог, профессор, проректор по региональному развитию и заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий Васюк говорит, что всегда считалось нормой иметь пульс от 60 до 80 ударов в минуту. Однако последние исследования показали, что у здоровых людей пульс должен быть 55-60 ударов в минуту. Все, что выше или ниже приводит к риску образования сердечно-сосудистых заболеваний.
Именно между ударами сердца (диастола) происходит приток крови от 90 до 95 процентов. Кровь приносит кислород. Чем длиннее диастола, тем больше кислорода получает сердце. У гипертоников сердце стучит быстрее, ему приходится качать кровь в суженные артерии. Орган страдает от нехватки кислорода, развивается гипертрофия мышцы сердца. Однако и слишком длинной диастола быть не должна. Это тоже плохо для сердечной деятельности.
Нормы частоты пульса на сегодняшний день изменились — нормальным считается 55-60 ударов в минуту.
Сердце запрограммировано?
По мнению некоторых ученых сердце каждого человека запрограммировано на определенное количество ударов. Поэтому, 55-70 ударов в минуту – это хорошо, а все, что свыше — плохо. Что уже доказано, так это то, что при гипертонии нельзя допускать увеличения ЧСС.
Ученые пришли к выводу, что при ишемической болезни сердца пульс должен быть меньше 70 уд/мин., при артериальной гипертонии и хронической сердечной недостаточности — меньше 80 уд/мин. Если сердце бьется чаще, повышается риск осложнений и смерти.
75 ударов в минуту сокращают жизнь вдвое
Специалисты из Гетеборгского университета опубликовали результаты своих исследований в журнале Open Heart. Они пришли к выводу, что частота пульса 75 ударов в минуту повышает риск ранней смерти в два раза от любого заболевания, не обязательно сердечно-сосудистых. Чем меньше ударов в минуту в рамках нормы, тем это благоприятнее сказывается на продолжительности жизни.
Причем с возрастом норма меняется. Если у людей в возрасте от 40 до 50 лет нормальный пульс от 65 до 90 ударов в минуту, то у лиц, старше 50 лет – от 55 до 90.
При любом отклонении от нормального пульса необходимо обратиться к врачу для обследования и выявления причины.
Найти причину и привести пульс в порядок.
Какая-то странная в книге история реаниматологии.
Полностью проигнорирована роль русских и советских учёных, являвшихся основоположниками реаниматологии, - Александр Божьев.
См.
также Библиографию " В.А.Неговский "
и Вложение: 13401730_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf
Книга опубликована в рамках издательской программы Политехнического музея и входит в серию «Книги Политеха».
«Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни»
Прогресс в медицине трансформировал не только нашу жизнь, но и смерть. Уход из жизни сегодня мало напоминает то, как это происходило всего пару десятков лет назад, не говоря уже о прошлых столетиях. Поменялся список распространенных причин, изменился процесс умирания, стали другими места, где смерть настигает нас чаще всего. Мы имеем дело с совершенно иной экологией и экономикой смерти, а также с другим отношением к неизбежному — способами говорить о смерти и отношением к умершим. В книге «Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни» (издательство «Альпина нон-фикшн»), переведенной на русский язык Марией Смирновой, доктор Хайдер Варрайч дает широкую панораму смерти, начиная описанием процесса умирания клеток и заканчивая разговором о том, как мы делимся историями о смерти, а также рассказывает, какой путь прошла медицина, чтобы сделать смерть такой, какой мы знаем ее сегодня. N + 1 предлагает своим читателям ознакомиться с отрывком, посвященным истории сердечно-легочной реанимации.
Книга опубликована в рамках издательской программы Политехнического музея и входит в серию «Книги Политеха».
Еще не так давно никакой сердечно-легочной реанимации не существовало. Позже, в 1940-х и даже на протяжении большей части 1950-х, тем пациентам, чье сердце останавливалось, полагалось вскрывать грудную клетку и проводить прямой массаж сердца рукой в перчатке. Другим примитивным и неэффективным методом была инъекция препаратов непосредственно в сердце. Если не вдаваться в подробности, можно выделить два типа остановки сердца. В случае фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии нормальное сокращение сердца прекращается и оно начинает быстро дрожать, не обеспечивая никакого полноценного кровотока. Мозг, орган, наиболее зависимый от постоянного притока несущей кислород крови, может получить необратимые повреждения спустя всего мгновения после остановки сердца. Второй тип, асистолия, состоит в том, что сердце просто полностью останавливается, а кардиограмма зловещим образом превращается в ту самую пугающую всех прямую линию. Электромеханическая диссоциация — это подлая двоюродная сестра асистолии, при которой у пациента без заметного сокращения сердечной мышцы и с полным отсутствием пульса на ЭКГ обманчиво видна нормальная активность.
Принципы проведения современной СЛР начали формироваться при спасении утопающих. Самое раннее сообщение об удачной реанимации имеется в тексте Ветхого Завета: пророк Елисей подошел к мертвому ребенку «и поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка». В 1740 году Французская академия наук первой признала дыхание рот в рот допустимым способом оказания помощи утопающим. После долгого периода, когда этот прием использовался с ошибками, основы современного подхода к реанимации рот в рот заложил Петер Сафар, венский врач, выучившийся на хирурга в Йеле, а потом на анестезиолога в Пенсильванском университете. В эксперименте, который сегодня, безусловно, ни за что не был бы одобрен комиссией по научной этике, он взял восемьдесят молодых волонтеров, в основном женщин двадцати — тридцати лет, усыпил их с помощью анестезии и проанализировал, какое положение тела в наименьшей степени ведет к обструкции дыхательных путей. Он пришел к выводу, что лучший способ облегчить дыхание — это положить человека на спину с запрокинутой назад головой. Тем самым он опроверг господствовавшее прежде представление, что задыхающегося человека надо класть на живот. Создание аппаратов вроде «железных легких», которые можно было использовать для обеспечения поступления кислорода в легкие (то есть искусственной вентиляции легких), впервые позволило нам справляться с ситуациями, когда отказывала одна из основных систем организма — дыхательная.
Одновременно с прогрессом в оказании помощи в поддержании дыхания на людей постепенно начали распространяться отработанные на животных навыки запуска остановившегося сердца. Существует два способа реанимировать сердце — механический и электрический. Сердце больше любого другого нашего органа напоминает электромашину. Электрические сигналы, генерируемые встроенным кардиостимулятором организма, который называется синусовым узлом, упорядоченно распространяются сначала через меньшие верхние камеры — предсердия, а затем в могучие желудочки, которые при активации прогоняют кровь по всему организму. В случае фибрилляции желудочков электрическая активность сердца становится совершенно беспорядочной, поскольку больше не контролируется синусовым узлом. Вместо того чтобы мощно сокращаться, желудочки лишь слабо подрагивают и фактически перестают функционировать.
Первый известный нам случай использования электрического удара для «перезагрузки» нормального ритма сердца датируется 1774 годом; соответствующее сообщение было озаглавлено «Электричество возвращает к жизни». Трехлетняя София Гринхилл выпала из окна в лондонском Сохо, была доставлена в местный госпиталь и признана там мертвой. Через двадцать минут после этого некий мистер Сквайрс начал стимулировать электричеством различные части ее тела; после подачи разряда на грудную клетку девочка начала дышать и у нее вновь появился пульс. Тем не менее этот случай не был достаточно точно задокументирован и до недавнего времени оставался полностью забытым. Следующий шаг на этом пути был сделан только в 1899 году, когда швейцарские ученые, экспериментируя на собачьих сердцах, заметили, что слабые электрические импульсы иногда вызывают фибрилляцию желудочков, в то время как более сильные разряды, как ни странно, способны прекращать такую злокачественную аритмию.
Однако впервые электричество было успешно применено на людях лишь в 1947 году. Хирурги из города Кливленд завершали рядовую операцию, когда внезапно заметили, что давление у их четырнадцатилетнего пациента упало до нижнего допустимого предела и началась фибрилляция желудочков. Врачи немедленно заново вскрыли ему грудную клетку, начав прямой массаж сердца и сделав необходимые уколы. После примерно 35 минут подобных манипуляций мальчик продолжал оставаться все в том же состоянии. Именно в этот момент один из хирургов разместил электроды с двух сторон сердца и подал электрический разряд. В Кливленде уже пробовали это делать с пятью предыдущими пациентами, но ни один из них не выжил. На этот раз сердце тоже лишь продолжало дрожать. Врачи вновь подали напряжение, и тут сердце полностью остановилось. Однако спустя несколько мгновений они заметили «слабые, регулярные и достаточно частые сокращения сердечной мышцы». Врачи продолжили проводить прямой массаж сердца еще в течение получаса, и в конечном итоге мальчик вышел из больницы живым и здоровым.
Пол Золл, врач, имя которого носит кардиологическое отделение больницы, где я был ординатором, первым продемонстрировал эффективность дефибрилляторов, которые просто прикладываются к коже пациента, без вскрытия грудной клетки. В серии публикаций в The New England Journal of Medicine за 1956 год он изложил целый алгоритм восстановления работы остановившегося сердца. Важно, что удары током помогают лишь при фибрилляции желудочков и не приносят никакой пользы при асистолии или электромеханической диссоциации, на которые приходится две трети случаев остановки сердца. Современные дефибрилляторы позволяют не тратить время на раздумья, автоматически сообщая своему оператору, уместна ли в данном случае электрическая стимуляция или нет.
Несмотря на всю свою сложность, сердце выполняет только одну функцию — перекачивание крови. Соответственно, третьим и последним принципом проведения сердечнолегочной реанимации после нагнетания воздуха и электрических ударов является сдавливание. Мориц Шифф был итальянским физиологом, жившим во Флоренции, и именно ему приписывают первые успехи в разработке искусственного кровообращения. Отчет о его работе, опубликованный в 1874 году посетившим его доктором Хейком, не только содержит интересные подробности о его экспериментах, но и отражает восприятие жестокого обращения с животными в конце XIX века.
В самом начале Хейк пишет:
В последнее время некоторые плохо проинформированные лица пробудили большой интерес к лаборатории профессора Шиффа, начав против нее судебное разбирательство. Однако позже процесс был прерван, а все обвинения в жестоком обращении с животными, выдвинутые против уважаемого профессора, были признаны основанными исключительно на невежественных слухах.
После помещения животного под наркоз и обездвиживания его сердца хлороформом, Шифф начинал с некой периодичностью сжимать сердце рукой до тех пор, пока «орган полностью не возобновлял свою спонтанную активность». Продемонстрировав возможность восстанавливать работу сердца, Шифф, как ни странно, воздерживался от возвращения подопытного животного к жизни. После того как у него восстанавливались некоторые неврологические функции вроде роговичного рефлекса, Шифф прекращал работать рукой: «Животное теперь может прийти в сознание, однако доводить эксперимент до этой стадии было бы одновременно и жестоко, и бессмысленно».
В 1878 году немецкий профессор Рудольф Бём, работавший на территории современной Эстонии, вызывал у кошки остановку сердца с помощью хлороформа, а затем до получаса периодически сдавливал ее грудную клетку с боков, пока животное не возвращалось к жизни. Такая форма «закрытого массажа сердца», прообраза современной сердечно-легочной реанимации, позднее была заменена на прямой массаж сердца с открытой грудной клеткой, который был впервые опробован на человеке в 1898 году французским хирургом Теодором Тюффье. Он проводил рутинный осмотр своего 24 летнего пациента, у которого за пять дней до того удалили аппендикс. Внезапно пациент перестал реагировать на внешние раздражители и у него пропал пульс. Тюффье быстро вскрыл ему грудную клетку и стал сжимать его сердце пальцами. Несмотря на то что пульс на некоторое время восстановился, пациент, в конце концов, умер. По причине своего более инвазивного и прямого характера открытый массаж сердца приобрел огромную популярность и считался предпочтительным видом лечения для пациентов с остановкой сердца, особенно для тех, кому не могла помочь дефибрилляция.
Лишь в 1960 году в статье, опубликованной в The Journal of the American Medical Association Уильямом Кувенховеном, Джеймсом Джудом и Гаем Никербокером из университета Джонса Хопкинса, все три столпа современной сердечно-легочной реанимации — вентиляция, внешняя дефибрилляция и сдавливание грудной клетки — были объединены в единую процедуру. Это основополагающее достижение впоследствии оказалось одним из поворотных моментов современной медицины. Совсем скоро тысячи и тысячи работников здравоохранения по всему миру начали учиться проводить сердечнолегочную реанимацию. На сегодняшний день СЛР является, пожалуй, одной из наиболее заметных в массовой культуре медицинских реалий, уступая по популярности разве что приему Геймлиха.
Возникновение современной реанимации стало кульминацией работы, проводившейся на протяжении сотен лет на разных континентах, и изменило наше восприятие смерти. Во многих отношениях такие методики возвращения к жизни ставили под сомнение предположение, что смерть является чем-то окончательным и абсолютным. До наступления эпохи реанимации одним из самых надежных способов вернуть к жизни человека, который выглядит мертвым (например, утопленника), считалось вдувание табачного дыма в его прямую кишку. В Британии этот прием получил такое широкое распространение, что был официально одобрен Королевским обществом спасания на водах, а табачные клизмы для реанимации утопленников развешивались вдоль берегов Темзы, подобно тому как в наше время в общественных местах устанавливают дефибрилляторы. Подобная практика сохранялась в странах Запада на протяжении значительной части XIX века. В связи со всем этим статья Кувенховена, Джуда и Никербокера, впервые объединившая в 1960 году все составляющие реанимации — воздух, электричество и сдавливание, изменила не просто неотложную медицинскую помощь, но само окончание жизни для большинства людей. Даже в самых горячечных мечтах ее авторы едва ли могли вообразить, какие последствия будет иметь их исследование.
Понимание важности СЛР быстро распространилось по миру. 1960-е годы были также эпохой больших перемен и для всей медицинской системы. Именно тогда возникли службы скорой помощи с особыми автомобилями и бригадами специально обученных парамедиков. Это нововведение значительно облегчило пациентам доступ к системе здравоохранения. Тогда же расширился и спектр возможных процедур и анализов, вследствие чего врачи стали перебираться из своих отдельных кабинетов и небольших клиник в крупные больницы, уводя за собой пациентов. Успехи в борьбе с такими важнейшими причинами смерти, как инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания, позволили продлять людям жизнь. Однако по мере того, как медицина становилась все более искусной в сохранении жизни после инфаркта, общее количество пациентов-сердечников многократно возрастало. У многих таких пациентов развивались хронические заболевания вроде сердечной недостаточности. По мере старения населения росла также и заболеваемость раком, увеличивая, таким образом, число людей, которым требовалась интенсивная терапия. Экспоненциальный рост числа больных, а также всего того, чем врачи хотели и могли их лечить, привел к возникновению современного медико-промышленного комплекса.
Искусственная вентиляция легких была впервые разработана для лечения болезни, которая сейчас находится на грани исчезновения. Полиомиелит — это вирусное заболевание, способное вызывать паралич. Эта болезнь поразила не только американского президента Франклина Делано Рузвельта; на пике своего распространения в 1950-х годах она стала причиной 21000 случаев паралича в год в одних только Соединенных Штатах. Паралич при полиомиелите начинается с ног, однако в тяжелых случаях он заходит все выше и в итоге приводит к отказу мышц, задействованных в дыхании. Только представьте себя тысячи детей, которые задыхаются, но при этом находятся в полном сознании. Единственным способом помочь было подключение их к аппарату искусственной вентиляции легких, скажем к железному легкому. Это устройство, изобретенное в 1929 году двумя гарвардскими учеными, Филипом Дринкером и Луи Шоу, представляло собой камеру цилиндрической формы, в которую помещался пациент. Железное легкое помогало людям дышать благодаря созданию вне тела пониженного давления, которое заставляло расширяться грудную клетку и легкие. Тем не менее этот аппарат не идеально подходил для больных, парализованных из за полиомиелита, поскольку мышцы их грудной клетки были слишком слабы, чтобы среагировать на пониженное давление, созданное железным легким.
Скандинавия особенно сильно пострадала от эпидемии полиомиелита 1949–1950-х годов. Больные дети со всей Дании были переведены в больницу Блегдам в Копенгагене. Несмотря на применение железных легких, почти 85 процентов детей, страдающих от затруднения дыхания в результате полиомиелита, в итоге умирали. Отчаянно пытаясь улучшить прогноз для своих юных пациентов, старший анестезиолог больницы Бьерн Ибсен придумал новый способ помочь им дышать — при помощи аппарата, который более точно имитировал работу дыхательной системы человека.
Для того чтобы воздух вошел в легкие, тело создает пониженное давление прямо внутри них. Учитывая это, Ибсен создал трубку с препятствующей утечке воздуха надувной манжетой; эта трубка вставлялась в горло через отверстие в передней части шеи (оно называется трахеостомой). Трубка создавала в легких пониженное давление, способствуя всасыванию воздуха и, соответственно, доставке кислорода. Это стало первым того, что сейчас представляет собой современный аппарат искусственной вентиляции легких. Ибсену не хватало только одного — способности подобных машин работать без перерыва. Чтобы преодолеть этот недостаток, нужен был человек, который дежурил бы у кровати пациента и вручную качал особый насос. Для 75 больных полиомиелитом, которые постоянно нуждались в искусственной вентиляции легких, требовалось около 250 сменявших друг друга студентов-медиков. Это изобретение, описанное Ибсеном в The British Medical Journal, вскоре начало использоваться по всему миру и стало стандартным способом борьбы с затруднениями дыхания в отделениях интенсивной терапии. С созданием в 1960-е годы единой методики СЛР и распространением прикроватных кардиомониторов современная реанимационная палата была готова к своему звездному часу.
Подробнее читайте:
Варрайч, Х. Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни / Хайдер Варрайч ; Пер. с англ. [Марии Смирновой] — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 414 с. — (Серия «Книги Политеха»)
К Вложению:
13401730_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf
А.А. Божьев, А.А. Постников, С.Д. Теребов, С.Е. Хорошилов
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Московский государственный университет печати
А.А. Божьев, А.А. Постников,
С.Д. Теребов, С.Е. Хорошилов
Трансфузионная помощь
на догоспитальном этапе
и при чрезвычайных ситуациях
( электронно-цифровой вариант)
Москва
2008
УДК 616.15:361.862
ББК 68.9
Т65
Рецензенты:
И.В. Молчанов, руководитель Кафедры анестезиологии
и реаниматологии Российской Академии медицинского
последипломного образования Минздравсоцразвития России,
профессор, доктор медицинских наук;
А.О. Гаврилов, директор НИИ гравитационной хирургии крови
Российской академии медицинских наук,
профессор, доктор медицинских наук
А.А. Божьев, А.А. Постников, С.Д. Теребов, С.Е. Хорошилов
Т65 Трансфузионная помощь на догоспитальном этапе и при чрезвычайных ситуациях: / А.А. Божьев, А.А. Постников, С.Д. Теребов, С.Е. Хорошилов; Моск. гос. ун-т печати. — М.: МГУП, 2008. — 110 с.
ISBN 978-5-8122-0941-4
От своевременности и правильности оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе зависит жизнь и здоровье большинства постра-давших при стихийных бедствиях, антропогенных катастрофах и террористических актах. Эффективность помощи зависит от четкого представления о тех трудностях и типичных ошибках, которые имеют место в процессе оказания помощи этой категории пострадавших. Даны рекомендации по оказанию инфузионно-трансфузионной помощи пострадавшим с тяжелыми сочетанными травмами с преобладанием шока и массивной кровопотери.
У пострадавших с синдромом сдавления и различными токсикозами в дополнение к традиционным методам лечения может быть применен один из новых методов трансфузионной терапии — плазмаферез.
УДК 616.15:361.862
ББК 68.9
ISBN 978-5-8122-0941-4 ©
Божьев А.А.,
Постников А.А.,
Теребов С.Д.,
Хорошилов С.Е.,
составление, 2008
© Московский государственный
университет печати, 2008
Посвящается памяти военных врачей —
участников Великой Отечестве Войны
1941–1945 годов
и врачей тыла
Жизнь коротка, путь искусства долог,
удобный случай скоропреходящ,
опыт обманчив, суждение трудно.
Поэтому не только сам врач должен употреблять
в дело все, что необходимо, но и больной,
и окружающие, и все внешние обстоятельства
должны способствовать врачу
в его деятельности
Гиппократ, V–IV век до н.э.
«Уроки, которые мы получаем,
и выводы, которые не делаем…»
В.А. Неговский,
академик РАМН, организатор
и первый директор НИИ общей реаниматологии
Российской Академии медицинских наук
В настоящее время одной из важнейших социальных и государственных проблем является снижение необоснованной смертности при чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями, антропогенными катастрофами, террористическими актами. Под не-обоснованной смертностью понимаются смертельные исходы по-страдавших, не получивших своевременную адекватную медицин-скую помощь. На догоспитальном этапе она возникает на месте происшествия или во время транспортировки — из-за отсутствия, запоздалого, ошибочного или неполного оказания медицинской
помощи. На госпитальном этапе причиной ее являются тяжелые осложнения у пострадавших. Необоснованная смертность также обусловлена преждевременным угасанием жизненных сил, функциональных и телесных возможностей вследствие патологического воздействия факторов внешней среды, особенностей экологии, экономики, социальных болезней — алкоголизма, наркомании, токси-комании, дефектов питания и др.
Продолжение см.
Вложение: 13401730_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf
![]() Вложение: 13401730_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf
Вложение: 13401730_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf
|
Метки: божьев александр божьев уроки выводы пульс университет кислород реанимация история жизнь смерть музей принципы лёгкие сердце век тело ISBN |
ГЛАВА 2484. 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА. 59 ДЕНЬ 2021 ГОДА. А пока мы хотим иметь, но не хотим вкладываться, у нас будет все печально. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |
21:43, 28 февраля 2021
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл число россиян с иммунитетом к коронавирусу. Об этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал в интервью «Российской газете».
Горелов отметил, что в России с начала пандемии заразились около 4,2 миллиона человек. Эксперт предложил добавить к этому числу 20-30 процентов тех, кто переболел бессимптомно и не обращался к врачам, а также четыре миллиона тех, кто привился от вируса. Таким образом, по его подсчетам, сейчас у 8-9 миллионов россиян есть иммунитет к коронавирусу, что составляет 5,7-6 процентов от населения страны.
Помимо этого, специалист добавил, что для замедления темпов распространения заболевания необходимо, чтобы защита от вируса сформировалась примерно у 60-70 процентов жителей.
Ранее Горелов заявил, что подъема заболеваемости коронавирусом весной в России не ожидается, однако сезонные колебания числа заразившихся возможны. По словам эпидемиолога, речь не идет о третьей волне, поскольку этот термин используется при новом подъеме инфицирований после снижения уровня заболеваемости до нулевых значений.
Связь, девайсы и просто о жизни
1280 подписчиков
Почему в России не производят смартфоны и компьютеры?
4 тыс. дочитываний
1,5 мин.
Самый популярный вопрос: «Почему в России не производят смартфоны и компьютеры?». И несколько не корректный. Но все-таки давайте порассуждаем на данную тему. Так все-таки, почему нет и не будет на том же уровне, что и в других странах. Например, в том же Китае. И почему нам не стоит ждать таких же брендов, как Microsoft, Apple, Samsung или Xiaomi. Список можете продолжить сами.
На мой взгляд, дело в конкретных людях и в их конкретных решениях, которые были приняты в начале 90-х годов, когда у нас все еще был шанс занять неплохое место, как это сделал тот же Китай. И когда у нас была возможность заявить о себе.
Лично мне часть проблемы представляется очень простой. Люди, рулившие реформами и переменами, очень хотели такой же жизни, как и на «Западе». Но при этом не очень понимали, как этот самый «Запад» пришел к такой жизни?
Нет, конечно, у нас учили историю, учили логически думать и так далее.
Но мне представляется такая вот история. Расскажу весьма утрированно и грубо. Просто передавая общую мысль. Как она мне представляется.
Приехал наш «реформатор» на «Запад», увидел компьютер Apple и подумал «Хочу себе Apple». Сказано — сделано. Обзавелся наш «реформатор» «буржуйским агрегатом». А тот факт, что у нас, со времен СССР, была база для создания того же аналога Apple, нашего «реформатора» не волновала. Вот он, кстати. Наш, советский, Агат, аналог Apple.
То есть, возможности у нас были. Большие или маленькие — это уже другой вопрос. Не было у наших «реформаторов» продвигать «наше, отечественное». Проще и дешевле было привезти с «Запада». Да и преклонение перед «Западом» было.
Собственно, это одна из причин, по которой мы все потеряли.
Конечно, кто-то скажет о не конкурентности, о неповоротливости и прочих вещах. Но давайте будем честны. Серьезные разработки требуют серьезных вложений. В том числе в плане желания людей что-то конкретное покупать и за что-то конкретное платить, во что-то вкладываться.
Да и как-то не комильфо было поддерживать что-то отечественное. Мол, «ТАМ» люди лучше знают. В общем, приоритеты были расставлены и получен вполне закономерный результат.
А теперь немного о Китае. Молодцы китайцы. Сейчас тот же Xiaomi теснит многие смартфоны. Те же мои любимые смартфоны от Samsung. Да, у меня есть вопросы к смартфонам от Xiaomi. Но следует признать, что они довольно не плохи. И вполне могут конкурировать с другими марками и брендами.
А у нас так не будет. До тех пор, пока мы будем хотеть «забугорное». И не будем желать вкладываться в отечественное лет 10-15. Чтобы построить что-то стОящее и свое. Да, это требует денег, времени и грамотного маркетинга. Но приносит хороший результат.
А пока мы хотим иметь, но не хотим вкладываться, у нас, увы, будет все печально. Как-то так.
Комментарии 227
...
|
Метки: божьев александр божьев |











