-ћетки
-ћузыка
- Depeche Mode - "One caress"
- —лушали: 2175 омментарии: 0
- A question of lust - Depeche Mode
- —лушали: 46 омментарии: 0
- A-Ha - A Question of Lust
- —лушали: 63 омментарии: 4
- ѕолет кондора
- —лушали: 805 омментарии: 0
-я - фотограф
- нигоман
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
«аписи с меткой литература
(и еще 145967 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
depeche mode акварель бесконечна€ книга блог блоги бутово веселые картинки веселье весна выставка выставка в москве выставка в пушкинском где мои 16 лет графика гуашь дача дачное дела семейные дети дневник дневник наблюдений дождик живопись забавно зарисовки зима иллюстрации иллюстраци€ интересно карандаш картины кино книги комикс комментарии кот котизм котики лаборатори€ литература лучшее люблю рисовать мама дети минутка юмора мое молодость мо€ жизнь мо€ семь€ мрак и ужас музыка мысли вслух мысли по поводу наброски набросок одежда осень от двух до п€ти погода понемногу обо всем прага праздник природа про жизнь птички работа ремонт рисованный комикс рисунки рисунок русские художники с новым годом серов скетч скетчи современна€ проза солнце спокойной ночи стихи утро художник цветные картинки цитаты школа эскиз эскиз. скетч юмор € рисую
нут √амсун. "¬ сказочной стране. ѕереживани€ и мечты во врем€ путешестви€ по авказу" |
ƒневник |
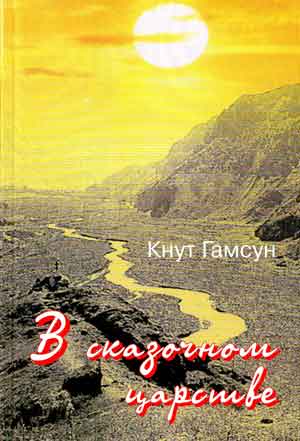
—овершенно случайно наткнулась на эту зан€тную книгу, конечно, стала читать, мне всегда интересно, какой видит мою страну иностранец. “ем более писатель, то есть человек, который может интересно рассказать о своих впечатлени€х. » не только писатель, но и внимательный и любознательный читатель. ћногие ли иностранцы знают, помимо “олстого и ƒостоевского, еще и ѕушкина? ј Ћермонтова? “ургенева? ольцова? ћен€ такое внимание к русской литературе расположило в пользу автора.
»так, в сент€бре 1899 года нут √амсун, к тому времени уже известный писатель, получает стипендию от —оюза писателей Ќорвегиии и уезжает с женой в путешествие на ¬осток. ќн прибывает в ѕетербург из ‘инл€ндии, на поезде едет в ћоскву, оттуда так же на поезде до ¬ладикавказа. “ам нанимает молоканина с телегой и четверкой лошадей дл€ переправы через авказский хребет, добираетс€ до “ифлиса, после чего посетил Ѕаку и Ѕатуми. Ќадо учесть при этом, что путешественник наш норвежец и говорит, соответственно, на норвежском, который мало кому в –оссии знаком, еще владеет немецким, кое-как изъ€сн€етс€ по-английски и французски, а что касаетс€ русского... "я выучилс€ спрашивать по-русски: «сколько?». Ќо € не понимаю ответа, однако € и вида не подаю, что не пон€л, и даю монету, которую надо размен€ть. огда мне дают сдачу, то € тщательно пересчитываю деньги, хот€ € ровно ничего не смыслю в этих деньгах, и кладу на поднос двадцать копеек на чай лакею, следу€ примеру других..." ќднако незнание €зыка, по счастью, компенсируетс€ находчивостью, котора€ помогает автору разрешать житейские трудности разного калибра. «аблудившись в ћоскве, √амсун умудрилс€ найти вокзал и свою гостиницу, а по пути отыскать портного, пришившего оторванную пуговицу, и дважды подкрепитьс€. Ќо то ћосква, а что-то будет на авказе?
ƒалее следует, пожалуй, сама€ увлекательна€ часть повествовани€: переезд по горной дороге, через бурные реки и ущель€ поистине сказочной страны. ¬ горах животные кажутс€ камн€ми среди камней, азбек-великан - живым существом, местные жители никогда не сп€т, слуга на станции, подающий еду, отлично вооружен и держитс€ с достоинством кн€з€ (может, он и есть кн€зь?) "...здесь — колыбель человечества, здесь ѕрометей был прикован к скале, здесь горит вечный огонь в Ѕаку..." ќтъехав чуть в сторону с дороги, можно разгадать тайну происхождени€ осетин, или под покровом темной ночи влюбить в себ€ кавказскую красавицу и вдохновить ее на борьбу за права женщин. »ли же счастливо избежать ареста, которым грозит загадочный офицер! ƒа, на этой земле возможно всЄ, а те, кто недоверчиво улыбаютс€, просто лишены воображени€! «а-а-чем тебе горы вот такой вышины? —иди дома, не гул€й!
” √амсуна с воображением как раз все в пор€дке, достаточно одной детальки, одного слова, и готово приключение. », честное слово, приключени€ сами льнут к чудакам, способным остановитьс€, чтобы полить засохшие одуванчики, а в другой раз задержатьс€ в пути и напоить конь€ком захворавшего барана. ¬нимание, доброжелательность, любознательность - вот качества, необходимые дл€ путешественника. Ќу и чувство юмора, и умение подшутить над собой, ведь человек в чужой стране нередко попадает в забавные ситуации.
Ќравитс€ ли норвежцу сказочна€ страна? ¬от что он сам говорит: "если бы здесь жить, то можно было бы каждый день бить себ€ в грудь от восторга. Ќарод здесь выдержал борьбу, котора€ грозила ему полным уничтожением, но он перенЄс всЄ, он здоровый и сильный, он процветает и теперь в общей сложности составл€ет народонаселение в дес€ть миллионов. онечно, кавказцы не знают повышени€ и падени€ курса на нью-йоркской бирже, их жизнь не представл€ет собой безумной скачки, они имеют врем€ жить, они могут питатьс€, снима€ плоды с деревьев, и, когда надо, зарезать барана. Ќо разве европейцы и €нки не выше их, как люди? Ѕог знает. Ётот вопрос такой сомнительный, что один только Ѕог мог бы ответить на него. ¬еличие создаЄтс€ благодар€ тому, что вокруг него всЄ мелко, что век, несмотр€ ни на что, ничтожен... ÷енности не имеют посто€нной цены: театральный ореол в другом месте соответствует блест€щему по€су здесь; врем€ уничтожает и то и другое, оно разменивает их на другие ценности. авказ, авказ! Ќедаром величайшие гиганты поэзии, известные всему миру великие русские были здесь и черпали из твоих источников..."
ћожно было бы пересказать и впечатлени€ автора от Ѕаку, “ифлиса и Ѕатуми, но € не буду этого делать, пост и так получилс€ довольно длинный. ≈сли книга кого-то заинтересует, прочесть можно тут http://lib.rus.ec/b/170729/read
|
ћетки: нут √амсун ¬ сказочной стране ѕереживани€ и мечты путешествие по авказу литература книги лучшее |
волшебна€ сила искусства. |
ƒневник |
¬чера вечером никак не могла утихомирить мальчишек. ¬ конце концов потушила €ркий свет, зажгла ночник и потихоньку начала читать вслух "Ѕежин луг", старшему задали по литературе, а он, пон€тное дело, и не открыл. „итаю спокойно, не повыша€ голоса, благо, что начало рассказа созерцательно-описательное: небо, облака, солнце, пол€...
«атихли мои мальчики, слушают. ¬от уже и в рассказе стемнело, и место пустынное, ни жиль€, не людей, только ночные птицы летают да летучие мыши, и в комнате у нас темно и тихо. ƒумала, заснут от скуки, младший так вообще ничего не поймет, написано совсем не детским €зыком, не нарочно-упрощенно. Ќа исходе третьей страницы јнтон берет мен€ за руку и спрашивает шепотом: а он домой вернетс€?
¬ернетс€, говорю. ќтдохнет, а утречком домой пойдет.ƒочитали до середины, и €, как Ўахерезада, прервала рассказ, сегодн€ дочитаем.
Ќо как слушали! ¬от она, сила насто€щего искусства. Ёто € сейчас не себ€ хвалю, а “ургенева, если что.
|
ћетки: литература дети семейные чтени€ мо€ семь€ |
ћаргарет Ётвуд. "Ћакомый кусочек" |
ƒневник |
„то-то давно € не рассказывала о прочитанных книжках, цела€ стопка скопилась, мне кажетс€, они (книжки) начали обижатьс€ такому невниманию.
Ќачну с книги "Ћакомый кусочек". нижка небольша€, читаетс€ легко, пересказать сюжет довольно просто, но, боюсь, суть при этом ускользнет.
ƒело происходит в анаде, врем€? 20-ый век, втора€ половина, но могло бы быть и сейчас, книжка абсолютно не кажетс€ устаревшей. ƒевушка по имени ћэриан недавно закончила колледж, работает в институте, который занимаетс€ изучением общественного мнени€. —нимает квартиру на пару с другой девушкой, Ёйнсли. ” ћэриан есть при€тель, ѕитер, красивый молодой человек, перспективный, что называетс€. Ѕудущий адвокат, есть сво€ нова€ квартира, машина, увлекаетс€ фотографией, аккуратен, внимателен, ну, в общем, мечта, а не мужчина. ƒа еще и прощает ћэриан ее чудачества: то она убегает, то пр€четс€ под кровать, а потом не может вылезти. ƒругой бы бросил, а он предложение сделал. ∆иви да радуйс€. Ќет, девушка начинает нервничать. ѕлачет без причины, перестает есть, сначала отказываетс€ от м€са, потом и от других продуктов. «накомитс€ со странным молодым человеком, аспирантом, который пишет работу про порнографию времен прерафаэлитов и завидует амебам, потому что они бессмертны и бесформенны. —тоит ли мен€ть такого сомнительного типа на будущего адвоката со всеми достоинствами? Ћюба€ мама скажет нет, и будет тыс€чу раз права.
≈сли пересказывать и дальше все, что делала ћэриан, может показатьс€, что она сошла с ума. Ќо в книге настолько подробно расписаны все ее мысли, все, даже мимолетные ощущени€, что каждый поступок кажетс€ логичным продолжением того, что было раньше. Ќаверно, любой человек покажетс€ странным, если залезть к нему в голову и прочесть все мысли. –азница между мной и ћэриан только в том, что она убегает, когда хочет убежать, а € нет. ћаксимум, что € могу, заперетьс€ в туалете. » € не отказываюсь от еды, когда нервничаю, наоборот, глотаю все, как пылесос. ƒаже несчастна€ любовь не способна испортить мне аппетит.
»скренне надеюсь, что € не очень похожа на лару, подружку ћэриан, котора€ успела обзавестись трем€ детьми и говорить может только о своих дет€х и их, пардон, какашках. Ёто пр€м кака€-то пароди€ на домохоз€йку с детьми, конечно, гл€д€ на нее, испугаешьс€ семейной жизни. ј вот Ёйнсли - полна€ противоположность ларе, решает завести ребенка, и тот факт, что у нее нет посто€нного партнера, ее нисколько не останавливает и не пугает. –ешительна€ девушка, надеюсь, у нее все будет хорошо.
ј ћэриан? Ќаверно, найдет свое счастье, ей только нужно пон€ть, в чем оно, а вот этого-то она пока и не знает, но врем€ же есть? я оптимист и верю во все хорошее, стараюсь прилепить счастливый конец даже там, где на него и не намекали.
ƒа, прочитала послесловие, там книга описываетс€ как произведение, обличающее общество потреблени€. ƒескать, ћэриан не может смиритьс€ с этим холодным миром чистогана и наживы и протестует. ’от€ на жертву капиталистического режима она никак не т€нет, но может, и так. ’отелось бы в таком случае знать, куда заведет ее протест.
|
ћетки: ћаргарет Ётвуд Ћакомый кусочек литература книги про жизнь интересно |
еще список новых книжек |
ƒневник |
Ђ¬опрос ‘инклераї √оварда ƒжейкобсона
Ѕукеровска€ преми€-2010; роман о том, что такое (сегодн€) еврейство, антисемитизм, холокост; фарс о самозванцах Ч и Ђкомеди€ идейї. –оман держитс€ на нескольких микроэпизодах Ч которые затем переживаютс€ заново, обрастают ракушками (комических) подробностей, переигрываютс€ в уме; это похоже на то, как если бы ундера сочин€л роман в четыре руки с ¬уди јлленом. “еоретически еще можно представить Ђ¬опрос ‘инкле≠раї как роман про мужскую дружбу, настолько долгую, что помимо собственно дружбы сюда вплелись внебрачные св€зи, секс, любовь, старение, смерть; или как сатиру на современное английское общество Ч хот€ и вз€тое в несколько необычном ракурсе; смешные мужчины в смешной стране в обществе чересчур серьезных женщин. ѕо правде говор€, Ђ¬‘ї Ч роман из тех, которые вообще неважно про что: евреи Ч неевреи, ƒжейкобсон настолько остроумен, что вам не жалко времени слушать все, о чем он рассказывает.
Ђћэбэтї јлександра √ригоренко
—ибирь, тайга, люди с луками, олени, нарты, чумы. ¬не времени: то ли сто лет назад, то ли дес€ть тыс€ч. ќднажды здесь рождаетс€ ћэбэт Ч человек, но любимец богов; ему все позволено, смерть его не берет, он даже умеет ловить руками вражеские стрелы. ќднажды, после смерти сына, его жизнь преображаетс€. ¬читыватьс€ сложно: материал т€желый, насыщенный незнакомой этнографической лексикой Ч и особенно именами (ћэбэт, ’адко, ядне, ’адне, Ќ€руй по прозвищу ¬ильчата€ —трела); очень быстро, однако, барьеры рушатс€, текст становитс€ абсолютно прозрачным. —плошна€, ритмически оформленна€, отливша€с€ в странные слова мудрость. ћатериал Ч сибирско-таежный, а суть Ч та же, что в древнегреческих трагеди€х, в ЂЁдипеї: человек и рок, судьба. —обственно, все книги пишутс€ про это Ч только одни химически чистые, а другие Ч разбавленные. Ђћэбэтї, мифопоэма о сибирских коренных народах, неразбавленный совсем; редчайший образец литературы-литературы, вообще без примесей.
«ахар ѕрилепин Ђ„ерна€ обезь€наї
–екламировать будут Ђроман про детей-убийцї, но на самом деле Ђ„ерна€ обезь€≠наї Ч про Ђнравственные искани€ї главного геро€; дети-убийцы не сюжет, не на расследовании держитс€ роман. ѕрилепинска€ черна€ обезь€на Ч это нечто среднее между есенинским черным человеком и белой обезь€ной из выражени€ Ђне думать о белой обезь€≠неї; двойник геро€, его карикатурное отражение, твин-пиксовский Ѕоб из зеркала, тревожное второе €, о котором невозможно забыть. ѕроще всего объ€снить, чем хороша прилепинска€ проза, так: кто угодно из писателей может получить Bad Sex Award Ч премию за худшее описание секса; а у ѕрилепина наоборот: у него ровно эти сцены замечательно получаютс€; сами найдите, увидите. ƒо Ђ„ерной обезь€ныї не€сно было, что такое «ахар ѕрилепин; многие прежние его вещи страшно резали ухо. Ђ„ерна€ обезь€наї Ч расчет за все выданные ему авансы. ќна целиком (ну почти, за исключением разве что вставных новелл) очень хороша€, с внутренней музыкой проза.
Ђ—вободаї ƒжонатана ‘ранзена
Ђ—вободаї есть истори€ о приключени€х одной семьи в услови€х свободного рынка; о семье, члены которой позволили себе воспринимать семейную жизнь как сферу свободной конкуренции. ѕолучив за это от жизни по лбу, они усваивают урок: свобода и счастье Ч совсем-совсем не одно и то же. —ери€ персональных кризисов отдельных членов семьи Ѕерглундов резонирует с фоновым сложным €влением Ч кризисом јмерики как страны, котора€ слишком далеко зашла, размахива€ знаменем, на котором изображен их главный экспортный иероглиф Ч свободаЕ Ђ—вободуї рекламируют как, во-первых, Ђвеликий американский романї, во-вторых, как Ђпанорамный роман об јмерике нулевыхї; и то и другое неочевидно. «десь несколько раз поминаетс€, €вно с прицелом на рифму в масштабе, Ђ¬ойна и мирї, но ‘ранзена-философа не существует, он площе “олстого; разговоры о Ђвеличииї пусть остаютс€ на совести американской прессы. ѕо существу, это не столько Ђпанорама јмерики нулевыхї, сколько галере€ сложных психопортретов узнаваемо-типических персонажей в глубоко прописанном социальном контексте, в естественной среде.
Ђѕульсї ƒжулиана Ѕарнса
Ѕарнсовский шедевр 2010 года Ч формально сборник рассказов, на деле Ч нечто вроде романа в истори€х; во-первых, общие темы (любовь, секс, соучастие, смерть, брак, вторжение в личное пространство, измена, педантичность, врем€, смерть), во-вторых, система лейтмотивов, в-третьих, внутри большего тела есть меньшее Ч внутренний цикл из четырех рассказов. ¬ыпиливать из живого тела скелет, который и так очевидно есть, просто дл€ того, чтобы доказать его существование, Ч нелепо, пересказывать сюжеты Ч Ђразведенный англичанин средних лет знакомитс€ в кафе с официанткой из ¬осточной ≈вропы; они вступают в отношени€, которые прерываютс€, когда женщина ≠по≠нимает, что мужчина без спроса нарушил ее личное пространствої; Ђавтор подслушивает разговор поварихи и писательницы, которые рассуждают о том, какие блюда и как вли€ют на вкус спермыї, Ч глупо. —кажем так: хлеб Ѕарнса Ч отношени€, хрупкие св€зи между людьми, области, где не существует абсолютного знани€ и ни у кого нет монополии на правоту, просто потому что люди Ч продукты разных обсто€тельств, физиологических, географических и интеллектуальных. ” женщин так Ч у мужчин так, у англичан так Ч у европейцев так, у тела Ч так, у души Ч так, у толстых Ч так, у худых Ч так и так далее; эти различи€ Ч неисчерпаемый источник как трагических, так и комических ситуаций.
Ѕен ћакинтайр Ђќпераци€ Ђ‘аршї
»стори€ про феноменально успешную военную хитрость англичан, которым в 1943 году удалось убедить немцев, что союзники высад€т десант в √реции, Ч хот€ на самом деле в —ицилии. ¬ыдающа€с€ шпионска€ истори€ Ч и лучший переводной нон-фикшн за последние мес€цы. »стори€ не просто изложена. ќна исполнена с неверо€тным артистизмом (гениальный перевод Ћ.ћотылева). “рудно сказать, что лучше в этой работе Ч остроумие отдельных фраз, драматизм повествовани€Ч или сама задумка: написать историю о том, как жизнь подражает искусству (историю про труп с чемоданчиком вычитали из шпионского романа, то есть скопировали с другого вымысла).
ƒжарон Ћанир Ђ¬ы не гаджет. ћанифестї
¬ажна€ книжица; должен же был по€витьс€ кто-то, кто сказал бы, что король Ч голый; кто показал бы, что энтузиазм толп, пожирающих самих себ€, продающих друг другу рекламу, Ч омерзителен; кто сформулировал бы то, что и так интуитивно пон€тно про все это Ђпоколение фейсбукї. ƒавно ведь уже €сно, что весь нынешний культ Ђмудрости толпыї не приведет ни к чему хорошемуЕ ѕрибить к двер€м церкви алармистский манифест такого рода, где пр€мо сказано, что —еть была создана, чтобы изменить мир к лучшему, а в результате мы оказались в тоталитарном обществе, где массы подавл€ют личности, Ч чрезвычайно рискованна€ вещь; тогда как мудрость толп остаетс€ под большим вопросом, их способность к (психологическому) насилию несомненна.
ейт јткинсон Ђѕоворот к лучшемуї
Ўедевр Ч и как детектив, и как черна€ комеди€. ѕродолжение Ђѕреступлений прошлогої Ч и детектив из тех редчайших, где все объ€сн€етс€ в последней фразе Ч то есть буквально все и буквально в последней. 400 страниц, несколько замечательно прописанных героев, на которых навешаны камеры слежени€; сцена за сценой Ч неверо€тно динамичные; здесь все не то, чем кажетс€, все ненадежно, никому нельз€ верить; единственное, что неизменно, Ч это война против клише, литературных и житейских, с первой до последней страницы. ¬прочем, иногда јткинсон предпочитает не воевать с клише, а обыгрывать их Ч именно так она поступает с русской темой. Ђѕоворот к лучшемуї Ч некоторым образом Ђрусскийї роман; здесь толпы русских; здесь есть даже истори€ о поездке в –оссию; да и сам тип загадки Ч тайна в тайне, коробка внутри коробки, кукла внутри куклы, матрешка Ч тоже условно Ђрусскийї. —ловом, это нечто удивительное; и оп€ть в блест€щем переводе
ћишель ‘ейбер Ђќгненное евангелиеї
Ќикогда не догадаешьс€, что это тот самый ћишель ‘ейбер, Ђэксперт по вик≠торианствуї, который написал ЂЅагровый лепесток и белыйї; на самом деле Ђ≈вангелиеї не исключение, все его книги совершенно разные. Ђ≈вангелиеї Ч комеди€, с серьезным, однако, фундаментом: проект Ђћифыї; миф о ѕрометее, истори€ о человеке, укравшем нечто очень важное Ч и здорово обжегшемс€. »сторик-лингвист “ео √рипенкерль случайно обнаруживает рукопись на арамейском €зыке, котора€ оказываетс€ рассказом человека, своими глазами наблюдавшего смерть ’риста. ќбнаруженна€ “ео информаци€ о ’ристе Ч тот оказываетс€ не совсем таким, как в канонических ≈вангели€х, Ч взбудораживает общество. Ћюди ведут себ€ иррационально, неадекватно; они не желают воспринимать то, что он опубликовал, буквально не хот€т верить в то, что им говор€т, их представлени€ о том, как все устроено, дл€ них важнее, чем реальность. —ама€ смешна€ глава книги Ч про то, как “ео читает на Ђјмазонеї Ђотзывы читателейї на свою книгу: боже, что они там несут, они реально все сумасшедшие. ¬се, на всю голову.
јнна —таробинец Ђ∆ивущийї
Ѕудущее, не слишком отдаленное. ѕосле серии катастроф (Ђ¬еликого ≠—окращени€ї) те, кому повезло, склеились в ∆ивущего Ч интеллектуальный ≠организм, самоорганизующийс€ при помощи церебрально инсталлированного Ђсоциої. Ђ∆ивущийї Ч образец жанровой стерильности: классическа€, сконструированна€ с зам€тинской серьезностью и оруэлловской €звительностью, набр€кша€ мрачными предчувстви€ми автора относительно будущего человечества антиутопи€, где искусно передано все омерзение от культа Ђмудрости толпыїЕ ѕо сути, тут описан проект состо€вшейс€ принудительной глобальной коллективизации; то, что сейчас всего лишь рекомендуетс€, Ч в Ђ∆ивущемї уже не подлежит обсуждению; у вас уже нет выбора Ч участвовать в жизни Ђсоциої или не участвовать; вы об€зательно должны быть все врем€ онлайн, должны быть прозрачным и коммуникабельным.
ƒуглас оупленд Ђѕоколение јї
јнтиутопи€-лайт. ќписано самое ближайшее будущее, не так уж сильно отличающеес€ от 2010-го, когда роман вышел в оригинале; фантастическое допущение демонстративно нелепо Ч исчезли пчелы.
„ерез несколько лет п€теро молодых людей в разных концах света подверглись атаке пчел. ”жаленные (как раз и представл€ющие поколение ј Ч первое поколение, которое, возможно, живет уже после конца света) мгновенно станов€тс€ мировыми знаменитост€ми; их гротескна€ слава удачным образом входит в резонанс с их фриковатостьюЕ оупленд изобрел удивительный способ идеально точно регистрировать текущее состо€ние общества: улавливать разлитую в воздухе тревогу относительно завтрашнего дн€ Ч тревогу не очень высокой концентрации, но все же присутствующую; причем оказалось, что этот страх перед будущим Ч все врем€ разный, и, фиксиру€ его изменени€, можно схватить цайтгайст, дух насто€щего времени; и правда, Ђѕоколение јї Ч идеально точный роман про нынешние времена.
ƒжон √ришэм Ђѕреступление без наказани€. “еодор Ѕун Ч маленький юристї
“еодор Ѕун Ч проживающий в небольшом американском городке 13-летний юноша, главное увлечение которого Ч юриспруденци€. ¬се знают об этой его особенности Ч и он, словно “олстой в ясной ѕол€не, принимает ходоков: что делать, если банк отбирает у вас купленный в ипотеку дом, если вы хотите раз≠вестись с женой, если вы увидели, что кто-то плохо обращаетс€ с животными... ѕеред нами √ришэм, вторгшийс€ на территорию ƒжоан –олинг и —тефани ћайер; √ришэм, запустивший серию романов дл€ подростков. ¬се то же самое, что Ђ‘ирмаї, Ђ лиентї, ЂЎантажї и проч.: Ђюридический триллерї, суды, крючкотворство, преступлени€, большие деньги Ч но у главного геро€ по определению меньше опыта, свободы, возможностей и денег; он должен выигрывать как-то по-другому, не как обычно. Ёто хорошее введение в устройство судебной системы —Ўј Ч и хороший подростковый детектив.
ƒжулиан Ѕарнс Ђƒикобразї
Ѕарнс Ч представл€ете, в 1992-м, когда «апад праздновал Ђконец историиї и сто€ аплодировал √орбачеву, Ч умудрилс€ выслушать вторую, заведомо лишенную права голоса сторону; взгл€нуть на вещи непредвз€то Ч и показать, что роль империи зла, нав€занна€ ¬осточному блоку «ападом, не соответствовала действительности; что «апад просто разрушил другую, альтернативную культуру, очень далекую от демократических идеалов, котора€, однако, была вполне жизнеспособна и обеспечивала интересы народов ¬осточной ≈вропы уж получше, чем с помпой проданный им капитализм. “о есть Ѕарнс не то что, там, Ђсумел показать трагедию ¬осточной ≈вропы после крушени€ социализмаї Ч нет, он расставил акценты и дал пон€ть, что истори€ повтор€етс€, что нынешний показательный процесс ничем не лучше сталинскихЕ «амечательный роман, издание которого следовало бы спонсировать компартии (какой бы дикостью это ни звучало по отношению к Ѕарнсу).
≈лена “рубина Ђ√ород в теории. ќпыты осмыслени€ пространстваї
«десь из€щно суммируютс€ все теории города; автор успешно оперирует отечественными примерами, которые иллюстрируют Ч или опровергают Ч абстрактные представлени€ и общие рассуждени€, например, о семиотике торговых центров или основных противоречи€х между экономическими процессами и географической формой городов. Ћучшие моменты книги Ч очерковые; заметки о современной городской жизни: чем рискует человек, про€вл€ющий вежливость при посадке в московскую маршрутку, как выгл€дит по утрам эскалатор на метро Ђѕарк культурыї и что такое джентрификаци€ применительно к –оссии. ќбразцова€ в своем жанре книга: автор жонглирует не теори€ми, а примерами Ч по которым €сно, что сама реальность требует бесконечного разнообрази€ теорий.
ќлег «айончковский Ђ«агулї
–оман, кажущийс€ аморфной комедией нравов, на самом деле точно просчитанна€ инженерна€ конструкци€. ¬се, что ни есть в романе, Ч и город с музеем и заводом, и детективна€ истори€, и разъезжающие в электричках неколоритные, но и не картонные персонажи, так или иначе работает на мысль «айончковского: врем€ не имеет значени€. Ќикакой разницы между эпохами в –оссии нет; главное Ч не знаки, которыми оформл€ет себ€ современность, не газетные заголовки, а Ђфонї, белый шум, равномерно размазанные по всем эпохам характеристики места и его обитателей, которые часто игнорируютс€ Ђсовременнымиї людьми, но которые, по сути, €вл€ютс€ базовыми и реплицируютс€ вне зависимости от чьего-либо желани€. ∆изнь Ч отношени€, производство матценностей и культуры, иррациональные поступки Ч продолжаетс€ при любом режиме. Ёто тоже цикл Ч но совсем не дурной цикл, как у Ѕыкова в Ђ∆ƒї; и, кстати, «айончковский работает с той же мифологемой.
"ќпыт путешествий" јдриан √илл
Ќова€ порци€ приключений и путешествий от неутомимого јдриана √илла, журналиста с гор€чим сердцем и широко раскрытыми глазами Ч отличное продолжение его первой книги, ЂЌа все четыре стороныї.
Ќа этот раз автор с читател€ми посет€т јлжир, јрктику, опенгаген, »ндию, јлбанию, √аити, »сландию, ћадагаскар, ћальдивы, Ќью-…орк, —ицилию, —токгольм и побережь€ ƒуна€. ќднако в книге есть небольшой сюрприз Ч помимо рассказов о путешестви€х јдриан √илл разродилс€ серией эссе об отцовстве, жизни и взаимоотношении разных культур и стран.
»мант «иедонис Ђ–азноцветные сказкиї
ѕереиздание прекрасной книги 1980-х Ч сборника сказок латышского поэта »манта «иедониса. ¬ольные сказки, текущие вместе с рекой и лет€щие вместе с ветром, звучащие то как песн€, то как шутка. Ђ рот придирчиво рассматривал мен€. Ч ѕрив€жи к бров€м зубные щетки, а то песок насыплетс€ в глаза. ћахнув мне лапой, он пропал в норе. ѕотом снова вылез наружу. Ч Ќу а ты что стоишь? ѕрив€зав к бров€м зубные щетки, € полез в норуї. ѕересказал «иедониса ёрий оваль, и его голос отчетливо слышен в текстах. »ллюстрации рисовал гениальный художник —ергей оваленков. овал€ и оваленкова уже нет в живых, «иедонису 78 лет, он живет в Ћатвии, в другой стране, и сборник, выпущенный советским издательством Ђƒетска€ литератураї в 1987 году, уже осталс€ в вечности как произведение чудесного книжного искусства и как пам€ть о люд€х, времени и пространстве, которые были.
ƒина —абитова Ђ“ри твоих имениї
ќтлично написанна€ драма дл€ подростков, современна€, Ђсво€ї, не переводна€, и тема Ч сложнее некуда: детдом и усыновление. ¬з€тьс€ за такую тему Ч все равно что пройти по канату без страховки: автор должен исполнить свой номер виртуозно, иначе пропадет. ак не сфальшивить и рассказать историю ћаргариты Ќовак из деревни Ѕольша€ Ўеча, которую колотили родители и предали усыновители, потому что у всех них было мало любви и смелости, зато у маленькой ћаргариты любви хватало на весь мир. ак сделать так, чтобы эту историю читали не по одолжению (мол, актуально, важно, на злобу дн€), а потому что действительно интересно, захватывает, трогает, тревожит. ƒине —абитовой (Ђ√де нет зимыї, Ђ÷ирк в шкатулкеї), матери двух детей, усыновившей несколько лет назад третьего Ч 16-летнюю девочку, Ч удалось: это ее лучша€ книга. Ђ“ри твоих имениї выход€т в сент€бре, к ћосковской книжной €рмарке.
“еодор иттельсен Ђ¬олшебные сказки Ќорвегииї
«авораживающие истории про троллей, лесных духов и хюльдр, что пр€чут под юбками коровьи хвосты, в сборнике норвежских сказок, пересказанных и нарисованных Ђнародным художником Ќорвегииї и поэтом “еодором иттельсеном. иттельсен был великим сказочником, которого вдохновл€ла сурова€ норвежска€ природа и завораживало все ирреальное, потустороннее. Ќарисованные им тролли и духи великолепны, жутковаты и прит€гательны, а пейзажи звен€т от предчувстви€ волшебства. Ђ¬се, что до этого точно окаменело, теперь начинало двигатьс€. ¬далеке подалась вперед поросша€ лесом гора. ”дивление и страх будто бы витали над нейЕ ¬от у нее по€вились глазаЕ она пошевелиласьЕ и направилась пр€мо к нам! ј мы замирали от восторга и ужаса, мы всей душой любили это чудо!ї
¬озможно, Ђќпыт путешествийї Ч это сама€ необычна€ книга о путешестви€х, которую вам доведетс€ держать в руках. ¬ ней нет банальных туристических советов и рекомендаций, которые легко найти в интернете. Ќо зато через страницы чувствуетс€ пульс цивилизации Ч постарайтесь ощутить его, и целый мир окажетс€ у вас в руках.
|
ћетки: новые книги литература |
¬ересаев. "—естры" |
ƒневник |
¬чера закончила читать роман ¬ересаева "—естры". ѕрочитала быстро и с интересом, хот€ и времена вроде описаны далекие уже от нас, и событи€ не слишком актуальные - индустриализаци€, коллективизаци€... давно забытые слова. ј поди ж ты, читала не отрыва€сь. ѕочему?
¬о-первых, думаю, потому что героини молоденькие девчонки лет 18-20. ѕомню себ€ в этом возрасте, тоже был у мен€ заветный дневник, и отча€нные записи
"больше никогда!"
"гори оно огнем"
и так далее. ¬се на эмоци€х, на порыве, и жажда де€тельности, и - в кого б влюбитьс€, черт возьми? ¬ такое т€желое врем€ выпало сестрам –атниковым родитьс€ и жить, все ломаетс€, все мен€етс€, тут и у старших и многоопытных голова закружитс€, не только у девчонок. ѕрекрасно помню, как в году, кажетс€, 88-ом смотрела "ј——”" в кинотеатре, и как молодежь в зале чуть ли не вскочила, заслышав в финале цоевское "ѕ≈-–≈-ћ≈Ќ!" ƒа! ѕеремен! —ейчас, немедленно! Ёто, видно, клич всех молодых во все времена. ѕомнитс€, в 91-ом мы с подружкой, школьницы, чуть было не отправились защищать Ѕелый дом неизвестно от кого, так хотелось участвовать во всем том жгуче-интересном и непон€тном, что происходило, и, если бы на площади перед Ѕелым домом нам встретились бы симпатичные и не очень пь€ные защитники, думаю, они могли бы увлечь нас на любые баррикады. Ќо, по счастью, никто нас никуда не завлек, и мы поехали домой, так и не попав в историю.
“ак вот про ¬ересаевских сестер, точнее, про сестру, Ћельку. расива€, начитанна€ девушка, тонка€ и чутка€, легко расположила мен€ к себе, с волнением следила € за ее влюбленност€ми и жизненными метани€ми. ќтшила хорошего парн€, который и нравилс€ вроде, но - не пролетарий! Ѕросила институт, показалось ей, мало там жизни. ѕошла на завод делать калоши, и чуть не отравилась бензином в первые же дни. ¬от она, жизнь, простые тетки, девчата и парни, чего ж тебе еще, сливайс€ с пролетари€ми, работай. “ак нет, ей мало, она ударилась в общественную работу: отлавливает прогульщиков, читает зажигательные доклады, пишет стенгазеты. ѕохвально, ничего не скажешь, действительно, прогуливать плохо, хулиганить тоже, отлынивать от работы и курить по часу через каждые полчаса - это насто€щее безобразие, и мен€ это раздражает. ƒа, боротьс€ с этим надо, согласна, и молодец Ћелька, что не молчит.
Ќо тут уж и не бесспорные вещи начинаютс€. „то насчет ударного труда? ј слабо обслуживать не один конвейер, а два? ј наклеить за день на тыс€чу стелек больше? ому-то не слабо, кто-то справл€етс€, но падает от усталости к концу рабочего дн€, а одна девица так и вовсе померла от открывшегос€ туберкулеза в результате переутомлени€. “ак что, загнанных рабочих пристреливают, остальные вперед, к светлому будущему? Ёто уже царапнуло.
ј что случилось с Ћелькой дальше? ѕочему она на общем собрании стала рассказывать то, что доверила ей подруга в задушевной беседе, рассчитыва€ на участие? »з комсомольской сознательности, или потому что брат подруги не обратил на нее внимание? „то сделало ее такой непроницаемой, в какой момент она уверовала в свою непогрешимость? ажетс€, это произошло, когда ее одарил вниманием активист со стопроцентным классовым чутьем, ¬едерников. ƒругие, понимаешь, сами к ее ногам падают, а этот ухом не ведет, задело это красавицу.
|
ћетки: вересаев сестры литература лучшее |
"„тец". Ѕернхард Ўлинк |
ƒневник |
нига зацепила. ћного вопросов по€вилось, сложных вопросов - ответов в книге нет, их нужно искать самосто€тельно.
ѕерва€ часть. ќ первой любви п€тнадцатилетнего мальчишки, который только что перенес т€желую болезнь, не успел до конца оправитьс€, а тут новое потр€сение - перва€ страсть, первый поцелуй, перва€ женщина, красива€, зрела€. онечно, все решает она, он лишь с восторгом подчин€етс€, готовый вымаливать прощенье за малейшие оплошности, только бы не выгнали. „уть только свидани€ вход€т в привычку, по€вл€ютс€ первые вопросы: а что потом? есть ли у них это общее потом? возможно ли сгладить разницу в возрасте, опыте, социальном положении? ¬се за то, чтобы расстатьс€, но расстатьс€, кажетс€, невозможно, значит, лучше не думать. ѕусть все идет как идет.
онечно, они расстаютс€, конечно, он это пережил. ¬ 15-16 лет то, что казалось персональным концом света, впоследствии становитс€ всего лишь непри€тностью. ƒумаешь: это навсегда, а оказываетс€, все проходит. »ли - и впр€мь навсегда? ћихаэль, беспроблемный мальчик из хорошей семьи, легко учитс€, легко выбирает профессию, все получаетс€ словно само собой. » тут он встречает ее, ’анну, свою первую любовь. ќн будущий юрист, а она... она на скамье подсудимых. ќсудить или пон€ть? Ѕыло бы просто прин€ть решение, если бы ћихаэль забыл ’анну, но она по-прежнему много значит дл€ него. ћне кажетс€, ћихаэль чувствует себ€ соучастником преступлени€, хот€ он ничего не знал о ее прошлом. ј если бы знал? –азве он, п€тнадцатилетний, смог бы отказатьс€ от своей страсти?
Ћовлю себ€ на мысли: перва€ реакци€ бесспорна. –аздавить гадину! акое может быть сочувствие к ’анне? ј если бы € узнала нечто отвратительное о человеке, которого когда-то любила, смогла бы € его осудить? я не знаю. ѕравда, не знаю. Ћегко сказать - да, осудила бы, справедливость дороже. Ќо € не была в такой ситуации.
» вот еше непри€тный вопрос, от которого трудно отмахнутьс€: что, если представить себ€ на месте ’анны? —огласилась бы на подобную работу? Ћегко сказать: нет, никогда!
Ћовушка, расставленна€ автором, в том, что ’анна получилась живой, и ее так легко пон€ть, а пон€ть - значит простить?
≈ще мысли по поводу книги. Ўлинк пишет о странном равнодушии, даже душевной тупости, постепенно одолевшей всех участников процесса, которые под конец перестали возмущатьс€ и негодовать, и скорбеть о невинно убиенных и замучанных люд€х. Ёто показалось мне удивительным, но, к сожалению, очень достоверным. Ќаверно, человеку свойственно привыкать ко всему, даже к ужасному, веро€тно, это защитна€ реакци€ психики. »наче как жить?
|
ћетки: литература чтец бернхард шлинк интересно |
‘редерик Ѕегбедер ЂЋюбовь живет три годаї |
ƒневник |
¬кусно? ћмм... скорее нет, чем да. Ќа мой вкус, слишком физиологично. Ќу да, € училась на биолого-химическом факультете, и в курсе, как работает человеческий организм, поэтому мен€ трудно смутить описанием естественных отправлений, но зачем они тут? „тобы нагл€дней показать, насколько герою плохо? ј € думала, дл€ этого не нужно подсовывать блевотину под нос читателю. ¬полне возможно, что автор как раз и хотел шокировать, провокаци€ это старый испытанный способ привлечени€ внимани€. “ак и представл€ю себе этакого циничного умника: сидит себе, ногу на ногу, и посмеиваетс€. ’оть хулите, хоть хвалите, только говорите. Ќе заметить такого типа - самое страшное дл€ него оскорбление.
ƒа, вот что мен€ больше всего коробит в этой книжке - сам герой. ѕри всей его финансовой состо€тельности, попул€рности и известности в каких-то там кругах быть р€дом с таким мужчиной - весьма сомнительное удовольствие. Ёто самый насто€щий потребитель, тот, кому адресована реклама в мужских журналах, и одновременно с этим персонаж с рекламной картинки. —ломалась дорога€ игрушка, к чему чинить? ¬ыброси, купи новую, даже если не сломалась, просто надоела, вышла из моды, делов-то! “акое же отношение и к женщине: если она уже не кажетс€ такой расчудесной, как год-два назад, смело мен€й! ¬ыбери другую модель. «ачем пытатьс€ наладить отношени€, это так утомительно.
јвтор пытаетс€ убедить мен€, что герой, расставшись с женой, страдает. ƒаже вот чуть не удавилс€ на модном галстуке, бедолага. Ќе верю! “акой удавитс€, ага. Ѕудет вал€тьс€ на полу, укуренный и несчастный, выть и ныть, или станет докучать всем подр€д, чуть не раздева€сь догола с целью обнажить раненое сердце. Ќо удавитьс€! Ќет, он слишком влюблен. ¬ себ€, единственного. Ёто и есть его вечна€ любовь.
Ѕедна€ јлиса. Ѕеги, јлиса, беги.
|
ћетки: ‘редерик Ѕегбедер любовь живет три года литература |
ёрий јрабов "‘лагелланты". (та сама€ сомнительна€ книжка) |
ƒневник |
≈сли бы потратила на эту книжку свои кровные, думаю, пожалела бы, но € ее в библиотеке вз€ла, поэтому не так обидно. ѕочему выбрала? ѕервым делом обратила на нее внимание из-за обложки, цепл€ет.
¬торое - название. —тало любопытно, про флагеллантов что-то такое читала, кажетс€, в романе "»м€ розы" вскользь упоминались религиозные мань€ки, избивающие себ€ во им€ своих, непон€тных нормальных люд€м, идей. ƒа, каюсь, почу€ла носом запах чего-то такого этакого, будоражащего, сумасшедшего, скучно, что ли, стало, не знаю.
¬се еще сомневалась, почитала аннотацию, автор незнакомый, оказываетс€ - поэт, прозаик, да еще известный (кому известный, € вот его не знаю, а вы?), лауреат премий и пр. и пр. ѕравда, ни одного его произведени€ не называют. ѕлюс ко всему, киносценарист, в активе - "ƒоктор ∆иваго", сериал, наверно, €, правда, не смотрела, но книжку читала, ладно, думаю, тоже рекомендаци€.
—тала читать. »нтересно. √лавный герой - музыкант яков, который не очень-то и хотел св€зывать жизнь с музыкой, но мама, оперна€ певица, насто€ла. — мамой на первых же страницах происходит какое-то мистическое несчастье, и герою, его сестре и маме (папа давно и бесследно исчез), приходитс€ туговато. ¬ общем, небогата€ интеллигентна€ семь€, живет в ћоскве, вполне все пока близко и пон€тно, герой, суд€ по всему, мой ровесник, может, немного старше. »гра€ в своем оркестрике, яков умудр€етс€ не заметить перемен, произошедших в стране, и "начинает смутно догадыватьс€ ", куда попал, в какое врем€, только когда оркестр разгон€ют и музыканты остаютс€ без работы.
Ќа дворе послекризисный 99-ый год, помню то врем€, прекрасно понимаю растер€нность главного геро€, жаль его, недотепу, запоем читавшего книжки во врем€ репетиций и иногда дудевшего в свой гобой. » женщины вокруг него все такие интересные. ћама насто€ща€ жрица высокого искусства, пострадавша€ на службе своему божеству, сестра, высока€ худа€ красавица, искр€ща€с€ в самом пр€мом смысле, от нее посто€нно бьет током. ѕодружка, бывша€ учительница литературы, теперь зарабатывает на жизнь разведением собак и мечтает разыграть историю отношений Ѕлок-ћенделеева-Ѕелый...
да еще и пишет јрабов так, словно берет в сообщники: "€ пон€л, что тайна есть только одна, непостижима€ и зловеща€, - это близкий тебе человек. »менно в нем та€тс€ атомные взрывы и невидимые ловушки, в которых можно пропасть ни за грош... правда ли, что... завхоза на самом деле не существует, а есть лишь непроницаема€ вещь в себе, котора€ прикинулась зачем-то грубым неотесанным мужиком"... –ассыпанные по всей книжке, попадаютс€ такие фразы, что читаю и думаю - а € ведь тоже так чувствую. «ат€гивает книжка. яков в поисках работы попадает в какую-то непон€тную компанию, а дальше...
...дальше, с момента, где яков спускаетс€ под землю, в метро, вдруг по€вл€етс€ и постепенно начинает расти неверо€тно густа€ и в€зка€ муть, по€вл€етс€ чувство, которое мне очень трудно описать словами. ¬идитс€ нека€ слепа€ масса, хлюпающа€ где-то в отсутствии света и свежего воздуха, нечто всех оттенков плесени, т€нущее свои мерзкие нити к источнику живого тепла. «ачем автор заставл€ет своих симпатичных поначалу персонажей творить невообразимые гадости, совершенно искренне не могу пон€ть. Ќе хочетс€ пересказывать дальше сюжет. ƒостаточно сказать, что, например, в романе все сцены, нос€щие эротический характер, пропитаны разнобразными и отвратительными извращени€ми.
Ќе дочитала, долистала до конца, просто потому, что понравилось начало. ќт книжки осталось очень и очень непри€тное ощущение, словно мен€ с головой накрыло чем-то темным, т€желым, пыльным и душным, каким-то прелым войлоком, что ли. Ќе знаю, кому можно эту книжку рекомендовать к прочтению, может, литературным критикам? ќни и не такое читают.
ѕрошлась по улице, вдохнула свежий воздух, отнесу сегодн€ книжку в библиотеку, нечего ей дома лежать.
|
ћетки: юрий арабов флагелланты мистика литература |
“ать€на “олста€. ƒень (личное) часть 2 |
ƒневник |
"„то же модно? ¬ этом сезоне модно, например, выехать на природу в Ђтрехслойной юбке из органзы с воланамиї, и там, на природе, высоко подпрыгнуть, расстав€ ноги, из кустов с колючками на гнутую арматуру. ¬ариант: надев Ђпрозрачный топ из двухслойного полосатого шелкаї, плюхнутьс€ в воду, и долго сидеть в ней по по€с, но уже в Ђплатье из вискозного трикотажаї. » это не потому, что враги сожгли родную хату, и вы вынуждены ютитьс€ в подмосковном лесу, а потому, что это гламурно. √ламурно также, надев одно на другое Ђдва тюлевых плать€ телесного и антрацитового цветаї, раскачиватьс€ на сучковатом дереве." Ќе смотрю больше такие картинки, и не читаю больше такое, надоело!
ѕробовала читать мужские журналы - разочарование! ƒл€ кого их пишут? Ќапример, журнал Men's Health, который одно врем€ покупал муж, а потом перестал покупать, думаю, правильно сделал, очень уж примитивно. "ќбраз мужчины, конструируемый журналом, до во€ прост. Ёто брутальное двуногое, тупо сосредоточенное только на одном: куда вложить свой любимый причиндал (подсказка: в индуса). ‘орма существовани€ этой белковой молекулы сводитс€ к тому, чтобы поддерживать свой attachment в рабочей форме, устран€€ возникающие помехи на пути к индусу, будь то начальник, работа, прыщи, теща, лень или потные руки. адресату журнал упорно обращаетс€ на Ђтыї, и, похоже, он того заслуживает."
ак точно заметила “ать€на, стариков (и старух) в таких "веселых картинках дл€ взрослых" не бывает, словно их и вовсе нет на свете, как нет вообще каких-либо некрасивостей и непри€тностей, вроде т€желых болезней или смерти. ќдин позитив, но он тоже какой-то неживой, такой, что к себе не прижмешь, не погладишь - гладко, скользко, прохладно, как икеевский пластик, не за что зацепитьс€. ƒаже дети (если они вообще попадают в этот гл€нцевый мир) станов€тс€ похожими на кукол.
ѕишу так подробно, потому что сама одно врем€ читала гл€нцевые журналы, до тех пор, пока не начала чувствовать звен€щую пустоту в голове, испугалась. “еперь стараюсь только книжки читать, по возможности хорошие. ѕравда, недавно прочла одну весьма и весьма сомнительную, но про нее чуть позже.
|
ћетки: тать€на толста€ день статьи гламур литература |
“ать€на “олста€. ƒень (личное) |
ƒневник |
ќчень понравилась книжка! Ќе знаю, почему "день", но определение "личное" точно. јвторска€ интонаци€ жива€, эмоциональна€, если уж что не нравитс€ “олстой, так - ух! - разнесет по кочкам. “ак говор€т о том, что по-насто€щему волнует, задевает.
¬от, например, перва€ же стать€ " вадрат", о небезызвестном творении ћалевича. ¬ы знаете, из всего, что читала о этой картине, мнение “ать€ны, мне кажетс€, наиболее близко к правде. "»скусствоведы любовно пишут о ћалевиче: «"„ерный квадрат" вобрал в себ€ все живописные представлени€, существовавшие до этого, он закрывает путь натуралистической имитации, он присутствует как абсолютна€ форма и возвещает искусство, в котором свободные формы — не св€занные между собой или взаимосв€занные — составл€ют смысл картины». ¬ерно, вадрат «закрывает путь» — в том числе и самому художнику. ќн присутствует «как абсолютна€ форма», — верно и это, но это значит, что по сравнению с ним все остальные формы не нужны, ибо они по определению не абсолютны. ќн «возвещает искусство...» — а вот это оказалось неправдой. ќн возвещает конец искусства, невозможность его, ненужность его, он есть та печь, в которой искусство сгорает, то жерло, в которое оно проваливаетс€, ибо он, квадрат, по словам Ѕенуа, процитированным выше, есть «один из актов самоутверждени€ того начала, которое имеет своим именем мерзость запустени€ и которое кичитс€ тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного, приведет всех к гибели».
“олста€ сказала то, что € бессознательно чувствовала, но не могла сформулировать вс€кий раз, когда, посеща€ “реть€ковку, старательно обхожу черный квадрат. Ёто не искусство, это гадость, гадость и гадость, и называть это искусством - значит перечеркивать все искусство вообще.
“о, что “ать€на “олста€ пишет о последнем русском царе, тоже кажетс€ мне очень точным. "— 1896 года, со дн€ вступлени€ на трон, а если угодно, то с 1881 года, когда террористами был убит дед Ќикола€ јлександр III, царь множество раз получал недвусмысленные сигналы: посмотри в лицо реальности, надо что-то мен€ть, иначе будет плохо; он ничего не пон€л до последнего мгновени€." ÷арских детей, как и любых детей, жалко. ÷ар€ - нет. » никакой он не св€той, не мученик. Ќа нем огромна€ вина, упустил свою страну, народ, в конце концов, и семью свою погубил.
¬ерите ли вы в царскую –оссию, которую мы потер€ли? - вопрос почти религиозный. ј какой она была? » здесь € согласна с “ать€ной Ќикитичной. "—ливки, изумруды, колокольный звон, пасхальные €йца ‘аберже, честные и просвещенные купцы, пор€дочные женщины, прозрачные реки, полные севрюги, – туманные образы русского ра€, золотого века мучают мечтателей, вызыва€ острые приступы ностальгии по тому, что вр€д ли когда-либо существовало: в раю не бывает революций. –еальность оскорбительна дл€ мечтател€: зелена€ лужайка, издали ман€ща€ шелковой травой, вблизи оказываетс€ утыканной консервными банками и окурками. ј посему лучше всего отрицать реальность и любить свою мечту, воплоща€ ее в сказке о добром, заботливом царе, о сытом и благодарном народе и их взаимной симпатии."
|
ћетки: тать€на толста€ день статьи николай второй литература |
¬асилий Ўукшин. "я пришел дать вам волю". |
ƒневник |
Ќедавно дочитала роман Ўукшина о —тепане –азине "я пришел дать вам волю".
—начала удивилась: Ўукшин пишет о –азине? ѕотом подумала, наверно м€тежный атаман по духу своему был очень близок ¬асилию ћакарычу, с таким сочувствием и пониманием пишет он о своем герое. ¬се сомнени€ –азина, перепады настроени€, азарт, вспышки гнева - все это столь правдоподобно, будто Ўукшин был лично знаком со —тенькой. ƒумаю, куски из романа смело можно зачитывать на уроках истории.
ƒа, могу сказать, что дл€ мен€ Ўукшин оживил –азина. ’от€ утверждать, что атаман стал мне по-человечески ближе не могу, и вот по какой причине. огда читаю, как –азин со своим войском штурмует волжские города, € могу себе это представить, но вижу себ€ не с казаками, лезущими на городские стены, а с мирными жител€ми, которые тут, за городской стеной, дрожат от страха. ¬ынуждена признать: как бы € ни бодрилась, но € не хищник, не степной волк, а скорее курица, пр€чуща€ цыпл€т под крыло.
—транное дело, –азин у Ўукшина искренне желает сделать жизнь людей свободней и лучше, его сердце болит не только за казаков, за всех простых и небогатых, за бедных труд€жек, он хочет дать волю всем, хочет извести всех угнетателей, и ему вер€т, за ним идут... но больше -бо€тс€! » те самые кресть€не, за которых он радеет, и свои же казаки - бо€тс€! Ѕо€тс€ чего? рови, огн€, которыми добываетс€ вол€, разгоритс€ огонь - не загасишь, пойдет полыхать, сгор€т и терема, и бедные избенки. —трашна€ она, така€-то вол€.

—тепан –азин. артина устодиева
|
ћетки: шукшин степан разин € пришел дать вам волю литература лучшее |
‘азиль »скандер. —то€нка человека. |
ƒневник |
ѕрочитала запоем, переход€ из комнаты в комнату или на кухню с книжкой в руке. »скандер берет в плен с первой страницы, причем даже не возникает мысль о сопротивлении.
’отела привести цитату, перелистала книжку, пон€ла, что невозможно безболезненно вырезать кусок из живой ткани повествовани€, словно пульсирующие сосуды пронизывают ее, объедин€ют в единое неразрывное целое. ƒумаю, ‘азиль јбдулович должен быть исключительно сильным человеком, если и книга его источает такую силу. ≈ще кое-что заметила. огда читаю книжки писателей-современников, то и дело из-за строчек автора выглыдывает чье-то чужое лицо, слышны знакомые голоса, знакомые интонации и слова. ак будто автор играет с тобой: угадаешь ли ты, откуда это? а этот кусочек? ƒа, угадываю, мы с тобой молодцы, автор, столько прочитали вс€кого-разного, а где же ты сам, автор? »ли ты просто собиратель фольклора, книжного и киношного? “ак вот, когда читаю »скандера, € слышу только »скандера. Ёто очень подкупает.
Ѕыть самим собой очень трудно.
√ерой рассказов, ¬иктор ћаксимович, всю жизнь мечтал создать летательный аппарат, движущийс€ на мускульной силе пилота. ќн несколько раз падал, разбивалс€, но все же верил - „еловек должен взлететь, и он взлетит, и будет свободным и прекрасным...
ак € завидую этому человеку, его цельности, и верности своей цели. ƒа, мне так этого не хватает, возможно ли воспитать самого себ€ так, чтобы не отступить от своего выбора? „тобы хватило сил, и смелости, и уверенности в себе?
вот еще что, не написала сразу, а зр€. ћне чудитс€: »скандер каждого геро€, стоит ему только показатьс€ в поле зрени€, встречает со всем вниманием и искренностью, как гост€ дорогого. —мотрите, кто пришел! ѕроходи, уважаемый, садись, не спеши, поговори с нами, выпей, милый человек. » человек раскрываетс€, и говорит о себе, волнуетс€, жестикулирует, и мы видим: это точно хороший человек, такой не подведет, не сломитс€. ѕусть с чудинкой, но тем и ценен, и интересен. »ли, напротив, говорит хорошо, гладко, но нам пон€тно - др€нь человек! ѕри том, что »скандер не обличает, не показывает пальцем, ничего нам не нав€зывает, но под его пристальным взгл€дом знатока человеческих душ все становитс€ €сно до мельчайшей зап€той.
|
ћетки: рассказы литература фазиль искандер лучшее |
ѕрочитанное. |
ƒневник |
ѕерва€ - ќлдос ’аксли "„ерез много лет". "Ѕогин€" (роман и повесть).
"„ерез много лет" - роман о немолодом и не очень здоровом миллиардере, который панически боитс€ смерти и неминуемой, как ему кажетс€, кары в загробной жизни. ќн следит за здоровьем, чтобы продлить свои дни, и занимаетс€ благотворительностью, чтобы задобрить бога. ¬округ него вьютс€ люди, в разной степени противные, пытающиес€ отщипнуть кусочек от чужого непомерного богатства. »з всех персонажей наименьшее раздражение вызывает, пожалуй, молодой доктор, но его автор, к сожалению, не пощадил.
Ќе знаю, богатство ли делает людей такими мерзкими, или оно достаетс€ только мерзким люд€м, но читать временами было не очень при€тно именно из-за того, что не было в романе никого, кому можно было бы посочувствовать. ¬опросы, конечно, серьезные поднимаютс€: что есть человек, насколько он животное, насколько - некое высшее существо? „то такое добро, и возможно ли оно вообще? ак далеко можно зайти в погоне за богатством? за бессмертием? ќбычно € не размышл€ю о таких отвлеченных матери€х, но, видимо, надо иногда и серьезные книжки читать.
"√ений и богин€". Ќазвание не обманывает, герой, профессор ћаартенс, самый насто€щий гений, человек отчасти не от мира сего, совершенно беспомощный в быту, и его жена эти, насто€ща€ антична€ богин€, которой неведомы сомнени€ и угрызени€ совести. ќни так идеально дополн€ют друг друга, их семейна€ жизнь счастлива, но равновесие так легко нарушить...
Ќадо сказать, что повесть мне понравилась больше, чем роман. ћне показалось, что автор (’аксли) невысокого мнени€ о люд€х в целом, не знаю, оправданно такое мнение или нет.
¬тора€ книжка прочиталась несравненно легче, к моему удивлению. ћамин-—ибир€к, "ѕриваловские миллионы". –оман и рассказы.
—ергей ѕривалов, наследник уральских заводов и тех самых миллионов, никак не может получить свое наследство, оказавшеес€ после смерти отца в руках бесчестных опекунов, которые никак не желают выпустить из рук такой завидный куш. Ѕесконечные суды, подкуп, интриги, подставные лица, мошенничества в крупных размерах - все это идет в ход в борьбе за несчастные заводы. роме того, наследник влюбл€етс€, заводит романчик с замужней дамой, женитс€, страдает, играет и выпивает. ќчень интересно и следить за развитием сюжета, и за персонажами. “акое впечатление, что автор искренне переживает за них, дл€ каждого стараетс€ найти доброе слово в оправдание, мне така€ доброжелательна€ манера повествовани€ очень понравилась. Ќе люблю, когда писатель разгл€дывает людей, как коллекцию кузнечиков на булавках. ј рассказы... тоже очень интересные, поскольку совершенно ничего не знаю о тех местах, где происходит действие (”рал, «ауралье, —ибирь), и плохо представл€ю себе людей, которые там жили во времена ћамина-—ибир€ка. ќх, до чего т€жела€ и беспросветна€ жизнь, как все грустно, боже ты мой. ажетс€, понимаю, почему случилась революци€.
|
ћетки: литература хаксли мамин-сибир€к |
несколько цитат. ќп€ть же из Ѕорхеса. |
ƒневник |
Ќикак не могу расстатьс€ с этой книжкой, нужно было вернуть ее в библиотеку еще неделю назад. ¬ыпишу несколько понравившихс€ цитат.
о писател€х и персонажах: "может ли автор создать героев, превосход€щих его достоинством? я бы ответил: нет, и невозможно это как из- за неспособности разума, так и по свойствам души. ƒумаю, самые €ркие, самые достойные наши создани€ - это мы сами в свои лучшие минуты." о ќскаре ”айльде: “„ита€ и перечитыва€ ”айльда, € заметил факт, кажетс€, упущенный из виду самыми €рыми его приверженцами. ѕростой и очевидный факт состоит в том, что соображени€ ”айльда чаще всего верны."
"Ѕыть или не быть? Ѕыть чем-то одним неизбежно означает не быть всем другим, и смутноеощущение этой истины навело людей на мысль о том, что не быть -- это больше,чем быть чем-то, и что в известном смысле это означает быть всем. » разве не та же лукава€ выдумка дает себ€ знать в речах мифического индийского цар€,который отрекс€ от власти и просит на улицах пода€ние: "ќтныне нет у мен€ царства, а стало быть, у моего царства нет границ, и тело мое отныне мне не принадлежит, а стало быть, мне принадлежит вс€ земл€"."
о классической литературе: «¬озможно, что чувства, возбуждаемые литературой вечны, однако средства должны мен€тьс€ хот€ бы в малейшей степени, чтобы не утратить свою действенность. ѕо мере того как читатель их постигает, они изнашиваютс€. ¬от почему рискованно утверждать, что существуют классические произведени€ и что они будут классическими всегда. ... лассической, повтор€ю, €вл€етс€ не та книга, которой непременно присущи те или иные достоинства; нет, это книга, которую поколени€ людей, побуждаемых различными причинами, читают все с тем же рвением и непостижимой преданностью.»
о реальности и вымысле: «ѕочему нас смущает, что ƒон ихот становитс€ читателем "ƒон ихота", а √амлет -- зрителем "√амлета"? ажетс€, € отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читател€ми или зрител€ми, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно,вымышлены. ¬ 1833 году арлейль заметил, что всемирна€ истори€ -- это бесконечна€ божественна€ книга, которую все люди пишут и читают и стараютс€ пон€ть и в которой также пишут их самих.»
|
ћетки: литература философи€ цитаты борхес |
Ѕорхес. |
ƒневник |
ƒочитала книжку. ¬ восторге! акой светлый ум, какой €сный и четкий €зык! ѕомню, учась в институте, приходила в отча€ние, пыта€сь разобратьс€ в лекци€х по философии - ну ничего же не пон€тно! „то есть, чего нет, что кажетс€, что есть? Ѕорхес о самых серьезных и сложных темах пишет просто и пон€тно, у мен€ как-то многое встало на свои места, пока читала эту книжку. ¬от, например, рассуждение о вечности, которые пришли автору на ум, когда он случайно в вечерний час набрел на бедную окраинную улочку.
"Ќет, € не добралс€ до пресловутых истоков ¬ремени, но мне почудилось, что € владею
ускользающим или вообще несуществующим смыслом непредставимого
слова "вечность". “олько позже мне удалось выразить в словах свое
впечатление.
¬от что это такое. Ёто чистое соположение однородных вещей —
тихой ночи, свет€щейс€ стены, характерного дл€ захолусть€ запаха
жимолости, первобытной глины — не просто совпадает с тем, что было
на этом углу столько лет назад, это вообще никакое не сходство, не
повторение, это то самое, что было тогда. » если мы улавливаем эту
тождественность, то врем€ — иллюзи€, и, чтобы ее разве€ть,
достаточно вспомнить о неотличимости призрачного вчера от
призрачного сегодн€."
Ёто самое поэтичное описание вечности из тех, что мне доводилось читать. ћне дводилось пережить нечто похожее на пустынном морском берегу, или на горбатой улочке маленького городка, выход€щей к реке или к лесу...
Ќа мой взгл€д, хороший образ творческого человека у Ѕорхеса - человек, наливающий в чью-то ладонь чернила, и показывающий в пригоршне "все, что довелось повидать уже усопшим, и что зр€т ныне здравствующие: города, жаркие и холодные страны, сокровища, скрытые в земных глубинах, борозд€щие мор€ корабли..." Ёто из рассказа "„ернильное зеркало", этот человек - волшебник, или писатель, поэт, художник? ’ороша€ книга - это и есть чернильное зеркало.
—делала дл€ себ€ открытие, хот€, наверно, кто-то дошел до этого и раньше. Ћюбимый многими подружками оэльо - плагиатор! —южет раскрученного донельз€ "јлхимика" целиком и полностью повтор€ет "»сторию о двух сновидцах" Ѕорхеса, который, замечу, относитс€ к сборнику 1935 года издани€, так что вопроса о первенстве не возникает. ¬озможно, эта истори€ вз€та из арабских сказок? ак бы то ни было, рассказ Ѕорхеса по€вилс€ много раньше, он краток и отшлифован, как драгоценный камень, а у оэльо столько воды, что содержание в ней просто тонет.
≈ще один пример: борхесовский рассказ "«аир". «аир - это некий предмет, одушевленный или нет, который постепенно подчин€ет себе все мысли, желани€ и стремлени€ человека, в результате несчастный становитс€ одержимым. Ётот рассказ относитс€ к сборнику 1949 года ("јлеф"), а одноименный роман оэльо вышел в 2005 году.
|
ћетки: борхес литература философи€ коэльо вечность |
’орхе Ћуис Ѕорхес. ƒвойник ћагомета. –ассказы и эссе. ќ стиле. |
ƒневник |
"Ќищета современной словесности, ее неспособность по-насто€щему увлекать породили суеверный подход к стилю, когда при чтении люди обращают внимание ... на какие-то частности. —традающие таким предрассудком оценивают стиль не по впечатлению от той или иной страницы, а на основании внешних приемов писател€... ѕодобным читател€м безразлична сила авторских убеждений и чувств. ќни ждут искусностей..., которые бы точно сказали, достойно ли произведение их интереса или нет. Ёти читатели слышали, что эпитеты не должны быть тривиальными, и сочтут слабым любой текст, где нет новизны в сочетании прилагательных с существительными, даже если главна€ цель сочинени€ успешно достигнута. ќни слышали, что краткость Ц несомненное достоинство, и нахваливают того, кто написал дес€ть коротких фраз, а не того, кто справилс€ с одной длинной."
и далее, о бедности вылизанных, стилистически безупречных текстов в сравнении с книгой, содержащей мощную идею или живой образ, такой, как ƒон ихот:
"Ћучша€ страница, страница, в которой нельз€ безнаказанно изменить ни одного слова, Ц всегда наихудша€. »зменени€ €зыка стирают побочные значени€ и смысловые оттенки слов; Ђбезупречна€ї страница хранит все эти скромные достоинства и именно поэтому изнашиваетс€ с необыкновенной легкостью. Ќапротив, страница, обреченна€ на бессмертие, невредимой проходит сквозь огонь опечаток, приблизительного перевода, неглубокого прочтени€ и просто непонимани€. ¬ стихах √онгоры, по мнению его публикаторов, нельз€ изменить ни единой строчки, а вот Ђƒон ихотї посмертно выиграл все битвы у своих переводчиков и преспокойно выдерживает любое, даже самое посредственное переложение. √ейне, который ни разу не слышал, как этот роман звучит по-испански, прославил его навсегда. ƒаже немецкий, скандинавский или индийский призраки Ђƒон ихотаї куда живее словесных ухищрений стилиста."
ак это верно! ј €, несчастна€, сколько раз, довер€€ отзывам критиков о несравненном мастерстве такого-то автора, пыталась пон€ть, за что же так расхваливают книгу, которую совершенно невозможно пересказать.
|
ћетки: борхес эссе литература стиль цитаты лучшее |
¬асилий јксенов. "ѕраво на остров". ѕовести и рассказы. |
ƒневник |
—егодн€ наконец-таки дочитала јксенова, три недели мучала не такую уж большую книжку, сначала хотела даже бросить.
ѕерва€ повесть "затоваренна€ бочкотара" вызвала отчетливое непри€тие и раздражение. ќщущение от текста такое, словно кто-то все крутит ручку радио и никак не остановитс€: обрывки песен, романсов, газетные заголовки, все это вроде как-то ув€зываетс€ вместе, но получаетс€ така€ нер€шлива€ словесна€ аппликаци€ с налезающими друг на друга строчками, что читать спокойно очень трудно. ажетс€, что автор то поет на разные голоса, то кукарекает, кривл€етс€, чуть не на голову встает, чтобы позабавить почтенную публику, и все подмигивает, подмигивает, может, нервный тик? √ерои кажутс€ картонными, честно, в одной красивой длинной ноге, показавшейс€ из автомобил€ в повести о американских впечатлени€х жизни больше, чем во всех этих стариках моченкиных и водител€х с мор€ками из "бочкотары" вместе вз€тых.
Ќаверно, мне мешало то, что € знала о самом јксенове, все врем€ где-то вторым планом крутились отрывки из "“аинственной страсти", которую долго печатали в " араване историй", произведение как раз в стиле издани€. “ак и не пон€ла € этих благополучных антисоветчиков от культуры, не прониклась € их духовными метани€ми. ¬се какие-то мелкие обидки из-за гонораров, публикаций, путевок, квартир, пь€ные откровени€, интрижки с чужими женами, гонени€ на отдыхающих в шортах, ах, последн€€ капл€ - танки в „ехословакии, не могу жить в этой стране! » впечатление такое, простите! - что те самые танки всего лишь удобный предлог, чтобы свалить. ќчень уж нагл€дно соседствуют под одной обложкой кондовый ор€жск, недостойный подробного описани€, и √ород јнгелов, где так все удивительно-€рко-замечательно-свободно, и люди интересны, приветливы и хороши собой. “ут и игривые английские словечки замелькали, и тон автора изменилс€, уж не ерничанье, а поэма в прозе, не меньше. ќбидно мне стало, вот что. » расхотелось читать дальше про то, как все хорошо “јћ и как нескладно “”“.
„ерез несколько дней все же вз€ла книжку снова, из-за старой привычки дочитывать до конца. » очень рада, что дочитала! ѕовесть "—ви€жск" про внезапное обретение веры баскетбольным тренером почти примирила мен€ с јксеновым. я так хорошо представила себе этот несчастный заброшенный городок, словно сама там была. "»здали казалось, что подгребаешь ко граду итежу. ћногочисленные маковки церквей и колокольные башни создавали устремленный вверх средневековый силуэт. ¬ысадившись, однако, мы увидели, что купола сквоз€т прорехами, колокольни полуразрушены, кресты погнуты и поломаны, а город вымер: остатки булыжной мостовой заросли высоченным чертополохом, безмолвны покосившиес€ дома с выбитыми стеклами и пусты дворы, ни кошек, ни собак, ни домашней птицы. ак будто тут чума прошла..."
–ассказы чудесны! »скренне сопереживала их геро€м. Ѕыло обидно за юного грузинского красавца √еорги€ и его пылкую любовь ("ћестный хулиган јбрамашвили"), досадовала и радовалась из-за незадачливого киноактера орзинкина ("∆аль, что вас не было с нами"). » как до слез жалко мальчишек из рассказа "«автраки 43-го года", у которых одноклассники-переростки отбирали булочки, и как хотелось, чтобы мучители были наказаны! ƒети в книге јксенова именно что цветы жизни, нежные, невинные и такие беззащитные! “ревожно за них, ведь они первые пострадают, если рухнут их нескладные семьи из-за сложных взрослых взаимоотношений, из-за чужих "красивых теть" и сомнительных воскресных конференций.
ƒа, ¬асилий јксенов хороший писатель, пусть не все из прочитанного легло на душу.
|
ћетки: рассказы литература повести аксенов право на остров |
ак привить любовь к чтению. |
ƒневник |
- „то такое "—трашна€ месть"?
- ћы ее на ночь читать не будем - говорю € - очень страшно.
- ј можно € возьму в метро почитать?
я разрешила. Ќачал читать, дома пересказывал взахлеб. —прашиваю:
- ѕонравилось?
- јга -отвечает - не хуже "—талкера".
ƒумаетс€, это высша€ похвала в его устах.
стати, на дн€х читала в каком-то форуме, мамашка рассказывает: дочь готовитс€ к экзаменам, читает "¬ойну и мир", на вопрос "и как тебе, нравитс€?" девочка отвечает "«дорово закручено, не хуже "ƒозоров!"
¬ывод: классику давать дет€м можно и нужно, главное воврем€ подсунуть то, что зацепит, совпадет с какими-то детскими интересами. » окажетс€, что √оголь сотоварищи вовсе не такие нудные д€дьки, как может показатьс€.
|
ћетки: дети литература школа гоголь как привить любовь к чтению |
јндор √абор. "ƒоктор Ќикто" |
ƒневник |
јвтор венгерский прозаик и поэт, публицист и драматург.
√ерой романа молодой человек без роду без племени, читатель ничего не знает о его семье, родител€х, о его детстве и юности. Ќеизвестно также, каковы его увлечени€, стремлени€ и вкусы, он по€вл€етс€ из ниоткуда, вроде бы он мелкий служащий, но за работой мы его не видим. ƒа, зовут молодого человека Ќикт ќ. янош, у него при€тна€ наружность и единственный, кажетс€, талант: оказыватьс€ в нужном месте в нужное врем€. Ѕлагодар€ этой счастливой способности он возноситс€ до неверо€тных высот, практически не прикладыва€ никаких усилий.
ƒве любопытные цитаты:
о журналистике.
"≈сли €, например, возвраща€сь вечером из редакции, увижу, что планеты ¬енера и ћарс столкнулись в небесной вышине, да так, что от них ничего не осталось, об этом неверо€тном... событии мне следует писать только в той газете, которой вер€т. ¬ противном случае это примечательное событие будет восприн€то так, будто оно и вовсе не произошло.
- Ќу а если оно все-таки произошло?
- Ёто самое несущественное. “о, чему люди не вер€т, не может произойти. «десь журналистика смыкаетс€ с религией. »ли даже скажем так: журналистика, будучи религией последнего полустолети€, смыкаетс€ с древней религией. ¬ основе их лежит вера. ј поскольку журналистика разрушила веру, то религи€ последних п€тидес€ти лет стала ничуть не лучше, а скорее даже хуже религии предшествующих п€тисот лет."
ќ жизни и смерти:
"¬ жизнь, короткую и ненадежную, мы верим все. ј в смерть, вечную и неизбежную, не верит никто из живых. ’от€ достаточно осознать, что не все, кто мог бы родитьс€, действительно родилс€, зато все, кто родилс€, умрут."
¬от еще что мне понравилось, так это отсутствие авторских нравоучений. Ќикаких "ай-€й-€й". Ќадо отметить, что поначалу герой ведь не совершает никаких страшных преступлений, он вовсе не шагает по трупам. Ќу да, вз€л деньги за молчание, закрутил интрижку с замужней дамой. Ќекрасивые поступки? ƒа, но кто из нас без греха? “ак вот вопрос: чем еще можно поступитьс€ ради карьеры? „то можно сделать, чтобы устранить соперника, зан€ть его место р€дом с желанной женщиной? » только раз у √абора вырываетс€ уничижительна€ оценка в адрес яноша "никто и ничто".
стати про желанную женшину (Ёльзу), мне она не очень понравилась, слишком у нее все на показ. јдель как-то пон€тней. “о, что она измен€ет мужу, не вызывает у мен€ протеста.
|
ћетки: литература жизнь журналистика доктор никто интересно |
ё. ѕол€ков о литературных преми€х. |
ƒневник |
Ќедавно была вручена очередна€ Ѕукеровска€ преми€ какой-то тетеньке, котора€ раньше писала дл€ космо, а теперь накропала роман о св€щеннике по имени Ћоггин (!) и девушке ‘еодосье. ѕопробовала почитать. Ѕэ-ээ... Ќе смогла, в общем.
ѕоскольку читать люблю и литературой интересуюсь, пытаюсь разобратьс€, как это вышло, что лучшей русско€зычной книгой было признано нечто совершенно непотребное. „итаю отзывы и комментарии на эту тему. Ќашла вот интервью ѕол€кова о литературных преми€х
http://www.stoletie.ru/obschestvo/juri_polyakov_bukerovskaya_premiya_nanesla_uscherba_literature_ne_menshe_chem_kgb.htm
¬от цитата из этого интервью:
"” нас все-таки есть разные направлени€ в литературе, и поддерживать только одно – западное - неправильно. ѕочему среди лауреатов столько эмигрантов? ћы пропагандируем выезд из –оссии? ј как же тогда провозглашенна€ государственна€ программа возвращени€ соотечественников в –оссию? «начит, «Ѕольша€ книга» сама по себе, а –осси€ сама по себе. Ёто неправильно!
ѕоследстви€ этой неправильности поначалу незаметны, ибо разрушительные тенденции в культуре не так очевидны. —кажем, самолеты начали падать, и государство, общество сразу спохватились: « араул!» ¬ культуре-то самолеты не падают. “ам вроде бы просто какому-то начитанному графоману дали премию, какой-то бездарной актрисе или фанерному певцу дали «народного». ѕуст€чок. ј потом смотришь: лет через двадцать народ и одичал, а творческой интеллигенции плевать на судьбу своей страны с Ёйфелевой башни. » все начнут спрашивать: почему, почему? ƒа потому что давали премии книгам, которые невозможно читать и которые учат равнодушию к национальным св€тын€м… “огда спохват€тс€."
|
ћетки: литература непон€тно премии |






