-Рубрики
- Polska (14)
- ОТДЫх (12)
- «Не ту страну назвали Гондурасом!» (8)
- Резиновый занавес (3)
- А,Я КУРЮ!))) (13)
- Армения (7)
- АРМИЯ (22)
- Бирюлёво (4)
- Бывшие "Братья" (9)
- В МИРЕ (24)
- Власть. (7)
- ВОЙНА (80)
- ВЫБОРЫ (15)
- Дебилы бл..ь (10)
- ДЕБИЛЬНАЯ россия (312)
- Евро (77)
- Египет (16)
- Едящие Россию (70)
- ЖЕНЩИНА (61)
- ЖЗЛ (5)
- ЖИВОПИСЬ (1050)
- Жизнь Наша (162)
- интересно (153)
- искусство (154)
- ИСТОРИЯ (134)
- Креаклы-Либерошлепы (73)
- Любовь (16)
- Люди (210)
- МИГРАНТЫ (147)
- МОЁ (32)
- МОСКВА (53)
- МРАКОБЕСИЕ (12)
- МУЗЫКА (69)
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС (79)
- Новороссия (178)
- ОБЩЕСТВО (29)
- ОТНОШЕНИЯ (6)
- ПАМЯТЬ (71)
- Пиндосия (96)
- ПОЗИТИВ (99)
- ПОЛИТИКА,ЭКОНОМИКА (143)
- Природа (8)
- ПРОЗА (82)
- Религии (45)
- РОССИЯ (758)
- Сатира (18)
- Сирия (17)
- СПОРТ (123)
- СТИХИ (268)
- Точки Зрения (79)
- Украина (263)
- Укроруина должна быть разрушена! (736)
- ФОТО АРТ (61)
- ФУФЛО (30)
- Цветные революции (3)
- ЮМОР (134)
-Я - фотограф
Египет 04.18-3.
-Музыка
- Гори моя звезда
- Слушали: 25 Комментарии: 0
- ABBA
- Слушали: 94 Комментарии: 0
- Barbara Streisand - I Am A Woman In Love
- Слушали: 6258 Комментарии: 0
- Edith Piaf - Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes)
- Слушали: 90 Комментарии: 3
- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"
- Слушали: 1966 Комментарии: 6
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
Умные помалкивают...Умные здороваются первыми...Умные не ввязываются в драку...Умные уступают дорогу...А потом жалуются:- Почему нами правят одни ДУРАКИ ?
Балабанов. В поисках "Брата" |
Если так, то портрет получился в багровых тонах. "Про уродов и людей" - безысходный кинодекаданс, по сравнению с которым даже ленты бывшего порнооператора Гай-Германики кажутся торжеством оптимизма. "Груз-200" - убойно-чернушный взгляд на проблему войны. Настолько чернушный, что из него не извлекается ничего, кроме ненависти. Но не к войне, как трагическому формату человеческих взаимоотношений, а именно к людям. "Морфий", по одноименной новелле Булгакова, не уловил дух булгаковской вещи, а только, пожалуй, ее букву. И вроде все так, а - не то. "Жмурки" - примитивно-плакатный взгляд на годы дикого российского капитализма, хорош разве что тем, что позволил Никите Михалкову в очередной раз сыграть самого себя - в роли наглого, хамоватого и в душе трусливого пахана.
У Балабанова есть только одна работа, которую можно назвать сильной. Это кинодвухтомник "Брат". Одна, но действительно яркая, за которую, собственно говоря, автора и можно считать большим. Даже великим, если кому нравится пафос. По сути "Брат" - это концепция современного русского национализма, которой, наверное, остро не хватает стране, понемногу оправляющейся от либеральной демократии, но мучительно ищущей себя.
Именно балабановский национализм, выраженный немудреными, вроде бы словами героя фильма Данилы Багрова, имеет шансы стать тем стержнем, на котором будет в ближайшие десятилетия вращаться российская державность.
Многие весьма умные люди говорят, что "Брат" разжигает национальную рознь. Как нерусский человек - не согласен. "Брат" не разжигает национальную рознь, а расставляет в самом больном российском вопросе - национальном, все точки над i. Этот фильм жестко, но честно говорит о России как о русском государстве, которое, конечно, для нормальных людей любого народа, но все-таки русское. Со всеми вытекающими отсюда социально-культурными последствиями. В этом смысле творчество Балабанова переплетается с творчеством другого русского националиста Говорухина и его "Ворошиловским стрелком".
Балабанов в своем "Брате" доказал, что русский национализм может выглядеть привлекательно. Причем, не только для этнических русских.
А то, что нацистские уродцы всех мастей провозгласили этот фильм своей библией, так это не к режиссеру вопросы. В свое время фашисты тоже взяли за основу учение Ницше, но учение это к фашизму не имело никакого отношения.
Жаль, что Балабанов умер, но вместе с тем, его ранняя смерть содержит очевидный символизм. Национализм "по Багрову" в России не востребован. Востребованы дураки. Которые удивительным образом умеют сосуществовать с плохими дорогами...
Журнал Валерия Амирова.
Метки: россия национальный кризис люди |
Понравилось: 1 пользователю
Да будут плечи у мужчин квадратны... |
пока еще не склевана рябина,
пока еще не ломана калина,
пока береста совести бела.
Спешите делать добрые дела.
В колесах дружбы так привычны палки,
в больницах так медлительны каталки,
а щель просвета так порой мала.
А ложь святая столько гнезд свила,
анчары гримируя под оливы.
У моря все отливы и отливы,
хоть бей в синопские колокола.
Пока сирень в глазах не отцвела,
и женщины не трубят в путь обратный,
да будут плечи у мужчин квадратны!..
Спешите делать добрые дела.

Мир забывает тех,
кому не повезло.
И если ты промазал на дуэли,
забыл свой кортик на чужой постели,
упал с коня
или сломал весло -
спасенья нет.
Тебя забудет мир.
Без вздоха,
сожаления
и плача.
Свою удачу опроверг кумир.
Таков закон.
Да здравствует удача!


Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.
Это наивно, и это не ново.
Не исчезай, петушиное слово.
Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.
Нужно, чтоб кто-то кого-то любил:
толстых, худых, одиноких, недужных,
робких, больных - обязательно нужно,
нужно, чтоб кто-то кого-то любил.
Лось возвращенье весны протрубил,
ласточка крылья над ним распластала.
Этого мало, как этого мало.
Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.
Чистой воды морякам под килем,
чистого неба летающим в небе.
Думайте, люди, о боге, о хлебе,
но не забудьте, пока мы живем:
нет раздвоенья у супертурбин,
нет у земли ни конца, ни начала.
Мозг человеческий - как это мало.
Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.

Защищая свою крутизну,
не печальтесь, что губы разбиты.
Ни погонщику и ни слону,
как слоны, не прощайте обиды.
Шрам притерпится, боль отболит.
Как бы ни были поводы жестки,
никому не прощайте обид.
Защищайте свои перекрестки.
Есть особый изгиб у спины,
принимающий вызов обрыва.
И особая власть у разрыва.
Не прощайте обид, как слоны.
Без любви: ни щепы, ни следа.
Ни чужим, ни своим и ни званым.
Ни тоски, ни слонят, ни саванны.
Как слоны: никому, никогда.


Пока пути чисты,
господь, друзей храни,
и я не жгу мосты
и не гашу огни.
У жизни на краю
не ерзаю, не лгу.
Живу, пока могу,
пока могу - пою.


Не паситесь в офсайте,
в тени у чужого крыльца.
Старых жён не бросайте,
несите свой крест до конца.
Их негладкие руки,
их горькие стрелки морщин —
наши с ними разлуки,
угрюмство домов без мужчин.
От себя не бегите,
есть сроки у каждой зимы.
Старых жён берегите, —
с годами они — это мы.
Что у нас под глазами
кладёт огорченья мешки,
и у них со слезами
не уходит, упав со щеки.
А что было, то будет:
и травы по грудь, - и снега.
От морей не убудет,
пока у морей — берега.

Художник Рубен Беллосо (Rubén Belloso).
Родом он из Севильи.
В свои двадцать пять лет имеет за плечами художественный факультет севильского университета, около десятка различных премий и наград и множество всевозможных выставок в Италии, Испании, Португалии.
Репродукции его картин можно встретить в бессчетном количестве газет, журналов, о них делаются репортажи на телевидении.


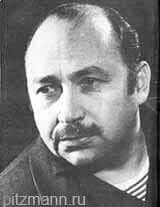
Стихи Григория Поженяна- лауреата Государственной премии России (1995).
Человек, прошедший войну. В мирной жизни - моряк.
Когда в 1941 году немцы осадили Одессу и отключили подачу воды, группа разведчиков пробралась к водокачке, захватила ее и пустила в город воду - на несколько часов. В этой акции смертников уцелели немногие. Среди выживших - Григорий Поженян.
Живу один. Дышу один.
Плачу одной судьбой.
Один пришёл. Один уйду.
Один спою свой гимн.
А яблоки в моём саду
легко отдам другим.
(с) galina rosenberg
Метки: живопись стихи мое мужчина |
Процитировано 11 раз
Понравилось: 11 пользователям
«Израиль – палач Украины» |
| Мямлин Кирилл |
3039
0
|
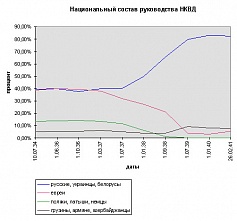
Еврейские издания сегодня нисколько не стесняясь говорят о том, что именно руками этой этнико-религиозной группы, занявшей 66,6% в составе НКВД, уничтожалась население Украины. Мы добавим – что так было по всей России. Еще несколько фактов о геноциде Русского народа
В 1918г., насмотревшись на практику репрессий ЧК, меньшевик Ю. Мартов- Цедербаум говорил своему родственнику Л. Троцкому-Бронштейну: «Лева! Скажи Ильичу, что осторожнее надо действовать: ведь в России живет 150 000000 русских, если напашете с репрессиями, то ведь наступит время - отвечать придется!». Однако на Л. Троцкого эти слова не произвели впечатления, и он продолжал действовать во вверенном ему военном ведомстве «огнем и железом».
И если даже по официальной статистике на 01.01.32 только в Центральном аппарате НКВД евреи составляли 7,4%, русские - 65%, в то время как среди высшего руководства соотношение было иным: евреев - 45%, русских и иных национальностей -55%, то в системе ГУЛАГа все 100% руководства были исключительно евреи – вплоть до 1937-38 годов[1].
 НЕ МОЖЕШЬ УНИЧТОЖИТЬ ЯВЛЕНИЕ - ВОЗГЛАВЬ ЕГО САМ
НЕ МОЖЕШЬ УНИЧТОЖИТЬ ЯВЛЕНИЕ - ВОЗГЛАВЬ ЕГО САМ
Поскольку больше невозможно скрывать, кто виноват в массовых репрессиях 1920-1930-х годов, либеральные историки и еврейские издания решили «возглавить расследования».
Почему началась эта работа? Все началось с того, что в июле 2008 года года СБУ обнародовала список партийных и советских деятелей, руководителей карательных структур, причастных к организации «голодомора». В нем сначала было 19 фамилий. Среди них, «естественно» оказался не только Иосиф Сталин, на которого «либералами» принято сваливать вину, но и руководитель ОГПУ Генрих Ягода, глава ГПУ УССР Станислав Реденс, заместители и руководители региональных и отраслевых управлений ГПУ УССР, председатель Верховного Суда СССР Александр Винокуров и другие лица.
Публикация списка сразу же вызвала протест… со стороны Украинского еврейского комитета (УЕК), который заявил, что этот «документ является предвзятой попыткой завуалировать истинных виновников голодомора». УЕК отметил, что «среди перечисленных в списке фамилий преобладают еврейские». Кроме того, в списке опубликованы фамилии работников ОГПУ, которые в силу своих должностей «не могли иметь непосредственного отношения к репрессиям». Так, из списков УЭК предлагал исключить фамилии «невинных» начальников статистического и транспортного отделов ГПУ УССР.
УЕК указал также СБУ на то, что упоминание в списке фамилии Ивановского (Гибшмана) Израиля Давыдовича, одного из руководителей ГПУ в Крыму, «попросту неуместно». Не снимая с него ответственности за преступления сталинизма, говорилось в заявлении УЕК, хотелось бы напомнить, что Крым в то время был частью Российской Федерации, а не Украины. Кроме того, УЕК заявил, что одновременно с указанными неточностями в опубликованном СБУ документе не указываются истинные виновники «голодомора» – украинской национальности.
Проанализировав в итоге список СБУ, Украинский еврейский комитет посчитал, что документ фактически возлагает этническую ответственность за трагедию «голодомора» на евреев и латышей. УЕК призвал руководителей СБУ более тщательно и ответственно подходить к составлению и публикации столь серьезных документов, которые могут нарушить межнациональный и межконфессиональный мир и спокойствие на Украине.
Но что же получилось у «специально подобранного для опровержения историка»?
 Так «свидомый» украинский историк Вадим Золотарёв – автор семи книг и десятков статей по истории госбезопасности Украины подготовил к печати комплексное исследование о евреях в органах ГПУ-НКВД 1920-1941 годов. О начале этого исследования портал IzRus сообщал в 2009 году. Краткие выводы были опубликованы Золотарёвым совместно не менее «рукопажатным» с д-ром Юрием Шаповалом в ежегоднике «Из архивов ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2010). Более подробную информацию и собственные наблюдения по теме своего исследования, которое будет опубликовано в текущем году, В. Золотарёв сообщил порталу IzRus.
Так «свидомый» украинский историк Вадим Золотарёв – автор семи книг и десятков статей по истории госбезопасности Украины подготовил к печати комплексное исследование о евреях в органах ГПУ-НКВД 1920-1941 годов. О начале этого исследования портал IzRus сообщал в 2009 году. Краткие выводы были опубликованы Золотарёвым совместно не менее «рукопажатным» с д-ром Юрием Шаповалом в ежегоднике «Из архивов ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2010). Более подробную информацию и собственные наблюдения по теме своего исследования, которое будет опубликовано в текущем году, В. Золотарёв сообщил порталу IzRus.
Евреи составляли лишь 6,5% населения Украины в 1926 году. Но цифры, основанные на изысканиях в архивах Службы безопасности Украины, говорят о том, что на руководящих постах в ГПУ УССР в 1929-1931 годах евреев было 38%, а в период Голодомора 1932-1933 годов евреи составляли 66,6% среди всех руководителей карательных органов республики. Когда в 1936-м присваивались новые звания по ведомству госбезопасности, то среди верхушки НКВД УССР из 79 человек евреев было ровно 60 (те же 66,6%). Золотарёв приводит архивный документ - приказ НКВД СССР от 8 января 1936-го, где говорится о присвоении спецзваний капитанов ГБ (соответствовавшие общевойсковому полковнику) сотрудникам НКВД Украины. Среди 34 офицеров – 25 евреев.
Кроме того, часть чекистов скрывала своё еврейское происхождение под псевдонимами. Например, Александр Розанов – начальник управления НКВД по Одесской области в 1935-1937 годах, позже на допросе признавался: «Я – Абрам Розенбрандт, еврей. Имя и национальность записал по-другому от стыда».
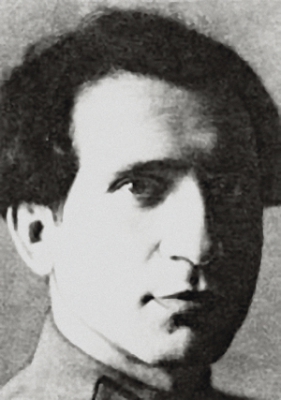 ИЗРАИЛЬ – ПАЛАЧ УКРАИНЫ
ИЗРАИЛЬ – ПАЛАЧ УКРАИНЫ
Роль главного палача в запуске массовых репрессий на Украине сыграл Израиль Леплевский – замнаркома (с 1932 г) и нарком внутренних дел УССР с июня 1937 по январь 1938 гг. В этот же период начинается и «отстрел» предыдущего поколения евреев-чекистов, что снизило за полгода их долю в руководстве НКВД до 46,5%. Затем, когда в 1938-1939 годах следующий нарком – Александр Успенский, будет «чистить» людей Леплевского. Так будут уничтожены почти все евреи, занимавшие ранее высокие посты в карательной системе, раскрывая сионистского подполье.
Золотарёв приводит показания Григория Кобызева – начальника отдела кадров НКВД УССР. Союзный нарком Ежов, увидев его отчёт по кадрам украинских чекистов в феврале 1938-го, произнёс: «Посмотрел я на кадры – тут не Украина, а Биробиджан». Вскоре после этого начались отстранения от работы и аресты евреев – служащих НКВД. Фактически, репрессии 1937-1938 годов очистили «органы» от заметного еврейского присутствия.
О «еврейской специфике» можно говорить только в контексте редкого явления бегства из СССР: все четыре высокопоставленных сотрудника НКВД, сумевшие бежать из страны, были евреями.
ЕВРЕИ УБИВАЮЩИЕ ЕВРЕЕВ
Бывший бундовец Израиль Леплевский, который вместе со своими помощниками наводил ужас на Украину в 1937-м, были расстреляны по делу о «сионизме», при этом пытали его на допросах следователи-евреи Лулов и Визель. Вадим Золотарёв поведал, что ситуация, когда евреи репрессировали евреев, повторялась в Украине тысячи раз. Так, лейтенант госбезопасности Вайсберг выбил из арестованного НКВДшника-соплеменника Якова Каминского показания об его участии в сионистской организации внутри НКВД УССР под руководством Леплевского, а «сионистов» в управлении НКВД Харьковской области разоблачал еврей Перцов.
В 1937-1938 гг. по делу Украинского физико-технического института были арестованы многие Александр Вайсберг, Конрад Вайсельберг, Фриц Хоутерманс, Моисей Корец и Лев Ландау, успевший выехать в Москву. Вайсельберга расстреляли. Вайсберга и Хоутерманса, как граждан Германии, передали на «историческую родину». Немаловажная деталь: институт громили следователи Коган, Резников, Шалит, Вайсбанд и Дрешер под началом Льва Рейхмана. Одни евреи заставляли других признаваться в связях с евреем Троцким.
 Во многих областных управлениях НКВД за два года сменилось 3-4 состава сотрудников, причем иногда на смену расстрелянным евреям-следователям и начальникам отделов приходили их заместители-евреи, которых через полгода-год тоже ставили к стенке. В том же Харькове всемогущий начальник областного НКВД Соломон Мазон застрелился 4 июля 1937 года в своем кабинете, оставив записку: «Товарищи, куда же ведёт эта линия на массовые аресты?». Харьковское УНКВД возглавил майор госбезопасности Лев Рейхман. Чуть позже его тоже расстреляли - как и бывшего начальника харьковского ГПУ Иосифа Блата, замначальника харьковского УНКВД Якова Каминского, начальника секретно-политического отдела областного НКВД Абрама Симховича.
Во многих областных управлениях НКВД за два года сменилось 3-4 состава сотрудников, причем иногда на смену расстрелянным евреям-следователям и начальникам отделов приходили их заместители-евреи, которых через полгода-год тоже ставили к стенке. В том же Харькове всемогущий начальник областного НКВД Соломон Мазон застрелился 4 июля 1937 года в своем кабинете, оставив записку: «Товарищи, куда же ведёт эта линия на массовые аресты?». Харьковское УНКВД возглавил майор госбезопасности Лев Рейхман. Чуть позже его тоже расстреляли - как и бывшего начальника харьковского ГПУ Иосифа Блата, замначальника харьковского УНКВД Якова Каминского, начальника секретно-политического отдела областного НКВД Абрама Симховича.
Правда, историк Вадим Золотарёв в своем исследовании делает вывод о том, что нельзя говорить о борьбе «жидокоммуны» против украинского народа: «следует говорить об индивидуальных мотивах прихода на службу евреев-чекистов, среди которых немалую роль играли материальные преференции». При этом даже «рукопожатный» учёный считает, что «своей службой в ГПУ-НКВД евреи как бы накликали на себя беду, стимулировали волну юдофобии, которой чуть позже используют и усилят нацисты».
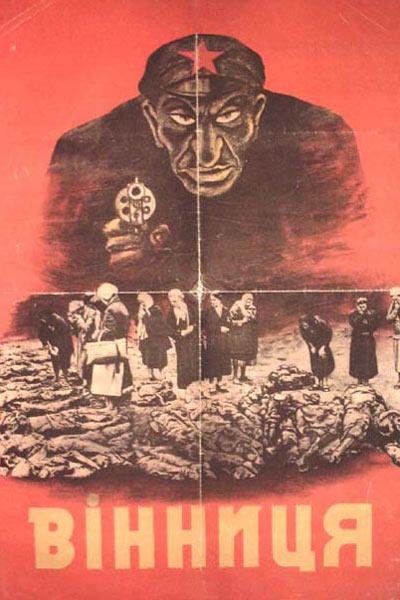 Сам Золотарёв, отвечая на вопросы израильского портала IzRus, оправдывался, что он не занимается пресловутым «еврейским вопросом», а историей советских органов госбезопасности. И тут ему поневоле приходится сталкиваться в основном с евреями-чекистами. Когда он писал 27 очерков о руководителях ЧК-ГПУ-НКВД Харьковщины, 11 из них были евреями. Когда писал очерки о начальниках Секретно-политического отдела ГПУ УССР, то евреями были 3 из 4. Евреев в партийных органах в Украине был сравним с процентом в госбезопасности.
Сам Золотарёв, отвечая на вопросы израильского портала IzRus, оправдывался, что он не занимается пресловутым «еврейским вопросом», а историей советских органов госбезопасности. И тут ему поневоле приходится сталкиваться в основном с евреями-чекистами. Когда он писал 27 очерков о руководителях ЧК-ГПУ-НКВД Харьковщины, 11 из них были евреями. Когда писал очерки о начальниках Секретно-политического отдела ГПУ УССР, то евреями были 3 из 4. Евреев в партийных органах в Украине был сравним с процентом в госбезопасности.
Откуда столь высокий процент евреев в карательной системе первых 20 лет красной диктатуры? Зачем ими проводилась пресловутая «украинизация»? По нашему мнению – ради разделения единого русского народа и создания «вотчин (прим. ред.). Золотарев же об этом прямо не говорит, зато не скрывает, что в 20-30-е годы многие упомянутые «партийцы» устроили себе прекрасную жизнь. Почти у всех были особняки, прислуга - в то время, когда миллионы сводили концы с концами. При этом вместе с таким же «правильным» украинским историком Юрием Шаповалом он захотел «снять многочисленные спекуляции о евреях-чекистах». Но ему это не «совсем удалось» - поскольку при в репрессиях 1937-1938 годов ликвидировали тех евреев в органах, которые ранее сами уничтожали других.
Характерно, что во время «голодомора» именно войска ГПУ блокировали районы, не давая крестьянам спастись. Само же ГПУ фабриковало дела против «вредителей», тысячами посылая их на расстрел.
При этом Золотарёв оправдывается, и, отвечая на вопрос о том, что публикация фамилий организаторов голодомора и главных гэбистов тех лет приведёт к росту антисемитизма, он отвечает, что украинцам нужно знать правду о своем прошлом, даже если эта правда бросает тень на другие народы. Оправдывая творимые зверства тем, что «у преступников нет национальности» и «за преступления должны отвечать только лица, их совершившие». Задача историков - предельно честно излагать факты и документы, ничего не умалчивая. А если это кого-то задевает, то это вопросы не к историкам. Имена евреев в ГБ никто не выпячивает - их просто называют в числе других чекистов. Ведь когда при Ющенко стали публиковать документы про Голодомор, то просто называли фамилии лиц, подписавших документы. И «никто не виноват, что среди них было много евреев».
 Переходя к тонкому вопросу о том, что «зачем выпячивать имена евреев, они были винтиками и такими же советскими активистами, как и все остальные», Золотарев проводит аналогию с фашистскими преступниками - гестаповцами, эсэсовцами, охранниками концлагерей. Они тоже были всего лишь винтиками преступного режима. Но их ловили по всему миру и уничтожали. У упомянутых чекистов был выбор (или план?), но они выслуживались, идя по трупам как по шпалам, пока сами не получили «награды за труд».
Переходя к тонкому вопросу о том, что «зачем выпячивать имена евреев, они были винтиками и такими же советскими активистами, как и все остальные», Золотарев проводит аналогию с фашистскими преступниками - гестаповцами, эсэсовцами, охранниками концлагерей. Они тоже были всего лишь винтиками преступного режима. Но их ловили по всему миру и уничтожали. У упомянутых чекистов был выбор (или план?), но они выслуживались, идя по трупам как по шпалам, пока сами не получили «награды за труд».
В конце интервью Вадим Золотарёв рассказал историю запечатленных на фотографии в донецкой газете за декабрь 1937-го людей. Из четырех награжденных сотрудников УГБ УНКВД по Донецкой области – три еврея: Орлов - начальник контрразведывательного отдела, Гольдман - начальник секретно-политического отдела и комендант Леонид Аксельрод – расстрелявшие сотни людей. Орлова расстреляли в 1938-м, Гольдмана в 1941-м. Аксельрод прошёл всю войну, стал майором госбезопасности, руководил «расстрельным отрядом»на ряде фронтов, получил за это два ордена, а в 1950-е работал замдиректора Львовской оперы.
Характерно, что по другим материалам израильской прессы - когда из НКВД убрали евреев, репрессии почти прекратились.
О ЧЕМ НЕ СКАЗАЛ «СВИДОМЫЙ ИСТОРИК» ЕВРЕЙСКОМУ ИЗДАНИЮ
Чтобы понимать всю картину геноцида Русского народа, нужно помнить, что борьба с засильем «иудо-большевиков» шла с переменным успехом. Так к 1927 году потерпел крах «перманентный революционер» Лейба Бронштейн-Троцкий. Тогда же, в 1927 году, усилиями «национал-большевиков» Сталина, из страны высылают окопавшегося в Ленинграде «6-го ребе» Йозефа Шнеерсона, возглавлявшего нацистскую секту «Хабад». Для того, чтобы понять «почему», нужно вспомнить, что 27 мая 1927 г. Англия разрывает с СССР дипломатические отношения и аннулирует торговое соглашение, а посол США во Франции М.Геррик открыто призывает к прямой интервенции СССР, который в 1927 году, в результате провокаций «интернационаистов», оказался на пороге войны с Европой.
В целом же, по признанию «электронной еврейской энциклопедии», 1920-е оказались «наиболее либеральным периодом именно для иудаизма в СССР». Между тем, количество синагог и иешив по сравнению с 1917 годом в Советской России выросло в 1,7 раз – это длилось вплоть до 1932, когда их количество сократилось почти до нуля – с закреплением у власти «национал-большевиков». Причем, в ходе борьбы борьбе с иудо-комиссарами, в январе 1931 в «Нью-Йорк Таймс» появилось внезапное заявление И.Сталина Еврейскому Телеграфному Агентству: «Коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью»[2].
Нужно отметить, что «отец-народов» здесь слукавил. Свое положение «иудо-большевики» после занятия власти действительно почти сразу обособили законом: «…Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона» (Известия 27-го июня 1918 года). Что такое «предписывается ставить вне закона» в то время объяснять не нужно.
Лишь через 12 лет, когда влияние «интернационалистов» стало понемногу спадать, Пленум Верховного Суда РСФСР в специальном постановлении 28-го марта 1930 года разъяснил, что ст. 59 УК РСФСР не должна применяться к «выпадам в отношении отдельных лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, на почве личного с ними столкновения»; такого рода выпады должны караться по нормам о нанесении оскорбления (ст. 159 Уголовного Кодекса) или, если они «сопровождались хулиганством», как таковое (ст. 74)[3].
При этом, сталинская «борьба с антисемитизмом» привела лишь к отказу от общеупотребимого слова «жид». Название евреев поменялось на Украине за год из-за почти забытой теперь сталинской кампании против антисемитизма 1929-1930 годов. Зато в 1930-е годы в СССР были ликвидированы все безумные еврейские «научные и фольклорные институты», бесконечные еврейские филиалы академий наук УССР и БССР, в том числе и «Киевский институт пролетарской еврейской культуры», которые наплодили дорвавшиеся до власти комиссары.
Между тем, с потерей влияния в России «интернационалистов», раздававших концессии иностранному капиталу, сначала с падением Троцкого (к 1928 году), а затем и с началом вытеснением его людоедских соратников» именно в 1932 году резко увеличилось финансирование «проекта Гитлер». Благодаря этой финансовой поддержки и на волне рукотворного кризиса 9 млн. безработных в 1932 году проголосовало за НСДАП (дополнительно отметим и горизонты планирования: именно с 1928 года, когда нацистская партия представляла из себя еще кучку недофинансированных маргиналов, а немецкая армия – жалкие силы самообороны на велосипедах, начинается строительство «линии Мажино», призванной вытолкнуть будущего немецкого военного монстра на Восток). А с 1933 года – еще до «хрустальной ночи» и прочих «актов антисемитизма», начинается публичная травля Гитлера «мировой еврейской общественностью», с одной стороны публично призывающей к бойкоту немецких товаров, с другой, менее публичной стороны, начавшей массированное финансирование военного сектора промышленности Германии.
Если вернуться к ситуации в России, мы говорили выше, что реальными создателями идеологи ГУЛАГа и всем руководящим аппаратом этой системы вплоть до 1937 годы были евреи. Но при этом именно после сокращения количества синагог в начале 1932 года была организована политика «голодомора». Причем почти 100% совпадение географии «голодомора» и карты «хазарского каганата» наводит на мысли о «расчистке территории» .

Кроме НКВД и системы ГУЛАГа не менее показателен и национальный состав военно-политического руководства Красной Армии – вплоть до 1937 года – того самого времени, когда по вою «лиц либеральной национальности» и начались «ужасные сталинские репрессии». Как будто до это не было ни «красного террора», ни ужасов гражданской войны, ни геноцида казаков «иудо-комиссарами», ни геноцида Русского народа, от рук тех же «иудо-большевиков» - к «гениальным изобретениям» которых нужно отнести и пресловутый «газваген» - позже позаимствованный немецкими нацистами.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИЗРАИЛЬ
Если мы уж начали вспоминать историю, рассматривая ее под тем ракурсом, который тщательно стараются скрыть от «масс», нужно вспомнить еще и создание Израиля и роль Сталина в этом процессе, которые многие ставят ему в вину. Нужно отметить, что создание этого государство планировалось различными силами – и его было сложно остановить:
- от создания «Израиля в Крыму» Сталину удалось отбиться в начале 1930-х годов, разрушив план «Джойнт» от международных банков в проектах «Общества содействия землеустройства евреев-труженников» ОЗЕТ и «Союза колонистов Крыма Бундестрой» (ещё одна из причин ненависти к нему со стороны «либераствующих»);
- Польша и Германия (вступившая в тайный сговор с нацистами), в 1930-е всерьез рассматривали Палестину и Мадагаскар для выселения евреев со своей территории;
- Англия так же не пылала энтузиазмом иметь на своих территориях, включая колонию в Палестине, массовых пересленцев. Поэтому в ее планах было создание «Израиля» на французской колониальной территории Мавритании… и в Восточной Германии, разрушенной в Большой Войне – как это планировалась глобальной закулисой ещё в 1930-х (сегодня планы по созданию «еврейского государства в Тюрингии» пытаются реанимировать в качестве «запасного аэродрома» - в случае падения уже существующего, но так и не ставшего дееспособным «Израиля в Палестине»).
И в этом смысле Сталину удалось переломить планы англичан – и выпихнуть не самых «приятных» соседей на подмандатную территорию Англии – Палестину, где евреи оказалась заложниками своего идеологического постулата «око за око» - столкнувшись с той же установкой в исламе.
Далее последовала кампания против «безродного космополитизма», «неоконченное дело врачей» и убийство Сталина – скорее всего руками Кагановича, которого «отец народов» держал к себе слишком близко…
Впрочем, мы слишком отошли в сторону. Возращаясь к «открытиям», которые только в этом году решится опубликовать «рукопожатный» историк, мы должны сказать, что только на основании полного анализа всего спектора исторических фактов, о которых так и не решился упомянул «свидомый» исследователь Золотарев, можно понять, почему «украинский фашизм» от партии О. Тягнибока-Фройтмана, имеющий явную «антикацапскую» направленность, спонсирует на Украине богатейший еврейский олигарх Коломойский.
ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ
Сегодня же мы можно пожалеть лишь о двух вещах – что не всех палачей русского народа призвали к ответу в 1937 году. И о том, что в 1991 году власть получили их внучатки, представляющие интересы глобальных банкиров. И если первые хорошо нам известны и с их грядущей судьбой все ясно, то вторую группу нужно сейчас еще объявить поименно – и приготовится к их нейтрализации любыми методами. Поскольку они, оставаясь безнаказанными почти две сотни лет, чрез свои «инструменты управления», неумолимо ведут мир к Третьей Мировой войне.
________________
[1] 17 марта 1937 года из Центрального аппарата НКВД был выдворен в Саратовскую область Я.С. Агранов-Сорензона (начальник Главного управления Госбезопасности НКВД СССР), но зато заместителями Н.И. Ежова были назначены М.П. Фриновский (16.10.36), М.Д. Берман (29.09.36), Л.Н. Бельский-Левин, В.М. Курский, С.Б. Жуковский-Беркович, и один полу-латыш Л.М. Заковский-Штубис (их руками и убирался предыдущий «пласт», позже все были уничтоженны). Вместе с тем заместителем Ежова был назначен хотя бы 1чекист русской национальности В.В. Чернышев. Эти первые шаги дали основание А.И. Микояну на праздновании 20-летия ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР 20 декабря 1937 года заявить: «...Ежов создал в НКВД замечательный костяк чекистов… изгнав чуждых людей, проникших в НКВД и тормозивших его работу» (Я. Кожурин, Н. Петров «От Ягоды до Берии», Правда-5, №17, 5-18 мая 1997г., стр.10). Чистка в аппарате НКВД была организована кардинальная. Из центрального аппарата НКВД, который насчитывал (в последний год работы Ягоды) 22283 оперативных работников, были уволены (с 01.10.36 по 01.01.38) 5229 оперативных работников, то есть 1/4 личного состава (около 25%). Из этого числа были арестованы «за контрреволюционную деятельность в органах» около 1700 офицеров, «за развал работы» - 373 офицера и «за уголовные преступления» - 35 офицеров. В числе арестованных Н.И. Ежовым руководителей НКВД СССР были: Г.Г. Ягода, бывший Нарком, А.Я. Лурье, начальник Инженерно-строительного управления, М.Н. Гай, начальник Особого отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР, К.В. Паукер, начальник Отдела охраны (Правительства) Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Однако, еще при Ежове в Центральном аппарате НКВД, кроме вышеупомянутых кадров, продолжали свою деятельность:
Эйхманс Ф.И. - начальник ГУЛАГа (непосредственно руководивший репрессиями);
Фельдман В.Д. - особо уполномоченный при Коллегии НКВД;
Ткалун П.П. - комендант Московского Кремля;
Слуцкий А.А. - начальник Иностранного отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;
Дейг Я.А. - начальник Секретариата НКВД;
Леплевский И.М. - начальник Особого отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;
Радзивиловский А.П. - начальник 3 отдела 3 Управления НКВД СССР;
Берман Б.Д. - (очевидно, брат Бермана М.Д.) начальник 3 Управления НКВД;
Рейхман Л.И. - начальник 7 отдела 3 Управления НКВД СССР;
Шнеерсон М.Б. - начальник Центрального Торгового управления НКВД СССР;
Пассов З.И. - начальник 5 отдела 1 Управления НКВД СССР;
Даган И.Я. - начальник 1 отдела Главного управления НКВД СССР;
Шапиро Е.И. начальник 9 отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;
Плинер И.И. - начальник Переселенческого отдела НКВД СССР;
Вейншток Я.М. - начальник отдела кадров НКВД СССР;
Залпетер А.К. - начальник 2 отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;
Коган Л.И. - ответственный сотрудник ГУЛАГа НКВД СССР;
Николаев-Журид Н.Г. - начальник оперотдела Главного управления Госбезопасности СССР;
Цесарский В.Е. - ответственный секретарь Особого Совещания при НКВД СССР (органа по вынесению приговоров по политическим делам в составе 3 членов ОСО);
Стацевич Г.М. - начальник отдела кадров НКВД СССР;
Ульмер В.А. - оперативный секретарь Главного управления Госбезопасности НКВД СССР. Их уже зачищали руками Л.П. Берии.
[2] New York Times, 1931, 15 Jan., p. 9.// И.В. Сталин. Сочинения: В 13 т. М.: Госполитиздат, 1946-1951. Т. 13, с. 28
[3] «Уголовный Кодекс РСФСР», Москва, изд. Наркомюста, 1938 г., стр. 148
Метки: россия русские евреи история интересно |
Процитировано 1 раз
Еврейский большевизм. |

..выдержки из выступления депутата бундестага от ХДС Мартина Хомана:
«Откуда же взял Форд эти идеи, столь напоминающие нам нацистскую пропаганду про «еврейский большевизм»? Послушаем, что сказал еврей Феликс Тайльхабер в 1919 году: «Социализм – идея еврейская…Наши мудрецы веками проповедовали социализм». А это значит, что у колыбели коммунизма и социализма стояли еврейские мыслители. Предки Карла Маркса, как по материнской, так и по отцовской линии – раввины. Портрет его висел в кабинете одной ученой еврейской феминистки, которая, открыто признает: «Я росла с представлением о еврее как защитнике социальной справедливости, стороннике прогресса и социализма. Социализм был нашей религией». В литературе этого раннекоммунистического периода постоянно звучат квазирелигиозные мотивы. Многие евреи причастные к большевизму чувствуют себя, так сказать, «благочестивыми воинами мировой революции». Так, например, Курт Айснер уже в 1908 году ожидал, что «религия социализма» преодолеет «отчаяние скорбной юдоли» и «безнадежность земной судьбы». А Лео Розенберг в 1917 году славил пролетариат как «Всемирного Мессию».
Конкретно встает вопрос: Сколько евреев было представлено в руководстве революции? Из семи членов большевистского политбюро 1917 г. евреями были четверо: Лев Троцкий, Лев Каменев, Григорий Зиновьев и Григорий Сокольников. Неевреями были Ленин, Сталин и Бубнов. Из 21 члена Центрального Революционного комитета (очевидно, имеется в виду Военно-революционный комитет – прим. перев.) России в 1917 г.евреев – шесть, т.е 28,6%. Необычайно высок был процент евреев в революционных учреждениях вовсе не только в Советском Союзе. Евреем был Фердинанд Лассаль, также как Эдуард Бернштейн и Роза Люксембург. В Германии в 1924 году из шести руководителей компартии евреи четверо, т.е. две трети. В Вене из 137 ведущих австро-марксистов евреев 81, т.е. 60%. В Венгрии евреи – 30 из 48 народных комиссаров. Необычайно высок был процент евреев в ЧК - революционной советской тайной полиции. Составляя в 1934 году примерно 2% населения СССР, среди руководителей ЧК евреи составляли 39%. То есть, «еврей» по советским понятиям – это не религия, а национальность. А русских в ЧК всего 36% было. На Украине же евреями были все 75% чекистов.
От этой констатации – прямая дорога к событию, вызвавшему в свое время огромное возмущение: Убийство русского царя Николая II и его семьи было совершено по приказу еврея Якова Свердлова собственноручно евреем Хаимовичем (?) Юровским. Далее встает вопрос, были ли евреи в коммунистическом движении просто попутчиками или скорее лидерами? Верно – второе. Лев Троцкий в СССР, Бела Кун в Венгрии.
Не позабудем и Мюнхенскую Советскую республику: Курт Айснер, Евгений Левине, Тобиас Аксельрод и другие евреи были в ней на должностях руководящих. Много шуму наделало тогда вторжение вооруженных красноармейцев в офис папского нунция Пацелли (ставшего впоследствии Папой). Революционеры угрожали ему, приставили к груди пистолет. В конце апреля 1919 г. красногвардейцами были расстреляны 7 членов «Общества Туле», тесно связанного с будущей НСДАП, что свидетельствует о решимости в осуществлении революционного процесса. Этот расстрел заложников, сообщение о котором стояло 5 мая 1919 г. на первой странице лондонской «Таймс», «дал пищу ядовитому антисемитизму и неутихающей жажде мести».
Обратим внимание на революционный энтузиазм и решимость еврейских коммунистов. Эта революционная элита на полном серьезе заявляла устами Франца Коритшонера из коммунистической партии Австрии: «Лгать и воровать, даже убивать во имя идеи – это требует мужества, требует величия». Григорий Зиновьев в 1917 г. заявил «от 90 до 100 миллионов советских русских пойдут за нами. А что до остальных – сказать вам нечего. Они должны быть уничтожены». Аналогично выразился и Моисей Володарский: «Интересы революции требуют физического уничтожения буржуазии». Вполне в том же духе и Артур Розенберг в 1922 г.: «Долг советской власти – обезвредить непримиримых врагов».
Эти высказывания еврейских коммунистических революционеров, вне всякого сомнения, не были пустыми угрозами. Это было вполне серьезно. Согласно статистическому исследованию одного профессора, процитированному Черчиллем в 1930 г., до 1924 года жертвами Советов стали: 28 православных епископов, 1.219 священнослужителей, 6.000 и профессоров и преподавателей, 9.000 докторов, 12.950 помещиков, 54.000 офицеров, 70.000 полицейских, 193.000 рабочих, 260.000 солдат, 355.000 интеллигентов и ремесленников, а также 815.000 крестьян.
Особенно жестоко подавлялось сопротивление принудительной коллективизации на Украине. При решающем участии еврейских чекистов были погублены миллионы человек. Большей частью они умерли от голода.
Нельзя умолчать и о выраженной антицерковной, антихристианской направленности большевистской революции, хотя большинство школьных учебников об этом не упоминают. Большевизм со своим воинствующим атеизмом организовал фактически самое большое в истории гонение на христианство и религию. По статистике российских властей в период с 1917 по 1940 г. были арстованы и расстреляны 96.000 православных христиан, в т.ч. священники, диаконы, монахи, монахини и прочие священнослужители.
Не щадили ни церквей, ни монастырей. Здания либо разрушались, либо использовались для нерелигиозных целей. Церкви превращали в клубы, магазины или склады. Золотую и серебряную богослужебную утварь пустили на финансирование революционных движений во всем мире. А как же жили сами религиозные евреи в первые годы советской власти? И их большевики тоже преследовали. Именно Троцкий стоял во главе т.н. движения «безбожников». Сам он не считал себя евреем, но и в России, и по всему миру евреем его считали.
Дамы и господа!
Мы видим, каким сильным и продолжительным было еврейское влияние в революционном движении России и среднеевропейских государствах. Именно поэтому американский президент Вудро Вильсон в 1919 г. определил большевистское движение как находящееся «под еврейским руководством». Не без оснований можно было бы, в связи с миллионными жертвами первой фазы революции, говорить о «преступности» евреев. Множество евреев действовало как на уровне руководства, так и в расстрельных командах ЧК. Поэтому в какой-то степени оправдано определение евреев как «народа-преступника». Звучит ужасно, но соответствует той же логике, по которой народом-преступником именуют немцев.
Кто хочет проверить правильность – вот ссылка на оригинал:
Ansprache von MdB Martin Hohmann zum Nationalfeiertag, 3. Oktober 2003
My Webpage
Метки: россия история евреи интересно |
Процитировано 1 раз
Эротика |

Ей снился сон:
Маленькая бабочка села ей на живот, от легкого прикосновения замерло сердце, бабочка порхала, прикасаясь крылышками к ее телу: живот, грудь, шея.
Она застонала и открыла глаза. Лунный свет освещал комнату, на часах три часа ночи, белая простыня и его улыбка.
- Соня, сколько можно спать,- сказал он и обнял ее крепче.
- Подожди,- она подошла к окну, чтобы закрыть занавеску.
-Зачем? Не надо, я хочу тебя видеть,- прошептал он.
-Мне кажется, за нами кто-то наблюдает.
- Все спят давно, иди ко мне,- он подошел, обнял ее за плечи и стал медленно целовать ее шею, от удовольствия она закрыла глаза и растворилась в его ласке.
Свет ослепил мои, привыкшие к ночи, глаза.
- Ты опять не спишь,- на кухню зашел муж,- Ань, ты ослепнешь, как можно писать в темноте?
-Можно, я скоро, еще чуть-чуть.
- Что ты хоть пишешь?
Я улыбнулась,- Ты не поверишь, эротику.
-Что?- от удивления он совсем проснулся.
-Не мешай мне, я почти дописала.
-Ты серьезно? Дай почитать.
Я быстро закрыла блокнот,- Нет, ты будешь смеяться, я тебя знаю.
Он сделал серьезное лицо, - Не буду.
-Ладно, на, читай, все равно не отстанешь,- я протянула ему блокнот.
Он прочитал, улыбнулся,- Ничего нормально, бабочка села ей на пятку и от легкого прикосновения она заржала.
- Я же говорила, ты будешь смеяться,- я нахмурилась, забрала блокнот.
-Аня, сколько время?
- Поздно.
- Нет, сколько время?
Я посмотрела на часы,- Три часа.
-Посмотри в окно, что ты видишь?
-Ничего.
- Посмотри, посмотри, что ты видишь?
-Ну, ночь, луна светит, звезды,- я улыбнулась.
Мы посмотрели друг другу в глаза.
-Простыня, правда, не белая, а в цветочек и я на бабочку не похож, зато, за нами никто не наблюдает, это точно,- сказал он и стал целовать мою шею….
© 06.10.2011 Анна Март
Серия сообщений "Любовь":
Часть 1 - Огромная волна накрыла влюбленных во время предложения руки и сердца
Часть 2 - На лице живут глаза...
Часть 3 - Весенняя история
Часть 4 - И новая юность поверит едва ли, Что папа и мама здесь тоже бывали...
Часть 5 - Эротика
Часть 6 - Очень женский пост...и талантливый!!!
Часть 7 - Из жизни собак.
...
Часть 14 - а вот не про Украину. И не про сектор Газа. А очень даже наоборот.
Часть 15 - Ложится спать пустой трамвай...
Часть 16 - Любовь - оружию...
Метки: проза любовь красота эротика |
Процитировано 2 раз
Понравилось: 4 пользователям
Не называй мое имя... |

Я бежала, не оглядываясь, зная, что догонят. Это знание было со мной всегда, глаза - смотрящие в будущее, сердце - знающее истину.
Люди не любили меня, сторонились, считали странной, но приходили, когда уж сильно прижимало. Оглядываясь по сторонам, вздрагивая от шороха, ко мне приходили за помощью. Я всегда знала наперед, кто придет, зачем и что ему сказать. Были интересные – с мыслями, но часто приходили с гнилыми мыслишками- от них плохо пахло, и меня долго тошнило...
Я давно перестала думать словами, заменив их картинками и образами. Я научилась слышать свое тело и чувствовать каждую клеточку.
Люди боялись меня, говорили, что у меня взгляд ведьмы, но я никогда не была злой. А во взгляде было не зло, а отвращение к их мыслям, которые я слышала.
Так я и жила- одна в лесу, вдали от людей, только иногда помогая тем, кто ко мне приходил.
И все было хорошо, пока мне не стал сниться странный сон. Каждую ночь меня стал преследовать его образ. Светлые глаза излучали такую любовь, понимание и радость, что хотелось смотреть в них вечно.
- Кто ты,- спрашивала я,- Бог?
-Нет, Богом меня сделали люди, - отвечал он, и его глаза меняли свет на боль.
- Ты человек? – спрашивала я?
- Да, я человек, такой как ты и как все они,- грустно отвечал он.
- Я поняла, ты…,- я хотела назвать имя, но замолчала, увидев, как он посмотрел на меня... В его взгляде было столько боли, что я почувствовала ее физически.
- Не называй мое имя,- попросил он,- Его слишком часто называют.
- Ты снишься мне?- спросила я?
- Нет, я прихожу к тебе во снах, ты же знаешь разницу, - ответил он.
- Ты что-то хочешь от меня? – спросила я.
- Иди к людям, научи, объясни,- он волновался, я это чувствовала и дрожала вместе с ним.
- Но ты же учил, объяснял, они все помнят, знают, записывают,- ответила я.
- Ты же знаешь, что это не так,- сказал он,- я прошу, иди к ним!
Всегда на этих словах я просыпалась, долго сидела с широко раскрытыми глазами и беззвучно плакала.
- Куда мне идти? К кому? Зачем – думала я?- Что им сказать? Как объяснить? Нет, это невозможно, бессмысленно, глупо.
Но сон повторялся каждую ночь. Он приходил, улыбался, гладил меня по волосам,- Ты же знаешь, что так надо, ты сможешь, - говорил он. И я знала. Да, я знала...
Окончательно смирившись, я стала говорить. Люди приходили ко мне все чаще и чаще. Сначала с недоверием слушали меня, но потом все больше проникались моими словами.
- Не бойтесь! Будьте свободными! Встаньте с колен! Хватит унижаться, вы можете многое, но для этого нужно очистить свои мысли. Любите себя и мир, как себя. Будьте прозрачны, и Вселенная откроется вам,- говорила я им. Слова лились из меня как вода, голова кружилась, меня переполняли сильные эмоции.
- Бог есть ВСЕ! Не пытайтесь отделить Его, не поклоняйтесь образу! – уже кричала я.
В тот вечер ты пришел ко мне с белой розой.
- Не бойся, ты выдержишь, зло уже идет, но я с тобой, не бойся боли, я буду ждать тебя, - сказал ты и растворился, оставив только розу.
Я проснулась, сердце бешено стучало.
- Сейчас придут,- сказал мне внутренний голос. Я оделась и вышла из дома: на пороге лежала белая роза. Я подняла ее и прижала к сердцу.
- Пора, - сказала я и побежала. Вдали уже виднелись огни, крики и лай собак доносил ветер.
Я бежала, не оглядываясь, зная, что догонят.
- Помоги мне,- шептала я и целовала твою розу,- все не могу больше. Я остановилась и смотрела, как ко мне приближается лавина людей. Толпа кричала, смеялась, улюлюкала...
Я уже явственно ощущала запах своей смерти.
- Спалить ведьму! Спалить ведьму! – Различала я слова, которые принес ветер.
Боль, жуткая острая душевная боль!
Они плевали мне в лицо, били и срывали одежду.
Вот женщина, которой я помогла родить здорового малыша, вцепилась мне в волосы и со страшной силой вырвала клок, мужчина, которого я лечила от астмы, плюнул мне в лицо и громко рассмеялся.
Боль, жуткая острая душевная боль!
Я не чувствовала их ударов - я умела управлять своим телом, только запах крови и слюны вызывал тошноту. Душа моя кричала!
Они быстро связали мне руки и привязали к столбу, обложили его ветками и сухой травой. Я посмотрела в небо.
- Помоги мне, все бессмысленно, ты же видишь, - сказала я.
- Нет, смотри, - услышала я внутренний голос.
Я посмотрела по сторонам и остановила свой взгляд на ребенке. Мальчик лет пяти держал мою розу, красную розу от моей крови. Он прижимал ее к сердцу и плакал. Я смотрела на него, пока дым не скрыл все передо мной.
- Я иду к тебе! – закричала я! И услышала, как охнула толпа.
Все разошлись. И только мальчик долго стоял и смотрел в небо…
Наступил новый день.
Утро подернуло пеплом еще тлеющие угли...
© 31.10.2011 Анна Март
Метки: люди религии россия проза |
Процитировано 4 раз
Понравилось: 5 пользователям
Сергей Ольшанский: «Сыграл за сборную, а через три дня меня отправили служить на Камчатку» |

Сборная СССР. Первый ряд (слева направо) С. Мышалов (врач команды), В. Онищенко, А. Якубик, В, Семенов, М. Хурцилава. Второй ряд О. Долматов, Р.Дзодзуашвили, Ю. Истомин, Е. Ловчев, В. Капличный. Третий ряд: Г. Зонин (тренер команды), Ю. Елисеев, А. Куксов, В.Банников, С. Ольшанский, А. Еськов, А. Пономарев (старший тренер). Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
Один из лучших центральных защитников советского футбола семидесятых живет на юге Москвы – недалеко от стадиона «Труд», где играет «Ника». Ольшанский приезжает домой с очередного матча команды, опекаемой Романцевым и Тархановым.
– В «Нике» работаю генеральным директором. Школы в связи с финансовыми трудностями не стало. Осталась команда, играющая в КФК на первенство Москвы. Начальник команды – старший сын Тарханова Эдик, а тренер – младший сын Юра. У него с сердечком что-то – сам в футбол не заиграл. Среди учредителей «Ники» есть еще Олег Романцев и Дима Хохлов.
В прихожей Ольшанского – его портрет, барельеф с мюнхенской Олимпиады, грамота от министра обороны. В гостиной – подаренная на 60-летие огромная ваза с эмблемой «Спартака» на одной стороне и ЦСКА – на другой.
– Жена умерла шесть лет назад. Теперь вот один живу, – рассказывает Сергей Петрович, складывая диван, занимающий большую часть зала, и садясь в кресло у приоткрытого окна. – Друзья зовут в воскресенье в «Лужники» – вот думаю, идти ли. Фанаты в метро один раз чуть голову не снесли.
Ольшанский провел шесть лет в «Спартаке», четыре – в ЦСКА, но начинал в другой московской команде.
– В экспериментальной молодежной сборной, которую создали на базе «Буревестника», я играл центрального нападающего. Нашего тренера Всеволода Блинкова вызвали на чемпионат мира 1966 года, а нам как раз предстоял важный турнир в Сан-Ремо. Блинков попросил съездить с нами Никиту Симоняна. На том турнире я стал лучшим бомбардиром и получил приглашение от «Спартака».
- Что запомнилось в Сан-Ремо?
– Это была моя первая поездка за рубеж. Первый раз на море попал. В Сан-Ремо мы стали чемпионами, хотя среди соперников были сильные итальянцы и немцы. После турнира нас пригласили на фестиваль. Попали на выступление знаменитого шансонье Сальваторе Адамо. Нас как чемпионов усадили в отдельную ложу. Нам всем по 18 лет было.
- Кто побеждал в Италии вместе с вами?
– Вратарь Виктор Абаев, отец вратаря «Волги», пахтакоровец Слава Бекташев, торпедовец Сашка Чумаков, игравший с Ворониным (Сашке потом ногу отняли, недавно умер), Саша Гребнев (его в «Спартак» раньше меня позвали), Вася Курилов из Минска, динамовец Володя Долбоносов.
- Что привезли домой?
– Мокасины и водолазку, матери – кофточку. После Сан-Ремо нас повезли в Париж – купил невесте модные тогда сапоги-чулки. У нас они стоили 200 рублей, а там – доллар-полтора. Помню, будущая теща разволновалась, увидев их: «Зина, не бери! Это ж такой дорогой подарок». Себе я чаще всего набирал пластинки. В Бразилии купил альбом Энгельберта Хампердинка, британского певца. Когла летели через Нью-Йорк, на Брайтон Бич купил невесте кроличью шубу.
- Зарубежный шопинг не обходился без курьезов?
– Решили как-то пройтись по парижским магазинам – без денег. Вдруг Володька Редин увидел те же самые сапоги-чулки и рванул в гостиницу за наличными – боялся, что все разберут. Двери в магазине были стеклянные и раздвижные. Так Вовка несся с такой скоростью, что не заметил их, а они не успели раздвинуться. Влетел в них лбом. Продавщицы в панике. Стали лед к шишке прикладывать.
- Бывает.
– Еще один случай произошел с Николаем Петровичем Старостиным. Пошел он как-то закупаться со своим помощником Анатолием Коршуновым. Набрали вещей, идут расплачиваться, а там обед. Касса закрылась прямо перед Старостиным, а у него полные сумки в руках. Ему говорят: «Ноу-ноу!». Старостин сплюнул так и выдал: «Какой нах.й ноу?! Я в Москве все проблемы одним ударом решаю». И бабахнул по прилавку кулаком. Мы все ахнули.
- Кто в советской сборной знал больше английских слов?
– Особых полиглотов не было. Но Гешка Логофет освоил английский и начал учить итальянский. Ему самому это было интересно, готовил себя к тренерской деятельностью.

Николай Старостин
- Как вы попали в «Спартак»?
– «Буревестник» распустили. Его создавали на четыре года – расчитывали, что хотя бы два человека попадут в основную сборную. Но через два года нас расформировали. Не поверите – из-за того, что взрослая сборная проиграла США. Почему-то гнев председателя Спорткомитета пришелся на нас. В ту пору председателем федерации футбола был локомотивец Гранаткин и он распорядился передать лучших игроков «Буревестника» в «Локомотив», но на нас с Женькой Ловчевым уже положил глаз «Спартак». Строили разные козни, заманивали в «Локомотив», но Старостин сказал: «Держитесь» и мы стояли на своем: «Только в «Спартак». Симонян дал понять, что мы с Ловчевым ему очень нужны, а Старостин ходил по всем вышкам – сражался за то, чтобы мы перешли в «Спартак».
- Каким был Ловчев в юности?
– Быстренький, настырный, техничный. В «Спартак» лихо вошел. Крутиков сломался и Ловчев заиграл слева в обороне. Через год после дебюта в «Спартаке» Женька поехал на чемпионат мира.
- Свой дебют в «Спартаке» запомнили?
– Вышел в Кутаиси с первых минут. Ведем 2:0, выхожу один на один и вдруг защитник Цверава засаживает мне по ахиллу. Упал как подкошенный. Миронова из ЦИТО спрашивает: «Ну что, делаем операцию?». Уточняю: «А что потом – могу и не заиграть?», Отвечает: «Можешь». – «А как без операции?» – «Бинтовать ногу». Так я и стал играть с бинтом. В состав поначалу не пролезал и надумал менять команду. Принес Старостину заявление об уходе. Он спросил: «Ты играть хочешь?» – «Хочу». – «Ну и забирай тогда свое заявление. Если хочешь – добьешься своего».
- И как вы добивались?
– В 69-м мы стали чемпионами, получив в подарок «Спидолы» – такие транзисторные радиоприемники, а в 70-м большинство спартаковцев уехали в сборную. В том числе защитники – Вадик Иванов, Гешка Логофет. Симонян говорит: «Давай попробуем тебя в обороне». Поехали на халтурную игру в Астрахани. Выиграли 2:0, подходит Старостин: «Ты же прирожденный защитник!» А потом Вадик Иванов сломался в Ташкенте и я окончательно закрепился в защите – так, что колом не вышибешь. Когда Вадик выздоровел, сказал мне: «Серег, ну мне здесь делать нечего». Позже на предсезонном собрании ребята выбрали меня капитаном.
- Вы участвовали в мюнхенской Олимпиаде, во время которой палестинские террористы захватили израильскую делегацию. Что в это время происходило с нашей сборной?
– Нам запретили ходить в форме с буквами СССР по Олимпийской деревне. Был такой террорист Меир Кахане. После убийства 11 израильтян (тренеров, спортсменов и судей) он пообещал выкорнуть кого-то из советской делегации. Когда происходили похороны погибших, нам даже запретили на них появляться. В нашем корпусе дежурили и немецкие полицейские, и наши чекисты. Олимпийские игры вообще собирались сворачивать, но затем все же решили провести соревнования до конца.
- Какой матч уцелел в памяти?
– С поляками играли за выход в финал. Вели 1:0, у Блохина была куча моментов, но Дзодзуашвили организовал пенальти, а потом Шолтысек засадил в девятку – проиграли 1:2. За третье место играли с ГДР. Но тогда было правило – если ничья, бронзовые медали получают обе команды. Ну, мы и сыграли 2:2.
- Журналист Лев Филатов написал про чемпионство «Зари» в 1972-м: «Никогда прежде мышиный шлейф сомнительных слухов не сопровождал чемпионов». Вы замечали странности в том сезоне?
– К нам подходили в конце чемпионата – из «Кайрата», «Пахтакора». Но мы со всеми играли в полную силу. Зато на следующий год ввели абсурдное правило, по которому после каждой ничьей пробивали пенальти. Игроки его не признавали. Однажды Женька Ловчев в серии пенальти против Тбилиси специально засадил в угловой флажок – чтоб показать, что не дело выявлять победителя таким образом. Бывают же боевые ничьи.
- Кто лучше всех исполнял пенальти в том «Спартаке»?
– Миша Булгаков, левый край. Когда разбегался, отходил чуть ли не до центрального круга – такая манера у него была. Он невысокий, ножки маленькие, вот и бежал от центра, чтобы сильней удар был. Мишку в команде любили – звали его Курский Соловей. Дружили с ним после окончания карьеры. Когда я работал тренером дубля ЦСКА, Миша просился ко мне помощником. Пришел к нему как-то на день рожденья – а там артист Церишенко, его сейчас по телевизору часто показывают. К сожалению, у Миши Булгакова не сложилась семейная жизнь. Почувствовал, что жена изменяет, ушел из семьи и вскоре выбросился из окна. Осталось двое детей.
- С кем еще дружили в «Спартаке»?
– С Женькой Ловчевым, Славкой Егоровичем. С Колей Абрамовым жили в одном доме. Шефствовал над нами Анзор Кавазашвили. В том, что стали чемпионами в 69-м, наполовину заслуга Анзора.
- Как проводили выходные?
– Шли всей командой в Оружейные бани на Маяковке. С утреца приходил массажист, занимал лавочки. Часто, особенно после выигрышей появлялся Николай Петрович Старостин. Усядется на лавку и начинает с нами игру разбирать: кто как сыграл. Затем все вместе шли в ресторан «София». Обедали. Было и спиртное – но только в выходной.
- Когда у «Спартака» начались проблемы?
– Симонян ушел в «Арарат» и сделал с ним золотой дубль. Нас возглавил Николай Гуляев. Безобидный тренер, но некоторые его упражнения не шли, квадраты какие-то, а он все равно их давал. Только он отходил – мы по-своему тренировались. Сашка Минаев, правый полузащитник, записывал за Гуляевым афоризмы: «Беги бегом», «Подавай угловой на уровне метр двадцать» и так далее. Разборы игры Гуляева были для нас лучше любого концерта.
- Весело тогда было в Тарасовке?
– Наша база тогда представляла собой двухэтажное деревянное здание, которое дрожало, когда мимо проезжали электрички. Там же сидел сапожник, который шил на бутсы и готовил шипы. Когда играл дубль, в Тарасовку приезжало две тысячи болельщиков – на каждый матч. Однажды Гешка Логофет привез в Тарасовку Савелия Крамарова. Целое событие для нас было. За «Спартак» вообще много актеров болело. Коршунов из Малого театра, Плучек из Театра Сатиры. В фойе Малого театра хранится мяч с нашими подписями. Мы же на игры всегда отъезжали от Театральной площади – там была остановка автобуса. Когда играл за ЦСКА, на базу в Архангельское приезжал Юрий Кузьменков – Федоскин из «Большой перемены».

Сергей Ольшанский против Георгия Ярцева
- Как вам удавалось избегать призыва до 27 лет?
– Я специально учился в институте так, чтобы на каждом курсе задерживаться по два года. В итоге протянул десять лет. Думали, что вопрос с армией уже решен, но вмешались большие силы – министр обороны Гречко и Анатолий Тарасов, работавший с футбольным ЦСКА. Призвали меня, капитана «Спартака» и олимпийской сборной, и Вадима Никонова, капитана «Торпедо». Но вместо ЦСКА его отправили в Чебаркуль, а меня – на Камчатку.
- Зачем вас посреди сезона выдернули из «Спартака», если в ЦСКА все равно не перевели?
– Хотели показать свою силу – вот что мы можем сделать с такими людьми. Старостин рассказывал, что было совещание в ЦК. Схватились партийные, болевшие за «Спартак», и военные. «Все равно он в ЦСКА будет играть» – говорили партийные. «Играть? Нет, он будет служить». 25 мая я сыграл за олимпийскую сборную против Югославии, а 28-го, в мой день рождения, ко мне приехал майор из военкомата. Оказывается – поступил личный приказ министра обороны Гречко заслать меня в Петропавловск-Камчатский. А Гречко был вторым человеком в стране. Прилетаю на Камчатку. Офицеры глазам не верят: «Мы же тебя видели три дня назад – за сборную играл. Ты, наверное, убил кого-то и тебя спрятали сюда, чтоб не сажать». Посмеялись.
- Да, забавно вышло.
– Дело получилось резонансное. Николай Озеров письма наверх собирался писать, как узнал. Обычно-то футболисты-призывники попадали в ЦСКА, смоленскую «Искру», в крайнем случае – в СКА Хабаровск. А тут капитан «Спартака» и сразу на Камчатку – и никакого футбола. Играть запрещали, так я стал чемпионом Камчатской области среди военных по прыжкам в длину. Должен был ехать на соревнования в Хабаровск. Начальство испугалось: вдруг увидят, что Ольшанский прыжками занимается.
- Чем занимались на службе?
– Рубил дрова. Два километра до Тихого океана. Сопки вокруг. 40 минут езды от Петропавловск-Камчатского. Должность называлась – помощник гранатометчика. Когда была учебная тревога, я находился в казарме. Хотя мне было 27, кровать стояла прямо у входа – как у самого молодого. Говорю: «Я ж не смогу за 40 секунд одеться». В итоге лег спать в форме. Вскочили. Схватил ящик с гранатами и побежал на позицию.
- Долго так бегали?
– Пробыл на Камчатке месяц. Пришла телеграмма: у полугодовалой дочки обнаружили проблемы с желудком. Требовалась операция. Солдатам тогда нельзя было летать. Было положено сначала плыть на корабле, а затем восемь суток ехать на поезде. Но офицеры поняли, что у меня дело срочное, собрали денег на самолет и я полетел в Москву. Было распоряжение министра обороны, чтоб духу моего не было в Москве до декабря, так что светиться мне было нельзя. На Камчатке предупредили: сначала реши вопросы с дочкой, и только потом иди в военкомат. Иначе забреют и больше не пустят в Москву.
- Так и сделали?
– Валентин Бубукин заметил меня на матче дублей и пригласил к Тарасову. Он спросил: «Хочешь в Москву? – «У меня дочка только родилась, теперь болеет. Конечно, хочу». – «Ну, хорошо. Будешь в ЦСКА. Иди отмечайся в военкомат». Божился, что все будет нормально, но обманул. Всю Камчатку построили: «Как могли отпустить солдата в Москву?» А меня задержали в военкомате на день. Один майор, болельщик «Спартака», успокоил: «Ладно, сейчас улетишь». – «Как, опять на Камчатку?» Я-то уж думал, что остаюсь дома. Посадили в автобус с сопровождающим и вручили билеты – уже не на Камчатку, а в Хабаровск.
- Уже лучше.
– Стал играть там за СКА. Посещаемость сразу выросла. Всем было интересно посмотреть на игрока сборной. Жил в пансионате на берегу Амура, прямо на территории стадиона. Думали, капитан сборной будет в Хабаровске дурака валять, но я с полной отдачей играл. Помню, в Благовещенске лупили меня всю игру и приговаривали: «Это тебе не высшая лига». Судьи не обращали на это никакого внимания. Однажды играли с красноярским «Автомобилистом» – так против меня действовал Олег Романцев. Тогда и познакомились.
- Как все-таки перешли в ЦСКА?
– В Хабаровске предлагали квартиру. Говорили: «Создадим все условия, привози жену». Но я уехал в отпуск в Москву. А там как раз сняли Тарасова и пригласили Бескова, который пообещал взять меня в ЦСКА. Но Бесков не договорился о чем-то с военными руководителями и вместо него пришел Мамыкин. Тот самый, кому Высоцкий посвятил строчку: «Вы слышали, Мамыкина снимают? За разврат его, за пьянку, за дебош». Мы шли внизу и Мамыкина сменил Всеволод Бобров. Но и он рассорился с военными и – хотя команда была за то, чтобы Боброва оставить – его уволили. Бобров очень тяжело переживал ту отставку.
- Каким он был в быту?
– Бобров – великий спортсмен, но простой человек. Зимой иногда выпускал нас тренироваться в хоккейной коробке. Занимался вместе с нами, ногу мог поднять выше головы – даже мы, молодые, так не умели. Дружили с ним в последние годы его жизни – я ведь был капитаном ЦСКА. Ездили отдыхать с женами.
- Какой-то из матчей ЦСКА – «Спартак» запомнился особо?
– Да нет, для «Спартака» в семидесятые главным соперником было «Динамо». Старостин всегда говорил: «Динамо» обыграйте – и считайте, что свое дело сделали». Видимо, у него такое отношение к органам с сороковых, когда его сослали в ГУЛАГ. Намного тяжелее, чем с ЦСКА, для «Спартака» складывались и игры с «Торпедо» – неудобный был соперник.
- Как проводили время на армейской базе в Архангельском?
– Жили вместе с хоккейной командой ЦСКА. Сблизился с Михайловым, Харламовым, Третьяком, Фетисовым. Спортсменам ЦСКА часто устраивали партийные собрания – там познакомился с баскетболистом Едешко, с ватерполистом Кабановым, с фигуристами Родниной и Зайцевым. Когда Валера Харламов расписался со своей женой, привез в Архангельское шампанское. Пригубили в закутке на кухне узким кругом. Валера, хоть и гениальный игрок, был спокойным и душевным парнем. Кстати, и в футбол неплохо играл.

Юный Валерий Харламов
- Вы поработали не только с Симоняном и Бобровым, но и с Бесковым. Какие с ним отношения сложились?
– Бесков сделал меня капитаном в сборной. Ко мне Константин Иванович относился хорошо. Помню, завоевали право на участие в монреальской Олимпиаде, но вместо Бескова поставили Лобановского, а он повез на Игры киевлян. Даже Женьку Ловчева отцепил.
- Самое необычное происшествие, случившее с вами в сборной?
– Поехали на месяц в турне по Южной Америке. Бах – приходит тренер Парамонов и заявляет: «На основании ваших игр, Ольшанского и Онищенко зовут на прощальный матч Гарринчи на «Маракану». А мы уже домой собирались, совсем невмоготу было играть после месяца путешествий. Парамонов: «Нет, надо быть». Третьим напросился Женька Ловчев: «Можно я тоже сыграю?»
- И как все прошло?
– На «Маракане» 130 тысяч. Против нас играли Пеле, Гарринча, Джалма Сантос. Проиграли 2:1. Трава жесткая, пекло. До конца особо не осознавали, что играем против великих игроков, чемпионов мира. Только сейчас понимаешь, с какими людьми на одно поле выходили.
- Чем еще удивила Южная Америка?
– Играли в Боливии. 4000 метров над уровнем моря. Облака были ниже, чем аэродром, на котором мы приземлились. У Володьки Онищенко кровь пошла. Не мог играть. То же у Витьки Звягинцева из «Шахтера». А я нормально переносил. Люблю жару, хотя у нас многие помирали от такой погоды.
- Как вам работалось с армейским дублем?
– У меня играли Димка Кузнецов и Игорь Корнеев, которые позже стали чемпионами страны. Корнеев переходил из «Спартака» со сложностями, приходилось уговаривать. Кузнецов рвался в «Торпедо», долго вели переговоры с его отцом. Заняли с дублем второе место, но основная команда вылетела, а клубам первой лиги иметь дубли не полагалось. По окончании сезона договорились, что перейду в штаб к Юрию Морозову. Возвращаюсь из отпуска, а на моем месте – Валентин Бубукин. Оказалось, что Бубукина, своего давнего друга, пролоббировал Тарасов.
- А как попали в Африку?
– Юрий Нырков, защитник команды лейтенантов, отвечал в генштабе за отправку специалистов в дружественные страны. Здесь мест не было, предложили армейскую команду в Гвинее-Бисау: «Там будет тяжело, самая отсталая страна в Африке. Мамыкин пробыл там три месяца и сбежал». Мне деваться некуда – поехал на три года. Финансовые запасы-то закончились. рассказывали, что до меня в Гвинее-Бисау работал какой-то лыжник из Ленинграда. Но команда его не восприняла, сразу поняли, что в футболе он не смыслит.
- Уехали с семьей?
– Направляли с женой, но я ей сказал: «Устроюсь, потом прилетишь». Жил не в военном городке, а рядом с футбольным полем. В коттедже бывшего португальского офицера. Сотрудник посольства, Славка, игравший за юношеский «Спартак», помог сделать ремонт в моей лачуге. Покрасил, установил кондиционер, душ. Жена приехала через пять месяцев.
- Как общались с местными?
– Первым делом мне заявили: «Переводчика у нас нет. Не найдешь общего языка с игроками – уедешь обратно». Но в моей команде играл футболист, который учился в советской военной академии. Сажал его рядом и проводил установки с его помощью. Записывал основные выражения в тетрадку. Потом я спокойно заговорил на креольском – это такой испорченный португальский. На тренировках общались с игроками без проблем. Еще я пошел на хитрость – нас ведь тогда изводили всякими партийными лекциями. Так я назначал на это же время тренировки и прогуливал партсобрания.
- Как проводили свободное время?
– Каждое воскресенье собирались на морской базе. Там жил Иван Едешко, тренировавший баскетбольную команду. Разыгрывали однодневные турниры. Выиграли их штук десять – в итоге каждый мой футболист получил по кубку. У меня вон тоже стоит трофей из Гвинеи. А еще советские суда заходили в наши порты, добывали рыбу. Нас с Едешко звали туда выступать перед моряками. В подарок получали по блоку рыбы. Кроме того, в Гвинее устраивали карнавалы – с масками, змеями, чучелами. Такой же, как в Рио.
- Самый запоминающийся матч вашей гвинейской команды?
– Однажды к нам приехала «Красная Пресня», которую тренировали Романцев с Ярцевым. Переживали перед игрой. Говорю: «Да не бойтесь, обыграете вы нас». Так и вышло – «Пресня» выиграла 2:1. Играли на песчаном поле.
- Как добирались на матчи?
– Садились в «студебеккеры» типа наших «уралов». Я в кабину, команда в кузов – и тряслись часа два в сорок градусов жары. Если нужно было играть на другом острове, грузились в вертолет Ми-8. Помню, отыграли игру, возвращаемся к вертолету, а наши пилоты пьяные. Оказывается, когда в Гвинее вызревает плод кажу, типа нашей сливы или персика, его выжимают и спустя день на солнце он превращается в брагу. В эти дни вся страна ходит подшофе. Когда летели домой, молил Бога, чтоб хотя бы не в океан грохнулись. На суше от нас еще что-то может остаться. А в океане сразу сожрут. Но приземлились нормально – пилоты, видимо, привыкли в таком состоянии летать.
- Что вас поразило в Гвинее?
– С двенадцати до четырех – мертвое время. Никто не работает. Все лежат, спят. До моего приезда команда питалась раз в день. Я пробил ребятам двухразовое питание. Сам боялся есть их еду – у них в основном рис и рыба. Готовил себе сам. Во дворе у меня росла папайя, бананы – куст срежешь, вскоре новый вырастает. Когда приехал в Гвинею, мне сказали: «Посади ананас, к твоему отъезду как раз вырастет».
- А вы?
– Посадил стебелек перед своей хижиной, через два с половиной года действительно вырос. Кроме того, два раза в год приплывал корабль и мы набирали себе продуктов на полгода. Однажды случился отлив и корабль оказался на мели – часа два ждали прилива. Дома следили, чтобы электричество не исчезало – иначе бы все продукты пропали. Так мы с еще двумя русскими семьями дежурили посменно: заливали солярку, крутили дизель, чтоб всегда было электричество.
- Чем занимались после возвращения из Африки?
– В Гвинею-Бисау улетал капитаном, а вернулся майором. Устроился в отдел спортигр ЦСКА – работал с баскетболистом Стасом Ереминым и гандболистом Жуком.
- «Спартак» с ЦСКА не забывают про вас?
– «Спартак» после каждого сезона собирает ветеранов – и тех, кто недавно закончил, и среднее поколение, вроде нас, и легенд – Исаева, Парамонова, Симоняна. Дарят подарки. Устраивают турнир, в котором играют Романцев, Ярцев, Хидиятуллин. Романцев одно время не играл, но сейчас снова на поле выходит. В ЦСКА каждый ветеран в день рождения получает от Гинера финансовую поддержку. Кроме того, Гинер платит каждый месяц пенсию. Спасибо ему.
http://www.sports.ru/football/148412331.html
Метки: спорт история интересно люди |
Понравилось: 1 пользователю
Олег Белаковский: «Когда Харламов натягивал коньки, мы еле сдерживали слезы» |

Семь лет назад на Аллее Славы ЦСКА появился бронзовый бюст доктора Белаковского – рядом с Рагулиным и Гомельским. С футбольной сборной Белаковский побеждал на Олимпиаде в Мельбурне, с хоккейной – в Саппоро и Инсбруке. Медицинскому штабу ЦСКА Белаковский отдал больше полувека и на пенсию вышел только прошлым летом – в 90 лет. В своей квартире на Грузинском валу знаменитый врач встречает меня в красно-синей майке с эмблемой ЦСКА.
– Послезавтра играем с «Кубанью», я очень переживаю. Чемпионство совсем близко. Смотрю все матчи, очень нравится, какой футбол сейчас показываем. Гинер толковый мужик, хороший организатор. Со Слуцким я познакомился пару лет назад – думающий, грамотный, вежливый. Я не работаю в ЦСКА почти год и очень тоскую по клубу. Хорошо, что игроки мои часто навещают. Вот с Борей Михайловым встречались несколько дней назад. Мы с ним друзья, а моя дочь Вера дружит с его женой Таней.
- Помните свой первый стрессовый случай в качестве врача ЦСКА?
– Был у нас такой защитник Миша Ермолаев, крестник мой. В 1957-м Миша столкнулся в Горьком с нашим же нападающим Германом Апухтиным и получил локтем в почку. После игры команда улетела, а мы остались в Горьком. Если бы я взял Мишу в Москву, он бы мог умереть в дороге и мы бы сейчас с вами не беседовали – меня бы засудили. По пути в военный госпиталь Миша стал тяжелеть, я делал ему уколы. Почка развалилась на две части. Он проявил колоссальную волю и продолжил играть с одной почкой, дорос до олимпийской сборной – как и Валера Минько в девяностые. Одна почка справлялась за две и мы предохраняли ее специальным фибровым корсетом.
- На Олимпиаде-1956 в Мельбурне тоже хватало работы?
– Толя Порхунов из ЦДСА слег с аппендицитом. Накануне полуфинала с болгарами жаловался: «Подходят какие-то люди, сулят богатства, предлагают остаться в Австралии». Они даже собирались забирать Порхунова, но мы увезли его из больницы раньше. А в начале второго тайма игры с болгарами столкнулись Коля Тищенко и болгарин Янев. Поднявшись, Коля побрел в мою сторону: «Вправьте мне руку». Смотрю, а у него все плечо в крови. Разрезаю майку, а там ключица торчит наружу. Коля торопит меня, ему не терпится вернуться в игру. Замен тогда не было. Я вправил ему кость, нанес фиксирующую повязку и Тищенко побежал на поле. В овертайме Тищенко дал на ход Рыжкину, тот прострелил, а Татушин забил победный гол. Мы вышли в финал и стали олимпийскими чемпионами.
- Алексей Парамонов рассказывал, что домой после победы вы добирались около месяца.
– Сначала на теплоходе «Грузия», а потом на поезде из Владивостока в Москву. На каждой станции нас встречали демонстрациями. Как раз накануне Нового года в вагон ввалился бородатый мужик с мешком на плече: «Сынки, а где Яшин?» Лева подошел к старику, а тот достал самогон, пакет семечек и упал на колени: «Вот все что есть. Спасибо от всего русского народа».

Франция 1956г. Слева направо: Белаковский, Татушин, Огоньков, Исаев, Яшин
- Каким вам запомнился Аркадьев, тренер команды лейтенантов?
– Интеллигент, с игроками – только на Вы. Как-то мы проиграли «Локомотиву» 1:4, а в правительственной ложе «Лужников» сидели Хрущев и маршал Гречко. Уже в 8 утра мы с Аркадьевым были в кабинете маршала. На огромном столе Гречко вместо стакана для карандашей стоит гильза от снаряда. Гречко безмолвно сверлит нас глазами, и один за другим ломает карандаши. Наконец спрашивает Аркадьева: «Как же вы проиграли при генеральном секретаре?»
- А он?
– Аркадьев заикался, поэтому растягивал гласные: «Андрей Антонович, проиграли из-за вратаря Разинского. Влюбился, пропускает тренировки, хочет играть в нападении. А у второго вратаря Сусло сломана кость в суставе». – «Вы же собирались взять Басюка из Прикарпатья», – удивился Гречко. «Но Басюка в команде нет», – ответил Аркадьев. Гречко тут же связался с военным командующим Прикарпатья. Следующим утром Басюка доставили в Москву на бомбардировщике.
- Когда вы сблизились с Аркадьевым?
– Он попросил меня, врача команды ВВС, подготовить Севу Боброва к Олимпиаде-1952. Сева сыграл прекрасно, забил три гола югославам, но в переигровке мы уступили и это была страшная трагедия, учитывая вражду между Сталиным и Тито. ЦДКА расформировали, хотя в сборной было только 4 армейца. Объяснение было такое: «Воинская часть, теряющая знамя в бою, расформировывается». Вскоре ликвидировали и ВВС, а меня перевели в Калининское суворовское училище.
- А как оказались в ЦСКА?
– Когда приказом министра обороны Жукова возродили ЦДСА, меня позвали работать врачом футбольной команды. В 1957 году ЦДСА переименовали в ЦСК МО, но такая аббревиатура никому не нравилась. Однажды в клуб приехал генерал Ревенко и мы стали думать над новым названием. Колебались между «Красной Звездой», «Звездой» и возвратом к ЦДСА. Я предложил: «Давайте просто – Центральный спортивный клуб армии». Ревенко передал министру, тот утвердил.
- Сборная в те годы каждую зиму на месяц уезжала в Южную Америку. Какая поездка запомнилась вам?
– В 1970-м в сборную взяли Женю Ловчева, совсем еще молодого. 16-го января он женился, а 20-го мы на месяц уехали в турне. В Каракасе на Жене лица не было – так тосковал по своей Тане. Все спрашивал: «Сколько длится медовый месяц?» Ребята отшучивались, он обижался. Пришлось выступить психологом и утешить Женю. Затем полетели в Сальвадор, который тогда воевал с Гондурасом. На аэродроме нас встретила хунта – в касках и с американскими автоматами.

Фото: Максим Поляков
- Помните травму, после которой футболист не смог вернуться на поле?
– В 1987-м во время игры с «Жальгирисом» в манеже «Олимпийского» форвард ЦСКА Сергей Березин ударился головой о бетонный пол. Перелом основания черепа, почти месяц в коме. Только очнулся: «Доктор, когда смогу играть?» Возвращаться на поле было смертельно опасно, но из Сережи получился хороший тренер: много лет работал с дублем ЦСКА, а недавно возглавил благовещенский «Амур», в котором начинал играть.
- Как вы перешли из футбольной сборной в хоккейную?
– До меня врачом в хоккейной сборной работал Алексей Васильев. Но в Финляндии он ляпнул, что финский кефир лучше советского. Это услышали чекисты и Васильева отправили домой. Тарасов позвал в сборную меня и я поехал на чемпионат мира в Стокгольме.
- С какими трудностями там столкнулись?
– На Коноваленко свалился шведский нападающий. Витя получил мощнейший удар коленом в лоб и упал без сознания. Я примчался, стянул с Вити маску-нашлепку и увидел, что его глазницы заполнены кровью. Диагностировали оскольчатый перелом носа, но уже через два матча Коноваленко вернулся в ворота и мы стали чемпионами мира.
- А потом?
– Вскоре после того чемпионата мы играли в Швеции товарищеский матч. Женю Мишакова толкнули на борт. Поехали в госпиталь – на рентгене увидели, что полулунная кость торчит у него в сторону. Шведский врач впервые столкнулся с такой травмой. Мы вправили кость, наложили гипс, но уже на следующий день Мишаков вышел на лед с рукой в косынке. У Тарасова даже травмированные игроки выезжали на раскатку, хоть потом и не играли. Когда Женя перед игрой наматывал круги с загипсованной рукой, переполненный шведский стадион молчал.
- Упертый был Тарасов?
– В том же турне по Швеции на стадионе не включили гимн СССР. Тарасов позвал судью: «В чем дело? Без гимна играть не будем». Пауза затянулась на час, восемь тысяч зрителей недоумевали. Пришлось передавать гимн по телефону. Тарасов был необыкновенным патриотом.
- Как проявлялась его жесткость?
– Готовясь к следующему чемпионату мира, травмировался Володя Шадрин. Швейцарец ткнул ему сзади клюшкой, Володя побледнел, я приложил ему лед и сообщил Тарасову: «У Шадрина тяжелая травма, его нельзя выпускать». Отвлекся на другого игрока, оборачиваюсь ко льду: Шадрин снова в игре. Сделали УЗИ – у Шадрина обнаружилось повреждение почки. Тарасов возмущается: «Почему Шадрина нет на тренировке?» Тогда я оскорбился и потребовал вернуть меня в Москву: раз мне как врачу не доверяют, а Шадрина считают симулянтом. Аркадий Чернышев, который вообще-то был в сборной главным тренером, гневно осек своего помощника Тарасова, и Анатолий Владимирович успокоился. Чернышев был очень интеллигентным человеком. Всегда прислушивался к врачам.
- Чем запомнилась Олимпиада-72 – последняя для дуэта Чернышев – Тарасов?
– В одной из первых игр Борис Михайлов сильно повредил колено – внутренний мениск и боковую связку. Собрали консилиум врачей всех сборных, осмотрели Борю. Коллеги похлопали меня по плечу: «Это полтора месяца». А Боря выдает: «Делайте что угодно. Буду играть». По всем газетам прошла информация, что СССР потерял лучшего хоккеиста. Боря передвигался на костылях, но мы сделали ему новокаиновую блокаду, надели на колено фиксирующую повязку и выпустили в третьем периоде игры с поляками, когда все обычно устают и меньше применяют силовые приемы. Борю мучили чудовищные боли, но он вышел и на решающий матч с Чехословакией, забросил шайбу и мы стали олимпийскими чемпионами. После турнира Боря месяц провел в больнице.

Олег Белаковский и врач ЦСКА Игорь Силин оказывают помощь Валерию Харламову
- Самый напряженный момент Олимпиады в Инсбруке?
– Главный матч снова играли с Чехословакией. Перед этим команда перенесла эпидемию гриппа. В конце второго периода проигрываем 0:2 и после удалений Бабинова и Жлуктова остаемся втроем против пятерых. Кулагин выпускает тройку Цыганков – Шадрин – Ляпкин. Против них выходит сильнейшая пятерка чехословаков: Иржи Холик, Мартинец, Штясны, Поспишил и Махач. Михайлов перегибается через борт и кричит: «Только продержитесь, а мы забьем!» Ребята выстояли и едва не теряли сознание от усталости: помню, растирал Шадрину виски нашатырем, чтобы привести его в чувство. В концовке Володя помог забросить Харламову решающую шайбу.
- Каким запомнили Харламова?
– Скромный, добрый, мягкий. На командировочные всегда набирал подарки родителям, сестре и племяннику. Валера изумительно быстро катался, ухитряясь обводить на бешенной скорости несколько соперников. Он был актером на льду и в жизни: любил петь и танцевать. Валера полукровка, его мать испанка. Полукровки обычно талантливые люди.
- Вскоре после Инсбрука он попал в свою первую аварию.
– Мне стало жутко, когда я увидел, во что превратилась его «Волга»: страшно было подумать, что с ним самим. У Валеры обнаружили переломы ребер, голени, сотрясение мозга и множество ушибов. Многие считали, что Валера в лучшем случае сможет просто ходить, но я сделал прогноз, что он вернется на лед уже через четыре месяца. Меня упрекнули в непрофессионализме, но я оказался прав.
Только-только встав на ноги, Валера отправился на лед – Тарасов посоветовал ему покататься с 8-летними детьми из школы ЦСКА. Когда Валера натягивал коньки, у него дрожали руки, а мы с Игорем Силиным, врачом ЦСКА, еле сдерживали слезы. Валере понравилось заниматься с пацанами, он даже признался мне, что хочет стать детским тренером, когда закончит играть.
- Помните день, когда он вернулся на лед?
– Как сейчас. Нам предстояли матчи с Ригой, «Динамо» и «Крыльями». Рижское «Динамо» играло довольно жестко, московское было нашим принципиальным соперником, поэтому мы с тренером Локтевым решили поставить Харламова на матч с «Крыльями Советов» – близкой нам по стилю командой, в которой выступало много наших друзей.
В день игры я поехал на базу «Крыльев», которых тренировал Борис Кулагин. Он удивился: «Подсматривать приехал?» – «Разрешите выступить перед ребятами. Сегодня Харламов возвращается». Кулагин подвел меня к игрокам: «Я не призываю вас расступаться, но прошу: не играйте против него жестко». Когда команды вышли на раскатку и появился Валера, «Лужники» зашумели. А когда диктор объявил 17-го номера, весь стадион встал и овация длилась минут десять. На 4-й минуте Валера забил. За десятилетия работы в спорте я видел трех по-настоящему великих спортсменов: Боброва, Яшина и Харламова.

Шахматы с Всеволодом Бобровым
– Дружба с Севой Бобровым определила мою судьбу. После войны я служил на Дальнем Востоке и приехал как-то в Москву на курсы совершенствования мастерства – и встретился с Севой. Он сказал: «Тебе нужно работать спортивным врачом» и отрекомендовал меня Василию Сталину, возглавлявшему клуб ВВС. Тот меня принял, узнал, где я служил, и за несколько часов договорился о моем переводе в Москву.
- Говорят, он был не только щедрым, но и достаточно суровым спортивным менеджером?
– Однажды он нас здорово проучил. В первых трех турах набрали 5 очков, но проиграли «Шахтеру», который до этого не набрал ни одного очка. Пару месяцев были в разъездах, долго не были дома, страшно вымотались и вот наконец-то подлетаем к Москве. И вдруг видим – наш самолет садится на пустом военном аэродроме в Туле. Выяснилось, что Василий Сталин приказал: «Не умеют играть – пусть идут пешком».
- А вы?
– А у меня был игрок дубля Коля Цуцков с тяжелой ангиной. Кидаюсь к командиру: «Прошу, доставьте нас в Москву – у Цуцкова очень высокая температура». – «Мне моя голова дороже – есть приказ всех высадить». Пришлось тащиться в сторону шоссе и ловить попутные машины. На первой же в Москву уехали мы с Колей.
- С Бобровым Василий Сталин тоже был строг?
– Сталин любил Севу и все ему прощал. Когда я только приехал в Москву, Бобров поругался с тренером ВВС Джеджелавой и очередной матч смотрел со мной на трибуне. После игры отмечаем в «Астории» мой приезд. Севе приглянулись две девушки. Говорит мне: «Пригласи любую из них на танец и скажи, что Бобров приглашает их в гости». Дамы оказались с молодыми людьми, но мы условились, что они попрощаются с ними и присоединятся к нам. В ночи приехали к Севе, но вслед за нами туда нагрянул генерал Василькевич с двумя помощниками: «Василий Сталин требует вас к себе». Бобров послал генерала, тогда Севу схватили и увели. Вернулся он под утро: «Все нормально. Сталин дал по морде, я извинился, что пропустил матч. Вот и все».
- Как вы познакомились с Бобровым?
– В конце тридцатых мы учились в одной школе и играли в русский хоккей на льду Финского залива в Сестрорецке, это под Ленинградом. Выступали с Севой в одной команде: я в воротах, он в атаке. Однажды команда нашей школы выиграла чемпионат Ленобласти, так Сева в финале из 22 наших голов забил 16. Хоккею Севу обучал отец, тоже отличный игрок, а мать за удачную игру премировала сладостями. Затем Севу позвали в ленинградское «Динамо», а я поступил в Военно-медицинскую академию.
- Почему именно туда?
– Взял пример с отца. Он работал сельским врачом в Александрии. На Украине тогда лютовал голод, так что папины пациенты привозили нам еду в качестве благодарности. Отец от подарков всегда отказывался, но как-то раз мама тайком приготовила нам винегрет из подаренной свеклы. От отца нам, конечно, попало, но, честное слово, вкус того винегрета помню до сих пор.
- Сколько успели отучиться до начала войны?
– Пару лет. После одного из экзаменов забежал в парикмахерскую, там и услышал обращение Молотова про то, что немецкие войска напали на нашу страну. Помчался в Сестрорецк успокаивать мать – отца не стало тремя годами ранее.
- Как для вас начиналась война?
– Тушил «зажигалки», которые немцы сбрасывали на крыши домов. Во время бомбежек я регулярно выходил на дежурства. Никогда не забуду, как мимо нас проезжал трамвай с молодыми и веселыми ребятами, а через мгновение на него рухнула бомба. Наш патруль кинулся к трамваю – пытались спасти тех, кто остался в живых.
А в конце лета, патрулируя Финляндский вокзал, я внезапно встретил Севу Боброва – мы не виделись несколько лет. Завод, на котором работала вся его семья, эвакуировали в Омск. Сева не признавался, но по его виду я понял, что он уже давно ничего не ел – голод тогда в Ленинграде был страшный. На прощание отдал Севе консервы и колбасу – весь свой паек.

Гв. к-н м/с Белаковский – ст. врач 302 гв. стр. полка, 98ой гв. стрел. дивизии. Май 1945
- Когда вы попали на фронт?
– Я рвался отомстить немцам за маму. Когда ее вывозили из блокадного Ленинграда через Ладожское озеро, в машину, в которой была мама, попала бомба. Ее не стало. Меня назначили на кафедру инфекционных болезней, но я убедил руководство, что мне нужно на фронт. Назначили старшим врачом воздушно-десантной бригады.
- Запомнили первый прыжок?
– Сентябрь 1943-го. Наскоро потренировались и поднялись на высоту 400 метров. Сердце страшно колотилось, а инструктор командовал: «Если не откроется основной парашют, дергай за кольцо запасного». Ударил меня по плечу и я шагнул в бездну. Сумасшедшее ощущение. Тогда все прошло успешно, но однажды основной парашют слипся из-за смерзшейся влаги и не раскрылся – спас запасной. Всего я прыгал больше 150 раз.
- Запомнили первое ранение?
– Во время сражений в Финляндии у меня под ногами взорвалась мина. Повезло, пострадали только колени и голени. Разрезал сапоги, выпил 200 грамм и стал доставать из ног куски металла.
- С будущей женой вы ведь познакомились во время войны?
– Осенью 1944-го нас перебросили в Могилев. Как-то встретил у кинотеатра темноглазую девушку, скромно одетую. Решился подойти познакомиться и тут же влюбился. У нас с Ниной начались удивительные романтические отношения. Встретили вместе новый год, но вскоре меня отправили в Польшу. Договорились переписываться, но к лету письма от Нины приходить перестали.
- Как для вас завершалась война?
– Акт о капитуляции Германии подписали 8 мая, но немецкие группы войск продолжали отбиваться в Венгрии и Чехословакии. Моего друга, разведчика Виктора Котельникова изрешетили пулями, когда он бросал противотанковую гранату. Окончательно немцы сдались только в полдень 12 мая.
- И вы поехали за невестой?
– Отпуск мне дали только в ноябре. На перекладных я отправился из Венгрии в Ленинград и по пути решил заскочить в Могилев. На вокзале в Бухаресте услышал радиорепортаж из Лондона с матча «Динамо» – «Челси»: «Мяч у Боброва! Бобров бьет!!» Я сразу понял, что речь про Севу. Из Молдавии в Могилев добирались в тендере для угля. Со мной был ординарец – 14-летний мальчик, повзрослевший за годы войны.
Перед домом Нины решили выпить – до того сильно я волновался. Воды с собой не было, раскололи лед на ближайшем озере, разбавили спирт. Ночь. Стучим в дверь – Нина поначалу не узнала меня: «Ковыляйте отсюда!» После войны по городам слонялось много бездомных и воров. Выручила мать Нины: «Это же Алик!»
- Как вас встретили?
– Обняли, обогрели, накормили. Но я чуял: что-то не так. Утром мать призналась мне, что назавтра у Нины назначена свадьба. Вскоре появился и жених. Нина представила его: «Юрий, офицер». Разговора не вышло, Юрий ушел. Вечером мы с Ниной и моим юным ординарцем Николаем Петровичем пошли на танцы. Туда заглянул и Юрий в компании прилично выпивших офицеров.
Примчалась подруга Нины: «Уходите отсюда, а то они убьют вас!» Мы с ординарцем остались, а Нину отправили домой. К нам подошел один из друзей Юрия: «Капитан, езжай отсюда. У Нины завтра свадьба». – «Уеду, если Нина захочет». И двинул домой. Вышли с ординарцем на улицу и спиной почувствовали, что сейчас по нам начнут стрелять. И правда – в ночной тишине раздалось два выстрела. Ординарец по моему приказу побежал домой, а я в ответ открыл огонь из трофейного «Вальтера».
- Ох. Ну, и история.
– Дома сказал заплаканной Нине: «Если выходишь за Юрия – я сегодня же возвращаюсь в Ленинград». Она ответила: «Останься». Наутро пошли в могилевский ЗАГС. Нам выдали свидетельство о браке, на котором было написано по-белорусски: «Пасведчанне аб шлюбе». С моей любимой Ниночкой мы счастливо прожили больше 50 лет.
http://www.sports.ru/football/148999186.html
Серия сообщений "ЖЗЛ":
Часть 1 - Олег Белаковский: «Когда Харламов натягивал коньки, мы еле сдерживали слезы»
Часть 2 - Любовь и счастье звездной пары
Часть 3 - 7 теней Салтыкова-Щедрина
Часть 4 - Бетховен, или Гордость из предубеждения
Часть 5 - О ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ
Метки: россия спорт история |
Понравилось: 1 пользователю
Попытки реформировать российскую армию никогда не заканчивались добром для их инициаторов. Пример — трагическая судьба императора Павла I. |

Если бы кто-то из современных российских беллетристов решился создать коллекцию «Проклятые цари» наподобие литературной серии о французских королях, император Павел I занял бы в этой эпопее достойное место. В отечественной историографии, не говоря уже о кинематографе, его принято представлять «монархом взбалмошным и психически неуравновешенным». Но так ли было на самом деле? Об императоре и его реформах в интервью «Итогам» размышляет военный историк Андрей Малов-Гра.
— Неужто, Андрей Геннадьевич, инерция представления императора в виде «венценосного самодура, играющего в солдатики», упрямо продолжает действовать?
— Не стоит удивляться. История царствования Павла I написана руками его убийц. А точнее — по заказу тех самых людей, которые его ненавидели. Исследования павловской эпохи основываются в основном на воспоминаниях верхушки дворянства той поры. А она немало претерпела от государя, ведь он не давал элите грабить страну. Павел не был революционером, он просто хотел навести в огромной стране порядок по европейскому образцу.
— Прежде всего по прусскому?
— Ничего плохого в этом нет: в Пруссии, тоже, кстати, крепостном государстве, был порядок. Павел стал заложником такой ситуации, когда он оказался чуть ли не единственным чиновником, который стремился ревностно служить России. Остальные же хотели лишь наживаться: в постпетровские времена дворянство к этому привыкло. Возьмем положение в армии. Скажем, в гвардии количество числившихся под знаменами дворян превышало штатное расписание в 2—3 раза. Так, Сибирский егерский батальон стоял «во глубине сибирских руд», а «лишние» офицеры, числившиеся в нем, постоянно пребывали в Санкт-Петербурге и носили форму этой воинской части. Приходит Павел к власти и командует: «Все — в строй!» А в дворянской среде начинается вой: «Как же так? Где наши сословные вольности?!» Количество юнкеров в батальоне просто зашкаливает! Павел же строго восстановил то, что было при Петре I: дабы иметь право стать офицером, молодой дворянин обязан прибыть в полк и пройти рядовую солдатскую службу.
При Павле, получается, юнкерами служили по 7—8 лет. До тридцати двух годов! Как же так? Все просто: раз ты «строю не знаешь», грамоты «не разумеешь», оставайся в юнкерах. При Екатерине такого недоросля давно бы произвели в офицеры и понесся бы он в Санкт-Петербург на балах танцевать. Павел был суров. Он уволил со службы 333 генералов и 2261 офицера, не сумевших ответить на простые вопросы по военному делу. Выгнал всех нижних чинов из дворян, числившихся при полках и находящихся в длительных отпусках. Запретил офицерам и генералам отпуска более одного месяца в году. Не говоря уже о том, что царь решительно запретил использовать солдат в качестве рабочей силы в офицерских или генеральских имениях.
— Об этом поподробнее, пожалуйста. Очень современно звучит, знаете ли.
— Возьмем статистику из того же егерского батальона, изначально называвшегося 1-й Сибирский егерский. Майор Гаврила Сидоров был отставлен от службы за то, что «в собственное употребление солдата имел». Говоря иначе, солдат косил луг, принадлежащий лично майору. За то, что «использовал рядовых в свои услуги», был уволен и майор Александр Корнеев, когда о таком «стройбате» узнало командование... Знаменательно, что этих офицеров вывели за штат без пенсии.
— Почему историки пишут с таким пренебрежением о «прусских мундирах», введенных Павлом?
— Да потому, что они «некрасивые и мешкообразные», как сказано в воспоминаниях той поры. Дело в том, что на рубеже XVIII и XIX веков в русской армии существовало два покроя мундира. Стандартный, западноевропейский, бывший в екатерининской армии: облегающий, смотрящийся красиво, но в наших природных условиях весьма неудобный — с открытым животом, с обтягивающими штанами-кюлотами. Дворянину нравилось: шубу поверх накинул — и порядок! А солдату в этом наряде на часах стоять, ночами да в мороз. Максимум, что сверху надевалось, это епанча — короткий плащ до колен. И все!
Оставалась в обиходе и форма потемкинской армии. Эта одежда более легкая: война-то обычно велась с турками, на юге и, как правило, летом. Значит, нужны холщовые штаны и легкая рубаха. А Павел, который прекрасно понимал, что будущие войны грозят России прежде всего из Европы, ввел одинаковую форму. Кафтаны сильно долгополые, фалды могут отстегиваться и, как шинель, закрывать ноги. Кроме того, именно Павел придумал для нижних чинов как предмет формы суконную шинель, которую у нас в армии носят по сей день. Трудно и представить, что раньше русские солдаты имели на зиму только облегающий мундир. А Павел приказал: «Мундиры шить широкими, дабы под них сподручно было поддевать». Павел первым из русских императоров в солдате человека увидел. Ввел на зимнее время для часовых караульные овчинные шубы и валенки. Причем валенок в караульном помещении должно быть столько, сколько требуется, чтобы каждая смена часовых надевала сухую обувь. Это правило действует и сегодня... Дворянам все эти нововведения не нравились. Ведь офицеры должны были теперь соблюдать ту же форму, что и рядовые.

Прусский мундир императора Павла.
— А как же прически с буклями, введенные Павлом для солдат?
— Прически эти нескладные были введены еще при Анне Иоанновне, остались они и при Павле. Он, правда, ввел послабление: от солдат такие прически требовались только на парадах. А в обычные дни надобно было ходить с длинными волосами, собранными в косицу или в пучок...
— Говорят, Суворов выступал против. Считал это негигиеничным.
— Ничего не поделаешь, в любом случае во всех европейских странах воины носили длинные прически, а вши в ту пору были практически у всех. Рассказы же о так называемых протестах Суворова — это в большинстве своем придумки. Как это ни покажется странным на первый взгляд, военные концепции Павла и Суворова в значительной степени сходятся. Когда мы посмотрим павловские уставы и сравним их с «Полковым учреждением» Суворова, окажется, что речь идет об одном и том же. Главная их суть: надо беречь и ценить солдата! Павловские уставы продержались в русской армии до середины XIX века — до Крымской войны.
— И все-таки: были ли у Павла существенные противоречия с Суворовым или нет?
— Александр Васильевич Суворов славился консервативными взглядами. Он искренне любил императрицу Екатерину, которая его подняла и сделала видной фигурой государства. И тут он видит, что сын царицы, над которым все вельможи смеялись — до сорока лет в солдатики играет! — начинает поносить все, что было связано с его великой матерью. Суворова это возмущало. Он демонстрировал свою подчеркнутую «русскость», учитывая, что Павел вводил в армии многие элементы из прусского воинского устава. Например, у караульной будки расположена так называемая платформа, где стоит караул. Император вызывает Суворова. Когда к «платформе» подходит генерал, часовой должен вызвать весь караул и построить для приветствия. Суворов находится в ста шагах, и часовой дает команду: «Вон!», что является не чем иным, как переводом на русский немецкой команды Heraus! Что делает Суворов, услышав это? Разворачивается и уходит... Получается, что от императора несколько раз за Суворовым посылают, а он все не приходит. Наконец связываются с ним, а генерал говорит: «Мне кричат: «Вон!», значит, государь меня не хочет видеть». Издевка по большому счету! Царь не позволяет Суворову так с собой обращаться и отправляет его в деревню, в ссылку.
Впрочем, гнев императора длился не долго. Павел всегда с большим уважением относился к Суворову и признавал его заслуги перед Россией. Да и Суворов в имении поостыл. Он понял, как много Павел делает для армии. Царь считал дворян кастой, созданной для защиты Отечества. Если дворянин не умеет, еще хуже — не желает этого делать, он достоин самого сурового отношения к нему.
— Рыцарский кодекс по сути дела...
— Именно. Павел мог сказать: «В России велик только тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю», но при этом император считал, что дворянина унижать нельзя, он «должен быть не поротый». Бывали случаи, когда император замахивался тростью на офицера, но никогда не бил. С чего началась карьера Петра Палена, будущего военного губернатора Санкт-Петербурга и в скором времени одного из убийц Павла? Как-то на разводе царь, пришедший в ярость от чьего-то неуклюжего поступка, хотел ударить офицера тростью. А генерал Пален оказался рядом и перехватил трость. Павел опешил: «Как смеешь?!.» — «Государь, перед вами дворянин и офицер. Вы же потом сами себя не простите». Павел наградил и офицера, и Палена, которого приблизил к себе. При всей своей горячности царь был отходчив и объективен.
В 1798 году Павел I запретил дворянам, прослужившим менее года на офицерских должностях, просить отставку, а в 1800 году — принимать на гражданскую службу дворян, не прошедших службы военной. Уклонение от воинских обязанностей расценивалось как серьезное нарушение законов, исполнение их возлагалось на губернаторов и прокуроров. Дворянство взвыло, но ничего поделать не могло. Павел к тому же ввел для содержания войск постоянные денежные сборы с дворян. Сумма налога напрямую зависела от количества земли и численности крепостных.
— Иными словами, дворянству было за что ненавидеть Павла...
— Солдаты рекрутировались прежде всего из крестьян, а царь сделал невероятно много для облегчения положения крепостных. Император разрешил крестьянам подавать жалобы на притеснения помещиков в суд и непосредственно императору. В 1797 году Павел отменил все недоимки крестьян, заменил подворную и дорожную повинности, а также хлебную подать денежным сбором, год спустя организовал во всех губерниях запасы хлеба на случай неурожая. Удельные и казенные крестьяне обеспечивались земельным наделом в 15 десятин, могли получать паспорта при выходе на заработки. Им разрешили после выплаты выкупной суммы переходить в купечество. Можно упрекать Павла в непоследовательности, но некоторые его манифесты были поистине историческими. Так, в апреле 1797 года был издан указ «О трехдневной работе помещичьих крестьян в пользу помещиков и не принуждении к работам в дни воскресные». Крепостных запретили продавать без земли, на аукционах и торгах, с раздроблением семей. Впервые! Более того, крестьянин получил право приносить присягу и подавать апелляции в суд. Крепостных, расцениваемых ранее лишь как двуногая скотина, при Павле признали людьми.

— Однако телесные наказания в русской армии все равно сохранялись.
— Но их назначали за весьма серьезные поступки: побег, оскорбление командира... Павел регламентировал телесные наказания нижних чинов, особо отметив, что «оные допускать в крайних случаях». Наказывали палками, или шпицрутенами. Существовала шкала, что за что давалось. Прогнать через роту — двести ударов... Но применяли это не так часто, как говорилось, исходя из пресловутого «классового подхода», в советское время. Русская армия была гуманнее других. В ней, скажем, в отличие от английской никого к андреевскому кресту не приковывали и кнутами не били. Павел ввел реальную дисциплинарную и уголовную ответственность офицеров за сохранение жизни и здоровья солдат. Царю нужны были здоровые воины. Под страхом каторги командирам запрещались удержания из солдатской зарплаты и под страхом смерти — невыдачи солдатского жалованья.
— Мог ли недворянин стать офицером русской армии?
— Бытовал советский миф в стиле водевиля «Крепостная актриса», что Павел якобы запретил недворян производить в офицеры. Это еще одна подтасовка фактов. Царь запретил возводить в офицеры не из нижних чинов, а из лакеев и брадобреев. То есть из нестроевых, не участвующих в боевых действиях чинов. Из подхалимов, клянчащих наград у командиров... Царь приказал все открывающиеся офицерские вакансии заполнять только выпускниками военно-учебных заведений или опытными унтер-офицерами из дворян, сдавших экзамены на грамотность и знание устава. Но и простолюдин мог быть произведен в офицеры, если сдаст необходимые экзамены. Только солдатская или унтер-офицерская служба его будет дольше — в зависимости от социального класса, из которого он пришел.
— А унтер-офицер — это что?
— Сержант, говоря современным языком. Если при Екатерине воинские звания были на французский манер, при Павле — стали на немецкий. Дворянин три месяца проходил службу рядовым, три — унтер-офицером, а дальше его производили в офицеры. Если, конечно, он научился чему положено и сдал экзамены. Если нет — ходи и дальше в рядовых, родимый! Были осуществлены реформы и по военно-медицинской части. При Павле лекарями в полк допускались только лица, сдавшие специальный экзамен в Медицинской коллегии. За считанные годы российская военная медицина стала на голову выше европейской. При каждом полку были учреждены лазареты.
Павел вовсе не в одночасье стал реформатором армии, он готовился к этому всю жизнь. Будучи удаленным из Санкт-Петербурга в Гатчину и играя там «в солдатики», он отрабатывал будущие уставы на воинских подразделениях, отданных ему в управление императрицей. Это и кирасирский кавалерийский полк, и пехотный батальон, и конноартиллерийская рота, и полурота матросов. Вымуштрованная гатчинская мини-армия стала прообразом будущих мощных вооруженных сил Отечества. Придя же к власти, Павел освободил Военную коллегию от административных, хозяйственных и судебных функций. Теперь она занималась комплектованием, вооружением, боевой и строевой подготовкой, обмундированием и продовольствием для личного состава, не говоря уже об оперативном и тактическом управлении. Император сделал правилом ежемесячные отчеты частей и подразделений. Чтобы искоренить казнокрадство, по традиции разъедающее русскую армию, Павел создал аудиторский департамент, которому предоставил широчайшие полномочия. Прежнее военное руководство простить царю такой революции не могло. Тем более что у Павла была очень узкая команда, которая его поддерживала. Характерно, что имена этих ярких, но вовсе не знатных людей упоминаются в нашей историографии непременно в негативном контексте. Скажем, Алексей Аракчеев. Выходец из беднейших дворян, он был блестящим артиллеристом: реконструировал лафеты орудий, сократил до минимума количество калибров и, главное, ввел, опять же по «проклятому» прусскому образцу, конную артиллерию.
Была существенно реорганизована и кавалерия. Ранее воевавшая чаще всего с дикими ордами турок и татар, она стала тяжелой и настроенной на войну с Западом. И через пятнадцать лет после павловской реформы русские кирасиры ничуть не уступили «железным людям» французского генерала Этьена де Нансути, образно говоря, танкам тогдашней Европы. Армия Александра I, отстоявшая от Наполеона Россию и взявшая Париж, это на самом деле армия Павла. Такова аксиома. Люди те же, только мундиры изменились. Но, как известно, воюют-то люди, а не мундиры. Кстати, об Александре. Не он помогал отцу, когда Павел занимался армией, а младший сын Константин.

— Не могу не спросить вас о так называемом индийском походе, последней военной акции Павла.
— После предательства австрийцами русской армии в войне с французами и бегства суворовских «чудо-богатырей» из Швейцарии стало очевидно, что внешней политике России нужны иные ориентиры. Павел первым понял, что России, готовой раздавить и Швецию, и Османскую империю, нужен такой могучий союзник, как Наполеон. После же захвата англичанами Мальты, которую император, будучи главой Мальтийского ордена, рассматривал как российскую территорию, стало ясно: Великобритания — вот главный враг России. Посылка 22 тысяч казаков во главе с атаманом Василием Орловым в поход через Хиву и Бухару в Индию — это, безусловно, часть антибританской политики Павла. Не уверен, что акция была задумана совместно с французами. Мне думается, что это была лишь разведка. 41 полк сопровождали всего 12 пушек. С такой артиллерией и крепостей не берут, и с регулярными войсками, которые были у британцев в Индии, не бьются... Другое дело, что «индийский поход» настолько встревожил англичан, что они решили ускорить операцию по устранению российского императора. Не секрет: убивать Павла заговорщики отправились непосредственно из петербургской резиденции лорда Уитворта, бывшего британского посла в России. И Лондону, и российскому дворянству Павел I мешал как великий реформатор. Для народа же убийство царя стало трагедией. Солдаты плакали, стоя в карауле. Есть воспоминания, что офицер спросил служивого, из-за чего тот плачет, ведь царь солдат частенько наказывал. Суворовский ветеран ответил: «Раньше лишь нас пороли, а при Павле Петровиче была справедливость — за дело всех наказывали». Такое вот мнение снизу.
Кирилл Привалов, "Итоги"
Серия сообщений "АРМИЯ":
Часть 1 - Латание новых знамен
Часть 2 - *..убивать русских это морально.*...
Часть 3 - Попытки реформировать российскую армию никогда не заканчивались добром для их инициаторов. Пример — трагическая судьба императора Павла I.
Часть 4 - Чужие мальчики.Марта Кетро.
Часть 5 - За кулисами военных побед: офицеры царской армии в Гражданскую войну
...
Часть 20 - О том, как в 1944 чуть не началась война между СССР и США
Часть 21 - Зачем на немецких касках рога?
Часть 22 - ЗАХАР ПРИЛЕПИН: «23 ФЕВРАЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
Метки: история армия россия интересно |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
И новая юность поверит едва ли, Что папа и мама здесь тоже бывали... |

"Кайтанов, поедем в Сокольники, что ли?"
"Пожалуй, немножечко далековато…"
"Поедем!" Глаза загорелись у Лели.
Трамвай №6 атакуют ребята.
Не втиснуться - страшная давка в вагоне.
Кондукторша дергает дважды веревку.
Но эти прицепятся, эти догонят,
Для них не придется продлять остановку.
Тяжелую гроздью висят пассажиры,
И Коля почти обнимает подругу.
Ее закружило, она положила
На руку его свою твердую руку.
Когда б этот миг задержался навеки,
Она бы летела, летела, летела,
Стыдливо смежая счастливые веки,
К могучим плечам приникая несмело.
Летит наша Леля, душой замирая,
И так ей спокойно, и так ей тревожно!
Одна остановка, за нею вторая,
И жаль, что в вагон им протиснуться можно.
Сейчас он ей скажет то самое слово,
То слово, которое ново и вечно.
Но Коля Кайтанов, насупясь сурово,
Глядит на трамвай переполненный встречный.
Вагон, задыхаясь, проносится мимо,
И он говорит, наклоняясь над нею:
"Метро обязательно, необходимо
Построить в Москве, и как можно скорее."
Наверное, час продолжалась дорога.
Вокзалы их встретили шумом и звоном.
Вдоль старых домишек, мерцавших убого,
Они подъезжали к Сокольникам сонным.
И вот наконец они вышли на Круге.
Кайтанов басил, наклоняясь к подруге.
В ответ лишь кивала счастливая Леля,
Казалось волшебным ей слово любое.
Меж ними возникло магнитное поле,
Как током весь мир, заряжая любовью.
Они проходили по узким аллеям,
Над озером черным стояли на склоне
И он ее жесткую руку лелеял
В гранитной своей ладони.
Они заблудились меж просек оленьих,
Под сенью берез и весенних созвездий…
Влюбленные завтрашнего поколенья,
Как просто вам будет в Сокольники ездить!
И новая юность поверит едва ли,
Что папа и мама здесь тоже бывали.
Им долго обратно шагать предстояло
Был Коля задумчив, и Леля устала.
Рассвет их настиг на безлюдной Мясницкой.
Прохлада, и небо совсем голубое,
И Леля призналась "Кайтанов, мне снится,
Что так вот всю жизнь мы шагаем с тобою…"
Ну, что он подругу молчанием дразнит?
И вдруг, словно ливня веселые струи,
Как майская буря, как солнечный праздник,
Её закружили его поцелуи.
Зеркальные стекла соседней витрины
Влюбленным устроили тут же смотрины,
И вслед улыбались им все постовые,
Хотя и милиция - люди живые.
И Леля шептала: "Не надо, не надо!..." -
Пока они шли до Охотного ряда.

Евгений Долматовский
"ДОБРОВОЛЬЦЫ"
Серия сообщений "Любовь":
Часть 1 - Огромная волна накрыла влюбленных во время предложения руки и сердца
Часть 2 - На лице живут глаза...
Часть 3 - Весенняя история
Часть 4 - И новая юность поверит едва ли, Что папа и мама здесь тоже бывали...
Часть 5 - Эротика
Часть 6 - Очень женский пост...и талантливый!!!
...
Часть 14 - а вот не про Украину. И не про сектор Газа. А очень даже наоборот.
Часть 15 - Ложится спать пустой трамвай...
Часть 16 - Любовь - оружию...
Метки: любовь история россия |
Понравилось: 3 пользователям
Стон |

«Стон»
Н.Е. Лемкин
... Пейзаж был бесцветен...
Нет, не так – он был серым...
И опять не так... Не то...
Как бы поточнее...
Вся гамма серых тонов... вот – это точно! Да!
Слева от меня – заводские корпуса, коричнево-серые от пыли карбида кальция, ярко-белые от слоя хлорной извести и аммиачной селитры, жёлто-серые от паров кислот...
Серной, ортофосфорной, азотной, соляной...
Пыль от известковых печей, дымы от бесконечных заводских труб клубились в воздухе, смягчая силуэты...
Серые силуэты...
Даже тополя, росшие вдоль бараков, не были зелёными.
Душистый ветерок, насыщенный парами хлора, аммиака и серного ангидрида, переносил тонны продукции с ближайших химзаводов, окрашивая всё в благородные серые, бархатисто - чёрные, и серебристо - белые тона.
Изредка цвет менялся на радостные лимонно-жёлтые, или оранжево-красные
оттенки – это либо прилетала пыль серы с кислотных производств, либо цех циансолей сбрасывал в воздух цианистые цинк или медь.
Народ боялся только запаха свежего сена – так пах боевой газ фосген...
Но бывало это нечасто, привычным был запах дихлордифинилтрихлорметилэтана, известного под вульгарным именем «дуст».
По – английски дуст – это пыль, в моём городе это было правильно, ибо именно «дуст» покрывал всё – чёрно-серый песок, тополя, бараки, лица и души.
Запах моего детства...
Он был могуч и велик как сатана – от него не росло ничего кроме тополей и страшной осоки - жёсткой и острой как бандитский нож.
Он проникал повсюду, сжигал лёгкие, печень, почки...
Лето 1957 года.
Мне семь лет, скоро в школу, родители ищут по магазинам форму, но она дефицит, и пойду я в первый класс не в гимнастёрке с роскошным ремнём с латунной бляхой, не в форменной фуражке с шикарной алюминевой кокардой...
Но не об этом думаю я, стоя перед бараком на посёлке Калинина.
Я впервые осознаю смерть.
Вернее – гибель.
Гибнет дом, в котором я родился, начал ходить, прожил всю свою долгую семилетнюю жизнь.
Здесь родилась и вскоре умерла от белокровия моя старшая, неведомая мне сестра...
Здесь хоронили моих друзей, съеденных раком в младенчестве.
Смерть, гибель не укладывается в разум, тем более – в детский, светлый и радостный...
Дом может сгореть – и это понятно, дом может рухнуть, и это тоже не странно, но...
Мой Дом УХОДИЛ ПОД ЗЕМЛЮ !
Чёрный песок засасывал барак как удав кролика – медленно, мучительно...
Барак тонул в грязном, вонючем песке... как в болоте.
Барак красив и логичен – он длинный как корабль, приземистый, как мужик, простой, как милицейский протокол...
Его сколачивают за неделю, но живут в нём десятилетиями.
Его собирают из досок гвоздями, засыпая промежутки в стенах душистыми опилками, его кроют благородным рубероидом.
В нём длинный коридор, пропахший керосиновой гарью от примусов, кошачьим говном и блевотиной, и он пронзает всё здание насквозь.
Слева и справа от него уютные, десятиметровые каюты-комнаты.
За тридцать лет мягкие слои досок истлели, сучки нахально вылезли, жёлтые и жёсткие.
Доски насытились парами бензола, дибутилфталатов, изопренов, дуста...
Уже отсуетились жильцы, спасая своё нищенское богатство, уже спасли бабульку, забытую и запертую под замок, кончились слёзы и крики.
Сотня человек в полной тишине внемла стону...
Оторвите доску от забора, запомните скрип и визг отрываемых гвоздей.
Умножте услышанное в миллион раз...
Крыша выгнулась дугой, стропила мгновенно выскочили наружу, раскидав куски рубероида.
Чердак взорвался, вывернувшись наизнанку...
Чердак-место, где взрослые сушат бельё.
Чердак-это страшно загадочное место для пацанов.
Оно пугает своей высотой, полумраком, но как тянет к себе!...
Нашли мы там в закутке парабеллум – большой, чёрный, красивый, и наше счастье, что мы – шестилетние, не смогли его взвести...
Нет чердака!
Почти залпом треснули окна...
Стаи мышей и крыс хлынули из барака.
Странная эпоха породила массу парадоксов – была нищенская зарплата, но в буфетах торговали копеечными бутербродами с красной икрой, кетой, роскошной сельдью «иваси»...
Магазины были завалены свежим мясом и сливочным маслом, но крестьяне бежали из голодных сёл на химзаводы.
Люди жили в нищенских бараках, но завешивали окна решётками...
Чего они боялись потерять?
Было мне лет пять, меня заперли дома, мне стало скучно, и я кухонным ножом прорезал стенку и ушёл в гости к другу – соседу...
Из чего была стена?
На чём держались двери, если сосед - матвей регулярно выбивал свою, вместе с куском стены...
Матвей – не имя, - это явление, неописуемое, бесконечное, и безграничное.
Люди, сбежавшие из колхоза.
Семья Матвеевых...
Матвеев было человек девять, не меньше, ну да – мамка, папка и ещё человек семь детей...
А может, и не семь – больше...
Впрочем, они и сами едва ли знали, сколько их...
Они переливались как ртуть – одни в тюрьму, другие – из тюрьмы, или колхоза... мы не успевали запоминать их имена.
И вся эта вечно пьяная, орущая, поющая и падающая орда умещалась в самой большой комнате барака, на двадцати метрах.
Мы, дети, придумали игру по мотивам их бурной пьяной жизни – брались штаны, завязывались снизу, и набивались тряпками, выигрывал тот, у кого «матвей» дольше стоял, не падая...
Как по расписанию по ночам подъезжал шумный «Чёрный воронок», и «мильтоны» в синих гимнастёрках проводили обыск...
Старший матвей привычно объяснял соседям воровской промысел своих детей -... Чай не из дома несут, а в дом...
Очередной сын попадал в тюрьму, и вот уже соседи рассуждают, глядя вслед отцу, несущему передачку «на зону» -...А теперь вот из дома пора нести...
Всё имело своё место – клопы жили в щелях и на потолке, откуда и падали, злые и рыжие.
Крысы и мыши плодились в стенах, уголовники собирались у матвея.
Но и там, опившись одеколона и нажравшись таблеток, они не орали в полный голос «блатоту».
Бренча на гитарах, они вполголоса выли словесный тюремный сблёв о вертухаях, Колыме, о «зоне».
«Зона» была загадочной для нас, пацанов, и постыдной для всех остальных...
«Зона» была поблизости, практически на территории завода жирных спиртов, в десятке метров от «Капролактама».
«Зона» была и в бараке – половина жильцов щеголяли фиксами и наколками.
Щипачи и мокрушники обожали Хрущёва за амнистию, но гордились и Сталином, наколотым на груди.
Стены со скрипом и стоном стали сближаться...
В нём стонали бывшие зеки, отсидевшие «ни за что» - ну, подумаешь, мужика «порезал»!
-...Враг народа, фраер! Я лес за Уралом валил, а ты, гад, девок французских тискал!..
Туберкулёзный Федя-Неси-Подай пытался зачать очередную драку с моим дядькой.
Дядя Костя воевал во Франции, там он бежал из концлагеря, попал к «маки», с ними и прошёл всю страну с юга до Ла Манша.
В самом конце войны англичане собрали советских, пуганули Сибирью, посадили на корабль, и доставили в Британию.
Месяц их держали на рейде, убеждая принять подданство британской королевы, месяц СССР требовал их вернуть.
-...И ведь не спрашивают, что делал во Франции!
Что делал в Англии?
Чего-чего...на барже сидел!- дядя Костя зло посмеивался после очередного вызова «куда надо».
«Куда надо»-звучало страшно даже для нас, пацанят.
Я держал в своих руках его французские награды, так не похожие на наши.
Нашими мы просто играли, отцы не надевали медалей даже в праздники.
Была война, ну была... все там были? Все...
И только бабёнки-фронтовички вызывали кривые ухмылки у бывших зеков.
-...Мы-то понимаем, чем они там занимались...
Дядя Костя не дрался с зеками без особой нужды, он брезговал иметь дело с уголовной грязью.
Федя-Неси-Подай нарывался.
Ежедневные пьянки заканчивались для него синяками, выбитыми зубами, и пьяными слезами «жертвы сталинского режима».
Он сидел ни за что!
-...Я её, понимаешь ли, аккуратненько так увёл в поле, ласково так уложил в межу...почему в межу?
Так горбатенькая она была, чтобы не кувыркалась набок, хе-хе-хе, ну и...
Он считал, что осчастливил соседскую девочку.
-...Кто на неё позарится? Я первый и последний!..
Так он летом сорок второго спьяну отпраздновал повестку на фронт, куда, естественно, не попал.
Не дожил он до светлых времён, когда мог бы именоваться «жертвой репрессий», в одной из очередных драк неудачно упал на собственную же финку...
Стены с хрустом вдавливались во внутрь. Начали крениться и осыпаться печные трубы...
В крошечных каморках умещался целый мир, его согревали печками.
Зимой сладко-омерзительный запах горящего метилакрилата перебивал все привычные заводские ароматы – кто-то топился обрезками оргстекла.
Горы обломков, кусков и брусьев плексигласа перетаскивались с заводской свалки.
Оргстекло горело адским пламенем, гудело, чёрный дым рвался в небо.
Время от времени случалось радостное для пацанят – раздавался оглушительный грохот, из печной трубы вылетал столб чёрного дыма и устремлялся в зенит-это взрывалась сажа от сгоревшего оргстекла в печной трубе.
Толпа матвеев радостно галдела, фантазируя о предстоящем вселении в новую квартиру, и обязательно - в центре города!
-...Мы многодетные! Товарищ Сталин нам помогал, Никитка-то, что-не человек?
-...Поможет! Я Маленкову напишу, если что!...
Пьяный визг и хохот заглушал стон гибнущего барака.
Спасать им было нечего, пяток грязных матрасов, ватники, валенки и прочие шобоны кучкой валялись в луже браги (бутыль лопнула в самый последний момент).
Прошедшая война отняла у каждого чего-нибудь.
Семью.
Здоровье.
Ноги.
«Врачи отняли» - так тогда говорилось, и мы, пацаны так и представляли это, не удивляясь, нелепости – кому и зачем нужны чужие ноги?
Безногих называли почему-то танкистами, хотя половина из них была в наколках с якорями.
«Танкисты»... деревянные коляски зло визжали подшипниками по асфальту.
Седые, страшно старые – лет по тридцать пять-сорок, покрытые ужасными шрамами, они собирались поутру вокруг серого дощатого чапка.
Не могли они дотянуться до окошка, буфетчица сама выносила им водку.
-... А ну, враги народа, налетай!
Враг народа по-настоящему был один – старый армянин Ашот.
Ашот без слёз смотрел на гибель своего жилища.
В юности он был дашнаком, и воевал против красных, в молодости строил Беломор-канал.
Вернулся с чемоданом денег и мечтой купить домик в Горьком, подальше от Еревана, за независимость которого он больше не хотел ни воевать, ни сидеть.
Деньги отняли урки, ноги - хирурги под Прагой.
Ну, что ж, судьба опять отняла у него угол...
Через сутки из песчаной воронки раздался последний звук...
Мой город и все его химзаводы стоят на карстовых пещерах, присыпанных песком, время от времени своды пещер обрушаются, в провал уходит всё, что наверху – к примеру, цех завода «Химмаш».
Сейчас уходил мой дом.
Со стоном.
Тридцать лет деревянный корабль барака впитывал в себя звуки, чтобы вернуть их миру.
И звук тот не был радостным.
Да, в нём смеялись мы - дети, да, пели наши матери, но остался только стон...
Рожали нас со стоном, хоронили кого-то со стоном, стонали фронтовики, и не было тому причин...
Всё вроде бы давно кончилось...
2008 г.
© 13.08.2008 Николай Лемкин.
Метки: россия история люди проза |
Понравилось: 1 пользователю
Весенняя история |

Окутанное легким февральским сумраком старинное здание аптеки Человеческих Чувств и Состояний на фоне современных многоэтажных домов выглядело несколько странно. Оно показалось бы заброшенным, если бы не спокойный зеленый огонек, зажженный в одной из комнат.
Там за длинным столом в старомодном кресле сидел старый человек, создатель и хранитель этой единственной в своем роде аптеки. Его чудодейственные лекарства могли понадобиться людям в любое время суток, поэтому он бодрствовал даже ночью, читая старинные книги и порой подкрепляя свои угасающие силы глоточком Здоровья или успокоительного Сна.
Ночь близилась к концу, когда двери аптеки широко распахнулись. Легким шагом в комнату вступил очень молодой и очень красивый человек. Очевидно, он не заметил старого аптекаря и начал осматривать полки, заставленные различными сосудами. Казалось, в некоторых из них билось пламя - так горячи и кровавы были они на взгляд; другие пленяли глаз цветом морской волны, постоянно меняющей оттенки от зеленого к черному, третьи были наполнены мягкой голубизной и источали тонкий аромат.
Старик, глядя из-за груды рецептов и книг на юношу, решал, какое лекарство понадобилось ему, такому сильному и уверенному в себе.
-Что вам угодно? - спросил он наконец.
-Мне? - и молодой человек еще раз небрежно окинул взглядом полки.
-Грамм двести Страха.
-Страха? - поразился старик, - я уже забыл, когда пользовался спросом Страх. Люди просят Здоровья, Молодости, Уверенности в своих силах...
Но, говоря эти слова, аптекарь, так хорошо понимавший человеческие слабости, уже нес небольшую лесенку и поднимался по ней, добираясь до самых верхних полок.
-Зачем вам понадобился Страх? - спросил он, бережно беря в руки небольшую запылившуюся склянку. Молодой человек рассмеялся.
-Хочу узнать, что это такое.
-Но не двести граммов. Это слишком много. Всего несколько капель, - аптекарь заглянул внутрь склянки. Она оказалась пустой - не пользующийся спросом Страх испарился.
Юноша был возмущен и потребовал у старика адрес другой аптеки, где можно купить приличный Страх.
-Другой аптеки нет, - отвечал тот с достоинством, - моя аптека единственная. Но я могу помочь вам. Возьмите другое лекарство, оно тоже может вызвать Страх, как побочное состояние.
И, таинственно улыбаясь, взял несколько капель из сосуда причудливой формы...
Прошло некоторое время. Весна уже была в разгаре, и как всегда весной, старик трудился не покладая рук. Так нужны были людям Хорошее настроение, Взаимопонимание, Вдохновение, Нежность.
И вот однажды, в один из вечеров, когда томительно пахла сирень, а соловьиные трели, доносящиеся из огромного городского парка, пронизывали воздух, в дверь аптеки постучали. Неуверенным шагом вошел какой-то человек и, робко приветствуя аптекаря, попросил разрешения присесть. Пока он сидел, погрузившись в свои невеселые думы, старик окинул его взглядом и в изумлении приподнялся.
Перед ним был тот самый юноша, некогда хотевший получить Страх.
О, как он изменился! Глубокие морщинки залегли у рта, глаза смотрели с покорной грустью, даже сидел он как-то неуверенно, на самом краешке стула.
-Что вам угодно? - участливо спросил старик, - может быть, немного Здоровья?
-Если позволите, - с трудом очнувшись от тяжелых раздумий, пролепетал тот, - если можно... - и он поднял на аптекаря умоляющие глаза, - прошу Вас, не откажите в моей просьбе... мне бы каплю Уверенности в своих силах...
Когда дверь за благодарным посетителем закрылась, старик, покачав головой, взял лесенку и переставил сосуд с Безответной Любовью на полку с особо опасными чувствами.
© 03.10.2010 Надежда Кутуева
Серия сообщений "Любовь":
Часть 1 - Огромная волна накрыла влюбленных во время предложения руки и сердца
Часть 2 - На лице живут глаза...
Часть 3 - Весенняя история
Часть 4 - И новая юность поверит едва ли, Что папа и мама здесь тоже бывали...
Часть 5 - Эротика
...
Часть 14 - а вот не про Украину. И не про сектор Газа. А очень даже наоборот.
Часть 15 - Ложится спать пустой трамвай...
Часть 16 - Любовь - оружию...
Метки: проза любовь |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 4 пользователям
Бунт под стеклянным небом. |

Говорят, что есть намоленные места. Церкви, Погосты. Знают, что есть места проклятые. Омуты, зАмки, сумеречные графские развалины.
Вот о знаменитом старом поместье я и расскажу теперь.
И начну издалека. В 1862 году князь Феликс Алексеевич Юсупов купил у знаменитых венецианских стеклодувов невероятных размеров зеркало. Поле его являло плоскость, составленную семью аршинами ширины и двадцатью одним аршином длины. Толщина стекла составляла шесть дюймов. Изначально зеркало готовили в канцелярию Папы Римского. Но когда понтифик узнал цену, он открестился от зеркала.
Князь Феликс Александрович за ценой не постоял. Вместе с земляком, знаменитым архитектором Людвигом Людвиговичем Мысловским они осмотрели стекло, и Мысловский приговорил:
-Для вашего веселовского дворца самое онО, князь. Я лишь внесу некоторые изменения в проект, и зеркало станет украшением имения.
Для перевозки стекла из Италии в воронежское имение Веселое князь снарядил особую экспедицию. Он купил лошадей и нанял возчиков. Под зеркало приготовили жёсткое деревяннное ложе, расположив его сразу на восемь телег, закреплённых одна за другую. Тянули упряжку шестнадцать лошадей. Этой странной и нелепой конструкции предстояло преодолеть чуть не три тысячи вёрст через горы, по мостам и топям.
А сам князь уехал налегке. В России началась крестьянская реформа, и его присутствие требовалось во многочисленных имениях.
В марте, перед самым началом полевых работ князь прибыл в Веселое. Он накоротке переоделся в недостроенном дворце , распёк за нерадение десятников и во двор имения велел скликать своих крепостных.
Надобно запомнить, что крепостные к тому времени имели свои личные земельные наделы, юридически принадлежащие помещику . Реформа 1861 года высвобождала крестьян из личной зависимости и закрепляла приусадебные участки за общиной . Но при этом участки эти подлежали постепенному выкупу.
И все наделы бывших крепостных включались в земский земельный фонд. То есть – у крестьянина исчезал закрепленный надел. Как и у государственных крестьян до того, бывшие крепостные включались в систему чересполосицы. Иначе- каждый год, по жеребьевке, они получали кусок земли, на котором в прошлом году работал кто-то другой. А твой прошлогодний участок ухожил иному хозяину.
То есть – что произошло с веселовскими крепостными по александровской реформе? Они перестали быть имуществом помещика, но становились полностью зависимыми от сельской общины. Раньше за право владеть землей они работали на барских угодьях. Теперь за то же самое они обязаны были долгие годы выплачивать князю денежный выкуп.
Если это отмена крепостного права, то довольно лукавая.
И вот что предложил князь своим вчерашним крепостным:
-Господа мiр!, - начал он, стоя на крыльце при Андреевской ленте и звезде, рядом с мировым посредником Огуречным. – Вы долгие годы верой и правдой служили моим родителям и мне. И было бы подлостью с моей стороны теперь наживаться на вашем незнании. И, чтобы разойтись без обмана, предлагаю вам свой способ выхода из крепостной зависимости.
И князь сделал то, за что веселовцы благодарили потом Юсуповых до самой революции.
А по тупил он так. По приговору мiра с каждым хозяином бывшего крепостного подворья князь заключил договор аренды. То есть – он освободил крестьян от выкупа за землю, но оставил её за собой и раздал мужикам же на правах аренды. То есть – князь показал кукиш общинному крестьянству. Ему удалось сохранить помещичьи земли единым клином, не подвергать его изнурением чересполосицей.
И до того на селе было как бы два крестьянских мiра – государственные хлебопашцы и владельческие, помещичьи крестьяне. Теперь же в Веселом возникли как бы два лагеря по способу обработки земли – общинный и ещё один общинный, но на закрепленных землях.
Это сразу раскололо село. И до того община судилась и самозахватывала юсуповские земли. Теперь же, по реформе, община уже видела помещичьи угодья своими.
И князь их объехал на вороном коне. Село поволоновалось, и притихло. Но уголёк полспудно тлел, и дымком пахло в воздухе постоянно.
А князь оставил после себя молодого управляющего Варравку, и уехал по своим делам.
Деятельный Варравка занялся достройкой имения. Он точно и вовремя выполнял все распоряжения архитектора Мысловского, который задержался в имении до окончания стройки.
Надо сказать, что Мысловский был лучшим русским архитектором Х!Х века. Его здания украшали городские площади, именно он воздвиг комплекс портовых сооружений во фанцузском городе Ницца. Богатейшие русские вельможи заказывали ему проекты сельских усадеб.
Так Людвиг Людвигович оказался и в Веселом. Он понял, что в самом селе закладывать дворянское гнездо неразумно. Долго выбирал ландшафтную основу и разбил разметку в удивительном месте у озерца, на краю дубовой рощи.
Крепостные в десяток лет воплотили на местности все, что архитектор начертал на бумаге.
А к Троицину дню того же года в имение привезли то самое зеркало, что сам Мысловский заботливо укладывал на подвижной помост ещё в Венеции.
Итальянских возниц, изрядно угостив и заплатив за труды, отправили на Родину. Потом местные балагуры утверждали, что кучерявые дети, родившиеся через год, «лопочут по итальянски», но мы этого подтвердить не можем.
Зато свидетельствуем, что громадное зеркало заняло всю стену новенького вестибюля княжеского дворца.
И в этом зеркале отражалась вся жизнь великосветского дома. Взросление детей, криолины дам, мерцание свеч на глянцевой крышке рояля. Ему, зеркалу, показывал язык маленький Феликс. Тот самый, что станет убивать потом сумеречного Гришку Распутина…
В 1905 году искра выкатилась из-под спуда и воспламенила Веселое. Здесь случился чуть не самый крупный крестьянский бунт в России. Его подняли общинники-чересполосовцы, дорвавшиеся, наконец, до княжеского добра.
Не стану описывать бунта. Скажу лишь, что на спад он пошёл не тогда, когда в селе появились казаки. И даже не тогда, когда с карательной командой в село прибыл сам губернатор Андреевский.
Бунт схлынул, когда крестьяне ворвались в купеческий дворец.
Они увидели зеркало…
Нет, неверно.
Они увидели в зеркале себя. Разъярённых, пьяных, в крови , лаптях и с дубьём. Они увидели зверей, грозивших уничтожить их же.
И зеркало было разбито на мелкие кусочки. Как в сказке Андерсена, кусочки стекла попали в глаза бунтовщикам, и кривой мир для них стал выглядеть нормальным.
Бунтовщики разбегались, унося осколки зеркала. Каждый тянул кусок на подворье, и в несколько дней по веселовским хатам засверкало солнце, отраженное во вмурованном в глиняную стену расколотом венецианском шедевре.
Собственно, бунтовщиков потом и брали по этому признаку: есть в хате осколок юсуповского зеркала – пшёл под суд!
. . .
А ослепленное зеркалом село в советские годы почти разгромило изумительное помещичье имение. Много годы на месте архитектурного ансамбля был пионерский лагерь, нычне там «мерзость запустения».
У воды с удочкой дремлет кучерявый мальчик. Я опускаюсь на корточки рядом, покусываю травинку:
-Знаешь, что было сто лет назад на этом месте? – спрашиваю мальчика.
-Знаю! – оживает тот. – Клёв хороший был!
© 15.05.2013 Владимир Калуцкий
Метки: россия люди общество история проза |
Понравилось: 2 пользователям
Листок на асфальте. |

Листок на асфальте
Может быть, тема моего сказания не нова, но я ничего не придумал. Да и не смог бы такое придумать. Очень уж невероятно и жестоко все.
Я сидел на лавочке, когда ко мне в руки попал этот листок. Ветер поднял с асфальта тетрадный лист бумаги. Он словно слабый птенец вспорхнул и приземлился на лавочку рядом со мной. И ветра-то особого не было. Так, случайный порыв. Почему ко мне прилетел этот листок? Мистика какая-то? Да.
Взял я этот лист. Написано карандашом, уверенным почерком, без ошибок. Мелкими буквами. Словно, писавший экономил место на бумаге. Кое-где линии букв были неуверенными, видно рука писавшего письмо дрожала. Начал читать и прочитал, не отрываясь до конца. И Вы почитайте.
"Здравствуй, сынок! Дела мои не блестящи. Перевели меня в закрытое отделение называемое «Неврология». В наказание за то, что я выказала свое недовольство главврачу. У нас ведь в город обычно желающих всегда выпускали с родственниками или сопровождающими. А мне отказали.
Сорвалась я на слова врача – «Вы бабушка не нервничайте. Приедут ваши родственники, и мы вас выпустим на побывку. А я ему в ответ –« Я тебе не бабушка, тамбовская Баба Яга тебе бабушка. И еще доктором Менгеле назвала. Бунт вроде бы невелик, но последствия были ужасные. Врач никак не отреагировал, ушел. А потом меня сюда перевели. Вещи и одежду отобрали. И «острые и колющие», как они выразились, предметы. Складной твой ножичек, красненький, ножницы для ногтей и даже шариковую ручку.
Поэтому и пишу карандашом, доставшимся по случаю. Обрядили меня в халат «в цветочек» и начали «лечить». Если в «пансионате» могла я в любой момент на территорию выйти погулять, в ларек сходить, то тут вообще на улицу не выпускают, держат под замком.
- «Дышите в открытые окна» - нам говорят. По телефону не позвонишь – отбирают. Телевизора нет. А ведь и радости у меня раньше было, что сериал «Колечко» посмотреть, да с соседками очередную серию обсудить. Без телевизора совсем беда. Лежи как бревно на кровати или шляйся по комнатам. И читать не хочется, да и нечего.
Конечно, много здесь не совсем нормальных, но тихих, и в прошлом пьющие есть. Но, немало и таких, как я, наказанных. Некоторых, правда, потом на прежнее место возвращают, но не меня. Хотя и меня сначала обещали вернуть в «пансионат», но недели идут, а доктора молчат, и на просьбы мои не реагируют. А требовать нельзя. Одну «непокорную» ночью к кровати привязали. Ее парализовало, а потом она скончалась. Приехали родственники, забрали тело – и все тихо. Правильно, знать, я врача доктором Менгеле назвала.
Пишу к тебе, так как просьба у меня есть. Но, сначала несколько своих мыслей и воспоминаний. Ведь письмо-то последнее. Хочется мне о себе напоследок немного рассказать. Может что-то и останется в твоей памяти. Иначе, страшно сознавать, что вся моя жизнь со слезами радости и горя, счастьем и печалью уйдет в ничто, как будто и не было ничего. Да, страшно это, невыносимо и несправедливо.
Здоровье у меня с детства было не ахти. На Камчатке, где я была с родителями, укусил меня энцефалитный клещ, и я долго болела. И потом еще беда была. Немец тогда к Сталинграду подходил, где я пединститут заканчивала. Твой дед послал за мной из колхоза машину, чтобы вывезти из того кошмара. И вывез ведь шофер меня спрятанную в кузове под мешками с продуктами. Но когда из города выехали, попали под бомбежку. Меня взрывная волна на несколько метров из машины выбросила. Сильно побилась я и в больницу попала.
Потом, ты знаешь, директором школы в колхозе работала. Всю войну и после. Позже на Учительский слет в Ленинград поехала, где и встретила твоего отца. Видный он был – в морской форме военный хирург.
Долго у нас детей не было – сказались мои старые болячки. Но, слава богу, во Владивостоке, где отец твой службу продолжал, ты, наконец, родился. Не было на свете в те дни человека счастливее меня. А может быть никогда в человеческой истории и не было. Так мне тогда казалось. Как мы с отцом любили тебя, как носились с тобой! Может быть, и избаловали. Уж, прости.
Нет, я не плачу, просто, это пятна на листке. Свое все уже я выплакала. А, помнишь, как ты попросил нас присылать тебе побольше денег. Это когда ты в институте в Москве учился и решил квартиру снять. В общежитии тебе, дескать, сложно заниматься. А я ведь тогда сильно болела. Уходить с директорского места собиралась. Очень уж тяжело было возглавлять школу в рабочем районе города.
Но, я тогда еще дополнительно уроки взяла. Если бы ушла тогда, может быть, и не случился бы позже тот злосчастный инсульт. Отца уже не было, и, когда я через полгода из больницы вышла, ты пообещал меня к себе забрать Мы и квартиру с тобой продали и вещи собрали. Какая-то у тебя там заминка вышла, и ты уговорил меня побыть в этом «пансионате». Временно. Если бы знать тогда. Но я верила тебе, ждала все….
Ох, Витя, Витек! Бог тебя простит. За все три с половиной года ты только один раз и приезжал. Спасибо Лиля, племянница, меня навещала. Телефон мне подарила. Только и по телефону у нас с тобой разговора не получалось. То ты занят был, то спешил куда-то. Да, жалко, что отец рано умер. Раны фронтовые, болезни. А помнишь, как его детки твои любили, Миша и Сонечка, когда ты их поочередно маленькими к нам привозил и оставлял. Они ручки к нему тянули, смеялись радостно –« Деда, деда!». А он им обязательно виноград или сникерсы, либо игрушки подороже. А потом они даже ни разу к нему на могилку не приехали.
Ну, вот, кстати, я и к просьбе своей подошла. Я ведь тогда у главврача в город отпрашивалась – на кладбище съездить хотела. Боюсь, что меня в целлофановом мешке похоронят не известно где. Вот я и прошу тебя похоронить меня в одной с отцом могиле. Выполни мою просьбу, хотя я знаю, что ты очень занят.
Деньги я собрала и на «церемонию», и на билеты тебе в оба конца. Да еще много останется. Я узнавала. Письмо это передам с родственниками соседки по палате. Они обещали. И перешлют, и адрес тебе свой сообщат для обратного ответа. Если уж не сможешь, буду тогда других людей упрашивать. Только поторопись с ответом. Совсем немного мне осталось – несколько месяцев в лучшем случае. Та же соседка случайно услышала, как врач обо мне медсестре говорил. Да и передала мне по простоте душевной.
Пишу ночью, в туалете. Санитарка в дверь стучит –«Ты что там, старая тварь, уснула?!» Это мне-то, директору школы, Заслуженному учителю России.
Не могу подписываться «мама». Прости, Любовь Сергеевна.»
Я сидел и вертел листок бумаги, растерянный и удрученный. Вчитывался в строки опять и опять. Все же дала она отпор главврачу. И поэтому верил я, что эта сильная достойная женщина не собирается умирать. Она поборется за свою жизнь и достоинство. Иначе, как жить?
***
© 28.08.2011 Владимир Попов
Метки: проза люди |
Процитировано 3 раз
Понравилось: 4 пользователям
Хочу, чтобы помнили... |

Старое фото. Время на нем остановилось и донесло до наших дней один миг из жизни этих людей. Миг спокойной жизни, полной надежд.
Для читателя это просто ещё одно чёрно-белое фото, но если я расскажу историю этой семьи, быть может, вы по другому, вглядитесь в их лица.
Жили они в селе Киселёвка Херсонской области. Глава семьи, Пётр Лянзберг, от своего отца перенял любовь к земле и труду. Его отец, Михал Лянзберг, всегда стремился иметь земли побольше. В селе его прозвали «дед нужда».
Из-за того, что когда его спрашивали.
- Михал, как жизнь?
Он тяжело вздыхал и отвечал.
- Ох, нужда замучила… Землицы ещё бы хоть немного.
- Куда тебе ещё? У тебя и так тридцать десятин!
- Землицы много не бывает,- отвечал он с улыбкой.
Привыкший к физическому труду, он и в старости не мог сидеть на месте. Еле передвигаясь по дому, шаркая ногами, он шёл в мастерскую и целыми днями там что-то строгал, стучал, пилил.
Соседи спрашивали.
- Михал, что ты всё там стучишь? Мастеришь что?
- Хоромы себе делаю дубовые, ни у кого таких не будет.
- Гроб что ли? – изумлялись они. – Побойся Бога, живи ещё, Михал!
- Дак, я помирать и не собираюсь, куда спешить? Мне ещё узоры вырезать, шлифовать, ого, сколько работы!
Больше года вырезал узоры на своём гробе Михал, а, как закончил, так и помер тихо.
Пётр построил большой светлый дом с просторными комнатами. Как же, ведь он всегда мечтал о большой семье. Жена его, Мария, спокойная женщина с добрыми глазами, всегда поддерживала мужа. Со временем дом наполнился детским смехом. Почти каждый год семья ждала пополнения. Пётр, трудолюбивый, хозяйственный, сам обрабатывал свою землю. Заработанные деньги не жалел на образование детей. Так как в Киселёвке проживали в основном поляки, дети учились в польской гимназии. Общительный жизнерадостный, Пётр был всегда душой компании, он играл на баяне, и ни одно мероприятие не проходило без него. Любовь к музыке он передавал и своим детям и даже купил для них пианино – по тем временам это была невиданная роскошь.
Мария качала головой, глядя на своего жизнерадостного мужа.
- Петенька, ты бы поосторожней, не гнал бы, детки ведь малые дома, - причитала она, смотря, как он запрягает пару лошадей в бричку.
- Не в первой! Чай и обгоним! А? Обгоним мы железяку?! – кричал он и ждал сигнала.
Железнодорожная станция Заселье находилась в трёх километрах от села. Подъезжая к станции, паровоз давал гудок, который и был сигналом к старту. Услышав сигнал, Пётр тут же выезжал на проселочную дорогу вдоль железнодорожного полотна, из всех сил погоняя лошадей.
В селе это было целое событие. Люди выбегали из домов, поднимались на пригорок и наблюдали, обгонит Пётр паровоз или нет.
- Перегонит! Ещё немного осталось.
- Нет слабо, не обгонит, нет.
- Подожди сейчас, сейчас…
Когда же в 1929 году проводилась коллективизация, Пётр одним из первых вступил в колхоз.Его назначили бригадиром.
Он верил в доброе светлое будущее. И всё повторял.
- Жаль батя не дожил, он всё хотел землицы побольше, а теперь вся земля наша! Вся общая! Да мы теперь такое будущее построим для наших детей!!
Мария плакала и убивалась от горя, когда уводили коров, лошадей и всю остальную живность.
Он её успокаивал.
- Что ты, Маричка, не плачь, теперь у нас всё общее, как ты не поймёшь глупая, радоваться надо!
А в 1931 году из города приехали люди в форме. Они долго ходили по селу, смотрели колхозное хозяйство. Затем собрали всех в клубе на собрание.
С трибуны выступил председатель Егор Захарович. Трясущимися руками он налил себе стакан воды, выпил и начал.
- Товарищи! Все вы знаете, как мы тяжело трудимся на благо Родины, но в тоже время среди нас остались ещё люди, которые держатся за пережитки прошлого. Партия поставила нам задачу выявить кулацкий элемент и их прихвостней!! - кричал он, поглядывая в сторону людей из города. Те сидели с каменными лицами.
- Так вот, - продолжил он,- кто из вас может назвать таких?
В зале воцарилась тишина. Люди боялись пошевелиться. Дело в том, что в селе практически все были связаны родством. В семьях было по шесть- восемь детей. А у Поплавских вообще было шестнадцать дочерей, которые подрастая, выходили замуж за своих односельчан. Теперь же нужно было называть кого-то из своих.
- Хорошо… Я смотрю никто не хочет проявлять инициативу, -сказал Егор Захарович.
- Почему же никто, - послышался хриплый голос вечно подвыпившего Коли Бобенко, - все давно поняли кто у нас кулачара!
Он отдёрнул руку жены и продолжил.
- Да, да и пианина и баян и барахло разное, даже болонка имеется у Петьки Лянзберга.
Люди в форме оживились, закачали головами. Председатель сразу выкрикнул, - Голосуем товарищи! – и первый поднял руку.
Несмело, поглядывая друг на друга, люди поднимали руки.
- Хорошо, товарищи. Единогласно! Теперь продолжим по списку, Скрицкие! Вишняковские!! – кричал он с трибуны. Люди с замиранием слушали новые фамилии, боясь услышать свою, и с тяжёлым сердцем поднимали руки…
В дом вошли люди в форме они стали спокойно оценивать имущество…
- Так, пианино в школу и баян туда же, что тут ещё, глобус и стол дубовый тоже в школу.
Плакали дети, голосила Мария, только Пётр стоял с бледным неподвижным лицом. Он теребил в руках шапку и молчал.
- А вы что стали?Собирайтесь, можете взять только одежду, всё остальное у вас конфискуется, через несколько дней вас проведут на станцию Заселье.
- Куда? Зачем? За что? – кричала Мария, пытаясь перекричать плач детей.
- В Сибирь, красавица, в Сибирь, теперь там будете наслаждаться жизнью,- сказал молодой комиссар с насмешкой.
- Всё пошли!
Их стали толкать, выгоняя на двор.
- Куда же нам с детками на мороз? – спросила Марья.
- В свинарнике переночуете, там вам и место! Коля! Коля Бобенко, иди сюда, будешь их сторожить. Смотри, сбегут – пристрелю!
Всю ночь в селе слышались крики – людей выгоняли из домов, женщины и дети рыдали. На телеги грузили зерно, выгребая всё до последнего зёрнышка. Забрали даже колхозное зерно.
Ночью сильный студёный ветер продувал дощатый сарай. Дети жались друг к другу, пытаясь хоть немного согреться.
Пётр сидел неподвижно.
- Петенька, как же так? Что мы им сделали? Всё хозяйство отдали, землю, скотину… За что? – она посмотрела на него и замерла.
- Что cтобой, родной мой? – кинулась она к мужу.
По его щекам лились слёзы, он хрипел и с трудом дышал.
- Помогите! Человеку плохо!! Помогите!!! – она кричала и колотила в запертую дверь. – Сейчас, потерпи Петенька, потерпи родной.
-Коля! Коля, открой!! – кричала она. Но её никто не слышал. Коля Бобенко, проверив надёжность засова, выпил и уснул в их же доме.
Утром, когда открыли дверь свинарника, на полу лежало застывшее тело Петра.
- Завести на время в дом, пусть отогреются, а то все дуба дадут. Будем решать, что с ними делать, - сказал комиссар.
Так как глава семьи умер, было решено отправку в Сибирь пока отложить. Марии с детьми разрешили пожить в свинарнике. Она оказалась в ужасном положении: потеряв мужа, осталась одна с девятью детьми. Старшему Станиславу было тогда пятнадцать, за ним Тина тринадцати лет, Франчишек, Ольга, Анна, Павел, Иосиф, София и годовалый Петенька.
В селе начался голод. Люди доедали последние крохи.
От голода малыши опухли и всё время плакали. Мария пыталась найти хоть какое-то пропитание. От отчаянья она решилась пойти к председателю. Мария плакала и умоляла ей помочь.
- Что? – возмутился он. – У меня люди умирают от голода, а я буду кулацким ублюдкам помогать! Пошла вон отсюда!!
Рыдая, она выбежала от него, не зная, что ей делать.
А ночью под снегом рыла землю в поле, в надежде найти опавшее зерно. Ей даже удалось отыскать несколько почерневших колосков. С ними её и поймали…
Колоски отобрали, объявив её врагом народа. Но так как в селе свирепствовал голод, отпустили со словами: « Иди, всё равно сдохнешь».
Старшие дети Станислав и Тина, чтоб не умереть подались в город. Ночью, боясь как бы их не поймали, они разошлись в разные стороны. Станислав подался в Николаев, а Тина в Херсон.
Станислав устроился на завод. Смышлёный, грамотный парень он смог добиться там уважения, не смотря на то, что поляк и сын врага народа.
Тина устроилась прислугой в семью инженера. В его доме она выполняла всю домашнюю работу. Он платил ей жильём и едой. Тина откладывала для мамы и малышей еду, сушила хлебные корочки.
Наконец, она что-то собрала и в выходной день приехала в Киселёвку.
С тревогой подошла к свинарнику, открыла дверь и ощутила запах смерти…
На полу лежал распухший, мёртвый Франчишек, возле него на коленях стоял маленький Иосиф. Он дёргал Франчишека за ногу и слабым голоском просил, - Пошли, поиграем, ну же, пошли играть.
Тина прошла вглубь сарая. В самом углу на соломе лежала мертвая Мария, она обнимала холодное тельце Ольги. Боль и мука исказили её застывшее лицо. Рядом в разных позах лежали тела Софии, Анны и Павла. Петенька лежал сверху на матери и жадно сосал грудь, пытаясь выдавить из неё хоть каплю…
Тина выпустила на пол узелок с хлебными корочками…
Люди умирали массово. По улице, скрипя колёсами, медленно ехала телега до верха заполненная опухшими трупами людей. Тина укрыла Иосифа одеялом, подняла узелок и дала его малышу.
- На, держи, я сейчас приду, - сказала она и вышла.
Заплаканная худенькая девчушка подбежала к телеге и попросила людей забрать мать и малышей, чтоб похоронить их.
Когда она вернулась, Иосиф был мертв, ни одеяла, ни узелка рядом уже не было…
Маленького Петю забрали в детский приют, который организовали в Киселёвке. Прошло несколько лет, голод закончился. К нему иногда приходила родственница, тётя Фильцианна. Приносила гостинцы, гладила малыша по кудрявой головке. Однажды когда она уходила, Петенька кинулся ей в ноги, обхватил их своими маленькими ручками и заплакал,- Тётенька заберите меня, пожалуйста! И она не смогла оставить его в приюте, взяв на воспитание к себе.
Из большой, дружной семьи выжило только трое : Тина, Станислав и мой дедушка Петя.
Спасибо, Вам, что прочитали эту историю. Смотрю на фото, плачу и повторяю.
- Хочу, чтобы помнили…
© 15.01.2012 Анна Март
Метки: СТАЛИНИЗМ |
правильная дочка правильного папы |
К одной моей знакомой, немолодой даме, подошла совсем уж пожилая женщина и сказала:
- Я вам желаю добра, и поэтому вы должны знать правду. Вы готовы?
- Да, конечно, - сказала моя знакомая.
Доброжелательница понизила голос:
- Ваш отец жил одновременно с шестью женщинами!
Моя знакомая ответила:
- Значит, женщины любили моего отца. По-моему, это прекрасно.
- Он бессовестно изменял вашей матери, вы понимаете?
- Я всё понимаю. Но он очень любил красивых женщин, я не могу его осудить.
- Ха-ха-ха! – воскликнула доброжелательница. – Они были некрасивые!
- Все шесть?
- Все до одной! Коротышки! Толстые! Кривоногие!
- Значит, мой отец был очень добрым человеком. Это еще прекраснее.
Конечно, она могла сказать: «Мадам, то есть бабушка, а вы, наверное, хотели быть седьмой?».
Она так подумала. Но не сказала.
Потому что она тоже была доброй – как ее папа.
clear_text
Метки: проза |
Понравилось: 7 пользователям
ТЕСТ. |
Метки: интересно юмор |
Понравилось: 1 пользователю
Крещение это вам бесплатный китайский ресторан что ли? |
- Вот покрестил я ребёнка, а потом его людоед в лес уволок и съел, то мы хотя бы кости отпеть сможем. Он должен за это благодарность дать 500 рублей за это, разорится что ли?... ( я так понимаю речь о родителях съеденного ребёнка )
Я вот послушал это всё, и у меня один только вопрос: на хера он там работает? Человек полностью утративший веру, и в принципе возможность спасения души. Чего он там забыл то? Хотя тут объяснение есть: Nothing personal,just business.
http://razumnyi.livejournal.com/589714.html
Метки: религии россия РПЦ |
Понравилось: 1 пользователю
На лице живут глаза... |
Это очень интересно, -
От кого река бежит?
Это очень интересно, -
Что в трамвае дребезжит?
Почему скворец поёт?
Почему медведь ревёт?
Почему один в берлоге,
А другой в гнезде живёт?
Это очень интересно, -
Кто деревья посадил?
Кто придумал крокодилу
Это имя Крокодил?
Кто назвал слоном Слона?
Это очень интересно, -
Кто Сазану и Фазану
Дал такие имена?
Это очень интересно -
Поглядеть на муравья,
Это очень интересно, -
Как живёт его семья?
Нелегко живётся ей,
Потому что меньше кошки,
Меньше мухи, меньше мошки,
Всех он меньше, муравей!
Это очень интересно, -
Где ночует стрекоза?
Это очень интересно, -
Почему молчит коза?
Это очень интересно, -
В барабан ли бьёт гроза?
Это, это же чудесно,
Что у всех, у всех детей
И у всех, у всех людей
На лице живут глаза!
Юнна Мориц














Марина Dieul родилась во Франции. Она проявила большой интерес к живописи
и рисованию с раннего возраста, и ее семья поддерживала ее увлечение. В начале 2000 года, она переехала в Монреаль (Канада), где она в настоящее время и живет. До 2008 г. она нигде не училась и рисовала самостоятельно...
Работы Марины Dieul печатаются в художественных журналах,
Совсем недавно она выиграла приз Уильяма Бугро Best of Show Award, и первое место в розыгрыше категории в Арт-Центра Обновления Салон, и Лучшее Шоу в "Вдохновляющие Цифры" выставки (Butler Institute of American Art). Она является членом Общества "Портрет Канады", Общества "Портрет Америки", и ассоциации Международной гильдии Реализма.
Марина Dieul имеет многочисленные награды и является победителем многих международных конкурсов....
РИСУНКИ
Выполнены, в основном,... углем и мелом...

автопортрет
Серия сообщений "Любовь":
Часть 1 - Огромная волна накрыла влюбленных во время предложения руки и сердца
Часть 2 - На лице живут глаза...
Часть 3 - Весенняя история
Часть 4 - И новая юность поверит едва ли, Что папа и мама здесь тоже бывали...
...
Часть 14 - а вот не про Украину. И не про сектор Газа. А очень даже наоборот.
Часть 15 - Ложится спать пустой трамвай...
Часть 16 - Любовь - оружию...
Метки: живопись дети стихи |
Процитировано 5 раз
Понравилось: 6 пользователям
Май 2013. |
|
|
Понравилось: 4 пользователям

























