-Рубрики
- Ванюшному (122)
- вкусная еда (103)
- болеро, кардиганы, жакеты и другое крючком (95)
- ДЕТКАМ (87)
- статьи о традиционной русской культуре (84)
- шмот крючком для милой мамы (74)
- для дома моего (69)
- ирландское вязание (69)
- интересное (66)
- тунички, платья. (60)
- шапочки для малышей (58)
- шмотота- вышивка, шитьё, старинное, аутентичное (57)
- на ручки (55)
- история в миниатюрах (55)
- шальки (54)
- я мамочка (53)
- красивое одеждо спицами (52)
- узоры спицами (51)
- узоры и мотивы крючком (47)
- девочке Сонейке (46)
- если родится Вера (45)
- вязание спицами для меня (44)
- салфетки, скатерти (39)
- выкопанное. (38)
- мне нравится (37)
- Крым (36)
- вязание (36)
- вкусность (35)
- Родная Красота (34)
- современная история родного государства (34)
- славянское язычество (32)
- Война (30)
- на ножки (30)
- УХТЫ!!! (28)
- Рим, любимая Италия, Искья, Венеция, Тоскана, Помп (28)
- фетр (28)
- пледы, коврики и мелочи крючком и спицами (27)
- филокартия - (27)
- Сибирь- (25)
- археология (24)
- мозаика, декупаж, печворк, декорирование и другое (22)
- руны, рунескрипты, вязи, шлемы (22)
- неблагодарные потомки (21)
- Курск, Калуга, Рязань, Москва (20)
- скандинавия, асатру, север (20)
- когда не спится (19)
- Рукавички,перчатки,митенки ДЛЯ ПЕРЕДНИХ ЛАПОК (19)
- дерьмоништяк и разные шедевры (19)
- Старая Россия (18)
- Красивый мир (16)
- стихи (16)
- здоровье (15)
- праздники славян- наши праздники (15)
- моё, только моё (14)
- поморы,северные народы России (13)
- екатерина вторая (13)
- люди добрые (12)
- квартирный вопрос (11)
- словесность, грамотность, и просто буковки (10)
- историческая реконструкция в контексте (10)
- капища, мои места, любимый лес (10)
- ткачество на дощечках и бердо (9)
- жаккарды (8)
- Русские в Америке (8)
- поморы,северные народы России (8)
- мои статьи (8)
- резьба по дереву (4)
- проза (1)
- Театр, мой и не только (0)
-Метки
Север ажур апокрифы асатру болеро болерошка буковки вакцинация велеслав венок воспитание вышивка гамаюнщина деревья дети деткам детство дом дочушка игры имена ирландия история калаши капище кологод коломна корни красота кружево крым культура купала лён лес ломоносов мёд магия малышам нара наряд носочки обработка обучение обыденная пелена одежда олени открытки палантин педагогика перун печворк пинетки платов плед полотно посиделки праздник праздники предки прививки призраки прошлого прядение психология путешествия радогощ развитие ритуал родина предков родители рубаха рукоделие руны русалии русское русь рымник салфетка свадьба святослав славяне следочки совы суворов тапочки ткачество традиция туника фото хмель хоровод шалька шапочка шахта ык эдда эрокартия юность язык язычество
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Создан: 31.03.2011
Записей: 2425
Комментариев: 123
Написано: 2602
Записей: 2425
Комментариев: 123
Написано: 2602
По классу осанки я кончила Смольный.
Надомный, подпольный, далёкий от смертных с Лубянки.
Какие - то, видно, мамзели, меня обучали
искусству сходить с карусели- без тени печали!
Надомный, подпольный, далёкий от смертных с Лубянки.
Какие - то, видно, мамзели, меня обучали
искусству сходить с карусели- без тени печали!
Особенности формирования и развития восточнославянского язычества |
М.А.Васильев: Особенности формирования и развития восточнославянского язычества
Особенности формирования и развития восточнославянского язычества
М.А.Васильев
Оп.: интернет-журнал "Махаон", №10, июль-август 2000.
Постоянное исследовательское внимание к восточнославянскому
язычеству присуще палеославистике, в первую очередь отечественной,
практически с момента ее зарождения. Ныне данной проблематикой
занимаются представители различных отраслей гуманитарного знания:
историки, языковеды, археологи, этнолингвисты, этнографы,
искусствоведы и др. И это закономерно. "Славянское язычество
существенно и интересно для науки не только само по себе как форма и
система культурных ценностей древних славян (праславян), - писал
Н.И. Толстой в связи с рассмотрением вопроса о роли язычества в
славянской культурной традиции, - но и как важный компонент культуры
последующих эпох, как генетическая основа славянской народной
культуры и фольклора"1. Обращение к дохристианским языческим
верованиям позволяет вскрыть глубинные пласты культуры современных
восточнославянских народов, некоторые особенности их менталитета,
равно как и выявить мировоззренческие основы представлений древних
славян, являющиеся одной из базисных составляющих духовной культуры
восточнославянских этносов. Поэтому не случайным является выход в
последние десятилетия целого ряда обобщающих трудов, посвященных
(пра)славянской, в том числе восточнославянской, языческой архаике2.
В предлагаемой вниманию читателей статье нами анализируются
некоторые узловые проблемы многоплановой тематики
восточнославянского язычества, понимаемые как имеющие принципиальное
значение для адекватных научных заключений об особенностях
формирования язычества восточных славян (на уровне "высших" богов3),
его состояния и развития ко времени введения христианства на Руси, а
именно - комплекс вопросов, связанных с богами Семарглом и Хорсом,
вошедшими в созданный и существовавший в Киеве в годы "первой
религиозной (языческой) реформы" (980 - 988 гг., по хронологии
"Повести временных лет")4 великого князя Владимира пантеон богов
(помимо названных божеств, согласно "Повести временных лет", он
включал Перуна, Дажьбога, Стрибога, Мокошь), а также с самой этой
реформой.
Определяя причины выбора в качестве объектов специального анализа
именно богов Семаргла и Хорса, в первую очередь необходимо указать
на то, что они составляют примерно пятую часть обычно относимых в
научной литературе к "высшим" восточнославянских божеств (кроме
Семаргла и Хорса, это Перун, Волос ~ Велес, Дажьбог, Стрибог,
Мокошь, Сварог, вероятно, Троян). Одновременно рассматриваемые боги
языческим верованиям других ветвей славянства достоверно не известны
и являются, следовательно, специально восточнославянскими, их
присутствие составляет одну из ярких особенностей дохристианских
верований этой отрасли славян. Поэтому анализ круга связанных с ними
вопросов сам по себе имеет важное значение для дальнейшего
продвижения в изучении истории сложения и функционирования язычества
восточных славян.
Однако в первую очередь выбор нами указанных двух божеств обусловлен
специфической общностью их корней, их иранским происхождением.
Говоря о язычестве как компоненте культуры древних славян, Н.И.
Толстой особо отмечал: "Без этого компонента, который в древнейший
период занимал основные позиции, ...нельзя понять до конца всего
процесса культурного развития славян и всего механизма
взаимодействия славянской культуры с культурами неславянскими"5.
Среди проблематики, связанной с взаимоотношениями (пра)славян с их
соседями, имевшими иной лингво-культурный облик, вопросы
(восточно)славяно-иранского взаимодействия, в первую очередь в
религиозно-мифологической сфере, в области культуры вообще, были и
остаются одними из насущно актуальных для комплекса научных
дисциплин, занимающихся славянскими древностями. В этой связи
сошлемся на ряд суждений В.Н. Топорова, носящих концептуальный
характер и разделяемых нами. Он определил значение Rosso-Iranica в
качестве "большой и исключительно важной научной темы, имеющей не
меньшее значение для русской духовной культуры и становления
самосознания, чем исследования в области "туранского" наследия в
русской культуре"6. Ученый отмечал факт "глубокого и благотворного
языкового и культурного влияния [иранцев] на славян, особенно
восточноевропейских"7, т.е. на славян восточных.
В.Н. Топоров обращал внимание и на следующую проблему, актуальную
сегодня в рамках восточнославяно-иранских научных разысканий: "Более
глубокое и последовательное исследование ирано-славянских контактов
во времени и в пространстве продолжает относиться к числу наиболее
настоятельных desiderata8 этнолингвистической и культурной истории
Восточной Европы. Такое исследование не может ограничиваться только
инвентаризацией иранизмов. В принципе оно должно ставить перед собой
и задачу определения конкретных путей и форм этого влияния..."9
Совокупность указанных обстоятельств и концептуальных подходов
делает актуальной научной задачей всестороннее изучение вопросов о
функциях, облике, времени и путях вхождения в восточнославянское
язычество двух иранских по происхождению божеств киевского пантеона
князя Владимира - Семаргла и Хорса, давно привлекших пристальное
исследовательское внимание, но дискуссии вокруг которых продолжаются
поныне.
Рассмотрение данного круга вопросов, в свою очередь, неотделимо и
напрямую зависит от решения остро обсуждаемых в мировой науке общих
проблем этногенеза славянства и его ранней истории. Как подчеркивал
Н.И. Толстой, "решать вопрос этногенеза славян без учета фактов и
показателей славянской духовно культуры в настоящее время уже
невозможно, так же как нельзя реконструировать эту культуру без
достаточно четкого представления о праславянском историческом... и
языковом прошлом"10. В силу этого в статье данный аспект ее
проблематики анализируется не только в религиозно-мифологическом, но
и в археолого-историческом и этноисторическом ракурсах.
Введению христианства в качестве государственной религии
непосредственно предшествовало языческое реформирование Владимира
Святославича первых лет его великого княжения, определяемое в
историографии как "первая религиозная реформа" этого князя (в
отличие от "второй религиозной реформы" Владимира - введения
христианства в качестве официальной религии Древнерусского
государства). Г.Г. Литаврин и Б.Н. Флоря, рассматривая проблему
общего и особенного в процессе христианизации стран и народов
Центральной и Юго-Восточной Европы, а также Древней Руси, правомерно
отнесли данную реформу к числу специфических особенностей,
отличавших развитие восточнославянского язычества к кануну введения
христианства11. Проводимый в статье анализ "первой религиозной
реформы" (неотрывно сопряженный с результатами рассмотрения
обозначенных вопросов, относящихся к богам Семарглу и Хорсу)
позволяет по-новому осветить ее место в позднеязыческую эпоху
восточнославянской/древнерусской истории, говорить о том, что
"первая религиозная реформа", а также ее финал, и введение
христианства были теснейшим образом взаимосвязаны.
Переходя к историографическим аспектам поднимаемой в статье
проблематики, необходимо отметить, что сложившаяся в научной
литературе ситуация в отношении божества Семаргла неоднозначна.
Помимо того, она дополнительно усугубляется состоянием источников.
Семаргл упоминается в ПВЛ в статье под 980 г. среди богов киевского
Владимирова пантеона и дважды в "Слове некоего христолюбца и
ревнителя по правой вере" - одном из наиболее ранних древнерусских
поучений, направленных против языческих переживаний. Здесь теоним,
однако, разделен на два - Сим/Сем и Регл: обличая "христиан,
двоеверно живущих", "христолюбец" указывал, что они веруют "в перуна
и хорса и въ мокошь и в Сима и въ Рьгла..."12 (варианты по различным
спискам "Слова": "и в Ерьгла", "и в сима и ворхгла", "и воргла", "въ
ръгла", "ргла"13); "молять подъ овиномъ огневи. и виламъ и мокоши
(и) симу. (и) реглу и перуну и волосу скотью б(ог)у. (и) роду и
рожаницамъ..."14 (варианты: "рьглу", "симу реглу", "и сему
реглу"15). Подобное состояние источников породило мнение о
существовании в восточнославянском язычестве двух богов с
соответствующими именами.
Что-либо надежно сказать об облике и функциях Семаргла на основании
указанных древнерусских источников невозможно. Поэтому многие
исследователи отказывались "разгадывать" Семаргла (Сима/Сема,
Регла), хотя и недостатка в разнообразных предположениях не было.
Например, П.И. Прейс связал Сима и Регла с упомянутыми в Ветхом
Завете богами Асимой и Нергалом (4 Цар. 17, 29 - 30), с чем
согласились И.Е. Забелин, В. Мансикка и др.; А.С. Фаминцын счел
теоним Семаргл состоящим из двух слов - Сим (или Сем) и Ерыл, где
Ерыл - Ярило, восточнославянский бог Солнца, а первое слово объяснял
из древнесабинского semo 'гений, полубог'; М.Е. Соколов полагал, что
Семаргл означает "Семи-Ярила", так как изображался с семью головами;
близкую позицию занял Л. Леже, предположивший, что в имени Семаргла
скрывается искаженное Седмаруглав, т.е. "семиглав", семиголовый
идол16. А. Брюкнер, считая, что форма Семаргл не могла быть
славянской, делил теоним на два слова и, соответственно, усматривал
здесь двух богов. Теоним Сем/Сим он полагал родственным
праславянскому *semьja 'род, родина', и тогда это божество -
покровитель дома, рода или родины, подобное восточнославянскому
Роду. Форма Регл могла быть связана либо с праслав. *rъzъ 'рожь',
либо с польск. rzygac 'блевать', русск. рыгать; отсюда Регл или
являлся божеством ржи, сельского хозяйства, хлебных злаков, или
оказывался как-то связан с ферментацией17. Наряду с приведенными,
предлагались и различные другие трактовки.
Однако в научной литературе постепенно прокладывала себе дорогу
иранская теория происхождения восточнославянского Семаргла. В 1876
г. увидела свет работа А.С. Петрушевича "Корочун-Крак". Ученый в ней
счел Семаргла "древним по своему названию из арийского периода
уцелевшим божеством". Хотя это божество "есть по свойствам его
неизвестное", но имя его "подобнозвучаще" "с древнеперсидским С и м
у р г о м, божеством с орлиной головою..."18 Публикация Петрушевича
осталась не замечена - имея в виду интересующую нас здесь
проблематику - ни современниками, ни в последующей историографии.
Тем не менее именно Петрушевич должен считаться основоположником
теории иранского происхождения восточнославянского Семаргла и его
связи с персонажем мифологии иранцев Симургом. Симптоматично, что
независимо от Петрушевича к той же мысли позднее пришли Н.М.
Гальковский (1916)19 и К.В. Тревер (1933).
Русский исследователь-эмигрант А. Калмыков в статье 1925 г. обратил
внимание на северноиранскую (восточноиранскую), т.е., в нашем
случае, скифо-сарматскую, огласовку слова "птица", заключенного в
двуосновном теониме Семаргл, - marg20. Спустя сорок лет и, кажется,
независимо от Калмыкова на то же обстоятельство указал В.И. Абаев,
писавший: "Огласовка а в слове marg 'птица' характерна именно для
скифо-осетинского, тогда как в персидском и почти во всех других
иранских языках мы имеем только гласный u (murg)"21. При скудости
источников о божестве Семаргле эти наблюдения лингвистов являлись
чрезвычайно важными, так как позволяли говорить не просто об
иранских, но о восточноиранских, исторически говоря -
скифо-сарматских корнях Семаргла, что ставило изучение проблемы на
конкретно-историческую почву, обосновывало восприятие предками
восточными славянами данного божества из скифо-сарматских верований.
Но переломное значение для принятия научным сообществом иранской
теории происхождения Семаргла имело появление в 1930-е годы работы
К.В. Тревер22. На основе анализа данных письменных источников и
фольклора исследовательница выявила некоторые ключевые мифологемы,
связанные с иранской птицей Саэной (Сайной) - авестийское mrgo
SaCenCo, SaCena mrgo, откуда позднее пехлевийское (среднеперсидское)
SCenmurv (Сэнмурв) и персидское Simurg (Симург). Особое внимание
Тревер уделила облику данного мифологического существа, которое
считала изначально полиорнитозооморфным, сочетавшим во внешнем виде
элементы собаки и птицы. Двойственная, собако-птичья природа
Саэны-Сэнмурва, по ее мнению, нашла отражение в его имени, в
письменных зороастрийских памятниках, особо наглядно воплотилась в
изобразительном искусстве Востока. Не будучи знакома с работами
Петрушевича и Гальковского, Тревер самостоятельно сблизила иранского
Сэнмурва-Симурга с Семарглом.
Значимость работы Тревер для изучения восточнославянского язычества
состояла в том, что она дала исследователям обширную иранскую
источниковую базу (письменную, изобразительную) для суждений о
функциях и внешнем облике Семаргла, тем самым до известной степени
компенсировав крайнюю информативную недостаточность древнерусских
источников. Гипотеза о связи Семаргла с образом иранской мифологии
как бы обрела "источниковую плоть", что обеспечило ей первенствующее
место в современной историографии проблемы.
Вместе с тем не всегда бесспорные выводы Тревер относительно
иранского "прообраза" Семаргла без проверки и критики были приняты
рядом ученых-неиранистов и целиком перенесены на восточнославянское
божество. Полностью признав все построения Тревер, Б.А. Рыбаков,
например, возвел мифологический образ иранского "крылатого пса"
Сэнмурва к древнейшим представлениям земледельцев энеолита,
отслеживая его на материалах уже трипольской археологической
культуры (культура Триполье-Кукутени, существовала в конце V -
третьей четверти III тыс. до н.э. на территории современных Украины,
Молдавии и части румынской Молдовы). Достаточно свободно
интерпретируя сведения зороастрийских текстов о Саэне-Сэнмурве,
собранные Тревер, Рыбаков увидел в Семаргле древнерусское божество
растительной силы, посевов, семян, ростков и корней растений, их
охранителя. Прилагая выводы Тревер относительно облика
Саэны-Сэнмурва к древнерусскому материалу, Рыбаков подверг анализу
изображения "крылатых псов", называемых им "семарглами", в искусстве
Древней Руси, в первую очередь на браслетах-наручах из
княжеско-боярских кладов XII - начала XIII в.23; тот же метод был
использован рядом других ученых.
Неоднократно к проблеме бога Семаргла обращались Вяч.Вс. Иванов и
В.Н. Топоров. В 1965 г. они предприняли попытку объяснить
происхождение Семаргла, оставаясь на славянской языковой и
религиозно-мифологической дохристианской почве. Ученые
этимологизировали теоним Семарьглъ как 'семиглав' (*Sedmor(o)-golvъ
> *SemOorgol(v)ъ > *Семaръглъ), что в основном повторяло гипотезу
Леже и отчасти мнение Соколова. Семаргла-Семиглава Иванов и Топоров
сопоставили с данными о язычестве западных славян, у которых имелись
божество Триглав и семиголовый идол бога Руевита. Исходя из этого,
Семаргла-Семиглава они объясняли через число известных "высших"
восточнославянских языческих божеств (боги Владимирова пантеона плюс
Велес/Волос и Сварог), где Семаргл мог быть как восьмым элементом,
объединявшим другие семь, так и седьмым, если Сварог (Сварожич) не
входил в их число. Исследователи не исключали связи Семаргла с
иранским Сэнмурвом-Симургом, но считали эту гипотезу более
спорной24. К концу 1980-х годов и Вяч.Вс. Иванов, и В.Н. Топоров
отказались от прежней точки зрения, признав родственность
восточнославянского Семаргла иранскому Саэне-Симургу25.
Оригинальную новейшую этимологию теонима Семаргл предложил польский
исследователь К.Т. Витчак26, который, опираясь на "Слово некоего
христолюбца" и историографическую традицию, принял гипотезу о
существовании двух божеств - Сема и Регла. В рассматриваемой
публикации Витчак Сема не касался. Восточнославянское же божество с
именем Ръглъ он толковал как восходящее к индоевропейскому *rudlos
'дикий, буйный, агрессивный', отразившемся также в имени ведийского
Рудры, бога неистовой и разрушительной бури. Поэтому Ръглъ
идентифицировался им как божество дикой, необузданной силы природы,
бури и ее зловещего вида. Форму Ръглъ Витчак полагал восходящей к
праславянскому *rъdlъ, однако поскольку развитие *dl > gl было
присуще только северной периферии восточного славянства, то Регла
следует считать богом севернорусским, новгородским, как и весь
киевский пантеон Владимира.
Появление предположений, подобных точкам зрения Иванова и Топорова
1965 г. или Витчака, имеет объективным основанием определенные
лингвистические трудности при возведении теонима Семарьглъ к
иранским формам наименования гигантской мифологической (легендарной,
сказочной) птицы. Поэтому, строго подходя, распространенное мнение
об иранских корнях восточнославянского Семаргла, опирающееся на
этимологию данного имени, - лишь гипотеза, однако на сегодня
наиболее вероятная, непротиворечиво вписывающаяся в известный науке
контекст поздних славяно-иранских культурно-лингвистических,
религиозно-мифологических и этноисторических связей и взаимодействий
и органично его дополняющая. В силу мы считаем возможным в
дальнейшем изложении исходить в статье из трактовки Семаргла как
восточноиранского религиозно-мифологического наследия у восточных
славян в качестве установленного факта - до появления лучше
аргументированной альтернативы.
Таким образом, за многие десятилетия в научной литературе были
предложены многочисленные решения комплекса связанных с Семарглом
проблем. И сегодня историографическое состояние их изучения остается
противоречивым. По-прежнему активно обсуждаются само существование
этого божества и возможность разделения теонима Семаргл на два (>
двух богов), которым даются разнообразные этимологические (и,
соответственно, функциональные) истолкования. Хотя бoльшая часть
ученых признает ныне иранские корни восточнославянского Семаргла,
связь его с иранской мифологической (легендарной, сказочной) птицей
Саэной-Симургом, но, как правило, они ограничиваются данной
констатацией, устраняясь от анализа иранского и иного источникового
материала, способного создать фундированную фактическую базу для
обоснованных суждений о функциях и облике Семаргла.
Уже первые отечественные исследователи, специально касавшиеся
вопроса о Хорсе, увидели в нем бога Солнца, однако справедливо
признали данный теоним неславянским по происхождению и сближали с
персидским названием почитаемого Солнца (персидское xCorsed/xCursed)
(П.И. Прейс, О.М. Бодянский, И.И. Срезневский)27. Их работы заложили
научные основы теории, которая ныне господствует в мировой
историографии, т.е. пониманию Хорса как бога Солнца и объяснению его
имени от названия Солнца у некоторых иранских народов (Вс.Ф. Миллер,
Ф.Е. Корш, А. И. Соболевский, Г.В. Вернадский, Л. Нидерле, А.А.
Зализняк, Р.О. Якобсон, М. Фасмер, Х. Ловмяньский, Б.А. Рыбаков,
Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров и многие другие). Существует
альтернативная иранская гипотеза объяснения имени Хорса. П.Г. Бутков
(ее фактический основоположник), С.П. Обнорский, а затем В.И. Абаев
возводили теоним к осетинскому xorz, xwarz "хороший, добрый".
Наряду с указанными, предлагались и многие иные интерпретации
восточнославянского Хорса: его сближали с Бахусом (М. Стрыйковский,
В.Н. Татищев, С. Руссов); допускали произведение теонима от
"красный" (Н.И. Костомаров), "хворый, хворать" (Д.О. Шеппинг); от
формы слова "конь" в германских языках (ср. общегерманское *hrussa,
английское horse) (А.С. Фаминцын, Н.К. Чадвик); сопоставляли с
греческими словами crusoV 'позолоченный' (Л. Леже, А.Л. Погодин) или
coroV 'круг' (Н.М. Гальковский) и т.д. Основываясь на
соответствующем месте "Слова о полку Игореве", где упоминается Хорс,
ряд ученых увидел в нем божество Луны (М.А. Максимович, А. Брюкнер,
В. Пизани, С. Урбаньчик, Я.С. Боровский). Е.В. Аничков, исходя из
того же источника, усмотрел в Хорсе божество южных кочевых соседей
Руси торков29. Этого мнения придерживались Вяч.Вс. Иванов и В.Н.
Топоров в работе 1965 г.30 Позднее, однако, оба исследователя
признали в Хорсе солярное божество иранского происхождения, не
исключая, впрочем, тюркского посредничества при его передаче
восточным славянам.
Со второй половины 1980-х годов В.Н. Топоров развивал точку зрения,
согласно которой Киев был создан как западный пограничный форпост
Хазарии вазиром (первым министром) правителей каганата, носившим имя
Куйа. Здесь располагался гарнизон, состоявший из воинов хазарской
гвардии хорезмийского (в языковом плане - восточноиранского)
происхождения, почитавших бога Солнца Хорса, а также Семаргла,
которые поэтому являлись "чужими" для местного восточнославянского
населения и его верований31.
Таким образом, в научной литературе посегодня активно обсуждается
круг проблем, связанных с природой и функциями Хорса, что во многом
является следствием отсутствия комплексного анализа всего корпуса
разнохарактерных источников, которые следует привлекать при его
рассмотрении. Несмотря на то, что большинство исследователей
полагает Хорса божеством иранского происхождения, но и в рамках
указанной парадигмы имеются серьезные разночтения, нуждающиеся в
адекватном разрешении.
В историографии почти не предпринималось попыток комплексного
междисциплинарного анализа настоятельно нуждающегося в
самостоятельной разработке вопроса о времени и путях вхождения богов
Семаргла и Хорса в восточнославянские дохристианские верования -
исследователи обычно ограничивались общими указаниями на
(восточно)иранский характер этих божеств. Между тем накопленный в
науке материал создает необходимые предпосылки для подобного рода
комплексного анализа. Исключение составляет указанная
хорезмийско-хазарская гипотеза В.Н. Топорова, которая нуждается в
отдельном тщательном разборе.
Обращаясь к историографии "первой религиозной реформы" князя
Владимира, следует констатировать, что проблема эта осталась на
периферии исторических разысканий. Не случайно поэтому ее называли
"загадкой эпохи" или вообще отрицали сам ее факт32. Как правило, в
научной и учебной литературе событиям времени "первой религиозной
реформы" отводились несколько строк или абзацев (нередко они не
упоминались вообще): констатировался сам факт реформы, кратко
давалась та или иная общая ее оценка, не опиравшаяся на конкретное
исследование, говорилось о неудаче реформы и низвержении языческих
идолов. Слабая разработанность проблематики "первой религиозной
реформы" объясняется комплексом причин, важнейшая из которых видится
в следующем. Принятие христианства, безусловно, явилось событием
огромной важности, оказавшим глубокое влияние на историю и культуру
восточных славян, все стороны жизни древнерусского общества. Но
фундаментальное значение этого акта затемнило в исторической
ретроспективе религиозную реформу первых лет великого княжения
Владимира - в сравнении с ним она казалась малозначимым, тупиковым
эпизодом накануне неизбежной смены язычества христианством и потому
не привлекла особого внимания ученых, как церковных, так и
гражданских. Это не позволяло должным образом оценить ее значимость,
увидеть глубокую взаимосвязь между двумя религиозно-политическими
реформами конца Х в. - языческой и христианской.
Первым в 1815 г. попытался научно оценить содержание и цели
языческого реформирования князя Владимира П.М. Строев. Он считал,
что собственно славянскими в киевском пантеоне являлись Перун,
Дажьбог, Стрибог, а Хорса, Семаргла и Мокошь полагал божествами либо
финскими, либо варяжскими. Отсюда им делался вывод о целях реформы:
"Владимир.., кажется, сделал только то, что почитаемых разными
Славянскими, Финскими племенами (может быть, также и Варягами) богов
собрал в одно место и, так сказать, объявил их общими целого
Государства и его покровителями. Самая здравая Политика не могла бы
приискать ничего лучшего для совершеннейшего и неразрывного
соединения разных народов, составлявших тогда Владимирово
Государство, как дать им общую религию, составив ее из почитания
всех тех божеств, кои порознь у каждого или, по крайней мере, у
главнейших из них находились..."33
Вторая серьезная попытка была предпринята почти столетие спустя Е.В.
Аничковым. Считая реформу 980 г. религиозно-политической, Аничков
выделял в ней "две реформы", каждая из которых носила
общегосударственный характер. "Первая реформа" заключалась в том,
что Перун, ранее являвшийся богом-покровителем киевского князя и его
дружины, был провозглашен верховным божеством Древнерусском
государства. "Вторая реформа" состояла в объединении около Перуна
целого ряда богов. "Если... этот культ Перуна еще слишком немощен, -
писал Аничков, - чтобы он мог стать единым богом, его надо
обставлять другими богами", указанными в летописи34. Но "обставление
другими богами" преследовало и иную, более важную цель. Исходя из
того, что Дажьбог и Стрибог являлись божествами славян, Хорс - богом
торков, а Мокошь - богиней "финском происхождения", Аничков полагал,
что в киевском пантеоне "Перун властвует" над ними, а также над
"загадочным Симарглом, и все их разноплеменные
жертвователи-идолопоклонники этим самым входят в одно
государственное целое, символически и сакрально представленное в
капище тем, что более мелкие, племенные... боги окружают главного и
великого идола, установленного великим князем и его дружиной"35.
Помимо того, "когда установил свой пантеон Владимир, он делал
последнюю отчаянную попытку борьбы с наступающим византийским
христианством". Потому необходимо было язычеству "вложить хоть
сколько-нибудь если не единства, то единообразия в свою
религиозно-политическую систему"36.
Предложенная Аничковым интерпретация смысла и целей языческой
реформы великого князя Владимира, в том числе положение о
разноэтническом происхождении включенных в киевский пантеон божеств,
получила широкое распространение в историографии (ряд историков
считал, что в пантеон вошли только божества подчинявшихся к тому
времени Владимиру восточнославянских "племен"). Между тем
исследования последних десятилетий, в том числе проведенные нами,
показывают, что многие положения точки зрения Аничкова на характер и
цели "первой религиозной реформы" требуют серьезного пересмотра.
Еще меньшее внимание обращалось исследователями на финал языческой
религиозной реформы в Киеве и Новгороде. Как правило, вслед за
летописцами, в уничтожении кумиров, в первую очередь в процедуре
низвержения идолов Перуна, видели лишь их нарочитое унижение и
поругание олицетворявшихся идолами богов. Эпизодически
высказывавшиеся в историографии мнения о языческой сакральной
семантике летописно зафиксированных манипуляций с киевским и
новгородским кумирами бывшего "бога богов" Руси37 остались не
востребованы и исследовательски не развиты.
Остро дискутируется сегодня в историографии проблема локализации
киевского и новгородского официальных капищ Перуна времени
проведения "первой религиозной реформы".
В целом анализ степени научной разработанности поставленных в
настоящей работе проблем демонстрирует большой разброс и
противоречивость исследовательских мнений, необходимость пересмотра
или корректировки многих устоявшихся точек зрения, потребность в
новом и комплексном подходе к проблематике.
Ниже мы сосредоточимся на следующем круге задач:
поскольку в древнерусских письменных памятниках отсутствуют прямые
сведения о функциях и облике восточнославянского Семаргла, на
основе древнеиранских, древнеиндийских и иных разнохарактерных и
разновременных источников выявить тот облик и тот круг функций,
которые могли быть ему присущи; в этой связи проанализировать
древнерусский изобразительный материал, в котором многие
исследователи находили отображения "крылатого пса" божества
Семаргла;
проанализировать корпус древнерусских письменных памятников,
содержащих сведения о боге Хорсе, и выявить на этой основе
собственно восточнославянские представления о функциональной
природе Хорса; дать этимологию его имени;
рассмотреть вопрос о времени и путях вхождения богов Хорса и
Семаргла в восточнославянские языческие верования, выявить
конкретный иранский этнокультурный источник появления данных
божеств у восточных славян;
основываясь на результатах предыдущего анализа, дать оценку
содержания, характера и целей языческого религиозного
реформирования князя Владимира; раскрыть семантику и цели
публичных действий, проведенных с низвергнутыми кумирами Перуна в
Киеве и в Новгороде накануне массового крещения их жителей;
показать место "первой религиозной реформы" и ее финала среди
факторов и событий, приведших к введению христианства; рассмотреть
вопрос о локализации киевского и новгородского официальных капищ
Перуна времени проведения "первой религиозной реформы".
* * *
Как нами было уже отмечено, круг проблем, с ним связанных с
божеством Семарглом, чрезвычайно непрост для изучения. Помимо
неинформативности древнерусских письменных памятников относительно
его функций и облика, ситуация усугубляется тем, что ни в одном из
дошедших до нас источников по религии скифов и сармато-алан
"Семаргл" не фигурирует, не отмечен он у потомков этих племен
осетин, т.е. в нашем распоряжении не имеется прямых свидетельств о
его значимости, функциях и облике в верованиях иранских племен
Восточной Европы. Лишь фиксация на Руси теонима Семарьглъ с
восточноиранской огласовкой слова "птица" дает основания думать о
его бытовании в мифологии данной части иранцев. Вполне очевидно
поэтому, что последующий анализ может представлять собой только
совокупное рассмотрение всех имеющихся источников (письменных,
изобразительных, лингвистических, фольклорных), в первую очередь
иранских и индийских, и реконструкцию на этой основе мифологии и
облика общеиндоиранского (общеарийского; *arya- - самоназвание
(аутоэтноним) предков древних и современных ираноязычных народов и
многих народов Индостанского полуострова), общеиранского и
восточноиранского "прообраза" Семаргла, что позволит аргументировано
подойти к проблеме функций и облика этого бога.
На основании данных сборника священных гимнов индоариев "Ригведа"
(время сложения - вторая половина II тыс. до н.э. - рубеж II - I
тыс. до н.э.), значительно более позднего древнеиндийского эпоса
"Махабхарата", вобравшего, однако, многие весьма архаичные мифы и
верования, сборника священных книг зороастризма "Авеста" (точная
датировка даже древнейших частей памятника спорна, но вероятнее
всего - середина I тыс. до н.э.), надежно реконструируется следующий
индоиранский (общеарийский) миф: священное растение сома/хаома
(арийское *sauma), игравшее чрезвычайно большую роль в верованиях и
религиозных ритуалах индоиранцев, находилось на гигантских
мифологических горах, на высочайшей их вершине (вариант "мировой
(космической) горы"); отсюда его похитила птица Шьена (санскритское
Syena)/Саэна (Сайна) (авестийское SaCena) (в "Махабхарате" ее
заместил Гаруда, вобравший и многие другие элементы мифологии Шьены)
и унесла в земной мир. Этот миф для арийского прообраза Шьены/Саены
может быть охарактеризован как главный, основной. Возникновение его
относится ко времени до распада индоиранской языковой общности
(примерно рубеж III - II тыс. до н.э. или первая половина - середина
II тыс. до н.э.). На основании тех же источников, а также сказочного
фольклора иранских народов воссоздается еще одна общеарийская
функция рассматриваемого образа как посредника, связника между
различными мифологическими мирами, зонами.
На основании "Авесты", других зороастрийских памятников, "Шах-наме"
("Книга царей") Абулькасима Фирдоуси (создана в конце Х - начале XI
в.), фольклора иранских народов восстанавливается следующий ряд
связанных с Саэной-Сэнмурвом-Симургом общеиранских мифологических
представлений, дополняющий указанные индоиранские: 1. Он имеет
местом своего пребывания вершину "мирового (космического) древа"
(вариантом которого в зороастрийских текстах является "дерево всех
семян и всех лекарств") (ср. место Шьены/Саэны на вершине "мировой
горы"; "мировое древо" и "мировая гора" мифологически взаимосвязаны
и взаимозаменяемы); 2. Саэна является одним из защитников "мирового
древа" от вредоносных хтонических созданий "нижнего мира"
(пресмыкающихся, рептилий и др.), вообще их постоянным противником;
3. Тяжестью своего тела Саэна стряхивает "семена всех растений" с
"дерева всех семян", и они с небесными водами попадают на землю,
обеспечивая в конечном итоге пропитание людей. Из перечисленных
позиций первые две органично вписываются в круг индоевропейских
мифологических представлений и поэтому могут быть непротиворечиво
возведены к индоиранскому периоду. К тому же времени, вероятно,
восходит и третья указанная мифологема.
Таковы наиболее существенные составляющие комплекса мифологем,
связанных с индоиранским Шьеной/Саэной и иранским Саэной-Симургом.
Их суммирование создает фактическую базу, позволяющую гипотетически
судить о функциях Семаргла, в том числе в киевском пантеоне
Владимира. Однако во всех перечисленных функциях Саэна-Симург
являлся не более чем третьестепенным персонажем иранской мифологии
(как и его "предшественник" в общеарийской). Это заставляет
предполагать наличие у скифо-сармато-аланского "прообраза" Семаргла
некоей дополнительной функции, сделавшей его культ особо значимым у
какой-то части иранцев Восточной Европы и потому в конечном итоге
обусловившей появления Семаргла в одном ряду с наиболее чтимыми
богами, вошедшими в киевский пантеон князя Владимира. Ею, полагаем,
могла быть функция благого покровителя отдельных людей и особенно
человеческих коллективов. Ярко отразилась она в "Шах-наме" Фирдоуси,
где Симург выступает как охранитель рода эпических героев Сама -
Заля - Ростема. Признано, что отразившийся в "Шах-наме" цикл
сказаний-былин об этих эпических персонажах сложился в среде
близкородственных европейским скифам и сармато-аланам азиатских
восточноиранских по языку сакских племен38. Это дает основания
полагать, что "Семаргл" у скифов и сармато-алан, как и Симург в
сказаниях саков, мог считаться покровителем отдельных людей и их
коллективов (родов, племен), что и стало причиной значимости его
почитания какой-то частью этой отрасли восточных иранцев.
Тщательного рассмотрения требует вопрос о внешнем облике иранского
Саэны-Симурга. В литературе широкое распространение получила точка
зрения Тревер, считавшей этот мифологический персонаж изначально
полиорнитозооморфным, сочетавшим начала собаки и птицы. Свою позицию
исследовательница обосновывала: этимологизацией сочетания SaCena
mrgo как 'собака-птица'; данными текстов зороастрийского круга;
свидетельствами изобразительных источников. Между тем, на наш
взгляд, необходимо критически вернуться к проблеме внешнего облика
Саэны-Симурга и, соответственно, Семаргла.
На основе анализа "Ригведы", "Махабхараты", зороастрийских текстов,
"Шах-наме" Фирдоуси, поэм "Беседа птиц" (1175) Фарид-ад-дина Аттара
и "Язык птиц" (1499) А. Навои, данных буддийской мифологии,
фольклора народов Центральной Азии и Южной Сибири, а также
иранского, ряда иранских, индийских и тюркских языков,
изобразительного искусства средневекового Востока реконструируется
следующая история развития внешнего облика Саэны-Сэнмурва-Симурга. И
в период существования индоиранской общности, и после обособления
иранцев он мыслился как гигантский мифологический (эпический,
сказочный) орел; это представление оказалось чрезвычайно устойчивым
и сохранилось у иранских народов до наших дней. Однако не позднее
середины I тыс. до н.э. происходит своего рода его бифуркация,
раздвоение - у части (западных?) иранцев складывается представление
о Саэне как существе орнитозоосинкретическом, обликом подобном
летучей мыши. Оно явилось следствием определенных языковых
процессов.
В современных иранских языках sCina (персидский, таджикский), sCinag
(белуджский), sCink, sCing (курдский) означает 'грудь'; осетинское
synжg/sinжk, sinжg имеет значения 'грудь', 'лоно', 'выступ (горы,
скалы)'39. Среднеперсидское sCenak, sCenag также означало 'грудь',
однако более архаичное saCeni- имело значения 'выпуклый', 'острый,
остроконечный', 'верхушка (дерева, горы)' (все эти формы восходят к
иранскому *saina-ka). К этому же гнезду относится ведийское syena-
'грудь'. Х.У. Бейли связывал осетинские, среднеперсидскую и
авестийскую формы и предполагал, что значение 'грудь' развилось из
'острый, остроконечный (pointed)'40. М. Майрхофер, рассматривая
этимологию имени похитителя сомы Syena и отмечая его идентичность
авестийскому SaCena, высказал мнение о том, что эти основы связаны с
ведийским syena-, авестийским saCeni-, среднеперсидским sCenak41.
Таким образом, можно заключить, что и иранское *saina-ka, и
ведийское syena- восходят к общеарийской форме с исходными
значениями 'выпуклость; выступающее, острое место; верхушка,
вершина', откуда развились значения 'грудь; лоно', что типологически
подтверждается данными других индоевропейских, в том числе
славянских, языков.
В индоиранский период *caina, *caina merga, давшее затем
санскритское syena и авестийское saCena, saCena mrgo (< иранское
*saina merga), означало, вероятно, 'вершинник', 'птица [с] вершины
[дерева/горы]'. Данное именование достаточно полно и адекватно
описывало местоположение этого мифологического персонажа,
находившегося на вершине "мирового древа"/"мировой горы"; равно
применялось оно и к его земным прообразам, которые обитают и
гнездятся на вершинах деревьев и скал.
Однако по мере того, как исходные значения лексемы *saina-ka в
иранских языках все более затемнялись, замещаясь производным
'грудь', менялась и семантика сочетания saCena mrgo. Постепенно у
части иранцев оно стало осмысливаться как 'птица [с] грудью'.
Поскольку летучие мыши относятся к классу млекопитающих, то
становится понятно, почему Сэнмурв - "птица [с] грудью" - был
отождествлен именно с ней в зороастрийских произведениях "Бундахишн"
(название переводят как "Первотворение", "Изначальное творение",
"Сотворение основы", содержит изложение и аббревиатуры множества
космогонических, космологических, эсхатологических и других мифов,
передающих как зороастрийские, так и дозороастрийские представления
о мире, приводящем сведения о природных явлениях и многом другом и
являющемся среднеперсидским толкованием и систематизированным
пересказом, изложением кодифицированной при династии Сасанидов (III
- VII вв.) "Большой Авесты", точнее, одной из ее недошедших книг,
"Дамдат-наска") и созданных в 881 г. и в интересующей нас части
являющихся в основном изложением I - XVII глав "Бундахишна"
"Избранных [писаниях]" Зад-спрахма, брата верховного зороастрийского
жреца в Парсе и Кермане Манушчихра. Даваемое "Бундахишном" и
Зад-спрахмом описание летучей мыши весьма точно воспроизводит ее
биологические особенности и образ жизни. В силу же того, что
Саэна-Сэнмурв как "птица [с] грудью" оказался отождествлен с летучей
мышью, на него были перенесены внешние черты ее облика и повадки:
собаки, птицы и неясного мускусного животного. "...Два (вида), -
читается в "Бундахишне", - имеют грудное молоко и выкармливают
(своих) детенышей. Сенмурв и летучая мышь летают по ночам. Как
говорит он: "Летучая мышь сотворена из трех видов (животных):
зубастой собаки, (птицы) и мускусного (животного), так как она
летает, как птица, (имеет) много зубов, (как собака), и живет в
(норе), как мускусное (животное) "биш"42. В итоге в "Бундахишне"
Сэнмурв превратился в "Сэна о трех естествах, видах", "триединую
(птицу) Сэн". Это представление было зафиксировано в "Дамдат-наске"
(существовал по крайней мере с V в. до н.э.), а затем в "Большой
Авесте", что имело определяющее значение. От ахеменидского времени
(середина VI в. до н.э. - 330 г. до н.э.) сохранилось только одно
бесспорное (хотя и подвергшееся переработке) изображение "Сэна о
трех естествах" (пластика из четвертого Семибратнего кургана, V в.
до н.э., о чем далее). Однако при династии Сасанидов (224 - 651),
когда происходит кодификация "Большой Авесты", когда зороастризм
превращается в государственную религию Сасанидской державы, когда в
искусстве широко используются зооморфные, в том числе
синкретические, образы, Сэнмурв, благое и добродетельное создание, в
полиорнитозооморфном облике, канонизированном и освященном
зороастрийской религиозной традицией, становится распространенным
изобразительным мотивом в искусстве Ирана и ряда регионов,
испытывавших влияние иранской культуры, продолжая функционировать в
нем и после арабского завоевания и исламизации.
Принципиально важно подчеркнуть, что нет никаких оснований полагать,
будто превращение птицы Саэны в "птицу с грудью" и
полиорнитозооморфного "Сэна о трех естествах" затронуло
восточноиранский, скифо-сармато-сако-массагетский мир, с крайней
северо-западной частью которого в позднеримскую и раннесредневековую
эпохи взаимодействовало славяноязычное население юга Восточной
Европы (см. далее) и от которого, вероятнее всего, восприняло бога
Семаргла. Во-первых, как отмечалось, в "Шах-наме" Фирдоуси Симург
связан прежде всего с эпическим родом Сама - Заля - Ростема, цикл
сказаний о которых сложился в среде восточноиранских сакских племен.
Что касается внешнего облика Симурга в поэме, то он определенно не
полиморфный, а исходный и древнейший - гигантской хищной птицы.
Во-вторых, образ собаки-птицы совершенно неизвестен искусству
восточноиранских племен степей и лесостепей Евразии (так называемому
искусству звериного стиля), хотя зоосинкретические образы имели в
нем широчайшее распространение.
В этой связи, в-третьих, весьма показательна "судьба" изображения на
золотой пластине V в. до н.э. из четвертого Семибратнего кургана
(низовья реки Кубань), являющегося переработкой какого-то
ахеменидского образца. На ней видим существо с ушами, лапами и
мордой собаки, на нижней челюсти - бородка; эта иконография
характерна для изобразительных Сэнмурвов сасанидского и
постсасанидского времени. Однако другие части этого
политериоморфного создания не укладываются в характерный для
позднейшей иконографии Сэнмурва канон: крылья замещены головой
хищной птицы типичной для раннего скифского искусства формы, вместо
обычно пышного птичьего хвоста - длинная шея и голова какой-то
водоплавающей или связанной с водой птицы.
Ключ к пониманию причин подобной переработки, которая произошла на
местной этнокультурной почве, дают исследования Д.С. Раевского. Он
показал, что в скифском искусстве звериного стиля зооморфный код
применялся для описания мироздания, создания зрительной модели мира,
и противопоставление животных по признаку сфер обитания облегчало
такое описание43. В скифских зооморфных символах хищная птица
маркировала "верхний" мир; водоплавающая - связывалась с миром
людей; собака у индоиранцев была сопряжена с представлениями о мире
загробном44. Таким образом, занесенный из ахеменидского искусства
образ собаки-птицы Сэнмурва оказался непонятен местному населению,
для которого изготавливалась интересующая нас пластина, и потребовал
радикальных переосмысления в соответствии с религиозными
мировоззрениями насельников Северного Причерноморья V в. до н.э.,
большинство из которых составляли иранцы скифы.
Позднесасанидский и особенно постсасанидский Иран и находившиеся под
его культурным влиянием области стали первичным центром иррадиации
Сэнмурва в облике собаки-птицы в изобразительное искусство многих
народов и стран на пространстве от Атлантики до Сибири (Византия,
где изобразительный "Сэн о трех естествах укоренился под влиянием
искусства Ирана, являлась вторичным такого рода центром). Но с
арабским завоеванием и распространением ислама на Востоке постепенно
исчезла религиозная почва, делавшая "триединую [птицу] Сэн"
популярным зороастрийским персонажем. С постепенной утратой
собакой-птицей Сэнмурвом религиозной семантики он все более
превращается в искусстве Востока в декоративный мотив, часть
"звериного" орнамента, осмысливаясь как изобразительный апотропей,
оберег-охранитель и потому веками репродуцируясь и после утверждения
ислама. Естественно, что для стран и регионов, где проблема
"зороастрийского наследия" не стояла, декоративно-орнаментальное и
апотропейное восприятие изображений Сэнмурва было изначальным.
Рассмотрение доступных изучению мифологических (с индоиранскими и
индоевропейскими корнями) и восходящих к ним эпических и фольклорных
представлений иранцев о Саэне-Симурге само по себе не могло ответить
на вопрос о функциях восточнославянского Семаргла - отсутствие
прямого параллельного источникового материала делает его однозначное
решение принципиально невозможным. Однако предпринятые разыскания
позволяют, во-первых, достаточно четко очертить тот мифологический
функциональный круг, в рамках которого можно искать и со
сравнительно большей уверенностью говорить о вероятных функциях
восточнославянского Семаргла. Одновременно, во-вторых, предпринятый
анализ позволяет заключить, какими функциями Семаргл не мог
обладать. Б.А. Рыбаков, как говорилось в своих работах
последовательно проводил ту мысль, что Семаргл - божество
растительной силы, семян, ростков и корней растений, их охранитель
(что было принято многими исследователями). Но сведения иранских (и
индийских) источников позволяют утверждать, что Саэна (Шьена)-Симург
подобными функциями наделен не был. Связь Саэны-Сэнмурва в
зороастрийских текстах с "древом жизни", его роль - в качестве лишь
одного из участников - в низведении плодов "дерева всех семян" на
землю не дают оснований для столь расширительной функциональной
трактовки Семаргла.
Не имеется никаких фактических оснований, далее, полагать, что
бифуркация внешнего облика Саэны-Симурга с превращением его в
собаку-птицу затронула восточноиранский мир. И если мы
руководствуемся сегодня максимально вероятной гипотезой об иранских
корнях Семаргла, то последовательно должны признать, что он имел то
же обличье, что и его общеиранский и общеиндоиранский "прародитель"
- облик гигантской хищной птицы, т.е. восточнославянский Семаргл не
являлся собакой-птицей.
Сделанный нами вывод вступает в противоречие с распространенными в
научной литературе суждениями о том, что древнерусскому
изобразительному искусству были хорошо знакомы образы собак-птиц,
которых исследователи весьма произвольно называют "семарглами" или
"сэнмурвами" и нередко трактуют как отражение и пережиток языческой
поры истории восточных славян. Однако анализ всех подобным образом
интерпретируемых изображений (на керамической тарелке Х в. из
Гнездова, колтах, браслетах-обручах, средневековых книжных
миниатюрах, бронзовой арке из Вщижа, угoльном камне Борисоглебского
собора в Чернигове, "золотых дверях" Суздальского собора, двух
рельефах каменного декора Георгиевского собора в Юрьеве-Польском)
заставляет прийти к выводу, что они либо отношения к проблеме не
имеют, либо более органично и убедительно объясняются иным путем
(как рефлексия в древнерусском искусстве западноевропейских
изобразительных драконов так называемого романского типа), без
гипотезы о "собаке-птице боге Семаргле".
Анализ проблематики, связанной с происхождением и функциями бога
Хорса, целесообразно вести, взяв в качестве отправной точки
рассмотрение источников, из которых можно извлечь информацию о
природе этого божества в представлениях восточных славян.
Древнейшие дошедшие до нас летописи, содержащие ПВЛ, Лаврентьевская
и Ипатьевская, при перечислении в статье под 980 г. богов созданного
Владимиром в Киеве капища различаются существенным для темы образом:
если в Ипатьевской летописи имена Хорса и Дажьбога, как и других
божеств, разделены союзом "и", то в Лаврентьевской данный союз
отсутствует ("И нача княжити Володимеръ въ Киевh единъ, и постави
кумиры на холму внh двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его
сребрену, а усъ златъ, и Хърса Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и
Мокошь"45). Поскольку солярная природа Дажьбога бесспорна, то
даваемое Лаврентьевской летописью чтение позволило многим ученым,
начиная с О.М. Бодянского, писать о тождестве Хорса и Дажьбога как
божеств Солнца, т.е. солярный идол киевского пантеона имел двойное
имя - Хорс-Дажьбог. В пользу вытекающей из чтения Лаврентьевской
летописи пяти-, а не шестичленности пантеона в Киеве может
свидетельствовать летописная статья под 1071 г., согласно которой
появившийся некогда ранее этого года в Киеве волхв пророчествовал,
заявляя, что "явили ми ся есть 5 богъ"46.
Наиболее рельефен характер Хорса как специально солярного божества в
"Слове о полку Игореве": князь Всеслав Полоцкий, в то время
оказавшийся на киевском великокняжеском престоле, обернувшись
волком, за ночь успевал "пробежать" расстояние от Киева до
Тмуторокани, т.е. примерно с севера на юг, и пересечь ("прерыскаше")
путь "великому Хорсу"47, дневному светилу Солнцу, которое начинает
движение с востока на запад. Только при понимании Хорса как бога
Солнца данное место "Слова" приобретает логически стройные
объяснение и звучание, что отмечали уже Прейс, Бодянский,
Срезневский. Новое в историографии и принципиально для нас
существенное наблюдение, весомо укрепляющее солнечную трактовку
Хорса "Слова о полку Игореве", было сделано М.А. Робинсоном и Л.И.
Сазоновой. Автор поэмы, считали они, исполнял ее перед киевским
князем Святославом Ярославичем и его женой, Марией Васильковной.
Святослав являлся внуком Олега Святославича, как и главный герой
"Слова" - Игорь, а Мария - правнучкой Всеслава Полоцкого. Поэтому
только об этих двух князьях-предках второй половины XI в. в поэме
говорится развернуто. При этом "соответствующие фрагменты - об Олеге
Святославиче и Всеславе Брячиславиче - образуют систему соотражений,
выступающую как художественный прием". Исследователями были выделены
девять таких соотражений, что свидетельствует об их неслучайности;
одним из них является симметричность фрагментов: "...погибашеть
жизнь Даждь-Божа внука..." (об Олеге) - "...великому Хръсови влъкомъ
путь прерыскаше" (о Всеславе)48.
Значительный интерес представляет следующий текст из произведения (в
сборнике XVI в.), называемого исследователями "Поучение духовным
детям" или "Слово св. Иоанна Златоуста": "Уклоняйся пред Богомъ
невидимыхъ: молящихъ человhкъ роду и роженицам, порену и аполину, и
мокоши, и перегини, и всяким богомъ (и) мерзькимъ требамъ не
приближайся"49. В древнерусских источниках, называющих Хорса,
теонимы Перун и Хорс образуют устойчивую пару. Исключение составляют
перечень восточнославянских божеств в "Хождении пресвятой Богородицы
по мукам" и один из списков "Слова некоего христолюбца", в котором
эта связка разрывается именем Волоса ~ Велеса. Однако во втором
случае фраза "Волосу скотью богу" является поздней вставкой50. При
сравнении перечня языческих божеств приведенной выдержки с другими
подобными из древнерусских памятников, он оказывается максимально
близок "Словам", направленным на обличение языческих переживаний
после введения христианства, с их стабильной теонимической парой
Перун - Хорс. Поэтому есть все основания полагать, что стоящее после
имени Перуна в приведенном фрагменте "аполин", т.е. Аполлон,
является глоссой к "Хорс". Данное обстоятельство можно трактовать в
качестве свидетельства солнечной природы Хорса, ибо Аполлон в
средние века мыслился как именно солярное божество. Отождествление
же в источниках восточнославянских языческих божеств с
древнегреческими на основании функционального сходства не является
чем-то исключительным.
Против подобного вывода может быть выдвинуто следующее возражение. В
одном из списков "Слова о том, како крестися Владимер, возмя
Корсунь" Перун назван Аполлоном51. В этом случае, однако, мы
сталкиваемся с иной ситуацией, а именно - с еще одним средневековым
семантическим наполнением античного теонима Аполлон. С опорой на
Апокалипсис (9, 11), в средневековом христианстве слово "Аполлон"
было равнозначно понятию "дьявол, сатана". Поэтому считаем, что в
указанном "Слове" Перун, в начальный период княжения Владимира
общегосударственный верховный "бог богов", назван Аполлоном не из-за
функционального тождества с этим древнегреческим божеством, а как
"глава" языческих "богов-бесов", т.е. просто назван дьяволом. Однако
едва ли возможно полагать, что и в приведенном фрагменте "Аполин"
означает "дьявол". В этом случае рассматриваемый отрывок теряет
внутреннюю логику и даже смысл. Ведь и Род, и рожаницы, и Мокошь, и
берегини, и тем более Перун для христианина равно являлись
"дьяволами", "бесами". Поэтому понимание "Аполин" как "дьявол"
перекрывает и делает избыточным сам этот перечень. Необъяснимо в
этом случае и то, почему "родовое" понятие "дьявол" оказалось в
середине "видового" списка языческих "богов-бесов". Все эти
противоречия снимаются при трактовке слова "Аполин" как глоссы к
"Хорс". Если иметь в виду позднейшие описки и ошибки, то основа
разбираемого отрывка может быть отнесена ко времени, когда не была
забыта солярная природа Хорса, что и позволило какому-то
древнерусскому книжнику отождествить его с Аполлоном.
Особое внимание следует уделить следующему фрагменту из апокрифа
"Беседа трех святителей": "Иванъ рече: отъ чего громъ сотворенъ
бысть? Василий рече: два ангела громная есть; елленский старецъ
Перунъ и Хорсъ жидовинъ, два еста ангела молниина"52. Пассаж о
"елленском старце Перуне" и "Хорсе жидовине" - древнерусского
происхождения, вставка в уже имевшийся написанный на старославянском
текст53.
Интересующий нас отрывок апокрифа рождает многочисленные вопросы, в
том числе следующий: почему Хорс в "Беседе" причислено к "ангелам"
грома и молний? Отнесение к властителям этими природными стихиями
Перуна естественно. Однако Хорс мог превратиться в "ангела" грома и
молний потому, что на Руси источником молний считалось, в частности,
Солнце: на миниатюре Никоновской летописи (XVI в.) молнии показаны
исходящими из уст солнечного лика54. Дополнительным мотивом могло
стать то, что Хорса и библейских ангелов объединяла их огненная и
световая природа. На Руси "Беседа трех святителей" появилась
достаточно рано: не позднее XIV ст. ее начинают включать в перечень
отреченных книг, а наиболее ранние свидетельства бытования "Беседы"
у восточных славян относятся, возможно, к концу XII в. Выводы
специального анализа, проведенного Ф.И. Буслаевым и А.П. Щаповым55,
дают основания полагать, что разбираемый фрагмент "Беседы" - точнее,
его протограф - восходит к эпохе достаточно древней, когда память о
Перуне и, ч
Особенности формирования и развития восточнославянского язычества
М.А.Васильев
Оп.: интернет-журнал "Махаон", №10, июль-август 2000.
Постоянное исследовательское внимание к восточнославянскому
язычеству присуще палеославистике, в первую очередь отечественной,
практически с момента ее зарождения. Ныне данной проблематикой
занимаются представители различных отраслей гуманитарного знания:
историки, языковеды, археологи, этнолингвисты, этнографы,
искусствоведы и др. И это закономерно. "Славянское язычество
существенно и интересно для науки не только само по себе как форма и
система культурных ценностей древних славян (праславян), - писал
Н.И. Толстой в связи с рассмотрением вопроса о роли язычества в
славянской культурной традиции, - но и как важный компонент культуры
последующих эпох, как генетическая основа славянской народной
культуры и фольклора"1. Обращение к дохристианским языческим
верованиям позволяет вскрыть глубинные пласты культуры современных
восточнославянских народов, некоторые особенности их менталитета,
равно как и выявить мировоззренческие основы представлений древних
славян, являющиеся одной из базисных составляющих духовной культуры
восточнославянских этносов. Поэтому не случайным является выход в
последние десятилетия целого ряда обобщающих трудов, посвященных
(пра)славянской, в том числе восточнославянской, языческой архаике2.
В предлагаемой вниманию читателей статье нами анализируются
некоторые узловые проблемы многоплановой тематики
восточнославянского язычества, понимаемые как имеющие принципиальное
значение для адекватных научных заключений об особенностях
формирования язычества восточных славян (на уровне "высших" богов3),
его состояния и развития ко времени введения христианства на Руси, а
именно - комплекс вопросов, связанных с богами Семарглом и Хорсом,
вошедшими в созданный и существовавший в Киеве в годы "первой
религиозной (языческой) реформы" (980 - 988 гг., по хронологии
"Повести временных лет")4 великого князя Владимира пантеон богов
(помимо названных божеств, согласно "Повести временных лет", он
включал Перуна, Дажьбога, Стрибога, Мокошь), а также с самой этой
реформой.
Определяя причины выбора в качестве объектов специального анализа
именно богов Семаргла и Хорса, в первую очередь необходимо указать
на то, что они составляют примерно пятую часть обычно относимых в
научной литературе к "высшим" восточнославянских божеств (кроме
Семаргла и Хорса, это Перун, Волос ~ Велес, Дажьбог, Стрибог,
Мокошь, Сварог, вероятно, Троян). Одновременно рассматриваемые боги
языческим верованиям других ветвей славянства достоверно не известны
и являются, следовательно, специально восточнославянскими, их
присутствие составляет одну из ярких особенностей дохристианских
верований этой отрасли славян. Поэтому анализ круга связанных с ними
вопросов сам по себе имеет важное значение для дальнейшего
продвижения в изучении истории сложения и функционирования язычества
восточных славян.
Однако в первую очередь выбор нами указанных двух божеств обусловлен
специфической общностью их корней, их иранским происхождением.
Говоря о язычестве как компоненте культуры древних славян, Н.И.
Толстой особо отмечал: "Без этого компонента, который в древнейший
период занимал основные позиции, ...нельзя понять до конца всего
процесса культурного развития славян и всего механизма
взаимодействия славянской культуры с культурами неславянскими"5.
Среди проблематики, связанной с взаимоотношениями (пра)славян с их
соседями, имевшими иной лингво-культурный облик, вопросы
(восточно)славяно-иранского взаимодействия, в первую очередь в
религиозно-мифологической сфере, в области культуры вообще, были и
остаются одними из насущно актуальных для комплекса научных
дисциплин, занимающихся славянскими древностями. В этой связи
сошлемся на ряд суждений В.Н. Топорова, носящих концептуальный
характер и разделяемых нами. Он определил значение Rosso-Iranica в
качестве "большой и исключительно важной научной темы, имеющей не
меньшее значение для русской духовной культуры и становления
самосознания, чем исследования в области "туранского" наследия в
русской культуре"6. Ученый отмечал факт "глубокого и благотворного
языкового и культурного влияния [иранцев] на славян, особенно
восточноевропейских"7, т.е. на славян восточных.
В.Н. Топоров обращал внимание и на следующую проблему, актуальную
сегодня в рамках восточнославяно-иранских научных разысканий: "Более
глубокое и последовательное исследование ирано-славянских контактов
во времени и в пространстве продолжает относиться к числу наиболее
настоятельных desiderata8 этнолингвистической и культурной истории
Восточной Европы. Такое исследование не может ограничиваться только
инвентаризацией иранизмов. В принципе оно должно ставить перед собой
и задачу определения конкретных путей и форм этого влияния..."9
Совокупность указанных обстоятельств и концептуальных подходов
делает актуальной научной задачей всестороннее изучение вопросов о
функциях, облике, времени и путях вхождения в восточнославянское
язычество двух иранских по происхождению божеств киевского пантеона
князя Владимира - Семаргла и Хорса, давно привлекших пристальное
исследовательское внимание, но дискуссии вокруг которых продолжаются
поныне.
Рассмотрение данного круга вопросов, в свою очередь, неотделимо и
напрямую зависит от решения остро обсуждаемых в мировой науке общих
проблем этногенеза славянства и его ранней истории. Как подчеркивал
Н.И. Толстой, "решать вопрос этногенеза славян без учета фактов и
показателей славянской духовно культуры в настоящее время уже
невозможно, так же как нельзя реконструировать эту культуру без
достаточно четкого представления о праславянском историческом... и
языковом прошлом"10. В силу этого в статье данный аспект ее
проблематики анализируется не только в религиозно-мифологическом, но
и в археолого-историческом и этноисторическом ракурсах.
Введению христианства в качестве государственной религии
непосредственно предшествовало языческое реформирование Владимира
Святославича первых лет его великого княжения, определяемое в
историографии как "первая религиозная реформа" этого князя (в
отличие от "второй религиозной реформы" Владимира - введения
христианства в качестве официальной религии Древнерусского
государства). Г.Г. Литаврин и Б.Н. Флоря, рассматривая проблему
общего и особенного в процессе христианизации стран и народов
Центральной и Юго-Восточной Европы, а также Древней Руси, правомерно
отнесли данную реформу к числу специфических особенностей,
отличавших развитие восточнославянского язычества к кануну введения
христианства11. Проводимый в статье анализ "первой религиозной
реформы" (неотрывно сопряженный с результатами рассмотрения
обозначенных вопросов, относящихся к богам Семарглу и Хорсу)
позволяет по-новому осветить ее место в позднеязыческую эпоху
восточнославянской/древнерусской истории, говорить о том, что
"первая религиозная реформа", а также ее финал, и введение
христианства были теснейшим образом взаимосвязаны.
Переходя к историографическим аспектам поднимаемой в статье
проблематики, необходимо отметить, что сложившаяся в научной
литературе ситуация в отношении божества Семаргла неоднозначна.
Помимо того, она дополнительно усугубляется состоянием источников.
Семаргл упоминается в ПВЛ в статье под 980 г. среди богов киевского
Владимирова пантеона и дважды в "Слове некоего христолюбца и
ревнителя по правой вере" - одном из наиболее ранних древнерусских
поучений, направленных против языческих переживаний. Здесь теоним,
однако, разделен на два - Сим/Сем и Регл: обличая "христиан,
двоеверно живущих", "христолюбец" указывал, что они веруют "в перуна
и хорса и въ мокошь и в Сима и въ Рьгла..."12 (варианты по различным
спискам "Слова": "и в Ерьгла", "и в сима и ворхгла", "и воргла", "въ
ръгла", "ргла"13); "молять подъ овиномъ огневи. и виламъ и мокоши
(и) симу. (и) реглу и перуну и волосу скотью б(ог)у. (и) роду и
рожаницамъ..."14 (варианты: "рьглу", "симу реглу", "и сему
реглу"15). Подобное состояние источников породило мнение о
существовании в восточнославянском язычестве двух богов с
соответствующими именами.
Что-либо надежно сказать об облике и функциях Семаргла на основании
указанных древнерусских источников невозможно. Поэтому многие
исследователи отказывались "разгадывать" Семаргла (Сима/Сема,
Регла), хотя и недостатка в разнообразных предположениях не было.
Например, П.И. Прейс связал Сима и Регла с упомянутыми в Ветхом
Завете богами Асимой и Нергалом (4 Цар. 17, 29 - 30), с чем
согласились И.Е. Забелин, В. Мансикка и др.; А.С. Фаминцын счел
теоним Семаргл состоящим из двух слов - Сим (или Сем) и Ерыл, где
Ерыл - Ярило, восточнославянский бог Солнца, а первое слово объяснял
из древнесабинского semo 'гений, полубог'; М.Е. Соколов полагал, что
Семаргл означает "Семи-Ярила", так как изображался с семью головами;
близкую позицию занял Л. Леже, предположивший, что в имени Семаргла
скрывается искаженное Седмаруглав, т.е. "семиглав", семиголовый
идол16. А. Брюкнер, считая, что форма Семаргл не могла быть
славянской, делил теоним на два слова и, соответственно, усматривал
здесь двух богов. Теоним Сем/Сим он полагал родственным
праславянскому *semьja 'род, родина', и тогда это божество -
покровитель дома, рода или родины, подобное восточнославянскому
Роду. Форма Регл могла быть связана либо с праслав. *rъzъ 'рожь',
либо с польск. rzygac 'блевать', русск. рыгать; отсюда Регл или
являлся божеством ржи, сельского хозяйства, хлебных злаков, или
оказывался как-то связан с ферментацией17. Наряду с приведенными,
предлагались и различные другие трактовки.
Однако в научной литературе постепенно прокладывала себе дорогу
иранская теория происхождения восточнославянского Семаргла. В 1876
г. увидела свет работа А.С. Петрушевича "Корочун-Крак". Ученый в ней
счел Семаргла "древним по своему названию из арийского периода
уцелевшим божеством". Хотя это божество "есть по свойствам его
неизвестное", но имя его "подобнозвучаще" "с древнеперсидским С и м
у р г о м, божеством с орлиной головою..."18 Публикация Петрушевича
осталась не замечена - имея в виду интересующую нас здесь
проблематику - ни современниками, ни в последующей историографии.
Тем не менее именно Петрушевич должен считаться основоположником
теории иранского происхождения восточнославянского Семаргла и его
связи с персонажем мифологии иранцев Симургом. Симптоматично, что
независимо от Петрушевича к той же мысли позднее пришли Н.М.
Гальковский (1916)19 и К.В. Тревер (1933).
Русский исследователь-эмигрант А. Калмыков в статье 1925 г. обратил
внимание на северноиранскую (восточноиранскую), т.е., в нашем
случае, скифо-сарматскую, огласовку слова "птица", заключенного в
двуосновном теониме Семаргл, - marg20. Спустя сорок лет и, кажется,
независимо от Калмыкова на то же обстоятельство указал В.И. Абаев,
писавший: "Огласовка а в слове marg 'птица' характерна именно для
скифо-осетинского, тогда как в персидском и почти во всех других
иранских языках мы имеем только гласный u (murg)"21. При скудости
источников о божестве Семаргле эти наблюдения лингвистов являлись
чрезвычайно важными, так как позволяли говорить не просто об
иранских, но о восточноиранских, исторически говоря -
скифо-сарматских корнях Семаргла, что ставило изучение проблемы на
конкретно-историческую почву, обосновывало восприятие предками
восточными славянами данного божества из скифо-сарматских верований.
Но переломное значение для принятия научным сообществом иранской
теории происхождения Семаргла имело появление в 1930-е годы работы
К.В. Тревер22. На основе анализа данных письменных источников и
фольклора исследовательница выявила некоторые ключевые мифологемы,
связанные с иранской птицей Саэной (Сайной) - авестийское mrgo
SaCenCo, SaCena mrgo, откуда позднее пехлевийское (среднеперсидское)
SCenmurv (Сэнмурв) и персидское Simurg (Симург). Особое внимание
Тревер уделила облику данного мифологического существа, которое
считала изначально полиорнитозооморфным, сочетавшим во внешнем виде
элементы собаки и птицы. Двойственная, собако-птичья природа
Саэны-Сэнмурва, по ее мнению, нашла отражение в его имени, в
письменных зороастрийских памятниках, особо наглядно воплотилась в
изобразительном искусстве Востока. Не будучи знакома с работами
Петрушевича и Гальковского, Тревер самостоятельно сблизила иранского
Сэнмурва-Симурга с Семарглом.
Значимость работы Тревер для изучения восточнославянского язычества
состояла в том, что она дала исследователям обширную иранскую
источниковую базу (письменную, изобразительную) для суждений о
функциях и внешнем облике Семаргла, тем самым до известной степени
компенсировав крайнюю информативную недостаточность древнерусских
источников. Гипотеза о связи Семаргла с образом иранской мифологии
как бы обрела "источниковую плоть", что обеспечило ей первенствующее
место в современной историографии проблемы.
Вместе с тем не всегда бесспорные выводы Тревер относительно
иранского "прообраза" Семаргла без проверки и критики были приняты
рядом ученых-неиранистов и целиком перенесены на восточнославянское
божество. Полностью признав все построения Тревер, Б.А. Рыбаков,
например, возвел мифологический образ иранского "крылатого пса"
Сэнмурва к древнейшим представлениям земледельцев энеолита,
отслеживая его на материалах уже трипольской археологической
культуры (культура Триполье-Кукутени, существовала в конце V -
третьей четверти III тыс. до н.э. на территории современных Украины,
Молдавии и части румынской Молдовы). Достаточно свободно
интерпретируя сведения зороастрийских текстов о Саэне-Сэнмурве,
собранные Тревер, Рыбаков увидел в Семаргле древнерусское божество
растительной силы, посевов, семян, ростков и корней растений, их
охранителя. Прилагая выводы Тревер относительно облика
Саэны-Сэнмурва к древнерусскому материалу, Рыбаков подверг анализу
изображения "крылатых псов", называемых им "семарглами", в искусстве
Древней Руси, в первую очередь на браслетах-наручах из
княжеско-боярских кладов XII - начала XIII в.23; тот же метод был
использован рядом других ученых.
Неоднократно к проблеме бога Семаргла обращались Вяч.Вс. Иванов и
В.Н. Топоров. В 1965 г. они предприняли попытку объяснить
происхождение Семаргла, оставаясь на славянской языковой и
религиозно-мифологической дохристианской почве. Ученые
этимологизировали теоним Семарьглъ как 'семиглав' (*Sedmor(o)-golvъ
> *SemOorgol(v)ъ > *Семaръглъ), что в основном повторяло гипотезу
Леже и отчасти мнение Соколова. Семаргла-Семиглава Иванов и Топоров
сопоставили с данными о язычестве западных славян, у которых имелись
божество Триглав и семиголовый идол бога Руевита. Исходя из этого,
Семаргла-Семиглава они объясняли через число известных "высших"
восточнославянских языческих божеств (боги Владимирова пантеона плюс
Велес/Волос и Сварог), где Семаргл мог быть как восьмым элементом,
объединявшим другие семь, так и седьмым, если Сварог (Сварожич) не
входил в их число. Исследователи не исключали связи Семаргла с
иранским Сэнмурвом-Симургом, но считали эту гипотезу более
спорной24. К концу 1980-х годов и Вяч.Вс. Иванов, и В.Н. Топоров
отказались от прежней точки зрения, признав родственность
восточнославянского Семаргла иранскому Саэне-Симургу25.
Оригинальную новейшую этимологию теонима Семаргл предложил польский
исследователь К.Т. Витчак26, который, опираясь на "Слово некоего
христолюбца" и историографическую традицию, принял гипотезу о
существовании двух божеств - Сема и Регла. В рассматриваемой
публикации Витчак Сема не касался. Восточнославянское же божество с
именем Ръглъ он толковал как восходящее к индоевропейскому *rudlos
'дикий, буйный, агрессивный', отразившемся также в имени ведийского
Рудры, бога неистовой и разрушительной бури. Поэтому Ръглъ
идентифицировался им как божество дикой, необузданной силы природы,
бури и ее зловещего вида. Форму Ръглъ Витчак полагал восходящей к
праславянскому *rъdlъ, однако поскольку развитие *dl > gl было
присуще только северной периферии восточного славянства, то Регла
следует считать богом севернорусским, новгородским, как и весь
киевский пантеон Владимира.
Появление предположений, подобных точкам зрения Иванова и Топорова
1965 г. или Витчака, имеет объективным основанием определенные
лингвистические трудности при возведении теонима Семарьглъ к
иранским формам наименования гигантской мифологической (легендарной,
сказочной) птицы. Поэтому, строго подходя, распространенное мнение
об иранских корнях восточнославянского Семаргла, опирающееся на
этимологию данного имени, - лишь гипотеза, однако на сегодня
наиболее вероятная, непротиворечиво вписывающаяся в известный науке
контекст поздних славяно-иранских культурно-лингвистических,
религиозно-мифологических и этноисторических связей и взаимодействий
и органично его дополняющая. В силу мы считаем возможным в
дальнейшем изложении исходить в статье из трактовки Семаргла как
восточноиранского религиозно-мифологического наследия у восточных
славян в качестве установленного факта - до появления лучше
аргументированной альтернативы.
Таким образом, за многие десятилетия в научной литературе были
предложены многочисленные решения комплекса связанных с Семарглом
проблем. И сегодня историографическое состояние их изучения остается
противоречивым. По-прежнему активно обсуждаются само существование
этого божества и возможность разделения теонима Семаргл на два (>
двух богов), которым даются разнообразные этимологические (и,
соответственно, функциональные) истолкования. Хотя бoльшая часть
ученых признает ныне иранские корни восточнославянского Семаргла,
связь его с иранской мифологической (легендарной, сказочной) птицей
Саэной-Симургом, но, как правило, они ограничиваются данной
констатацией, устраняясь от анализа иранского и иного источникового
материала, способного создать фундированную фактическую базу для
обоснованных суждений о функциях и облике Семаргла.
Уже первые отечественные исследователи, специально касавшиеся
вопроса о Хорсе, увидели в нем бога Солнца, однако справедливо
признали данный теоним неславянским по происхождению и сближали с
персидским названием почитаемого Солнца (персидское xCorsed/xCursed)
(П.И. Прейс, О.М. Бодянский, И.И. Срезневский)27. Их работы заложили
научные основы теории, которая ныне господствует в мировой
историографии, т.е. пониманию Хорса как бога Солнца и объяснению его
имени от названия Солнца у некоторых иранских народов (Вс.Ф. Миллер,
Ф.Е. Корш, А. И. Соболевский, Г.В. Вернадский, Л. Нидерле, А.А.
Зализняк, Р.О. Якобсон, М. Фасмер, Х. Ловмяньский, Б.А. Рыбаков,
Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров и многие другие). Существует
альтернативная иранская гипотеза объяснения имени Хорса. П.Г. Бутков
(ее фактический основоположник), С.П. Обнорский, а затем В.И. Абаев
возводили теоним к осетинскому xorz, xwarz "хороший, добрый".
Наряду с указанными, предлагались и многие иные интерпретации
восточнославянского Хорса: его сближали с Бахусом (М. Стрыйковский,
В.Н. Татищев, С. Руссов); допускали произведение теонима от
"красный" (Н.И. Костомаров), "хворый, хворать" (Д.О. Шеппинг); от
формы слова "конь" в германских языках (ср. общегерманское *hrussa,
английское horse) (А.С. Фаминцын, Н.К. Чадвик); сопоставляли с
греческими словами crusoV 'позолоченный' (Л. Леже, А.Л. Погодин) или
coroV 'круг' (Н.М. Гальковский) и т.д. Основываясь на
соответствующем месте "Слова о полку Игореве", где упоминается Хорс,
ряд ученых увидел в нем божество Луны (М.А. Максимович, А. Брюкнер,
В. Пизани, С. Урбаньчик, Я.С. Боровский). Е.В. Аничков, исходя из
того же источника, усмотрел в Хорсе божество южных кочевых соседей
Руси торков29. Этого мнения придерживались Вяч.Вс. Иванов и В.Н.
Топоров в работе 1965 г.30 Позднее, однако, оба исследователя
признали в Хорсе солярное божество иранского происхождения, не
исключая, впрочем, тюркского посредничества при его передаче
восточным славянам.
Со второй половины 1980-х годов В.Н. Топоров развивал точку зрения,
согласно которой Киев был создан как западный пограничный форпост
Хазарии вазиром (первым министром) правителей каганата, носившим имя
Куйа. Здесь располагался гарнизон, состоявший из воинов хазарской
гвардии хорезмийского (в языковом плане - восточноиранского)
происхождения, почитавших бога Солнца Хорса, а также Семаргла,
которые поэтому являлись "чужими" для местного восточнославянского
населения и его верований31.
Таким образом, в научной литературе посегодня активно обсуждается
круг проблем, связанных с природой и функциями Хорса, что во многом
является следствием отсутствия комплексного анализа всего корпуса
разнохарактерных источников, которые следует привлекать при его
рассмотрении. Несмотря на то, что большинство исследователей
полагает Хорса божеством иранского происхождения, но и в рамках
указанной парадигмы имеются серьезные разночтения, нуждающиеся в
адекватном разрешении.
В историографии почти не предпринималось попыток комплексного
междисциплинарного анализа настоятельно нуждающегося в
самостоятельной разработке вопроса о времени и путях вхождения богов
Семаргла и Хорса в восточнославянские дохристианские верования -
исследователи обычно ограничивались общими указаниями на
(восточно)иранский характер этих божеств. Между тем накопленный в
науке материал создает необходимые предпосылки для подобного рода
комплексного анализа. Исключение составляет указанная
хорезмийско-хазарская гипотеза В.Н. Топорова, которая нуждается в
отдельном тщательном разборе.
Обращаясь к историографии "первой религиозной реформы" князя
Владимира, следует констатировать, что проблема эта осталась на
периферии исторических разысканий. Не случайно поэтому ее называли
"загадкой эпохи" или вообще отрицали сам ее факт32. Как правило, в
научной и учебной литературе событиям времени "первой религиозной
реформы" отводились несколько строк или абзацев (нередко они не
упоминались вообще): констатировался сам факт реформы, кратко
давалась та или иная общая ее оценка, не опиравшаяся на конкретное
исследование, говорилось о неудаче реформы и низвержении языческих
идолов. Слабая разработанность проблематики "первой религиозной
реформы" объясняется комплексом причин, важнейшая из которых видится
в следующем. Принятие христианства, безусловно, явилось событием
огромной важности, оказавшим глубокое влияние на историю и культуру
восточных славян, все стороны жизни древнерусского общества. Но
фундаментальное значение этого акта затемнило в исторической
ретроспективе религиозную реформу первых лет великого княжения
Владимира - в сравнении с ним она казалась малозначимым, тупиковым
эпизодом накануне неизбежной смены язычества христианством и потому
не привлекла особого внимания ученых, как церковных, так и
гражданских. Это не позволяло должным образом оценить ее значимость,
увидеть глубокую взаимосвязь между двумя религиозно-политическими
реформами конца Х в. - языческой и христианской.
Первым в 1815 г. попытался научно оценить содержание и цели
языческого реформирования князя Владимира П.М. Строев. Он считал,
что собственно славянскими в киевском пантеоне являлись Перун,
Дажьбог, Стрибог, а Хорса, Семаргла и Мокошь полагал божествами либо
финскими, либо варяжскими. Отсюда им делался вывод о целях реформы:
"Владимир.., кажется, сделал только то, что почитаемых разными
Славянскими, Финскими племенами (может быть, также и Варягами) богов
собрал в одно место и, так сказать, объявил их общими целого
Государства и его покровителями. Самая здравая Политика не могла бы
приискать ничего лучшего для совершеннейшего и неразрывного
соединения разных народов, составлявших тогда Владимирово
Государство, как дать им общую религию, составив ее из почитания
всех тех божеств, кои порознь у каждого или, по крайней мере, у
главнейших из них находились..."33
Вторая серьезная попытка была предпринята почти столетие спустя Е.В.
Аничковым. Считая реформу 980 г. религиозно-политической, Аничков
выделял в ней "две реформы", каждая из которых носила
общегосударственный характер. "Первая реформа" заключалась в том,
что Перун, ранее являвшийся богом-покровителем киевского князя и его
дружины, был провозглашен верховным божеством Древнерусском
государства. "Вторая реформа" состояла в объединении около Перуна
целого ряда богов. "Если... этот культ Перуна еще слишком немощен, -
писал Аничков, - чтобы он мог стать единым богом, его надо
обставлять другими богами", указанными в летописи34. Но "обставление
другими богами" преследовало и иную, более важную цель. Исходя из
того, что Дажьбог и Стрибог являлись божествами славян, Хорс - богом
торков, а Мокошь - богиней "финском происхождения", Аничков полагал,
что в киевском пантеоне "Перун властвует" над ними, а также над
"загадочным Симарглом, и все их разноплеменные
жертвователи-идолопоклонники этим самым входят в одно
государственное целое, символически и сакрально представленное в
капище тем, что более мелкие, племенные... боги окружают главного и
великого идола, установленного великим князем и его дружиной"35.
Помимо того, "когда установил свой пантеон Владимир, он делал
последнюю отчаянную попытку борьбы с наступающим византийским
христианством". Потому необходимо было язычеству "вложить хоть
сколько-нибудь если не единства, то единообразия в свою
религиозно-политическую систему"36.
Предложенная Аничковым интерпретация смысла и целей языческой
реформы великого князя Владимира, в том числе положение о
разноэтническом происхождении включенных в киевский пантеон божеств,
получила широкое распространение в историографии (ряд историков
считал, что в пантеон вошли только божества подчинявшихся к тому
времени Владимиру восточнославянских "племен"). Между тем
исследования последних десятилетий, в том числе проведенные нами,
показывают, что многие положения точки зрения Аничкова на характер и
цели "первой религиозной реформы" требуют серьезного пересмотра.
Еще меньшее внимание обращалось исследователями на финал языческой
религиозной реформы в Киеве и Новгороде. Как правило, вслед за
летописцами, в уничтожении кумиров, в первую очередь в процедуре
низвержения идолов Перуна, видели лишь их нарочитое унижение и
поругание олицетворявшихся идолами богов. Эпизодически
высказывавшиеся в историографии мнения о языческой сакральной
семантике летописно зафиксированных манипуляций с киевским и
новгородским кумирами бывшего "бога богов" Руси37 остались не
востребованы и исследовательски не развиты.
Остро дискутируется сегодня в историографии проблема локализации
киевского и новгородского официальных капищ Перуна времени
проведения "первой религиозной реформы".
В целом анализ степени научной разработанности поставленных в
настоящей работе проблем демонстрирует большой разброс и
противоречивость исследовательских мнений, необходимость пересмотра
или корректировки многих устоявшихся точек зрения, потребность в
новом и комплексном подходе к проблематике.
Ниже мы сосредоточимся на следующем круге задач:
поскольку в древнерусских письменных памятниках отсутствуют прямые
сведения о функциях и облике восточнославянского Семаргла, на
основе древнеиранских, древнеиндийских и иных разнохарактерных и
разновременных источников выявить тот облик и тот круг функций,
которые могли быть ему присущи; в этой связи проанализировать
древнерусский изобразительный материал, в котором многие
исследователи находили отображения "крылатого пса" божества
Семаргла;
проанализировать корпус древнерусских письменных памятников,
содержащих сведения о боге Хорсе, и выявить на этой основе
собственно восточнославянские представления о функциональной
природе Хорса; дать этимологию его имени;
рассмотреть вопрос о времени и путях вхождения богов Хорса и
Семаргла в восточнославянские языческие верования, выявить
конкретный иранский этнокультурный источник появления данных
божеств у восточных славян;
основываясь на результатах предыдущего анализа, дать оценку
содержания, характера и целей языческого религиозного
реформирования князя Владимира; раскрыть семантику и цели
публичных действий, проведенных с низвергнутыми кумирами Перуна в
Киеве и в Новгороде накануне массового крещения их жителей;
показать место "первой религиозной реформы" и ее финала среди
факторов и событий, приведших к введению христианства; рассмотреть
вопрос о локализации киевского и новгородского официальных капищ
Перуна времени проведения "первой религиозной реформы".
* * *
Как нами было уже отмечено, круг проблем, с ним связанных с
божеством Семарглом, чрезвычайно непрост для изучения. Помимо
неинформативности древнерусских письменных памятников относительно
его функций и облика, ситуация усугубляется тем, что ни в одном из
дошедших до нас источников по религии скифов и сармато-алан
"Семаргл" не фигурирует, не отмечен он у потомков этих племен
осетин, т.е. в нашем распоряжении не имеется прямых свидетельств о
его значимости, функциях и облике в верованиях иранских племен
Восточной Европы. Лишь фиксация на Руси теонима Семарьглъ с
восточноиранской огласовкой слова "птица" дает основания думать о
его бытовании в мифологии данной части иранцев. Вполне очевидно
поэтому, что последующий анализ может представлять собой только
совокупное рассмотрение всех имеющихся источников (письменных,
изобразительных, лингвистических, фольклорных), в первую очередь
иранских и индийских, и реконструкцию на этой основе мифологии и
облика общеиндоиранского (общеарийского; *arya- - самоназвание
(аутоэтноним) предков древних и современных ираноязычных народов и
многих народов Индостанского полуострова), общеиранского и
восточноиранского "прообраза" Семаргла, что позволит аргументировано
подойти к проблеме функций и облика этого бога.
На основании данных сборника священных гимнов индоариев "Ригведа"
(время сложения - вторая половина II тыс. до н.э. - рубеж II - I
тыс. до н.э.), значительно более позднего древнеиндийского эпоса
"Махабхарата", вобравшего, однако, многие весьма архаичные мифы и
верования, сборника священных книг зороастризма "Авеста" (точная
датировка даже древнейших частей памятника спорна, но вероятнее
всего - середина I тыс. до н.э.), надежно реконструируется следующий
индоиранский (общеарийский) миф: священное растение сома/хаома
(арийское *sauma), игравшее чрезвычайно большую роль в верованиях и
религиозных ритуалах индоиранцев, находилось на гигантских
мифологических горах, на высочайшей их вершине (вариант "мировой
(космической) горы"); отсюда его похитила птица Шьена (санскритское
Syena)/Саэна (Сайна) (авестийское SaCena) (в "Махабхарате" ее
заместил Гаруда, вобравший и многие другие элементы мифологии Шьены)
и унесла в земной мир. Этот миф для арийского прообраза Шьены/Саены
может быть охарактеризован как главный, основной. Возникновение его
относится ко времени до распада индоиранской языковой общности
(примерно рубеж III - II тыс. до н.э. или первая половина - середина
II тыс. до н.э.). На основании тех же источников, а также сказочного
фольклора иранских народов воссоздается еще одна общеарийская
функция рассматриваемого образа как посредника, связника между
различными мифологическими мирами, зонами.
На основании "Авесты", других зороастрийских памятников, "Шах-наме"
("Книга царей") Абулькасима Фирдоуси (создана в конце Х - начале XI
в.), фольклора иранских народов восстанавливается следующий ряд
связанных с Саэной-Сэнмурвом-Симургом общеиранских мифологических
представлений, дополняющий указанные индоиранские: 1. Он имеет
местом своего пребывания вершину "мирового (космического) древа"
(вариантом которого в зороастрийских текстах является "дерево всех
семян и всех лекарств") (ср. место Шьены/Саэны на вершине "мировой
горы"; "мировое древо" и "мировая гора" мифологически взаимосвязаны
и взаимозаменяемы); 2. Саэна является одним из защитников "мирового
древа" от вредоносных хтонических созданий "нижнего мира"
(пресмыкающихся, рептилий и др.), вообще их постоянным противником;
3. Тяжестью своего тела Саэна стряхивает "семена всех растений" с
"дерева всех семян", и они с небесными водами попадают на землю,
обеспечивая в конечном итоге пропитание людей. Из перечисленных
позиций первые две органично вписываются в круг индоевропейских
мифологических представлений и поэтому могут быть непротиворечиво
возведены к индоиранскому периоду. К тому же времени, вероятно,
восходит и третья указанная мифологема.
Таковы наиболее существенные составляющие комплекса мифологем,
связанных с индоиранским Шьеной/Саэной и иранским Саэной-Симургом.
Их суммирование создает фактическую базу, позволяющую гипотетически
судить о функциях Семаргла, в том числе в киевском пантеоне
Владимира. Однако во всех перечисленных функциях Саэна-Симург
являлся не более чем третьестепенным персонажем иранской мифологии
(как и его "предшественник" в общеарийской). Это заставляет
предполагать наличие у скифо-сармато-аланского "прообраза" Семаргла
некоей дополнительной функции, сделавшей его культ особо значимым у
какой-то части иранцев Восточной Европы и потому в конечном итоге
обусловившей появления Семаргла в одном ряду с наиболее чтимыми
богами, вошедшими в киевский пантеон князя Владимира. Ею, полагаем,
могла быть функция благого покровителя отдельных людей и особенно
человеческих коллективов. Ярко отразилась она в "Шах-наме" Фирдоуси,
где Симург выступает как охранитель рода эпических героев Сама -
Заля - Ростема. Признано, что отразившийся в "Шах-наме" цикл
сказаний-былин об этих эпических персонажах сложился в среде
близкородственных европейским скифам и сармато-аланам азиатских
восточноиранских по языку сакских племен38. Это дает основания
полагать, что "Семаргл" у скифов и сармато-алан, как и Симург в
сказаниях саков, мог считаться покровителем отдельных людей и их
коллективов (родов, племен), что и стало причиной значимости его
почитания какой-то частью этой отрасли восточных иранцев.
Тщательного рассмотрения требует вопрос о внешнем облике иранского
Саэны-Симурга. В литературе широкое распространение получила точка
зрения Тревер, считавшей этот мифологический персонаж изначально
полиорнитозооморфным, сочетавшим начала собаки и птицы. Свою позицию
исследовательница обосновывала: этимологизацией сочетания SaCena
mrgo как 'собака-птица'; данными текстов зороастрийского круга;
свидетельствами изобразительных источников. Между тем, на наш
взгляд, необходимо критически вернуться к проблеме внешнего облика
Саэны-Симурга и, соответственно, Семаргла.
На основе анализа "Ригведы", "Махабхараты", зороастрийских текстов,
"Шах-наме" Фирдоуси, поэм "Беседа птиц" (1175) Фарид-ад-дина Аттара
и "Язык птиц" (1499) А. Навои, данных буддийской мифологии,
фольклора народов Центральной Азии и Южной Сибири, а также
иранского, ряда иранских, индийских и тюркских языков,
изобразительного искусства средневекового Востока реконструируется
следующая история развития внешнего облика Саэны-Сэнмурва-Симурга. И
в период существования индоиранской общности, и после обособления
иранцев он мыслился как гигантский мифологический (эпический,
сказочный) орел; это представление оказалось чрезвычайно устойчивым
и сохранилось у иранских народов до наших дней. Однако не позднее
середины I тыс. до н.э. происходит своего рода его бифуркация,
раздвоение - у части (западных?) иранцев складывается представление
о Саэне как существе орнитозоосинкретическом, обликом подобном
летучей мыши. Оно явилось следствием определенных языковых
процессов.
В современных иранских языках sCina (персидский, таджикский), sCinag
(белуджский), sCink, sCing (курдский) означает 'грудь'; осетинское
synжg/sinжk, sinжg имеет значения 'грудь', 'лоно', 'выступ (горы,
скалы)'39. Среднеперсидское sCenak, sCenag также означало 'грудь',
однако более архаичное saCeni- имело значения 'выпуклый', 'острый,
остроконечный', 'верхушка (дерева, горы)' (все эти формы восходят к
иранскому *saina-ka). К этому же гнезду относится ведийское syena-
'грудь'. Х.У. Бейли связывал осетинские, среднеперсидскую и
авестийскую формы и предполагал, что значение 'грудь' развилось из
'острый, остроконечный (pointed)'40. М. Майрхофер, рассматривая
этимологию имени похитителя сомы Syena и отмечая его идентичность
авестийскому SaCena, высказал мнение о том, что эти основы связаны с
ведийским syena-, авестийским saCeni-, среднеперсидским sCenak41.
Таким образом, можно заключить, что и иранское *saina-ka, и
ведийское syena- восходят к общеарийской форме с исходными
значениями 'выпуклость; выступающее, острое место; верхушка,
вершина', откуда развились значения 'грудь; лоно', что типологически
подтверждается данными других индоевропейских, в том числе
славянских, языков.
В индоиранский период *caina, *caina merga, давшее затем
санскритское syena и авестийское saCena, saCena mrgo (< иранское
*saina merga), означало, вероятно, 'вершинник', 'птица [с] вершины
[дерева/горы]'. Данное именование достаточно полно и адекватно
описывало местоположение этого мифологического персонажа,
находившегося на вершине "мирового древа"/"мировой горы"; равно
применялось оно и к его земным прообразам, которые обитают и
гнездятся на вершинах деревьев и скал.
Однако по мере того, как исходные значения лексемы *saina-ka в
иранских языках все более затемнялись, замещаясь производным
'грудь', менялась и семантика сочетания saCena mrgo. Постепенно у
части иранцев оно стало осмысливаться как 'птица [с] грудью'.
Поскольку летучие мыши относятся к классу млекопитающих, то
становится понятно, почему Сэнмурв - "птица [с] грудью" - был
отождествлен именно с ней в зороастрийских произведениях "Бундахишн"
(название переводят как "Первотворение", "Изначальное творение",
"Сотворение основы", содержит изложение и аббревиатуры множества
космогонических, космологических, эсхатологических и других мифов,
передающих как зороастрийские, так и дозороастрийские представления
о мире, приводящем сведения о природных явлениях и многом другом и
являющемся среднеперсидским толкованием и систематизированным
пересказом, изложением кодифицированной при династии Сасанидов (III
- VII вв.) "Большой Авесты", точнее, одной из ее недошедших книг,
"Дамдат-наска") и созданных в 881 г. и в интересующей нас части
являющихся в основном изложением I - XVII глав "Бундахишна"
"Избранных [писаниях]" Зад-спрахма, брата верховного зороастрийского
жреца в Парсе и Кермане Манушчихра. Даваемое "Бундахишном" и
Зад-спрахмом описание летучей мыши весьма точно воспроизводит ее
биологические особенности и образ жизни. В силу же того, что
Саэна-Сэнмурв как "птица [с] грудью" оказался отождествлен с летучей
мышью, на него были перенесены внешние черты ее облика и повадки:
собаки, птицы и неясного мускусного животного. "...Два (вида), -
читается в "Бундахишне", - имеют грудное молоко и выкармливают
(своих) детенышей. Сенмурв и летучая мышь летают по ночам. Как
говорит он: "Летучая мышь сотворена из трех видов (животных):
зубастой собаки, (птицы) и мускусного (животного), так как она
летает, как птица, (имеет) много зубов, (как собака), и живет в
(норе), как мускусное (животное) "биш"42. В итоге в "Бундахишне"
Сэнмурв превратился в "Сэна о трех естествах, видах", "триединую
(птицу) Сэн". Это представление было зафиксировано в "Дамдат-наске"
(существовал по крайней мере с V в. до н.э.), а затем в "Большой
Авесте", что имело определяющее значение. От ахеменидского времени
(середина VI в. до н.э. - 330 г. до н.э.) сохранилось только одно
бесспорное (хотя и подвергшееся переработке) изображение "Сэна о
трех естествах" (пластика из четвертого Семибратнего кургана, V в.
до н.э., о чем далее). Однако при династии Сасанидов (224 - 651),
когда происходит кодификация "Большой Авесты", когда зороастризм
превращается в государственную религию Сасанидской державы, когда в
искусстве широко используются зооморфные, в том числе
синкретические, образы, Сэнмурв, благое и добродетельное создание, в
полиорнитозооморфном облике, канонизированном и освященном
зороастрийской религиозной традицией, становится распространенным
изобразительным мотивом в искусстве Ирана и ряда регионов,
испытывавших влияние иранской культуры, продолжая функционировать в
нем и после арабского завоевания и исламизации.
Принципиально важно подчеркнуть, что нет никаких оснований полагать,
будто превращение птицы Саэны в "птицу с грудью" и
полиорнитозооморфного "Сэна о трех естествах" затронуло
восточноиранский, скифо-сармато-сако-массагетский мир, с крайней
северо-западной частью которого в позднеримскую и раннесредневековую
эпохи взаимодействовало славяноязычное население юга Восточной
Европы (см. далее) и от которого, вероятнее всего, восприняло бога
Семаргла. Во-первых, как отмечалось, в "Шах-наме" Фирдоуси Симург
связан прежде всего с эпическим родом Сама - Заля - Ростема, цикл
сказаний о которых сложился в среде восточноиранских сакских племен.
Что касается внешнего облика Симурга в поэме, то он определенно не
полиморфный, а исходный и древнейший - гигантской хищной птицы.
Во-вторых, образ собаки-птицы совершенно неизвестен искусству
восточноиранских племен степей и лесостепей Евразии (так называемому
искусству звериного стиля), хотя зоосинкретические образы имели в
нем широчайшее распространение.
В этой связи, в-третьих, весьма показательна "судьба" изображения на
золотой пластине V в. до н.э. из четвертого Семибратнего кургана
(низовья реки Кубань), являющегося переработкой какого-то
ахеменидского образца. На ней видим существо с ушами, лапами и
мордой собаки, на нижней челюсти - бородка; эта иконография
характерна для изобразительных Сэнмурвов сасанидского и
постсасанидского времени. Однако другие части этого
политериоморфного создания не укладываются в характерный для
позднейшей иконографии Сэнмурва канон: крылья замещены головой
хищной птицы типичной для раннего скифского искусства формы, вместо
обычно пышного птичьего хвоста - длинная шея и голова какой-то
водоплавающей или связанной с водой птицы.
Ключ к пониманию причин подобной переработки, которая произошла на
местной этнокультурной почве, дают исследования Д.С. Раевского. Он
показал, что в скифском искусстве звериного стиля зооморфный код
применялся для описания мироздания, создания зрительной модели мира,
и противопоставление животных по признаку сфер обитания облегчало
такое описание43. В скифских зооморфных символах хищная птица
маркировала "верхний" мир; водоплавающая - связывалась с миром
людей; собака у индоиранцев была сопряжена с представлениями о мире
загробном44. Таким образом, занесенный из ахеменидского искусства
образ собаки-птицы Сэнмурва оказался непонятен местному населению,
для которого изготавливалась интересующая нас пластина, и потребовал
радикальных переосмысления в соответствии с религиозными
мировоззрениями насельников Северного Причерноморья V в. до н.э.,
большинство из которых составляли иранцы скифы.
Позднесасанидский и особенно постсасанидский Иран и находившиеся под
его культурным влиянием области стали первичным центром иррадиации
Сэнмурва в облике собаки-птицы в изобразительное искусство многих
народов и стран на пространстве от Атлантики до Сибири (Византия,
где изобразительный "Сэн о трех естествах укоренился под влиянием
искусства Ирана, являлась вторичным такого рода центром). Но с
арабским завоеванием и распространением ислама на Востоке постепенно
исчезла религиозная почва, делавшая "триединую [птицу] Сэн"
популярным зороастрийским персонажем. С постепенной утратой
собакой-птицей Сэнмурвом религиозной семантики он все более
превращается в искусстве Востока в декоративный мотив, часть
"звериного" орнамента, осмысливаясь как изобразительный апотропей,
оберег-охранитель и потому веками репродуцируясь и после утверждения
ислама. Естественно, что для стран и регионов, где проблема
"зороастрийского наследия" не стояла, декоративно-орнаментальное и
апотропейное восприятие изображений Сэнмурва было изначальным.
Рассмотрение доступных изучению мифологических (с индоиранскими и
индоевропейскими корнями) и восходящих к ним эпических и фольклорных
представлений иранцев о Саэне-Симурге само по себе не могло ответить
на вопрос о функциях восточнославянского Семаргла - отсутствие
прямого параллельного источникового материала делает его однозначное
решение принципиально невозможным. Однако предпринятые разыскания
позволяют, во-первых, достаточно четко очертить тот мифологический
функциональный круг, в рамках которого можно искать и со
сравнительно большей уверенностью говорить о вероятных функциях
восточнославянского Семаргла. Одновременно, во-вторых, предпринятый
анализ позволяет заключить, какими функциями Семаргл не мог
обладать. Б.А. Рыбаков, как говорилось в своих работах
последовательно проводил ту мысль, что Семаргл - божество
растительной силы, семян, ростков и корней растений, их охранитель
(что было принято многими исследователями). Но сведения иранских (и
индийских) источников позволяют утверждать, что Саэна (Шьена)-Симург
подобными функциями наделен не был. Связь Саэны-Сэнмурва в
зороастрийских текстах с "древом жизни", его роль - в качестве лишь
одного из участников - в низведении плодов "дерева всех семян" на
землю не дают оснований для столь расширительной функциональной
трактовки Семаргла.
Не имеется никаких фактических оснований, далее, полагать, что
бифуркация внешнего облика Саэны-Симурга с превращением его в
собаку-птицу затронула восточноиранский мир. И если мы
руководствуемся сегодня максимально вероятной гипотезой об иранских
корнях Семаргла, то последовательно должны признать, что он имел то
же обличье, что и его общеиранский и общеиндоиранский "прародитель"
- облик гигантской хищной птицы, т.е. восточнославянский Семаргл не
являлся собакой-птицей.
Сделанный нами вывод вступает в противоречие с распространенными в
научной литературе суждениями о том, что древнерусскому
изобразительному искусству были хорошо знакомы образы собак-птиц,
которых исследователи весьма произвольно называют "семарглами" или
"сэнмурвами" и нередко трактуют как отражение и пережиток языческой
поры истории восточных славян. Однако анализ всех подобным образом
интерпретируемых изображений (на керамической тарелке Х в. из
Гнездова, колтах, браслетах-обручах, средневековых книжных
миниатюрах, бронзовой арке из Вщижа, угoльном камне Борисоглебского
собора в Чернигове, "золотых дверях" Суздальского собора, двух
рельефах каменного декора Георгиевского собора в Юрьеве-Польском)
заставляет прийти к выводу, что они либо отношения к проблеме не
имеют, либо более органично и убедительно объясняются иным путем
(как рефлексия в древнерусском искусстве западноевропейских
изобразительных драконов так называемого романского типа), без
гипотезы о "собаке-птице боге Семаргле".
Анализ проблематики, связанной с происхождением и функциями бога
Хорса, целесообразно вести, взяв в качестве отправной точки
рассмотрение источников, из которых можно извлечь информацию о
природе этого божества в представлениях восточных славян.
Древнейшие дошедшие до нас летописи, содержащие ПВЛ, Лаврентьевская
и Ипатьевская, при перечислении в статье под 980 г. богов созданного
Владимиром в Киеве капища различаются существенным для темы образом:
если в Ипатьевской летописи имена Хорса и Дажьбога, как и других
божеств, разделены союзом "и", то в Лаврентьевской данный союз
отсутствует ("И нача княжити Володимеръ въ Киевh единъ, и постави
кумиры на холму внh двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его
сребрену, а усъ златъ, и Хърса Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и
Мокошь"45). Поскольку солярная природа Дажьбога бесспорна, то
даваемое Лаврентьевской летописью чтение позволило многим ученым,
начиная с О.М. Бодянского, писать о тождестве Хорса и Дажьбога как
божеств Солнца, т.е. солярный идол киевского пантеона имел двойное
имя - Хорс-Дажьбог. В пользу вытекающей из чтения Лаврентьевской
летописи пяти-, а не шестичленности пантеона в Киеве может
свидетельствовать летописная статья под 1071 г., согласно которой
появившийся некогда ранее этого года в Киеве волхв пророчествовал,
заявляя, что "явили ми ся есть 5 богъ"46.
Наиболее рельефен характер Хорса как специально солярного божества в
"Слове о полку Игореве": князь Всеслав Полоцкий, в то время
оказавшийся на киевском великокняжеском престоле, обернувшись
волком, за ночь успевал "пробежать" расстояние от Киева до
Тмуторокани, т.е. примерно с севера на юг, и пересечь ("прерыскаше")
путь "великому Хорсу"47, дневному светилу Солнцу, которое начинает
движение с востока на запад. Только при понимании Хорса как бога
Солнца данное место "Слова" приобретает логически стройные
объяснение и звучание, что отмечали уже Прейс, Бодянский,
Срезневский. Новое в историографии и принципиально для нас
существенное наблюдение, весомо укрепляющее солнечную трактовку
Хорса "Слова о полку Игореве", было сделано М.А. Робинсоном и Л.И.
Сазоновой. Автор поэмы, считали они, исполнял ее перед киевским
князем Святославом Ярославичем и его женой, Марией Васильковной.
Святослав являлся внуком Олега Святославича, как и главный герой
"Слова" - Игорь, а Мария - правнучкой Всеслава Полоцкого. Поэтому
только об этих двух князьях-предках второй половины XI в. в поэме
говорится развернуто. При этом "соответствующие фрагменты - об Олеге
Святославиче и Всеславе Брячиславиче - образуют систему соотражений,
выступающую как художественный прием". Исследователями были выделены
девять таких соотражений, что свидетельствует об их неслучайности;
одним из них является симметричность фрагментов: "...погибашеть
жизнь Даждь-Божа внука..." (об Олеге) - "...великому Хръсови влъкомъ
путь прерыскаше" (о Всеславе)48.
Значительный интерес представляет следующий текст из произведения (в
сборнике XVI в.), называемого исследователями "Поучение духовным
детям" или "Слово св. Иоанна Златоуста": "Уклоняйся пред Богомъ
невидимыхъ: молящихъ человhкъ роду и роженицам, порену и аполину, и
мокоши, и перегини, и всяким богомъ (и) мерзькимъ требамъ не
приближайся"49. В древнерусских источниках, называющих Хорса,
теонимы Перун и Хорс образуют устойчивую пару. Исключение составляют
перечень восточнославянских божеств в "Хождении пресвятой Богородицы
по мукам" и один из списков "Слова некоего христолюбца", в котором
эта связка разрывается именем Волоса ~ Велеса. Однако во втором
случае фраза "Волосу скотью богу" является поздней вставкой50. При
сравнении перечня языческих божеств приведенной выдержки с другими
подобными из древнерусских памятников, он оказывается максимально
близок "Словам", направленным на обличение языческих переживаний
после введения христианства, с их стабильной теонимической парой
Перун - Хорс. Поэтому есть все основания полагать, что стоящее после
имени Перуна в приведенном фрагменте "аполин", т.е. Аполлон,
является глоссой к "Хорс". Данное обстоятельство можно трактовать в
качестве свидетельства солнечной природы Хорса, ибо Аполлон в
средние века мыслился как именно солярное божество. Отождествление
же в источниках восточнославянских языческих божеств с
древнегреческими на основании функционального сходства не является
чем-то исключительным.
Против подобного вывода может быть выдвинуто следующее возражение. В
одном из списков "Слова о том, како крестися Владимер, возмя
Корсунь" Перун назван Аполлоном51. В этом случае, однако, мы
сталкиваемся с иной ситуацией, а именно - с еще одним средневековым
семантическим наполнением античного теонима Аполлон. С опорой на
Апокалипсис (9, 11), в средневековом христианстве слово "Аполлон"
было равнозначно понятию "дьявол, сатана". Поэтому считаем, что в
указанном "Слове" Перун, в начальный период княжения Владимира
общегосударственный верховный "бог богов", назван Аполлоном не из-за
функционального тождества с этим древнегреческим божеством, а как
"глава" языческих "богов-бесов", т.е. просто назван дьяволом. Однако
едва ли возможно полагать, что и в приведенном фрагменте "Аполин"
означает "дьявол". В этом случае рассматриваемый отрывок теряет
внутреннюю логику и даже смысл. Ведь и Род, и рожаницы, и Мокошь, и
берегини, и тем более Перун для христианина равно являлись
"дьяволами", "бесами". Поэтому понимание "Аполин" как "дьявол"
перекрывает и делает избыточным сам этот перечень. Необъяснимо в
этом случае и то, почему "родовое" понятие "дьявол" оказалось в
середине "видового" списка языческих "богов-бесов". Все эти
противоречия снимаются при трактовке слова "Аполин" как глоссы к
"Хорс". Если иметь в виду позднейшие описки и ошибки, то основа
разбираемого отрывка может быть отнесена ко времени, когда не была
забыта солярная природа Хорса, что и позволило какому-то
древнерусскому книжнику отождествить его с Аполлоном.
Особое внимание следует уделить следующему фрагменту из апокрифа
"Беседа трех святителей": "Иванъ рече: отъ чего громъ сотворенъ
бысть? Василий рече: два ангела громная есть; елленский старецъ
Перунъ и Хорсъ жидовинъ, два еста ангела молниина"52. Пассаж о
"елленском старце Перуне" и "Хорсе жидовине" - древнерусского
происхождения, вставка в уже имевшийся написанный на старославянском
текст53.
Интересующий нас отрывок апокрифа рождает многочисленные вопросы, в
том числе следующий: почему Хорс в "Беседе" причислено к "ангелам"
грома и молний? Отнесение к властителям этими природными стихиями
Перуна естественно. Однако Хорс мог превратиться в "ангела" грома и
молний потому, что на Руси источником молний считалось, в частности,
Солнце: на миниатюре Никоновской летописи (XVI в.) молнии показаны
исходящими из уст солнечного лика54. Дополнительным мотивом могло
стать то, что Хорса и библейских ангелов объединяла их огненная и
световая природа. На Руси "Беседа трех святителей" появилась
достаточно рано: не позднее XIV ст. ее начинают включать в перечень
отреченных книг, а наиболее ранние свидетельства бытования "Беседы"
у восточных славян относятся, возможно, к концу XII в. Выводы
специального анализа, проведенного Ф.И. Буслаевым и А.П. Щаповым55,
дают основания полагать, что разбираемый фрагмент "Беседы" - точнее,
его протограф - восходит к эпохе достаточно древней, когда память о
Перуне и, ч
Серия сообщений "славянское язычество":
Часть 1 - СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Часть 2 - Храним память былых времён?
...
Часть 18 - О СИМВОЛИКЕ РУССКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВЫШИВКИ АРХАИЧНОГО ТИПА
Часть 19 - Александра Карачарова - Славянские древности
Часть 20 - Особенности формирования и развития восточнославянского язычества
Часть 21 - ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫЧЕСТВО
Часть 22 - Без заголовка
...
Часть 30 - >Сорванные цветы...
Часть 31 - О писанках..
Часть 32 - Как наши предки почитали деревья
|
Метки: славяне |
Страницы Курской истории |
Страницы Курской истории
КАМЕННЫЙ ВЕК
(100-5 тысяч лет назад)
1. Первые люди появились на территории будущей Курской области около 100
ты-сяч лет назад, в эпоху «Великих оледенений». Это было время гигантских
природных ка-таклизмов, когда ледяной щит покрывал огромные просторы
Евразийского и Американ-ского континентов.
Доходили льды и до современной Курской области, однако, протянувшиеся по
ее западной части отроги Среднерусской возвышенности мешали их
проникновению. Лишь во время самого мощного Днепровского оледенения (200 –
120 000 лет назад) ледяной по-ток прошел по территории современных
Рыльского и Кореневского районов.
Сегодня на территории Курской области ученым известно 7 стоянок
первобытных людей: Авдеевская (Октябрьский район), Пенская (Курчатовский
район), стоянка Быки (ссылка 2) (Курчатовский район), Октябрьское 1 и 2
(Рыльский район), стоянки Курск-1, Курск-2 и Курск-3.
Самым изученным курским памятником каменного века является Авдеевская
верхнепалеолитическая стоянка, расположенная в 28 км от Курска на берегу
р. Рогоз-ны. (рис.40) Существовавшее около 22 – 23 000 лет назад поселение
состояло из семи расположенных по краям жилой площадки жилищ-полуземлянок,
между которыми нахо-дилось еще восемь ям, служивших для хранения
разнообразных пищевых и хозяйствен-ных припасов. На территории стоянки
археологи обнаружили сотни кремневых орудий, изделия из рога, кости и
камня (рис.41)
Основным занятием древних «авдеевцев» была охота. Судя по обнаруженным при
раскопках костям, охотничьей добычей «авдеевцев» были мамонты, шерстистые
носоро-ги, северные олени, лошади, овцебыки, сайгаки, бурые медведи и даже
пещерные львы. Интересно отметить, что кости песца и волка в культурном
слое сохраняют свой анатоми-ческий порядок. Это говорит о том, что их
добывали исключительно ради меха, использо-вавшегося для изготовления
одежды.
Добытые на охоте животные давали первобытным людям мясо для еды, их шкуры
использовались при шитье одежды и постройке жилищ, из сухожилий
изготовляли нити и веревки, а кость использовали как топливо и в качестве
материала для изготовления ору-дий труда, украшений и даже музыкальных
инструментов, подобно обнаруженному при раскопках 30-сантиметровому
обломку флейты из лебединой кости. (рис.39)
2. Судя по материалам раскопок, очень ценились обитателями Авдеевской
стоянки зубы волка, песца и бурого медведя. Их или пришивали к одежде
вместе с разнообразны-ми привесками, или носили на шее в качестве
ожерелий-амулетов. Широкое распростра-нение среди обитателей Авдеевской
стоянки получили и головные обручи, вырезаемые из тонких костяных пластин.
Длина одного из сохранившихся полностью экземпляров – 19 см. На его узких
закругленных концах прорезаны удлиненные продолговатые отверстия, в
которые, вероятно, продевался узкий ремешок, соединявший концы обруча и
удерживав-ший его на голове. Древние косторезы покрывали свои поделки
выразительным орнамен-том в виде рядов коротких поперечных черточек,
косого крестика, клетки, острых углов, которые нередко образуют “елочку”
или зубцами идут вдоль всего края поделки.
3. Из кости же были вырезаны и найденные в Авдеево «палеолитические
Венеры». Как правило, статуэтки «Венер» сделаны по единому художественному
канону – обна-женная женщина со слегка склоненной к груди головой,
непропорционально тонкими, сложенными на животе руками и слегка согнутыми
ногами, с гладкими, без проработки, лицами. (рис.42)
Однако, в 1977 г. ученые нашли в Авдеево статуэтку, имевшую ранее не
встречав-шиеся на Русской равнине особенности. У нее было лицо. Древний
мастер тщательно вы-резал у фигурки глаза, щеки, нос, уши. Имела «Венера»
и прическу – спереди небольшая челка, уши открыты, а волосы забраны назад
и опущены на шею. Причёска передана на-резками, а от правого виска до
мочки уха две резные линии создают ленту с поперечными нарезками внутри,
которую можно рассматривать в качестве пряди волос с вплетёнными
украшениями или нити бус. (рис.43)
По мнению ученых, «Венеры» пользовались особым вниманием обитателей
стоя-нок каменного века и, вероятно, использовались во время проведения
религиозных цере-моний.
Около 16 000 лет назад эпоха «Великих оледенений» заканчивается глобальным
процессом потепления. В результате таяния вечной мерзлоты выделяется
колоссальное количество воды. На водоразделах образуются огромные озера, а
уровень рек повышается в десятки раз. Следы образовавшегося в то время
гигантского русла (макромеандра) Сей-ма, на территории Курского края были
выявлены палеогеографами Института географии РАН у сел Малютино
(Октябрьский район) и Сугрово (Льговский район).
Вместо растаявшего ледника возник лесной гигантский пояс, протянувшийся от
Балтики до Тихого океана. Изменение растительного мира повлекло
исчезновение круп-ных стад копытных животных и привело к дроблению крупных
общин людей на мелкие группы.
4. В мезолите, 10 – 7 тыс. лет назад, основным охотничьим оружием стал
лук, по-зволявший убивать добычу с большого расстояния, сделавший охоту
занятием более безопасным, эффективным и не требующим участия большого
количества людей. Наряду с охотой большое значение приобретает
рыболовство, что подтверждают обнаруженные на стоянках кости рыб, гарпуны,
рыболовные крючки и сетевые грузила. (рис.44, 45)
В эпоху неолита, около 7 тыс. лет назад, люди научились разводить домашних
жи-вотных и выращивать культурные растения, достигли небывалых высот в
обработке камня (сверление, пилка, шлифовка), освоили производство ткани.
Однако важнейшим изобре-тением этого времени стало появление посуды из
обожженной глины. Слепленная от руки посуда была грубой, зачастую плохо и
неровно обожженной, но сразу стала незаменимой в хозяйстве. С ее
появлением впервые создались условия для приготовления достаточного
количества вареной пищи и более надежного сохранения пищевых запасов.
(рис.46)
Ни мезолит (10 – 7000 лет назад), ни неолит (7 – 5000 лет назад) на
территории Курской области практически не изучены, несмотря на то, что в
ходе археологических разведок выявлены десятки памятников неолитической
эпохи. Появление около 5 тысяч лет назад первых медных орудий и украшений
ознаменовало собой окончание “каменного века”. Пришедший ему на смену
энеолит (меднокаменный век) открыл новую эпоху в ис-тории человечества —
эпоху применения металлических сплавов.
КАМЕННЫЙ ВЕК
(100-5 тысяч лет назад)
1. Первые люди появились на территории будущей Курской области около 100
ты-сяч лет назад, в эпоху «Великих оледенений». Это было время гигантских
природных ка-таклизмов, когда ледяной щит покрывал огромные просторы
Евразийского и Американ-ского континентов.
Доходили льды и до современной Курской области, однако, протянувшиеся по
ее западной части отроги Среднерусской возвышенности мешали их
проникновению. Лишь во время самого мощного Днепровского оледенения (200 –
120 000 лет назад) ледяной по-ток прошел по территории современных
Рыльского и Кореневского районов.
Сегодня на территории Курской области ученым известно 7 стоянок
первобытных людей: Авдеевская (Октябрьский район), Пенская (Курчатовский
район), стоянка Быки (ссылка 2) (Курчатовский район), Октябрьское 1 и 2
(Рыльский район), стоянки Курск-1, Курск-2 и Курск-3.
Самым изученным курским памятником каменного века является Авдеевская
верхнепалеолитическая стоянка, расположенная в 28 км от Курска на берегу
р. Рогоз-ны. (рис.40) Существовавшее около 22 – 23 000 лет назад поселение
состояло из семи расположенных по краям жилой площадки жилищ-полуземлянок,
между которыми нахо-дилось еще восемь ям, служивших для хранения
разнообразных пищевых и хозяйствен-ных припасов. На территории стоянки
археологи обнаружили сотни кремневых орудий, изделия из рога, кости и
камня (рис.41)
Основным занятием древних «авдеевцев» была охота. Судя по обнаруженным при
раскопках костям, охотничьей добычей «авдеевцев» были мамонты, шерстистые
носоро-ги, северные олени, лошади, овцебыки, сайгаки, бурые медведи и даже
пещерные львы. Интересно отметить, что кости песца и волка в культурном
слое сохраняют свой анатоми-ческий порядок. Это говорит о том, что их
добывали исключительно ради меха, использо-вавшегося для изготовления
одежды.
Добытые на охоте животные давали первобытным людям мясо для еды, их шкуры
использовались при шитье одежды и постройке жилищ, из сухожилий
изготовляли нити и веревки, а кость использовали как топливо и в качестве
материала для изготовления ору-дий труда, украшений и даже музыкальных
инструментов, подобно обнаруженному при раскопках 30-сантиметровому
обломку флейты из лебединой кости. (рис.39)
2. Судя по материалам раскопок, очень ценились обитателями Авдеевской
стоянки зубы волка, песца и бурого медведя. Их или пришивали к одежде
вместе с разнообразны-ми привесками, или носили на шее в качестве
ожерелий-амулетов. Широкое распростра-нение среди обитателей Авдеевской
стоянки получили и головные обручи, вырезаемые из тонких костяных пластин.
Длина одного из сохранившихся полностью экземпляров – 19 см. На его узких
закругленных концах прорезаны удлиненные продолговатые отверстия, в
которые, вероятно, продевался узкий ремешок, соединявший концы обруча и
удерживав-ший его на голове. Древние косторезы покрывали свои поделки
выразительным орнамен-том в виде рядов коротких поперечных черточек,
косого крестика, клетки, острых углов, которые нередко образуют “елочку”
или зубцами идут вдоль всего края поделки.
3. Из кости же были вырезаны и найденные в Авдеево «палеолитические
Венеры». Как правило, статуэтки «Венер» сделаны по единому художественному
канону – обна-женная женщина со слегка склоненной к груди головой,
непропорционально тонкими, сложенными на животе руками и слегка согнутыми
ногами, с гладкими, без проработки, лицами. (рис.42)
Однако, в 1977 г. ученые нашли в Авдеево статуэтку, имевшую ранее не
встречав-шиеся на Русской равнине особенности. У нее было лицо. Древний
мастер тщательно вы-резал у фигурки глаза, щеки, нос, уши. Имела «Венера»
и прическу – спереди небольшая челка, уши открыты, а волосы забраны назад
и опущены на шею. Причёска передана на-резками, а от правого виска до
мочки уха две резные линии создают ленту с поперечными нарезками внутри,
которую можно рассматривать в качестве пряди волос с вплетёнными
украшениями или нити бус. (рис.43)
По мнению ученых, «Венеры» пользовались особым вниманием обитателей
стоя-нок каменного века и, вероятно, использовались во время проведения
религиозных цере-моний.
Около 16 000 лет назад эпоха «Великих оледенений» заканчивается глобальным
процессом потепления. В результате таяния вечной мерзлоты выделяется
колоссальное количество воды. На водоразделах образуются огромные озера, а
уровень рек повышается в десятки раз. Следы образовавшегося в то время
гигантского русла (макромеандра) Сей-ма, на территории Курского края были
выявлены палеогеографами Института географии РАН у сел Малютино
(Октябрьский район) и Сугрово (Льговский район).
Вместо растаявшего ледника возник лесной гигантский пояс, протянувшийся от
Балтики до Тихого океана. Изменение растительного мира повлекло
исчезновение круп-ных стад копытных животных и привело к дроблению крупных
общин людей на мелкие группы.
4. В мезолите, 10 – 7 тыс. лет назад, основным охотничьим оружием стал
лук, по-зволявший убивать добычу с большого расстояния, сделавший охоту
занятием более безопасным, эффективным и не требующим участия большого
количества людей. Наряду с охотой большое значение приобретает
рыболовство, что подтверждают обнаруженные на стоянках кости рыб, гарпуны,
рыболовные крючки и сетевые грузила. (рис.44, 45)
В эпоху неолита, около 7 тыс. лет назад, люди научились разводить домашних
жи-вотных и выращивать культурные растения, достигли небывалых высот в
обработке камня (сверление, пилка, шлифовка), освоили производство ткани.
Однако важнейшим изобре-тением этого времени стало появление посуды из
обожженной глины. Слепленная от руки посуда была грубой, зачастую плохо и
неровно обожженной, но сразу стала незаменимой в хозяйстве. С ее
появлением впервые создались условия для приготовления достаточного
количества вареной пищи и более надежного сохранения пищевых запасов.
(рис.46)
Ни мезолит (10 – 7000 лет назад), ни неолит (7 – 5000 лет назад) на
территории Курской области практически не изучены, несмотря на то, что в
ходе археологических разведок выявлены десятки памятников неолитической
эпохи. Появление около 5 тысяч лет назад первых медных орудий и украшений
ознаменовало собой окончание “каменного века”. Пришедший ему на смену
энеолит (меднокаменный век) открыл новую эпоху в ис-тории человечества —
эпоху применения металлических сплавов.
Серия сообщений "Курск, Калуга, Рязань, Москва":
Часть 1 - Рыльские князья и Княжение Рюриковичей в Рыльске
Часть 2 - Курский КРАЙ
Часть 3 - Страницы Курской истории
Часть 4 - «Коломна – Любимый Город Дмитрия Донского»
Часть 5 - Москва 1909 года
...
Часть 18 - Сьяновские каменоломни возле Москвы
Часть 19 - как мы искали домик с садом.
Часть 20 - Доселе невиданная церковь / Заброшенные храмы
|
|
Древняя Русь - Вооружение. Кирпичников. |
Древняя Русь - Город, замок, село.
Вооружение
Наука о русских военных древностях имеет точную дату своего рождения. В 1808 г.
недалеко от г. Юрьева-Польского крестьянка Ларионова, находясь в "кустах для
щипания орехов, усмотрела близ орехового куста в кочке что-то светящееся"
(Шлем., 1899, с. 389). Это оказались шлем и кольчуга, не без оснований
приписанные президентом Академии художеств А. Н. Олепиным князю Ярославу
Всеволодовичу, бросившему свои доспехи во время бегства с поля Липицкой битвы
1216 г. Липицкие находки сигнализировали ученым того времени о существовании
особой категории предметов материальной культуры - древнерусского вооружения.
Подавляющее большинство этого относящегося к раннему и зрелому средневековью
вооружения, однако, лишено "именного" владельческого адреса и стало известно в
результате археологических работ. Его изучение неотделимо от накопления и
совершенствования археологических знаний. Важно отметить, что в России рано
появились фундаментальные труды по истории оружия и военного костюма, что
способствовало интенсивному развитию отечественного исторического оружиеведения.
Новые пути изучения военного дела, в том числе и оружия Древней Руси, продолжили
в первую очередь советские археологи (Рыбаков Б. А., 1948а,б; 1969; Арциховский
А. В., 1944; 1946; 1948; Рабинович М. Р., 1947; 1960; Колчин Б. А., 1953;
Медведев А. Ф., 1959а, б; 1966; Корзухина Г. Ф., 1950; Довженок В. И., 1950).
Они обратили внимание на внутренние причины развития военного дела Руси и
рассеяли ряд предубеждений, вызванных отрицанием или незнанием отечественного
ремесла, много сделали для преодоления всякого рода теорий, сводивших развитие
вооружения и тактики боя к одним лишь внешним воздействиям, выяснили социальные
различия в снаряжении смерда и дружинника. Итог этой работы выражен в следующих
справедливых словах: "Русские дружинники X-XIIIвв. были настоящими
профессиональными воинами, не уступавшими по вооружению своим западным
современникам" (Арциховский А. В., 1946, с. 17). К настоящему времени накоплен
большой опыт по научной обработке оружия. В рамках "Свода археологических
источников СССР" по инициативе Б. А. Рыбакова впервые осуществлена полная
публикация предметов вооружения, относящихся к IX - XIII вв., найденных на
территории Древней Руси (Кирпичников А. Н., 1966а; 1966б; 1966в; 1971; 1973а;
Медведев А. В., 1966). Изучались также средства вооружения XIV - XVI вв.
(Арциховский А. В., 1969; Кирпичников А. Н., 1976). Завершение этой работы
позволяет изложить здесь ее некоторые итоги.
За прошедшие 170 лет археология накопила внушительный вещественный материал. В
ходе собирательной работы было просмотрено 30 тыс. курганных комплексов и
составлена картотека комплексов, содержащих вооружение IX - XIV вв. В ней учтено
1300 погребений и 120 поселений. В результате поисков в 40 отечественных и
некоторых зарубежных музеях, архивах и научных учреждениях удалось зафиксировать
и обработать свыше 7000 предметов вооружения и воинского снаряжения, относящихся
к IX - первой половине XIII в. и обнаруженных в более чем 500 населенных
пунктах1*. С созданием документированного каталога находок учет всей массы
найденного на территории Руси вооружения составляет не менее 85 - 90%.
Перечислим здесь эти изделия, найденные в археологических раскопках или
случайно, а также сохранившиеся в музеях и научных учреждениях. Учтены как целые
вещи, так и фрагменты, а именно: 183 меча, 10 скрамасаксов, 5 кинжалов, 150
сабель, 750 наконечников копий, почти 50 наконечников сулиц, 570 боевых топоров
и около 1000 рабочих2*, 100 булав и шестоперов, примерно 130 кистеней. Из
метательного оружия зафиксированы несколько тысяч наконечников стрел, около 50
арбалетных болтов, части сложных луков, колчанов и других принадлежностей для
стрельбы из лука и самострела. Среди защитного вооружения 37 шлемов, 112
кольчуг, части 26 пластинчатых и чешуйчатых доспехов (270 деталей), несколько
таких принадлежностей, как наручи и наколенники, 23 фрагмента щита. Снаряжение
всадника представлено 570 удилами, частями 32 оголовий (7О0 деталей), боевой
конскои маской, остатками 31 седла (130 деталей), 430 стременами, почти 590
шпорами, 50 деталями плеток, многочисленными подпружными пряжками, ледоходными
шипами, подковами и скребницами. Собранные и систематизированные находки
вооружения могут рассматриваться в качестве самостоятельного исторического
источника особой ценности. Достаточно сказать, что по количеству обнаруженных
таких изделий средневековая Россия является одной из самых представительных
стран Европы, и отечественные находки во многих отношениях приобретают
международное научное значение. Соотношения археологически обнаруженных "орудий
войны" неодинаковы и подчас случайны. Их анализ, однако, позволяет заключить,
что в течение почти всего рассматриваемого периода холодное оружие рукопашного
боя (особенно при сопоставлении его с предметами метательной и осадной борьбы)
более всего влияло на результат сражения. Его в системе средств тогдашней войны
можно признать решающим, что продолжалось до тех пор, пока пушки и ружья не
преобразовали весь сложившийся строй средневековой боевой техники.
С момента основания древнерусского государства войско было социально
неоднородным и разноплеменным по составу, что обусловило необходимость сбора и
исследования вооружения, найденного на всей территории Руси, независимо от его
этнической, классовой городской или сельской принадлежности. За находками
оружия, однако, угадываются различные владевшие им слои феодального общества.
Клинковое и защитное вооружение в значительной мере было привилегией
господствующего класса. Городские и сельские ополченцы нередко довольствовались
известным минимумом преимущественно наступательного оружия. Такое разграничение
в первые века русской истории не было абсолютным, и пехотинец из "черных людей"
подчас пользовался шлемом и мечом, а конник - младший дружинник - луком и
стрелами. Независимо от своей социальной принадлежности изделия воинского
снаряжения усовершенствовались, если так можно сказать, в едином темпе не только
в масштабах одной страны, но иногда всего Старого Света. Новые изобретения
проявлялись в первую очередь в составе рыцарского вооружения, где соседствовали
рядовые и уникальные образцы. Что касается простонародного оружия, то его роль
оценивается в зависимости от степени участия в феодальном войске социальных
низов. В течение всего изучаемого периода народ в большей или меньшей степени
участвовал в военных делах и не один раз феодальные вожди обращались к помощи
ополченцев - горожан и крестьян.
Отечественные находки позволяют с большой полнотой представить не только состав
средневекового вооружения, но изучить его возникновение, развитие,
распространение и, насколько это возможно, назначение и боевое использование.
Особое внимание уделено классификации вещественных памятников. Категории
наступательного и защитного вооружения были систематизированы по типам,
хронологии и зонам распространения. В основу выделения типа было положено
сочетание объективных признаков, таких, как форма вещи, ее устройство,
назначение, детали отделки. Результативной оказалась классификация, учитывающая
не только главнейшие признаки изделий, например устройство рабочей части, но и
мелкие, на первый взгляд несущественные детали. Они помогали угадать
производящий центр, дату, установить направление торговых путей. При группировке
типов имелась в виду их взаимосвязь, направление эволюции, нововведения.
Исходя из изменения форм изделий, а также их археологического окружения
оказалось возможным датировать вещи с точностью до 50 лет, а иногда и точнее.
Эволюцию предметов вооружения удается последовательно представить в рамках
частично наслаивающихся друг на друга периодов - IX - начало XI, XI - начало
XII, XII - первая половина XIII и вторая половина XIII - первая половина XIV в.
Эти периоды в какой- то мере соответствуют этапам развития русского общества,
охватывавшим время раннефеодальной монархии в IX - начале XII в. и феодальной
раздробленности, утвердившейся с XII в., но при этом отличаются рядом
особенностей.
О вооружении войска времен первых киевских князей можно судить главным образом
по крупнейшим древнерусским некрополям, где по языческому обряду трупосожжения
(исключения незначительны) похоронены как рядовые воины, так и представители
знати. Концентрация находок совпадает в основном с крупнейшими городскими
центрами (Кие в, Чернигов. Гнездово-Смоленск, Тимирево - Ярославль), лагерями
дружинников (Шестовицы Черниговской обл.), районами активной земледельческой и
торговой деятельности (юго- восточное Приладожье, Суздальское ополье). Многие
курганы X в. дают вооружение профессиональных воинов-дружинников, составлявших
основу правящего класса. В этих погребениях (их учтено 547) оружие является не
этническим, а социальным показателем. Точные подсчеты археологических
комплексов, содержащих предметы вооружения, позволили констатировать
относительно высокую степень военизации общества X в., при которой каждый пятый
- десятый мужчина носил оружие, а также значительную техническую оснащенность
войска, при которой один из трех ратников имел два-три вида оружия.
В сравнении с X в. степень военизации общества к XI столетию уменьшилась в 2 - 3
раза, что, видимо, связано с социальным изменением состава армии и оформлением
замкнутого воинского сословия. Для периода XI - XII вв. большая часть находок
связывается с многочисленными крестьянскими кладбищами лесной и лесостепной
полосы России (учтено 614 погребений). Здесь рядом с курганами смердов
возвышались сравнительно крупные и богатые погребения младших дружинников. В
связи с христианизацией погребения состоятельных воинов исчезают, но остаются
захоронения мужчин с оружием (по обряду трупоположения). Археологические данные
в этот период характеризуют главным образом вооружение рядового дружинника и
простого человека, смерда и горожанина.
В период наступившей феодальной раздробленности, когда войско состояло из
отрядов отдельных князей, бояр и областных ополчений, количество вещественных
источников падает. Целостного представления о вооружении различных социальных
слоев населения этого периода археология не дает. Погребения XII - XIII вв. (их
учтено 144) характеризуют боевое снаряжение населения, проживавшего в некоторых
пограничных районах Руси, например тюркоязычных черных клобуков (Киевская обл.,
ср.: Плетнева С. А., 1973) и водских ополченцев (Ленинградская обл.). Известно
также оружие горожан, погибших при защите русских городов в период
монголо-татарского нашествия 1237 - 1240 гг. Оно позволяет представить пешего
ратника с копьем, топором, луком и стрелами и конного воина с колющим, рубящим и
защитным оружием.
После 1250 г. находки оружия становятся все более редкими, зато встречаются
произведения военного ремесла, сохранявшиеся в составе княжеских и городских
арсеналов. Особое значение приобретает здесь использование сохранившихся
письменных и изобразительных источников.
При всей неравномерности и порой отрывочности археологического материала он
позволяет изучить не только вооружение отдельных частей русского войска
(например, кочевников, осевших на юге Киевщины), но и боевые средства русской
рати в целом. Так, на основании собранных материалов оказалось возможным
установить деление русского войска XI - XIII вв. по роду и виду оружия и
реконструировать снаряжение: тяжеловооруженных всадников и пехотинцев -
копейщиков и легковооруженных всадников и пехотинцев - лучников.
Изменения военной техники IX - XIV вв. очень часто заключались не в изобретении
новых средств борьбы (хотя и это имело место), а в усовершенствовании уже
существующих. Эволюция разных видов вооружения, доспеха и воинского снаряжения
на основании вещественных и других источников представляется следующим образом.
Мечи.
К привилегированному, но широко распространенному оружию принадлежали мечи. В
пределах IX - XIV вв. они подразделяются на две основные группы - каролингские и
романские (табл. 114). Первые, а их найдено более 100, относятся к концу IX -
первой половине XI в. Находки этих клинков сконцентрированы в нескольких
областях Руси: в юго- восточном Приладожье, районах Смоленска, Ярославля,
Новгорода, Киева и Чернигова. Мечи обнаружены, как правило, в крупнейших
курганных могильниках вблизи или на территории важнейших городских центров. Судя
по богатству захоронений клинки принадлежали воинам - дружинникам, купцам,
княжеско-боярской верхушке, иногда состоятельным ремесленникам. Редкость
нахождения мечей в погребениях (равно как и шлемов, доспехов, щитов) не означает
их недостатка в боевой практике, а объясняется иными причинами. Меч как особо
почитаемое и ценное оружие в период раннего феодализма передавали от отца к
сыну, и при наличии наследника он исключался из числа погребальных приношений. В
более поздний период мечи нередко выдавались рядовым дружинникам из
государственных арсеналов, вероятно, только в пожизненное владение. Перейдем к
типологии мечей.
Для классификации клинков IX - XI вв. использована схема Я. Петерсена,
разработанная на норвежском, а точнее, общеевропейском материале. Речь идет о
рукоятях, которые сопоставляются по формам и украшениям. Что касается лезвий
мечей, то они (при общей длине около 1 м) почти одинаковы, относительно широкие
(до 6 - 6,5 см), плоские, с долами (занимающими среднюю треть полосы), слегка
суживающиеся к оконечности. Анализ рукоятей служит, однако, изучению всего
изделия, включая и его клинок. Установлено, что средневековые мастерские большую
часть лезвий выпускали с уже смонтированными навершиями и перекрестьями. В
Европе встречаются, правда, случаи, когда рукояти готовых полос изготовлялись
или переделывались вне стен первоначальной мастерской. Наличие своеобразных
рукоятей может также свидетельствовать о существовании местного клинкового
ремесла, освоившего необходимые технологические операции по ковке холодного
оружия. Таким образом, при помощи типологической схемы Петерсена можно выделить,
во-первых, единообразные серии высококачественных мечей, изготовленных, как
правило, западноевропейскими мастерами, во-вторых, обычно своеобразные по
отделке изделия (или их детали) местной работы.
Сказанное относится и к русским находкам. Часть из них во всех деталях
соответствует общеевропейским образцам и их хронологии, часть же отличается от
последних формой и украшением рукоятей, а также и своей датировкой. Перечислим
здесь встреченные на территории Руси мечи международных типов (табл. 114 - 116)
начиная с древнейших. К ним относятся: клинки с нешироким прямым перекрестьем и
треугольной головкой (типы Б и Н, соответственно вторая половина IX и конец IX -
начало XI в.3*, образцы с массивным навершием и перекрестьем, обложенными
бронзовыми орнаментированными пластинами (тип О, X в.); изделия с трех или
пяти-частной головкой и перекрестьем с расширяющимися концами (тип Я, X - начало
XI в.) и близкие к ним - с навершием, оформленным по бокам условно трактованными
звериными мордами (типы Т-1 и Т-2, X - начало XI в.). Отметим далее экземпляры с
увенчаниями, напоминающими мечи типа Т-2, но снабженные ячеистой орнаментацией
(тип Е, IX - X вв.) или полихромной инкрустацией геометрического рисунка (тип У,
X в.). Рассматриваемую группу завершают мечи с полукруглыми бронзовыми или
железными навершиями и прямыми крестовинами (тип Ъ', X в. и тип X, вторая
половина X - начало XI в.), клинки с седловидным (с возвышением в центре)
набалдашником и изогнутым перекрестьем (тип У, X - начало XI в.) и, наконец,
образцы с изогнутым кверху яблоком и опущенным книзу перекрестьем (тип X, конец
X - начало XI в.).
Для рукоятей мечей упомянутых типов характерны: узоры геометрического рисунка,
выполненные цветными металлами, лентообразные украшения, оформленные чернью и
серебром, ячеистая орнаментация, массивные рельефные бронзовые пластины,
составные из 3-5 деталей (табл. 115, 117, 2). Преобладают мечи нескольких типов
(Н, Я, Е, У), что связано с привозом партий оружия, изготовленного в крупных
мастерских Рейнской области. Каролингское происхождение большинства
рассматриваемых мечей подтвердили не только украшения, но и знаки, и надписи на
их лезвиях (об этом см. ниже). Среди найденных мечей имеются изделия не
обязательно западноевропейской работы судя по их индивидуальной отделке. Таковы
мечи типа 0 с бронзовыми украшениями в скандинавском стиле Borre и клинки с
рукоятями, явно подражающими некоторым эталонным образцам (типы U особый и Z
особый, табл. 114 - 115).
Обращают внимание мечи типов X и X особый, отчасти У. Они демонстрируют, как
около 1000 г. изменились традиционные рукояти франкских клинков. Этим образцам
свойственны не прямые, а изогнутые навершия и перекрестья (табл. 114). Такие
мечи были удобны при конной рубке, так как позволяли более свободно
манипулировать рукой и кистью при ударе. Подобные преобразования европейского
рубящего оружия произошли не без участия Руси. Весьма правдоподобно, что
соприкосновение русской конной дружины с кочевниками, влияние сабельного боя,
самой тактики конной борьбы, наконец, растущее преобладание конницы как главного
рода войск - это и привело к возникновению мечей, приспособленных к
кавалерийскому бою.
Среди найденных на Руси средневековых мечей есть и такие, которые позволяют
предполагать существование в Киевском государстве не только подражательного, но
и вполне самостоятельного отделочно-клинкового ремесла. Таковы пять
сохранившихся фрагментарно мечей, рукояти которых при наличии некоторых
международных черт (например, трехчастное навершие) отличаются выраженным
местным своеобразием формы и декора (тип А местный, табл. 114, 15 - 17; 115, 2 -
3). Им присущи плавные очертания навершия и перекрестья и растительная
орнаментация. Особенно заметно выделяются рукояти мечей из Киева, Карабчиева и
Старой Рязани, отделанные чернью по бронзе. Их с уверенностью можно причислить к
высокохудожественным произведениям киевского оружейного и ювелирнолитейного
ремесла. Производившиеся в Киеве бронзовые детали рукоятей мечей (типа табл.
115, 2, 8) и наконечники ножен, украшенные растительным орнаментом, очевидно,
находили сбыт в землях юго- восточной Прибалтики, Финляндии и Скандинавии.
Тогда, т. е. не позже первой половины XI в., изделия русских оружейников
появились на мировых рынках. Заметим, что число таких находок, еще в древности
оторвавшихся от своей родины и оказавшихся в странах бассейна Балтийского моря,
год от года растет (ср. Koskimies M., 1973, kuva 5). Продолжается их вычленение
в музейных коллекциях.
Среди мечей новых форм, распространившихся в конце X в. в Восточной Европе,
встречены и совсем необычные. Таков образец, найденный в Фощеватой около
Миргорода (в нашей типологии условно назван скандинавским, табл. 115, 1). Его
рукоять состоит из отдельных отлитых из бронзы частей с рельефным изображением
чудовищ в стиле надгробных рунических камней XI в. Место изготовления меча
(точнее, его рукояти) искали в Скандинавии, юго-восточной Прибалтике, однако на
самом деле его правильнее связывать с районом Киева. Дело в том, что на
фощеватском клинке найдено некаролингское клеймо, перевернувшее прежние
представления о древнерусских мечах (см. об этом ниже).
Итак, X - первая половина XI в. характеризуется употреблением мечей в основном
европейских форм, которые начиная примерно с конца X в. были дополнены местными.
В Восточной Европе поиски собственных форм рубящего оружия наиболее сильно
проявились в XI в., отчасти в XII в., что стоит в прямой связи с упрочением ряда
средневековых городов и ростом самостоятельности их оружейного ремесла. Однако
дальнейшее развитие меча в XII - XIV вв., за некоторым исключением, вновь
подчиняется общеевропейскому стандарту. Переходим к так называемым романским
мечам второй половины XI - XIV вв. (табл. 114, 18 - 35). В отечественных
находках их насчитывается 75. Эти клинки в большинстве обнаружены в городах,
погибших во время монголо-татарского нашествия, потеряны на "дорогах войны",
полях сражений, речных переправах. В тех областях Руси, где еще насыпались
курганы, мечи в отличие от предшествующего времени встречены редко.
Мечи второй половины XI - XII в. легче (около 1 кг), иногда короче (доходят до
86 см) и на 0,5 - 1,5 см уже клинков X в. (табл. 118). Такие тяжелые (около 1,5
кг) и сравнительно длинные мечи, как в X в., выходят из употребления. Дол клинка
суживается, превращаясь в узкий желобок. В XII в. технология производства
клинков упрощается, их делают цельностальными; такие мечи назывались
харалужными. Прежние приемы ковки полосы из железных и стальных пластин и
сложноузорчатая сварка постепенно исчезают. На мечах XII - XIII вв. довольно
редко встречаются роскошные украшения, например сплошная платировка серебром.
Навершие рукояти делается не из нескольких, а из одного куска металла. Бронзовые
детали уступают место железным, все реже применяются рельефные орнаменты.
Во второй половине XII и особенно в XIII в. происходит новое утяжеление рубящего
оружия, что обусловлено усилением доспеха. Появляются довольно длинные (до 120
см) и тяжелые (около 2 кг) мечи, которые по этим своим показателям даже
превосходят образцы IX - X вв. (табл. 118). Перекрестье мечей XII - XIII вв.
вытягивается в длину и достигает 18 - - 20 см (обычная длина перекрестья
предшествующего времени 9 - 12 см). Характерная для конца X - XII вв.
искривленная крестовина сменяется прямолинейной. Удобства для захвата рукой
создавались теперь не изогнутостью частей меча, а удлинением стержня рукояти с 9
- 10 см до 12см и больше. Так возникли мечи с полуторными рукоятями, а затем и
двуручные, позволявшие наносить более мощные удары. Первые попытки использования
мечей с захватом в "полторы руки" относятся к домонгольской поре, но их широкое
распространение начинается в XIV в. Отметим, что на Руси еще в середине XIII в.
использовались как тяжелые рыцарские мечи, так и более легкие с полыми деталями
рукоятей. Если первые применялись против тяжеловооруженных латников, то вторые
(наряду с саблями) годились для легкой конницы.
Клинком XII - XIII вв. могли колоть, но основным назначением оставалась рубка.
Поиски оружия, поражающего сквозь самые плотные доспехи, приводят к созданию
примерно в середине и второй половине XIII в. колющего клинка. Таков, в
частности, меч псковского князя Довмонта (табл. 118, 8 и 119, 1) Перед нами
древнейший сохранившийся в Восточной Европе колющий клинок удлиненно-треугольной
формы. Полоса такого устройства свидетельствовала о распространении наборных
доспехов, которые в бою было легче проколоть, чем разрубить. Меч Довмонта,
единственный из сохранившихся доныне древнерусских клинков, имеет свою
"биографию". Так, возможно, именно этим оружием псковский воитель в битве 1272
г. "самого же мастера (магистра.- А.К.) Столбне в лице сам уязви"" (Серебрянский
Н., 1915, прил., с. 152). Колющие клинки, обладая проникающим бронебойным
действием, все же не вытеснили рубящие. В XIV в. в Восточной Европе
использовались крупные мечи (до 140 см длиной) универсального колюще-рубящего
действия. Они снабжались полуторной рукоятью и прямым перекрестьем длиной до 26
см (табл. 118). В связи с вытянутыми пропорциями лезвия они выковывались либо с
трехрядным долом (вместо прежнего однорядного), либо с серединной гранью.
По форме рукояти романские мечи подразделяются на типы, в большинстве восходящие
к более ран- ним образцам (типов Я, X, У, X и X особый, табл. 114). К
традиционным типам относятся мечи с бронзовыми перекрестьем и пятичастным
навершием (тип 1, XII - XIII вв.), изделия с трехчастным бронзовым или железным
набалдашником и обычно несколько изогнутым перекрестьем (тип 11 и 11А,
соответственно XI - XIII и XII вв.), образцы с седловидным увенчанием и
изогнутой крестовиной (тип 111, XII - первая половина XIII в.), мечи с
полукруглой и линзовидной головками и, как правило прямым перекрестьем (типы IV
и У, XII - XIII вв.). К новым типам можно причислить клинки со стержневидным
прямым перекрестьем и дисковидным навершием (тип VI, XII - XIV вв.) и лезвия с
полигональным по очертаниям яблоком и прямой или слегка изогнутой крестовиной
(тип VII, XIII - XIЧ вв.).
Классификация археологического материала показывает, что на Руси в XII - XIII
вв. представлены все типы клинков, известные в то время в Западной и Центральной
Европе (типы 111 - VII). По оснащению войска романскими мечами удельная Русь,
по- видимому, не уступала главным европейским странам, причем преобладание, как
и на западе, получили мечи с дисковидным навершием (тип У1). Устанавливается
эволюция упомянутой детали. В XII в. она колесообразная, в XIII в. головки
получают радиальный двусторонний срез, в конце XIII в. появляются выпуклые по
боковым сторонам диски без среза. Поэлементный анализ частей меча и данном
случае необходим для уточнения его даты. Характерно, что полуторные, а затем и
двуручные клинки снабжены деталями новых для своего времени романских мечей
(типы У1, VII, отчасти У). На- ряду с общеевропейскими формами на Руси
использовались мечи с пяти - трехчастными навершиями, вероятно, частично
местного восточноевропейского происхождения (типы 1 и особенно 11). Возможно,
мечи с бронзовыми деталями рукоятей (или только рукояти, табл. 117, 1)
вывозились из русских городов в юго-восточную Прибалтику и Волжскую Болгарию.
102 клинка конца IX - XIII в. из числа найденных на территории Древней Руси,
Латвии и Волжской Болгарии в 1963 - 1964 гг. были подвергнуты специальной
расчистке4* и на 76 из них обнаружены ранее неизвестные ремесленные клейма,
различные начертания и дамаскировка (Кирпичников А. Н., 1966в, с. 249 - 298). О
месте происхождения того или иного меча судили по его отделке и украшениям. Ныне
же оказалось, что прямой ответ на этот вопрос часто дают надписи на самих вещах.
На 25 изученных мечах конца IX - начала XI в. обнаружены имена
западноевропейских оружейников, работавших в районах Рейна и Дуная. Перечислим
их: Ulfberht, Ingelrii-ingelred, Cerolt, Ulen, Leutlrit, Lun (табл. 120).
Некоторые из этих имен встречены многократно, другие открыты впервые. Мы
получили возможность судить о работе древних мечедельцев, узнав их продукцию.
Наиболее крупной была мастерская Ulfberh'а. До сего дня в европейских коллекциях
зарегистрировано не менее 125 мечей с этой, очевидно, семейной маркой. Можно
предполагать, что в древности эти лезвия расходились сотнями, если не тысячами.
В производстве клинков существовала, видимо, значительная основанная на
"конвейерном" разделении труда концентрация рабочих сил и технических
достижений, далеко опережающих свое время. Несмотря на торговые запреты,
франкские клинки проникали в значительно удаленные районы Европы, в том числе к
норманам, финнам и русским.
Наряду с мастерскими, подписывавшими свои изделия, существовали и такие, которые
клеймили лезвия всякого рода знаками несложного геометрического рисунка (табл.
120). На 10 обследованных клинках оказались кресты, круги, спирали, полумесяцы.
Эти знаки, несомненно, имели не только маркировочное, но и магическое значение,
они символизировали огонь, солнце, возможно, отвращали злых духов. Где
изготовлялись эти "безбуквенные" изделия? Багдадский философ IX в. ал-Кинди -
автор единственного в своем роде трактата о мечах всего мира, писал, что у
франкских мечей в верхней части находятся кресты, круги и полумесяцы. Перечень
знаков поразительно совпал с теми, которые были открыты на некоторых клинках,
найденных на территории Древней Руси. Таким образом, родиной этих вещей, так же
как и подписанных, был франкский запад.
Происхождение остальных как клейменых, так и "чистых" полос IX - XI вв. неясно.
Среди последних следует упомянуть меч X в. из Гнездова со стилизованным
изображением человека (табл. 120, 8). О такого рода клейме писал ал-Бируни,
указывая, что стоимость меча с изображением человека выше стоимости лучшего
слона (ал-Бируни, с. 238). Приведенное высказывание иллюстрирует не индийское
происхождение гнездовского меча, а международную распространенность некоторых
сюжетов клеймения холодного оружия. Не явились ли результатом подражания
подписным те из исследованных нами два меча, у которых буквы превратились в
орнаментальный повторяющийся значок? Не исключено, что объектом копирования
языческих кузнецов могли также стать полосы с символическими знаками.
К произведениям нелокализованных мастерских относятся семь клинков с
дамаскированным узором. Для европейской металлургии X в. техника сложноузорчатой
сварки была в основном уже пройденным этапом. Тогда сварочный дамаск стали
употреблять только для надписей. Дамаскированные мечи в.- отзвук уже уходящей
технической традиции. Не случайно дамаскировка присуща всем трем нашим
древнейшим мечам IX в., относящимся к типу В.
64% мечей IX - XI вв. судя по их метам указывают на каролингские мастерские.
Между тем, как писалось выше, около 1000 г. на смену общеевропейским все
настойчивее выдвигались местные формы рубящего оружия. Касалось ли это только
рукоятей мечей или и их лезвий?
Клеймо, начертанное уставными кирилловскими буквами, неожиданно открытое на
упоминавшемся выше мече из Фощеватой (на Полтавщине), наконец, прояснило этот
вопрос. Надпись обнаружилась в верхней трети дола клинка, она двухсторонняя и
наведена инкрустированной в металл дамаскированной проволокой. Техника ее
исполнения не отличается от известных каролингских мечей X в. На одной стороне
полосы можно прочесть имя мастера Людота или Людоша, на другой слово "коваль"
(т. е. кузнец). Надпись явно не владельческая, а производственная. Полученная на
основании лингвистического, типологического и искусствоведческого анализа дата
меча показала, что он сделан не позднее первой половины XI в. Подпись клинка
является древнейшей сохранившейся русской надписью на оружии и металле вообще и
передает старейшее дошедшее до нас имя ремесленника (табл. 120, 6). Судя по этой
надписи на Руси существовала специализированная оружейная мастерская задолго до
того, как об этом сообщают письменные источники. Рукоять фощеватовского меча,
отделанная в орнаментальном стиле надгробных рунических камней XI в., дала повод
считать сам меч едва ли не единственным бесспорно скандинавским из числа
найденных на Руси. Ныне же оказалось, что мы имеем дело с изделием, подписанным
грамотным русским мечедельцем. Собственным клеймом он обозначил свою продукцию,
значит, по отношению к привозной она была вполне "конкурентоспособной" (Nadolski
A., 1974, я. 28 - 29). После Каролингской империи Киевское государство оказалось
второй страной Европы, где изготовлялись собственные подписные мечи. Без
преувеличения можно сказать, что никогда ранее археология не получала такого
прямого и убедительного свидетельства существования на Руси эпохи князей
Владимира и Ярослава столь высокоорганизованного и специализированного ремесла.
Обнаружение русского клинка, однако, не отрицает того, что в X и в XII - XIII
вв. в Восточной Европе преобладали привозные каролингские, а затем романские
мечи. Большинство подписей на мечах романской эпохи, в том числе и выявленных
автором, представляют подписи ремесленников (Etcelin, Ingelrii), "пробирные"
марки и особенно латинские сокращения.
Особое внимание привлекают клейма, которые состоят из сложных сокращений (далее
эти надписи именуем сокращенными). Такие клейма употреблялись длительное время и
отличались большим разнообразием. Наряду с древнерусскими материалами здесь
рассматриваются также клейма на мечах, найденных на территории Прибалтики.
Включение в данный обзор прибалтийских материалов обусловлено тем, что они, так
же как и древнерусские, являются предметами импорта и характеризуют торговые
связи единого географического региона.
Полный учет сокращенных надписей европейских мечей позволил впервые после
швейцарского ученого Вегели (в его распоряжении в начале XX в. было столько
клейм, сколько известно ныне в одной нашей стране) разработать для них новую
классификацию, отражающую более полно развитие клинковой эпиграфики на
протяжении пяти веков. Наша классификация надписей исходит из общего их
содержания, а также из формул, терминология и сложность которых претерпевали в
развитии большие изменения. Важен также учет палеографических данных и
орнамента.
Комплекс признаков, лежащих в основе классификации, в отдельных случаях сужает
датировки, установленные по типологии мечей. При отсутствии навершия и
крестовины клинка исследование надписей может оказаться единственным способом
установить время его изготовления.
Вместе с тем наличие массового материала, создающего возможности для сравнения,
позволяет выработать систему прочтения клейм, а раскрытие их содержания
существенно для уточнения хронологии. Со времени Вегели делались попытки
прочтения отдельных надписей, однако прежние исследования обнаруживают
недостаточное внимание к изучению форм букв. Это обстоятельство, как и понимание
надписей почти всегда как строго инициальных, закрыло путь к пониманию клейм.
Итак, знание форм букв и сокращений -исходная палеографическая основа
исследования.
Необходимым также представляется учет фразеологии современных источников, в
частности касательно титулования бога, богоматери и пр., что особенно полно
раскрывается в церковных службах. Литургия была в значительной мере источником
средневековых надписей, и в ней можно обнаружить также истоки мечевой
эпиграфики.
Литургические источники клинковой эпиграфики не исключают ее оригинальности,
которая не очень обнадеживает в деле идентификации текстов. И все же элементы
последней уже налицо. Они дают подтверждение правильности раскрытия клейм.
Раскрытию клейм помогают некоторые частные наблюдения и особенности начертания.
Так, в ряде случаев удается разбить надпись на четкие составные части, подметить
искусственную их расстановку. В других -клеймо на одной стороне меча находит
продолжение на другой. Наконец, большое значение имеет уяснение элемента ne, что
позволяет проникнуть в общий характер надписей.
Все многообразие надписей делится на два типа в зависимости от основной идеи их
составителя. Иногда он хотел нанести на меч один или несколько священных
терминов. В таком случае надпись получала значение словесного символа. Чаще в
клеймах отражено посвящение клинка богу, богородице, кресту. Тогда надпись
выступает как одна или несколько посвятительных формул (при этом иногда
добавлялись символы). Простота символов, связанная к тому же с первыми шагами
словесного клеймения, заставляет обратить внимание на них в первую очередь.
Перейдем к краткой характеристике групп надписей (табл. А и табл. 121, 122).
I. Надписи-сигли. Каждый вид состоит всегда только из одного слова, которое
передается сиглем. Иногда надпись-сигль многократно повторяется на одном и том
же клинке.
Содержание почти всех сиглей, рассматриваемых изолированно, поддавалось бы
раскрытию с большим трудом. Взятые в совокупности, они рельефно отражают
определенный арсенал религиозной терминологии. Значение трех сиглей,
раскрываемое в надписях (X-Christus, I-Iesus, О-omnipotens), можно считать
широко распространенным. Оно объединяется одной темой, подсказывающей содержание
остальных сиглей: А-altissimus(Всевышний), R-re- (demptor (Искупитель),
S-Salvator (Спаситель).
Чтение шести сиглей -ключ, который помотает в решении пространных надписей, так
как эти сигли оказываются костяком большинства остальных клейм. Хронология: 1) в
ранний период клинковой эпиграфики (IX - XI вв.) получил особое распространение
лишь вид X 3; 2) после XII в. 1 группа сравнительно редка; 3) многократное
использование клейма-сигля (особенно более двух раз) на одной и той же стороне
клинка появилось начиная в основном с XII в.
II. Сложные символы. Каждый вид -результат сочетания как рассмотренных, так и
других букв. Идея сочетаний та же, что и надписей-сиглей, но во второй группе
символы получили усложнение путем добавления к основному термину приложений и
определений или соединения равносильных терминов. Хронология: некоторое число
видов группы относится к IX - XII вв., но широкое их употребление приходится на
XIII - XIV вв. Тем самым символы XIII - XIV вв. выступают как вторая после
надписей- сиглей ступень развития символов. Этот вывод делается на основе
изучения подгрупп, на которые распадается 11 группа (из-за недостатка места
вопрос о подгруппах -а они часто имеют четкую хронологическую квалификацию - в
очерке почти полностью опускается).
III. Простейшие формулы. Начиная с этой группы, все надписи в основных частях
имеют характер посвятительных формул. Установление построения и смысла
посвятительных формул облегчено наличием несокращенной надписи "in nomine
domini" (во имя господа). Однако для их раскрытия требовалось выяснить
сокращение служебного выражения формулы: ne-nomine - in nomine (во имя).
Особенно замечательны клейма: 9 - найденное на мече при раскопках Изяславля, оно
получает узкую датировку; X 13 - надпись на мече из Люмадского могильника на о.
Саарема, известном памятнике искусства, ее графика, получившая новое толкование,
позволяет сузить хронологию на целый век. Хронология: возникнув в архаический
период, простейшие формулы получают особое распространение в XII - начале XIII
в., но затем идут на убыль.
IV. Группа "in". Начиная с этой группы, происходит усложнение построения формул,
сопровождающееся увеличением пространности надписей. Признак группы - начальное
сочетание "in", которое является аббревиатурой служебного выражения (in nomine)
или его началом (предлогом).
Интерес среди рассматриваемых видов представляет X 1, дающий пример перехода от
именного клеймения к сокращенным надписям. Хронология: все виды группы
отличаются архаическими чертами (выражение "innomine", центрическое построение
части текста, эпиграфические признаки) и датируются XI - XII вв.
V. Группа "benedic". Виды обычно начинаются со слова, давшего группе
наименование и входящего в формулы освящения мечей. Важность этих давно изданных
формул для понимания клинковой эпиграфики отметил немецкий палеограф В. Эрбен,
но в его время (начало XX в.) были известны лишь два плохо воспроизведенных
вида. Теперь во фразеологии надписей У группы определенно устанавливается основа
в виде формул освящения мечей. Хронология узкая: вторая половина XII - первая
четверть XIII в. Тем самым группа знаменует собой переход от сложных клейм 1V
группы к длинным клеймам XIII - XIV вв.
VI. В противоположность остальным группам она объединяет разные по содержанию
виды. Для них связующим началом, кроме хронологии, является чаще умеренная еще
сложность формул и сохранение остатков терминологии IV группы. Среди наших видов
замечателен X 5 - надпись на Преображенском мече из-под Новосибирска (Дрбоглав
Д. А., Кирпичников А. Н., 1981). Группа имеет такое же переходное значение, что
и У группа. Хронология обычно близкая; последняя четверть XII - первая половина
XIII в.
VII. Группа "ned". Группа установлена Вегели и названа так по характерному
сочетанию, которое может заменяться равнозначными ("nd" и др.). С VII группы
начинается расцвет сложных клейм, которые одновременно часто имеют пространный
вид. Клеймо на мече из-под Макарецкой дачи на Черниговщине привлекает внимание
тем, что это одна из самых длинных надписей (# 8). Хронология: все виды группы
времени ее расцвета относятся к середине XIII в.
VIII. Группа "nr". Показательно сочетание "nr" ( "nomine redemptoris").
Хронология: характерные виды относятся ко второй половине XIII - первой четверти
XIV в.
IX. Группа "dig-dic. Группа установлена Вегели и хорошо известна по западным
находкам. Разграничение конечных букв двух сочетаний, давших наименование
группе, делалось в схемах клейм небрежно, хотя смысл сочетаний несомненно должен
быть разным. Учитывая последнее обстоятельство, группу можно разбить на три
подгруппы: "A", где встречается только сочетание "dig" (почти всегда "sdig");
"В", где в каждом виде оба сочетания; "С", где только сочетание "dic". Все виды
датируются повидимому, в рамках последней четверти XIII - первой половины XIV в.
Будучи, возможно, частично современной VIII группе, IX группа оказывается
несколько долговечнее ее. С исчезновением IX группы в середине или конце XIV в.
прекращается практика наносить на мечи сокращенные надписи.
* * *
Клейма, выявленные на средневековых мечах, подтвердив общеевропейское единство в
развитии средневекового рубящего оружия, свидетельствуют о существовании крупных
клинковых "фабрик" и налаженной торговле мечами, они же устанавливают
деятельность местных мастеров, оформлявших привозные лезвия своими рукоятями и
ковавших собственные клинки.
Несколько слов о выполнении самих клейм. На изделиях X в. надписи и знаки
инкрустировались в верхней трети клинка дамаскированной или железной проволокой.
Для этого в разогретой полосе штамповались канавки, в них укладывалась кусочками
проволока (длиной в среднем до 25 мм), которая затем проковывалась и сваривалась
с железной или стальной основой при температуре приблизительно 1300o С. При
последующей полировке и протравке начертания выделялись на зеркале металла.
Около середины XII в. имена мастеров на клинках начинают исчезать и появляются
религиозные надписи и изображения, наведенные не железом, а цветными и
благородными металлами. Во второй половине XIП в. величина клейма уменьшилась,
оно часто наносилось уже не на дол, а на грань колющего лезвия. Поэтому с
середины XIII в. кузнецы, отказавшись от изречений, стали проставлять марку в
виде изображений волка, единорога, быка. К таковым относится, например,
пассауский "волчок", выполненный, как это видно по мечу князя Довмонта, точечной
инкрустацией желтым металлом.
Сабля.
Широкое внедрение сабли, в первую очередь в лесостепной полосе, стало возможным
в связи с выдвижением конницы как главного рода войска. Отметим здесь особые
боевые свойства этого оружия. Благодаря изгибу полосы и наклону рукояти в
сторону лезвия, сабля обладает рубяще-режущим действием. Удар имеет круговой
характер, он получается скользящим и захватывает значительную поверхность тела.
Применение сабли предоставляет воину-коннику большую маневренность в движениях,
позволявшую дальше и вернее достать противника. В регионах с сильной пехотой и
малоподвижными строями применение сабли было ограничено. Для пехотинца более
удобным был меч. Он лучше, чем сабля, был приспособлен для целей
тяжеловооруженной борьбы. Длительное соседство меча и сабли отражало не только
тактические и технические различия военного дела Запада и Востока, но и
необходимость успешного противоборства русских со степным противником его же
оружием. Если в XI - первой половине XIII в. сабля использовалась в основном в
южнорусских районах, то в XIV в. под военным давлением Золотой Орды зона ее
применения отодвинулась значительно севернее, включив Псков и Новгород. Южнее
Москвы боец того времени явно предпочитал саблю прямому клинку. В конце XV
столетия сабли вытеснили мечи почти повсеместно..
Первые дошедшие до нас русские сабли (17 из 150 относящихся к X - XIII вв.)
датируются X - первой половиной XI столетия. Их преимущественно находят в
курганах князей, бояр и дружинников в южных районах Руси, вблизи границы со
степью, Начиная со второй половины XI в. искривленные клинки встречаются не
только на юге страны, но и в Минске, Новгороде, Суздальском ополье. Почти
половина всех находок того времени происходит из курганов Киевского Поросья, т.
е. с территории, где обитали федераты киевских князей - черные клобуки.
Типология сабель, как и мечей, основана на изменении нескольких взаимосвязанных
частей оружия. клинок X - первой половины XI в., достигающий 1 м, к XII - XIII
вв. удлиняется на 0 - 17 см. Одновременно увеличивается кривизна полосы
(измеряемая в наивысшей точке изгиба) с 3 - 4,5 см (X - первая половина XI в.)
до 4,5 - 5,5 см и даже 7 см (вторая половина XI - XIII в.). Ширина клинка,
первоначально равная 3 - 3,7 см, достигает в XII - XIII вв. 4,4 см (в среднем
3,5 - 3,8 см). Таким образом, трехвековая эволюция сабельной полосы про-
исходила в сторону удлинения, большего изгиба и некоторого увеличения веса
(табл. 123). Что касается сабель XIV в., то они отличались равномерной плавной
кривизной, что больше сближало их с формами XIII, чем XVI в. При длине 110 - 119
см и ширине лезвия 3,5 см выгиб их полосы составлял 6,5 - 9 см. Все отмеченные
изменения с наибольшей полнотой прослеживаются на русском материале, однако
свойственны они и саблям печенегов, половцев и венгров. Можно, таким образом,
говорить об определенном единстве развития данного оружия в Восточной и отчасти
Центральной Европе в период средневековья.
Навершия сабельных рукоятей уплощенно-цилиндрической формы очень утилитарны (тип
1, X - XIII вв., табл. 124, 5 - 11). Более характерны увенчания грушевидной
формы. Обнаруженные в аланских и венгерских древностях, они в отечественных
находках не встречаются позже первой половины XI в. (тип 11, табл. 124).
Самым подвижным, типологически и хронологически изменчивым элементом сабли была
гарда (табл. 124). Таковы древнейшие из них прямые или слегка изогнутые, с
шарообразными увенчаниями на концах (типы 1, 1А, 1Б, X - XI вв.). Некоторые (тип
1Б) отливались из бронзы, несомненно, в Среднем Поднепровье. В XI - XIII вв.
наиболее популярными были прямые перекрестья с ромбическим расширением в средней
части (тип 11). Благодаря щиткообразным расширениям гарда приобретала большую
прочность на излом при повреждении, а также более надежно соединялась с рукоятью
и плотнее удерживала надетые ножны. В XII - первой половине XIII в. возникают
перекрестья, концы которых или несколько опущены, или, расширяясь, переходят в
дисковидные или овальные увенчания (тип 11А, 11Б). При таком устройстве гарды
вражеский удар, с какого бы направления он не приходился, не мог соскользнуть на
рукоять и таким образом оказывался как бы "запертым" со всех сторон. Несколько
иначе предохраняла руку гарда с боковым защитным мысиком и круглым
стержневидным, как у романского меча, перекрестием (тип 111). Можно усмотреть
здесь влияние меча на саблю. Хронологически это явление можно приурочить к XIII
в., когда ' замечается утяжеление сабли и развивается массивность ее отдельных
частей.
В XIV - XV вв. форма гард все более унифицируется, эволюционно они восходят к
наиболее распространенному перекрестью (типа 11) домонгольской эпохи. Именно в
тот период, т. е. в XII - первой половине XIII в., в первую очередь в
южнорусских городах, происходило усовершенствование сабельного эфеса, отражавшее
общевосточноевропейские поиски, что, возможно, способствовало проникновению
подобных новинок даже к таким разборчивым ценителям искривленного холодного
оружия, как степняки. Во всяком случае сабли, найденные в черноклобуцких
курганах 1150 - 1240 гг., совершенно не отличаются от обнаруженных в русских
городах (табл. 123). В отличие от мечей сабли редко украшались, что затрудняет
определение их этнической принадлежности. Основания для этого дают лишь
отдельные орнаментированные растительным орнаментом образцы. Судя по этим
клинкам собственное их производство началось не позже первой половины XI в.
Корни этой самостоятельности уходят еще в X в., в эпоху великого подъема Руси,
когда ковались собственные мечи. Отечественные ремесленники наряду с венграми
приняли, очевидно, участие в изготовлении шедевра оружейного ремесла так
называемой сабли Карла Великого, ставшей позднее церемониальной инсигнией
Священной Римской империи (табл. 117, 8-4; Кирпичников А. Н., 1965, с. 268 -
276). Изукрашенные "золоченые" сабли продолжали ковать на Руси и в XII - XIII
вв. Об этом свидетельствует полоса первой половины XIII и., обнаруженная при
раскопках древнего Изяславля. На ней расчищены орнаментальные клейма,
удостоверяющие ее местную южнорусскую выделку (табл. 123, б).
Копье.
Главнейшим оружием ближнего боя было копье. С выдвижением конницы в качестве
основного рода раннефеодального войска оно стало важнейшим наступательным
средством. Кавалерийские копья вплоть до середины XV в. использовались при
конных атаках и сшибках всадников в качестве оружия первого натиска). В отличие
от мечей и сабель копья (равно как и боевые топоры) принадлежали к несравненно
более распространенному оружию. Они встречаются повсеместно, особенно много их в
погребениях на территории северной Руси, относящихся к X - XIII вв. Длина древка
копья приближалась к росту человека, но кавалерийские могли достигать 3 м.
Наконечники копий, как правило, лишены индивидуальных украшений. Их
сопоставление осуществлялось на основании формы пера. Однотипные предметы
объединены в группу "сквозного" хронологического развития в рамках IX - XIV вв.
Перечислим эти классифицированные изделия с указанием их главных особенностей
(табл. 125 - 126).
Копья с пером ланцетовидной формы (тип 1, 900 - 1050 гг.). Около 1000 г. эти
наконечники, достигавшие в длину 40 см, уменьшаются, а их втулка расширяется с
2,5 до 3 см и удлиняется. Распространены у многих народов Европы времени
викингов. Наконечники с пером ромбической формы (тип 11, IX - начала XI в.)
длиной до 30 см, шириной лезвия около 3 см для русского орудия X в.
нехарактерны, так как их основное развитие относится к У1 - VIII вв. Наконечники
копий с относительно широким пером удлиненно-треугольной формы (тип 111, IX -
XIV вв.). Плечики (могут быть несколько подняты или опущены) всегда ясно
выражены. Обычная длина 20 - 40 см, ширина 3 - 5 см, диаметр втулки около 3 см.
Подобные наконечники восходят к общеславянским прототипам, а в рассматриваемый
период встречаются в курганах дружинников, но почти нигде не преобладают среди
других форм. Зато эти образцы типичны для многочисленных деревенских курганов
центральной и северной Руси XI в. Объясняется это тем, что данное оружие,
по-видимому, служило не только как боевое, но и как охотничье. Копья описанного
типа имеют разновидности. У одной из них (типа 111А, табл. 125) скошены плечики,
что позволило удлинить лезвие до 38 - 45 см почти без увеличения его веса.
Другая (типа 111Б) отличается узким (1,5 - 3 см) длинным пером (до 50 - 60 см).
Наконечники типа 111Б, судя по находкам, относятся скорее к боевому, чем к
охотничьему оружию. Эволюция листовидного копья ко все более узкому и длинному в
период широкого распространения кольчатой и пластинчатой брони вполне
закономерна.
Копья с пером продолговато-яйцевидной формы (тип IV, XI - XII вв.). Большая
часть этих образцов уверенно относится к XI в. и выявлена в северной Руси.
Появление подобных наконечников в Новгородской земле, по-видимому, как-то
связано с влиянием эстонских, латвийских и других прибалтийских образцов. В XII
в. распространяются наконечники лавролистной формы (тип IVА, XII - XIII вв.).
Криволинейный изгиб края их лезвия отличается большой плавностью и симметрией.
Возникновение этих массивных наконечников с плавно заостренным пером
свидетельствует об увеличении прочности и ударной мощи орудия, в данном случае
имеющего собственное наименование - рогатина. Среди древнерусских копий, даже
достигающих длины 40 - 50 см и ширины лезвия 5 - 6 см, нет более тяжелых (вес
около 700 - 1000 г, вес обычного копья 200 - 240 г.) мощных и широких
наконечников, чем рогатины. Форма и размеры домонгольских рогатин удивительным
образом совпали с одноименными образцами XV - XVII вв., что позволило опознать и
выделить их среди археологического материала. При ударе такое копье могло
выдержать без поломки большое напряжение. Рогатиной, конечно, можно было пробить
самый мощный доспех, но пользоваться в бою, особенно в конной схватке,
вследствие ее тяжести, вероятно, было неудобно. Судя по украшениям, рогатина
иногда использовалась для парадных церемоний, что не мешает определить ее как
преимущественно пехотное, а иногда и охотничье оружие.
Копье с пером в виде четырехгранного стержня и воронковидной втулкой (тип. У,- X
- XVII вв.). Типичные размеры: длина 15 - 30 см, ширина пера 1,5 см, диаметр
втулки 3 см. Происхождение этого копья указывает на области степного
юго-востока, но уже для X в. нет оснований считать эти пики исключительно
кочевническим оружием, они распространены от Молдавии до Приладожья. В XII -
XIII вв. уже ни один тип копья не имел столь явного преобладания, какое получили
пики. В этот период они составляют половину всех находок. В предмонгольское
время пика приобретает совершенную форму, которая уже не изменяется до конца
средневековья. Изумляет абсолютное сходство домонгольских пик с образцами XVII
в. Очевидно, одна и та же форма была порождена одинаковыми условиями борьбы -
усилением доспеха и активизацией конных стычек. Пика использовалась в качестве
боевого оружия, рассчитанного главным образом на эффективное пробивание
металлического доспеха. Можно предположить, что впервые в истории древнерусского
колющего оружия приблизительно в XII в. бронебойные пики выделяются как
специально кавалерийские копья.
Копья с пером вытянуто-треугольной формы и черешком вместо втулки (тип XI, IX -
XI вв.). Форма лезвия не отличается от обычных листовидных копий типа 111, реже
типа IV. Черешковые копья происходят из районов, где находились чудские племена
(юго-восточное Приладожье, западная часть Ленинградской области, Муромщина). В
составе русского оружия они случайны и после XI в., по-видимому, выходят из
употребления. Копья с лезвием в виде двух расходящихся в сторону шипов (тип VII,
IX - XIII вв.). Двушипные копья (их название - гарпуны) - в основном охотничье
оружие, и в этом отношении они не отличаются от двушипных стрел. Археологические
образцы типовых форм приведены в табл. 126.
Типология наконечников копий способствует пониманию развития этого орудия в
целом. Русь не была родиной какой-либо формы копья, но здесь использовались
совершенные для своего времени образцы, возникшие на Западе (тип 1) и Востоке
(тип У) в сочетании с общеславянскими наконечниками (тип 111). Основными были
копья с ланцетовидными, удлиненно-треугольными и пиковидными наконечниками (типы
1, 111, 111А, 111Б, У). В количественном отношении они составляют 80% всех
находок. Роль копий этих типов была неодинаковой. Если в X в. существовали три
ведущие формы наконечников - ланцетовидная, удлиненно- треугольная и пиковидная,
то начиная с XII в. выделяются узколезвийные (типы 111Б и У) образцы, получившие
решительное преобладание среди других наконечников. Находки узколезвийных
бронебойных копий указывают на распространение тяжелого доспеха. Удар таким
наконечником достигался самим движением всадника - он стремился таранить своего
противника. Для сравнения отметим, что в IX - XI вв. укол осуществлялся взмахом
протянутой руки. Применение "копьевого тарана" связано с усилением защиты
всадника и сопровождалось изменением его верховой посадки на галопе (упор
прямыми ногами в стремена). Возникновение мощного напора при ударе копьем
отразилось на усилении его деревянной части. Типичным для X в. являлось древко
толщиной 2,5 см, в XII - XIII вв. оно утолстилось до 3,5 см.
Кроме военных целей, использовались копья и для промыслов. Специфически
охотничьими являлись гарпуны (тип VII) и отчасти рогатины (тип IVА).
Универсальными по своему назначению были, очевидно, листовидные и ромбовидные
образцы (типы 11, 111, 111А, IV, У1). Однако в целом развитие древкового
колющего оружия следовало по пути усиления боевой направленности и изживания
первоначальной множественности его форм.
Копье в средневековом войске предполагает наличие хорошо обученных бойцов,
сражающихся в правильных тактических построениях. С XI в. на Руси выделились
отряды копейщиков. Они представляли силу, специально предназначенную для
нападения и завязывания решительного сражения. Использование копий, таким
образом, точно отражало определенную, действовавшую вплоть до середины XV в.
систему ведения кавалерийского боя. По копьям велся счет войску. Возможно, что
уже в домонгольское время "копьями" обозначались старшие дружинники со своими
отроками (Рыбаков Б. А., 1948б, с. 404). Верная характеристика военному копью
была дана в конце средневековья, когда его выдающаяся роль была уже позади: "И
то годно ведати, как в старину, когда пушек и пороху и всякого огнестрельного
бою не было, лучше и краше и рыцарственнее копейного оружия не бывало и тем
великую силу против конных и пеших людей чинили" (Учение, 1904, с. 108). В
качестве вспомогательного средства поражения в бою и на промысле использовались
метательные дротики - сулицы. В зрелом средневековье популярность сулиц
возросла, что объяснялось удобством их использования в условиях пересеченной
местности и в момент сближения ратей и в рукопашной схватке и в преследовании.
Больше всего известно наконечников сулиц удлиненно-треугольной формы, но
встречаются ромбовидные и лавролистные. Длина их составляла 15 - 20 см, а вместе
с древком 1,2 - 1,5 м. Таким образом, сулица по своим размерам - нечто среднее
между копьем и стрелой.
Топоры.
Большинство известных боевых топоров следует, по-видимому, причислить к оружию
пешего ратника. В истории боевого топора скрещиваются две противоречивые
тенденции. Господство конницы низводило его до уровня плебейского оружия, но
усовершенствование доспехов и усиление пехоты снова выдвигало топор в качестве
популярного средства ведения боя. В отличие от пехоты у всадника употребление
всякого рода топориков, особенно чеканов, хотя и имело место, но было
ограниченно. Это оружие пускали в ход во время затяжного кавалерийского боя,
превращавшегося в тесную схватку отдельных групп бойцов, когда длинное древковое
оружие мешало борьбе.
На территории Древней Руси найдено около 1600 топоров. Они подразделяются на три
группы: 1) специально боевые топорики-молотки (чеканы), топорики с украшениями,
характерные по конструкции и небольшие по размеру; 2) секиры, похожие на
производственные топоры, но миниатюрнее последних; эти последние использовались
в военных целях как универсальный инструмент похода и боя; 3) тяжелые и
массивные рабочие топоры на войне, видимо, употреблялись редко. Обычные размеры
топоров первых двух групп: длина лезвия 9 - 15 см, ширина до 10 - 12 см, диаметр
обушного отверстия 2 - 3 см, вес до 450 (чеканы весят 200 - 350 г). Для
сравнения укажем размеры рабочих топоров: длина 15 - 22 см (чаще 17 - 18 см),
ширина лезвия 9 - 14 см, диаметр втулки 3 - 4,5 см, обычный вес 600 - 800.
Военные топоры носили в походах при себе, что и отразилось на уменьшении их веса
и размера. Что же касается конструкции оружия, то именно развитие рабочих
топоров во многих случаях определило эволюцию и устройство боевых. Иногда можно
спорить о назначении того или иного топора, ибо он служил ратнику для самых
разнообразных целей. Неудивительно поэтому, что в захоронениях воинов
встречаются топоры группы 2, которые могли выполнять различные походные функции.
Остановимся кратко на классификации первых двух упомянутых групп, представляющих
численно примерно треть всех учтенных находок (табл. 127 128). К специально
боевым образцам относятся прежде всего чеканы, тыльная сторона их обуха снабжена
молоточком. Лезвия чеканов либо продолговато-треугольной формы (тип 1, X - XIV
вв.), либо с полулунной выемкой (тип 1А X - начало XI в.). Исключительно
"военное" значение можно признать за узколезвийными небольшими топориками с
вырезным обухом и боковыми мысовидными отростками -щекавицами (тип 111, X - XII
вв.). Можно предполагать русское происхождение этих топориков,
распространившихся затем в ряде европейских областей. Характерно, что именно
среди топориков рассмотренных типов встречаются отделанные всякого рода
украшениями, в том числе и сюжетного характера (табл. 128 - Корзухина Г. Ф.,
1966, с. 89 и сл.).
Отметим далее топоры, сочетающие в себе свойства оружия и орудия. Универсально-
походным образцам всегда соответствуют точно такие же по формам рабочие.
Занимаясь классификацией боевых секир, мы одновременно получили почти полную
классификацию рабочих форм. Здесь коснемся только первых. К самым массовым по
числу находок принадлежат топоры с оттянутым вниз лезвием, двумя парами боковых
щекавиц и удлиненным вырезным обухом (типа IV, Х - XII вв.). Широкому
распространению этих топоров способствовала совершенная конструкция (коэффициент
полезного действия приближается к единице) и надежное устройство обуха. К XII в.
производство описанных изделий упрощается: исчезают щекавицы, а тыльная сторона
обуха снабжается отходящими в стороны мысообразными выступами.
Характерной особенностью следующей группы секир "с выемкой и опущенным лезвием"
является прямая верхняя грань и боковые щекавицы только с нижней стороны обуха
(тип У, X - первая половина XIII в.). Наибольшее скопление этих изделий
отмечается на севере Руси, особенно в курганах юго-восточного Приладожья. Форма
связана с Северной Европой и по распространению и развитию может считаться
финско-русской. В XIII - XIV вв. распространяются топоры с трубковидным обухом
(разновидность А типа У). Географически и хронологически топоры этого типа не
находятся в непосредственной связи с предшествующими, в крестьянском быту
сохранились в Западной Украине и Молдавии до наших дней. Последними среди
бородовидных секир выступают образцы с двумя парами боковых щекавиц (тип У1,
конец X - XI в.).
К совершенно особой группе принадлежат секиры с широким симметрично расходящимся
лезвием (тип VII, X - XIII вв.). Около 1000 г. они распространены на всем Севере
Европы. Боевое использование таких секир англосаксонской и норманской пехотной
увековечено на ковровой вышивке из Байе (1066 - 1082 гг.). Судя по этой вышивке,
длина древка топора равна примерно метру или несколько больше. На Руси эти
топоры в основном типичны для северных районов, при этом некоторые найдены в
крестьянских курганах. В заключение назовем топоры с относительно узким лезвием
(тип VIII, X - XI вв.). Они относительно редки, встречены в основном в
юго-восточном Приладожье и на Муромщине. Модифицированная форма этих топоров XII
- XV вв. характеризуется отсутствием щекавиц и затыльником, вытянутым вдоль
топорища (разновидность А типа VIII, XII - XIII вв.). В этих образцах нет
удорожающих конструктивных деталей. Из данной формы в XIV в. разовьются
рубяще-дробящие секиры с треугольным и трапециевидным лезвием, а также
топоры-булавы (Кирпичников А. Н., 1976, табл. 11, 4 и IV, 4 - Б).
Ознакомившись с типологией боевых топоров, можно заключить, что их
усовершенствование шло в основном по линии создания лезвия, рассчитанного на
проникающий удар, и все более простого (без каких-либо фигурных вырезов) и
надежного в скреплении с топорищем проушного отверстия. Наряду с топорами
ведущих форм в областях северной и отчасти центральной Руси встречаются образцы,
имеющие локально-географическое распространение. Тенденция к единообразию в
производстве топоров (как это отмечалось и для копий) усиливается к XII
столетию. Если в X - начале XI в. топоры представлены во всем разнообразии своих
форм, то в XII - XIII вв. типичными становятся чеканы и бородовидные секиры.
На основании археологического материала можно представить следующие этапы
боевого применения топоров в древней Руси. В X в. в связи с важнейшим значением
пешей рати топор являлся распространенным оружием. В XI - XIII вв. в связи с
возрастающей ролью конницы военное применение топора снижается, хотя он
по-прежнему остается массовым пехотным оружием. Борьба с тяжеловооруженными
рыцарями в XIV в. вновь выдвинула топор в качестве необходимого ударно-дробящего
оружия.
Булавы (табл. 129 - 130).
Судя по тому, что на Руси существовали мастера по отливке булав и кистеней,
ударное оружие служило ратнику важным подспорьем. Булавой пользовались пехотинцы
и конники в рукопашной схватке, когда требовалось нанести быстрый удар в любом
направлении.
В русском войске булавы проявлялись в XI в. как юго-восточное заимствование. Их
собирательное древнерусское наименование -кий. К числу древнейших русских
находок относятся навершия (чаще железные, чем бронзовые) в форме куба с
четырьмя крестообразно расположенными шипами (тип 1, XI в.). Модификацией этой
формы являются железные булавы в форме куба со срезанными углами (тип 11).
Булавы с такими навершиями, составляющие почти половину всех находок - весьма
дешевое и, вероятно, широко доступное оружие рядовых воинов: горожан и крестьян.
В XVII в. булавы этой формы - знак царской власти.
Своего расцвета производство булав достигло в XII - XIII вв., когда появились
бронзов
Вооружение
Наука о русских военных древностях имеет точную дату своего рождения. В 1808 г.
недалеко от г. Юрьева-Польского крестьянка Ларионова, находясь в "кустах для
щипания орехов, усмотрела близ орехового куста в кочке что-то светящееся"
(Шлем., 1899, с. 389). Это оказались шлем и кольчуга, не без оснований
приписанные президентом Академии художеств А. Н. Олепиным князю Ярославу
Всеволодовичу, бросившему свои доспехи во время бегства с поля Липицкой битвы
1216 г. Липицкие находки сигнализировали ученым того времени о существовании
особой категории предметов материальной культуры - древнерусского вооружения.
Подавляющее большинство этого относящегося к раннему и зрелому средневековью
вооружения, однако, лишено "именного" владельческого адреса и стало известно в
результате археологических работ. Его изучение неотделимо от накопления и
совершенствования археологических знаний. Важно отметить, что в России рано
появились фундаментальные труды по истории оружия и военного костюма, что
способствовало интенсивному развитию отечественного исторического оружиеведения.
Новые пути изучения военного дела, в том числе и оружия Древней Руси, продолжили
в первую очередь советские археологи (Рыбаков Б. А., 1948а,б; 1969; Арциховский
А. В., 1944; 1946; 1948; Рабинович М. Р., 1947; 1960; Колчин Б. А., 1953;
Медведев А. Ф., 1959а, б; 1966; Корзухина Г. Ф., 1950; Довженок В. И., 1950).
Они обратили внимание на внутренние причины развития военного дела Руси и
рассеяли ряд предубеждений, вызванных отрицанием или незнанием отечественного
ремесла, много сделали для преодоления всякого рода теорий, сводивших развитие
вооружения и тактики боя к одним лишь внешним воздействиям, выяснили социальные
различия в снаряжении смерда и дружинника. Итог этой работы выражен в следующих
справедливых словах: "Русские дружинники X-XIIIвв. были настоящими
профессиональными воинами, не уступавшими по вооружению своим западным
современникам" (Арциховский А. В., 1946, с. 17). К настоящему времени накоплен
большой опыт по научной обработке оружия. В рамках "Свода археологических
источников СССР" по инициативе Б. А. Рыбакова впервые осуществлена полная
публикация предметов вооружения, относящихся к IX - XIII вв., найденных на
территории Древней Руси (Кирпичников А. Н., 1966а; 1966б; 1966в; 1971; 1973а;
Медведев А. В., 1966). Изучались также средства вооружения XIV - XVI вв.
(Арциховский А. В., 1969; Кирпичников А. Н., 1976). Завершение этой работы
позволяет изложить здесь ее некоторые итоги.
За прошедшие 170 лет археология накопила внушительный вещественный материал. В
ходе собирательной работы было просмотрено 30 тыс. курганных комплексов и
составлена картотека комплексов, содержащих вооружение IX - XIV вв. В ней учтено
1300 погребений и 120 поселений. В результате поисков в 40 отечественных и
некоторых зарубежных музеях, архивах и научных учреждениях удалось зафиксировать
и обработать свыше 7000 предметов вооружения и воинского снаряжения, относящихся
к IX - первой половине XIII в. и обнаруженных в более чем 500 населенных
пунктах1*. С созданием документированного каталога находок учет всей массы
найденного на территории Руси вооружения составляет не менее 85 - 90%.
Перечислим здесь эти изделия, найденные в археологических раскопках или
случайно, а также сохранившиеся в музеях и научных учреждениях. Учтены как целые
вещи, так и фрагменты, а именно: 183 меча, 10 скрамасаксов, 5 кинжалов, 150
сабель, 750 наконечников копий, почти 50 наконечников сулиц, 570 боевых топоров
и около 1000 рабочих2*, 100 булав и шестоперов, примерно 130 кистеней. Из
метательного оружия зафиксированы несколько тысяч наконечников стрел, около 50
арбалетных болтов, части сложных луков, колчанов и других принадлежностей для
стрельбы из лука и самострела. Среди защитного вооружения 37 шлемов, 112
кольчуг, части 26 пластинчатых и чешуйчатых доспехов (270 деталей), несколько
таких принадлежностей, как наручи и наколенники, 23 фрагмента щита. Снаряжение
всадника представлено 570 удилами, частями 32 оголовий (7О0 деталей), боевой
конскои маской, остатками 31 седла (130 деталей), 430 стременами, почти 590
шпорами, 50 деталями плеток, многочисленными подпружными пряжками, ледоходными
шипами, подковами и скребницами. Собранные и систематизированные находки
вооружения могут рассматриваться в качестве самостоятельного исторического
источника особой ценности. Достаточно сказать, что по количеству обнаруженных
таких изделий средневековая Россия является одной из самых представительных
стран Европы, и отечественные находки во многих отношениях приобретают
международное научное значение. Соотношения археологически обнаруженных "орудий
войны" неодинаковы и подчас случайны. Их анализ, однако, позволяет заключить,
что в течение почти всего рассматриваемого периода холодное оружие рукопашного
боя (особенно при сопоставлении его с предметами метательной и осадной борьбы)
более всего влияло на результат сражения. Его в системе средств тогдашней войны
можно признать решающим, что продолжалось до тех пор, пока пушки и ружья не
преобразовали весь сложившийся строй средневековой боевой техники.
С момента основания древнерусского государства войско было социально
неоднородным и разноплеменным по составу, что обусловило необходимость сбора и
исследования вооружения, найденного на всей территории Руси, независимо от его
этнической, классовой городской или сельской принадлежности. За находками
оружия, однако, угадываются различные владевшие им слои феодального общества.
Клинковое и защитное вооружение в значительной мере было привилегией
господствующего класса. Городские и сельские ополченцы нередко довольствовались
известным минимумом преимущественно наступательного оружия. Такое разграничение
в первые века русской истории не было абсолютным, и пехотинец из "черных людей"
подчас пользовался шлемом и мечом, а конник - младший дружинник - луком и
стрелами. Независимо от своей социальной принадлежности изделия воинского
снаряжения усовершенствовались, если так можно сказать, в едином темпе не только
в масштабах одной страны, но иногда всего Старого Света. Новые изобретения
проявлялись в первую очередь в составе рыцарского вооружения, где соседствовали
рядовые и уникальные образцы. Что касается простонародного оружия, то его роль
оценивается в зависимости от степени участия в феодальном войске социальных
низов. В течение всего изучаемого периода народ в большей или меньшей степени
участвовал в военных делах и не один раз феодальные вожди обращались к помощи
ополченцев - горожан и крестьян.
Отечественные находки позволяют с большой полнотой представить не только состав
средневекового вооружения, но изучить его возникновение, развитие,
распространение и, насколько это возможно, назначение и боевое использование.
Особое внимание уделено классификации вещественных памятников. Категории
наступательного и защитного вооружения были систематизированы по типам,
хронологии и зонам распространения. В основу выделения типа было положено
сочетание объективных признаков, таких, как форма вещи, ее устройство,
назначение, детали отделки. Результативной оказалась классификация, учитывающая
не только главнейшие признаки изделий, например устройство рабочей части, но и
мелкие, на первый взгляд несущественные детали. Они помогали угадать
производящий центр, дату, установить направление торговых путей. При группировке
типов имелась в виду их взаимосвязь, направление эволюции, нововведения.
Исходя из изменения форм изделий, а также их археологического окружения
оказалось возможным датировать вещи с точностью до 50 лет, а иногда и точнее.
Эволюцию предметов вооружения удается последовательно представить в рамках
частично наслаивающихся друг на друга периодов - IX - начало XI, XI - начало
XII, XII - первая половина XIII и вторая половина XIII - первая половина XIV в.
Эти периоды в какой- то мере соответствуют этапам развития русского общества,
охватывавшим время раннефеодальной монархии в IX - начале XII в. и феодальной
раздробленности, утвердившейся с XII в., но при этом отличаются рядом
особенностей.
О вооружении войска времен первых киевских князей можно судить главным образом
по крупнейшим древнерусским некрополям, где по языческому обряду трупосожжения
(исключения незначительны) похоронены как рядовые воины, так и представители
знати. Концентрация находок совпадает в основном с крупнейшими городскими
центрами (Кие в, Чернигов. Гнездово-Смоленск, Тимирево - Ярославль), лагерями
дружинников (Шестовицы Черниговской обл.), районами активной земледельческой и
торговой деятельности (юго- восточное Приладожье, Суздальское ополье). Многие
курганы X в. дают вооружение профессиональных воинов-дружинников, составлявших
основу правящего класса. В этих погребениях (их учтено 547) оружие является не
этническим, а социальным показателем. Точные подсчеты археологических
комплексов, содержащих предметы вооружения, позволили констатировать
относительно высокую степень военизации общества X в., при которой каждый пятый
- десятый мужчина носил оружие, а также значительную техническую оснащенность
войска, при которой один из трех ратников имел два-три вида оружия.
В сравнении с X в. степень военизации общества к XI столетию уменьшилась в 2 - 3
раза, что, видимо, связано с социальным изменением состава армии и оформлением
замкнутого воинского сословия. Для периода XI - XII вв. большая часть находок
связывается с многочисленными крестьянскими кладбищами лесной и лесостепной
полосы России (учтено 614 погребений). Здесь рядом с курганами смердов
возвышались сравнительно крупные и богатые погребения младших дружинников. В
связи с христианизацией погребения состоятельных воинов исчезают, но остаются
захоронения мужчин с оружием (по обряду трупоположения). Археологические данные
в этот период характеризуют главным образом вооружение рядового дружинника и
простого человека, смерда и горожанина.
В период наступившей феодальной раздробленности, когда войско состояло из
отрядов отдельных князей, бояр и областных ополчений, количество вещественных
источников падает. Целостного представления о вооружении различных социальных
слоев населения этого периода археология не дает. Погребения XII - XIII вв. (их
учтено 144) характеризуют боевое снаряжение населения, проживавшего в некоторых
пограничных районах Руси, например тюркоязычных черных клобуков (Киевская обл.,
ср.: Плетнева С. А., 1973) и водских ополченцев (Ленинградская обл.). Известно
также оружие горожан, погибших при защите русских городов в период
монголо-татарского нашествия 1237 - 1240 гг. Оно позволяет представить пешего
ратника с копьем, топором, луком и стрелами и конного воина с колющим, рубящим и
защитным оружием.
После 1250 г. находки оружия становятся все более редкими, зато встречаются
произведения военного ремесла, сохранявшиеся в составе княжеских и городских
арсеналов. Особое значение приобретает здесь использование сохранившихся
письменных и изобразительных источников.
При всей неравномерности и порой отрывочности археологического материала он
позволяет изучить не только вооружение отдельных частей русского войска
(например, кочевников, осевших на юге Киевщины), но и боевые средства русской
рати в целом. Так, на основании собранных материалов оказалось возможным
установить деление русского войска XI - XIII вв. по роду и виду оружия и
реконструировать снаряжение: тяжеловооруженных всадников и пехотинцев -
копейщиков и легковооруженных всадников и пехотинцев - лучников.
Изменения военной техники IX - XIV вв. очень часто заключались не в изобретении
новых средств борьбы (хотя и это имело место), а в усовершенствовании уже
существующих. Эволюция разных видов вооружения, доспеха и воинского снаряжения
на основании вещественных и других источников представляется следующим образом.
Мечи.
К привилегированному, но широко распространенному оружию принадлежали мечи. В
пределах IX - XIV вв. они подразделяются на две основные группы - каролингские и
романские (табл. 114). Первые, а их найдено более 100, относятся к концу IX -
первой половине XI в. Находки этих клинков сконцентрированы в нескольких
областях Руси: в юго- восточном Приладожье, районах Смоленска, Ярославля,
Новгорода, Киева и Чернигова. Мечи обнаружены, как правило, в крупнейших
курганных могильниках вблизи или на территории важнейших городских центров. Судя
по богатству захоронений клинки принадлежали воинам - дружинникам, купцам,
княжеско-боярской верхушке, иногда состоятельным ремесленникам. Редкость
нахождения мечей в погребениях (равно как и шлемов, доспехов, щитов) не означает
их недостатка в боевой практике, а объясняется иными причинами. Меч как особо
почитаемое и ценное оружие в период раннего феодализма передавали от отца к
сыну, и при наличии наследника он исключался из числа погребальных приношений. В
более поздний период мечи нередко выдавались рядовым дружинникам из
государственных арсеналов, вероятно, только в пожизненное владение. Перейдем к
типологии мечей.
Для классификации клинков IX - XI вв. использована схема Я. Петерсена,
разработанная на норвежском, а точнее, общеевропейском материале. Речь идет о
рукоятях, которые сопоставляются по формам и украшениям. Что касается лезвий
мечей, то они (при общей длине около 1 м) почти одинаковы, относительно широкие
(до 6 - 6,5 см), плоские, с долами (занимающими среднюю треть полосы), слегка
суживающиеся к оконечности. Анализ рукоятей служит, однако, изучению всего
изделия, включая и его клинок. Установлено, что средневековые мастерские большую
часть лезвий выпускали с уже смонтированными навершиями и перекрестьями. В
Европе встречаются, правда, случаи, когда рукояти готовых полос изготовлялись
или переделывались вне стен первоначальной мастерской. Наличие своеобразных
рукоятей может также свидетельствовать о существовании местного клинкового
ремесла, освоившего необходимые технологические операции по ковке холодного
оружия. Таким образом, при помощи типологической схемы Петерсена можно выделить,
во-первых, единообразные серии высококачественных мечей, изготовленных, как
правило, западноевропейскими мастерами, во-вторых, обычно своеобразные по
отделке изделия (или их детали) местной работы.
Сказанное относится и к русским находкам. Часть из них во всех деталях
соответствует общеевропейским образцам и их хронологии, часть же отличается от
последних формой и украшением рукоятей, а также и своей датировкой. Перечислим
здесь встреченные на территории Руси мечи международных типов (табл. 114 - 116)
начиная с древнейших. К ним относятся: клинки с нешироким прямым перекрестьем и
треугольной головкой (типы Б и Н, соответственно вторая половина IX и конец IX -
начало XI в.3*, образцы с массивным навершием и перекрестьем, обложенными
бронзовыми орнаментированными пластинами (тип О, X в.); изделия с трех или
пяти-частной головкой и перекрестьем с расширяющимися концами (тип Я, X - начало
XI в.) и близкие к ним - с навершием, оформленным по бокам условно трактованными
звериными мордами (типы Т-1 и Т-2, X - начало XI в.). Отметим далее экземпляры с
увенчаниями, напоминающими мечи типа Т-2, но снабженные ячеистой орнаментацией
(тип Е, IX - X вв.) или полихромной инкрустацией геометрического рисунка (тип У,
X в.). Рассматриваемую группу завершают мечи с полукруглыми бронзовыми или
железными навершиями и прямыми крестовинами (тип Ъ', X в. и тип X, вторая
половина X - начало XI в.), клинки с седловидным (с возвышением в центре)
набалдашником и изогнутым перекрестьем (тип У, X - начало XI в.) и, наконец,
образцы с изогнутым кверху яблоком и опущенным книзу перекрестьем (тип X, конец
X - начало XI в.).
Для рукоятей мечей упомянутых типов характерны: узоры геометрического рисунка,
выполненные цветными металлами, лентообразные украшения, оформленные чернью и
серебром, ячеистая орнаментация, массивные рельефные бронзовые пластины,
составные из 3-5 деталей (табл. 115, 117, 2). Преобладают мечи нескольких типов
(Н, Я, Е, У), что связано с привозом партий оружия, изготовленного в крупных
мастерских Рейнской области. Каролингское происхождение большинства
рассматриваемых мечей подтвердили не только украшения, но и знаки, и надписи на
их лезвиях (об этом см. ниже). Среди найденных мечей имеются изделия не
обязательно западноевропейской работы судя по их индивидуальной отделке. Таковы
мечи типа 0 с бронзовыми украшениями в скандинавском стиле Borre и клинки с
рукоятями, явно подражающими некоторым эталонным образцам (типы U особый и Z
особый, табл. 114 - 115).
Обращают внимание мечи типов X и X особый, отчасти У. Они демонстрируют, как
около 1000 г. изменились традиционные рукояти франкских клинков. Этим образцам
свойственны не прямые, а изогнутые навершия и перекрестья (табл. 114). Такие
мечи были удобны при конной рубке, так как позволяли более свободно
манипулировать рукой и кистью при ударе. Подобные преобразования европейского
рубящего оружия произошли не без участия Руси. Весьма правдоподобно, что
соприкосновение русской конной дружины с кочевниками, влияние сабельного боя,
самой тактики конной борьбы, наконец, растущее преобладание конницы как главного
рода войск - это и привело к возникновению мечей, приспособленных к
кавалерийскому бою.
Среди найденных на Руси средневековых мечей есть и такие, которые позволяют
предполагать существование в Киевском государстве не только подражательного, но
и вполне самостоятельного отделочно-клинкового ремесла. Таковы пять
сохранившихся фрагментарно мечей, рукояти которых при наличии некоторых
международных черт (например, трехчастное навершие) отличаются выраженным
местным своеобразием формы и декора (тип А местный, табл. 114, 15 - 17; 115, 2 -
3). Им присущи плавные очертания навершия и перекрестья и растительная
орнаментация. Особенно заметно выделяются рукояти мечей из Киева, Карабчиева и
Старой Рязани, отделанные чернью по бронзе. Их с уверенностью можно причислить к
высокохудожественным произведениям киевского оружейного и ювелирнолитейного
ремесла. Производившиеся в Киеве бронзовые детали рукоятей мечей (типа табл.
115, 2, 8) и наконечники ножен, украшенные растительным орнаментом, очевидно,
находили сбыт в землях юго- восточной Прибалтики, Финляндии и Скандинавии.
Тогда, т. е. не позже первой половины XI в., изделия русских оружейников
появились на мировых рынках. Заметим, что число таких находок, еще в древности
оторвавшихся от своей родины и оказавшихся в странах бассейна Балтийского моря,
год от года растет (ср. Koskimies M., 1973, kuva 5). Продолжается их вычленение
в музейных коллекциях.
Среди мечей новых форм, распространившихся в конце X в. в Восточной Европе,
встречены и совсем необычные. Таков образец, найденный в Фощеватой около
Миргорода (в нашей типологии условно назван скандинавским, табл. 115, 1). Его
рукоять состоит из отдельных отлитых из бронзы частей с рельефным изображением
чудовищ в стиле надгробных рунических камней XI в. Место изготовления меча
(точнее, его рукояти) искали в Скандинавии, юго-восточной Прибалтике, однако на
самом деле его правильнее связывать с районом Киева. Дело в том, что на
фощеватском клинке найдено некаролингское клеймо, перевернувшее прежние
представления о древнерусских мечах (см. об этом ниже).
Итак, X - первая половина XI в. характеризуется употреблением мечей в основном
европейских форм, которые начиная примерно с конца X в. были дополнены местными.
В Восточной Европе поиски собственных форм рубящего оружия наиболее сильно
проявились в XI в., отчасти в XII в., что стоит в прямой связи с упрочением ряда
средневековых городов и ростом самостоятельности их оружейного ремесла. Однако
дальнейшее развитие меча в XII - XIV вв., за некоторым исключением, вновь
подчиняется общеевропейскому стандарту. Переходим к так называемым романским
мечам второй половины XI - XIV вв. (табл. 114, 18 - 35). В отечественных
находках их насчитывается 75. Эти клинки в большинстве обнаружены в городах,
погибших во время монголо-татарского нашествия, потеряны на "дорогах войны",
полях сражений, речных переправах. В тех областях Руси, где еще насыпались
курганы, мечи в отличие от предшествующего времени встречены редко.
Мечи второй половины XI - XII в. легче (около 1 кг), иногда короче (доходят до
86 см) и на 0,5 - 1,5 см уже клинков X в. (табл. 118). Такие тяжелые (около 1,5
кг) и сравнительно длинные мечи, как в X в., выходят из употребления. Дол клинка
суживается, превращаясь в узкий желобок. В XII в. технология производства
клинков упрощается, их делают цельностальными; такие мечи назывались
харалужными. Прежние приемы ковки полосы из железных и стальных пластин и
сложноузорчатая сварка постепенно исчезают. На мечах XII - XIII вв. довольно
редко встречаются роскошные украшения, например сплошная платировка серебром.
Навершие рукояти делается не из нескольких, а из одного куска металла. Бронзовые
детали уступают место железным, все реже применяются рельефные орнаменты.
Во второй половине XII и особенно в XIII в. происходит новое утяжеление рубящего
оружия, что обусловлено усилением доспеха. Появляются довольно длинные (до 120
см) и тяжелые (около 2 кг) мечи, которые по этим своим показателям даже
превосходят образцы IX - X вв. (табл. 118). Перекрестье мечей XII - XIII вв.
вытягивается в длину и достигает 18 - - 20 см (обычная длина перекрестья
предшествующего времени 9 - 12 см). Характерная для конца X - XII вв.
искривленная крестовина сменяется прямолинейной. Удобства для захвата рукой
создавались теперь не изогнутостью частей меча, а удлинением стержня рукояти с 9
- 10 см до 12см и больше. Так возникли мечи с полуторными рукоятями, а затем и
двуручные, позволявшие наносить более мощные удары. Первые попытки использования
мечей с захватом в "полторы руки" относятся к домонгольской поре, но их широкое
распространение начинается в XIV в. Отметим, что на Руси еще в середине XIII в.
использовались как тяжелые рыцарские мечи, так и более легкие с полыми деталями
рукоятей. Если первые применялись против тяжеловооруженных латников, то вторые
(наряду с саблями) годились для легкой конницы.
Клинком XII - XIII вв. могли колоть, но основным назначением оставалась рубка.
Поиски оружия, поражающего сквозь самые плотные доспехи, приводят к созданию
примерно в середине и второй половине XIII в. колющего клинка. Таков, в
частности, меч псковского князя Довмонта (табл. 118, 8 и 119, 1) Перед нами
древнейший сохранившийся в Восточной Европе колющий клинок удлиненно-треугольной
формы. Полоса такого устройства свидетельствовала о распространении наборных
доспехов, которые в бою было легче проколоть, чем разрубить. Меч Довмонта,
единственный из сохранившихся доныне древнерусских клинков, имеет свою
"биографию". Так, возможно, именно этим оружием псковский воитель в битве 1272
г. "самого же мастера (магистра.- А.К.) Столбне в лице сам уязви"" (Серебрянский
Н., 1915, прил., с. 152). Колющие клинки, обладая проникающим бронебойным
действием, все же не вытеснили рубящие. В XIV в. в Восточной Европе
использовались крупные мечи (до 140 см длиной) универсального колюще-рубящего
действия. Они снабжались полуторной рукоятью и прямым перекрестьем длиной до 26
см (табл. 118). В связи с вытянутыми пропорциями лезвия они выковывались либо с
трехрядным долом (вместо прежнего однорядного), либо с серединной гранью.
По форме рукояти романские мечи подразделяются на типы, в большинстве восходящие
к более ран- ним образцам (типов Я, X, У, X и X особый, табл. 114). К
традиционным типам относятся мечи с бронзовыми перекрестьем и пятичастным
навершием (тип 1, XII - XIII вв.), изделия с трехчастным бронзовым или железным
набалдашником и обычно несколько изогнутым перекрестьем (тип 11 и 11А,
соответственно XI - XIII и XII вв.), образцы с седловидным увенчанием и
изогнутой крестовиной (тип 111, XII - первая половина XIII в.), мечи с
полукруглой и линзовидной головками и, как правило прямым перекрестьем (типы IV
и У, XII - XIII вв.). К новым типам можно причислить клинки со стержневидным
прямым перекрестьем и дисковидным навершием (тип VI, XII - XIV вв.) и лезвия с
полигональным по очертаниям яблоком и прямой или слегка изогнутой крестовиной
(тип VII, XIII - XIЧ вв.).
Классификация археологического материала показывает, что на Руси в XII - XIII
вв. представлены все типы клинков, известные в то время в Западной и Центральной
Европе (типы 111 - VII). По оснащению войска романскими мечами удельная Русь,
по- видимому, не уступала главным европейским странам, причем преобладание, как
и на западе, получили мечи с дисковидным навершием (тип У1). Устанавливается
эволюция упомянутой детали. В XII в. она колесообразная, в XIII в. головки
получают радиальный двусторонний срез, в конце XIII в. появляются выпуклые по
боковым сторонам диски без среза. Поэлементный анализ частей меча и данном
случае необходим для уточнения его даты. Характерно, что полуторные, а затем и
двуручные клинки снабжены деталями новых для своего времени романских мечей
(типы У1, VII, отчасти У). На- ряду с общеевропейскими формами на Руси
использовались мечи с пяти - трехчастными навершиями, вероятно, частично
местного восточноевропейского происхождения (типы 1 и особенно 11). Возможно,
мечи с бронзовыми деталями рукоятей (или только рукояти, табл. 117, 1)
вывозились из русских городов в юго-восточную Прибалтику и Волжскую Болгарию.
102 клинка конца IX - XIII в. из числа найденных на территории Древней Руси,
Латвии и Волжской Болгарии в 1963 - 1964 гг. были подвергнуты специальной
расчистке4* и на 76 из них обнаружены ранее неизвестные ремесленные клейма,
различные начертания и дамаскировка (Кирпичников А. Н., 1966в, с. 249 - 298). О
месте происхождения того или иного меча судили по его отделке и украшениям. Ныне
же оказалось, что прямой ответ на этот вопрос часто дают надписи на самих вещах.
На 25 изученных мечах конца IX - начала XI в. обнаружены имена
западноевропейских оружейников, работавших в районах Рейна и Дуная. Перечислим
их: Ulfberht, Ingelrii-ingelred, Cerolt, Ulen, Leutlrit, Lun (табл. 120).
Некоторые из этих имен встречены многократно, другие открыты впервые. Мы
получили возможность судить о работе древних мечедельцев, узнав их продукцию.
Наиболее крупной была мастерская Ulfberh'а. До сего дня в европейских коллекциях
зарегистрировано не менее 125 мечей с этой, очевидно, семейной маркой. Можно
предполагать, что в древности эти лезвия расходились сотнями, если не тысячами.
В производстве клинков существовала, видимо, значительная основанная на
"конвейерном" разделении труда концентрация рабочих сил и технических
достижений, далеко опережающих свое время. Несмотря на торговые запреты,
франкские клинки проникали в значительно удаленные районы Европы, в том числе к
норманам, финнам и русским.
Наряду с мастерскими, подписывавшими свои изделия, существовали и такие, которые
клеймили лезвия всякого рода знаками несложного геометрического рисунка (табл.
120). На 10 обследованных клинках оказались кресты, круги, спирали, полумесяцы.
Эти знаки, несомненно, имели не только маркировочное, но и магическое значение,
они символизировали огонь, солнце, возможно, отвращали злых духов. Где
изготовлялись эти "безбуквенные" изделия? Багдадский философ IX в. ал-Кинди -
автор единственного в своем роде трактата о мечах всего мира, писал, что у
франкских мечей в верхней части находятся кресты, круги и полумесяцы. Перечень
знаков поразительно совпал с теми, которые были открыты на некоторых клинках,
найденных на территории Древней Руси. Таким образом, родиной этих вещей, так же
как и подписанных, был франкский запад.
Происхождение остальных как клейменых, так и "чистых" полос IX - XI вв. неясно.
Среди последних следует упомянуть меч X в. из Гнездова со стилизованным
изображением человека (табл. 120, 8). О такого рода клейме писал ал-Бируни,
указывая, что стоимость меча с изображением человека выше стоимости лучшего
слона (ал-Бируни, с. 238). Приведенное высказывание иллюстрирует не индийское
происхождение гнездовского меча, а международную распространенность некоторых
сюжетов клеймения холодного оружия. Не явились ли результатом подражания
подписным те из исследованных нами два меча, у которых буквы превратились в
орнаментальный повторяющийся значок? Не исключено, что объектом копирования
языческих кузнецов могли также стать полосы с символическими знаками.
К произведениям нелокализованных мастерских относятся семь клинков с
дамаскированным узором. Для европейской металлургии X в. техника сложноузорчатой
сварки была в основном уже пройденным этапом. Тогда сварочный дамаск стали
употреблять только для надписей. Дамаскированные мечи в.- отзвук уже уходящей
технической традиции. Не случайно дамаскировка присуща всем трем нашим
древнейшим мечам IX в., относящимся к типу В.
64% мечей IX - XI вв. судя по их метам указывают на каролингские мастерские.
Между тем, как писалось выше, около 1000 г. на смену общеевропейским все
настойчивее выдвигались местные формы рубящего оружия. Касалось ли это только
рукоятей мечей или и их лезвий?
Клеймо, начертанное уставными кирилловскими буквами, неожиданно открытое на
упоминавшемся выше мече из Фощеватой (на Полтавщине), наконец, прояснило этот
вопрос. Надпись обнаружилась в верхней трети дола клинка, она двухсторонняя и
наведена инкрустированной в металл дамаскированной проволокой. Техника ее
исполнения не отличается от известных каролингских мечей X в. На одной стороне
полосы можно прочесть имя мастера Людота или Людоша, на другой слово "коваль"
(т. е. кузнец). Надпись явно не владельческая, а производственная. Полученная на
основании лингвистического, типологического и искусствоведческого анализа дата
меча показала, что он сделан не позднее первой половины XI в. Подпись клинка
является древнейшей сохранившейся русской надписью на оружии и металле вообще и
передает старейшее дошедшее до нас имя ремесленника (табл. 120, 6). Судя по этой
надписи на Руси существовала специализированная оружейная мастерская задолго до
того, как об этом сообщают письменные источники. Рукоять фощеватовского меча,
отделанная в орнаментальном стиле надгробных рунических камней XI в., дала повод
считать сам меч едва ли не единственным бесспорно скандинавским из числа
найденных на Руси. Ныне же оказалось, что мы имеем дело с изделием, подписанным
грамотным русским мечедельцем. Собственным клеймом он обозначил свою продукцию,
значит, по отношению к привозной она была вполне "конкурентоспособной" (Nadolski
A., 1974, я. 28 - 29). После Каролингской империи Киевское государство оказалось
второй страной Европы, где изготовлялись собственные подписные мечи. Без
преувеличения можно сказать, что никогда ранее археология не получала такого
прямого и убедительного свидетельства существования на Руси эпохи князей
Владимира и Ярослава столь высокоорганизованного и специализированного ремесла.
Обнаружение русского клинка, однако, не отрицает того, что в X и в XII - XIII
вв. в Восточной Европе преобладали привозные каролингские, а затем романские
мечи. Большинство подписей на мечах романской эпохи, в том числе и выявленных
автором, представляют подписи ремесленников (Etcelin, Ingelrii), "пробирные"
марки и особенно латинские сокращения.
Особое внимание привлекают клейма, которые состоят из сложных сокращений (далее
эти надписи именуем сокращенными). Такие клейма употреблялись длительное время и
отличались большим разнообразием. Наряду с древнерусскими материалами здесь
рассматриваются также клейма на мечах, найденных на территории Прибалтики.
Включение в данный обзор прибалтийских материалов обусловлено тем, что они, так
же как и древнерусские, являются предметами импорта и характеризуют торговые
связи единого географического региона.
Полный учет сокращенных надписей европейских мечей позволил впервые после
швейцарского ученого Вегели (в его распоряжении в начале XX в. было столько
клейм, сколько известно ныне в одной нашей стране) разработать для них новую
классификацию, отражающую более полно развитие клинковой эпиграфики на
протяжении пяти веков. Наша классификация надписей исходит из общего их
содержания, а также из формул, терминология и сложность которых претерпевали в
развитии большие изменения. Важен также учет палеографических данных и
орнамента.
Комплекс признаков, лежащих в основе классификации, в отдельных случаях сужает
датировки, установленные по типологии мечей. При отсутствии навершия и
крестовины клинка исследование надписей может оказаться единственным способом
установить время его изготовления.
Вместе с тем наличие массового материала, создающего возможности для сравнения,
позволяет выработать систему прочтения клейм, а раскрытие их содержания
существенно для уточнения хронологии. Со времени Вегели делались попытки
прочтения отдельных надписей, однако прежние исследования обнаруживают
недостаточное внимание к изучению форм букв. Это обстоятельство, как и понимание
надписей почти всегда как строго инициальных, закрыло путь к пониманию клейм.
Итак, знание форм букв и сокращений -исходная палеографическая основа
исследования.
Необходимым также представляется учет фразеологии современных источников, в
частности касательно титулования бога, богоматери и пр., что особенно полно
раскрывается в церковных службах. Литургия была в значительной мере источником
средневековых надписей, и в ней можно обнаружить также истоки мечевой
эпиграфики.
Литургические источники клинковой эпиграфики не исключают ее оригинальности,
которая не очень обнадеживает в деле идентификации текстов. И все же элементы
последней уже налицо. Они дают подтверждение правильности раскрытия клейм.
Раскрытию клейм помогают некоторые частные наблюдения и особенности начертания.
Так, в ряде случаев удается разбить надпись на четкие составные части, подметить
искусственную их расстановку. В других -клеймо на одной стороне меча находит
продолжение на другой. Наконец, большое значение имеет уяснение элемента ne, что
позволяет проникнуть в общий характер надписей.
Все многообразие надписей делится на два типа в зависимости от основной идеи их
составителя. Иногда он хотел нанести на меч один или несколько священных
терминов. В таком случае надпись получала значение словесного символа. Чаще в
клеймах отражено посвящение клинка богу, богородице, кресту. Тогда надпись
выступает как одна или несколько посвятительных формул (при этом иногда
добавлялись символы). Простота символов, связанная к тому же с первыми шагами
словесного клеймения, заставляет обратить внимание на них в первую очередь.
Перейдем к краткой характеристике групп надписей (табл. А и табл. 121, 122).
I. Надписи-сигли. Каждый вид состоит всегда только из одного слова, которое
передается сиглем. Иногда надпись-сигль многократно повторяется на одном и том
же клинке.
Содержание почти всех сиглей, рассматриваемых изолированно, поддавалось бы
раскрытию с большим трудом. Взятые в совокупности, они рельефно отражают
определенный арсенал религиозной терминологии. Значение трех сиглей,
раскрываемое в надписях (X-Christus, I-Iesus, О-omnipotens), можно считать
широко распространенным. Оно объединяется одной темой, подсказывающей содержание
остальных сиглей: А-altissimus(Всевышний), R-re- (demptor (Искупитель),
S-Salvator (Спаситель).
Чтение шести сиглей -ключ, который помотает в решении пространных надписей, так
как эти сигли оказываются костяком большинства остальных клейм. Хронология: 1) в
ранний период клинковой эпиграфики (IX - XI вв.) получил особое распространение
лишь вид X 3; 2) после XII в. 1 группа сравнительно редка; 3) многократное
использование клейма-сигля (особенно более двух раз) на одной и той же стороне
клинка появилось начиная в основном с XII в.
II. Сложные символы. Каждый вид -результат сочетания как рассмотренных, так и
других букв. Идея сочетаний та же, что и надписей-сиглей, но во второй группе
символы получили усложнение путем добавления к основному термину приложений и
определений или соединения равносильных терминов. Хронология: некоторое число
видов группы относится к IX - XII вв., но широкое их употребление приходится на
XIII - XIV вв. Тем самым символы XIII - XIV вв. выступают как вторая после
надписей- сиглей ступень развития символов. Этот вывод делается на основе
изучения подгрупп, на которые распадается 11 группа (из-за недостатка места
вопрос о подгруппах -а они часто имеют четкую хронологическую квалификацию - в
очерке почти полностью опускается).
III. Простейшие формулы. Начиная с этой группы, все надписи в основных частях
имеют характер посвятительных формул. Установление построения и смысла
посвятительных формул облегчено наличием несокращенной надписи "in nomine
domini" (во имя господа). Однако для их раскрытия требовалось выяснить
сокращение служебного выражения формулы: ne-nomine - in nomine (во имя).
Особенно замечательны клейма: 9 - найденное на мече при раскопках Изяславля, оно
получает узкую датировку; X 13 - надпись на мече из Люмадского могильника на о.
Саарема, известном памятнике искусства, ее графика, получившая новое толкование,
позволяет сузить хронологию на целый век. Хронология: возникнув в архаический
период, простейшие формулы получают особое распространение в XII - начале XIII
в., но затем идут на убыль.
IV. Группа "in". Начиная с этой группы, происходит усложнение построения формул,
сопровождающееся увеличением пространности надписей. Признак группы - начальное
сочетание "in", которое является аббревиатурой служебного выражения (in nomine)
или его началом (предлогом).
Интерес среди рассматриваемых видов представляет X 1, дающий пример перехода от
именного клеймения к сокращенным надписям. Хронология: все виды группы
отличаются архаическими чертами (выражение "innomine", центрическое построение
части текста, эпиграфические признаки) и датируются XI - XII вв.
V. Группа "benedic". Виды обычно начинаются со слова, давшего группе
наименование и входящего в формулы освящения мечей. Важность этих давно изданных
формул для понимания клинковой эпиграфики отметил немецкий палеограф В. Эрбен,
но в его время (начало XX в.) были известны лишь два плохо воспроизведенных
вида. Теперь во фразеологии надписей У группы определенно устанавливается основа
в виде формул освящения мечей. Хронология узкая: вторая половина XII - первая
четверть XIII в. Тем самым группа знаменует собой переход от сложных клейм 1V
группы к длинным клеймам XIII - XIV вв.
VI. В противоположность остальным группам она объединяет разные по содержанию
виды. Для них связующим началом, кроме хронологии, является чаще умеренная еще
сложность формул и сохранение остатков терминологии IV группы. Среди наших видов
замечателен X 5 - надпись на Преображенском мече из-под Новосибирска (Дрбоглав
Д. А., Кирпичников А. Н., 1981). Группа имеет такое же переходное значение, что
и У группа. Хронология обычно близкая; последняя четверть XII - первая половина
XIII в.
VII. Группа "ned". Группа установлена Вегели и названа так по характерному
сочетанию, которое может заменяться равнозначными ("nd" и др.). С VII группы
начинается расцвет сложных клейм, которые одновременно часто имеют пространный
вид. Клеймо на мече из-под Макарецкой дачи на Черниговщине привлекает внимание
тем, что это одна из самых длинных надписей (# 8). Хронология: все виды группы
времени ее расцвета относятся к середине XIII в.
VIII. Группа "nr". Показательно сочетание "nr" ( "nomine redemptoris").
Хронология: характерные виды относятся ко второй половине XIII - первой четверти
XIV в.
IX. Группа "dig-dic. Группа установлена Вегели и хорошо известна по западным
находкам. Разграничение конечных букв двух сочетаний, давших наименование
группе, делалось в схемах клейм небрежно, хотя смысл сочетаний несомненно должен
быть разным. Учитывая последнее обстоятельство, группу можно разбить на три
подгруппы: "A", где встречается только сочетание "dig" (почти всегда "sdig");
"В", где в каждом виде оба сочетания; "С", где только сочетание "dic". Все виды
датируются повидимому, в рамках последней четверти XIII - первой половины XIV в.
Будучи, возможно, частично современной VIII группе, IX группа оказывается
несколько долговечнее ее. С исчезновением IX группы в середине или конце XIV в.
прекращается практика наносить на мечи сокращенные надписи.
* * *
Клейма, выявленные на средневековых мечах, подтвердив общеевропейское единство в
развитии средневекового рубящего оружия, свидетельствуют о существовании крупных
клинковых "фабрик" и налаженной торговле мечами, они же устанавливают
деятельность местных мастеров, оформлявших привозные лезвия своими рукоятями и
ковавших собственные клинки.
Несколько слов о выполнении самих клейм. На изделиях X в. надписи и знаки
инкрустировались в верхней трети клинка дамаскированной или железной проволокой.
Для этого в разогретой полосе штамповались канавки, в них укладывалась кусочками
проволока (длиной в среднем до 25 мм), которая затем проковывалась и сваривалась
с железной или стальной основой при температуре приблизительно 1300o С. При
последующей полировке и протравке начертания выделялись на зеркале металла.
Около середины XII в. имена мастеров на клинках начинают исчезать и появляются
религиозные надписи и изображения, наведенные не железом, а цветными и
благородными металлами. Во второй половине XIП в. величина клейма уменьшилась,
оно часто наносилось уже не на дол, а на грань колющего лезвия. Поэтому с
середины XIII в. кузнецы, отказавшись от изречений, стали проставлять марку в
виде изображений волка, единорога, быка. К таковым относится, например,
пассауский "волчок", выполненный, как это видно по мечу князя Довмонта, точечной
инкрустацией желтым металлом.
Сабля.
Широкое внедрение сабли, в первую очередь в лесостепной полосе, стало возможным
в связи с выдвижением конницы как главного рода войска. Отметим здесь особые
боевые свойства этого оружия. Благодаря изгибу полосы и наклону рукояти в
сторону лезвия, сабля обладает рубяще-режущим действием. Удар имеет круговой
характер, он получается скользящим и захватывает значительную поверхность тела.
Применение сабли предоставляет воину-коннику большую маневренность в движениях,
позволявшую дальше и вернее достать противника. В регионах с сильной пехотой и
малоподвижными строями применение сабли было ограничено. Для пехотинца более
удобным был меч. Он лучше, чем сабля, был приспособлен для целей
тяжеловооруженной борьбы. Длительное соседство меча и сабли отражало не только
тактические и технические различия военного дела Запада и Востока, но и
необходимость успешного противоборства русских со степным противником его же
оружием. Если в XI - первой половине XIII в. сабля использовалась в основном в
южнорусских районах, то в XIV в. под военным давлением Золотой Орды зона ее
применения отодвинулась значительно севернее, включив Псков и Новгород. Южнее
Москвы боец того времени явно предпочитал саблю прямому клинку. В конце XV
столетия сабли вытеснили мечи почти повсеместно..
Первые дошедшие до нас русские сабли (17 из 150 относящихся к X - XIII вв.)
датируются X - первой половиной XI столетия. Их преимущественно находят в
курганах князей, бояр и дружинников в южных районах Руси, вблизи границы со
степью, Начиная со второй половины XI в. искривленные клинки встречаются не
только на юге страны, но и в Минске, Новгороде, Суздальском ополье. Почти
половина всех находок того времени происходит из курганов Киевского Поросья, т.
е. с территории, где обитали федераты киевских князей - черные клобуки.
Типология сабель, как и мечей, основана на изменении нескольких взаимосвязанных
частей оружия. клинок X - первой половины XI в., достигающий 1 м, к XII - XIII
вв. удлиняется на 0 - 17 см. Одновременно увеличивается кривизна полосы
(измеряемая в наивысшей точке изгиба) с 3 - 4,5 см (X - первая половина XI в.)
до 4,5 - 5,5 см и даже 7 см (вторая половина XI - XIII в.). Ширина клинка,
первоначально равная 3 - 3,7 см, достигает в XII - XIII вв. 4,4 см (в среднем
3,5 - 3,8 см). Таким образом, трехвековая эволюция сабельной полосы про-
исходила в сторону удлинения, большего изгиба и некоторого увеличения веса
(табл. 123). Что касается сабель XIV в., то они отличались равномерной плавной
кривизной, что больше сближало их с формами XIII, чем XVI в. При длине 110 - 119
см и ширине лезвия 3,5 см выгиб их полосы составлял 6,5 - 9 см. Все отмеченные
изменения с наибольшей полнотой прослеживаются на русском материале, однако
свойственны они и саблям печенегов, половцев и венгров. Можно, таким образом,
говорить об определенном единстве развития данного оружия в Восточной и отчасти
Центральной Европе в период средневековья.
Навершия сабельных рукоятей уплощенно-цилиндрической формы очень утилитарны (тип
1, X - XIII вв., табл. 124, 5 - 11). Более характерны увенчания грушевидной
формы. Обнаруженные в аланских и венгерских древностях, они в отечественных
находках не встречаются позже первой половины XI в. (тип 11, табл. 124).
Самым подвижным, типологически и хронологически изменчивым элементом сабли была
гарда (табл. 124). Таковы древнейшие из них прямые или слегка изогнутые, с
шарообразными увенчаниями на концах (типы 1, 1А, 1Б, X - XI вв.). Некоторые (тип
1Б) отливались из бронзы, несомненно, в Среднем Поднепровье. В XI - XIII вв.
наиболее популярными были прямые перекрестья с ромбическим расширением в средней
части (тип 11). Благодаря щиткообразным расширениям гарда приобретала большую
прочность на излом при повреждении, а также более надежно соединялась с рукоятью
и плотнее удерживала надетые ножны. В XII - первой половине XIII в. возникают
перекрестья, концы которых или несколько опущены, или, расширяясь, переходят в
дисковидные или овальные увенчания (тип 11А, 11Б). При таком устройстве гарды
вражеский удар, с какого бы направления он не приходился, не мог соскользнуть на
рукоять и таким образом оказывался как бы "запертым" со всех сторон. Несколько
иначе предохраняла руку гарда с боковым защитным мысиком и круглым
стержневидным, как у романского меча, перекрестием (тип 111). Можно усмотреть
здесь влияние меча на саблю. Хронологически это явление можно приурочить к XIII
в., когда ' замечается утяжеление сабли и развивается массивность ее отдельных
частей.
В XIV - XV вв. форма гард все более унифицируется, эволюционно они восходят к
наиболее распространенному перекрестью (типа 11) домонгольской эпохи. Именно в
тот период, т. е. в XII - первой половине XIII в., в первую очередь в
южнорусских городах, происходило усовершенствование сабельного эфеса, отражавшее
общевосточноевропейские поиски, что, возможно, способствовало проникновению
подобных новинок даже к таким разборчивым ценителям искривленного холодного
оружия, как степняки. Во всяком случае сабли, найденные в черноклобуцких
курганах 1150 - 1240 гг., совершенно не отличаются от обнаруженных в русских
городах (табл. 123). В отличие от мечей сабли редко украшались, что затрудняет
определение их этнической принадлежности. Основания для этого дают лишь
отдельные орнаментированные растительным орнаментом образцы. Судя по этим
клинкам собственное их производство началось не позже первой половины XI в.
Корни этой самостоятельности уходят еще в X в., в эпоху великого подъема Руси,
когда ковались собственные мечи. Отечественные ремесленники наряду с венграми
приняли, очевидно, участие в изготовлении шедевра оружейного ремесла так
называемой сабли Карла Великого, ставшей позднее церемониальной инсигнией
Священной Римской империи (табл. 117, 8-4; Кирпичников А. Н., 1965, с. 268 -
276). Изукрашенные "золоченые" сабли продолжали ковать на Руси и в XII - XIII
вв. Об этом свидетельствует полоса первой половины XIII и., обнаруженная при
раскопках древнего Изяславля. На ней расчищены орнаментальные клейма,
удостоверяющие ее местную южнорусскую выделку (табл. 123, б).
Копье.
Главнейшим оружием ближнего боя было копье. С выдвижением конницы в качестве
основного рода раннефеодального войска оно стало важнейшим наступательным
средством. Кавалерийские копья вплоть до середины XV в. использовались при
конных атаках и сшибках всадников в качестве оружия первого натиска). В отличие
от мечей и сабель копья (равно как и боевые топоры) принадлежали к несравненно
более распространенному оружию. Они встречаются повсеместно, особенно много их в
погребениях на территории северной Руси, относящихся к X - XIII вв. Длина древка
копья приближалась к росту человека, но кавалерийские могли достигать 3 м.
Наконечники копий, как правило, лишены индивидуальных украшений. Их
сопоставление осуществлялось на основании формы пера. Однотипные предметы
объединены в группу "сквозного" хронологического развития в рамках IX - XIV вв.
Перечислим эти классифицированные изделия с указанием их главных особенностей
(табл. 125 - 126).
Копья с пером ланцетовидной формы (тип 1, 900 - 1050 гг.). Около 1000 г. эти
наконечники, достигавшие в длину 40 см, уменьшаются, а их втулка расширяется с
2,5 до 3 см и удлиняется. Распространены у многих народов Европы времени
викингов. Наконечники с пером ромбической формы (тип 11, IX - начала XI в.)
длиной до 30 см, шириной лезвия около 3 см для русского орудия X в.
нехарактерны, так как их основное развитие относится к У1 - VIII вв. Наконечники
копий с относительно широким пером удлиненно-треугольной формы (тип 111, IX -
XIV вв.). Плечики (могут быть несколько подняты или опущены) всегда ясно
выражены. Обычная длина 20 - 40 см, ширина 3 - 5 см, диаметр втулки около 3 см.
Подобные наконечники восходят к общеславянским прототипам, а в рассматриваемый
период встречаются в курганах дружинников, но почти нигде не преобладают среди
других форм. Зато эти образцы типичны для многочисленных деревенских курганов
центральной и северной Руси XI в. Объясняется это тем, что данное оружие,
по-видимому, служило не только как боевое, но и как охотничье. Копья описанного
типа имеют разновидности. У одной из них (типа 111А, табл. 125) скошены плечики,
что позволило удлинить лезвие до 38 - 45 см почти без увеличения его веса.
Другая (типа 111Б) отличается узким (1,5 - 3 см) длинным пером (до 50 - 60 см).
Наконечники типа 111Б, судя по находкам, относятся скорее к боевому, чем к
охотничьему оружию. Эволюция листовидного копья ко все более узкому и длинному в
период широкого распространения кольчатой и пластинчатой брони вполне
закономерна.
Копья с пером продолговато-яйцевидной формы (тип IV, XI - XII вв.). Большая
часть этих образцов уверенно относится к XI в. и выявлена в северной Руси.
Появление подобных наконечников в Новгородской земле, по-видимому, как-то
связано с влиянием эстонских, латвийских и других прибалтийских образцов. В XII
в. распространяются наконечники лавролистной формы (тип IVА, XII - XIII вв.).
Криволинейный изгиб края их лезвия отличается большой плавностью и симметрией.
Возникновение этих массивных наконечников с плавно заостренным пером
свидетельствует об увеличении прочности и ударной мощи орудия, в данном случае
имеющего собственное наименование - рогатина. Среди древнерусских копий, даже
достигающих длины 40 - 50 см и ширины лезвия 5 - 6 см, нет более тяжелых (вес
около 700 - 1000 г, вес обычного копья 200 - 240 г.) мощных и широких
наконечников, чем рогатины. Форма и размеры домонгольских рогатин удивительным
образом совпали с одноименными образцами XV - XVII вв., что позволило опознать и
выделить их среди археологического материала. При ударе такое копье могло
выдержать без поломки большое напряжение. Рогатиной, конечно, можно было пробить
самый мощный доспех, но пользоваться в бою, особенно в конной схватке,
вследствие ее тяжести, вероятно, было неудобно. Судя по украшениям, рогатина
иногда использовалась для парадных церемоний, что не мешает определить ее как
преимущественно пехотное, а иногда и охотничье оружие.
Копье с пером в виде четырехгранного стержня и воронковидной втулкой (тип. У,- X
- XVII вв.). Типичные размеры: длина 15 - 30 см, ширина пера 1,5 см, диаметр
втулки 3 см. Происхождение этого копья указывает на области степного
юго-востока, но уже для X в. нет оснований считать эти пики исключительно
кочевническим оружием, они распространены от Молдавии до Приладожья. В XII -
XIII вв. уже ни один тип копья не имел столь явного преобладания, какое получили
пики. В этот период они составляют половину всех находок. В предмонгольское
время пика приобретает совершенную форму, которая уже не изменяется до конца
средневековья. Изумляет абсолютное сходство домонгольских пик с образцами XVII
в. Очевидно, одна и та же форма была порождена одинаковыми условиями борьбы -
усилением доспеха и активизацией конных стычек. Пика использовалась в качестве
боевого оружия, рассчитанного главным образом на эффективное пробивание
металлического доспеха. Можно предположить, что впервые в истории древнерусского
колющего оружия приблизительно в XII в. бронебойные пики выделяются как
специально кавалерийские копья.
Копья с пером вытянуто-треугольной формы и черешком вместо втулки (тип XI, IX -
XI вв.). Форма лезвия не отличается от обычных листовидных копий типа 111, реже
типа IV. Черешковые копья происходят из районов, где находились чудские племена
(юго-восточное Приладожье, западная часть Ленинградской области, Муромщина). В
составе русского оружия они случайны и после XI в., по-видимому, выходят из
употребления. Копья с лезвием в виде двух расходящихся в сторону шипов (тип VII,
IX - XIII вв.). Двушипные копья (их название - гарпуны) - в основном охотничье
оружие, и в этом отношении они не отличаются от двушипных стрел. Археологические
образцы типовых форм приведены в табл. 126.
Типология наконечников копий способствует пониманию развития этого орудия в
целом. Русь не была родиной какой-либо формы копья, но здесь использовались
совершенные для своего времени образцы, возникшие на Западе (тип 1) и Востоке
(тип У) в сочетании с общеславянскими наконечниками (тип 111). Основными были
копья с ланцетовидными, удлиненно-треугольными и пиковидными наконечниками (типы
1, 111, 111А, 111Б, У). В количественном отношении они составляют 80% всех
находок. Роль копий этих типов была неодинаковой. Если в X в. существовали три
ведущие формы наконечников - ланцетовидная, удлиненно- треугольная и пиковидная,
то начиная с XII в. выделяются узколезвийные (типы 111Б и У) образцы, получившие
решительное преобладание среди других наконечников. Находки узколезвийных
бронебойных копий указывают на распространение тяжелого доспеха. Удар таким
наконечником достигался самим движением всадника - он стремился таранить своего
противника. Для сравнения отметим, что в IX - XI вв. укол осуществлялся взмахом
протянутой руки. Применение "копьевого тарана" связано с усилением защиты
всадника и сопровождалось изменением его верховой посадки на галопе (упор
прямыми ногами в стремена). Возникновение мощного напора при ударе копьем
отразилось на усилении его деревянной части. Типичным для X в. являлось древко
толщиной 2,5 см, в XII - XIII вв. оно утолстилось до 3,5 см.
Кроме военных целей, использовались копья и для промыслов. Специфически
охотничьими являлись гарпуны (тип VII) и отчасти рогатины (тип IVА).
Универсальными по своему назначению были, очевидно, листовидные и ромбовидные
образцы (типы 11, 111, 111А, IV, У1). Однако в целом развитие древкового
колющего оружия следовало по пути усиления боевой направленности и изживания
первоначальной множественности его форм.
Копье в средневековом войске предполагает наличие хорошо обученных бойцов,
сражающихся в правильных тактических построениях. С XI в. на Руси выделились
отряды копейщиков. Они представляли силу, специально предназначенную для
нападения и завязывания решительного сражения. Использование копий, таким
образом, точно отражало определенную, действовавшую вплоть до середины XV в.
систему ведения кавалерийского боя. По копьям велся счет войску. Возможно, что
уже в домонгольское время "копьями" обозначались старшие дружинники со своими
отроками (Рыбаков Б. А., 1948б, с. 404). Верная характеристика военному копью
была дана в конце средневековья, когда его выдающаяся роль была уже позади: "И
то годно ведати, как в старину, когда пушек и пороху и всякого огнестрельного
бою не было, лучше и краше и рыцарственнее копейного оружия не бывало и тем
великую силу против конных и пеших людей чинили" (Учение, 1904, с. 108). В
качестве вспомогательного средства поражения в бою и на промысле использовались
метательные дротики - сулицы. В зрелом средневековье популярность сулиц
возросла, что объяснялось удобством их использования в условиях пересеченной
местности и в момент сближения ратей и в рукопашной схватке и в преследовании.
Больше всего известно наконечников сулиц удлиненно-треугольной формы, но
встречаются ромбовидные и лавролистные. Длина их составляла 15 - 20 см, а вместе
с древком 1,2 - 1,5 м. Таким образом, сулица по своим размерам - нечто среднее
между копьем и стрелой.
Топоры.
Большинство известных боевых топоров следует, по-видимому, причислить к оружию
пешего ратника. В истории боевого топора скрещиваются две противоречивые
тенденции. Господство конницы низводило его до уровня плебейского оружия, но
усовершенствование доспехов и усиление пехоты снова выдвигало топор в качестве
популярного средства ведения боя. В отличие от пехоты у всадника употребление
всякого рода топориков, особенно чеканов, хотя и имело место, но было
ограниченно. Это оружие пускали в ход во время затяжного кавалерийского боя,
превращавшегося в тесную схватку отдельных групп бойцов, когда длинное древковое
оружие мешало борьбе.
На территории Древней Руси найдено около 1600 топоров. Они подразделяются на три
группы: 1) специально боевые топорики-молотки (чеканы), топорики с украшениями,
характерные по конструкции и небольшие по размеру; 2) секиры, похожие на
производственные топоры, но миниатюрнее последних; эти последние использовались
в военных целях как универсальный инструмент похода и боя; 3) тяжелые и
массивные рабочие топоры на войне, видимо, употреблялись редко. Обычные размеры
топоров первых двух групп: длина лезвия 9 - 15 см, ширина до 10 - 12 см, диаметр
обушного отверстия 2 - 3 см, вес до 450 (чеканы весят 200 - 350 г). Для
сравнения укажем размеры рабочих топоров: длина 15 - 22 см (чаще 17 - 18 см),
ширина лезвия 9 - 14 см, диаметр втулки 3 - 4,5 см, обычный вес 600 - 800.
Военные топоры носили в походах при себе, что и отразилось на уменьшении их веса
и размера. Что же касается конструкции оружия, то именно развитие рабочих
топоров во многих случаях определило эволюцию и устройство боевых. Иногда можно
спорить о назначении того или иного топора, ибо он служил ратнику для самых
разнообразных целей. Неудивительно поэтому, что в захоронениях воинов
встречаются топоры группы 2, которые могли выполнять различные походные функции.
Остановимся кратко на классификации первых двух упомянутых групп, представляющих
численно примерно треть всех учтенных находок (табл. 127 128). К специально
боевым образцам относятся прежде всего чеканы, тыльная сторона их обуха снабжена
молоточком. Лезвия чеканов либо продолговато-треугольной формы (тип 1, X - XIV
вв.), либо с полулунной выемкой (тип 1А X - начало XI в.). Исключительно
"военное" значение можно признать за узколезвийными небольшими топориками с
вырезным обухом и боковыми мысовидными отростками -щекавицами (тип 111, X - XII
вв.). Можно предполагать русское происхождение этих топориков,
распространившихся затем в ряде европейских областей. Характерно, что именно
среди топориков рассмотренных типов встречаются отделанные всякого рода
украшениями, в том числе и сюжетного характера (табл. 128 - Корзухина Г. Ф.,
1966, с. 89 и сл.).
Отметим далее топоры, сочетающие в себе свойства оружия и орудия. Универсально-
походным образцам всегда соответствуют точно такие же по формам рабочие.
Занимаясь классификацией боевых секир, мы одновременно получили почти полную
классификацию рабочих форм. Здесь коснемся только первых. К самым массовым по
числу находок принадлежат топоры с оттянутым вниз лезвием, двумя парами боковых
щекавиц и удлиненным вырезным обухом (типа IV, Х - XII вв.). Широкому
распространению этих топоров способствовала совершенная конструкция (коэффициент
полезного действия приближается к единице) и надежное устройство обуха. К XII в.
производство описанных изделий упрощается: исчезают щекавицы, а тыльная сторона
обуха снабжается отходящими в стороны мысообразными выступами.
Характерной особенностью следующей группы секир "с выемкой и опущенным лезвием"
является прямая верхняя грань и боковые щекавицы только с нижней стороны обуха
(тип У, X - первая половина XIII в.). Наибольшее скопление этих изделий
отмечается на севере Руси, особенно в курганах юго-восточного Приладожья. Форма
связана с Северной Европой и по распространению и развитию может считаться
финско-русской. В XIII - XIV вв. распространяются топоры с трубковидным обухом
(разновидность А типа У). Географически и хронологически топоры этого типа не
находятся в непосредственной связи с предшествующими, в крестьянском быту
сохранились в Западной Украине и Молдавии до наших дней. Последними среди
бородовидных секир выступают образцы с двумя парами боковых щекавиц (тип У1,
конец X - XI в.).
К совершенно особой группе принадлежат секиры с широким симметрично расходящимся
лезвием (тип VII, X - XIII вв.). Около 1000 г. они распространены на всем Севере
Европы. Боевое использование таких секир англосаксонской и норманской пехотной
увековечено на ковровой вышивке из Байе (1066 - 1082 гг.). Судя по этой вышивке,
длина древка топора равна примерно метру или несколько больше. На Руси эти
топоры в основном типичны для северных районов, при этом некоторые найдены в
крестьянских курганах. В заключение назовем топоры с относительно узким лезвием
(тип VIII, X - XI вв.). Они относительно редки, встречены в основном в
юго-восточном Приладожье и на Муромщине. Модифицированная форма этих топоров XII
- XV вв. характеризуется отсутствием щекавиц и затыльником, вытянутым вдоль
топорища (разновидность А типа VIII, XII - XIII вв.). В этих образцах нет
удорожающих конструктивных деталей. Из данной формы в XIV в. разовьются
рубяще-дробящие секиры с треугольным и трапециевидным лезвием, а также
топоры-булавы (Кирпичников А. Н., 1976, табл. 11, 4 и IV, 4 - Б).
Ознакомившись с типологией боевых топоров, можно заключить, что их
усовершенствование шло в основном по линии создания лезвия, рассчитанного на
проникающий удар, и все более простого (без каких-либо фигурных вырезов) и
надежного в скреплении с топорищем проушного отверстия. Наряду с топорами
ведущих форм в областях северной и отчасти центральной Руси встречаются образцы,
имеющие локально-географическое распространение. Тенденция к единообразию в
производстве топоров (как это отмечалось и для копий) усиливается к XII
столетию. Если в X - начале XI в. топоры представлены во всем разнообразии своих
форм, то в XII - XIII вв. типичными становятся чеканы и бородовидные секиры.
На основании археологического материала можно представить следующие этапы
боевого применения топоров в древней Руси. В X в. в связи с важнейшим значением
пешей рати топор являлся распространенным оружием. В XI - XIII вв. в связи с
возрастающей ролью конницы военное применение топора снижается, хотя он
по-прежнему остается массовым пехотным оружием. Борьба с тяжеловооруженными
рыцарями в XIV в. вновь выдвинула топор в качестве необходимого ударно-дробящего
оружия.
Булавы (табл. 129 - 130).
Судя по тому, что на Руси существовали мастера по отливке булав и кистеней,
ударное оружие служило ратнику важным подспорьем. Булавой пользовались пехотинцы
и конники в рукопашной схватке, когда требовалось нанести быстрый удар в любом
направлении.
В русском войске булавы проявлялись в XI в. как юго-восточное заимствование. Их
собирательное древнерусское наименование -кий. К числу древнейших русских
находок относятся навершия (чаще железные, чем бронзовые) в форме куба с
четырьмя крестообразно расположенными шипами (тип 1, XI в.). Модификацией этой
формы являются железные булавы в форме куба со срезанными углами (тип 11).
Булавы с такими навершиями, составляющие почти половину всех находок - весьма
дешевое и, вероятно, широко доступное оружие рядовых воинов: горожан и крестьян.
В XVII в. булавы этой формы - знак царской власти.
Своего расцвета производство булав достигло в XII - XIII вв., когда появились
бронзов
|
капища Москвы |
По Ивану Белкину.
Москва буквально насыщена древними языческими капищами. По плотности их здесь больше, чем в какой-либо другой местности.
Очень долго древняя традиция предков сохранялась в Москве. Царь Алексей Михайлович писал воеводе Шуйскому, сетуя на огромные языческие гуляния 22 декабря 1649 г. Праздновавшие славили Коляду, Усеня и "плугу", повсюду играли скоморохи, и среди "ужасов" праздника царь описывает даже массовое пьянство христианских священников и иноков. В числе районов, охваченных весельем, указаны Кремль, Китай, Белый и Земляной город, т.е. практически вся территория тогдашней Москвы.
Такая живучесть традиции объяснялась тем, что Москва была основана на месте, где святилищ было больше, чем обычно, это был единый священный комплекс площадью около 8 кв. км, построенного как изображение законов мирового Коловращения.
По средневековым легендам первое московское поселение было на слиянии рек Москвы и Яузы, на Красном холме. Довольно много фактов указывает на существование здесь святилища. По другому Красный холм называли Болванова гора, а старое название Верхнерадищевской улицы - Болвановка. Это древнее название упоминается в летописи за 1380 год в связи с выступлением русских войск на Мамаево побоище. Болванами называли идолов, и поэтому наличие такого топонима мы можем рассматривать как факт, указывающий на существование в этих местах языческого культа.
Часто эту возвышенность называли также Швивая горка. Упоминают то слово вшивая, то траву ушву, иногда вспоминают живших здесь швецов. Но подумаем о корневой основе -сва-, от которой произошли понятия свет, свят. Таким образом, Швивая (Свивая) горка может быть переведена как Солнечная или даже Священная горка. А это совпадает со словом Красная. Получается, что Красный холм и Швивая горка - синонимы.
Ещё эту местность называли Чигасы. По Далю древнее слово "чигас" означает огонь. В этих чигасах-огнях - не память ли о священных языческих кострах в период подъёма солнца (с Коляды на Купалу)?.
Наиболее вероятны две точки нахождения краснохолмского капища.
Первая - церковь Никиты угодника во дворе дома на Котельнической набережной. Впервые о ней упомянуто в 1476 году, когда большая дуга света одним концом упёрлась в храм Никиты. Другое необычное событие произошло в 1533 году - храм был поражён ударом молнии в алтарь - "прошибе стену и у деисуса попаЛИ злато".
В раскопках непосредственно у церкви Никиты в 1997 году были обнаружены глиняные статуэтки: изображение мужчины с ярко выраженным "органом", всадника верхом на чёрте, сидящей обнажённой женщины с ребёнком у ног (возможно - рожаницы?), обнажённого мужчины с волчьей головой и бубном в руках. Статуэтки не имеют аналогов и датированы археологами 14 веком, т.е. когда Красный холм только начинал заселяться горожанами.
Второе место - точка пересечения Таганской улицы и Товарищеского переулка - это самая высокая точка Красного холма, и ранее именно это место называлось "Болваны".
Какому же божеству было посвящено возможное капище Красного холма? "Красными" назывались возвышенности, на которых отмечались весенние праздники (до сих пор известна Красная горка). Поэтому можно предположить, что Краснохолмское святилище посвящено божествам весны, утра, молодости, жизненного роста. Таким богом был Ярила, и не исключено, что здесь почитался именно он.
Территория нынешнего Кремля была местом купальских празднеств.
Об этом говорит факт основания здесь в 9 веке первого московского храма - деревянной церкви Иоанна Предтечи. Этот святой не являлся самой главной фигурой в христианском "пантеоне", но у него была одна особенность - он по каким-то причинам стал преемником славянского языческого бога - Купалы. Доподлинно известно, что в первые века христианства на Руси было предписано ставить храмы на месте языческих капищ, по возможности сохраняя при этом их "смысловую наполненность". И поэтому - это верный знак того, что здесь существовало купальское святилище.
Мыс Боровицкого холма - первоначальная площадь Москвы, чуть больше одного гектара. Нет окончательного мнения, что же было на этом мысу - поселение, капище или то и другое вместе.
Зато известно, что в центре этой территории находился священный камень. Очевидцы описывают его как "четырёхгранный известковой породы.. длиной почти в аршин". Именно над ним и была построена упомянутая Предтеченская церковь. Камень был вписан в церковный алтарь, и первые московские христиане с уважением относились к древней святыне.
В 1461 г. по указу царя Василия Третьего обветшавшая церковь была заменена каменной, но священный валун не потревожили. Вплоть до 19 века он находился в пределе церкви и пользовался массовым поклонением как чудотворный.
В 1847 году по личному приказу митрополита Филарета и древнейшая церковь, и священный камень были снесены за одну ночь. Кстати, под алтарём при сносе были обнаружены лошадиный череп, коровьи и бычьи кости, которые были расценены как останки жертвенных животных.
Ревнители старины были возмущены. Филарет ответил тако:"Простите меня, что я поклоняюсь древним иконам и прочей святыне, а не рассевшимся камням Василия Тёмного".
Таким образом святейший совершил преступление против отечественной культуры: если вдуматься, Камень и был тем "сердцем", вокруг которого образовалось поселение на Боровицком холме, а следом за этим - и вся Москва, и вся Московская Русь. Погибший Камень был святыней национального значения.
На Юге Красной площади - Лобном месте - также происходили обрядовые действа, это место было названо "особым".
Чертольем назывался район к западу от Кремля. Здесь - редкостное скопление географических названий, имеющих языческую основу - Чертолье, Чертольские улицы, ручей Черторый, Волхонка, Власьева слобода и два Власьевских переулка.
Каждый, исповедующий традиционную веру пращуров, легко увидит происхождение этих названий. Всё языческое в христианские времена ассоциировалось с Чёртом. Волх - одно из имён бога земли и подземелий Велеса. Святой Власий - преемник Велеса в христианской традиции.
Сивцев Вражек также относится к языческой традиции. Вражками на московском говоре называли овраги; в нашем случае это овраг ручья Черторыя, берущего своё начало где-то у здания МИД и впадающего в Москва-реку у храма Христа Спасителя. А вот что означает Сивцев? Вспомним русскую поговорку: Бурка на горку, Сивка под горку, она упоминается при стаивании снегов в начале весны (когда же выпадает снег и приходит зима, говорят наоборот: Сивка на горку, Бурка под горку. Сивка и Бурка здесь обозначают цвет земной поверхности в соответствующий сезон (зимой - белый, летом - тёмно-коричневый). Они выступают как символы соответствующих божественных проявлений, поэтому "сивый" в своё время обозначало зиму. А зима - то время, когда власть над миром переходит к богам подземелья.
Таким образом, название Сивцев Вражек и другие выше перечисленные названия восходят к стихии бога земли и подемелий Велесу. Значит, именно этот Бог почитался в данной местности.
На Велеса косвенным образом указывает и упоминание чёрта в названии Чертолье - дело в том, что фольклёрный чёрт, как правило, живёт в болоте, и урочища, носящие названия чертовых, тоже обычно являются болотными. Болото же является зоной хтонических богов, в частности Велеса. Сохранились легенды, напоминающие сильно изменённые мифы о чертях как слугах или Воплощениях Велеса, да и многие научные разработки указывают на то же.
Где же конкретно находилось Велесово святилище? Средневековая повесть "Сказание о построении града Ярославля" даёт описание одного из капищ Велеса. Оно находится на дне лощины (что естественно - ведь здесь почитается Бог подземелий), мимо него прогоняют скот на пастбище (известно также, что Велес и покровитель скота).
Похоже, что в "Повести..." описано типичное капище Велеса, опираясь на него, "проверим" местность Чертолья.
Скорее всего капище находилось на дне оврага, по которому тёк (а возможно, и сейчас течёт по подземным трубам) ручей Черторый. Наиболее вероятной кажется точка, где овраг (ныне это Сивцев Вражек!) пересекается с Большим и Малым Власьевскими переулками. Раньше здесь находилось урочище Козье Болото. В этом названии - тоже языческие корни - ведь козёл был символом и воплощением рождающей силы земли. Кстати, с 16 века здесь располагалась слобода, специализировшаяся на скотоводстве. (Улица Остоженка также указывает на это: чуть дальше от Кремля были заливные луга, заготавливали сено для скота, местность называлась Остожье. - прим. Светлаока).
Где, кроме как в месте древнего почитания "скотьего бога" было бы наиболее удобно заводить скотоводческий промысел?
На роль Чертольского капища может претендовать ещё одна точка - место впадения Черторыя в Москва-реку. Очень уж примечательна судьба этого места, которое называют "проклятым местом" - оно примечательно тем, что здесь всегда строились храмы и у всех них была недолгая и печальная судьба. Два заглохших в древности монастыря, взорванный первый храм Христа спасителя, Дворец советов, "уплывший" на пойменных водах (его тоже можно отнести к культовым сооружениям), плавательный бассейн "Москва" - всех их "место" словно сбрасывало с себя, стремясь остаться свободным.
Черторый-по сути в названии говорится о вратах в царство Велеса, то бишь мир бродячих в Яви духов. Исток ручья должен был быть окружён святилищем (огнём).
В древности был весьма распространён тип священного места, условно называемый "сакральная пара". На территории Москвы их несколько: языческие святилища в Кунцево, Коломенском, изгиб реки у Воробьёвых гор... Такую пару составляют два капища: мужское и женское, находящиеся на противоположных сторонах реки. Если река делает изгиб, то образуется высокий "обнимающий" берег и "обнимаемый" заливной луг. На них-то и располагаются соответственно "мужское" и "женское" святилища.
Боровицкий холм и Замоскворечье замечательно подходят под определение пары. На Холме, как мы уже говорили, существовало мужское купальсое святилище, а за рекой мы можем предположить место почитания женского божества.
Название улицы Пятницкая указывает нам на женское божество: ведь Параскева Пятница заменила языческую Макошь - великую Мать, богиню смерти и рождения. На улице стоит церковь Параскевы Пятницы, имеющая условный статус "прощной", а по этнографическим свидетельствам (Афанасьев А.Н., Максимов С.В.) "прощами" назывались места поклонения Земле.
В христианские же времена слово "проща" стало обозначать прощение, а в таких церквах можно было получить прощение, снять и оставить грехи, исцелиться, как бы родившись заново. Таким образом, действия "прощи" как бы повторяли действия Богини-Матери. "Прощ" на всю старую Москву было всего три - две других находились в Чертолье. На весь север и восток города ни одной "прощи" нет.
Здесь же в Замоскворечье находится Болотная площадь - место казней. Впоследствии публичные казни были отменены, но по традиции, осуждённых привозили на Болото для своеобразной гражданской казни.
Традицию казней в этом месте можно расценить, что это область хтонических богов, которым свойственны не только потенции рождения, но в неменьшей степени потенции смерти, убийства.
Описанные выше четыре святилища составляют единую систему, некое единое целое.
Бог Красного холма - бог весны, утра, ярого жизненного роста, свойственного молодому организму. Празднества этого бога (условно назовём его Ярилой) отмечались весной, и в них преимущественно участвовала молодёжь.
Купала - бог, соответствующий максимальному подъёму солнца и жизненных сил природы. Он - бог жизненной зрелости. Купальские праздники отмечаются в середине года, когда год достигает своего апогея.
Велес - бог земли. Он собирает урожай, он плодороден и обилен, но в то же время он уже связан со смертью. Дни осени - времени почитания Велеса - движутся к зиме так же, как пожилой человек движется к смерти.
Состарившийся человек умирает, он как бы переходит в ведение подземных богов, среди которых - упомянутая Макошь. Жизненные силы природы, угаснув осенью, уходят под землю. Под землю уходит и солнце, оставляя мир во власти ночи. Воцаряется смерть. Но земля переваривает жизненную материю и подготавливает её Возрождение в новом виде.
Как мы видим, боги четырёх концов Москвы вполне соответствуют четырём фазам коловращения.
Капища Москвы можно условно назвать Московским Кругом. В каждом из участков Круга (Коло) проводились мистерии соответствующего времени года или человеческого возраста: на Красном холме - весенние мистерии и обряды, связанные со взрослением детей и молодёжи, на Боровицком холме - мистерии лета и т. д.
Кроме того, возможны были мистерии, включающие все точки одновременно. С высокого Красного холма открывается широкий панорамный вид на Боровицкий холм, на Замоскворечье и Чертолье. (Зрелище, по видимому, было захватывающим, когда одновременно в разных концах Москвы могли проводиться священные обрядовые действа. )
Кузьминки. Если верить старинной легенде, в Кузьминском парке, на берегу пруда у векового вяза (известного в народе как дерево смерти) и собиралась молодежь, приносили орехи и пироги, жгли костры, пировали.*
Царицыно. На том месте, где сейчас стоит баженовский дворец, в IХ - Х веках хоронили выдающихся воинов. С той поры, по преданию, люди в этих местах не приживаются, зато пообщаться с духами пращуров можно.
Кунцево. «Чертов нос» - так называли когда-то мыс между двумя оврагами на западной окраине парка, где находилось древнее Кунцевское городище с капищем, на котором совершали жертвоприношения.
Москва буквально насыщена древними языческими капищами. По плотности их здесь больше, чем в какой-либо другой местности.
Очень долго древняя традиция предков сохранялась в Москве. Царь Алексей Михайлович писал воеводе Шуйскому, сетуя на огромные языческие гуляния 22 декабря 1649 г. Праздновавшие славили Коляду, Усеня и "плугу", повсюду играли скоморохи, и среди "ужасов" праздника царь описывает даже массовое пьянство христианских священников и иноков. В числе районов, охваченных весельем, указаны Кремль, Китай, Белый и Земляной город, т.е. практически вся территория тогдашней Москвы.
Такая живучесть традиции объяснялась тем, что Москва была основана на месте, где святилищ было больше, чем обычно, это был единый священный комплекс площадью около 8 кв. км, построенного как изображение законов мирового Коловращения.
По средневековым легендам первое московское поселение было на слиянии рек Москвы и Яузы, на Красном холме. Довольно много фактов указывает на существование здесь святилища. По другому Красный холм называли Болванова гора, а старое название Верхнерадищевской улицы - Болвановка. Это древнее название упоминается в летописи за 1380 год в связи с выступлением русских войск на Мамаево побоище. Болванами называли идолов, и поэтому наличие такого топонима мы можем рассматривать как факт, указывающий на существование в этих местах языческого культа.
Часто эту возвышенность называли также Швивая горка. Упоминают то слово вшивая, то траву ушву, иногда вспоминают живших здесь швецов. Но подумаем о корневой основе -сва-, от которой произошли понятия свет, свят. Таким образом, Швивая (Свивая) горка может быть переведена как Солнечная или даже Священная горка. А это совпадает со словом Красная. Получается, что Красный холм и Швивая горка - синонимы.
Ещё эту местность называли Чигасы. По Далю древнее слово "чигас" означает огонь. В этих чигасах-огнях - не память ли о священных языческих кострах в период подъёма солнца (с Коляды на Купалу)?.
Наиболее вероятны две точки нахождения краснохолмского капища.
Первая - церковь Никиты угодника во дворе дома на Котельнической набережной. Впервые о ней упомянуто в 1476 году, когда большая дуга света одним концом упёрлась в храм Никиты. Другое необычное событие произошло в 1533 году - храм был поражён ударом молнии в алтарь - "прошибе стену и у деисуса попаЛИ злато".
В раскопках непосредственно у церкви Никиты в 1997 году были обнаружены глиняные статуэтки: изображение мужчины с ярко выраженным "органом", всадника верхом на чёрте, сидящей обнажённой женщины с ребёнком у ног (возможно - рожаницы?), обнажённого мужчины с волчьей головой и бубном в руках. Статуэтки не имеют аналогов и датированы археологами 14 веком, т.е. когда Красный холм только начинал заселяться горожанами.
Второе место - точка пересечения Таганской улицы и Товарищеского переулка - это самая высокая точка Красного холма, и ранее именно это место называлось "Болваны".
Какому же божеству было посвящено возможное капище Красного холма? "Красными" назывались возвышенности, на которых отмечались весенние праздники (до сих пор известна Красная горка). Поэтому можно предположить, что Краснохолмское святилище посвящено божествам весны, утра, молодости, жизненного роста. Таким богом был Ярила, и не исключено, что здесь почитался именно он.
Территория нынешнего Кремля была местом купальских празднеств.
Об этом говорит факт основания здесь в 9 веке первого московского храма - деревянной церкви Иоанна Предтечи. Этот святой не являлся самой главной фигурой в христианском "пантеоне", но у него была одна особенность - он по каким-то причинам стал преемником славянского языческого бога - Купалы. Доподлинно известно, что в первые века христианства на Руси было предписано ставить храмы на месте языческих капищ, по возможности сохраняя при этом их "смысловую наполненность". И поэтому - это верный знак того, что здесь существовало купальское святилище.
Мыс Боровицкого холма - первоначальная площадь Москвы, чуть больше одного гектара. Нет окончательного мнения, что же было на этом мысу - поселение, капище или то и другое вместе.
Зато известно, что в центре этой территории находился священный камень. Очевидцы описывают его как "четырёхгранный известковой породы.. длиной почти в аршин". Именно над ним и была построена упомянутая Предтеченская церковь. Камень был вписан в церковный алтарь, и первые московские христиане с уважением относились к древней святыне.
В 1461 г. по указу царя Василия Третьего обветшавшая церковь была заменена каменной, но священный валун не потревожили. Вплоть до 19 века он находился в пределе церкви и пользовался массовым поклонением как чудотворный.
В 1847 году по личному приказу митрополита Филарета и древнейшая церковь, и священный камень были снесены за одну ночь. Кстати, под алтарём при сносе были обнаружены лошадиный череп, коровьи и бычьи кости, которые были расценены как останки жертвенных животных.
Ревнители старины были возмущены. Филарет ответил тако:"Простите меня, что я поклоняюсь древним иконам и прочей святыне, а не рассевшимся камням Василия Тёмного".
Таким образом святейший совершил преступление против отечественной культуры: если вдуматься, Камень и был тем "сердцем", вокруг которого образовалось поселение на Боровицком холме, а следом за этим - и вся Москва, и вся Московская Русь. Погибший Камень был святыней национального значения.
На Юге Красной площади - Лобном месте - также происходили обрядовые действа, это место было названо "особым".
Чертольем назывался район к западу от Кремля. Здесь - редкостное скопление географических названий, имеющих языческую основу - Чертолье, Чертольские улицы, ручей Черторый, Волхонка, Власьева слобода и два Власьевских переулка.
Каждый, исповедующий традиционную веру пращуров, легко увидит происхождение этих названий. Всё языческое в христианские времена ассоциировалось с Чёртом. Волх - одно из имён бога земли и подземелий Велеса. Святой Власий - преемник Велеса в христианской традиции.
Сивцев Вражек также относится к языческой традиции. Вражками на московском говоре называли овраги; в нашем случае это овраг ручья Черторыя, берущего своё начало где-то у здания МИД и впадающего в Москва-реку у храма Христа Спасителя. А вот что означает Сивцев? Вспомним русскую поговорку: Бурка на горку, Сивка под горку, она упоминается при стаивании снегов в начале весны (когда же выпадает снег и приходит зима, говорят наоборот: Сивка на горку, Бурка под горку. Сивка и Бурка здесь обозначают цвет земной поверхности в соответствующий сезон (зимой - белый, летом - тёмно-коричневый). Они выступают как символы соответствующих божественных проявлений, поэтому "сивый" в своё время обозначало зиму. А зима - то время, когда власть над миром переходит к богам подземелья.
Таким образом, название Сивцев Вражек и другие выше перечисленные названия восходят к стихии бога земли и подемелий Велесу. Значит, именно этот Бог почитался в данной местности.
На Велеса косвенным образом указывает и упоминание чёрта в названии Чертолье - дело в том, что фольклёрный чёрт, как правило, живёт в болоте, и урочища, носящие названия чертовых, тоже обычно являются болотными. Болото же является зоной хтонических богов, в частности Велеса. Сохранились легенды, напоминающие сильно изменённые мифы о чертях как слугах или Воплощениях Велеса, да и многие научные разработки указывают на то же.
Где же конкретно находилось Велесово святилище? Средневековая повесть "Сказание о построении града Ярославля" даёт описание одного из капищ Велеса. Оно находится на дне лощины (что естественно - ведь здесь почитается Бог подземелий), мимо него прогоняют скот на пастбище (известно также, что Велес и покровитель скота).
Похоже, что в "Повести..." описано типичное капище Велеса, опираясь на него, "проверим" местность Чертолья.
Скорее всего капище находилось на дне оврага, по которому тёк (а возможно, и сейчас течёт по подземным трубам) ручей Черторый. Наиболее вероятной кажется точка, где овраг (ныне это Сивцев Вражек!) пересекается с Большим и Малым Власьевскими переулками. Раньше здесь находилось урочище Козье Болото. В этом названии - тоже языческие корни - ведь козёл был символом и воплощением рождающей силы земли. Кстати, с 16 века здесь располагалась слобода, специализировшаяся на скотоводстве. (Улица Остоженка также указывает на это: чуть дальше от Кремля были заливные луга, заготавливали сено для скота, местность называлась Остожье. - прим. Светлаока).
Где, кроме как в месте древнего почитания "скотьего бога" было бы наиболее удобно заводить скотоводческий промысел?
На роль Чертольского капища может претендовать ещё одна точка - место впадения Черторыя в Москва-реку. Очень уж примечательна судьба этого места, которое называют "проклятым местом" - оно примечательно тем, что здесь всегда строились храмы и у всех них была недолгая и печальная судьба. Два заглохших в древности монастыря, взорванный первый храм Христа спасителя, Дворец советов, "уплывший" на пойменных водах (его тоже можно отнести к культовым сооружениям), плавательный бассейн "Москва" - всех их "место" словно сбрасывало с себя, стремясь остаться свободным.
Черторый-по сути в названии говорится о вратах в царство Велеса, то бишь мир бродячих в Яви духов. Исток ручья должен был быть окружён святилищем (огнём).
В древности был весьма распространён тип священного места, условно называемый "сакральная пара". На территории Москвы их несколько: языческие святилища в Кунцево, Коломенском, изгиб реки у Воробьёвых гор... Такую пару составляют два капища: мужское и женское, находящиеся на противоположных сторонах реки. Если река делает изгиб, то образуется высокий "обнимающий" берег и "обнимаемый" заливной луг. На них-то и располагаются соответственно "мужское" и "женское" святилища.
Боровицкий холм и Замоскворечье замечательно подходят под определение пары. На Холме, как мы уже говорили, существовало мужское купальсое святилище, а за рекой мы можем предположить место почитания женского божества.
Название улицы Пятницкая указывает нам на женское божество: ведь Параскева Пятница заменила языческую Макошь - великую Мать, богиню смерти и рождения. На улице стоит церковь Параскевы Пятницы, имеющая условный статус "прощной", а по этнографическим свидетельствам (Афанасьев А.Н., Максимов С.В.) "прощами" назывались места поклонения Земле.
В христианские же времена слово "проща" стало обозначать прощение, а в таких церквах можно было получить прощение, снять и оставить грехи, исцелиться, как бы родившись заново. Таким образом, действия "прощи" как бы повторяли действия Богини-Матери. "Прощ" на всю старую Москву было всего три - две других находились в Чертолье. На весь север и восток города ни одной "прощи" нет.
Здесь же в Замоскворечье находится Болотная площадь - место казней. Впоследствии публичные казни были отменены, но по традиции, осуждённых привозили на Болото для своеобразной гражданской казни.
Традицию казней в этом месте можно расценить, что это область хтонических богов, которым свойственны не только потенции рождения, но в неменьшей степени потенции смерти, убийства.
Описанные выше четыре святилища составляют единую систему, некое единое целое.
Бог Красного холма - бог весны, утра, ярого жизненного роста, свойственного молодому организму. Празднества этого бога (условно назовём его Ярилой) отмечались весной, и в них преимущественно участвовала молодёжь.
Купала - бог, соответствующий максимальному подъёму солнца и жизненных сил природы. Он - бог жизненной зрелости. Купальские праздники отмечаются в середине года, когда год достигает своего апогея.
Велес - бог земли. Он собирает урожай, он плодороден и обилен, но в то же время он уже связан со смертью. Дни осени - времени почитания Велеса - движутся к зиме так же, как пожилой человек движется к смерти.
Состарившийся человек умирает, он как бы переходит в ведение подземных богов, среди которых - упомянутая Макошь. Жизненные силы природы, угаснув осенью, уходят под землю. Под землю уходит и солнце, оставляя мир во власти ночи. Воцаряется смерть. Но земля переваривает жизненную материю и подготавливает её Возрождение в новом виде.
Как мы видим, боги четырёх концов Москвы вполне соответствуют четырём фазам коловращения.
Капища Москвы можно условно назвать Московским Кругом. В каждом из участков Круга (Коло) проводились мистерии соответствующего времени года или человеческого возраста: на Красном холме - весенние мистерии и обряды, связанные со взрослением детей и молодёжи, на Боровицком холме - мистерии лета и т. д.
Кроме того, возможны были мистерии, включающие все точки одновременно. С высокого Красного холма открывается широкий панорамный вид на Боровицкий холм, на Замоскворечье и Чертолье. (Зрелище, по видимому, было захватывающим, когда одновременно в разных концах Москвы могли проводиться священные обрядовые действа. )
Кузьминки. Если верить старинной легенде, в Кузьминском парке, на берегу пруда у векового вяза (известного в народе как дерево смерти) и собиралась молодежь, приносили орехи и пироги, жгли костры, пировали.*
Царицыно. На том месте, где сейчас стоит баженовский дворец, в IХ - Х веках хоронили выдающихся воинов. С той поры, по преданию, люди в этих местах не приживаются, зато пообщаться с духами пращуров можно.
Кунцево. «Чертов нос» - так называли когда-то мыс между двумя оврагами на западной окраине парка, где находилось древнее Кунцевское городище с капищем, на котором совершали жертвоприношения.
Серия сообщений "капища, мои места, любимый лес":
Часть 1 - Тиуновское святилище
Часть 2 - Магические свойства деревьев
Часть 3 - Гамаюнщина
Часть 4 - коломна 2010
Часть 5 - капища Москвы
Часть 6 - нара
Часть 7 - Курская область, река Сейм
Часть 8 - Сінь камень
Часть 9 - СЛАВЯНСКИЙ ХРАМ В ГРОСС-РАДЕН/Gross Raden (БОДРИЧАНЫ-ГЕРМАНИЯ)
Часть 10 - Велесов овраг в Коломенском
|
Метки: капище |
Процитировано 1 раз
Александра Карачарова - Славянские древности |
Александра Карачарова - Славянские древности
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ПЕРВЫЕ БОЖЕСТВА
КНИГИ И ПРЕДАНИЯ
ОТРЕЧЕННЫЕ (ОТМЕННЫЕ) КНИГИ
ПРЕДАНИЯ СВАРОГОВА ЦИКЛА
ВЕЛЕСОВА (ВЛЕСОВА) КНИГИ
СЛУЖИТЕЛИ ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ
ЖЕРТВЕННЫЕ ОБРЯДЫ СЛАВЯН
ПРАЗДНИКИ
ВРЕМЕНА ГОДА
ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЕ В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ
ЖИВОТНЫЕ
МАТЬ - СЫРА ЗЕМЛЯ
ТРАВЫ
ДЕРЕВЬЯ
ВОДА
ГАДАНИЯ
Введение
История славян причудлива и полна загадок. Верно ли, что во времена великого переселения народов они явились в Европу из глубин Азии, из Индии, с Иранского нагорья? Каков был их единый праязык, из которого, как из семечка - яблоко, вырос и расцвел широкошумный сад наречий и говоров? Над этими вопросами ученые ломают головы уже не одно столетие. Их затруднения понятны: материальных свидетельств глубочайшей древности почти не сохранилось, - как, впрочем, и изображений богов наших далеких пращуров. А. С. Кайсаров в 1804 году в "Славянской и российской мифологии" писал, что в России потому не осталось следов языческих, дохристианских верований, что "предки наши весьма ревностно принялись за новую свою веру; они разбили, уничтожили всё и не хотели, чтобы потомству их остались признаки заблуждения, которому они дотоле предавались".
Такой ревностью отличались новые христиане во всех странах, однако если в Греции или Италии время сберегло хотя бы малое количество дивных мраморных изваяний, то древняя Русь стояла среди лесов, а, как известно, Царь - огонь, разбушевавшись, не щадил ничего: ни людских жилищ, ни храмов, ни деревянных изображений богов, ни сведений о них, писанных славянскими рунами на деревянных дощечках.
Вот так и случилось, что лишь негромкие отголоски донеслись до нас из далей языческих, когда жил, цвел, владычествовал причудливый мир славянской мифологии.
Понятие "мифология" здесь понимается достаточно широко: не только имена богов и героев, но и все чудесное, магическое, с чем была связана жизнь нашего предка - славянина : заговорное слово, волшебная сила трав и камней, понятия о небесных светилах, явлениях природы и прочем.
Встречаясь миром славянской мифологии, его обитателями, не веришь, что боги и таинственные силы порождены только лишь страхом перед природными катаклизмами. "В детском лепете языческого мышления, - писал в "Истории русской жизни с древнейших времен"И. Е. Забелин, - постоянно и неизменно слышится тот же вещий голос: я хочу всё знать, всё видеть, везде существовать. Ведь среди удивительных божеств, которым поклонялись наши предки, нет отталкивающих, уродливых, омерзительных. Есть злые, страшные, странные - но куда больше прекрасных, загадочных, добрых, умных" Как писал в начале XIX века Г. А. Глинка, автор книги "Древняя религия славян" славянская "вера из многих языческих есть чистейшая. Ибо их боги суть естественные действия, благотворением своим имеющие на человека влияние и служащие к страху и казни беззакония ..."
Первые божества
Солнце, месяц и звезды были первыми божествами древних славян. В народных сказках к солнцу, месяцу и звездам обращаются герои в трудных случаях жизни, и божество дня, сострадая несчастью, помогает им. Вместе с этим солнце является и карателем всякого зла, то есть, по первоначальному воззрению, - карателем нечистой силы, мрака и холода, неправды и нечестия.
По народному представлению солнце утром рождается или загорается, а вечером погружается в море на отдых: "Встань (пробудись)", - восклицает молодец в сербской песне. "Загоритесь, солнце и месяц", - произносит латышский заклинатель. "Солнце ся в море купае", "солнце спочило", - говорят галицкие и угорские русины. Весенние лучи солнца пробуждают природу от зимнего оцепенения. По мере приближения солнца к точке низшего его стояния, мрак и холод получают перевес над теплом и светом, природа замирает и застывает, скованная, как и само зимнее солнце, чарами злых духов преисподней, пока животворная сила возродившегося весеннего солнца не разобьет этих оков, не обогреет и не пробудит природу к новой жизни, к новой деятельности. Понятно, что при полной зависимости человека от положения солнца, весь строй его жизни сложился под влиянием этой зависимости.
Взгляд древнего славянина на благотворную природу солнца отражается в следующем отрывке из словинской обрядной песни, которая поется под липой, при встрече весны:
Ну постой, постой, солнце,
Ой румяное солнышко!
Я имею тебе многое поведать
И еще более спросить.
-Я не могу остановиться,
Я должно многое осветить,
Все долины и горы,
И всех моих сирот.
В песнях южных славян, именно сербских, очень часто упоминается о родстве солнца с прочими небесными светилами. Светлый месяц - его брат, денница - сестра. И на Руси луна и звезды считаются семьей солнца. Литвины признают месяц мужем, а звезды - детьми солнца.
Солнце в поговорках разных славянских народов является со значением божества благого, милосердного, приносящего счастье в дом, в который оно заглядывает: "Еще и в мое окно блисне (или: загрее) колись солнце - говорят галицкие русины, "де соньце, там и Господь" (малорусс.), "заглянець сонце и в наше воконце" (белорусс.) - обычные поговорки.
Солнце получило на народном языке наименования: бога, солнца - царя или князя, солнца божьего, чада божьего, солнца праведного, солнца красного, солнца светлого и пресветлого. Солнце призывают в песнях, причитаниях и заклинаниях, причем оно не редко именуется "матушкой", его просят проглянуть и осветить и обогреть землю, или подарить красоту (т. е. Озарить светом и как бы очистить лицо от некрасивого вида), его вопрошают как всевидящего и всеведущего бога о том, что происходит в далеких местах, молят о покровительстве и помощи в разных случаях, наконец, обращаются к нему с сетованиями и жалобами на недолю.
Болгарские девушки призывают солнце, когда оно нужно для сушки хлеба, сена и пр.:
Печи, печи слжнчище! Пеки, пеки, солнышко!
Из сербских песен:
- Жарко сунце, обасjаj ми лице! - Жаркое солнце, освети мое лицо!
- Сини жарко од истока, сунце! - Свети жарко с востока, солнце,
- И разведри мое блиjедо лице! - И развесели мое бледное лицо.
Из великорусских песен:
- Взойди, ясное солнышко,
Обогрей нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, со девицами.
Когда долго стоит пасмурная погода, дети вызывают солнце:
- Взойди, взойди, солнышко!
Сварим тебе борщику,
Поставим на елкою,
Покроем тарелкою,
Положим яичко,
Яичко скатится,
Солнышко схватится.
Из свадебной песни:
Свети, свети, месяц,
Нашему короваю!
Проглянись, проглянись, солнце,
Нашему короваю!
Из причитания, которым окликают усопших родителей:
Уж ты солнце, солнце ясное! Ты взойди, взойди с полуночи, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не во тьме сидеть, не с бедой горевать, не с тоской тосковать.
Солнце постоянно совершает свои обороты: озаряя землю днем, оставляет ее ночью во мраке; согревая весною и летом, покидает ее во власть холоду в осенние и зимние месяцы. Солнце ближе всех к обиталищу Бога. Отца у него нет, только мать. Солнце ест, пьет, спит. Однажды приглянулась ему молодка на земле, и захотелось ему жениться, но его отговорил еж, ссылаясь на стародавние указания: нехорошо божеству брать земную женщину!
Жилище Солнца на самом краю света, на небесах, но недалеко от земли; человек, если ему повезет, может туда попасть. Там живут русалки, самодивы, орисницы и другие духи и божества.
Поутру Солнце в хорошем настроении, потому сильно не припекает. К обеду оно оголодает, рассердится и жжет беспощадно. На заходе оно устает и хочет только одного: поскорее закатиться в свое жилище на берегу моря. Мать уже приготовила ему ужин - хлеб, мясо, вино. Никто не смеет нарушать трапезу Солнца. В это время оно рассказывает матери обо всем, что за день увидело на земле. После ужина оно приходит в доброе расположение духа и вскоре ложится почивать. Утром его пробуждает Денница, первая звезда на небосклоне.
Существует предание: когда Солнце готово выйти из своих чертогов, чтобы совершить дневную прогулку по белому свету, вся нечистая сила собирается и выжидает его появления, надеясь захватить божество небесного огня и умертвить его. Но при одном приближении Солнца нечисть разбегается, чувствуя свое бессилие.
Книги и предания
Отреченные (отменные) книги
Так именовались в древности "волшебные, чародейные, гадательные, и всякие от церкви возбраняемые книги и писания" привезенные на Русь из Византии и отчасти с Запада; к ним причислялись и те листы и тетрадки, в которых записывались народные заговоры, приметы, поверия и суеверные наставления.
Официально запретными и подлежащими немедленному уничтожению огнем признавались:
"Остролог" (другие названия: "Мартилой", "Острономия", "Звездочетец" и "Зодий"). В узаконении о ложных книгах сказано так: "Звездочетец" - 12 звезд; другой "Звездочетец", ему же имя "Шестодневец": в них же безумные люди верующие волхвуют, имут дней рождений своего, санов получения и уроков житию".
Это - сборник астрологических замечаний о вступлении солнца в различные знаки зодиака, о влиянии планет на счастье новорожденных младенцев (то же что "Рожденник", "Родословие"), а также на судьбы целых народов и общественное благоденствие: будет ли мор или война, урожай или голод, повсеместное здравие или моровая язва.
"Громник" или "Громовник" - заключает в себе различные, расположенные по месяцам, предзнаменования (о состоянии погоды, о будущих урожаях, болезнях и прочем), соединяемые с громом и землетрясением; к этому присоединяются иногда и заметки "о состоянии луны право или полого", с указанием на значении таких признаков в разные времена года.
"Молник"("Молнияник") - здесь собраны сведения, в какие дни месяца что предвещает удар молнии.
"Коледник" ("Колядник") - содержит в себе приметы, определяемые по дням, на какие приходится рождество Христово (праздник Коляды), например: "Аще будет Рождество Христово в среду - зима велика и тепла, весна дождева, жатва добра, пшеницы помалу, вина много, женам мор, старым пагуба".
"Мысленник" - вероятно то же самое, что "Разумник", содержащий сказания о создании мира и человека.
"Волховник" - сборник суеверных примет," еже есть се: храм трещит, ухозвон, воронограй, куроклик, окомиг, огонь бучит, пес выет" и прочее.
"Метание" ("Метаньеимец", или "Розгомечец") - книга гаданий посредством жребия.
Существовали также книги: "Записка о днях и часах добрых и злых" "Сносудец" ("Сонник") и др.
К сожалению, большинство отреченных книг было беспощадно истреблено еще при Алексее Михайловиче, отце Петра Великого: они сжигались возами, и судить об их содержании можно лишь по названию.
Наиболее древними преданиями являются предания Сварогова цикла.
Это предание о первом мире - мире Сварога и его детей, живших вместе на нашей планете Земля, называвшейся тогда Перстью.
Сварог есть творец всего мира, а дети его - Сварожичи. Этот мир - первое творение Сварога. Мир, в котором мы живем сейчас, - второе творение Сварога, как и мы, живущие в нем люди. По этому преданию, первый мир был рай, или, как его называли славяне, Ирий или Ярий, то есть светлый, яркий, лучезарный мир, в котором жили Сварожичи.
В те времена, гласит предание, весь мир пребывал в спокойствии и тишине. Сварожичи жили радостно и счастливо. А так как мир освещался всегда лазурным светом и ночи не было, то не было и тайн и секретов, а с ними не было и зла. Тогда на земле царила вечная весна, и природа была настолько богата, что Сварожичи не работали, как нынешние люди, чтобы пропитаться.
Так продолжалось долгое время, пока Сварог - Творец не отлучился с Перси - Земли и не ушел творить звездные миры. За себя он оставил старшего Сварожича - Денницу, которому и поручил управлять Сварожичами и всем Лазурным миром. Тогда Деннице пришла мысль попробовать творить, как это делал сам Сварог. Денница сотворил людей, помощников себе, начал с ними править Лазурным миром. Но поскольку люди не обладали свойствами и знаниями Сварожичей, они начали делать ошибки, и от этих ошибок произошло в Лазурном мире первое зло.
Против зла и действий Денницы восстали все Сварожичи, кроме тех, кто подчинялся Деннице непосредственно. Недовольства против Денницы породили столкновения, а столкновения разделили весь Лазурный мир на два воюющих лагеря: Денницу и его приверженцев - и верных заветам Сварога Сварожичей.
Разгневанный борьбой, Денница решил захватить чертоги Сварога и уничтожить защищавших их Сварожичей, верных Сварогу.
Началась война. Верные Сварогу Сварожичи: Перун, Велес, Огонь, Стрибог и Ладо - крепко держались в чертогах Сварога. Перун, сотрясая небеса, громом и молнией сбрасывал нападающих с Лазоревых небес, где стоял чертог Сварога. Вихрем - ураганом сбивал их Стрибог. Огонь жег - палил бунтующих, и те, обожженные падали на Персть. Велес и Ладо победными песнями поддерживали защитников, бросаясь в бой с врагами во все места, где враг одолевал защитников.
И вот прибыл Сварог. Простер свою десницу, и все замерло. Взмахнул - и все бунтовщики, как горящие звезды, посыпались дождем с небес на разрушенную Персть. Горящей звездой сверкнул падающий Денница - и вместе со своими единомышленниками пробил землю, и земля поглотила в своей пучине бунтующих.
Так погиб первый мир, первое творение Сварога. Так погиб первый мир, первое творение Сварога. Так родилось зло. И поднял Сварог свой чертог ввысь, и защитил его ледяной твердью. А поверх тверди сотворил новый Лазоревый мир и перенес туда Рай - Ирий и провел туда новую дорогу - Звездный путь, по которому течет Рая- река, чтобы этим путем достойные Рая - Ирия могли достичь его . И залил водою горящую Персть и из разрушенного , погибшего Лазоревого мира создал новый мир , новую природу , и назвал его Землею , что значит " пребывать в страдании ". И повелел Сварог всем бунтовщикам искупить свой грех и забыть свое прошлое, рождаться людьми и в страданиях только совершенствоваться, чтобы достичь, что утеряли, и вернуться очищенными к Сварогу, в Рай - Ирий.
По другому преданию, Сварог повелел Деннице стать светилом дня до окончания веков, чтобы освещать новый мир - Землю, оказывать людям помощь, согревать их сердца, чтоб через это тепло люди почувствовали правду - и в этом было искупление Денницы, породившего зло среди Сварожичей. Поэтому его стали величать Дажбог, ибо он давал тепло, траву для скота и хлеб для людей, и сами люди, памятуя, что они потомки первых людей, сотворенных Денницей, величали себя Дажбоговы внуки.
Перуну и Стрибогу повелел Сварог быть защитниками земной правды и хранителями ее, защитниками людей и всего живущего. Перуну еще было поручено изливать семя - жизнь на Землю, а Стрибогу - гнать тучи по лесам, полям и лугам, чтобы из них изливалось семя - жизнь, а в знойные дни навевать прохладу природе и уставшим людям. В дни же несчастий и горя нестись бураном, ураганом, чтобы напоминать людям, что их удел жить в правде, а не во зле. Мудрому Велесу, или Влесу, - учить знаниям людей, учить порядку в жизни, труду, счету и письму, слагать песни и былины.
Лишь в начале XIX века стало известно о существовании Велесовой (Влесовой) книги.
Это перевод священных текстов новгородских волхвов IX века, в которой рассказана древнейшая история славян и других народов. Славяноведы узнали о ней лишь в нынешнем веке, да и то - до нас дошло очень немного дощечек с непонятными, трудно поддающимися расшифровке письменами. К сожалению, от единственного в мире священного текста славянской ведической религии мало что сохранилось, но ценность "Влесовой книги" не измерима. Она разрешает давний спор о происхождении славян, восстанавливает целый пантеон прежде неведомых языческих богов, которым поклонялись наши предки. Согласно "Влесовой книге", их было великое множество: Сварог, Перун, Свентовид, Чернобог с Белбогом. Велес, Хорс, Стрибог, Вышень, Леля, Коляда, Удрзец, Сивый Яр, Белояр, Ладо, Купала, Сенич, Житнич, Зернич, Студич, Лютич, Ледич, Птичич, Зверинич, Дождич, Ветрич, Травич, Родич, Водич, Звездич, Горич, Страдич, Спасич, Мыслич, Ратич, Стринич, Симаргл, Огнебог ...
Некоторые имена нам знакомы, о смысле других можно догадаться, ну а многие останутся покрыты вечной тайной, как и происхождение "Влесовой книги", ее подлинность или мнимость - как и вообще вся загадочная, неисследованная, непонятная и величественная история и мифология славянских народов.
Вначале Велесова книга призывает склониться перед Триглавом. Триглав - это Сварог, Перун и Святовит.
Сварог - "старший бог Рода божьего", - он - "родник всему Роду."
Родом древние славяне называли всю Вселенную, включающую в себя всех богов - и небесных и пекельных. Род выступал в двух ипостасях: как бог Вселенной, и как домашний бог - предок, пращур. В обеих своих ипостасях он упоминается и в Велесовой книге. Род - отец и мать всех богов, в сущности - это сама Вселенная.
Сварог, так же как и Род, - это небесный источник, родник, который "течет из крыни", небесного источника жизни. Сварог является и небесным кузнецом. От его ударов по наковальне разлетаются искры - молнии. Подобным образом - с молотом либо с мечом в руках - славяне видели и Перуна.
Перун - Грозное славянское божество. Он почитался производителем всех воздушных явлений: рука его управляла громом и молниями. Истукан сего божества был сделан не из одного вещества: стан был вырезан из дерева; голова вылита из серебра; уши и усы изваяны из золота; ноги же выкованы из железа; в руке держал нечто, похожее на молнию, которую представляли вместе составленные рубины и карбункулы. Перед ним горел неугасимый пламень, за небрежение коего жрец наказывался смертью, состоящую в сожжении его как врага божества сего. Из посвященных ему вещей были целые леса и рощи, из коих взятие всякого сучка почиталось достойным смерти святотатством.
В 988 году, когда князь Владимир принял христианскую веру, он повелел истребить все кумиры, и Перун, как важнейший из богов, получил и большее наказание перед прочими богами. В Киеве привязали его к лошадям и таким образом тащили по городу до реки, а между тем двенадцать молодых людей били его палками, а потом бросили в реку. Однако жрецы его долго бежали по берегу с криками: "Выдыбай (то есть выплывай), боже!"
В Новгороде Великом, до утверждения там культа Перуна, существовало святилище Бога - Коркодила. Новгородские гусли, древнерусский ритуальный инструмент, украшались изображением жертвоприношения некоему ящеру.
О низвержении же Перуна в Новгороде рассказывают вот что.
Процессия была здесь такая же, что и в Киеве; только новгородский Перун отличался от первого тем, что он до глубины сердца проникнут был своею участью; и в то время как его влекли по городу, не мог он удержаться, чтоб не воскликнуть громко: "О горе мне! Вчере еще меня почитали, а ныне посрамляют!" Когда с моста низвергли его в реку, то, говорят, поплыл он против стремления воды, бросил от себя палку и вскричал: "Жители новгородские! Это оставляю вам в память мою!" Наконец, утомясь от плавания, Перун пристал к берегу в некотором удалении от Новгорода.
В память сего на том месте построен был монастырь, названный Перунским.
Некоторые русские летописи повествуют, что долгое время потом юноши новгородские собирались в известный день и били друг друга палками; они утверждали, что это было сделано в воспоминание о брошенной Перуном палки.
Святовит - бог неба и света у западных славян. Четырехглавое изваяние Святовита стояло в главном святилище балтийских славян в Арконе на острове Руян. Судя по Велесовой книге, почитали Святовита не только в западных славянских землях, но и в Северной Руси и в Новгороде. Эта вера была принесена в Новгород переселенцами из западных земель - ободритами, руянами.
Древние славяне верили в единого небесного Бога, но называли его разными именами: Сварогом, Перуном, Святовитом - и, наконец, Триглавом, то есть - Троицей.
Значит, Сварог - Бог отец, Перун - сын, Святовит - святой дух. Они составляют дохристианскую Троицу. Велесова книга говорит о "Великой тайне" триединства Перуна, Сварога и Святовита. Остальные боги подчиняются Небесному Вседержителю - Триглаву.
Есть и исторические свидетельства о почитании древними славянами Триглава. Культ Триглава был известен у поморянских славян, в первых городах Поморья в Щетине и Волыне главные храмы были посвящены Триглаву. Щетинские жрецы учили, что Триглав их высший Бог и что Он благосклонен к человеческому роду.
Велес - бог скотоводства и богатства, бог хозяйской мудрости, в своей хтонической ипостаси - проводник в загробный мир.
В раннем своем воплощении, еще в палеолитической древности, Велес считался звериным богом и принимал облик медведя. Он был покровителем охотничьей добычи, "богом мертвого зверя".
Это в его честь рядятся в звериные маски и тулупы на святки и на масляницу: в прежние времена в эту пору отмечали комоедицы, праздник пробуждения медведя. Это были Велесовы дни славянского языческого календаря.
В бронзовом веке, в пору пастушьих переселений, Велес - медведь сделался в народном сознании покровителем домашних животных и богом богатства -" скотьим богом".
В древнем Киеве кумир его стоял на Подоле, в нижней части города, и пользовался величайшим почитанием наших далеких праотцов.
Купало - божество, истукан которого стоял в Киеве. Это веселый и прекрасный бог, одетый в легкую одежду и держащий в руках цветы и полевые плоды, на голове имеющий венок из ярких, желтых цветов - купальниц, бог лета, полевых плодов и летних цветов.
Купало причисляли к знатнейшим богам. Он почитался третьим после Перуна и вторым после Велеса: ибо, после плодов скотоводства, земные плоды всего более служат человеку и составляют его богатство. В начале жатвы, т. е. 24 июня, приносили ему жертвы.
Тогда на полях зажигали большие костры; а юноши и девицы, цветами увенчанные и перепоясанные, плясали около огня при радостном пении; наконец, скакали они и гнали свое стадо через огонь, думая через то обезопасить свое стадо от леших, или лесных духов, распевая:
Купала на Ивана!
Купала на Ивана!
Бежал Иван -
Да в воду упал!
Купала на Ивана!
Купала на Ивана!
Доселе еще те святые, коих именины празднуются в этот день российской церковью, сохранили от идола Купалы прозвания свои: Иван Купала и Аграфена - купальница.
Славянские боги были грозны, но справедливы, добры. Они как бы родственны людям, но в то же время призваны исполнять все их чаяния. Перун поражал молнией злодеев, Лель и Лада покровительствовали влюбленным, Чур оберегал границы владений, Припекало приглядывал за гуляками...
Служители языческих богов
Всякая народная вера предполагает обряды, совершение которых поручается избранным людям, уважаемым за их добродетели и мудрость. Это посредники между народом и духом или божеством. Такие люди назывались волхвами, жрецами, ведунами и ведуньями.
Не только в капищах, но и при всяком освященном древе, при всяком святом источнике находились хранители, которые жили подле, в маленьких хижинах, и питались остатками жертв, приносимых божествам. Жрецы - волхвы руководили обрядами языческого богослужения, приносили жертвы от имени всего народа, составляли мудрые календари, знали "черты и резы" (древняя письменность), хранили в памяти историю племен и стародавние предания, мифы.
В составе жреческого сословия было много различных разрядов. Известны волхвы - облакопрогонители или облакопрогонники, которые должны были предсказывать - и своим магическим действием создавать необходимую людям погоду. Были волхвы - целители, лечившие людей средствами народной медицины; позднейшие церковники признавали их врачебные успехи, но считали грешным обращаться к ним. Существовали волхвы - хранители, которые изготовляли различные амулеты - обереги и изображения богов. Волхвы - кощунники - так назывались сказители "кощун", древних преданий и эпических сказаний. Сказителей называли также "баянами" - от глагола "баять" - рассказывать, петь, заклинать.
Кроме волхвов существовали и женщины - колдуньи, ведьмы (от "ведать" - знать), чаровницы, "потворы".
Жрецы пользовались народным уважением, имели исключительное право отпускать длинную бороду, сидеть во время жертвоприношений и входить в святилище во всякое время. Правители народа приветствовали почтительность к жрецам. Многие жрецы за свою близость к богам получали неограниченное доверие народа и приобретали огромную власть.
Так первосвященник Рюгенский, уважаемый более самого короля, правил многими славянскими племенами, которые без его согласия не дерзали ни воевать, ни мириться; налагал подати; содержал сильную армию, и ни единое народное решение не могло быть принято без его согласия, хотя он был всего лишь устами бога на земле.
Жрецы приносили богам жертвы и предсказывали будущее.
Место приношения жертв богам и божествам называлось капищем или требищем. Святилища под открытым небом нередко были круглыми, состоящими из двух концентрических валов, на которых разводились круговые костры. Во внутреннем кругу ставились идолы, обычно деревянные; здесь горел жертвенник и здесь "жрали бесам", то есть приносили жертвы богам. Это именовалось капищем. Внешний круг, вероятно, предназначался для потребления жертвенной ритуальной пищи и назывался требищем. Круглая форма святилищ определила их название хоромами (от "хоро" - круг), а в ином произношении - храмами. Позднее христианские церковники удержали это древнее слово за православными ритуальными зданиями, хотя их форма и не соответствует этимологии слова "храм".
Порою славяне служили своим богам прямо в лесу или в горах, на берегах рек или моря, например, Студенец сам был святилищем, да и каждый омут, в котором мог затаиться водяной, каждая березка, где качались русалки, была капищем. Волхвы в присутствии народа совершали обряды веры на природных алтарях, которыми служили огромные камни, величавые деревья, вершины гор. Но с течением времени, желая сильнее воздействовать на людей и почтительнее служить богам, Жрецы защитили своих кумиров от дождя и снега кровлею, и такое простое здание было названо храмом. Позднее славяне стали строить высокие деревянные храмы, украшая их резьбою.
Большинство славянских земель окружали леса, но северо - западные племена жили на берегу моря или в горах, где было много камня для строительства еще более величественных и прочных храмов. Путешественники тех времен оставили восхищенные отзывы об этих святилищах.
В святилищах возвышалась статуя бога, которому сей храм был посвящен. Например, в древнем городе Штетине, по отзывам древних путешественников, было четыре храма, и главный из них отличался своим художеством, украшенный внутри выпуклыми изображениями людей, птиц и зверей, так сходных с природою, что они казались живыми. Краски с внешней стороны храма не смывались дождем, не бледнели и не тускнели.
Следуя древнему обычаю предков, жители города отдавали в храм десятую часть своей воинской добычи и оружие побежденного врага. В святилище хранились серебряные и золотые чаши, из которых в торжественных знатные люди ели и пили, рога буйволов, оправленные золотом: они служили и чарами и трубами.
Прочие драгоценности, там собранные, удивляли своим богатством. В трех других капищах, не столь украшенных и менее священных, были вокруг стен поставлены лавки, так как славяне любили собираться в храмах для обсуждения важных дел, а так же для пиров и веселья.
Описывают, что и деревянный храм Арконский был срублен весьма искусно, украшен резьбою и живописью; одни врата служили для входа в его ограду; внешний двор, обнесенный стеною, отделялся от внутреннего только пурпурными коврами, развешанными между четырьмя столбами, и находился под одной с ним кровлею. В святилище стоял идол Святовида, а в отдельном здании хранились казна и драгоценности.
Храм в Ретре, также деревянный, славился изображениями богов и богинь, вырезанных на внешних его стенах; внутри стояли кумиры в шлемах и латах, а в мирное время там хранились знамена. Это место окружал дремучий лес: сквозь просеку, вдали, виднелось море в виде грозном и величественном.
Славяне с уважением относились к святыням храмов и даже в неприятельских землях старались не осквернять их.
В древнейшие времена славяне убивали во имя богов животных, но порою обагряли свои требища кровью пленников или выбранных по жребию несчастных. Это было свойственно в те немилосердные времена, ибо жизнь человека тогда не дорого ценилась: слишком много опасностей подстерегало людей на их жизненном пути.
Очень интересны жертвенные обряды славян.
До нас дошли две старинные обрядные песни восточных славян. Первая из них поется во время ночного шествия, служащего изгнанию "коровьей смерти" (злое существо, несущее гибель всему крестьянскому стаду). В ней изображается умилостивительное жертвоприношение, при котором произносится проклятие на смерть (заклинается смерть):
...Старцы старые...
Колят, рубят намертво
Весь живот поднебесной.
На крутой горе, высокоей,
Кипят котлы кипучие.
В тех котлах кипучих
Горит огнем негасимым
Всяк живот поднебесной.
Вокруг котлов кипучих
Стоят старцы старые,
Поют старцы старые
Про живот, про смерть,
Про весь род человечь.
Кладут старцы старые
Всему миру животы долгие.
Как на ту ли злую смерть
Кладут старцы старые
Проклятие великое.
В другой песне - святочной, изображено приготовление к жертвенному закланию козла на Коляду (воплощение исконно повторяющегося годового цикла), что несомненно подтверждает как повторяющийся в песне несколько раз припев: "Ой колядка!", так и прямое указание в песне на пение молодцами и девицами "песен колядушек":
За рекою за быстрою,
Ой колядка, ой колядка!
Леса стоят дремучие,
В тех лесах огни горят,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы
Поют песни колядушки.
Ой колядка, ой колядка!
В середине их старик сидит,
Он точит свой булатный нож.
Котел кипит горючий,
Возле котла козел стоит,
Хотят козла резати.
Ой колядка, ой колядка!...
По совершении общественного жертвоприношения следовало съедение мяса жертвенного животного - жертвенная трапеза (пиршество) и попойка с играми, песнями и плясками.
В песне, исполняемой при изгнании "коровьей смерти", старцы, прежде чем приступить к закланию животных,
Ставят столы белодубовые,
Стелят скатерти браные.
Очевидно, в этих стихах изображены приготовления к предстоящему жертвенному пиршеству. Мясо жертвенных животных варится в "котлах кипучих", с тем, чтобы впоследствии быть съеденным жертвователями. Такое же назначение, несомненно, имеет и мясо упоминаемого в святочной песне козла, обреченного на заклание. Его собираются резать возле пылающего костра и кипящего "котла горючего". В некоторых местах России крестьяне при запашке варят брагу, носят в церковь освящать часть баранины, черного петуха и хлебы, и потом пируют сообща целой деревней. Кроме того, существует обычай, в известные праздничные дни, например, Ильин день, Петров день, день Прокопия - жатвенника и прочие, убивать и затем варить или жарить и съедать купленного на общественный счет быка, теленка или барашка, резать и съедать "рождественского кабана", "пасхального барашка" и тому подобное.
Все это представляет несомненные остатки языческих жертвоприношений со следовавшими за ними общественными пирами. Барашка, зарезанного в день Прокопия - жатвенника, едят с песнями и плясками. Несъедобные части жертвенного животного (голова, кости, внутренности и прочее), по совершении над некоторыми из них гадания, если оно входило в обряд жертвоприношения, вероятно, зарывались в землю, сжигались или топились в воде, или же, наконец, сохранялись как чудодейственный талисман. На это указывают ныне соблюдаемые обычаи зарывать кости пасхального барашка на нивах, с целью предохранения последних от града, или сберегать, и затем бросать их в огонь во время грозы, что бы молния не ударила в избу, зарывать в укромном месте кости рождественского кабана, также кости зарезанного под новый год поросенка, топить перья, внутренности и кости "кур - троецыплятниц" и тому подобное.
Пиры и попойки естественно соединялись с играми и песнями: "Схожахуся на игрища, - пишет Нестор, - на плясанья и на все бесовские игрища", и в другом месте: "но сими дьявол льстит и другими нравы, всяческими лестьми, прибавляя ны от Бога, трубами и скоморохи, гусльми и русальи".
У северных славян жрецы гадали с помощью коней. В Арконском храме держали белого скакуна, и люди не сомневались, что Святовид ездит на нем каждую ночь. Ожидая какого - то важного пророчества, коня принуждали переступать через копья: если он ступал правою, а не левою ногой, народ ожидал славы и богатства, всяческой удачи. Ну а в Штетине такой конь - пророк был вороной и предвещал успех, если ни разу не касался ногами девяти копий, когда перешагивал через них. В Ретре гадатели обращались к земле, к ее недрам. Некоторые жрецы, вопрошая будущее, бросали на землю три маленькие дощечки, у которых одна сторона была черная, а другая белая: Если они ложились вверх белою, то обещали что - то хорошее; черная же предвещала беду.
Праздники
Уже около двух тысяч лет известны славянские календари. На одних из них "чертами и резями" воспроизводился весь год, на других - его летняя или зимняя часть, отмечались главные празднества.
В древности год начинался 1 марта, когда праздновали Авсень (Овсень, Таусень, Усень). Чтобы закликать весну, выпекали из теста "жаворонков", "куликов", дети забирались с ними на крыши сараев, на деревья и призывали теплую раннюю весну. Тем временем взрослые собирались на пригорках, пели "веснянки", обращаясь к аистам и журавлям: скорее несите на крыльях благодатное весеннее времечко. На берегах рек раскладывали костры, водили хороводы. С крыш домов сбрасывали снег, талою водою поили больных. И наконец при всеобщем ликовании сжигали чучело Мары - олицетворение смерти и зимы.
Спустя три недели, в день весеннего солнцестояния, справляли веселую разгульную Масляницу. Обычно облачали соломенную куклу в кафтан, надевали шапку, обували лапти и усаживали в большие сани, куда впрягали несколько лошадей. За санями шествовали ряженые, причем девушки были в мужской одежде, а парни - в женской. Объехав всю деревню, направлялись в соседнюю, где буйствовали весь следующий день. А на третий день Масляницу сжигали - с шуточками, непристойными выкриками, бранью и глумлением над раздетым чучелом. В конце недели поминали предков, выпускали на волю птиц из клеток, окуривали одежду над кострами - то, было, начало как бы новой жизни, прощание с зимою, подготовка к лету.
Зеленые Святки или Семик, - праздник подрастающих семян, молодой листвы, первых цветов. В эту "русальную неделю", когда начиналось лето красное, веселье не утихало ночью и днем. "Похороны русалок", "Похороны кукушки", "Похороны Костромы" - этими ритуалами прощались с весною, а наступившее лето олицетворяла береза. Ее ветками украшали жилища, а само дерево - цветными лентами и полотенцами; иногда березоньку обряжали в платье и водили вокруг нее хороводы. В Семицкую неделю поминают усопших и совершается обряд крещения кукушек (наши древние верования рисуют человеческую душу в образе кукушки; в народных украинских песнях кукушка прилетает горевать над умершим; она - олицетворение сердечной печали по покойникам. В свадебной песне невеста - сирота посылает кукушку за своими умершими родственниками, чтобы они пришли с того света благословить ее на новое счастливое житье). Девицы приходят в рощу, отыскивают две плакучие березки, надевают на них венки из цветов, нагибают и связывают их ветви разноцветными лентами, платками и полотенцами в виде венка; над венком кладут траву - кукушку или рукодельное чучело птицы, а по сторонам привешивают кресты. Две девицы, желающие покумиться (крестить кукушку), должны обойти вокруг этих берез - одна навстречу другой, потом трижды поцеловаться сквозь венок и сквозь венок же передать друг дружке желтое или красное крашеное яйцо.
Хоровод в это время поет:
Ты кукушка ряба,
Ты кому же кума?
Покумимся, кумушки,
Покумимся, голубушки!
Названные кумушки обмениваются крестами и кольцами, а "кукушку" разделяют на три части и хранят у себя на память о кумовстве. Затем всегда следует веселое пиршество, необходимой принадлежностью которого бывает яичница.
Те, которые покумились на Семик, ходят на Троицын день развивать венки или бросать их в воду, при чем поют:
Раскумимся, кумушки!
Раскумимся, голубушки!
Да йо, йо -
Семик да и Троица!
От Зеленых Святок до праздника Купалы - рукой подать. Купало - божество лета, полевых цветов и плодов. К этому времени все травы набирают целебную и сверхъестественную силу, поэтому в Купальскую ночь и на следующий день следовало запастись лечебным зельем впрок.
В ночь на Ивана Купалу искали в лесу заветный цветок папоротника, дабы отыскивать плоды. Велик был соблазн разбогатеть в одночасье - но и опасности подстерегали смельчака немалые, ибо Купало - еще и празднество водяных, леших, ведьм, русалок, колдунов.
После дня Перуна (20 июля) следовали праздники урожая: медовый Спас, горохов день, хлебный Спас, овсяница, складчины и братчины - вплоть до Покрова дня (1 октября), когда земля уже покрывалась снегом.
Самый длинный и самый шумный ежегодный праздник на Руси - зимние Святки (с 25 декабря по 6 января). Солнце поворачивало на лето, хотя зима все еще была впереди. Первые шесть вечеров Святок были "святыми", последующие шесть - "страшными", ибо нечисть разного рода пускалась в разгул и всячески вредила людям. На Святках гадали о будущем урожае, о женихах и невестах, о собственной судьбе.
В 1492 г., когда исполнилось семь тысяч лет от мифического сотворения мира, Новый год перенесли на 1 сентября, а позднее - на 1 января. Однако праздники и связанные с ними обряды сохранились на Руси, как и в старину.
Времена года
В последовательных превращениях природы древние племена усматривали не проявление естественных законов, а действие одушевленных сил - благотворных и враждебных, их вечную борьбу между собою, торжество то одной, то другой стороны. Поэтому времена года представлялись нашим предкам не отвлеченными понятиями, но живыми воплощениями стихийных богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных высот на землю и устраивают на ней свое владычество. По указаниям старинных пасхалий (календарей), "весна наречется, яко дева, украшена красотою и добротою, сияющее чудно и преславне... Лето же нарецается муж тих, богат и красен, питая многи человеки и смотря о своем дому, и любя дело прилежно, и без лености возстая заутра до вечера и делая без покоя. Осень подобна жене уже старе и богате и многочадне; иногда печальна от скудости плод земных и глада человеком, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодом всем, и тиха и безмятежна. Зима же подобна мачехе злой и нестройной и нежалостливой, яре и немилостиве; егда милует, но и тогда казнит; егда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит, и мучит грех ради наших".
Зима дышит на все встречное таким леденящим дыханием, что даже нечисть, о которой добрые люди боятся вспоминать на ночь, (а если кто и обмолвица ненароком, то тут же оговаривает свою ошибку словами: "Не к ночи будь помянут!"), даже все духи тьмы торопятся укрыться подобру - поздорову куда - нибудь подальше да поглубже от краснощекой, белолицей красавицы, замораживающей своими поцелуями кровь в жилах. Слуги Зимы - метели, вьюги, поземки - поползухи. Длинной свитою тянутся они по следу госпожи, просят у нее заделья, и уж когда дает им Зима работу, крутятся над землей снежные вихри, метут метели, бушуют бураны. Зима старается, чтобы все вокруг было белым - бело, снежным - снежно. В самом начале своем несет Зима всем людям веселые, светлые праздники: Рождество, Новый год, Крещение. Однако идет время, Зима стареет, и тогда жди от нее пакостей вроде Коровьей Смерти - болезнетворной, злобной старухи, которая в феврале особенно старается проникнуть в деревни. Да и лихоманки - лихорадки, злобные сестры, особенно свирепствуют зимою. И к марту - месяцу, накануне прихода Весны - Красной девицы, Зима в народном представлении обращается в уродливую, зловредную старуху, которую мы мечтаем как можно скорее спровадить туда, откуда пришла: за гора - за моря, в снеговые, ледяные хоромы, чтобы насладилась теплом уснувшая земля, пробудилась и расцвела.
Поэтические олицетворения времен года шли из глубокой древности и принадлежали славянам наравне со всеми другими родственными племенами.
Более наглядные олицетворения времен года встречаем у белорусов. Весну они называют Ляля, лето - Цеця, осень - Жыцень, зиму - Зюзя.
Леля представляется юной, красивой и стройной девой; существует поговорка: "Пригожа, як Ляля!" В честь ее празднуют накануне Юрьева дня, и праздник этот известен под именем Ляльника. На чистом лугу собираются крестьянские девушки; избравши самую красивую подругу, они наряжают ее в белые покровы, перевязывают ей руки, шею и стан свежей зеленью, а на голову надевают венок из весенних цветов: это и есть Ляля.
Она садится на дерн; возле нее ставят разные припасы (хлеб, молоко, масло, творог, сметану, яйца) и кладут зеленые венки; девицы, взявшись за руки, водят вокруг Ляли хоровод, поют обрядовые песни и обращаются к ней с просьбой о хорошем урожае. Ляля раздает им венки и угощает всех приготовленными яствами.
Венки и зелень, в которые наряжалась Ляля, сберегают до следующей весны.
Цеця - дородная красивая женщина; в летнюю пору она показывается на полях, убранная зрелыми колосьями, и держит в руках сочные плоды.
Жыцень представляется существом малорослым, худощавым, пожилых лет, с суровым выражением лица, с тремя глазами и всклоченными, косматыми волосами.
Он появляется на нивах и огородах после снятия хлеба и овощей и осматривает: все ли убрано как следует в добром хозяйстве. Заприметив много колосьев, не срезанных или оброненных жнецами, он собирает их, связывает в сноп и переносит на участок того хозяина, где хлеб убран начисто, то есть с бережливостью; вследствие этого на будущий год там, где Жыцень подобрал колосья, оказывается неурожай, а там, куда перенес он связанный сноп, бывает обильная жатва.
Когда Жыцень странствует в виде нищего и при встрече с людьми грозит им пальцем, это служит предвестием всеобщего неурожая и голода в следующем году. Во время осенних посевов он незримо присутствует на полях и утаптывает в землю разбросанные зерна, чтобы ни одно не пропало даром.
Зюзя - старик небольшого роста, с белыми что снег волосами и длинной седой бородою, ходит босой, с непокрытою головою, в теплой белой одежде и носит в руках железную булаву. Большую часть зимы проводит он в лесу, но иногда заходит и в деревню, предвещая своим появлением жестокую стужу.
Природа и животные в славянской мифологии
Животные
У южных славян существует поверие: давным - давно все животные были людьми, но впоследствии, те из них, кто приносил ложные клятвы, оскорблял мать, злодействовал, насильничал, были обращены в животных, рыб и птиц.
Любое животное видит все, слышит все и даже все предвидит; более того, оно знает и то, что чувствует человек. Этот божественный дар получен взамен дара речи. Впрочем, будучи лишены человечьей речи, животные разговаривают между собой. Рыбы, растения, даже камни когда - то были наделены речью, свободно общались друг с другом. Недаром же существуют пословицы: "И у горы есть глаза", "И стены имеют уши", "И камни говорят".
Своим неуклюжим обликом запечатлелся во многих пословицах, поговорках, прибаутках и загадках лесной воевода медведь. Его русский народ окрестил Мишкой, Михайлой Иванычем, Топтыгиным. Если его не трогать, незлобив и даже добр он по - своему, по - медвежьему. Но охотникам, выходящим на него с топором да с рогатиной, совсем напрасно полагаться на его доброту: того и гляди из "косолапого мишки" превратится в свирепое лесное чудовище. "Отпетыми" зовут завзятых медвежатников, при каждом выходе на охоту провожая их как на смерть. "Медведь - лешему родной брат, не дай бог с ним встренуться!" - говорят лесные жители. По медвежьему хотению и зима студеная длится: как повернется он в своей берлоге на другой бок, так и зиме ровно половина пути до весны осталась.
Патрикеевною и Кумушкой зовет народ лису. "Лисой пройти" равносильно со словом схитрить; есть даже особое слово - "лисить". Лиса - слабосильнее волка да, благодаря своей хитрой повадке, куда сытее его живет.
Она - "семерых волков проведет": как ни стереги собака от нее двор, а курятинки добудет. "Лиса и во сне кур у мужика во хлеве считает!", "У лисы и во сне ушки - на макушке!", "Где я лисой пройдусь, там три года ауры не несутся!", "Кто попал в чин лисой, будет в чине - волком!", "Когда ищешь лису впереди, она - позади!", "Лиса все хвостом покроет!" - перебивают одна другую старинные пословицы и поговорки. "У него лисий хвост!" - говорится о льстивых хитрецах.
Воплощением слабости и робости является заяц. "По лесу - лесу лисье жаркое в шубке бежит!" - говорят про него. "Труслив, как заяц!" - говорят в просторечии о робких не в меру людях. Заяц не только воплощение трусости, но и олицетворение быстроты. Поэтому быстрое, едва уловимое мелькание отблеска солнечных лучей на стенах, потолке и полу называется зайчиком. Это название в народе относится и к синим огонькам, перебегающим по горящим углям.
Простонародное суеверие не советует вспоминать о зайце во время купания: водяной утопить за это может.
Удивительно, но заяц издревле был еще и воплощением сладострастия, мужской силы. Как поется в одной из хороводных песен:
Заюшка, с кем ты спал да ночевал,
Беленький, с кем ты спал да ночевал? -
Спал я, спал я, пане мой,
Спал я, спал я, сердце мой,
У Катюхи - на руке,
У Марюхи - на грудях,
А у Дуньки вдовиной на всем животе.
До сих пор в народе верят: зайца увидеть во сне - к скорой беременности. А у южных славян, для подмоги способу естественному, еще надо выпить кровь молодого зайца.
Самый любимый и важный персонаж в славянской мифологии с древнейших времен и до наших дней - Мать - Сыра Земля.
Мать - Сыра Земля представлялась воображению язычника, обожествлявшего природу, живым человекоподобным существом. Травы, цветы, кустарники, деревья казались ему ее пышными волосами; каменные скалы признавал он за кости; цепкие корни деревьев заменяли жилы, кровью земли была сочившаяся из ее недр вода. И, как живая женщина, она рождала существ земных, она стонала от боли в бурю, она гневалась, учиняя землетрясения, она улыбалась под солнцем, даруя людям невиданные красоты, она засыпала студеною зимою и пробуждалась по весне, она умирала, обожженная засухой. И, точно к истинной матери, прибегал к ней человек во всякую пору своей жизни. Припадет богатырь к сырой земле - и преисполнится новых сил. Ударит в землю копьем - и она поглотит черную, ядовитую змееву кровь, воротив жизнь загубленным людям.
Кто не почитает земли - кормилицы, тому она, по словам пахаря, не даст хлеба - не то что досыта, а и в впроголодь; кто сыновьим поклоном не поклониться Матери - Сырой Земле, на гроб того она ляжет не пухом легким, а тяжелым камнем. Кто не захватит с собою в дальний путь горсти родной земли - никогда не увидит больше родины, верили наши предки.
Больные в старину выходили в чистое поле, били поклоны на все четыре стороны, причитывая: "Прости, сторона, Мать - Сыра Земля!" "Чем заболел, тем и лечись!" - говорится в народе , и советуют старые люди выносить тех, кто ушибся - разбился, на то самое место и молить землю о прощении.
Земля и сама по себе почитается в народе целебным средством: ею, смоченной в слюне, знахари заживляют раны, останавливают кровь, а так же прикладывают к больной голове. "Как здорова земля, - говорится при этом, - так же и моя голова была бы здорова!"
"Мать - Сыра Земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота и лихого дела!" - произносится кое - где еще и теперь при первом выгоне скотины на весенний подножный корм.
"Пусть прикроет меня Мать - Сыра Земля навеки, если я вру!" - говорит человек, давая клятву, и такая клятва священна и не рушима. Те, кто братается не на жизнь, а на смерть, смешивают кровь из разрезанных пальцев и дают друг другу по горсти земли: значит, отныне родство их вечно.
А в стародавние годы находились такие ведуны - знахари, что умели гадать по горсти земли, взятой из - под левой ноги желающего узнать свою судьбу.
"Вынуть след" у человека считается и теперь самым недобрым умыслом. Нашептать умеючи над этим вынутым следом - значит, по-старинному поверию, связать волю того, чей след, по рукам и ногам. Суеверные люди боятся этого как огня. "Матушка - кормилица, сыра земля родимая, - отчитываются от такой напасти, - укрой меня от призора лютого, от всякого лиха нечаянного. Защити меня от глаза недоброго, от языка злобного, от навета бесовского. Слово мое крепко, как железо. Семью печатями оно к тебе, кормилица Мать - Сыра Земля, припечатоно - на многие дни, на долгие годы, на всю жизнь вековечную!"
По воззрению южных славян, земля плоская и круглая. На краю света купол неба соединяется с Землею. Землю держит на роге вол или буйвол; время от времени он устает и перебрасывает ношу на другой рог - отсюда и землетрясения.
В подземном мире тоже живут люди, все там устроено по-нашему: те же растения, птицы, животные.
При сотворении мира вся - вся земля была ровная, но когда Господь рыл русла рек и морей, пришлось ему из песка и камней создать холмы и горы.
"Земля сотворена как человек, вместо власов былие имеет!" - уверяли древние всеведы, а потому наделяли былие, зелие - траву - волшебными свойствами Матери - Сырой Земли. "Целебна трава, если собирать ее знаючи", - говорят в народе. Такие особенные знатоки травяных зелий и "лютого коренья" назывались залейниками, травознаями, и ходили они по лугам и лесам, как в насаженном собственными руками саду: всякой травы, всякой былинки знали свойства и место.
Травы
Травы долженствующие обладать таинственной силою, собирали в ночь на Ивана Купала или Аграфену Купальницу, когда все земное зелие - былие получало сверхъестественную мощь: как злую, так и добрую. И говорят, была такая трава - колдовская, что если отыщешь ее, выжмешь сок и намажешь им ноги, то пройдешь по любому морю - и ноги твои не промокнут.
Ночные травы цвели огнем. Таковы были черная папороть, царе - царь, лев, голубь и другие. Иной цвет пылал неподвижным, сильным пламенем, иной имел вид молнии, летучего, призрачного огня. "Трава лев, - сказано об одной из них в древнейшем из "Залейников", - растет невелика, а видом как лев кажется. В день ее и не приметишь, сияет она по ночам. На ней два цвета, один желтый, а другой ночью как свеча горит. Около нее поблизости травы нет, а которая и есть, и та преклонилась перед ней". А вот что говорится о дивной траве киноворот: "Хотя какая буря, она кланяется на восток всеми стволами; то же, если и ветру нет".
Иные травы требовалось рвать, очертя место вокруг нее золотом или серебром, что называлось "пронимать сквозь серебро или злато". Это делалось так: клали на землю около травы с четырех сторон серебро (монеты, украшения) или раскидывали вокруг золотую гривну (тяжелую шейную цепочку). Так пронимали кликун - траву (или колюку), одолень - траву, метлику, папороть безсердешную и некоторые другие самые загадочные и таинственные травы.
Ну а когда они попадали в руки знахаря, сила их все же не могла сказаться без чародейного, заговорного слова. Травы словно бы нужно было уговорить помочь человеку - или навредить ему.
Трава, болезнь, любовь, стихия - это все были для нашего предка живые существа, с которыми он беседовал на равных, с каждым - на его собственном языке.
В ту пору знали и язык сей, и ощущали особенную, нами теперь не постижимую связь с природой. Наверное, оттого среди трав в стародавние времена волшебные и чародейные былия встречались, а нынче одни только лекарственные травы остались, да и те не каждому помогают.
Деревья
Славяне, живущие в лесах, относились к деревьям с большим почтением, наделяя почти каждое сверхъестественными свойствами. Предание о мировом древе, которое обнимает корнями землю, а ветвями держит небесный свод, славяне относят к дубу. В их памяти сохранилось сказание о дубах, которые существовали еще до сотворения мира. Еще в то время, когда не было ни земли, ни неба, а только одно синее море (воздушный океан), среди этого моря стояло два дуба, а на дубах сидело два голубя; голуби спустились на дно моря, достали песку и камня, из которых и создались земля, небо и все небесные светила.
Существует предание о железном дубе, на котором держатся вода, огонь и земля, а корень его покоится на божественной силе. Бытовало поверье, что семена дуба прилетают по весне из Ирия. В древности наши предки творили суд и правду под старыми дубами.
Дуб, а также и всякое другое дерево, в которое ударила молния, получали те же целебные, живительные свойства, которые приписывают весеннему дождю и громовой стрелке. Чтобы иметь лошадей добрых (в теле), советуют класть в конюшне кусок дерева, разбитого громом. Если при первом весеннем громе подпереть спиною дерево (или деревянную стену), то спина болеть не будет. Детей, страдающих сухоткою, кладут на некоторое время в раздвоенное дерево, потом трижды девять раз обходят с ними вокруг дерева и вешают на его ветвях детские сорочки. По возвращению домой купают их в воде, взятой из девяти рек или колодцев, и обсыпают золою из семи печей. От лихорадки и других болезней крестьяне купаются в реках, лесных родниках и колодцах, а после купания вытираются чистою тряпицею и вешают ее на соседнее дерево или ракитов куст; вместо тряпицы вешают также рубашку или лоскут от своей одежды и оставляют их до тех пор, пока совсем не истлеют. Смысл обряда следующий: смывая и стирая со своего тела недуг, больной как бы снимает его с себя и вместе с тряпицею и сброшенной рубашкою передает кусту или дереву, как земным представителям того небесного, райского древа, которое точит живую воду, исцеляющую все болезни. Как истлевает оставленный лоскут или сорочка, так должна сгинуть и сама болезнь. Позднее, при утрате ясного понимания старинных представлений, обряд этот получил характер жертвенного приношения лесным и водяным духам.
Не менее любопытные поверия соединяют народ с осиною - деревом, за которым усвоены мифические свойства едва ли не вследствие сродства его имени со словом ясень. Как ясеню придана сила, оцепеняющая змей, так об осине утверждают, что убитого ужа должно повесить именно на это дерево; иначе он оживет и укусит. Когда богатырь Добрыня убил змея, он повесил ее на осину: "Сушися ты, Змей Горынчище, на той - то осине на кляпыя". Подобное же спасительное действие оказывает осина и против колдунов, упырей и ведьм. Заостренный осиновый кол получил в глазах народа значение Перуновой палицы. Чтобы мертвец, в котором подозревают злого колдуна, упыря или ведьму не мог выходить из могилы, крестьяне вбивают ему в спину осиновый кол; чтобы предохранить коров и телят от нападения ведьм, они ставят на воротах и по углам скотного двора осины, срубленные или вырванные с корнем; во время чумы рогатого скота, прогоняя Коровью Смерть, бьют ее (то есть машут по воздуху) осиновыми поленьями. По свидетельству сказок, колдунам - выходцам из могил - вколачивают в сердце осиновый кол и сжигают их на осиновом костре. В свою очередь, ведьма может пользоваться осиновым колом или веткою для своих волшебных чар: ударяя этой веткою в грудь сонного человека, она наносит ему незримую рану и жадно упивается его кровью. Выдоив черную корову, ведьма выливает молоко в землю и тут же вбивает осиновый кол: этой чарою она отнимает у коров молоко.
Как спасительное орудие против демонского наваждения, осина может служить и для изгнания болезней. Читают заговор над осиновыми прутьями, которые потом кладутся на больного. Когда разболятся зубы, берут осиновый стручок и трижды читают над ним заговор: "На море, на окияне, на острове на Буяне, стоят высокие три дерева, под теми деревьями лежит заяц; переселись ты, зубная боль к тому зайцу!"
После того осиновый сучок прикладывается к больным зубам.
Береза - тоже священное дерево в славянской мифологии. Ее почитали как символ берегинь, русалок во время весеннего праздника Семика, когда в селение вносили распустившееся дерево и девушки надевали березовые венки. На бересте писали и приколачивали к деревьям прошения лешим: вернуть, например, заблудившуюся коровушку, подвести под ружье охотнику дичь, помочь не заплутаться, когда девки пойдут по малину.
Славяне вообще считали березу главным, мировым деревом, опорою всей земли, о чем и говорится в старинном заговоре: "На море, на океане, на острове Буяне, стоит белая береза вниз ветвями, вверх кореньями". Так же чтили в этом дереве женского духа Березу, покровительницу юных дев.
В райских садах и рощах, на тенистых деревьях зреют золотые плоды (яблоки), дающие вечную молодость, здоровье и красоту. По своим чудесным свойствам плоды эти совершенно тождественны с бессмертным напитком - живой водою. Русское предание дает им название молодильных, или моложавых: стоит только вкусить этих плодов, как тотчас же сделаешься молодым и здоровым, несмотря на преклонные лета. Любопытная русская сказка о молодильных яблоках и живой воде сообщает один из древнейших мифов. Состарившийся и ослепнувший царь, о котором говорится в сказке, олицетворяет собою зимнее время, когда все на земле увядает, дряхлеет и всемирное око - солнце теряет свой яркий блеск. Изображая времена года живыми, человекоподобными существами, народная фантазия весну представляла прекрасною девицею, а зиму беловласым и седым старцем.
Чтобы возвратить царю его молодость и зрение, сын - царевич должен добыть живой воды, которая исцеляет слепоту, и моложавых золотых яблок, то есть вызвать весну с ее благодатными дождями, золотистыми молниями, светозарным солнцем и со всей роскошью растительного царства. Живая вода и золотые яблоки одинаково обновляют дряхлого старика, делают его цветущим юношею и даже уподобляют семилетнему ребенку; больному дают крепость и здоровье, мертвому - жизнь, безобразие превращают в красоту, бессилие - в богатырскую мощь; и те и другие обретаются в стране далекой - в вечно неувядаемом саду - и оберегаются драконами и великанами.
Предания о небесных, райских садах с течением времени стали прилагаться к земным садам и рощам и сообщили им священный характер. Леса стали местом пребывания облачных духов, а позднее человек придал им характер леших. Они живут в лесных трущобах и пустырях, но обыкновенно с первыми морозами (в начале октября) проваливаются сквозь землю, исчезая на целую зиму, а весною опять выскакивают из земли - как ни в чем не бывало.
Вода
Вода в народе зовется не иначе как "матушка", "царица". Еще на заре человеческой истории люди отчетливо сознавали великое значение водной стихии. Это подтверждает и мифология всех стран и всех народов, и позднейшие философские системы: как без огня нет культуры, так без воды нет и не может быть жизни. Сообразно с таким пониманием мировой роли воды языческие народы неизменно обоготворяли эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась другая великая стихия - земля.
Позднее, с распространением христианства, вера в божественное происхождение воды хотя и умерла, но на обломках ее выросло убеждение в святости и чудодейственной силе этой стихии. Одно из наследств седой старины - слепая вера в родники и почтение к ним как к хранителям таинственных целебных сил.
За реками сохранились, в виде легенд, следы олицетворения их как живых существ богатырского склада. Известен рассказ о споре Волги с Вазузой по поводу старейшинства. Эти две реки порешили окончить свой спор таким образом: обе должны лечь спать, и та, которая встанет раньше и скорее добежит до Хвалынского (Каспийского) моря, будет первенствовать. Ночью Вазуза встала раньше и неслышно, прямым и ближним путем потекла вперед. Проснувшаяся Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как надо. Но в Зубцове она догнала Вазузу, причем была в таком грозном виде, что соперница испугалась, назвалась меньшей сестрой и просила Волгу принять ее к себе на руки и донести до Хвалынского моря.
Днепр в былинах является в виде женщины, под именем Непры Королевичны. Она вступает в богатырский спор на пиру у князя киевского с Доном Ивановичем. В единоборстве она осталась побежденной. Дон убил ее каленой стрелой и сам в отчаянии пал на ножище - кинжалище. Вот от этой - то крови и потекла Непр - река, "во глубину двадцати сажень, в ширину река сорока сажень".
Ввиду такого повсеместно распространенного почитания воды первые просветители темных людей и последующие за ними основатели монастырей, святые отшельники, одною из главных забот ставили себе рытье колодцев.
В народном представлении становились священными те колодцы, появление которых было вызвано каким - либо чрезвычайным случаем, например, так называемые громовые (гремячие) ключи, бьющие из - под камня и происшедшие, по народному поверию, от удара молнии (огненных стрел Ильи - пророка или из - под копыт богатырского коня Ильи Муромца, а еще прежде - Перуна). Подле таких ключей всегда спешат поставить часовенку и повесить образа Богоматери.
Святыми названы народом и небольшие озера, во множестве разбросанные по лесной России, и притом не только те, которые оказались в соседстве с монастырями. С некоторыми из таких святых озер соединены поэтические легенды о потонувших городах и церквах. Из глубины этих озер благочестивым людям слышаться звон колоколов, церковное пение и видятся кресты и купола затонувших храмов. Наиболее известные и выдающиеся озера: в северо - западной Руси - озеро Свитязь близ гродненского Новогрудка и Светлояр в Керженских заволжских лесах близ города Семенова. Последнее до сих пор привлекает на свои берега тысячи людей, верующих, что в светлых струях пустынного лесного озера сохраняется чудесным образом исчезнувший во времена нашествия Батыя город Большой Китеж.
При погружении святого и животворящего креста в воду из нее, силою Святого Духа, изгоняется дьявольская скверна, и потому всякая вода становится чистою и непременно святою, то есть снабженною благодатью врачевания не только недугов телесных, но и душевных. "Богоявленской воде" в этом отношении всюду придается первенствующее значение, и она, как святыня, вместе с благовещенскою просфорою и четверговою свечой, ставилась на самое видное место в жилищах, в передний правый угол, к иконам. В обыкновенное время, при нужде, пьют эту воду непременно натощак. При этом существует повсеместное непоколебимое верование, что эта вода, сберегаемая круглый год до новой, никогда не портится, а если и случится что - нибудь подобное, это объясняется прикосновением к сосуду чьей - либо нечистой руки. Точно также повсюду сохраняется суеверное убеждение, что в верхних слоях освященной в чашах воды заключаются наиболее благодатные силы, устраняющие недуги и врачующие болезни.
Природная чистота воды, сделавшая ее единственным верным и легким очистительным средством, потребовала, в самые далекие языческие времена, особого себе чествования, выразившегося в торжественном празднике Купалы. Во многих местах еще сохраняются определенные дни, когда производится обязательно обливание водой - обычай, успевший пристроится к христианским праздникам. Обливают холодной водой всех, проспавших одну заутрень на неделе Святой Пасхи. Обычай обливания водой носит совершенно другой характер в тех случаях, когда он получает название "мокриды": в этой форме он сохраняет явные осколки языческих праздников вызывания дождя.
Наш народ в прежнее время очень чтил дождевую воду. Выбегая на улицы босыми, с непокрытыми головами, деревенский и городской люд становился под благодатные небесные потоки первого весеннего дождя, пригоршнями набирал воду, чтобы вымыть лицо три раза. Люди выносили чашки, собирая целебную влагу, и в крепко закупоренных бутылках сохраняли ее целый год , до нового такого же дождя. Точно так же чтил народ и речную воду после вскрытия рек.
Едва пройдет весною лед по рекам и ручьям, как все дети, взрослые и старики бежали на берег: зачерпывали пригоршнями воду и умывали три раза лицо, голову и руки.
Эти обычаи приводят нас к целому ряду суеверных гаданий, где воде предоставлено главное место, подобно так называемому отчерпыванию воды и прощению у воды.
В первом случае при болезни домашних животных или ввиду какой - либо неприятности окачивают водою крест или медный образок, стараясь спускать эту воду на уголья, облепленные воском и ранее опрыснутые богоявленскою водою; в то же время читают про себя самодельные молитвы и кропят и поят тех, кто нуждается во врачебной помощи. "Прощения у воды" испрашивается больным и обездоленным. Обычай этот покоится на том убеждении, что вода мстит за нанесенные ей оскорбления, насылая на людей болезни. Поэтому, чтобы избавиться от таких болезней, на воду опускают кусочек хлеба с низким поклоном: "Пришел - де я к тебе, матушка - вода, с повислой, да с повинной головой, прости меня, простите и вы меня, водяные деды и прадеды!" Отступая по одному шагу назад, до трех раз повторяя этот приговор с поклоном и, во все время заклинаний стараются ни с кем не разговарив
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ПЕРВЫЕ БОЖЕСТВА
КНИГИ И ПРЕДАНИЯ
ОТРЕЧЕННЫЕ (ОТМЕННЫЕ) КНИГИ
ПРЕДАНИЯ СВАРОГОВА ЦИКЛА
ВЕЛЕСОВА (ВЛЕСОВА) КНИГИ
СЛУЖИТЕЛИ ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ
ЖЕРТВЕННЫЕ ОБРЯДЫ СЛАВЯН
ПРАЗДНИКИ
ВРЕМЕНА ГОДА
ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЕ В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ
ЖИВОТНЫЕ
МАТЬ - СЫРА ЗЕМЛЯ
ТРАВЫ
ДЕРЕВЬЯ
ВОДА
ГАДАНИЯ
Введение
История славян причудлива и полна загадок. Верно ли, что во времена великого переселения народов они явились в Европу из глубин Азии, из Индии, с Иранского нагорья? Каков был их единый праязык, из которого, как из семечка - яблоко, вырос и расцвел широкошумный сад наречий и говоров? Над этими вопросами ученые ломают головы уже не одно столетие. Их затруднения понятны: материальных свидетельств глубочайшей древности почти не сохранилось, - как, впрочем, и изображений богов наших далеких пращуров. А. С. Кайсаров в 1804 году в "Славянской и российской мифологии" писал, что в России потому не осталось следов языческих, дохристианских верований, что "предки наши весьма ревностно принялись за новую свою веру; они разбили, уничтожили всё и не хотели, чтобы потомству их остались признаки заблуждения, которому они дотоле предавались".
Такой ревностью отличались новые христиане во всех странах, однако если в Греции или Италии время сберегло хотя бы малое количество дивных мраморных изваяний, то древняя Русь стояла среди лесов, а, как известно, Царь - огонь, разбушевавшись, не щадил ничего: ни людских жилищ, ни храмов, ни деревянных изображений богов, ни сведений о них, писанных славянскими рунами на деревянных дощечках.
Вот так и случилось, что лишь негромкие отголоски донеслись до нас из далей языческих, когда жил, цвел, владычествовал причудливый мир славянской мифологии.
Понятие "мифология" здесь понимается достаточно широко: не только имена богов и героев, но и все чудесное, магическое, с чем была связана жизнь нашего предка - славянина : заговорное слово, волшебная сила трав и камней, понятия о небесных светилах, явлениях природы и прочем.
Встречаясь миром славянской мифологии, его обитателями, не веришь, что боги и таинственные силы порождены только лишь страхом перед природными катаклизмами. "В детском лепете языческого мышления, - писал в "Истории русской жизни с древнейших времен"И. Е. Забелин, - постоянно и неизменно слышится тот же вещий голос: я хочу всё знать, всё видеть, везде существовать. Ведь среди удивительных божеств, которым поклонялись наши предки, нет отталкивающих, уродливых, омерзительных. Есть злые, страшные, странные - но куда больше прекрасных, загадочных, добрых, умных" Как писал в начале XIX века Г. А. Глинка, автор книги "Древняя религия славян" славянская "вера из многих языческих есть чистейшая. Ибо их боги суть естественные действия, благотворением своим имеющие на человека влияние и служащие к страху и казни беззакония ..."
Первые божества
Солнце, месяц и звезды были первыми божествами древних славян. В народных сказках к солнцу, месяцу и звездам обращаются герои в трудных случаях жизни, и божество дня, сострадая несчастью, помогает им. Вместе с этим солнце является и карателем всякого зла, то есть, по первоначальному воззрению, - карателем нечистой силы, мрака и холода, неправды и нечестия.
По народному представлению солнце утром рождается или загорается, а вечером погружается в море на отдых: "Встань (пробудись)", - восклицает молодец в сербской песне. "Загоритесь, солнце и месяц", - произносит латышский заклинатель. "Солнце ся в море купае", "солнце спочило", - говорят галицкие и угорские русины. Весенние лучи солнца пробуждают природу от зимнего оцепенения. По мере приближения солнца к точке низшего его стояния, мрак и холод получают перевес над теплом и светом, природа замирает и застывает, скованная, как и само зимнее солнце, чарами злых духов преисподней, пока животворная сила возродившегося весеннего солнца не разобьет этих оков, не обогреет и не пробудит природу к новой жизни, к новой деятельности. Понятно, что при полной зависимости человека от положения солнца, весь строй его жизни сложился под влиянием этой зависимости.
Взгляд древнего славянина на благотворную природу солнца отражается в следующем отрывке из словинской обрядной песни, которая поется под липой, при встрече весны:
Ну постой, постой, солнце,
Ой румяное солнышко!
Я имею тебе многое поведать
И еще более спросить.
-Я не могу остановиться,
Я должно многое осветить,
Все долины и горы,
И всех моих сирот.
В песнях южных славян, именно сербских, очень часто упоминается о родстве солнца с прочими небесными светилами. Светлый месяц - его брат, денница - сестра. И на Руси луна и звезды считаются семьей солнца. Литвины признают месяц мужем, а звезды - детьми солнца.
Солнце в поговорках разных славянских народов является со значением божества благого, милосердного, приносящего счастье в дом, в который оно заглядывает: "Еще и в мое окно блисне (или: загрее) колись солнце - говорят галицкие русины, "де соньце, там и Господь" (малорусс.), "заглянець сонце и в наше воконце" (белорусс.) - обычные поговорки.
Солнце получило на народном языке наименования: бога, солнца - царя или князя, солнца божьего, чада божьего, солнца праведного, солнца красного, солнца светлого и пресветлого. Солнце призывают в песнях, причитаниях и заклинаниях, причем оно не редко именуется "матушкой", его просят проглянуть и осветить и обогреть землю, или подарить красоту (т. е. Озарить светом и как бы очистить лицо от некрасивого вида), его вопрошают как всевидящего и всеведущего бога о том, что происходит в далеких местах, молят о покровительстве и помощи в разных случаях, наконец, обращаются к нему с сетованиями и жалобами на недолю.
Болгарские девушки призывают солнце, когда оно нужно для сушки хлеба, сена и пр.:
Печи, печи слжнчище! Пеки, пеки, солнышко!
Из сербских песен:
- Жарко сунце, обасjаj ми лице! - Жаркое солнце, освети мое лицо!
- Сини жарко од истока, сунце! - Свети жарко с востока, солнце,
- И разведри мое блиjедо лице! - И развесели мое бледное лицо.
Из великорусских песен:
- Взойди, ясное солнышко,
Обогрей нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, со девицами.
Когда долго стоит пасмурная погода, дети вызывают солнце:
- Взойди, взойди, солнышко!
Сварим тебе борщику,
Поставим на елкою,
Покроем тарелкою,
Положим яичко,
Яичко скатится,
Солнышко схватится.
Из свадебной песни:
Свети, свети, месяц,
Нашему короваю!
Проглянись, проглянись, солнце,
Нашему короваю!
Из причитания, которым окликают усопших родителей:
Уж ты солнце, солнце ясное! Ты взойди, взойди с полуночи, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не во тьме сидеть, не с бедой горевать, не с тоской тосковать.
Солнце постоянно совершает свои обороты: озаряя землю днем, оставляет ее ночью во мраке; согревая весною и летом, покидает ее во власть холоду в осенние и зимние месяцы. Солнце ближе всех к обиталищу Бога. Отца у него нет, только мать. Солнце ест, пьет, спит. Однажды приглянулась ему молодка на земле, и захотелось ему жениться, но его отговорил еж, ссылаясь на стародавние указания: нехорошо божеству брать земную женщину!
Жилище Солнца на самом краю света, на небесах, но недалеко от земли; человек, если ему повезет, может туда попасть. Там живут русалки, самодивы, орисницы и другие духи и божества.
Поутру Солнце в хорошем настроении, потому сильно не припекает. К обеду оно оголодает, рассердится и жжет беспощадно. На заходе оно устает и хочет только одного: поскорее закатиться в свое жилище на берегу моря. Мать уже приготовила ему ужин - хлеб, мясо, вино. Никто не смеет нарушать трапезу Солнца. В это время оно рассказывает матери обо всем, что за день увидело на земле. После ужина оно приходит в доброе расположение духа и вскоре ложится почивать. Утром его пробуждает Денница, первая звезда на небосклоне.
Существует предание: когда Солнце готово выйти из своих чертогов, чтобы совершить дневную прогулку по белому свету, вся нечистая сила собирается и выжидает его появления, надеясь захватить божество небесного огня и умертвить его. Но при одном приближении Солнца нечисть разбегается, чувствуя свое бессилие.
Книги и предания
Отреченные (отменные) книги
Так именовались в древности "волшебные, чародейные, гадательные, и всякие от церкви возбраняемые книги и писания" привезенные на Русь из Византии и отчасти с Запада; к ним причислялись и те листы и тетрадки, в которых записывались народные заговоры, приметы, поверия и суеверные наставления.
Официально запретными и подлежащими немедленному уничтожению огнем признавались:
"Остролог" (другие названия: "Мартилой", "Острономия", "Звездочетец" и "Зодий"). В узаконении о ложных книгах сказано так: "Звездочетец" - 12 звезд; другой "Звездочетец", ему же имя "Шестодневец": в них же безумные люди верующие волхвуют, имут дней рождений своего, санов получения и уроков житию".
Это - сборник астрологических замечаний о вступлении солнца в различные знаки зодиака, о влиянии планет на счастье новорожденных младенцев (то же что "Рожденник", "Родословие"), а также на судьбы целых народов и общественное благоденствие: будет ли мор или война, урожай или голод, повсеместное здравие или моровая язва.
"Громник" или "Громовник" - заключает в себе различные, расположенные по месяцам, предзнаменования (о состоянии погоды, о будущих урожаях, болезнях и прочем), соединяемые с громом и землетрясением; к этому присоединяются иногда и заметки "о состоянии луны право или полого", с указанием на значении таких признаков в разные времена года.
"Молник"("Молнияник") - здесь собраны сведения, в какие дни месяца что предвещает удар молнии.
"Коледник" ("Колядник") - содержит в себе приметы, определяемые по дням, на какие приходится рождество Христово (праздник Коляды), например: "Аще будет Рождество Христово в среду - зима велика и тепла, весна дождева, жатва добра, пшеницы помалу, вина много, женам мор, старым пагуба".
"Мысленник" - вероятно то же самое, что "Разумник", содержащий сказания о создании мира и человека.
"Волховник" - сборник суеверных примет," еже есть се: храм трещит, ухозвон, воронограй, куроклик, окомиг, огонь бучит, пес выет" и прочее.
"Метание" ("Метаньеимец", или "Розгомечец") - книга гаданий посредством жребия.
Существовали также книги: "Записка о днях и часах добрых и злых" "Сносудец" ("Сонник") и др.
К сожалению, большинство отреченных книг было беспощадно истреблено еще при Алексее Михайловиче, отце Петра Великого: они сжигались возами, и судить об их содержании можно лишь по названию.
Наиболее древними преданиями являются предания Сварогова цикла.
Это предание о первом мире - мире Сварога и его детей, живших вместе на нашей планете Земля, называвшейся тогда Перстью.
Сварог есть творец всего мира, а дети его - Сварожичи. Этот мир - первое творение Сварога. Мир, в котором мы живем сейчас, - второе творение Сварога, как и мы, живущие в нем люди. По этому преданию, первый мир был рай, или, как его называли славяне, Ирий или Ярий, то есть светлый, яркий, лучезарный мир, в котором жили Сварожичи.
В те времена, гласит предание, весь мир пребывал в спокойствии и тишине. Сварожичи жили радостно и счастливо. А так как мир освещался всегда лазурным светом и ночи не было, то не было и тайн и секретов, а с ними не было и зла. Тогда на земле царила вечная весна, и природа была настолько богата, что Сварожичи не работали, как нынешние люди, чтобы пропитаться.
Так продолжалось долгое время, пока Сварог - Творец не отлучился с Перси - Земли и не ушел творить звездные миры. За себя он оставил старшего Сварожича - Денницу, которому и поручил управлять Сварожичами и всем Лазурным миром. Тогда Деннице пришла мысль попробовать творить, как это делал сам Сварог. Денница сотворил людей, помощников себе, начал с ними править Лазурным миром. Но поскольку люди не обладали свойствами и знаниями Сварожичей, они начали делать ошибки, и от этих ошибок произошло в Лазурном мире первое зло.
Против зла и действий Денницы восстали все Сварожичи, кроме тех, кто подчинялся Деннице непосредственно. Недовольства против Денницы породили столкновения, а столкновения разделили весь Лазурный мир на два воюющих лагеря: Денницу и его приверженцев - и верных заветам Сварога Сварожичей.
Разгневанный борьбой, Денница решил захватить чертоги Сварога и уничтожить защищавших их Сварожичей, верных Сварогу.
Началась война. Верные Сварогу Сварожичи: Перун, Велес, Огонь, Стрибог и Ладо - крепко держались в чертогах Сварога. Перун, сотрясая небеса, громом и молнией сбрасывал нападающих с Лазоревых небес, где стоял чертог Сварога. Вихрем - ураганом сбивал их Стрибог. Огонь жег - палил бунтующих, и те, обожженные падали на Персть. Велес и Ладо победными песнями поддерживали защитников, бросаясь в бой с врагами во все места, где враг одолевал защитников.
И вот прибыл Сварог. Простер свою десницу, и все замерло. Взмахнул - и все бунтовщики, как горящие звезды, посыпались дождем с небес на разрушенную Персть. Горящей звездой сверкнул падающий Денница - и вместе со своими единомышленниками пробил землю, и земля поглотила в своей пучине бунтующих.
Так погиб первый мир, первое творение Сварога. Так погиб первый мир, первое творение Сварога. Так родилось зло. И поднял Сварог свой чертог ввысь, и защитил его ледяной твердью. А поверх тверди сотворил новый Лазоревый мир и перенес туда Рай - Ирий и провел туда новую дорогу - Звездный путь, по которому течет Рая- река, чтобы этим путем достойные Рая - Ирия могли достичь его . И залил водою горящую Персть и из разрушенного , погибшего Лазоревого мира создал новый мир , новую природу , и назвал его Землею , что значит " пребывать в страдании ". И повелел Сварог всем бунтовщикам искупить свой грех и забыть свое прошлое, рождаться людьми и в страданиях только совершенствоваться, чтобы достичь, что утеряли, и вернуться очищенными к Сварогу, в Рай - Ирий.
По другому преданию, Сварог повелел Деннице стать светилом дня до окончания веков, чтобы освещать новый мир - Землю, оказывать людям помощь, согревать их сердца, чтоб через это тепло люди почувствовали правду - и в этом было искупление Денницы, породившего зло среди Сварожичей. Поэтому его стали величать Дажбог, ибо он давал тепло, траву для скота и хлеб для людей, и сами люди, памятуя, что они потомки первых людей, сотворенных Денницей, величали себя Дажбоговы внуки.
Перуну и Стрибогу повелел Сварог быть защитниками земной правды и хранителями ее, защитниками людей и всего живущего. Перуну еще было поручено изливать семя - жизнь на Землю, а Стрибогу - гнать тучи по лесам, полям и лугам, чтобы из них изливалось семя - жизнь, а в знойные дни навевать прохладу природе и уставшим людям. В дни же несчастий и горя нестись бураном, ураганом, чтобы напоминать людям, что их удел жить в правде, а не во зле. Мудрому Велесу, или Влесу, - учить знаниям людей, учить порядку в жизни, труду, счету и письму, слагать песни и былины.
Лишь в начале XIX века стало известно о существовании Велесовой (Влесовой) книги.
Это перевод священных текстов новгородских волхвов IX века, в которой рассказана древнейшая история славян и других народов. Славяноведы узнали о ней лишь в нынешнем веке, да и то - до нас дошло очень немного дощечек с непонятными, трудно поддающимися расшифровке письменами. К сожалению, от единственного в мире священного текста славянской ведической религии мало что сохранилось, но ценность "Влесовой книги" не измерима. Она разрешает давний спор о происхождении славян, восстанавливает целый пантеон прежде неведомых языческих богов, которым поклонялись наши предки. Согласно "Влесовой книге", их было великое множество: Сварог, Перун, Свентовид, Чернобог с Белбогом. Велес, Хорс, Стрибог, Вышень, Леля, Коляда, Удрзец, Сивый Яр, Белояр, Ладо, Купала, Сенич, Житнич, Зернич, Студич, Лютич, Ледич, Птичич, Зверинич, Дождич, Ветрич, Травич, Родич, Водич, Звездич, Горич, Страдич, Спасич, Мыслич, Ратич, Стринич, Симаргл, Огнебог ...
Некоторые имена нам знакомы, о смысле других можно догадаться, ну а многие останутся покрыты вечной тайной, как и происхождение "Влесовой книги", ее подлинность или мнимость - как и вообще вся загадочная, неисследованная, непонятная и величественная история и мифология славянских народов.
Вначале Велесова книга призывает склониться перед Триглавом. Триглав - это Сварог, Перун и Святовит.
Сварог - "старший бог Рода божьего", - он - "родник всему Роду."
Родом древние славяне называли всю Вселенную, включающую в себя всех богов - и небесных и пекельных. Род выступал в двух ипостасях: как бог Вселенной, и как домашний бог - предок, пращур. В обеих своих ипостасях он упоминается и в Велесовой книге. Род - отец и мать всех богов, в сущности - это сама Вселенная.
Сварог, так же как и Род, - это небесный источник, родник, который "течет из крыни", небесного источника жизни. Сварог является и небесным кузнецом. От его ударов по наковальне разлетаются искры - молнии. Подобным образом - с молотом либо с мечом в руках - славяне видели и Перуна.
Перун - Грозное славянское божество. Он почитался производителем всех воздушных явлений: рука его управляла громом и молниями. Истукан сего божества был сделан не из одного вещества: стан был вырезан из дерева; голова вылита из серебра; уши и усы изваяны из золота; ноги же выкованы из железа; в руке держал нечто, похожее на молнию, которую представляли вместе составленные рубины и карбункулы. Перед ним горел неугасимый пламень, за небрежение коего жрец наказывался смертью, состоящую в сожжении его как врага божества сего. Из посвященных ему вещей были целые леса и рощи, из коих взятие всякого сучка почиталось достойным смерти святотатством.
В 988 году, когда князь Владимир принял христианскую веру, он повелел истребить все кумиры, и Перун, как важнейший из богов, получил и большее наказание перед прочими богами. В Киеве привязали его к лошадям и таким образом тащили по городу до реки, а между тем двенадцать молодых людей били его палками, а потом бросили в реку. Однако жрецы его долго бежали по берегу с криками: "Выдыбай (то есть выплывай), боже!"
В Новгороде Великом, до утверждения там культа Перуна, существовало святилище Бога - Коркодила. Новгородские гусли, древнерусский ритуальный инструмент, украшались изображением жертвоприношения некоему ящеру.
О низвержении же Перуна в Новгороде рассказывают вот что.
Процессия была здесь такая же, что и в Киеве; только новгородский Перун отличался от первого тем, что он до глубины сердца проникнут был своею участью; и в то время как его влекли по городу, не мог он удержаться, чтоб не воскликнуть громко: "О горе мне! Вчере еще меня почитали, а ныне посрамляют!" Когда с моста низвергли его в реку, то, говорят, поплыл он против стремления воды, бросил от себя палку и вскричал: "Жители новгородские! Это оставляю вам в память мою!" Наконец, утомясь от плавания, Перун пристал к берегу в некотором удалении от Новгорода.
В память сего на том месте построен был монастырь, названный Перунским.
Некоторые русские летописи повествуют, что долгое время потом юноши новгородские собирались в известный день и били друг друга палками; они утверждали, что это было сделано в воспоминание о брошенной Перуном палки.
Святовит - бог неба и света у западных славян. Четырехглавое изваяние Святовита стояло в главном святилище балтийских славян в Арконе на острове Руян. Судя по Велесовой книге, почитали Святовита не только в западных славянских землях, но и в Северной Руси и в Новгороде. Эта вера была принесена в Новгород переселенцами из западных земель - ободритами, руянами.
Древние славяне верили в единого небесного Бога, но называли его разными именами: Сварогом, Перуном, Святовитом - и, наконец, Триглавом, то есть - Троицей.
Значит, Сварог - Бог отец, Перун - сын, Святовит - святой дух. Они составляют дохристианскую Троицу. Велесова книга говорит о "Великой тайне" триединства Перуна, Сварога и Святовита. Остальные боги подчиняются Небесному Вседержителю - Триглаву.
Есть и исторические свидетельства о почитании древними славянами Триглава. Культ Триглава был известен у поморянских славян, в первых городах Поморья в Щетине и Волыне главные храмы были посвящены Триглаву. Щетинские жрецы учили, что Триглав их высший Бог и что Он благосклонен к человеческому роду.
Велес - бог скотоводства и богатства, бог хозяйской мудрости, в своей хтонической ипостаси - проводник в загробный мир.
В раннем своем воплощении, еще в палеолитической древности, Велес считался звериным богом и принимал облик медведя. Он был покровителем охотничьей добычи, "богом мертвого зверя".
Это в его честь рядятся в звериные маски и тулупы на святки и на масляницу: в прежние времена в эту пору отмечали комоедицы, праздник пробуждения медведя. Это были Велесовы дни славянского языческого календаря.
В бронзовом веке, в пору пастушьих переселений, Велес - медведь сделался в народном сознании покровителем домашних животных и богом богатства -" скотьим богом".
В древнем Киеве кумир его стоял на Подоле, в нижней части города, и пользовался величайшим почитанием наших далеких праотцов.
Купало - божество, истукан которого стоял в Киеве. Это веселый и прекрасный бог, одетый в легкую одежду и держащий в руках цветы и полевые плоды, на голове имеющий венок из ярких, желтых цветов - купальниц, бог лета, полевых плодов и летних цветов.
Купало причисляли к знатнейшим богам. Он почитался третьим после Перуна и вторым после Велеса: ибо, после плодов скотоводства, земные плоды всего более служат человеку и составляют его богатство. В начале жатвы, т. е. 24 июня, приносили ему жертвы.
Тогда на полях зажигали большие костры; а юноши и девицы, цветами увенчанные и перепоясанные, плясали около огня при радостном пении; наконец, скакали они и гнали свое стадо через огонь, думая через то обезопасить свое стадо от леших, или лесных духов, распевая:
Купала на Ивана!
Купала на Ивана!
Бежал Иван -
Да в воду упал!
Купала на Ивана!
Купала на Ивана!
Доселе еще те святые, коих именины празднуются в этот день российской церковью, сохранили от идола Купалы прозвания свои: Иван Купала и Аграфена - купальница.
Славянские боги были грозны, но справедливы, добры. Они как бы родственны людям, но в то же время призваны исполнять все их чаяния. Перун поражал молнией злодеев, Лель и Лада покровительствовали влюбленным, Чур оберегал границы владений, Припекало приглядывал за гуляками...
Служители языческих богов
Всякая народная вера предполагает обряды, совершение которых поручается избранным людям, уважаемым за их добродетели и мудрость. Это посредники между народом и духом или божеством. Такие люди назывались волхвами, жрецами, ведунами и ведуньями.
Не только в капищах, но и при всяком освященном древе, при всяком святом источнике находились хранители, которые жили подле, в маленьких хижинах, и питались остатками жертв, приносимых божествам. Жрецы - волхвы руководили обрядами языческого богослужения, приносили жертвы от имени всего народа, составляли мудрые календари, знали "черты и резы" (древняя письменность), хранили в памяти историю племен и стародавние предания, мифы.
В составе жреческого сословия было много различных разрядов. Известны волхвы - облакопрогонители или облакопрогонники, которые должны были предсказывать - и своим магическим действием создавать необходимую людям погоду. Были волхвы - целители, лечившие людей средствами народной медицины; позднейшие церковники признавали их врачебные успехи, но считали грешным обращаться к ним. Существовали волхвы - хранители, которые изготовляли различные амулеты - обереги и изображения богов. Волхвы - кощунники - так назывались сказители "кощун", древних преданий и эпических сказаний. Сказителей называли также "баянами" - от глагола "баять" - рассказывать, петь, заклинать.
Кроме волхвов существовали и женщины - колдуньи, ведьмы (от "ведать" - знать), чаровницы, "потворы".
Жрецы пользовались народным уважением, имели исключительное право отпускать длинную бороду, сидеть во время жертвоприношений и входить в святилище во всякое время. Правители народа приветствовали почтительность к жрецам. Многие жрецы за свою близость к богам получали неограниченное доверие народа и приобретали огромную власть.
Так первосвященник Рюгенский, уважаемый более самого короля, правил многими славянскими племенами, которые без его согласия не дерзали ни воевать, ни мириться; налагал подати; содержал сильную армию, и ни единое народное решение не могло быть принято без его согласия, хотя он был всего лишь устами бога на земле.
Жрецы приносили богам жертвы и предсказывали будущее.
Место приношения жертв богам и божествам называлось капищем или требищем. Святилища под открытым небом нередко были круглыми, состоящими из двух концентрических валов, на которых разводились круговые костры. Во внутреннем кругу ставились идолы, обычно деревянные; здесь горел жертвенник и здесь "жрали бесам", то есть приносили жертвы богам. Это именовалось капищем. Внешний круг, вероятно, предназначался для потребления жертвенной ритуальной пищи и назывался требищем. Круглая форма святилищ определила их название хоромами (от "хоро" - круг), а в ином произношении - храмами. Позднее христианские церковники удержали это древнее слово за православными ритуальными зданиями, хотя их форма и не соответствует этимологии слова "храм".
Порою славяне служили своим богам прямо в лесу или в горах, на берегах рек или моря, например, Студенец сам был святилищем, да и каждый омут, в котором мог затаиться водяной, каждая березка, где качались русалки, была капищем. Волхвы в присутствии народа совершали обряды веры на природных алтарях, которыми служили огромные камни, величавые деревья, вершины гор. Но с течением времени, желая сильнее воздействовать на людей и почтительнее служить богам, Жрецы защитили своих кумиров от дождя и снега кровлею, и такое простое здание было названо храмом. Позднее славяне стали строить высокие деревянные храмы, украшая их резьбою.
Большинство славянских земель окружали леса, но северо - западные племена жили на берегу моря или в горах, где было много камня для строительства еще более величественных и прочных храмов. Путешественники тех времен оставили восхищенные отзывы об этих святилищах.
В святилищах возвышалась статуя бога, которому сей храм был посвящен. Например, в древнем городе Штетине, по отзывам древних путешественников, было четыре храма, и главный из них отличался своим художеством, украшенный внутри выпуклыми изображениями людей, птиц и зверей, так сходных с природою, что они казались живыми. Краски с внешней стороны храма не смывались дождем, не бледнели и не тускнели.
Следуя древнему обычаю предков, жители города отдавали в храм десятую часть своей воинской добычи и оружие побежденного врага. В святилище хранились серебряные и золотые чаши, из которых в торжественных знатные люди ели и пили, рога буйволов, оправленные золотом: они служили и чарами и трубами.
Прочие драгоценности, там собранные, удивляли своим богатством. В трех других капищах, не столь украшенных и менее священных, были вокруг стен поставлены лавки, так как славяне любили собираться в храмах для обсуждения важных дел, а так же для пиров и веселья.
Описывают, что и деревянный храм Арконский был срублен весьма искусно, украшен резьбою и живописью; одни врата служили для входа в его ограду; внешний двор, обнесенный стеною, отделялся от внутреннего только пурпурными коврами, развешанными между четырьмя столбами, и находился под одной с ним кровлею. В святилище стоял идол Святовида, а в отдельном здании хранились казна и драгоценности.
Храм в Ретре, также деревянный, славился изображениями богов и богинь, вырезанных на внешних его стенах; внутри стояли кумиры в шлемах и латах, а в мирное время там хранились знамена. Это место окружал дремучий лес: сквозь просеку, вдали, виднелось море в виде грозном и величественном.
Славяне с уважением относились к святыням храмов и даже в неприятельских землях старались не осквернять их.
В древнейшие времена славяне убивали во имя богов животных, но порою обагряли свои требища кровью пленников или выбранных по жребию несчастных. Это было свойственно в те немилосердные времена, ибо жизнь человека тогда не дорого ценилась: слишком много опасностей подстерегало людей на их жизненном пути.
Очень интересны жертвенные обряды славян.
До нас дошли две старинные обрядные песни восточных славян. Первая из них поется во время ночного шествия, служащего изгнанию "коровьей смерти" (злое существо, несущее гибель всему крестьянскому стаду). В ней изображается умилостивительное жертвоприношение, при котором произносится проклятие на смерть (заклинается смерть):
...Старцы старые...
Колят, рубят намертво
Весь живот поднебесной.
На крутой горе, высокоей,
Кипят котлы кипучие.
В тех котлах кипучих
Горит огнем негасимым
Всяк живот поднебесной.
Вокруг котлов кипучих
Стоят старцы старые,
Поют старцы старые
Про живот, про смерть,
Про весь род человечь.
Кладут старцы старые
Всему миру животы долгие.
Как на ту ли злую смерть
Кладут старцы старые
Проклятие великое.
В другой песне - святочной, изображено приготовление к жертвенному закланию козла на Коляду (воплощение исконно повторяющегося годового цикла), что несомненно подтверждает как повторяющийся в песне несколько раз припев: "Ой колядка!", так и прямое указание в песне на пение молодцами и девицами "песен колядушек":
За рекою за быстрою,
Ой колядка, ой колядка!
Леса стоят дремучие,
В тех лесах огни горят,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы
Поют песни колядушки.
Ой колядка, ой колядка!
В середине их старик сидит,
Он точит свой булатный нож.
Котел кипит горючий,
Возле котла козел стоит,
Хотят козла резати.
Ой колядка, ой колядка!...
По совершении общественного жертвоприношения следовало съедение мяса жертвенного животного - жертвенная трапеза (пиршество) и попойка с играми, песнями и плясками.
В песне, исполняемой при изгнании "коровьей смерти", старцы, прежде чем приступить к закланию животных,
Ставят столы белодубовые,
Стелят скатерти браные.
Очевидно, в этих стихах изображены приготовления к предстоящему жертвенному пиршеству. Мясо жертвенных животных варится в "котлах кипучих", с тем, чтобы впоследствии быть съеденным жертвователями. Такое же назначение, несомненно, имеет и мясо упоминаемого в святочной песне козла, обреченного на заклание. Его собираются резать возле пылающего костра и кипящего "котла горючего". В некоторых местах России крестьяне при запашке варят брагу, носят в церковь освящать часть баранины, черного петуха и хлебы, и потом пируют сообща целой деревней. Кроме того, существует обычай, в известные праздничные дни, например, Ильин день, Петров день, день Прокопия - жатвенника и прочие, убивать и затем варить или жарить и съедать купленного на общественный счет быка, теленка или барашка, резать и съедать "рождественского кабана", "пасхального барашка" и тому подобное.
Все это представляет несомненные остатки языческих жертвоприношений со следовавшими за ними общественными пирами. Барашка, зарезанного в день Прокопия - жатвенника, едят с песнями и плясками. Несъедобные части жертвенного животного (голова, кости, внутренности и прочее), по совершении над некоторыми из них гадания, если оно входило в обряд жертвоприношения, вероятно, зарывались в землю, сжигались или топились в воде, или же, наконец, сохранялись как чудодейственный талисман. На это указывают ныне соблюдаемые обычаи зарывать кости пасхального барашка на нивах, с целью предохранения последних от града, или сберегать, и затем бросать их в огонь во время грозы, что бы молния не ударила в избу, зарывать в укромном месте кости рождественского кабана, также кости зарезанного под новый год поросенка, топить перья, внутренности и кости "кур - троецыплятниц" и тому подобное.
Пиры и попойки естественно соединялись с играми и песнями: "Схожахуся на игрища, - пишет Нестор, - на плясанья и на все бесовские игрища", и в другом месте: "но сими дьявол льстит и другими нравы, всяческими лестьми, прибавляя ны от Бога, трубами и скоморохи, гусльми и русальи".
У северных славян жрецы гадали с помощью коней. В Арконском храме держали белого скакуна, и люди не сомневались, что Святовид ездит на нем каждую ночь. Ожидая какого - то важного пророчества, коня принуждали переступать через копья: если он ступал правою, а не левою ногой, народ ожидал славы и богатства, всяческой удачи. Ну а в Штетине такой конь - пророк был вороной и предвещал успех, если ни разу не касался ногами девяти копий, когда перешагивал через них. В Ретре гадатели обращались к земле, к ее недрам. Некоторые жрецы, вопрошая будущее, бросали на землю три маленькие дощечки, у которых одна сторона была черная, а другая белая: Если они ложились вверх белою, то обещали что - то хорошее; черная же предвещала беду.
Праздники
Уже около двух тысяч лет известны славянские календари. На одних из них "чертами и резями" воспроизводился весь год, на других - его летняя или зимняя часть, отмечались главные празднества.
В древности год начинался 1 марта, когда праздновали Авсень (Овсень, Таусень, Усень). Чтобы закликать весну, выпекали из теста "жаворонков", "куликов", дети забирались с ними на крыши сараев, на деревья и призывали теплую раннюю весну. Тем временем взрослые собирались на пригорках, пели "веснянки", обращаясь к аистам и журавлям: скорее несите на крыльях благодатное весеннее времечко. На берегах рек раскладывали костры, водили хороводы. С крыш домов сбрасывали снег, талою водою поили больных. И наконец при всеобщем ликовании сжигали чучело Мары - олицетворение смерти и зимы.
Спустя три недели, в день весеннего солнцестояния, справляли веселую разгульную Масляницу. Обычно облачали соломенную куклу в кафтан, надевали шапку, обували лапти и усаживали в большие сани, куда впрягали несколько лошадей. За санями шествовали ряженые, причем девушки были в мужской одежде, а парни - в женской. Объехав всю деревню, направлялись в соседнюю, где буйствовали весь следующий день. А на третий день Масляницу сжигали - с шуточками, непристойными выкриками, бранью и глумлением над раздетым чучелом. В конце недели поминали предков, выпускали на волю птиц из клеток, окуривали одежду над кострами - то, было, начало как бы новой жизни, прощание с зимою, подготовка к лету.
Зеленые Святки или Семик, - праздник подрастающих семян, молодой листвы, первых цветов. В эту "русальную неделю", когда начиналось лето красное, веселье не утихало ночью и днем. "Похороны русалок", "Похороны кукушки", "Похороны Костромы" - этими ритуалами прощались с весною, а наступившее лето олицетворяла береза. Ее ветками украшали жилища, а само дерево - цветными лентами и полотенцами; иногда березоньку обряжали в платье и водили вокруг нее хороводы. В Семицкую неделю поминают усопших и совершается обряд крещения кукушек (наши древние верования рисуют человеческую душу в образе кукушки; в народных украинских песнях кукушка прилетает горевать над умершим; она - олицетворение сердечной печали по покойникам. В свадебной песне невеста - сирота посылает кукушку за своими умершими родственниками, чтобы они пришли с того света благословить ее на новое счастливое житье). Девицы приходят в рощу, отыскивают две плакучие березки, надевают на них венки из цветов, нагибают и связывают их ветви разноцветными лентами, платками и полотенцами в виде венка; над венком кладут траву - кукушку или рукодельное чучело птицы, а по сторонам привешивают кресты. Две девицы, желающие покумиться (крестить кукушку), должны обойти вокруг этих берез - одна навстречу другой, потом трижды поцеловаться сквозь венок и сквозь венок же передать друг дружке желтое или красное крашеное яйцо.
Хоровод в это время поет:
Ты кукушка ряба,
Ты кому же кума?
Покумимся, кумушки,
Покумимся, голубушки!
Названные кумушки обмениваются крестами и кольцами, а "кукушку" разделяют на три части и хранят у себя на память о кумовстве. Затем всегда следует веселое пиршество, необходимой принадлежностью которого бывает яичница.
Те, которые покумились на Семик, ходят на Троицын день развивать венки или бросать их в воду, при чем поют:
Раскумимся, кумушки!
Раскумимся, голубушки!
Да йо, йо -
Семик да и Троица!
От Зеленых Святок до праздника Купалы - рукой подать. Купало - божество лета, полевых цветов и плодов. К этому времени все травы набирают целебную и сверхъестественную силу, поэтому в Купальскую ночь и на следующий день следовало запастись лечебным зельем впрок.
В ночь на Ивана Купалу искали в лесу заветный цветок папоротника, дабы отыскивать плоды. Велик был соблазн разбогатеть в одночасье - но и опасности подстерегали смельчака немалые, ибо Купало - еще и празднество водяных, леших, ведьм, русалок, колдунов.
После дня Перуна (20 июля) следовали праздники урожая: медовый Спас, горохов день, хлебный Спас, овсяница, складчины и братчины - вплоть до Покрова дня (1 октября), когда земля уже покрывалась снегом.
Самый длинный и самый шумный ежегодный праздник на Руси - зимние Святки (с 25 декабря по 6 января). Солнце поворачивало на лето, хотя зима все еще была впереди. Первые шесть вечеров Святок были "святыми", последующие шесть - "страшными", ибо нечисть разного рода пускалась в разгул и всячески вредила людям. На Святках гадали о будущем урожае, о женихах и невестах, о собственной судьбе.
В 1492 г., когда исполнилось семь тысяч лет от мифического сотворения мира, Новый год перенесли на 1 сентября, а позднее - на 1 января. Однако праздники и связанные с ними обряды сохранились на Руси, как и в старину.
Времена года
В последовательных превращениях природы древние племена усматривали не проявление естественных законов, а действие одушевленных сил - благотворных и враждебных, их вечную борьбу между собою, торжество то одной, то другой стороны. Поэтому времена года представлялись нашим предкам не отвлеченными понятиями, но живыми воплощениями стихийных богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных высот на землю и устраивают на ней свое владычество. По указаниям старинных пасхалий (календарей), "весна наречется, яко дева, украшена красотою и добротою, сияющее чудно и преславне... Лето же нарецается муж тих, богат и красен, питая многи человеки и смотря о своем дому, и любя дело прилежно, и без лености возстая заутра до вечера и делая без покоя. Осень подобна жене уже старе и богате и многочадне; иногда печальна от скудости плод земных и глада человеком, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодом всем, и тиха и безмятежна. Зима же подобна мачехе злой и нестройной и нежалостливой, яре и немилостиве; егда милует, но и тогда казнит; егда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит, и мучит грех ради наших".
Зима дышит на все встречное таким леденящим дыханием, что даже нечисть, о которой добрые люди боятся вспоминать на ночь, (а если кто и обмолвица ненароком, то тут же оговаривает свою ошибку словами: "Не к ночи будь помянут!"), даже все духи тьмы торопятся укрыться подобру - поздорову куда - нибудь подальше да поглубже от краснощекой, белолицей красавицы, замораживающей своими поцелуями кровь в жилах. Слуги Зимы - метели, вьюги, поземки - поползухи. Длинной свитою тянутся они по следу госпожи, просят у нее заделья, и уж когда дает им Зима работу, крутятся над землей снежные вихри, метут метели, бушуют бураны. Зима старается, чтобы все вокруг было белым - бело, снежным - снежно. В самом начале своем несет Зима всем людям веселые, светлые праздники: Рождество, Новый год, Крещение. Однако идет время, Зима стареет, и тогда жди от нее пакостей вроде Коровьей Смерти - болезнетворной, злобной старухи, которая в феврале особенно старается проникнуть в деревни. Да и лихоманки - лихорадки, злобные сестры, особенно свирепствуют зимою. И к марту - месяцу, накануне прихода Весны - Красной девицы, Зима в народном представлении обращается в уродливую, зловредную старуху, которую мы мечтаем как можно скорее спровадить туда, откуда пришла: за гора - за моря, в снеговые, ледяные хоромы, чтобы насладилась теплом уснувшая земля, пробудилась и расцвела.
Поэтические олицетворения времен года шли из глубокой древности и принадлежали славянам наравне со всеми другими родственными племенами.
Более наглядные олицетворения времен года встречаем у белорусов. Весну они называют Ляля, лето - Цеця, осень - Жыцень, зиму - Зюзя.
Леля представляется юной, красивой и стройной девой; существует поговорка: "Пригожа, як Ляля!" В честь ее празднуют накануне Юрьева дня, и праздник этот известен под именем Ляльника. На чистом лугу собираются крестьянские девушки; избравши самую красивую подругу, они наряжают ее в белые покровы, перевязывают ей руки, шею и стан свежей зеленью, а на голову надевают венок из весенних цветов: это и есть Ляля.
Она садится на дерн; возле нее ставят разные припасы (хлеб, молоко, масло, творог, сметану, яйца) и кладут зеленые венки; девицы, взявшись за руки, водят вокруг Ляли хоровод, поют обрядовые песни и обращаются к ней с просьбой о хорошем урожае. Ляля раздает им венки и угощает всех приготовленными яствами.
Венки и зелень, в которые наряжалась Ляля, сберегают до следующей весны.
Цеця - дородная красивая женщина; в летнюю пору она показывается на полях, убранная зрелыми колосьями, и держит в руках сочные плоды.
Жыцень представляется существом малорослым, худощавым, пожилых лет, с суровым выражением лица, с тремя глазами и всклоченными, косматыми волосами.
Он появляется на нивах и огородах после снятия хлеба и овощей и осматривает: все ли убрано как следует в добром хозяйстве. Заприметив много колосьев, не срезанных или оброненных жнецами, он собирает их, связывает в сноп и переносит на участок того хозяина, где хлеб убран начисто, то есть с бережливостью; вследствие этого на будущий год там, где Жыцень подобрал колосья, оказывается неурожай, а там, куда перенес он связанный сноп, бывает обильная жатва.
Когда Жыцень странствует в виде нищего и при встрече с людьми грозит им пальцем, это служит предвестием всеобщего неурожая и голода в следующем году. Во время осенних посевов он незримо присутствует на полях и утаптывает в землю разбросанные зерна, чтобы ни одно не пропало даром.
Зюзя - старик небольшого роста, с белыми что снег волосами и длинной седой бородою, ходит босой, с непокрытою головою, в теплой белой одежде и носит в руках железную булаву. Большую часть зимы проводит он в лесу, но иногда заходит и в деревню, предвещая своим появлением жестокую стужу.
Природа и животные в славянской мифологии
Животные
У южных славян существует поверие: давным - давно все животные были людьми, но впоследствии, те из них, кто приносил ложные клятвы, оскорблял мать, злодействовал, насильничал, были обращены в животных, рыб и птиц.
Любое животное видит все, слышит все и даже все предвидит; более того, оно знает и то, что чувствует человек. Этот божественный дар получен взамен дара речи. Впрочем, будучи лишены человечьей речи, животные разговаривают между собой. Рыбы, растения, даже камни когда - то были наделены речью, свободно общались друг с другом. Недаром же существуют пословицы: "И у горы есть глаза", "И стены имеют уши", "И камни говорят".
Своим неуклюжим обликом запечатлелся во многих пословицах, поговорках, прибаутках и загадках лесной воевода медведь. Его русский народ окрестил Мишкой, Михайлой Иванычем, Топтыгиным. Если его не трогать, незлобив и даже добр он по - своему, по - медвежьему. Но охотникам, выходящим на него с топором да с рогатиной, совсем напрасно полагаться на его доброту: того и гляди из "косолапого мишки" превратится в свирепое лесное чудовище. "Отпетыми" зовут завзятых медвежатников, при каждом выходе на охоту провожая их как на смерть. "Медведь - лешему родной брат, не дай бог с ним встренуться!" - говорят лесные жители. По медвежьему хотению и зима студеная длится: как повернется он в своей берлоге на другой бок, так и зиме ровно половина пути до весны осталась.
Патрикеевною и Кумушкой зовет народ лису. "Лисой пройти" равносильно со словом схитрить; есть даже особое слово - "лисить". Лиса - слабосильнее волка да, благодаря своей хитрой повадке, куда сытее его живет.
Она - "семерых волков проведет": как ни стереги собака от нее двор, а курятинки добудет. "Лиса и во сне кур у мужика во хлеве считает!", "У лисы и во сне ушки - на макушке!", "Где я лисой пройдусь, там три года ауры не несутся!", "Кто попал в чин лисой, будет в чине - волком!", "Когда ищешь лису впереди, она - позади!", "Лиса все хвостом покроет!" - перебивают одна другую старинные пословицы и поговорки. "У него лисий хвост!" - говорится о льстивых хитрецах.
Воплощением слабости и робости является заяц. "По лесу - лесу лисье жаркое в шубке бежит!" - говорят про него. "Труслив, как заяц!" - говорят в просторечии о робких не в меру людях. Заяц не только воплощение трусости, но и олицетворение быстроты. Поэтому быстрое, едва уловимое мелькание отблеска солнечных лучей на стенах, потолке и полу называется зайчиком. Это название в народе относится и к синим огонькам, перебегающим по горящим углям.
Простонародное суеверие не советует вспоминать о зайце во время купания: водяной утопить за это может.
Удивительно, но заяц издревле был еще и воплощением сладострастия, мужской силы. Как поется в одной из хороводных песен:
Заюшка, с кем ты спал да ночевал,
Беленький, с кем ты спал да ночевал? -
Спал я, спал я, пане мой,
Спал я, спал я, сердце мой,
У Катюхи - на руке,
У Марюхи - на грудях,
А у Дуньки вдовиной на всем животе.
До сих пор в народе верят: зайца увидеть во сне - к скорой беременности. А у южных славян, для подмоги способу естественному, еще надо выпить кровь молодого зайца.
Самый любимый и важный персонаж в славянской мифологии с древнейших времен и до наших дней - Мать - Сыра Земля.
Мать - Сыра Земля представлялась воображению язычника, обожествлявшего природу, живым человекоподобным существом. Травы, цветы, кустарники, деревья казались ему ее пышными волосами; каменные скалы признавал он за кости; цепкие корни деревьев заменяли жилы, кровью земли была сочившаяся из ее недр вода. И, как живая женщина, она рождала существ земных, она стонала от боли в бурю, она гневалась, учиняя землетрясения, она улыбалась под солнцем, даруя людям невиданные красоты, она засыпала студеною зимою и пробуждалась по весне, она умирала, обожженная засухой. И, точно к истинной матери, прибегал к ней человек во всякую пору своей жизни. Припадет богатырь к сырой земле - и преисполнится новых сил. Ударит в землю копьем - и она поглотит черную, ядовитую змееву кровь, воротив жизнь загубленным людям.
Кто не почитает земли - кормилицы, тому она, по словам пахаря, не даст хлеба - не то что досыта, а и в впроголодь; кто сыновьим поклоном не поклониться Матери - Сырой Земле, на гроб того она ляжет не пухом легким, а тяжелым камнем. Кто не захватит с собою в дальний путь горсти родной земли - никогда не увидит больше родины, верили наши предки.
Больные в старину выходили в чистое поле, били поклоны на все четыре стороны, причитывая: "Прости, сторона, Мать - Сыра Земля!" "Чем заболел, тем и лечись!" - говорится в народе , и советуют старые люди выносить тех, кто ушибся - разбился, на то самое место и молить землю о прощении.
Земля и сама по себе почитается в народе целебным средством: ею, смоченной в слюне, знахари заживляют раны, останавливают кровь, а так же прикладывают к больной голове. "Как здорова земля, - говорится при этом, - так же и моя голова была бы здорова!"
"Мать - Сыра Земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота и лихого дела!" - произносится кое - где еще и теперь при первом выгоне скотины на весенний подножный корм.
"Пусть прикроет меня Мать - Сыра Земля навеки, если я вру!" - говорит человек, давая клятву, и такая клятва священна и не рушима. Те, кто братается не на жизнь, а на смерть, смешивают кровь из разрезанных пальцев и дают друг другу по горсти земли: значит, отныне родство их вечно.
А в стародавние годы находились такие ведуны - знахари, что умели гадать по горсти земли, взятой из - под левой ноги желающего узнать свою судьбу.
"Вынуть след" у человека считается и теперь самым недобрым умыслом. Нашептать умеючи над этим вынутым следом - значит, по-старинному поверию, связать волю того, чей след, по рукам и ногам. Суеверные люди боятся этого как огня. "Матушка - кормилица, сыра земля родимая, - отчитываются от такой напасти, - укрой меня от призора лютого, от всякого лиха нечаянного. Защити меня от глаза недоброго, от языка злобного, от навета бесовского. Слово мое крепко, как железо. Семью печатями оно к тебе, кормилица Мать - Сыра Земля, припечатоно - на многие дни, на долгие годы, на всю жизнь вековечную!"
По воззрению южных славян, земля плоская и круглая. На краю света купол неба соединяется с Землею. Землю держит на роге вол или буйвол; время от времени он устает и перебрасывает ношу на другой рог - отсюда и землетрясения.
В подземном мире тоже живут люди, все там устроено по-нашему: те же растения, птицы, животные.
При сотворении мира вся - вся земля была ровная, но когда Господь рыл русла рек и морей, пришлось ему из песка и камней создать холмы и горы.
"Земля сотворена как человек, вместо власов былие имеет!" - уверяли древние всеведы, а потому наделяли былие, зелие - траву - волшебными свойствами Матери - Сырой Земли. "Целебна трава, если собирать ее знаючи", - говорят в народе. Такие особенные знатоки травяных зелий и "лютого коренья" назывались залейниками, травознаями, и ходили они по лугам и лесам, как в насаженном собственными руками саду: всякой травы, всякой былинки знали свойства и место.
Травы
Травы долженствующие обладать таинственной силою, собирали в ночь на Ивана Купала или Аграфену Купальницу, когда все земное зелие - былие получало сверхъестественную мощь: как злую, так и добрую. И говорят, была такая трава - колдовская, что если отыщешь ее, выжмешь сок и намажешь им ноги, то пройдешь по любому морю - и ноги твои не промокнут.
Ночные травы цвели огнем. Таковы были черная папороть, царе - царь, лев, голубь и другие. Иной цвет пылал неподвижным, сильным пламенем, иной имел вид молнии, летучего, призрачного огня. "Трава лев, - сказано об одной из них в древнейшем из "Залейников", - растет невелика, а видом как лев кажется. В день ее и не приметишь, сияет она по ночам. На ней два цвета, один желтый, а другой ночью как свеча горит. Около нее поблизости травы нет, а которая и есть, и та преклонилась перед ней". А вот что говорится о дивной траве киноворот: "Хотя какая буря, она кланяется на восток всеми стволами; то же, если и ветру нет".
Иные травы требовалось рвать, очертя место вокруг нее золотом или серебром, что называлось "пронимать сквозь серебро или злато". Это делалось так: клали на землю около травы с четырех сторон серебро (монеты, украшения) или раскидывали вокруг золотую гривну (тяжелую шейную цепочку). Так пронимали кликун - траву (или колюку), одолень - траву, метлику, папороть безсердешную и некоторые другие самые загадочные и таинственные травы.
Ну а когда они попадали в руки знахаря, сила их все же не могла сказаться без чародейного, заговорного слова. Травы словно бы нужно было уговорить помочь человеку - или навредить ему.
Трава, болезнь, любовь, стихия - это все были для нашего предка живые существа, с которыми он беседовал на равных, с каждым - на его собственном языке.
В ту пору знали и язык сей, и ощущали особенную, нами теперь не постижимую связь с природой. Наверное, оттого среди трав в стародавние времена волшебные и чародейные былия встречались, а нынче одни только лекарственные травы остались, да и те не каждому помогают.
Деревья
Славяне, живущие в лесах, относились к деревьям с большим почтением, наделяя почти каждое сверхъестественными свойствами. Предание о мировом древе, которое обнимает корнями землю, а ветвями держит небесный свод, славяне относят к дубу. В их памяти сохранилось сказание о дубах, которые существовали еще до сотворения мира. Еще в то время, когда не было ни земли, ни неба, а только одно синее море (воздушный океан), среди этого моря стояло два дуба, а на дубах сидело два голубя; голуби спустились на дно моря, достали песку и камня, из которых и создались земля, небо и все небесные светила.
Существует предание о железном дубе, на котором держатся вода, огонь и земля, а корень его покоится на божественной силе. Бытовало поверье, что семена дуба прилетают по весне из Ирия. В древности наши предки творили суд и правду под старыми дубами.
Дуб, а также и всякое другое дерево, в которое ударила молния, получали те же целебные, живительные свойства, которые приписывают весеннему дождю и громовой стрелке. Чтобы иметь лошадей добрых (в теле), советуют класть в конюшне кусок дерева, разбитого громом. Если при первом весеннем громе подпереть спиною дерево (или деревянную стену), то спина болеть не будет. Детей, страдающих сухоткою, кладут на некоторое время в раздвоенное дерево, потом трижды девять раз обходят с ними вокруг дерева и вешают на его ветвях детские сорочки. По возвращению домой купают их в воде, взятой из девяти рек или колодцев, и обсыпают золою из семи печей. От лихорадки и других болезней крестьяне купаются в реках, лесных родниках и колодцах, а после купания вытираются чистою тряпицею и вешают ее на соседнее дерево или ракитов куст; вместо тряпицы вешают также рубашку или лоскут от своей одежды и оставляют их до тех пор, пока совсем не истлеют. Смысл обряда следующий: смывая и стирая со своего тела недуг, больной как бы снимает его с себя и вместе с тряпицею и сброшенной рубашкою передает кусту или дереву, как земным представителям того небесного, райского древа, которое точит живую воду, исцеляющую все болезни. Как истлевает оставленный лоскут или сорочка, так должна сгинуть и сама болезнь. Позднее, при утрате ясного понимания старинных представлений, обряд этот получил характер жертвенного приношения лесным и водяным духам.
Не менее любопытные поверия соединяют народ с осиною - деревом, за которым усвоены мифические свойства едва ли не вследствие сродства его имени со словом ясень. Как ясеню придана сила, оцепеняющая змей, так об осине утверждают, что убитого ужа должно повесить именно на это дерево; иначе он оживет и укусит. Когда богатырь Добрыня убил змея, он повесил ее на осину: "Сушися ты, Змей Горынчище, на той - то осине на кляпыя". Подобное же спасительное действие оказывает осина и против колдунов, упырей и ведьм. Заостренный осиновый кол получил в глазах народа значение Перуновой палицы. Чтобы мертвец, в котором подозревают злого колдуна, упыря или ведьму не мог выходить из могилы, крестьяне вбивают ему в спину осиновый кол; чтобы предохранить коров и телят от нападения ведьм, они ставят на воротах и по углам скотного двора осины, срубленные или вырванные с корнем; во время чумы рогатого скота, прогоняя Коровью Смерть, бьют ее (то есть машут по воздуху) осиновыми поленьями. По свидетельству сказок, колдунам - выходцам из могил - вколачивают в сердце осиновый кол и сжигают их на осиновом костре. В свою очередь, ведьма может пользоваться осиновым колом или веткою для своих волшебных чар: ударяя этой веткою в грудь сонного человека, она наносит ему незримую рану и жадно упивается его кровью. Выдоив черную корову, ведьма выливает молоко в землю и тут же вбивает осиновый кол: этой чарою она отнимает у коров молоко.
Как спасительное орудие против демонского наваждения, осина может служить и для изгнания болезней. Читают заговор над осиновыми прутьями, которые потом кладутся на больного. Когда разболятся зубы, берут осиновый стручок и трижды читают над ним заговор: "На море, на окияне, на острове на Буяне, стоят высокие три дерева, под теми деревьями лежит заяц; переселись ты, зубная боль к тому зайцу!"
После того осиновый сучок прикладывается к больным зубам.
Береза - тоже священное дерево в славянской мифологии. Ее почитали как символ берегинь, русалок во время весеннего праздника Семика, когда в селение вносили распустившееся дерево и девушки надевали березовые венки. На бересте писали и приколачивали к деревьям прошения лешим: вернуть, например, заблудившуюся коровушку, подвести под ружье охотнику дичь, помочь не заплутаться, когда девки пойдут по малину.
Славяне вообще считали березу главным, мировым деревом, опорою всей земли, о чем и говорится в старинном заговоре: "На море, на океане, на острове Буяне, стоит белая береза вниз ветвями, вверх кореньями". Так же чтили в этом дереве женского духа Березу, покровительницу юных дев.
В райских садах и рощах, на тенистых деревьях зреют золотые плоды (яблоки), дающие вечную молодость, здоровье и красоту. По своим чудесным свойствам плоды эти совершенно тождественны с бессмертным напитком - живой водою. Русское предание дает им название молодильных, или моложавых: стоит только вкусить этих плодов, как тотчас же сделаешься молодым и здоровым, несмотря на преклонные лета. Любопытная русская сказка о молодильных яблоках и живой воде сообщает один из древнейших мифов. Состарившийся и ослепнувший царь, о котором говорится в сказке, олицетворяет собою зимнее время, когда все на земле увядает, дряхлеет и всемирное око - солнце теряет свой яркий блеск. Изображая времена года живыми, человекоподобными существами, народная фантазия весну представляла прекрасною девицею, а зиму беловласым и седым старцем.
Чтобы возвратить царю его молодость и зрение, сын - царевич должен добыть живой воды, которая исцеляет слепоту, и моложавых золотых яблок, то есть вызвать весну с ее благодатными дождями, золотистыми молниями, светозарным солнцем и со всей роскошью растительного царства. Живая вода и золотые яблоки одинаково обновляют дряхлого старика, делают его цветущим юношею и даже уподобляют семилетнему ребенку; больному дают крепость и здоровье, мертвому - жизнь, безобразие превращают в красоту, бессилие - в богатырскую мощь; и те и другие обретаются в стране далекой - в вечно неувядаемом саду - и оберегаются драконами и великанами.
Предания о небесных, райских садах с течением времени стали прилагаться к земным садам и рощам и сообщили им священный характер. Леса стали местом пребывания облачных духов, а позднее человек придал им характер леших. Они живут в лесных трущобах и пустырях, но обыкновенно с первыми морозами (в начале октября) проваливаются сквозь землю, исчезая на целую зиму, а весною опять выскакивают из земли - как ни в чем не бывало.
Вода
Вода в народе зовется не иначе как "матушка", "царица". Еще на заре человеческой истории люди отчетливо сознавали великое значение водной стихии. Это подтверждает и мифология всех стран и всех народов, и позднейшие философские системы: как без огня нет культуры, так без воды нет и не может быть жизни. Сообразно с таким пониманием мировой роли воды языческие народы неизменно обоготворяли эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась другая великая стихия - земля.
Позднее, с распространением христианства, вера в божественное происхождение воды хотя и умерла, но на обломках ее выросло убеждение в святости и чудодейственной силе этой стихии. Одно из наследств седой старины - слепая вера в родники и почтение к ним как к хранителям таинственных целебных сил.
За реками сохранились, в виде легенд, следы олицетворения их как живых существ богатырского склада. Известен рассказ о споре Волги с Вазузой по поводу старейшинства. Эти две реки порешили окончить свой спор таким образом: обе должны лечь спать, и та, которая встанет раньше и скорее добежит до Хвалынского (Каспийского) моря, будет первенствовать. Ночью Вазуза встала раньше и неслышно, прямым и ближним путем потекла вперед. Проснувшаяся Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как надо. Но в Зубцове она догнала Вазузу, причем была в таком грозном виде, что соперница испугалась, назвалась меньшей сестрой и просила Волгу принять ее к себе на руки и донести до Хвалынского моря.
Днепр в былинах является в виде женщины, под именем Непры Королевичны. Она вступает в богатырский спор на пиру у князя киевского с Доном Ивановичем. В единоборстве она осталась побежденной. Дон убил ее каленой стрелой и сам в отчаянии пал на ножище - кинжалище. Вот от этой - то крови и потекла Непр - река, "во глубину двадцати сажень, в ширину река сорока сажень".
Ввиду такого повсеместно распространенного почитания воды первые просветители темных людей и последующие за ними основатели монастырей, святые отшельники, одною из главных забот ставили себе рытье колодцев.
В народном представлении становились священными те колодцы, появление которых было вызвано каким - либо чрезвычайным случаем, например, так называемые громовые (гремячие) ключи, бьющие из - под камня и происшедшие, по народному поверию, от удара молнии (огненных стрел Ильи - пророка или из - под копыт богатырского коня Ильи Муромца, а еще прежде - Перуна). Подле таких ключей всегда спешат поставить часовенку и повесить образа Богоматери.
Святыми названы народом и небольшие озера, во множестве разбросанные по лесной России, и притом не только те, которые оказались в соседстве с монастырями. С некоторыми из таких святых озер соединены поэтические легенды о потонувших городах и церквах. Из глубины этих озер благочестивым людям слышаться звон колоколов, церковное пение и видятся кресты и купола затонувших храмов. Наиболее известные и выдающиеся озера: в северо - западной Руси - озеро Свитязь близ гродненского Новогрудка и Светлояр в Керженских заволжских лесах близ города Семенова. Последнее до сих пор привлекает на свои берега тысячи людей, верующих, что в светлых струях пустынного лесного озера сохраняется чудесным образом исчезнувший во времена нашествия Батыя город Большой Китеж.
При погружении святого и животворящего креста в воду из нее, силою Святого Духа, изгоняется дьявольская скверна, и потому всякая вода становится чистою и непременно святою, то есть снабженною благодатью врачевания не только недугов телесных, но и душевных. "Богоявленской воде" в этом отношении всюду придается первенствующее значение, и она, как святыня, вместе с благовещенскою просфорою и четверговою свечой, ставилась на самое видное место в жилищах, в передний правый угол, к иконам. В обыкновенное время, при нужде, пьют эту воду непременно натощак. При этом существует повсеместное непоколебимое верование, что эта вода, сберегаемая круглый год до новой, никогда не портится, а если и случится что - нибудь подобное, это объясняется прикосновением к сосуду чьей - либо нечистой руки. Точно также повсюду сохраняется суеверное убеждение, что в верхних слоях освященной в чашах воды заключаются наиболее благодатные силы, устраняющие недуги и врачующие болезни.
Природная чистота воды, сделавшая ее единственным верным и легким очистительным средством, потребовала, в самые далекие языческие времена, особого себе чествования, выразившегося в торжественном празднике Купалы. Во многих местах еще сохраняются определенные дни, когда производится обязательно обливание водой - обычай, успевший пристроится к христианским праздникам. Обливают холодной водой всех, проспавших одну заутрень на неделе Святой Пасхи. Обычай обливания водой носит совершенно другой характер в тех случаях, когда он получает название "мокриды": в этой форме он сохраняет явные осколки языческих праздников вызывания дождя.
Наш народ в прежнее время очень чтил дождевую воду. Выбегая на улицы босыми, с непокрытыми головами, деревенский и городской люд становился под благодатные небесные потоки первого весеннего дождя, пригоршнями набирал воду, чтобы вымыть лицо три раза. Люди выносили чашки, собирая целебную влагу, и в крепко закупоренных бутылках сохраняли ее целый год , до нового такого же дождя. Точно так же чтил народ и речную воду после вскрытия рек.
Едва пройдет весною лед по рекам и ручьям, как все дети, взрослые и старики бежали на берег: зачерпывали пригоршнями воду и умывали три раза лицо, голову и руки.
Эти обычаи приводят нас к целому ряду суеверных гаданий, где воде предоставлено главное место, подобно так называемому отчерпыванию воды и прощению у воды.
В первом случае при болезни домашних животных или ввиду какой - либо неприятности окачивают водою крест или медный образок, стараясь спускать эту воду на уголья, облепленные воском и ранее опрыснутые богоявленскою водою; в то же время читают про себя самодельные молитвы и кропят и поят тех, кто нуждается во врачебной помощи. "Прощения у воды" испрашивается больным и обездоленным. Обычай этот покоится на том убеждении, что вода мстит за нанесенные ей оскорбления, насылая на людей болезни. Поэтому, чтобы избавиться от таких болезней, на воду опускают кусочек хлеба с низким поклоном: "Пришел - де я к тебе, матушка - вода, с повислой, да с повинной головой, прости меня, простите и вы меня, водяные деды и прадеды!" Отступая по одному шагу назад, до трех раз повторяя этот приговор с поклоном и, во все время заклинаний стараются ни с кем не разговарив
Серия сообщений "славянское язычество":
Часть 1 - СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Часть 2 - Храним память былых времён?
...
Часть 17 - Этимология слова ЛАД. Очень интересно!!!
Часть 18 - О СИМВОЛИКЕ РУССКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВЫШИВКИ АРХАИЧНОГО ТИПА
Часть 19 - Александра Карачарова - Славянские древности
Часть 20 - Особенности формирования и развития восточнославянского язычества
Часть 21 - ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫЧЕСТВО
...
Часть 30 - >Сорванные цветы...
Часть 31 - О писанках..
Часть 32 - Как наши предки почитали деревья
|
Метки: славяне |
Курский КРАЙ |
Курский КРАЙ
Том 2.
ЭПОХА РАННЕГО МЕТАЛЛА.
предисловие
Еще в глубокой древности философы обратили внимание на то, что существовало
несколько важных этапов в становлении и развитии материальной культуры
человечества. В конце восьмого века до новой эры эллин Гесиод горько сетовал на
то, что счастливый век золотых людей (золотой век) давно миновал, миновал уже и
менее спокойный и сытный век медный, и ,вот, приходится жить во время людей
железных, в век железа - горькое и многотрудное время, и лучше жить было бы до
него или же родиться после...
Под золотым веком Гесиодом, возможно, подразумевалось охотничье детство
человечества - палеолит и неолит, когда не нужно было пахать землю, выращивать
скот, ибо полнокровная природа легко снабжала своих наделенных разумом сыновей
всем необходимым, а тучные стада диких животных и рыбные реки позволяли за
считанные часы пополнять запасы продовольствия, оставляя массу свободного
времени... Век меди и бронзы - героический век Одиссея и Ахиллеса, Прекрасной
Елены и Кассандры, воспетых слепым Гомером, для горюющего грека Гесиода
только-только миновал. Железо уже входило в обиход - им резали, шили, пахали,
воевали...
В первом веке до нашей эры римлянин Лукреций создал поэму “О природе вещей” в
которой выделил три эпохи: каменный, медный и железный века. Такое же деление на
другом конце Евразийского континента, в Древнем Китае в это же время предложил
писатель Юн Кан.
Современные историки и археологи всего лишь усовершенствовали эту классификацию,
раздробив, например, медный век Лукреция на эпоху меди (энеолит), ранний и
поздний бронзовый века. Медный, бронзовый и ранний железный века можно условно
объединить, назвав период с 4000 до 2000 лет назад эпохой раннего металла.
Именно описанию древностей этого периода на Курской земле, особенностей
экономики, культуры, быта и вероятного этнического состава населения эпохи
бронзы и раннего железа посвящен этот том.
Нам прийдется пользоваться в книге определенной терминологией. Для ее понимания
в конце книги помещен словарь специальных терминов. Однако, наиболее
распространенные (в частности, характеризующие основной археологический материал
- керамику) мы рассмотрим прямо сейчас.
Еще начиная с предшествующего эпохе бронзы неолита керамика становится самым
массовым археологическим материалом. И если в неолите сосуды, как правило имеют
достаточно простую слабопрофилированную остро- или круглодонную форму, в
бронзовом веке они уже серьезно усложняются и становятся очень разнообразными. В
каждом сосуде выделяются определенные части (иногда некоторые из них могут
отсутствовать: например бывает сосуд без шейки или плечиков). Все они
схематически показаны на рисунке: венчик (самый верхний край сосуда), шейка
(переход между венчиком и самой широкой частью сосуда, может быть низкой и
высокой или отсутствовать вовсе в банкообразных сосудах), плечики или ребро
(самая широкая часть сосуда - покатая, либо угловатая в профиле), тулово
(основная часть сосуда) и донце.
Важным элементом оформления керамики может быть ОРНАМЕНТ различных видов. Часто
он является культуроопределяющим признаком, как и профиль самого сосуда, состав
глиняного ТЕСТА. В тесто помимо глины могут входить различные отощители,
делающие горшок перед обжигом более прочным, устойчивым к деформациям: песок,
дресва (мелкие камешки), битая ракушка, шамот (мелкораздробленная керамика) и
т.д.
Невозможно на нескольких страницах подробно рассказать об истории исследований
периода раннего металла в Курской области, историографии курской археологии
будет посвящена отдельная книга. Мы же постараемся дать общую картину, так
сказать “крупными мазками”, выделив лишь основные этапы и эпизоды, главных
действующих лиц.
История изучения эпохи раннего металла Курского края начинается фактически еще
со времен Древней Руси, когда люди приносили на свои поселения, а возможно
использовали в качестве амулетов кремневые наконечники (в народе их еще тогда
именовали “громовыми стрелами”) и шлифованные каменные топоры бронзового века.
Подобные необычные предметы всегда вызывали и вызывают живейший интерес у людей
даже малосведущих в истории и археологии.
Однако научный подход к изучению древностей Посеймья и Попселья впервые проявил
преподаватель Суджанской гимназии, смотритель училищ Суджанского, Рыльского и
Щигровского уездов Алексей Иванович Дмитрюков. В середине XIX века он провел
обследование городищ и курганов Суджанского и Рыльского уездов и опубликовал
свою информацию в “Известиях Русского Императорского Географического общества”.
В 1874 году увидел свет “Указатель городищ, курганов и других земляных насыпей
Курской губернии”, составленный и созданный по инициативе выдающегося русского
историка, правоведа и археолога профессора Дмитрия Яковлевича Самоквасова. В
этот первый свод археологических памятников нашего края вошли многие городища
раннего железного века. Дмитрий Яковлевич, женившись на помещице Т.В.Шумаковой,
ежегодно летом стал приезжать в ее имение в д.Кленовой Курского уезда (ныне
Медвенский район) и проводить археологические раскопки и разведки в Курской
губернии. Хотя основным объектом интересов профессора Самоквасова были
славяно-русские древности, он раскопал в 1892 году и курганный могильник эпохи
бронзы у с.Воробъевка к северу от Курска, где им обнаружено было так же и
впускное погребение сарматского ребенка.
В 1910 г по поручению Императорского Московского Археологического общества
археолог-любитель из Курска А.Н.Александров провел разведку (правда на слабом,
дилетантском уровне даже для его времени) по Сейму в Льговском и Рыльском уездах
и описал в отчете своем несколько древних поселений, в том числе городищ.
А в 1918 году, в период Гражданской войны, прокатившейся и по Курской губернии,
археолог Лев Николаевич Соловьев весьма профессионально провел разведки
разновременных археологических памятников, включая стоянки бронзового века,
городища и селища скифской эпохи. Впоследствии Л.Н.Соловьев активно включился в
работу Курского губернского краеведческого общества, публиковал материалы своих
изысканий. При рекогносцировочных раскопках Шуклинского городища на северной
окраине Курска Лев Николаевич верно установил наличие двух культурных слоев на
этом памятнике - слоя скифо-сарматского времени и славянского. Однако, в скором
времени начались репрессии, Курское краеведение оказалось под корень
выкорчеванным силами НКВД-ОГПУ. Практически прекратились исследования, исчезли
местные кадры - кто бежал, кто оказался в ГУЛАГе.
Лишь после окончания Великой Отечественной войны возобновились активные работы
по изучению древностей Курского края, но возобновились на этот раз не при помощи
местных специалистов и энтузиастов, а благодаря столичным археологам. Именно на
традициях их экспедиций было воспитано новое поколение местных научных и
краеведческих кадров. Пристальное внимание москвичей привлекли, с одной стороны,
активизировавшееся изучение вопросов славянского этногенеза, требовавшее новых
данных полевых исследований (экспедиция 1947 г под руководством И.И.Ляпушкина,
обследовавшая большую часть уже известных городищ Посеймья и Попселья и
открывшая ряд новых), с другой - малоизученность Посеймья в археологическом
плане (Деснинская экспедиция под руководством профессора М.В.Воеводского,
ставившая перед собой задачу комплексного археологического изучения региона и
начавшая работы на Сейме уже в 1946 г).
Сам Михаил Вацлавович и сотрудники его экспедиции - А.Е.Алихова-Воеводская,
Т.Н.Никольская, О.Н.Мельниковская, П.И.Засурцев, Н.К.Лисицына, М.Д.Гвоздовер и
другие, открывали новые древние поселения, вели раскопки. Оказалось, что на
многих городищах, как и в уже упоминавшейся Шуклинке (кстати, подвергнутой на
этот раз обширным раскопкам под руководством Т.Н.Никольской), в Липино на
городище “Курган”, на Кудеяровой горе имеется по два слоя - раннего железного
века и славянский. Были, впрочем, и такие, на которых славянский компонент
начисто отстутствовал - например открытые М.В.Воеводским в 1948 г городища
Кузина гора, Александровское и Плаксино. Школу деснинской экспедиции прошел и
демобилизовавшийся из армии будущий выдающийся курский археолог и краевед Юрий
Александрович Липкинг. Столь широкомасштабных и по территориальному и по
хронологическому охвату работ на территории Посеймья до Деснинской экспедиции
никогда не проводилось.
После скоропостижной смерти Воеводского в возрасте 45 лет (октябрь 1948 г)
экспедицию возглавила его супруга - Анна Епифановна Алихова. Начиная с 1955 г и
до начала 1970-х гг она вела планомерное исследование городищ и неукрепленных
поселений скифской эпохи на территории верхнего и среднего Посеймья, а так же
разведки и раскопки поселений и могильников бронзового века. В частности, ею
иследованы городища Кузина гора, Плаксино, Моисеевское, поселение Успенское,
курганный могильник Средние Апочки, заложены разведочные шурфы на множестве
городищ и поселений. В это же время разворачивается деятельность курского
археолога Ю.А.Липкинга, ведущего активные разведки и раскопки древностей на
территории области как самостоятельно, так и в составе экспедиции Алиховой.
Юрием Александровичем открыты сотни археологических памятников по всей Курской
области, среди которых множество поселений и могильников бронзового века,
городищ и селищ эпохи раннего железа. В 1962 году Ю.А.Липкинг публикует сводку
по городищам скифского времени в Посеймье, намного более полную и подробную, чем
изданный почти за сто лет до того “Указатель...” В 1968 г ненадолго возобновляет
работы в Курской области О.Н.Мельниковская. Она проводит разведки памятников
раннего железного века по Сейму и Пслу и раскопки ряда поселений, в числе
которых городище Жадино. Часть работ Ольга Николаевна проводит совместно с
А.Е.Алиховой. Акцент в ее исследованиях был сделан в основном на памятники так
называемой юхновской культуры скифского времени. В это же время начинает
исследования Южно-Курский отряд под руководством А.И.Пузиковой. Первоначально
исследования ведутся на востоке области (могильник эпохи бронзы в Средних
Апочках, разведки), но уже в 1969 году Анна Ивановна, возглавив с
Э.А.Сымоновичем Курскую экспедицию ИА АН СССР, приступает к раскопкам городища
Нартово. За период 1970-1980-х гг А.И.Пузикова исследует широкомасштабными
раскопками несколько городищ и неукрепленных поселений раннего железного века в
Посеймье, в их числе Глебовское, Переверзевское, Марицкое городища. В отличии от
Мельниковской, Пузикову в большей степени интересуют памятники с выраженными
скифоидными слоями. Э.А.Сымонович ведет исследования памятников римского времени
у сел Авдеево, Воробьевка, Букреевка, Каменево. С этого же времени и вплоть до
середины 1990-х гг А.А.Узянов, А.В.Кашкин, А.М.Обломский (ИА АН СССР - ИА РАН),
Е.А.Горюнов (ЛОИА АН СССР), Н.А.Тихомиров (КОКМ - КГОМА) проводят
широкомасштабные сплошные разведки на территории Курской области, открывая для
науки десятки и сотни новых, ранее неизвестных памятников археологии, среди
которых значительная часть относится к эпохе раннего металла. В 1970-1990-х гг
исследуют куст древностей раннесредневекового и римского времени на Псле
Е.А.Горюнов, В.М.Горюнова, О.А.Щеглова и Н.А.Тихомиров (ЛОИА АН СССР - ИИМК РАН
- КОКМ), а попутно и несколько поселений и захоронений позднего бронзового века
у сел Гочево, Картамышево, Бобрава и Шмырево. М.Б.Щукин (Эрмитаж) раскапывает
многослойное поселение с горизонтом позднего бронзового века у хутора Кулига на
Псле.
Следует отметить, что даже раскопки древнерусских городищ, оказывавшихся на деле
многослойными, приносили в результате интересные материалы по эпохе бронзы и,
особенно, раннему железному веку. Таковы Липинское городище (Засурцев П.И.,
Лисицына Н.К., 1968), Большое Горнальское городище (Куза А.В., 1980),
Переверзево 2 (раскопки А.А. Узянова), Иванова гора в Рыльске (Фролов М.В.,
1991) и другие.
В конце 1980-х- начале 1990-х гг начинает оживать собственно курская археология,
утратившая позиции после кончины Ю.А.Липкинга. В первую очередь в этом заслуга
талантливых местных кадров - археологов Н.А.Тихомирова, В.В.Енукова,
О.Н.Енуковой, историографа С.П.Щавелева. Молодой выпускник Курского
госпединститута А.Н.Апальков приступает к изучению памятников позднего
бронзового и раннего железного века Курского края, на его счету уже раскопки
курганного могильника Коробкино и нескольких поселений. В 1999 г А.А.Чубур
совместно с краеведом из Курчатова А.А.Катуниным выявляет несколько новых
“кустов” поселений эпохи бронзы и раннего железа на Сейме, включая весьма
перспективные для дальнейших исследований городища, а так же проводит небольшие
раскопки на разрушающемся рекой Сугровском городище. В новое тысячелетие Курская
археология уже входит окрепшей и вполне самостоятельной, к ней не подходит более
термин “периферия”, частенько применявшийся в разговорах некоторых “столичных
мэтров” в прошлые десятилетия.
Такова, вкратце, почти 200-летняя история исследований эпохи раннего металла на
Курской земле. За такое большое время выходили в свет многочисленные научные
статьи и монографии, но речи о популяризации знаний о бронзовом и железном веках
Посеймья и Попселья не шло, если не считать отдельных глав в произведениях Юрия
Александровича Липкинга, метко отмеченного профессором С.П.Щавелевым как
“последний романтик краеведческой археологии”. Археология должна быть научной,
но романтики поиска, открытий, ее не лишить. Эта книга - своеобразное подведение
некоторых итогов на рубеже веков, первая попытка научно-популярного обзора
одного из интереснейших периодов в истории человечества на территории Курской
области.
При этом мы постарались сделать все, что было в наших силах для того, чтобы
издание оказалось интересным и полезным не только для школьника, студента,
преподавателя, краеведа-любителя, но и для специалиста-археолога. Так, на
страницах тома вводятся в оборот некоторые новые, ранее неопубликованные
материалы, дана по возможности исчерпывающая справочная информация. В
приложениях представлены списки археологических памятников рассматриваемой
эпохи. Правда, учитывая развившийся впоследние годы “зуд кладоискательства” у
некоторых курян и бездействие правоохранительных органов, в результате чего
погибают для науки разрытые такими “коллекционерами” археологические памятники,
мы сочли необходимым по возможности нигде не давать точных координат древних
поселений и могильников, дабы не стать невольными соучастниками преступных
раскопок. Хочется верить, что это издание поможет уменьшить число бездумных,
алчущих наживы коллекционеров-кладоискателей и привлечет новых людей в
увлекательную, полную неожиданностей и открытий археологическую науку, тем более
что курская археология очень нуждается в пополнении кадров. Счастливого пути по
страницам книги!
БЛАГОДАРНОСТИ.
Автор хотел бы искренне поблагодарить всех тех, кто различным способом
содействовал созданию этого тома, его выходу в свет. Очень благодарен я за
ценные советы и информационную поддержку профессору кафедры философии Курского
медицинского института, выдающемуся историографу профессору Сергею Павловичу
Щавелеву; сотрудникам Курского государственного областного музея археологии
Николаю Алексеевичу Тихомирову - моему другу и учителю и Андрею Геннадьевичу
Шпилеву; зав. отделами Брянского государственного объединенного краеведческого
музея Николаю Егоровичу Ющенко и Геннадию Петровичу Полякову; доктору
исторических наук, сотруднику Института Истории Материальной Культуры РАН
(Санкт-Петербург) Ольге Алексеевне Щегловой; краеведу Александру Афанасьевичу
Катунину, а так же всем без исключения исследователям курских древностей, без
кропотливой, многолетней и многотрудной работы которых существование этой книги
вообще не было бы возможным. Наконец, я обязан сказать слова благодарности маме
- Светлане Чубур, без душевного тепла и заботы которой, вновь поднявших меня на
ноги после болезни, я, возможно, просто не успел бы завершить работу над этим
томом “Курского края”.
Глава 1. Природная среда эпохи раннего металла
и средневековья на территории Курской области.
...Чем больше развиваются палеогеографические, археологические и историко -
этнологические исследования, тем серьезнее выглядит система связей между
ландшафтными характеристиками географической среды и направлениями развития
человеческого общества на ранних стадиях его развития.
Валерий Павлович Алексеев
И хоть рождают боль и сожаленье
Разбитые сердца и города,
Всем уцелевшим, как давно известно,
О катастрофе вспомнить интересно.
Джордж Гордон Байрон
Современному ученому ясно, что невозможно рассматривать никакие процессы
эволюции человеческого общества, миграции различных племен, формирования
повседневных норм жизни и хозяйственного уклада, мировоззрения и даже
религиозных обрядов тех или иных групп людей в отрыве от природной среды, в
которую помещен человек, образованный людьми социум. Меняется климат, ландшафты,
потрясают мир катастрофы. Все оставляет свой отпечаток не только на лице
планеты, но и на портрете человечества. Именно поэтому перед тем, как
представить вашему вниманию особенности материальной культуры различных групп
населения, их эволюцию и взаимодействие, мы познакомимся с особенностями
природного процесса в позднем голоцене - финальном этапе периода, иначе
именуемого геологической современностью. Естественно, что в первую очередь мы
будем говорить об эволюции природной среды в том регионе, в который входит и
Курская область.
Эпоха бронзы длилась около 2000 лет. Ранний железный век - не более семи-восьми
веков. По сравнению с предшествовавшим каменным веком, длившимся десятки
тысячелетий, это совершенно незначительные временные интервалы, однако
специалистами-палеогеографами установлено, что климат и природная среда этого
времени были чрезвычайно динамичны. Сменялись ландшафты (лес теснил степь и
наоборот), менялся уровень водоемов, водоносность рек, испытывал колебания
климат. Кроме того, в эту эпоху деятельность человека впервые становится
серьезным фактором, влияющим на состояние природной среды. Если мифы о том, что
малочисленные и идеально встроенные в экосистему ледникового периода охотники на
мамонта и охотники на бизона истребили в короткий срок гигантское поголовье этих
животных так и не нашел серьезных подтверждений, если неолитические охотники и
рыболовы лишь вносили в природную среду легкий дисбаланс, уравновешивавшийся с
переходом племени в новые угодья, то первые же земледельцы и скотоводы начали
свою деятельность с коренных перестроек ландшафтов путем создания пастбищ и
полей. Впрочем, лесостепная полоса Восточной Европы оказалась намного более
устойчивой к экологическому прессингу первых скотоводов и земледельцев, чем
лежащие южнее территории первых раннеземледельческих государств.
Основу наших знаний о ландшафтах прошлого удалось составить благодаря данным
палинологических исследований - изучения сохранившейся в погребенных почвах,
культурных слоях пыльцы и спор растений. Ведь именно растительные сообщества -
наиболее чуткий индикатор смены климатической обстановки, смены ландшафтов. За
время геологической современности (голоцена), наступившей около 10-11 тысяч лет
назад сменилось несколько глобальных фаз потепления и похолодания. На смену
плейстоценовому оледенению пришла все еще холодная бореальная стадия (от "борей"
- северный ветер), когда в истории человечества началась переходная эпоха. Одни
называют ее мезолитом, другие - финальным палеолитом или эпипалеолитом. Бореал
сменился теплым и влажным атлантикумом (это был климатический оптимум голоцена).
Тогда же начался новокаменный век - неолит. Об этих периодах более подробную
информацию вы найдете в томе "Каменный век".
Итак, на рубеже атлантикума и суббореала неолитические охотники и рыболовы
благоденствовали в лесах, максимально продвинувшихся на юг. Однако, влажный и
теплый климат атлантикума был обманчив. Он постепенно, исподволь готовя людям
испытание. Активность полноводных рек инициировала овражно-балочные эрозионные
процессы. Выросшие овраги иссушали огромные пространства, леса начали погибать.
При обилии сухостоя стали возникать лесные пожары. Такими катаклизмами был
отмечен рубеж бронзового века (Сычева С.А., Гласко М.П., 1999).
В бронзовый век население центра Русской равнины вступило на начальной стадии
климатической эпохи под названием "суббореал" (фаза суббореал 1). Ранее
человечество уже прошло "испытание на прочность" во время глобальной смены
природно-климатической обстановки на рубеже палеолита и неолита (смотри том
"Каменный век"). Однако это была не единственная экологическая катастрофа в
ранней истории человечества. На протяжении периода первобытности еще не раз люди
оказывались перед дилеммой: "измениться, приспособившись к новым природным
реалиям или умереть", только теперь сузились территориальные рамки этих
драматических событий - не вся Земля, вся Ойкумена (обжитой мир), а крупные
регионы и ландшафтные зоны.
Около 4100 лет тому назад (ХХП-ХХI вв до н э) на территории Европы наступает
весьма резкая перестройка ландшафтов, которая может быть названа как раз такой
естественной экологической катастрофой. Иссушение климата привело к массовой
гибели широколиственных лесов служивших источником пищи для поздненеолитических
охотнков, на водораздельных плато и даже в речных долинах. Их на протяжении
нескольких поколений сменили ксерофитные степные ландшафты с преобладанием
маревых и полыней (Спиридонова Е.А., 1991; Алешинская А.С., Спиридонова Е.А.
1999).
Именно в это время происходит смена населения на территории Курского края: с
юго-запада и запада вторгаются вооруженные боевыми топорами племена, получившие
среди археологов название "племен шнуровой керамики". Охотники и рыболовы были
оттеснены на север, частично уничтожены, а частично и поглощены новым
скотоводческо-земледельческим населением. В это же время на юг и восток Курской
области проникают с лежащих южнее территорий племена катакомбной культуры -
полуоседлые скотоводы. Чуть позже с востока приходят представители абашевских
племен, сформировавшихся в бассейне Дона и теснят катакомбников.
Однако, критическая ситуация в природе произошла словно бы только для того,
чтобы сменить население региона. Уже около 3900-4000 лет назад климат смягчается
и на месте едва сформировавшихся сухих степей возникают лесостепные растительные
сообщества. Наступает фаза суббореал 2. Велика в это время уже и роль полей,
засеянных злаками (Спиридонова Е.А., 1991).
Новое население уже не остается полностью встроенным в природную экосистему.
Земледелие, даже на небольших площадях привносит фактор экологического давления
выращиваемых человеком монокультур на естественные растительные сообщества.
Следует обратить внимание на то, что в бронзовом веке была возможность
подвергать распашке только легкие почвы пойм и низких террас речных долин, ибо
не было еще изобретено железное рало, давшее первобытным пахарям возможность
подняться на суглинистые плато. Деревянный же плуг не был способен поднять пласт
суглинистой тяжелой почвы. Однако, земледельцам и скотоводам того времени трудно
было бы пожаловаться на нехватку территорий - поймы почти повсеместно вышли из
пойменного режима и затапливались паводками крайне редко, открывая просто
необозримые просторы для сельскохозяйственной деятельности.
Длительные сроки существования поселений, подразумевающие оседлый образ жизни,
опровергают мнение о гигантском давлении полей и, особенно, обильных стад на
местные экосистемы и необходимости регулярных откочевок. Высокопродуктивные зоны
широколиственных лесов и лесостепи вполне справлялись с такой нагрузкой.
Земледелие лежало в основном на женской части населения. Удел мужчин был иной -
скотоводство, охота, оборона. Население эпохи бронзы, судя по данным погребений,
относилось к средиземноморскому антропологическому типу европеоидной расы
(высокое, неширокое лицо) с некоторыми признаками генетического воздействия
широколицей протоевропейской группы. Что касается палеодемографии бронзового
века, могильники доносят до нас информацию о том, что средним возрастом
смертности был рубеж около 30 лет.
О фауне этого времени известно меньше (кость обычно сохраняется в грунте хуже,
чем пыльца растений), но можно полагать, что она во многом походила на
современную лесостепную, будучи богаче по видовому составу, не испытавшему
современный техногенный прессинг. В бассейне Дона на поселениях абашевской
культуры встречены кости косули, благородного оленя, кабана, бобра, лисы, зайца
(Пряхин А.Д., 1976).
Примерно 3400-3500 лет назад (ХV в до н э) вновь наступило засушливое время.
Вновь на смену лесостепи приходят степи, на этот раз с преобладанием злаков
(Спиридонова Е.А., 1991; Алешинская А.С., Спиридонова Е.А., 1999). Примерно в
это же время в Средиземноморье происходит катастрофическое по своим масштабам
извержение вулкана Санторин, унесшее в небытие Критскую цивилизацию. Возможно,
выброс огромных масс вулканического пепла в атмосферу сыграл свою роль в
изменении климатической обстановки. На фоне аридизации климата - новая смена
социокультурной обстановки в регионе. В пределы Курской области вторгаются с юга
племена срубной культуры. Так начинается поздний бронзовый век. Катакомбное
население, уже потесненное абашевцами, окончательно изгоняется и уничтожается
срубниками, абашевское же входит постепенно в состав новой общности (близкой или
даже аналогичной по антропологическому типу - см. Пряхин А.Д. 1988).
Как и прежнее катастрофическое иссушение климата, это длилось немногим более
100-150 лет. Затем обстановка стабилизировалась и вновь получили широкое
распространение лесостепные ландшафты с бореальными (холодовыносливыми)
элементами в составе лесных сообществ (фаза суббореал 3). В речных долинах -
черноольшанники, на плакорах - балочные березовые рощи. Его нарушает лишь слабое
похолодание на рубеже среднего и позднего суббореала - в ХШ в до н э. Тогда же
начинается постепенное обводнение пойм. Длится этот этап в целом до рубежа VП-VШ
вв до н э (Спиридонова Е.А., 1991). Фауна черноземной лесостепи времен срубной
культуры так же известна нам большей частью по раскопкам поселений в бассейне
Дона. Это все те же животные лесостепи. По данным остеологического анализа
материалов с Мосоловского поселения, 97 % костей принадлежат домашним животным,
преимущественно крупному рогатому скоту, в меньшей степени - лошади. Отмечено
преобладание коз над овцами, имеются и немногочисленные кости свиньи (Пряхин
А.Д., 1988).
Длительные сроки существования поселений, подразумевающие оседлый образ жизни,
опровергают высказывавшиеся некоторыми исследователями мнения о гигантском
давлении обильных стад на местные экосистемы и необходимости регулярных
откочевок. Высокопродуктивная зона лесостепи вполне справлялась с такой
нагрузкой.
На рубеже VШ-VП вв до н э начинается новая, более влажная и прохладная
климатическая эпоха - субатлантический период. Синхронно с ней берет начало и
ранний железный век. Именно тогда складывается типичный для современности
лесостепной ландшафт Центрального Черноземья, тогда же начинают формироваться
современные черноземы - гордость нашего региона.
Споро-пыльцевые исследования не показывают существенных отличий от современного
растительного покрова. Да и минимальный шаг отбора проб - 200-300 лет - не
позволяет уже уловить кратковременные изменения окружающей среды. Зато материалы
городищ раннего железного века, во множестве (в отличии от памятников бронзового
века) раскопанных и обследованных на территории Курской области, дают достаточно
хорошее представление о дикой фауне этого периода. Кузиногорское городище
(Курчатовский район), исследованное А.Е.Алиховой принесло остатки лося, кабана,
косули, медведя, бобра. Исследования ею же Плаксинского городища (Курчатовский
район) дополнило этот список лисицей и выдрой (Алихова А.Е.,1962). Раскопки
А.И.Пузиковой на городищах Нартово (Курский район), Марица (Конышевский район) и
Переверзево 1 (Золотухинский район) так же дополняют список видового состава
благородным оленем, зайцем и сурком (Пузикова А.И., 1978, 1981; Данильченко
В.П., 1981, Пузикова А.И., 1997). Сходные результаты принесли и обследованные
нами городища Чечевизня 1 (Курчатовский район) - медведь, лисица, косуля, бобр,
кабан, птицы; Сугрово (Льговский район) - косуля, заяц, бобр, кабан; и другие
поселения раннего железного века. В.И.Цалкин (1969) приводит следующие данные по
относительной численности диких животных от всей найденной при раскопках фауны:
для юхновских городищ это 27,7% , а для скифоидных городищ Посеймья, Сулы и Псла
- 18,4%.
Охотились люди раннего железного века ради добычи мяса (лось, кабан, косуля,
медведь) и пушнины (лисица, выдра, бобр). Заяц приносил им и мех и мясо.
Впрочем, мясо бобра, например, так же не только съедобно, но и очень вкусно (и
вряд ли наши предки этого не замечали), а медведь помимо мяса давал людям и
ценную шкуру. Так что говорить о преобладании пушного или мясного направления в
охоте, как это делают отдельные авторы, не вполне обосновано. В течении раннего
железного века в Посеймье постепенно сменили друг друга две группы племен -
лесостепные (по мнению академика Б.А.Рыбакова - протославянские) скифоидные
племена, и лесные юхновские. Очень возможно, что лесостепные племена среди
копытной мясной добычи предпочитали кабана, а лесные - лося. К этому заставляют
склоняться подсчеты костного материала, однако объем их еще недостаточен для
окончательных выводов. Развивая мысль о зональной и ландшафтно-географической
приуроченности племен раннего железного века можно предположить и то, что
продвижение в Посеймье юхновских племен и вытеснение скифоидного населения из
Посеймья было не войной с захватом территорий, а обусловлено именно естественной
подвижкой южной границы лесной зоны в условиях увлажнения и некоторого
потепления климата в IV-Ш вв до н э. Последующее снижение водоносности еще
недавно полноводных рек возможно заставило юхновцев сначала спуститься на
пойменные дюны и низкие террасы речных долин с коренных берегов, а затем и вовсе
покинуть обжитые места. Освободившиеся территории без борьбы, совершенно
свободно, заняли затем праславянские племена зарубинецкой культуры - потомки
скифоидных племен, вошедшие в новый мирный контакт с юхновцами уже в бассейне
Десны.
Кости бобра на городищах раннего железного века столь многочисленны, что
становится ясным: этот вид был очень широко распространен и обилен. Это, в свою
очередь свидетельствует о большей, чем ныне, полноводности рек и облесенности
пойм, о наличии многочисленных, богатых растительностью стариц. Вся фауна в
целом соответствует именно картине границы лесной и лесостепной зон. Лось, как и
благородный олень - лесное животное, косуля больше предпочитает лесостепной
ландшафт. Кабан распространен очень широко - для него главное наличие густых
тростниковых и кустарниковых зарослей в прибрежной зоне. Сурок-байбак - зверь
степных ландшафтов.
Том 2.
ЭПОХА РАННЕГО МЕТАЛЛА.
предисловие
Еще в глубокой древности философы обратили внимание на то, что существовало
несколько важных этапов в становлении и развитии материальной культуры
человечества. В конце восьмого века до новой эры эллин Гесиод горько сетовал на
то, что счастливый век золотых людей (золотой век) давно миновал, миновал уже и
менее спокойный и сытный век медный, и ,вот, приходится жить во время людей
железных, в век железа - горькое и многотрудное время, и лучше жить было бы до
него или же родиться после...
Под золотым веком Гесиодом, возможно, подразумевалось охотничье детство
человечества - палеолит и неолит, когда не нужно было пахать землю, выращивать
скот, ибо полнокровная природа легко снабжала своих наделенных разумом сыновей
всем необходимым, а тучные стада диких животных и рыбные реки позволяли за
считанные часы пополнять запасы продовольствия, оставляя массу свободного
времени... Век меди и бронзы - героический век Одиссея и Ахиллеса, Прекрасной
Елены и Кассандры, воспетых слепым Гомером, для горюющего грека Гесиода
только-только миновал. Железо уже входило в обиход - им резали, шили, пахали,
воевали...
В первом веке до нашей эры римлянин Лукреций создал поэму “О природе вещей” в
которой выделил три эпохи: каменный, медный и железный века. Такое же деление на
другом конце Евразийского континента, в Древнем Китае в это же время предложил
писатель Юн Кан.
Современные историки и археологи всего лишь усовершенствовали эту классификацию,
раздробив, например, медный век Лукреция на эпоху меди (энеолит), ранний и
поздний бронзовый века. Медный, бронзовый и ранний железный века можно условно
объединить, назвав период с 4000 до 2000 лет назад эпохой раннего металла.
Именно описанию древностей этого периода на Курской земле, особенностей
экономики, культуры, быта и вероятного этнического состава населения эпохи
бронзы и раннего железа посвящен этот том.
Нам прийдется пользоваться в книге определенной терминологией. Для ее понимания
в конце книги помещен словарь специальных терминов. Однако, наиболее
распространенные (в частности, характеризующие основной археологический материал
- керамику) мы рассмотрим прямо сейчас.
Еще начиная с предшествующего эпохе бронзы неолита керамика становится самым
массовым археологическим материалом. И если в неолите сосуды, как правило имеют
достаточно простую слабопрофилированную остро- или круглодонную форму, в
бронзовом веке они уже серьезно усложняются и становятся очень разнообразными. В
каждом сосуде выделяются определенные части (иногда некоторые из них могут
отсутствовать: например бывает сосуд без шейки или плечиков). Все они
схематически показаны на рисунке: венчик (самый верхний край сосуда), шейка
(переход между венчиком и самой широкой частью сосуда, может быть низкой и
высокой или отсутствовать вовсе в банкообразных сосудах), плечики или ребро
(самая широкая часть сосуда - покатая, либо угловатая в профиле), тулово
(основная часть сосуда) и донце.
Важным элементом оформления керамики может быть ОРНАМЕНТ различных видов. Часто
он является культуроопределяющим признаком, как и профиль самого сосуда, состав
глиняного ТЕСТА. В тесто помимо глины могут входить различные отощители,
делающие горшок перед обжигом более прочным, устойчивым к деформациям: песок,
дресва (мелкие камешки), битая ракушка, шамот (мелкораздробленная керамика) и
т.д.
Невозможно на нескольких страницах подробно рассказать об истории исследований
периода раннего металла в Курской области, историографии курской археологии
будет посвящена отдельная книга. Мы же постараемся дать общую картину, так
сказать “крупными мазками”, выделив лишь основные этапы и эпизоды, главных
действующих лиц.
История изучения эпохи раннего металла Курского края начинается фактически еще
со времен Древней Руси, когда люди приносили на свои поселения, а возможно
использовали в качестве амулетов кремневые наконечники (в народе их еще тогда
именовали “громовыми стрелами”) и шлифованные каменные топоры бронзового века.
Подобные необычные предметы всегда вызывали и вызывают живейший интерес у людей
даже малосведущих в истории и археологии.
Однако научный подход к изучению древностей Посеймья и Попселья впервые проявил
преподаватель Суджанской гимназии, смотритель училищ Суджанского, Рыльского и
Щигровского уездов Алексей Иванович Дмитрюков. В середине XIX века он провел
обследование городищ и курганов Суджанского и Рыльского уездов и опубликовал
свою информацию в “Известиях Русского Императорского Географического общества”.
В 1874 году увидел свет “Указатель городищ, курганов и других земляных насыпей
Курской губернии”, составленный и созданный по инициативе выдающегося русского
историка, правоведа и археолога профессора Дмитрия Яковлевича Самоквасова. В
этот первый свод археологических памятников нашего края вошли многие городища
раннего железного века. Дмитрий Яковлевич, женившись на помещице Т.В.Шумаковой,
ежегодно летом стал приезжать в ее имение в д.Кленовой Курского уезда (ныне
Медвенский район) и проводить археологические раскопки и разведки в Курской
губернии. Хотя основным объектом интересов профессора Самоквасова были
славяно-русские древности, он раскопал в 1892 году и курганный могильник эпохи
бронзы у с.Воробъевка к северу от Курска, где им обнаружено было так же и
впускное погребение сарматского ребенка.
В 1910 г по поручению Императорского Московского Археологического общества
археолог-любитель из Курска А.Н.Александров провел разведку (правда на слабом,
дилетантском уровне даже для его времени) по Сейму в Льговском и Рыльском уездах
и описал в отчете своем несколько древних поселений, в том числе городищ.
А в 1918 году, в период Гражданской войны, прокатившейся и по Курской губернии,
археолог Лев Николаевич Соловьев весьма профессионально провел разведки
разновременных археологических памятников, включая стоянки бронзового века,
городища и селища скифской эпохи. Впоследствии Л.Н.Соловьев активно включился в
работу Курского губернского краеведческого общества, публиковал материалы своих
изысканий. При рекогносцировочных раскопках Шуклинского городища на северной
окраине Курска Лев Николаевич верно установил наличие двух культурных слоев на
этом памятнике - слоя скифо-сарматского времени и славянского. Однако, в скором
времени начались репрессии, Курское краеведение оказалось под корень
выкорчеванным силами НКВД-ОГПУ. Практически прекратились исследования, исчезли
местные кадры - кто бежал, кто оказался в ГУЛАГе.
Лишь после окончания Великой Отечественной войны возобновились активные работы
по изучению древностей Курского края, но возобновились на этот раз не при помощи
местных специалистов и энтузиастов, а благодаря столичным археологам. Именно на
традициях их экспедиций было воспитано новое поколение местных научных и
краеведческих кадров. Пристальное внимание москвичей привлекли, с одной стороны,
активизировавшееся изучение вопросов славянского этногенеза, требовавшее новых
данных полевых исследований (экспедиция 1947 г под руководством И.И.Ляпушкина,
обследовавшая большую часть уже известных городищ Посеймья и Попселья и
открывшая ряд новых), с другой - малоизученность Посеймья в археологическом
плане (Деснинская экспедиция под руководством профессора М.В.Воеводского,
ставившая перед собой задачу комплексного археологического изучения региона и
начавшая работы на Сейме уже в 1946 г).
Сам Михаил Вацлавович и сотрудники его экспедиции - А.Е.Алихова-Воеводская,
Т.Н.Никольская, О.Н.Мельниковская, П.И.Засурцев, Н.К.Лисицына, М.Д.Гвоздовер и
другие, открывали новые древние поселения, вели раскопки. Оказалось, что на
многих городищах, как и в уже упоминавшейся Шуклинке (кстати, подвергнутой на
этот раз обширным раскопкам под руководством Т.Н.Никольской), в Липино на
городище “Курган”, на Кудеяровой горе имеется по два слоя - раннего железного
века и славянский. Были, впрочем, и такие, на которых славянский компонент
начисто отстутствовал - например открытые М.В.Воеводским в 1948 г городища
Кузина гора, Александровское и Плаксино. Школу деснинской экспедиции прошел и
демобилизовавшийся из армии будущий выдающийся курский археолог и краевед Юрий
Александрович Липкинг. Столь широкомасштабных и по территориальному и по
хронологическому охвату работ на территории Посеймья до Деснинской экспедиции
никогда не проводилось.
После скоропостижной смерти Воеводского в возрасте 45 лет (октябрь 1948 г)
экспедицию возглавила его супруга - Анна Епифановна Алихова. Начиная с 1955 г и
до начала 1970-х гг она вела планомерное исследование городищ и неукрепленных
поселений скифской эпохи на территории верхнего и среднего Посеймья, а так же
разведки и раскопки поселений и могильников бронзового века. В частности, ею
иследованы городища Кузина гора, Плаксино, Моисеевское, поселение Успенское,
курганный могильник Средние Апочки, заложены разведочные шурфы на множестве
городищ и поселений. В это же время разворачивается деятельность курского
археолога Ю.А.Липкинга, ведущего активные разведки и раскопки древностей на
территории области как самостоятельно, так и в составе экспедиции Алиховой.
Юрием Александровичем открыты сотни археологических памятников по всей Курской
области, среди которых множество поселений и могильников бронзового века,
городищ и селищ эпохи раннего железа. В 1962 году Ю.А.Липкинг публикует сводку
по городищам скифского времени в Посеймье, намного более полную и подробную, чем
изданный почти за сто лет до того “Указатель...” В 1968 г ненадолго возобновляет
работы в Курской области О.Н.Мельниковская. Она проводит разведки памятников
раннего железного века по Сейму и Пслу и раскопки ряда поселений, в числе
которых городище Жадино. Часть работ Ольга Николаевна проводит совместно с
А.Е.Алиховой. Акцент в ее исследованиях был сделан в основном на памятники так
называемой юхновской культуры скифского времени. В это же время начинает
исследования Южно-Курский отряд под руководством А.И.Пузиковой. Первоначально
исследования ведутся на востоке области (могильник эпохи бронзы в Средних
Апочках, разведки), но уже в 1969 году Анна Ивановна, возглавив с
Э.А.Сымоновичем Курскую экспедицию ИА АН СССР, приступает к раскопкам городища
Нартово. За период 1970-1980-х гг А.И.Пузикова исследует широкомасштабными
раскопками несколько городищ и неукрепленных поселений раннего железного века в
Посеймье, в их числе Глебовское, Переверзевское, Марицкое городища. В отличии от
Мельниковской, Пузикову в большей степени интересуют памятники с выраженными
скифоидными слоями. Э.А.Сымонович ведет исследования памятников римского времени
у сел Авдеево, Воробьевка, Букреевка, Каменево. С этого же времени и вплоть до
середины 1990-х гг А.А.Узянов, А.В.Кашкин, А.М.Обломский (ИА АН СССР - ИА РАН),
Е.А.Горюнов (ЛОИА АН СССР), Н.А.Тихомиров (КОКМ - КГОМА) проводят
широкомасштабные сплошные разведки на территории Курской области, открывая для
науки десятки и сотни новых, ранее неизвестных памятников археологии, среди
которых значительная часть относится к эпохе раннего металла. В 1970-1990-х гг
исследуют куст древностей раннесредневекового и римского времени на Псле
Е.А.Горюнов, В.М.Горюнова, О.А.Щеглова и Н.А.Тихомиров (ЛОИА АН СССР - ИИМК РАН
- КОКМ), а попутно и несколько поселений и захоронений позднего бронзового века
у сел Гочево, Картамышево, Бобрава и Шмырево. М.Б.Щукин (Эрмитаж) раскапывает
многослойное поселение с горизонтом позднего бронзового века у хутора Кулига на
Псле.
Следует отметить, что даже раскопки древнерусских городищ, оказывавшихся на деле
многослойными, приносили в результате интересные материалы по эпохе бронзы и,
особенно, раннему железному веку. Таковы Липинское городище (Засурцев П.И.,
Лисицына Н.К., 1968), Большое Горнальское городище (Куза А.В., 1980),
Переверзево 2 (раскопки А.А. Узянова), Иванова гора в Рыльске (Фролов М.В.,
1991) и другие.
В конце 1980-х- начале 1990-х гг начинает оживать собственно курская археология,
утратившая позиции после кончины Ю.А.Липкинга. В первую очередь в этом заслуга
талантливых местных кадров - археологов Н.А.Тихомирова, В.В.Енукова,
О.Н.Енуковой, историографа С.П.Щавелева. Молодой выпускник Курского
госпединститута А.Н.Апальков приступает к изучению памятников позднего
бронзового и раннего железного века Курского края, на его счету уже раскопки
курганного могильника Коробкино и нескольких поселений. В 1999 г А.А.Чубур
совместно с краеведом из Курчатова А.А.Катуниным выявляет несколько новых
“кустов” поселений эпохи бронзы и раннего железа на Сейме, включая весьма
перспективные для дальнейших исследований городища, а так же проводит небольшие
раскопки на разрушающемся рекой Сугровском городище. В новое тысячелетие Курская
археология уже входит окрепшей и вполне самостоятельной, к ней не подходит более
термин “периферия”, частенько применявшийся в разговорах некоторых “столичных
мэтров” в прошлые десятилетия.
Такова, вкратце, почти 200-летняя история исследований эпохи раннего металла на
Курской земле. За такое большое время выходили в свет многочисленные научные
статьи и монографии, но речи о популяризации знаний о бронзовом и железном веках
Посеймья и Попселья не шло, если не считать отдельных глав в произведениях Юрия
Александровича Липкинга, метко отмеченного профессором С.П.Щавелевым как
“последний романтик краеведческой археологии”. Археология должна быть научной,
но романтики поиска, открытий, ее не лишить. Эта книга - своеобразное подведение
некоторых итогов на рубеже веков, первая попытка научно-популярного обзора
одного из интереснейших периодов в истории человечества на территории Курской
области.
При этом мы постарались сделать все, что было в наших силах для того, чтобы
издание оказалось интересным и полезным не только для школьника, студента,
преподавателя, краеведа-любителя, но и для специалиста-археолога. Так, на
страницах тома вводятся в оборот некоторые новые, ранее неопубликованные
материалы, дана по возможности исчерпывающая справочная информация. В
приложениях представлены списки археологических памятников рассматриваемой
эпохи. Правда, учитывая развившийся впоследние годы “зуд кладоискательства” у
некоторых курян и бездействие правоохранительных органов, в результате чего
погибают для науки разрытые такими “коллекционерами” археологические памятники,
мы сочли необходимым по возможности нигде не давать точных координат древних
поселений и могильников, дабы не стать невольными соучастниками преступных
раскопок. Хочется верить, что это издание поможет уменьшить число бездумных,
алчущих наживы коллекционеров-кладоискателей и привлечет новых людей в
увлекательную, полную неожиданностей и открытий археологическую науку, тем более
что курская археология очень нуждается в пополнении кадров. Счастливого пути по
страницам книги!
БЛАГОДАРНОСТИ.
Автор хотел бы искренне поблагодарить всех тех, кто различным способом
содействовал созданию этого тома, его выходу в свет. Очень благодарен я за
ценные советы и информационную поддержку профессору кафедры философии Курского
медицинского института, выдающемуся историографу профессору Сергею Павловичу
Щавелеву; сотрудникам Курского государственного областного музея археологии
Николаю Алексеевичу Тихомирову - моему другу и учителю и Андрею Геннадьевичу
Шпилеву; зав. отделами Брянского государственного объединенного краеведческого
музея Николаю Егоровичу Ющенко и Геннадию Петровичу Полякову; доктору
исторических наук, сотруднику Института Истории Материальной Культуры РАН
(Санкт-Петербург) Ольге Алексеевне Щегловой; краеведу Александру Афанасьевичу
Катунину, а так же всем без исключения исследователям курских древностей, без
кропотливой, многолетней и многотрудной работы которых существование этой книги
вообще не было бы возможным. Наконец, я обязан сказать слова благодарности маме
- Светлане Чубур, без душевного тепла и заботы которой, вновь поднявших меня на
ноги после болезни, я, возможно, просто не успел бы завершить работу над этим
томом “Курского края”.
Глава 1. Природная среда эпохи раннего металла
и средневековья на территории Курской области.
...Чем больше развиваются палеогеографические, археологические и историко -
этнологические исследования, тем серьезнее выглядит система связей между
ландшафтными характеристиками географической среды и направлениями развития
человеческого общества на ранних стадиях его развития.
Валерий Павлович Алексеев
И хоть рождают боль и сожаленье
Разбитые сердца и города,
Всем уцелевшим, как давно известно,
О катастрофе вспомнить интересно.
Джордж Гордон Байрон
Современному ученому ясно, что невозможно рассматривать никакие процессы
эволюции человеческого общества, миграции различных племен, формирования
повседневных норм жизни и хозяйственного уклада, мировоззрения и даже
религиозных обрядов тех или иных групп людей в отрыве от природной среды, в
которую помещен человек, образованный людьми социум. Меняется климат, ландшафты,
потрясают мир катастрофы. Все оставляет свой отпечаток не только на лице
планеты, но и на портрете человечества. Именно поэтому перед тем, как
представить вашему вниманию особенности материальной культуры различных групп
населения, их эволюцию и взаимодействие, мы познакомимся с особенностями
природного процесса в позднем голоцене - финальном этапе периода, иначе
именуемого геологической современностью. Естественно, что в первую очередь мы
будем говорить об эволюции природной среды в том регионе, в который входит и
Курская область.
Эпоха бронзы длилась около 2000 лет. Ранний железный век - не более семи-восьми
веков. По сравнению с предшествовавшим каменным веком, длившимся десятки
тысячелетий, это совершенно незначительные временные интервалы, однако
специалистами-палеогеографами установлено, что климат и природная среда этого
времени были чрезвычайно динамичны. Сменялись ландшафты (лес теснил степь и
наоборот), менялся уровень водоемов, водоносность рек, испытывал колебания
климат. Кроме того, в эту эпоху деятельность человека впервые становится
серьезным фактором, влияющим на состояние природной среды. Если мифы о том, что
малочисленные и идеально встроенные в экосистему ледникового периода охотники на
мамонта и охотники на бизона истребили в короткий срок гигантское поголовье этих
животных так и не нашел серьезных подтверждений, если неолитические охотники и
рыболовы лишь вносили в природную среду легкий дисбаланс, уравновешивавшийся с
переходом племени в новые угодья, то первые же земледельцы и скотоводы начали
свою деятельность с коренных перестроек ландшафтов путем создания пастбищ и
полей. Впрочем, лесостепная полоса Восточной Европы оказалась намного более
устойчивой к экологическому прессингу первых скотоводов и земледельцев, чем
лежащие южнее территории первых раннеземледельческих государств.
Основу наших знаний о ландшафтах прошлого удалось составить благодаря данным
палинологических исследований - изучения сохранившейся в погребенных почвах,
культурных слоях пыльцы и спор растений. Ведь именно растительные сообщества -
наиболее чуткий индикатор смены климатической обстановки, смены ландшафтов. За
время геологической современности (голоцена), наступившей около 10-11 тысяч лет
назад сменилось несколько глобальных фаз потепления и похолодания. На смену
плейстоценовому оледенению пришла все еще холодная бореальная стадия (от "борей"
- северный ветер), когда в истории человечества началась переходная эпоха. Одни
называют ее мезолитом, другие - финальным палеолитом или эпипалеолитом. Бореал
сменился теплым и влажным атлантикумом (это был климатический оптимум голоцена).
Тогда же начался новокаменный век - неолит. Об этих периодах более подробную
информацию вы найдете в томе "Каменный век".
Итак, на рубеже атлантикума и суббореала неолитические охотники и рыболовы
благоденствовали в лесах, максимально продвинувшихся на юг. Однако, влажный и
теплый климат атлантикума был обманчив. Он постепенно, исподволь готовя людям
испытание. Активность полноводных рек инициировала овражно-балочные эрозионные
процессы. Выросшие овраги иссушали огромные пространства, леса начали погибать.
При обилии сухостоя стали возникать лесные пожары. Такими катаклизмами был
отмечен рубеж бронзового века (Сычева С.А., Гласко М.П., 1999).
В бронзовый век население центра Русской равнины вступило на начальной стадии
климатической эпохи под названием "суббореал" (фаза суббореал 1). Ранее
человечество уже прошло "испытание на прочность" во время глобальной смены
природно-климатической обстановки на рубеже палеолита и неолита (смотри том
"Каменный век"). Однако это была не единственная экологическая катастрофа в
ранней истории человечества. На протяжении периода первобытности еще не раз люди
оказывались перед дилеммой: "измениться, приспособившись к новым природным
реалиям или умереть", только теперь сузились территориальные рамки этих
драматических событий - не вся Земля, вся Ойкумена (обжитой мир), а крупные
регионы и ландшафтные зоны.
Около 4100 лет тому назад (ХХП-ХХI вв до н э) на территории Европы наступает
весьма резкая перестройка ландшафтов, которая может быть названа как раз такой
естественной экологической катастрофой. Иссушение климата привело к массовой
гибели широколиственных лесов служивших источником пищи для поздненеолитических
охотнков, на водораздельных плато и даже в речных долинах. Их на протяжении
нескольких поколений сменили ксерофитные степные ландшафты с преобладанием
маревых и полыней (Спиридонова Е.А., 1991; Алешинская А.С., Спиридонова Е.А.
1999).
Именно в это время происходит смена населения на территории Курского края: с
юго-запада и запада вторгаются вооруженные боевыми топорами племена, получившие
среди археологов название "племен шнуровой керамики". Охотники и рыболовы были
оттеснены на север, частично уничтожены, а частично и поглощены новым
скотоводческо-земледельческим населением. В это же время на юг и восток Курской
области проникают с лежащих южнее территорий племена катакомбной культуры -
полуоседлые скотоводы. Чуть позже с востока приходят представители абашевских
племен, сформировавшихся в бассейне Дона и теснят катакомбников.
Однако, критическая ситуация в природе произошла словно бы только для того,
чтобы сменить население региона. Уже около 3900-4000 лет назад климат смягчается
и на месте едва сформировавшихся сухих степей возникают лесостепные растительные
сообщества. Наступает фаза суббореал 2. Велика в это время уже и роль полей,
засеянных злаками (Спиридонова Е.А., 1991).
Новое население уже не остается полностью встроенным в природную экосистему.
Земледелие, даже на небольших площадях привносит фактор экологического давления
выращиваемых человеком монокультур на естественные растительные сообщества.
Следует обратить внимание на то, что в бронзовом веке была возможность
подвергать распашке только легкие почвы пойм и низких террас речных долин, ибо
не было еще изобретено железное рало, давшее первобытным пахарям возможность
подняться на суглинистые плато. Деревянный же плуг не был способен поднять пласт
суглинистой тяжелой почвы. Однако, земледельцам и скотоводам того времени трудно
было бы пожаловаться на нехватку территорий - поймы почти повсеместно вышли из
пойменного режима и затапливались паводками крайне редко, открывая просто
необозримые просторы для сельскохозяйственной деятельности.
Длительные сроки существования поселений, подразумевающие оседлый образ жизни,
опровергают мнение о гигантском давлении полей и, особенно, обильных стад на
местные экосистемы и необходимости регулярных откочевок. Высокопродуктивные зоны
широколиственных лесов и лесостепи вполне справлялись с такой нагрузкой.
Земледелие лежало в основном на женской части населения. Удел мужчин был иной -
скотоводство, охота, оборона. Население эпохи бронзы, судя по данным погребений,
относилось к средиземноморскому антропологическому типу европеоидной расы
(высокое, неширокое лицо) с некоторыми признаками генетического воздействия
широколицей протоевропейской группы. Что касается палеодемографии бронзового
века, могильники доносят до нас информацию о том, что средним возрастом
смертности был рубеж около 30 лет.
О фауне этого времени известно меньше (кость обычно сохраняется в грунте хуже,
чем пыльца растений), но можно полагать, что она во многом походила на
современную лесостепную, будучи богаче по видовому составу, не испытавшему
современный техногенный прессинг. В бассейне Дона на поселениях абашевской
культуры встречены кости косули, благородного оленя, кабана, бобра, лисы, зайца
(Пряхин А.Д., 1976).
Примерно 3400-3500 лет назад (ХV в до н э) вновь наступило засушливое время.
Вновь на смену лесостепи приходят степи, на этот раз с преобладанием злаков
(Спиридонова Е.А., 1991; Алешинская А.С., Спиридонова Е.А., 1999). Примерно в
это же время в Средиземноморье происходит катастрофическое по своим масштабам
извержение вулкана Санторин, унесшее в небытие Критскую цивилизацию. Возможно,
выброс огромных масс вулканического пепла в атмосферу сыграл свою роль в
изменении климатической обстановки. На фоне аридизации климата - новая смена
социокультурной обстановки в регионе. В пределы Курской области вторгаются с юга
племена срубной культуры. Так начинается поздний бронзовый век. Катакомбное
население, уже потесненное абашевцами, окончательно изгоняется и уничтожается
срубниками, абашевское же входит постепенно в состав новой общности (близкой или
даже аналогичной по антропологическому типу - см. Пряхин А.Д. 1988).
Как и прежнее катастрофическое иссушение климата, это длилось немногим более
100-150 лет. Затем обстановка стабилизировалась и вновь получили широкое
распространение лесостепные ландшафты с бореальными (холодовыносливыми)
элементами в составе лесных сообществ (фаза суббореал 3). В речных долинах -
черноольшанники, на плакорах - балочные березовые рощи. Его нарушает лишь слабое
похолодание на рубеже среднего и позднего суббореала - в ХШ в до н э. Тогда же
начинается постепенное обводнение пойм. Длится этот этап в целом до рубежа VП-VШ
вв до н э (Спиридонова Е.А., 1991). Фауна черноземной лесостепи времен срубной
культуры так же известна нам большей частью по раскопкам поселений в бассейне
Дона. Это все те же животные лесостепи. По данным остеологического анализа
материалов с Мосоловского поселения, 97 % костей принадлежат домашним животным,
преимущественно крупному рогатому скоту, в меньшей степени - лошади. Отмечено
преобладание коз над овцами, имеются и немногочисленные кости свиньи (Пряхин
А.Д., 1988).
Длительные сроки существования поселений, подразумевающие оседлый образ жизни,
опровергают высказывавшиеся некоторыми исследователями мнения о гигантском
давлении обильных стад на местные экосистемы и необходимости регулярных
откочевок. Высокопродуктивная зона лесостепи вполне справлялась с такой
нагрузкой.
На рубеже VШ-VП вв до н э начинается новая, более влажная и прохладная
климатическая эпоха - субатлантический период. Синхронно с ней берет начало и
ранний железный век. Именно тогда складывается типичный для современности
лесостепной ландшафт Центрального Черноземья, тогда же начинают формироваться
современные черноземы - гордость нашего региона.
Споро-пыльцевые исследования не показывают существенных отличий от современного
растительного покрова. Да и минимальный шаг отбора проб - 200-300 лет - не
позволяет уже уловить кратковременные изменения окружающей среды. Зато материалы
городищ раннего железного века, во множестве (в отличии от памятников бронзового
века) раскопанных и обследованных на территории Курской области, дают достаточно
хорошее представление о дикой фауне этого периода. Кузиногорское городище
(Курчатовский район), исследованное А.Е.Алиховой принесло остатки лося, кабана,
косули, медведя, бобра. Исследования ею же Плаксинского городища (Курчатовский
район) дополнило этот список лисицей и выдрой (Алихова А.Е.,1962). Раскопки
А.И.Пузиковой на городищах Нартово (Курский район), Марица (Конышевский район) и
Переверзево 1 (Золотухинский район) так же дополняют список видового состава
благородным оленем, зайцем и сурком (Пузикова А.И., 1978, 1981; Данильченко
В.П., 1981, Пузикова А.И., 1997). Сходные результаты принесли и обследованные
нами городища Чечевизня 1 (Курчатовский район) - медведь, лисица, косуля, бобр,
кабан, птицы; Сугрово (Льговский район) - косуля, заяц, бобр, кабан; и другие
поселения раннего железного века. В.И.Цалкин (1969) приводит следующие данные по
относительной численности диких животных от всей найденной при раскопках фауны:
для юхновских городищ это 27,7% , а для скифоидных городищ Посеймья, Сулы и Псла
- 18,4%.
Охотились люди раннего железного века ради добычи мяса (лось, кабан, косуля,
медведь) и пушнины (лисица, выдра, бобр). Заяц приносил им и мех и мясо.
Впрочем, мясо бобра, например, так же не только съедобно, но и очень вкусно (и
вряд ли наши предки этого не замечали), а медведь помимо мяса давал людям и
ценную шкуру. Так что говорить о преобладании пушного или мясного направления в
охоте, как это делают отдельные авторы, не вполне обосновано. В течении раннего
железного века в Посеймье постепенно сменили друг друга две группы племен -
лесостепные (по мнению академика Б.А.Рыбакова - протославянские) скифоидные
племена, и лесные юхновские. Очень возможно, что лесостепные племена среди
копытной мясной добычи предпочитали кабана, а лесные - лося. К этому заставляют
склоняться подсчеты костного материала, однако объем их еще недостаточен для
окончательных выводов. Развивая мысль о зональной и ландшафтно-географической
приуроченности племен раннего железного века можно предположить и то, что
продвижение в Посеймье юхновских племен и вытеснение скифоидного населения из
Посеймья было не войной с захватом территорий, а обусловлено именно естественной
подвижкой южной границы лесной зоны в условиях увлажнения и некоторого
потепления климата в IV-Ш вв до н э. Последующее снижение водоносности еще
недавно полноводных рек возможно заставило юхновцев сначала спуститься на
пойменные дюны и низкие террасы речных долин с коренных берегов, а затем и вовсе
покинуть обжитые места. Освободившиеся территории без борьбы, совершенно
свободно, заняли затем праславянские племена зарубинецкой культуры - потомки
скифоидных племен, вошедшие в новый мирный контакт с юхновцами уже в бассейне
Десны.
Кости бобра на городищах раннего железного века столь многочисленны, что
становится ясным: этот вид был очень широко распространен и обилен. Это, в свою
очередь свидетельствует о большей, чем ныне, полноводности рек и облесенности
пойм, о наличии многочисленных, богатых растительностью стариц. Вся фауна в
целом соответствует именно картине границы лесной и лесостепной зон. Лось, как и
благородный олень - лесное животное, косуля больше предпочитает лесостепной
ландшафт. Кабан распространен очень широко - для него главное наличие густых
тростниковых и кустарниковых зарослей в прибрежной зоне. Сурок-байбак - зверь
степных ландшафтов.
Серия сообщений "Курск, Калуга, Рязань, Москва":
Часть 1 - Рыльские князья и Княжение Рюриковичей в Рыльске
Часть 2 - Курский КРАЙ
Часть 3 - Страницы Курской истории
Часть 4 - «Коломна – Любимый Город Дмитрия Донского»
...
Часть 18 - Сьяновские каменоломни возле Москвы
Часть 19 - как мы искали домик с садом.
Часть 20 - Доселе невиданная церковь / Заброшенные храмы
|
Метки: родина предков |
Рыльские князья и Княжение Рюриковичей в Рыльске |
Рыльские князья и Княжение Рюриковичей в Рыльске
В сайте используются материалы одноименной статьи Владимира Хороших - недавнего
мэра города Рыльска
На родословную рыльских князей ...Шел 1178 год. Князь Олег Святославович
назначил своего сына - Святослава Ольговича княжить в Рыльске. Рыляне радушно
встретили своего первого князя в надежде , что Посеймье теперь будет под твердой
княжеской рукой. Для временного проживания рядом с церковью был построен
небольшой дом. Здесь же, на правом берегу Сейма начали строить кремль, укреплять
крепость, возводя сторожевые башни, делая засыпные площадки. Вокруг кремля
расположилось городище.
Церковь и холм с обрывом над рекой носили имя Иоанна Рыльского - легендарного
болгарского святого, жившего в IX веке, который следуя по торговому пути из
Булгара в Киев, останавливался здесь и, по легенде, заложил на самом высоком
месте небольшую моллельню. Он помогал великому князю киевскому Святому Владимиру
в крещении Руси.
...Два года ушли у Святослава на укрепление города и упрочение своей власти.
Вокруг опытных отцовых воинов собрал дружину. с которой уже трижды участвовл в
боях с половцами. Рослый и сильный не по годам,Святослав прекрасно держался в
седле и одинаково легко обращался с мечом обеими руками.
... Ему было 17 лет, когда его дядя - Игорь Святославович, княживший в Новгороде
- Северском, прислал гонца с грамотой, требовавшей присоединения Святослава
Рыльского с дружиной к походу Игоря на половцев.
-Нет, не посрамят северские князья Руси. Ведь они также, как и южные , ведут
свой род от Ярослава Мудрого.
Чем закончилось это сражение знает каждый: войска русских были разбиты, а князь
Игорь и его сын Владимир попали в плен. В плен к половскому царьку Елдечуку из
рода Вобурцевичей попал и княз Святослав Рыльский.
через некоторое время князь Игорь бежал, княжич Владимир женился на половецкой
царевне, а Елдечук, не желая ссориться с русскими, отпустил князя Святослава с
миром.
С 1285 по 1503 гг. Рыльское княжество было под властью монголо-татар и Литвы.
Рыльскими землями, как и другими Северскими правили служилые князья и
наместники. С 1554 года Рыльское княжество вновь становится владетельным.
польский король Казимир Ягелкович отдал Ивану Шемяке города Рыльск и
Новгород-Северский. Иван Шемяка передал Рыльск своему сыну Василию, со смертью
которого в 1523 годусвязано прекращение последнего владетельного князя на Руси.
И это не случайно.Василий Шемяка княжил на рыльской земле около сорока лет и был
в 19-м колене Рюриковичем, как и великий князь единодержавной Московской Руси
Василий III. Оба они были потомками Владимира Мономаха и праправнуками Дмитрия
Донского.
Он был сильный и смелый воин, " славный, зело храбрый, искусный в богатырских
вещах и пагубе басурманов",- как писал о нем русский политический и военный
деятель А.М.Курбский. "Князь В.И.Шемяка отличался доблестью воинской, был ужасом
Крыма, ненавистником Литвы и верным стражем южной России." (Н.М.Карамзин)
На начало
Родословная Рыльских князей
I Рюрик(879)
II Игорь, вл.кн.Киевский и Новгородский (945)
III Святослав, вл.кн. Киевский и всея Руси (972)
IV Владимир, вл.кн. Киевский и всея Руси (1015)
V Ярослав Мудрый,вл.кн. Киевский и всея Руси (1054)
VI Святослав, кн.Черниговский, вл.кн.Киевский (1076)
VII Олег, кн.Черниговский (1115)
Х Святослав Ольгович, кн.Рыльский (1196)
XI Мстислав, кн.Рыльский (1241)
XII Андрей, кн. Рыльский (1246)
XIII Олег, кн.Рыльский (1285) Династия пресеклась. В монголо-татарский
литовский периоды в Рыльске правили служилые князья (наместники)
XV Всеволод, вл.кн.Киевский (1093)
Владимир Мономах, вл.кн.Киевский (1125)
...
Дмитрий Донской, вл.кн.Московский и всея Руси (1389)
XVI Юрий Дмитриевич, кн.Галицкий, вл.кн.Московский и всея Руси (1433-1434)
XVII Дмитрий Шемяка , кн. Галицкий, вл.кн.Московский и всея Руси
(1446-1447)
XVIII Иван Шемяка, кн.Рыльский Литовского королевства (1485)
XIX Василий Шемяка, кн.Рыльский, последний владетельный князь на Руси.
Ликвидация уделов.Василий, вл.кн.Московский и всея Руси (1425)
Василий II , вл. кн.Московский и всея Руси (1462)
Иван III , вл.кн. Московский и всея Руси
Василий III, вл.кн.Московский и всея Руси (1534)
В сайте используются материалы одноименной статьи Владимира Хороших - недавнего
мэра города Рыльска
На родословную рыльских князей ...Шел 1178 год. Князь Олег Святославович
назначил своего сына - Святослава Ольговича княжить в Рыльске. Рыляне радушно
встретили своего первого князя в надежде , что Посеймье теперь будет под твердой
княжеской рукой. Для временного проживания рядом с церковью был построен
небольшой дом. Здесь же, на правом берегу Сейма начали строить кремль, укреплять
крепость, возводя сторожевые башни, делая засыпные площадки. Вокруг кремля
расположилось городище.
Церковь и холм с обрывом над рекой носили имя Иоанна Рыльского - легендарного
болгарского святого, жившего в IX веке, который следуя по торговому пути из
Булгара в Киев, останавливался здесь и, по легенде, заложил на самом высоком
месте небольшую моллельню. Он помогал великому князю киевскому Святому Владимиру
в крещении Руси.
...Два года ушли у Святослава на укрепление города и упрочение своей власти.
Вокруг опытных отцовых воинов собрал дружину. с которой уже трижды участвовл в
боях с половцами. Рослый и сильный не по годам,Святослав прекрасно держался в
седле и одинаково легко обращался с мечом обеими руками.
... Ему было 17 лет, когда его дядя - Игорь Святославович, княживший в Новгороде
- Северском, прислал гонца с грамотой, требовавшей присоединения Святослава
Рыльского с дружиной к походу Игоря на половцев.
-Нет, не посрамят северские князья Руси. Ведь они также, как и южные , ведут
свой род от Ярослава Мудрого.
Чем закончилось это сражение знает каждый: войска русских были разбиты, а князь
Игорь и его сын Владимир попали в плен. В плен к половскому царьку Елдечуку из
рода Вобурцевичей попал и княз Святослав Рыльский.
через некоторое время князь Игорь бежал, княжич Владимир женился на половецкой
царевне, а Елдечук, не желая ссориться с русскими, отпустил князя Святослава с
миром.
С 1285 по 1503 гг. Рыльское княжество было под властью монголо-татар и Литвы.
Рыльскими землями, как и другими Северскими правили служилые князья и
наместники. С 1554 года Рыльское княжество вновь становится владетельным.
польский король Казимир Ягелкович отдал Ивану Шемяке города Рыльск и
Новгород-Северский. Иван Шемяка передал Рыльск своему сыну Василию, со смертью
которого в 1523 годусвязано прекращение последнего владетельного князя на Руси.
И это не случайно.Василий Шемяка княжил на рыльской земле около сорока лет и был
в 19-м колене Рюриковичем, как и великий князь единодержавной Московской Руси
Василий III. Оба они были потомками Владимира Мономаха и праправнуками Дмитрия
Донского.
Он был сильный и смелый воин, " славный, зело храбрый, искусный в богатырских
вещах и пагубе басурманов",- как писал о нем русский политический и военный
деятель А.М.Курбский. "Князь В.И.Шемяка отличался доблестью воинской, был ужасом
Крыма, ненавистником Литвы и верным стражем южной России." (Н.М.Карамзин)
На начало
Родословная Рыльских князей
I Рюрик(879)
II Игорь, вл.кн.Киевский и Новгородский (945)
III Святослав, вл.кн. Киевский и всея Руси (972)
IV Владимир, вл.кн. Киевский и всея Руси (1015)
V Ярослав Мудрый,вл.кн. Киевский и всея Руси (1054)
VI Святослав, кн.Черниговский, вл.кн.Киевский (1076)
VII Олег, кн.Черниговский (1115)
Х Святослав Ольгович, кн.Рыльский (1196)
XI Мстислав, кн.Рыльский (1241)
XII Андрей, кн. Рыльский (1246)
XIII Олег, кн.Рыльский (1285) Династия пресеклась. В монголо-татарский
литовский периоды в Рыльске правили служилые князья (наместники)
XV Всеволод, вл.кн.Киевский (1093)
Владимир Мономах, вл.кн.Киевский (1125)
...
Дмитрий Донской, вл.кн.Московский и всея Руси (1389)
XVI Юрий Дмитриевич, кн.Галицкий, вл.кн.Московский и всея Руси (1433-1434)
XVII Дмитрий Шемяка , кн. Галицкий, вл.кн.Московский и всея Руси
(1446-1447)
XVIII Иван Шемяка, кн.Рыльский Литовского королевства (1485)
XIX Василий Шемяка, кн.Рыльский, последний владетельный князь на Руси.
Ликвидация уделов.Василий, вл.кн.Московский и всея Руси (1425)
Василий II , вл. кн.Московский и всея Руси (1462)
Иван III , вл.кн. Московский и всея Руси
Василий III, вл.кн.Московский и всея Руси (1534)
Серия сообщений "Курск, Калуга, Рязань, Москва":
Часть 1 - Рыльские князья и Княжение Рюриковичей в Рыльске
Часть 2 - Курский КРАЙ
Часть 3 - Страницы Курской истории
...
Часть 18 - Сьяновские каменоломни возле Москвы
Часть 19 - как мы искали домик с садом.
Часть 20 - Доселе невиданная церковь / Заброшенные храмы
|
Метки: родина предков |
"Орнамент русской народной вышивки. Как историко-этнографический источник" |
Г.С.Маслова.
Орнамент русской народной вышивки. Как историко-этнографический источник
Сюжеты и мотивы орнамента русской вышивки
Сюжеты и мотивы орнамента русской вышивки
Сюжеты узоров разнообразны. Сюжет и мотив нередко совпадают друг с
другом. Мотив, ограниченный конструкцией, размерами предмета, не
повторяется (например, единичное изображение всадника или птицы,
данное в крупном плане на конце полотенца) или же один мотив,
многократно повторенный, составляет раппорт узора.
Сюжет, однако, представляет более широкое понятие, чем мотив, и
может состоять (особенно в сложных композициях) из нескольких
мотивов.
К орнаменту чаще всего применяют тематическую классификацию, выделяя
геометрический, животный, растительный и антропоморфный орнамент.
Иногда выделяют еще тератологический орнамент, изображения небесных
светил, предметы материальной культуры и т.д. Эта классификация
применима для первичной систематизации материала, хотя она не
исчерпывает всего богатства орнаментальных мотивов и крайне условна,
так как существуют смешанные и переходные группы орнамента.
Несовершенство ее заключается еще и в том, что в одной группе
объединяются мотивы разного времени и происхождения. Поэтому при
рассмотрении всего многообразия орнаментальных форм в работе
используется эта классификация для выделения лишь крупных
орнаментальных групп, внутри которых имеются подгруппы или подтипы
орнамента, основанные на других признаках: близости сюжета,
характера его трактовки (стилистических особенностей), композиции, а
также техники выполнения орнамента, материала, цветовой гаммы.
Ha этой основе орнаментальные мотивы сгруппированы следующим
образом: 1) геометрические мотивы (рассматриваются лишь попутно,
поскольку они входят как составная часть в сюжетную-вышивку); 2)
зооморфные мотивы, включающие орнитоморфные, а также
тератологические мотивы; 3) растительная орнаментика; 4)
антропоморфные мотивы, подразделяемые на две большие группы: а)
архаические, отражающие древние мифологические представления, б)
бытовые,, или жанровые.)
В этих группах выделяют древнейшие пласты, затем мотивы феодального
городского искусства, вошедшие в круг узоров народной вышивки,
узоры, распространившиеся в XVIII-начале XIX и в конце XIX-начале XX
в.
Зооморфные мотивы. Птица - один из любимых и наиболее
распространенных образов русской северной вышивки. Чаще всего образ
птицы обобщен, в нем трудно определить ее вид.Птицы
изображаются в сложных архаических сюжетах, являются важными
атрибутами женской фигуры, как бы дарующей их спутникам, помещаются
на корпусах коней и под ними, а нередко как бы пронизывают всю
композицию, украшая платье женщины или строение внутри и снаружи. На
некоторых вышивках помещалось до 40-60 изображений птицы.
Из птиц составляют самостоятельные узоры в разных композициях: в
виде ряда, где они ритмично следуют одна за другой, часто в виде
трехчастной композиции с деревом (кустом, растением или розеткой) и
с женской фигурой в центре; нередко они просто повернуты друг к
другу и смыкаются клювами или же, наоборот, хвостами. Весьма
характерен мотив дерева с сидящими на нем птицами.
В костромской вышивке такой узор называется ягодник с птахами.
Птицы включаются в орнаментальную сетку (диагональную или прямую),
сочетаясь с ромбическими фигурами или же с розеткой.
Весьма примечателен мотив птицы с птенцами. В заонежской вышивке
имеется мотив пава с павенком. В некоторых вышивках Заонежья и
Петербургской губ. внутри птиц изображены одна или две птицы -
птенцы.
Нередко на туловище птицы в шестигранных или квадратных медальонах
помещают по маленькой птичке. Возможно, что это было не только
орнаментальным приемом, подчиненным задаче разбивки большой
плоскости рисунка, но имело и смысловую нагрузку. Иногда маленькая
птица помещена на корпусе птицы и под ней. Большую птицу иногда
сопровождает в бордюрах узор из ряда птиц, меньших по масштабу,
представлявший как бы птицу с выводком .Этот мотив
явственно выступает в одной из архангельских вышивок - пава с
семьей, где птица окружена птенцами (ГРМ, № 13745). Птица часто
изображается несущей что-либо в клюве - веточку, кружок, звездочку,
иногда червяка.
Образ птицы с птенцами широко распространен в русском фольклоре:
"серая утица со утятами", "лебедь белая с лебедятами" и т. д.
Значительно распространен мотив парноголовых птиц, как бы сросшихся
корпусами в разных трактовках.Птицы изображаются с
деревцами или растением на спине, а в некоторых случаях как бы
выполняют функции коня, так как на спинах несут всадников или
всадниц. Смешение образов птицы и коня в орнаменте - довольно частое
явление. Эти образы сливаются друг с другом и в устном
творчестве.
Вместе с тем в отдельных случаях в вышивке видна поздняя замена
фигур коней птицами: они достигают высоты центральной человеческой
фигуры, утрачивая смысловую связь с ней.
Узоры из птиц выполнялись всеми видами вышивальной техники и в
разных масштабах: фигуры птиц были от 1 до 40 см высотой . Бордюры из птиц особенно характерны для вышивок Новгородской
и Олонецкой губерний.
Во многих орнитоморфных образах все же явственно можно определить
породу птиц: выделяются водоплавающие птицы, достаточно ясны петухи
и куры, павлин, хищники - особенно орел и др.
Изображение водоплавающих - древняя традиция в искусстве Восточной
Европы. Узоры из гусей, уток, лебедей иногда украшали полотенца,
части одежды, но главным образом женские головные уборы. На
полотенцах они выполнялись двусторонним швом, чаще всего красной
нитью по холсту или же строчкой. На очельях женских сорок русского
населения Тверской губ. узор в гусек, в два гуська вышивали шерстью
или шелком (косым стежком), располагая гуськов по сторонам сильно
геометризованного деревца
В более сложной композиции вышивок из Каргополья водоплавающие птицы
(по-видимому, гуси) представлены вокруг дерева (с двумя
завивающимися ветками), помещенного в центре. В боковые части
композиции включены изображения хищников (возможно, медведей). По
сюжету и характеру полихромной вышивки шелком, выполненной частью
косым стежком, эта вышивка близка к верхневолжским, но отличается
более сложным построением рисунка и меньшей геометризацией (рис. 13,
а).
Изображения лебедя особенно часто встречаются в золотошвейных
изделиях Подвинья: в Сольвычегодском, Вологодской и Шенкурском
уездах Архангельской губ. Лебединая орнаментика в крестьянском
сольвычегодском шитье составляет более древнюю основу орнамента по
сравнению с растительными узорами из листьев, цветов (с гвоздикой,
тюльпанами, побегом волнистой ветви или вазона), распространившихся,
по-видимому, под влиянием старых центров золотошвейного дела, какими
были уже в XVI- XVII вв. Сольвычегодск и Великий Устюг. Особое
предпочтение среди зооморфных узоров отдавалось лебедям, украшавшим
девичьи повязки, натемник овальной, формы, который дополнял повязку
просватанной девушки. В кокошнике украшались очелье и так называемая
четверть, или верхбвица, - задняя часть кокошника.
Лебеди обычно расположены по бокам центральной оси, состоящей из
антропоморфной фигуры, реже деревца, составляя трех- или пятичастную
композицию (так как центральная фигура далее иногда повторяется в
несколько измененном виде). Характерной ее особенностью являются
опущенные вниз или загнутые вверх (реже) завитки - "руки". Нередко
фигура помещается на парноголовом лебеде или животном, напоминающем
конька. Иногда центральной осью, является ступенчатый,
лучистый ромб или другая ромбовидная или крестообразная фигура,
розетка.
Лебеди даны очень обобщенно, порой до предела лаконично, они вместе
с тем очень выразительны: в них всегда узнаются лебеди, а не другие
виды водоплавающей птицы. Лебеди подчинены плавному орнаментальному
строю узора и часто изображаются в виде s-образной фигуры. Изгиб длинной шеи и лебединая грудь видны во всех изображениях.
Несложные композиции украшают девичьи повязки. Орнамент четверти
усложнен и состоит из тех же мотивов, дополненных другими
элементами, и как бы вписан в четверть. Серединный
элемент, разрастаясь, занимает центральную часть поля и превращается
в древовидную фигуру с ветвями - "руками" в виде завитков, а лебеди,
повернутые друг к другу, помещаются у подножья крупным планом или
мелкими фигурками на ветвях. В одних случаях несколько раз повторены
элементы композиции, в других преобладает разработка центрального
мотива, в третьих - мотива лебедей. Розетка, ромб, ступенчатый
лучистый ромб (или половина его - в виде ступенчатой пирамиды),
заполняя фон, входят в состав композиции.
Характерно использование разноцветного бисера. Мелкие розетки из
бисера, отдельные бисеринки, медные круглые блестки составляли
неотъемлемую часть узоров. В орнаменте головных уборов находим крест
с загнутыми концами - весьма древний для Подвинья элемент орнамента.
Центральная часть узора в виде антропоморфной фигуры наиболее
подверглась изменениям. Иногда она снабжена змеевидными отростками,
сливается с сердцевидными мотивами, весьма характерными для
сольвычегодской вышивки. Если с центральным элементом в XVIII- XIX
вв. происходила модификация, то его боковые части - лебеди -
оставались без существенных изменений.
Золотое или серебряное сольвычегодское шитье выполнялось
преимущественно по красной ткани - кумачу, штофу (камке) разных
оттенков (алого, малинового, вишневого, терракотового) техникой
высокой глади (или же было "кованым", т.е. сплошь покрывало ткань
без просветов фона). Орнамент выполнялся как бы лентой - узкой
(примерно 75 мм шириной) или более широкой (1,5 см шириной), в
округлых, плавных очертаниях. Особенность его составляют
продолговатые (реже округлые, а еще реже ромбические) "усики",
помещавшиеся на изгибах узора. В золотошвейных узорах
Шенкурского у. преобладают те же сюжеты. Стилистически, по технике и
колориту они чрезвычайно сходны с сольвычегодским шитьем. Этими
узорами украшали кокошники из кумача или другой красной ткани. В
шенкурском кокошнике золотым шитьем расшивалось только очелье. Оно
украшалось геометрическим узором, а наверху располагались фигурки
лебедей. На оплечьях рубах и обшивке сарафанов лебеди изображались
плывущими с двух сторон к центру, в узор включались ромбические и
крестообразные фигуры.
При большом сходстве вышивок двух соседних уездов,
свидетельствовавших об их общих истоках, сольвычегодская и
шенкурская вышивка различаются по некоторым признакам. В шенкурской
вышивке части узора более сближены между собой, меньше остается
просветов фона. Центральная фигура своеобрфна, часто это поясная
антропоморфная фигура, очень схематизированная, с головой-овалом и
"руками" в виде двух спиралей по бокам. Характерна и ступенчатая
пирамида. В вышивке иногда используются шерстяные нитки разных
цветов (на изгибах узора). Влияния растительной орнаментики
шенкурское шитье не испытало в такой степени, как сольвычегодское, и
в нем значительнее выражена древняя геометрическая основа орнамента.
Параллели северодвинской композиции с лебедями имеются в узорах
ярославских и костромских кокошников. Узоры их рассматриваются как
травные, т.е. растительные.
Однако орнитоморфные мотивы выражены в них очень четко.
Ярославские и костромские кокошники - оригинальные островерхие уборы
- примыкают к типу однорогих головных уборов. XVIII век и первая
половина XIX века - последний период их бытования. В Ярославле, как
сообщалось в "Ярославских губернских ведомостях", в конце XVIII в.
носили кокошники "продолговатые", наподобие треугольников,
вынизанные мелким или крупным жемчугом и украшенные драгоценными
камнями или же простыми стеклами, смотря по состоянию. "Жители
старинного Галича, - как писали в первой половине XIX в., -
сохраняют постояннее многих других городов свои убранства".
Очелье кокошника делалось на твердой основе (на картоне или бумаге,
склеенной в несколько слоев), тыльная часть (из шелка, парчи или
другой ткани) оставалась мягкой. Узор очелья выполнялся жемчугом или
его имитацией по настилу из шнура или белых ниток (бели) и украшался
вставками самоцветных камней или цветных граненых стекол. Иногда
весь узор или часть его делались прорезными и под него подкладывали
фольгу
Растительный орнамент на кокошниках вытеснил более старые
орнитоморфные мотивы, но иногда эти узоры сочетались вместе. На
одном из ярославских кокошников можно видеть, как орнитоморфная
орнаментика приобрела полурастительный характер. Прежняя основа,
однако, в ней ясно видна в виде парных s-образных фигур, лебедей,
хвост и крыло которых приобрели очертания листьев
"Лебединый" орнамент шитья жемчугом на ярославско-костромских
кокошниках, по сравнению с узорами золотого шитья населения
Подвинья, при большом сходстве имеет отличия и в технике выполнения
и в композиции. Специфика, в частности, заключается в большой
сложности узора и слитности его составных частей в единое целое, в
то время как в шитье Подвинья преобладает раздельное выполнение
частей композиции.
Мотивы лебедей обнаружены в орнаменте кокошников Кирилловского у.
Новгородской губ. (имеющих вид невысокой шапочки). Очелье кокошника
расшивалось жемчугом (или же его заменяли белым или прозрачным
бисером) по накладке; узор состоит из круга (правильной формы или
несколько сплющенного и немного срезанного внизу) и изображений
водоплавающих птиц, иногда с поднятым крылом. Сходство с
s-образными фигурами ярославско-костромских и северодвинских узоров
очевидно. Но орнитоморфные изображения переходят здесь в спиральный
орнамент. Вокруг птиц размещены розетки из бисера и отдельные
бисеринки, как бы отмечающие особое значение этих птиц. Они
аналогичны по своему значению знакам, выполненным в золотошвейной
технике (розеткам, кружкам, крестикам), окружающим птиц в
северодвинской вышивке, а в орнаменте ярославско-костромских
кокошников им соответствуют вставки камней, помещенных в округлые
металлические гнезда.
Спиралевидные водоплавающие птицы, отмеченные особыми знаками,
глубоко архаичны, хотя они и украшают крестьянские кокошники XIX в.
Изображения лебедей можно обнаружить и в сложных узорах венцов -
челок XVIII в. из Новгородской и Олонецкой губерний. В центре узора
помещены круг-розетка, а лебеди - по сторонам.
Мотив лебедей, сросшихся корпусами и напоминающих ладьеобразную
фигуру, имеется и в узорах полотенец и подзоров, выполненных
двусторонним швом или строчкой, особенно в Ярославской,
Петербургской, Олонецкой, в северной части Новгородской губерний.
Нередко головки лебедей как бы переходят в конские, сливаются с
ними. Ладьеобразный мотив связан с растительным узором, включается в
мотив дерева или же несет на себе розетку или антропоморфную фигуру
Петух и курица - частые образы русского народного искусства. В
вышивке они встречаются главным образом в золотошвейной технике, в
строчевой, тамбурной вышивке. В обобщенном изображении петуха можно
узнать по гребню, бороде и пышному изогнутому хвосту. Таким он
представлен в узорах кокошников или на шитых золотом рукавицах. Эти
же характерные признаки имеет он в изображениях на кумачовых подолах
рубах, концах полотенец, выполненных разноцветными нитками,
тамбуром.
Яркость этих вышивок в какой-то мере соответствовала природному
яркому оперению птицы.
В тамбурной крестьянской вышивке второй половины XIX-начала XX в. с
большим реализмом изображали курушек, петухов, цыпушек
Это любимые образы орнитоморфного окружения в рассматриваемый
период, близкие крестьянину и переданные вышивальщицами в живых
позах (например, клюющие курушки и т.д.). Не случайно в одной из
очень популярных частушек упомянут узор: "петухами, курами, разными
фигурами" вышит платок. Но, кроме реальных петушков и курочек,
многие обобщенные образы птиц в вышивке, и очень часто павлины,
также рассматривались населением как петуны, петуны и березки и т.д.
Павлин - популярный мотив в вышивке всех русских областей. Его
изображение есть в искусстве уже киевского времени: на заставке
Изборника Святослава 1103 г., на мозаичном полу черниговского храма
XII в. Павлин - частый мотив в искусстве Византии, а также античного
мира. Однако здесь можно говорить только о сюжетной близости с
образами народной вышивки.
Павлин в народном представлении обычно птица женского рода. Узор под
названием пава-птица, пава, иногда павлина встречается в вышивке
(как и другие образы птиц) в разных композициях, технике и стилевых
решениях. Павы не основной вид птицы в архаических сюжетах с
антропоморфными персонажами. Особенно часто они представлены по
сторонам куста, дерева или повернуты друг к другу, идут друг за
другом или изображены в виде отдельно стоящей крупной фигуры. Птица
вышивалась в профиль, обобщенно с характерными признаками: хохолком
и пышным хвостом
У.Сирелиус выделил два основных вида иконографии павы в вышивке
северо-запада России. Он отметил паву с распущенными перьями хвоста.
Ромбовидные или круглые завитки на концах перьев как бы
соответствуют ярким пятнам узора павлиньего хвоста.
Разновидность этого изображения павы характеризуется широким
хвостом, окруженным мелкими завитками-перышками.
Второй вид - изображение павы. Если первому виду
начиная с эпохи средневековья имеются параллели в искусстве народов
Европы (от Средиземноморья до Скандинавии), то второй вид характерен
для России. Часто хохолок павы, а особенно хвост превращены в куст,
а ромбы на концах - в розетки; при этом крыло нередко становится
рудиментом, а иногда и совсем исчезает.
У.Сирелиус отметил основные разновидности павы, но изображения ее
очень варьируют, особенно в северо-западных губерниях. Изменения
облика павы шли в разных направлениях: она как бы "прорастала" - от
нее отходили в разные стороны веточки, хвост нередко уменьшался в
размерах, туловище птицы произвольно удлинялось. Графический рисунок
красными нитками по холсту со временем теряет свою графичность и
становится все более декоративным: к технике двустороннего шва
добавляется гладевая разделка разноцветным гарусом. Увеличивается
масштаб изображения, и оно одно заполняет конец полотенца или
(иногда в числе других крупных фигур) повторяется на предмете .
Пава в ремесленной заонежской вышивке (выполнявшейся тамбуром по
письму в белых или красно-белых тонах) как бы сливается с пышным
цветочным орнаментом. В некоторых образцах перья хохолка и хвоста
трактованы в виде кружков и овалов . Большой пышностью
отличаются павы в ярославских и костромских вышивках, где они
изображаются с большим крылом, пышным хвостом-пером и
хохолком-короной и выполняются часто в строчевой технике с цветной
обводкой, а иногда и с разделкой многоцветными шелковыми или
шерстяными нитками или тамбуром яркими нитками по кумачу. Пава в
богатом оперении выглядит фантастичной, напоминает сказочную
жар-птицу, перья которой освещают землю. На перья павы обращено
особое внимание и в русских песнях: "То ни павушка по двору ходила,
не павины сызы перья обронила...". Или: "Летела пава через три
двора, уронила перо на подворьице...".
Образ павы в вышивке отличается торжественностью и важностью, как и
в поэтическом творчестве. В сказке у А.С.Пушкина говорится:
"выступает будто пава". "Походка павиная" - спокойная, полная
достоинства - одно из положительных качеств невесты, часто
упоминается в свадебных песнях.
В устюженской вышивке при обогащении перьевого покрытия хвост птицы
становится коротким, похожим на рыбий. Поэтому, видимо, в д.
Почугинское и окружающих селениях узор этот называют то павлина, то
рыбина. В другой вышивке павы, сросшиеся корпусами, помещены одна на
другой, составляя трехъярусную фигуру
Нередко павы как бы сливаются с петухами и вообще, как указывалось
выше, рассматриваются населением как петуны, петухи, утки и даже
кукушки. Но можно наблюдать и обратное явление, когда обобщенный
образ птицы называли павой или же иконография павы оказывала
известное влияние на изображение птицы - оно включало
некоторые черты павы, но общий характер образа менялся - исчезала
его торжественность.
Орел в олонецкой и костромской вышивке изображается сидящим с
полураспущенными крыльями в фас или сзади, но всегда с характерным
поворотом головы в профиль. Подобным образом трактован орел в
чеканке, вышивке XVII в. Несколько по-иному выглядит орел (или
другая хищная птица) в строчевых подзорах XVIII-начала XIX в., где
разнообразные виды птиц заполняют фон узора. Часто он изображается
летящим, но также с небольшим поворотом головы в сторону, иногда в
профиль.
Распространился в вышивке и двуглавый геральдический орел.
Государственной эмблематикой был пронизан не только великокняжеский
и царский быт, но и быт разных слоев городского населения. Она не
была редкостью в архитектуре, рукописях и старопечатных книгах
XVI-XVII вв. Особенно часто изображался орел на больших пряничных
досках (для именинных, свадебных или поминальных пряников) XVIII-XIX
вв., в которых можно видеть продолжение традиций XVII в., а также в
золотом шитье. Распространению этого мотива в вышивке немало
содействовали изделия мануфактур XVIII-начала XIX в., а также
монастырские и помещичьи мастерские. В крестьянской вышивке мотив
двуглавого орла выполнялся разнообразной техникой, включая
двусторонний шов. Освоению его содействовала привычка к издавна
известному в народном искусстве Восточной Европы, и в частности в
русском искусстве, мотиву двуглавой птицы, что отметил еще
В.В.Стасов, а затем Л.А.Динцес.
В вышивке орел, как правило, представлен обобщенно. Можно выделить
две основные его разновидности. Орел с распростертыми крыльями,
опущенными вниз, чаще без каких-либо атрибутов царской власти, даже
без короны, наиболее част в вышивке Псковской, Новгородской,
Петербургской, Олонецкой губерний. Он сходен с более ранним
изображением двуглавого орла, принятым Иваном III в качестве
государственной эмблемы. Распространенность мотива в этой трактовке
на северо-западе может быть не случайна: именно Иван III подчинил
Новгород Москве и утвердил там ее господство.
Орлики (как называли этот узор в народе) покрывают рукава олонецких
рубах (орлик составляет раппорт узора), новгородские полотенца и
олонецкие головные уборы, шитые золотом, и т.д.
Типологически более поздними являются изображения орла с крыльями,
поднятыми вверх,, и с короной и щитом на груди - образец герба,
утвержденный в ленце XVII в. На щитке изображался московский герб:
"ездец" - Георгий на коне, поражающий змея. В вышивке, если
изображали щиток, то заполняли его своими излюбленными мотивами:
птицей, коньком, человеческой фигуркой и т.п.
Вторая разновидность геральдического орла - орел с поднятыми
крыльями - встречалась везде, включая и северо-западные губернии, но
в центральных она была основной. Распространению ее, в частности,
способствовали изделия русских льняных мануфактур XVIII в., подобные
Ярославской мануфактуре. В вышивке, как и в тканых изделиях, эта
хищная птица изображалась с раскрытым клювом, когтистыми лапами, в
которых (в наиболее поздних образцах) иногда держала скипетр и
державу. Интересно название этого узора в Поморье - кабацкой орел,
что может указывать на один из путей проникновения его в
крестьянскую среду: изображение герба на "царевом" кабаке в XVII в.
не было редкостью.
Очень часто мотив геральдического орла в крестьянской вышивке
представлен в окружении растений, птиц, коней, людей. Он включался в
орнамент подзоров наряду с другими крупными фигурами: павой, львом,
барсом, хотя и не был связан с ними по смыслу. В результате
творческой переработки этого мотива вышивальщицы создавали
своеобразные узоры растительно-орнитоморфного характера, где крылья
у птиц состояли из ветвей, птицы сливались с растениями.
Возможно, происходила контаминация изображения гиральдического орла
с древним образом парноголовой птицы.
Орнамент русской народной вышивки. Как историко-этнографический источник
Сюжеты и мотивы орнамента русской вышивки
Сюжеты и мотивы орнамента русской вышивки
Сюжеты узоров разнообразны. Сюжет и мотив нередко совпадают друг с
другом. Мотив, ограниченный конструкцией, размерами предмета, не
повторяется (например, единичное изображение всадника или птицы,
данное в крупном плане на конце полотенца) или же один мотив,
многократно повторенный, составляет раппорт узора.
Сюжет, однако, представляет более широкое понятие, чем мотив, и
может состоять (особенно в сложных композициях) из нескольких
мотивов.
К орнаменту чаще всего применяют тематическую классификацию, выделяя
геометрический, животный, растительный и антропоморфный орнамент.
Иногда выделяют еще тератологический орнамент, изображения небесных
светил, предметы материальной культуры и т.д. Эта классификация
применима для первичной систематизации материала, хотя она не
исчерпывает всего богатства орнаментальных мотивов и крайне условна,
так как существуют смешанные и переходные группы орнамента.
Несовершенство ее заключается еще и в том, что в одной группе
объединяются мотивы разного времени и происхождения. Поэтому при
рассмотрении всего многообразия орнаментальных форм в работе
используется эта классификация для выделения лишь крупных
орнаментальных групп, внутри которых имеются подгруппы или подтипы
орнамента, основанные на других признаках: близости сюжета,
характера его трактовки (стилистических особенностей), композиции, а
также техники выполнения орнамента, материала, цветовой гаммы.
Ha этой основе орнаментальные мотивы сгруппированы следующим
образом: 1) геометрические мотивы (рассматриваются лишь попутно,
поскольку они входят как составная часть в сюжетную-вышивку); 2)
зооморфные мотивы, включающие орнитоморфные, а также
тератологические мотивы; 3) растительная орнаментика; 4)
антропоморфные мотивы, подразделяемые на две большие группы: а)
архаические, отражающие древние мифологические представления, б)
бытовые,, или жанровые.)
В этих группах выделяют древнейшие пласты, затем мотивы феодального
городского искусства, вошедшие в круг узоров народной вышивки,
узоры, распространившиеся в XVIII-начале XIX и в конце XIX-начале XX
в.
Зооморфные мотивы. Птица - один из любимых и наиболее
распространенных образов русской северной вышивки. Чаще всего образ
птицы обобщен, в нем трудно определить ее вид.Птицы
изображаются в сложных архаических сюжетах, являются важными
атрибутами женской фигуры, как бы дарующей их спутникам, помещаются
на корпусах коней и под ними, а нередко как бы пронизывают всю
композицию, украшая платье женщины или строение внутри и снаружи. На
некоторых вышивках помещалось до 40-60 изображений птицы.
Из птиц составляют самостоятельные узоры в разных композициях: в
виде ряда, где они ритмично следуют одна за другой, часто в виде
трехчастной композиции с деревом (кустом, растением или розеткой) и
с женской фигурой в центре; нередко они просто повернуты друг к
другу и смыкаются клювами или же, наоборот, хвостами. Весьма
характерен мотив дерева с сидящими на нем птицами.
В костромской вышивке такой узор называется ягодник с птахами.
Птицы включаются в орнаментальную сетку (диагональную или прямую),
сочетаясь с ромбическими фигурами или же с розеткой.
Весьма примечателен мотив птицы с птенцами. В заонежской вышивке
имеется мотив пава с павенком. В некоторых вышивках Заонежья и
Петербургской губ. внутри птиц изображены одна или две птицы -
птенцы.
Нередко на туловище птицы в шестигранных или квадратных медальонах
помещают по маленькой птичке. Возможно, что это было не только
орнаментальным приемом, подчиненным задаче разбивки большой
плоскости рисунка, но имело и смысловую нагрузку. Иногда маленькая
птица помещена на корпусе птицы и под ней. Большую птицу иногда
сопровождает в бордюрах узор из ряда птиц, меньших по масштабу,
представлявший как бы птицу с выводком .Этот мотив
явственно выступает в одной из архангельских вышивок - пава с
семьей, где птица окружена птенцами (ГРМ, № 13745). Птица часто
изображается несущей что-либо в клюве - веточку, кружок, звездочку,
иногда червяка.
Образ птицы с птенцами широко распространен в русском фольклоре:
"серая утица со утятами", "лебедь белая с лебедятами" и т. д.
Значительно распространен мотив парноголовых птиц, как бы сросшихся
корпусами в разных трактовках.Птицы изображаются с
деревцами или растением на спине, а в некоторых случаях как бы
выполняют функции коня, так как на спинах несут всадников или
всадниц. Смешение образов птицы и коня в орнаменте - довольно частое
явление. Эти образы сливаются друг с другом и в устном
творчестве.
Вместе с тем в отдельных случаях в вышивке видна поздняя замена
фигур коней птицами: они достигают высоты центральной человеческой
фигуры, утрачивая смысловую связь с ней.
Узоры из птиц выполнялись всеми видами вышивальной техники и в
разных масштабах: фигуры птиц были от 1 до 40 см высотой . Бордюры из птиц особенно характерны для вышивок Новгородской
и Олонецкой губерний.
Во многих орнитоморфных образах все же явственно можно определить
породу птиц: выделяются водоплавающие птицы, достаточно ясны петухи
и куры, павлин, хищники - особенно орел и др.
Изображение водоплавающих - древняя традиция в искусстве Восточной
Европы. Узоры из гусей, уток, лебедей иногда украшали полотенца,
части одежды, но главным образом женские головные уборы. На
полотенцах они выполнялись двусторонним швом, чаще всего красной
нитью по холсту или же строчкой. На очельях женских сорок русского
населения Тверской губ. узор в гусек, в два гуська вышивали шерстью
или шелком (косым стежком), располагая гуськов по сторонам сильно
геометризованного деревца
В более сложной композиции вышивок из Каргополья водоплавающие птицы
(по-видимому, гуси) представлены вокруг дерева (с двумя
завивающимися ветками), помещенного в центре. В боковые части
композиции включены изображения хищников (возможно, медведей). По
сюжету и характеру полихромной вышивки шелком, выполненной частью
косым стежком, эта вышивка близка к верхневолжским, но отличается
более сложным построением рисунка и меньшей геометризацией (рис. 13,
а).
Изображения лебедя особенно часто встречаются в золотошвейных
изделиях Подвинья: в Сольвычегодском, Вологодской и Шенкурском
уездах Архангельской губ. Лебединая орнаментика в крестьянском
сольвычегодском шитье составляет более древнюю основу орнамента по
сравнению с растительными узорами из листьев, цветов (с гвоздикой,
тюльпанами, побегом волнистой ветви или вазона), распространившихся,
по-видимому, под влиянием старых центров золотошвейного дела, какими
были уже в XVI- XVII вв. Сольвычегодск и Великий Устюг. Особое
предпочтение среди зооморфных узоров отдавалось лебедям, украшавшим
девичьи повязки, натемник овальной, формы, который дополнял повязку
просватанной девушки. В кокошнике украшались очелье и так называемая
четверть, или верхбвица, - задняя часть кокошника.
Лебеди обычно расположены по бокам центральной оси, состоящей из
антропоморфной фигуры, реже деревца, составляя трех- или пятичастную
композицию (так как центральная фигура далее иногда повторяется в
несколько измененном виде). Характерной ее особенностью являются
опущенные вниз или загнутые вверх (реже) завитки - "руки". Нередко
фигура помещается на парноголовом лебеде или животном, напоминающем
конька. Иногда центральной осью, является ступенчатый,
лучистый ромб или другая ромбовидная или крестообразная фигура,
розетка.
Лебеди даны очень обобщенно, порой до предела лаконично, они вместе
с тем очень выразительны: в них всегда узнаются лебеди, а не другие
виды водоплавающей птицы. Лебеди подчинены плавному орнаментальному
строю узора и часто изображаются в виде s-образной фигуры. Изгиб длинной шеи и лебединая грудь видны во всех изображениях.
Несложные композиции украшают девичьи повязки. Орнамент четверти
усложнен и состоит из тех же мотивов, дополненных другими
элементами, и как бы вписан в четверть. Серединный
элемент, разрастаясь, занимает центральную часть поля и превращается
в древовидную фигуру с ветвями - "руками" в виде завитков, а лебеди,
повернутые друг к другу, помещаются у подножья крупным планом или
мелкими фигурками на ветвях. В одних случаях несколько раз повторены
элементы композиции, в других преобладает разработка центрального
мотива, в третьих - мотива лебедей. Розетка, ромб, ступенчатый
лучистый ромб (или половина его - в виде ступенчатой пирамиды),
заполняя фон, входят в состав композиции.
Характерно использование разноцветного бисера. Мелкие розетки из
бисера, отдельные бисеринки, медные круглые блестки составляли
неотъемлемую часть узоров. В орнаменте головных уборов находим крест
с загнутыми концами - весьма древний для Подвинья элемент орнамента.
Центральная часть узора в виде антропоморфной фигуры наиболее
подверглась изменениям. Иногда она снабжена змеевидными отростками,
сливается с сердцевидными мотивами, весьма характерными для
сольвычегодской вышивки. Если с центральным элементом в XVIII- XIX
вв. происходила модификация, то его боковые части - лебеди -
оставались без существенных изменений.
Золотое или серебряное сольвычегодское шитье выполнялось
преимущественно по красной ткани - кумачу, штофу (камке) разных
оттенков (алого, малинового, вишневого, терракотового) техникой
высокой глади (или же было "кованым", т.е. сплошь покрывало ткань
без просветов фона). Орнамент выполнялся как бы лентой - узкой
(примерно 75 мм шириной) или более широкой (1,5 см шириной), в
округлых, плавных очертаниях. Особенность его составляют
продолговатые (реже округлые, а еще реже ромбические) "усики",
помещавшиеся на изгибах узора. В золотошвейных узорах
Шенкурского у. преобладают те же сюжеты. Стилистически, по технике и
колориту они чрезвычайно сходны с сольвычегодским шитьем. Этими
узорами украшали кокошники из кумача или другой красной ткани. В
шенкурском кокошнике золотым шитьем расшивалось только очелье. Оно
украшалось геометрическим узором, а наверху располагались фигурки
лебедей. На оплечьях рубах и обшивке сарафанов лебеди изображались
плывущими с двух сторон к центру, в узор включались ромбические и
крестообразные фигуры.
При большом сходстве вышивок двух соседних уездов,
свидетельствовавших об их общих истоках, сольвычегодская и
шенкурская вышивка различаются по некоторым признакам. В шенкурской
вышивке части узора более сближены между собой, меньше остается
просветов фона. Центральная фигура своеобрфна, часто это поясная
антропоморфная фигура, очень схематизированная, с головой-овалом и
"руками" в виде двух спиралей по бокам. Характерна и ступенчатая
пирамида. В вышивке иногда используются шерстяные нитки разных
цветов (на изгибах узора). Влияния растительной орнаментики
шенкурское шитье не испытало в такой степени, как сольвычегодское, и
в нем значительнее выражена древняя геометрическая основа орнамента.
Параллели северодвинской композиции с лебедями имеются в узорах
ярославских и костромских кокошников. Узоры их рассматриваются как
травные, т.е. растительные.
Однако орнитоморфные мотивы выражены в них очень четко.
Ярославские и костромские кокошники - оригинальные островерхие уборы
- примыкают к типу однорогих головных уборов. XVIII век и первая
половина XIX века - последний период их бытования. В Ярославле, как
сообщалось в "Ярославских губернских ведомостях", в конце XVIII в.
носили кокошники "продолговатые", наподобие треугольников,
вынизанные мелким или крупным жемчугом и украшенные драгоценными
камнями или же простыми стеклами, смотря по состоянию. "Жители
старинного Галича, - как писали в первой половине XIX в., -
сохраняют постояннее многих других городов свои убранства".
Очелье кокошника делалось на твердой основе (на картоне или бумаге,
склеенной в несколько слоев), тыльная часть (из шелка, парчи или
другой ткани) оставалась мягкой. Узор очелья выполнялся жемчугом или
его имитацией по настилу из шнура или белых ниток (бели) и украшался
вставками самоцветных камней или цветных граненых стекол. Иногда
весь узор или часть его делались прорезными и под него подкладывали
фольгу
Растительный орнамент на кокошниках вытеснил более старые
орнитоморфные мотивы, но иногда эти узоры сочетались вместе. На
одном из ярославских кокошников можно видеть, как орнитоморфная
орнаментика приобрела полурастительный характер. Прежняя основа,
однако, в ней ясно видна в виде парных s-образных фигур, лебедей,
хвост и крыло которых приобрели очертания листьев
"Лебединый" орнамент шитья жемчугом на ярославско-костромских
кокошниках, по сравнению с узорами золотого шитья населения
Подвинья, при большом сходстве имеет отличия и в технике выполнения
и в композиции. Специфика, в частности, заключается в большой
сложности узора и слитности его составных частей в единое целое, в
то время как в шитье Подвинья преобладает раздельное выполнение
частей композиции.
Мотивы лебедей обнаружены в орнаменте кокошников Кирилловского у.
Новгородской губ. (имеющих вид невысокой шапочки). Очелье кокошника
расшивалось жемчугом (или же его заменяли белым или прозрачным
бисером) по накладке; узор состоит из круга (правильной формы или
несколько сплющенного и немного срезанного внизу) и изображений
водоплавающих птиц, иногда с поднятым крылом. Сходство с
s-образными фигурами ярославско-костромских и северодвинских узоров
очевидно. Но орнитоморфные изображения переходят здесь в спиральный
орнамент. Вокруг птиц размещены розетки из бисера и отдельные
бисеринки, как бы отмечающие особое значение этих птиц. Они
аналогичны по своему значению знакам, выполненным в золотошвейной
технике (розеткам, кружкам, крестикам), окружающим птиц в
северодвинской вышивке, а в орнаменте ярославско-костромских
кокошников им соответствуют вставки камней, помещенных в округлые
металлические гнезда.
Спиралевидные водоплавающие птицы, отмеченные особыми знаками,
глубоко архаичны, хотя они и украшают крестьянские кокошники XIX в.
Изображения лебедей можно обнаружить и в сложных узорах венцов -
челок XVIII в. из Новгородской и Олонецкой губерний. В центре узора
помещены круг-розетка, а лебеди - по сторонам.
Мотив лебедей, сросшихся корпусами и напоминающих ладьеобразную
фигуру, имеется и в узорах полотенец и подзоров, выполненных
двусторонним швом или строчкой, особенно в Ярославской,
Петербургской, Олонецкой, в северной части Новгородской губерний.
Нередко головки лебедей как бы переходят в конские, сливаются с
ними. Ладьеобразный мотив связан с растительным узором, включается в
мотив дерева или же несет на себе розетку или антропоморфную фигуру
Петух и курица - частые образы русского народного искусства. В
вышивке они встречаются главным образом в золотошвейной технике, в
строчевой, тамбурной вышивке. В обобщенном изображении петуха можно
узнать по гребню, бороде и пышному изогнутому хвосту. Таким он
представлен в узорах кокошников или на шитых золотом рукавицах. Эти
же характерные признаки имеет он в изображениях на кумачовых подолах
рубах, концах полотенец, выполненных разноцветными нитками,
тамбуром.
Яркость этих вышивок в какой-то мере соответствовала природному
яркому оперению птицы.
В тамбурной крестьянской вышивке второй половины XIX-начала XX в. с
большим реализмом изображали курушек, петухов, цыпушек
Это любимые образы орнитоморфного окружения в рассматриваемый
период, близкие крестьянину и переданные вышивальщицами в живых
позах (например, клюющие курушки и т.д.). Не случайно в одной из
очень популярных частушек упомянут узор: "петухами, курами, разными
фигурами" вышит платок. Но, кроме реальных петушков и курочек,
многие обобщенные образы птиц в вышивке, и очень часто павлины,
также рассматривались населением как петуны, петуны и березки и т.д.
Павлин - популярный мотив в вышивке всех русских областей. Его
изображение есть в искусстве уже киевского времени: на заставке
Изборника Святослава 1103 г., на мозаичном полу черниговского храма
XII в. Павлин - частый мотив в искусстве Византии, а также античного
мира. Однако здесь можно говорить только о сюжетной близости с
образами народной вышивки.
Павлин в народном представлении обычно птица женского рода. Узор под
названием пава-птица, пава, иногда павлина встречается в вышивке
(как и другие образы птиц) в разных композициях, технике и стилевых
решениях. Павы не основной вид птицы в архаических сюжетах с
антропоморфными персонажами. Особенно часто они представлены по
сторонам куста, дерева или повернуты друг к другу, идут друг за
другом или изображены в виде отдельно стоящей крупной фигуры. Птица
вышивалась в профиль, обобщенно с характерными признаками: хохолком
и пышным хвостом
У.Сирелиус выделил два основных вида иконографии павы в вышивке
северо-запада России. Он отметил паву с распущенными перьями хвоста.
Ромбовидные или круглые завитки на концах перьев как бы
соответствуют ярким пятнам узора павлиньего хвоста.
Разновидность этого изображения павы характеризуется широким
хвостом, окруженным мелкими завитками-перышками.
Второй вид - изображение павы. Если первому виду
начиная с эпохи средневековья имеются параллели в искусстве народов
Европы (от Средиземноморья до Скандинавии), то второй вид характерен
для России. Часто хохолок павы, а особенно хвост превращены в куст,
а ромбы на концах - в розетки; при этом крыло нередко становится
рудиментом, а иногда и совсем исчезает.
У.Сирелиус отметил основные разновидности павы, но изображения ее
очень варьируют, особенно в северо-западных губерниях. Изменения
облика павы шли в разных направлениях: она как бы "прорастала" - от
нее отходили в разные стороны веточки, хвост нередко уменьшался в
размерах, туловище птицы произвольно удлинялось. Графический рисунок
красными нитками по холсту со временем теряет свою графичность и
становится все более декоративным: к технике двустороннего шва
добавляется гладевая разделка разноцветным гарусом. Увеличивается
масштаб изображения, и оно одно заполняет конец полотенца или
(иногда в числе других крупных фигур) повторяется на предмете .
Пава в ремесленной заонежской вышивке (выполнявшейся тамбуром по
письму в белых или красно-белых тонах) как бы сливается с пышным
цветочным орнаментом. В некоторых образцах перья хохолка и хвоста
трактованы в виде кружков и овалов . Большой пышностью
отличаются павы в ярославских и костромских вышивках, где они
изображаются с большим крылом, пышным хвостом-пером и
хохолком-короной и выполняются часто в строчевой технике с цветной
обводкой, а иногда и с разделкой многоцветными шелковыми или
шерстяными нитками или тамбуром яркими нитками по кумачу. Пава в
богатом оперении выглядит фантастичной, напоминает сказочную
жар-птицу, перья которой освещают землю. На перья павы обращено
особое внимание и в русских песнях: "То ни павушка по двору ходила,
не павины сызы перья обронила...". Или: "Летела пава через три
двора, уронила перо на подворьице...".
Образ павы в вышивке отличается торжественностью и важностью, как и
в поэтическом творчестве. В сказке у А.С.Пушкина говорится:
"выступает будто пава". "Походка павиная" - спокойная, полная
достоинства - одно из положительных качеств невесты, часто
упоминается в свадебных песнях.
В устюженской вышивке при обогащении перьевого покрытия хвост птицы
становится коротким, похожим на рыбий. Поэтому, видимо, в д.
Почугинское и окружающих селениях узор этот называют то павлина, то
рыбина. В другой вышивке павы, сросшиеся корпусами, помещены одна на
другой, составляя трехъярусную фигуру
Нередко павы как бы сливаются с петухами и вообще, как указывалось
выше, рассматриваются населением как петуны, петухи, утки и даже
кукушки. Но можно наблюдать и обратное явление, когда обобщенный
образ птицы называли павой или же иконография павы оказывала
известное влияние на изображение птицы - оно включало
некоторые черты павы, но общий характер образа менялся - исчезала
его торжественность.
Орел в олонецкой и костромской вышивке изображается сидящим с
полураспущенными крыльями в фас или сзади, но всегда с характерным
поворотом головы в профиль. Подобным образом трактован орел в
чеканке, вышивке XVII в. Несколько по-иному выглядит орел (или
другая хищная птица) в строчевых подзорах XVIII-начала XIX в., где
разнообразные виды птиц заполняют фон узора. Часто он изображается
летящим, но также с небольшим поворотом головы в сторону, иногда в
профиль.
Распространился в вышивке и двуглавый геральдический орел.
Государственной эмблематикой был пронизан не только великокняжеский
и царский быт, но и быт разных слоев городского населения. Она не
была редкостью в архитектуре, рукописях и старопечатных книгах
XVI-XVII вв. Особенно часто изображался орел на больших пряничных
досках (для именинных, свадебных или поминальных пряников) XVIII-XIX
вв., в которых можно видеть продолжение традиций XVII в., а также в
золотом шитье. Распространению этого мотива в вышивке немало
содействовали изделия мануфактур XVIII-начала XIX в., а также
монастырские и помещичьи мастерские. В крестьянской вышивке мотив
двуглавого орла выполнялся разнообразной техникой, включая
двусторонний шов. Освоению его содействовала привычка к издавна
известному в народном искусстве Восточной Европы, и в частности в
русском искусстве, мотиву двуглавой птицы, что отметил еще
В.В.Стасов, а затем Л.А.Динцес.
В вышивке орел, как правило, представлен обобщенно. Можно выделить
две основные его разновидности. Орел с распростертыми крыльями,
опущенными вниз, чаще без каких-либо атрибутов царской власти, даже
без короны, наиболее част в вышивке Псковской, Новгородской,
Петербургской, Олонецкой губерний. Он сходен с более ранним
изображением двуглавого орла, принятым Иваном III в качестве
государственной эмблемы. Распространенность мотива в этой трактовке
на северо-западе может быть не случайна: именно Иван III подчинил
Новгород Москве и утвердил там ее господство.
Орлики (как называли этот узор в народе) покрывают рукава олонецких
рубах (орлик составляет раппорт узора), новгородские полотенца и
олонецкие головные уборы, шитые золотом, и т.д.
Типологически более поздними являются изображения орла с крыльями,
поднятыми вверх,, и с короной и щитом на груди - образец герба,
утвержденный в ленце XVII в. На щитке изображался московский герб:
"ездец" - Георгий на коне, поражающий змея. В вышивке, если
изображали щиток, то заполняли его своими излюбленными мотивами:
птицей, коньком, человеческой фигуркой и т.п.
Вторая разновидность геральдического орла - орел с поднятыми
крыльями - встречалась везде, включая и северо-западные губернии, но
в центральных она была основной. Распространению ее, в частности,
способствовали изделия русских льняных мануфактур XVIII в., подобные
Ярославской мануфактуре. В вышивке, как и в тканых изделиях, эта
хищная птица изображалась с раскрытым клювом, когтистыми лапами, в
которых (в наиболее поздних образцах) иногда держала скипетр и
державу. Интересно название этого узора в Поморье - кабацкой орел,
что может указывать на один из путей проникновения его в
крестьянскую среду: изображение герба на "царевом" кабаке в XVII в.
не было редкостью.
Очень часто мотив геральдического орла в крестьянской вышивке
представлен в окружении растений, птиц, коней, людей. Он включался в
орнамент подзоров наряду с другими крупными фигурами: павой, львом,
барсом, хотя и не был связан с ними по смыслу. В результате
творческой переработки этого мотива вышивальщицы создавали
своеобразные узоры растительно-орнитоморфного характера, где крылья
у птиц состояли из ветвей, птицы сливались с растениями.
Возможно, происходила контаминация изображения гиральдического орла
с древним образом парноголовой птицы.
Метки: вышивка |
Языческая мода Древней Руси |
Языческая мода Древней Руси
Людмила Черная,
доктор исторических наук
Языческая, дохристианская Русь (до 988 г.) жила в представлениях о человеке как
о частице общего мирового Тела, приписывая ему те же качества и возможности, что
и всем остальным частям Космоса. По языческим представлениям, тело – это и есть
человек, как, впрочем, и все, что его окружает: реки, горы, леса, поля... И
человек верил, что люди легко могут превращаться в камень, стог сена или в
какое-то другое «тело». Поэтому самым главным в жизни считалась охрана своих
телесных границ от вторжения чужой и враждебной телесности, и древние русичи
особенно тщательно заботились о защите всех и всяческих «дыр» в своем теле, как,
впрочем, и в своем доме, поселении, округе. Перед свадьбой невесте обязательно
чернили зубы, чтобы белый цвет не привлекал нечистую силу. Чтобы не «светить
волосами», женщины должны были носить сложный головной убор и уж во всяком
случае, выходя из дома, покрывать голову платком.
В деле защиты себя и должна была помочь человеку его одежда. Охрана телесных
границ от вторжения «нечисти» подспудно создавала своеобразную языческую моду,
продиктованную прежде всего страхом. Если человек сознательно стремился нарушить
границы чистого и нечистого мира, он выворачивал наизнанку свою одежду и
головной убор или наряжался стариком (мертвецом), надевал маску (харю), как бы
пересекая тем самым невидимую черту.
Что же носили древнерусские язычники? Как и все другие славянские народы, в
языческий период русские считали рубаху (сорочицу) своей второй кожей, наделяя
ее важной защитной функцией. Кроили ее из одного полотнища, делали как можно
длиннее, у подола и под мышками расширяли с помощью особых вставок. Разрез
спереди в центре или сбоку застегивали на две-три пуговки из бронзы, кости,
дерева – кто что предпочитал по цене. Длинные рукава женской сорочицы,
достигавшие иногда ступней ног, собирали в гармошку с помощью бронзовых и
стеклянных браслетов. На каждом рукаве иногда насчитывалось по 10–12 браслетов.
Во время языческих праздников, например русалий, призванных оградить от
болезней, насылаемых русалками – девушками-утопленницами, браслеты-обручи
снимались и женщины плясали, опустив рукава до пола. Такие русальи пляски
изображены, к примеру, на миниатюрах Радзивиловской летописи XV в. Археологи до
сих пор находят женские стеклянные браслеты и их обломки в больших количествах.
Вышивка по вороту, рукавам и подолу рубахи воспринималась скорее как языческий
оберег, чем как украшение. Вышивали не что попало, а осмысленные знаки-символы,
предназначенные для защиты открытых участков тела: шеи, кистей рук, ног.
Основным рисунком вышивки были солярные (солнечные) знаки, стилизованные
изображения животных и птиц, некие заградительные геометрические рисунки и т.п.
Вышивка наравне с другими оберегами, такими как медвежьи и волчьи клыки, носимые
на шее, подвесные колокольчики, различные фигурки животных и птиц, бусины,
лунницы и многое другое, должна была отпугивать нечистую силу.
Поверх рубахи женщины надевали два больших куска несшитой клетчатой шерстяной
или полушерстяной ткани типа распахнутой юбки, получившей в XVI столетии
название «понёва». У мужчин рубаха дополнялась штанами – «портами» или «гачами».
На рубаху надевались разные виды верхнего платья. Самым распространенным из них
был плащ («вотола», «мятль», «корзно»), отличавшийся лишь качеством материала и
застежек на нем: знать предпочитала металлические застежки-фибулы, частенько
выполненные в виде оберегов-лунниц, беднота скрепляла плащи на плече простыми
шнурками-тесемками. Особое значение придавалось поясу, который охватывал рубаху
на талии. Круг – идеальная защитная форма, лишенная разрывов, а значит, наиболее
надежно охраняющая.
При строительстве городов и поселений выделенное пространство перво-наперво
обводили круговой бороздой. Так делали не только древние славяне, но и древние
греки, римляне и другие народы. И пояс, как телесный оберег, сковывал тело
хозяина с самого рождения. Снятие пояса приравнивалось к обнажению, готовности
вступить в контакт с нечистой силой. Древнерусская аристократия передавала
золотые пояса из поколения в поколение как семейную реликвию. Пояс использовался
в разных обрядах. На свадьбах им связывали жениха и невесту.
Значимыми были и другие аксессуары языческого костюма, в частности, височные
кольца, которые прикреплялись к головному убору на специальных лентах. Разные
племена восточных славян задолго до образования древнерусского государства
отличались по видам височных колец. Например, племена вятичей, населявшие
территорию нынешней Москвы, имели очень сложные семилопастные височные кольца, а
новгородские словене – ромбовидные. Женские височные кольца были едва ли не
самым распространенным и ценным женским украшением (все обнаруженные клады,
зарытые перед нашествием монголо-татар в XIII в., обязательно содержали височные
кольца).
Помимо височных колец, женщины украшали себя бусами, серьгами, браслетами, мехом
и др. Бусы, закрывавшие шею, так же как вышивка на вороте рубахи, должны были
прежде всего защищать, поэтому они составлялись, как правило, из очень полезных
в этом отношении предметов: металлических колокольчиков, отпугивающих нечистую
силу своим звоном, фигурок домашних птиц (уточек) и животных для плодородия,
малюсенькой ложечки из дерева или металла – символа достатка в доме, различных
камешков и стекляшек, клыков убитых медведей и волков и других оберегов. После
принятия христианства в состав таких бус стали включать и христианский крестик,
помещая его в центр композиции. Серьги из разных металлов вдевали в уши девочкам
с малолетства, и это был знак их отличия от мальчиков, бегавших по двору в таких
же рубахах. Позднее под монголо-татарским влиянием мужчины начали носить в левом
ухе золотую серьгу, а иногда привешивали ее на свою высокую шапку-горлатку.
Обувь язычников состояла из кожаных сапог, поршней (туфель) и лыковых лаптей. В
археологических находках частенько попадаются кожаные сапожки, сшитые для
годовалых малышей. Обычно кожаную обувь красили в черный цвет, но известно
также, что знать носила яркие (желтые, красные, зеленые) сапоги, украшенные
резным узором.
Модники дохристианской Руси, таким образом, следили не столько за модой как
таковой, сколько за соблюдением своих и чужих телесных границ. Но при этом
врожденное чувство прекрасного не могло не отразиться в их одежде, украшениях,
обуви. Как показывают раскопки в Великом Новгороде, горожане не имели
практически ни одной неукрашенной вещи: все предметы быта и костюма так или
иначе орнаментировались – либо вышивкой, либо резьбой, либо
тиснением, любо ювелирными изделиями и мехом. Красота предметного мира и одежды
древнерусского человека поражает воображение, жаль только, что слишком малая
часть этого пестрого нарядного мира доступна нашему взгляду сегодня...
Людмила Черная,
доктор исторических наук
Языческая, дохристианская Русь (до 988 г.) жила в представлениях о человеке как
о частице общего мирового Тела, приписывая ему те же качества и возможности, что
и всем остальным частям Космоса. По языческим представлениям, тело – это и есть
человек, как, впрочем, и все, что его окружает: реки, горы, леса, поля... И
человек верил, что люди легко могут превращаться в камень, стог сена или в
какое-то другое «тело». Поэтому самым главным в жизни считалась охрана своих
телесных границ от вторжения чужой и враждебной телесности, и древние русичи
особенно тщательно заботились о защите всех и всяческих «дыр» в своем теле, как,
впрочем, и в своем доме, поселении, округе. Перед свадьбой невесте обязательно
чернили зубы, чтобы белый цвет не привлекал нечистую силу. Чтобы не «светить
волосами», женщины должны были носить сложный головной убор и уж во всяком
случае, выходя из дома, покрывать голову платком.
В деле защиты себя и должна была помочь человеку его одежда. Охрана телесных
границ от вторжения «нечисти» подспудно создавала своеобразную языческую моду,
продиктованную прежде всего страхом. Если человек сознательно стремился нарушить
границы чистого и нечистого мира, он выворачивал наизнанку свою одежду и
головной убор или наряжался стариком (мертвецом), надевал маску (харю), как бы
пересекая тем самым невидимую черту.
Что же носили древнерусские язычники? Как и все другие славянские народы, в
языческий период русские считали рубаху (сорочицу) своей второй кожей, наделяя
ее важной защитной функцией. Кроили ее из одного полотнища, делали как можно
длиннее, у подола и под мышками расширяли с помощью особых вставок. Разрез
спереди в центре или сбоку застегивали на две-три пуговки из бронзы, кости,
дерева – кто что предпочитал по цене. Длинные рукава женской сорочицы,
достигавшие иногда ступней ног, собирали в гармошку с помощью бронзовых и
стеклянных браслетов. На каждом рукаве иногда насчитывалось по 10–12 браслетов.
Во время языческих праздников, например русалий, призванных оградить от
болезней, насылаемых русалками – девушками-утопленницами, браслеты-обручи
снимались и женщины плясали, опустив рукава до пола. Такие русальи пляски
изображены, к примеру, на миниатюрах Радзивиловской летописи XV в. Археологи до
сих пор находят женские стеклянные браслеты и их обломки в больших количествах.
Вышивка по вороту, рукавам и подолу рубахи воспринималась скорее как языческий
оберег, чем как украшение. Вышивали не что попало, а осмысленные знаки-символы,
предназначенные для защиты открытых участков тела: шеи, кистей рук, ног.
Основным рисунком вышивки были солярные (солнечные) знаки, стилизованные
изображения животных и птиц, некие заградительные геометрические рисунки и т.п.
Вышивка наравне с другими оберегами, такими как медвежьи и волчьи клыки, носимые
на шее, подвесные колокольчики, различные фигурки животных и птиц, бусины,
лунницы и многое другое, должна была отпугивать нечистую силу.
Поверх рубахи женщины надевали два больших куска несшитой клетчатой шерстяной
или полушерстяной ткани типа распахнутой юбки, получившей в XVI столетии
название «понёва». У мужчин рубаха дополнялась штанами – «портами» или «гачами».
На рубаху надевались разные виды верхнего платья. Самым распространенным из них
был плащ («вотола», «мятль», «корзно»), отличавшийся лишь качеством материала и
застежек на нем: знать предпочитала металлические застежки-фибулы, частенько
выполненные в виде оберегов-лунниц, беднота скрепляла плащи на плече простыми
шнурками-тесемками. Особое значение придавалось поясу, который охватывал рубаху
на талии. Круг – идеальная защитная форма, лишенная разрывов, а значит, наиболее
надежно охраняющая.
При строительстве городов и поселений выделенное пространство перво-наперво
обводили круговой бороздой. Так делали не только древние славяне, но и древние
греки, римляне и другие народы. И пояс, как телесный оберег, сковывал тело
хозяина с самого рождения. Снятие пояса приравнивалось к обнажению, готовности
вступить в контакт с нечистой силой. Древнерусская аристократия передавала
золотые пояса из поколения в поколение как семейную реликвию. Пояс использовался
в разных обрядах. На свадьбах им связывали жениха и невесту.
Значимыми были и другие аксессуары языческого костюма, в частности, височные
кольца, которые прикреплялись к головному убору на специальных лентах. Разные
племена восточных славян задолго до образования древнерусского государства
отличались по видам височных колец. Например, племена вятичей, населявшие
территорию нынешней Москвы, имели очень сложные семилопастные височные кольца, а
новгородские словене – ромбовидные. Женские височные кольца были едва ли не
самым распространенным и ценным женским украшением (все обнаруженные клады,
зарытые перед нашествием монголо-татар в XIII в., обязательно содержали височные
кольца).
Помимо височных колец, женщины украшали себя бусами, серьгами, браслетами, мехом
и др. Бусы, закрывавшие шею, так же как вышивка на вороте рубахи, должны были
прежде всего защищать, поэтому они составлялись, как правило, из очень полезных
в этом отношении предметов: металлических колокольчиков, отпугивающих нечистую
силу своим звоном, фигурок домашних птиц (уточек) и животных для плодородия,
малюсенькой ложечки из дерева или металла – символа достатка в доме, различных
камешков и стекляшек, клыков убитых медведей и волков и других оберегов. После
принятия христианства в состав таких бус стали включать и христианский крестик,
помещая его в центр композиции. Серьги из разных металлов вдевали в уши девочкам
с малолетства, и это был знак их отличия от мальчиков, бегавших по двору в таких
же рубахах. Позднее под монголо-татарским влиянием мужчины начали носить в левом
ухе золотую серьгу, а иногда привешивали ее на свою высокую шапку-горлатку.
Обувь язычников состояла из кожаных сапог, поршней (туфель) и лыковых лаптей. В
археологических находках частенько попадаются кожаные сапожки, сшитые для
годовалых малышей. Обычно кожаную обувь красили в черный цвет, но известно
также, что знать носила яркие (желтые, красные, зеленые) сапоги, украшенные
резным узором.
Модники дохристианской Руси, таким образом, следили не столько за модой как
таковой, сколько за соблюдением своих и чужих телесных границ. Но при этом
врожденное чувство прекрасного не могло не отразиться в их одежде, украшениях,
обуви. Как показывают раскопки в Великом Новгороде, горожане не имели
практически ни одной неукрашенной вещи: все предметы быта и костюма так или
иначе орнаментировались – либо вышивкой, либо резьбой, либо
тиснением, любо ювелирными изделиями и мехом. Красота предметного мира и одежды
древнерусского человека поражает воображение, жаль только, что слишком малая
часть этого пестрого нарядного мира доступна нашему взгляду сегодня...
|
Ткань как вещь и знак в русской традиционной культуре |
Глава I. Ткань как вещь и знак в русской традиционной культуре
§1. Корреляция смыслов: между традицией и современностью
Ткачество - одно из древнейших занятий человека, и можно предположить, что
во многих культурах так же долго оно связано с женщиной и женским миром
(исключая ткацкое ремесло позднего периода). "Специфика женского начала
заключается в большей зависимости от природы, что обусловлено
воспроизводящей функцией женщины" . Природа понимается здесь как
противоположность культуры, поэтому женские образы вбирают в себя
одновременно стихийность природы и упорядоченность культуры. Исходя из
того, что в бинарной оппозиции женщина представляет собой негативную
сторону, можно предположить, что иррационального, природного в ней больше.
Таким образом, ткачество, будучи элементом культуры и элементом женского
мира, имеет связь с природой и потусторонними силами.
Ткань, ткачество - очень распространенные мотивы самых разных ритуальных
действ и действий начиная от повседневности и до обрядов перехода. Задача
данного параграфа - показать, как происходит семантизация (означивание)
ткани и ткачества.
Луна прядет время и "плетет" жизни человечества: богини судьбы являются
пряхами. Сотворение или восстановление мира, прядение Времени и судьбы, с
одной стороны, и, с другой - женская работа, которая порой должна
выполняться втайне, почти скрыто - здесь мыможем видеть оккультное
соответствие между двумя порядками мистической реальности [2]. Ниже будет
показано, каким образом женские божества карают за нерегламентированное
использование прядения и ткачества, но науке известны и противоположные
представления. В японской культуре в мифологической памяти сохраняются
идеи конфликта между тайными женскими и мужскими обществами. Мужчины и их
божества ночью нападают на незамужних женщин, уничтожают их работу, ломают
челноки ткацких станков и инструменты для плетения. В других районах
именно во время уединенных инициирующих вечеров прядения пожилые женщины
обучают молодых ритуальным песням и танцам, большинство которых
эротические и даже непристойные. Существует тайная связь между прядением,
инициациями и сексуальностью [3 ].
Женщина связана с ткачеством с самого рождения. Пуповину девочке
перерезают на веретене или прялке, девочку подают крестной матери через
веретено или прялку. По народным представлениям это способствует будущему
мастерству, трудолюбию девушки, делает ее "правильной" женщиной.
Т.А. Бернштам в ряде своих работ [4] доказывает, что ткачество и рукоделия
играют важнейшую роль в маркировке девичьего совершеннолетия: с одной
стороны, девушка демонстрирует свое мастерство, а с другой, - готовность к
браку и в прагматическом аспекте (готово приданое), и в знаковом. Иногда
девушка может работать только с растительными материалами, вероятно, это
ограничение подчеркивает ритуальную чистоту девушки [5 ]. В свадебном
обряде у болгар есть специальный ритуал, называемый запридане 'начало
прядения': мать дарит невесте веретено, прялку и белую кудель.
В Полесье девушка никому не даст свою "личную" прялку (на которой написано
ее имя), так как "будет пожар или погибнут пчелы" [6]. Это объяснение
информатора не следует понимать буквально. Передача своей вещи нанесет
хозяину (хозяйке) ущерб, и не столь важно, как этот ущерб будет
выражаться. В традиционной культуре прялка одна из немногих вещей, которые
могут считаться "личными", и желание сохранить ее кажется вполне
естественным. Возникает ситуация, когда, например, у армян, "прерогатива
прядения на прялке принадлежит хозяйке дома, а из других женщин к прялке
допускается лишь старшая невестка" [7 ].
В свадебной обрядности жених должен подарить невесте новую, сделанную и
украшенную своими руками прялку. На Русском Севере парень, написавший на
прялке девушки свое имя, обязан на ней жениться. Прялка как "своя" вещь в
определенном контексте обозначает свою хозяйку; на прялку переносятся
некоторые признаки девушки. Прялка и девушка находятся между собой в
магической связи, соединяются по закону сопричастия.
М.М. Валенцова приводит интересный факт из празднования Масленицы: женщины
катались с горок на прялках [8]. Вероятно, речь идет о проявлении в
ритуале женской магии, особенно сильной во время одного из важнейших
обрядов перехода, несущего в себе сильную продуцирующую семантику. В день,
когда происходит переход от зимы к лету, женщина не только не может
расстаться с прялкой, что обязательно должна сделать в другие праздники,
но и должна прокатиться на ней с горки. Таким образом, прялка, будучи лишь
вспомогательным орудием, становится основным символом прядения [9 ].
Другие орудия труда, используемые в прядении и ткачестве, также имеют свой
смысл, они не просто орудия, они вещи.
Очень сложно до конца понять содержание веретена. Его магические свойства
связаны с вращением и остротой веретена. Веретено одновременно является и
женским атрибутом, и оберегом. Веретено употребляется во многих ритуальных
действиях и в магии.
Веретено в любовной магии играло важную роль, причем свойство его
вращаться было в этом случае определяющим: "Чтобы парни также как крутится
веретено, крутились вокруг меня". Сербские девушки протыкали веретеном
сердце крота с приговором: "Как веретено крутится, так пусть крутится Н.
(имя парня) вокруг меня" [10]. Если веретеном проделать дырку в тыкве или
подсолнухе, то через эту дырку можно увидеть, верен ли муж, этим же можно
вернуть прежнюю любовь (как поворачивается к солнцу подсолнух). На Украине
девушки в день Сорока мучеников ворожили на 40 веретенах или прутиках и
при этом пекли медовые хлебцы для парней. Сербка, "чтобы привязать к себе
мужа", должна была во время своих месячных на том месте, где мочился ее
супруг, воткнуть в землю перевернутое веретено. По окончании месячных она
"отвязывала мужа" тем, что втыкала в землю веретено уже нижним концом.
Веретено позволяет женщине стать более сильной и получить новые
способности, поэтому женщина старается никогда не расставаться с ним. Если
веретено не в руках у женщины, то за поясом [11 ].
Сербская женщина сразу после рождения ребенка должна была взять в руки
веретено и спрясть небольшую нитку, чтобы ребенок был трудолюбивым, как
веретено. С этим мотивом перекликается представление о прядении божествами
нити судьбы. Черногоркам запрещалось во время прядения касаться веретеном
мужчины, чтобы у него не рождались одни девочки. У всех славян девочке
пуповину перерезали на прялке, веретене, гребне и т.п. При затянувшихся
родах через рубашку роженицы пропускали топор или веретено и говорили:
"Если ты мужчина, возьми топор, если женщина - возьми веретено!" [12 ]
Сербка, сажая курицу на яйца, "мешала" их веретеном, "чтобы было больше
курочек и меньше петушков". Все обряды с веретеном исполнялись женщинами.
Сербы пользовались веретеном для защиты от демонов, появляющихся при
родах: женщина раздевалась донага, распускала волосы и шла к реке с
веретеном в руках и там читала заговор. Согласно сербской быличке,
достаточно было перевернуть веретено верхом вниз, чтобы обнаружить чертей,
пришедших к девицам в день Федора Тирона под видом парней, и прогнать их.
В Болгарии клали веретено (или веник) в колыбель ребенка, чтобы отвести
дурной глаз и нечистую силу. Для предохранения дома от удара молнии
болгарки во время грозы выносили во двор веретено вместе с пасхальным
яйцом [13 ].
Веретено как целительное средство применялось при заговаривании болезней и
врачевании. При заговаривании боли и покалывания в боку брали три веретена
и троекратно кололи веретеном в бок (курск.). Девять веретен, нож и вертел
брали сербки для лечения боли в груди, размахивали этими предметами и
читали как заговор текст о "житии" льна. Чешские девушки, заболевшие
лихорадкой, обегали трижды вокруг пруда, бросая в него последовательно
кусок хлеба, веретено, пучок льна, чем старались задержать Лихорадку в ее
подводном жилище. Ворожеи из Карпат при расстройстве желудка и болях в
животе у детей "выдворяли бабиц" (детскую болезнь) тем, что ставили на
живот ребенку горячий горшок, держали в руке девять ложек, иглу, веретено,
нож и толкушку и заговаривали, "вычерпывая" болезнь ложками, "вышивая"
иглой и "выпрядая" веретеном. В подобный набор предметов веретено входит
во многих ритуалах. Головную боль лечили водой, в которую клали веретено и
нож. При воспалении языка на Черниговщине "кололи жабку", прикасаясь к
горлу веретеном, гвоздем или прутиком и читая заговор [14 ].
Запреты пользоваться веретеном связаны с мотивами верчения и кручения и с
мотивом роста. Почти у всех славян существовал запрет на прядение в
пятницу. В Закарпатье жена охотника в тот день, когда муж уходил на охоту,
не пряла, "чтобы зверь не крутился, как веретено, а охотник не блуждал, не
крутился по лесу". В Сочельник прятали все веретена, чтобы жнецы "не
кололись", т. е. не напарывались на что-либо острое. В то же время эти
веретена должны быть полными, т. е. с намотанными на них нитками, чтобы в
грядущем году были такими же полными кукурузные початки. Словаки считали,
что от взгляда на веретено могла появиться боль в боку [15 ]. Сербы
считали, что ребенка нельзя ударить веретеном или веником, т.к. от этого
он может "перестать расти".
У сербов сразу после родов вешали на очажную цепь веретено с насаженной на
него головкой чеснока, чтобы младенцу не повредили вештицы. Когда ребенок
долго не начинал ходить, одна из девочек в семье трижды "обводила" его
вокруг очага, держа в руках В. и произнося: "Каково вретено врче, тако
мала (имя ребенка) трче" [Как это веретено крутится, так пусть малышка
бегает]. Русские в Онежском краю, когда у ребенка появлялась бессонница,
делали из лучины маленькое веретено и прялку, клали их у изголовья и
произносили: "Полуношница, щекотариха! Не играй моим дитяткой, играй
прялочкой, веретеночком да помельной лопаточкой.
С помощью веретена вызывали дождь, окуная его в воду. Видеть веретено во
сне - особенно с длинной ниткой - означает дальнюю дорогу [16 ].
Кудель, привязанная на прялку, также имеет семиотическую нагрузку. Кудель
означает женское начало и несет в себе идею плодородия, вырастания [17 ].
Недопряденную кудель оставлять запрещено. Видимо, здесь имеет место запрет
разделения целого. Кудель - это первоначало, его нельзя дробить и
оставлять его части, как, например, несжатые колосья, недостриженные
волосы, копейку в кошельке "на развод". Процесс прядения должен быть
прерван, в противном случае недопряденная кудель может быть допрядена
хтоническими существами, что повлияет на мировой порядок. Поэтому кудель
не имеет продолжения и не может его иметь. Завтрашняя кудель - это новая
кудель, не связанная с сегодняшней. Первоначало не может быть нецелым,
незавершенным. Недопрясть кудель означает недосоздать мир, отдать
строительный материал Мокоши, Кикиморе и другим. Сакральность кудели
делает из нее мощный оберег, причем это свойство переносится и на пряжу.
Ткачество продолжает процесс творения, создания ткани и является очень
ответственным этапом этого процесса, поэтому в нем проявляется самая
строгая регламентация, хотя существует множество ограничений и на другие
виды работ: "из всех видов работ севу и ткачеству принадлежит большее
число ритуальных действий, запретов и предписаний" [18 ].
Е.Ф. Фурсова считает, что "круглогодичные запреты-обереги подчинялись
общей идее цикличности природы посредством бинарной оппозиции
работа/отдых" [19]. Усиление запретов происходит в переходные периоды.
Существуют святочные запреты, масленичные запреты. Нити, спряденные в эти
дни, нечистые, поэтому из них нельзя делать чистую одежду, например,
погребальную. В Благовещение нельзя прясть, ткать, шить и др., за
нарушение запрета девушка станет кукушкой. Очень строги пасхальные
запреты, иногда в Пасху специально разбирали ткацкие станы [20]. Кара за
нарушение многих летних запретов - "запрядешь, заткешь, заснуешь летние
дожди" [21 ]. Нельзя прясть и ткать в поминальные дни, так как можно
оскорбить души родителей.
Известны запреты на женские работы в "волчьи дни", занимающие много места
в календаре румын и южных славян: "Как тянешь нить, так и волки тянутся к
дому". С целью обезопасить себя от волков практиковалось перевязывание
ножниц, символизирующих волчью пасть, веревкой и другие подобные меры [22
]. Существует масса запретов на женские работы в пятницу. Примечательно,
что у некоторых групп славян пятница - традиционный поминальный день.
Образ Параскевы-Пятницы широко распространен в Сибири, преимущественно
среди старообрядческого населения, а также в украинских и белорусских
селах [23]. Русские старожилы, переселившиеся из северных губерний России,
где образ Параскевы-Пятницы был особенно значим, практически утратили ее
культ. Это объясняется тем, что в суровых климатических условиях Сибири
трудно соблюсти порядок почитания св. Параскевы, например, еженедельные
посты и запреты на некоторые виды работ по пятницам [24]. Образ
Параскевы-Пятницы частично сливается с образом Богородицы (и в Сибири, и в
Европейской части России). О.В. Голубкова считает, что этот факт дает
основания предполагать восхождение этого культа к более древним богиням,
культ которых с течением времени изменяется до уровня покровительницы
женщин и женских работ [25 ].
Существовал подобный культ Среды - женского мифологического персонажа,
связанного, как и Пятница, с нечистым женским началом: считалось, что
Среда помогала ткать и белить холсты, наказывала тех, кто работал в среду.
Вероятно, культы Среды и Пятницы произошли от почитания Мокоши,
представляемой в виде женщины, с большими головой и руками, прядущей по
ночам в избе [26]. Суббота также считалась неблагоприятным днем для
работы, ее называли "женским", или "последним" днем. По народным
представлениям "в субботу мир (свет) сновался", поэтому нельзя сновать
[27]. Кроме запретов, существовавших по средам и пятницам, не пряли, не
ткали и в "чижолый день понедельник" [28 ]. В течение дня избегали прясть
в вечернее время постных дней и после захода солнца по субботам.
Регламентировалось начало тканья: оно должно было начинаться на первой
фазе луны, в доме при этом ничего не должно было шуметь, свистеть, женщина
должна начинать работу молча. Естественно, абсолютное соблюдение запретов
невозможно по причине их крайней строгости и частоты, поэтому в разных
регионах на первое место выходила какая-либо одна группа запретов.
При ткачестве и навивании осенение крестом себя или орудий и сырья
является нежелательным, так как влечет за собой появление в нитках
путаницы - "перекрестницы". Вероятно, на некотором уровне традиционного
сознания сохраняется идея о том, что ткачество - не совсем богоугодное и
"чистое" занятие. Намек на подобное верование содержится и в других
запретах. Творцом может выступать только абсолют, а в ткачестве демиургом
оказывается человек.
Тем не менее, женщина может принести приговор, где содержится просьба о
благословении. Специалистами изучены приговоры, их тематика и структура,
выделены основные мотивы приговоров: мотив "высокого льна", "чистого
льна", "белого и легкого льна", "легкой работы", "хорошего полотна",
"трудолюбивых дочерей", приговоры-обереги и др. [29 ]
Таким образом, процесс тканья, будучи окруженным рядом запретов и
предписаний (временных, персональных и др.), требует соблюдения оберегов и
произнесения магических приговоров и формул. Особенно строго
регламентировано обрядовое ткачество, с помощью которого можно
противостоять природным бедствиям и другим напастям. Речь идет о
распространенном у всех славян обряде изготовления "обыденного" полотна.
Интересно, что случаи проведения этого ритуала фиксировались и в Западной
Сибири [30 ]. Широко используются в магической практике ткацкие и
прядильные принадлежности и инвентарь, в частности, навой, нит, бердо и
т.д. Бердо, нит, мялка, навой служили оберегом против нечистой силы,
плохой погоды, с их помощью можно было вылечить испуг, порчу,
"самовильскую" болезнь. Нит применялся при первом выгоне скота, а с
помощью навоя вызывали дождь.
Бердо - деталь ткацкого станка, гребень, служащий для разделения нитей
основы. Как и другие ткацкие орудия, бердо наделяется магической силой,
оно и оберег, и может быть использовано в колдовских действиях. Из-за
большого числа зубьев, бердо включалось в ряд предметов, используемых как
орудия продуцирующей магии, как символ множества и изобилия. Бердо нельзя
передавать, не обернув льном, т.к. у дающего и берущего будет лен "голый"
[31 ].
Кросна, кросно - ткацкий станок или его часть - навой, имеющие магическую
силу и использующиеся в апотропеических обрядах, обрядах вызывания дождя,
стимулирования плодородия и рождаемости, а также во вредоносной магии.
Этим термином может называться навитая на стане нитяная основа и вытканное
на нем полотно. Этимологически слово "кросно" в связи с первичным
значением "навой, вращаемая часть ткацкого станка" соотносится с глаголом
крутить, имеющим в свою очередь ряд демонологических и продуцирующих
значений. В народной культуре кросна рассматриваются и как предмет,
способный повлиять на плодородие, рождаемость и плодовитость, и как
атрибут потустороннего мира и нечистой силы. Навой, с которого сходят
навитые нити, - "мужские кросна", он может помочь при проблемах с
потенцией. Кросна использовались в обряде вызывания дождя, их кидали в
колодец, или реку. Долго не вытканные кросна вызывают засуху. В любовной
магии с помощью кросна девушки призывали сватов или искали любви парня. На
продуцирующей семантике кросна основывается его использование его в
качестве оберега от нечистой силы, болезни, непогоды. Однако влияние
кросна на плодородие могло также использоваться во вредоносных действиях,
для того, чтобы завладеть чужим урожаем. Существовал запрет относить
одолженные кросна в день окончания работы, иначе месячные будут
приходиться на годовые праздники. Кросна как орудие тканья связываются с
идеей жизни/смерти. Чтобы исправить "испорченные" кросна, их накрывали
мужскими штанами, снятой с себя рубахой [32 ].
Фото 2.
Ткацкий и прядильный инвентарь применялся в ритуалах плодородия и
увеличения рождаемости, в ряжении. Прикосновение воротилом может сделать
беременной даже бесплодную женщину; забеременеет и женщина, которую первой
встретит ткачиха, только что снявшая полотно со стана. Ткачество, как
видно, несет в себе идею жизни. Недотканная навитая основа угрожает
смертью или болезнью. Кудель, веретено, нит приносили в жертву женскому
божеству, бросая в колодец. Во время засухи девушки должны украсть
воротило у женщины, которая держит полотно недотканным долго, и облить его
водой. Используются ткацкие и прядильные принадлежности и во вредоносной
магии, например, чтобы украсть урожай с полей соседей, ведьма катается на
веретене вокруг них [33 ].
С ткачеством связано еще одно древнеславянское божество - Велес. В
народном сознании Велес был ассимилирован и заменен покровителем скота св.
Власием, позднее он утратил свою божественную сущность и опустился до
уровня хтонического существа, даже черта, однако изредка следы культа
заметны [34]. Сохранилась связь Велеса со скотом и другими
сельскохозяйственными культами, например, обычай оставлять божеству в дар
несжатые стебли хлебных злаков (так называемая "волосова" бородка). Велес
связан с прядением и ткачеством, нить - ближайший аналог волоса [35]. О
силе, заключенной в волосах, в этнографической литературе имеется
достаточно свидетельств [36]. Все эти факты подтверждают значение нити как
символа длящейся жизни. В некоторых диалектах кудель может обозначать
волосы. Очевидна соотнесенность волос и льна в свадебном обряде, когда
сваха причесывает новобрачному волосы, а бояре поют: "Во поле лен, лен
ветер веет, развевает" [37 ].
В украинском фольклоре Неделя говорит пряхам, нарушающим запрет прясть в
воскресенье, что они прядут не лен, а ее волосы [38 ]. Нарушение запретов,
связанных с культом Велеса, влечет за собой кару: болезнь, рождение слепых
детей и телят ("зашить, засновать глаза").
Что касается Западной Сибири, то варианты поверий различаются, хотя и
незначительно: ключевые персонажи у разных этнических групп русских
остались одинаковыми, общими. Их сходство объясняется общим древним
происхождением, специфика же обусловлена временем появления в Сибири,
местом, откуда шло переселение группы, внутренней замкнутостью общины [39
].
Рассмотренные мифологические персонажи (Среда, Пятница, Неделя, Велес)
имеют ряд архаичных черт, указывающих на их древнейшее происхождение.
Древность семантической нагрузки образов прядения и ткачества
иллюстрируется данными лингвистики. Исследователями были сконструированы
схемы, логические цепочки, иллюстрирующие смысл и связь тех или иных
понятий.
А.А. Потебня считал, что первоначально слово нить заключало в себе понятия
витья, свивания и ткани [40 ]. Завивать - ритуальное действие, имеющее
защитные продуцирующие функции, оно соотносятся с зарождением, ростом,
приумножением, но также и с вредоносными действиями демонов.
От одного корня с сучить, сукать, крутить происходит хорутанское слово
"sucanec" (нить), общеславянское "сукно", чешское "sukne" (платье). От
слова вить происходит "свита", в различных славянских языках верхняя или
нижняя одежда, в старосербском - одежда вообще, причем последнее значение
считается более древним, чем все остальные [41 ].
Ни в слове сукно, ни в слове свита, нет ничего, что бы приравнивало их
только к ткани, они могли означать и, вероятно, означали нить. Само нить
могло означать ткань, например, в выражении "разнититься", "раздеться до
нитки" [42 ]. Тождество нити и ткани объясняется сближением витья с
ткачеством.
Витье и кручение являются еще и символами брака [43]. Термины
"окручаться", "вертаться", "крученка" означают любовную связь. "Крутить",
"окручать", "повивать" - смена девичьей прически на женскую; "окрута",
"скрута" - наряд невесты, приданое; "верч" - украинский свадебный хлеб.
Эти термины связаны с порождением мира - "вить", "вихрь", с рождением
ребенка - "вить", "повивальная бабка", "свивальник" (лента для закрепления
пеленок - по народным представлениям помогает выпрямлению ножек ребенка).
Вязание соотносится с мотивом узла, узды, гнезда [44 ]. Кроме того,
существует некоторые данные, свидетельствующие о связи витья и дара.
Итак, термины и понятия, знания, связанные с прядением, ткачеством,
вязанием, указывают на существование в народном сознании сложного
комплекса представлений о создании ткани. Из этих представлений вытекают
ритуальные функции ткани. Полотно, интегрируя семантику нити и пояса,
вводит в ритуальный контекст новую функцию - покрывание как способ
включения объектов в освоенное пространство, заполнение его, где полотно и
есть, в сущности, само пространство. Появлению этой функции на ритуальном
уровне соответствует функция полотна на утилитарном уровне, где полотно
используется в качестве материала - ткани для одежд (покрывание тела),
головных уборов (покрывание головы), наконец, скатертей и различных
покрывал, полотенец.
Все нюансы значения ткани в обряде и повседневности можно упрощенно
представить как выражение трех ритуальных функций.
1. Граница - защита - оберег (ограничивание определенного пространства).
Существует точка зрения, что сначала ткань сама являлась оберегом.
Позднее, по мере утрачивания знаний о значимости ткани как оберега, оберег
усложнился, его украсили священными символами и т.п. [45] Эта ритуальная
функция ткани происходит из представлений о ее (ткани) символической
чистоте, правильности, порядке, ведь ткань произведена по очень строгим
правилам. Эти мотивы разграничивания отражены в русских сказках (бегство
от врага при помощи преград, созданных брошенным платком или полотенцем и
др.) [46 ]
2. Дорога - связь (медиация - посредничество между земным и "иным"
мирами). Полотно является способом соединения сфер жизни и смерти. Так,
наиболее распространенный вариант толкования сновидений "холст видеть во
сне - к дороге".
3. Дар. Эта ритуальная функция рассматривается в отдельном параграфе.
Таким образом, комплекс традиционных представлений о ткани и ткачестве
включает в себя несколько ритуальных функций, значений, приписываемых
рассматриваемому архетипу.
Русская духовная культура - часть общеславянской культуры. Приведенные
примеры из обычаев разных групп славян характеризуются очевидным сходством
между собой. На основании этого правомерно предположить, что представления
о ткани и ткачестве - часть очень древнего пласта славянской культуры, что
косвенно подтверждает связь ткачества с космологическими мотивами.
Русские представления о ткани и ткачестве оказываются достаточно
устойчивыми: огромное количество нюансов комплекса таких представлений
позволяет объяснить те или иные элементы мифа друг через друга. Подобная
"логичность" повышает цельность и сохранность традиционных представлений,
позволяет сегодня говорить о корреляции смыслов мотивов ткани и ткачества
во времени (история и современность) и пространстве (разные районы
славянского мира, разные районы расселения русских).
© Н.С. Кошубарова, 2003 г.
§1. Корреляция смыслов: между традицией и современностью
Ткачество - одно из древнейших занятий человека, и можно предположить, что
во многих культурах так же долго оно связано с женщиной и женским миром
(исключая ткацкое ремесло позднего периода). "Специфика женского начала
заключается в большей зависимости от природы, что обусловлено
воспроизводящей функцией женщины" . Природа понимается здесь как
противоположность культуры, поэтому женские образы вбирают в себя
одновременно стихийность природы и упорядоченность культуры. Исходя из
того, что в бинарной оппозиции женщина представляет собой негативную
сторону, можно предположить, что иррационального, природного в ней больше.
Таким образом, ткачество, будучи элементом культуры и элементом женского
мира, имеет связь с природой и потусторонними силами.
Ткань, ткачество - очень распространенные мотивы самых разных ритуальных
действ и действий начиная от повседневности и до обрядов перехода. Задача
данного параграфа - показать, как происходит семантизация (означивание)
ткани и ткачества.
Луна прядет время и "плетет" жизни человечества: богини судьбы являются
пряхами. Сотворение или восстановление мира, прядение Времени и судьбы, с
одной стороны, и, с другой - женская работа, которая порой должна
выполняться втайне, почти скрыто - здесь мыможем видеть оккультное
соответствие между двумя порядками мистической реальности [2]. Ниже будет
показано, каким образом женские божества карают за нерегламентированное
использование прядения и ткачества, но науке известны и противоположные
представления. В японской культуре в мифологической памяти сохраняются
идеи конфликта между тайными женскими и мужскими обществами. Мужчины и их
божества ночью нападают на незамужних женщин, уничтожают их работу, ломают
челноки ткацких станков и инструменты для плетения. В других районах
именно во время уединенных инициирующих вечеров прядения пожилые женщины
обучают молодых ритуальным песням и танцам, большинство которых
эротические и даже непристойные. Существует тайная связь между прядением,
инициациями и сексуальностью [3 ].
Женщина связана с ткачеством с самого рождения. Пуповину девочке
перерезают на веретене или прялке, девочку подают крестной матери через
веретено или прялку. По народным представлениям это способствует будущему
мастерству, трудолюбию девушки, делает ее "правильной" женщиной.
Т.А. Бернштам в ряде своих работ [4] доказывает, что ткачество и рукоделия
играют важнейшую роль в маркировке девичьего совершеннолетия: с одной
стороны, девушка демонстрирует свое мастерство, а с другой, - готовность к
браку и в прагматическом аспекте (готово приданое), и в знаковом. Иногда
девушка может работать только с растительными материалами, вероятно, это
ограничение подчеркивает ритуальную чистоту девушки [5 ]. В свадебном
обряде у болгар есть специальный ритуал, называемый запридане 'начало
прядения': мать дарит невесте веретено, прялку и белую кудель.
В Полесье девушка никому не даст свою "личную" прялку (на которой написано
ее имя), так как "будет пожар или погибнут пчелы" [6]. Это объяснение
информатора не следует понимать буквально. Передача своей вещи нанесет
хозяину (хозяйке) ущерб, и не столь важно, как этот ущерб будет
выражаться. В традиционной культуре прялка одна из немногих вещей, которые
могут считаться "личными", и желание сохранить ее кажется вполне
естественным. Возникает ситуация, когда, например, у армян, "прерогатива
прядения на прялке принадлежит хозяйке дома, а из других женщин к прялке
допускается лишь старшая невестка" [7 ].
В свадебной обрядности жених должен подарить невесте новую, сделанную и
украшенную своими руками прялку. На Русском Севере парень, написавший на
прялке девушки свое имя, обязан на ней жениться. Прялка как "своя" вещь в
определенном контексте обозначает свою хозяйку; на прялку переносятся
некоторые признаки девушки. Прялка и девушка находятся между собой в
магической связи, соединяются по закону сопричастия.
М.М. Валенцова приводит интересный факт из празднования Масленицы: женщины
катались с горок на прялках [8]. Вероятно, речь идет о проявлении в
ритуале женской магии, особенно сильной во время одного из важнейших
обрядов перехода, несущего в себе сильную продуцирующую семантику. В день,
когда происходит переход от зимы к лету, женщина не только не может
расстаться с прялкой, что обязательно должна сделать в другие праздники,
но и должна прокатиться на ней с горки. Таким образом, прялка, будучи лишь
вспомогательным орудием, становится основным символом прядения [9 ].
Другие орудия труда, используемые в прядении и ткачестве, также имеют свой
смысл, они не просто орудия, они вещи.
Очень сложно до конца понять содержание веретена. Его магические свойства
связаны с вращением и остротой веретена. Веретено одновременно является и
женским атрибутом, и оберегом. Веретено употребляется во многих ритуальных
действиях и в магии.
Веретено в любовной магии играло важную роль, причем свойство его
вращаться было в этом случае определяющим: "Чтобы парни также как крутится
веретено, крутились вокруг меня". Сербские девушки протыкали веретеном
сердце крота с приговором: "Как веретено крутится, так пусть крутится Н.
(имя парня) вокруг меня" [10]. Если веретеном проделать дырку в тыкве или
подсолнухе, то через эту дырку можно увидеть, верен ли муж, этим же можно
вернуть прежнюю любовь (как поворачивается к солнцу подсолнух). На Украине
девушки в день Сорока мучеников ворожили на 40 веретенах или прутиках и
при этом пекли медовые хлебцы для парней. Сербка, "чтобы привязать к себе
мужа", должна была во время своих месячных на том месте, где мочился ее
супруг, воткнуть в землю перевернутое веретено. По окончании месячных она
"отвязывала мужа" тем, что втыкала в землю веретено уже нижним концом.
Веретено позволяет женщине стать более сильной и получить новые
способности, поэтому женщина старается никогда не расставаться с ним. Если
веретено не в руках у женщины, то за поясом [11 ].
Сербская женщина сразу после рождения ребенка должна была взять в руки
веретено и спрясть небольшую нитку, чтобы ребенок был трудолюбивым, как
веретено. С этим мотивом перекликается представление о прядении божествами
нити судьбы. Черногоркам запрещалось во время прядения касаться веретеном
мужчины, чтобы у него не рождались одни девочки. У всех славян девочке
пуповину перерезали на прялке, веретене, гребне и т.п. При затянувшихся
родах через рубашку роженицы пропускали топор или веретено и говорили:
"Если ты мужчина, возьми топор, если женщина - возьми веретено!" [12 ]
Сербка, сажая курицу на яйца, "мешала" их веретеном, "чтобы было больше
курочек и меньше петушков". Все обряды с веретеном исполнялись женщинами.
Сербы пользовались веретеном для защиты от демонов, появляющихся при
родах: женщина раздевалась донага, распускала волосы и шла к реке с
веретеном в руках и там читала заговор. Согласно сербской быличке,
достаточно было перевернуть веретено верхом вниз, чтобы обнаружить чертей,
пришедших к девицам в день Федора Тирона под видом парней, и прогнать их.
В Болгарии клали веретено (или веник) в колыбель ребенка, чтобы отвести
дурной глаз и нечистую силу. Для предохранения дома от удара молнии
болгарки во время грозы выносили во двор веретено вместе с пасхальным
яйцом [13 ].
Веретено как целительное средство применялось при заговаривании болезней и
врачевании. При заговаривании боли и покалывания в боку брали три веретена
и троекратно кололи веретеном в бок (курск.). Девять веретен, нож и вертел
брали сербки для лечения боли в груди, размахивали этими предметами и
читали как заговор текст о "житии" льна. Чешские девушки, заболевшие
лихорадкой, обегали трижды вокруг пруда, бросая в него последовательно
кусок хлеба, веретено, пучок льна, чем старались задержать Лихорадку в ее
подводном жилище. Ворожеи из Карпат при расстройстве желудка и болях в
животе у детей "выдворяли бабиц" (детскую болезнь) тем, что ставили на
живот ребенку горячий горшок, держали в руке девять ложек, иглу, веретено,
нож и толкушку и заговаривали, "вычерпывая" болезнь ложками, "вышивая"
иглой и "выпрядая" веретеном. В подобный набор предметов веретено входит
во многих ритуалах. Головную боль лечили водой, в которую клали веретено и
нож. При воспалении языка на Черниговщине "кололи жабку", прикасаясь к
горлу веретеном, гвоздем или прутиком и читая заговор [14 ].
Запреты пользоваться веретеном связаны с мотивами верчения и кручения и с
мотивом роста. Почти у всех славян существовал запрет на прядение в
пятницу. В Закарпатье жена охотника в тот день, когда муж уходил на охоту,
не пряла, "чтобы зверь не крутился, как веретено, а охотник не блуждал, не
крутился по лесу". В Сочельник прятали все веретена, чтобы жнецы "не
кололись", т. е. не напарывались на что-либо острое. В то же время эти
веретена должны быть полными, т. е. с намотанными на них нитками, чтобы в
грядущем году были такими же полными кукурузные початки. Словаки считали,
что от взгляда на веретено могла появиться боль в боку [15 ]. Сербы
считали, что ребенка нельзя ударить веретеном или веником, т.к. от этого
он может "перестать расти".
У сербов сразу после родов вешали на очажную цепь веретено с насаженной на
него головкой чеснока, чтобы младенцу не повредили вештицы. Когда ребенок
долго не начинал ходить, одна из девочек в семье трижды "обводила" его
вокруг очага, держа в руках В. и произнося: "Каково вретено врче, тако
мала (имя ребенка) трче" [Как это веретено крутится, так пусть малышка
бегает]. Русские в Онежском краю, когда у ребенка появлялась бессонница,
делали из лучины маленькое веретено и прялку, клали их у изголовья и
произносили: "Полуношница, щекотариха! Не играй моим дитяткой, играй
прялочкой, веретеночком да помельной лопаточкой.
С помощью веретена вызывали дождь, окуная его в воду. Видеть веретено во
сне - особенно с длинной ниткой - означает дальнюю дорогу [16 ].
Кудель, привязанная на прялку, также имеет семиотическую нагрузку. Кудель
означает женское начало и несет в себе идею плодородия, вырастания [17 ].
Недопряденную кудель оставлять запрещено. Видимо, здесь имеет место запрет
разделения целого. Кудель - это первоначало, его нельзя дробить и
оставлять его части, как, например, несжатые колосья, недостриженные
волосы, копейку в кошельке "на развод". Процесс прядения должен быть
прерван, в противном случае недопряденная кудель может быть допрядена
хтоническими существами, что повлияет на мировой порядок. Поэтому кудель
не имеет продолжения и не может его иметь. Завтрашняя кудель - это новая
кудель, не связанная с сегодняшней. Первоначало не может быть нецелым,
незавершенным. Недопрясть кудель означает недосоздать мир, отдать
строительный материал Мокоши, Кикиморе и другим. Сакральность кудели
делает из нее мощный оберег, причем это свойство переносится и на пряжу.
Ткачество продолжает процесс творения, создания ткани и является очень
ответственным этапом этого процесса, поэтому в нем проявляется самая
строгая регламентация, хотя существует множество ограничений и на другие
виды работ: "из всех видов работ севу и ткачеству принадлежит большее
число ритуальных действий, запретов и предписаний" [18 ].
Е.Ф. Фурсова считает, что "круглогодичные запреты-обереги подчинялись
общей идее цикличности природы посредством бинарной оппозиции
работа/отдых" [19]. Усиление запретов происходит в переходные периоды.
Существуют святочные запреты, масленичные запреты. Нити, спряденные в эти
дни, нечистые, поэтому из них нельзя делать чистую одежду, например,
погребальную. В Благовещение нельзя прясть, ткать, шить и др., за
нарушение запрета девушка станет кукушкой. Очень строги пасхальные
запреты, иногда в Пасху специально разбирали ткацкие станы [20]. Кара за
нарушение многих летних запретов - "запрядешь, заткешь, заснуешь летние
дожди" [21 ]. Нельзя прясть и ткать в поминальные дни, так как можно
оскорбить души родителей.
Известны запреты на женские работы в "волчьи дни", занимающие много места
в календаре румын и южных славян: "Как тянешь нить, так и волки тянутся к
дому". С целью обезопасить себя от волков практиковалось перевязывание
ножниц, символизирующих волчью пасть, веревкой и другие подобные меры [22
]. Существует масса запретов на женские работы в пятницу. Примечательно,
что у некоторых групп славян пятница - традиционный поминальный день.
Образ Параскевы-Пятницы широко распространен в Сибири, преимущественно
среди старообрядческого населения, а также в украинских и белорусских
селах [23]. Русские старожилы, переселившиеся из северных губерний России,
где образ Параскевы-Пятницы был особенно значим, практически утратили ее
культ. Это объясняется тем, что в суровых климатических условиях Сибири
трудно соблюсти порядок почитания св. Параскевы, например, еженедельные
посты и запреты на некоторые виды работ по пятницам [24]. Образ
Параскевы-Пятницы частично сливается с образом Богородицы (и в Сибири, и в
Европейской части России). О.В. Голубкова считает, что этот факт дает
основания предполагать восхождение этого культа к более древним богиням,
культ которых с течением времени изменяется до уровня покровительницы
женщин и женских работ [25 ].
Существовал подобный культ Среды - женского мифологического персонажа,
связанного, как и Пятница, с нечистым женским началом: считалось, что
Среда помогала ткать и белить холсты, наказывала тех, кто работал в среду.
Вероятно, культы Среды и Пятницы произошли от почитания Мокоши,
представляемой в виде женщины, с большими головой и руками, прядущей по
ночам в избе [26]. Суббота также считалась неблагоприятным днем для
работы, ее называли "женским", или "последним" днем. По народным
представлениям "в субботу мир (свет) сновался", поэтому нельзя сновать
[27]. Кроме запретов, существовавших по средам и пятницам, не пряли, не
ткали и в "чижолый день понедельник" [28 ]. В течение дня избегали прясть
в вечернее время постных дней и после захода солнца по субботам.
Регламентировалось начало тканья: оно должно было начинаться на первой
фазе луны, в доме при этом ничего не должно было шуметь, свистеть, женщина
должна начинать работу молча. Естественно, абсолютное соблюдение запретов
невозможно по причине их крайней строгости и частоты, поэтому в разных
регионах на первое место выходила какая-либо одна группа запретов.
При ткачестве и навивании осенение крестом себя или орудий и сырья
является нежелательным, так как влечет за собой появление в нитках
путаницы - "перекрестницы". Вероятно, на некотором уровне традиционного
сознания сохраняется идея о том, что ткачество - не совсем богоугодное и
"чистое" занятие. Намек на подобное верование содержится и в других
запретах. Творцом может выступать только абсолют, а в ткачестве демиургом
оказывается человек.
Тем не менее, женщина может принести приговор, где содержится просьба о
благословении. Специалистами изучены приговоры, их тематика и структура,
выделены основные мотивы приговоров: мотив "высокого льна", "чистого
льна", "белого и легкого льна", "легкой работы", "хорошего полотна",
"трудолюбивых дочерей", приговоры-обереги и др. [29 ]
Таким образом, процесс тканья, будучи окруженным рядом запретов и
предписаний (временных, персональных и др.), требует соблюдения оберегов и
произнесения магических приговоров и формул. Особенно строго
регламентировано обрядовое ткачество, с помощью которого можно
противостоять природным бедствиям и другим напастям. Речь идет о
распространенном у всех славян обряде изготовления "обыденного" полотна.
Интересно, что случаи проведения этого ритуала фиксировались и в Западной
Сибири [30 ]. Широко используются в магической практике ткацкие и
прядильные принадлежности и инвентарь, в частности, навой, нит, бердо и
т.д. Бердо, нит, мялка, навой служили оберегом против нечистой силы,
плохой погоды, с их помощью можно было вылечить испуг, порчу,
"самовильскую" болезнь. Нит применялся при первом выгоне скота, а с
помощью навоя вызывали дождь.
Бердо - деталь ткацкого станка, гребень, служащий для разделения нитей
основы. Как и другие ткацкие орудия, бердо наделяется магической силой,
оно и оберег, и может быть использовано в колдовских действиях. Из-за
большого числа зубьев, бердо включалось в ряд предметов, используемых как
орудия продуцирующей магии, как символ множества и изобилия. Бердо нельзя
передавать, не обернув льном, т.к. у дающего и берущего будет лен "голый"
[31 ].
Кросна, кросно - ткацкий станок или его часть - навой, имеющие магическую
силу и использующиеся в апотропеических обрядах, обрядах вызывания дождя,
стимулирования плодородия и рождаемости, а также во вредоносной магии.
Этим термином может называться навитая на стане нитяная основа и вытканное
на нем полотно. Этимологически слово "кросно" в связи с первичным
значением "навой, вращаемая часть ткацкого станка" соотносится с глаголом
крутить, имеющим в свою очередь ряд демонологических и продуцирующих
значений. В народной культуре кросна рассматриваются и как предмет,
способный повлиять на плодородие, рождаемость и плодовитость, и как
атрибут потустороннего мира и нечистой силы. Навой, с которого сходят
навитые нити, - "мужские кросна", он может помочь при проблемах с
потенцией. Кросна использовались в обряде вызывания дождя, их кидали в
колодец, или реку. Долго не вытканные кросна вызывают засуху. В любовной
магии с помощью кросна девушки призывали сватов или искали любви парня. На
продуцирующей семантике кросна основывается его использование его в
качестве оберега от нечистой силы, болезни, непогоды. Однако влияние
кросна на плодородие могло также использоваться во вредоносных действиях,
для того, чтобы завладеть чужим урожаем. Существовал запрет относить
одолженные кросна в день окончания работы, иначе месячные будут
приходиться на годовые праздники. Кросна как орудие тканья связываются с
идеей жизни/смерти. Чтобы исправить "испорченные" кросна, их накрывали
мужскими штанами, снятой с себя рубахой [32 ].
Фото 2.
Ткацкий и прядильный инвентарь применялся в ритуалах плодородия и
увеличения рождаемости, в ряжении. Прикосновение воротилом может сделать
беременной даже бесплодную женщину; забеременеет и женщина, которую первой
встретит ткачиха, только что снявшая полотно со стана. Ткачество, как
видно, несет в себе идею жизни. Недотканная навитая основа угрожает
смертью или болезнью. Кудель, веретено, нит приносили в жертву женскому
божеству, бросая в колодец. Во время засухи девушки должны украсть
воротило у женщины, которая держит полотно недотканным долго, и облить его
водой. Используются ткацкие и прядильные принадлежности и во вредоносной
магии, например, чтобы украсть урожай с полей соседей, ведьма катается на
веретене вокруг них [33 ].
С ткачеством связано еще одно древнеславянское божество - Велес. В
народном сознании Велес был ассимилирован и заменен покровителем скота св.
Власием, позднее он утратил свою божественную сущность и опустился до
уровня хтонического существа, даже черта, однако изредка следы культа
заметны [34]. Сохранилась связь Велеса со скотом и другими
сельскохозяйственными культами, например, обычай оставлять божеству в дар
несжатые стебли хлебных злаков (так называемая "волосова" бородка). Велес
связан с прядением и ткачеством, нить - ближайший аналог волоса [35]. О
силе, заключенной в волосах, в этнографической литературе имеется
достаточно свидетельств [36]. Все эти факты подтверждают значение нити как
символа длящейся жизни. В некоторых диалектах кудель может обозначать
волосы. Очевидна соотнесенность волос и льна в свадебном обряде, когда
сваха причесывает новобрачному волосы, а бояре поют: "Во поле лен, лен
ветер веет, развевает" [37 ].
В украинском фольклоре Неделя говорит пряхам, нарушающим запрет прясть в
воскресенье, что они прядут не лен, а ее волосы [38 ]. Нарушение запретов,
связанных с культом Велеса, влечет за собой кару: болезнь, рождение слепых
детей и телят ("зашить, засновать глаза").
Что касается Западной Сибири, то варианты поверий различаются, хотя и
незначительно: ключевые персонажи у разных этнических групп русских
остались одинаковыми, общими. Их сходство объясняется общим древним
происхождением, специфика же обусловлена временем появления в Сибири,
местом, откуда шло переселение группы, внутренней замкнутостью общины [39
].
Рассмотренные мифологические персонажи (Среда, Пятница, Неделя, Велес)
имеют ряд архаичных черт, указывающих на их древнейшее происхождение.
Древность семантической нагрузки образов прядения и ткачества
иллюстрируется данными лингвистики. Исследователями были сконструированы
схемы, логические цепочки, иллюстрирующие смысл и связь тех или иных
понятий.
А.А. Потебня считал, что первоначально слово нить заключало в себе понятия
витья, свивания и ткани [40 ]. Завивать - ритуальное действие, имеющее
защитные продуцирующие функции, оно соотносятся с зарождением, ростом,
приумножением, но также и с вредоносными действиями демонов.
От одного корня с сучить, сукать, крутить происходит хорутанское слово
"sucanec" (нить), общеславянское "сукно", чешское "sukne" (платье). От
слова вить происходит "свита", в различных славянских языках верхняя или
нижняя одежда, в старосербском - одежда вообще, причем последнее значение
считается более древним, чем все остальные [41 ].
Ни в слове сукно, ни в слове свита, нет ничего, что бы приравнивало их
только к ткани, они могли означать и, вероятно, означали нить. Само нить
могло означать ткань, например, в выражении "разнититься", "раздеться до
нитки" [42 ]. Тождество нити и ткани объясняется сближением витья с
ткачеством.
Витье и кручение являются еще и символами брака [43]. Термины
"окручаться", "вертаться", "крученка" означают любовную связь. "Крутить",
"окручать", "повивать" - смена девичьей прически на женскую; "окрута",
"скрута" - наряд невесты, приданое; "верч" - украинский свадебный хлеб.
Эти термины связаны с порождением мира - "вить", "вихрь", с рождением
ребенка - "вить", "повивальная бабка", "свивальник" (лента для закрепления
пеленок - по народным представлениям помогает выпрямлению ножек ребенка).
Вязание соотносится с мотивом узла, узды, гнезда [44 ]. Кроме того,
существует некоторые данные, свидетельствующие о связи витья и дара.
Итак, термины и понятия, знания, связанные с прядением, ткачеством,
вязанием, указывают на существование в народном сознании сложного
комплекса представлений о создании ткани. Из этих представлений вытекают
ритуальные функции ткани. Полотно, интегрируя семантику нити и пояса,
вводит в ритуальный контекст новую функцию - покрывание как способ
включения объектов в освоенное пространство, заполнение его, где полотно и
есть, в сущности, само пространство. Появлению этой функции на ритуальном
уровне соответствует функция полотна на утилитарном уровне, где полотно
используется в качестве материала - ткани для одежд (покрывание тела),
головных уборов (покрывание головы), наконец, скатертей и различных
покрывал, полотенец.
Все нюансы значения ткани в обряде и повседневности можно упрощенно
представить как выражение трех ритуальных функций.
1. Граница - защита - оберег (ограничивание определенного пространства).
Существует точка зрения, что сначала ткань сама являлась оберегом.
Позднее, по мере утрачивания знаний о значимости ткани как оберега, оберег
усложнился, его украсили священными символами и т.п. [45] Эта ритуальная
функция ткани происходит из представлений о ее (ткани) символической
чистоте, правильности, порядке, ведь ткань произведена по очень строгим
правилам. Эти мотивы разграничивания отражены в русских сказках (бегство
от врага при помощи преград, созданных брошенным платком или полотенцем и
др.) [46 ]
2. Дорога - связь (медиация - посредничество между земным и "иным"
мирами). Полотно является способом соединения сфер жизни и смерти. Так,
наиболее распространенный вариант толкования сновидений "холст видеть во
сне - к дороге".
3. Дар. Эта ритуальная функция рассматривается в отдельном параграфе.
Таким образом, комплекс традиционных представлений о ткани и ткачестве
включает в себя несколько ритуальных функций, значений, приписываемых
рассматриваемому архетипу.
Русская духовная культура - часть общеславянской культуры. Приведенные
примеры из обычаев разных групп славян характеризуются очевидным сходством
между собой. На основании этого правомерно предположить, что представления
о ткани и ткачестве - часть очень древнего пласта славянской культуры, что
косвенно подтверждает связь ткачества с космологическими мотивами.
Русские представления о ткани и ткачестве оказываются достаточно
устойчивыми: огромное количество нюансов комплекса таких представлений
позволяет объяснить те или иные элементы мифа друг через друга. Подобная
"логичность" повышает цельность и сохранность традиционных представлений,
позволяет сегодня говорить о корреляции смыслов мотивов ткани и ткачества
во времени (история и современность) и пространстве (разные районы
славянского мира, разные районы расселения русских).
© Н.С. Кошубарова, 2003 г.
|
Семантика цвета |
Ткань как вещь и знак в русской традиционной культуре
§2. Семантика цвета
Цвет - один из признаков предмета. Для современного человека изменение
цвета не означает изменения сущности предмета в большинстве случаев,
однако существуют и исключения: черная траурная одежда, белое свадебное
платье, голубые вещи для мальчика и розовые для девочки и др. Все
приведенные примеры относятся к цветам одежды. Эти символические выражения
назначения тех или иных вещей появились в нашей культуре сравнительно
недавно, некоторые из них не имеют в ней корней и пришли извне, однако их
влияние является достаточно сильным, сильным настолько, что, сталкиваясь с
отклонением от правил, человек недоумевает. Справедливо предположить, что
если для нас сегодня значим цвет нашей далеко не традиционной одежды, а
может быть, и каких-либо еще вещей, то символика цвета в народной культуре
достаточно важна. Таким образом, цвет - признак, получающий в народной
культуре символическую трактовку.
Русские применяли ткани самых разных цветов, окрашивая их белыми, черными,
синими, красными, желтыми красителями [47 ]. Наиболее значимыми являются
противопоставления белого и черного (светлого и темного), соотносимого с
оппозициями жизнь/смерть, хороший/плохой и др., а также триада
белый-красный-черный. Символика каждого из этих цветов неоднозначна,
зачастую они имеют прямо противоположные толкования.
Белый цвет, белое - в народной культуре один из основных элементов
цветовой символики, противопоставленный, прежде всего черному и красному.
Белый и черный цвета находятся на полярных точках цветового спектра, а их
названия и символика антонимичны. Белый цвет представляет обобщенно ряд
цветов светлых тонов, а также большую цветовую интенсивность, в то время
как черный цвет обобщает темные цвета и с ним соотносится малая цветовая
интенсивность или ее отсутствие. Кроме того, белый цвет обозначает
отсутствие цвета, он нейтрален и может быть превращен в любой другой цвет
и получить любое толкование.
В символической сфере корреляция белый/черный (светлый/темный) может
входить в эквивалентный ряд с парами хороший/плохой, мужской/женский,
живой/мертвый, отчасти молодой/немолодой (старый) и т.д. Возможна
корреляция белый/небелый, и тогда белый цвет способен означать
сакральность, чистоту, плодородие, свет.
Ярче всего мифологическая семантика белого цвета проявляется в гаданиях,
предзнаменованиях, поверьях. Семантическая пара хороший/плохой выявляется
по отношению к признакам белый/черный в серии примет, связанных с бабочкой
или овцой, приносящих соответственно своему цвету счастье или несчастье.
Представление о "царстве тьмы" как о загробном мире, противопоставленном
"белому свету", характерно для всех славян. Вологодский крестьянин,
например, считал, что умершие некрещеные дети живут в "темном месте и
белого света не видят". Белый свет - наш, "этот" свет, и он
противопоставлен "тому", не белому свету, как день противопоставлен ночи.
Белый свет, как и белый день, мотивирован признаком "ясный, светлый,
чистый". Подобным образом разграничивается плохая и хорошая погода,
предсказываемая по цвету коровы, идущей впереди стада. Солнечный свет - и
само солнце - белое, поэтому в первый день жатвы работу нужно закончить до
захода солнца, чтобы хлеб нового урожая был белый.
Мифологическая связь отдельных предметов и явлений осуществляется по
принципу подобия. Так, иногда появление белых мотыльков или бабочек сулит
обилие молока. На основе подобия производятся и некоторые продуцирующие
действия: белорусы клали на грядку с капустой камень и накрывали его белым
платком, чтобы капуста была белой как платок, и большой и крепкой как
камень; крестьянин надевал белую рубаху (женщины - платок), отправляясь
сеять пшеницу, "чтобы она была чистой и белой, как рубаха", лен. Однако
славяне опасались белых вещей, способных вызвать град и изморозь: белое не
выносили на двор или в поле в некоторые праздники.
Многие индоевропейские народы знают белый траур. Русские же традиционно
извещали о смерти, вывешивая на избе белый "плат" или полотенце, которым
"приходящий покойник сорок дней утирал слезы". На русском Севере известна
белая погребальная одежда, обряжение девушек-покойниц в белое связано с
обрядом похорон-свадьбы. В образе женщины в белых одеждах представляли
смерть. Известен фразеологизм "белая смерть", в некоторых заговорах
больной называется белым, а здоровый красным. Рязанские крестьяне верили,
что собирать во сне белые цветы - к покойнику. Смерть предвещали во сне
белые гуси, кони, козы; болезнь - увиденная во сне девушка в белом.
Белые одежды характерны для духов, мифологических персонажей. Белуном
иногда называют домового, белой бабой - русалку, белым огромным существом
представляют упыря. Во все белое одевали женщин, исполняющих некоторые
обрядовые роли. Таким образом, почти вся нечистая сила одевается в белое,
в то время как черт носит черный костюм и сам черен. Белые животные и
птицы, особенно редкие или несуществующие, считаются особыми, колдовскими
или царями над своими сородичами. В белых животных превращаются лежащие в
земле клады. В то же время белый цвет может защищать от сглаза, порчи;
белыми считались некоторые (чистые) дни постов и праздников [48 ].
Наиболее конкретной и однозначной символикой обладает черный цвет, который
ассоциируется с мраком, землей, смертью, выступает как знак траура (в
семьях, где был траур, красили пасхальные яйца в черный или другие темные
цвета - зеленый, синий, фиолетовый). Черного цвета обычно демонологические
персонажи (появляются в виде черного животного или предмета): черт,
банник, овинник, полевой дух. Распространены мотивы черных животных: коня,
курицы, кошки и свиньи. Появление черного животного после смерти колдуна -
свидетельство того, что из него вышел черт.
В магической практике использовались предметы черного цвета и жертвенные
животные. Нож в черных ножнах защищает от испуга; черный терновый шип
забивали мертвецу под ногти, "чтобы не ходил"; черную курицу обносили
вокруг посевов от града и приносили в жертву чуме. Яйцо черной курицы
помогало от куриной слепоты, а молоком черной коровы тушили пожар,
зажженный молнией.
Желтый цвет, желтизна - признак, наделяемый в народной культуре
преимущественно негативной оценкой. Желтый цвет часто осмысляется как
символ смерти; в славянских поверьях появление желтого пятна на руке
предвещает смерть. В желтый цвет окрашивают яйца, предназначенные для
поминовения в пасхальных, семицких и троицких обрядах. На Пасху, поминая
умерших на кладбищах, носили с собой красные и желтые яйца; в Семик при
кумлении девушки, целуясь сквозь венок, дают друг другу желтое яйцо. В
обряде "крещения кукушки" участники ритуала кумовства на кладбище
обменивались желтыми яйцами, разбивали их и оставляли на могилах. В
субботу, накануне Троицына дня, когда поминали умерших "не своей" смертью
и некрещеных детей, красили яйца не в красный цвет, а в желтый, и
раздавали детям. Желтый - один из традиционных эпитетов в заговорах
восточных славян. Растения с желтыми цветами используются для лечения
"желтых" болезней (желтухи и др.)" свойством исцелять наделяются желтые
предметы (платки, кольца, посуда), куры с желтыми ногами, желтые бабочки.
Желтый в цветовой характеристике мифологических персонажей встречается
редко. Мифические существа, которые водят души на "тот свет", являются в
желтых тонах, у домового волосы желтого цвета, одна из лихорадок
называется желтой. Желтые круги появляются на траве, где старик
"поверстался в колдуны" или старшая в его семье женщина покумилась с
ведьмами; иногда места хороводов, трапез русалок отмечены пожелтевшей,
засохшей травой. Желтый цвет наряду с красным может выступать как
заместитель золота. В приметах желтый цвет означает несчастье, болезнь или
смерть; кто весной увидит желтую бабочку, будет в этом году несчастлив и
слаб здоровьем [49 ].
В русской традиции сложилось восприятие золотого как знака избранничества,
счастья и высшего суда, подобное представление сложилось еще в рамках
солнечного культа [50]. Золотая символика, дохристианская по существу,
функционировала в условиях постепенной христианизации культуры, сливалась
с религиозными понятиями воздаяния и возмездия, добра и зла. Золото, как
правило, связано с испытанием героя, его получают только избранные. Таким
образом, золотые предметы в фольклоре сакральны. Мифологема чистого,
сакрального, золота проявляется в заговорах, где заговаривающий ищет
небесного покровительства; так, в заговоре на добрый путь он представляет
себя одетым в золотые ризы, укрытым золотой пеленой [51 ].
Зеленый цвет, зеленое - в народной культуре соотносятся с растительностью,
изменчивостью, незрелостью, молодостью. Отмечено восприятие зеленого цвета
как блестящего, сияющего, сходного с золотым и желтым. Особенно характерны
такие представления для южных славян [52 ].
Продуцирующая символика зеленого цвета проявляется в весенней и свадебной
обрядности, например, Троица - зеленые святки, Троицкая неделя - зеленая
неделя. В свадебных песнях часто встречаются образы зеленого жита, бора,
луга. В погребально-поминальных обрядах зеленый выступает как цвет "того
света". Яйца зеленого цвета как поминальная трапеза известна у восточных
славян. На Пасху красили яйца в зеленый цвет, если в доме в течение года
был покойник, эта процедура призвана обновить жизнь обитателей дома,
очистить, освободить их от присутствия неживого. Зеленый цвет может быть
атрибутом "чужого" пространства, где обитает нечистая сила, куда
изгоняются духи: зеленая гора и т.п. Зеленый цвет присутствует в описаниях
хтонических существ [53 ].
Красный цвет, красное - в народной культуре один из основных элементов
цветовой символики, выступающей в оппозиции белое/красное, или в триаде
белое/красное/черное, где красное противопоставлено белому как не-белое,
"окрашенное", "темное". Символика красного цвета амбивалентна. Красный -
цвет жизни, солнца, плодородия, здоровья и цвет потустороннего мира,
хтонических и демонических персонажей. Красный цвет наделяется защитными
свойствами и используется как оберег. Особо значимы в народных
представлениях красная нить, красное полотно, красное яйцо.
Связь красного цвета с огнем отражается в языке (пустить красного петуха),
легендах, объясняющих наличие красного цвета в окраске животных; русских
поверьях: о красном летающем огненном змее (Русский Север Сибирь); о "бабе
в красном казане" (персонификация пожара; Рус. Север); об огненно-красном
полевике, который кажется людям россыпью искр (вологод.). Связь красного
цвета с кровью проявляется в свадебной символике, часто пояс красного
цвета является неотъемлемой частью костюма несовершеннолетней девушки.
Наличием свежей крови в теле "нечистых покойников" (упыря, колдуна)
объясняется красный цвет их лиц.
Значение красного цвета как неординарного, исключительного обусловлено
оценочной семантикой красный "красивый, ценный, парадный". По народным
поверьям у главной змеи гребень красного цвета (Рус. Север) [54 ].
Продуцирующая семантика красного реализуется в свадебном обряде, в
календарно-хозяйственной обрядности, где символизирует изобилие,
плодородие: так, последний сноп подвязывают красной пряжей, ниткой или
платком. При первом выгоне скотине подвешивали колокольчик на шнурке
красного цвета. В родинных обрядах красный цвет выступает как символ
жизни, здоровья; пуповину перевязывали красной нитью, считали, что красный
цвет кожи новорожденного свидетельствовал о его долголетии. В погребальной
обрядности выражена символика красного цвета как принадлежащего "тому
свету" и одновременно защищающего от опасного контакта с потусторонним
миром. Покойнику могли связывать руки и ноги красной нитью, белорусы клали
поперек тела покойника красную нить, часто и головной убор для покойного
делался из материи красного цвета. Гроб несколько раз из конца в конец
обматывали красной шерстяной нитью, беременная завязывала нить красного
цвета на пальце, когда шла прощаться с покойным. Иногда в поминальные дни
из дома выносили все красное. На Русальной неделе перед Троицей поминали
утопленников, разбивая на их могилах красные яйца. Красный цвет (платок,
лента) присутствует в восточнославянских обрядах "крещения" и похорон
кукушки.
Красный цвет выступает как оберег, его семантика соотносится с
апотропейной семантикой окрашенного предмета (наиболее значимыми
оказываются нить и шерсть) или растения. Красной краской чертили
магический круг, на Пасху умывались водой, в которую были положены красное
яйцо или растение [55 ]. В качестве апотропея и лечебного средства широко
использовалась красная нить, ее привязывали на руку или ногу, оставляли
висеть на кустах растений. От боли в суставах обвязывали руки красной
шерстью, нитками, полосами ткани, считалось, что это защитит и от
лихорадки, испуга. Красный цвет способен защитить от змеи, мышей, волка;
отогнать злых духов и непогоду.
Красным цветом отмечены многие мифологические персонажи: так, дворовой
может выглядеть как толстая змея красного цвета. Красного цвета глаза у
ведьмы, русалок; кожа у чертей, мифических инородцев; волосы или шапка у
домового, русалки, лешего; платье лешачихи и рубаха домового, штаны лешего
и шарф черта. "Женщины в красном" - вестницы несчастья.
Красный в заговорах - постоянный эпитет мифических персонажей: красная
девица, красный конь. Повсеместно у славян используется в любовной магии
красная нить, красные семена растений. При пропаже скотины делают "относ"
русалкам: лапти, онучи, хлеб и соль перевязывают лентой красного цвета и
относят на перекресток в лес. В святочных гаданиях лента красного цвета
символизировала рождение ребенка. Преобладание красного цвета в радуге
обещает здоровье и хороший урожай, богатство. Красные дни в народном
календаре приходятся на Страстную, пасхальную, Фомину (Красная горка)
недели.
Комбинация красный-белый противостоит сочетанию желтый-черный в значении
жизнь/смерть, свет/тьма, здоровье/болезнь. Сочетание красный-белый,
поэтому характерно для амулетов. Красный может соседствовать и с синим
цветом в том же значении. Сочетание красный-черный характерно для
мифологических персонажей, преобладает в костюмах ряженых [56 ].
В рамках славянской традиции можно с уверенностью утверждать, что красный
цвет является доминантным в семантической структуре ритуала. Маркировка
красным цветом - наиболее архаичный и универсальный способ моделирования
ритуальных объектов. Это наглядно выражено в функциях красной нити,
красного пояса, маркировки ритуальных полотенец, в структуру которых
обязательно включена красная нить.
Семантика красного цвета реализуется в универсальной оппозиции белое/
черное, которая трансформируется в динамическую трехчастную структуру
белое/ красное/ черное. Эта триада составляет инвариант цветовой
классификации, на основании которой строится система отношений семантики
цвета в традиционной модели мира. Ритуальное значение красного цвета
обеспечивает его позиция, как среднего члена триады, маркирующая границы в
системе двоичных противопоставлений. Промежуточная позиция красного между
белым и черным идентична позиции тени в триаде свет/тень/мрак, где тень
противопоставлена свету, но в то же время не совпадает с мраком. Эта
своеобразная амбивалентность красного цвета и составляет основу его
характеристик в качестве ритуального символа. Во временном коде день/ утро
(вечер)/ ночь красному цвету соответствует утро (вечер), в календарном
цикле лето/весна (осень)/ зима соответственно весна (осень). В
пространственном коде красному цвету соответствуют маргинальные зоны:
порог дома, ворота, изгороди - суть границы внутреннего и внешнего, своего
и чужого пространства [57 ].
Таким образом, цвет является одним из признаков, определяющих естество
объекта. Цвет может определять смену смыслов вещи, зачастую он более
важен, чем наименование предмета, как, например, в случае с черной кошкой.
На примере влияния цвета можно видеть, как материальные качества объекта
"делают" знак, управляя его содержанием.
© Н.С. Кошубарова, 2003 г.
§2. Семантика цвета
Цвет - один из признаков предмета. Для современного человека изменение
цвета не означает изменения сущности предмета в большинстве случаев,
однако существуют и исключения: черная траурная одежда, белое свадебное
платье, голубые вещи для мальчика и розовые для девочки и др. Все
приведенные примеры относятся к цветам одежды. Эти символические выражения
назначения тех или иных вещей появились в нашей культуре сравнительно
недавно, некоторые из них не имеют в ней корней и пришли извне, однако их
влияние является достаточно сильным, сильным настолько, что, сталкиваясь с
отклонением от правил, человек недоумевает. Справедливо предположить, что
если для нас сегодня значим цвет нашей далеко не традиционной одежды, а
может быть, и каких-либо еще вещей, то символика цвета в народной культуре
достаточно важна. Таким образом, цвет - признак, получающий в народной
культуре символическую трактовку.
Русские применяли ткани самых разных цветов, окрашивая их белыми, черными,
синими, красными, желтыми красителями [47 ]. Наиболее значимыми являются
противопоставления белого и черного (светлого и темного), соотносимого с
оппозициями жизнь/смерть, хороший/плохой и др., а также триада
белый-красный-черный. Символика каждого из этих цветов неоднозначна,
зачастую они имеют прямо противоположные толкования.
Белый цвет, белое - в народной культуре один из основных элементов
цветовой символики, противопоставленный, прежде всего черному и красному.
Белый и черный цвета находятся на полярных точках цветового спектра, а их
названия и символика антонимичны. Белый цвет представляет обобщенно ряд
цветов светлых тонов, а также большую цветовую интенсивность, в то время
как черный цвет обобщает темные цвета и с ним соотносится малая цветовая
интенсивность или ее отсутствие. Кроме того, белый цвет обозначает
отсутствие цвета, он нейтрален и может быть превращен в любой другой цвет
и получить любое толкование.
В символической сфере корреляция белый/черный (светлый/темный) может
входить в эквивалентный ряд с парами хороший/плохой, мужской/женский,
живой/мертвый, отчасти молодой/немолодой (старый) и т.д. Возможна
корреляция белый/небелый, и тогда белый цвет способен означать
сакральность, чистоту, плодородие, свет.
Ярче всего мифологическая семантика белого цвета проявляется в гаданиях,
предзнаменованиях, поверьях. Семантическая пара хороший/плохой выявляется
по отношению к признакам белый/черный в серии примет, связанных с бабочкой
или овцой, приносящих соответственно своему цвету счастье или несчастье.
Представление о "царстве тьмы" как о загробном мире, противопоставленном
"белому свету", характерно для всех славян. Вологодский крестьянин,
например, считал, что умершие некрещеные дети живут в "темном месте и
белого света не видят". Белый свет - наш, "этот" свет, и он
противопоставлен "тому", не белому свету, как день противопоставлен ночи.
Белый свет, как и белый день, мотивирован признаком "ясный, светлый,
чистый". Подобным образом разграничивается плохая и хорошая погода,
предсказываемая по цвету коровы, идущей впереди стада. Солнечный свет - и
само солнце - белое, поэтому в первый день жатвы работу нужно закончить до
захода солнца, чтобы хлеб нового урожая был белый.
Мифологическая связь отдельных предметов и явлений осуществляется по
принципу подобия. Так, иногда появление белых мотыльков или бабочек сулит
обилие молока. На основе подобия производятся и некоторые продуцирующие
действия: белорусы клали на грядку с капустой камень и накрывали его белым
платком, чтобы капуста была белой как платок, и большой и крепкой как
камень; крестьянин надевал белую рубаху (женщины - платок), отправляясь
сеять пшеницу, "чтобы она была чистой и белой, как рубаха", лен. Однако
славяне опасались белых вещей, способных вызвать град и изморозь: белое не
выносили на двор или в поле в некоторые праздники.
Многие индоевропейские народы знают белый траур. Русские же традиционно
извещали о смерти, вывешивая на избе белый "плат" или полотенце, которым
"приходящий покойник сорок дней утирал слезы". На русском Севере известна
белая погребальная одежда, обряжение девушек-покойниц в белое связано с
обрядом похорон-свадьбы. В образе женщины в белых одеждах представляли
смерть. Известен фразеологизм "белая смерть", в некоторых заговорах
больной называется белым, а здоровый красным. Рязанские крестьяне верили,
что собирать во сне белые цветы - к покойнику. Смерть предвещали во сне
белые гуси, кони, козы; болезнь - увиденная во сне девушка в белом.
Белые одежды характерны для духов, мифологических персонажей. Белуном
иногда называют домового, белой бабой - русалку, белым огромным существом
представляют упыря. Во все белое одевали женщин, исполняющих некоторые
обрядовые роли. Таким образом, почти вся нечистая сила одевается в белое,
в то время как черт носит черный костюм и сам черен. Белые животные и
птицы, особенно редкие или несуществующие, считаются особыми, колдовскими
или царями над своими сородичами. В белых животных превращаются лежащие в
земле клады. В то же время белый цвет может защищать от сглаза, порчи;
белыми считались некоторые (чистые) дни постов и праздников [48 ].
Наиболее конкретной и однозначной символикой обладает черный цвет, который
ассоциируется с мраком, землей, смертью, выступает как знак траура (в
семьях, где был траур, красили пасхальные яйца в черный или другие темные
цвета - зеленый, синий, фиолетовый). Черного цвета обычно демонологические
персонажи (появляются в виде черного животного или предмета): черт,
банник, овинник, полевой дух. Распространены мотивы черных животных: коня,
курицы, кошки и свиньи. Появление черного животного после смерти колдуна -
свидетельство того, что из него вышел черт.
В магической практике использовались предметы черного цвета и жертвенные
животные. Нож в черных ножнах защищает от испуга; черный терновый шип
забивали мертвецу под ногти, "чтобы не ходил"; черную курицу обносили
вокруг посевов от града и приносили в жертву чуме. Яйцо черной курицы
помогало от куриной слепоты, а молоком черной коровы тушили пожар,
зажженный молнией.
Желтый цвет, желтизна - признак, наделяемый в народной культуре
преимущественно негативной оценкой. Желтый цвет часто осмысляется как
символ смерти; в славянских поверьях появление желтого пятна на руке
предвещает смерть. В желтый цвет окрашивают яйца, предназначенные для
поминовения в пасхальных, семицких и троицких обрядах. На Пасху, поминая
умерших на кладбищах, носили с собой красные и желтые яйца; в Семик при
кумлении девушки, целуясь сквозь венок, дают друг другу желтое яйцо. В
обряде "крещения кукушки" участники ритуала кумовства на кладбище
обменивались желтыми яйцами, разбивали их и оставляли на могилах. В
субботу, накануне Троицына дня, когда поминали умерших "не своей" смертью
и некрещеных детей, красили яйца не в красный цвет, а в желтый, и
раздавали детям. Желтый - один из традиционных эпитетов в заговорах
восточных славян. Растения с желтыми цветами используются для лечения
"желтых" болезней (желтухи и др.)" свойством исцелять наделяются желтые
предметы (платки, кольца, посуда), куры с желтыми ногами, желтые бабочки.
Желтый в цветовой характеристике мифологических персонажей встречается
редко. Мифические существа, которые водят души на "тот свет", являются в
желтых тонах, у домового волосы желтого цвета, одна из лихорадок
называется желтой. Желтые круги появляются на траве, где старик
"поверстался в колдуны" или старшая в его семье женщина покумилась с
ведьмами; иногда места хороводов, трапез русалок отмечены пожелтевшей,
засохшей травой. Желтый цвет наряду с красным может выступать как
заместитель золота. В приметах желтый цвет означает несчастье, болезнь или
смерть; кто весной увидит желтую бабочку, будет в этом году несчастлив и
слаб здоровьем [49 ].
В русской традиции сложилось восприятие золотого как знака избранничества,
счастья и высшего суда, подобное представление сложилось еще в рамках
солнечного культа [50]. Золотая символика, дохристианская по существу,
функционировала в условиях постепенной христианизации культуры, сливалась
с религиозными понятиями воздаяния и возмездия, добра и зла. Золото, как
правило, связано с испытанием героя, его получают только избранные. Таким
образом, золотые предметы в фольклоре сакральны. Мифологема чистого,
сакрального, золота проявляется в заговорах, где заговаривающий ищет
небесного покровительства; так, в заговоре на добрый путь он представляет
себя одетым в золотые ризы, укрытым золотой пеленой [51 ].
Зеленый цвет, зеленое - в народной культуре соотносятся с растительностью,
изменчивостью, незрелостью, молодостью. Отмечено восприятие зеленого цвета
как блестящего, сияющего, сходного с золотым и желтым. Особенно характерны
такие представления для южных славян [52 ].
Продуцирующая символика зеленого цвета проявляется в весенней и свадебной
обрядности, например, Троица - зеленые святки, Троицкая неделя - зеленая
неделя. В свадебных песнях часто встречаются образы зеленого жита, бора,
луга. В погребально-поминальных обрядах зеленый выступает как цвет "того
света". Яйца зеленого цвета как поминальная трапеза известна у восточных
славян. На Пасху красили яйца в зеленый цвет, если в доме в течение года
был покойник, эта процедура призвана обновить жизнь обитателей дома,
очистить, освободить их от присутствия неживого. Зеленый цвет может быть
атрибутом "чужого" пространства, где обитает нечистая сила, куда
изгоняются духи: зеленая гора и т.п. Зеленый цвет присутствует в описаниях
хтонических существ [53 ].
Красный цвет, красное - в народной культуре один из основных элементов
цветовой символики, выступающей в оппозиции белое/красное, или в триаде
белое/красное/черное, где красное противопоставлено белому как не-белое,
"окрашенное", "темное". Символика красного цвета амбивалентна. Красный -
цвет жизни, солнца, плодородия, здоровья и цвет потустороннего мира,
хтонических и демонических персонажей. Красный цвет наделяется защитными
свойствами и используется как оберег. Особо значимы в народных
представлениях красная нить, красное полотно, красное яйцо.
Связь красного цвета с огнем отражается в языке (пустить красного петуха),
легендах, объясняющих наличие красного цвета в окраске животных; русских
поверьях: о красном летающем огненном змее (Русский Север Сибирь); о "бабе
в красном казане" (персонификация пожара; Рус. Север); об огненно-красном
полевике, который кажется людям россыпью искр (вологод.). Связь красного
цвета с кровью проявляется в свадебной символике, часто пояс красного
цвета является неотъемлемой частью костюма несовершеннолетней девушки.
Наличием свежей крови в теле "нечистых покойников" (упыря, колдуна)
объясняется красный цвет их лиц.
Значение красного цвета как неординарного, исключительного обусловлено
оценочной семантикой красный "красивый, ценный, парадный". По народным
поверьям у главной змеи гребень красного цвета (Рус. Север) [54 ].
Продуцирующая семантика красного реализуется в свадебном обряде, в
календарно-хозяйственной обрядности, где символизирует изобилие,
плодородие: так, последний сноп подвязывают красной пряжей, ниткой или
платком. При первом выгоне скотине подвешивали колокольчик на шнурке
красного цвета. В родинных обрядах красный цвет выступает как символ
жизни, здоровья; пуповину перевязывали красной нитью, считали, что красный
цвет кожи новорожденного свидетельствовал о его долголетии. В погребальной
обрядности выражена символика красного цвета как принадлежащего "тому
свету" и одновременно защищающего от опасного контакта с потусторонним
миром. Покойнику могли связывать руки и ноги красной нитью, белорусы клали
поперек тела покойника красную нить, часто и головной убор для покойного
делался из материи красного цвета. Гроб несколько раз из конца в конец
обматывали красной шерстяной нитью, беременная завязывала нить красного
цвета на пальце, когда шла прощаться с покойным. Иногда в поминальные дни
из дома выносили все красное. На Русальной неделе перед Троицей поминали
утопленников, разбивая на их могилах красные яйца. Красный цвет (платок,
лента) присутствует в восточнославянских обрядах "крещения" и похорон
кукушки.
Красный цвет выступает как оберег, его семантика соотносится с
апотропейной семантикой окрашенного предмета (наиболее значимыми
оказываются нить и шерсть) или растения. Красной краской чертили
магический круг, на Пасху умывались водой, в которую были положены красное
яйцо или растение [55 ]. В качестве апотропея и лечебного средства широко
использовалась красная нить, ее привязывали на руку или ногу, оставляли
висеть на кустах растений. От боли в суставах обвязывали руки красной
шерстью, нитками, полосами ткани, считалось, что это защитит и от
лихорадки, испуга. Красный цвет способен защитить от змеи, мышей, волка;
отогнать злых духов и непогоду.
Красным цветом отмечены многие мифологические персонажи: так, дворовой
может выглядеть как толстая змея красного цвета. Красного цвета глаза у
ведьмы, русалок; кожа у чертей, мифических инородцев; волосы или шапка у
домового, русалки, лешего; платье лешачихи и рубаха домового, штаны лешего
и шарф черта. "Женщины в красном" - вестницы несчастья.
Красный в заговорах - постоянный эпитет мифических персонажей: красная
девица, красный конь. Повсеместно у славян используется в любовной магии
красная нить, красные семена растений. При пропаже скотины делают "относ"
русалкам: лапти, онучи, хлеб и соль перевязывают лентой красного цвета и
относят на перекресток в лес. В святочных гаданиях лента красного цвета
символизировала рождение ребенка. Преобладание красного цвета в радуге
обещает здоровье и хороший урожай, богатство. Красные дни в народном
календаре приходятся на Страстную, пасхальную, Фомину (Красная горка)
недели.
Комбинация красный-белый противостоит сочетанию желтый-черный в значении
жизнь/смерть, свет/тьма, здоровье/болезнь. Сочетание красный-белый,
поэтому характерно для амулетов. Красный может соседствовать и с синим
цветом в том же значении. Сочетание красный-черный характерно для
мифологических персонажей, преобладает в костюмах ряженых [56 ].
В рамках славянской традиции можно с уверенностью утверждать, что красный
цвет является доминантным в семантической структуре ритуала. Маркировка
красным цветом - наиболее архаичный и универсальный способ моделирования
ритуальных объектов. Это наглядно выражено в функциях красной нити,
красного пояса, маркировки ритуальных полотенец, в структуру которых
обязательно включена красная нить.
Семантика красного цвета реализуется в универсальной оппозиции белое/
черное, которая трансформируется в динамическую трехчастную структуру
белое/ красное/ черное. Эта триада составляет инвариант цветовой
классификации, на основании которой строится система отношений семантики
цвета в традиционной модели мира. Ритуальное значение красного цвета
обеспечивает его позиция, как среднего члена триады, маркирующая границы в
системе двоичных противопоставлений. Промежуточная позиция красного между
белым и черным идентична позиции тени в триаде свет/тень/мрак, где тень
противопоставлена свету, но в то же время не совпадает с мраком. Эта
своеобразная амбивалентность красного цвета и составляет основу его
характеристик в качестве ритуального символа. Во временном коде день/ утро
(вечер)/ ночь красному цвету соответствует утро (вечер), в календарном
цикле лето/весна (осень)/ зима соответственно весна (осень). В
пространственном коде красному цвету соответствуют маргинальные зоны:
порог дома, ворота, изгороди - суть границы внутреннего и внешнего, своего
и чужого пространства [57 ].
Таким образом, цвет является одним из признаков, определяющих естество
объекта. Цвет может определять смену смыслов вещи, зачастую он более
важен, чем наименование предмета, как, например, в случае с черной кошкой.
На примере влияния цвета можно видеть, как материальные качества объекта
"делают" знак, управляя его содержанием.
© Н.С. Кошубарова, 2003 г.
|
прядение |
ПРЯХА (ПРЯЛЬЯ). Лицо женского пола, владеющее умением прясть.
Статус П. определялся ответственностью самого прядения — главного
женского занятия, которым мужчины никогда не занимались. По народным
представлениям, прикосновение мужчины к веретену лишало его силы и
ловкости, а неправильное обращение П. с куделью могло сделать
женщину мужеподобной: у нее начинала расти борода.
Жизнь крестьянки с ранних лет была связана с прядением и с его
атрибутами. Девочке, чтобы она легко приобщалась к прядению,
перерезали пуповину на прялке или веретене, а также прикладывали эти
предметы к новорожденной. Старались отрезать пуповину так, чтобы она
упала на женскую работу, в частности, пряжу. Кроме того, помещали в
ее колыбель детскую прялку. Пожелания стать хорошей П. произносились
на родинах: «Чтобы тонко пряла, часто ткала, рукодельничала» (9, с.
33). Во время крестин, возвращаясь из церкви, крестная брала кудель
и садилась прясть, чтобы девочка успешно овладела этими операциями;
с той же целью ребенка передавали крестной через прялку. С 5—6 лет
девочку начинали учить прясть и ей впервые разрешали спрясть нитку
из грубой шерсти или очесов. Пряжу затем сжигали, а золу девочка
должна была съесть, запив и закусив кусочком хлеба, под приговор:
«Ета зъяси — будщи хорошая пряха» (5, с. 58). В некоторых местах она
глотала дымок от зажженной пряжи, чтобы работа в ее руках горела.
Прядением, как правило, занимались девушки. К моменту достижения
совершеннолетия они полностью осваивали это мастерство и становились
искусными П., что, по народным представлениям, предсказывало
счастливую любовь и замужество.
Связь прядения и удачного замужества прослеживается во многих
магических действиях добрачной, свадебной и семейной обрядности.
Так, девушки пряли «благовещенскую» или «четверговую» нить с
приговором о суженом, гадали о браке на «новине» (спряденных и
сотканных холстах), во время ее расстилания, молились о даровании
умения «прясть, ткать и узоры брать» (12, с. 162), то есть
приготовить себе приданое. Хлестали сватов мотком ниток для удачного
сватовства. Известны свадебные приговоры, в которых выступает
символика «недремавшей» невесты: «Наша молода не спала, не дремала,
тонко пряла, звонко ткала, бело белила и нас подарила» (8, с. 133).
Кроме того, на второй день свадьбы свекровь во время утренних
хозяйственных заданий поручала молодице спрясть нитку, а в течение
специальной «прядильной недели» Великого поста молодицу приучали к
новой жизни в кругу женской родни мужа.
Тема прядения и девушка-П. широко представлены в песенно-игровом
фольклоре молодежи. Так, весной девушки исполняли веснянки, призывая
птиц, которых просили принести весну и атрибуты рукоделия:
Жаворонки... принесите весну...
С пряльцем, с донцем,
С кривым веретёнцем!
В таких играх, как «просо» и «мак», которые сопровождались игровыми
песнями — «А мы просо сеяли», «На горе мак», «Посею я маку»,
одновременно разворачивался «растительный» сюжет, символизирующий
половое созревание девушки, и раскрывался мотив обучения ее
рукоделию, в частности прядению. Так, в хороводной игре «просо»
новую девушку обучали ремеслу П.-ткахи:
Не пряха была,
Не ткаха была...
«Не тужи, мати, не печалься!
Уж мы станем учить —
Переучивать.
У нас будет ткаха,
У нас будет пряха»...
Вообще, мотив П. и прядения присутствует в хороводных игровых
песнях. Существовал набор хороводных песен, под которые «собирался
хоровод», при этом движения хоровода изображали процесс прядения и
снования. Во время исполнения песни «По улице шла, клубок ниток
нашла» присоединение к хороводу новой девушки происходило под слова:
«Клубок катится — нитка тянется», что воспроизводило прядение нити.
В игре «дрема», особенно в ее варианте «дрема с куделью», происходит
символическое посвящение девушки в П. — мастерицу и невесту. Девушка
становилась в центре хоровода и изображала П., дремлющую во время
работы. Остальные участники, исполняя песню изображали указанные в
ней действия: пробуждали Дрему и на ее место ставили другую девушку
из круга. Согласно интерпретации этой игры Т. А. Бернштам, дремлющая
молодица Дрема-непряха противопоставляется недремлющей девушке — П.
Мотив прядения в подобных играх тесно связан с любовными отношениями
молодежи и молодоженов. Молодица, которая была непряхой, то есть
ленивой в девушках, становилась Дремой и выходила замуж за «старого»
— «холостого полюбить — самопряхой надо быть» (11, № 599), либо
превращалась из П. в непряху: «веретёнушко не вьется, куделенко не
прядется» (1, с. 24); молодица, ставшая Дремой-непряхой, теряла
женскую привлекательность.
Девушки, проходя через игровой «переходный» обряд «дремоты»,
олицетворяющий сон и смерть (с последней в мифопоэтической традиции
связана женская покровительница прядения), и преодолев образ
Дремы-непряхи, получали возможность участвовать в ритуальных
молодежных играх и символически обучались мастерству прядения, что,
в свою очередь, соответствовало половой зрелости и брачным
перспективам.
По умению девушки прясть судили о ее земной и загробной судьбе. Так,
по народным представлениям, плохую П. на земле ждут одиночество и
греховная жизнь, а после смерти она встанет «со столбом» или будет
«пасти козлов» (символ похоти). Интересен культ поморской
девушки-П., утонувшей во время шторма вблизи беломорского островка
Полта(м)-Корга (между р. Кемью и Сорокой) и совершавшей после смерти
чудеса исцеления. В легенде девушка либо плывет с прялкой по ягоды,
либо является людям после смерти с просьбой о. захоронении, либо ее
находят мертвой и сидящей на прялке. С прялкой девушку и хоронят,
построив «на косточках» часовню, где и происходят «чудотворения».
Прялка предстает символом умершей девушки, которая достигла
совершеннолетия («полной девкой заводилась»), была непорочной («ни
одного мужика не знала») и стремилась к святости.
Образы П. и непряхи раскрываются в сказках. Одним из ярких сказочных
персонажей была невеста Финиста Ясна Сокола. Она находила своего
жениха с помощью нити, прядущейся из «серебряного донца — золотого
веретенца», или вышивания по «серебряному пяличку золотой
иголочкой». В фольклорных сюжетах прядение прививало навыки, которые
выражали «зрелость» невесты: по изготовленной чистой и тонкой пряже,
по умению определить количество вещей, что из этой пряжи можно
сделать. Например, в заонежской сказке «Про Ивана-царевича» две
сестры хвастаются тем, сколько вещей они могут изготовить из своей
пряжи, если к ним посватается царевич: старшая — полотенце и
простыню, средняя — полотенце, порты и настилальник (простыню).
Но не все девушки становились хорошими П. Так, в шуточном игровом
фольклоре рисуется образ непряхи:
Жила-была Дуня,
Дуня-тонкопряха.
Вали-вали, Дуня,
Дуня-тонкопряха!
Пряла наша Дуня
Ни толсто, ни тонко,
Ни толсто, ни тонко,
Потолще каната,
Потолще каната,
Потоньше оглобли.
Ей противопоставлялась невеста Марья, привораживающая жениха своей
тончайшей пряжей.
Показать свое мастерство П. девушка могла на посиделках (попрядухах,
попрядках, супрядках), куда приходили и парни. Работали девушки в
осенне-зимнее время: в период осеннего поста
(Филипповского-Рождественского): отдельные работы продолжались до
Масленицы. На посиделках важная роль отводилась прялке, которая
определяла индивидуальное девичье место (у П., занявшей чужое место,
прялку выкидывали на дорогу). В северно-русских и западно-русских
областях парни должны были просить разрешения войти на посиделку под
окном или в дверях избы, что называлось «проситься за прялку»,
«сесть под прялку». Чтобы получить «прялочное место», парень выкупал
прялку или ее захватывал, если девушка выходила из избы, при этом он
имел право сесть только на колени к девушке. Пересесть на скамью
разрешалось в процессе игры: «в местечки», «в соседи», которые
сопровождались «выкупом» прялки, веретена, кудели, пряжи. Если
девушка отказывала в выкупе (поцелуе), то парень мог ее опозорить —
из мести или хулиганства он поджигал, путал пряжу или кудель,
обвивал себя ею, ломал веретено или прялочный гребень, прятал
предметы для прядения.
В Новгородской губ. местные парни, приходя на посиделку, зажигали
свечи у прялок девушек, которым они отдавали предпочтение, при этом
у некоторых горело не по одной свече, а «чужаки» обходили всех
девушек, поджигая у каждой кудель. В Вологодской губ. поджигание
посредине избы общей кудели, надерганной с каждой прялки, говорило о
начале игры «женитьба». Девушки и парни гадали по кудели о своей
судьбе, что называлось «на городок»: парень клал на стол или лавку
скрученный вокруг пальца клочок кудели и поджигал, затем смотрел,
«куда ворота откроются» — туда жениться идти. Если поведение девушки
не соответствовало принятым нормам, то ее могли наказать: за измену
выкашивали посеянный ею лен; за неучастие в молодежных собраниях и
разглашение групповой тайны ломали гребень или лопасть прялки,
путали кудель, рвали пряжу.
Последний день супрядок сопровождался различными обрядами. Так, в
Смоленской губ. девушки пели:
Девушки — свет,
Голубушки — свет,
Початычка нет!
Бярите гребенки,
Чашите галовки:
Пара да двара (расходиться).
В обычной жизни после выхода замуж женщина не расставалась с прялкой
и не переставала прясть, хотя по статусу молодицы как бы теряла свое
значение П. В традиционных представлениях девушка — П., а молодица —
непряха. Для женщины главным становилось ткачество.
Значение прядения было так велико, что оно с древности, так же как и
ткачество, являлось символом женского труда, а П. имели своих святых
покровителей. Так, уже на византийских мозаиках и миниатюрах IX в.
Богородица изображалась с веретеном и пряжей; из Византии это
изображение пришло на Русь. А прядение, наряду с колодцем и
Священным Писанием, стало одним из трех легендарно-иконографических
символов Благовещения.
Непосредственной покровительницей женской зимней работы, в первую
очередь прядения, а также самих П. была св. Параскева Пятница, образ
которой зачастую сливался с Богородицей. Обе они представлялись
защитницами женщин, распорядительницами браков, покровительницами
дома и женских занятий. В древности существовала языческая богиня-П.
Мокошь — женское божество древнерусского пантеона, которая, в
народных представлениях, была женщиной с большой головой и длинными
руками, прядущей в избе по ночам. По поверьям, П. не разрешалось
оставлять кудель открытой, а «то Мокша опрядет». Параскева Пятница
заимствовала занятие Мокоши, а затем и покровительство пряхам и
прядению, поэтому ее называли Льняницею: «На Парасковию-Льняницу
начинают мять и трепать лен». П. приносили св. Параскеве Пятнице
жертвы — бросали в колодец кудель. Назывался такой обряд «мокрида»,
что соотносилось с именем Мокоши и имело общий корень со словами
«мокрый», «мокнуть» или «mokus» — прядение. В качестве приношения
вычесанная льняная кудель или выпряденные нитки оставлялись П. у
святых источников, посвященных св. Параскеве, при этом говорилось:
«Угоднице на чуловки!»; «Матушке Пятнице на передничек!» (7, с.
194).
В канун дня Параскевы-Льняницы приготовляли первину льна,
посвященную этой святой, и приносили для освящения в церковь, а
затем прикрепляли к образу св. Параскевы. В этот день устраивались
«льняные смотрины» — женщины выносили вытрепанный ленпервак на
улицу, демонстрировали друг другу, хвалясь своей работой. Девушки
стремились показать свое «льняное искусство» парням и будущим
свекровям.
Чтобы покровительство св. Параскевы не покинуло П., надо было
соблюдать определенные правила и не нарушать запретов. Так, в день
памяти святой и во все пятницы не разрешалось прясть: «а то у
Параскевы Пятницы засорятся глаза»; «в пятницу не только нельзя
прясть, но даже иметь в доме конопель»; «кто прядет в пятницу, у
того на том свете слепы будут отец с матерью» («кострыкой глаза
запорашивает»); «не прясть в пяток, потому что в этот день Спаситель
претерпел оплевание, а на пряжу нельзя не плевать». В случае
несоблюдения запретов Параскева Пятница сурово карала — скручивала
П. пальцы на обеих руках и покры¬вала их заусеницами. По легенде
Ярославской губ., Пятница наказала П., которая работала в ее день.
Железной спицей, которой прикрепляют кудель льна к копылу, она
истыкала женщину до полусмерти. По другому поверью, Параскева
подбрасывает веретено в окно женщине, прядущей накануне пятницы, и
одобряет ее, когда та догадается выбросить веретено обратно в окно.
Прядение и ткачество нашли отражение в обрядах, которые раскрывают
мифологическое значение этих занятий как «творения мира». Сюда можно
отнести изготовление женщинами обыденной (т. е. сделанной за один
день) нити, пряжи или холста, а также изделий из него — пелены или
полотенца. Обыденная новина выполнялась для сохранения общественного
благополучия — для охраны домов и селений, скота от возможных
несчастий. Обряд изготовления новины за один день воссоздавал
архаические представления о женском творении мира.
Образ П. существует не только в человеческом обличье. Так, роль П. в
животном мире, по представлениям русского народа, воплощает
горностайка, персонаж сказов об ивановских ткачах Владимирской губ.
В них рассказывается о горностайке — «доброй рукодельнице: что
спрядет, что соткет — простым людям в прок идет». Она «лапками
стежку шьет — стежка серебром сияет», так как прядет не простую
пряжу, а снежную.
В среде низшей демонологии П. выступает кикимора. Она невидимо
прядет в избе ночью, часто только в Святки, в те двенадцать дней
января, которые определяют ход всего будущего года, предвещая этим
изменения в судьбах домочадцев. Если кикимора прядет на передней
лавке, то это к смерти кого-либо из обитателей дома. Прядет кикимора
не обычным способом: она подпрыгивает или сучит нитки «наоборот».
Такой способ прядения имеет особый, колдовской смысл. В частности,
невеста накануне свадьбы «от себя» прядет суровую нитку — оберег от
колдунов. «Оборотные» нитки, изготовленные в праздники, играли
важную роль в домашней жизни и обрядности. Так, в Великий четверг
женщины пряли нитки «наобоко" и в случае болезни перевязывали ими
руки и ноги. При опахивании села от эпидемий из этих нитей делали
вожжи. В этот же день пряли левой рукой на каждого члена семьи по
нити и привязывали их к березе: у кого нить пропадет — тот умрет.
Такая нить соответствует «нити судьбы» человека.
Прядение, особенно в большие годовые праздники, могло повлиять на
здоровье людей, животных, на благополучие дома. Так, прядение
заговоренной шерсти служило «для чарования скота и дома». Поэтому не
разрешалось прясть и ткать по большим праздникам, так как в
«поворотные», «переходные» моменты (Рождество, Святки) мир мог быть
как правильно, так и неправильно «свит, сплетен, сшит или спряден,
соткан» (6, с. 172).
Литература:
"Вологодчина: невостребованная древность" М.В. Суров., Вологда 2001
г.
ВОЛОГОДСКИЕ ПРЯЛКИ
Одним из интереснейших явлений в русском народном искусстве стали
деревянные ручные прялки — древнейшие приспособления для
изготовления пряжи. И хотя в процессе прядения основную роль всегда
играло веретено, именно прялке суждено было стать символом женского
рукоделия, а в обобщенном смысле — и символом женской доли.
В русской традиции пряхам покровительствовала богиня Макошь (Мокошь)
— единственное женское божество в составе киевского пантеона
Владимира. С принятием христианства функции Макоши перешли к св.
Параскеве Пятнице, однако образ ее в севернорусской вышивке
продолжал господствовать вплоть до начала XX века.
1. Вологодские прялки-копылы. Конец XIX в. Никольский район.
По повериям, Макошь наблюдала за прядущими женщинами и строго
наказывала тех из них, кто осмеливался прясть в посвященные ей
праздничные дни или выказывал нерадение. Если пряха дремала, а
веретено ее продолжало вертеться, считалось, что за нее прядет
Макошь. Отголосок почитания невидимой пряхи Макоши сохранился также
в обряде «мокрицы» — жертвоприношения св. Параскеве Пятнице, во
время которого женщины бросали в колодец кудель и пряжу.
Вся жизнь русской женщины была так или иначе связана с прялкой. Еше
в пятилетнем возрасте ее сажали за маленькую скромную детскую
прялочку, на которой она выпрядала свою первую нить. Впоследствии
эту нить нередко использовали в качестве оберега. Так, например,
перед свадьбой мать опоясывала ею свою дочь-невесту по голому телу,
чтобы уберечь ее от порчи и сглаза. За годы девичества она должна
была наткать и напрясть столько, чтобы хватило и на приданое, и на
красивый костюм, и на подарки родным. Самыми обидными прозвищами для
девочек-подростков были «непряха» и «неткаха». Для того, чтобы
«привязать» новорожденную девочку к рукоделию, пуповину ее обычно
перерезали на веретене (у мальчиков, соответственно, на стреле или
топорище).
Когда девушка становилась взрослой, для нее покупали новую нарядную
прялку или дарили ей старую, доставшуюся от бабушек и прабабушек.
Если отец девушки был мастеровым, он изготавливал ей прялку
собственноручно, вкладывая в нее всю свою душу. Довольно часто муж
дарил прялку любимой жене, но в очень редких случаях — парень
девушке. Подобные утверждения маститых искусствоведов не имеют под
собой никакой почвы: принос женихом прялки до сих пор не
зафиксирован ни в одной свадебной традиции.
Доминирующую роль играла прялка на знаменитых «посиделках» или
«супрядках», которые в Вологодском уезде начинались с «филлиповок»,
т. е. с 14 (27) ноября и продолжались до самой Масленицы. Церемонии
посиделок подробно описаны в этнографических материалах, из которых
видно, что к играм и танцам молодежь обычно приступала только после
того, как иссякали «уроки», т. е. принесенная из дому кудель для
пряжи. Причем в некоторых случаях девушки прибегали к хитрости:
«Некоторые славнухи... украдкой приносят с собой уже готовую пряжу,
так как заботливые матери каждый раз у возвратившейся с посиденки
дочери осматривают, много ли напряла за вечер, а в иной веселый
вечер, между тем, не удается и преслицыто в руки взять»1.
Прялка на посиделках выступала своего рода «визитной карточкой»
девушки, поэтому ее украшению придавалось особенное значение.
«Девичий быт всегда разукрашен и декоративен,— пишет В. С Воронов,—
прялка, стоящая рядом с пряхой, украшала ее наравне с одеждами,
бусами и лентами»2.
По своей конструкции русские деревянные ручные прялки делились на
корневые (копылы) и разъемные (составные). И те, и другие состояли
из двух главных частей — вертикальной лопасти, на которой
укреплялась кудель, и горизонтального донца, на котором сидела
пряха. Соблюдая некий фальшивый «кодекс приличия», ученые до сих пор
не решались назвать прялочное донце тем именем, которое в ходу у
подавляющего большинства жителей севернорусских деревень. Я же
считаю, что в этом случае ложная скромность только мешает делу и
искажает пресловутую «научную объективность», которой так кичатся
корифеи науки. Реальность же такова, что во всех деревнях
Вологодчины (да и не только) местные жители называют прялочное донце
«поджопницей», и ничего «неприличного» в этом слове я лично не
нахожу. Корневые прялки вырезались из целого куска дерева: донце— из
корня (копыла), лопасть — из «прямизны» (древесного
8. Прялки с вазонами. Начало XX в. Вытегорский район.
ствола). Почти все прялки, бытовавшие в Вологодской губернии,
относились к этому древнейшему типу.
Первоначальную классификацию русских прялок привел в своем
знаменитом альбоме А. А. Бобринский3. Он разделил их на восемь
типов: шесть — по географическим признакам и два — по технике
обработки. В. С. Воронов также принял за основу классификацию А. А.
Бобринского, но изменил некоторые названия и сократил количество
типов прялок до семи: ярославский, вологодский,
ярославско-костромской, архангельско-вологодский, поморский,
мезенский и тверской. Авторы каталога «Русские прялки» (Л., 1971)
предпочли более длинный список: городецкие, ярославские,
костромские, новгородско-петербургские, тверские, вологодские,
олонецкие, северодвинские, мезенские, поморские.
Ни одну из этих классификаций нельзя назвать достаточно полной и
объективной, поскольку точные границы бытования того или иного типа
прялок определить практически невозможно, а, стало быть, любые
наименования таких типов являются всего лишь условными. Нечто
подобное можно наблюдать и в археологии, где определенной группе
предметов непременно присваивается громкое наименование той или иной
«культуры», хотя наименование это, по сути, увязывается лишь с
местом первых находок: например, андроновская культура — с селом
Андроново, дьячковская — с селом Дьяково и т. д.
3 Бобринский А. А. Народные русские деревянные изделия. Вып. 1, М.,
1910, С. 10.
Настоящее исследование не ставит перед собой цели описать все
разновидности русских прялок и ограничивается теми их видами,
которые бытовали на территории бывшей Вологодской губернии.
Разумеется, ученые не преминули подвергнуть классификации и
вологодские прялки. Вот, например, к какому «сенсационному» выводу
пришла одна из исследовательниц, О. В. Круглова: «Теперь можно
утверждать, что вологодской прялки как единого типа не существует.
На территории Вологодской области бытует много разновидностей
прялок. Назовем их: это тарногские, кулойские, нюксенские,
Никольские, тотемские, прялки Печенги, Погорелова, Бирякова,
Чучкова, Толшмы, Совеги, прялки грязовецкие, с. Шексны и
новгородские»4.
Можно не сомневаться, что после очередной экспедиции
Государственного Русского Музея (ГРМ) на Вологодчину список этот
увеличится еще на несколько наименований, поскольку в каждом из
перечисленных выше районов наверняка найдутся две-три деревушки,
прялки которых хоть чем-то отличаются от соседских. Одним словом,
работы у ученых непочатый край, и одному богу известно, сколько еще
диссертаций на эту тему в ближайшие годы будет защищено...
4 Круглова О. В. Границы распространения прялок Русского Севера и
Поволжья // Сообщения ГРМ, В. XI, М., 1976. С. 56.
14. Северодвинские прялки. Конец XIX в. Великоустюгский район.
23—24. Прялки из Вытегорского района. Начало XX века.
После тщательного анализа я разделил вологодские прялки на три
основных вида: вологодские, грязовецкие и тотемские. Кроме того,
косвенное отношение к Вологодчине имеют прялки Мезени и Северной
Двины: оба эти района в свое время входили в состав Вологодчины, а
изделия мастеров Палашелья, Борка, Пермогорья и Ракулки широко
бытовали в пределах Вологодской губернии.
ГРЯЗОВЕЦКИЕ ПРЯЛКИ
Впервые грязовецкие прялки были воспроизведены в альбоме А. А.
Бобринского без указания их географической принадлежности. Сам автор
отнес их к шестому типу и назвал «прорезными». Более полувека прялки
эти оставались безымянными, пока,
25. Грязовеикие прялки с «лунницами». Конец XIX века. Грязовецкий
район.
наконец, экспедициями Загорского музея 1968—1969 годов не был
обнаружен район их бытования. Первый же их адрес был получен еще
летом 1966 года: деревня Обериха Грязовецкого района Вологодской
области.
Как и все вологодские прялки, грязовецкие были корневыми, т. е.
вырезанными из целого куска дерева (донце — из корня, лопасть — из
ствола). Район их бытования довольно обширен — от Вологды до границы
с Ярославской и Костромской областями. Широкая и массивная лопасть
грязовецкой прялки, идущая от донца под прямым углом, округло
сужается в верхней части и венчается небольшим гребнем, нижняя часть
которого почти в точности повторяет верхнюю округлость лопасти. Сам
гребень имеет характерный горизонтальный срез с городками.
О. В. Круглова выделила три разновидности грязовецких прялок:
западной, восточной и центральной частей района. Различаются они
между собой как по характеру резного орнамента, так и по некоторым
особенностям формы. Лопасть прялки центральной части района украшена
мелкой сквозной резьбой в форме ромбов, квадратов, лунниц, подковок
и «слезок». Прялки западной части отличаюся более вычурной формой
ножки, в центре композиции которой помещен двуглавый орел (в более
26. Грязовецкие прялки. Начало XX века.
ранних — розетка), поддерживаемый стилизованными конскими головами.
Основание лопасти украшено прорезными столбиками-колонками с
развернутой над ними полурозеткой. В более ранних западных прялках
доминировала трехгранно-выемчатая резьба, в поздних — пропильная
техника, совмещенная с очень яркой раскраской и кистевой росписью.
Еше одной отличительной особенностью западной прялки являются
узорные боковые срезы ее лопасти (у «центральных» и «восточных» они
ровные).
Прялки восточной части Грязовецкого района выделяются иным
завершением гребня: верхний срез его украшен двумя узкими сквозными
прорезами, напоминающими глаза кошки или разрез глаз восточного
человека. По выражению О. В. Кругловой, «на верху лопасти... словно
завязан бантик с двумя симметричными сквозными петлями». В более
ранних восточных прялках в центре лопасти вырезалась солнечная
розетка (солярный знак), в более поздних изображался рельефный
двуглавый орел. Еще одной особенностью восточной прялки являлся
прорезной декоративный узор в центре ножки, по силуэту напоминающий
самовар. И в этом случае прорезная техника соседствовала с цветочной
росписью и яркой раскраской.
По своей форме грязовецкие прялки очень близки к буйским и
ярославским теремковым. Главное отличие между ними — за-
27. Грязовеикие прялки. Конец XIX века.
вершение гребня: у грязовецких он имел горизонтальный срез с
городками, у буйских — три характерных «рога», у ярославских —
высокий остроконечный «кокошник».
О. В. Круглова высказывает предположение, что именно форма
грязовецкого «копыла» явилась исходной для вологодского типа прялок
вообще, но версия эта представляется мне весьма и весьма спорной (о
чем мы поговорим ниже).
Роспись на грязовецких прялках имеет более позднее происхождение:
самая ранняя из таких прялок датируется 1856 годом. Однако
художественные традиции грязовецких росписей могут быть отнесены к
XVII веку, в чем убеждают два расписных тябла из бывшего
Павло-Обнорского монастыря, ныне находящиеся в московском музее
«Коломенское», колористическая гамма и стилистические особенности
которых очень близки росписям грязовецких прялок.
Чаще всего грязовецкие прялки окрашивались в зеленый или
голубовато-зеленый цвет, на котором помещались цветочные росписи с
преобладанием желтого, красного и синего цветов различных оттенков.
В отдельных случаях использовалась золотая краска, которая придавала
прялкам особую колоритность. «Образ цветущего, позлащенного солнцем
луга с его многотравьем, столь характерным для природы вологодской
земли,— пишет Т. М. Олей-
28. Грязовеикие прялки. Конец XIX века.
ник,— явно вдохновлял мастера, двигал его рукой, слагавшей как бы
случайно брошенные мотивы в общую ритмически организованную, но в
целом свободную композицию»5.
В глубокой архаичности грязовецких корневых прялок не приходится
сомневаться, хотя прорезные узоры и росписи на них появились
значительно позже. Наиболее ранние прялки были покрыты
трехгранновыемчатой резьбой — одним из самых древних видов резьбы по
дереву, мотивы которой уходят в глубокие языческие времена.
Описывая декоративные узоры грязовецких прялок, многие исследователи
делали туманные предположения относительно их языческого содержания,
однако сопоставить их напрямую с русской мифологией и попытаться
расшифровать древнейшую символику этих узоров отважился только В. М.
Василенко. Именно он впервые сравнил форму грязовецкой прялки с
таинственным образом богини Макоши: «Эти прялки поразительно похожи
на схематизированную женскую фигуру и вызывают в памяти фигуры
богинь на северных полотенцах I половины XIX века.
5 Олейник Т. М. Народные росписи по дереву Верховажского и
Грязовецкого районов Вологодской области // Искусство современной
росписи по дереву и бересте Севера, Урала и Сибири. М., 1985. С. 65.
29. Грязовеикие прялки. Начало XX века.
...Можно предположить, что перед нами образ (правда, уже достаточно
зашифрованный) загадочной славянской богини Мокоши, богини,
охранявшей женский труд, а после принятия христианства
передоверившей свои права и обязанности Параскеве Пятнице»6.
Ученый обращает внимание и на традиционный узор грязовецких прялок в
виде полумесяца (лунницы), но, к сожалению, не может подвергнуть его
правильной дешифровке: «в мелких рисунках лунниц и в их играющем
узоре слышатся отзвуки узорочья XVII века... Кажется, что лунницы
сверкают, как бесчисленные лики луны — на просвет зрелище получается
очень впечатляющее»7.
Исследователь был в двух шагах от разгадки, но сопоставить
мифологические сюжеты с данными археологии ему, вероятно, просто не
пришло в голову. Изображения лунниц на грязовецких прялках в
точности повторяют форму древнерусских амулетов-лунниц XI—XII веков,
во множестве встречающихся в слоях этого периода. Академик Б. А.
Рыбаков полагает, что они были «под-
6 Василенко В. М. Народное искусство. М., 1974. С. 80.
7 Там же.
ражанием привозным восточным образцам IX—X вв., украшенным тончайшей
зернью» и «изображали... небосвод с его двумя небесами, нависающий
над землей», но совершенно исключить лунарную символику все-таки не
решается.
Между тем следы лунного культа обнаруживаются не только в
древнерусских браслетах и подвесках-амулетах, но и в русской
традиционной одежде, в частности, в знаменитом кокошнике —
праздничном головном уборе замужних женщин. И хотя в народных
представлениях луна и месяц обычно ассоциировались с загробным
миром, во многих фольклорных текстах солнце и луна нередко
связываются родственными узлами (брат и сестра, муж и жена), причем
в женской ипостаси тут, как правило, выступает солнце, а в мужской —
луна (месяц). Учитывая этот фактор, В. П. Даркевич допускает, что
древнерусские подвески-лунницы вполне могли быть «символом
супружества».8
По народному поверью, в день Ивана Купалы (24 июня) Солнце «выезжает
из своего чертога на встречу к супругу Месяцу», а сам этот день
считался днем брачного союза между двумя божественными светилами.
Согласно многим славянским преданиям, от этого брака родились
звезды.
Многие древнерусские ритуалы и земледельческие обряды напрямую
связывались с фазами луны: «молодой» месяц благоприятствовал началу
посева плодов, растущих над землей, а «старый» — тех, что растут под
землею, полнолуние способствовало земле-
8 Даркевич В. П. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси //
СА, 1960 № 4. С. 57, 62.
32. Грязовецкая прялка (в центре) в окружении буйских «сестер».
Конец XIX века.
дельческим работам, на старый месяц заготавливали зерно и мясо на
зиму, рубили лес и косили траву, лекарственные травы старались
собирать в первой половине месяца, тогда как заниматься лечебной
магией предпочитали во второй, веря, что убывание месяца повлечет за
собой и убывание болезни.
По фазам луны было гораздо удобнее считать время, нежели по солнцу:
само слово «месяц» в его нынешнем «календарном» значении
красноречиво говорит о том, что луна в свое время была в почете и
являлась «золотой стрелкою на темном циферблате неба»9.
Лунная символика связывалась с культом Космической Коровы (Быка),
восходящим в глубочайшую древность. «Рога месяца уже влекли за собою
мысль о рогатом животном,— пишет А. Н. Афанасьев,— и русские
народные загадки [...] изображают его то быком, то коровою»10. Очень
часто упоминается месяц и в русских заговорах: «месяц ты красный!
звезды вы ясные! солнышко ты привольное, сойдите и уймите раба
Божьего (от запоя)», «Месяц, ты Месяц, серебряные рожки, златые твои
ножки! сойди ты, Месяц, сними мою зубную скорбь, унеси боль под
облака», «батюшка светел месяц, золоты рога тебе на стоянье, а мне
на здоровье», «месяц ты красный, сойди в мою клеть» и т. д.
Едва ли древнерусские амулеты-лунницы являлись простым «подражанием
привозным восточным образцам IX—X вв.», как это
9 Афанасьев А. Н. Поэтическое воззрение славян на природу. Т. 1. М.,
1995. С. 38 (выражение А. Мюллера).
10 Там же. С. 338.
35. Грязовецкие прялки. Конец XIX века.
утверждает Б. А. Рыбаков. Культ небесных светил является самым
древним культом в истории человечества, и полагать, что на русской
земле он не получил большого распространения, по меньшей мере,
наивно.
Следует заметить, что лунницы на грязовецких прялках всегда
располагались на стояке (лопасти) и никогда — на гребне, в центре
композиции которого обычно помешался солярный знак, а в позднейших
прялках — двуглавый орел. Солнечная символика, как видим,
доминировала и здесь, лунницы же выполняли вторичную роль. Беру на
себя смелость предположить, что в изначальном декоре грязовецких
прялок был запечатлен лунный цикл, состоявший из 13 месяцев и, стало
быть, в наиболее ранних экземплярах этих прялок количество
изображенных месяцев-лунниц также равнялось тринадцати (или, в
современном трансформированном виде, двенадцати). С течением же
времени первоначальное значение этой символики забылось, и
традиционные лунницы-месяцы превратились в простой декоративный
элемент, как это часто случается со многими древними символами.
Фрагмент тотемской прялки
ТОТЕМСКИЕ ПРЯЛКИ
Отличительной особенностью тотемских корневых прялок является
укороченная квадратная лопасть, венчающая тонкую резную ножку.
Фасадная сторона этих прялок украшена трехгранно-выемчатой резьбой.
В центре композиции — солнечная розетка, обрамленная плотным
геометрическим узором из треугольников и квадратов. Под городками
обычно располагается решетка либо круглые сквозные отверстия в
несколько рядов. Нижняя часть лопасти украшена двумя крупными
сережками, обращенными к стояку.
Прялки этого типа бытовали в районе Тотьмы, в Междуречье, на
территории Биряковского и Чучковского сельсоветов Сокольского
района, а также Погореловского, Великодворского и
Верхне-Толшменского сельсоветов Тотемского района.
ПОГОРЕЛОВСКИЕ прялки миниатюрнее тотемских, сережки на нижней части
их лопасти, как правило, не имеют круглого окончания, под городками
нет прорезной решетки, но в целом они повторяют форму тотемских
прялок.
Прялка с зеркальными вставками. Конец XIX в. Сокольский район.
БИРЯКОВСКИЕ прялки выделяются разреженностью геометрического узора.
Их, как правило, не расписывали, а в более поздних вариантах красили
под красное дерево, украшали накладными медными пластинками и
инкрустировали кусочками зеркального стекла. Небольшие медные бляшки
крепились на петельку и при каждом движении прялки издавали звон.
Объяснялось это тем, что украшением местных прялок занималась семья
мастеров-гармонщиков.
МЕЖЛУРЕЧЕНСКИЕ прялки отличаются слегка суженой книзу формой
лопасти, крупными округлыми городками, отсутствием сережек, а также
изящной ножкой с фигурными краями. Трехгранно-выемчатая резьба на
этих прялках дополнялась кистевой росписью, цветочные узоры которой
напоминали ситец.
На территории ВЕЛИКОДВОРСКОГО сельсовета бытовали две разновидности
прялок — с квадратной и вытянутой лопастью.
К тотемскому типу следует отнести первую. Лопасть ее венчают 4—5
крупных ромбических городков, отделенных друг от друга глубокими
круглыми вырезами. Две сережки на нижней части лопасти в точности
повторяют форму городков. Ножка прялки слегка сужена кверху.
Прялки ВЕРХНЕ-ТОЛШМЕНСКОГО сельсовета имеют оригинальное завершение
лопасти тремя крупными городками в форме трилистника или круга.
Большие сережки обычно повторяют форму городков. Ножка и лопасть
прялки покрыты мелкой трехгранно-выемчатой резьбой. В центре
композиции — солнечная розетка.
Неподалеку от Толшмы на территории Совеги, ныне входящей в состав
Солигаличского района Костромской области, бытовала еще одна
оригинальная разновидность тотемской прялки с фи-
37. Тотемская прялка с крестами. Конец XIX в.
гурной лопастью, городки и сережки которой выполнялись в форме
крупных причудливых завитков, напоминающих стилизованные головки
коней. Между городками возвышался пятилепестковый цветок. В центре
композиции лопасти, украшенной трехгранно-выемчатой резьбой, обычно
вырезалась розетка в квадрате.
И, наконец, одной из позднейших разновидностей тотемской прялки
являлась так называемая «СОЛОМЕНКА», ареал бытования которой был
довольно обширен и охватывал территорию Верхне-Толшменского,
Маныловского, Никольского и Великодворского сельсоветов. Основной
отличительной особенностью этой разновидности прялок являлись
зигзагообразные узоры, выложенные разноцветной соломкой. В центре
лопасти — солнечная розетка, наверху ее — четыре городка в виде
обращенных друг к
38. Детская прялка-копыл. Середина XIX в. Тотемский район.
другу рожек, внизу — прямо свисающие круглые сережки. Широкое
распространение этих прялок обусловливалось тем, что их
изготавливали на продажу кустарным способом.
ВОЛОГОДСКИЕ ПРЯЛКИ
Вологодские прялки-копылы легко выделяются среди прочих своими
внушительными размерами: они не только выше всех остальных типов
русских прялок, но и имеют значительно более крупную, массивную,
слегка расширенную книзу лопасть. В альбоме А. А. Бобринского
вологодские прялки отнесены ко второму типу. Вырезались они всегда
из монолитного куска дерева, чаше всего из ели или сосны.
39. Тотемская прялка с «переплетами». Начало XX в.
Верхняя часть лопасти вологодской прялки обычно украшена рядом
городков круглой, ромбической или стреловидной формы, хотя иногда
городки заменяются растительными мотивами или тремя пологими
выступами.
Наиболее широко вологодские «лопатообразные» прялки бытовали в
Верховажском, Тарногском, Нюксенском и — частично — Тотемском
районах области. Отличительной особенностью НЮКСЕНСКИХ «копыл»
являлись звенящие «ожерелья» — ряды круглых сквозных отверстий, в
которые вставлялись стеклянные или деревянные бусинки или цветные
камешки, издававшие при каждом движении прялки характерный звук.
Чаще всего трехгранно-выемчатая резьба на нюксенских прялках
сочеталась с яркой раскраской масляными красками.
40. Типичные вологодские прялки-»лопаты». Конец XIX в. Тотемский
район.
Массивные ТАРНОГСКИЕ прялки с маленькой фигурной ножкой обычно
украшались двумя круглыми серьгами или полукруглыми срезами.
Украшенную трехгранновыемчатои резьбой огромную лопасть венчали
городки ромбовидной формы или три пологих выступа. ВЕРХОВАЖСКИЕ
прялки отличались двойным полуовальным завершением лопасти и тремя
обрамляющими его круглыми городками. Нижняя часть лопасти украшалась
двумя полукруглыми срезами. Многие верховажские прялки покрывались
оригинальной цветочной росписью.
На территории Тотемского района бытовали также прялки вологодского
типа: к ним следует отнести упомянутые выше прялки Великодворья с
вытянутой лопастью, а также прялки Сондуги, Середского, Заозерья,
Нижней Печеньги, Медведевского и Матвеевского сельсоветов.
Характерной чертой прялок Великодворья с вытянутой лопастью являются
шесть сквозных отверстий с переплетами: три — в верхней части
лопасти под треугольными городками, и три — в нижней, над двумя
полукруглыми срезами. Местное название такой прялки — «о шести
окошечках».
Такие же прорезные окошечки с переплетами присутствуют и в декоре
прялок из Заозерья. Однако здесь их всего два и располагаются они
почти в центре лопасти, под сквозными арочками и ажурной прорезной
решеткой крестообразной формы. Нижняя часть лопасти украшена двумя
круглыми, обращенными к ножке сережками.
Прялки Середского по форме и декору близки к тарногским, но
отличаются от них меньшим размером лопасти. Сонлугские прялки
выделяются массивными закругленными сережками, напоминающими по
форме стилизованные головы коньков. Матвеевские прялки по форме
почти повторяли заозерские и середские, но значительно чаше
последних покрывались цветочной росписью,
Трехгранновыемчатая резьба на вологодских прялках. Конец XIX в.
И язычество и христианство в одном лице. Начало XIX в. Тарногский
район.
Нюксенская прялка с бусинами. Конец XIX в.
в мотивах и цветочной гамме которой угадывалось влияние молвитинских
мастеров Костромской губернии.
Прялки Нижней Печеный очень массивны. Огромная лопасть венчается
тремя (реже — четырьмя) круглыми городками, расположенными на
вершинах пологих выступов. Нижнюю часть лопасти украшают сережки
такой же формы.
СЕВЕРОДВИНСКИЕ ПРЯЛКИ
Северодвинская расписная прялка-копыл по своей конструкции очень
близка к вологодскому типу, хотя и несколько уступает ему в
размерах. Главной отличительной особенностью прялок этого типа
является графическая белофонная роспись или «роспись с контуром»,
при которой мастер не производил самостоятельных мазков, а только
заполнял предварительно оконтуренные части плоскости.
Исследователи разделили северодвинскую роспись на три
самостоятельных типа: пермогорскую, ракульскую и борецкую. На основе
последней на рубеже XIX—XX веков развились еще две разновидности
местной росписи — пучужская и нижнетоемская.
Самой значительной среди них является ПЕРМОГОРСКАЯ роспись, которая
включает в себя изделия мастеров из деревень гнезда Мокрая Едома.
Основу ее составляет мелкий растительный орнамент, среди которого
размешены различные сцены крестьянского быта. Фасадная сторона
лопасти пермогорской прялки разделялась либо на два, либо на три
«става». В двухставной схеме вверху обычно размешалась райская птица
Сирин, обрамленная зубчатой розеткой, внизу — сцены чаепития либо
катания. Обрат-
51. Северодвинские копылы. Начало XX в. Великоустюгский районная
сторона лопасти оформлялась всегда одинаково: внизу — растительный
узор, вверху — пустая орнаментальная рамка, которая закрывалась
куделью.
На трехставной лопасти вверху чаще всего изображались лев и
единорог, в центре — супрядки, внизу — катание на конях. На обратной
стороне — застолье. В колористической гамме пермогорской росписи
преобладают красный и желтый цвета на белом (иногда желтоватом)
фоне. Искусствоведы полагают, что основные элементы узора и цветовая
гамма росписи Пермогорья имеют много общего с орнаментикой
древнерусских рукописей поморской (XVIII в.) и особенно Белевской
(XIX в.) школ.
«Народные мастера Северной Двины использовали замечательные традиции
древнерусской книги,— пишет О. В. Круглова,— где иллюстрации
являлись как бы вторым текстом для неграмотных, и принципы стенной
храмовой росписи, где последовательный рассказ в образах
изобразительного искусства давал возможность «прочитать» этот сюжет
каждому»11.
Среди мастеров Пермогорья наибольшую известность получили Яков
Иванович и Егор Максимович Ярыгины, Александр Лукьянович Мишарин и
братья Хрипуновы — Дмитрий, Петр и Василий.
Как уже указывалось, в пермогорской росписи господствовал образ
Сирина. Изображения райской птицы можно было встретить не только на
лопастях прялок, но и на многих других предметах крестьянского быта.
Примечательно, что особенной популярностью
11 К р у г л о в а О. В. Северодвинские росписи // Русское народное
искусство Севера. Л., 1968. С. 21.
сказочный образ птицы Сирин пользовался именно на Русском Севере: в
знаменитой городецкой резьбе и живописи он практически не
встречается. Это говорит о том, что якобы пришедший из Греции иди с
Востока образ таинственной и роковой птицедевы не просто пришелся по
вкусу жителям Севера, а оказался для них знакомым и — вполне
вероятно — даже родным. Скорее всего, здесь следует говорить об
обшеиндоевропейских истоках этого древнейшего образа.
В русской ведической традиции волшебные птицы Сирин, Алконост и
Гамаюн совмещались в образе священной покровительницы Руси — Матери
Сва. В. Н. Демин совершенно справедливо сопоставляет слово «сирин» с
языческим названием рая — «ирий»: Сирин, как известно, птица
райская. Отголоски почитания Сирина слышатся также в названиях
страны Сирии и звезды Сириуса, в именах нимфы Сиринги и египетского
бога Осириса12.
Большинство исследователей русского народного искусства склоняются к
версии о греческом происхождении Сирина (от легендарных сирен из
«Одиссеи»), некоторые видят истоки образа райской птицы в далекой
Индии, но ни один из маститых ученых даже не попытался объяснить
необычайную популярность этого персонажа у севернорусского
крестьянства и уж тем более отыскать истоки образа таинственной
птицедевы в русской мифологической традиции. И совершенно
напрасно...
Заглянув в словарь В. И. Даля, мы без труда убедимся, что «сирин» —
слово исконно русское, означающее сову, филина, пугача или особый
вид «долгохвостой совы, похожей на ястреба», ведущей дневной и
ночной образ жизни (SURNIA). Сова же, как известно, почти во всех
традициях является символом мудрости. Но, кроме того, крик совы
многие народы воспринимали как «песню смерти» (вероятно,
представление это было связано с ночным образом ее жизни).
Сладкоголосое пение греческих сирен
Демин В. Н. Тайны русского народа. М., 1997. С. 384—5.
53. Словно три сестрицы-красавицы... Начало XX в. Великоустюгский
район.
оборачивалось гибелью для их слушателей и, стало быть, также
являлось своего рода «песнью смерти». Несомненно одно: у греческих
сирен был свой праобраз, и мы не должны игнорировать версию о его
северном, гиперборейском, «совином» происхождении.
Изображения львов и единорогов также часто встречаются в
произведениях народного искусства. На Русском Севере мы находим их в
росписи сундуков, поставцов, прялок, дуг и лубяных ларцов, в
Поволжье — в декоре крестьянских изб и т. д. В геральдике лев и
единорог символизируют соперничающие солярно-лунные и женско-мужские
силы. Два льва по бокам Мирового Древа выступают в качестве надежных
его стражей: считалось, что лев спит с открытыми глазами, отсюда
почитание его как символа неусыпной бдительности. «Лев спит, а одним
глазом видит»,— гласит русское поверье, зафиксированное В. И. Далем.
Львы-стражи встречаются и в русских народных сказках: «недалеко есть
царство — ты в ворота не езди, у ворот львы стерегут» (А.
Афанасьев).
В апокрифической легенде о Ноевом ковчеге, записанной П. С. Ефименко
в Архангельской губернии, лев выступает в качестве спасителя
ковчега: взяв со всех зверей по клочку шерсти, он проглотил ее и
вырыгнул кота, который набросился на гнусов и истребил их. Коготь
льва использовался в скотоводческой магии для обеспечения
сохранности стада. Упоминается он и в пастушечьем заговоре: «Обхожу
я, раб Божий, с когтем лева-зверя мое милое стадо, крестьянский
живот. Как мои коровушки до сей поры боялись медведя, так теперь да
боится медведь
моих коровушек, а к этому моему слову небо и земля —ключ и замок,
аминь»13.
Характерно, что образ льва закрепился не только в крестьянском
искусстве, но и в произведениях искусства культового характера
(храмовая архитектура Киевской лавры, Суздаля и Владимира, декор
иконостасов XIII века, орнамент псковских колоко-
55_56. Фрагменты северодвинских прялок. Начало XX и середина XIX
веков.
13 Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения
Архангельской губернии. Ч. 2, М., 1878. С. 175.
лов, миниатюры рукописных книг XI—XII веков, медная пластика и т.
д.), а также в светской архитектуре (ворота московского дворца И.
Грозного, корабельная резьба, декор городских домов, набережные
Санкт-Петербурга).
Исследователи вновь сходятся во мнении, что русская культура
заимствовала символ льва из греческой традиции не ранее XI века.
Однако неоднократно зафиксированная и доказанная устойчивость
59—60. У каждой северодвинской прядки свое лицо.
русской традиции свидетельствует не в пользу этого расхожего мнения.
Многие веши на земле до сих пор остаются необъяснимыми: почему,
например, за полярным кругом обнаружены следы произрастания
кипарисов, тополя, магнолии и калины, в Сибири — тропических
растений, а в Гренландии — винограда? Как объяснить ежегодные
миграции перелетных птиц с Юга на Север? Великий уроженец Русского
севера М. В. Ломоносов утверждает: «в северных краях в древние веки
великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться и другим
животным, также и растениям, около экватора обыкновенным, держаться
можно было, а потому и остатки их, здесь находящиеся, не могут
показаться течению натуры противны»14.
Предания различных народов доносят до нас отголоски глобальной
космической катастрофы, некогда постигшей Землю. Это мог быть
космический взрыв в пределах Солнечной системы, в результате
которого огромный осколок-астероид врезался в Землю. Авестийская
школа П. Глобы полагает, что это была гибель Фаэтона, произошедшая
около 26 тысяч лет назад. Смутные воспоминания о чудовищном
катаклизме сохранились в «Авесте», «Бундахишне» и «Калевале», в
греческих мифах и преданиях австралийских аборигенов, в легендах
Новой Зеландии, Сибири и Китая, в священных буддийских текстах и
многих других источниках. Все они сообщают о резком изменении
климата и повороте земной оси, в результате которого солнце изменило
свой ход, а планета «перевернулась». Если раньше солнце приходило с
Севера и уходило на Юг, то после удара начало приходить с Востока и
уходить на Запад.
Только этим можно объяснить многочисленные загадки палео¬ботаники и
палеонтологии, продолжающие тревожить умы современных
исследователей. И если на севере когда-то обитали слоны (вспомним
русские слова «заслон», «прислониться», «слоняться»), то почему того
же самого нельзя сказать и о львах?...
14 Ломоносов М. В. Избранные произведения в двух томах. Т. 1, М.,
1984. С. 196—197.
62—63. Прялки северодвинских мастеров. Коней XIX в.
Вторым по значению видом северодвинской росписи являлись росписи
БОРЕЦКИЕ, НИЖНЕТОЕМСКИЕ и ПУЧУЖСКИЕ, названные так по районам их
изготовления: деревня Первая Жерлыгинская в устье Нижней Тоймы, село
Пучуга и деревня Скобели, Нагорье, Городок, Фалюки и др. (пристань
БОРОК). Как уже отмечалось, пучужские и нижнетоемские росписи
развились на рубеже XIX—XX веков на основе борецкой.
Если в пермогорской росписи растительный узор размещался на лопасти
произвольно, несимметрично, то в борецких прялках он компановался по
строго обозначенной схеме. В трехставной лопасти вверху обычно
изображались окна («став с оконцами»), в центре — полукруглая арка и
внизу — сцена катания («став с конем»). На обратной стороне внизу
помешались различные жанровые сцены, вверху — пустая, пышно
орнаментированная рамка из гибких стеблей.
81—82. Фрагменты ракульских прялок. Начало XX в.
Растительный узор на борецких прялках так же, как и в Пермогорье,
доминировал, но здесь он вырисовывался более мелко, утонченно и
почти всегда делался красным цветом. Кроме того, в декоре прялок
этого типа широко применялось золото. Оформление борецких и
пучужских прялок практически идентично, отличить их друг от друга
можно только по узору на ножке: на борецких стебель прямой, на
пучужских — извивающийся. В свою очередь, отличительной особенностью
нижнетоемской прялки являлась ярко ракрашенная токарная ножка, а на
обратной стороне лопасти — зеркальце для пряхи.
Наиболее известными мастерами борецкой росписи являлись братья
Амосовы — Степан, Никифор, Михаил, Василий, Кузьма и их сестра
Палагея Матвеевна Амосова. В селе Пучуга славились работы отца и
сына Кузнецовых, а в устье Нижней Тоймы — братьев Андрея и Василия
Третьяковых и жены последнего Пелагеи.
И, наконец, третьим центром северодвинской росписи являлась деревня
Ульяновская Черевковского района, расположенная на реке Ракулке
(отсюда название росписи — «ракульская»). Ракульские прялки по своей
высоте значительно превосходили борецкие и пермогорские. По внешнему
виду их невозможно спутать ни с какими другими: невысокая ножка,
расширяясь почти от самого основания овальными уступами, переходит в
длинную и узкую лопасть с четырьмя городками. В нижней части лопасти
всегда изображалась птица, вписанная в орнаментированный квадрат, в
верхней — ветка S-образной формы с крупными листьями и пучками
черных усиков.
Ракульские прялки, в отличие от борецких и пермогорских, имели
характерный желто-охристый цвет. К началу XX века колорит ракульских
прялок потерял былую гармонию: фон из-за использования анилина стал
ядовито-желтым, в росписи крупной ветки по той же причине появились
слишком контрастные цвета— фиолетовый, ярко-голубой и ярко-зеленый.
Самыми известными мастерами ракульской росписи являлись Дмитрий
Федорович Витязев и его сын Яков Дмитриевич.
МЕЗЕНСКИЕ ПРЯЛКИ
Корневые мезенские прялки по своей конструкции также схожи с
прялками вологодского типа. Главным же их отличием является
каллиграфическая роспись с черным контуром по золотисто-желтому фону
(«скоропись»), тематика которой удивительно близка к наскальным
рисункам (петроглифам) Русского Севера.
Лопасть мезенской прялки разбита на горизонтальные фризы, в центре
композиции — две полосы с ритмично бегущими оленями и конями.
Обратную сторону лопасти занимают пароходы, сцены охоты, рыбной
ловли, верховой езды и т. д. «Все в этих прялках преисполнено
значительности: олени и кони изображены словно в торжественном
ритуальном беге»,— пишут составитель альбома «Русские прялки» Н. В.
Тарановская и Н. В. Мальцев.
Центром промысла являлось село Палашелье на реке Мезени, практически
все мужское население которого занималось изготовлением прялок.
Наибольшую известность получили мастера Новиковы, Федотовы, Кузьмины
и Аксеновы. Популярность мезенских прялок была огромной: их вывозили
на Северную Лвину, Пинегу, Печору и даже Онегу. Кроме того, в целом
ряде мест образовались центры подражательной росписи: село Покшеньга
на реке Пинеге, деревня Кеба на реке Вашке, деревня Сельцо на нижней
Двине и т. д.
Основными элементами мезенской росписи являлись олени и кони.
Мифологические функции коня были рассмотрены мною выше в главе о
русской деревянной посуде. Образ оленя часто встречается в северной
вышивке, в сюжетах русских народных сказок, в песнях, преданиях и
поверьях. В упоминавшихся выше северорусских братчинах существовал
обычай приносить в жертву быка. Но в местных преданиях четко
зафиксирован образ жертвенного олен
Статус П. определялся ответственностью самого прядения — главного
женского занятия, которым мужчины никогда не занимались. По народным
представлениям, прикосновение мужчины к веретену лишало его силы и
ловкости, а неправильное обращение П. с куделью могло сделать
женщину мужеподобной: у нее начинала расти борода.
Жизнь крестьянки с ранних лет была связана с прядением и с его
атрибутами. Девочке, чтобы она легко приобщалась к прядению,
перерезали пуповину на прялке или веретене, а также прикладывали эти
предметы к новорожденной. Старались отрезать пуповину так, чтобы она
упала на женскую работу, в частности, пряжу. Кроме того, помещали в
ее колыбель детскую прялку. Пожелания стать хорошей П. произносились
на родинах: «Чтобы тонко пряла, часто ткала, рукодельничала» (9, с.
33). Во время крестин, возвращаясь из церкви, крестная брала кудель
и садилась прясть, чтобы девочка успешно овладела этими операциями;
с той же целью ребенка передавали крестной через прялку. С 5—6 лет
девочку начинали учить прясть и ей впервые разрешали спрясть нитку
из грубой шерсти или очесов. Пряжу затем сжигали, а золу девочка
должна была съесть, запив и закусив кусочком хлеба, под приговор:
«Ета зъяси — будщи хорошая пряха» (5, с. 58). В некоторых местах она
глотала дымок от зажженной пряжи, чтобы работа в ее руках горела.
Прядением, как правило, занимались девушки. К моменту достижения
совершеннолетия они полностью осваивали это мастерство и становились
искусными П., что, по народным представлениям, предсказывало
счастливую любовь и замужество.
Связь прядения и удачного замужества прослеживается во многих
магических действиях добрачной, свадебной и семейной обрядности.
Так, девушки пряли «благовещенскую» или «четверговую» нить с
приговором о суженом, гадали о браке на «новине» (спряденных и
сотканных холстах), во время ее расстилания, молились о даровании
умения «прясть, ткать и узоры брать» (12, с. 162), то есть
приготовить себе приданое. Хлестали сватов мотком ниток для удачного
сватовства. Известны свадебные приговоры, в которых выступает
символика «недремавшей» невесты: «Наша молода не спала, не дремала,
тонко пряла, звонко ткала, бело белила и нас подарила» (8, с. 133).
Кроме того, на второй день свадьбы свекровь во время утренних
хозяйственных заданий поручала молодице спрясть нитку, а в течение
специальной «прядильной недели» Великого поста молодицу приучали к
новой жизни в кругу женской родни мужа.
Тема прядения и девушка-П. широко представлены в песенно-игровом
фольклоре молодежи. Так, весной девушки исполняли веснянки, призывая
птиц, которых просили принести весну и атрибуты рукоделия:
Жаворонки... принесите весну...
С пряльцем, с донцем,
С кривым веретёнцем!
В таких играх, как «просо» и «мак», которые сопровождались игровыми
песнями — «А мы просо сеяли», «На горе мак», «Посею я маку»,
одновременно разворачивался «растительный» сюжет, символизирующий
половое созревание девушки, и раскрывался мотив обучения ее
рукоделию, в частности прядению. Так, в хороводной игре «просо»
новую девушку обучали ремеслу П.-ткахи:
Не пряха была,
Не ткаха была...
«Не тужи, мати, не печалься!
Уж мы станем учить —
Переучивать.
У нас будет ткаха,
У нас будет пряха»...
Вообще, мотив П. и прядения присутствует в хороводных игровых
песнях. Существовал набор хороводных песен, под которые «собирался
хоровод», при этом движения хоровода изображали процесс прядения и
снования. Во время исполнения песни «По улице шла, клубок ниток
нашла» присоединение к хороводу новой девушки происходило под слова:
«Клубок катится — нитка тянется», что воспроизводило прядение нити.
В игре «дрема», особенно в ее варианте «дрема с куделью», происходит
символическое посвящение девушки в П. — мастерицу и невесту. Девушка
становилась в центре хоровода и изображала П., дремлющую во время
работы. Остальные участники, исполняя песню изображали указанные в
ней действия: пробуждали Дрему и на ее место ставили другую девушку
из круга. Согласно интерпретации этой игры Т. А. Бернштам, дремлющая
молодица Дрема-непряха противопоставляется недремлющей девушке — П.
Мотив прядения в подобных играх тесно связан с любовными отношениями
молодежи и молодоженов. Молодица, которая была непряхой, то есть
ленивой в девушках, становилась Дремой и выходила замуж за «старого»
— «холостого полюбить — самопряхой надо быть» (11, № 599), либо
превращалась из П. в непряху: «веретёнушко не вьется, куделенко не
прядется» (1, с. 24); молодица, ставшая Дремой-непряхой, теряла
женскую привлекательность.
Девушки, проходя через игровой «переходный» обряд «дремоты»,
олицетворяющий сон и смерть (с последней в мифопоэтической традиции
связана женская покровительница прядения), и преодолев образ
Дремы-непряхи, получали возможность участвовать в ритуальных
молодежных играх и символически обучались мастерству прядения, что,
в свою очередь, соответствовало половой зрелости и брачным
перспективам.
По умению девушки прясть судили о ее земной и загробной судьбе. Так,
по народным представлениям, плохую П. на земле ждут одиночество и
греховная жизнь, а после смерти она встанет «со столбом» или будет
«пасти козлов» (символ похоти). Интересен культ поморской
девушки-П., утонувшей во время шторма вблизи беломорского островка
Полта(м)-Корга (между р. Кемью и Сорокой) и совершавшей после смерти
чудеса исцеления. В легенде девушка либо плывет с прялкой по ягоды,
либо является людям после смерти с просьбой о. захоронении, либо ее
находят мертвой и сидящей на прялке. С прялкой девушку и хоронят,
построив «на косточках» часовню, где и происходят «чудотворения».
Прялка предстает символом умершей девушки, которая достигла
совершеннолетия («полной девкой заводилась»), была непорочной («ни
одного мужика не знала») и стремилась к святости.
Образы П. и непряхи раскрываются в сказках. Одним из ярких сказочных
персонажей была невеста Финиста Ясна Сокола. Она находила своего
жениха с помощью нити, прядущейся из «серебряного донца — золотого
веретенца», или вышивания по «серебряному пяличку золотой
иголочкой». В фольклорных сюжетах прядение прививало навыки, которые
выражали «зрелость» невесты: по изготовленной чистой и тонкой пряже,
по умению определить количество вещей, что из этой пряжи можно
сделать. Например, в заонежской сказке «Про Ивана-царевича» две
сестры хвастаются тем, сколько вещей они могут изготовить из своей
пряжи, если к ним посватается царевич: старшая — полотенце и
простыню, средняя — полотенце, порты и настилальник (простыню).
Но не все девушки становились хорошими П. Так, в шуточном игровом
фольклоре рисуется образ непряхи:
Жила-была Дуня,
Дуня-тонкопряха.
Вали-вали, Дуня,
Дуня-тонкопряха!
Пряла наша Дуня
Ни толсто, ни тонко,
Ни толсто, ни тонко,
Потолще каната,
Потолще каната,
Потоньше оглобли.
Ей противопоставлялась невеста Марья, привораживающая жениха своей
тончайшей пряжей.
Показать свое мастерство П. девушка могла на посиделках (попрядухах,
попрядках, супрядках), куда приходили и парни. Работали девушки в
осенне-зимнее время: в период осеннего поста
(Филипповского-Рождественского): отдельные работы продолжались до
Масленицы. На посиделках важная роль отводилась прялке, которая
определяла индивидуальное девичье место (у П., занявшей чужое место,
прялку выкидывали на дорогу). В северно-русских и западно-русских
областях парни должны были просить разрешения войти на посиделку под
окном или в дверях избы, что называлось «проситься за прялку»,
«сесть под прялку». Чтобы получить «прялочное место», парень выкупал
прялку или ее захватывал, если девушка выходила из избы, при этом он
имел право сесть только на колени к девушке. Пересесть на скамью
разрешалось в процессе игры: «в местечки», «в соседи», которые
сопровождались «выкупом» прялки, веретена, кудели, пряжи. Если
девушка отказывала в выкупе (поцелуе), то парень мог ее опозорить —
из мести или хулиганства он поджигал, путал пряжу или кудель,
обвивал себя ею, ломал веретено или прялочный гребень, прятал
предметы для прядения.
В Новгородской губ. местные парни, приходя на посиделку, зажигали
свечи у прялок девушек, которым они отдавали предпочтение, при этом
у некоторых горело не по одной свече, а «чужаки» обходили всех
девушек, поджигая у каждой кудель. В Вологодской губ. поджигание
посредине избы общей кудели, надерганной с каждой прялки, говорило о
начале игры «женитьба». Девушки и парни гадали по кудели о своей
судьбе, что называлось «на городок»: парень клал на стол или лавку
скрученный вокруг пальца клочок кудели и поджигал, затем смотрел,
«куда ворота откроются» — туда жениться идти. Если поведение девушки
не соответствовало принятым нормам, то ее могли наказать: за измену
выкашивали посеянный ею лен; за неучастие в молодежных собраниях и
разглашение групповой тайны ломали гребень или лопасть прялки,
путали кудель, рвали пряжу.
Последний день супрядок сопровождался различными обрядами. Так, в
Смоленской губ. девушки пели:
Девушки — свет,
Голубушки — свет,
Початычка нет!
Бярите гребенки,
Чашите галовки:
Пара да двара (расходиться).
В обычной жизни после выхода замуж женщина не расставалась с прялкой
и не переставала прясть, хотя по статусу молодицы как бы теряла свое
значение П. В традиционных представлениях девушка — П., а молодица —
непряха. Для женщины главным становилось ткачество.
Значение прядения было так велико, что оно с древности, так же как и
ткачество, являлось символом женского труда, а П. имели своих святых
покровителей. Так, уже на византийских мозаиках и миниатюрах IX в.
Богородица изображалась с веретеном и пряжей; из Византии это
изображение пришло на Русь. А прядение, наряду с колодцем и
Священным Писанием, стало одним из трех легендарно-иконографических
символов Благовещения.
Непосредственной покровительницей женской зимней работы, в первую
очередь прядения, а также самих П. была св. Параскева Пятница, образ
которой зачастую сливался с Богородицей. Обе они представлялись
защитницами женщин, распорядительницами браков, покровительницами
дома и женских занятий. В древности существовала языческая богиня-П.
Мокошь — женское божество древнерусского пантеона, которая, в
народных представлениях, была женщиной с большой головой и длинными
руками, прядущей в избе по ночам. По поверьям, П. не разрешалось
оставлять кудель открытой, а «то Мокша опрядет». Параскева Пятница
заимствовала занятие Мокоши, а затем и покровительство пряхам и
прядению, поэтому ее называли Льняницею: «На Парасковию-Льняницу
начинают мять и трепать лен». П. приносили св. Параскеве Пятнице
жертвы — бросали в колодец кудель. Назывался такой обряд «мокрида»,
что соотносилось с именем Мокоши и имело общий корень со словами
«мокрый», «мокнуть» или «mokus» — прядение. В качестве приношения
вычесанная льняная кудель или выпряденные нитки оставлялись П. у
святых источников, посвященных св. Параскеве, при этом говорилось:
«Угоднице на чуловки!»; «Матушке Пятнице на передничек!» (7, с.
194).
В канун дня Параскевы-Льняницы приготовляли первину льна,
посвященную этой святой, и приносили для освящения в церковь, а
затем прикрепляли к образу св. Параскевы. В этот день устраивались
«льняные смотрины» — женщины выносили вытрепанный ленпервак на
улицу, демонстрировали друг другу, хвалясь своей работой. Девушки
стремились показать свое «льняное искусство» парням и будущим
свекровям.
Чтобы покровительство св. Параскевы не покинуло П., надо было
соблюдать определенные правила и не нарушать запретов. Так, в день
памяти святой и во все пятницы не разрешалось прясть: «а то у
Параскевы Пятницы засорятся глаза»; «в пятницу не только нельзя
прясть, но даже иметь в доме конопель»; «кто прядет в пятницу, у
того на том свете слепы будут отец с матерью» («кострыкой глаза
запорашивает»); «не прясть в пяток, потому что в этот день Спаситель
претерпел оплевание, а на пряжу нельзя не плевать». В случае
несоблюдения запретов Параскева Пятница сурово карала — скручивала
П. пальцы на обеих руках и покры¬вала их заусеницами. По легенде
Ярославской губ., Пятница наказала П., которая работала в ее день.
Железной спицей, которой прикрепляют кудель льна к копылу, она
истыкала женщину до полусмерти. По другому поверью, Параскева
подбрасывает веретено в окно женщине, прядущей накануне пятницы, и
одобряет ее, когда та догадается выбросить веретено обратно в окно.
Прядение и ткачество нашли отражение в обрядах, которые раскрывают
мифологическое значение этих занятий как «творения мира». Сюда можно
отнести изготовление женщинами обыденной (т. е. сделанной за один
день) нити, пряжи или холста, а также изделий из него — пелены или
полотенца. Обыденная новина выполнялась для сохранения общественного
благополучия — для охраны домов и селений, скота от возможных
несчастий. Обряд изготовления новины за один день воссоздавал
архаические представления о женском творении мира.
Образ П. существует не только в человеческом обличье. Так, роль П. в
животном мире, по представлениям русского народа, воплощает
горностайка, персонаж сказов об ивановских ткачах Владимирской губ.
В них рассказывается о горностайке — «доброй рукодельнице: что
спрядет, что соткет — простым людям в прок идет». Она «лапками
стежку шьет — стежка серебром сияет», так как прядет не простую
пряжу, а снежную.
В среде низшей демонологии П. выступает кикимора. Она невидимо
прядет в избе ночью, часто только в Святки, в те двенадцать дней
января, которые определяют ход всего будущего года, предвещая этим
изменения в судьбах домочадцев. Если кикимора прядет на передней
лавке, то это к смерти кого-либо из обитателей дома. Прядет кикимора
не обычным способом: она подпрыгивает или сучит нитки «наоборот».
Такой способ прядения имеет особый, колдовской смысл. В частности,
невеста накануне свадьбы «от себя» прядет суровую нитку — оберег от
колдунов. «Оборотные» нитки, изготовленные в праздники, играли
важную роль в домашней жизни и обрядности. Так, в Великий четверг
женщины пряли нитки «наобоко" и в случае болезни перевязывали ими
руки и ноги. При опахивании села от эпидемий из этих нитей делали
вожжи. В этот же день пряли левой рукой на каждого члена семьи по
нити и привязывали их к березе: у кого нить пропадет — тот умрет.
Такая нить соответствует «нити судьбы» человека.
Прядение, особенно в большие годовые праздники, могло повлиять на
здоровье людей, животных, на благополучие дома. Так, прядение
заговоренной шерсти служило «для чарования скота и дома». Поэтому не
разрешалось прясть и ткать по большим праздникам, так как в
«поворотные», «переходные» моменты (Рождество, Святки) мир мог быть
как правильно, так и неправильно «свит, сплетен, сшит или спряден,
соткан» (6, с. 172).
Литература:
"Вологодчина: невостребованная древность" М.В. Суров., Вологда 2001
г.
ВОЛОГОДСКИЕ ПРЯЛКИ
Одним из интереснейших явлений в русском народном искусстве стали
деревянные ручные прялки — древнейшие приспособления для
изготовления пряжи. И хотя в процессе прядения основную роль всегда
играло веретено, именно прялке суждено было стать символом женского
рукоделия, а в обобщенном смысле — и символом женской доли.
В русской традиции пряхам покровительствовала богиня Макошь (Мокошь)
— единственное женское божество в составе киевского пантеона
Владимира. С принятием христианства функции Макоши перешли к св.
Параскеве Пятнице, однако образ ее в севернорусской вышивке
продолжал господствовать вплоть до начала XX века.
1. Вологодские прялки-копылы. Конец XIX в. Никольский район.
По повериям, Макошь наблюдала за прядущими женщинами и строго
наказывала тех из них, кто осмеливался прясть в посвященные ей
праздничные дни или выказывал нерадение. Если пряха дремала, а
веретено ее продолжало вертеться, считалось, что за нее прядет
Макошь. Отголосок почитания невидимой пряхи Макоши сохранился также
в обряде «мокрицы» — жертвоприношения св. Параскеве Пятнице, во
время которого женщины бросали в колодец кудель и пряжу.
Вся жизнь русской женщины была так или иначе связана с прялкой. Еше
в пятилетнем возрасте ее сажали за маленькую скромную детскую
прялочку, на которой она выпрядала свою первую нить. Впоследствии
эту нить нередко использовали в качестве оберега. Так, например,
перед свадьбой мать опоясывала ею свою дочь-невесту по голому телу,
чтобы уберечь ее от порчи и сглаза. За годы девичества она должна
была наткать и напрясть столько, чтобы хватило и на приданое, и на
красивый костюм, и на подарки родным. Самыми обидными прозвищами для
девочек-подростков были «непряха» и «неткаха». Для того, чтобы
«привязать» новорожденную девочку к рукоделию, пуповину ее обычно
перерезали на веретене (у мальчиков, соответственно, на стреле или
топорище).
Когда девушка становилась взрослой, для нее покупали новую нарядную
прялку или дарили ей старую, доставшуюся от бабушек и прабабушек.
Если отец девушки был мастеровым, он изготавливал ей прялку
собственноручно, вкладывая в нее всю свою душу. Довольно часто муж
дарил прялку любимой жене, но в очень редких случаях — парень
девушке. Подобные утверждения маститых искусствоведов не имеют под
собой никакой почвы: принос женихом прялки до сих пор не
зафиксирован ни в одной свадебной традиции.
Доминирующую роль играла прялка на знаменитых «посиделках» или
«супрядках», которые в Вологодском уезде начинались с «филлиповок»,
т. е. с 14 (27) ноября и продолжались до самой Масленицы. Церемонии
посиделок подробно описаны в этнографических материалах, из которых
видно, что к играм и танцам молодежь обычно приступала только после
того, как иссякали «уроки», т. е. принесенная из дому кудель для
пряжи. Причем в некоторых случаях девушки прибегали к хитрости:
«Некоторые славнухи... украдкой приносят с собой уже готовую пряжу,
так как заботливые матери каждый раз у возвратившейся с посиденки
дочери осматривают, много ли напряла за вечер, а в иной веселый
вечер, между тем, не удается и преслицыто в руки взять»1.
Прялка на посиделках выступала своего рода «визитной карточкой»
девушки, поэтому ее украшению придавалось особенное значение.
«Девичий быт всегда разукрашен и декоративен,— пишет В. С Воронов,—
прялка, стоящая рядом с пряхой, украшала ее наравне с одеждами,
бусами и лентами»2.
По своей конструкции русские деревянные ручные прялки делились на
корневые (копылы) и разъемные (составные). И те, и другие состояли
из двух главных частей — вертикальной лопасти, на которой
укреплялась кудель, и горизонтального донца, на котором сидела
пряха. Соблюдая некий фальшивый «кодекс приличия», ученые до сих пор
не решались назвать прялочное донце тем именем, которое в ходу у
подавляющего большинства жителей севернорусских деревень. Я же
считаю, что в этом случае ложная скромность только мешает делу и
искажает пресловутую «научную объективность», которой так кичатся
корифеи науки. Реальность же такова, что во всех деревнях
Вологодчины (да и не только) местные жители называют прялочное донце
«поджопницей», и ничего «неприличного» в этом слове я лично не
нахожу. Корневые прялки вырезались из целого куска дерева: донце— из
корня (копыла), лопасть — из «прямизны» (древесного
8. Прялки с вазонами. Начало XX в. Вытегорский район.
ствола). Почти все прялки, бытовавшие в Вологодской губернии,
относились к этому древнейшему типу.
Первоначальную классификацию русских прялок привел в своем
знаменитом альбоме А. А. Бобринский3. Он разделил их на восемь
типов: шесть — по географическим признакам и два — по технике
обработки. В. С. Воронов также принял за основу классификацию А. А.
Бобринского, но изменил некоторые названия и сократил количество
типов прялок до семи: ярославский, вологодский,
ярославско-костромской, архангельско-вологодский, поморский,
мезенский и тверской. Авторы каталога «Русские прялки» (Л., 1971)
предпочли более длинный список: городецкие, ярославские,
костромские, новгородско-петербургские, тверские, вологодские,
олонецкие, северодвинские, мезенские, поморские.
Ни одну из этих классификаций нельзя назвать достаточно полной и
объективной, поскольку точные границы бытования того или иного типа
прялок определить практически невозможно, а, стало быть, любые
наименования таких типов являются всего лишь условными. Нечто
подобное можно наблюдать и в археологии, где определенной группе
предметов непременно присваивается громкое наименование той или иной
«культуры», хотя наименование это, по сути, увязывается лишь с
местом первых находок: например, андроновская культура — с селом
Андроново, дьячковская — с селом Дьяково и т. д.
3 Бобринский А. А. Народные русские деревянные изделия. Вып. 1, М.,
1910, С. 10.
Настоящее исследование не ставит перед собой цели описать все
разновидности русских прялок и ограничивается теми их видами,
которые бытовали на территории бывшей Вологодской губернии.
Разумеется, ученые не преминули подвергнуть классификации и
вологодские прялки. Вот, например, к какому «сенсационному» выводу
пришла одна из исследовательниц, О. В. Круглова: «Теперь можно
утверждать, что вологодской прялки как единого типа не существует.
На территории Вологодской области бытует много разновидностей
прялок. Назовем их: это тарногские, кулойские, нюксенские,
Никольские, тотемские, прялки Печенги, Погорелова, Бирякова,
Чучкова, Толшмы, Совеги, прялки грязовецкие, с. Шексны и
новгородские»4.
Можно не сомневаться, что после очередной экспедиции
Государственного Русского Музея (ГРМ) на Вологодчину список этот
увеличится еще на несколько наименований, поскольку в каждом из
перечисленных выше районов наверняка найдутся две-три деревушки,
прялки которых хоть чем-то отличаются от соседских. Одним словом,
работы у ученых непочатый край, и одному богу известно, сколько еще
диссертаций на эту тему в ближайшие годы будет защищено...
4 Круглова О. В. Границы распространения прялок Русского Севера и
Поволжья // Сообщения ГРМ, В. XI, М., 1976. С. 56.
14. Северодвинские прялки. Конец XIX в. Великоустюгский район.
23—24. Прялки из Вытегорского района. Начало XX века.
После тщательного анализа я разделил вологодские прялки на три
основных вида: вологодские, грязовецкие и тотемские. Кроме того,
косвенное отношение к Вологодчине имеют прялки Мезени и Северной
Двины: оба эти района в свое время входили в состав Вологодчины, а
изделия мастеров Палашелья, Борка, Пермогорья и Ракулки широко
бытовали в пределах Вологодской губернии.
ГРЯЗОВЕЦКИЕ ПРЯЛКИ
Впервые грязовецкие прялки были воспроизведены в альбоме А. А.
Бобринского без указания их географической принадлежности. Сам автор
отнес их к шестому типу и назвал «прорезными». Более полувека прялки
эти оставались безымянными, пока,
25. Грязовеикие прялки с «лунницами». Конец XIX века. Грязовецкий
район.
наконец, экспедициями Загорского музея 1968—1969 годов не был
обнаружен район их бытования. Первый же их адрес был получен еще
летом 1966 года: деревня Обериха Грязовецкого района Вологодской
области.
Как и все вологодские прялки, грязовецкие были корневыми, т. е.
вырезанными из целого куска дерева (донце — из корня, лопасть — из
ствола). Район их бытования довольно обширен — от Вологды до границы
с Ярославской и Костромской областями. Широкая и массивная лопасть
грязовецкой прялки, идущая от донца под прямым углом, округло
сужается в верхней части и венчается небольшим гребнем, нижняя часть
которого почти в точности повторяет верхнюю округлость лопасти. Сам
гребень имеет характерный горизонтальный срез с городками.
О. В. Круглова выделила три разновидности грязовецких прялок:
западной, восточной и центральной частей района. Различаются они
между собой как по характеру резного орнамента, так и по некоторым
особенностям формы. Лопасть прялки центральной части района украшена
мелкой сквозной резьбой в форме ромбов, квадратов, лунниц, подковок
и «слезок». Прялки западной части отличаюся более вычурной формой
ножки, в центре композиции которой помещен двуглавый орел (в более
26. Грязовецкие прялки. Начало XX века.
ранних — розетка), поддерживаемый стилизованными конскими головами.
Основание лопасти украшено прорезными столбиками-колонками с
развернутой над ними полурозеткой. В более ранних западных прялках
доминировала трехгранно-выемчатая резьба, в поздних — пропильная
техника, совмещенная с очень яркой раскраской и кистевой росписью.
Еше одной отличительной особенностью западной прялки являются
узорные боковые срезы ее лопасти (у «центральных» и «восточных» они
ровные).
Прялки восточной части Грязовецкого района выделяются иным
завершением гребня: верхний срез его украшен двумя узкими сквозными
прорезами, напоминающими глаза кошки или разрез глаз восточного
человека. По выражению О. В. Кругловой, «на верху лопасти... словно
завязан бантик с двумя симметричными сквозными петлями». В более
ранних восточных прялках в центре лопасти вырезалась солнечная
розетка (солярный знак), в более поздних изображался рельефный
двуглавый орел. Еще одной особенностью восточной прялки являлся
прорезной декоративный узор в центре ножки, по силуэту напоминающий
самовар. И в этом случае прорезная техника соседствовала с цветочной
росписью и яркой раскраской.
По своей форме грязовецкие прялки очень близки к буйским и
ярославским теремковым. Главное отличие между ними — за-
27. Грязовеикие прялки. Конец XIX века.
вершение гребня: у грязовецких он имел горизонтальный срез с
городками, у буйских — три характерных «рога», у ярославских —
высокий остроконечный «кокошник».
О. В. Круглова высказывает предположение, что именно форма
грязовецкого «копыла» явилась исходной для вологодского типа прялок
вообще, но версия эта представляется мне весьма и весьма спорной (о
чем мы поговорим ниже).
Роспись на грязовецких прялках имеет более позднее происхождение:
самая ранняя из таких прялок датируется 1856 годом. Однако
художественные традиции грязовецких росписей могут быть отнесены к
XVII веку, в чем убеждают два расписных тябла из бывшего
Павло-Обнорского монастыря, ныне находящиеся в московском музее
«Коломенское», колористическая гамма и стилистические особенности
которых очень близки росписям грязовецких прялок.
Чаще всего грязовецкие прялки окрашивались в зеленый или
голубовато-зеленый цвет, на котором помещались цветочные росписи с
преобладанием желтого, красного и синего цветов различных оттенков.
В отдельных случаях использовалась золотая краска, которая придавала
прялкам особую колоритность. «Образ цветущего, позлащенного солнцем
луга с его многотравьем, столь характерным для природы вологодской
земли,— пишет Т. М. Олей-
28. Грязовеикие прялки. Конец XIX века.
ник,— явно вдохновлял мастера, двигал его рукой, слагавшей как бы
случайно брошенные мотивы в общую ритмически организованную, но в
целом свободную композицию»5.
В глубокой архаичности грязовецких корневых прялок не приходится
сомневаться, хотя прорезные узоры и росписи на них появились
значительно позже. Наиболее ранние прялки были покрыты
трехгранновыемчатой резьбой — одним из самых древних видов резьбы по
дереву, мотивы которой уходят в глубокие языческие времена.
Описывая декоративные узоры грязовецких прялок, многие исследователи
делали туманные предположения относительно их языческого содержания,
однако сопоставить их напрямую с русской мифологией и попытаться
расшифровать древнейшую символику этих узоров отважился только В. М.
Василенко. Именно он впервые сравнил форму грязовецкой прялки с
таинственным образом богини Макоши: «Эти прялки поразительно похожи
на схематизированную женскую фигуру и вызывают в памяти фигуры
богинь на северных полотенцах I половины XIX века.
5 Олейник Т. М. Народные росписи по дереву Верховажского и
Грязовецкого районов Вологодской области // Искусство современной
росписи по дереву и бересте Севера, Урала и Сибири. М., 1985. С. 65.
29. Грязовеикие прялки. Начало XX века.
...Можно предположить, что перед нами образ (правда, уже достаточно
зашифрованный) загадочной славянской богини Мокоши, богини,
охранявшей женский труд, а после принятия христианства
передоверившей свои права и обязанности Параскеве Пятнице»6.
Ученый обращает внимание и на традиционный узор грязовецких прялок в
виде полумесяца (лунницы), но, к сожалению, не может подвергнуть его
правильной дешифровке: «в мелких рисунках лунниц и в их играющем
узоре слышатся отзвуки узорочья XVII века... Кажется, что лунницы
сверкают, как бесчисленные лики луны — на просвет зрелище получается
очень впечатляющее»7.
Исследователь был в двух шагах от разгадки, но сопоставить
мифологические сюжеты с данными археологии ему, вероятно, просто не
пришло в голову. Изображения лунниц на грязовецких прялках в
точности повторяют форму древнерусских амулетов-лунниц XI—XII веков,
во множестве встречающихся в слоях этого периода. Академик Б. А.
Рыбаков полагает, что они были «под-
6 Василенко В. М. Народное искусство. М., 1974. С. 80.
7 Там же.
ражанием привозным восточным образцам IX—X вв., украшенным тончайшей
зернью» и «изображали... небосвод с его двумя небесами, нависающий
над землей», но совершенно исключить лунарную символику все-таки не
решается.
Между тем следы лунного культа обнаруживаются не только в
древнерусских браслетах и подвесках-амулетах, но и в русской
традиционной одежде, в частности, в знаменитом кокошнике —
праздничном головном уборе замужних женщин. И хотя в народных
представлениях луна и месяц обычно ассоциировались с загробным
миром, во многих фольклорных текстах солнце и луна нередко
связываются родственными узлами (брат и сестра, муж и жена), причем
в женской ипостаси тут, как правило, выступает солнце, а в мужской —
луна (месяц). Учитывая этот фактор, В. П. Даркевич допускает, что
древнерусские подвески-лунницы вполне могли быть «символом
супружества».8
По народному поверью, в день Ивана Купалы (24 июня) Солнце «выезжает
из своего чертога на встречу к супругу Месяцу», а сам этот день
считался днем брачного союза между двумя божественными светилами.
Согласно многим славянским преданиям, от этого брака родились
звезды.
Многие древнерусские ритуалы и земледельческие обряды напрямую
связывались с фазами луны: «молодой» месяц благоприятствовал началу
посева плодов, растущих над землей, а «старый» — тех, что растут под
землею, полнолуние способствовало земле-
8 Даркевич В. П. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси //
СА, 1960 № 4. С. 57, 62.
32. Грязовецкая прялка (в центре) в окружении буйских «сестер».
Конец XIX века.
дельческим работам, на старый месяц заготавливали зерно и мясо на
зиму, рубили лес и косили траву, лекарственные травы старались
собирать в первой половине месяца, тогда как заниматься лечебной
магией предпочитали во второй, веря, что убывание месяца повлечет за
собой и убывание болезни.
По фазам луны было гораздо удобнее считать время, нежели по солнцу:
само слово «месяц» в его нынешнем «календарном» значении
красноречиво говорит о том, что луна в свое время была в почете и
являлась «золотой стрелкою на темном циферблате неба»9.
Лунная символика связывалась с культом Космической Коровы (Быка),
восходящим в глубочайшую древность. «Рога месяца уже влекли за собою
мысль о рогатом животном,— пишет А. Н. Афанасьев,— и русские
народные загадки [...] изображают его то быком, то коровою»10. Очень
часто упоминается месяц и в русских заговорах: «месяц ты красный!
звезды вы ясные! солнышко ты привольное, сойдите и уймите раба
Божьего (от запоя)», «Месяц, ты Месяц, серебряные рожки, златые твои
ножки! сойди ты, Месяц, сними мою зубную скорбь, унеси боль под
облака», «батюшка светел месяц, золоты рога тебе на стоянье, а мне
на здоровье», «месяц ты красный, сойди в мою клеть» и т. д.
Едва ли древнерусские амулеты-лунницы являлись простым «подражанием
привозным восточным образцам IX—X вв.», как это
9 Афанасьев А. Н. Поэтическое воззрение славян на природу. Т. 1. М.,
1995. С. 38 (выражение А. Мюллера).
10 Там же. С. 338.
35. Грязовецкие прялки. Конец XIX века.
утверждает Б. А. Рыбаков. Культ небесных светил является самым
древним культом в истории человечества, и полагать, что на русской
земле он не получил большого распространения, по меньшей мере,
наивно.
Следует заметить, что лунницы на грязовецких прялках всегда
располагались на стояке (лопасти) и никогда — на гребне, в центре
композиции которого обычно помешался солярный знак, а в позднейших
прялках — двуглавый орел. Солнечная символика, как видим,
доминировала и здесь, лунницы же выполняли вторичную роль. Беру на
себя смелость предположить, что в изначальном декоре грязовецких
прялок был запечатлен лунный цикл, состоявший из 13 месяцев и, стало
быть, в наиболее ранних экземплярах этих прялок количество
изображенных месяцев-лунниц также равнялось тринадцати (или, в
современном трансформированном виде, двенадцати). С течением же
времени первоначальное значение этой символики забылось, и
традиционные лунницы-месяцы превратились в простой декоративный
элемент, как это часто случается со многими древними символами.
Фрагмент тотемской прялки
ТОТЕМСКИЕ ПРЯЛКИ
Отличительной особенностью тотемских корневых прялок является
укороченная квадратная лопасть, венчающая тонкую резную ножку.
Фасадная сторона этих прялок украшена трехгранно-выемчатой резьбой.
В центре композиции — солнечная розетка, обрамленная плотным
геометрическим узором из треугольников и квадратов. Под городками
обычно располагается решетка либо круглые сквозные отверстия в
несколько рядов. Нижняя часть лопасти украшена двумя крупными
сережками, обращенными к стояку.
Прялки этого типа бытовали в районе Тотьмы, в Междуречье, на
территории Биряковского и Чучковского сельсоветов Сокольского
района, а также Погореловского, Великодворского и
Верхне-Толшменского сельсоветов Тотемского района.
ПОГОРЕЛОВСКИЕ прялки миниатюрнее тотемских, сережки на нижней части
их лопасти, как правило, не имеют круглого окончания, под городками
нет прорезной решетки, но в целом они повторяют форму тотемских
прялок.
Прялка с зеркальными вставками. Конец XIX в. Сокольский район.
БИРЯКОВСКИЕ прялки выделяются разреженностью геометрического узора.
Их, как правило, не расписывали, а в более поздних вариантах красили
под красное дерево, украшали накладными медными пластинками и
инкрустировали кусочками зеркального стекла. Небольшие медные бляшки
крепились на петельку и при каждом движении прялки издавали звон.
Объяснялось это тем, что украшением местных прялок занималась семья
мастеров-гармонщиков.
МЕЖЛУРЕЧЕНСКИЕ прялки отличаются слегка суженой книзу формой
лопасти, крупными округлыми городками, отсутствием сережек, а также
изящной ножкой с фигурными краями. Трехгранно-выемчатая резьба на
этих прялках дополнялась кистевой росписью, цветочные узоры которой
напоминали ситец.
На территории ВЕЛИКОДВОРСКОГО сельсовета бытовали две разновидности
прялок — с квадратной и вытянутой лопастью.
К тотемскому типу следует отнести первую. Лопасть ее венчают 4—5
крупных ромбических городков, отделенных друг от друга глубокими
круглыми вырезами. Две сережки на нижней части лопасти в точности
повторяют форму городков. Ножка прялки слегка сужена кверху.
Прялки ВЕРХНЕ-ТОЛШМЕНСКОГО сельсовета имеют оригинальное завершение
лопасти тремя крупными городками в форме трилистника или круга.
Большие сережки обычно повторяют форму городков. Ножка и лопасть
прялки покрыты мелкой трехгранно-выемчатой резьбой. В центре
композиции — солнечная розетка.
Неподалеку от Толшмы на территории Совеги, ныне входящей в состав
Солигаличского района Костромской области, бытовала еще одна
оригинальная разновидность тотемской прялки с фи-
37. Тотемская прялка с крестами. Конец XIX в.
гурной лопастью, городки и сережки которой выполнялись в форме
крупных причудливых завитков, напоминающих стилизованные головки
коней. Между городками возвышался пятилепестковый цветок. В центре
композиции лопасти, украшенной трехгранно-выемчатой резьбой, обычно
вырезалась розетка в квадрате.
И, наконец, одной из позднейших разновидностей тотемской прялки
являлась так называемая «СОЛОМЕНКА», ареал бытования которой был
довольно обширен и охватывал территорию Верхне-Толшменского,
Маныловского, Никольского и Великодворского сельсоветов. Основной
отличительной особенностью этой разновидности прялок являлись
зигзагообразные узоры, выложенные разноцветной соломкой. В центре
лопасти — солнечная розетка, наверху ее — четыре городка в виде
обращенных друг к
38. Детская прялка-копыл. Середина XIX в. Тотемский район.
другу рожек, внизу — прямо свисающие круглые сережки. Широкое
распространение этих прялок обусловливалось тем, что их
изготавливали на продажу кустарным способом.
ВОЛОГОДСКИЕ ПРЯЛКИ
Вологодские прялки-копылы легко выделяются среди прочих своими
внушительными размерами: они не только выше всех остальных типов
русских прялок, но и имеют значительно более крупную, массивную,
слегка расширенную книзу лопасть. В альбоме А. А. Бобринского
вологодские прялки отнесены ко второму типу. Вырезались они всегда
из монолитного куска дерева, чаше всего из ели или сосны.
39. Тотемская прялка с «переплетами». Начало XX в.
Верхняя часть лопасти вологодской прялки обычно украшена рядом
городков круглой, ромбической или стреловидной формы, хотя иногда
городки заменяются растительными мотивами или тремя пологими
выступами.
Наиболее широко вологодские «лопатообразные» прялки бытовали в
Верховажском, Тарногском, Нюксенском и — частично — Тотемском
районах области. Отличительной особенностью НЮКСЕНСКИХ «копыл»
являлись звенящие «ожерелья» — ряды круглых сквозных отверстий, в
которые вставлялись стеклянные или деревянные бусинки или цветные
камешки, издававшие при каждом движении прялки характерный звук.
Чаще всего трехгранно-выемчатая резьба на нюксенских прялках
сочеталась с яркой раскраской масляными красками.
40. Типичные вологодские прялки-»лопаты». Конец XIX в. Тотемский
район.
Массивные ТАРНОГСКИЕ прялки с маленькой фигурной ножкой обычно
украшались двумя круглыми серьгами или полукруглыми срезами.
Украшенную трехгранновыемчатои резьбой огромную лопасть венчали
городки ромбовидной формы или три пологих выступа. ВЕРХОВАЖСКИЕ
прялки отличались двойным полуовальным завершением лопасти и тремя
обрамляющими его круглыми городками. Нижняя часть лопасти украшалась
двумя полукруглыми срезами. Многие верховажские прялки покрывались
оригинальной цветочной росписью.
На территории Тотемского района бытовали также прялки вологодского
типа: к ним следует отнести упомянутые выше прялки Великодворья с
вытянутой лопастью, а также прялки Сондуги, Середского, Заозерья,
Нижней Печеньги, Медведевского и Матвеевского сельсоветов.
Характерной чертой прялок Великодворья с вытянутой лопастью являются
шесть сквозных отверстий с переплетами: три — в верхней части
лопасти под треугольными городками, и три — в нижней, над двумя
полукруглыми срезами. Местное название такой прялки — «о шести
окошечках».
Такие же прорезные окошечки с переплетами присутствуют и в декоре
прялок из Заозерья. Однако здесь их всего два и располагаются они
почти в центре лопасти, под сквозными арочками и ажурной прорезной
решеткой крестообразной формы. Нижняя часть лопасти украшена двумя
круглыми, обращенными к ножке сережками.
Прялки Середского по форме и декору близки к тарногским, но
отличаются от них меньшим размером лопасти. Сонлугские прялки
выделяются массивными закругленными сережками, напоминающими по
форме стилизованные головы коньков. Матвеевские прялки по форме
почти повторяли заозерские и середские, но значительно чаше
последних покрывались цветочной росписью,
Трехгранновыемчатая резьба на вологодских прялках. Конец XIX в.
И язычество и христианство в одном лице. Начало XIX в. Тарногский
район.
Нюксенская прялка с бусинами. Конец XIX в.
в мотивах и цветочной гамме которой угадывалось влияние молвитинских
мастеров Костромской губернии.
Прялки Нижней Печеный очень массивны. Огромная лопасть венчается
тремя (реже — четырьмя) круглыми городками, расположенными на
вершинах пологих выступов. Нижнюю часть лопасти украшают сережки
такой же формы.
СЕВЕРОДВИНСКИЕ ПРЯЛКИ
Северодвинская расписная прялка-копыл по своей конструкции очень
близка к вологодскому типу, хотя и несколько уступает ему в
размерах. Главной отличительной особенностью прялок этого типа
является графическая белофонная роспись или «роспись с контуром»,
при которой мастер не производил самостоятельных мазков, а только
заполнял предварительно оконтуренные части плоскости.
Исследователи разделили северодвинскую роспись на три
самостоятельных типа: пермогорскую, ракульскую и борецкую. На основе
последней на рубеже XIX—XX веков развились еще две разновидности
местной росписи — пучужская и нижнетоемская.
Самой значительной среди них является ПЕРМОГОРСКАЯ роспись, которая
включает в себя изделия мастеров из деревень гнезда Мокрая Едома.
Основу ее составляет мелкий растительный орнамент, среди которого
размешены различные сцены крестьянского быта. Фасадная сторона
лопасти пермогорской прялки разделялась либо на два, либо на три
«става». В двухставной схеме вверху обычно размешалась райская птица
Сирин, обрамленная зубчатой розеткой, внизу — сцены чаепития либо
катания. Обрат-
51. Северодвинские копылы. Начало XX в. Великоустюгский районная
сторона лопасти оформлялась всегда одинаково: внизу — растительный
узор, вверху — пустая орнаментальная рамка, которая закрывалась
куделью.
На трехставной лопасти вверху чаще всего изображались лев и
единорог, в центре — супрядки, внизу — катание на конях. На обратной
стороне — застолье. В колористической гамме пермогорской росписи
преобладают красный и желтый цвета на белом (иногда желтоватом)
фоне. Искусствоведы полагают, что основные элементы узора и цветовая
гамма росписи Пермогорья имеют много общего с орнаментикой
древнерусских рукописей поморской (XVIII в.) и особенно Белевской
(XIX в.) школ.
«Народные мастера Северной Двины использовали замечательные традиции
древнерусской книги,— пишет О. В. Круглова,— где иллюстрации
являлись как бы вторым текстом для неграмотных, и принципы стенной
храмовой росписи, где последовательный рассказ в образах
изобразительного искусства давал возможность «прочитать» этот сюжет
каждому»11.
Среди мастеров Пермогорья наибольшую известность получили Яков
Иванович и Егор Максимович Ярыгины, Александр Лукьянович Мишарин и
братья Хрипуновы — Дмитрий, Петр и Василий.
Как уже указывалось, в пермогорской росписи господствовал образ
Сирина. Изображения райской птицы можно было встретить не только на
лопастях прялок, но и на многих других предметах крестьянского быта.
Примечательно, что особенной популярностью
11 К р у г л о в а О. В. Северодвинские росписи // Русское народное
искусство Севера. Л., 1968. С. 21.
сказочный образ птицы Сирин пользовался именно на Русском Севере: в
знаменитой городецкой резьбе и живописи он практически не
встречается. Это говорит о том, что якобы пришедший из Греции иди с
Востока образ таинственной и роковой птицедевы не просто пришелся по
вкусу жителям Севера, а оказался для них знакомым и — вполне
вероятно — даже родным. Скорее всего, здесь следует говорить об
обшеиндоевропейских истоках этого древнейшего образа.
В русской ведической традиции волшебные птицы Сирин, Алконост и
Гамаюн совмещались в образе священной покровительницы Руси — Матери
Сва. В. Н. Демин совершенно справедливо сопоставляет слово «сирин» с
языческим названием рая — «ирий»: Сирин, как известно, птица
райская. Отголоски почитания Сирина слышатся также в названиях
страны Сирии и звезды Сириуса, в именах нимфы Сиринги и египетского
бога Осириса12.
Большинство исследователей русского народного искусства склоняются к
версии о греческом происхождении Сирина (от легендарных сирен из
«Одиссеи»), некоторые видят истоки образа райской птицы в далекой
Индии, но ни один из маститых ученых даже не попытался объяснить
необычайную популярность этого персонажа у севернорусского
крестьянства и уж тем более отыскать истоки образа таинственной
птицедевы в русской мифологической традиции. И совершенно
напрасно...
Заглянув в словарь В. И. Даля, мы без труда убедимся, что «сирин» —
слово исконно русское, означающее сову, филина, пугача или особый
вид «долгохвостой совы, похожей на ястреба», ведущей дневной и
ночной образ жизни (SURNIA). Сова же, как известно, почти во всех
традициях является символом мудрости. Но, кроме того, крик совы
многие народы воспринимали как «песню смерти» (вероятно,
представление это было связано с ночным образом ее жизни).
Сладкоголосое пение греческих сирен
Демин В. Н. Тайны русского народа. М., 1997. С. 384—5.
53. Словно три сестрицы-красавицы... Начало XX в. Великоустюгский
район.
оборачивалось гибелью для их слушателей и, стало быть, также
являлось своего рода «песнью смерти». Несомненно одно: у греческих
сирен был свой праобраз, и мы не должны игнорировать версию о его
северном, гиперборейском, «совином» происхождении.
Изображения львов и единорогов также часто встречаются в
произведениях народного искусства. На Русском Севере мы находим их в
росписи сундуков, поставцов, прялок, дуг и лубяных ларцов, в
Поволжье — в декоре крестьянских изб и т. д. В геральдике лев и
единорог символизируют соперничающие солярно-лунные и женско-мужские
силы. Два льва по бокам Мирового Древа выступают в качестве надежных
его стражей: считалось, что лев спит с открытыми глазами, отсюда
почитание его как символа неусыпной бдительности. «Лев спит, а одним
глазом видит»,— гласит русское поверье, зафиксированное В. И. Далем.
Львы-стражи встречаются и в русских народных сказках: «недалеко есть
царство — ты в ворота не езди, у ворот львы стерегут» (А.
Афанасьев).
В апокрифической легенде о Ноевом ковчеге, записанной П. С. Ефименко
в Архангельской губернии, лев выступает в качестве спасителя
ковчега: взяв со всех зверей по клочку шерсти, он проглотил ее и
вырыгнул кота, который набросился на гнусов и истребил их. Коготь
льва использовался в скотоводческой магии для обеспечения
сохранности стада. Упоминается он и в пастушечьем заговоре: «Обхожу
я, раб Божий, с когтем лева-зверя мое милое стадо, крестьянский
живот. Как мои коровушки до сей поры боялись медведя, так теперь да
боится медведь
моих коровушек, а к этому моему слову небо и земля —ключ и замок,
аминь»13.
Характерно, что образ льва закрепился не только в крестьянском
искусстве, но и в произведениях искусства культового характера
(храмовая архитектура Киевской лавры, Суздаля и Владимира, декор
иконостасов XIII века, орнамент псковских колоко-
55_56. Фрагменты северодвинских прялок. Начало XX и середина XIX
веков.
13 Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения
Архангельской губернии. Ч. 2, М., 1878. С. 175.
лов, миниатюры рукописных книг XI—XII веков, медная пластика и т.
д.), а также в светской архитектуре (ворота московского дворца И.
Грозного, корабельная резьба, декор городских домов, набережные
Санкт-Петербурга).
Исследователи вновь сходятся во мнении, что русская культура
заимствовала символ льва из греческой традиции не ранее XI века.
Однако неоднократно зафиксированная и доказанная устойчивость
59—60. У каждой северодвинской прядки свое лицо.
русской традиции свидетельствует не в пользу этого расхожего мнения.
Многие веши на земле до сих пор остаются необъяснимыми: почему,
например, за полярным кругом обнаружены следы произрастания
кипарисов, тополя, магнолии и калины, в Сибири — тропических
растений, а в Гренландии — винограда? Как объяснить ежегодные
миграции перелетных птиц с Юга на Север? Великий уроженец Русского
севера М. В. Ломоносов утверждает: «в северных краях в древние веки
великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться и другим
животным, также и растениям, около экватора обыкновенным, держаться
можно было, а потому и остатки их, здесь находящиеся, не могут
показаться течению натуры противны»14.
Предания различных народов доносят до нас отголоски глобальной
космической катастрофы, некогда постигшей Землю. Это мог быть
космический взрыв в пределах Солнечной системы, в результате
которого огромный осколок-астероид врезался в Землю. Авестийская
школа П. Глобы полагает, что это была гибель Фаэтона, произошедшая
около 26 тысяч лет назад. Смутные воспоминания о чудовищном
катаклизме сохранились в «Авесте», «Бундахишне» и «Калевале», в
греческих мифах и преданиях австралийских аборигенов, в легендах
Новой Зеландии, Сибири и Китая, в священных буддийских текстах и
многих других источниках. Все они сообщают о резком изменении
климата и повороте земной оси, в результате которого солнце изменило
свой ход, а планета «перевернулась». Если раньше солнце приходило с
Севера и уходило на Юг, то после удара начало приходить с Востока и
уходить на Запад.
Только этим можно объяснить многочисленные загадки палео¬ботаники и
палеонтологии, продолжающие тревожить умы современных
исследователей. И если на севере когда-то обитали слоны (вспомним
русские слова «заслон», «прислониться», «слоняться»), то почему того
же самого нельзя сказать и о львах?...
14 Ломоносов М. В. Избранные произведения в двух томах. Т. 1, М.,
1984. С. 196—197.
62—63. Прялки северодвинских мастеров. Коней XIX в.
Вторым по значению видом северодвинской росписи являлись росписи
БОРЕЦКИЕ, НИЖНЕТОЕМСКИЕ и ПУЧУЖСКИЕ, названные так по районам их
изготовления: деревня Первая Жерлыгинская в устье Нижней Тоймы, село
Пучуга и деревня Скобели, Нагорье, Городок, Фалюки и др. (пристань
БОРОК). Как уже отмечалось, пучужские и нижнетоемские росписи
развились на рубеже XIX—XX веков на основе борецкой.
Если в пермогорской росписи растительный узор размещался на лопасти
произвольно, несимметрично, то в борецких прялках он компановался по
строго обозначенной схеме. В трехставной лопасти вверху обычно
изображались окна («став с оконцами»), в центре — полукруглая арка и
внизу — сцена катания («став с конем»). На обратной стороне внизу
помешались различные жанровые сцены, вверху — пустая, пышно
орнаментированная рамка из гибких стеблей.
81—82. Фрагменты ракульских прялок. Начало XX в.
Растительный узор на борецких прялках так же, как и в Пермогорье,
доминировал, но здесь он вырисовывался более мелко, утонченно и
почти всегда делался красным цветом. Кроме того, в декоре прялок
этого типа широко применялось золото. Оформление борецких и
пучужских прялок практически идентично, отличить их друг от друга
можно только по узору на ножке: на борецких стебель прямой, на
пучужских — извивающийся. В свою очередь, отличительной особенностью
нижнетоемской прялки являлась ярко ракрашенная токарная ножка, а на
обратной стороне лопасти — зеркальце для пряхи.
Наиболее известными мастерами борецкой росписи являлись братья
Амосовы — Степан, Никифор, Михаил, Василий, Кузьма и их сестра
Палагея Матвеевна Амосова. В селе Пучуга славились работы отца и
сына Кузнецовых, а в устье Нижней Тоймы — братьев Андрея и Василия
Третьяковых и жены последнего Пелагеи.
И, наконец, третьим центром северодвинской росписи являлась деревня
Ульяновская Черевковского района, расположенная на реке Ракулке
(отсюда название росписи — «ракульская»). Ракульские прялки по своей
высоте значительно превосходили борецкие и пермогорские. По внешнему
виду их невозможно спутать ни с какими другими: невысокая ножка,
расширяясь почти от самого основания овальными уступами, переходит в
длинную и узкую лопасть с четырьмя городками. В нижней части лопасти
всегда изображалась птица, вписанная в орнаментированный квадрат, в
верхней — ветка S-образной формы с крупными листьями и пучками
черных усиков.
Ракульские прялки, в отличие от борецких и пермогорских, имели
характерный желто-охристый цвет. К началу XX века колорит ракульских
прялок потерял былую гармонию: фон из-за использования анилина стал
ядовито-желтым, в росписи крупной ветки по той же причине появились
слишком контрастные цвета— фиолетовый, ярко-голубой и ярко-зеленый.
Самыми известными мастерами ракульской росписи являлись Дмитрий
Федорович Витязев и его сын Яков Дмитриевич.
МЕЗЕНСКИЕ ПРЯЛКИ
Корневые мезенские прялки по своей конструкции также схожи с
прялками вологодского типа. Главным же их отличием является
каллиграфическая роспись с черным контуром по золотисто-желтому фону
(«скоропись»), тематика которой удивительно близка к наскальным
рисункам (петроглифам) Русского Севера.
Лопасть мезенской прялки разбита на горизонтальные фризы, в центре
композиции — две полосы с ритмично бегущими оленями и конями.
Обратную сторону лопасти занимают пароходы, сцены охоты, рыбной
ловли, верховой езды и т. д. «Все в этих прялках преисполнено
значительности: олени и кони изображены словно в торжественном
ритуальном беге»,— пишут составитель альбома «Русские прялки» Н. В.
Тарановская и Н. В. Мальцев.
Центром промысла являлось село Палашелье на реке Мезени, практически
все мужское население которого занималось изготовлением прялок.
Наибольшую известность получили мастера Новиковы, Федотовы, Кузьмины
и Аксеновы. Популярность мезенских прялок была огромной: их вывозили
на Северную Лвину, Пинегу, Печору и даже Онегу. Кроме того, в целом
ряде мест образовались центры подражательной росписи: село Покшеньга
на реке Пинеге, деревня Кеба на реке Вашке, деревня Сельцо на нижней
Двине и т. д.
Основными элементами мезенской росписи являлись олени и кони.
Мифологические функции коня были рассмотрены мною выше в главе о
русской деревянной посуде. Образ оленя часто встречается в северной
вышивке, в сюжетах русских народных сказок, в песнях, преданиях и
поверьях. В упоминавшихся выше северорусских братчинах существовал
обычай приносить в жертву быка. Но в местных преданиях четко
зафиксирован образ жертвенного олен
|
Ткань как целое и часть |
Ткань как целое и часть
§1. Труба - отрез - лоскут
Изучение соотношения целого и части является одним из элементов изучения
большого круга проблем, связанных с признаковым пространством культуры
В лингвистике отношение, устанавливающееся в корреляции часть-целое,
связывает имя некого объекта с именами его частей. Целью данной главы
является соотнесение семантики целого объекта с семантикой его частей:
семантики полотна и его частей.
Необходимо, прежде всего, пояснить термины, вынесенные в заголовок
параграфа. Труба-отрез-лоскут - схема, демонстрирующая последовательность
перехода от "целого" предмета к его части. Готовая ткань на стане, а также
одежда из нее называлась полотном, холстом, холстиком, холстами, холщой,
холщевиной, холщиной, холщей и др. [2] Труба (трубица, трубичка) - рулон
холста. "Холст мотали трубами", "у меня труба одна есть белая-белая",
"труба льняного холста у меня; я ее в музей отдала, да что-то нет там
его", "нитки-то всяки: белы, красны. Шесть трубиц - шесть цветов" [3].
Отрез - достаточно большой кусок ткани для какой-либо одежды. Отрез
воспринимается еще как ткань, но он уже утратил присущую полотну
целостность. Лоскут (лоскутина, лоскутинка) - маленький кусок материи.
Интересно, что этим же термином обозначают и небольшой обрабатываемый
кусок земли, и облака: "Это лоскуты разорвались, облака, значит" [4 ].
Целостность на уровне традиционного сознания представляет собой
совокупность и связь. Ю.Ю. Карпов приводит пример из верований
грузин-ингилойцев, иллюстрирующий народное представление о целостности: "В
новогоднюю ночь хозяйка торопливо прядет шерсть, а хозяин развлекает ее
беседой. Кончив работу, оба они подкрадываются к спящим детям, вынимают
из-под одеяла их руки, обвивают вокруг кисти руки пряжу, завязывают ее
концы и в таком же положении обвязывают ниткой всю посуду и главный столб
"деда-бодзи" (мать-столб), поддерживающий избу. Этой кольцеобразно
обвивающей руки и предметы ниткой ингилойцы символически выражают желание,
чтобы все члены их семейства и их состояние остались целыми и невредимыми.
С руки эта нитка не снимается в течение 3 дней" [5 ].
Мифотворческое сознание и само по себе носит цельный, нерасчлененный
характер: словарные, вещные, действенные формы параллельны. Содержание
мифа смыкается с его коммуникативными реализациями. Такое единство
очевидно на приведенных ниже примерах.
Пространство природы, не тронутое человеком, является целым. Целым
является небо, часто сравниваемое в загадках с платком, шубенкой,
рогожкой, ковром, скатертью [6]. Главным признаком здесь является
бескрайность, неизмеримость. Измерение ассоциируется с обладанием, небом
же обладать невозможно. А.А. Потебня свидетельствует, что такое положение
вещей отражается в данных языка. Существуют понятие идти целком, целиком,
идти без проложенной дороги, если небо сравнивается с дорожкой, то это
нехоженая дорога. На это указывает и сербское циелац - снег, на котором не
видно следов, вятское целок - сугроб [7 ]. Еще одним примером отражения
идеи целого является загадка "скатерть бела - весь мир одела (застлала)".
Фото 3.
Лингвистические данные свидетельствуют о наличии связи между концептами
чистый и целый, полный. Древнерусское значение слова целый - "здоровый,
ясный, светлый; чистый, непорочный; неповрежденный, нетронутый; чистый,
без примеси [8 ]. Отождествление понятий целый, новый, первый, чистый
несет в себе идею чистоты как отсутствия каких-либо знаков, признаков,
качеств: это может быть предмет, только что сделанный, никем еще не
использованный, неначатый. Основа этих сопоставлений - в уверенности, что
любое прикосновение, взгляд или даже мысль о предмете оставляет на нем
след, поэтому чистым в магическом смысле может быт только предмет
неизвестный, неопознанный.
Фото 4.
Еще один аспект ритуальной чистоты - ее общность, принадлежность всем и
никому в отдельности. Здесь берет начало вера в чистоту и святость общих
ритуальных трапез, братчин, совместных молений, складчин. Обыденные
предметы являются примером общих и ничьих вещей, важных для всех в
одинаковой степени общих обрядов. Обыденный предмет чист, нов, он обладает
огромной силой целой нетронутой вещи. По признаку целостности он подобен
миру, каким тот был до эпидемии или других катаклизмов, с которыми
обыденный предмет борется. Именно признак целостности, объединяющий в себе
также признаки новизны, чистоты, делает обыденный предмет таким мощным
оберегом. Известно применение в качестве апотропея в свадебном обряде
рыболовной сети, в которую замотана невеста. Рыболовная сеть - целый
предмет, несмотря на прозрачность, значит, даже невидимая целостность
сохраняет свои свойства.
В современной культуре целому противопоставляется частное, а для
традиционного мышления противоположностью целого является доля во всех
значениях, которые принимает этот термин.
Представление "доли" - одно из самых значимых и действенных в славянской
культурной традиции, и архаично-языческой, и народно-христианской. Поверья
о доле, этическая философия, в центр которой поставлена идея доли -
идеологический ярус действия этого представления. На материально-бытовом
уровне его можно узнать, например, в ежедневном ритуале деления хлеба
(еды) за общей трапезой в традиционной крестьянской семье. Как все
центральные символы традиции, "доля" реализуется в самых разных пластах
реальности и входит в смысловые связи с множеством других разномасштабных
символов.
Самые архаичные элементы семантики "доли" открывает обрядовый материал.
Тема "доли" оказывается определяющей для всего построения обряда, его
функциональной, предметной, действенной, терминологической системы [9].
Русское слово доля входит в семантическое поле слов, уже утративших
непосредственную связь со своим этимологическим значением, мы читаем их
как семантический архаизм - но именно он актуален в контексте обряда [10
].
Исходно доля, часть и даже счастье нейтральны относительно оппозиции
хороший/плохой и могут называть оба вида судьбы, и "фортуну", и "фатум".
Важнее здесь другая оппозиция: свой/чужой, в которой "доля" со всей
определенностью отнесена к своему [11]. "Доля, удел в славянской картине
мира могут быть верно поняты, если сознавать, что "предопределенность",
заключенная в их смысле действует не только "по вертикали", но и "по
горизонтали": доля - часть некоего целого, доставшаяся отдельному человеку
и находящаяся во взаимозависимой связи с другими частями, долями" [12 ].
Семантический мотив "части", "дележа" присутствует в разных терминах
погребального обряда. Само славянское смерть несет в себе исходную
семантику "наделенности долей", так что фразеологизм своя смерть просто
дублирует ее. Также доказывается и родство терминов покойник и убогий. И
действительно, нищий в обряде - это "заместитель" покойного, получающий
его долю; вообще нищий у славян, как известно, (также гость, чуженин)
окружен значением "божества", "обожествленного предка". Об этом
свидетельствует и обрядовое попрошайничество колядовщиков, "гостей из
страны мертвых". С темой "нищеты умершего" связан мотив голода в обряде,
удовлетворению которого посвящены "кормление могилы", "угощение души" на
поминках и др. При этом умершие, в контраст своей "нищете", почитаются
источником всякого изобилия.
Исполнители погребального обряда отчетливо видят в нем деление живых с
мертвыми, выделение его доли. Особенно это явно в похоронах девушки,
приданное которой раздается подругам. Обрядовые жертвы, имеющие исходный
смысл "выделения доли", могут получать иную мотивировку: "На том свете
человеку принадлежит все, что он при жизни роздал, а также все, что
роздали за него". Это: а) дом, заменой которого являются гроб и могила; б)
скот (судьба коровы связана с судьбой хозяйки, корову-нетель отдают
нищему: коровку покойнику); в) лошадь (душу припадаиць в лошадь, поэтому 3
дня после погребения лошадь не работает и отводится на гумно, чтобы не
томить души нябощика); г) свадебная одежда (ее кладут в гроб замужней
женщине, какие-то вещи могут быть уничтожены или "похоронены", отправлены
по сточной воде, отданы нищим, или употреблены после различных очищений:
омовения, "отпевания петухами" и под.); д) хлеб (хлеб, зерно активно
используют в обряде, в т.ч. раздают гостям); е) деньги (интересно, что
более существенной формой оплаты обрядового труда в сравнении с
деньгами-монетами (которые используются как "плата за перевоз",
"выкупление места", "подорожна") является холст: цельное полотно,
полотенца, платки, фартуки, т.е. архаичные женские деньги славянской
традиции; ж) кровные связи (разрыв связи с умершим) [13 ].
Таким образом, описанный в перспективе темы "доли", погребальный обряд
можно определить как раздел, деление живых с умершим, души с телом,
области смерти с областью жизни - и затем, путь души в соответствии с ее
долей, в область смерти.
Если рассматривать ткачество в контексте противопоставления
природа/культура, то "логика развития этого культурного феномена предстает
в виде живого процесса, в котором нить, выходящая из природной стихии,
стремится к своему собственному организованному устойчивому пространству -
ткани" [14 ]. Витье и плетение предстает как форма моделирования
культурного "порядка", противостоящего природным хаотическим силам.
Фото 5.
О.В. Лысенко считает, что каждый последующий этап развития ткачества
содержит в себе элементы предыдущего, причем идет заведомая акцентуация на
этих пережитках. Широко известно ритуальное полотенце "Рушник свата",
хранящееся в Государственном музее этнографии. Особенность этого предмета
в том, что к традиционному полотнищу полотенца прикреплен небольшой
кусочек пояса. Этот пример иллюстрирует последовательное включение в
культурный текст элементов ткачества разной сложности.
Интересно влияние вышивки на объекты из ткани. Существует мнение, что
первоначально целью вышивки являлось создание четкой границы между частями
одежды, маркирование кромки тканого изделия (как полотенца) или деталей
кроя. Изделие с вышивкой приобретает законченный характер и целостность.
Кроме того, зачастую вышивка делает акцент на космологических параллелях:
так, наиболее распространенными мотивами русской народной вышивки являются
изображения женщин, птиц, оленей и подобные, находящие отражение в мифе
[15 ].
Если нить - судьба, дорога, жизненный путь; то полотно - весь мир, в этом
одна из причин его (полотна) целостности. Каждый день женщина
воспроизводит мир во всей его хаотичности, непонятности для человека. Идея
ритмов перехода, кругов вращения реализуется одинаково и в мифе об
Осирисе, и в ткачестве.
Важно выяснить, передаются ли, и каким образом признаки и значения целого
полотна на его части. Одной из таких частей является пояс, но он
одновременно и целая самостоятельная вещь, сейчас же нас интересуют отрезы
и лоскуты, то, что получено при разрезании, раскрое ткани, и отходы, не
пригодные для изготовления одежды.
Наиболее интересно использование таких частей ткани в качестве дара и
жертвоприношения. Так, например, отрез является очень ценным подарком, его
преподносят родственникам, лицам, участвующим в обрядах в активных ролях,
в благодарность за какие-либо услуги и в других случаях. Очевидно, что
лоскут, обрывок ткани не может быть подарен, он не имеет никакой ценности
ни для кого, кроме хозяина, которому жаль выбросить, казалось бы, ненужные
лоскутки. Однако лоскут может быть использован, и таких ситуаций
несколько.
Фото 6.
Очень часто кусочки ткани (или целые тканые изделия: ленты, пояса, платки,
полотенца, простыни и т.п.), шерсть и лен встречаются среди "обетов". Их
привязывают к деревьям, кладут на почитаемые камни. Хотя приношение тканых
изделий могло быть и обрядом, обязательным для всех богомольцев,
собиравшихся на праздник в почитаемое место, чаще всего оно носило
окказиональный характер и было направлено на преодоление того или иного
кризиса (например, болезни) [16 ]. Такие кусочки являются знаком их
хозяина. Они указывают на то, что хозяин был здесь, напоминают о его
просьбе. По своей функциональной нагрузке привязываемые лоскуты очень
близки к вотивам, металлическим, керамическим, вышитым или деревянным
изображениям человека или частей его тела, приносимым к святым местам с
целью исцеления от болезней. Таким образом, лоскут несет информацию о
своем хозяине, маркирует его пожелание.
Фото 7.
Лоскуты или маленькие кусочки ткани могут быть использованы при
изготовлении некоторых элементов одежды, декоративных обтачек и др.
Интересно, что одежда не может изготовляться из цельного куска с
наименьшим количеством швов, более того, некоторые детали одежды имеют
вставки в тех местах, где это технологически неоправданно. Такова вставка
в поневе. Наличие этой вставки оправдывается постоянным ношением фартука,
закрывающего ее. Фартук относится к тем элементам одежды, которые несут
типично женские признаки. Фартук используется в магии плодородия, где
отражает участие женщины в символическом акте оплодотворения-сева.
Мужчина, сеющий лен, снимает с себя одежду кроме рубахи и надевает фартук
своей жены. Этот фартук заменяет присутствие женщины во время сева.
Фото 8.
Итак, фартук закрывает вставку на поневе, выйти без него из дома
неприлично, женщина без фартука является голой, опасной. Следовательно,
вставка на поневе не делает женщину одетой, в этом отличие вставки от
одежды из целого куска.
Фартук, напротив, является преградой, он закрывает наиболее "опасную"
часть тела женщины от окружающих, противодействуя вредным влияниям с той и
с другой стороны. В этом отношении показателен обычай привязывать фартук к
намогильному кресту (как полотенце) [17 ].
Лоскутки могут быть атрибутом колдуна, который хранит их в специальной
маленькой коробке, с их помощью колдун может передавать свое знание [18].
Известно народное средство от эпилепсии: эпилепсию "хоронят", отрезая
кусок ткани от рубахи больного и помещая в гроб к покойнику [19 ].
Подобным образом осуществляется передача других болезней.
Таким образом, лоскуты, куски, одежда из кусков не обладает апотропейными
свойствами целой ткани и одежды, так как не отвечают главному требованию,
предъявляемому к оберегу, не являются самодостаточной, целой вещью. Однако
лоскутки ткани находятся в связи со своим хозяином и с целой вещью, от
которой они отрезаны.
Для рассмотрения сущности ткачества как архетипа и его места в модели мира
русских следует перейти от бытовых представлений к другому их уровню,
более абстрактному и более глубинному, где он является элементом сложной
системы, выполняющим свои особые функции.
"В содержательном плане архетипическая модель мира ориентируется на
предельную космологизированность сущего и тем самым на описание
космологизированного modus vivendi и основных параметров Вселенной -
пространственно-временных, причинных, этических, количественных,
семантических, персональных" [20 ]. Для представления этого обширного
разнообразного и сложного комплекса выработан способ описания с помощью
бинарных оппозиций. При всей полезности и несомненности бинарных оппозиций
они недостаточны для того, чтобы выразить суть мира, суть жизни, которые
требуют для своего описания каких-то уравновешивающих, соединяющих
средств, преодолевающих и даже опровергающих детерминированность и
рациональность. Вечное продолжение жизни (вечное возвращение) и обновление
состоит в преодолении жестких рамок непреложных истин.
Снятие противопоставлений, перевертываний, смешение миров, которое
обязательно происходит в отмеченные точки ритуального сценария, который
является залогом сохранения космического порядка, - крайнее проявление
этого механизма. Этими точками могут быть рубежи годового цикла,
человеческой жизни. Многочисленные ритмы перехода содержат в себе не
только вечное движение, но и идею предела, перед которым надо
остановиться, выйдя тем самым в беспредельность [21]. Однако выход в
беспредельность отнюдь не нарушает целостности мира, однако подвергает
сомнению существование рациональной системы. В некотором смысле принцип
целостности может быть противопоставлен принципу системности [22 ]. Но в
целом есть не только "системное", но и "антисистемное", рационализируемое
и недоступное разуму, чувственно данное и сверхчувственное, реальное и
идеальное. Поэтому принцип целостности неизмеримо богаче принципа
системности, последний лишь частично и в пределах логики разъясняет, но не
заменяет первый. Таким образом, все множество элементов системы не
исчерпывает целого.
Д.В. Пивоваров указывает на то, что А.С. Хомяков и П.А. Флоренский
сближали русское слово "тело" со словом "целое" и "цель" [23]. Тело
(человек или вещь) выступает как универсальная модель Вселенной и может
быть представлена как единое, целостное и как разделенное на элементы.
Абсолютность критерия целостности обеспечивает его большую полезность и
надежность, и оптимальные классифицирующие возможности, исходящие из самой
реальности [24 ]. Представленный своим телом человек абсолютен, также
абсолютна и вещь, она равна самой себе и не смешиваема с остальными.
Вводя в классификацию мира принцип абсолютности, на котором основано
тождество макрокосма и микрокосма, исследователь видит, что абсолютность
заключена в каждом теле, что отражено в мифологических концепциях, которые
развивают тему происхождения мирового пространства из некоего изначального
тела, первовещества. Такие концепции имеют очень древнюю природу:
материалистические идеи с самого начала философствования не могли прийти к
понятию "материя", так как оно абстрактно, а способность к абстрагированию
требует определенного уровня знания. Отсюда концепции о происхождении
всего сущего из огня, воды, всех четырех стихий, как было у греческих
философов. Даже для них было необходимо представить первовещество как
нечто конкретное и вполне осязаемое. Для традиционного мышления этим телом
мог быть Первочеловек, некая масса, позволяющая творить (глина, дерево,
песок и, в нашем случае, кудель). Первоначально единое, целостное и
самодостаточное оно становилось строительным материалом для всего, что
есть в мире. На всех уровнях целостности в культуре остается нечто общее.
Целостностью является мир, человек, дом, полотно. В определенном контексте
все эти целостности тождественны, поэтому их признаки можно свободно
переносить друг на друга.
Таким образом, отличие признака целостности от многих других признаков
объекта заключается в том, что он меняет сущность объекта, а не оказывает
какое-либо незначительное внешнее влияние. Интересен механизм
абсолютизации признака: достаточно самой слабой степени присутствия или
проявления признака для того, чтобы его обладатель мог выполнить свою
символическую функцию, приданную этим признаком. Вещью, обладающей всеми
признаками целого, является пояс, семантизация которого рассмотрена в
следующем параграфе.
© Н.С. Кошубарова, 2003 г.
§1. Труба - отрез - лоскут
Изучение соотношения целого и части является одним из элементов изучения
большого круга проблем, связанных с признаковым пространством культуры
В лингвистике отношение, устанавливающееся в корреляции часть-целое,
связывает имя некого объекта с именами его частей. Целью данной главы
является соотнесение семантики целого объекта с семантикой его частей:
семантики полотна и его частей.
Необходимо, прежде всего, пояснить термины, вынесенные в заголовок
параграфа. Труба-отрез-лоскут - схема, демонстрирующая последовательность
перехода от "целого" предмета к его части. Готовая ткань на стане, а также
одежда из нее называлась полотном, холстом, холстиком, холстами, холщой,
холщевиной, холщиной, холщей и др. [2] Труба (трубица, трубичка) - рулон
холста. "Холст мотали трубами", "у меня труба одна есть белая-белая",
"труба льняного холста у меня; я ее в музей отдала, да что-то нет там
его", "нитки-то всяки: белы, красны. Шесть трубиц - шесть цветов" [3].
Отрез - достаточно большой кусок ткани для какой-либо одежды. Отрез
воспринимается еще как ткань, но он уже утратил присущую полотну
целостность. Лоскут (лоскутина, лоскутинка) - маленький кусок материи.
Интересно, что этим же термином обозначают и небольшой обрабатываемый
кусок земли, и облака: "Это лоскуты разорвались, облака, значит" [4 ].
Целостность на уровне традиционного сознания представляет собой
совокупность и связь. Ю.Ю. Карпов приводит пример из верований
грузин-ингилойцев, иллюстрирующий народное представление о целостности: "В
новогоднюю ночь хозяйка торопливо прядет шерсть, а хозяин развлекает ее
беседой. Кончив работу, оба они подкрадываются к спящим детям, вынимают
из-под одеяла их руки, обвивают вокруг кисти руки пряжу, завязывают ее
концы и в таком же положении обвязывают ниткой всю посуду и главный столб
"деда-бодзи" (мать-столб), поддерживающий избу. Этой кольцеобразно
обвивающей руки и предметы ниткой ингилойцы символически выражают желание,
чтобы все члены их семейства и их состояние остались целыми и невредимыми.
С руки эта нитка не снимается в течение 3 дней" [5 ].
Мифотворческое сознание и само по себе носит цельный, нерасчлененный
характер: словарные, вещные, действенные формы параллельны. Содержание
мифа смыкается с его коммуникативными реализациями. Такое единство
очевидно на приведенных ниже примерах.
Пространство природы, не тронутое человеком, является целым. Целым
является небо, часто сравниваемое в загадках с платком, шубенкой,
рогожкой, ковром, скатертью [6]. Главным признаком здесь является
бескрайность, неизмеримость. Измерение ассоциируется с обладанием, небом
же обладать невозможно. А.А. Потебня свидетельствует, что такое положение
вещей отражается в данных языка. Существуют понятие идти целком, целиком,
идти без проложенной дороги, если небо сравнивается с дорожкой, то это
нехоженая дорога. На это указывает и сербское циелац - снег, на котором не
видно следов, вятское целок - сугроб [7 ]. Еще одним примером отражения
идеи целого является загадка "скатерть бела - весь мир одела (застлала)".
Фото 3.
Лингвистические данные свидетельствуют о наличии связи между концептами
чистый и целый, полный. Древнерусское значение слова целый - "здоровый,
ясный, светлый; чистый, непорочный; неповрежденный, нетронутый; чистый,
без примеси [8 ]. Отождествление понятий целый, новый, первый, чистый
несет в себе идею чистоты как отсутствия каких-либо знаков, признаков,
качеств: это может быть предмет, только что сделанный, никем еще не
использованный, неначатый. Основа этих сопоставлений - в уверенности, что
любое прикосновение, взгляд или даже мысль о предмете оставляет на нем
след, поэтому чистым в магическом смысле может быт только предмет
неизвестный, неопознанный.
Фото 4.
Еще один аспект ритуальной чистоты - ее общность, принадлежность всем и
никому в отдельности. Здесь берет начало вера в чистоту и святость общих
ритуальных трапез, братчин, совместных молений, складчин. Обыденные
предметы являются примером общих и ничьих вещей, важных для всех в
одинаковой степени общих обрядов. Обыденный предмет чист, нов, он обладает
огромной силой целой нетронутой вещи. По признаку целостности он подобен
миру, каким тот был до эпидемии или других катаклизмов, с которыми
обыденный предмет борется. Именно признак целостности, объединяющий в себе
также признаки новизны, чистоты, делает обыденный предмет таким мощным
оберегом. Известно применение в качестве апотропея в свадебном обряде
рыболовной сети, в которую замотана невеста. Рыболовная сеть - целый
предмет, несмотря на прозрачность, значит, даже невидимая целостность
сохраняет свои свойства.
В современной культуре целому противопоставляется частное, а для
традиционного мышления противоположностью целого является доля во всех
значениях, которые принимает этот термин.
Представление "доли" - одно из самых значимых и действенных в славянской
культурной традиции, и архаично-языческой, и народно-христианской. Поверья
о доле, этическая философия, в центр которой поставлена идея доли -
идеологический ярус действия этого представления. На материально-бытовом
уровне его можно узнать, например, в ежедневном ритуале деления хлеба
(еды) за общей трапезой в традиционной крестьянской семье. Как все
центральные символы традиции, "доля" реализуется в самых разных пластах
реальности и входит в смысловые связи с множеством других разномасштабных
символов.
Самые архаичные элементы семантики "доли" открывает обрядовый материал.
Тема "доли" оказывается определяющей для всего построения обряда, его
функциональной, предметной, действенной, терминологической системы [9].
Русское слово доля входит в семантическое поле слов, уже утративших
непосредственную связь со своим этимологическим значением, мы читаем их
как семантический архаизм - но именно он актуален в контексте обряда [10
].
Исходно доля, часть и даже счастье нейтральны относительно оппозиции
хороший/плохой и могут называть оба вида судьбы, и "фортуну", и "фатум".
Важнее здесь другая оппозиция: свой/чужой, в которой "доля" со всей
определенностью отнесена к своему [11]. "Доля, удел в славянской картине
мира могут быть верно поняты, если сознавать, что "предопределенность",
заключенная в их смысле действует не только "по вертикали", но и "по
горизонтали": доля - часть некоего целого, доставшаяся отдельному человеку
и находящаяся во взаимозависимой связи с другими частями, долями" [12 ].
Семантический мотив "части", "дележа" присутствует в разных терминах
погребального обряда. Само славянское смерть несет в себе исходную
семантику "наделенности долей", так что фразеологизм своя смерть просто
дублирует ее. Также доказывается и родство терминов покойник и убогий. И
действительно, нищий в обряде - это "заместитель" покойного, получающий
его долю; вообще нищий у славян, как известно, (также гость, чуженин)
окружен значением "божества", "обожествленного предка". Об этом
свидетельствует и обрядовое попрошайничество колядовщиков, "гостей из
страны мертвых". С темой "нищеты умершего" связан мотив голода в обряде,
удовлетворению которого посвящены "кормление могилы", "угощение души" на
поминках и др. При этом умершие, в контраст своей "нищете", почитаются
источником всякого изобилия.
Исполнители погребального обряда отчетливо видят в нем деление живых с
мертвыми, выделение его доли. Особенно это явно в похоронах девушки,
приданное которой раздается подругам. Обрядовые жертвы, имеющие исходный
смысл "выделения доли", могут получать иную мотивировку: "На том свете
человеку принадлежит все, что он при жизни роздал, а также все, что
роздали за него". Это: а) дом, заменой которого являются гроб и могила; б)
скот (судьба коровы связана с судьбой хозяйки, корову-нетель отдают
нищему: коровку покойнику); в) лошадь (душу припадаиць в лошадь, поэтому 3
дня после погребения лошадь не работает и отводится на гумно, чтобы не
томить души нябощика); г) свадебная одежда (ее кладут в гроб замужней
женщине, какие-то вещи могут быть уничтожены или "похоронены", отправлены
по сточной воде, отданы нищим, или употреблены после различных очищений:
омовения, "отпевания петухами" и под.); д) хлеб (хлеб, зерно активно
используют в обряде, в т.ч. раздают гостям); е) деньги (интересно, что
более существенной формой оплаты обрядового труда в сравнении с
деньгами-монетами (которые используются как "плата за перевоз",
"выкупление места", "подорожна") является холст: цельное полотно,
полотенца, платки, фартуки, т.е. архаичные женские деньги славянской
традиции; ж) кровные связи (разрыв связи с умершим) [13 ].
Таким образом, описанный в перспективе темы "доли", погребальный обряд
можно определить как раздел, деление живых с умершим, души с телом,
области смерти с областью жизни - и затем, путь души в соответствии с ее
долей, в область смерти.
Если рассматривать ткачество в контексте противопоставления
природа/культура, то "логика развития этого культурного феномена предстает
в виде живого процесса, в котором нить, выходящая из природной стихии,
стремится к своему собственному организованному устойчивому пространству -
ткани" [14 ]. Витье и плетение предстает как форма моделирования
культурного "порядка", противостоящего природным хаотическим силам.
Фото 5.
О.В. Лысенко считает, что каждый последующий этап развития ткачества
содержит в себе элементы предыдущего, причем идет заведомая акцентуация на
этих пережитках. Широко известно ритуальное полотенце "Рушник свата",
хранящееся в Государственном музее этнографии. Особенность этого предмета
в том, что к традиционному полотнищу полотенца прикреплен небольшой
кусочек пояса. Этот пример иллюстрирует последовательное включение в
культурный текст элементов ткачества разной сложности.
Интересно влияние вышивки на объекты из ткани. Существует мнение, что
первоначально целью вышивки являлось создание четкой границы между частями
одежды, маркирование кромки тканого изделия (как полотенца) или деталей
кроя. Изделие с вышивкой приобретает законченный характер и целостность.
Кроме того, зачастую вышивка делает акцент на космологических параллелях:
так, наиболее распространенными мотивами русской народной вышивки являются
изображения женщин, птиц, оленей и подобные, находящие отражение в мифе
[15 ].
Если нить - судьба, дорога, жизненный путь; то полотно - весь мир, в этом
одна из причин его (полотна) целостности. Каждый день женщина
воспроизводит мир во всей его хаотичности, непонятности для человека. Идея
ритмов перехода, кругов вращения реализуется одинаково и в мифе об
Осирисе, и в ткачестве.
Важно выяснить, передаются ли, и каким образом признаки и значения целого
полотна на его части. Одной из таких частей является пояс, но он
одновременно и целая самостоятельная вещь, сейчас же нас интересуют отрезы
и лоскуты, то, что получено при разрезании, раскрое ткани, и отходы, не
пригодные для изготовления одежды.
Наиболее интересно использование таких частей ткани в качестве дара и
жертвоприношения. Так, например, отрез является очень ценным подарком, его
преподносят родственникам, лицам, участвующим в обрядах в активных ролях,
в благодарность за какие-либо услуги и в других случаях. Очевидно, что
лоскут, обрывок ткани не может быть подарен, он не имеет никакой ценности
ни для кого, кроме хозяина, которому жаль выбросить, казалось бы, ненужные
лоскутки. Однако лоскут может быть использован, и таких ситуаций
несколько.
Фото 6.
Очень часто кусочки ткани (или целые тканые изделия: ленты, пояса, платки,
полотенца, простыни и т.п.), шерсть и лен встречаются среди "обетов". Их
привязывают к деревьям, кладут на почитаемые камни. Хотя приношение тканых
изделий могло быть и обрядом, обязательным для всех богомольцев,
собиравшихся на праздник в почитаемое место, чаще всего оно носило
окказиональный характер и было направлено на преодоление того или иного
кризиса (например, болезни) [16 ]. Такие кусочки являются знаком их
хозяина. Они указывают на то, что хозяин был здесь, напоминают о его
просьбе. По своей функциональной нагрузке привязываемые лоскуты очень
близки к вотивам, металлическим, керамическим, вышитым или деревянным
изображениям человека или частей его тела, приносимым к святым местам с
целью исцеления от болезней. Таким образом, лоскут несет информацию о
своем хозяине, маркирует его пожелание.
Фото 7.
Лоскуты или маленькие кусочки ткани могут быть использованы при
изготовлении некоторых элементов одежды, декоративных обтачек и др.
Интересно, что одежда не может изготовляться из цельного куска с
наименьшим количеством швов, более того, некоторые детали одежды имеют
вставки в тех местах, где это технологически неоправданно. Такова вставка
в поневе. Наличие этой вставки оправдывается постоянным ношением фартука,
закрывающего ее. Фартук относится к тем элементам одежды, которые несут
типично женские признаки. Фартук используется в магии плодородия, где
отражает участие женщины в символическом акте оплодотворения-сева.
Мужчина, сеющий лен, снимает с себя одежду кроме рубахи и надевает фартук
своей жены. Этот фартук заменяет присутствие женщины во время сева.
Фото 8.
Итак, фартук закрывает вставку на поневе, выйти без него из дома
неприлично, женщина без фартука является голой, опасной. Следовательно,
вставка на поневе не делает женщину одетой, в этом отличие вставки от
одежды из целого куска.
Фартук, напротив, является преградой, он закрывает наиболее "опасную"
часть тела женщины от окружающих, противодействуя вредным влияниям с той и
с другой стороны. В этом отношении показателен обычай привязывать фартук к
намогильному кресту (как полотенце) [17 ].
Лоскутки могут быть атрибутом колдуна, который хранит их в специальной
маленькой коробке, с их помощью колдун может передавать свое знание [18].
Известно народное средство от эпилепсии: эпилепсию "хоронят", отрезая
кусок ткани от рубахи больного и помещая в гроб к покойнику [19 ].
Подобным образом осуществляется передача других болезней.
Таким образом, лоскуты, куски, одежда из кусков не обладает апотропейными
свойствами целой ткани и одежды, так как не отвечают главному требованию,
предъявляемому к оберегу, не являются самодостаточной, целой вещью. Однако
лоскутки ткани находятся в связи со своим хозяином и с целой вещью, от
которой они отрезаны.
Для рассмотрения сущности ткачества как архетипа и его места в модели мира
русских следует перейти от бытовых представлений к другому их уровню,
более абстрактному и более глубинному, где он является элементом сложной
системы, выполняющим свои особые функции.
"В содержательном плане архетипическая модель мира ориентируется на
предельную космологизированность сущего и тем самым на описание
космологизированного modus vivendi и основных параметров Вселенной -
пространственно-временных, причинных, этических, количественных,
семантических, персональных" [20 ]. Для представления этого обширного
разнообразного и сложного комплекса выработан способ описания с помощью
бинарных оппозиций. При всей полезности и несомненности бинарных оппозиций
они недостаточны для того, чтобы выразить суть мира, суть жизни, которые
требуют для своего описания каких-то уравновешивающих, соединяющих
средств, преодолевающих и даже опровергающих детерминированность и
рациональность. Вечное продолжение жизни (вечное возвращение) и обновление
состоит в преодолении жестких рамок непреложных истин.
Снятие противопоставлений, перевертываний, смешение миров, которое
обязательно происходит в отмеченные точки ритуального сценария, который
является залогом сохранения космического порядка, - крайнее проявление
этого механизма. Этими точками могут быть рубежи годового цикла,
человеческой жизни. Многочисленные ритмы перехода содержат в себе не
только вечное движение, но и идею предела, перед которым надо
остановиться, выйдя тем самым в беспредельность [21]. Однако выход в
беспредельность отнюдь не нарушает целостности мира, однако подвергает
сомнению существование рациональной системы. В некотором смысле принцип
целостности может быть противопоставлен принципу системности [22 ]. Но в
целом есть не только "системное", но и "антисистемное", рационализируемое
и недоступное разуму, чувственно данное и сверхчувственное, реальное и
идеальное. Поэтому принцип целостности неизмеримо богаче принципа
системности, последний лишь частично и в пределах логики разъясняет, но не
заменяет первый. Таким образом, все множество элементов системы не
исчерпывает целого.
Д.В. Пивоваров указывает на то, что А.С. Хомяков и П.А. Флоренский
сближали русское слово "тело" со словом "целое" и "цель" [23]. Тело
(человек или вещь) выступает как универсальная модель Вселенной и может
быть представлена как единое, целостное и как разделенное на элементы.
Абсолютность критерия целостности обеспечивает его большую полезность и
надежность, и оптимальные классифицирующие возможности, исходящие из самой
реальности [24 ]. Представленный своим телом человек абсолютен, также
абсолютна и вещь, она равна самой себе и не смешиваема с остальными.
Вводя в классификацию мира принцип абсолютности, на котором основано
тождество макрокосма и микрокосма, исследователь видит, что абсолютность
заключена в каждом теле, что отражено в мифологических концепциях, которые
развивают тему происхождения мирового пространства из некоего изначального
тела, первовещества. Такие концепции имеют очень древнюю природу:
материалистические идеи с самого начала философствования не могли прийти к
понятию "материя", так как оно абстрактно, а способность к абстрагированию
требует определенного уровня знания. Отсюда концепции о происхождении
всего сущего из огня, воды, всех четырех стихий, как было у греческих
философов. Даже для них было необходимо представить первовещество как
нечто конкретное и вполне осязаемое. Для традиционного мышления этим телом
мог быть Первочеловек, некая масса, позволяющая творить (глина, дерево,
песок и, в нашем случае, кудель). Первоначально единое, целостное и
самодостаточное оно становилось строительным материалом для всего, что
есть в мире. На всех уровнях целостности в культуре остается нечто общее.
Целостностью является мир, человек, дом, полотно. В определенном контексте
все эти целостности тождественны, поэтому их признаки можно свободно
переносить друг на друга.
Таким образом, отличие признака целостности от многих других признаков
объекта заключается в том, что он меняет сущность объекта, а не оказывает
какое-либо незначительное внешнее влияние. Интересен механизм
абсолютизации признака: достаточно самой слабой степени присутствия или
проявления признака для того, чтобы его обладатель мог выполнить свою
символическую функцию, приданную этим признаком. Вещью, обладающей всеми
признаками целого, является пояс, семантизация которого рассмотрена в
следующем параграфе.
© Н.С. Кошубарова, 2003 г.
|
История развития русского узорного ткачества |
История развития русского узорного ткачества
Н.В. Егупова,
аспирантка кафедры
декоративно-прикладного искусства
и технической графики ОГУ
Интересный и своеобразный вид народного прикладного искусства – ручное узорное ткачество – уходит своими корнями в глубокое прошлое. В археологических раскопках курганов на территории средней России находят остатки тканей местной работы, в том числе узорных, относящихся еще к домонгольскому периоду. По своим узорам и технике исполнения они очень близки узорным народным тканям XIX–начала XX в.
Из исторических документов известно, что в XVI–XVII вв. в Москве существовало несколько ткацких слобод, где жили ткачи, работавшие специально «на царский обиход», для пополнения «государевой белой казны» (так называли запасы льняных полотен). Там ткали различные виды полотен из льняной пряжи высшего качества, среди них были и узорные ткани – различного рода убрусы (головные полотенца), ширинки (небольшие салфетки), скатерти и т. д. Историк конца XIX в. И. Забелин в труде «Домашний быт русского народа» упоминает до 20 наименований рисунков одних только скатертей того времени, такие, как «ключатик», «осмерног», «лоси под деревом», и др.
Особенно славились узорные ткани работы ткачей Кадашевской ткацкой слободы в Москве, среди прочих тканей там делали и так называемые посольские скатерти, украшенные помимо ткачества еще и вышивкой и предназначенные для торжественных приемов во дворце. Были в Москве и другие ткацкие слободы, одна из них так и называлась – Хамовники (хамовниками называли ткачей). Существовали и дальние хамовные села. Так, в районе Ярославля «на царский обиход» работало два села – Брейтово и Черкасово. Их работа ценилась также очень высоко. Имелись хамовные села и слободы и при монастырских и боярских вотчинах. Их жители платили феодальную повинность льняными полотнами и узорными тканями.
К сожалению, тканей той поры не сохранилось. Мы можем судить о них лишь только по упоминаниям в старинных документах, представить же их узоры сейчас почти невозможно. Можно предположить, однако, что по стилю они были близки крестьянским узорным тканям XIX–начала XX в., сохранившим древнейшие традиционные черты в своем оформлении.
В XIX в. домашнее ткачество, в том числе узорное, имело чрезвычайно широкое распространение в крестьянском быту южной и северной России. Сырьем для него служили, как и в Древней Руси, лен, шерсть, конопля, добываемые и обрабатываемые в каждом крестьянском хозяйстве. Для узорных тканей шел в основном лен, обладающий большими декоративными возможностями, и шерсть от домашних овец. В конце XIX в. начинают использовать и покупную «бумагу» (хлопчатобумажную пряжу фабричного производства), и тонкую шерсть, тоже фабричного прядения. И то и другое чаще всего в уже окрашенном виде.
Долгими зимними вечерами крестьянские девушки пряли на ручных прялках свой лен, для чего устраивались специальные посиделки, или беседы, а ближе к весне начинали ткать полотна и узорные ткани, имевшие разное назначение. Из них деревенские женщины шили цветные сарафаны, юбки – поневы, рубахи с узорной отделкой по подолу, рукавам и у ворота, передники, верхнюю летнюю распашную одежду – шушпан, а иногда и платки, головные косынки. Прекрасным дополнением к костюму, как к женскому, так и к мужскому, служил узорный пояс, затканный геометрическим орнаментом, а то и буквами, из которых складывались инициалы и надписи, вроде: «Кого люблю, того дарю». Такой пояс обычно невеста дарила своему жениху.
В целом русская народная одежда была необычайно яркой и красочной, в особенности праздничная. Прекрасное по своей живописности зрелище представлял первый выгон скота или первый день сенокоса в разгар лета, которые всегда отмечались как своего рода трудовые праздники. Яркие разноцветные тканые юбки женщин или их рубахи с нарядными подолами, в которых доминировал красный цвет в сочетании с ярко-розовым, синим, оранжево-желтым, фиолетовым, контрастно выделялись на фоне сочной зелени лугов и соперничали своими красками с луговыми цветами. С неменьшим вкусом и мастерством оформлялись и те изделия, которыми украшали внутренние помещения крестьянского дома,– полотенца, скатерти, подзоры простыней, занавески.
Все это исключительно красочное богатство, бесконечное разнообразие узоров создавалось, как правило, руками простых деревенских женщин, крестьянок, которые на протяжении многих лет, из поколения в поколение передавая секреты своего мастерства, донесли до наших дней богатые художественные традиции этого древнего самобытного вида искусства. Искусство узорного ткачества было развито повсеместно в крестьянском быту не только у русских, но и у украинцев, белорусов и у других народов России. У каждого народа оно отличалось своими чертами, характеризующими его как часть национальной культуры.
Для русского народного ткачества в целом характерны строгая геометричность всех узоров, их большая ритмичность и уравновешенность отдельных частей. Сравнительно редко встречающиеся растительные и зооморфные мотивы, а также узоры с изображением человеческих фигур бывают сильно геометризованы, окружены геометрическими мотивами и превращены в орнамент, подчиненный строгим линиям ритма. Узор в ткани строится обычно на пересечении диагональных линий, образующих самые различные орнаментальные формы, в которых ясно прослеживается их происхождение от ромба. То это ромб с отростками (так называемый орепей), то ромб с гребенчатыми сторонами, то ромб с крючками, выходящими из двух или из четырех его углов, то ромбовидная сетка, а иногда полуромб в виде треугольника. Основа, связующая орнамент в русских народных тканях, – симметрия, почти обязательная по вертикальной оси, а очень часто и по горизонтальной. Характерно фризовое построение орнамента – в виде горизонтальной полосы, в которой отдельные элементы повторяются, образуя раппорт.
Колорит русских народных тканей характеризует звучная цветовая гамма, в которой преобладает красный цвет. Пристрастие к красному цвету отмечено исследователями еще в тканях домонгольской Руси, как драгоценных привозных паволоках, употребляемых знатью, так и в простой домотканине, из которой шили свои одежды крестьяне и городские ремесленники. Недаром в русском фольклоре слово «красный» является синонимом слов «красивый», «прекрасный» (красная девица, красное солнышко, Красная площадь). Красный цвет в русских крестьянских тканях XIX в. чаще всего сочетается с белым. Это сочетание дополнялось иногда золотисто-желтым, зеленым, черным, а в более позднее время, в конце XIX–начале XX в., и другими цветами – ярко-розовым, васильково-синим, фиолетовым и др., что определяло приподнятый мажорный колористический строй.
Несмотря на общее стилевое единство, русские народные ткани чрезвычайно разнообразны. В каждой области, порой даже районе, существовали небольшие центры узорного ткачества, и в каждом из них оно отличалось своеобразными чертами, выраженными в некоторых особенностях колорита, в расположении узора на вещи, количественном соотношении гладкого поля и узора, наконец, в самом назначении предметов, украшенных ткаными узорами.
Значительно различаются между собой ткани Севера России и южнорусских районов, что объясняется различием в самом укладе жизни, связанном с климатическими условиями и с издавна сложившимися традициями культуры и быта. Так, на Севере России, на территории современных Архангельской, Вологодской областей, всегда большое место отводилось узорным тканям, предназначенным для украшения интерьера крестьянского дома. Это вполне понятно, если учесть, что северный дом, на строительство которого не жалели леса (лес имелся здесь в изобилии), представлял собой крупное, величественное сооружение и состоял из нескольких бревенчатых двухэтажных клетей, крытых одной крышей, с большим количеством внутренних помещений, как жилых, так и хозяйственного назначения. С другой стороны, в силу сурового климата северный крестьянин значительное количество времени в году вынужден был проводить под крышей. Естественно, устройству помещений этого дома, в особенности жилых, их убранству придавалось большое значение. В красном углу (передний угол наискосок от печи) стоял обычно стол, накрытый домотканой скатертью, по будням – более простой, одноцветной, по праздникам – нарядной, украшенной ткаными узорами. В одних местах на Севере любили скатерти чисто-белые с белым же рельефно выступающим узором, покрывающим ее сплошь. Такими были скатерти русского населения Карелии, а также в районе реки Онеги, Белого озера. В районах, расположенных по Северной Двине, наоборот, делали яркие клетчатые скатерти, красно-белые с узорчатой красной каймой и такой же прошивкой, идущей вдоль, посередине; скатерти эти отличались необыкновенной декоративностью.
Не менее нарядными были на русском Севере и полотенца, которыми обычно обрамляли иконы, расставленные на специальной полке в красном углу. Ими украшали также наличники окон, зеркала, семейные фотографии в раме. В дни свадебных торжеств узорными полотенцами увешивали буквально все стены дома. Помимо создания праздничного настроения полотенца эти должны были служить демонстрацией мастерства и трудолюбия невесты, а также свидетельствовать о зажиточности семьи. Для украшения дома служили и подзоры, подвешиваемые внизу кровати, и половики, которыми на Севере устилали весь пол, как ковром.
Особенностью северорусских народных тканей является их узорчатость, тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали обычно лишь край изделия, оставляя основную часть его или гладко-белой, или с белым рельефным, очень скромным и неброским рисунком. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически-строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает (белое поле самой ткани и красная неширокая кайма). В самой кайме красный узор выступает на белом фоне, причем белый и красный цвета уравновешены, количество их почти одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает колориту северных тканей известную легкость, изысканность. Если ткань многоцветна, например, полосатый половик или клетчатая пестрядь, то и здесь колорит чаще бывает мягким, сравнительно светлым.
Резким контрастом на фоне северного узорного ткачества XIX–начала XX в., то величаво-сдержанного, несколько сурового, то просветленно-лиричного по вызываемому им образу, выступает искусство таких двух центров узорного тканья, как Великий Устюг с прилегающими к нему по реке Сухоне селами и район вокруг бывшего Ошевенского монастыря, к северу от Каргополя.
Ткани Устюга отличаются большой плотностью, насыщенностью цвета, полученной благодаря особой разработке орнамента, почти не оставляющей места для белого фона, а также обилием изобразительных мотивов, четко выделяющихся сильным цветовым пятном на более светлом фоне. Здесь часто встречаются изображения человеческих фигурок, и хотя они предельно геометризированы, в их силуэте легко можно узнать северных жителей, одетых в характерные местные костюмы XIX в. (женщины в длинных сарафанах колоколом и коротеньких широких кофтах, мужчины в кафтанах и сапогах). Нередко можно встретить и фигуры животных – коней, птиц, сказочных зверей, тоже сильно геометризированных, но все же не превращенных в орнамент, как это случалось в узорных тканях других районов.
В середине XIX в. в устюжских тканях применялся ярко-красный цвет, позднее, в конце XIX–начале XX в., их все чаще стали делать многоцветными, фон нередко тоже был цветным (например, оранжевым, желтым). Великоустюжские ткани этого периода поражают контрастными и порой неожиданными сочетаниями ярких цветов, полыхающих своей неуемной красочностью: желтых, оранжевых, синих, фиолетовых, розовых, зеленых разных оттенков. Все вместе они образуют сильный, напряженно звучащий аккорд. Ткаными узорами в районе Великого Устюга украшали полотенца, подзоры, но особенно обильно – женский костюм: длинные и широкие с оборкой внизу фартуки, рукава и подолы рубах, головные косынки.
Вторым очагом полихромного ткачества на русском Севере была группа деревень вокруг бывшего Ошевенского монастыря. Ошевенские ткани: полотенца, рубахи, нарядные праздничные юбки – украшались сплошными широкими узорными полосами, составляющими цельную композицию. Замечательно то, что красные тканые узоры в конце XIX в. дополняли яркой многоцветной вышивкой. Вышивка заполняла белый фон между красными орнаментальными формами, создавая впечатление яркого, искрящегося многими цветами драгоценного ковра, в котором красный цвет доминировал, объединяя цветовую гамму в одно монолитное целое. Более поздние ткани из этого района, начала XX в., уже не отделывались трудоемкой вышивкой по красному узору, а ткались сразу из разноцветных ниток. Узор их состоял из расположенных друг над другом цветных орнаментальных полос и тоже был очень нарядным, но нередко грешил излишней пестротой.
Ткани южных районов России кажутся более плотными, тяжелыми по колориту, в них меньше белого цвета. Очень характерно, что тканый узор здесь не играет самодовлеющей роли, а почти всегда выступает в комплексе с вышивкой и различного рода отделкой – нашивками из лент, позументов, кусков кумача и других цветных тканей, выступая в качестве небольшого дополнения. Узор бывает иногда таким плотным, что в нем совсем не видно белого фона, зато он становится рельефным, как бы чеканным. В цветовой гамме, обычно полихромной, нередко встречается наряду с яркими цветами – красным, желтым, зеленым – и глубокий черный, почти отсутствующий в северных тканях. Однако, как и в северном ткачестве, красный цвет преобладает и является основой всего колорита, как правило, очень приподнятого, звонкого. В характере оформления южнорусских тканей чувствуется тяготение не к узорности, а к цветовому пятну, цельному и компактному.
Хотя и в черноземных русских областях можно встретить полотенца и скатерти с необычайно пышными цветистыми узорами (особенно в Брянской, Курской), здесь более распространены ткани, предназначенные для украшения женской одежды. Интересны южнорусские поневы XIX–начала XX в., имевшие множество разновидностей; в каждом селе, каждой деревне был выработан свой тип поневы, сложились свои традиции ее украшения. Наиболее нарядны поневы Воронежской области, которые делались из шерстяной клетчатой домотканины высшего качества с сине-черным полем в тонкую цветную клетку и богато украшались вышитыми и ткаными узорами, помещенными по подолу и в местах сшива полотен (в так называемых прошивках). Поневы различались по размерам клеток, порядку расположения цветов в клетке (отсюда названия понев: «белоглазки», «желтоглазки» и т. п.), а также по манере отделки. По этим признакам можно было узнать, из какого села одетая в ту или иную поневу женщина.
Воронежские поневы исключительно красивы по колориту. Для него характерны очень сочные, глубокие тона, хорошо сочетающиеся с черным цветом поля клетки: оранжевый, золотисто-желтый, ярко-красный и фиолетово-красный, изумрудно - и травянисто-зеленый, синий. Несмотря на многоцветность, в них нет пестроты, все цвета здесь, сами по себе очень яркие, сливаются в едином и мощном звучании, как голоса в хорошем хоре. Воронежские поневы по силе выразительности, совершенству художественного решения представляют настоящие шедевры народного искусства, в них нашел наивысшее выражение самобытный талант воронежских народных мастериц, их высокое мастерство.
Другим, не менее ярким по своеобразию центром южнорусского узорного ткачества являлся район города Сапожка, к югу от Рязани. Здесь отделывали узорным тканьем различные предметы женской одежды – рубахи, фартуки и пр., но самыми богатыми узорами украшались знаменитые сапожковские шушпаны. Делали их из белой шерстяной домотканины, с широкими рукавами прямого покроя, по низу рукавов и подолу пришивали многоцветные тканые полосы, очень своеобразные по орнаменту и колориту. Полы шушпана обшивали цветной самодельной тесьмой. Сапожковские узорные ткани отличаются большим разнообразием орнаментальных форм, имеющих свои местные наименования: здесь и «орепьи» (гребенчатые ромбы), и «лягушка» (ромб с крючками), и «мельница» (гребенчатый косой крест), и другие формы, ритмично чередующиеся и организованные в стройное и компактное целое. Колорит сапожковских тканей выдержан в оранжево- красной гамме, в нем много золотистых, желтых цветов, что создает ощущение солнечного тепла и ясности; оживляет его небольшое количество синего, зеленого и белого, придающее контрастность. Фоном в сапожковских узорах служит всегда красный цвет того или иного оттенка, в более ранних тканях – коричневатый, мягкий, в тканях конца XIX–начала XX в. – яркий кумачово-красный. Подобный колорит характерен и для тканей других районов Рязанщины, но там тканые узоры не так богаты по орнаменту, в них сравнительно большую роль играют вышивка и различного рода отделки – нашивки лент, позументов, тесьмы и пр. Для рязанского ткачества в целом характерно противопоставление белого поля ткани очень компактному и яркому цветовому пятну тканого узора и отделки. В известной мере это свойственно и всему южнорусскому узорному ткачеству.
С начала XX в., по мере изменения сельского быта, приближения деревенского костюма к городскому, узорное ткачество начинает постепенно отмирать, особенно этот процесс усилился с 30-х годов XX в.
Узорные ткани домашнего изготовления стали заменяться фабричными тканями, более дешевыми и практичными. Теперь все больше они становятся достоянием музеев, попадают в коллекции любителей народного искусства. Сейчас ими можно любоваться на различных выставках среди изделий других видов народных ремесел: вышивок, кружева, расписного и резного дерева, кости и т. д.
Но не совсем исчезли из употребления народные узорные ткани. Их можно увидеть в костюме самодеятельных сельских хоров и ансамблей, которые в некоторых случаях пользуются подлинным народным костюмом в полном его комплексе (например, в Белгородской, Брянской, Воронежской областях), в других используют отдельные его элементы. В настоящее время на территории России имеется ряд небольших предприятий ручного ткачества, где работают ткачихи, владеющие мастерством изготовления художественных тканых изделий в традициях народных узорных тканей. Они выпускают декоративные покрывала и наволочки на декоративные подушки, узорные скатерти и салфетки, различные коврики на кресла, тканые ковры, дорожки и другие изделия, предназначенные в основном для украшения интерьера.
В значительной степени художественное своеобразие изделий народных мастериц определяет безупречное владение ими техникой исполнения, специфически ручной, невоспроизводимой при механическом производстве ткани. Техническая и художественная стороны здесь выступают в тесном единстве. И, наконец, эти ткани подкупают необычайной красочностью колорита, свежестью контрастных цветовых сочетаний, оставляющих впечатление жизнерадостности, полноты мироощущения, всегда свойственной народному искусству.
Литература
1. Воронов В.С. Крестьянское искусство. М.: Советский художник, 1972.
2. Вагнер Г.К. О природе народного искусства//Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. М., 1991.
3. Костенко В.И. Русская вышивка. Орел, 1992.
Н.В. Егупова,
аспирантка кафедры
декоративно-прикладного искусства
и технической графики ОГУ
Интересный и своеобразный вид народного прикладного искусства – ручное узорное ткачество – уходит своими корнями в глубокое прошлое. В археологических раскопках курганов на территории средней России находят остатки тканей местной работы, в том числе узорных, относящихся еще к домонгольскому периоду. По своим узорам и технике исполнения они очень близки узорным народным тканям XIX–начала XX в.
Из исторических документов известно, что в XVI–XVII вв. в Москве существовало несколько ткацких слобод, где жили ткачи, работавшие специально «на царский обиход», для пополнения «государевой белой казны» (так называли запасы льняных полотен). Там ткали различные виды полотен из льняной пряжи высшего качества, среди них были и узорные ткани – различного рода убрусы (головные полотенца), ширинки (небольшие салфетки), скатерти и т. д. Историк конца XIX в. И. Забелин в труде «Домашний быт русского народа» упоминает до 20 наименований рисунков одних только скатертей того времени, такие, как «ключатик», «осмерног», «лоси под деревом», и др.
Особенно славились узорные ткани работы ткачей Кадашевской ткацкой слободы в Москве, среди прочих тканей там делали и так называемые посольские скатерти, украшенные помимо ткачества еще и вышивкой и предназначенные для торжественных приемов во дворце. Были в Москве и другие ткацкие слободы, одна из них так и называлась – Хамовники (хамовниками называли ткачей). Существовали и дальние хамовные села. Так, в районе Ярославля «на царский обиход» работало два села – Брейтово и Черкасово. Их работа ценилась также очень высоко. Имелись хамовные села и слободы и при монастырских и боярских вотчинах. Их жители платили феодальную повинность льняными полотнами и узорными тканями.
К сожалению, тканей той поры не сохранилось. Мы можем судить о них лишь только по упоминаниям в старинных документах, представить же их узоры сейчас почти невозможно. Можно предположить, однако, что по стилю они были близки крестьянским узорным тканям XIX–начала XX в., сохранившим древнейшие традиционные черты в своем оформлении.
В XIX в. домашнее ткачество, в том числе узорное, имело чрезвычайно широкое распространение в крестьянском быту южной и северной России. Сырьем для него служили, как и в Древней Руси, лен, шерсть, конопля, добываемые и обрабатываемые в каждом крестьянском хозяйстве. Для узорных тканей шел в основном лен, обладающий большими декоративными возможностями, и шерсть от домашних овец. В конце XIX в. начинают использовать и покупную «бумагу» (хлопчатобумажную пряжу фабричного производства), и тонкую шерсть, тоже фабричного прядения. И то и другое чаще всего в уже окрашенном виде.
Долгими зимними вечерами крестьянские девушки пряли на ручных прялках свой лен, для чего устраивались специальные посиделки, или беседы, а ближе к весне начинали ткать полотна и узорные ткани, имевшие разное назначение. Из них деревенские женщины шили цветные сарафаны, юбки – поневы, рубахи с узорной отделкой по подолу, рукавам и у ворота, передники, верхнюю летнюю распашную одежду – шушпан, а иногда и платки, головные косынки. Прекрасным дополнением к костюму, как к женскому, так и к мужскому, служил узорный пояс, затканный геометрическим орнаментом, а то и буквами, из которых складывались инициалы и надписи, вроде: «Кого люблю, того дарю». Такой пояс обычно невеста дарила своему жениху.
В целом русская народная одежда была необычайно яркой и красочной, в особенности праздничная. Прекрасное по своей живописности зрелище представлял первый выгон скота или первый день сенокоса в разгар лета, которые всегда отмечались как своего рода трудовые праздники. Яркие разноцветные тканые юбки женщин или их рубахи с нарядными подолами, в которых доминировал красный цвет в сочетании с ярко-розовым, синим, оранжево-желтым, фиолетовым, контрастно выделялись на фоне сочной зелени лугов и соперничали своими красками с луговыми цветами. С неменьшим вкусом и мастерством оформлялись и те изделия, которыми украшали внутренние помещения крестьянского дома,– полотенца, скатерти, подзоры простыней, занавески.
Все это исключительно красочное богатство, бесконечное разнообразие узоров создавалось, как правило, руками простых деревенских женщин, крестьянок, которые на протяжении многих лет, из поколения в поколение передавая секреты своего мастерства, донесли до наших дней богатые художественные традиции этого древнего самобытного вида искусства. Искусство узорного ткачества было развито повсеместно в крестьянском быту не только у русских, но и у украинцев, белорусов и у других народов России. У каждого народа оно отличалось своими чертами, характеризующими его как часть национальной культуры.
Для русского народного ткачества в целом характерны строгая геометричность всех узоров, их большая ритмичность и уравновешенность отдельных частей. Сравнительно редко встречающиеся растительные и зооморфные мотивы, а также узоры с изображением человеческих фигур бывают сильно геометризованы, окружены геометрическими мотивами и превращены в орнамент, подчиненный строгим линиям ритма. Узор в ткани строится обычно на пересечении диагональных линий, образующих самые различные орнаментальные формы, в которых ясно прослеживается их происхождение от ромба. То это ромб с отростками (так называемый орепей), то ромб с гребенчатыми сторонами, то ромб с крючками, выходящими из двух или из четырех его углов, то ромбовидная сетка, а иногда полуромб в виде треугольника. Основа, связующая орнамент в русских народных тканях, – симметрия, почти обязательная по вертикальной оси, а очень часто и по горизонтальной. Характерно фризовое построение орнамента – в виде горизонтальной полосы, в которой отдельные элементы повторяются, образуя раппорт.
Колорит русских народных тканей характеризует звучная цветовая гамма, в которой преобладает красный цвет. Пристрастие к красному цвету отмечено исследователями еще в тканях домонгольской Руси, как драгоценных привозных паволоках, употребляемых знатью, так и в простой домотканине, из которой шили свои одежды крестьяне и городские ремесленники. Недаром в русском фольклоре слово «красный» является синонимом слов «красивый», «прекрасный» (красная девица, красное солнышко, Красная площадь). Красный цвет в русских крестьянских тканях XIX в. чаще всего сочетается с белым. Это сочетание дополнялось иногда золотисто-желтым, зеленым, черным, а в более позднее время, в конце XIX–начале XX в., и другими цветами – ярко-розовым, васильково-синим, фиолетовым и др., что определяло приподнятый мажорный колористический строй.
Несмотря на общее стилевое единство, русские народные ткани чрезвычайно разнообразны. В каждой области, порой даже районе, существовали небольшие центры узорного ткачества, и в каждом из них оно отличалось своеобразными чертами, выраженными в некоторых особенностях колорита, в расположении узора на вещи, количественном соотношении гладкого поля и узора, наконец, в самом назначении предметов, украшенных ткаными узорами.
Значительно различаются между собой ткани Севера России и южнорусских районов, что объясняется различием в самом укладе жизни, связанном с климатическими условиями и с издавна сложившимися традициями культуры и быта. Так, на Севере России, на территории современных Архангельской, Вологодской областей, всегда большое место отводилось узорным тканям, предназначенным для украшения интерьера крестьянского дома. Это вполне понятно, если учесть, что северный дом, на строительство которого не жалели леса (лес имелся здесь в изобилии), представлял собой крупное, величественное сооружение и состоял из нескольких бревенчатых двухэтажных клетей, крытых одной крышей, с большим количеством внутренних помещений, как жилых, так и хозяйственного назначения. С другой стороны, в силу сурового климата северный крестьянин значительное количество времени в году вынужден был проводить под крышей. Естественно, устройству помещений этого дома, в особенности жилых, их убранству придавалось большое значение. В красном углу (передний угол наискосок от печи) стоял обычно стол, накрытый домотканой скатертью, по будням – более простой, одноцветной, по праздникам – нарядной, украшенной ткаными узорами. В одних местах на Севере любили скатерти чисто-белые с белым же рельефно выступающим узором, покрывающим ее сплошь. Такими были скатерти русского населения Карелии, а также в районе реки Онеги, Белого озера. В районах, расположенных по Северной Двине, наоборот, делали яркие клетчатые скатерти, красно-белые с узорчатой красной каймой и такой же прошивкой, идущей вдоль, посередине; скатерти эти отличались необыкновенной декоративностью.
Не менее нарядными были на русском Севере и полотенца, которыми обычно обрамляли иконы, расставленные на специальной полке в красном углу. Ими украшали также наличники окон, зеркала, семейные фотографии в раме. В дни свадебных торжеств узорными полотенцами увешивали буквально все стены дома. Помимо создания праздничного настроения полотенца эти должны были служить демонстрацией мастерства и трудолюбия невесты, а также свидетельствовать о зажиточности семьи. Для украшения дома служили и подзоры, подвешиваемые внизу кровати, и половики, которыми на Севере устилали весь пол, как ковром.
Особенностью северорусских народных тканей является их узорчатость, тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали обычно лишь край изделия, оставляя основную часть его или гладко-белой, или с белым рельефным, очень скромным и неброским рисунком. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически-строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает (белое поле самой ткани и красная неширокая кайма). В самой кайме красный узор выступает на белом фоне, причем белый и красный цвета уравновешены, количество их почти одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает колориту северных тканей известную легкость, изысканность. Если ткань многоцветна, например, полосатый половик или клетчатая пестрядь, то и здесь колорит чаще бывает мягким, сравнительно светлым.
Резким контрастом на фоне северного узорного ткачества XIX–начала XX в., то величаво-сдержанного, несколько сурового, то просветленно-лиричного по вызываемому им образу, выступает искусство таких двух центров узорного тканья, как Великий Устюг с прилегающими к нему по реке Сухоне селами и район вокруг бывшего Ошевенского монастыря, к северу от Каргополя.
Ткани Устюга отличаются большой плотностью, насыщенностью цвета, полученной благодаря особой разработке орнамента, почти не оставляющей места для белого фона, а также обилием изобразительных мотивов, четко выделяющихся сильным цветовым пятном на более светлом фоне. Здесь часто встречаются изображения человеческих фигурок, и хотя они предельно геометризированы, в их силуэте легко можно узнать северных жителей, одетых в характерные местные костюмы XIX в. (женщины в длинных сарафанах колоколом и коротеньких широких кофтах, мужчины в кафтанах и сапогах). Нередко можно встретить и фигуры животных – коней, птиц, сказочных зверей, тоже сильно геометризированных, но все же не превращенных в орнамент, как это случалось в узорных тканях других районов.
В середине XIX в. в устюжских тканях применялся ярко-красный цвет, позднее, в конце XIX–начале XX в., их все чаще стали делать многоцветными, фон нередко тоже был цветным (например, оранжевым, желтым). Великоустюжские ткани этого периода поражают контрастными и порой неожиданными сочетаниями ярких цветов, полыхающих своей неуемной красочностью: желтых, оранжевых, синих, фиолетовых, розовых, зеленых разных оттенков. Все вместе они образуют сильный, напряженно звучащий аккорд. Ткаными узорами в районе Великого Устюга украшали полотенца, подзоры, но особенно обильно – женский костюм: длинные и широкие с оборкой внизу фартуки, рукава и подолы рубах, головные косынки.
Вторым очагом полихромного ткачества на русском Севере была группа деревень вокруг бывшего Ошевенского монастыря. Ошевенские ткани: полотенца, рубахи, нарядные праздничные юбки – украшались сплошными широкими узорными полосами, составляющими цельную композицию. Замечательно то, что красные тканые узоры в конце XIX в. дополняли яркой многоцветной вышивкой. Вышивка заполняла белый фон между красными орнаментальными формами, создавая впечатление яркого, искрящегося многими цветами драгоценного ковра, в котором красный цвет доминировал, объединяя цветовую гамму в одно монолитное целое. Более поздние ткани из этого района, начала XX в., уже не отделывались трудоемкой вышивкой по красному узору, а ткались сразу из разноцветных ниток. Узор их состоял из расположенных друг над другом цветных орнаментальных полос и тоже был очень нарядным, но нередко грешил излишней пестротой.
Ткани южных районов России кажутся более плотными, тяжелыми по колориту, в них меньше белого цвета. Очень характерно, что тканый узор здесь не играет самодовлеющей роли, а почти всегда выступает в комплексе с вышивкой и различного рода отделкой – нашивками из лент, позументов, кусков кумача и других цветных тканей, выступая в качестве небольшого дополнения. Узор бывает иногда таким плотным, что в нем совсем не видно белого фона, зато он становится рельефным, как бы чеканным. В цветовой гамме, обычно полихромной, нередко встречается наряду с яркими цветами – красным, желтым, зеленым – и глубокий черный, почти отсутствующий в северных тканях. Однако, как и в северном ткачестве, красный цвет преобладает и является основой всего колорита, как правило, очень приподнятого, звонкого. В характере оформления южнорусских тканей чувствуется тяготение не к узорности, а к цветовому пятну, цельному и компактному.
Хотя и в черноземных русских областях можно встретить полотенца и скатерти с необычайно пышными цветистыми узорами (особенно в Брянской, Курской), здесь более распространены ткани, предназначенные для украшения женской одежды. Интересны южнорусские поневы XIX–начала XX в., имевшие множество разновидностей; в каждом селе, каждой деревне был выработан свой тип поневы, сложились свои традиции ее украшения. Наиболее нарядны поневы Воронежской области, которые делались из шерстяной клетчатой домотканины высшего качества с сине-черным полем в тонкую цветную клетку и богато украшались вышитыми и ткаными узорами, помещенными по подолу и в местах сшива полотен (в так называемых прошивках). Поневы различались по размерам клеток, порядку расположения цветов в клетке (отсюда названия понев: «белоглазки», «желтоглазки» и т. п.), а также по манере отделки. По этим признакам можно было узнать, из какого села одетая в ту или иную поневу женщина.
Воронежские поневы исключительно красивы по колориту. Для него характерны очень сочные, глубокие тона, хорошо сочетающиеся с черным цветом поля клетки: оранжевый, золотисто-желтый, ярко-красный и фиолетово-красный, изумрудно - и травянисто-зеленый, синий. Несмотря на многоцветность, в них нет пестроты, все цвета здесь, сами по себе очень яркие, сливаются в едином и мощном звучании, как голоса в хорошем хоре. Воронежские поневы по силе выразительности, совершенству художественного решения представляют настоящие шедевры народного искусства, в них нашел наивысшее выражение самобытный талант воронежских народных мастериц, их высокое мастерство.
Другим, не менее ярким по своеобразию центром южнорусского узорного ткачества являлся район города Сапожка, к югу от Рязани. Здесь отделывали узорным тканьем различные предметы женской одежды – рубахи, фартуки и пр., но самыми богатыми узорами украшались знаменитые сапожковские шушпаны. Делали их из белой шерстяной домотканины, с широкими рукавами прямого покроя, по низу рукавов и подолу пришивали многоцветные тканые полосы, очень своеобразные по орнаменту и колориту. Полы шушпана обшивали цветной самодельной тесьмой. Сапожковские узорные ткани отличаются большим разнообразием орнаментальных форм, имеющих свои местные наименования: здесь и «орепьи» (гребенчатые ромбы), и «лягушка» (ромб с крючками), и «мельница» (гребенчатый косой крест), и другие формы, ритмично чередующиеся и организованные в стройное и компактное целое. Колорит сапожковских тканей выдержан в оранжево- красной гамме, в нем много золотистых, желтых цветов, что создает ощущение солнечного тепла и ясности; оживляет его небольшое количество синего, зеленого и белого, придающее контрастность. Фоном в сапожковских узорах служит всегда красный цвет того или иного оттенка, в более ранних тканях – коричневатый, мягкий, в тканях конца XIX–начала XX в. – яркий кумачово-красный. Подобный колорит характерен и для тканей других районов Рязанщины, но там тканые узоры не так богаты по орнаменту, в них сравнительно большую роль играют вышивка и различного рода отделки – нашивки лент, позументов, тесьмы и пр. Для рязанского ткачества в целом характерно противопоставление белого поля ткани очень компактному и яркому цветовому пятну тканого узора и отделки. В известной мере это свойственно и всему южнорусскому узорному ткачеству.
С начала XX в., по мере изменения сельского быта, приближения деревенского костюма к городскому, узорное ткачество начинает постепенно отмирать, особенно этот процесс усилился с 30-х годов XX в.
Узорные ткани домашнего изготовления стали заменяться фабричными тканями, более дешевыми и практичными. Теперь все больше они становятся достоянием музеев, попадают в коллекции любителей народного искусства. Сейчас ими можно любоваться на различных выставках среди изделий других видов народных ремесел: вышивок, кружева, расписного и резного дерева, кости и т. д.
Но не совсем исчезли из употребления народные узорные ткани. Их можно увидеть в костюме самодеятельных сельских хоров и ансамблей, которые в некоторых случаях пользуются подлинным народным костюмом в полном его комплексе (например, в Белгородской, Брянской, Воронежской областях), в других используют отдельные его элементы. В настоящее время на территории России имеется ряд небольших предприятий ручного ткачества, где работают ткачихи, владеющие мастерством изготовления художественных тканых изделий в традициях народных узорных тканей. Они выпускают декоративные покрывала и наволочки на декоративные подушки, узорные скатерти и салфетки, различные коврики на кресла, тканые ковры, дорожки и другие изделия, предназначенные в основном для украшения интерьера.
В значительной степени художественное своеобразие изделий народных мастериц определяет безупречное владение ими техникой исполнения, специфически ручной, невоспроизводимой при механическом производстве ткани. Техническая и художественная стороны здесь выступают в тесном единстве. И, наконец, эти ткани подкупают необычайной красочностью колорита, свежестью контрастных цветовых сочетаний, оставляющих впечатление жизнерадостности, полноты мироощущения, всегда свойственной народному искусству.
Литература
1. Воронов В.С. Крестьянское искусство. М.: Советский художник, 1972.
2. Вагнер Г.К. О природе народного искусства//Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. М., 1991.
3. Костенко В.И. Русская вышивка. Орел, 1992.
|
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ |
Глава VIII.
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
§1. Женский костюм XVIII — первой половины XIX в.
Для всего XVIII в. характерны широкая юбка и тесно облегающий торс сильно декольтированный корсаж. Кроме нескольких радикальных перемен в силуэте юбки, изменения касаются лишь цвета, рисунка материи, отделки, фасона рукавов, длины юбки, формы выреза корсажа и т. д. Разделения на дневные и вечерние туалеты еще не было, разница была лишь в количестве отделки, украшений и головном уборе, так что даже богатые дамы имели всего несколько робронов, даже размер декольте не менялся в зависимости от назначения платья.
До начала 60-х гг. юбки нарядных платьев носили на панье — нижней юбке в форме колокола, обшитой в несколько рядов обручами с полосками китового уса (фишбейн) или плетеньем из тростника. К концу 50-х гг. панье чрезвычайно расширяется. Роброны, особенно парадные, шьются из плотных тканей — атласа, штофа или парчи. В начале 60-х гг. появились фижмы, заменившие панье. Они сильно расширяли фигуру в бедрах, но были эластичными, и их можно было прижать
Стр. 77
локтями, а подол платья стал мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь. В первой половине века женщины часто носят пудренные парики, сравнительно гладкие, со своеобразными завитками над лбом в форме рожек. В конце 60-х гг. юбку перестали раздувать на боках и появился турнюр, сначала небольшой, а в 70—80-х гг. довольно объемистый. Сборки драпируют сзади. Одновременно появились высокая прическа и высокие головные уборы — шляпа-шарлотта и чепцы. Носят их с довольно длинной кофтой-карако, которая была сразу принята дамами и продержалась до середины 90-х гг., тогда как от фижм не могли отказаться очень долго.
Около середины 90-х гг. в моду входят платья антик — туникообразные, со струящимися складками, подпоясывавшиеся высоко под грудью, почти без талии. Вырез довольно широкий, но не глубокий, рукава короткие, фонариком. Ткани легкие, светлые, у модниц полупрозрачные, поэтому под платье надевали чехол или трико телесного цвета. С ними носят простую прическу с локонами или с узлом на затылке, перевитым ниткой жемчуга. Такие свободные платья — шемизы — носили и в 80-х гг., но надевая их поверх корсета либо поверх корсета и турнюра, главным образом дома: это были "покоевые" платья. Шемизы обычно обшивались узкой фалбалой (оборкой).
С 70-х гг., выходя на улицу, вырез корсажа прикрывали мантильей или косынкой-канзу, но в платьях антик выходили на улицу с открытой грудью. При выходе на улицу надевали также довольно длинные распашные карако, а в холодное время года накидывали сверху епанчи. Платья со шлейфом с 70-х до конца 80-х гг. носили и на улице, и только бальные платья танцующих дам были без шлейфа или с отстегивавшимся шлейфом. Парадное придворное платье-роброн состояло из шнурованного корсажа без рукавов, к которому подвязывались короткие или полудлинные рукавчики, отделанные пышными кружевными оборками, юбки на фижмах и распашного верхнего платья со свободно ниспадающим шлейфом, который для танцев закладывали в специальные широкие прорезные карманы. С конца XVIII в. шлейф пристегивали к талии либо с помощью пришитого к кромке "пажика" — петли из ткани — надевали на запястье.
С 1782 г. жены и дочери служащих дворян в торжественных случаях носили платья цветов, присвоенных мундирам губерний, где они жили. На корсаж и атласную юбку надевался казакин или сюртучок из гладкой шерстяной ткани (стамеда) с оторочкой в цвет воротника и обшлагов мужского кафтана. Сюртучок был распашной, длиной выше колен. В торжественные
Стр. 78
Таблица XVII
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 79
Таблица XVIII
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 80
дни при дворе дамы появлялись в русском платье, подобии сарафана — распашном, на корсаже и юбке; к нему полагался кокошник, а девушкам — серповидная повязка.
Дома визиты принимали в пеньюаре или пудермателе поверх утреннего платья, или просто в утреннем платье и в блонодовом или батистовом чепце, а в 80-х гг. — в шляпе-шарлотте с перьями и лентами. Поскольку в 60-х гг. домашние платья не носили на фижмах, распашную юбку или длинную, до колен, баску корсажа драпировали на боках фестонами. В 70—80-х гг. домашние платья носили с турнюром. Молодые женщины и девушки дома надевали корсаж с рукавами и присобранную на боках и сзади юбку. Чтобы скрыть слабую шнуровку корсажа, дома часто носили пелерины с капюшоном, мантильи или канзу, безрукавные душегреи. С середины 90-х гг. домашние платья антик были с длинными рукавами и небольшим декольте.
С утренним платьем и пеньюаром замужние женщины носили чепцы, величина и форма которых менялась в зависимости от моды на прически. В 70—80-х гг. при высокой прическе к большой тулье пришивали широкую накрахмаленную оборку, в середины 90-х гг. чепец был невелик и завязывался под подбородком. Вне дома чепцы заменяли шляпами или прическу украшали лентами, кружевами, перьями, цветами, а на бал — драгоценностями. В 70-х гг. на высокую прическу водружали небольшие парусники, корзинки с фруктами, рога изобилия и пр. В XVIII в., особенно с 70-х гг., под край выреза корсажа закладывали большие газовые или кисейные косынки, канзу. Платья антик требовали длинных легких шарфов (эшарп) с развевающимися концами либо тяжелых набивных кашемировых шалей.
В течение всего XVIII в. широко распространены веера и опахала, обычно шелковые расписные, иногда с нашитыми блестками, на деревянных, черепаховых перламутровых станках, инкрустированных золотом. Немолодые дамы выходили на улицу с тростями красного дерева. Вместе с платьями антик в моду вошли занятия рукоделием, в том числе и в гостях, а поскольку на этих платьях не могло быть карманов, стали носить ридикюли — большие мешки, стянутые шнурком или лентой, надевавшимися на запястье. В большом количестве носили, особенно на бал, ювелирные украшения: подвески, серьги, портбукеты. В конце XVIII в. яркие камни сменяются бриллиантами, жемчугами или (очень умеренно) матовыми камеями.
Стр. 81
Туфли были на каблуках, кожаные, парчовые, глазетовые, с бантами, пряжками, розетками, каблуки красные. С платьями антик надевали легкие туфли без каблуков, с лентами вокруг икр.
В первое десятилетие XIX в. сохраняется мода на античные туникообразные платья, у девушек и молодых женщин светлых тонов, у пожилых дам, расставшихся с прежней модой, — из более плотных тканей, но также обычно светлых. Особенно модными стали простота и скромность в период Отечественной войны 1812 г. На волне патриотизма стали носить сарафаны, душегреи, кокошники. К концу второго десятилетия платья с высокой талией надевали на плотные или накрахмаленные нижние юбки. Днем дома и на улице носили закрытые платья либо надевали на декольтированное платье воротник-пелеринку, а с 1810-х гг. популярна канза и входит в употребление спенсер. В начале 20-х гг. появляются платья, затянутые в талию, широко вошедшие в быт с середины 20-х гг. Утренние и домашние платья в 20-х гг. шьют так, чтобы не требовалось сильно затягиваться, отделывают их широкими бертами, пелеринами до талии или набрасывают платок, шаль, косынку. Часто для дома шьют светлые нарядные пеньюары и дульетки, застегивавшиеся донизу. В моду в 20-х гг. входит прическа с горизонтальными буклями над лбом. Тулья чепца при этом сдвигается на затылок. Прически с начала XIX в. украшают диадемами, золотыми обручами, венками из искусственных цветов и колосьев, золотых и серебряных дубовых и лавровых листьев. С вечерними туалетами носили и всевозможные тюрбаны со страусовыми перьями, и береты. В 20-х гг. береты становятся большими, яркими, атласными или бархатными, их немного сдвигают на затылок или на правый висок, чтобы были видны букли над лбом. По-прежнему популярны кашемировые шали с яркими цветами, входят в моду шали клетчатые, с узором на кайме из пальмовых листьев и меандра. Веера обязательны, их носят на ленточке или цепочке на правом запястье. Обычно это старые большие веера, но уже входят в моду маленькие костяные или черепаховые веера с резьбой и росписью. Туфли без каблуков продержались до конца 20-х гг., но появились и атласные туфли на каблуках.
Для 30—40-х гг. характерен облегающий лиф при покатой линии плеча, тонкой талии и колоколообразной юбке. Вырез очень большой, так что иногда плечи открыты целиком. Рукава с очень большими буфами типа "баранья лопатка" или жиго; во второй половине 30-х гг. большие буфы выходят из моды и допускаются лишь маленькие буфы у локтя или в нижней части
Стр. 82
рукава, от локтя до кисти. Талия начинает удлиняться, юбка с большим количеством сборок на бедрах. В 40-х гг. появляется большая строгость линий, юбка удлиняется до пола, появляется шлейф. Характерные для 40-х гг. узкие рукава с белыми манжетами в конце десятилетия сменяются расширяющимися книзу и не доходящими до кисти руки, под которые надевают белые подрукавники.
Ткани в 30—40-х гг. черезвычайно разнообразны: легкие и тяжелые, одноцветные и многоцветные, узорчатые, полосатые, клетчатые. В 30-х гг. платья довольно пышно отделываются бертами, воланами, фалбалой, в первой половине 40-х гг. туалеты стали более скромными, но затем они снова стали пышно украшаться кружевами, аграмантом, вышивкой.
Дневные платья были с маленьким вырезом, а на декольте надевали канзу или шемизетки с воротником-стойкой, отделанным рюшем. Немолодые дамы с темными платьями из плотных тканей носили белую фрезу. Шили и цветные платья с белой вставкой, отделанной рюшем, либо с отложным воротничком. Домашние платья ничем не отличались от дневных выходных. В конце 30-х — 40-х гг. дома носили душегреи, с середины 40-х гг. появились кацавейки — теплые распашные кофты с рукавами. Замужние дамы дома носили чепцы. В первой половине 30-х гг., когда модной была гладкая прическа с пробором посередине и большим количеством локонов на висках а ля Севинье, стали носить чепцы а ля Мария Стюарт, с мыском над лбом и приподнятой у висков оборкой. Со второй половины 30-х гг. в моде были маленькие чепцы на затылке, перед прически таким образом был открыт, а с висков на плечи свисали две лопасти, обшитые кружевом или рюшем, такие уборы назывались фан-шон. Во второй половине 40-х гг. лопасти перестали носить. Чепцы делали из полупрозрачных тканей, отделывали лентами, кружевом, мелкими искусственными цветами. В конце 30-х — 40-х гг. чепцы часто заменяли шляпу, в них являлись с визитом, а пожилые дамы — и на вечера и балы. Выходить из дома без чепца или шляпы, шали, перчаток было не принято.
Зимой носили шубы, короткие шубки, теплые салопы, пелерины, рединготы, в теплые месяцы — бурнусы, дульетки, манто, мантильи на подкладке, летом на улицу надевали кисейные и фуляровые рединготы, легкие мантильи, тальмы, шали и шарфы. На улицу выходили также в бархатных, суконных или шелковых спенсерах поверх платья. Спенсер носили и дома в качестве лифа дневного платья с цветной или белой юбкой. При визитах шляпу, шаль или мантилью не снимали, как и перчатки. Ненадолго можно было остаться и в рединготе. Вошедший в моду
Стр. 83
Таблица XIX
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 84
летний зонтик на длинной ручке также вносили в гостиную.
Разница между бальными и вечерними туалетами заключалась в размерах декольте и отделке. Для театра, концерта, званого обеда или вечера декольте уменьшали кружевом или рюшем, подшитым под вырез, для скромного вечера надевали канзу. Гостьи в 30-х гг. являлись в шляпах или беретах, реже в чепцах, позже с вечерним туалетом носили чепцы, наколки из кружев или лент, ток, иногда тюрбан. Непременны были перчатки или митени, мантилья или шаль. Перчатки были длинные, лайковые или шелковые, с отделкой по краю кружевом, рюшем, бантиками. Перчатки снимали только за столом, митени вообще не снимали. Браслеты, крупные перстни надевали поверх перчаток. В 30-х гг. в бальной прическе носили белые или цветные страусовые перья в эгретах, райскую птичку, перья марабу, венки из колосьев, цветов, листьев. Популярны были газовые и атласные или белые кисейные тюрбаны с аграфами, перевитые жемчугом, золотыми цепочками или бусами, у старших дам атласные или бархатные береты с перьями. Все носят шпильки с драгоценными камнями, большие гребни, фероньерки. К концу 30-х гг. перья на прическе стали немодны и носят наколки из кружев, лент, гребни, шпильки, диадемы.
При дворе дамы надевали утвержденный в 1834 г. наряд в виде стилизованного распашного сарафана со шлейфом и золотым шитьем и кокошники. В маскарад можно было ехать в домино — широком и длинном черно-белом плаще с капюшоном и в полумаске, отделанной кружевами. Для верховой прогулки надевали амазонку — длинную, с большим шлейфом черную суконную юбку и плотно облегавший талию и грудь жакет с полупрозрачной вставкой, отделанной рюшем, на голову — шляпку-цилиндр с узкими полями и длинной кисейной вуалью.
Обувь с 30-х гг. была без каблуков, из атласа, прюнели, с завязками. Зимой носили невысокие ботинки из сукна или плиса на шнуровке или перламутровых пуговицах. В конце 30-х гг. появился невысокий тонкий каблук, а в конце 40-х гг. — обувь с лакированным носком. До середины 40-х гг. носок острый, затем квадратный. Теплые зимние ботинки иногда оторочены мехом, носят и фетровые ботики, башмаки со штиблетами на пуговицах. С середины 40-х гг. появились резиновые галоши, но они не были популярны.
С бальными и вечерними платьями надевали легкие шарфы, на улицу — шаль или платок из плотной ткани, иногда заменявшие верхнюю одежду. На шею повязывали маленькую газовую косынку. Носили и пелеринки разного рода, не длиннее
Стр. 85
талии, тальмы. Отложной воротник их завязывали лентой или закалывали брошью.
В конце 20-х — начале 30-х гг. носят большое количество ярких драгоценных камней и массивных золотых вещей. С менее парадными платьями, а также дома, даже в чепце носят фероньерку, лифы закалывают брошью, на рукавах и драпировках юбки носят аграфы, на поясе пряжку. В моде большие серьги, браслеты, перстни. В 1833—1834 гг. драгоценностей стали носить меньше, в основном ожерелья и броши, на балы едут с золотыми, бронзовыми и кружевными портбукетами. В 1835—1836 гг. в моду входят камеи, для 40-х гг. характерны скромные черные украшения из эмали, черепахи, гагата, а также бирюза и бисер. На исходе 40-х гг. наблюдается возврат к множеству блестящих драгоценностей.
§2. Мужской костюм XVIII — первой половины XIX в.
В XVIII в. мужской костюм состоял из кафтана, камзола, кюлот, чулок, башмаков, сорочки и галстука. Верхней одеждой служила епанча — суконный плащ с двумя отложными воротниками, один из которых был большой и мог заменить капюшон, на голову надевали треугольную шляпу с пристегнутыми к тулье боковыми и задним полями. В первой четверти века мужчины носят пышные парики с локонами, с 1727 г. — пудренные парики с косичкой и буклями на висках. Кафтан однобортный, с пуговицами от ворота до низа, до 1720 г. без воротника, затем с отложным воротником, с большими отворачивающимися обшлагами на трех пуговицах, с большими, низко расположенными спереди клапанами карманов, до 1720 г. пятилопастными, на пяти пуговицах, затем трехлопастными, на трех пуговицах. Камзол такого же покроя, но уже, короче, без воротника и обшлагов. Кюлоты — короткие, довольно узкие штаны, застегивавшиеся на пуговицу под коленом. До 60-х гг. чулки накатывались на кюлоты, позже кюлоты надевали на чулки. Чулки шелковые, белые. С 30-х гг. идет постепенное уменьшение обшлагов, немного укорачиваются полы кафтана. В 40—50-х гг. парадный кафтан, застегнутый на 3—4 средние пуговицы, обрисовывал талию; юбка его была расширена на боках китовым усом, конским волосом, грубой парусиной. Подкладывали и плечи. В конце 70-х — начале 80-х гг. веера складок на юбке спинки кафтана выходят из моды, передние полы стали скошены, задние гладкие, воротник становится стояче-отложным, высоким. Кафтаны не застегивают либо застегивают на груди на
Стр. 86
крючки, хотя есть пуговицы и петли. Шпагу носят под кафтаном, если нет разреза сзади, либо пропускают в левый разрез; разрезов три, иногда один. Камзол сильно сокращается в размерах, превращаясь в длинный жилет. У шляпы с 30-х гг. пришиваются к тулье переднее и заднее поля, при этом переднее выпукло огибает тулью, образуя угол. К началу 90-х гг. у щеголей кафтаны были с прямыми полами, очень узкой спинкой и высокой талией. Такой прямополый кафтан до середины 1810-х гг. оставался придворным парадным, а у барственных стариков встречался и в начале 20-х гг.
В начале 70-х гг. появился фрак, сперва только для ношения на улице и для верховой езды (рейт-фрак). Воротник стояче-отложной, передние полы округлены и уходят назад, из-под воротника спускается пелеринка, скоро исчезнувшая. С начала 80-х гг. фрак начинает заменять кафтан в дневном костюме. К началу 90-х гг. появились два типа фрака. Английский, с короткими фалдами, носили с панталонами в обтяжку или с лосинами и короткими сапогами с отворотами. Это был дневной костюм. Французский фрак с фалдами ниже колен и округленными передними полами носили с кюлотами и чулками, он был парадным или вечерним костюмом. У щеголей жилеты стали очень короткими, едва доходящими до пояса, с тройными отворотами, торчащими до плеч, фраки были коротенькие, воротники очень высокие, шляпы маленькие, с круглыми полями, сапоги с большими отворотами и кистями. Вместо париков щеголи носят длинную бесформенную стрижку.
В 1796 г. панталоны, фраки, круглые шляпы и стрижка запрещены.
Дома утром и даже днем носили шлафор или халат с шалевым воротником и обшлагами другого цвета, теплые, подбитые ватой или мехом, у вельмож с вышитыми орденскими звездами. На улице всегда ходили с тростью или палкой. До 80-х гг. трость высокая, с небольшим круглым набалдашником из серебра, стали, слоновой кости, золоченым; в 80-х гг. в моде набалдашники из слоновой кости в форме яйца или шляпки гриба либо тонкие трости с загнутой ручкой и двумя кистями на шнуре, затем до 90-х гг. были палки с золоченой, серебряной или фарфоровой ручкой, украшенной камеей, с вделанными в нее лорнетом или часами, либо толстые бамбуковые палки с черным шелковым шнуром и двумя желудями на нем, или суковатые лакированные дубинки, или короткие толстые трости. Встречались также тонкие камышовые трости, оплетенные соломкой или свитые из трех прутьев разного цвета. Во второй половине века стало модно носить в карманах камзолов, затем
Стр. 87
жилетов двое часов с висящими наружу цепочками; в 90-х гг. их носили с ремешком или ленточкой с множеством брелоков. Обязательным для щеголей считался лорнет на цепочке или шнурке на шее; его прятали в карман камзола или жилета. С визитом в гостиную входили с тростью и шляпой в руке, в последней четверти XVIII в. трость оставляли в передней, а головной убор, кроме зимнего картуза, брали с собой.
С начала XIX в. вновь начинают носить фраки, дневной с панталонами в сапоги с отворотами, вечерний — с кюлотами, чулками и туфлями. В конце 10-х гг. кюлоты и узкие панталоны сменились широкими панталонами поверх сапог или при туфлях на бал. Фрак с отрезными узкими фалдами, стояче-отложным воротником, рукава у плеча собраны в небольшие буфы, от локтя узкие. Жилет короткий, так что видна сорочка с высоким стоячим воротником, плотно обмотанным черным галстуком-косынкой. С конца 10-х — начала 20-х гг. распространяется сюртук с такими же воротником и рукавами, как у фрака, но с полами до колен или чуть выше, одно- или двубортный. Сначала это была верхняя одежда, затем домашняя и для улицы. В гости, театр надевали только фрак. Верхней одеждой служит шинель со стоячим воротником и пелериной, а также редингот, зимой шуба. Головной убор — круглая шляпа-цилиндр.
По-прежнему обязательна трость. В 1800-х гг. преобладают короткие толстые палки и тонкие трости-прутики с загнутой ручкой, в 10-х гг. — трости с круглым набалдашником. Часы носят либо на короткой цепочке, висящей из жилетного кармана, либо на длинной, через голову. Используют также бисерные, шелковые или волосяные шнурки, черные и цветные муаровые ленты. Лорнет в 10-х гг. обычно носят в правом кармане панталон, прорезанном ниже пояса. С начала 800-х и до конца 20-х гг. была мода на очки.
До середины 30-х гг. фраки и сюртуки с очень высокими и жесткими стояче-отложными воротниками, рукава с довольно большими буфами у плеча и узкие от локтя. Панталоны вверху умеренно-широкие, у колен сужаются, книзу снова расширяются, у щеголей превращаясь в раструбы. Бальные панталоны плотно облегают всю ногу. Во второй половине 30-х гт. воротники стали мягче и ниже, уменьшились буфы, линия талии поднялась. К началу 40-х гг. буфы исчезают, рукава вшиваются вгладь, воротники и лацканы лежат плоско или образуют мягко прилегающую шаль, талия по росту или выше. С 1846 г. талия опять опускается, полы сюртука и фрака выше колен на 20—25 см, панталоны прямые или сужаются книзу. В 1800—1820-х гг. фраки и сюртуки черные, реже коричневые, темно-синие, в 30-х гг.
Стр. 88
Таблица XX
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 89
цвета яркие, контрастные, в 40-х гг. многокрасочность исчезает, цветовые сочетания спокойные. Однако у щеголей по-прежнему жилеты яркие, иногда с мелким орнаментом (мушками). Сюртук стал повседневной одеждой, но для официальных и светских визитов, вечеров, балов, званых обедов обязателен фрак. К концу 30-х гг. фрак надевали только в торжественных случаях. Для первой половины дня более приличным считался черный доверху застегнутый сюртук, после обеда — цветной сюртук, светлые однотонные или полосатые панталоны, светлый жилет, черный атласный или цветной шелковый галстук, обычно все одного цвета. Фрак также носили со светлыми панталонами. Дневной фрак был застегнут на все пуговицы, к нему полагался черный или цветной галстук. В 40-х гг. черный или темный сюртук надевали только с черными или темными клетчатыми панталонами, а цветные светлые сюртуки — с однотонными или клетчатыми панталонами светлых тонов; клетка панталон мелкая. Жилеты, как правило, клетчатые. Пуговицы бронзовые либо обтянуты тканью.
Повседневной одеждой, особенно в провинции, были архалуки и венгерки. В столицах и больших городах в архалуке выходить на улицу было не принято. С венгеркой и архалуком носили обычные панталоны (темные или светлые, однотонные и в клетку), картузы, фуражки.
Бальный наряд в 30-х гг. состоял из цветного, реже черного суконного или бархатного фрака с черным бархатным воротником, бархатного светлого жилета, иногда расшитого золотом, серебром, шелками, белых или черных облегающих панталон. Сорочка с узкими гладкими манжетами, с гофрированным жабо или мелкими складками на груди, галстук белый батистовый или шелковый, с бантом. Чулки светлые шелковые и туфли-лодочки с глубоким вырезом, удлиненным квадратным носком и низким каблуком. Перчатки белые или жемчужно-серые, лайковые, в крайнем случае тонкой замши. Шляпа черная шелковая, складная (шапокляк). На торжественные балы все еще надевали кюлоты с белыми чулками и туфлями-лодочками, к ним полагалась треуголка. К концу 30-х гг. бархатные фраки стали не модны; бальный фрак черный или цветной, панталоны черные, жилет белый пикейный или шелковый, реже цветной с золотыми пуговицами. К концу 40-х гг. стали входить в моду цветные кашемировые или черные казимировые жилеты.
На бал или вечер являлись в длинном рединготе или темном широком плаще (альмавиве), зимой — в длинной шубе. Повседневно носили рединготы, длинные или короткие бекеши, шинели, шубы. Романтические особы предпочитали альмавивы, а
Стр. 90
молодежь иногда даже носила клетчатые пледы, сложенные драпировкой на левом плече. Обычно носили черные широкополые шляпы (боливар), летом и белые, серые, светло-коричневые; появились и соломенные шляпы. Но с нарядным костюмом надевали только черную шелковую шляпу-цилиндр. С сюртуком, коротким рединготом можно было носить картуз.
Не обязательны стали трости, и тонкие камышовые, с небольшим круглым набалдашником, и толстые бамбуковые или деревянные "бальзаковские", которые украшались шнурками с кистями.
В 30—40-х гг. оставался в моде бронзовый, золотой или черепаховый лорнет, при бальных панталонах на тонкой золотой цепочке на шее, заложенный за вырез жилета, при обычных панталонах с карманами спрятанный в карман; лорнет мог быть и на волосяном шнурке, прикрепленном справа к пуговице фрака. В начале 40-х гг. появился прямоугольный монокль в бронзовой или черепаховой оправе, подвешенный на волосяном или шелковом шнурке к верхней пуговице, а около 1847 г. — пенсне с пружинкой. Часовые цепочки из золота, стали, бронзы, цветного бисера развешивали по жилету; при трауре часы носили на черном шнурке или узкой черной ленте. Концы длинных галстуков скалывали булавками с жемчужиной, драгоценным камнем, камеей, кораллом или эмалевым цветком, голубком. У второразрядных щеголей были серебряные или бронзовые под золото булавки с поддельными камнями, с подковкой, сердцем, пистолетом, игральной картой и проч.; совсем дешевые щеголи носили "тульские" украшения из латуни. Пуговицы рубашек золотые, жемчужные, из драгоценных камней, очень маленькие. Кольцо носили одно, с драгоценным камнем или геммой, чаще с родовым гербом; у женатых было еще и обручальное кольцо. Печатка с гербом могла быть в виде брелока на часовой цепочке. Низкопробные щеголи украшали себя большими фальшивыми камнями, множеством печаток и др., не стеснялись использовать чужие гербы.
Следует учитывать социальные процессы, настроения и моды. Эпоха романтизма вызывала интерес к Востоку (архалуки, а в качестве домашней одежды халат, атласные шаровары, фески, туфли-бабуши с загнутыми носками, женские тюрбаны), воспетой популярным Вальтером Скоттом Шотландии (пледы) и средневековью (женские береты, фрезы, чепцы а ля Мария Стюарт), моду на поэтическую рассеянность, разочарованность, роковую стасть (кольца и шнурки для часов и лорнетов из женских локонов, небрежно свисающие на лоб кудри, для чего мужчины на ночь закручивали волосы на папильотки, а утром
Стр. 91
завивались щипцами), "гусарство" (венгерки, яркие, небрежно повязанные платки вместо галстуков), поэтичность, намек на революционность (боливары, карбонарские широкополые шляпы, широкие плащи — альмавива) и т. д. . Развитие экономики, образования, административного аппарата привело к вовлечению в городскую культуру множества людей из мещанства, купечества, мелкопоместного дворянства, духовенства. Это вызвало появление массовой культуры с ее суррогатами, неумением выбрать нужный тон, быть человеком "комильфо", к преувеличенной моде, щегольству при одновременном отсутствии вкуса и средств. Часть населения в городе носит костюм переходный от крестьянского к дворянскому.
В пособии описан костюм высших городских слоев, но это вовсе не значит, что так одевались все горожане, и при разработке экспозиции это необходимо учитывать.
§ 3. Женский костюм второй половины XIX — начала XX в.
В 50—60-х гг. сохраняется основная линия костюма, сложившаяся в 40-х гг. Она определяется формой корсета и кринолина — жесткой юбки на каркасе. До начала 60-х гг. кринолин круглый, расширяющий юбку во все стороны, затем он становится плоским, а в конце 60-х гг. на нем остаются только 2—3 нижних обруча, расширяющих только подол. Под легкие платья и дома надевают несколько жестко накрахмаленных юбок, прикрепленных к одному поясу. Лиф был облегающий, с круглой талией, либо с двумя мысками, или с баской в 20—30 см. Вновь появляются рукава с большими буфами. В конце 50-х гг. баски удлиняются или заменяются второй юбкой, длиной чуть ниже колен. К середине 60-х гг. перед лифа дневных платьев делают с двумя мысками, наподобие жилета, а баску сзади — в виде коротких узких фрачных фалд ("фрачок"). В 60-х гг. на кринолинах носят платья со шлейфом, с драпировками на бедрах и сзади, по моде XVIII в. Поверх платья часто носят казак — полудлинный, прилегающий в талии жакет из той же ткани, что и платье. К концу 50-х гг. появляется костюм из юбки и жакета в виде казака, свободной куртки или кофты. Его носят с блузкой с отложным или стоячим воротничком и с галстуком. С начала 60-х гг. костюм становится обычным дневным туалетом. Одежда яркая, пышная, с воланами, драпировками, складками, ткани яркие, узорчатые.
Вся верхняя дамская одежда чрезвычайно широка: пелерины, салопы, ротонды, бурнусы, полудлинные пальто и теплые
Стр. 92
казаки; пальто и казаки в талии обычно прилегают к спине. Спереди вся верхняя одежда заметно короче, чем сзади.
Утреннее платье — пеньюар состоит из батистовой или кисейной белой юбки и длинной свободной кофты, близкой по покрою к казаку. Носят также юбку и расшитое платье-капот, длинное и свободное. Все отделано кружевами, оборками, вышивкой. К концу 60-х гг. у капота появляется шлейф, расширяющиеся рукава; ниже талии он не застегнут. С пеньюаром и капотом носят белые подрукавники, белый кисейный чепчик, мягкую обувь. Вместо кринолина надевают крахмальную нижнюю юбку.
Шляпы становятся очень маленькими, почти или совсем без полей, богато отделываются; на шляпке часто носят небольшие вуалетки. Если поля есть, они приподняты по бокам и опущены спереди. Зимой поверх шляп надевают капюшон или башлык, носят также капоры, меховые шапочки. В туалете для прогулок большую роль играет зонтик.
Бальные и вечерние туалеты в 50-х — начале 60-х гг. декольтированы, рукава короткие или полудлинные, лиф с мыском. С середины 60-х гг. вечерние платья стали закрытыми, с длинными или полудлинными рукавами, а бальные по-прежнему с большим декольте и короткими рукавами, в конце 60-х гг. появляются платья на узких бретелях. Под вырез лифа подшивается узкое кружево, на небольших балах декольте прикрывается полупрозрачной косынкой или же под лиф надевают кружевную или кисейную вставку на 5 см выше выреза. Вечерние и бальные туалеты шьют как из тяжелых, так и из полупрозрачных тканей на чехле. Они перегружены всеми видами отделки, украшениями, но вечерние туалеты чуть скромнее. Туалет дополняется наколками, чепцами, током, фаншоном; наколки не имеют определенной формы, делаются по вкусу из бархата, лент, кружев, украшаются цветами, стеклярусом, бусами. Тюрбаны вышли из моды. Диадемы с эгретками и золотые обручи остаются в моде до конца 60-х гг. С вечерними туалетами носят также сетки на волосах из шелка, золотых нитей, украшенные жемчугом, маленькими золотыми цветочками или пчелами. Бальные ботинки обычно атласные, в цвет платья, либо черные, белые, украшены кружевом и пряжками; носки острые, с середины 60-х гг. округлые, каблуки тонкие. Короткие перчатки в середине 60-х гг. сменяются длинными, до локтя. Непременным атрибутом являются веера: расписные "китайские", кружевные или тюлевые, расшитые блестками или стальными гранеными бусами. В 50-х гг. на бал идут с букетиком в портбукете, в 60-х гг. портбукеты выходят из моды и цветы прикалывают к лифу. Носят массу драгоценностей: подвески, броши, широкие и пло-
Стр. 93
Таблица XXI
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 94
Таблица XXII
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 95
ские браслеты, бриллиантовые пряжки на бархотках; во второй половине 60-х гг. появляются серьги, броши, пряжки в "русском" стиле из эмали и цветных камней. Кольца относительно редки.
В 70—80-х гг. мода продолжает заимствовать образцы платьев XVIII в., слегка перерабатывая их. Частично заимствуются и прически, шляпки и обувь на высоких каблуках. Платье состоит из облегающего лифа на корсете, юбки и драпировок на юбке. До середины 70-х гг. лифы преимущественно с баской, большей частью спереди более длинной, чем сзади и на боках. Иногда перед баски заменяли драпировкой "передником", подшитой под край лифа. Баска была разрезной спереди и сзади или только сзади. Концы короткой баски ложились поверх драпировки на турнюре. Лифы дневных, а часто и вечерних платьев шили закрытыми, с невысоким стоячим или стояче-отложным воротником и подшитым или наложенным белым воротничком. Лифы нарядных вечерних платьев были с прямоугольным или треугольным вырезом, отделанным высоким рюшем, иногда с кружевным жабо. Бальные туалеты без рукавов, глубоко декольтированы на груди и спине, рукава дневных и закрытых вечерних платьев большей частью полудлинные, у открытых вечерних платьев рукава до локтя; манжеты с белыми подрукавниками, под манжетой может быть кружевная оборка.
Носили платья с одной или двумя юбками. В начале 70-х гт. еще были платья с драпировкой "передником"; сзади над подолом была пришита большая оборка. Платья с середины 60-х гг. носят с турнюром, причем в 70-х гг. турнюр очень большой. Драпировку на турнюре и трен делали из сложенного складками большого полотнища, пришитого к поясу под баской. Подол юбки обычно обшивался гофрированным или складчатым высоким воланом, а на нарядных платьях — двумя-тремя воланами. Шили также платья с так называемой туникой — верхней юбкой, цельной, разрезанной спереди или спереди и сзади, драпировавшейся на боках и турнюре. Были и платья с полонезом — цельнокроенной спинкой или цельнокроенным передом, доходящим примерно до колен; носили полонез с длинной юбкой. Лиф полонеза открытый или закрытый, юбка могла быть не сшита с боков или спереди, от талии до подола. Трен нарядных платьев мог быть на основной юбке или образован удлиненной спинкой туники или полонеза; могло быть и два трена разной длины. Трены украшали бантами, а на бальных и открытых вечерних платьях — букетами.
В конце 70-х — начале 80-х гг. турнюры выходят из моды. Обтяжной лиф удлинен, сзади иногда длиннее; декольтирован-
Стр. 96
ные бальные лифы, иногда с мыском, и лифы для полных женщин шнуруются сзади, прочие застегиваются спереди или сбоку на пуговицы. По-прежнему они большей частью закрытые, с воротником, отделанным рюшем. При стоячем белом воротничке носят галстук из ленты, завязанной бантом. Входят в моду лифы со вставкой в виде манишки с воротничком; часто их носят с широким кожаным поясом. Мода рекомендует также платья-принсесс: они с треном, идущая вгладь спинка заложена внутренними складками, расходящимися книзу, перед очень узкий, облегающий фигуру, гладкий или слегка задрапированный сборками. Еще сохраняются отделка юбки передником, туники, а полонезы принимают покрой платья принсесс. С 1882 г. вновь начинают носить платья с турнюром, более выпуклым и расположенным ниже; к концу 80-х гг. турнюр опять уменьшается, но талия по-прежнему удлинена. В моде облегающие лифы с басками, в том числе с "фрачком". Расклешенные книзу рукава теперь редки, отделываются по-прежнему обшлагами, манжетами, рюшем, кружевом, воланами. Для всех платьев, кроме парадных, мода предписывает платья без трена. На исходе 80-х гг. платья упрощаются: почти без драпировок, с лифом, удлиненным только до линии бедра, с юбкой, заложенной складками. Дневные туалеты часто в виде распашного платья на юбке из одной с ним ткани.
Утреннее домашнее платье — в виде либо капота, либо длинной, в талию, кофты и юбки, отделанной плиссированными воланами и кружевом. Капоты в 80-х гг. драпируются на маленьком турнюре. Домашние платья и платья для улицы рекомендуются с полонезом в виде длинного жакета или пальто с карманами, реверами, отложным воротником. На более простое платье можно было набросить нарядную шаль или короткую тальму. Кроме разнообразных воланов и рюша выходное платье отделывали вышивкой сутажом или синелью, стеклярусом, бахромой, нарядными пуговицами.
Шляпы фетровые, бархатные и шелковые, летом и соломенные, отделывали бантами, перьями, стеклярусом. В конце 80-х гг. шляпы часто носили с вуалью, опущенной на лицо и завязанной сзади.
Для улицы и визитов имели также костюм. Он состоял из платья и короткого жакета. Можно было надеть пелерину до локтей со стоячим воротником. В 70-х гг. носили и более длинные, особенно сзади, пелерины с декоративным капюшоном и прорезями для рук. Носили также казак, длинные или полудлинные жакеты, однобортные и двубортные рединготы в талию, застегнутые до талии, на боках и сзади задрапированные склад-
Стр. 97
ками. С середины 70-х гг. пальто шьют с выгибом на спине для турнюра. В конце 70-х — начале 80-х гг. носят более длинные пальто, спереди прямые, сзади слегка расклешенные, с отложным или стояче-отложным воротником, прямыми свободными рукавами, а также узкие, прилегающие в талии пальто-каррик с двумя-тремя пелеринами и отворотами. В моде и короткие прямые пальто с расклешенными рукавами.
В конце XIX — начале XX в. линии одежды стали более простыми и плавными. Сначала еще сохраняются сильно стянутые в талии длинные платья. Фасоны 1890-х — 1900-х гг. требовали очень тонкой талии, а 1900-х гг. еще и высокого бюста и стройной линии бедер. Линия от талии до колена должна быть прямой. Около 1910 г. совершился переход к более удобным и коротким платьям, не стесняющим движений; перестали шнуровать корсет, появились бюстгальтер, нижний корсет.
Лифы 90-х гг. были обтяжными, с удлиненной талией либо с драпированным передом, с широким поясом или мыском, большей частью со вставкой с воротничком. Рукава у плеча с коротким и пышным или удлиненным буфом "жиго", облегающие руку ниже локтя. Широкие реверы, бретели, эполетки вместе с буфами расширяют фигуру в плечах, создавая впечатление тонкой талии. На всех платьях, кроме бальных, вставки с высоким стоячим воротником. На вечерних туалетах лиф отделан бертой; при треугольном вырезе берта на спине круглая, спереди со скрещенными концами, при круглом или овальном вырезе — в виде широкой оборки.
Носят также белые и цветные блузы, заменяющие корсажи, обычно на круглой или квадратной кокетке, спереди пришитой в сборку; на блузах без кокетки перед собран вокруг стоячего воротника. Блузы также с буфчатыми рукавами. К концу 90-х гг. буфы уменьшаются, а рукава вшивают вгладь. На лифах появились очень короткие баски, вырезанные фестонами и зубцами. Круглые берты сохранились только на бальных платьях. В 1899 г. появилась мода на большие круглые воротники-пелерины из гипюра, на легких платьях — из батиста с кружевами. Блузы носят вместо корсажа, с костюмом или под болеро либо фигаро. Болеро и фигаро могли быть с рукавами и заменяли жакет без рукавов. Блузы носили с небольшим напуском у пояса. Они были в основном с высокими стоячими или стояче-отложными воротниками, но были и летние блузы с треугольным вырезом, отделанным реверами или гофрированными воланами.
В 1901 г. в моду вошли платья-костюмы с коротким болеро в стиле ампир, с полудлинными рукавами, узкими вверху и расширенными книзу. Под болеро была вставка или блуза, отделанные гипюром. В 1902 г. стали носить корсажи с небольшим напуском и баской до колен, заменявшей отделку юбки туникой и воланами. На летних и вечерних платьях оставался маленький вырез у шеи, но элегантные платья для выхода на улицу и для визита были с высоким стоячим воротником. В 1905 г. вновь появились платья с буфами у плеча, воротниками-пелеринами, болеро, берты из двух-трех рядов оборок. Много было и цельнокроеных платьев типа принсесс. Изредка носили и платья с поясом под грудью, как в начале XIX в. Около 1910 г. лифы делают с завышенной или нормальной талией, но более свободные, присобранные у талии с небольшим напуском. Рукава узкие полудлинные или до локтя. В моде отделки, увеличивающие бюст. В 1911—1912 гг. шьют платья с очень узкой юбкой и лифами более свободного покроя, с рукавами японкой или с очень глубокой проймой и открытые у шеи. Много также лифов с длинной расклешенной баской. Те и другие носят с широким поясом с бантом и длинными концами на левом боку. Наиболее распространены юбки, облегающие перед и бока по лини бедра или немного ниже, узкие почти до колен и сильно расклешенные внизу. Юбки до середины 90-х гг. немного не доходили до пола и сзади имели маленький трен, затем они укорачиваются, в 1912 г. до подъема ступни. С 1912 г. юбки узкие, часто с разрезом сзади или слева, в 1913 г. внизу суженные, отделанные спереди пуговицами. Их носили с блузой или жакетом английского покроя. Во время войны юбки стали еще короче, шире и удобнее. Капоты в конце XIX — начале XX в. шьют только свободные. Вместо капота носили также матине — свободную кофту, обшитую кружевом, рюшем, которую надевали с какой-нибудь юбкой, даже нижней, обшитой воланами. В большой моде стали халаты из восточного шелка, китайские халаты, японские кимоно. С начала 90-х гг. дома стали носить юбку с блузкой.
В 90-х гг. носят пальто, прилегающие в талии или прямого покроя, жакеты, пелерины. Длинные прилегающие пальто (рединготы) и длинные прямые пальто (манто) немного не доходят до пола, короткие закрывают колени. Манто и рединготы часто носили с одной или двумя пелеринами до локтя или до кисти руки. Воротники высокие стоячие или стояче-отложные. Зимой носили также ротонды на меху длиной почти до земли. В моду вошли небольшие меховые или отделанные мехом муфты и длинные, довольно широкие боа. Их украшали бантами и меховыми хвостами, а в конце 90-х гг. — головками, лапками и хвостами или только мордочками и лапками. Зимние шляпы маленькие, иногда с завязками. Носили и меховые, и фетровые шапочки. С визитными туалетами надевали шляпы с небольши-
Стр. 99
Таблица XXIII
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 100
ми изогнутыми полями, отделанные перьями, цветами, бантами, кружевом. В 1905—1907 гг. стали модны меховые жакеты до талии с небольшим напуском или гладким передом и расширяющимися рукавами. С 1908 г. пальто в талию выходят из моды. В начале 1900-х гг. почти все шляпы с небольшими полями. Их украшали иногда целой птицей, например чайкой. В 1910—1913 гг. в моде были огромные шляпы шантеклер с низкой тульей и полями шире плеч или с высокой и широкой тульей и опущенными полями. Почти всегда шляпы с вуалетками, с большими булавками. С 1913 г. шляпки стали меньшими по объему. Одновременно с большими шляпами стали модны и большие муфты, а боа вышли из моды.
§4. Мужская одежда второй половины XIX — начала XX в.
В мужских костюмах сохранялся покрой 40-х гг. Перемены касались в основном длины сюртука и фалд или отворотов фрака, ширины и длины рукавов. Так, в 50-х гг. полы и фалды не доходят до колена 20 см, в начале 60-х гг. удлиняются до колен. В 1852 г. появился сюртук со скошенными округлыми полами типа визитки, у молодежи начинают пользоваться успехом пиджаки типа сильно укороченного сюртука, однобортные, с нашивными нагрудным и боковыми карманами. Фраки черные, реже темно-синие, сюртуки черные или темные цветные, пиджаки тех же тонов. Одежда обшивается шелковой или шерстяной тесьмой в цвет ткани. Летом одежда из легких светлых тканей, иногда клетчатых. Жилеты, как в 40-х гг., с шалевым воротником, с отворотами, однобортные, реже двубортные. Их шьют из полусукна, узорного шелка, белого и цветного пике, бархата, плюша.
Панталоны умеренно просторные, в начале 60-х гг. слегка сужаются книзу, а во второй половине 60-х гг. расширяются книзу от колена. На панталонах черные атласные лампасы или отстроченные швы. Носят светлые пиджаки с темными брюками и наоборот, а на исходе 60-х гг. пиджаки и брюки шьют из одной ткани. Верхняя одежда была чуть выше колен, но в 1854—1855 гг. носили очень длинные пальто, плащи и бекеши. Головным убором обычно был цилиндр, летом носили и соломенные шляпы, в Москве и провинции еще и фуражки и картузы. В начале 60-х гг. в моду вошел котелок. Некоторые "артистические" натуры надевали широкополые шляпы с низкой мягкой тульей и дополняли ее плащами или пледами. Галстук черный узкий, с небольшим бантом или плоским узлом, с летним костюмом
Стр. 101
галстук светлый, с вечерним фраком — накрахмаленный белый батистовый, причем концы узла оттянуты далеко в стороны. Во второй половине 50-х гг. носили также широкий мягкий галстук-пластрон, закрывавший весь верх манишки. Его часто закалывали булавкой. Воротнички были прямые стоячие смыкающиеся, прямые стоячие расходящиеся и стояче-отложные. Вся обувь — с широкими носками.
Утром носили халат — восточный или закрытый с косым воротом и откидными рукавами с прорехами. Выходя из дома, надевали темный сюртук, черный или цветной жилет, темные или средних тонов панталоны в полоску, клетку. Фраки носили старики, врачи с визитами, присяжные поверенные как профессиональный костюм.
В 70-х гт. мужская мода сохраняет прежний покрой, но талия слегка занижена. Появляются однобортные визитки со скругленными полами и двубортные с плоско обрезанными полами. Сюртуки и визитки большей частью без наружных карманов, пиджаки и пальто с прорезными или настроченными карманами пасокам, иногда на груди слева. Пиджаки и сюртуки одно-двубортные, с плоско лежащим воротником и отворотами; их застегивали только на верхние пуговицы. Фраки с глубоким вырезом и фалдами выше колен, жилеты обычно однобортные. Носили пиджак и панталоны из одной материи, жилет из другой, а также полосатые, клетчатые, более светлые панталоны к пиджаку и жилету из одной ткани. Фрак с панталонами одного цвета, темные, фрачный жилет белый или черный. С черным сюртуком и визиткой панталоны были из той же материи или в черную и серую полоску, днем в хорошую погоду светло-серые, в 80-х гг. также в мелкую черно-серо-белую клетку. Признаком дешевого франтовства были крупноклетчатые пиджаки.
Панталоны в 70-х гг. внизу умеренно широки, у колен сужены, иногда слегка заужены у ступни, образуя напуск. Воротнички невысокие, стоячие или стояче-отложные, стоячие с отогнутыми уголками, со смыкающимися краями, с раздвинутыми краями, а стояче-отложные со скругленными углами. Галстуки черные и цветные, гладкие, в узкую полоску или с мелким узором. Только с вечерним фраком надевали белый батистовый галстук, иногда черную атласную бабочку. Носили также готовые галстуки и самовязы с большим или маленьким бантом или с узлом, подобные современным, а также заколотые булавкой галстуки-пластроны. По-прежнему в моде шелковые черные цилиндры, в 70-х гг. высокие и узкие, в 80-х — низкие, а также котелки, фетровые шляпы, летом соломенные канотье и панамы, зимой — меховые шапки разных фасонов. Пальто
Стр. 102
однобортные и двубортные, прямого покроя, и до колен, и выше, и ниже их.
В 70—80-х гг. мужская мода окончательно стабилизировалась, шло только упрощение линий. В этот период появляются брюки современного типа, с заглаженной складкой, без штрипок, с отворотами внизу. Брюки достаточно свободные, без выемки у колена, с узким черным лампасом или отстроченным боковым швом. В начале XX в. стали модны широкие плечи. Увеличились реверы, грудь стала казаться шире, талия тоньше. В 1911—1913 гг. мода на "атлетичность" усилилась, и франты подбивали грудь ватой, но в 1914 г. игра в борцов прошла, плечи опустились, грудь стала плоской.
Повседневной одеждой стал костюм с пиджаком или сюртуком. В 1910-х гг. пиджак носили уже люди всех возрастов и положений. Углы передних пол однобортных сюртуков и пиджаков округлялись, полы расходились, обычно их застегивали лишь на верхнюю пуговицу. Карманы прорезные, иногда с клапанами. Двубортные пиджаки и сюртуки чуть длиннее, с прямыми полами, реверы двубортных пиджаков увеличились в длину почти до талии. Летом стали возможны белые сюртуки и пиджаки с белым жилетом и брюками среднего тона или белые брюки со светлым пиджаком. Элегантные сюртуки шили иногда с шелковыми реверами. Появилась спортивная одежда: для верховой езды двубортный пиджак с накладными карманами и бриджи с сапогами, для велосипеда — брюки-гольф, чулки, высокие шнурованные ботинки, цветная рубашка с мягким отложным воротничком, для коньков — теплая куртка и шапка пирожком.
Воротнички и манжеты сорочек были крахмальные, пристежные, с 1915 г. носили с пиджаками и мягкие воротнички пике, а с летним костюмом и открытые у шеи рубашки. В 90-х гг. воротнички прежнего покроя, а в 1899 г. в моду вошли очень высокие воротнички с округленными, иногда слегка отогнутыми углами. Галстуки длинные, с обычным, как сейчас, узлом или небольшая бабочка с заглаженными складками широким пластроном. Галстуки темные, одноцветные или в клетку, косую полоску, горошек, около 1900 г. появились яркие галстуки, в 1902 — пестрые вязаные, в 1910 г. — с переливами.
В начале XX в. стали носить светлые ботинки, в 1910-х гг. — полуботинки, с которыми весной и осенью надевали короткие гетры.
В это же время появились пальто-реглан. Головным убором служили шапки круглые, пирожком, "боярки" с бархатной тульей и меховым околышем, а также котелки, мягкие фетровые шляпы, такие, как и сегодня, фуражки. Спортсмены носили кепи
Стр. 103
с наушниками. Парадным головным убором оставался фетровый серый или шелковый черный цилиндр к фраку, серый или черный котелок к визитке.
Разумеется, моде следовала меньшая часть населения, большинство же имущей публики лишь в той или иной мере следовало ей, особенно мужчины. Городские низы, студенчество, рабочие лишь приблизительно соблюдают стиль эпохи; в то же время у разных групп были свои моды. Так, среди студенчества 60—70-х гг. были модны широкополые шляпы, блузы-гарибальдийки и пледы, а курсистки ходили в маленьких шапочках, темных глухих платьях с белыми воротничками, разумеется, без корсетов и кринолинов. В 80—90-х гг. и отчасти и в 1900-х мода на народность привела к тому, что демократически настроенная интеллигенция, с одной стороны, и шовинистически настроенные дворяне-монархисты — с другой стали носить красные косоворотки навыпуск, поддевки и высокие сапоги. Городское мещанство использует в одежде элементы традиционного народного костюма и упрощенного городского, купечество тяготеет в одежде и домашнем обиходе к дворянству. Квалифицированные рабочие непременно приобретали хорошо сшитую пиджачную пару, котелок, носили галстук на стоячих накрахмаленных воротниках, а иногда и сюртук с жилетом. В целом разрушение сословных перегородок вело к стиранию резких границ и во внешнем облике, а разнородные настроения приводили даже к своеобразной "диффузии" в костюме.
§ 5. Элементы городского костюма
Альмавива — широкий мужской плащ, обычно с широким воротником, черный, который носили, запахнувшись и закинув одну полу на плечо. Моден в 30—40-х гг. XIX в.
Архалук — восточного происхождения мужская одежда типа халата до колен или чуть ниже, без плечевых швов, из полосатой ткани, носили с кушаком или ремнем. Моден в 20—40-х гг. XIX в. среди дворян — любителей псовой охоты.
Баскинья — довольно широкая распашная юбка немного ниже колен, отороченная пышными оборками; носили поверх платья в 30-х гг. XIX в.
Баска — деталь корсажа, лифа, блузы, оборка ниже талии.
Берта — пышная оборка из кружев или декорированной ленты, обрамлявшая вырез декольтированного платья.
Боа — длинный узкий шарф, меховой или из птичьих перьев.
Боливар — широкополая шляпа-цилиндр, напоминающая сомбреро.
Стр. 104
Бурнус — женская одежда из сукна, бархата типа широкой накидки без рукавов, с капюшоном, отделанная тесьмой.
Венгерка — элемент форменной одежды гусарских офицеров 40-х гг. XIX в., длиной чуть выше колен, однобортная, отделанная на груди шнурами с петлями-брандебурами в пять рядов.
Дульетка — во второй половине XVIII — первой половине XIX в. женская и мужская одежда, длинная, распашная, однобортная, узкая в талии, с длинными узкими рукавами, без воротника, крытая шелком.
Казак — дамский полудлинный прилегающий в талии жакет, длиннополая кофта с рукавами, которую носили поверх платья, из той же ткани.
Канзу — косынка или платок из легкой полупрозрачной ткани, кружев с длинными концами, перекрещенными на груди и завязанными на талии, либо подложенная под вырез платья.
Каррик — мужской редингот начала XIX в., имевший до пяти воротников с соответствующим количеством ревер разного размера.
Картуз — мужской головной убор типа фуражки с высоким околышем и низкой полужесткой тульей, с козырьком, суконный, полотняный либо меховой, имевший высокой отворотный клапан сзади.
Кацавейка — просторная длинная утепленная женская кофта.
Клок — женская одежда типа накидки без рукавов, длинная, широкая, колоколообразная, с невысоким стоячим и длинным висячим воротником.
Кринолин — жесткая нижняя юбка на обручах из проволоки, китового уса, тростника или колоколообразная конструкция из этих материалов для придания пышности платью.
Мантилья — женская кружевная накидка с коротким передом и удлиненной спинкой.
Манто — просторная прямая женская одежда, сначала в виде длинной накидки без рукавов, затем — пальто без сквозных петель.
Панталоны — мужские длинные штаны со штрипками (стремешками) внизу без отворотов и заглаженной складки.
Редингот — женское и мужское распашное длинное приталенное пальто с широким отложным воротником и широкими реверами, застегивавшееся доверху на пуговицы; в конце XVIII в. у женских рединготов полы с боков подворачивались, как на мужском мундире.
Роброн — женское платье XVIII в. из плотных тяжелых тканей колоколообразной формы с фижмами.
Стр. 105
Ротонда — широкая длинная, до щиколоток, верхняя женская одежда типа накидки со стоячим воротником, иногда теплая, на меху.
Сак — просторное недлинное женское (а в 40-х гг. XIX в. и мужское) пальто с прямой или расширенной спинкой, с отложным воротником и рукавами в отличие от бытовавших тогда ротонд и бурнусов.
Салоп — женская широкая длинная накидка с большой пелериной, с прорезями для рук или очень широкими рукавами, обычно теплая, на меху, стеганая на вате.
Спенсер — коротенькая женская курточка типа лифа из плотных тканей на застежках спереди с узкими длинными рукавами, которую надевали поверх платья; от начала XIX в. к его середине длина спенсера постепенно увеличивалась почти до талии.
Сюртук — мужская одежда до колен или немного выше, одно- или двубортная, глухая или с открытой грудью, со стоячим или отложным воротником, в талию, с узкими длинными рукавами.
Тальма — короткая и неширокая накидка с невысоким стоячим воротником, завязанная лентами, отделанная кружевом, бахромой.
Ток — маленькая женская шапочка без полей, бархатная, атласная, шелковая, обильно украшенная лентами, кружевами, искусственными цветами, перьями, обычно темных тонов.
Трен — шлейф, хвост женского платья, довольно длинный, отделанный воланами, кружевами, из той же ткани, что и платье, обычно пристегивался к юбке.
Турнюр — ватная подушечка или жесткая конструкция из простеганной и накрахмаленной ткани, которую подвязывали на талию под юбки на ягодицы для придания юбке пышных форм и подчеркивания талии.
Тюрбан — женский головной убор в виде большого куска ткани, обмотанного вокруг головы, перевитый бусами, украшенный перьями.
Фалбала — широкая оборка, волан для отделки платьев, чепцов.
Фижмы — каркас из китового уса, ивовых прутьев, тростника, подвязывавшийся на талию по бедрам под юбки.
Фрак — мужская одежда, отрезная в талии с узкими длинными фалдами сзади, одно- или двубортная, с отложным воротником и лацканами.
Фреза — женский туго накрахмаленный и плоеный в мелкую складку воротник, как тарелка, окружавший шею.
Стр. 106
Шемизетка — круглая вставка или накидка из прозрачной ткани со стоячим воротником с рюшем, которую носили поверх выреза платья.
Шлафор, шлафрок — просторный халат, длинный, без застежек с широким запахом, подпоясывался шнуром с кистями.
Эшарп — длинный легкий шарф, повязанный на шею и перекинутый через локти.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
§1. Женский костюм XVIII — первой половины XIX в.
Для всего XVIII в. характерны широкая юбка и тесно облегающий торс сильно декольтированный корсаж. Кроме нескольких радикальных перемен в силуэте юбки, изменения касаются лишь цвета, рисунка материи, отделки, фасона рукавов, длины юбки, формы выреза корсажа и т. д. Разделения на дневные и вечерние туалеты еще не было, разница была лишь в количестве отделки, украшений и головном уборе, так что даже богатые дамы имели всего несколько робронов, даже размер декольте не менялся в зависимости от назначения платья.
До начала 60-х гг. юбки нарядных платьев носили на панье — нижней юбке в форме колокола, обшитой в несколько рядов обручами с полосками китового уса (фишбейн) или плетеньем из тростника. К концу 50-х гг. панье чрезвычайно расширяется. Роброны, особенно парадные, шьются из плотных тканей — атласа, штофа или парчи. В начале 60-х гг. появились фижмы, заменившие панье. Они сильно расширяли фигуру в бедрах, но были эластичными, и их можно было прижать
Стр. 77
локтями, а подол платья стал мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь. В первой половине века женщины часто носят пудренные парики, сравнительно гладкие, со своеобразными завитками над лбом в форме рожек. В конце 60-х гг. юбку перестали раздувать на боках и появился турнюр, сначала небольшой, а в 70—80-х гг. довольно объемистый. Сборки драпируют сзади. Одновременно появились высокая прическа и высокие головные уборы — шляпа-шарлотта и чепцы. Носят их с довольно длинной кофтой-карако, которая была сразу принята дамами и продержалась до середины 90-х гг., тогда как от фижм не могли отказаться очень долго.
Около середины 90-х гг. в моду входят платья антик — туникообразные, со струящимися складками, подпоясывавшиеся высоко под грудью, почти без талии. Вырез довольно широкий, но не глубокий, рукава короткие, фонариком. Ткани легкие, светлые, у модниц полупрозрачные, поэтому под платье надевали чехол или трико телесного цвета. С ними носят простую прическу с локонами или с узлом на затылке, перевитым ниткой жемчуга. Такие свободные платья — шемизы — носили и в 80-х гг., но надевая их поверх корсета либо поверх корсета и турнюра, главным образом дома: это были "покоевые" платья. Шемизы обычно обшивались узкой фалбалой (оборкой).
С 70-х гг., выходя на улицу, вырез корсажа прикрывали мантильей или косынкой-канзу, но в платьях антик выходили на улицу с открытой грудью. При выходе на улицу надевали также довольно длинные распашные карако, а в холодное время года накидывали сверху епанчи. Платья со шлейфом с 70-х до конца 80-х гг. носили и на улице, и только бальные платья танцующих дам были без шлейфа или с отстегивавшимся шлейфом. Парадное придворное платье-роброн состояло из шнурованного корсажа без рукавов, к которому подвязывались короткие или полудлинные рукавчики, отделанные пышными кружевными оборками, юбки на фижмах и распашного верхнего платья со свободно ниспадающим шлейфом, который для танцев закладывали в специальные широкие прорезные карманы. С конца XVIII в. шлейф пристегивали к талии либо с помощью пришитого к кромке "пажика" — петли из ткани — надевали на запястье.
С 1782 г. жены и дочери служащих дворян в торжественных случаях носили платья цветов, присвоенных мундирам губерний, где они жили. На корсаж и атласную юбку надевался казакин или сюртучок из гладкой шерстяной ткани (стамеда) с оторочкой в цвет воротника и обшлагов мужского кафтана. Сюртучок был распашной, длиной выше колен. В торжественные
Стр. 78
Таблица XVII
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 79
Таблица XVIII
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 80
дни при дворе дамы появлялись в русском платье, подобии сарафана — распашном, на корсаже и юбке; к нему полагался кокошник, а девушкам — серповидная повязка.
Дома визиты принимали в пеньюаре или пудермателе поверх утреннего платья, или просто в утреннем платье и в блонодовом или батистовом чепце, а в 80-х гг. — в шляпе-шарлотте с перьями и лентами. Поскольку в 60-х гг. домашние платья не носили на фижмах, распашную юбку или длинную, до колен, баску корсажа драпировали на боках фестонами. В 70—80-х гг. домашние платья носили с турнюром. Молодые женщины и девушки дома надевали корсаж с рукавами и присобранную на боках и сзади юбку. Чтобы скрыть слабую шнуровку корсажа, дома часто носили пелерины с капюшоном, мантильи или канзу, безрукавные душегреи. С середины 90-х гг. домашние платья антик были с длинными рукавами и небольшим декольте.
С утренним платьем и пеньюаром замужние женщины носили чепцы, величина и форма которых менялась в зависимости от моды на прически. В 70—80-х гг. при высокой прическе к большой тулье пришивали широкую накрахмаленную оборку, в середины 90-х гг. чепец был невелик и завязывался под подбородком. Вне дома чепцы заменяли шляпами или прическу украшали лентами, кружевами, перьями, цветами, а на бал — драгоценностями. В 70-х гг. на высокую прическу водружали небольшие парусники, корзинки с фруктами, рога изобилия и пр. В XVIII в., особенно с 70-х гг., под край выреза корсажа закладывали большие газовые или кисейные косынки, канзу. Платья антик требовали длинных легких шарфов (эшарп) с развевающимися концами либо тяжелых набивных кашемировых шалей.
В течение всего XVIII в. широко распространены веера и опахала, обычно шелковые расписные, иногда с нашитыми блестками, на деревянных, черепаховых перламутровых станках, инкрустированных золотом. Немолодые дамы выходили на улицу с тростями красного дерева. Вместе с платьями антик в моду вошли занятия рукоделием, в том числе и в гостях, а поскольку на этих платьях не могло быть карманов, стали носить ридикюли — большие мешки, стянутые шнурком или лентой, надевавшимися на запястье. В большом количестве носили, особенно на бал, ювелирные украшения: подвески, серьги, портбукеты. В конце XVIII в. яркие камни сменяются бриллиантами, жемчугами или (очень умеренно) матовыми камеями.
Стр. 81
Туфли были на каблуках, кожаные, парчовые, глазетовые, с бантами, пряжками, розетками, каблуки красные. С платьями антик надевали легкие туфли без каблуков, с лентами вокруг икр.
В первое десятилетие XIX в. сохраняется мода на античные туникообразные платья, у девушек и молодых женщин светлых тонов, у пожилых дам, расставшихся с прежней модой, — из более плотных тканей, но также обычно светлых. Особенно модными стали простота и скромность в период Отечественной войны 1812 г. На волне патриотизма стали носить сарафаны, душегреи, кокошники. К концу второго десятилетия платья с высокой талией надевали на плотные или накрахмаленные нижние юбки. Днем дома и на улице носили закрытые платья либо надевали на декольтированное платье воротник-пелеринку, а с 1810-х гг. популярна канза и входит в употребление спенсер. В начале 20-х гг. появляются платья, затянутые в талию, широко вошедшие в быт с середины 20-х гг. Утренние и домашние платья в 20-х гг. шьют так, чтобы не требовалось сильно затягиваться, отделывают их широкими бертами, пелеринами до талии или набрасывают платок, шаль, косынку. Часто для дома шьют светлые нарядные пеньюары и дульетки, застегивавшиеся донизу. В моду в 20-х гг. входит прическа с горизонтальными буклями над лбом. Тулья чепца при этом сдвигается на затылок. Прически с начала XIX в. украшают диадемами, золотыми обручами, венками из искусственных цветов и колосьев, золотых и серебряных дубовых и лавровых листьев. С вечерними туалетами носили и всевозможные тюрбаны со страусовыми перьями, и береты. В 20-х гг. береты становятся большими, яркими, атласными или бархатными, их немного сдвигают на затылок или на правый висок, чтобы были видны букли над лбом. По-прежнему популярны кашемировые шали с яркими цветами, входят в моду шали клетчатые, с узором на кайме из пальмовых листьев и меандра. Веера обязательны, их носят на ленточке или цепочке на правом запястье. Обычно это старые большие веера, но уже входят в моду маленькие костяные или черепаховые веера с резьбой и росписью. Туфли без каблуков продержались до конца 20-х гг., но появились и атласные туфли на каблуках.
Для 30—40-х гг. характерен облегающий лиф при покатой линии плеча, тонкой талии и колоколообразной юбке. Вырез очень большой, так что иногда плечи открыты целиком. Рукава с очень большими буфами типа "баранья лопатка" или жиго; во второй половине 30-х гг. большие буфы выходят из моды и допускаются лишь маленькие буфы у локтя или в нижней части
Стр. 82
рукава, от локтя до кисти. Талия начинает удлиняться, юбка с большим количеством сборок на бедрах. В 40-х гг. появляется большая строгость линий, юбка удлиняется до пола, появляется шлейф. Характерные для 40-х гг. узкие рукава с белыми манжетами в конце десятилетия сменяются расширяющимися книзу и не доходящими до кисти руки, под которые надевают белые подрукавники.
Ткани в 30—40-х гг. черезвычайно разнообразны: легкие и тяжелые, одноцветные и многоцветные, узорчатые, полосатые, клетчатые. В 30-х гг. платья довольно пышно отделываются бертами, воланами, фалбалой, в первой половине 40-х гг. туалеты стали более скромными, но затем они снова стали пышно украшаться кружевами, аграмантом, вышивкой.
Дневные платья были с маленьким вырезом, а на декольте надевали канзу или шемизетки с воротником-стойкой, отделанным рюшем. Немолодые дамы с темными платьями из плотных тканей носили белую фрезу. Шили и цветные платья с белой вставкой, отделанной рюшем, либо с отложным воротничком. Домашние платья ничем не отличались от дневных выходных. В конце 30-х — 40-х гг. дома носили душегреи, с середины 40-х гг. появились кацавейки — теплые распашные кофты с рукавами. Замужние дамы дома носили чепцы. В первой половине 30-х гг., когда модной была гладкая прическа с пробором посередине и большим количеством локонов на висках а ля Севинье, стали носить чепцы а ля Мария Стюарт, с мыском над лбом и приподнятой у висков оборкой. Со второй половины 30-х гг. в моде были маленькие чепцы на затылке, перед прически таким образом был открыт, а с висков на плечи свисали две лопасти, обшитые кружевом или рюшем, такие уборы назывались фан-шон. Во второй половине 40-х гг. лопасти перестали носить. Чепцы делали из полупрозрачных тканей, отделывали лентами, кружевом, мелкими искусственными цветами. В конце 30-х — 40-х гг. чепцы часто заменяли шляпу, в них являлись с визитом, а пожилые дамы — и на вечера и балы. Выходить из дома без чепца или шляпы, шали, перчаток было не принято.
Зимой носили шубы, короткие шубки, теплые салопы, пелерины, рединготы, в теплые месяцы — бурнусы, дульетки, манто, мантильи на подкладке, летом на улицу надевали кисейные и фуляровые рединготы, легкие мантильи, тальмы, шали и шарфы. На улицу выходили также в бархатных, суконных или шелковых спенсерах поверх платья. Спенсер носили и дома в качестве лифа дневного платья с цветной или белой юбкой. При визитах шляпу, шаль или мантилью не снимали, как и перчатки. Ненадолго можно было остаться и в рединготе. Вошедший в моду
Стр. 83
Таблица XIX
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 84
летний зонтик на длинной ручке также вносили в гостиную.
Разница между бальными и вечерними туалетами заключалась в размерах декольте и отделке. Для театра, концерта, званого обеда или вечера декольте уменьшали кружевом или рюшем, подшитым под вырез, для скромного вечера надевали канзу. Гостьи в 30-х гг. являлись в шляпах или беретах, реже в чепцах, позже с вечерним туалетом носили чепцы, наколки из кружев или лент, ток, иногда тюрбан. Непременны были перчатки или митени, мантилья или шаль. Перчатки были длинные, лайковые или шелковые, с отделкой по краю кружевом, рюшем, бантиками. Перчатки снимали только за столом, митени вообще не снимали. Браслеты, крупные перстни надевали поверх перчаток. В 30-х гг. в бальной прическе носили белые или цветные страусовые перья в эгретах, райскую птичку, перья марабу, венки из колосьев, цветов, листьев. Популярны были газовые и атласные или белые кисейные тюрбаны с аграфами, перевитые жемчугом, золотыми цепочками или бусами, у старших дам атласные или бархатные береты с перьями. Все носят шпильки с драгоценными камнями, большие гребни, фероньерки. К концу 30-х гг. перья на прическе стали немодны и носят наколки из кружев, лент, гребни, шпильки, диадемы.
При дворе дамы надевали утвержденный в 1834 г. наряд в виде стилизованного распашного сарафана со шлейфом и золотым шитьем и кокошники. В маскарад можно было ехать в домино — широком и длинном черно-белом плаще с капюшоном и в полумаске, отделанной кружевами. Для верховой прогулки надевали амазонку — длинную, с большим шлейфом черную суконную юбку и плотно облегавший талию и грудь жакет с полупрозрачной вставкой, отделанной рюшем, на голову — шляпку-цилиндр с узкими полями и длинной кисейной вуалью.
Обувь с 30-х гг. была без каблуков, из атласа, прюнели, с завязками. Зимой носили невысокие ботинки из сукна или плиса на шнуровке или перламутровых пуговицах. В конце 30-х гг. появился невысокий тонкий каблук, а в конце 40-х гг. — обувь с лакированным носком. До середины 40-х гг. носок острый, затем квадратный. Теплые зимние ботинки иногда оторочены мехом, носят и фетровые ботики, башмаки со штиблетами на пуговицах. С середины 40-х гг. появились резиновые галоши, но они не были популярны.
С бальными и вечерними платьями надевали легкие шарфы, на улицу — шаль или платок из плотной ткани, иногда заменявшие верхнюю одежду. На шею повязывали маленькую газовую косынку. Носили и пелеринки разного рода, не длиннее
Стр. 85
талии, тальмы. Отложной воротник их завязывали лентой или закалывали брошью.
В конце 20-х — начале 30-х гг. носят большое количество ярких драгоценных камней и массивных золотых вещей. С менее парадными платьями, а также дома, даже в чепце носят фероньерку, лифы закалывают брошью, на рукавах и драпировках юбки носят аграфы, на поясе пряжку. В моде большие серьги, браслеты, перстни. В 1833—1834 гг. драгоценностей стали носить меньше, в основном ожерелья и броши, на балы едут с золотыми, бронзовыми и кружевными портбукетами. В 1835—1836 гг. в моду входят камеи, для 40-х гг. характерны скромные черные украшения из эмали, черепахи, гагата, а также бирюза и бисер. На исходе 40-х гг. наблюдается возврат к множеству блестящих драгоценностей.
§2. Мужской костюм XVIII — первой половины XIX в.
В XVIII в. мужской костюм состоял из кафтана, камзола, кюлот, чулок, башмаков, сорочки и галстука. Верхней одеждой служила епанча — суконный плащ с двумя отложными воротниками, один из которых был большой и мог заменить капюшон, на голову надевали треугольную шляпу с пристегнутыми к тулье боковыми и задним полями. В первой четверти века мужчины носят пышные парики с локонами, с 1727 г. — пудренные парики с косичкой и буклями на висках. Кафтан однобортный, с пуговицами от ворота до низа, до 1720 г. без воротника, затем с отложным воротником, с большими отворачивающимися обшлагами на трех пуговицах, с большими, низко расположенными спереди клапанами карманов, до 1720 г. пятилопастными, на пяти пуговицах, затем трехлопастными, на трех пуговицах. Камзол такого же покроя, но уже, короче, без воротника и обшлагов. Кюлоты — короткие, довольно узкие штаны, застегивавшиеся на пуговицу под коленом. До 60-х гг. чулки накатывались на кюлоты, позже кюлоты надевали на чулки. Чулки шелковые, белые. С 30-х гг. идет постепенное уменьшение обшлагов, немного укорачиваются полы кафтана. В 40—50-х гг. парадный кафтан, застегнутый на 3—4 средние пуговицы, обрисовывал талию; юбка его была расширена на боках китовым усом, конским волосом, грубой парусиной. Подкладывали и плечи. В конце 70-х — начале 80-х гг. веера складок на юбке спинки кафтана выходят из моды, передние полы стали скошены, задние гладкие, воротник становится стояче-отложным, высоким. Кафтаны не застегивают либо застегивают на груди на
Стр. 86
крючки, хотя есть пуговицы и петли. Шпагу носят под кафтаном, если нет разреза сзади, либо пропускают в левый разрез; разрезов три, иногда один. Камзол сильно сокращается в размерах, превращаясь в длинный жилет. У шляпы с 30-х гг. пришиваются к тулье переднее и заднее поля, при этом переднее выпукло огибает тулью, образуя угол. К началу 90-х гг. у щеголей кафтаны были с прямыми полами, очень узкой спинкой и высокой талией. Такой прямополый кафтан до середины 1810-х гг. оставался придворным парадным, а у барственных стариков встречался и в начале 20-х гг.
В начале 70-х гг. появился фрак, сперва только для ношения на улице и для верховой езды (рейт-фрак). Воротник стояче-отложной, передние полы округлены и уходят назад, из-под воротника спускается пелеринка, скоро исчезнувшая. С начала 80-х гг. фрак начинает заменять кафтан в дневном костюме. К началу 90-х гг. появились два типа фрака. Английский, с короткими фалдами, носили с панталонами в обтяжку или с лосинами и короткими сапогами с отворотами. Это был дневной костюм. Французский фрак с фалдами ниже колен и округленными передними полами носили с кюлотами и чулками, он был парадным или вечерним костюмом. У щеголей жилеты стали очень короткими, едва доходящими до пояса, с тройными отворотами, торчащими до плеч, фраки были коротенькие, воротники очень высокие, шляпы маленькие, с круглыми полями, сапоги с большими отворотами и кистями. Вместо париков щеголи носят длинную бесформенную стрижку.
В 1796 г. панталоны, фраки, круглые шляпы и стрижка запрещены.
Дома утром и даже днем носили шлафор или халат с шалевым воротником и обшлагами другого цвета, теплые, подбитые ватой или мехом, у вельмож с вышитыми орденскими звездами. На улице всегда ходили с тростью или палкой. До 80-х гг. трость высокая, с небольшим круглым набалдашником из серебра, стали, слоновой кости, золоченым; в 80-х гг. в моде набалдашники из слоновой кости в форме яйца или шляпки гриба либо тонкие трости с загнутой ручкой и двумя кистями на шнуре, затем до 90-х гг. были палки с золоченой, серебряной или фарфоровой ручкой, украшенной камеей, с вделанными в нее лорнетом или часами, либо толстые бамбуковые палки с черным шелковым шнуром и двумя желудями на нем, или суковатые лакированные дубинки, или короткие толстые трости. Встречались также тонкие камышовые трости, оплетенные соломкой или свитые из трех прутьев разного цвета. Во второй половине века стало модно носить в карманах камзолов, затем
Стр. 87
жилетов двое часов с висящими наружу цепочками; в 90-х гг. их носили с ремешком или ленточкой с множеством брелоков. Обязательным для щеголей считался лорнет на цепочке или шнурке на шее; его прятали в карман камзола или жилета. С визитом в гостиную входили с тростью и шляпой в руке, в последней четверти XVIII в. трость оставляли в передней, а головной убор, кроме зимнего картуза, брали с собой.
С начала XIX в. вновь начинают носить фраки, дневной с панталонами в сапоги с отворотами, вечерний — с кюлотами, чулками и туфлями. В конце 10-х гг. кюлоты и узкие панталоны сменились широкими панталонами поверх сапог или при туфлях на бал. Фрак с отрезными узкими фалдами, стояче-отложным воротником, рукава у плеча собраны в небольшие буфы, от локтя узкие. Жилет короткий, так что видна сорочка с высоким стоячим воротником, плотно обмотанным черным галстуком-косынкой. С конца 10-х — начала 20-х гг. распространяется сюртук с такими же воротником и рукавами, как у фрака, но с полами до колен или чуть выше, одно- или двубортный. Сначала это была верхняя одежда, затем домашняя и для улицы. В гости, театр надевали только фрак. Верхней одеждой служит шинель со стоячим воротником и пелериной, а также редингот, зимой шуба. Головной убор — круглая шляпа-цилиндр.
По-прежнему обязательна трость. В 1800-х гг. преобладают короткие толстые палки и тонкие трости-прутики с загнутой ручкой, в 10-х гг. — трости с круглым набалдашником. Часы носят либо на короткой цепочке, висящей из жилетного кармана, либо на длинной, через голову. Используют также бисерные, шелковые или волосяные шнурки, черные и цветные муаровые ленты. Лорнет в 10-х гг. обычно носят в правом кармане панталон, прорезанном ниже пояса. С начала 800-х и до конца 20-х гг. была мода на очки.
До середины 30-х гг. фраки и сюртуки с очень высокими и жесткими стояче-отложными воротниками, рукава с довольно большими буфами у плеча и узкие от локтя. Панталоны вверху умеренно-широкие, у колен сужаются, книзу снова расширяются, у щеголей превращаясь в раструбы. Бальные панталоны плотно облегают всю ногу. Во второй половине 30-х гт. воротники стали мягче и ниже, уменьшились буфы, линия талии поднялась. К началу 40-х гг. буфы исчезают, рукава вшиваются вгладь, воротники и лацканы лежат плоско или образуют мягко прилегающую шаль, талия по росту или выше. С 1846 г. талия опять опускается, полы сюртука и фрака выше колен на 20—25 см, панталоны прямые или сужаются книзу. В 1800—1820-х гг. фраки и сюртуки черные, реже коричневые, темно-синие, в 30-х гг.
Стр. 88
Таблица XX
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 89
цвета яркие, контрастные, в 40-х гг. многокрасочность исчезает, цветовые сочетания спокойные. Однако у щеголей по-прежнему жилеты яркие, иногда с мелким орнаментом (мушками). Сюртук стал повседневной одеждой, но для официальных и светских визитов, вечеров, балов, званых обедов обязателен фрак. К концу 30-х гг. фрак надевали только в торжественных случаях. Для первой половины дня более приличным считался черный доверху застегнутый сюртук, после обеда — цветной сюртук, светлые однотонные или полосатые панталоны, светлый жилет, черный атласный или цветной шелковый галстук, обычно все одного цвета. Фрак также носили со светлыми панталонами. Дневной фрак был застегнут на все пуговицы, к нему полагался черный или цветной галстук. В 40-х гг. черный или темный сюртук надевали только с черными или темными клетчатыми панталонами, а цветные светлые сюртуки — с однотонными или клетчатыми панталонами светлых тонов; клетка панталон мелкая. Жилеты, как правило, клетчатые. Пуговицы бронзовые либо обтянуты тканью.
Повседневной одеждой, особенно в провинции, были архалуки и венгерки. В столицах и больших городах в архалуке выходить на улицу было не принято. С венгеркой и архалуком носили обычные панталоны (темные или светлые, однотонные и в клетку), картузы, фуражки.
Бальный наряд в 30-х гг. состоял из цветного, реже черного суконного или бархатного фрака с черным бархатным воротником, бархатного светлого жилета, иногда расшитого золотом, серебром, шелками, белых или черных облегающих панталон. Сорочка с узкими гладкими манжетами, с гофрированным жабо или мелкими складками на груди, галстук белый батистовый или шелковый, с бантом. Чулки светлые шелковые и туфли-лодочки с глубоким вырезом, удлиненным квадратным носком и низким каблуком. Перчатки белые или жемчужно-серые, лайковые, в крайнем случае тонкой замши. Шляпа черная шелковая, складная (шапокляк). На торжественные балы все еще надевали кюлоты с белыми чулками и туфлями-лодочками, к ним полагалась треуголка. К концу 30-х гг. бархатные фраки стали не модны; бальный фрак черный или цветной, панталоны черные, жилет белый пикейный или шелковый, реже цветной с золотыми пуговицами. К концу 40-х гг. стали входить в моду цветные кашемировые или черные казимировые жилеты.
На бал или вечер являлись в длинном рединготе или темном широком плаще (альмавиве), зимой — в длинной шубе. Повседневно носили рединготы, длинные или короткие бекеши, шинели, шубы. Романтические особы предпочитали альмавивы, а
Стр. 90
молодежь иногда даже носила клетчатые пледы, сложенные драпировкой на левом плече. Обычно носили черные широкополые шляпы (боливар), летом и белые, серые, светло-коричневые; появились и соломенные шляпы. Но с нарядным костюмом надевали только черную шелковую шляпу-цилиндр. С сюртуком, коротким рединготом можно было носить картуз.
Не обязательны стали трости, и тонкие камышовые, с небольшим круглым набалдашником, и толстые бамбуковые или деревянные "бальзаковские", которые украшались шнурками с кистями.
В 30—40-х гг. оставался в моде бронзовый, золотой или черепаховый лорнет, при бальных панталонах на тонкой золотой цепочке на шее, заложенный за вырез жилета, при обычных панталонах с карманами спрятанный в карман; лорнет мог быть и на волосяном шнурке, прикрепленном справа к пуговице фрака. В начале 40-х гг. появился прямоугольный монокль в бронзовой или черепаховой оправе, подвешенный на волосяном или шелковом шнурке к верхней пуговице, а около 1847 г. — пенсне с пружинкой. Часовые цепочки из золота, стали, бронзы, цветного бисера развешивали по жилету; при трауре часы носили на черном шнурке или узкой черной ленте. Концы длинных галстуков скалывали булавками с жемчужиной, драгоценным камнем, камеей, кораллом или эмалевым цветком, голубком. У второразрядных щеголей были серебряные или бронзовые под золото булавки с поддельными камнями, с подковкой, сердцем, пистолетом, игральной картой и проч.; совсем дешевые щеголи носили "тульские" украшения из латуни. Пуговицы рубашек золотые, жемчужные, из драгоценных камней, очень маленькие. Кольцо носили одно, с драгоценным камнем или геммой, чаще с родовым гербом; у женатых было еще и обручальное кольцо. Печатка с гербом могла быть в виде брелока на часовой цепочке. Низкопробные щеголи украшали себя большими фальшивыми камнями, множеством печаток и др., не стеснялись использовать чужие гербы.
Следует учитывать социальные процессы, настроения и моды. Эпоха романтизма вызывала интерес к Востоку (архалуки, а в качестве домашней одежды халат, атласные шаровары, фески, туфли-бабуши с загнутыми носками, женские тюрбаны), воспетой популярным Вальтером Скоттом Шотландии (пледы) и средневековью (женские береты, фрезы, чепцы а ля Мария Стюарт), моду на поэтическую рассеянность, разочарованность, роковую стасть (кольца и шнурки для часов и лорнетов из женских локонов, небрежно свисающие на лоб кудри, для чего мужчины на ночь закручивали волосы на папильотки, а утром
Стр. 91
завивались щипцами), "гусарство" (венгерки, яркие, небрежно повязанные платки вместо галстуков), поэтичность, намек на революционность (боливары, карбонарские широкополые шляпы, широкие плащи — альмавива) и т. д. . Развитие экономики, образования, административного аппарата привело к вовлечению в городскую культуру множества людей из мещанства, купечества, мелкопоместного дворянства, духовенства. Это вызвало появление массовой культуры с ее суррогатами, неумением выбрать нужный тон, быть человеком "комильфо", к преувеличенной моде, щегольству при одновременном отсутствии вкуса и средств. Часть населения в городе носит костюм переходный от крестьянского к дворянскому.
В пособии описан костюм высших городских слоев, но это вовсе не значит, что так одевались все горожане, и при разработке экспозиции это необходимо учитывать.
§ 3. Женский костюм второй половины XIX — начала XX в.
В 50—60-х гг. сохраняется основная линия костюма, сложившаяся в 40-х гг. Она определяется формой корсета и кринолина — жесткой юбки на каркасе. До начала 60-х гг. кринолин круглый, расширяющий юбку во все стороны, затем он становится плоским, а в конце 60-х гг. на нем остаются только 2—3 нижних обруча, расширяющих только подол. Под легкие платья и дома надевают несколько жестко накрахмаленных юбок, прикрепленных к одному поясу. Лиф был облегающий, с круглой талией, либо с двумя мысками, или с баской в 20—30 см. Вновь появляются рукава с большими буфами. В конце 50-х гг. баски удлиняются или заменяются второй юбкой, длиной чуть ниже колен. К середине 60-х гг. перед лифа дневных платьев делают с двумя мысками, наподобие жилета, а баску сзади — в виде коротких узких фрачных фалд ("фрачок"). В 60-х гг. на кринолинах носят платья со шлейфом, с драпировками на бедрах и сзади, по моде XVIII в. Поверх платья часто носят казак — полудлинный, прилегающий в талии жакет из той же ткани, что и платье. К концу 50-х гг. появляется костюм из юбки и жакета в виде казака, свободной куртки или кофты. Его носят с блузкой с отложным или стоячим воротничком и с галстуком. С начала 60-х гг. костюм становится обычным дневным туалетом. Одежда яркая, пышная, с воланами, драпировками, складками, ткани яркие, узорчатые.
Вся верхняя дамская одежда чрезвычайно широка: пелерины, салопы, ротонды, бурнусы, полудлинные пальто и теплые
Стр. 92
казаки; пальто и казаки в талии обычно прилегают к спине. Спереди вся верхняя одежда заметно короче, чем сзади.
Утреннее платье — пеньюар состоит из батистовой или кисейной белой юбки и длинной свободной кофты, близкой по покрою к казаку. Носят также юбку и расшитое платье-капот, длинное и свободное. Все отделано кружевами, оборками, вышивкой. К концу 60-х гг. у капота появляется шлейф, расширяющиеся рукава; ниже талии он не застегнут. С пеньюаром и капотом носят белые подрукавники, белый кисейный чепчик, мягкую обувь. Вместо кринолина надевают крахмальную нижнюю юбку.
Шляпы становятся очень маленькими, почти или совсем без полей, богато отделываются; на шляпке часто носят небольшие вуалетки. Если поля есть, они приподняты по бокам и опущены спереди. Зимой поверх шляп надевают капюшон или башлык, носят также капоры, меховые шапочки. В туалете для прогулок большую роль играет зонтик.
Бальные и вечерние туалеты в 50-х — начале 60-х гг. декольтированы, рукава короткие или полудлинные, лиф с мыском. С середины 60-х гг. вечерние платья стали закрытыми, с длинными или полудлинными рукавами, а бальные по-прежнему с большим декольте и короткими рукавами, в конце 60-х гг. появляются платья на узких бретелях. Под вырез лифа подшивается узкое кружево, на небольших балах декольте прикрывается полупрозрачной косынкой или же под лиф надевают кружевную или кисейную вставку на 5 см выше выреза. Вечерние и бальные туалеты шьют как из тяжелых, так и из полупрозрачных тканей на чехле. Они перегружены всеми видами отделки, украшениями, но вечерние туалеты чуть скромнее. Туалет дополняется наколками, чепцами, током, фаншоном; наколки не имеют определенной формы, делаются по вкусу из бархата, лент, кружев, украшаются цветами, стеклярусом, бусами. Тюрбаны вышли из моды. Диадемы с эгретками и золотые обручи остаются в моде до конца 60-х гг. С вечерними туалетами носят также сетки на волосах из шелка, золотых нитей, украшенные жемчугом, маленькими золотыми цветочками или пчелами. Бальные ботинки обычно атласные, в цвет платья, либо черные, белые, украшены кружевом и пряжками; носки острые, с середины 60-х гг. округлые, каблуки тонкие. Короткие перчатки в середине 60-х гг. сменяются длинными, до локтя. Непременным атрибутом являются веера: расписные "китайские", кружевные или тюлевые, расшитые блестками или стальными гранеными бусами. В 50-х гг. на бал идут с букетиком в портбукете, в 60-х гг. портбукеты выходят из моды и цветы прикалывают к лифу. Носят массу драгоценностей: подвески, броши, широкие и пло-
Стр. 93
Таблица XXI
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 94
Таблица XXII
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 95
ские браслеты, бриллиантовые пряжки на бархотках; во второй половине 60-х гг. появляются серьги, броши, пряжки в "русском" стиле из эмали и цветных камней. Кольца относительно редки.
В 70—80-х гг. мода продолжает заимствовать образцы платьев XVIII в., слегка перерабатывая их. Частично заимствуются и прически, шляпки и обувь на высоких каблуках. Платье состоит из облегающего лифа на корсете, юбки и драпировок на юбке. До середины 70-х гг. лифы преимущественно с баской, большей частью спереди более длинной, чем сзади и на боках. Иногда перед баски заменяли драпировкой "передником", подшитой под край лифа. Баска была разрезной спереди и сзади или только сзади. Концы короткой баски ложились поверх драпировки на турнюре. Лифы дневных, а часто и вечерних платьев шили закрытыми, с невысоким стоячим или стояче-отложным воротником и подшитым или наложенным белым воротничком. Лифы нарядных вечерних платьев были с прямоугольным или треугольным вырезом, отделанным высоким рюшем, иногда с кружевным жабо. Бальные туалеты без рукавов, глубоко декольтированы на груди и спине, рукава дневных и закрытых вечерних платьев большей частью полудлинные, у открытых вечерних платьев рукава до локтя; манжеты с белыми подрукавниками, под манжетой может быть кружевная оборка.
Носили платья с одной или двумя юбками. В начале 70-х гт. еще были платья с драпировкой "передником"; сзади над подолом была пришита большая оборка. Платья с середины 60-х гг. носят с турнюром, причем в 70-х гг. турнюр очень большой. Драпировку на турнюре и трен делали из сложенного складками большого полотнища, пришитого к поясу под баской. Подол юбки обычно обшивался гофрированным или складчатым высоким воланом, а на нарядных платьях — двумя-тремя воланами. Шили также платья с так называемой туникой — верхней юбкой, цельной, разрезанной спереди или спереди и сзади, драпировавшейся на боках и турнюре. Были и платья с полонезом — цельнокроенной спинкой или цельнокроенным передом, доходящим примерно до колен; носили полонез с длинной юбкой. Лиф полонеза открытый или закрытый, юбка могла быть не сшита с боков или спереди, от талии до подола. Трен нарядных платьев мог быть на основной юбке или образован удлиненной спинкой туники или полонеза; могло быть и два трена разной длины. Трены украшали бантами, а на бальных и открытых вечерних платьях — букетами.
В конце 70-х — начале 80-х гг. турнюры выходят из моды. Обтяжной лиф удлинен, сзади иногда длиннее; декольтирован-
Стр. 96
ные бальные лифы, иногда с мыском, и лифы для полных женщин шнуруются сзади, прочие застегиваются спереди или сбоку на пуговицы. По-прежнему они большей частью закрытые, с воротником, отделанным рюшем. При стоячем белом воротничке носят галстук из ленты, завязанной бантом. Входят в моду лифы со вставкой в виде манишки с воротничком; часто их носят с широким кожаным поясом. Мода рекомендует также платья-принсесс: они с треном, идущая вгладь спинка заложена внутренними складками, расходящимися книзу, перед очень узкий, облегающий фигуру, гладкий или слегка задрапированный сборками. Еще сохраняются отделка юбки передником, туники, а полонезы принимают покрой платья принсесс. С 1882 г. вновь начинают носить платья с турнюром, более выпуклым и расположенным ниже; к концу 80-х гг. турнюр опять уменьшается, но талия по-прежнему удлинена. В моде облегающие лифы с басками, в том числе с "фрачком". Расклешенные книзу рукава теперь редки, отделываются по-прежнему обшлагами, манжетами, рюшем, кружевом, воланами. Для всех платьев, кроме парадных, мода предписывает платья без трена. На исходе 80-х гг. платья упрощаются: почти без драпировок, с лифом, удлиненным только до линии бедра, с юбкой, заложенной складками. Дневные туалеты часто в виде распашного платья на юбке из одной с ним ткани.
Утреннее домашнее платье — в виде либо капота, либо длинной, в талию, кофты и юбки, отделанной плиссированными воланами и кружевом. Капоты в 80-х гг. драпируются на маленьком турнюре. Домашние платья и платья для улицы рекомендуются с полонезом в виде длинного жакета или пальто с карманами, реверами, отложным воротником. На более простое платье можно было набросить нарядную шаль или короткую тальму. Кроме разнообразных воланов и рюша выходное платье отделывали вышивкой сутажом или синелью, стеклярусом, бахромой, нарядными пуговицами.
Шляпы фетровые, бархатные и шелковые, летом и соломенные, отделывали бантами, перьями, стеклярусом. В конце 80-х гг. шляпы часто носили с вуалью, опущенной на лицо и завязанной сзади.
Для улицы и визитов имели также костюм. Он состоял из платья и короткого жакета. Можно было надеть пелерину до локтей со стоячим воротником. В 70-х гг. носили и более длинные, особенно сзади, пелерины с декоративным капюшоном и прорезями для рук. Носили также казак, длинные или полудлинные жакеты, однобортные и двубортные рединготы в талию, застегнутые до талии, на боках и сзади задрапированные склад-
Стр. 97
ками. С середины 70-х гг. пальто шьют с выгибом на спине для турнюра. В конце 70-х — начале 80-х гг. носят более длинные пальто, спереди прямые, сзади слегка расклешенные, с отложным или стояче-отложным воротником, прямыми свободными рукавами, а также узкие, прилегающие в талии пальто-каррик с двумя-тремя пелеринами и отворотами. В моде и короткие прямые пальто с расклешенными рукавами.
В конце XIX — начале XX в. линии одежды стали более простыми и плавными. Сначала еще сохраняются сильно стянутые в талии длинные платья. Фасоны 1890-х — 1900-х гг. требовали очень тонкой талии, а 1900-х гг. еще и высокого бюста и стройной линии бедер. Линия от талии до колена должна быть прямой. Около 1910 г. совершился переход к более удобным и коротким платьям, не стесняющим движений; перестали шнуровать корсет, появились бюстгальтер, нижний корсет.
Лифы 90-х гг. были обтяжными, с удлиненной талией либо с драпированным передом, с широким поясом или мыском, большей частью со вставкой с воротничком. Рукава у плеча с коротким и пышным или удлиненным буфом "жиго", облегающие руку ниже локтя. Широкие реверы, бретели, эполетки вместе с буфами расширяют фигуру в плечах, создавая впечатление тонкой талии. На всех платьях, кроме бальных, вставки с высоким стоячим воротником. На вечерних туалетах лиф отделан бертой; при треугольном вырезе берта на спине круглая, спереди со скрещенными концами, при круглом или овальном вырезе — в виде широкой оборки.
Носят также белые и цветные блузы, заменяющие корсажи, обычно на круглой или квадратной кокетке, спереди пришитой в сборку; на блузах без кокетки перед собран вокруг стоячего воротника. Блузы также с буфчатыми рукавами. К концу 90-х гг. буфы уменьшаются, а рукава вшивают вгладь. На лифах появились очень короткие баски, вырезанные фестонами и зубцами. Круглые берты сохранились только на бальных платьях. В 1899 г. появилась мода на большие круглые воротники-пелерины из гипюра, на легких платьях — из батиста с кружевами. Блузы носят вместо корсажа, с костюмом или под болеро либо фигаро. Болеро и фигаро могли быть с рукавами и заменяли жакет без рукавов. Блузы носили с небольшим напуском у пояса. Они были в основном с высокими стоячими или стояче-отложными воротниками, но были и летние блузы с треугольным вырезом, отделанным реверами или гофрированными воланами.
В 1901 г. в моду вошли платья-костюмы с коротким болеро в стиле ампир, с полудлинными рукавами, узкими вверху и расширенными книзу. Под болеро была вставка или блуза, отделанные гипюром. В 1902 г. стали носить корсажи с небольшим напуском и баской до колен, заменявшей отделку юбки туникой и воланами. На летних и вечерних платьях оставался маленький вырез у шеи, но элегантные платья для выхода на улицу и для визита были с высоким стоячим воротником. В 1905 г. вновь появились платья с буфами у плеча, воротниками-пелеринами, болеро, берты из двух-трех рядов оборок. Много было и цельнокроеных платьев типа принсесс. Изредка носили и платья с поясом под грудью, как в начале XIX в. Около 1910 г. лифы делают с завышенной или нормальной талией, но более свободные, присобранные у талии с небольшим напуском. Рукава узкие полудлинные или до локтя. В моде отделки, увеличивающие бюст. В 1911—1912 гг. шьют платья с очень узкой юбкой и лифами более свободного покроя, с рукавами японкой или с очень глубокой проймой и открытые у шеи. Много также лифов с длинной расклешенной баской. Те и другие носят с широким поясом с бантом и длинными концами на левом боку. Наиболее распространены юбки, облегающие перед и бока по лини бедра или немного ниже, узкие почти до колен и сильно расклешенные внизу. Юбки до середины 90-х гг. немного не доходили до пола и сзади имели маленький трен, затем они укорачиваются, в 1912 г. до подъема ступни. С 1912 г. юбки узкие, часто с разрезом сзади или слева, в 1913 г. внизу суженные, отделанные спереди пуговицами. Их носили с блузой или жакетом английского покроя. Во время войны юбки стали еще короче, шире и удобнее. Капоты в конце XIX — начале XX в. шьют только свободные. Вместо капота носили также матине — свободную кофту, обшитую кружевом, рюшем, которую надевали с какой-нибудь юбкой, даже нижней, обшитой воланами. В большой моде стали халаты из восточного шелка, китайские халаты, японские кимоно. С начала 90-х гг. дома стали носить юбку с блузкой.
В 90-х гг. носят пальто, прилегающие в талии или прямого покроя, жакеты, пелерины. Длинные прилегающие пальто (рединготы) и длинные прямые пальто (манто) немного не доходят до пола, короткие закрывают колени. Манто и рединготы часто носили с одной или двумя пелеринами до локтя или до кисти руки. Воротники высокие стоячие или стояче-отложные. Зимой носили также ротонды на меху длиной почти до земли. В моду вошли небольшие меховые или отделанные мехом муфты и длинные, довольно широкие боа. Их украшали бантами и меховыми хвостами, а в конце 90-х гг. — головками, лапками и хвостами или только мордочками и лапками. Зимние шляпы маленькие, иногда с завязками. Носили и меховые, и фетровые шапочки. С визитными туалетами надевали шляпы с небольши-
Стр. 99
Таблица XXIII
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Стр. 100
ми изогнутыми полями, отделанные перьями, цветами, бантами, кружевом. В 1905—1907 гг. стали модны меховые жакеты до талии с небольшим напуском или гладким передом и расширяющимися рукавами. С 1908 г. пальто в талию выходят из моды. В начале 1900-х гг. почти все шляпы с небольшими полями. Их украшали иногда целой птицей, например чайкой. В 1910—1913 гг. в моде были огромные шляпы шантеклер с низкой тульей и полями шире плеч или с высокой и широкой тульей и опущенными полями. Почти всегда шляпы с вуалетками, с большими булавками. С 1913 г. шляпки стали меньшими по объему. Одновременно с большими шляпами стали модны и большие муфты, а боа вышли из моды.
§4. Мужская одежда второй половины XIX — начала XX в.
В мужских костюмах сохранялся покрой 40-х гг. Перемены касались в основном длины сюртука и фалд или отворотов фрака, ширины и длины рукавов. Так, в 50-х гг. полы и фалды не доходят до колена 20 см, в начале 60-х гг. удлиняются до колен. В 1852 г. появился сюртук со скошенными округлыми полами типа визитки, у молодежи начинают пользоваться успехом пиджаки типа сильно укороченного сюртука, однобортные, с нашивными нагрудным и боковыми карманами. Фраки черные, реже темно-синие, сюртуки черные или темные цветные, пиджаки тех же тонов. Одежда обшивается шелковой или шерстяной тесьмой в цвет ткани. Летом одежда из легких светлых тканей, иногда клетчатых. Жилеты, как в 40-х гг., с шалевым воротником, с отворотами, однобортные, реже двубортные. Их шьют из полусукна, узорного шелка, белого и цветного пике, бархата, плюша.
Панталоны умеренно просторные, в начале 60-х гг. слегка сужаются книзу, а во второй половине 60-х гг. расширяются книзу от колена. На панталонах черные атласные лампасы или отстроченные швы. Носят светлые пиджаки с темными брюками и наоборот, а на исходе 60-х гг. пиджаки и брюки шьют из одной ткани. Верхняя одежда была чуть выше колен, но в 1854—1855 гг. носили очень длинные пальто, плащи и бекеши. Головным убором обычно был цилиндр, летом носили и соломенные шляпы, в Москве и провинции еще и фуражки и картузы. В начале 60-х гг. в моду вошел котелок. Некоторые "артистические" натуры надевали широкополые шляпы с низкой мягкой тульей и дополняли ее плащами или пледами. Галстук черный узкий, с небольшим бантом или плоским узлом, с летним костюмом
Стр. 101
галстук светлый, с вечерним фраком — накрахмаленный белый батистовый, причем концы узла оттянуты далеко в стороны. Во второй половине 50-х гг. носили также широкий мягкий галстук-пластрон, закрывавший весь верх манишки. Его часто закалывали булавкой. Воротнички были прямые стоячие смыкающиеся, прямые стоячие расходящиеся и стояче-отложные. Вся обувь — с широкими носками.
Утром носили халат — восточный или закрытый с косым воротом и откидными рукавами с прорехами. Выходя из дома, надевали темный сюртук, черный или цветной жилет, темные или средних тонов панталоны в полоску, клетку. Фраки носили старики, врачи с визитами, присяжные поверенные как профессиональный костюм.
В 70-х гт. мужская мода сохраняет прежний покрой, но талия слегка занижена. Появляются однобортные визитки со скругленными полами и двубортные с плоско обрезанными полами. Сюртуки и визитки большей частью без наружных карманов, пиджаки и пальто с прорезными или настроченными карманами пасокам, иногда на груди слева. Пиджаки и сюртуки одно-двубортные, с плоско лежащим воротником и отворотами; их застегивали только на верхние пуговицы. Фраки с глубоким вырезом и фалдами выше колен, жилеты обычно однобортные. Носили пиджак и панталоны из одной материи, жилет из другой, а также полосатые, клетчатые, более светлые панталоны к пиджаку и жилету из одной ткани. Фрак с панталонами одного цвета, темные, фрачный жилет белый или черный. С черным сюртуком и визиткой панталоны были из той же материи или в черную и серую полоску, днем в хорошую погоду светло-серые, в 80-х гг. также в мелкую черно-серо-белую клетку. Признаком дешевого франтовства были крупноклетчатые пиджаки.
Панталоны в 70-х гг. внизу умеренно широки, у колен сужены, иногда слегка заужены у ступни, образуя напуск. Воротнички невысокие, стоячие или стояче-отложные, стоячие с отогнутыми уголками, со смыкающимися краями, с раздвинутыми краями, а стояче-отложные со скругленными углами. Галстуки черные и цветные, гладкие, в узкую полоску или с мелким узором. Только с вечерним фраком надевали белый батистовый галстук, иногда черную атласную бабочку. Носили также готовые галстуки и самовязы с большим или маленьким бантом или с узлом, подобные современным, а также заколотые булавкой галстуки-пластроны. По-прежнему в моде шелковые черные цилиндры, в 70-х гг. высокие и узкие, в 80-х — низкие, а также котелки, фетровые шляпы, летом соломенные канотье и панамы, зимой — меховые шапки разных фасонов. Пальто
Стр. 102
однобортные и двубортные, прямого покроя, и до колен, и выше, и ниже их.
В 70—80-х гг. мужская мода окончательно стабилизировалась, шло только упрощение линий. В этот период появляются брюки современного типа, с заглаженной складкой, без штрипок, с отворотами внизу. Брюки достаточно свободные, без выемки у колена, с узким черным лампасом или отстроченным боковым швом. В начале XX в. стали модны широкие плечи. Увеличились реверы, грудь стала казаться шире, талия тоньше. В 1911—1913 гг. мода на "атлетичность" усилилась, и франты подбивали грудь ватой, но в 1914 г. игра в борцов прошла, плечи опустились, грудь стала плоской.
Повседневной одеждой стал костюм с пиджаком или сюртуком. В 1910-х гг. пиджак носили уже люди всех возрастов и положений. Углы передних пол однобортных сюртуков и пиджаков округлялись, полы расходились, обычно их застегивали лишь на верхнюю пуговицу. Карманы прорезные, иногда с клапанами. Двубортные пиджаки и сюртуки чуть длиннее, с прямыми полами, реверы двубортных пиджаков увеличились в длину почти до талии. Летом стали возможны белые сюртуки и пиджаки с белым жилетом и брюками среднего тона или белые брюки со светлым пиджаком. Элегантные сюртуки шили иногда с шелковыми реверами. Появилась спортивная одежда: для верховой езды двубортный пиджак с накладными карманами и бриджи с сапогами, для велосипеда — брюки-гольф, чулки, высокие шнурованные ботинки, цветная рубашка с мягким отложным воротничком, для коньков — теплая куртка и шапка пирожком.
Воротнички и манжеты сорочек были крахмальные, пристежные, с 1915 г. носили с пиджаками и мягкие воротнички пике, а с летним костюмом и открытые у шеи рубашки. В 90-х гг. воротнички прежнего покроя, а в 1899 г. в моду вошли очень высокие воротнички с округленными, иногда слегка отогнутыми углами. Галстуки длинные, с обычным, как сейчас, узлом или небольшая бабочка с заглаженными складками широким пластроном. Галстуки темные, одноцветные или в клетку, косую полоску, горошек, около 1900 г. появились яркие галстуки, в 1902 — пестрые вязаные, в 1910 г. — с переливами.
В начале XX в. стали носить светлые ботинки, в 1910-х гг. — полуботинки, с которыми весной и осенью надевали короткие гетры.
В это же время появились пальто-реглан. Головным убором служили шапки круглые, пирожком, "боярки" с бархатной тульей и меховым околышем, а также котелки, мягкие фетровые шляпы, такие, как и сегодня, фуражки. Спортсмены носили кепи
Стр. 103
с наушниками. Парадным головным убором оставался фетровый серый или шелковый черный цилиндр к фраку, серый или черный котелок к визитке.
Разумеется, моде следовала меньшая часть населения, большинство же имущей публики лишь в той или иной мере следовало ей, особенно мужчины. Городские низы, студенчество, рабочие лишь приблизительно соблюдают стиль эпохи; в то же время у разных групп были свои моды. Так, среди студенчества 60—70-х гг. были модны широкополые шляпы, блузы-гарибальдийки и пледы, а курсистки ходили в маленьких шапочках, темных глухих платьях с белыми воротничками, разумеется, без корсетов и кринолинов. В 80—90-х гг. и отчасти и в 1900-х мода на народность привела к тому, что демократически настроенная интеллигенция, с одной стороны, и шовинистически настроенные дворяне-монархисты — с другой стали носить красные косоворотки навыпуск, поддевки и высокие сапоги. Городское мещанство использует в одежде элементы традиционного народного костюма и упрощенного городского, купечество тяготеет в одежде и домашнем обиходе к дворянству. Квалифицированные рабочие непременно приобретали хорошо сшитую пиджачную пару, котелок, носили галстук на стоячих накрахмаленных воротниках, а иногда и сюртук с жилетом. В целом разрушение сословных перегородок вело к стиранию резких границ и во внешнем облике, а разнородные настроения приводили даже к своеобразной "диффузии" в костюме.
§ 5. Элементы городского костюма
Альмавива — широкий мужской плащ, обычно с широким воротником, черный, который носили, запахнувшись и закинув одну полу на плечо. Моден в 30—40-х гг. XIX в.
Архалук — восточного происхождения мужская одежда типа халата до колен или чуть ниже, без плечевых швов, из полосатой ткани, носили с кушаком или ремнем. Моден в 20—40-х гг. XIX в. среди дворян — любителей псовой охоты.
Баскинья — довольно широкая распашная юбка немного ниже колен, отороченная пышными оборками; носили поверх платья в 30-х гг. XIX в.
Баска — деталь корсажа, лифа, блузы, оборка ниже талии.
Берта — пышная оборка из кружев или декорированной ленты, обрамлявшая вырез декольтированного платья.
Боа — длинный узкий шарф, меховой или из птичьих перьев.
Боливар — широкополая шляпа-цилиндр, напоминающая сомбреро.
Стр. 104
Бурнус — женская одежда из сукна, бархата типа широкой накидки без рукавов, с капюшоном, отделанная тесьмой.
Венгерка — элемент форменной одежды гусарских офицеров 40-х гг. XIX в., длиной чуть выше колен, однобортная, отделанная на груди шнурами с петлями-брандебурами в пять рядов.
Дульетка — во второй половине XVIII — первой половине XIX в. женская и мужская одежда, длинная, распашная, однобортная, узкая в талии, с длинными узкими рукавами, без воротника, крытая шелком.
Казак — дамский полудлинный прилегающий в талии жакет, длиннополая кофта с рукавами, которую носили поверх платья, из той же ткани.
Канзу — косынка или платок из легкой полупрозрачной ткани, кружев с длинными концами, перекрещенными на груди и завязанными на талии, либо подложенная под вырез платья.
Каррик — мужской редингот начала XIX в., имевший до пяти воротников с соответствующим количеством ревер разного размера.
Картуз — мужской головной убор типа фуражки с высоким околышем и низкой полужесткой тульей, с козырьком, суконный, полотняный либо меховой, имевший высокой отворотный клапан сзади.
Кацавейка — просторная длинная утепленная женская кофта.
Клок — женская одежда типа накидки без рукавов, длинная, широкая, колоколообразная, с невысоким стоячим и длинным висячим воротником.
Кринолин — жесткая нижняя юбка на обручах из проволоки, китового уса, тростника или колоколообразная конструкция из этих материалов для придания пышности платью.
Мантилья — женская кружевная накидка с коротким передом и удлиненной спинкой.
Манто — просторная прямая женская одежда, сначала в виде длинной накидки без рукавов, затем — пальто без сквозных петель.
Панталоны — мужские длинные штаны со штрипками (стремешками) внизу без отворотов и заглаженной складки.
Редингот — женское и мужское распашное длинное приталенное пальто с широким отложным воротником и широкими реверами, застегивавшееся доверху на пуговицы; в конце XVIII в. у женских рединготов полы с боков подворачивались, как на мужском мундире.
Роброн — женское платье XVIII в. из плотных тяжелых тканей колоколообразной формы с фижмами.
Стр. 105
Ротонда — широкая длинная, до щиколоток, верхняя женская одежда типа накидки со стоячим воротником, иногда теплая, на меху.
Сак — просторное недлинное женское (а в 40-х гг. XIX в. и мужское) пальто с прямой или расширенной спинкой, с отложным воротником и рукавами в отличие от бытовавших тогда ротонд и бурнусов.
Салоп — женская широкая длинная накидка с большой пелериной, с прорезями для рук или очень широкими рукавами, обычно теплая, на меху, стеганая на вате.
Спенсер — коротенькая женская курточка типа лифа из плотных тканей на застежках спереди с узкими длинными рукавами, которую надевали поверх платья; от начала XIX в. к его середине длина спенсера постепенно увеличивалась почти до талии.
Сюртук — мужская одежда до колен или немного выше, одно- или двубортная, глухая или с открытой грудью, со стоячим или отложным воротником, в талию, с узкими длинными рукавами.
Тальма — короткая и неширокая накидка с невысоким стоячим воротником, завязанная лентами, отделанная кружевом, бахромой.
Ток — маленькая женская шапочка без полей, бархатная, атласная, шелковая, обильно украшенная лентами, кружевами, искусственными цветами, перьями, обычно темных тонов.
Трен — шлейф, хвост женского платья, довольно длинный, отделанный воланами, кружевами, из той же ткани, что и платье, обычно пристегивался к юбке.
Турнюр — ватная подушечка или жесткая конструкция из простеганной и накрахмаленной ткани, которую подвязывали на талию под юбки на ягодицы для придания юбке пышных форм и подчеркивания талии.
Тюрбан — женский головной убор в виде большого куска ткани, обмотанного вокруг головы, перевитый бусами, украшенный перьями.
Фалбала — широкая оборка, волан для отделки платьев, чепцов.
Фижмы — каркас из китового уса, ивовых прутьев, тростника, подвязывавшийся на талию по бедрам под юбки.
Фрак — мужская одежда, отрезная в талии с узкими длинными фалдами сзади, одно- или двубортная, с отложным воротником и лацканами.
Фреза — женский туго накрахмаленный и плоеный в мелкую складку воротник, как тарелка, окружавший шею.
Стр. 106
Шемизетка — круглая вставка или накидка из прозрачной ткани со стоячим воротником с рюшем, которую носили поверх выреза платья.
Шлафор, шлафрок — просторный халат, длинный, без застежек с широким запахом, подпоясывался шнуром с кистями.
Эшарп — длинный легкий шарф, повязанный на шею и перекинутый через локти.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

|
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ |
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
§ 1. Мужской костюм
Мужской костюм был в большей или меньшей степени однородным по покрою во всех великорусских областях, что связано с положением мужчины в обществе. И в экономическом, и в юридическом положении мужчина был более самостоятельной и мобильной фигурой. Отправляясь в свободное от сельскохозяйственных работ время на заработки, иногда далеко и надолго, мужчина общался с людьми иных местностей, с горожанами, знакомился с чужими обычаями и внешним видом, приобретал большую широту взглядов и терпимость, а его внешний вид нивелировался. Кроме того, одинаковые для всех местностей условия работы мужчины, обычно тяжелые, под открытым небом, делали мужской народный костюм функциональным, а функциональность опять-таки вела к единообразию состава и покроя. Различия заключались в основном в терминологии.
Основу мужского костюма составляла рубаха всюду одинакового туникообразного покроя: с перегнутым на плечах центральным полотнищем, в котором делался круглый вырез для шеи и разрез (пазуха) на груди слева (рубаха-косоворотка); по бокам пристрачивались перегнутые вдоль прямые или косые бочка, а к ним и к центральному полотнищу пришивались рукава прямого покроя, также из перегнутых вдоль полотнищ-точей. Между рукавами и бочками вшивались сложенные пополам прямоугольные ластовицы, обычно из ткани другого цвета, например кумачные; они расширяли рукав, допуская размаши-
Стр. 48
Таблица VII
МУЖСКАЯ РУБАХА. ПОРТЫ И ШТАНЫ
Стр. 49
стые движения, а когда испревали от пота, выпарывались и заменялись новыми. На плечах, груди и спине с изнанки подшивался кусок ткани — подоплека, лежавшая на груди и спине "по прямой", либо "по косой", углом вниз; при испревании она также заменялась новой. Пазуха застегивалась на пуговицу налево; иногда в вырез ворота вшивался невысокий воротник-стойка. Таким образом, мужская рубаха, как и все элементы народного костюма, была чрезвычайно конструктивной, простой в изготовлении, почти не требовавшей ножниц и дававшей при шитье минимум отходов трудоемкой в изготовлении ткани. Длина рубахи — в среднем до колен, у парней и молодых мужиков немного выше. Носилась она навыпуск, с кушаком. Орнамент в виде мелкой вышивки красной нитью располагался по вороту, пазухе, обшлагам и подолу, а у праздничных рубах также по швам бочков и подоплеки. В конце XIX в. под влиянием города появилась рубаха на кокетке, с манжетами и прямым разрезом.
Рубаха дополняется портами из домотканины, обычно в белую и синюю или красную, серую, черную полоску. Они шились из двух перегнутых вдоль полотнищ (калош) с вшитым между ними большим четырехугольником или ромбом — ширинкой, расширявшей шаг. В поясе порты собирались на шнурок — гашник, или очкур. В XIX в. появились штаны из домотканого или фабричного сукна, отличавшиеся вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, с клапаном на разрезе, клинообразными вставками на внутреннем шве и вшивными карманами. Порты при штанах стали играть роль рабочей или исподней одежды.
Разнообразна, но столь же функциональна и конструктивна была верхняя мужская одежда. Основным ее традиционным видом был кафтан, а также производные от него полукафтанье, поддевка, казакин и т. д. Кафтан — праздничная одежда из домотканого или покупного фабричного синего, коричневого, черного сукна и даже плиса, длиной до колен, приталенная, со сборками сзади и с боков, с сужающимися книзу рукавами, невысоким стоячим воротником, вертикальными прорезными карманами, с подкладкой до талии, застегивавшаяся налево на крючки или большие медные пуговицы. Он мог быть с цельной спинкой, со сборами на боках или с отрезной выкройной спинкой, с раскошенной ее нижней частью и со сборенными боковыми клиньями. Суконные кафтаны отделывались по карманам, обшлагам, воротнику и борту полоской плиса.
Полукафтанье и казакин примерно такого же покроя были выше колен. Поддевка, также выше колен, имела широкий запах
Стр. 50
Таблица VIII
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Стр. 51
Таблица IX
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Стр. 52
налево, застегивалась на крючки и была с невысоким воротником-стойкой, с отрезной выкройной спинкой, сильно сосборенная на талии сзади. Пониток — также праздничная одежда — шился из домотканой полушерстяной ткани и был приталенный, со сборами на талии, но длиной ниже колен. Зипун — повседневная верхняя одежда из сермяги с широким запахом налево без воротника и с косым вырезом на груди, длиной ниже колен — застегивался на кожаные узелки. В отличие от кафтана, казакина или поддевки зипун подвязывали кушаком, тогда как кафтан носили нараспашку, а иногда и наопашь — надетым в один рукав. Разновидностью понитка была чуйка из черного или синего фабричного сукна длиной ниже колен с широким запахом налево, без воротника, с вырезом у горловины, отделанная мехом по вороту, борту и рукавам. Чуйка и сибирка — синий или черный длиннополый двубортный суконный сюртук с отложным воротником и лацканами на груди — были одеждой преимущественно купечества и мещанства.
В конце XIX в. в деревню из города приходят одно- или двубортный жилет, который носили с рубахой навыпуск, и пиджак на вате — длиннее современного, прямой, двубортный, с прорезными прямыми карманами на боках, отложным воротником и лацканами на груди.
Повседневной зимней одеждой был овчинный полушубок выше колен с отрезной выкройной спиной, заложенный в талии в мелкие складки, с широким запахом налево, на крючках, с невысоким меховым воротником-стойкой и с косыми прорезными карманами, отделанный мехом по обшлагам, полам, карманам и борту, а иногда и на груди. Бекеши — удлиненные до колен крытые сукном полушубки — носили более зажиточные слои населения. В дорогу в ненастье дополнительно надевали армяк из домотканой армячины, халатообразный, длиной до середины икр, с широким запахом налево, без застежки, с широким шалевым простеганным воротником, который носили с кушаком. Подобными по покрою были азям, чапан, халат. Зимой в дорогу надевали повторявший покрой армяка овчинный тулуп длиной до пят.
Распространенным мужским головным убором была валяная из поярка шляпа с узкими прямыми полями, с высокой, слегка сужающейся кверху тульей и прямым круглым донцем; тулья могла сужаться до середины, а затем кверху снова расширяться, образуя перехват. Такие шляпы назывались гречневиком, черепенником. Носили также валенку — валяный высокий колпак с нижней частью, отвернутой вверх наподобие околыша. Зимой
Стр. 53
носили меховые треухи и малахаи со стоячим меховым козырем спереди и отворачивающейся вниз задней лопастью, а также овчинные папахи. К концу XIX — началу XX в. получает распространение, особенно у парней, молодых мужиков и зажиточных крестьян, картуз с небольшим лакированным кожаным козырьком, суконный, с довольно высоким околышем и невысокой мягкой тульей.
Вся мужская одежда непременно подпоясывалась широкими кушаками, довольно длинными, несколько раз оборачивавшимися вокруг талии, с концами, заткнутыми по бокам за кушак, и поясами-покромками, ткаными, узорчатыми, с концами, украшенными кистями и бахромой, довольно длинными, либо несколько раз оборачивавшимися по талии и концами затыкавшимися, как широкий кушак, либо один раз охватывавшими талию и завязывавшимися узлом сбоку. Носили и длинные крученые пояса с кистями, завязанные узлом. Без пояса могли выйти "на люди" только маленькие дети. Богатые подпоясывались высоко, под грудь, чтобы выпирал живот, бедняки — низко, почти по кострецу.
Обувались в лапти с онучами, рабочей обувью были ступни или босовики, а праздничной — смазанные дегтем сапоги из толстой кожи.
§ 2. Женский костюм
Значительно разнообразнее и сложнее мужского женский костюм, часто различавшийся по расцветке и орнаментации не только по губерниям или уездам, но и по отдельным волостям и даже селам. Столь же сложна и терминология женского костюма: однотипные вещи в разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных губерниях одно и то же название прилагалось к различным видам одежды.
Дробность женского костюма связана с особенностями положения женщины в обществе и семье. Во-первых, женщина не была самостоятельна юридически: получить паспорт на отлучку с места жительства она могла только с разрешения отца или мужа. Во-вторых, она была постоянно привязана к хозяйству и семье; даже после окончания полевых работ на ней оставались все домашние дела и прибавлялись работы по обеспечению семьи за зиму домоткаными тканями, одеждой. Женщина редко отлучалась сколько-нибудь далеко и надолго от своего селения, мало была знакома с чужими обычаями и обиходом, обладала более узким кругозором, была более консервативна, нежели мужчина, и в полной мере оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в области одежды.
Стр. 54
Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регионам, а также определенным возрастным группам, следует отметить его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, детали которых были нерасторжимыми.
Специалисты различают сарафанный комплекс, паневный комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубелеком, а также более позднее и повсеместное явление, обусловленное влиянием города, — так называемую парочку — юбку с жакетом.
Основой всех женских костюмных комплексов является рубаха. Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, паневой, андараком, кубелеком, нагрудой, плечевой одеждой. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей, нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные белые либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и т. д.
Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Отличалась она от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. Позднее такая рубаха стала чисто старушечьей и обрядовой, смертной одеждой.
Большую группу женских рубах составляют рубахи с поликами — вставками ткани на плечах, между воротом и рукавами. Различаются рубахи с косыми, имеющими форму ромба поликами, с прямыми, пришитыми по основе, т. е. по продольным нитям холста, и с прямыми поликами, пришитыми по утку — поперечным нитям холста. Полики нередко делались из затканки — специально тканой материи. Есть также группа бесполиковых рубах: рубаха с воротушкой — круглой вставкой у ворота, рубаха с рукавами, пришитыми к вороту и присборенными вокруг него, и рубаха на кокетке — покрой более поздний, пришедший из города.
Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника либо с низким воротничком-стойкой, а как более поздний и редкий вариант, преимущественно свойственный рубахе с кокеткой, — с отложным узким воротничком с закругленными уголками; такая рубаха иногда имеет и манжеты. Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубахе: по подолу, на концах рукавов, по вороту и разрезу, а на рубахах с поликами — и по поликам. Иногда и рукава были целиком орнаментированными, в том числе ткаными. В некоторых губер-
Стр. 55
Таблица X
ЖЕНСКАЯ РУБАХА
Стр. 56
ниях, например в Орловской, Смоленской, рукав заканчивался манжетой в сборку. В Тамбовской губернии на запястье поверх рукава рубахи надевалась узкая тканая полоска в виде браслета, так что образрвывалась как бы сборчатая манжета. В Рязанской губернии на праздничных рубахах были узкие и длинные рукава с прорезями, в которые продевались руки; такие рукава завязывали на спине.
Украшали женские рубахи вышивкой, а также затканкой, т. е. узкими вытканными и нашитыми на рубаху полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде геометрического орнамента, дополнявшейся вышивкой. В Рязанской губернии во время жатвы надевали без другой одежды так называемые пожнивные рубахи с вышивкой. В Калужской губернии, где носили распашную паневу, женские рубахи вышивали по подолу только спереди, там, где они были видны в прорез паневы, а девичьи — вокруг всего подола, поскольку девушки носили сарафан.
Панева является древнейшим видом женской одежды, ее носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали ее по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения паневы был значительным, постепенно он сужался, заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях панева соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине XIX в. панева была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, но в конце века уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее — в Меленков-ском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. панева была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги паневы имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть собственно распашная панева.
Панева представляет собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Типология паневы чрезвычайно дробная. Различается она по крою и расцветке. По покрою различаются паневы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи всем областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных панев разли-
Стр. 57
чаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панева открыта спереди; носили ее, подтыкая углы за пояс. Вариантом является панева-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.
Панева с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой паневе считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в паневу вшивалось четвертое узкое полотнище — прошва, причем иногда ее вшивали временно, на "живую нитку". Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу при шитье паневы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, и четко выделялась именно как прошва, а по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.
Значительно обширнее количество вариантов паневы по расцветке, орнаментации и украшению; нередко отдельным селам или их группе были присущи свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип — синяя клетчатая панева, распашная или глухая, преобладала в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала панева черная клетчатая. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний носили синюю гладкую и красную полосатую паневу; красная панева известна также в Тульской и Воронежской губерниях, т.е. в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые шерстью темно-синие или черные клетчатые паневы, в Калужской, Рязанской губерниях — украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно паневы имели богато украшенные кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили
Стр. 58
Таблица XI
ПАНЕВЫ И АНДАРАК
Стр. 59
Таблица XII
ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА ПАНЕВНОГО КОМПЛЕКСА
Стр. 60
праздничные паневы с хвостиками из лент длиной до 20 см, в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Бубенчиками украшали праздничные паневы и в Калужской губернии.
Глухая панева естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаще известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отношении несколько выше крестьянства и в быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились с крестьянством. Андарак представлял собой шерстяную, обычно (в Рязанской, Смоленской губерниях) полосатую юбку с красными, синими, зелеными полосами. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев наряду с полосатыми носили одноцветные синие или темно-бордовые юбки, причем иногда параллельно с паневами, а в некоторых селах, например в Воронежской губернии, юбки подтыкали за пояс, как паневы.
Южновеликорусский комплекс одежды с паневой, андараком или юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной и плечевой одежды. Так, в Смоленской и Брянской губерниях, соседствовавших с Белоруссией, где также бытовал андарак, его носили со шнуровкой — затягивавшейся на груди на шнурках безрукавкой типа корсажа, бархатной или шерстяной, красной или синей, вышитой золотой нитью. В Смоленской губернии ходили в стеганых душегреях без рукавов, до талии или чуть ниже, и носовке. Это была надевавшаяся поверх рубахи через голову белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами с ластовицами; по швам она украшалась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу — вышивкой.
Новый фасон такой одежды, отрезной по талии, с богато орнаментированным ткачеством и вышитым низом, назывался занавеской. Занавеска, или запон, нагрудник, передник, была распространена и в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях. Эту белую, крашенинную, пестрядинную, кумачную или из набойного ситца туникообразную одежду с рукавами и ластовицами и прямоугольными вырезами сзади до лопаток носили поверх рубахи и паневы или сарафана. По подолу и кромкам рукавов она украшалась затканкой, вышивкой, полосками кумача, китайки, кружевными прошвами. С конца XIX в. занавеску шили здесь без рукавов, с грудкой и на лямках и надевали через голову с косоклинным сарафаном из домотканого полосатого или клетчатого холста с многоцветными ткачеством по
Стр. 61
подолу в форме шестиугольников. В этих же губерниях бытовал костолан, или сукня, длиной до колен или чуть ниже, надевавшийся поверх рубахи и паневы. Это одежда туникообразная, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Костолан играл роль платья, и без него на улицу не выходили. Украшался он от подола до талии как панева. Носили здесь также поверх другой одежды навершники, прямые и распашные, без клиньев и косоклинные, длиной 40—80 см, с короткими или длинными рукавами либо без них, с прорезями для рук, очень богато украшенные.
Запон, занавеска бытовали в Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Курской губерниях. Это одежда с рукавами или без них, с отрезной грудкой и с прямоугольным вырезом сзади до лопаток. В южных губерниях носили нагрудники длиной 80 см, прямые, с длинными рукавами с ластовицами, с разрезом на груди, шушун длиной 50 см, прямого покроя, без рукавов, а также шушпан прямого же покроя, но длиной до колен, с рукавами. Поверх другой одежды здесь надевали сукман — ниже колен, распашной, с длинными рукавами, а также суконные черные или темно-синие распашные короткие приталенные безрукавки. Наконец, широко использовался передник с завязками на поясе или под мышками.
Паневный комплекс дополнялся головным убором, преимущественно типа кички с животными формами. Однако незамужние девушки носили открытый головной убор — повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с твердым околышем, дополнявшуюся хвостом из лент. Повязка могла украшаться бисерной бахромой, напоминающей северную ряску. В южном, юго-западном и юго-восточном регионах замужние женщины носили кокошники. В Смоленской губернии они были высокие, лопатообразные, парчевые или бархатные, украшенные золотым шитьем и бисерной или жемчужной поднизью либо невысокие в форме шапочки, покрытой кисеей, полотенцем с красной затканкой на концах или платком. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях кокошник или шапочка был праздничным головным убором; он имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной фабричной ткани, расшитые золотом, отделанные позументами, позатылье украшали лентами и бисером, с боков свешивались бисерные подвески.
Постепенно кокошник, как более архаичный головной убор, сменялся кичкой с сорокой, которую носили преимущественно достаточно зажиточные женщины. Недаром в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерниях он был распространен в основном в среде однодворцев, причем надевался после венчания, в праздники и преимущественно до рождения первого
Стр. 62
Таблица XIII
НАГРУДНАЯ ОДЕЖДА ПАНЕВНОГО КОМПЛЕКСА
Стр. 63
ребенка. Бытовали здесь кокошники трех типов: курский двух-гребенчатый, или седлообразный "шеломок" — кокошник с высоким твердым очельем, мягко снижавшийся к затылку и напоминающий шапочку, и высокий твердый цилиндрический кокошник с высоким прямоугольным гребнем на затылке. Кокошники украшали золотым галуном, расшивали блестками и бисером. При надевании кокошник слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Иногда поверх кокошника повязывали красную ленту или шелковый платок, концы которого завязывали спереди или на макушке.
Повсеместно в южновеликорусских губерниях были распространены кичкообразные головные уборы, наиболее характерные для паневного комплекса. В ряде мест термин "кичка" относился ко всему головному убору, иногда чрезвычайно сложному по конструкции, состоявшему более чем из десятка деталей. В этом случае одну из основных деталей, собственно кичку в классическом смысле этого слова, представлявшую собой твердое возвышение надо лбом, своего рода околыш в сочетании с волосником, плотно облегавшим голову, называли повойником. Твердый околыш различной формы — треугольной, округлой, лопатообразной, с двумя рожками — делали из простеганного или проклеенного холста, луба, бересты. На повойник надевали позатыльник, а затем сверху — сороку. Позатыльник — прямоугольная полоса ткани, часто бархата, украшенная шитьем и бисером, — укреплялась на темени с помощью тесемок и закрывала волосы сзади. Сорока — это особо выкроенный и сшитый кусок ткани — красного сатина, атласа, штофа — с вышитым золотой нитью или сделанным из широкого галуна очельем. Часто встречаются сороки, у которых очелье и боковые крылья скреплены и образуют нечто вроде шапочки; их делали из цветного плиса и украшали галуном либо же целиком шили из широкого галуна, украшая по бокам большими цветными шелковыми помпонами-махрами, как, например, в Орловской и Курской губерниях. Иногда позатыльник просто пришивали к сороке. Кое-где в Воронежской и Тамбовской губерниях поверх кичек носили украшенный лентами, позументами, бисером лоскут ткани, ниспадавший до пояса. Местами в Тамбовской губернии бытовала кичка с очень высокими рогами. Разновидностью кичкообразного головного убора была кищонка, надевавшаяся поверх собственно кички и представлявшая собой налобник, украшенный лентами, бисером, позументами, иногда с розетками из лент на висках.
Стр. 64
В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего использовалась кичка с острыми рогами, скатанными из пеньки и простеганными нитками; были также тупорогая, "комолая", лопатообразная и копытообразная кички из луба, обшитого холстом. Сзади к ней привешивали повойник со вздержкой на шнуре. Поверх кички на лоб могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; концы связки завязывали под позатыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины шили будничную сороку из красной крашенины, праздничную — из кумача или малинового штофа, на подкладке из белого холста, пестряди, набойки.
Сороки — сложный убор из восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные названия. Кичку-чепчик с твердым очельем надевали на голову и привязывали тесемками. К ней плотно привязывали позатыльник с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали ее тесемками. Потом надевали поднизь — налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного бисера, за ней — опушки — заднюю и переднюю из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; опушки укрепляли под поднизью на сороку завязками. Под поднизь надевали налобник с косицами в виде черных перышек селезня на полосе позумента, закрепленных розетками из разноцветных шелковых лент и пуговиц. Над косицами подвязывали чело — красную шелковую ленту на тесемке, концы которой свешивались над висками. Под позатыльником повязывали две длинные шелковые ленты на тесемке — отвес. Над отвесом прикрепляли арепей — розетку из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и тесемки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.
Были и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие и рогатые стеганые кички, под которые подкладывали жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, вислючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца из тонкого белого домашнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закладывали по бокам головы или завязывали сзади и распускали. На концах наметки вышивали гладью геометрический или стилизованный растительный орна-
Стр. 65
мент, нашивали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки носили наметки покороче и без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX в. в Смоленской губернии носили сборник — надрезанный с одной стороны кусок ткани, закладывавшийся на голове в складки, а также подубрусник, стеганый из холста или бархата, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дощечки; на холщовый подубрусник накидывали сложенный на угол платок с завязанными сзади, "по-бабьему" концами.
Во всех южновеликорусских губерниях, особенно в XX в., женщины имели платки — фабричные или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, стеклярусом, бисером. Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины — на затылке.
Верхняя женская одежда южновеликорусских губерний в основном была такой же, как и мужская, отличалась лишь размерами и наличием украшений. Так, женские зипуны часто отделывали плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле и т. п. Однако встречались и чисто женские виды верхней одежды. В Воронежской и Курской губерниях была распространена корсетка из домотканого коричневого сукна с отрезной спинкой, вставными клиньями ниже талии, выкройными рукавами, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшивалась черным плисом или гарусом. В Рязанской губернии носили шушпан, шушун или сушун — туникообразную распашную или глухую одежду длиной до колен или немного ниже, с рукавами до локтей с ластовицами, обильно украшенную красной тесьмой, кумачом, ситцем.. Шушпан нередко носили как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье — накинув на голову. Здесь же шили юпу, или юпочку, — распашную туникообразную одежду белого домашнего сукна или полусукна. Праздничная юпа была без рукавов, будничная — с рукавами, довольно короткая, украшенная выкладками из кумача, позумента, бархата, бахромой, вышивкой. До конца XIX в. встречались и другие виды одежды: крутик, коротыш, прижимка и др.
Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды был пояс. В южновеликорусских губерниях носили разнообразные тканые и плетеные пояса, по украшению концов отличавшиеся большим разнообразием. Например, пояс-покромка из черной или темно-синей шерсти, который заканчивался лопастями различной формы, украшенными бахромой, бисером, галунами, лентами, рас-
Стр. 66
шитыми гарусом; узкий плетеный из цветной шерсти пояс с кистями; тканые шерстяные кушаки с узором в полоску и преобладанием красного цвета над белым, зеленым, синим, желтым. Длина покромок и кушаков была значительной, их несколько раз оборачивали вокруг талии, а концы подтыкали под покромку по бокам либо завязывали сзади, а там, где не носили передника, — сбоку или спереди.
Основной вид обуви — лапти косого плетения с белыми или черными онучами или шерстяными вязаными чулками под оборы, а также кожаные чоботы, или коты, — галошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментированные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками. Кожаная обувь также закреплялась на ноге оборами — черными или красными плетеными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, пропущенными через петлю на заднике.
Довольно разнообразны были нагрудные, шейные и другие украшения. Ожерелок, или жерелок, подгорлок в виде бисерного кружева, закрепленного на полоске холста, носили на шее, застегивая сзади на пуговицу. Гайтан — плетеная бисерная тесьма длиной 50—70 см, заканчивался бахромой, медальоном или крестом. Ожерелье представляло собой узкую полоску кумача с плотно нашитым бисером и перламутровыми пуговицами. Носили также дутые стеклянные бусы, разнообразные дутые медные серьги с привесками из цветных бусинок, разноцветной шерсти и т. п., а также очень характерные для кичко-образных головных уборов пушки — ушные украшения в виде шариков из гусиного белого пуха или заячьей шкурки, закреплявшиеся ни висках.
Наиболее известная женская народная одежда, иногда неправильно считающаяся исконно русской, сарафан — основная часть сарафанного комплекса. Этот комплекс принадлежит преимущественно центральным и, особенно, северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан носили и в южновеликорусских губерниях.
Выделяют пять типов сарафана:
глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой, Псковской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Курской губерниях и был старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;
косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в Северо-Восточной России, Поволжье, Приуралье, Мо-
Стр. 66
Таблица XIV
САРАФАНЫ
Стр. 68
сковской, Владимирской, Костромской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях; в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской — саян, а также кумашник;
прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и паневу;
прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом-шнуровкой; распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири;
сарафан на кокетке, с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.
Сарафан был довольно широко распространен в южновеликорусских губерниях, главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере — и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян, костолан, сукман. Это глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках или, в начале XX в., с лифом, т. е. на кокетке. Шили его из кумача, китайки темно-синей, черной, красной. Носили здесь, но редко, и распашной сарафан на лямках; в этом случае обычно передний шов застрачивали и обозначали галунами и пуговицами с петлями. По подолу и переднему шву сарафан украшали здесь вышивкой шерстью, прошвами.
В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях — Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской — это был второй основной (после рубахи) вид женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клетошник, набивник, суконник, штофник, дольник, костяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шили их из пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа, сукна, в том числе и ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье — Симбирской, Казанской, Самарской, а также в Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан тоже был основным видом женской одежды. Наиболее старинным здесь считался глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами или с лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь носили распашные сарафаны. К началу XX в. преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом-кокеткой, от которого
Стр. 68
совершился переход к "парочке" — юбке с кофтой, причем юбка иногда называлась сарафаном.
С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носили передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся по талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким задним полотнищем и без рукавов — так называемая чина.
Частью сарафанного комплекса была плечевая одежда. На севере со старинными шелковыми и штофными сарафанами носили долгорукавку — подобие верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка. Широко распространен был шугай, или епанечка, известный также как трубалетка, сорокотрубка — распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником. Разновидностью этой одежды была душегрея, похожая на коротенькую распашную юбку, нередко простеганная на вате валиками, сильно расширяющаяся и удерживаемая на груди лямками. В конце XIX в. получил распространение казачок — длинная распашная кофта, сшитая по фигуре, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской и Вологодской губерниях носили также нарукавники, или рукава, — очень короткие кофточки с длинными рукавами или просто два рукава, соединенных на спине двумя узкими полосками ткани. Шили их из пестряди, набойки, а также шелка и кашемира.
Верхняя женская одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном носили верхнюю одежду особых форм. Это были холодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым или отложным воротником и с большим количеством боров сзади. Шили эту одежду из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывали бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях носили бедуим. Это халатообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими прямыми рукавами, вшивавшимися в проймы сильно присборенными. Воротник украшали бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не
Стр. 69
Таблица XV
ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА САРАФАННОГО КОМПЛЕКСА
Стр. 71
подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской — душегреи на лямках.
Девичьим головным убором в сарафанном комплексе, как и в паневном, были перевязки или ленты — более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе, в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесемками. Над тесемками пришивали одну широкую или несколько узких лент. Лобную часть убора обычно вышивали золотой нитью, украшали воланами или сетками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась коруна — очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена фатка — шелковый, обычно красный платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником.
Среди женских головных уборов самым распространенным был кокошник. Формы его разнообразны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде тупого рога, и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобную форму кокошник имел и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии носили большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы встречались и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. Для Казанской губернии характерны лопатообразные кокошники с очельем почти прямоугольной формы, но были и высокие островерхие и двурогие кокошники, называвшиеся кичками. Кокошники обильно украшали речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускали сетку из жемчуга или бисера — ряску. В Псковской губернии чаще носили однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивали легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.
Кокошники надевали, как правило, молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они заменяли его кичкообразными головными уборами. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со сдерихой — род чепчика из холста с коронкой в виде копытца (сдериха), на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса с завязками по бокам, которые завязывали на затылке под прямоугольным концом сороки. Помор-
Стр. 72
екая кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к простым повойникам в виде чепца со вздержкой на затылке. И сороку, и кичку, и повойник украшали вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и т. п. Носили повойник с платком, а иногда один платок повязывался вокруг головы, как повойник, а второй — поверх первого. В Поволжье нередко второй платок носили роспуском — завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.
Обувь в сарафанном комплексе была такой же, как и в паневном: лапти с онучами, кожаные галошеобразные коты, ботинки с резинками на невысоком каблуке. С кожаной обувью всегда, а с лаптями часто, особенно в Поволжье, носили вязаные шерстяные чулки, богато орнаментированные, иногда их расшивали мишурой и блестками.
Непременным украшением, особенно в Поволжье, были серьги разных форм. Повсюду дополнением к сарафану были бусы, ожерелья, излюбленным украшением — полоски холста, густо усаженные бисером, а на Севере — широкие круглые кружевные воротники. В Поволжье иногда носили, как и в южнорусских губерниях, гусиные пушки, вставляя их и в уши вместе с серьгами.
В истории народного костюма, и женского, и мужского, совершенно особым регионом являются казачьи области. Это связано у мужчин с постоянным использованием, полностью или частично, военной форменной одежды и со значительными заимствованиями элементов быта, в том числе и костюма, у местного коренного населения, а также постепенным внедрением и трансформацией элементов костюма разнородного пришлого населения. Так, казаки Кубанского и Терского войск носили однобортные длиной до колен бешметы со стоячими воротниками, застегивавшиеся доверху на множество мелких пуговиц, а поверх бешметов — черкески длиной ниже колен, до талии плотно облегавшие корпус, а ниже широко расходившиеся, без воротника, с открытой грудью, на крючках; на грудь черкески нашивались отделанные галунами газыри — гнезда для патронов. Рукава черкески, довольно широкие и длинные, отворачивались, так что были видны узкие рукава бешмета. Донские, астраханские, оренбургские, уральские и другие казаки носили форменные чекмени — однобортные, на крючках, со стоячим воротником, длиной до колен или выше.
С чекменями и черкесками носили шаровары. Обувью казакам служили сапоги, а в Терском и Кубанском войсках — плот-
Стр. 73
Таблица XVI
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Стр.74
но облегавшие икры ноговицы из мягкого тонкого войлока, а поверх них — кожаные чувяки с каблуком или мягкие сапоги. Головным убором у всех казаков были форменные фуражки войсковых цветов и овчинные папахи, в XX в. сменившиеся невысокой шапкой-кубанкой. Элементом форменной и домашней одежды были со второй половины XIX в. суконные башлыки, отделанные тесьмой. В холодную и дождливую погоду казаки носили зипуны обычного для крестьянского населения покроя, полушубки, которые с конца XIX в. у них стали форменной одеждой, тулупы и т. д.
Основной частью женского костюма, как и в Великороссии, была рубаха — туникообразная, с невысоким воротником-стойкой, прямыми поликами, сборенными у ворота и собранными на обшивку у запястья рукавами, а также рубаха на кокетке. Нередко для разных элементов рубахи использовались разные ткани.
Поверх рубах казачки надевали плечевую одежду разных типов. Старинным элементом донского праздничного костюма был кубилек, к началу XX в. уже выходивший из обихода. Он напоминает женские платья горских народов: Кабарды, Адыгеи, Дагестана, что не удивительно: казаки очень часто привозили себе жен из походов. Кубилек с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей цельной спинкой шили из синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка. Лиф спереди до талии застегивался на мелкие пуговицы, На шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талии кубилек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубилек обильно украшали галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой деталью кубилека был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями.
В Терской области казачки нередко носили повседневные и праздничные кроеные, как и мужские, но длинные, бешметы из ситца, черного, голубого, коричневого, зеленого атласа с отделкой из узкого галуна. По примеру горянок казачки иногда накидывали его на голову. Замужние донские казачки носили сукман — глухую одежду с очень короткими и узкими рукавами, без воротника, с коротким прямым разрезом, отделанную на груди и по подолу лентами и плетеной тесьмой. Его подвязывали по талии плетеным шерстяным синим или красным кушаком с кистями. Одеждой казачьей, в том числе и на Кубани,
Стр. 75
был и сарафан — прямого покроя, с лифом и сборками; его подпоясывали широким плисовым поясом.
В начале XX в. основным костюмом казачек стали юбки и кофты — парочки, ставшие обычными и в других областях страны. Юбок надевали несколько: нижние по подолу отделывали кружевами, верхние, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан — брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта. В зависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, кирасой. Блузки и кофты шили свободного покроя, без талии, на полчетверти ниже талии, с застежкой сзади или сбоку, с воротником стоечкой и длинным или до локтя рукавом, присборенным у плеча, а ниже — облегающим. Блузки отделывали гипюром, лентами, кружевами, закладывали складки. Иногда блузки шили на кокетке. Матене — кофта свободного покроя ниже пояса, распашная, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины. Кираса — это плотно облегающая кофта с небольшой баской до бедер, узкими длинными рукавами, у плеча присборенными, с воротничком-стойкой, застегивавшаяся спереди на множество мелких пуговиц, которую носили только молодые женщины.
Переселенцы из великорусских губерний принесли на Дон кокошник (к началу XX в. его перестали носить), а украинки — очипок. В основном же казачьи области выработали оригинальные типы головных уборов. Праздничным убором замужних женщин был вязаный колпак в форме чулка с махрами на макушке; на улице поверх колпака накидывали платок. Колпак в основном носили в комплексе с кубилеком. В XX в. колпаки сменились файшонкой — черной кружевной косынкой с длинными концами, собранными спереди на нитку; концы файшонки свисали по бокам, их закидывали за плечи или завязывали сзади бантом. Замужние женщины носили также кичку с двумя рожками с сорокой, как в южной Великороссии. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики — жемчужные подвески у висков. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки. Кичку вытеснил чепчик из ситца, бархата, шелка. Он состоял из двух полукруглых бочков с длинными концами и середины; концы сзади завязывались бантом. Но наиболее распространена была шлычка — полная и на шиш. Полная шлычка шилась как детский колпачок: к полукруглому заднику пришивали продолговатые бочка, обшитые воланами, кружевами, а понизу продевали или пришивали тесьму, которая завязывалась вокруг
Стр. 76
головы. На полную шлычку и чепчик накидывался платок. Шлычка на шиш представляла собой небольшой мешочек, надевавшийся на собранные в узел косы. Пожилые женщины носили большие платки, оборачивая их вокруг головы и завязывая концы узлом на макушке. У девушек-казачек были такие же повязки в форме обруча с лентами, как и по всей стране.
В XX в. юбка с кофтой распространились по всей России. В южновеликорусских губерниях юбки носило сначала бывшее однодворческое население, а затем они стали одеждой и крестьянок. Шили их из домотканого одноцветного или полосатого материала, почти всегда с преобладанием красного цвета. Праздничные юбки украшались по подолу лентами, галунами. Носили их и девушки, и женщины. В некоторых селах юбку подтыкали, как паневу; носили ее иногда и вместе с паневой. В северных губерниях, особенно ближе к Петербургу, носили ситцевые юбки с воланами по подолу, надевая их с кофтой с баской, отделанной рюшами. С парочкой надевали также одно-двубортный жакет с лацканами и суженными рукавами, собранными в плечах в буфы.
1.

2.

3.
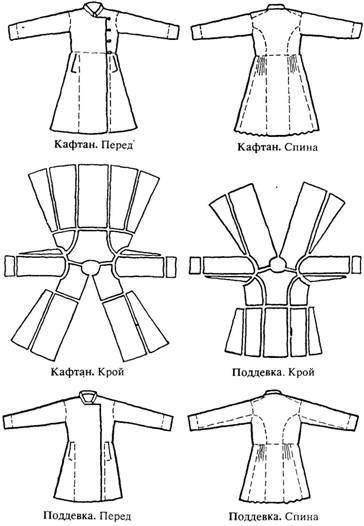
4.

5.
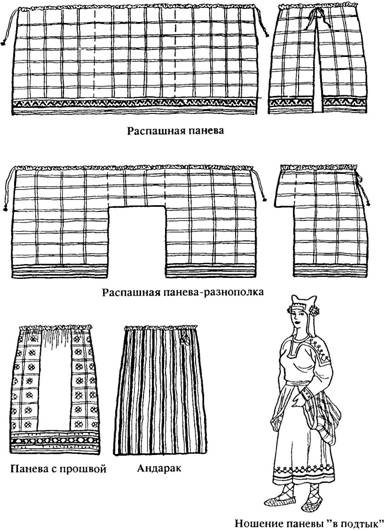
6.
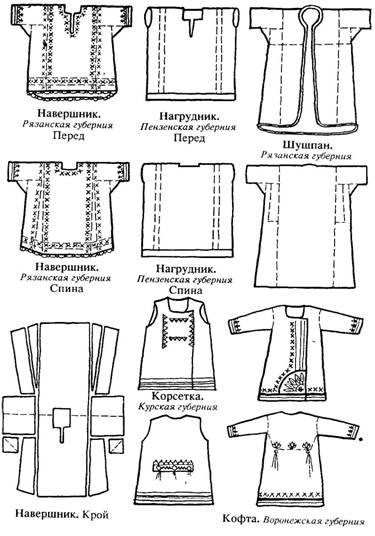
7.

8.

9.

10.
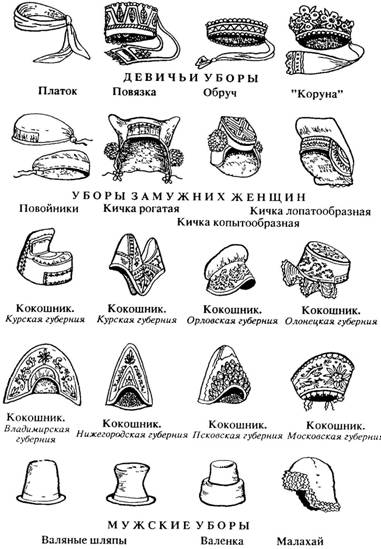
§ 1. Мужской костюм
Мужской костюм был в большей или меньшей степени однородным по покрою во всех великорусских областях, что связано с положением мужчины в обществе. И в экономическом, и в юридическом положении мужчина был более самостоятельной и мобильной фигурой. Отправляясь в свободное от сельскохозяйственных работ время на заработки, иногда далеко и надолго, мужчина общался с людьми иных местностей, с горожанами, знакомился с чужими обычаями и внешним видом, приобретал большую широту взглядов и терпимость, а его внешний вид нивелировался. Кроме того, одинаковые для всех местностей условия работы мужчины, обычно тяжелые, под открытым небом, делали мужской народный костюм функциональным, а функциональность опять-таки вела к единообразию состава и покроя. Различия заключались в основном в терминологии.
Основу мужского костюма составляла рубаха всюду одинакового туникообразного покроя: с перегнутым на плечах центральным полотнищем, в котором делался круглый вырез для шеи и разрез (пазуха) на груди слева (рубаха-косоворотка); по бокам пристрачивались перегнутые вдоль прямые или косые бочка, а к ним и к центральному полотнищу пришивались рукава прямого покроя, также из перегнутых вдоль полотнищ-точей. Между рукавами и бочками вшивались сложенные пополам прямоугольные ластовицы, обычно из ткани другого цвета, например кумачные; они расширяли рукав, допуская размаши-
Стр. 48
Таблица VII
МУЖСКАЯ РУБАХА. ПОРТЫ И ШТАНЫ
Стр. 49
стые движения, а когда испревали от пота, выпарывались и заменялись новыми. На плечах, груди и спине с изнанки подшивался кусок ткани — подоплека, лежавшая на груди и спине "по прямой", либо "по косой", углом вниз; при испревании она также заменялась новой. Пазуха застегивалась на пуговицу налево; иногда в вырез ворота вшивался невысокий воротник-стойка. Таким образом, мужская рубаха, как и все элементы народного костюма, была чрезвычайно конструктивной, простой в изготовлении, почти не требовавшей ножниц и дававшей при шитье минимум отходов трудоемкой в изготовлении ткани. Длина рубахи — в среднем до колен, у парней и молодых мужиков немного выше. Носилась она навыпуск, с кушаком. Орнамент в виде мелкой вышивки красной нитью располагался по вороту, пазухе, обшлагам и подолу, а у праздничных рубах также по швам бочков и подоплеки. В конце XIX в. под влиянием города появилась рубаха на кокетке, с манжетами и прямым разрезом.
Рубаха дополняется портами из домотканины, обычно в белую и синюю или красную, серую, черную полоску. Они шились из двух перегнутых вдоль полотнищ (калош) с вшитым между ними большим четырехугольником или ромбом — ширинкой, расширявшей шаг. В поясе порты собирались на шнурок — гашник, или очкур. В XIX в. появились штаны из домотканого или фабричного сукна, отличавшиеся вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, с клапаном на разрезе, клинообразными вставками на внутреннем шве и вшивными карманами. Порты при штанах стали играть роль рабочей или исподней одежды.
Разнообразна, но столь же функциональна и конструктивна была верхняя мужская одежда. Основным ее традиционным видом был кафтан, а также производные от него полукафтанье, поддевка, казакин и т. д. Кафтан — праздничная одежда из домотканого или покупного фабричного синего, коричневого, черного сукна и даже плиса, длиной до колен, приталенная, со сборками сзади и с боков, с сужающимися книзу рукавами, невысоким стоячим воротником, вертикальными прорезными карманами, с подкладкой до талии, застегивавшаяся налево на крючки или большие медные пуговицы. Он мог быть с цельной спинкой, со сборами на боках или с отрезной выкройной спинкой, с раскошенной ее нижней частью и со сборенными боковыми клиньями. Суконные кафтаны отделывались по карманам, обшлагам, воротнику и борту полоской плиса.
Полукафтанье и казакин примерно такого же покроя были выше колен. Поддевка, также выше колен, имела широкий запах
Стр. 50
Таблица VIII
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Стр. 51
Таблица IX
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Стр. 52
налево, застегивалась на крючки и была с невысоким воротником-стойкой, с отрезной выкройной спинкой, сильно сосборенная на талии сзади. Пониток — также праздничная одежда — шился из домотканой полушерстяной ткани и был приталенный, со сборами на талии, но длиной ниже колен. Зипун — повседневная верхняя одежда из сермяги с широким запахом налево без воротника и с косым вырезом на груди, длиной ниже колен — застегивался на кожаные узелки. В отличие от кафтана, казакина или поддевки зипун подвязывали кушаком, тогда как кафтан носили нараспашку, а иногда и наопашь — надетым в один рукав. Разновидностью понитка была чуйка из черного или синего фабричного сукна длиной ниже колен с широким запахом налево, без воротника, с вырезом у горловины, отделанная мехом по вороту, борту и рукавам. Чуйка и сибирка — синий или черный длиннополый двубортный суконный сюртук с отложным воротником и лацканами на груди — были одеждой преимущественно купечества и мещанства.
В конце XIX в. в деревню из города приходят одно- или двубортный жилет, который носили с рубахой навыпуск, и пиджак на вате — длиннее современного, прямой, двубортный, с прорезными прямыми карманами на боках, отложным воротником и лацканами на груди.
Повседневной зимней одеждой был овчинный полушубок выше колен с отрезной выкройной спиной, заложенный в талии в мелкие складки, с широким запахом налево, на крючках, с невысоким меховым воротником-стойкой и с косыми прорезными карманами, отделанный мехом по обшлагам, полам, карманам и борту, а иногда и на груди. Бекеши — удлиненные до колен крытые сукном полушубки — носили более зажиточные слои населения. В дорогу в ненастье дополнительно надевали армяк из домотканой армячины, халатообразный, длиной до середины икр, с широким запахом налево, без застежки, с широким шалевым простеганным воротником, который носили с кушаком. Подобными по покрою были азям, чапан, халат. Зимой в дорогу надевали повторявший покрой армяка овчинный тулуп длиной до пят.
Распространенным мужским головным убором была валяная из поярка шляпа с узкими прямыми полями, с высокой, слегка сужающейся кверху тульей и прямым круглым донцем; тулья могла сужаться до середины, а затем кверху снова расширяться, образуя перехват. Такие шляпы назывались гречневиком, черепенником. Носили также валенку — валяный высокий колпак с нижней частью, отвернутой вверх наподобие околыша. Зимой
Стр. 53
носили меховые треухи и малахаи со стоячим меховым козырем спереди и отворачивающейся вниз задней лопастью, а также овчинные папахи. К концу XIX — началу XX в. получает распространение, особенно у парней, молодых мужиков и зажиточных крестьян, картуз с небольшим лакированным кожаным козырьком, суконный, с довольно высоким околышем и невысокой мягкой тульей.
Вся мужская одежда непременно подпоясывалась широкими кушаками, довольно длинными, несколько раз оборачивавшимися вокруг талии, с концами, заткнутыми по бокам за кушак, и поясами-покромками, ткаными, узорчатыми, с концами, украшенными кистями и бахромой, довольно длинными, либо несколько раз оборачивавшимися по талии и концами затыкавшимися, как широкий кушак, либо один раз охватывавшими талию и завязывавшимися узлом сбоку. Носили и длинные крученые пояса с кистями, завязанные узлом. Без пояса могли выйти "на люди" только маленькие дети. Богатые подпоясывались высоко, под грудь, чтобы выпирал живот, бедняки — низко, почти по кострецу.
Обувались в лапти с онучами, рабочей обувью были ступни или босовики, а праздничной — смазанные дегтем сапоги из толстой кожи.
§ 2. Женский костюм
Значительно разнообразнее и сложнее мужского женский костюм, часто различавшийся по расцветке и орнаментации не только по губерниям или уездам, но и по отдельным волостям и даже селам. Столь же сложна и терминология женского костюма: однотипные вещи в разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных губерниях одно и то же название прилагалось к различным видам одежды.
Дробность женского костюма связана с особенностями положения женщины в обществе и семье. Во-первых, женщина не была самостоятельна юридически: получить паспорт на отлучку с места жительства она могла только с разрешения отца или мужа. Во-вторых, она была постоянно привязана к хозяйству и семье; даже после окончания полевых работ на ней оставались все домашние дела и прибавлялись работы по обеспечению семьи за зиму домоткаными тканями, одеждой. Женщина редко отлучалась сколько-нибудь далеко и надолго от своего селения, мало была знакома с чужими обычаями и обиходом, обладала более узким кругозором, была более консервативна, нежели мужчина, и в полной мере оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в области одежды.
Стр. 54
Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регионам, а также определенным возрастным группам, следует отметить его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, детали которых были нерасторжимыми.
Специалисты различают сарафанный комплекс, паневный комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубелеком, а также более позднее и повсеместное явление, обусловленное влиянием города, — так называемую парочку — юбку с жакетом.
Основой всех женских костюмных комплексов является рубаха. Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, паневой, андараком, кубелеком, нагрудой, плечевой одеждой. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей, нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные белые либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и т. д.
Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Отличалась она от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. Позднее такая рубаха стала чисто старушечьей и обрядовой, смертной одеждой.
Большую группу женских рубах составляют рубахи с поликами — вставками ткани на плечах, между воротом и рукавами. Различаются рубахи с косыми, имеющими форму ромба поликами, с прямыми, пришитыми по основе, т. е. по продольным нитям холста, и с прямыми поликами, пришитыми по утку — поперечным нитям холста. Полики нередко делались из затканки — специально тканой материи. Есть также группа бесполиковых рубах: рубаха с воротушкой — круглой вставкой у ворота, рубаха с рукавами, пришитыми к вороту и присборенными вокруг него, и рубаха на кокетке — покрой более поздний, пришедший из города.
Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника либо с низким воротничком-стойкой, а как более поздний и редкий вариант, преимущественно свойственный рубахе с кокеткой, — с отложным узким воротничком с закругленными уголками; такая рубаха иногда имеет и манжеты. Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубахе: по подолу, на концах рукавов, по вороту и разрезу, а на рубахах с поликами — и по поликам. Иногда и рукава были целиком орнаментированными, в том числе ткаными. В некоторых губер-
Стр. 55
Таблица X
ЖЕНСКАЯ РУБАХА
Стр. 56
ниях, например в Орловской, Смоленской, рукав заканчивался манжетой в сборку. В Тамбовской губернии на запястье поверх рукава рубахи надевалась узкая тканая полоска в виде браслета, так что образрвывалась как бы сборчатая манжета. В Рязанской губернии на праздничных рубахах были узкие и длинные рукава с прорезями, в которые продевались руки; такие рукава завязывали на спине.
Украшали женские рубахи вышивкой, а также затканкой, т. е. узкими вытканными и нашитыми на рубаху полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде геометрического орнамента, дополнявшейся вышивкой. В Рязанской губернии во время жатвы надевали без другой одежды так называемые пожнивные рубахи с вышивкой. В Калужской губернии, где носили распашную паневу, женские рубахи вышивали по подолу только спереди, там, где они были видны в прорез паневы, а девичьи — вокруг всего подола, поскольку девушки носили сарафан.
Панева является древнейшим видом женской одежды, ее носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали ее по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения паневы был значительным, постепенно он сужался, заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях панева соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине XIX в. панева была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, но в конце века уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее — в Меленков-ском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. панева была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги паневы имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть собственно распашная панева.
Панева представляет собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Типология паневы чрезвычайно дробная. Различается она по крою и расцветке. По покрою различаются паневы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи всем областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных панев разли-
Стр. 57
чаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панева открыта спереди; носили ее, подтыкая углы за пояс. Вариантом является панева-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.
Панева с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой паневе считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в паневу вшивалось четвертое узкое полотнище — прошва, причем иногда ее вшивали временно, на "живую нитку". Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу при шитье паневы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, и четко выделялась именно как прошва, а по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.
Значительно обширнее количество вариантов паневы по расцветке, орнаментации и украшению; нередко отдельным селам или их группе были присущи свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип — синяя клетчатая панева, распашная или глухая, преобладала в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала панева черная клетчатая. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний носили синюю гладкую и красную полосатую паневу; красная панева известна также в Тульской и Воронежской губерниях, т.е. в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые шерстью темно-синие или черные клетчатые паневы, в Калужской, Рязанской губерниях — украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно паневы имели богато украшенные кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили
Стр. 58
Таблица XI
ПАНЕВЫ И АНДАРАК
Стр. 59
Таблица XII
ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА ПАНЕВНОГО КОМПЛЕКСА
Стр. 60
праздничные паневы с хвостиками из лент длиной до 20 см, в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Бубенчиками украшали праздничные паневы и в Калужской губернии.
Глухая панева естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаще известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отношении несколько выше крестьянства и в быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились с крестьянством. Андарак представлял собой шерстяную, обычно (в Рязанской, Смоленской губерниях) полосатую юбку с красными, синими, зелеными полосами. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев наряду с полосатыми носили одноцветные синие или темно-бордовые юбки, причем иногда параллельно с паневами, а в некоторых селах, например в Воронежской губернии, юбки подтыкали за пояс, как паневы.
Южновеликорусский комплекс одежды с паневой, андараком или юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной и плечевой одежды. Так, в Смоленской и Брянской губерниях, соседствовавших с Белоруссией, где также бытовал андарак, его носили со шнуровкой — затягивавшейся на груди на шнурках безрукавкой типа корсажа, бархатной или шерстяной, красной или синей, вышитой золотой нитью. В Смоленской губернии ходили в стеганых душегреях без рукавов, до талии или чуть ниже, и носовке. Это была надевавшаяся поверх рубахи через голову белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами с ластовицами; по швам она украшалась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу — вышивкой.
Новый фасон такой одежды, отрезной по талии, с богато орнаментированным ткачеством и вышитым низом, назывался занавеской. Занавеска, или запон, нагрудник, передник, была распространена и в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях. Эту белую, крашенинную, пестрядинную, кумачную или из набойного ситца туникообразную одежду с рукавами и ластовицами и прямоугольными вырезами сзади до лопаток носили поверх рубахи и паневы или сарафана. По подолу и кромкам рукавов она украшалась затканкой, вышивкой, полосками кумача, китайки, кружевными прошвами. С конца XIX в. занавеску шили здесь без рукавов, с грудкой и на лямках и надевали через голову с косоклинным сарафаном из домотканого полосатого или клетчатого холста с многоцветными ткачеством по
Стр. 61
подолу в форме шестиугольников. В этих же губерниях бытовал костолан, или сукня, длиной до колен или чуть ниже, надевавшийся поверх рубахи и паневы. Это одежда туникообразная, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Костолан играл роль платья, и без него на улицу не выходили. Украшался он от подола до талии как панева. Носили здесь также поверх другой одежды навершники, прямые и распашные, без клиньев и косоклинные, длиной 40—80 см, с короткими или длинными рукавами либо без них, с прорезями для рук, очень богато украшенные.
Запон, занавеска бытовали в Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Курской губерниях. Это одежда с рукавами или без них, с отрезной грудкой и с прямоугольным вырезом сзади до лопаток. В южных губерниях носили нагрудники длиной 80 см, прямые, с длинными рукавами с ластовицами, с разрезом на груди, шушун длиной 50 см, прямого покроя, без рукавов, а также шушпан прямого же покроя, но длиной до колен, с рукавами. Поверх другой одежды здесь надевали сукман — ниже колен, распашной, с длинными рукавами, а также суконные черные или темно-синие распашные короткие приталенные безрукавки. Наконец, широко использовался передник с завязками на поясе или под мышками.
Паневный комплекс дополнялся головным убором, преимущественно типа кички с животными формами. Однако незамужние девушки носили открытый головной убор — повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с твердым околышем, дополнявшуюся хвостом из лент. Повязка могла украшаться бисерной бахромой, напоминающей северную ряску. В южном, юго-западном и юго-восточном регионах замужние женщины носили кокошники. В Смоленской губернии они были высокие, лопатообразные, парчевые или бархатные, украшенные золотым шитьем и бисерной или жемчужной поднизью либо невысокие в форме шапочки, покрытой кисеей, полотенцем с красной затканкой на концах или платком. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях кокошник или шапочка был праздничным головным убором; он имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной фабричной ткани, расшитые золотом, отделанные позументами, позатылье украшали лентами и бисером, с боков свешивались бисерные подвески.
Постепенно кокошник, как более архаичный головной убор, сменялся кичкой с сорокой, которую носили преимущественно достаточно зажиточные женщины. Недаром в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерниях он был распространен в основном в среде однодворцев, причем надевался после венчания, в праздники и преимущественно до рождения первого
Стр. 62
Таблица XIII
НАГРУДНАЯ ОДЕЖДА ПАНЕВНОГО КОМПЛЕКСА
Стр. 63
ребенка. Бытовали здесь кокошники трех типов: курский двух-гребенчатый, или седлообразный "шеломок" — кокошник с высоким твердым очельем, мягко снижавшийся к затылку и напоминающий шапочку, и высокий твердый цилиндрический кокошник с высоким прямоугольным гребнем на затылке. Кокошники украшали золотым галуном, расшивали блестками и бисером. При надевании кокошник слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Иногда поверх кокошника повязывали красную ленту или шелковый платок, концы которого завязывали спереди или на макушке.
Повсеместно в южновеликорусских губерниях были распространены кичкообразные головные уборы, наиболее характерные для паневного комплекса. В ряде мест термин "кичка" относился ко всему головному убору, иногда чрезвычайно сложному по конструкции, состоявшему более чем из десятка деталей. В этом случае одну из основных деталей, собственно кичку в классическом смысле этого слова, представлявшую собой твердое возвышение надо лбом, своего рода околыш в сочетании с волосником, плотно облегавшим голову, называли повойником. Твердый околыш различной формы — треугольной, округлой, лопатообразной, с двумя рожками — делали из простеганного или проклеенного холста, луба, бересты. На повойник надевали позатыльник, а затем сверху — сороку. Позатыльник — прямоугольная полоса ткани, часто бархата, украшенная шитьем и бисером, — укреплялась на темени с помощью тесемок и закрывала волосы сзади. Сорока — это особо выкроенный и сшитый кусок ткани — красного сатина, атласа, штофа — с вышитым золотой нитью или сделанным из широкого галуна очельем. Часто встречаются сороки, у которых очелье и боковые крылья скреплены и образуют нечто вроде шапочки; их делали из цветного плиса и украшали галуном либо же целиком шили из широкого галуна, украшая по бокам большими цветными шелковыми помпонами-махрами, как, например, в Орловской и Курской губерниях. Иногда позатыльник просто пришивали к сороке. Кое-где в Воронежской и Тамбовской губерниях поверх кичек носили украшенный лентами, позументами, бисером лоскут ткани, ниспадавший до пояса. Местами в Тамбовской губернии бытовала кичка с очень высокими рогами. Разновидностью кичкообразного головного убора была кищонка, надевавшаяся поверх собственно кички и представлявшая собой налобник, украшенный лентами, бисером, позументами, иногда с розетками из лент на висках.
Стр. 64
В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего использовалась кичка с острыми рогами, скатанными из пеньки и простеганными нитками; были также тупорогая, "комолая", лопатообразная и копытообразная кички из луба, обшитого холстом. Сзади к ней привешивали повойник со вздержкой на шнуре. Поверх кички на лоб могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; концы связки завязывали под позатыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины шили будничную сороку из красной крашенины, праздничную — из кумача или малинового штофа, на подкладке из белого холста, пестряди, набойки.
Сороки — сложный убор из восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные названия. Кичку-чепчик с твердым очельем надевали на голову и привязывали тесемками. К ней плотно привязывали позатыльник с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали ее тесемками. Потом надевали поднизь — налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного бисера, за ней — опушки — заднюю и переднюю из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; опушки укрепляли под поднизью на сороку завязками. Под поднизь надевали налобник с косицами в виде черных перышек селезня на полосе позумента, закрепленных розетками из разноцветных шелковых лент и пуговиц. Над косицами подвязывали чело — красную шелковую ленту на тесемке, концы которой свешивались над висками. Под позатыльником повязывали две длинные шелковые ленты на тесемке — отвес. Над отвесом прикрепляли арепей — розетку из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и тесемки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.
Были и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие и рогатые стеганые кички, под которые подкладывали жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, вислючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца из тонкого белого домашнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закладывали по бокам головы или завязывали сзади и распускали. На концах наметки вышивали гладью геометрический или стилизованный растительный орна-
Стр. 65
мент, нашивали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки носили наметки покороче и без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX в. в Смоленской губернии носили сборник — надрезанный с одной стороны кусок ткани, закладывавшийся на голове в складки, а также подубрусник, стеганый из холста или бархата, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дощечки; на холщовый подубрусник накидывали сложенный на угол платок с завязанными сзади, "по-бабьему" концами.
Во всех южновеликорусских губерниях, особенно в XX в., женщины имели платки — фабричные или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, стеклярусом, бисером. Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины — на затылке.
Верхняя женская одежда южновеликорусских губерний в основном была такой же, как и мужская, отличалась лишь размерами и наличием украшений. Так, женские зипуны часто отделывали плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле и т. п. Однако встречались и чисто женские виды верхней одежды. В Воронежской и Курской губерниях была распространена корсетка из домотканого коричневого сукна с отрезной спинкой, вставными клиньями ниже талии, выкройными рукавами, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшивалась черным плисом или гарусом. В Рязанской губернии носили шушпан, шушун или сушун — туникообразную распашную или глухую одежду длиной до колен или немного ниже, с рукавами до локтей с ластовицами, обильно украшенную красной тесьмой, кумачом, ситцем.. Шушпан нередко носили как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье — накинув на голову. Здесь же шили юпу, или юпочку, — распашную туникообразную одежду белого домашнего сукна или полусукна. Праздничная юпа была без рукавов, будничная — с рукавами, довольно короткая, украшенная выкладками из кумача, позумента, бархата, бахромой, вышивкой. До конца XIX в. встречались и другие виды одежды: крутик, коротыш, прижимка и др.
Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды был пояс. В южновеликорусских губерниях носили разнообразные тканые и плетеные пояса, по украшению концов отличавшиеся большим разнообразием. Например, пояс-покромка из черной или темно-синей шерсти, который заканчивался лопастями различной формы, украшенными бахромой, бисером, галунами, лентами, рас-
Стр. 66
шитыми гарусом; узкий плетеный из цветной шерсти пояс с кистями; тканые шерстяные кушаки с узором в полоску и преобладанием красного цвета над белым, зеленым, синим, желтым. Длина покромок и кушаков была значительной, их несколько раз оборачивали вокруг талии, а концы подтыкали под покромку по бокам либо завязывали сзади, а там, где не носили передника, — сбоку или спереди.
Основной вид обуви — лапти косого плетения с белыми или черными онучами или шерстяными вязаными чулками под оборы, а также кожаные чоботы, или коты, — галошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментированные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками. Кожаная обувь также закреплялась на ноге оборами — черными или красными плетеными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, пропущенными через петлю на заднике.
Довольно разнообразны были нагрудные, шейные и другие украшения. Ожерелок, или жерелок, подгорлок в виде бисерного кружева, закрепленного на полоске холста, носили на шее, застегивая сзади на пуговицу. Гайтан — плетеная бисерная тесьма длиной 50—70 см, заканчивался бахромой, медальоном или крестом. Ожерелье представляло собой узкую полоску кумача с плотно нашитым бисером и перламутровыми пуговицами. Носили также дутые стеклянные бусы, разнообразные дутые медные серьги с привесками из цветных бусинок, разноцветной шерсти и т. п., а также очень характерные для кичко-образных головных уборов пушки — ушные украшения в виде шариков из гусиного белого пуха или заячьей шкурки, закреплявшиеся ни висках.
Наиболее известная женская народная одежда, иногда неправильно считающаяся исконно русской, сарафан — основная часть сарафанного комплекса. Этот комплекс принадлежит преимущественно центральным и, особенно, северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан носили и в южновеликорусских губерниях.
Выделяют пять типов сарафана:
глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой, Псковской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Курской губерниях и был старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;
косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в Северо-Восточной России, Поволжье, Приуралье, Мо-
Стр. 66
Таблица XIV
САРАФАНЫ
Стр. 68
сковской, Владимирской, Костромской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях; в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской — саян, а также кумашник;
прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и паневу;
прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом-шнуровкой; распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири;
сарафан на кокетке, с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.
Сарафан был довольно широко распространен в южновеликорусских губерниях, главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере — и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян, костолан, сукман. Это глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках или, в начале XX в., с лифом, т. е. на кокетке. Шили его из кумача, китайки темно-синей, черной, красной. Носили здесь, но редко, и распашной сарафан на лямках; в этом случае обычно передний шов застрачивали и обозначали галунами и пуговицами с петлями. По подолу и переднему шву сарафан украшали здесь вышивкой шерстью, прошвами.
В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях — Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской — это был второй основной (после рубахи) вид женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клетошник, набивник, суконник, штофник, дольник, костяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шили их из пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа, сукна, в том числе и ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье — Симбирской, Казанской, Самарской, а также в Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан тоже был основным видом женской одежды. Наиболее старинным здесь считался глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами или с лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь носили распашные сарафаны. К началу XX в. преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом-кокеткой, от которого
Стр. 68
совершился переход к "парочке" — юбке с кофтой, причем юбка иногда называлась сарафаном.
С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носили передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся по талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким задним полотнищем и без рукавов — так называемая чина.
Частью сарафанного комплекса была плечевая одежда. На севере со старинными шелковыми и штофными сарафанами носили долгорукавку — подобие верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка. Широко распространен был шугай, или епанечка, известный также как трубалетка, сорокотрубка — распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником. Разновидностью этой одежды была душегрея, похожая на коротенькую распашную юбку, нередко простеганная на вате валиками, сильно расширяющаяся и удерживаемая на груди лямками. В конце XIX в. получил распространение казачок — длинная распашная кофта, сшитая по фигуре, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской и Вологодской губерниях носили также нарукавники, или рукава, — очень короткие кофточки с длинными рукавами или просто два рукава, соединенных на спине двумя узкими полосками ткани. Шили их из пестряди, набойки, а также шелка и кашемира.
Верхняя женская одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном носили верхнюю одежду особых форм. Это были холодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым или отложным воротником и с большим количеством боров сзади. Шили эту одежду из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывали бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях носили бедуим. Это халатообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими прямыми рукавами, вшивавшимися в проймы сильно присборенными. Воротник украшали бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не
Стр. 69
Таблица XV
ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА САРАФАННОГО КОМПЛЕКСА
Стр. 71
подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской — душегреи на лямках.
Девичьим головным убором в сарафанном комплексе, как и в паневном, были перевязки или ленты — более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе, в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесемками. Над тесемками пришивали одну широкую или несколько узких лент. Лобную часть убора обычно вышивали золотой нитью, украшали воланами или сетками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась коруна — очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена фатка — шелковый, обычно красный платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником.
Среди женских головных уборов самым распространенным был кокошник. Формы его разнообразны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде тупого рога, и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобную форму кокошник имел и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии носили большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы встречались и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. Для Казанской губернии характерны лопатообразные кокошники с очельем почти прямоугольной формы, но были и высокие островерхие и двурогие кокошники, называвшиеся кичками. Кокошники обильно украшали речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускали сетку из жемчуга или бисера — ряску. В Псковской губернии чаще носили однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивали легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.
Кокошники надевали, как правило, молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они заменяли его кичкообразными головными уборами. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со сдерихой — род чепчика из холста с коронкой в виде копытца (сдериха), на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса с завязками по бокам, которые завязывали на затылке под прямоугольным концом сороки. Помор-
Стр. 72
екая кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к простым повойникам в виде чепца со вздержкой на затылке. И сороку, и кичку, и повойник украшали вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и т. п. Носили повойник с платком, а иногда один платок повязывался вокруг головы, как повойник, а второй — поверх первого. В Поволжье нередко второй платок носили роспуском — завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.
Обувь в сарафанном комплексе была такой же, как и в паневном: лапти с онучами, кожаные галошеобразные коты, ботинки с резинками на невысоком каблуке. С кожаной обувью всегда, а с лаптями часто, особенно в Поволжье, носили вязаные шерстяные чулки, богато орнаментированные, иногда их расшивали мишурой и блестками.
Непременным украшением, особенно в Поволжье, были серьги разных форм. Повсюду дополнением к сарафану были бусы, ожерелья, излюбленным украшением — полоски холста, густо усаженные бисером, а на Севере — широкие круглые кружевные воротники. В Поволжье иногда носили, как и в южнорусских губерниях, гусиные пушки, вставляя их и в уши вместе с серьгами.
В истории народного костюма, и женского, и мужского, совершенно особым регионом являются казачьи области. Это связано у мужчин с постоянным использованием, полностью или частично, военной форменной одежды и со значительными заимствованиями элементов быта, в том числе и костюма, у местного коренного населения, а также постепенным внедрением и трансформацией элементов костюма разнородного пришлого населения. Так, казаки Кубанского и Терского войск носили однобортные длиной до колен бешметы со стоячими воротниками, застегивавшиеся доверху на множество мелких пуговиц, а поверх бешметов — черкески длиной ниже колен, до талии плотно облегавшие корпус, а ниже широко расходившиеся, без воротника, с открытой грудью, на крючках; на грудь черкески нашивались отделанные галунами газыри — гнезда для патронов. Рукава черкески, довольно широкие и длинные, отворачивались, так что были видны узкие рукава бешмета. Донские, астраханские, оренбургские, уральские и другие казаки носили форменные чекмени — однобортные, на крючках, со стоячим воротником, длиной до колен или выше.
С чекменями и черкесками носили шаровары. Обувью казакам служили сапоги, а в Терском и Кубанском войсках — плот-
Стр. 73
Таблица XVI
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Стр.74
но облегавшие икры ноговицы из мягкого тонкого войлока, а поверх них — кожаные чувяки с каблуком или мягкие сапоги. Головным убором у всех казаков были форменные фуражки войсковых цветов и овчинные папахи, в XX в. сменившиеся невысокой шапкой-кубанкой. Элементом форменной и домашней одежды были со второй половины XIX в. суконные башлыки, отделанные тесьмой. В холодную и дождливую погоду казаки носили зипуны обычного для крестьянского населения покроя, полушубки, которые с конца XIX в. у них стали форменной одеждой, тулупы и т. д.
Основной частью женского костюма, как и в Великороссии, была рубаха — туникообразная, с невысоким воротником-стойкой, прямыми поликами, сборенными у ворота и собранными на обшивку у запястья рукавами, а также рубаха на кокетке. Нередко для разных элементов рубахи использовались разные ткани.
Поверх рубах казачки надевали плечевую одежду разных типов. Старинным элементом донского праздничного костюма был кубилек, к началу XX в. уже выходивший из обихода. Он напоминает женские платья горских народов: Кабарды, Адыгеи, Дагестана, что не удивительно: казаки очень часто привозили себе жен из походов. Кубилек с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей цельной спинкой шили из синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка. Лиф спереди до талии застегивался на мелкие пуговицы, На шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талии кубилек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубилек обильно украшали галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой деталью кубилека был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями.
В Терской области казачки нередко носили повседневные и праздничные кроеные, как и мужские, но длинные, бешметы из ситца, черного, голубого, коричневого, зеленого атласа с отделкой из узкого галуна. По примеру горянок казачки иногда накидывали его на голову. Замужние донские казачки носили сукман — глухую одежду с очень короткими и узкими рукавами, без воротника, с коротким прямым разрезом, отделанную на груди и по подолу лентами и плетеной тесьмой. Его подвязывали по талии плетеным шерстяным синим или красным кушаком с кистями. Одеждой казачьей, в том числе и на Кубани,
Стр. 75
был и сарафан — прямого покроя, с лифом и сборками; его подпоясывали широким плисовым поясом.
В начале XX в. основным костюмом казачек стали юбки и кофты — парочки, ставшие обычными и в других областях страны. Юбок надевали несколько: нижние по подолу отделывали кружевами, верхние, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан — брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта. В зависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, кирасой. Блузки и кофты шили свободного покроя, без талии, на полчетверти ниже талии, с застежкой сзади или сбоку, с воротником стоечкой и длинным или до локтя рукавом, присборенным у плеча, а ниже — облегающим. Блузки отделывали гипюром, лентами, кружевами, закладывали складки. Иногда блузки шили на кокетке. Матене — кофта свободного покроя ниже пояса, распашная, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины. Кираса — это плотно облегающая кофта с небольшой баской до бедер, узкими длинными рукавами, у плеча присборенными, с воротничком-стойкой, застегивавшаяся спереди на множество мелких пуговиц, которую носили только молодые женщины.
Переселенцы из великорусских губерний принесли на Дон кокошник (к началу XX в. его перестали носить), а украинки — очипок. В основном же казачьи области выработали оригинальные типы головных уборов. Праздничным убором замужних женщин был вязаный колпак в форме чулка с махрами на макушке; на улице поверх колпака накидывали платок. Колпак в основном носили в комплексе с кубилеком. В XX в. колпаки сменились файшонкой — черной кружевной косынкой с длинными концами, собранными спереди на нитку; концы файшонки свисали по бокам, их закидывали за плечи или завязывали сзади бантом. Замужние женщины носили также кичку с двумя рожками с сорокой, как в южной Великороссии. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики — жемчужные подвески у висков. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки. Кичку вытеснил чепчик из ситца, бархата, шелка. Он состоял из двух полукруглых бочков с длинными концами и середины; концы сзади завязывались бантом. Но наиболее распространена была шлычка — полная и на шиш. Полная шлычка шилась как детский колпачок: к полукруглому заднику пришивали продолговатые бочка, обшитые воланами, кружевами, а понизу продевали или пришивали тесьму, которая завязывалась вокруг
Стр. 76
головы. На полную шлычку и чепчик накидывался платок. Шлычка на шиш представляла собой небольшой мешочек, надевавшийся на собранные в узел косы. Пожилые женщины носили большие платки, оборачивая их вокруг головы и завязывая концы узлом на макушке. У девушек-казачек были такие же повязки в форме обруча с лентами, как и по всей стране.
В XX в. юбка с кофтой распространились по всей России. В южновеликорусских губерниях юбки носило сначала бывшее однодворческое население, а затем они стали одеждой и крестьянок. Шили их из домотканого одноцветного или полосатого материала, почти всегда с преобладанием красного цвета. Праздничные юбки украшались по подолу лентами, галунами. Носили их и девушки, и женщины. В некоторых селах юбку подтыкали, как паневу; носили ее иногда и вместе с паневой. В северных губерниях, особенно ближе к Петербургу, носили ситцевые юбки с воланами по подолу, надевая их с кофтой с баской, отделанной рюшами. С парочкой надевали также одно-двубортный жакет с лацканами и суженными рукавами, собранными в плечах в буфы.
1.

2.

3.
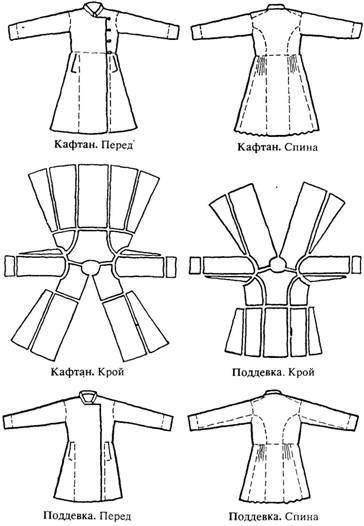
4.

5.
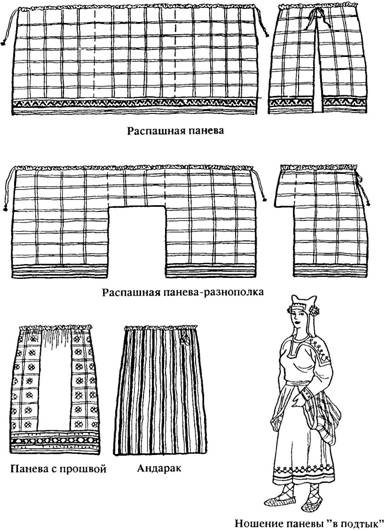
6.
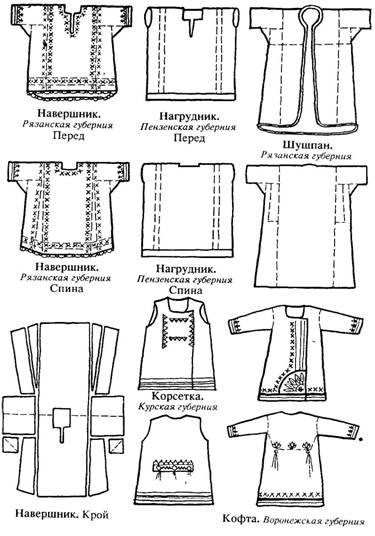
7.

8.

9.

10.
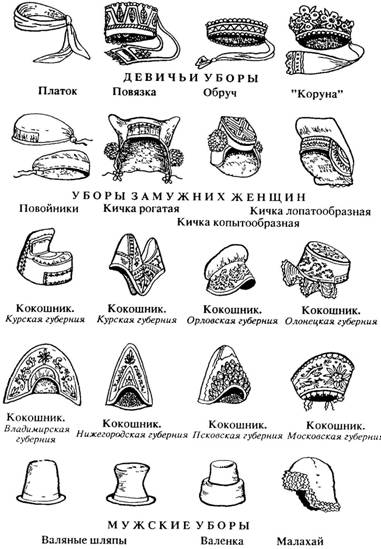
Метки: одежда |
Процитировано 11 раз
Понравилось: 2 пользователям
ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ |
Глава VI.
ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ
Основу мужского древнерусского костюма составляла рубаха, или срачица (сорочка) длиной ниже колен, с отделкой на воротнике, концах рукавов, по подолу и косой застежке слева; в торжественных случаях к ней пристегивалось ожерелье — дорогой вышитый воротник. Рубаха дополнялась узкими длинными, заправленными в сапоги портами, собранными на поясе на шнурок — гашник. Разнообразна была верхняя одежда, распространенная преимущественно в социальных верхах.
Кафтан — распашной, широкий, иногда в талию — "становой", с узкими длинными рукавами; у богатых людей кафтаны были длинные, почти до щиколоток. К дорогим кафтанам пристегивалось ожерелье. Кафтан застегивался до пояса на накладные из шнура или галуна петлицы с кистями по концам; петлицы были также на коротких разрезах на полах по бокам. Поверх кафтана, а у бедных людей вместо него надевался зипун — узкий, до колен, с застежкой спереди, без воротника. Поверх кафтана или зипуна мужчины и женщины носили однорядку — длинную, распашную, с очень длинными рукавами, собиравшимися в складки, без подкладки. Подобным однорядке был охабень — длиннополая широкая одежда с очень длинными и узкими рукавами с прорехами выше локтей, куда продевали руки, с одним стоячим воротником и другим широким отложным. Похож на охабень опашень, носившийся нараспашку и без кушака. Его рукава были нормальной ширины, но также с прорехами, откидные. Парадной распашной одеждой был ферязь с длинными рукавами, свисавшими ниже кисти либо собиравшимися в складку, без воротника, на меховой подкладке, с
Стр. 46
накладными застежками на длинных петлях. Посадские надевали ферязь прямо на рубаху, люди высокого положения — на кафтан, зипун. Дорожной осенней или зимней одеждой был суконный мятель — тип плаща. Корзно — тяжелый суконный подбитый мехом плащ — носили на левом плече и справа на груди застегивали большой фигурной застежкой — фибулой. Обыденной и парадной одеждой у социальных верхов была зимняя или летняя меховая шуба, крытая узорчатой тканью, длинная, широкая, с длинными рукавами и большим стоячим воротником, а также кожух — подбитая мехом богатая одежда, украшенная жемчугом и вышивками.
Женский древнерусский костюм отличался от мужского деталями покроя. Его основу составляла рубаха до пят с длинными, собиравшимися в складку рукавами и круглым воротом. На рубаху надевали глухие прямые или раскошенные сарафаны и короткие, собранные сзади в складку душегреи со множеством пуговиц, открытые, на лямках, либо глухие, с рукавами. Носили также телогрею — глухую, длинную, с застежками донизу, с длинными узкими откидными рукавами с прорехами выше локтя. Летник представлял собой длинную глухую, надевавшуюся через голову одежду на подкладке, сильно раскошенную книзу, с длинными колоколообразными рукавами, сшитыми лишь до локтя. Нижняя часть рукавов — накапки — свободно свисала и часто украшалась вошвами — дорогими шитыми кусками ткани. На летник пристегивался низкий глухой круглый воротник. Женщины носили также шубы — распашные или глухие, надевавшиеся через голову, с длинными рукавами с прорехами, которые можно было носить и откинутыми. Волосы девушки распускали или заплетали в косу с лентой, к которой пришивался косник — плотный треугольник из кожи или бересты, обтянутый шелком или расшитый бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Вокруг головы была лента-повязка либо венец, также обильно расшитый. К нему надевали ряску — спускающиеся по щекам нити бус или жемчуга и поднизь — жемчужную сетку на лоб. Зимой носили круглые шапочки, опушенные мехом. Замужние женщины надевали шапочку из тонкой материи — подубрусник либо сетку из шелковых, серебряных, золотых нитей — волосник. Край волосника был более плотный, вышитый. Сзади подвязывали позатылень — кусок ткани, прикрывавший затылок. Сверху надевали убрус — шелковое или холщовое полотенце, украшенное вышивкой, со свисавшими по бокам концами. Вместо убруса можно было носить кики — разного покроя расшитые шапочки.
Стр. 47
Зимой поверх убрусов и кик надевали шапки с меховой опушкой и каптуры — капоры, закрывавшие шею до плеч.
Мужские головные уборы были разнообразны. Чаще всего это был колпак или высокий, остроконечный, из войлока, поярка, сукна, бархата с меховой оторочкой клобук. Носили также мурмолки — высокие, плоские сверху шапки из дорогих тканей, с отворотами по краям, и столбунцы — высокие цилиндрические меховые шапки; у богатых людей столбунцы были горлатные — из нежного меха с горла соболя. В доме мужчины надевали тафью — суконную, шелковую или бархатную тюбетейку, плоскую, богато расшитую; выходя из дому, на нее надевали другой головной убор. Тафье была подобна кучма, но не округлая, а с острым верхом, опушенная мехом.
ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ
Основу мужского древнерусского костюма составляла рубаха, или срачица (сорочка) длиной ниже колен, с отделкой на воротнике, концах рукавов, по подолу и косой застежке слева; в торжественных случаях к ней пристегивалось ожерелье — дорогой вышитый воротник. Рубаха дополнялась узкими длинными, заправленными в сапоги портами, собранными на поясе на шнурок — гашник. Разнообразна была верхняя одежда, распространенная преимущественно в социальных верхах.
Кафтан — распашной, широкий, иногда в талию — "становой", с узкими длинными рукавами; у богатых людей кафтаны были длинные, почти до щиколоток. К дорогим кафтанам пристегивалось ожерелье. Кафтан застегивался до пояса на накладные из шнура или галуна петлицы с кистями по концам; петлицы были также на коротких разрезах на полах по бокам. Поверх кафтана, а у бедных людей вместо него надевался зипун — узкий, до колен, с застежкой спереди, без воротника. Поверх кафтана или зипуна мужчины и женщины носили однорядку — длинную, распашную, с очень длинными рукавами, собиравшимися в складки, без подкладки. Подобным однорядке был охабень — длиннополая широкая одежда с очень длинными и узкими рукавами с прорехами выше локтей, куда продевали руки, с одним стоячим воротником и другим широким отложным. Похож на охабень опашень, носившийся нараспашку и без кушака. Его рукава были нормальной ширины, но также с прорехами, откидные. Парадной распашной одеждой был ферязь с длинными рукавами, свисавшими ниже кисти либо собиравшимися в складку, без воротника, на меховой подкладке, с
Стр. 46
накладными застежками на длинных петлях. Посадские надевали ферязь прямо на рубаху, люди высокого положения — на кафтан, зипун. Дорожной осенней или зимней одеждой был суконный мятель — тип плаща. Корзно — тяжелый суконный подбитый мехом плащ — носили на левом плече и справа на груди застегивали большой фигурной застежкой — фибулой. Обыденной и парадной одеждой у социальных верхов была зимняя или летняя меховая шуба, крытая узорчатой тканью, длинная, широкая, с длинными рукавами и большим стоячим воротником, а также кожух — подбитая мехом богатая одежда, украшенная жемчугом и вышивками.
Женский древнерусский костюм отличался от мужского деталями покроя. Его основу составляла рубаха до пят с длинными, собиравшимися в складку рукавами и круглым воротом. На рубаху надевали глухие прямые или раскошенные сарафаны и короткие, собранные сзади в складку душегреи со множеством пуговиц, открытые, на лямках, либо глухие, с рукавами. Носили также телогрею — глухую, длинную, с застежками донизу, с длинными узкими откидными рукавами с прорехами выше локтя. Летник представлял собой длинную глухую, надевавшуюся через голову одежду на подкладке, сильно раскошенную книзу, с длинными колоколообразными рукавами, сшитыми лишь до локтя. Нижняя часть рукавов — накапки — свободно свисала и часто украшалась вошвами — дорогими шитыми кусками ткани. На летник пристегивался низкий глухой круглый воротник. Женщины носили также шубы — распашные или глухие, надевавшиеся через голову, с длинными рукавами с прорехами, которые можно было носить и откинутыми. Волосы девушки распускали или заплетали в косу с лентой, к которой пришивался косник — плотный треугольник из кожи или бересты, обтянутый шелком или расшитый бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Вокруг головы была лента-повязка либо венец, также обильно расшитый. К нему надевали ряску — спускающиеся по щекам нити бус или жемчуга и поднизь — жемчужную сетку на лоб. Зимой носили круглые шапочки, опушенные мехом. Замужние женщины надевали шапочку из тонкой материи — подубрусник либо сетку из шелковых, серебряных, золотых нитей — волосник. Край волосника был более плотный, вышитый. Сзади подвязывали позатылень — кусок ткани, прикрывавший затылок. Сверху надевали убрус — шелковое или холщовое полотенце, украшенное вышивкой, со свисавшими по бокам концами. Вместо убруса можно было носить кики — разного покроя расшитые шапочки.
Стр. 47
Зимой поверх убрусов и кик надевали шапки с меховой опушкой и каптуры — капоры, закрывавшие шею до плеч.
Мужские головные уборы были разнообразны. Чаще всего это был колпак или высокий, остроконечный, из войлока, поярка, сукна, бархата с меховой оторочкой клобук. Носили также мурмолки — высокие, плоские сверху шапки из дорогих тканей, с отворотами по краям, и столбунцы — высокие цилиндрические меховые шапки; у богатых людей столбунцы были горлатные — из нежного меха с горла соболя. В доме мужчины надевали тафью — суконную, шелковую или бархатную тюбетейку, плоскую, богато расшитую; выходя из дому, на нее надевали другой головной убор. Тафье была подобна кучма, но не округлая, а с острым верхом, опушенная мехом.
|
ОБУВЬ |
Глава V.
ОБУВЬ
В крестьянской среде с древности распространеннейшим видом обуви были плетеные из липового или вязового ("вязовики") лыка лапти. По способу плетения, например расположению лыка относительно продольной оси лаптя по диагонали либо вдоль нее и поперек, различались лапти московские, мордовские и т. д. Лапоть был неглубоким, с относительно коротким носком и закреплялся на ноге особым способом: в задник вплеталась петля, в которую продевали тонкую лыковую веревку — оборы, обматывали голень накрест и завязывали под коленом. Предварительно ногу обматывали узкой полосой холста летом, сукна зимой — онучами. Иногда для прочности лапти "подковыривали" тонкими веревками. Зимой для тепла в лапти клали сено. Это была дешевая, удобная, легкая и теплая обувь. На дворе носили плетеные из бересты ступни, или босовики, довольно глубокие, иногда с короткими широкими голенищами, а также чуни, или шептуны, — лапти из разбитых старых веревок. Кое-где, например на Дону, Кубани, Тереке, особенно у охотников были популярны поршни, сделанные из одного невыкроенного куска сыромятной кожи, которая собиралась вокруг щиколотки на продетом сквозь прорези в кромке кожи ремешке. Кое-где поршни назывались постолами. Женщины с лаптями и поршнями носили иногда вместо онуч паголенки — толстые орнаментированные вязаные чулки до колен, без ступни, начинавшиеся от щиколоток. Поскольку в крестьянстве красивой считалась толстая нога, богачки и щеголихи надевали несколько пар паголенок, а беднячки под них наматывали онучи.
Кожаной, преимущественно праздничной обувью у крестьян служили сапоги — обувь с высокими глухими голенищами до колен. В верхней части голенища изнутри подшивается кожаная подкладка — футор. Ступня спереди закрывается головками, под которые внутри подложен кожаный поднаряд; а пятка — задником с подложенным изнутри жестким куском кожи — капиком; для любителей делались сапоги "со скрипом", для чего под задник подкладывали полоску бересты.
Голенища пришивали к головкам и задникам, а снизу головки и задники кленовыми или медными гвоздями пришивали к подошве из толстой жесткой кожи. Внутри на подошву клали кожаную стельку. У рантовой обуви головки снаружи пришивали дратвой к подошве, образуя прошитую узкую полоску по периметру ступни — рант. Под пятку прибивали невысокий плоский либо высокий фигурный каблук, на который
Стр. 44
снизу можно подшивать кожаную набойку. Низкие каблуки подбивали медными подковками почти по всему периметру. Кожаной обувью крестьянок и мещанок были коты — открытые туфли на низком широком каблуке с подковками, у которых переда и кромки отделывались полосками белой кожи или алого сукна. К заднику котов пришивали петлю, через которую продевали тонкий кожаный шнур или ремешок, обвивавший накрест голень ноги. Коты носили с белыми бумажными или толстыми шерстяными чулками и паголенками. На юге обувь, подобная котам, называлась чириками, черевичками, чирками, чарыками.
Туфли — обувь с берцами, не закрывавшими тыльную часть стопы. Берцы — разрезные голенища на шнуровке, характерные для ботинок, полуботинок и туфель. У этой обуви на подошву сверху на рантах или гвоздях пришивается жесткий носок на поднаряде, соединенный мягкой союзкой с берцами. У ботинок берцы высокие, у женских иногда до колен, у полуботинок — не выше лодыжки. Любая обувь с отпоротыми голенищами, носившаяся дома как рабочая, называется опорками. В народной среде зимой использовались также валяные из овечьей шерсти черные, белые, коричневые, иногда с простым орнаментом валенки, называвшиеся также катанками или пимами. Зимой путники и часовые поверх сапог или валенок надевали кеньги — высокие, выше щиколоток, кожаные, меховые или валяные галоши. В сырую погоду в XIX в. стали носить низкие галоши, сначала кожаные, с конца XIX в. резиновые, в крестьянско-мещанской среде ставшие предметом щегольства. В армии кавалеристы и офицеры при верховой езде носили ботфорты — высокие (выше колена) сапоги с раструбом в верхней части либо с вырезным фигурным козырьком, прикрывавшим колени. В XVIII — XIX вв. в пеших войсках, а также гражданскими лицами во второй половине XIX — начале XX в. с башмаками и туфлями стали носить штиблеты — суконные гетры, закрывавшие верхнюю часть стопы и голень и застегивавшиеся сбоку на пуговицы.
Кожаная обувь в XVIII в. шилась на одну ногу, с квадратными носами, в XIX в. светские мужчины носили под панталоны сапоги без каблуков из тонкой, обтягивавшей ногу кожи с мягкой подошвой, чтобы походка была скользящей, неслышной. Женские туфли и ботинки шили из прюнели — жесткой проклеенной хлопчатобумажной ткани, из атласа, а для немолодых женщин, не заботившихся о форме ноги, — из бархата, плиса, мягкой кожи.
На грубую крестьянскую и военную обувь использовалась
Стр. 45
юфть — толстая, обработанная вальцами коровья кожа, из которой делали также упряжь и чемоданы; юфть была черная, белая и красная. Более изящная обувь шилась из опойка — тонкой кожи теленка, еще не евшего растительной пищи, а выпоенного молоком. Еще более тонкой кожей для покойной изящной обуви был сафьян — окрашенная в разные цвета или белая козловая кожа, обработанная вальцами для получения своеобразного рисунка; разновидностью сафьяна была шагрень. Из сафьяна и шагрени изготовляли также мелкие предметы. Изредка на тонкую изящную обувь, но в основном на перчатки использовали лайку — очень тонкую прочную и эластичную собачью кожу.
ОБУВЬ
В крестьянской среде с древности распространеннейшим видом обуви были плетеные из липового или вязового ("вязовики") лыка лапти. По способу плетения, например расположению лыка относительно продольной оси лаптя по диагонали либо вдоль нее и поперек, различались лапти московские, мордовские и т. д. Лапоть был неглубоким, с относительно коротким носком и закреплялся на ноге особым способом: в задник вплеталась петля, в которую продевали тонкую лыковую веревку — оборы, обматывали голень накрест и завязывали под коленом. Предварительно ногу обматывали узкой полосой холста летом, сукна зимой — онучами. Иногда для прочности лапти "подковыривали" тонкими веревками. Зимой для тепла в лапти клали сено. Это была дешевая, удобная, легкая и теплая обувь. На дворе носили плетеные из бересты ступни, или босовики, довольно глубокие, иногда с короткими широкими голенищами, а также чуни, или шептуны, — лапти из разбитых старых веревок. Кое-где, например на Дону, Кубани, Тереке, особенно у охотников были популярны поршни, сделанные из одного невыкроенного куска сыромятной кожи, которая собиралась вокруг щиколотки на продетом сквозь прорези в кромке кожи ремешке. Кое-где поршни назывались постолами. Женщины с лаптями и поршнями носили иногда вместо онуч паголенки — толстые орнаментированные вязаные чулки до колен, без ступни, начинавшиеся от щиколоток. Поскольку в крестьянстве красивой считалась толстая нога, богачки и щеголихи надевали несколько пар паголенок, а беднячки под них наматывали онучи.
Кожаной, преимущественно праздничной обувью у крестьян служили сапоги — обувь с высокими глухими голенищами до колен. В верхней части голенища изнутри подшивается кожаная подкладка — футор. Ступня спереди закрывается головками, под которые внутри подложен кожаный поднаряд; а пятка — задником с подложенным изнутри жестким куском кожи — капиком; для любителей делались сапоги "со скрипом", для чего под задник подкладывали полоску бересты.
Голенища пришивали к головкам и задникам, а снизу головки и задники кленовыми или медными гвоздями пришивали к подошве из толстой жесткой кожи. Внутри на подошву клали кожаную стельку. У рантовой обуви головки снаружи пришивали дратвой к подошве, образуя прошитую узкую полоску по периметру ступни — рант. Под пятку прибивали невысокий плоский либо высокий фигурный каблук, на который
Стр. 44
снизу можно подшивать кожаную набойку. Низкие каблуки подбивали медными подковками почти по всему периметру. Кожаной обувью крестьянок и мещанок были коты — открытые туфли на низком широком каблуке с подковками, у которых переда и кромки отделывались полосками белой кожи или алого сукна. К заднику котов пришивали петлю, через которую продевали тонкий кожаный шнур или ремешок, обвивавший накрест голень ноги. Коты носили с белыми бумажными или толстыми шерстяными чулками и паголенками. На юге обувь, подобная котам, называлась чириками, черевичками, чирками, чарыками.
Туфли — обувь с берцами, не закрывавшими тыльную часть стопы. Берцы — разрезные голенища на шнуровке, характерные для ботинок, полуботинок и туфель. У этой обуви на подошву сверху на рантах или гвоздях пришивается жесткий носок на поднаряде, соединенный мягкой союзкой с берцами. У ботинок берцы высокие, у женских иногда до колен, у полуботинок — не выше лодыжки. Любая обувь с отпоротыми голенищами, носившаяся дома как рабочая, называется опорками. В народной среде зимой использовались также валяные из овечьей шерсти черные, белые, коричневые, иногда с простым орнаментом валенки, называвшиеся также катанками или пимами. Зимой путники и часовые поверх сапог или валенок надевали кеньги — высокие, выше щиколоток, кожаные, меховые или валяные галоши. В сырую погоду в XIX в. стали носить низкие галоши, сначала кожаные, с конца XIX в. резиновые, в крестьянско-мещанской среде ставшие предметом щегольства. В армии кавалеристы и офицеры при верховой езде носили ботфорты — высокие (выше колена) сапоги с раструбом в верхней части либо с вырезным фигурным козырьком, прикрывавшим колени. В XVIII — XIX вв. в пеших войсках, а также гражданскими лицами во второй половине XIX — начале XX в. с башмаками и туфлями стали носить штиблеты — суконные гетры, закрывавшие верхнюю часть стопы и голень и застегивавшиеся сбоку на пуговицы.
Кожаная обувь в XVIII в. шилась на одну ногу, с квадратными носами, в XIX в. светские мужчины носили под панталоны сапоги без каблуков из тонкой, обтягивавшей ногу кожи с мягкой подошвой, чтобы походка была скользящей, неслышной. Женские туфли и ботинки шили из прюнели — жесткой проклеенной хлопчатобумажной ткани, из атласа, а для немолодых женщин, не заботившихся о форме ноги, — из бархата, плиса, мягкой кожи.
На грубую крестьянскую и военную обувь использовалась
Стр. 45
юфть — толстая, обработанная вальцами коровья кожа, из которой делали также упряжь и чемоданы; юфть была черная, белая и красная. Более изящная обувь шилась из опойка — тонкой кожи теленка, еще не евшего растительной пищи, а выпоенного молоком. Еще более тонкой кожей для покойной изящной обуви был сафьян — окрашенная в разные цвета или белая козловая кожа, обработанная вальцами для получения своеобразного рисунка; разновидностью сафьяна была шагрень. Из сафьяна и шагрени изготовляли также мелкие предметы. Изредка на тонкую изящную обувь, но в основном на перчатки использовали лайку — очень тонкую прочную и эластичную собачью кожу.
|
ОРУДИЯ ТРУДА, ИНСТРУМЕНТЫ, ИМУЩЕСТВО |
ОРУДИЯ ТРУДА, ИНСТРУМЕНТЫ, ИМУЩЕСТВО
Соха — основное пахотное орудие в средней полосе европейской России. Устройство сохи зависело от почвы и рельефа района, систем земледелия и этнических традиций. По числу сошников различались однозубые, двузубые и многозубые сохи, по форме сошников — кодовые, с узкими сошниками и перовые,
Стр. 18
с широкими, по полицам (отвалам) — перекладные, или двусторонки, у которых полица переставлялась с одного сошника на другой, и односторонки, с неподвижной полицей. Наиболее распространены были двузубые сохи с перекладной полицей, называвшиеся великорусскими. Главная часть сохи — рассоха — толстая длинная деревянная доска с ногами — раздвоением внизу, на которые насаживались сошники. Железный сошник служил для горизонтального подрезания пласта, передвигавшегося вверх по треугольному перу и отваливавшегося полицей. Сошники устанавливались рядом, наклонно к почве, в разных плоскостях. Рассоха крепилась к оглоблям подвоями (притужинами, струнами) из перевитых виц или толстых веревок, а ее верхний конец зажимался между двумя брусьями, корцом и вальком, служившим для управления сохой, либо вдалбливался в рогаль — брус, скреплявший концы оглобель и служивший для управления. Полица — железная продолговатая сужающаяся лопатка с ручкой, укрепленная между подвоями и на одном из сошников. Угол наклона рассохи регулировался для изменения глубины вспашки. Для этого же подтягивали или отпускали чересседельник на лошади.
Сабан — усовершенствованная однозубая соха-односторонка с подошвой-полозом, а потому более устойчивая, с ножом, резавшим почву, двумя железными или чугунными отвалами, иногда на колесном передке, с сильно выгнутым дышлом или низко расположенными оглоблями, что усиливало тягу. Использовался на тяжелых степных почвах на востоке, в Нижнем Поволжье, у татар, башкир.
Косуля (кривуша) — улучшенная соха-односторонка с широким пером левого сошника, край которого отгибался вверх и вместо ножа отрезал вертикально пласт земли. Полица лежала неподвижно на левом сошнике, а справа ставился плоский деревянный отвал. Применялся на плотных, тяжелых почвах, при взмете нови и т. п.
Орало — пахотное орудие с крупным лемехом и маловыгнутым отвалом, с низкорасположенными над самым лемехом оглоблями. Орало сильно раздробляло почву, облегчая боронование, было более устойчивым, и работать им было легче, чем сохой.
Рало — старинное деревянное пахотное орудие в виде крюка, вырубленного из дерева с корневищем. Отличалось низким приложением тяговых усилий. Использовались однозубые, двузубые и многозубые рала для пахоты, перепашки и заволакива-
Стр. 19
ния семян на залежах, в степи, где хлеб высевался прямо по жнивью. Не имело отвала, разрывая землю и раздвигая ее в стороны.
Плуг — орудие для тяжелых, например целинных, почв, клеверищ и т. п. Отличался выгнутым дышлом с низким приложением тяговых усилий, колесным передком и высокими ручками. Деревянный плуг имел толстый полоз, железный нож-резак, железный широкий лемех, горизонтально насаженный на полоз, и отвал. В основном был распространен в южных степных районах. В конце XIX в. появляются покупные железные, чаще шведские плуги.
Буккер — пахотное орудие, сходное с многокорпусным плугом, использовался в южнорусских губерниях, обычно для перепашки.
Борона применялась для обработки почвы после вспашки, заволакивания семян. Древнейшей была борона-суковатка в виде сплоченных вицами половинок недлинных еловых бревен с оставленными довольно длинными сучками. Суковатка была особенно популярна на севере, где почвы были засорены камнями и новь часто разделывалась после пала на вырубленных участках леса с оставшимися пнями. Более совершенны были корпусные бороны в виде решетки из деревянных брусьев либо парных толстых прутьев, между которыми закреплялись деревянные или железные зубья. Аналогичного типа были и поздние железные бороны, иногда борона-зигзаг, с зигзагообразно изогнутыми железными полосами, в которые вставлялись зубья. Бороны крепились к постромкам лошади за железное кольцо на одном из углов бороны.
При уборке хлебов применяли в основном серп — сильно изогнутую в виде неправильного полукруга железную пластину, сужающуюся к концу; на противоположный конец под прямым углом насаживалась ручка, на внутренней кромке часто насекались зубья. Серпы были как привозные заграничные, так и русские.
Жатва была женской работой. Мужчины убирали хлеб косой с "грабками" — подобием граблей с очень редкими длинными зубьями, под углом прикрепленными к косе. Коса-стойка, или литовка, с длинным древком (окосьем, косевьем), к которому прикреплена короткая поперечная рукоять, использовалась и во время сенокосов на лугах. На севере, где на покосах много пней, камней или кочек, а также на косогорах распространена коса-горбуша с короткой слегка изогнутой рукоятью. При уборке сена применялись деревянные грабли и деревянные вилы-тройчатки
Стр. 20
Таблица III
ОРУДИЯ ТРУДА
Стр. 21
Таблица IV
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ
Стр. 22
из тонкого древесного ствола, расходящегося тремя ветвями под острым углом. При уборке навоза и на других работах использовались кованные железные вилы-тройчатки с тремя зубьями либо двойчатки (двоешки). При молотьбе применялся цеп. Он состоял из длинной, в рост человека, рукояти (цепильни, держальни) и короткой, в 50—70 см и весом от 600 г до 2 кг рабочей части (молотила, била, цепца), соединенных сыромятным ремнем (путцом, путом). Способы соединения были различны. Например, в ручке высверливали канал глубиной около 10 см и в его основании пробивали поперечное отверстие; ремень, привязанный к рабочей части, пропускали через канал отверстия и прибивали к ручке.
Наиболее распространенным инструментом был топор с довольно широким лезвием и широкой проушиной. Различались большие тяжелые топоры дровосеков с относительно узким лезвием и длинным прямым топорищем, более легкие плотничные топоры на изогнутом топорище и небольшие столярные топорики — легкие, с коротким слегка изогнутым топорищем. Для долбления корыт, лотков, при бондарных работах использовалось тесло — топор со слегка изогнутой рабочей частью двоякой кривизны и лезвием, перпендикулярным к топорищу. Для строгания, шкурения бревен и жердей применяли скобель — плоскую неширокую слегка изогнутую пластину с лезвием на рабочей части и двумя короткими рукоятями по сторонам, насаженными немного под углом. В XVIII в. для чистовой обработки древесины появился наструг — рубанок в виде большого бруска твердого дерева с прорезанным в нем клиновидным летком, куда вставлялось плоское железко с односторонним лезвием на рабочей части, закрепленным в летке клином. При строгании больших плоскостей применяли большой двуручный рубанок "медведку". Для долбления использовали разного размера долота с деревянной рукоятью, вставленной в раструб, в отличие от режущего инструмента стамески, рукоять которой насаживалась на хвостовик рабочей части. С древности для сверления дерева применяли разного размера буравы а с XIX в. — вставлявшиеся в коловорот перовые сверла. Бревна раскряжовывались двуручными поперечными пилами, а для распиловки вдоль, на доски, с XVIII в. стали применять длинные двуручные продольные пилы, слегка сужающиеся к одному концу, с зубьями в форме неправильного треугольника в отличие от поперечной пилы, имевшей зубья в виде равнобедренного треугольника. Столяры пользовались также лучковыми поперечными и продольными пилами с узким полотном, закрепленным между двумя высокими стойками, и распоркой посередине.
Стр. 23
Концы пилы стягивались с помощью тетивы и короткой закрутки, упиравшейся в распорку. Применяли также одноручные пилы-ножовки с полотнами разной ширины. Для строгания профилей столяры использовали разнообразные галтели с полукруглыми железками, калевки, отборники, зензубели и т. д.
Для обработки волокнистых материалов (льна, конопли) женщины пользовались специальными орудиями труда. Мялка — наклонный из досок или долбленый желоб с входящей в него на шарнире узкой доской с ручкой на конце. Трепало — нечто вроде большого широкого деревянного ножа с ручкой. Широкие кленовые гребни с частыми узкими зубьями на узкой длинной рукояти использовались для чесания кудели рукой либо вставляясь в донце. Прялки для ручного изготовления нитей из кудели были двух типов и состояли из довольно широкой лопаски, к которой привязывалась кудель, тонкой ножки и донца, ставившегося на лавку; когда пряха садилась на донце, лопаска располагалась на уровне ее лица. Были прялки - копыл, целиком вытесанные из комеля дерева, выкопанного с корневищем, и составные прялки-точенки, у которых донце и лопаска с ножкой изготовлялись отдельно. При прядении с прялкой применялось веретено, на которое наматывалась ссученная нить, — цилиндрическая, сужающаяся к концам палочка длиной около 30 см, один конец ее был утолщен, либо на него насаживалось шиферное пряслице для устойчивости вращавшегося, как волчок, веретена.
Самопрялки с большим колесом и ножным приводом разных конструкций появились довольно поздно и были относительно редки вследствие дороговизны. Рабочей частью самопрялки был рошманок — деревянная рогатка, усаженная железными загнутыми зубчиками, которые цепляли нить; рогатка насаживалась на железное веретено вместе с точеными заодно волчком и вьюшкой, на которую наматывалась нить. Готовые нити затем перематывались на воробы — большую крестовину из планок, в концы которых вставлялись веретена, сновальню — крестовину из двух рамок и мотовило — вертикальную стойку с двумя перпендикулярными к ней и друг другу рогами. Ткацкий стан, или кросна, представлял собой массивную большую раму из брусьев, в которой вращались навой — вал с намотанными нитями основы, пришва — вал, на который наматывалась готовая ткань и в котором двигались с помощью подножек набилки — рейки, в которые вставлялось бердо в виде гребня с пропущенными через него нитями основы, и ниты — ряд попарно соединенных нитяных петель,
Стр. 24
собранных на двух параллельных рейках; через ниты также пропускалась основа, поочередно поднимавшаяся для прокидки челнока.
При вышивании применяли швейку в виде невысокого столбика, вставленного в донце; на его конце была мягкая подушечка или лоскут замши, куда булавкой прикалывали ткань в пяльцах — легком двойном ободке.
При плетении кружев нитки, намотанные на коклюшки — короткие гладкие палочки с головками, закреплялись на бубне — круглом плотно набитом валике на козлах.
При стирке пользовались вальком — массивным слегка изогнутым деревянным бруском с ручкой, "выбивая" им из ткани загрязненную мыльную воду. При глажении жесткого пересохшего холста применяли рубель — массивный брусок длиной около 60 см, слегка изогнутый, с зубцами на рабочей плоскости и ручкой, ткань наматывали на скалку и катали рубелем по столу.
У печи хозяйка использовала ухваты разных размеров, кочергу, чапельник, чтобы доставать сковороды, большую широкую деревянную лопату, чтобы сажать хлебы. Ухват сделан из железной полосы, изогнутой в виде незамкнутого круга так, что низ горшка или чугуна входил между рогами ухвата, или рогача, а заплечики садились на полосу; ухват насаживался на длинную рукоять. Чапельник — это насаженная на деревянную рукоять железная полоса с высеченным из ее середины и отогнутым языком.
В домашнем быту использовались деревянные солоницы с крышками большой емкости двух типов: в виде резного креслица или стульчика и в форме уточки. Для приготовления пищи применялись чугуны и глиняные горшки разного размера с округлым туловом, образующим заплечики, и узким дном (горшки отличались от чугунов низким венчиком в верхней части тулова), а для жарки — плоские глиняные миски — латки с высокими, почти вертикальными бортами. Жидкая пища (квас, молоко и т. п.) хранилась в глиняных крынках, горлачах, кубанах с округлым туловом, небольшим донцем и вытянутым горлом. Месили тесто, укладывали готовые печеные изделия на широкие плоские деревянные ночвы вроде подноса с невысокими бортиками. Пищевые продукты хранились в точеных высоких поставцах с крышками и в изготовленных из бересты туесах, или бураках, также с крышками. Ели из глиняных или точеных деревянных чашек деревянными ложками. Глиняные изделия были муравленными, т. е. покрытыми простой поливой, иногда со скромной росписью по ангобу, деревянные покрывались резь-
Стр. 25
Таблица V
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
Стр. 26
бой или росписью. В домашнем обиходе для хранения расходного запаса воды, изготовления кваса, пива, сусла использовали большие глиняные корчаги емкостью до двух ведер, по форме напоминающие горшки, хмельные напитки на стол в праздники подавали в ендовах, деревянных или медных луженых, округлой формы, имевших носик, или в деревянных братинах, носика не имевших, а также в огромных ковшах-скобкарях, из которых напитки разливали небольшими ковшами-наливками. Формы ковшей были разнообразными и различались в основном расположением и формой ручки; например, Козьмодемьянские ковши были стоячие, с почти вертикальной широкой плоской ручкой. Пили напитки из медных, оловянных и деревянных стопок и из довольно объемистых (до одного литра) жбанов, собранных из клепок на обручах, с ручкой и крышкой. Вообще в крестьянском обиходе широко использовалась бондарная посуда: бочки, полубочки (пересеки), лагуны, кадки, чаны, ушаты, лохани, шайки.
1.

2.

3.
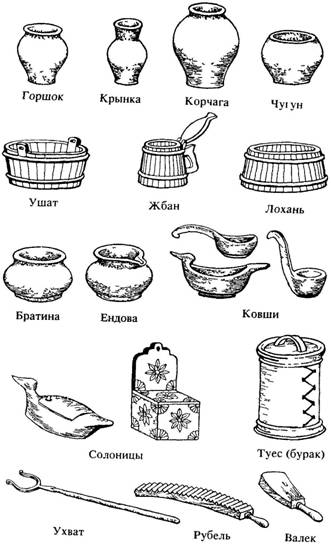
Соха — основное пахотное орудие в средней полосе европейской России. Устройство сохи зависело от почвы и рельефа района, систем земледелия и этнических традиций. По числу сошников различались однозубые, двузубые и многозубые сохи, по форме сошников — кодовые, с узкими сошниками и перовые,
Стр. 18
с широкими, по полицам (отвалам) — перекладные, или двусторонки, у которых полица переставлялась с одного сошника на другой, и односторонки, с неподвижной полицей. Наиболее распространены были двузубые сохи с перекладной полицей, называвшиеся великорусскими. Главная часть сохи — рассоха — толстая длинная деревянная доска с ногами — раздвоением внизу, на которые насаживались сошники. Железный сошник служил для горизонтального подрезания пласта, передвигавшегося вверх по треугольному перу и отваливавшегося полицей. Сошники устанавливались рядом, наклонно к почве, в разных плоскостях. Рассоха крепилась к оглоблям подвоями (притужинами, струнами) из перевитых виц или толстых веревок, а ее верхний конец зажимался между двумя брусьями, корцом и вальком, служившим для управления сохой, либо вдалбливался в рогаль — брус, скреплявший концы оглобель и служивший для управления. Полица — железная продолговатая сужающаяся лопатка с ручкой, укрепленная между подвоями и на одном из сошников. Угол наклона рассохи регулировался для изменения глубины вспашки. Для этого же подтягивали или отпускали чересседельник на лошади.
Сабан — усовершенствованная однозубая соха-односторонка с подошвой-полозом, а потому более устойчивая, с ножом, резавшим почву, двумя железными или чугунными отвалами, иногда на колесном передке, с сильно выгнутым дышлом или низко расположенными оглоблями, что усиливало тягу. Использовался на тяжелых степных почвах на востоке, в Нижнем Поволжье, у татар, башкир.
Косуля (кривуша) — улучшенная соха-односторонка с широким пером левого сошника, край которого отгибался вверх и вместо ножа отрезал вертикально пласт земли. Полица лежала неподвижно на левом сошнике, а справа ставился плоский деревянный отвал. Применялся на плотных, тяжелых почвах, при взмете нови и т. п.
Орало — пахотное орудие с крупным лемехом и маловыгнутым отвалом, с низкорасположенными над самым лемехом оглоблями. Орало сильно раздробляло почву, облегчая боронование, было более устойчивым, и работать им было легче, чем сохой.
Рало — старинное деревянное пахотное орудие в виде крюка, вырубленного из дерева с корневищем. Отличалось низким приложением тяговых усилий. Использовались однозубые, двузубые и многозубые рала для пахоты, перепашки и заволакива-
Стр. 19
ния семян на залежах, в степи, где хлеб высевался прямо по жнивью. Не имело отвала, разрывая землю и раздвигая ее в стороны.
Плуг — орудие для тяжелых, например целинных, почв, клеверищ и т. п. Отличался выгнутым дышлом с низким приложением тяговых усилий, колесным передком и высокими ручками. Деревянный плуг имел толстый полоз, железный нож-резак, железный широкий лемех, горизонтально насаженный на полоз, и отвал. В основном был распространен в южных степных районах. В конце XIX в. появляются покупные железные, чаще шведские плуги.
Буккер — пахотное орудие, сходное с многокорпусным плугом, использовался в южнорусских губерниях, обычно для перепашки.
Борона применялась для обработки почвы после вспашки, заволакивания семян. Древнейшей была борона-суковатка в виде сплоченных вицами половинок недлинных еловых бревен с оставленными довольно длинными сучками. Суковатка была особенно популярна на севере, где почвы были засорены камнями и новь часто разделывалась после пала на вырубленных участках леса с оставшимися пнями. Более совершенны были корпусные бороны в виде решетки из деревянных брусьев либо парных толстых прутьев, между которыми закреплялись деревянные или железные зубья. Аналогичного типа были и поздние железные бороны, иногда борона-зигзаг, с зигзагообразно изогнутыми железными полосами, в которые вставлялись зубья. Бороны крепились к постромкам лошади за железное кольцо на одном из углов бороны.
При уборке хлебов применяли в основном серп — сильно изогнутую в виде неправильного полукруга железную пластину, сужающуюся к концу; на противоположный конец под прямым углом насаживалась ручка, на внутренней кромке часто насекались зубья. Серпы были как привозные заграничные, так и русские.
Жатва была женской работой. Мужчины убирали хлеб косой с "грабками" — подобием граблей с очень редкими длинными зубьями, под углом прикрепленными к косе. Коса-стойка, или литовка, с длинным древком (окосьем, косевьем), к которому прикреплена короткая поперечная рукоять, использовалась и во время сенокосов на лугах. На севере, где на покосах много пней, камней или кочек, а также на косогорах распространена коса-горбуша с короткой слегка изогнутой рукоятью. При уборке сена применялись деревянные грабли и деревянные вилы-тройчатки
Стр. 20
Таблица III
ОРУДИЯ ТРУДА
Стр. 21
Таблица IV
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ
Стр. 22
из тонкого древесного ствола, расходящегося тремя ветвями под острым углом. При уборке навоза и на других работах использовались кованные железные вилы-тройчатки с тремя зубьями либо двойчатки (двоешки). При молотьбе применялся цеп. Он состоял из длинной, в рост человека, рукояти (цепильни, держальни) и короткой, в 50—70 см и весом от 600 г до 2 кг рабочей части (молотила, била, цепца), соединенных сыромятным ремнем (путцом, путом). Способы соединения были различны. Например, в ручке высверливали канал глубиной около 10 см и в его основании пробивали поперечное отверстие; ремень, привязанный к рабочей части, пропускали через канал отверстия и прибивали к ручке.
Наиболее распространенным инструментом был топор с довольно широким лезвием и широкой проушиной. Различались большие тяжелые топоры дровосеков с относительно узким лезвием и длинным прямым топорищем, более легкие плотничные топоры на изогнутом топорище и небольшие столярные топорики — легкие, с коротким слегка изогнутым топорищем. Для долбления корыт, лотков, при бондарных работах использовалось тесло — топор со слегка изогнутой рабочей частью двоякой кривизны и лезвием, перпендикулярным к топорищу. Для строгания, шкурения бревен и жердей применяли скобель — плоскую неширокую слегка изогнутую пластину с лезвием на рабочей части и двумя короткими рукоятями по сторонам, насаженными немного под углом. В XVIII в. для чистовой обработки древесины появился наструг — рубанок в виде большого бруска твердого дерева с прорезанным в нем клиновидным летком, куда вставлялось плоское железко с односторонним лезвием на рабочей части, закрепленным в летке клином. При строгании больших плоскостей применяли большой двуручный рубанок "медведку". Для долбления использовали разного размера долота с деревянной рукоятью, вставленной в раструб, в отличие от режущего инструмента стамески, рукоять которой насаживалась на хвостовик рабочей части. С древности для сверления дерева применяли разного размера буравы а с XIX в. — вставлявшиеся в коловорот перовые сверла. Бревна раскряжовывались двуручными поперечными пилами, а для распиловки вдоль, на доски, с XVIII в. стали применять длинные двуручные продольные пилы, слегка сужающиеся к одному концу, с зубьями в форме неправильного треугольника в отличие от поперечной пилы, имевшей зубья в виде равнобедренного треугольника. Столяры пользовались также лучковыми поперечными и продольными пилами с узким полотном, закрепленным между двумя высокими стойками, и распоркой посередине.
Стр. 23
Концы пилы стягивались с помощью тетивы и короткой закрутки, упиравшейся в распорку. Применяли также одноручные пилы-ножовки с полотнами разной ширины. Для строгания профилей столяры использовали разнообразные галтели с полукруглыми железками, калевки, отборники, зензубели и т. д.
Для обработки волокнистых материалов (льна, конопли) женщины пользовались специальными орудиями труда. Мялка — наклонный из досок или долбленый желоб с входящей в него на шарнире узкой доской с ручкой на конце. Трепало — нечто вроде большого широкого деревянного ножа с ручкой. Широкие кленовые гребни с частыми узкими зубьями на узкой длинной рукояти использовались для чесания кудели рукой либо вставляясь в донце. Прялки для ручного изготовления нитей из кудели были двух типов и состояли из довольно широкой лопаски, к которой привязывалась кудель, тонкой ножки и донца, ставившегося на лавку; когда пряха садилась на донце, лопаска располагалась на уровне ее лица. Были прялки - копыл, целиком вытесанные из комеля дерева, выкопанного с корневищем, и составные прялки-точенки, у которых донце и лопаска с ножкой изготовлялись отдельно. При прядении с прялкой применялось веретено, на которое наматывалась ссученная нить, — цилиндрическая, сужающаяся к концам палочка длиной около 30 см, один конец ее был утолщен, либо на него насаживалось шиферное пряслице для устойчивости вращавшегося, как волчок, веретена.
Самопрялки с большим колесом и ножным приводом разных конструкций появились довольно поздно и были относительно редки вследствие дороговизны. Рабочей частью самопрялки был рошманок — деревянная рогатка, усаженная железными загнутыми зубчиками, которые цепляли нить; рогатка насаживалась на железное веретено вместе с точеными заодно волчком и вьюшкой, на которую наматывалась нить. Готовые нити затем перематывались на воробы — большую крестовину из планок, в концы которых вставлялись веретена, сновальню — крестовину из двух рамок и мотовило — вертикальную стойку с двумя перпендикулярными к ней и друг другу рогами. Ткацкий стан, или кросна, представлял собой массивную большую раму из брусьев, в которой вращались навой — вал с намотанными нитями основы, пришва — вал, на который наматывалась готовая ткань и в котором двигались с помощью подножек набилки — рейки, в которые вставлялось бердо в виде гребня с пропущенными через него нитями основы, и ниты — ряд попарно соединенных нитяных петель,
Стр. 24
собранных на двух параллельных рейках; через ниты также пропускалась основа, поочередно поднимавшаяся для прокидки челнока.
При вышивании применяли швейку в виде невысокого столбика, вставленного в донце; на его конце была мягкая подушечка или лоскут замши, куда булавкой прикалывали ткань в пяльцах — легком двойном ободке.
При плетении кружев нитки, намотанные на коклюшки — короткие гладкие палочки с головками, закреплялись на бубне — круглом плотно набитом валике на козлах.
При стирке пользовались вальком — массивным слегка изогнутым деревянным бруском с ручкой, "выбивая" им из ткани загрязненную мыльную воду. При глажении жесткого пересохшего холста применяли рубель — массивный брусок длиной около 60 см, слегка изогнутый, с зубцами на рабочей плоскости и ручкой, ткань наматывали на скалку и катали рубелем по столу.
У печи хозяйка использовала ухваты разных размеров, кочергу, чапельник, чтобы доставать сковороды, большую широкую деревянную лопату, чтобы сажать хлебы. Ухват сделан из железной полосы, изогнутой в виде незамкнутого круга так, что низ горшка или чугуна входил между рогами ухвата, или рогача, а заплечики садились на полосу; ухват насаживался на длинную рукоять. Чапельник — это насаженная на деревянную рукоять железная полоса с высеченным из ее середины и отогнутым языком.
В домашнем быту использовались деревянные солоницы с крышками большой емкости двух типов: в виде резного креслица или стульчика и в форме уточки. Для приготовления пищи применялись чугуны и глиняные горшки разного размера с округлым туловом, образующим заплечики, и узким дном (горшки отличались от чугунов низким венчиком в верхней части тулова), а для жарки — плоские глиняные миски — латки с высокими, почти вертикальными бортами. Жидкая пища (квас, молоко и т. п.) хранилась в глиняных крынках, горлачах, кубанах с округлым туловом, небольшим донцем и вытянутым горлом. Месили тесто, укладывали готовые печеные изделия на широкие плоские деревянные ночвы вроде подноса с невысокими бортиками. Пищевые продукты хранились в точеных высоких поставцах с крышками и в изготовленных из бересты туесах, или бураках, также с крышками. Ели из глиняных или точеных деревянных чашек деревянными ложками. Глиняные изделия были муравленными, т. е. покрытыми простой поливой, иногда со скромной росписью по ангобу, деревянные покрывались резь-
Стр. 25
Таблица V
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
Стр. 26
бой или росписью. В домашнем обиходе для хранения расходного запаса воды, изготовления кваса, пива, сусла использовали большие глиняные корчаги емкостью до двух ведер, по форме напоминающие горшки, хмельные напитки на стол в праздники подавали в ендовах, деревянных или медных луженых, округлой формы, имевших носик, или в деревянных братинах, носика не имевших, а также в огромных ковшах-скобкарях, из которых напитки разливали небольшими ковшами-наливками. Формы ковшей были разнообразными и различались в основном расположением и формой ручки; например, Козьмодемьянские ковши были стоячие, с почти вертикальной широкой плоской ручкой. Пили напитки из медных, оловянных и деревянных стопок и из довольно объемистых (до одного литра) жбанов, собранных из клепок на обручах, с ручкой и крышкой. Вообще в крестьянском обиходе широко использовалась бондарная посуда: бочки, полубочки (пересеки), лагуны, кадки, чаны, ушаты, лохани, шайки.
1.

2.

3.
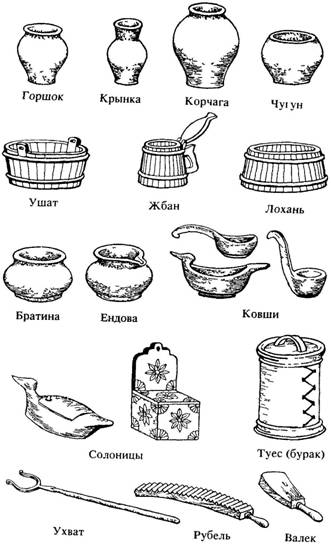
|
ЖИЛИЩЕ, ДВОР, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ |

Глава I. ЖИЛИЩЕ, ДВОР, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
§ 1. Крестьянское жилище
В ранний период отечественной истории на юге, востоке и в лесостепной полосе складывается земляное или полуземляное жилище (землянка и полуземлянка), в лесной полосе — надземное. Отсюда позже развиваются два типа жилища: с земляным либо деревянным полом, без подклета, с завалинкой, и жилище на подклете. Соответственно формируются два типа двора как комплекса жилых и хозяйственных построек (подворья): а) хозяйственные постройки связаны с жилищем; б) хозяйственные постройки разбросаны по двору.
Жилище находилось в глубине участка, обнесенного бревенчатым тыном, и стояло к улице торцом; только у ремесленников оно могло выходить одной стеной на улицу на линии тына. Двор был вымощен плахами из расколотых бревен.
Боярский двор включал несколько жилых построек: для хозяина, челяди, арендаторов (дворников). На нем располагался полный необходимый комплекс хозяйственных построек: мастерские, конюшни, хлева, погреба, амбары, баня, колодец с колодой для водопоя. Двор делился на две половины, иногда разгороженные тыном: чистый, перед боярским жильем, и хозяйственный. Хоромы иногда строились в три этажа: а) подклет; б) жилые и парадные помещения; в) светлицы и терема с гульбищами вокруг. Горница — "горнее", т. е. возвышенное помещение в сравнении с подклетом. Повалуша — спальня, где спали "повалом" на кошмах. Сени — в ранний период "осененная", т. е. крытая галерея верхнего этажа. С XV в. на Руси начали строить каменные жилища, преимущественно для пиршественных зал, а для повседневного жилья по-прежнему использовали деревянные рубленные надстройки над каменными. Окна прорубались в трех или четырех стенах; в четвертой стене располагалась дверь. Окна были слюдяные или стекольчатые, т. е. из цветного стекла, типа витражей, с мелкой расстекловкой. Гладко стесанные стены расписывали или обивали тканями. Мебель была незамысловатая: лавки, скамьи, рундуки, коники, поставцы. 4
Стр. 5
Таблица I
ДВОР
Стр. 6
Хозяйственные постройки были также рубленные, с жердяными полами и потолками. Погреба были и рубленные, и простейшие, в виде врытой в землю бочки или корчаги. Баня — рубленная, с предбанником, печью-каменкой и полком для мытья.
Двор ремесленника и торговца включал жилище, являвшееся и мастерской, погреб, хлев, конюшню, амбар, баню, колодец с колодой. Жилище было однокамерное (однокомнатное) либо двухкамерное, пятистенок, срубное, с подклетом, т. е. нижним хозяйственным помещением, либо без него, с завалинкой. Во второй комнате (светлице) не было печи, и она была смежной с отапливаемой комнатой (истобкой). Печи были преимущественно глинобитные, сводчатые, черные, т. е. без дымоходов, позже — кирпичные, чаще белые — с дымоходами и трубой. В белых жилищах, с печью с дымоходами, окна были косящатые (с косяками и рамами), в черных, как правило, все либо хотя бы одно окно — волоковое, без косяков, закрывавшееся ставней. Косящатые окна закрывались слюдой, бычьим пузырем; в XIV в. появились стекла.
Крестьянская жилая постройка XVIII—XIX вв., как и типы двора, отличаются традиционностью, продиктованной условиями жизни, к которым приспособлены в максимальной степени. Существует несколько типов конструкции жилья и технологических приемов его строительства. Основа рубленной жилой постройки — клеть: четырехугольный бревенчатый сруб из 12— 15 и более венцов — прямоугольников, образованных четырьмя бревнами. Существовало несколько типов соединения (врубки) бревен: 1) "в обло" ("в угол", "в чашку"); 2) "в крюк"; 3) "в охряпку"; 4) "в лапу"; 5) "в охлуп". При недостаточной длине бревен они соединялись несколькими способами: 1) "в замок"; 2) клиньями и врезками; 3) короткими вертикальными столбами. Возможно было также соединение нескольких срубов "в столб" и "в два столба".
Наиболее сложной была конструкция кровли. Самой распространенной кровлей была двухскатная, с двумя фронтонами. Известна также трехскатная кровля, чаще встречаемая на юге, с одним фронтоном, обычно соломенная или очеретянная (тростниковая, камышовая). В лесной стороне у зажиточного крестьянства в конце XIX — начале XX в. появляется четырехскатная (вальмовая) тесовая кровля; четырехскатная соломенная или очеретянная кровля характерна и для южных губерний.
В XVIII—XIX вв. была распространена двухскатная самцовая тесовая кровля, в конце XIX — начале XX в. постепенно заменяющаяся стропильной. У самцовой кровли на верхние бревна переднего и заднего фасадов ложились постепенно умень-
Стр. 7
шавшиеся в длину бревна-самцы, образующие два треугольных фронтона; в постройках большого размера самцы укреплялись перпендикулярными к ним прорубами. На самцы укладывали продольные тонкие бревна — слеги, в которые врубали курицы — тонкие еловые жерди, вырубленные вместе с корневищем, образующим крюк. При стропильной кровле на продольные бревна верхнего венца накладывали поперечные балки (переводы), в которые врубали шипами по два образующих треугольник наклонных бревна — стропила. На стропила накладывали слеги, в которые врубали курицы. На концы куриц накладывали продольные бревна с пазами — потоки. В пазы потоков, ориентированные на скаты кровли, вставляли нижние концы тесин, лежавших на слегах; их верхние концы прижимали продольным бревном с широким пазом — охлупнем, лежавшим на верхней, более толстой слеге — коньке. Охлупень притягивался деревянными шипами — стамиками либо большими кованными гвоздями. Фронтоны стропильной кровли зашивали тесом. Пространство между бревнами верхнего венца и кровлей — стреха — служило для вентиляции чердака.
В ранний период в богатых лесом районах кровли крыли желобами — расколотыми вдоль половинками бревен, в которых вытесывались желоба. Нижний ряд их клали на слеги желобами вверх, и он упирался торцами в поток или застрешину (застреху), а на него, перекрывая щели, клали верхний слой желобом вниз. Крыли кровли также долгой и короткой дранью. По обрешетке кровлю накрывали берестой ("скалой"), на которую накладывали колотую семиаршинную долгую дрань либо дрань короткую, щепу, которая закреплялась короткими драночными гвоздями с большими шляпками. Криволинейные кровли, например на церковных луковицах, бочках, кубоватых бочках, крылись лемехом — узкими короткими дощечками с концами, затесанными уступами. Лемех, щепу, дрань чаще изготовляли из устойчивой против гниения сухой осины, для сруба и деталей кровли использовали сосну или ель.
Соломенные кровли крыли несвязанной соломой либо снопиками. При покрытии "внатруску" солому расстилали по обрешетке рядами, начиная снизу, и каждый ряд пригнетали слегой, привязывая ее к обрешетке лыком. Более прочным было покрытие несвязанной соломой "под ногу": путанную солому собирали в "пелену" — более или менее плотный пучок, клали ее на обрешетку и зажимали коленом между обрешеткой и стеной; затем "пелену" "заправляли", равномерно распределяя по ней солому. После этого солому равномерно рядами накла-
Стр. 8
дывали на "пелену", счесывали граблями и поливали жидкой глиной. Широко был распространен способ покрытия соломой "со спишниками": жерди с прибитыми короткими колышками-спицами клали на слеги по скатам, предварительно положив под них путанную холому. Затем ряды соломы равномерно расстилали сверху, пригнетая жердями, ложащимися на спицы. "Под щетку" или "впривязку" крыли соломой, связанной в маленькие снопики, пригнетая их привязанными к обрешетке жердями. Были и другие способы покрытия соломой. Использовалась только солома, специально осторожно обмолоченная цепом. Очеретом, т. е. тростником или камышом, крыли снопиками.
В бревенчатых стенах заранее оставляли проемы для окон и дверей, куда вставляли массивные вертикальные брусья — косяки и укладывали горизонтальные подоконники, пороги и притолоки.
Наиболее древним и примитивным типом рубленной жилой постройки является истобка (истопка, истба), т. е. собственно изба. Это небольшая однокамерная (с одним внутренним помещением) постройка с печью-каменкой либо с глинобитной печью, топившейся по-черному. Она легко преобразуется в двухкамерную постройку путем пристройки сеней из трех стен, соединенных с основным срубом общей кровлей, но не имевших потолка. Наиболее характерна изба-связь из двух срубов, соединенных сенями; все три помещения связывались кровлей, сени не имели потолка. Связь включала теплую избу — черную, с печью без дымохода, и холодную летнюю белую горницу. Сени стояли на чулане, нижней части сруба, куда складывался домашний скарб. Черная изба нередко ставилась над проконопаченным мхом и паклей омшаником, где хранились припасы, а под холодной избой был подклет с земляным полом для скарба; зимой туда ставили мелкий скот.
Увеличение жилища в размерах достигалось прирубом меньшей по размерам (например, двухоконной) клети, приставленной к большему (например, трехоконному) срубу; прируб обычно состоял из трех стен, но мог быть и четырехстенным. Сзади пристраивались общие сени. В основной избе ставилась русская печь, в прирубе — легкий подтопок, чаще с дымоходом. Изба с прирубом из двух половин называлась двойней. Зажиточные многосемейные крестьяне строили пятистенок из двух неравных половин, разделенных капитальной стеной, рубившейся вместе с наружными стенами, так что ее торцы были видны снаружи. К большей по размерам части прирубались сени, в ней ставилась русская, чаще всего черная печь, и она играла роль основного жилого помещения, а в меньшей части с подтоп-
Стр. 9
ком была горница. Пятистенок в быту назывался домом в отличие от связи, двойни или истобки, называвшихся избой. Наиболее богатые крестьяне, например в Сибири, ставили дом-крестовик, или шестистенок, при постройке которого одновременно с наружными стенами рубились две пересекавшиеся под прямым углом капитальные внутренние стены. В. одном помещении были сени, в другом — кухня с русской печью, а две чистые части, обогревавшиеся подтопками или печами-голландками, назывались горницей, комнатой, спальней или залом.
Из сеней, прирубленных к более короткой торцовой стене, в избу вела навешенная на кованных петлях дверь в мощных косяках, с низкой притолокой и высоким порогом, чтобы не пропускать в избу холодный зимний воздух. В противоположной торцовой стене прорубали обычно три окна: среднее большего размера, боковые поменьше, из которых одно, ближе к черной печи, было волоковым, служило для выпуска дыма при топке. В одной из боковых стен, ближе к двери, также нередко прорубали косящатое окно, выходившее во двор. Полы настилали на балках-переводах, врубленных в стены, из толстых плах — колотых бревен, так, что они лежали вдоль избы, от двери к окнам. В этом же направлении настилали на переводах и потолки из толстого теса.
В южных районах, бедных лесом, жилище зачастую было с земляным полом, плотно убитым и хорошо смазанным жидкой глиной, строилось оно из необожженного кирпича-сырца, самана (крупного необожженного кирпича из смеси глины и соломы), или оно было глинобитным. Основой глинобитной хаты был каркас из жердей и прутьев в виде редкого плетня; увлажненная глина набрасывалась на каркас и сильно сбивалась большими тяжелыми деревянными молотками-колотушками. Такое жилище было теплым, чистым и весьма долговечным. Соломенная кровля свешивалась над стенами широкой полосой, чтобы на стены не попадали дождевые струи, а в окна — жаркие лучи солнца.
Внутреннюю планировку избы определяло положение печи. Ее ставили в одном из углов, отступив, во избежание пожара, от стен. Небольшое пространство в углу между печью и стенами — запечье — использовалось для хозяйственных нужд. Известны четыре варианта установки печи по расположению устья печи относительно входа, что зависело от климата: 1) справа или слева от входа, устьем к нему; 2) в дальнем углу, устьем к боковой от входа стене; 3) в одном из дальних от входа углов, устьем к входу; 4) справа или слева от входа, устьем к противоположной входу стене. Древнейшим был второй вариант. На
Стр. 10
юге и юго-западе более был распространен первый вариант, на севере и центре страны — четвертый; третий вариант редок.
Угол, противоположный печи по диагонали, назывался красным; это был парадный угол, где располагались обеденный стол, божница для икон над ним, а в стены вделывались лавки. Угол напротив печного устья назывался бабий кут: здесь велись женские домашние работы, готовилась пища. В более обширных помещениях, с чистой горницей за печью, бабий кут отделялся от горницы дощатой перегородкой с дверью и представлял собой неглубокий открытый шкаф — посудник для хранения кухонной посуды; иногда со стороны горницы был такой же шкаф для гостевой посуды. Часть перегородки, примыкавшая к печи, использовалась как шкаф для хозяйственных принадлежностей: ухвата, кочерги, веника и пр. Коник — угол около двери — был мужским: здесь велись мелкие мужские работы, на стене висела верхняя одежда, уздечки, хомут; здесь спал хозяин. Вдоль стены делали ларь (рундук), где во время работ сидел хозяин и где он спал. Под крышкой рундука хранилось имущество. Название "коник" идет от возвышенного изголовья, заканчивающегося резной конской головой. Позже коник стал называться кутником, а рундук заменила простая лавка.
Над коником, между печью и боковой стеной, т. е. над входом, под потолком настилали полати, где хранили имущество, сушили лук и горох, здесь же спали дети и старики, если на печи было тесно или жарко. Лаз на полати был с лежанки печи. К печи со стороны входа примыкала дощатая пристройка, припечек или голбец, иногда высотой почти до уровня лежанки, чаще же такой, чтобы на нем можно было сидеть. В голбце устраивался лаз под пол, с лесенкой и дверцей, а также дверки с полками за ними для хранения мелочей, и лестница для подъема на лежанку. Если голбец был низкий, лаз под пол (творило) устраивался в полу, недалеко от входа. В центральную потолочную балку (матицу) вворачивалось железное кольцо, в него вставляли длинный гибкий шест оцеп, к нижнему концу которого крепилась зыбка — детская колыбель. Женщина, сидя за работой на лавке в бабьем куту, могла качать зыбку, продев ногу в петлю, привязанную к зыбке.
Печь ставили на мощное опечье, или опечек, стоявший на земле под полом; нередко для экономии кирпича опечек делали из брусьев, и он мог подниматься выше пола, почти до шестка. Лицевая сторона печи, где находилась топка, называется устьем печки, или челом. Топка русской печи, как и вход в нее, сводчатая; иногда устьем назывался сам неширокий вход в топку. Перед ним, на уровне пояса, находится достаточно
Стр. 11
Таблица II ЖИЛИЩЕ
Стр. 12
обширная площадка — шесток; на шесток ставили горшки, на нем для готовки небольшого количества пищи разводили огонь под таганом. Сбоку на шестке было небольшое углубление в нише— загнетка; сюда после топки сгребали угли, прикрывая их золой, чтобы не высекать каждый раз огонь. Плоская часть топки называется подом; на нем раскладывали огонь и ставили сюда горшки и чугуны; выметая после сильной топки золу и устлав под тонким слоем соломы, здесь пекли хлебы, а устлав под толстым слоем мокрой соломы, в печи мылись, если не было бани. Под шестком находилась довольно большая ниша — подпечье, где хранили кухонный инвентарь, сушили лучину для растопки, дрова, а зимой жили куры. Поверх печи располагалась лежанка. Труба, прикрывавшаяся круглым блинком на ободе, приваренном к листу железа; была в передней части печи, над шестком. Спереди печи устраивали по сторонам чела небольшие ниши — печуры для хранения мелочей, сушки рукавиц и пр.
§ 2. Двор
Расположение жилища относительно улицы было различным, что зависело от его типа и района. На юге трехкамерное жилище располагалось вдоль улицы. В центральной и северной части России дом-связь ставился вдоль улицы или перпендикулярно к ней, истобка — только перпендикулярно.
Типология двор чрезвычайно сложна и разнообразна.
Северорусский комплекс (Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Костромская, Ярославская, Пермская, Вятская, Новгородская, Тверская губернии): жилище на высоком подклете, с двухскатной кровлей на самцах или с четырехскатной, пятистенок и даже шестистенок, так называемый однорядный дом-двор с взвозом. Передняя часть — жилая, под ней в подклете кухня, затем сени, холодная изба, двухэтажный двор и за ним хлева и конюшня. Над двором поветь — навес, под которым хранилось сено, имущество, зимой телеги, летом сани. Здесь же распространены двор глаголем (в задней части жилища под прямым углом к нему), поперечная связь, двухрядная связь избы и двора, на высоком подклете, с двухэтажным двором, а также двор крытый с отполком и крытый с ендовой. Двор с отполком располагался параллельно жилищу под общей крышей, настилавшейся поверх внутреннего ската кровли избы. Двор с ендовой, перпендикулярный к жилищу, имел отдельную кровлю, а между двумя кровлями был желоб-ендова. Варианты соединения двора и жилища разнообразны.
Стр. 13
Среднерусский комплекс (Верхнее, Среднее и Нижнее Поволжье, Московская, Рязанская, Новгородская, Вятская, Пермская, Калужская, Смоленская губернии): жилище на подклете, с двухскатной кровлей, двор крытый за избой либо параллельно ей, однорядная или слитная связь, двор с отполком, двор глаголем, поперечная связь с ендовой. Бытовал и покоеобразный, так называемый круглый двор, полузакрытый, а также трехрядная связь. Небольшая открытая часть двора называлась проглеей и на зиму закрывалась щитами.
Западнорусский тип: жилище на низком подклете или без него, с завалинкой, двухрядная или трехрядная связь, двор покоеобразный или глаголем.
Южнорусский комплекс (южные и Смоленская губернии, Среднее и Нижнее Поволжье), открытый двор, незамкнутый, с постройками, стоящими без определенного порядка, либо замкнутый двор-крепость, двор-каре, круглый.
Донской комплекс: срубный "круглый" (шестистенный) дом с четырехскатной кровлей, на подклете либо дом-связь с двухскатной кровлей; оба типа с открытым двором, обычно незамкнутым, с расположенными поодаль хозяйственными постройками.
Кубанский и Терской комплексы: дом саманный или глинобитный, с четырехскатной крышей и открытым двором, с постройками, стоящими без определенного порядка.
§ 3. Хозяйственные постройки
Хозяйственные постройки включают амбар, клуню, ригу, овин, поветь, пуньку, хлев, а также баню.
Амбар — бревенчатая, каменная, кирпичная, саманная или глинобитная постройка, прочная, с тесовой или железной кровлей, размером в среднем 4x4 м, обычно с широкой выступающей площадкой перед входом и с навесом над ней, установленная на больших камнях или деревянных толстых чурбанах-стульях, без окон, но с небольшим отверстием для вентиляции. Использовался для хранения зерна, муки, имущества. Внутри бревнами или толстыми досками вдоль стен выгораживались сусеки (закрома) для зерна и муки на невысоких ножках с дверцами-заслонками в нижней части; сквозь стены в сусеки могли пропускаться для вентиляции короткие дощатые трубы-короба. Более ценное имущество, семенное зерно хранились на втором ярусе. Амбары в целях противопожарной безопасности ставили поодаль от жилищ, например через дорогу, отделяя от порядка изб рядом деревьев, но на глазах.
Стр. 14
Клуня — легкая постройка, иногда без стен, стропила соломенной кровли стояли просто на земле. Использовалась для хранения снопов, молотьбы хлеба. Обычно клуни стояли за деревней.
Рига — бревенчатая, каменная, плетневая постройка для сушки сжатого хлеба перед молотьбой; однокамерная сушильня без ямы высотой около четырех метров, чаще с потолком, дверью и окном для подачи снопов. Пол настилали над землей на высоте около метра. Печь без трубы либо со сложной системой дымоходов ставили на землю. Пол между печью и стеной не настилали. Сбоку устраивали решетчатые жердевые колосники регулируемой высоты, на которые ставили снопы колосьями вверх. Риги, более безопасные от огня, но и более дорогие, постепенно вытесняли овины, хотя качество сушки было ниже.
Овин — двухъярусная постройка для сушки снопов перед молотьбой, обычно бревенчатая. В нижнем ярусе, часто в виде ямы размером 3х4 м и глубиной до 2,5 м с укрепленными бревнами стенами, стояла примитивная печь; вместо нее в одной из стен или в земляном полу делали нишу для костра. Верхний ярус (садило, насад — колосник) над ямой был рубленный из бревен, или каменный, или глинобитный, и имел щели, либо же был плотный, убитый глиной. Между полом (подом) и стенами оставляли щель до 40 см (пазухи, пазушины, пазы) для прохода дыма и тепла. Над полом делали из жердей решетчатые колосники (сушильня, цепки, гряды), куда ставили (сажали) снопы в 1—2 ряда колосьями вниз. Овин крыли соломой или тесом со щелями, чтобы проходил дым. В передней стене делали окно — сажальню — для подачи снопов.
Гумно — обширная хозяйственная постройка, рубленная, каменная, глинобитная или плетневая, соединявшая овин и ток для молотьбы.
Ток — обширная, плотно убитая и смазанная жидкой глиной площадка длиной до 15 м, шириной около 5 м, в центре слегка приподнятая с полого спускающимися краями. На ней в два рада колосьями внутрь расстилали предварительно развязанные снопы, и молотьбиты с цепами шли навстречу друг другу, вымолачивая зерно из колосьев.
Поветь — хозяйственная постройка на крестьянском дворе, примыкавшая к жилищу, — навес с потолком. Здесь хранили сани, телеги, колеса, сбрую и другое имущество, укладывали сено и солому, летом часто спали.
Пунька — небольшая надворная постройка, иногда на огороде, рубленная или плетневая, для хранения имущества не-
Стр. 15
вестки; сколько в доме было невесток, столько и пунек. Здесь летом спали молодые.
Хлев — постройка во дворе, обычно бревенчатая, иногда утепленная, на мху, где находился мелкий и крупный рогатый скот. Для тепла над хлевом мог быть решетчатый потолок для сена с отверстием над яслями — невысоким решетчатым ящиком с наклонной передней стенкой для сухого корма. Пол был земляной либо жердевой, дощатый со щелями для стока навозной жижи. Для лошадей рядом, под одной крышей, но отдельно от продуктивного скота, устраивалась конюшня; если лошадей было несколько, для каждой из жердей делалась невысокая выгородка — денник, так же как для каждой коровы могло выгораживаться стойло.
§ 4. Городское и усадебное дворянское жилище
В XVIII—XIX вв. в небольших городах, в том числе губернских, а в ранний период и в столичных, основная масса населения, включая небогатое купечество, живет в домах, по материалам, конструкции и планировке не отличающихся от крестьянского жилища соответствующего региона, вплоть до мазанок и соломенных и очеретянных крыш. Преобладают трехкамерная связь (сени, соединяющие две половины) и пятистенок с пристроенными вдоль длинной стены сенями, с крыльцом, выходящим на улицу рядом с передним фасадом. Обычны трехоконные передние фасады. Бытуют как дома с завалинкой, так и на высоком подклете. По мере роста городского населения за счет чиновников, служащих, лиц интеллигентных профессий и т.д. развивается сдача части жилища внаем, например чистой половины трехкамерной связи, а в домах с высоким подклетом его превращают в жилой и либо сдают жильцам, либо в него перебираются хозяева. При сдаче части дома целому семейству для него нередко устраивается отдельный вход разгораживанием больших сеней, пристройкой отдельных сеней или взятой в особую постройку лестницы на второй этаж. Переходящие в руки новых владельцев из мещан и купцов либо остающиеся у прежних, но обедневших хозяев дворянские особняки с мезонинами и усадьбы с флигелями также пускаются под жильцов.
Во дворах городских жилищ исчезают хлева, амбары, иногда бани (поскольку появляются общественные "торговые" бани), заменяясь флигелями для жильцов или хозяев; однако такие хозяйственные постройки, как конюшни и каретники, остаются.
При строительстве низшие сословия в городе по-прежнему предпочитают использовать дерево в силу его дешевизны и
Стр. 16
гигиенической предпочтительности. Но нередкими, особенно у дворянства, богатого купечества, чиновничества, становятся каменно-деревянные дома: низ из кирпича, верх деревянный. Каменный дом был престижнее, и в XIX в. все чаще замечается стремление выстроить дом из камня либо имитировать каменную постройку оштукатуриванием, с разделкой штукатурки на крупные квадры руста. В соответствии со стилем эпохи такие дома украшаются лепными фризами, карнизами, наличниками, модульонами, деревянными и оштукатуренными колоннами с лепными капителями. Широко известны случаи, когда деревянный дом обшивался так, чтобы имитировать рустику, а в обшивку вводили резные или лепные фризы и модульоны.
Новым явлением в городской архитектуре стали ставни на окнах, закрывавшиеся на ночь, а в жаркую летнюю пору и днем. Средневековый принцип размещения жилого дома в глубине двора, торцом к улице, исчезает. В глубине участка, но вдоль улицы строятся только богатые усадебные дома, однако примыкающие к ним флигеля выходят на красную линию, образуя парадный двор — курдонер. В этом случае за домом находится хозяйственный двор. Вместо прежнего бревенчатого тына такой двор отделяет легкая решетка с кованными фигурными воротами на каменных столбах. Особняки, дешевые дома городского простонародья выходят на красную линию, причем особняки расположены вдоль улицы, а дома-связь и пятистенки — перпендикулярно к ней. Дворы огораживаются дощатыми заборами с тесовыми воротами.
Внутренняя организация жилищ простонародья и их обстановка также повторяют крестьянское жилище. Только в бабьем куту все чаще двусторонний посудник начинает отгораживать чистую горницу, иногда сдающуюся одинокому жильцу, а вделанные в стены лавки заменяются передвижными скамьями и стульями. Своеобразна планировка барских особняков: первый этаж (бывший подклет) занимают кухня, хозяйственные помещения и людская для прислуги, по переднему фасаду во втором этаже располагаются парадные помещения с высокими потолками (гостиная, танцевальная зала, столовая, парадный кабинет, парадная спальня), а по заднему фасаду идут интимные комнаты хозяев (кабинеты, спальни), куда также иногда вторгаются столовая и малая гостиная; над ними, на антресолях, в комнатках с низкими потолками и маленькими окнами, куда ведут узкие винтовые лестницы, обитают дети, прислуга, приживалы, бедные родственники, молодежь; здесь же размещаются гости. Эти "второсортные" члены семей-
Стр. 17
ства обитают и в типичных для особнякового строительства мезонинах, произошедших, вероятно, от средневековых светлиц для женщин и детей.
Таким образом, с улицы дом был двухэтажным, иногда с мезонином, а сзади и с боков — трехэтажным. В больших усадебных домах, как городских, так и сельских, планировка примерно такая же, но добавляются лакейская с рундуками для отдыха лакеев — гостей и своих, девичья для горничных и исполняемых ими небольших работ (глаженье, шитье и т. п.), к л а с с н ы е для детей, буфетная около парадной столовой для хранения столовых приборов, салфеток, посуды и приносимых с кухни блюд перед подачей на стол. В богатых городских и усадебных домах кухня нередко находилась в отдельном помещении во дворе, чтобы кухонным чадом не беспокоить господ, так что горячие блюда лакеи носили через двор. Расположение комнат было анфиладным, затем была принята коридорная система. Печи, выходившие зеркалом в парадные или жилые комнаты, топились из коридоров или служебных помещений.
Во второй половине XIX в. меняются взгляды на гигиену, место детей в семье и возрастает количество населения, снимавшего жилье. Отказываются от разделения помещений на парадные и жилые, от антресолей и анфиладной системы. Появляются доходные дома, сначала небольшие, представлявшие собой увеличенный дом-связь, а также секционные многоэтажные дома. Поскольку в зажиточных и интеллигентных семьях считалось необходимым иметь постоянно проживающих в квартире кухарку, горничную, лакея, квартиры в 5—7 и более комнат имеют два выхода: из передней на чистую лестницу, ведущую в парадный подъезд со швейцаром, и черную — из кухни, ведущую во двор. В подъезде под лестницей находилась швейцарская, а в полуподвале или на дворе, в особом флигеле, — дворницкая. Такая система появилась и в немногочисленных теперь особняках.

Метки: дом |






