-ћетки
sol invictus ƒеметра «одиак абраксас агатодемон алконост амат амон анджети анубис апис аполлон артемида аттис афина ба баал баст бес бог больша€ медведица бримо бык велес венок оправдани€ ветер виктори€ волк гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герион германубис гермес герои гигие€ гор горгона греци€ дельфиний дионис диоскуры дуат египет единорог жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей капитолийска€ волчица кастор керы кирхер лабиринт лабранды лабрис латона лев маахес магический квадрат мании мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика наос немесида нептун нумерологи€ нумизматика обрезание океан оргии орфей орфики осирис пан пасха персей персефона полидевк посейдон посох поэтика пруденци€ псеглавцы птах ра рим русалки сатир серапис сет силен сирены сирин сириус скипетр солнцеворот сосиполь сотис средневекова€ астрономи€ тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фраки€ хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс черна€ мадонна эвмениды эгида эридан эринии этимологи€ этруски юпитер
-ѕоиск по дневнику
-ѕосто€нные читатели
Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider јбап јмари_“иа_јй€ √еркен ƒобра_∆елаю ∆рицајтлантиды »_2017900 »рини€ Ћана_77 ћелнир Ќателла_ лиманова Ќоэли –ельгона —оккар Ёллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый
-—татистика
«аписи с меткой греци€
(и еще 42895 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
sol invictus ƒеметра «одиак агатодемон амон анджети анубис апис аполлон артемида афина баал баст бес бык венок оправдани€ геката гелиакический восход сириуса гений геракл гермес герои гор горгона греци€ дионис египет жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера лабранды лабрис латона лев мании мелькарт менады мистерии митра нумизматика оргии орфики осирис персефона полидевк поэтика птах ра рим сатир серапис сет сирены сириус скипетр сотис средневекова€ астрономи€ хапи хатхор хеб-сед этимологи€ юпитер
–џЋ№я Ќј √ќЋќ¬≈ √ќ–√ќЌџ |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
√ќ–√ќЌ≈…ќЌ
ќ мифах, в которых повествуетс€ удивительна€ истори€ превращени€ прекрасных дев горгон в чудовищ с чешуйчатым телом и змеиной гривой вместо волос, € уже останавливалс€ в теме ћедуза √оргона, »штар и др. ѕоэтому, чтобы не повтор€тьс€, сразу перейду к теме необычной иконографии √оргоны с крыль€ми на голове. Ќепон€тно откуда пошла эта иконографи€. ≈ще менее пон€тно Ч что делают эти крыль€ на голове ћедузы, каково их предназначение.



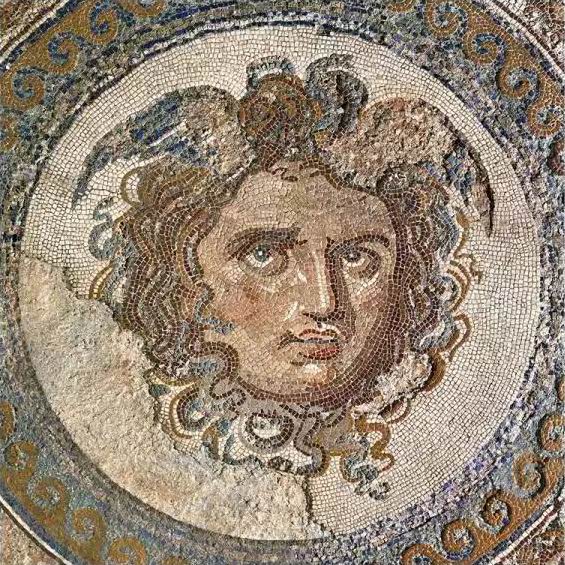


»ногда создаетс€ впечатление, что они держатс€ на шнурках, зав€занных на шее. ’от€ есть изображени€, на которых хорошо видно, что это не подв€зки, а змеиные хвосты; тела этих змей поднимаютс€, чтобы снова сплестись на макушке. ѕричем змей всего две, а прическа ћедузы представл€ет из себ€, скорее, стрижку не очень длинных волос. Ќужно отметить, что две переплетенные змеи Ч это все та же египетска€ традици€, что нашла развитие в кадуцее, прин€том греками (а позднее и римл€нами) на вооружение. »мена этих змей Ч ”аджит и Ќехбет. Ёта тема также подробно ранее разбиралась.
Ќо отмотаем немного в прошлое и сравним как себе представл€ли √оргону греки в VI-V в. до н.э.

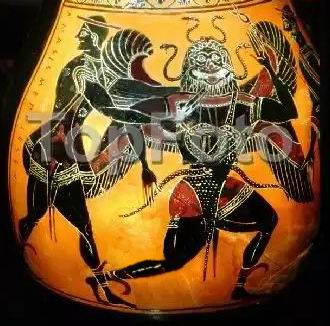
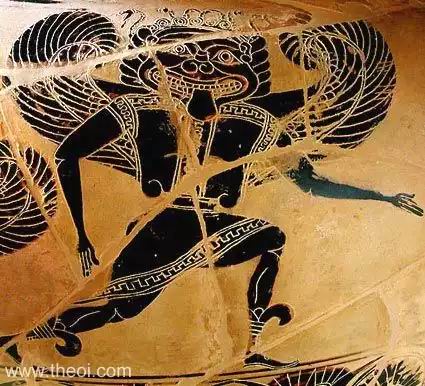

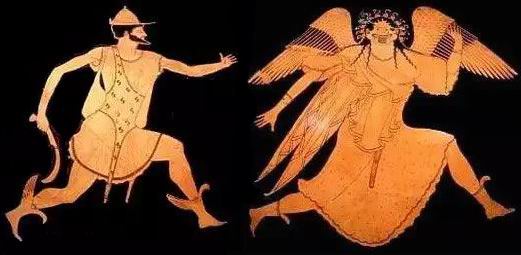
”множение змей в прическе ћедузы можно наблюдать на самых ранних дошедших до нас греческих артефактах (VI-V в. до н.э.). „то уж говорить о римской школе изобразительного искусства? ”же греки мало что понимали в сакральных символах восприн€тых ими в ≈гипте, и особенно с ними не церемонились. Ќичтоже сумн€шес€ они брали св€щенные дл€ египт€н темы храмовой живописи и развивали их в лубочном стиле, на ходу придумыва€ мифологические сюжетные линии.
—обственно, греков тоже можно пон€ть, они дл€ египт€н были чужаками и варварами. сенофоби€ в ≈гипте была делом обыденным. » поскольку египт€не не посв€щали греков в таинства своей св€щенной религии, тем просто ничего не оставалось как обходитьс€ своими силами, то бишь умом и сообразительностью, сдабрива€ их своей безграничной и неуемной фантазией.



“а же ћедуза √оргона, иконографически, Ч это список с египетского Ѕеса. ѕоэтому не удивительно, что, на ранних стади€х формировани€ образа ћедузы, у художников были проблемы с гендерной идентификацией персонажа, ибо немало артефактов, где √оргона изображена с роскошной бородой.
» Ѕес, и ћедуза несли охранительную функцию, их изображени€ использовались в качестве амулетов и оберегов. „то характерно, спутать половую принадлежность Ѕеса Ч практически нереально (лысина, борода). »ногда складываетс€ впечатление, что греки нарочно искажали египетские первоисточники, вырабатыва€ свою собственную культурную идентичность и самобытность.


1. Ёбус (Ἔβυσoς), »бери€. √емидрахма (AR 2.49g), III в. до н.э. Av: Ѕес держит в правой руке булаву, в левой Ч змею; на голове Ч корона из перьев. Rv: бык, идущий в лево.
2. илики€, ћала€ јзи€. ќбол (AR 8mm, 0.78g), 400-350 до н.э. Av: женска€ голова; Rv: голова Ѕеса с высунутым €зыком, на голове Ч модиус.


3. ѕопулони€, Ётрури€. ƒидрахма (AR 26mm, 11.48g), ок. IV в. до н.э. Av: бегуща€ крылата€ ћедуза √оргона со зме€ми в руках. Rv: обратна€ сторона щита.
4. ѕопулони€, Ётрури€. ƒидрахма (AR 28mm, 10.90g), ок. IV в. до н.э. Av: бегуща€ крылата€ ћедуза √оргона со зме€ми в руках. Rv: обратна€ сторона щита.
√лавным завоеванием греческой самобытности €вл€етс€ антропоморфизаци€ греческих богов. –едким исключением из Ђдожившихї до римского времени териоморфных персонажей €вл€етс€ јгатодемон, √ликон, в образе зме€, √ерманубис с головой собаки и та же ћедуза со звериным оскалом.
“ем более нагл€дной выгл€дит метаморфоза в облике ћедузы произошедша€ с ней в римскую эпоху. ѕереход€ к за€вленной теме, отмечаем очевидные особенности в обновленном образе ћедузы римской школы изобразительного искусства: мы больше не видим высунутого €зыка и клыков, зато на ее голове по€вл€етс€ нова€ деталь Ч крыль€.
онечно, можно предположить простой вариант по€влени€ крыльев на голове: изначально их изображали за головой (и за плечами), ведь ћедуза была крылата. “.е. просто обман зрени€. Ќо, дл€ полноты картины, попробуем поискать и другие варианты объ€снений.
„тобы ответить на вопрос: что делают крыль€ на голове у √оргоны? Ч имеет смысл задатьс€ другим (но смежным) вопросом: а нет ли еще мифологических персонажей, которые тоже нос€т на голове крыль€? » вот она удача Ч есть такой персонаж, его даже не нужно долго искать, это ѕерсей. “от самый ѕерсей, который и отсек ћедузе ее крылатую голову. ¬ернее тогда она (голова) еще не была крылатой. ¬ греческом сюжете она была клыкастой и страшно отвратительной, с вечно свисающим из пасти €зыком. –азмноженные св€щенные уреи (вокруг головы ћедузы) постепенно становились элементом ее прически. », наконец, количество перешло в качество, обесформившийс€ клубок уреев (превратившись в гриву шип€щих змей) заменил собой прическу √оргоны.
¬ Ђримскийї период трансформации образа √оргоны, нужно отметить радикальное см€гчение черт ее лица. —обственно, изменение иконографии ћедузы (в сторону Ђочеловечивани€ї) совпало с по€влением крыльев на ее голове. —лучайно ли это?
¬ греческой мифологии прослеживаетс€ тенденци€, когда герои или боги, расправившись с противником, снимают с него шкуру, и используют эту шкуру в качестве накидки. Ѕолее всего в этом преуспела јфина. ¬ теме Ёгида упоминаютс€ разные варианты ее (накидки) происхождени€. јполлон сдирает шкуру с сатира ћарси€, после того как тот дерзнул вступить с ним в соревнование в мусическом искусстве и, естественно, проиграл. Ўкура козлоногого сатира, которую јполлон носит вместо плаща, точно также по определению €вл€етс€ эгидой (αἰγίδος, дословно Ђкозь€ шкураї). ¬ чеканке монет часто использовалось изображение √еракла, голова которого покрыта шкурой Ќемейского льва. ёнона —оспита изображалась в козьей шкуре, причем капюшон на голове представл€л из себ€ выделанную козью голову с рогами. »стори€ умалчивает о том, чью шкуру носит ёнона —оспита. Ќо, поскольку шкура козь€, то ей также применимо название Ђэгидаї. ћежду ёноной —оспитой и јфиной вообще подозрительно много общего. ¬полне веро€тно, что ёнона Ч это отпочковавшийс€ дубликат јфины, ушедший в свободное плавание.


5. оммод (177-192). –им. јурей (AV 7.26g), 177г. Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM. Rv: ёнона —оспита в накидке из козлиной шкуры, со щитом и подн€тым копьЄм; ниже гений в образе зме€; IVNONI SISPITAE TR P II IMP II COS P P
6. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.56g), 521-478 до н.э. Av: голова √оргоны. Rv: голова √еракла в головном уборе из шкуры Ќемейского льва.
¬ продолжение этого р€да, ѕерсей также имел все основани€ водрузить себе на голову шкуру поверженного врага, т.е. ћедузы. ¬ таком случае, мы должны были бы наблюдать на голове геро€ отличительные особенности поверженного им противника Ч крыль€ и змеиные головы. Ќу так мы это и видим: абсолютно мужественное лицо геро€ с короткими волосами, под подбородком зашнурован узел удерживающий на голове трофей, в виде крылатой шкуры √оргоны с развевающимис€ головами змей.

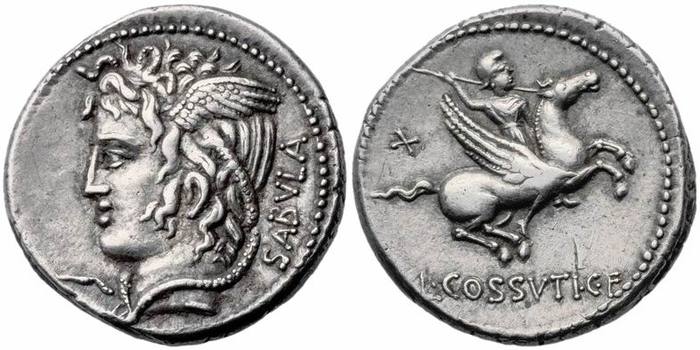
7. ассуций —абула (L. Cossutius C. f. Sabula). –имска€ республика. ƒенарий (AR 18mm, 4.05g), 72 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; SABVLA. Rv: Ѕеллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X
8. ассуций —абула (L. Cossutius C. f. Sabula). –имска€ республика. ƒенарий (AR 20mm, 4.01g), 72 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; SABVLA. Rv: Ѕеллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X


9. —елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). √осударство —елевкидов. Æ 19mm (7.38g), 285-281 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми. Rv: бык, приготовившийс€ к атаке; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY
10. ћитридат VI (120-111 до н.э.). јмис, ѕонт. Æ 18mm (4.18g). Av: бюст ѕерсе€, голову которого украшают крыль€. Rv: –ог изобили€ между шапками ƒиоскуров, украшенных звездами; AMIΣOY


11. –одос, ари€. ƒидрахма (AR 23mm, 4.70g), ок. 205-200 до н.э. ритский чекан, магистрат √оргос (√οργός). Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; справа надчекан Ч крылатый бюст Ќики. Rv: роза с бутоном; слева восьмиконечна€ звезда; ΓOPΓOΣ / PO
12. —ептимий —евер (193-211). –им. јурей (AV 20mm). Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PROVIDENTIA


13. —ептимий —евер (193-211). –им. ƒенарий (AR 3.52g), ок. 207/8г. Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PROVIDENTIA
14. аракалла (Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus, 198-217). –им. ƒенарий (AR 3.47g), ок. 211г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PONTIF TR P XI COS III
Ќадо полагать, попытки других художников повторить понравившийс€ образ наталкивались на сложности с пониманием: а что, собственно, они копируют? Ќаличие змей в прическе сбивало с толку. –аскрученный бренд со зме€ми вместо волос принадлежал ћедузе, поэтому, неверно пон€тый образ мужественного ѕерсе€, начал см€гчатьс€, приход€ к женскому соответствию.
с пониманием: а что, собственно, они копируют? Ќаличие змей в прическе сбивало с толку. –аскрученный бренд со зме€ми вместо волос принадлежал ћедузе, поэтому, неверно пон€тый образ мужественного ѕерсе€, начал см€гчатьс€, приход€ к женскому соответствию.
Ќа некоторых фресках ѕерсей изображен держащим в руке голову ћедузы, котора€ как две капли воды похожа на его собственную голову. „то называетс€, нарочно не придумаешь.
«десь нужно отметить, что образ крылатой головы √оргоны, до римл€н, все же существовал. ¬ V в. до н.э. в арии (ћала€ јзи€) чеканились монеты, на которых голову √оргоны окружают четыре крыла, расположенные в виде свастики.
акой смысл вкладывали карийцы в этот образ Ч не суть важно (по крайней мере, в контексте данной статьи), но наличие подобного стандарта могло также добавить свою долю путаницы и неразберихи в дело становлени€ нового образа √оргоны, или точнее горгонейона (т.е. ее отсеченной головы).
 _
_
15. ари€ (Καρία), ћала€ јзи€. ƒрахма (AR 15mm, 3.97g), V в. до н.э. Av: голова √оргоны в окружении четырех крыльев. Rv: четырехкрыла€ сирена в квадратном поле.
16. ари€, ћала€ јзи€. AR 10mm (1.34g), V в. до н.э. Av: голова √оргоны, окруженна€ четырьм€ крыль€ми в виде свастики. Rv: бегуща€ ћедуза √оргона в квадратном поле.
— другой стороны, следует обратить внимание, что на керамике VI в. до н.э. (как это видно на иллюстрации выше), в сцене противоборства ѕерсе€ и √оргоны, ѕерсей тоже уже изображалс€ с крыль€ми на голове, вернее на шлеме, но это немного друга€ истори€. роме ѕерсе€ крыль€ на шлеме носил еще один известный персонаж Ч √ермес, который, име€ крылатые сандалии, легко перемещалс€ по воздуху. √ермес подарил ѕерсею харпу (ἅρπη, кривой нож) и направил его к старухам √ра€м, у которых тот получил такие же крылатые сандалии (чтобы ему было легче противосто€ть крылатой ћедузе) и шапку-невидимку (чтобы скрытьс€ от сестер ћедузы, когда дело будет сделано). Ќе исключено, что были варианты мифа, где крылатые сандалии и крылатый шлем ѕерсею достались непосредственно от √ермеса. Ћибо художник позволил себе некоторую свободу творчества. ѕо крайней мере, дл€ шапки-невидимки крыль€ не €вл€ютс€ необходимым элементом. ј с учетом того, что другое название дл€ шапки-невидимки Ч Ђшапка јидаї,¹ то крыль€ дл€ нее и вовсе не в тему.
_______________________________
[1] Ἄϊδος κυνέην Ч шлем јида, т.е. шапка-невидимка Hom., Plat., Arph.
Ἅδης или Ἅιδης (-ου), эп. Ἀΐδης (-αο) или (-εω) (gen. тж. Ἄϊδος) и Ἀϊδωνεύς (-ῆος), дор. Ἀΐδας (-α) ὁ √адес, јид (сын роноса и –еи);
ἀϊδής (ἀ-ϊδής) Ч невидимый Hes.
κυνέη атт. κῠνῆ ἡ (sc. δορά)
1) шлем (кожаный, иногда металлический) Hom., Her.
2) мехова€ или кожана€ шапка Hom.


17. изик, ћизи€. √екта (EL 10mm, 2.65g), ок. 480-410 до н.э. Av: коленопреклоненный ѕерсей в крылатой кирбасии и накидке; в левой руке Ч голова √оргоны, в правой Ч харпа; ниже Ч тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
18. изик, ћизи€. —татер (EL 21mm, 16.16g), ок. 550-500 до н.э. Av: голова ѕерсе€ в шлеме с крыль€ми. Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.
¬ любом случае крыль€ на шлеме Ч символ стремительности (быстрокрылости). —овсем другое дело, когда крыль€ у ѕерсе€ (или, как в римское врем€, у ћедузы), как будто, вырастают пр€мо из головы. Ќалицо попытка художника механически копировать сюжет, плохо понима€ с чем он имеет дело. ¬прочем, художника вс€кий может обидеть. Ќа эту ситуацию можно посмотреть и с иной стороны, раз новый образ оказалс€ востребованным Ч значит, как гласит народна€ мудрость, нет худа без добра.

Ѕенвенуто „еллини (Benvenuto Cellini, 1500-1571), флорентийский ювелир, скульптор, художник, музыкант. ћедальер ‘риц Ќусс (Fritz Nuss), √ермани€. ћедаль Æ 121mm, 649.65g, 12h. 1972г.
Av: голова Ѕенвенуто „еллини; BENVENUTO CELLINI 1500-1571. Rv: ѕерсей, работы Ѕенвенуто „еллини, держит в левой руке отсеченную голову √оргоны, в правой руке Ч харпу.
_______________________________
√ќ–√ќЌ≈…ќЌ
ќ мифах, в которых повествуетс€ удивительна€ истори€ превращени€ прекрасных дев горгон в чудовищ с чешуйчатым телом и змеиной гривой вместо волос, € уже останавливалс€ в теме ћедуза √оргона, »штар и др. ѕоэтому, чтобы не повтор€тьс€, сразу перейду к теме необычной иконографии √оргоны с крыль€ми на голове. Ќепон€тно откуда пошла эта иконографи€. ≈ще менее пон€тно Ч что делают эти крыль€ на голове ћедузы, каково их предназначение.



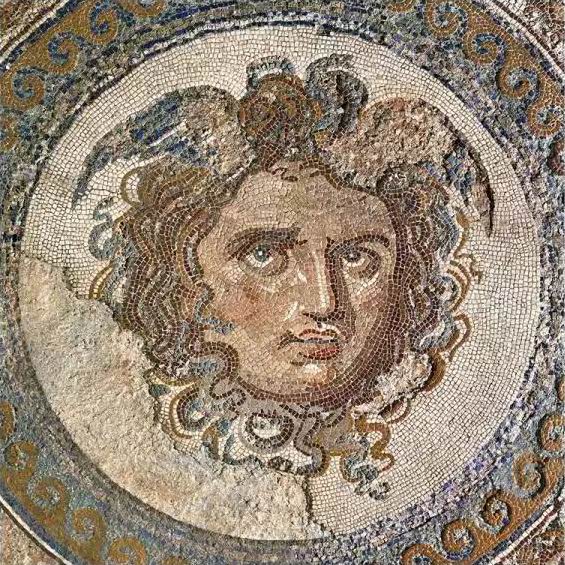


»ногда создаетс€ впечатление, что они держатс€ на шнурках, зав€занных на шее. ’от€ есть изображени€, на которых хорошо видно, что это не подв€зки, а змеиные хвосты; тела этих змей поднимаютс€, чтобы снова сплестись на макушке. ѕричем змей всего две, а прическа ћедузы представл€ет из себ€, скорее, стрижку не очень длинных волос. Ќужно отметить, что две переплетенные змеи Ч это все та же египетска€ традици€, что нашла развитие в кадуцее, прин€том греками (а позднее и римл€нами) на вооружение. »мена этих змей Ч ”аджит и Ќехбет. Ёта тема также подробно ранее разбиралась.
Ќо отмотаем немного в прошлое и сравним как себе представл€ли √оргону греки в VI-V в. до н.э.

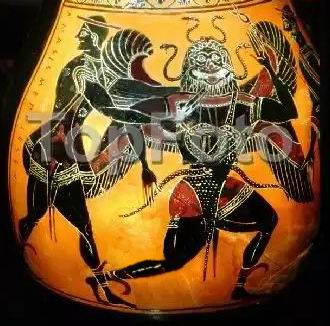
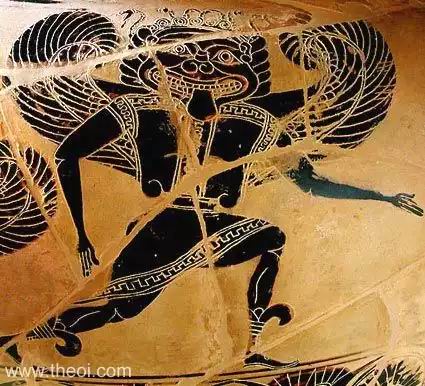

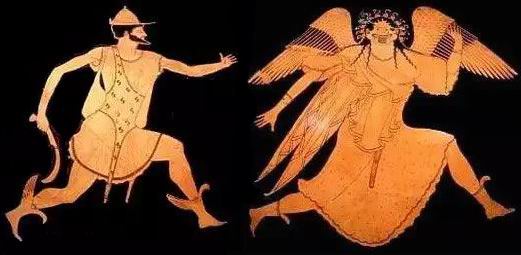
”множение змей в прическе ћедузы можно наблюдать на самых ранних дошедших до нас греческих артефактах (VI-V в. до н.э.). „то уж говорить о римской школе изобразительного искусства? ”же греки мало что понимали в сакральных символах восприн€тых ими в ≈гипте, и особенно с ними не церемонились. Ќичтоже сумн€шес€ они брали св€щенные дл€ египт€н темы храмовой живописи и развивали их в лубочном стиле, на ходу придумыва€ мифологические сюжетные линии.
—обственно, греков тоже можно пон€ть, они дл€ египт€н были чужаками и варварами. сенофоби€ в ≈гипте была делом обыденным. » поскольку египт€не не посв€щали греков в таинства своей св€щенной религии, тем просто ничего не оставалось как обходитьс€ своими силами, то бишь умом и сообразительностью, сдабрива€ их своей безграничной и неуемной фантазией.



“а же ћедуза √оргона, иконографически, Ч это список с египетского Ѕеса. ѕоэтому не удивительно, что, на ранних стади€х формировани€ образа ћедузы, у художников были проблемы с гендерной идентификацией персонажа, ибо немало артефактов, где √оргона изображена с роскошной бородой.
» Ѕес, и ћедуза несли охранительную функцию, их изображени€ использовались в качестве амулетов и оберегов. „то характерно, спутать половую принадлежность Ѕеса Ч практически нереально (лысина, борода). »ногда складываетс€ впечатление, что греки нарочно искажали египетские первоисточники, вырабатыва€ свою собственную культурную идентичность и самобытность.


1. Ёбус (Ἔβυσoς), »бери€. √емидрахма (AR 2.49g), III в. до н.э. Av: Ѕес держит в правой руке булаву, в левой Ч змею; на голове Ч корона из перьев. Rv: бык, идущий в лево.
2. илики€, ћала€ јзи€. ќбол (AR 8mm, 0.78g), 400-350 до н.э. Av: женска€ голова; Rv: голова Ѕеса с высунутым €зыком, на голове Ч модиус.


3. ѕопулони€, Ётрури€. ƒидрахма (AR 26mm, 11.48g), ок. IV в. до н.э. Av: бегуща€ крылата€ ћедуза √оргона со зме€ми в руках. Rv: обратна€ сторона щита.
4. ѕопулони€, Ётрури€. ƒидрахма (AR 28mm, 10.90g), ок. IV в. до н.э. Av: бегуща€ крылата€ ћедуза √оргона со зме€ми в руках. Rv: обратна€ сторона щита.
√лавным завоеванием греческой самобытности €вл€етс€ антропоморфизаци€ греческих богов. –едким исключением из Ђдожившихї до римского времени териоморфных персонажей €вл€етс€ јгатодемон, √ликон, в образе зме€, √ерманубис с головой собаки и та же ћедуза со звериным оскалом.
“ем более нагл€дной выгл€дит метаморфоза в облике ћедузы произошедша€ с ней в римскую эпоху. ѕереход€ к за€вленной теме, отмечаем очевидные особенности в обновленном образе ћедузы римской школы изобразительного искусства: мы больше не видим высунутого €зыка и клыков, зато на ее голове по€вл€етс€ нова€ деталь Ч крыль€.
онечно, можно предположить простой вариант по€влени€ крыльев на голове: изначально их изображали за головой (и за плечами), ведь ћедуза была крылата. “.е. просто обман зрени€. Ќо, дл€ полноты картины, попробуем поискать и другие варианты объ€снений.

„тобы ответить на вопрос: что делают крыль€ на голове у √оргоны? Ч имеет смысл задатьс€ другим (но смежным) вопросом: а нет ли еще мифологических персонажей, которые тоже нос€т на голове крыль€? » вот она удача Ч есть такой персонаж, его даже не нужно долго искать, это ѕерсей. “от самый ѕерсей, который и отсек ћедузе ее крылатую голову. ¬ернее тогда она (голова) еще не была крылатой. ¬ греческом сюжете она была клыкастой и страшно отвратительной, с вечно свисающим из пасти €зыком. –азмноженные св€щенные уреи (вокруг головы ћедузы) постепенно становились элементом ее прически. », наконец, количество перешло в качество, обесформившийс€ клубок уреев (превратившись в гриву шип€щих змей) заменил собой прическу √оргоны.
¬ Ђримскийї период трансформации образа √оргоны, нужно отметить радикальное см€гчение черт ее лица. —обственно, изменение иконографии ћедузы (в сторону Ђочеловечивани€ї) совпало с по€влением крыльев на ее голове. —лучайно ли это?
¬ греческой мифологии прослеживаетс€ тенденци€, когда герои или боги, расправившись с противником, снимают с него шкуру, и используют эту шкуру в качестве накидки. Ѕолее всего в этом преуспела јфина. ¬ теме Ёгида упоминаютс€ разные варианты ее (накидки) происхождени€. јполлон сдирает шкуру с сатира ћарси€, после того как тот дерзнул вступить с ним в соревнование в мусическом искусстве и, естественно, проиграл. Ўкура козлоногого сатира, которую јполлон носит вместо плаща, точно также по определению €вл€етс€ эгидой (αἰγίδος, дословно Ђкозь€ шкураї). ¬ чеканке монет часто использовалось изображение √еракла, голова которого покрыта шкурой Ќемейского льва. ёнона —оспита изображалась в козьей шкуре, причем капюшон на голове представл€л из себ€ выделанную козью голову с рогами. »стори€ умалчивает о том, чью шкуру носит ёнона —оспита. Ќо, поскольку шкура козь€, то ей также применимо название Ђэгидаї. ћежду ёноной —оспитой и јфиной вообще подозрительно много общего. ¬полне веро€тно, что ёнона Ч это отпочковавшийс€ дубликат јфины, ушедший в свободное плавание.


5. оммод (177-192). –им. јурей (AV 7.26g), 177г. Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM. Rv: ёнона —оспита в накидке из козлиной шкуры, со щитом и подн€тым копьЄм; ниже гений в образе зме€; IVNONI SISPITAE TR P II IMP II COS P P
6. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.56g), 521-478 до н.э. Av: голова √оргоны. Rv: голова √еракла в головном уборе из шкуры Ќемейского льва.
¬ продолжение этого р€да, ѕерсей также имел все основани€ водрузить себе на голову шкуру поверженного врага, т.е. ћедузы. ¬ таком случае, мы должны были бы наблюдать на голове геро€ отличительные особенности поверженного им противника Ч крыль€ и змеиные головы. Ќу так мы это и видим: абсолютно мужественное лицо геро€ с короткими волосами, под подбородком зашнурован узел удерживающий на голове трофей, в виде крылатой шкуры √оргоны с развевающимис€ головами змей.

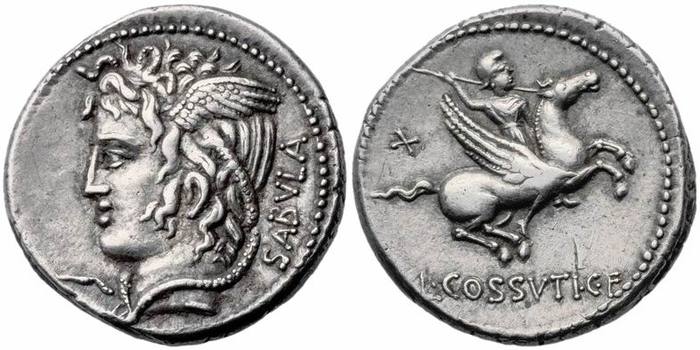
7. ассуций —абула (L. Cossutius C. f. Sabula). –имска€ республика. ƒенарий (AR 18mm, 4.05g), 72 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; SABVLA. Rv: Ѕеллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X
8. ассуций —абула (L. Cossutius C. f. Sabula). –имска€ республика. ƒенарий (AR 20mm, 4.01g), 72 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; SABVLA. Rv: Ѕеллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X


9. —елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). √осударство —елевкидов. Æ 19mm (7.38g), 285-281 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми. Rv: бык, приготовившийс€ к атаке; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY
10. ћитридат VI (120-111 до н.э.). јмис, ѕонт. Æ 18mm (4.18g). Av: бюст ѕерсе€, голову которого украшают крыль€. Rv: –ог изобили€ между шапками ƒиоскуров, украшенных звездами; AMIΣOY


11. –одос, ари€. ƒидрахма (AR 23mm, 4.70g), ок. 205-200 до н.э. ритский чекан, магистрат √оргос (√οργός). Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; справа надчекан Ч крылатый бюст Ќики. Rv: роза с бутоном; слева восьмиконечна€ звезда; ΓOPΓOΣ / PO
12. —ептимий —евер (193-211). –им. јурей (AV 20mm). Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PROVIDENTIA


13. —ептимий —евер (193-211). –им. ƒенарий (AR 3.52g), ок. 207/8г. Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PROVIDENTIA
14. аракалла (Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus, 198-217). –им. ƒенарий (AR 3.47g), ок. 211г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PONTIF TR P XI COS III
Ќадо полагать, попытки других художников повторить понравившийс€ образ наталкивались на сложности
 с пониманием: а что, собственно, они копируют? Ќаличие змей в прическе сбивало с толку. –аскрученный бренд со зме€ми вместо волос принадлежал ћедузе, поэтому, неверно пон€тый образ мужественного ѕерсе€, начал см€гчатьс€, приход€ к женскому соответствию.
с пониманием: а что, собственно, они копируют? Ќаличие змей в прическе сбивало с толку. –аскрученный бренд со зме€ми вместо волос принадлежал ћедузе, поэтому, неверно пон€тый образ мужественного ѕерсе€, начал см€гчатьс€, приход€ к женскому соответствию. Ќа некоторых фресках ѕерсей изображен держащим в руке голову ћедузы, котора€ как две капли воды похожа на его собственную голову. „то называетс€, нарочно не придумаешь.
«десь нужно отметить, что образ крылатой головы √оргоны, до римл€н, все же существовал. ¬ V в. до н.э. в арии (ћала€ јзи€) чеканились монеты, на которых голову √оргоны окружают четыре крыла, расположенные в виде свастики.
акой смысл вкладывали карийцы в этот образ Ч не суть важно (по крайней мере, в контексте данной статьи), но наличие подобного стандарта могло также добавить свою долю путаницы и неразберихи в дело становлени€ нового образа √оргоны, или точнее горгонейона (т.е. ее отсеченной головы).
 _
_
15. ари€ (Καρία), ћала€ јзи€. ƒрахма (AR 15mm, 3.97g), V в. до н.э. Av: голова √оргоны в окружении четырех крыльев. Rv: четырехкрыла€ сирена в квадратном поле.
16. ари€, ћала€ јзи€. AR 10mm (1.34g), V в. до н.э. Av: голова √оргоны, окруженна€ четырьм€ крыль€ми в виде свастики. Rv: бегуща€ ћедуза √оргона в квадратном поле.
— другой стороны, следует обратить внимание, что на керамике VI в. до н.э. (как это видно на иллюстрации выше), в сцене противоборства ѕерсе€ и √оргоны, ѕерсей тоже уже изображалс€ с крыль€ми на голове, вернее на шлеме, но это немного друга€ истори€. роме ѕерсе€ крыль€ на шлеме носил еще один известный персонаж Ч √ермес, который, име€ крылатые сандалии, легко перемещалс€ по воздуху. √ермес подарил ѕерсею харпу (ἅρπη, кривой нож) и направил его к старухам √ра€м, у которых тот получил такие же крылатые сандалии (чтобы ему было легче противосто€ть крылатой ћедузе) и шапку-невидимку (чтобы скрытьс€ от сестер ћедузы, когда дело будет сделано). Ќе исключено, что были варианты мифа, где крылатые сандалии и крылатый шлем ѕерсею достались непосредственно от √ермеса. Ћибо художник позволил себе некоторую свободу творчества. ѕо крайней мере, дл€ шапки-невидимки крыль€ не €вл€ютс€ необходимым элементом. ј с учетом того, что другое название дл€ шапки-невидимки Ч Ђшапка јидаї,¹ то крыль€ дл€ нее и вовсе не в тему.
_______________________________
[1] Ἄϊδος κυνέην Ч шлем јида, т.е. шапка-невидимка Hom., Plat., Arph.
Ἅδης или Ἅιδης (-ου), эп. Ἀΐδης (-αο) или (-εω) (gen. тж. Ἄϊδος) и Ἀϊδωνεύς (-ῆος), дор. Ἀΐδας (-α) ὁ √адес, јид (сын роноса и –еи);
ἀϊδής (ἀ-ϊδής) Ч невидимый Hes.
κυνέη атт. κῠνῆ ἡ (sc. δορά)
1) шлем (кожаный, иногда металлический) Hom., Her.
2) мехова€ или кожана€ шапка Hom.


17. изик, ћизи€. √екта (EL 10mm, 2.65g), ок. 480-410 до н.э. Av: коленопреклоненный ѕерсей в крылатой кирбасии и накидке; в левой руке Ч голова √оргоны, в правой Ч харпа; ниже Ч тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
18. изик, ћизи€. —татер (EL 21mm, 16.16g), ок. 550-500 до н.э. Av: голова ѕерсе€ в шлеме с крыль€ми. Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.
¬ любом случае крыль€ на шлеме Ч символ стремительности (быстрокрылости). —овсем другое дело, когда крыль€ у ѕерсе€ (или, как в римское врем€, у ћедузы), как будто, вырастают пр€мо из головы. Ќалицо попытка художника механически копировать сюжет, плохо понима€ с чем он имеет дело. ¬прочем, художника вс€кий может обидеть. Ќа эту ситуацию можно посмотреть и с иной стороны, раз новый образ оказалс€ востребованным Ч значит, как гласит народна€ мудрость, нет худа без добра.

Av: голова Ѕенвенуто „еллини; BENVENUTO CELLINI 1500-1571. Rv: ѕерсей, работы Ѕенвенуто „еллини, держит в левой руке отсеченную голову √оргоны, в правой руке Ч харпу.
_______________________________
|
ћетки: √оргона ѕерсей Ѕес √реци€ Ќумизматика |
ƒ≈ћ≈“–ј √Ќ≈¬Ќјя |
ƒневник |
ѕавсаний
ќѕ»—јЌ»≈ ЁЋЋјƒџ. ј– јƒ»я
XXV.3. «а ‘ельпусой река Ћадон течет вниз к св€тилищу ƒеметры в ќнкее; фельпусийцы называют эту богиню Ёринией (ћст€щей); с ними согласен и јнтимах, написавший поэму о походе аргосцев против ‘ив; в этой поэме он говорит:
ј ќнкий, по сказани€м, €вл€етс€ сыном јполлона и в ‘ельпусской земле царствовал в местечке ќнкейон.
__________________________
[1] Δήμητρος τόθι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεθλον. Ч Ђ“от, что ƒеметры [храм], говор€т, €вл€етс€ храмом (ἔδεθλον) Ёринииї.
4. Ќаименование же богине ЂЁрини€ї дано по следующему случаю: когда богин€ блуждала по земле, отыскива€ свою дочь, ѕосейдон преследовал ее, жела€ с ней сочетатьс€; тогда ƒеметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами ќнки€; но ѕосейдон догадалс€ о ее обмане, сам уподобилс€ жеребцу и в таком виде сочеталс€ с ƒеметрой. —начала ƒеметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говор€т, омытьс€ в водах Ћадона. ќтсюда и пошли наименовани€, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Ёринией, потому что аркад€не на своем наречии вместо Ђбыть гневнойї говор€т Ђбыть Ёриниейї (ἐρινύειν), а по тому случаю, что она омылась (λοέσσασθαι), в Ћадоне ее называют Ћюсией (Λουσία, Ђќмывша€с€ї).² —татуи, сто€щие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. ” статуи [ƒеметры] Ёринии в левой руке знаменита€, как ее называют, циста (греч. κίστη, лат. cista Ч св€щенный ларец), а в правой Ч факел; величина статуи на-глаз футов дев€ть; а стату€ [ƒеметры] Ћюсии приблизительно в футов шесть.³ “е, которые считают, что это стату€ ‘емиды, а не ƒеметры Ћюсии, занимаютс€ праздными фантази€ми.
__________________________
[2] Ќельз€ также не обратить внимание на схожесть слова Λουσία (Ђќмывша€с€ї) с двум€ другими, созвучными и схожими в написании:
[3] ποδός ὁ фут (мера длины = 308.3mm) Her., Plat.


1. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 11mm, 2.55g), ок. 377-326 до н.э. Av: голова ƒеметры в венке из колосьев, покрыта€ пеплосом. Rv: треножник.
2. Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 8.41g), ок. 360 до н.э. Av: голова ƒеметры в накидке, с венком из цветов лотоса. Rv: протома ѕегаса.
5. ѕо преданию аркад€н, ƒеметра родила от ѕосейдона дочь, им€ которой они не считают себ€ вправе делать известным среди непосв€щенных, и кон€ јрейона (Ἀρείων). ѕоэтому у них у первых из аркад€н ѕосейдона стали именовать онным (√иппием, Ἱππεῦ или Ἵππειος). ¬ доказательство справедливости своего рассказа они привод€т стихи из »лиады и ‘иваиды. ¬ »лиаде (XXIII, 346) об этом самом јрейоне написано:
¬ ‘иваиде же говоритс€, что јдраст, когда бежал из-под ‘ив
Ќа основании этих стихов они отстаивают мнение, что ѕосейдон [“емнокудрый]⁴ был отцом јрейона. јнтимах же говорит, что он был сыном «емли:
[4] κυανοχαίτης (κῡᾰνο-χαίτης), -ου adj. m темнокудрый (Ποσειδάων Hom.; Ἀΐδης HH.).
Ќо и вышедший из земли конь может быть божественного происхождени€ и иметь цвет волос, подобный вороненой стали. –ассказывают еще вот что: когда √еракл воевал с элейцами, он выпросил [на врем€] у ќнка кон€ и одержал победу, выехав на битву на јрейоне, а потом он отдал этого кон€ јдрасту. ѕо этому поводу јнтимах говорит об јрейоне в своей поэме:


3. ‘ельпуса (Θέλπουσα), јркади€. ƒихалк (Æ 5.76g), 370-350 до н.э. Av: голова ƒеметры Ёринии; Rv: конь јрейон; ΕΡΙΩΝ / Θ (Θέλπουσα).
4. ‘ельпуса (Θέλπουσα), јркади€. ќбол (AR 11mm, 0.84g), ок. 370-350 до н.э. Av: голова ƒеметры Ёринии с распущенными волосами; Θ (Θέλπουσα). Rv: конь јрейон; ΕΡΙΩΝ.⁵
__________________________
[5] ¬озможно легенда EPIΩN на монетах чеканившихс€ в ‘ельпусе имеет отношение к слову ἐριούνιος, весьма созвучному с именем кон€ (Ἀρείονος). ¬о врем€ неудачного похода на ‘ивы, јдраст (хоз€ин јрейона) Ч единственный из героев, кто спасс€, благодар€ быстрому бегу кон€.
XLII.1. ƒруга€ гора, ћаслична€ (Ἐλαία), находитс€ от ‘игалии приблизительно в 30 стади€х рассто€ни€; на ней есть св€щенна€ пещера так называемой „ерной (Μέλαινα) ƒеметры.⁶
2. ¬сему тому, что рассказывают жители ‘ельпусы относительно сочетани€ ѕосейдона и ƒеметры, этому вер€т и признают и фигалейцы; только они говор€т, что ƒеметра от этого брака родила не кон€, а ту, которую аркад€не называют ¬ладычицей (ƒеспойной).⁷ √овор€т, что после этого ƒеметра в гневе на ѕосейдона и одновременно в печали о похищении ѕерсефоны надела черные одежды и, уйд€ в эту пещеру, на долгое врем€ скрылась в ней. огда вследствие этого погибло все, что производит земл€, а также погибла от голода больша€ часть человеческого рода и в то же врем€ никто из богов не знал, где скрылась ƒеметра, в это врем€ ѕан отправилс€ в јркадию и, охот€сь в разных местах по горам, пришел и на ћасличную гору и, [загл€нув в пещеру], увидал ƒеметру и то, в каком она состо€нии и в каких она одеждах. “аким образом, «евс узнал об этом от ѕана и послал к ƒеметре богинь —удьбы (ћойр). ƒеметра послушалась ћойр, сложила свой гнев и перестала печалитьс€.
__________________________
[6] μέλας (μέλαινα, μέλᾰν, gen. μέλᾰνος, μελαίνης, μέλᾰνος )
1) черный, темный, темно-красный; ex. (οἶνος Hom.)
2) окутывающий тьмой; ex. (ἄχεος νεφέλη, θάνατος Hom.)
3) мрачный, жестокий; ex. (Ἄρης, Ἐρινύς Aesch.; φόνος Pind.)
4) зловещий, несчастный; ex. (ὄναρ Aesch.; ἡμέραι Plut.)
5) глухой, тусклый;
6) загадочный, темный;
[7] δέσποινα ἡ
1) госпожа, хоз€йка;
2) владычица, повелительница; ex. (δ. Ἑκάτη Aesch.; δ. Ἄρτεμις Soph.; δ. Ἀθηναίη Arph.)
3) повелительница, царица; ex. (Κόλχων Pind.).
¬ другом месте ѕавсаний развивает тему ¬ладычицы (Δέσποινα), дочери ƒеметры:
’от€ (кроме общеприн€той) можно рассмотреть и другие варианты этимологии имени ƒео (ƒеметры). „астица δή- имеет усилительный подчеркивающий характер. роме того, если обратитьс€ к микенскому написанию имени ƒеметры (te-i-ja ma-te-re), то оно откровенно напоминает греческое θεά μήτηρ Ч богин€ мать.
≈ще одно интересное созвучие (с именем ƒео) св€зано с уединением ƒеметры в пещере, которое можно рассматривать как самозаточение.
¬ообще истори€ с облачившейс€ в траур ƒеметрой, удалившейс€ в пещеру, выгл€дит откровенным дубликатом Ёлевсинской мистерии. “ак же как в Ёлевсинской мифологеме, где ƒеметра, в поисках оры, облачившись в траур, уедин€етс€ в своем храме, от чего происходит умирание природы (т.е. наступает зима), так и у фигалейцев ƒеметра, богин€ плодороди€, почерневша€ от гор€ и €рости, укрываетс€ в пещере, в результате чего Ђгибнет все, что производит земл€ї.
стати, возвраща€сь к созвучи€м эпитету ƒеметры Ћюсии (Λουσία, Ђќмывша€с€ї), можно рассмотреть и вариант об освобождении ƒеметры из добровольного заточени€ в пещере.
3. ‘игалейцы говор€т, что по этому случаю они решили считать пещеру св€щенной пещерой ƒеметры и в ней поставили дерев€нную статую богини. Ёта стату€, по их рассказам, была сделана следующим образом. Ѕогин€ сидит на скале, во всем подобна€ женщине, кроме головы: голова и волосы на ней Ч лошадиные; к голове у нее приделаны изображени€ драконов (δράκων, зме€) и других диких животных. Ќа ней надет хитон, спускающийс€ до самых п€т; в одной руке у нее дельфин, в другой Ч горлица. — какой целью они поставили ей такую статую, это €сно дл€ человека, не лишенного сообразительности и привыкшего разбиратьс€ в чудесных сказани€х. ј „ерной они, говор€т, назвали ее потому, что богин€ носила черные одежды. ѕроизведением чьих рук была эта дерев€нна€ стату€ или при каких обсто€тельствах была она уничтожена пожаром, этого они не помн€т.
4. огда древнее изображение погибло, то фигалейцы не поставили богине другой статуи и даже перестали выполн€ть многие обр€ды, св€занные с ее праздниками и жертвоприношени€ми; за это бесплодие поразило их страну. огда они обратились с мольбой о помощи, то ѕифи€ изрекла им следующее:
огда фигалейцы услыхали принесенное им из ƒельф вещание, то, помимо того, что все прежние празднества и жертвы в честь ƒеметры они стали совершать еще с большим усердием, они, кроме того, убедили ќната, сына ћикона, родом из Ёгины, за какую угодно цену сделать им новую статую ƒеметры.
__________________________
[8] ƒэо конеродной пещера Ч ἱππολεχοῦς Δῃοῦς κρυπτήριον ἄντρον
ἱππολεχής (ἱππο-λεχής) Ч (για τη Δηώ) αυτή που γέννησε ίππο Ч родивша€ кон€.
Х ѕеревод слова ἱππολεχής, как Ђконеродна€ї, €вл€етс€ идиоматическим; дословный перевод: Ђвступивша€ в любовную св€зь в образе кобылыї.
λέχος (-εος) τό {λέγω I} тж. pl.
1) ложе, кровать, постель Hom., Aesch., Soph.
2) погребальное ложе, катафалк Hom.
3) брачное ложе (τὰ νυμφικὰ λέχη Soph. Ч супружеский покой);
4) брачный союз, брак (γῆμαι μείζω λέχη Eur. Ч соединитьс€ славным браком);
5) любовна€ св€зь (κρύφιον λ. Soph.)
6) pl. супруг(а) (σὰ λέχεα Eur. Ч тво€ супруга).
[9] οἱ νομάδες Ч номады, кочевники Her.
νομάς (-άδος) ὁ скотовод, пастух, кочевник.
_______________________________
ќѕ»—јЌ»≈ ЁЋЋјƒџ. ј– јƒ»я
XXV.3. «а ‘ельпусой река Ћадон течет вниз к св€тилищу ƒеметры в ќнкее; фельпусийцы называют эту богиню Ёринией (ћст€щей); с ними согласен и јнтимах, написавший поэму о походе аргосцев против ‘ив; в этой поэме он говорит:
Ђ’рам ƒеметры стоит, говор€т, Ёринии там же.ї¹
ј ќнкий, по сказани€м, €вл€етс€ сыном јполлона и в ‘ельпусской земле царствовал в местечке ќнкейон.
__________________________
[1] Δήμητρος τόθι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεθλον. Ч Ђ“от, что ƒеметры [храм], говор€т, €вл€етс€ храмом (ἔδεθλον) Ёринииї.
4. Ќаименование же богине ЂЁрини€ї дано по следующему случаю: когда богин€ блуждала по земле, отыскива€ свою дочь, ѕосейдон преследовал ее, жела€ с ней сочетатьс€; тогда ƒеметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами ќнки€; но ѕосейдон догадалс€ о ее обмане, сам уподобилс€ жеребцу и в таком виде сочеталс€ с ƒеметрой. —начала ƒеметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говор€т, омытьс€ в водах Ћадона. ќтсюда и пошли наименовани€, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Ёринией, потому что аркад€не на своем наречии вместо Ђбыть гневнойї говор€т Ђбыть Ёриниейї (ἐρινύειν), а по тому случаю, что она омылась (λοέσσασθαι), в Ћадоне ее называют Ћюсией (Λουσία, Ђќмывша€с€ї).² —татуи, сто€щие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. ” статуи [ƒеметры] Ёринии в левой руке знаменита€, как ее называют, циста (греч. κίστη, лат. cista Ч св€щенный ларец), а в правой Ч факел; величина статуи на-глаз футов дев€ть; а стату€ [ƒеметры] Ћюсии приблизительно в футов шесть.³ “е, которые считают, что это стату€ ‘емиды, а не ƒеметры Ћюсии, занимаютс€ праздными фантази€ми.
__________________________
[2] Ќельз€ также не обратить внимание на схожесть слова Λουσία (Ђќмывша€с€ї) с двум€ другими, созвучными и схожими в написании:
λύσιος освобождающий (от прокл€ти€), прощающий; ex. (θεοί Plat.)Ёпитет Ђпрощающийї Ч €вл€етс€ дежурным дл€ многих богов (нар€ду с другим распространенным эпитетом Ч Σωτήρ, Ђспасающийї). —лово же λυσσάς фактически повтор€ет эпитет ƒеметры в ќнкее Ч Ёрини€ (Ἐρινύα, Ђгневна€ї).
λυσσάς (-άδος) adj. f беснующа€с€, неистова€, €ростна€; ex. λυσσάδι μοίρᾳ Ч в припадке бешенства Eur.
[3] ποδός ὁ фут (мера длины = 308.3mm) Her., Plat.


1. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 11mm, 2.55g), ок. 377-326 до н.э. Av: голова ƒеметры в венке из колосьев, покрыта€ пеплосом. Rv: треножник.
2. Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 8.41g), ок. 360 до н.э. Av: голова ƒеметры в накидке, с венком из цветов лотоса. Rv: протома ѕегаса.
5. ѕо преданию аркад€н, ƒеметра родила от ѕосейдона дочь, им€ которой они не считают себ€ вправе делать известным среди непосв€щенных, и кон€ јрейона (Ἀρείων). ѕоэтому у них у первых из аркад€н ѕосейдона стали именовать онным (√иппием, Ἱππεῦ или Ἵππειος). ¬ доказательство справедливости своего рассказа они привод€т стихи из »лиады и ‘иваиды. ¬ »лиаде (XXIII, 346) об этом самом јрейоне написано:
Ђƒаже хоть следом бы он на ужасном летел јрейоне,
Ѕурном јдраста коне, порождении крови бессмертной.ї
¬ ‘иваиде же говоритс€, что јдраст, когда бежал из-под ‘ив
Ђ¬ гр€зных одеждах и рваных стремительно гнал јрейона,
ћасти, как сталь воронена€, был этот конь темнокудрый.ї
Ќа основании этих стихов они отстаивают мнение, что ѕосейдон [“емнокудрый]⁴ был отцом јрейона. јнтимах же говорит, что он был сыном «емли:
Ђѕервый из всех данаев јдраст, сын “ала€, рефе€__________________________
—лавный потомок, погнал здесь пару коней своих дивных,
Ѕыстрого ера и фельпусийского јрейона:
ќколо рощи его родила јполлона в ќнкее
ћатерь-«емл€, чтоб дивились, как чуду, смертные люди.ї
[4] κυανοχαίτης (κῡᾰνο-χαίτης), -ου adj. m темнокудрый (Ποσειδάων Hom.; Ἀΐδης HH.).
Ќо и вышедший из земли конь может быть божественного происхождени€ и иметь цвет волос, подобный вороненой стали. –ассказывают еще вот что: когда √еракл воевал с элейцами, он выпросил [на врем€] у ќнка кон€ и одержал победу, выехав на битву на јрейоне, а потом он отдал этого кон€ јдрасту. ѕо этому поводу јнтимах говорит об јрейоне в своей поэме:
Ђ“ретьему он подчинилс€ затем владыке Ч јдрасту.ї


3. ‘ельпуса (Θέλπουσα), јркади€. ƒихалк (Æ 5.76g), 370-350 до н.э. Av: голова ƒеметры Ёринии; Rv: конь јрейон; ΕΡΙΩΝ / Θ (Θέλπουσα).
4. ‘ельпуса (Θέλπουσα), јркади€. ќбол (AR 11mm, 0.84g), ок. 370-350 до н.э. Av: голова ƒеметры Ёринии с распущенными волосами; Θ (Θέλπουσα). Rv: конь јрейон; ΕΡΙΩΝ.⁵
__________________________
[5] ¬озможно легенда EPIΩN на монетах чеканившихс€ в ‘ельпусе имеет отношение к слову ἐριούνιος, весьма созвучному с именем кон€ (Ἀρείονος). ¬о врем€ неудачного похода на ‘ивы, јдраст (хоз€ин јрейона) Ч единственный из героев, кто спасс€, благодар€ быстрому бегу кон€.
ἐριούνιος (ἐρι-ούνιος) ὁ спешащий на помощь, оказывающий помощь, благодетельствующий;
ἐριούνης (ἐρι-ούνης) ὁ Hom. = ἐριούνιος
XLII.1. ƒруга€ гора, ћаслична€ (Ἐλαία), находитс€ от ‘игалии приблизительно в 30 стади€х рассто€ни€; на ней есть св€щенна€ пещера так называемой „ерной (Μέλαινα) ƒеметры.⁶
2. ¬сему тому, что рассказывают жители ‘ельпусы относительно сочетани€ ѕосейдона и ƒеметры, этому вер€т и признают и фигалейцы; только они говор€т, что ƒеметра от этого брака родила не кон€, а ту, которую аркад€не называют ¬ладычицей (ƒеспойной).⁷ √овор€т, что после этого ƒеметра в гневе на ѕосейдона и одновременно в печали о похищении ѕерсефоны надела черные одежды и, уйд€ в эту пещеру, на долгое врем€ скрылась в ней. огда вследствие этого погибло все, что производит земл€, а также погибла от голода больша€ часть человеческого рода и в то же врем€ никто из богов не знал, где скрылась ƒеметра, в это врем€ ѕан отправилс€ в јркадию и, охот€сь в разных местах по горам, пришел и на ћасличную гору и, [загл€нув в пещеру], увидал ƒеметру и то, в каком она состо€нии и в каких она одеждах. “аким образом, «евс узнал об этом от ѕана и послал к ƒеметре богинь —удьбы (ћойр). ƒеметра послушалась ћойр, сложила свой гнев и перестала печалитьс€.
__________________________
[6] μέλας (μέλαινα, μέλᾰν, gen. μέλᾰνος, μελαίνης, μέλᾰνος )
1) черный, темный, темно-красный; ex. (οἶνος Hom.)
2) окутывающий тьмой; ex. (ἄχεος νεφέλη, θάνατος Hom.)
3) мрачный, жестокий; ex. (Ἄρης, Ἐρινύς Aesch.; φόνος Pind.)
4) зловещий, несчастный; ex. (ὄναρ Aesch.; ἡμέραι Plut.)
5) глухой, тусклый;
6) загадочный, темный;
[7] δέσποινα ἡ
1) госпожа, хоз€йка;
2) владычица, повелительница; ex. (δ. Ἑκάτη Aesch.; δ. Ἄρτεμις Soph.; δ. Ἀθηναίη Arph.)
3) повелительница, царица; ex. (Κόλχων Pind.).
¬ другом месте ѕавсаний развивает тему ¬ладычицы (Δέσποινα), дочери ƒеметры:
Ђ¬ладычицу аркад€не почитают больше всех других богов и говор€т, что она дочь ѕосейдона и ƒеметры. ≈е общераспространенное им€ Ч просто ¬ладычица, все равно как дочь «евса именуют орой (Κόρη), тогда как ее насто€щее им€ Ч ѕерсефона, как ее в своих поэмах называют √омер, а раньше него Ч ѕамф. »м€ же ¬ладычицы € не решилс€ назвать дл€ непосв€щенных.їѕолучаетс€, что не только в аркадской традиции им€ дочери ƒеметры (от ѕосейдона) было запретным дл€ непосв€щенных, но и в той же элевсинской традиции им€ (дочери ƒеметры) ора (Κόρη) Ч €вл€етс€ не столько именем, сколько именованием (ἐπίκλησις) Ч Ђдочьї (κόρη). ƒа и само им€ ƒеметры именем €вл€етс€ весьма условно, это тоже эпиклеса: Ђћать обретша€ [дочь]ї (Δη-μήτηρ = Δηώ μήτηρ).
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јркади€, XXXVII:6)
_______________________
Κόρη ион. Κούρη, дор. Κόρα ἡ ора, ƒочь (ƒеметры), т.е. ѕерсефона;
κόρη эп.-ион. κούρη, тж. κόρα и κούρα, дор. κώρα ἡ
1) девушка, дева; ex. ἐνάλιοι κόραι Arph. Ч морские девы, т.е. нимфы; ἁ πτερόεσσα κόρα Soph. Ч крылата€ дева, т.е. —финкс;
2) невеста;
3) молода€ женщина, жена; ex. (προσεῖπεν Ὀρέστας Λάκαιναν κόραν, sc. Ἑλένην Eur.)
4) дочь; ex. κ. Διός Hom. = Ἀθήνη; Λητῴα κ. Soph. = Ἄρτεμις.
Δηώ (-οῦς) ἡ ƒео, т.е. ƒеметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
ex. Ἐλευσινίας Δηοῦς ἐν κόλποις Soph. Ч в долинах ƒео Ёлевсинской.
δήω (только praes. = fut.)
1) найти, встретить; ex. (τινά и τι Hom., Anth.)
2) дождатьс€; ex. (τέκμωρ Ἰλίου Hom.).
’от€ (кроме общеприн€той) можно рассмотреть и другие варианты этимологии имени ƒео (ƒеметры). „астица δή- имеет усилительный подчеркивающий характер. роме того, если обратитьс€ к микенскому написанию имени ƒеметры (te-i-ja ma-te-re), то оно откровенно напоминает греческое θεά μήτηρ Ч богин€ мать.
≈ще одно интересное созвучие (с именем ƒео) св€зано с уединением ƒеметры в пещере, которое можно рассматривать как самозаточение.
δέω
1) св€зывать (χεῖρας ἱμᾶσιν, τινα χεῖρας τε πόδας τε Hom.);
2) прив€зывать (ὑπὸ ποσσὴ δήσασθαι πέδιλα Hom.);
3) заключать в оковы, заковывать (ἐν δημοσίῳ δεσμῷ δεθείς Plat. Ч заключенный в государственную тюрьму);
4) перен. сковывать (δ. τινα κελεύθου Hom. Ч закрыть кому-л. путь).
¬ообще истори€ с облачившейс€ в траур ƒеметрой, удалившейс€ в пещеру, выгл€дит откровенным дубликатом Ёлевсинской мистерии. “ак же как в Ёлевсинской мифологеме, где ƒеметра, в поисках оры, облачившись в траур, уедин€етс€ в своем храме, от чего происходит умирание природы (т.е. наступает зима), так и у фигалейцев ƒеметра, богин€ плодороди€, почерневша€ от гор€ и €рости, укрываетс€ в пещере, в результате чего Ђгибнет все, что производит земл€ї.
Ђ»бо великое дело душою она замышл€ет,
—лабое плем€ людей земнородных вконец уничтожить,
—крывши в земле семена, и лишить олимпийцев бессмертных
ѕочестей. √невом ужасным богин€ полна. Ќе желает
«натьс€ с богами. —идит вдалеке средь душистого храма,
√ород скалистый избрав Ёлевсин дл€ себ€ пребываньем.ї
(√омеровы гимны. ƒеметре. 351)
стати, возвраща€сь к созвучи€м эпитету ƒеметры Ћюсии (Λουσία, Ђќмывша€с€ї), можно рассмотреть и вариант об освобождении ƒеметры из добровольного заточени€ в пещере.
λύσις (-εως, эп.-ион. -ιος) ἡ
1) разв€зывание, освобождение; ex. λ. τινός Plat. Ч освобождение чего-л., реже от чего-л.
2) освобождение, избавление;
3) расторжение брака, развод;
4) искупление, спасение;
5) освобождение из неволи
3. ‘игалейцы говор€т, что по этому случаю они решили считать пещеру св€щенной пещерой ƒеметры и в ней поставили дерев€нную статую богини. Ёта стату€, по их рассказам, была сделана следующим образом. Ѕогин€ сидит на скале, во всем подобна€ женщине, кроме головы: голова и волосы на ней Ч лошадиные; к голове у нее приделаны изображени€ драконов (δράκων, зме€) и других диких животных. Ќа ней надет хитон, спускающийс€ до самых п€т; в одной руке у нее дельфин, в другой Ч горлица. — какой целью они поставили ей такую статую, это €сно дл€ человека, не лишенного сообразительности и привыкшего разбиратьс€ в чудесных сказани€х. ј „ерной они, говор€т, назвали ее потому, что богин€ носила черные одежды. ѕроизведением чьих рук была эта дерев€нна€ стату€ или при каких обсто€тельствах была она уничтожена пожаром, этого они не помн€т.
4. огда древнее изображение погибло, то фигалейцы не поставили богине другой статуи и даже перестали выполн€ть многие обр€ды, св€занные с ее праздниками и жертвоприношени€ми; за это бесплодие поразило их страну. огда они обратились с мольбой о помощи, то ѕифи€ изрекла им следующее:
Ђ¬немли јркадии плем€ јзан, желуд€ми живущей,
ƒревний народ ‘игалеи, кругом поселившийс€ густо
“ам, где св€щенный тайник, ƒэо конеродной пещера!⁸
Ќыне пришли вы спросить, как избегнуть вам голода т€жких
ћук и страданий? ¬ы дважды одни лишь номадами ставши,⁹
¬новь вы одни себе ищете в диких плодах пропитань€.
ѕажити ныне ƒэо отн€ла у теб€, обратив вновь
¬ плем€ кочевников вместо людей, что землю пахали
— колосом тучным и, жатву собравши, хлебом питались.
»бо лишили ее вы даров, что отцы приносили,
ѕочестей древних времен. Ћюдоедами станете скоро,
—коро друг друга она и детей поедать вас заставит,
≈сли мольбой всенародной вы гнева ее не см€гчите,
≈сли пещеры ее не почтите божеской честью.ї
огда фигалейцы услыхали принесенное им из ƒельф вещание, то, помимо того, что все прежние празднества и жертвы в честь ƒеметры они стали совершать еще с большим усердием, они, кроме того, убедили ќната, сына ћикона, родом из Ёгины, за какую угодно цену сделать им новую статую ƒеметры.
__________________________
[8] ƒэо конеродной пещера Ч ἱππολεχοῦς Δῃοῦς κρυπτήριον ἄντρον
ἱππολεχής (ἱππο-λεχής) Ч (για τη Δηώ) αυτή που γέννησε ίππο Ч родивша€ кон€.
Х ѕеревод слова ἱππολεχής, как Ђконеродна€ї, €вл€етс€ идиоматическим; дословный перевод: Ђвступивша€ в любовную св€зь в образе кобылыї.
λέχος (-εος) τό {λέγω I} тж. pl.
1) ложе, кровать, постель Hom., Aesch., Soph.
2) погребальное ложе, катафалк Hom.
3) брачное ложе (τὰ νυμφικὰ λέχη Soph. Ч супружеский покой);
4) брачный союз, брак (γῆμαι μείζω λέχη Eur. Ч соединитьс€ славным браком);
5) любовна€ св€зь (κρύφιον λ. Soph.)
6) pl. супруг(а) (σὰ λέχεα Eur. Ч тво€ супруга).
[9] οἱ νομάδες Ч номады, кочевники Her.
νομάς (-άδος) ὁ скотовод, пастух, кочевник.
_______________________________
|
ћетки: ƒеметра ћистерии √реци€ Ётимологи€ |
Ќ≈ћ≈—»ƒј |
ƒневник |
√»ћЌ Ќ≈ћ≈—»ƒ≈
ћезомед ритский¹
Ќемесида крылата€, жизни судь€,
— темным взором очей, —праведливости дочь!
“ы порыв необузданный смертных людей
”крощаешь уздою железной.
Ќенавистна заносчивость зла€ тебе,
√онишь прочь ты черную зависть.
Ќеустанное мчитс€ твое колесо,
Ќо не видно следов Ч и вращаетс€ с ним
¬месте счастье людей. “ы, неслышно скольз€,
√ордеца к земле пригибаешь.
—воей мерой ты мер€ешь жизни людей
», склон€€ ниц свой суровый взор,
“ы весы сжимаешь рукою.
ќ, блаженна€, будь милосердна к нам,
Ќемесида крылата€, жизни судь€!
Ќемесиде бессмертной, нелживой поем
Ёту песнь, вместе с ней
—праведливость хвал€,
“у, что к нам прилетает на мощных крылах,
“у, что может надменное сердце людей
ѕокарать возмездьем в јиде.
________________________
[1] Μεσομήδης ὁ Κρής Ч ћезомед ритский, древнегреческий поэт и композитор времен –имской империи, был вольноотпущенником императора јдриана, пользовалс€ его покровительством и имел успех у своих современников, а впоследствии и в ¬изантии.
Ќемесида (Ќемезида), в древнегреческой мифологии крылата€ богин€ возмезди€, карающа€ за нарушение общественных и моральных норм. ƒочь Ќюкты и рона. Ћибо, по другим верси€м, ‘емиды и «евса. ѕо аттической версии Ч дочь ќкеана.
и «евса. ѕо аттической версии Ч дочь ќкеана.
»м€ имеет значение Ђнегодующа€ї, Ђгрозна€ї. ѕодобный эпитет носил «евс в јрголиде и Ћокриде. ¬ мифах схожими эпитетами награждаютс€ менее значимые боги и герои.
Ќемесида была рождена богиней Ќюктой в наказание роносу вместе с другими порождени€ми богини ночи: “анатосом Ч богом смерти, Ёридой Ч богиней раздора, јпатой Ч богиней обмана, ером Ч богом уничтожени€ и √ипносом Ч богом мрачных сновидений.
—огласно мифам, у Ќемесиды от «евса родилась дочь ≈лена, виновница “ро€нской войны, и ƒиоскуры. ѕеревоплоща€сь в разных зверей, Ќемесида, безуспешно, пыталась избежать преследований «евса на суше и в воде, превратившись в рыбу.
¬ изложении ≈врипида, јфродита (по сговору с «евсом), обратившись орлом, преследовала верховного бога, прин€вшего образ лебед€. Ќемесида укрыла лебед€, пожалев его, и заснула; во врем€ сна «евс овладел ею. ¬ образе гусыни Ќемесида снесла €йцо. Ёто €йцо нашла Ћеда, или оно было принесено ей пастухом, или, наконец, было подброшено √ермесом. »з этого €йца, впоследствии, и по€вились ≈лена и брать€ ƒиоскуры. ѕо свидетельству ѕавсани€, €йцо хранилось в храме Ћевкиппид в —парте (ѕавсаний. ќписание Ёллады III:16, 1).
ѕо Ћактанцию, «евс-лебедь разделил ложе с самой Ћедой, а им€ ЂЌемесидаї Ћеда получает после смерти (Ћактанций. Ѕожественные установлени€ I, 21.23). ¬ мифологической традиции, считающей Ќемесиду дочерью ‘емиды и «евса, она отождествл€етс€ или, по крайней мере, сближаетс€ с јдрастеей. ¬ ƒревнем –име Ќемесида, иногда отождествл€лась с ‘ортуной, была почитаема в армии и считалась покровительницей гладиаторов.
јфинский праздник мертвых Ч Ќемесеи (Νεμέσεια) Ч указывает на близость культа Ќемесиды к культу аттической √еи. ќтсюда, веро€тно, образ крылатой богини с кадуцеем в руке (необходимым инструментом дл€ проникновени€ в мир теней) на монетах лавди€, ¬еспасиана, јдриана и других римских императоров.
—амой почитаемой богиней Ќемесида была в –амнунте, где ей посв€тили храм недалеко от ћарафона. ¬ храме находилась ее стату€, изва€нна€ ‘идием. ѕавсаний описывает эту статую, которую мастер изва€л из паросского мрамора, привезенного персами, с целью поставить трофей в увековечение их побед. Ќа голове богини был венок с изображени€ми оленей и маленькими фигурами Ќики; в левой руке Ч €блонева€ ветвь, в правой Ч кубок.
¬ —мирне почитали двух Ќемеcид Ч дочерей Ќюкты. ƒвойной образ Ќемеcиды объ€сн€ли также двойным про€влением силы этой богини судьбы, дарующей и добро, и зло. — другой стороны, двойной образ объ€сн€етс€ фактом существовани€ двух городов: Ќовой —мирны и —тарой.
»зображени€ Ќемесиды встречаютс€ на древних амфорах, мозаиках и других произведени€х искусства, где ее рисовали с весами в руках, а также с другими символьными предметами: локоть (мера длины), уздечка, меч, плеть, колесо, кадуцей.
¬есы, частый атрибут Ќемесиды, считаетс€ прообразом зодиакального созвезди€ ¬есы, а сама Ќемесида Ч соответственно, прообразом зодиакальной ƒевы.
»конографи€ Ќемесиды неоднозначна€, часто повтор€ет образы других богинь (‘ортуна, ¬иктори€, ‘елицитас, ѕудицити€ и др.), перенима€ их атрибутику. ¬прочем, синкретизаци€ образов, особенно в римскую эпоху, носила всеобщий характер.
” √омера Ќемесида не упоминаетс€. √есиод рассматривает Ќемесиду скорее не как Ђкарающуюї богиню, а как след€щую за не нарушением мирового пор€дка. ѕон€тие Ђмирового пор€дкаї, предустановленного мойрами, предусматривало, что человек должен более всего избегать гордости, и что смирение и умеренность вернее всего ведут к счастью.
√еродот, ѕиндар, трагики и другие этические писатели еще определеннее развили пон€тие Ђвозмезди€ї (νέμεσις), персонификатором которого выступала Ќемесида, поставив его краеугольным камнем своих воззрений. –азвитию культа Ќемесиды, и сказаний о ней, особенно сильно способствовали орфики и платоники.
_______________________________

Ёлагабал (Marcus Aurelius Antoninus Heliogabalus, 218-222). Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€.
ѕентассарий (Æ 26mm, 10.94g). Ћегат Ќовий –уф (Novius Rufus, consular legate).
Av: бюст Ёлагабала в лавровом венке; AYT M AYPH ANTΩNEINOC
Rv: Ќемесида в калафе, с –огом изобили€ в левой руке и весами в правой, у ног Ч колесо; YΠ NOBIOY POYΦOY NIKOΠOΛITΩN ΠPOC ICTP
_______________________________

аракалла (198-217). —ердика, ‘раки€. Æ (31mm, 18.47g).
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AΥT K M AΥΡ CEΥ ANTΩNEINOC
Rv: Ќемесида с локтем и весами, у ног Ч колесо; OYΛѕIAC CEPΔIKH
Х Ќемезида нередко изображалась с локтем (πῆχυς) Ч мерой длины в античности: Ђя, Ќемезида, держу локоть. «ачем, спросишь ты? ѕотому что € напоминаю всем, что не надо превышать мерыї.
πῆχυς (-εως) пехий, локоть (мера длины; π. μέτριος содержал 24 δάκτυλοι, т.е. ок. 46 см, π. βασιλήϊος Ч 27 δάκτυλοι) Her., Xen., Plat.
_______________________________

ћакрин (217-218). ћаркианополь, ‘раки€.
ѕентассарий (Æ 26mm, 10.70g). ћонетарий ѕонтий ‘урий ѕонтиан (P. Furius Pontianus, legatus consularis).
Av: бюсты ћакрина и его сына ƒиадумениана; AYT K OѕEΛ CEYH MAKPEINOC K M OѕE ANTΩNEINOC
Rv: Ќемесида с локтем и весами, у ног Ч колесо; Yѕ ѕONTIANOY MAPKIANOѕOΛEITΩN / E
_______________________________

√ордиан III (238-244). ћаркианополь, ‘раки€. ѕентассарий (Æ 27mm, 12.19g).
Av: бюсты √ордиана в лавровом венке и его супруги “ранквиллины (Furia Sabinia Tranquillina); ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙΑΝΟC ΑΥΓ C™ / ΤΡΑΝΚΥΛΛ™ΙΝΑ
Rv: Ќемесида с локтем в правой руке и уздечкой в левой, у ног Ч колесо; YΠ TEPTYΛΛIANOY MAPKIANOΠOΛEITΩN / E
_______________________________

ћаксимин I ‘ракиец (235-238). “омы, Ќижн€€ ћези€. Æ 26mm (11.36g).
Av: бюст ћаксимина в лавровом венке; AYT MAΞIMEINOC EYCEB AY√
Rv: крылата€ Ќемесида с локтем и уздечкой, у ног Ч колесо; MHTPO ѕONTOY TOMEΩC
_______________________________

—мирна, »они€. ѕсевдо-автономный чекан. ћагистрат —тратонекиан (Tib. Claudius Stratoneikianos, strategos). Æ 25mm (7.91g), ок. 183/4г.
Av: персонификаци€ римского сената; ΙEΡΑ —ΥΝ ΚΛΗΤќ— (ἱερά σύν κλητός, Ђ—в€щенный сенатї);
Rv: крылата€ Ќемесида с патерой и локтем, у ног Ч колесо; [C]TP KΛ CTPATONEIKIANOY CMYPNAI[ΩN]
_______________________________

јнтонин ѕий (138-161). ћилет, »они€.
ћедальон (Æ 39mm, 29.28g) в честь заключени€ гомонои (ὁμόνοια, содружество) ћилета со —мирной.
Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ΑΥΤ Κ ΤΡΑΙ ΑΔΡ ΑΝΤΟΝΙΝΟC C™Β
Rv: јполлон из ƒидимы (Δίδυμα) и две Ќемесиды, почитаемые в —мирне; N™M™CIC / CMYPNAIΩN
_______________________________

јдриан (117-138). ћала€ јзи€. “етрадрахма (AR 10.57g), ок. 128г.
Av: голова јдриана вправо; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: крылата€ Ќемесида правой рукой держит верхний край тоги, в левой Ч колесо; COS III
_______________________________

јдриан (117-138). —мирна, »они€. “етрадрахма (AR 10.65g), ок. 128г.
Av: голова јдриана вправо; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: две Ќемесиды сто€т друг против друга, правой рукой придержива€ верхний край тоги; COS III
_______________________________

–имска€ республика. ћонетарий √ай ¬ибий ¬ар (C. Vibius Varus). –им. јурей (AV 22mm, 7.95g), 42 до н.э.
Av: бюст богини –омы в шлеме с копьЄм и щитом;
Rv: крылата€ Ќемесида правой рукой держит верхний край тоги; C. VIBIVS VARVS
_______________________________

јдриан (117-138). –им. —естерций (Æ 27.06g), 134-138г.
Av: бюст јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P
Rv: крылата€ Ќемесида с оливковой ветвью в левой руке, правой рукой держит верхний край тоги; S C
_______________________________

¬еспасиан (69-79). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.40g).
Av: бюст ¬еспасиана в лавровом венке; IMP CAES VESP AVG CENS
Rv: крылата€ Ќемесида с кадуцеем; р€дом зме€; PONTIF MAXIM
_______________________________

лавдий (41-54). –им. јурей (AV 18mm, 7.69g), 46/7 г.
Av: бюст лавди€ в лавровом венке; TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P VI IMP XI
Rv: крылата€ Ќемесида с кадуцеем, у ног Ч зме€; PACI AVGVSTAE
_______________________________
ћезомед ритский¹
Ќемесида крылата€, жизни судь€,
— темным взором очей, —праведливости дочь!
“ы порыв необузданный смертных людей
”крощаешь уздою железной.
Ќенавистна заносчивость зла€ тебе,
√онишь прочь ты черную зависть.
Ќеустанное мчитс€ твое колесо,
Ќо не видно следов Ч и вращаетс€ с ним
¬месте счастье людей. “ы, неслышно скольз€,
√ордеца к земле пригибаешь.
—воей мерой ты мер€ешь жизни людей
», склон€€ ниц свой суровый взор,
“ы весы сжимаешь рукою.
ќ, блаженна€, будь милосердна к нам,
Ќемесида крылата€, жизни судь€!
Ќемесиде бессмертной, нелживой поем
Ёту песнь, вместе с ней
—праведливость хвал€,
“у, что к нам прилетает на мощных крылах,
“у, что может надменное сердце людей
ѕокарать возмездьем в јиде.
________________________
[1] Μεσομήδης ὁ Κρής Ч ћезомед ритский, древнегреческий поэт и композитор времен –имской империи, был вольноотпущенником императора јдриана, пользовалс€ его покровительством и имел успех у своих современников, а впоследствии и в ¬изантии.
Νέμεσις (-εως) ἡ Ќемесида, правильнее Ќемеси€, дочь Ќочи, богин€ справедливого возмезди€; Hes., Aesch. etc.
νέμεσις, эп. νέμεσσις (-εως) ἡ
1) (справедливое) негодование, (заслуженное) порицание, (праведный) гнев; ex.: (οὐδέτερος νέμεσιν διέφυγεν Plut.);
2) возда€ние, возмездие, кара; ex.: (θεῶν Soph.);
3) повод к порицанию, причина негодовани€, т.е. грех; ex.: πενθεῖν οὐ χρή νέμεσις γάρ Soph. Ч не надо предаватьс€ горю: это Ч грех;
4) стыд, укоры совести; ex.: (αἰδὼς καὴ ν. Hom.).
νεμεσητός Ч внушающий страх, грозный (sc. Ἀχιλλεύς Hom.).
Ќемесида (Ќемезида), в древнегреческой мифологии крылата€ богин€ возмезди€, карающа€ за нарушение общественных и моральных норм. ƒочь Ќюкты и рона. Ћибо, по другим верси€м, ‘емиды
 и «евса. ѕо аттической версии Ч дочь ќкеана.
и «евса. ѕо аттической версии Ч дочь ќкеана.»м€ имеет значение Ђнегодующа€ї, Ђгрозна€ї. ѕодобный эпитет носил «евс в јрголиде и Ћокриде. ¬ мифах схожими эпитетами награждаютс€ менее значимые боги и герои.
Νεμεαῖος Ч Ќемейский; ex.: (Ζεύς Pind.).
Νεμέα, ион. Νεμέη, эп. Νεμείη ἡ Ќеме€
1) лесиста€ долина и город в сев. јрголиде, в которой находилась св€щенна€ роща с храмом Ζεὺς Νέμειος или Νεμεαῖος и раз в два года происходили Ќемейские игры (τὰ Νέμεα); Thuc., Xen.
2) река на границе —икиона и оринфа Xen.
Νέμεα τά (sc. ἱερά) Ќемейские игры Pind. etc.
Νέμειον τό (sc. ἱερόν) Ќемей (храм «евса в Ћокриде) Plut.
Νέμειος Ч Ќемейский; ex.: ὁ Ν. θήρ Eur. Ч Ќемейский зверь, т.е. лев, убитый √ераклом.
Ќемесида была рождена богиней Ќюктой в наказание роносу вместе с другими порождени€ми богини ночи: “анатосом Ч богом смерти, Ёридой Ч богиней раздора, јпатой Ч богиней обмана, ером Ч богом уничтожени€ и √ипносом Ч богом мрачных сновидений.
—огласно мифам, у Ќемесиды от «евса родилась дочь ≈лена, виновница “ро€нской войны, и ƒиоскуры. ѕеревоплоща€сь в разных зверей, Ќемесида, безуспешно, пыталась избежать преследований «евса на суше и в воде, превратившись в рыбу.
¬ изложении ≈врипида, јфродита (по сговору с «евсом), обратившись орлом, преследовала верховного бога, прин€вшего образ лебед€. Ќемесида укрыла лебед€, пожалев его, и заснула; во врем€ сна «евс овладел ею. ¬ образе гусыни Ќемесида снесла €йцо. Ёто €йцо нашла Ћеда, или оно было принесено ей пастухом, или, наконец, было подброшено √ермесом. »з этого €йца, впоследствии, и по€вились ≈лена и брать€ ƒиоскуры. ѕо свидетельству ѕавсани€, €йцо хранилось в храме Ћевкиппид в —парте (ѕавсаний. ќписание Ёллады III:16, 1).
ѕо Ћактанцию, «евс-лебедь разделил ложе с самой Ћедой, а им€ ЂЌемесидаї Ћеда получает после смерти (Ћактанций. Ѕожественные установлени€ I, 21.23). ¬ мифологической традиции, считающей Ќемесиду дочерью ‘емиды и «евса, она отождествл€етс€ или, по крайней мере, сближаетс€ с јдрастеей. ¬ ƒревнем –име Ќемесида, иногда отождествл€лась с ‘ортуной, была почитаема в армии и считалась покровительницей гладиаторов.
Ἀδράστεια, ион. Ἀδρήστεια ἡ јдрасти€
1) ЂЌеотвратима€ї, эпитет и синоним Ќемесиды Aesch., Plat., Men.
2) город на ѕропонтиде Hom.
јфинский праздник мертвых Ч Ќемесеи (Νεμέσεια) Ч указывает на близость культа Ќемесиды к культу аттической √еи. ќтсюда, веро€тно, образ крылатой богини с кадуцеем в руке (необходимым инструментом дл€ проникновени€ в мир теней) на монетах лавди€, ¬еспасиана, јдриана и других римских императоров.
Νεμέσεια τά (sc. ἱερά) Ќемесеи, празднества, справл€вшиес€ в честь усопших; Dem.
—амой почитаемой богиней Ќемесида была в –амнунте, где ей посв€тили храм недалеко от ћарафона. ¬ храме находилась ее стату€, изва€нна€ ‘идием. ѕавсаний описывает эту статую, которую мастер изва€л из паросского мрамора, привезенного персами, с целью поставить трофей в увековечение их побед. Ќа голове богини был венок с изображени€ми оленей и маленькими фигурами Ќики; в левой руке Ч €блонева€ ветвь, в правой Ч кубок.
Ђќт ћарафона на рассто€нии приблизительно шестидес€ти стадиев отстоит –амнунт, если идти дорогой вдоль мор€ по направлению к ќропу. Ќаселение живет в домах и поселках около мор€, а немного вверх от мор€ есть храм Ќемезиды; она из всех богов наиболее неумолима к люд€м, действующим насилием. —читаетс€, что и высадившихс€ на ћарафоне варваров прежде всего встретил гнев этой богини: полные презрени€, счита€, что дл€ них ничего не будет стоить вз€ть јфины, они везли с собой глыбу паросского мрамора, чтобы поставить трофей, как будто бы дело было ими уже сделано. »з этого камн€ ‘идий создал статую Ќемезиды.
<Е>
рыльев не имеет ни эта стату€ Ќемезиды, ни кака€-либо друга€ из древних; даже у жителей —мирны самое св€щенное дерев€нное изва€ние (богини) не имеет крыльев. ѕозднейшие же художники, жела€ показать, что сила богини про€вл€етс€ главным образом при влюбленности, по этой причине придали Ќемезиде крыль€, как и Ёроту.
<Е>
√овор€т, что матерью ≈лены была Ќемезида, Ћеда же выкормила ее и воспитала, отцом же ее и эти [рамнунтцы], а равно и все эллины, называют «евса, а не “индаре€. «на€ это предание, ‘идий изобразил ≈лену, которую Ћеда приводит к ЌемезидеїЕ
(ѕавсаний. ќписание Ёллады I. 33:3, 6, 7)
¬ —мирне почитали двух Ќемеcид Ч дочерей Ќюкты. ƒвойной образ Ќемеcиды объ€сн€ли также двойным про€влением силы этой богини судьбы, дарующей и добро, и зло. — другой стороны, двойной образ объ€сн€етс€ фактом существовани€ двух городов: Ќовой —мирны и —тарой.
Ђ√овор€т, что как-то јлександр охотилс€ на горе ѕаге, и, когда охота была кончена, он пришел к св€тилищу Ќемеcид и нашел тут источник и, перед храмом, платан, росший у самой воды. огда он заснул под платаном, говор€т, ему во сне €вились Ќемеcиды и велели построить здесь город и перевести в него жителей —мирны, выселив их из прежнего города. огда жители —мирны послали в ларос торжественное посольство, чтобы спросить, что им делать в данном случае, бог изрек им:
“рижды, четырежды будут счастливо-блаженными люди,
∆ить которые станут у вод св€щенных ћелета.
ѕоэтому они охотно туда переселились и чтут двух Ќемеcид вместо одной, и матерью их называют они Ќюкту (Νυκτός, Ќочь), тогда как афин€не говор€т, что отцом их богини Ќемезиды в –амнунте был ќкеан.ї (ѕавсаний. ќписание Ёллады VII. 5:2, 3)
»зображени€ Ќемесиды встречаютс€ на древних амфорах, мозаиках и других произведени€х искусства, где ее рисовали с весами в руках, а также с другими символьными предметами: локоть (мера длины), уздечка, меч, плеть, колесо, кадуцей.
¬есы, частый атрибут Ќемесиды, считаетс€ прообразом зодиакального созвезди€ ¬есы, а сама Ќемесида Ч соответственно, прообразом зодиакальной ƒевы.
»конографи€ Ќемесиды неоднозначна€, часто повтор€ет образы других богинь (‘ортуна, ¬иктори€, ‘елицитас, ѕудицити€ и др.), перенима€ их атрибутику. ¬прочем, синкретизаци€ образов, особенно в римскую эпоху, носила всеобщий характер.
” √омера Ќемесида не упоминаетс€. √есиод рассматривает Ќемесиду скорее не как Ђкарающуюї богиню, а как след€щую за не нарушением мирового пор€дка. ѕон€тие Ђмирового пор€дкаї, предустановленного мойрами, предусматривало, что человек должен более всего избегать гордости, и что смирение и умеренность вернее всего ведут к счастью.
√еродот, ѕиндар, трагики и другие этические писатели еще определеннее развили пон€тие Ђвозмезди€ї (νέμεσις), персонификатором которого выступала Ќемесида, поставив его краеугольным камнем своих воззрений. –азвитию культа Ќемесиды, и сказаний о ней, особенно сильно способствовали орфики и платоники.
_______________________________

Ёлагабал (Marcus Aurelius Antoninus Heliogabalus, 218-222). Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€.
ѕентассарий (Æ 26mm, 10.94g). Ћегат Ќовий –уф (Novius Rufus, consular legate).
Av: бюст Ёлагабала в лавровом венке; AYT M AYPH ANTΩNEINOC
Rv: Ќемесида в калафе, с –огом изобили€ в левой руке и весами в правой, у ног Ч колесо; YΠ NOBIOY POYΦOY NIKOΠOΛITΩN ΠPOC ICTP
_______________________________

аракалла (198-217). —ердика, ‘раки€. Æ (31mm, 18.47g).
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AΥT K M AΥΡ CEΥ ANTΩNEINOC
Rv: Ќемесида с локтем и весами, у ног Ч колесо; OYΛѕIAC CEPΔIKH
Х Ќемезида нередко изображалась с локтем (πῆχυς) Ч мерой длины в античности: Ђя, Ќемезида, держу локоть. «ачем, спросишь ты? ѕотому что € напоминаю всем, что не надо превышать мерыї.
πῆχυς (-εως) пехий, локоть (мера длины; π. μέτριος содержал 24 δάκτυλοι, т.е. ок. 46 см, π. βασιλήϊος Ч 27 δάκτυλοι) Her., Xen., Plat.
_______________________________

ћакрин (217-218). ћаркианополь, ‘раки€.
ѕентассарий (Æ 26mm, 10.70g). ћонетарий ѕонтий ‘урий ѕонтиан (P. Furius Pontianus, legatus consularis).
Av: бюсты ћакрина и его сына ƒиадумениана; AYT K OѕEΛ CEYH MAKPEINOC K M OѕE ANTΩNEINOC
Rv: Ќемесида с локтем и весами, у ног Ч колесо; Yѕ ѕONTIANOY MAPKIANOѕOΛEITΩN / E
_______________________________

√ордиан III (238-244). ћаркианополь, ‘раки€. ѕентассарий (Æ 27mm, 12.19g).
Av: бюсты √ордиана в лавровом венке и его супруги “ранквиллины (Furia Sabinia Tranquillina); ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙΑΝΟC ΑΥΓ C™ / ΤΡΑΝΚΥΛΛ™ΙΝΑ
Rv: Ќемесида с локтем в правой руке и уздечкой в левой, у ног Ч колесо; YΠ TEPTYΛΛIANOY MAPKIANOΠOΛEITΩN / E
_______________________________

ћаксимин I ‘ракиец (235-238). “омы, Ќижн€€ ћези€. Æ 26mm (11.36g).
Av: бюст ћаксимина в лавровом венке; AYT MAΞIMEINOC EYCEB AY√
Rv: крылата€ Ќемесида с локтем и уздечкой, у ног Ч колесо; MHTPO ѕONTOY TOMEΩC
_______________________________

—мирна, »они€. ѕсевдо-автономный чекан. ћагистрат —тратонекиан (Tib. Claudius Stratoneikianos, strategos). Æ 25mm (7.91g), ок. 183/4г.
Av: персонификаци€ римского сената; ΙEΡΑ —ΥΝ ΚΛΗΤќ— (ἱερά σύν κλητός, Ђ—в€щенный сенатї);
Rv: крылата€ Ќемесида с патерой и локтем, у ног Ч колесо; [C]TP KΛ CTPATONEIKIANOY CMYPNAI[ΩN]
_______________________________

јнтонин ѕий (138-161). ћилет, »они€.
ћедальон (Æ 39mm, 29.28g) в честь заключени€ гомонои (ὁμόνοια, содружество) ћилета со —мирной.
Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ΑΥΤ Κ ΤΡΑΙ ΑΔΡ ΑΝΤΟΝΙΝΟC C™Β
Rv: јполлон из ƒидимы (Δίδυμα) и две Ќемесиды, почитаемые в —мирне; N™M™CIC / CMYPNAIΩN
_______________________________

јдриан (117-138). ћала€ јзи€. “етрадрахма (AR 10.57g), ок. 128г.
Av: голова јдриана вправо; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: крылата€ Ќемесида правой рукой держит верхний край тоги, в левой Ч колесо; COS III
_______________________________

јдриан (117-138). —мирна, »они€. “етрадрахма (AR 10.65g), ок. 128г.
Av: голова јдриана вправо; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: две Ќемесиды сто€т друг против друга, правой рукой придержива€ верхний край тоги; COS III
_______________________________

–имска€ республика. ћонетарий √ай ¬ибий ¬ар (C. Vibius Varus). –им. јурей (AV 22mm, 7.95g), 42 до н.э.
Av: бюст богини –омы в шлеме с копьЄм и щитом;
Rv: крылата€ Ќемесида правой рукой держит верхний край тоги; C. VIBIVS VARVS
_______________________________

јдриан (117-138). –им. —естерций (Æ 27.06g), 134-138г.
Av: бюст јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P
Rv: крылата€ Ќемесида с оливковой ветвью в левой руке, правой рукой держит верхний край тоги; S C
_______________________________

¬еспасиан (69-79). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.40g).
Av: бюст ¬еспасиана в лавровом венке; IMP CAES VESP AVG CENS
Rv: крылата€ Ќемесида с кадуцеем; р€дом зме€; PONTIF MAXIM
_______________________________

лавдий (41-54). –им. јурей (AV 18mm, 7.69g), 46/7 г.
Av: бюст лавди€ в лавровом венке; TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P VI IMP XI
Rv: крылата€ Ќемесида с кадуцеем, у ног Ч зме€; PACI AVGVSTAE
_______________________________
|
ћетки: Ќемесида Ќумизматика √реци€ |
‘»¬јЌ— »… ƒ–ј ќЌ |
ƒневник |
‘ивы (др.-греч. Θήβαι, Θήβη) Ч в древности главный город Ѕеотии (Βοιωτία, область средней √реции), расположенный на невысоком холме, среди плодородной јонийской равнины (Πεδιάδα της Ἀονίας). √ород имел круглую форму и был окружен стеной с семью воротами, из-за чего часто называлс€ —емивратными ‘ивами (Ἑπτάπυλος Θήβη).
—огласно греческой мифологии, основателем ‘ив был адм, беотийский герой, сын финикийского цар€ јгенора и брат ≈вропы, которую похитил «евс, прин€вший образ быка. ѕосле того, как ≈вропа на спине этого быка была перенесена на рит, отец послал адма в погоню, наказав без нее не возвращатьс€. адму не удалось разыскать сестру, и оракул повелел ему прекратить поиски и следовать за коровой, чтобы на том месте, где она л€жет отдохнуть, основать город. орова привела его к будущему местоположению ‘ив, где св€щенный дракон јреса охран€л источник.
Ђ» благодарствует адм и, припав, чужую целует
«емлю; приветствует он незнакомые горы и долы.
жертве готовитьс€ стал ёпитеру. ƒл€ возли€нь€
—лугам воды принести он велит из источников быстрых.
Ћес там древний сто€л, никогда топором не сеченный,
¬ нем пещера была, заросша€ ивой и тростьем;
амни в приземистый свод сходились, оттуда обильно
—труи стекали воды; в пещере же, скрытый глубоко,
ћарсов змей обитал, золотым примечательный гребнем.
ќчи сверкают огнем; все тело €дом набухло,
“ри дрожат €зыка; в три р€да поставлены зубы.ї
(ќвидий, ћетаморфозы III, 24-34)
”мертвив дракона, адм, последовав совету јфины, посе€л его зубы в землю. »з этих зубов выросли воины, которые тут же вступили в схватку друг с другом. ѕ€ть воинов, оставшиес€ в живых после битвы (считавшиес€ родоначальниками знатнейших фиванских родов), помогли адму в строительстве адмеи (Καδμεία), фиванского акропол€.
ѕо истечении восьми лет искупительной службы, которую адм нес в наказание за убийство дракона, он получил разрешение вз€ть в жены √армонию, дочь јреса и јфродиты. ¬ конце жизни адм и √армони€ переселились из ‘ив в »ллирию, где были обращены в змей (т.е., очевидно, сами стали гени€ми и эпонимами определенного места в »ллирии).
—огласно мифам, родител€ми дракона, убитого адмом, были јрес и эрини€ ‘ельпуса. Ћюбопытно, что эпоним ‘ельпуса (Θέλπουσα) фигурирует и в јркадии (южнее Ѕеотии). ¬ честь аркадской нимфы ‘ельпусы (дочери гени€ реки Ћадон), получили свое название город и источник р€дом с ним.
ƒракона в Ѕеотии именуют либо по имени отца (јресов змей), либо по имени города основанного адмом на этом месте (‘иванский дракон). ’от€, по тем же мифам, город ‘ивы (Θήβαι) возник уже после того как гений места был убит адмом. тому же, ‘ивы Ч эпоним размноженный, и на Ѕеотию, (если верить мифам) перенесенный финикийцами. ¬прочем, не исключено, что финикийска€ лини€ вообще несколько преувеличена, ибо абсолютное большинство эпонимов несут чисто греческую этимологию.
‘ива, дочь јсопа Ч нимфа, эпоним города ‘ивы в Ѕеотии.
‘ива, дочь илика Ч эпоним города ‘ивы в иликии.
‘ива, дочь “ритона Ч нимфа, эпоним города ‘ивы в ≈гипте.
“.е. название города происходит от имени нимфы ‘ивы (Θήβη), дочери јсопа (Ἀσωπός).
Ἀσωπός ὁ јсоп, река в южной Ѕеотии;
Ἀσωπίς (-ίδος) ἡ јсопида, дочь реки јсоп, т.е. ‘ива или Ёгина.
роме того, јсопией (в честь главной реки) называли иногда всю Ѕеотию (например, ≈врипид).
Ἀσωπία ἡ Eur. = Βοιωτία
≈ще один интересный эпоним Ч »смен (Ἰσμηνός, сын јсопа и ћетопы), бог реки, котора€ протекала в черте города. ¬оды реки »смен собирались в ‘ивах в особом бассейне, так называемом »сточнике јреса.
’от€, по свидетельству ѕавсани€, источник, где обитал ‘иванский змей, показывали р€дом с воротами Ёлектры в ‘ивах (ѕавсаний. ќписание Ёллады IX; 10, 1). Ѕлиз ворот Ёлектры на холме находилс€ храм јполлона »сменского.
Ἰσμήνιον, Ἰσμήνειον τό »смений, храм јполлона »сменского у ворот ‘ив Ѕеотийских, Arst.
Ἰσμηνός ὁ »смен, река в Ѕеотии, вытекающа€ из источника ћелии, к югу от ‘ив, на »сменском холме (на котором сто€л храм јполлона с оракулом, Hdt. 1, 52); она протекает через ‘ивы, соедин€етс€ с источником ƒирке и изливаетс€ в озеро √илику.
ѕервое, что обращает на себ€ внимание, из последней цитаты, это то, что, оказываетс€, у источника реки »смен было конкретное название: ћели€ (Μελία). “ем не менее, дракона, почему-то, не называют Ђћелийскимї (по имени источника, который он охран€ет), но, иногда, называют Ђ»сменскимї (Δράκων Ἰσμήνιος), привнос€ тем самым путаницу с гением одноименной реки »смен (Ἰσμήνιος), который имеет свою мифическую родословную, и в мифе о ‘иванском драконе никак не участвует. ≈динственное этому объ€снение, что название источника ћели€¹ Ч сравнительно позднее.²
____________________________
[1] μελία, ион. μελίη ἡ (дор. gen. pl. μελιᾶν)
1) €сень Hom. etc.
2) копье из €сен€ (ἐΰχαλκος Hom.).
[2] ѕавсаний выводит генеалогию гени€ реки »смена от јполлона и нимфы ћелии. ќднако согласно јполлодору »смен был сыном реки јсопа ‘лиасийского и нимфы ћетопы. —огласно же традиции, сохранившейс€ в труде ѕлутарха о реках, »смен был сыном јмфиона и Ќиобы, дочери “антала. ќн был ранен јполлоном во врем€ охоты в ифероне и брошен им в реку, котора€ и была названа в его честь.
онечно, название источника ћели€ (Μελία) можно соотнести с копьем (μελία), которым адм убил дракона. Ќо здесь нужно вспомнить √есиода, который повествует о нимфах ћели€х (Μελίαι), родившихс€ из земли, окропленной кровью ”рана. Ђ ровьї и Ђземл€ї упом€нуты неспроста, сюжет мифа €вно опираетс€ на созвучие со словом μέλας (черный, темный, темно-красный). ’от€ это слово (μέλας) имеет и другие значени€: Ђмрачныйї, Ђжестокийї, Ђзловещийї, что, применительно к рассматриваемому мифу о ‘иванском драконе, тоже вызывает интересные ассоциации.
≈ще одно наименование ‘иванского дракона Ч Δράκων Αἰώνιος (¬ечный змей). Ётот эпитет дракон получил от созвучи€ с названием јонийской равнины (Αονίας), посреди которой располагались ‘ивы. азалось бы, не соизмеримые вещи: источник реки и обширна€ равнина. ќднако, как бы это не показалось странным, но верси€ с источником реки, возможно, имеет гораздо более позднюю редакцию, нежели прив€зка дракона к јонийской равнине в целом.
Ѕолее убедительной представл€етс€ верси€, что убиение јресова зме€ (‘иванского дракона) имеет отношение к осушению заболоченной долины.
√лавна€ часть Ѕеотии представл€ет котловинообразную равнину, окаймленную со всех сторон кольцом гор. “олько на северо-западе кольцо это прорываетс€, чтобы дать выход реке ефис (Κηφισός) и многочисленным потокам, стекающим с гор, тогда как остальные воды котловины не имеют выхода и просачиваютс€ по подземным трещинам у подошвы гор Ч катавотрам (καταβόθρα). ¬следствие этого, глубже лежащие части котловины представл€ли в зимние мес€цы огромное озеро опаида (Κωπαίς), воды которого начинали спадать только в начале ма€.
ѕосле спадени€ вод вс€ залита€ раньше местность представл€ла собой великолепные пастбища и плодороднейшие пол€, на которых обильно произрастала пшеница, а в более сырых местах рис и хлопчатник. Ќа юге у прежнего √алиарта (Ἁλίαρτος) были глубокие болота, по окраинам которых рос тростник, крайне ценившийс€ в древности как отличный материал дл€ изготовлени€ флейт.
— другой стороны, близость озера вызывала частые лихорадки. ”же в наше врем€, с целью увеличить площадь пахотных земель, озеро опаида было полностью осушено. –аботы были начаты в 1882 и завершены в 1931 году. ќднако озеро осушено не впервые: в XVI веке до н.э. его осушили минийцы Ч древние жители города ќрхомена (Ὀρχομενός), которые дл€ этого создали систему туннелей, направив воду в залив. ќсушив озеро (или болото), древние обитатели долины (согласно их религиозным представлени€м) очевидно убили и гени€-хранител€ этого озера. Ѕеоти€ тогда была населена племенами ахейцев, минийцев и кадмейцев.
—о временем ирригационные сооружени€ разрушились, чему способствовали землетр€сени€. Ѕеоти€ и, в частности, район ‘ив по сию пору €вл€етс€ сейсмически активной зоной.


1. √аллиен (253-268). “ир, ‘иники€. Æ 26mm (14.17g). Av: бюст √аллиена в лавровом венке; IMP — P LIC GALLIENVS AVG. Rv: адм, метающий камень в јресова зме€; COL TVRO MET
2. ¬алериан I (253-260). “ир, ‘иники€. Æ 27mm (10.83g). Av: бюст ¬алериана в лавровом венке; IMP C P LIC VALERIANVS AVG. Rv: адм, метающий камень в јресова зме€; COL TVRO MET


3. адм, метающий камень в ‘иванского дракона. раснофигурный кратер, ок. 350-340 до н.э.
4. адм, сражающийс€ с ‘иванским драконом. „ернофигурна€ амфора с острова Ёвбеи, ок. 560-550 до н.э.
—олн≠це, высоко взойд€, сократило тем временем тени;
адм изум≠лен, отче≠го так медл€т товарищи дол≠го;
»х начинает искать. —о льва обо≠дран≠ной шку≠рой
Ѕыл он покрыт, копьем, что бли≠ста≠ло желе≠зом, и дро≠том
¬ооружен; но была пре≠вос≠ход≠ней ору≠жь€ отва≠га.
55
“оль≠ко он в рощу вошел и тела увидал, а над ними
«ме€, сгубившего их, вра≠га, огромного телом,
ак он кровавым лизал €зы≠ком их плачевные раны,
Ђ»ль за вашу € смерть ото≠мщу, вер≠ней≠шие дру≠ги,
»ли за вами пойду!ї Ч ска≠зал и, про≠мол≠вив, дес≠ни≠цей
60
√лы≠бу огромную вз€л и с вели≠кою силою кинул.
—тены уда≠ром его, высокими баш≠н€≠ми гор≠ды,
Ѕыли бы сокрушены, Ч но осталс€ змей невре≠ди≠мым.
ќн, Ч чешу≠ей защи≠щен, как некой коль≠чу≠гой, и чер≠ной
ожей, Ч могу≠чий удар отразил их тол≠стым покровом.
65
Ќо отразить чешу≠ей не мог он дро≠та, который
¬ длин≠ный хре≠бет его, там, где изгиб сере≠дин≠ный, вон≠зил≠с€,
¬ теле застр€л, и в нут≠ро цели≠ком погрузилось железо.
«мей, от боли бес€сь, голо≠вою назад обер≠нул≠с€
», на ране≠нье взгл€нув, заку≠сил вон≠зен≠ное древ≠ко;
70
Ќо хоть его рас≠ка≠чал во все сто≠ро≠ны с силой огромной,
¬ырвал едва из спи≠ны: в кост€х застр€л наконечник.
ярость обычна€ в нем сильнее вскипела от раны
—вежей, вздулось от жил налив≠ших≠с€ змеево гор≠ло,
ћутна€ пена бежит из пасти его зачумленной,
75
ѕод чешу≠ей гро≠мы≠ха≠ет зем≠л€; он чер≠ным дыха≠ньем
«ева сти≠гий≠ско≠го вкруг зара≠жа≠ет отрав≠лен≠ный воз≠дух.
—ам же, спи≠ра≠лью кру≠ги обра≠зу€ гро≠мад≠ных раз≠ме≠ров,
¬ьет≠с€, то длин≠ным брев≠ном под≠ни≠ма≠ет≠с€ вверх голо≠вою,
“о, устре≠м€сь, как поток, навод≠нен≠ный дожд€≠ми, он бур≠но
80
ћчит≠с€ впе≠ред и леса сокру≠ша≠ет встреч≠ные гру≠дью.
—ын јге≠но≠ров слег≠ка отсту≠па≠ет; он шку≠рою льви≠ной
«ме€ напор задер≠жал, насту≠па≠ю≠щий зев не пус≠ка≠ет,
ѕр€≠мо дер≠жа острие. » бесит≠с€ тот и желе≠зо
“вер≠дое тщет≠но €звит и лома≠ет о лез≠вие зубы.
85
» начи≠на≠ла уж кровь из его €до≠ви≠то≠го нЄба
апать, ста≠ла кру≠гом окроп≠л€ть мура≠ву моло≠дую.
–ана все ж лег≠кой была, ибо он отсту≠пал от уда≠ра,
Ўею свою отвра≠щал у€зв≠лен≠ную, п€т€сь, желе≠зу
¬ тело засесть не давал и глуб≠же мешал погру≠зить≠с€.
90
јге≠но≠рид нако≠нец ему лез≠вие в глот≠ку напра≠вил
», напи≠ра€, вса≠дил; а отход отсту≠пав≠ше≠му дубом
Ѕыл пре≠граж≠ден, и прон≠зил одновре≠мен≠но дуб он и шею.
—огнут был дере≠ва ствол паде≠ньем чудо≠ви≠ща; сто≠ны
ƒуб изда≠вал, хво≠ста око≠неч≠но≠стью ниж≠ней бичу≠ем.
95
» побе≠ди≠тель гл€≠дит, как велик его враг побеж≠ден≠ный.
√олос послы≠шал≠с€ вдруг; ска≠зать было труд≠но отку≠да,
“оль≠ко послы≠шал≠с€ вдруг: Ђ„то, јге≠но≠ра сын, созер≠ца≠ешь
«ме€ уби≠то≠го? —ам ты тоже ока≠жешь≠с€ зме≠ем!ї
(ќвидий, ћетаморфозы IV)
—≈ћ»¬–ј“Ќџ≈ ‘»¬џ
__________________ЕЌа нерушимых основах
амни воздвигнуты дл€ семи ворот, что жилища
ќградили людские по образу выси небесной
¬ семь по€сов. јмфиону адм возведенье оставил
—тен под звуки кифары, стро€щей башниЕ ¬оздвиглись
—творам небесных врат подобны, семь врат перед градом!
ѕервые, что на запад направлены были ворота,
70
Ќазваны в честь остроглазой ћены-богини Ђќнкайиї,³
Ќапомина€ о мыке телицы, сама ведь —елена
Ѕычьи имеет рога и бычьей правит повозкой,
ѕр€ча под ликом тройным “ритониды облик јфины.⁴
ќтданы в дар вторые блест€щему √ермеону,⁵
ќн ведь соседствует с ћеной; »м€ четвертым ЂЁлектрыї⁶ Ч
¬спомнил адм о си€ньи огн€ ‘аэтона в паденье
Ќа рассвете, ведь цвет того пламени сходен с электром.⁷
√елию огненному врата посредине подарок,⁸
„то на восток выход€т Ч ведь бог в середине созвездий!
80
ѕ€тые Ч дар јрею,⁹ а третьи Ч дар јфродите,
ј между ними Ч сто€т врата ‘аэтона Ч —олнца,¹⁰
ƒабы врата јфродиты от врат отделились јре€.
Ѕоле других изукрасил герой ворота «евеса,
—четом шестые, седьмые сделаны были дл€ рона.¹¹
“ак построил он город и град св€той сотворенный
»менем он нарекает ‘ив, сто€вших в ≈гипте,
√рад, украшающий твердь по подобью пестрому неба.
(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса V, 63-87)
____________________________
[3] јфина отождествл€етс€ Ќонном с богиней луны ћеной (Μήνη), акцентиру€ внимание на Ђмычащейї и Ђрогатойї природе лунной богини Ђќнкайиї (Ὀγκαία):
Ὄγκα ἡ ќнка (прозвище јфины в ‘ивах) Aesch.
ὀγκητής adj. m мычащий, ревущий (ὄνος Anth.);
ὄγκος ὁ {ἀγκών} загнутый назад зубец стрелы, кривой наконечник, крюк стрелы.
[4] Τριτωνίδα Ч эпитет јфины, почитавшейс€ в Ћивии (у озера “ритонида).
Τριτωνίς (-ίδος) ἡ “ритонида (озеро в Ћивии) Pind., Her.
[5] Ἑρμαῖον τό √ермей, √ермеон (= Ἑρμῆς) Thuc.
Ἑρμῆς (-ου) ὁ √ермес (сын «евса и ћайи).
[6] Ἠλέκτρα, ион. Ἠλέκτρη ἡ Ёлектра, сестра адма, именем которой были названы врата (Ἤλεκτραι πύλαι) в ‘ивах.
Ἤλεκτραι (πύλαι), дор. Ἄλεκτραι αἱ ¬рата Ёлектры (в южн. части ‘ив Ѕеотийских) Pind., Aesch., Eur.
[7] Φαέθων (-οντος) ὁ ‘аэтон (сын √елиоса и лимены), убитый молнией «евса Eur., Plat.
ἤλεκτρον ὁ электр (сплав из 80% золота и 20% серебра).
[8] Ἥλιος, эп. Ἠέλιος ὁ √елиос, бог солнца, сын титана √ипериона и “еи.
[9] Ἄρης (-εως и -εος, эп.-ион. -ηος) ὁ јрей или јрес (отождествл. с римск. Mars, сын «евса и √еры, бог войны и воинских доблестей).
[10] φαέθων (-οντος) part. и adj. си€ющий, блистающий, лучезарный (ἠέλιος Hom.; ἅλιος Soph.).
[11] Κρόνος ὁ рон(ос), младший из “итанов, сын ”рана и √еи, отец –еи, ƒеметры, √еры, √адеса, ѕосидона и «евса, а тж. иклопов; оскопив ”рана, захватил власть над миром, но сам был низложен и сменен «евсом.
_______________________________
|
ћетки: √ений ‘ивы √реци€ |
ЅјјЋ |
ƒневник |
Ѕаал (общесемит. bТl; др.-евр. בעל или באל Ч Ѕел, Ѕалу, ¬аал Ч букв. когнаты Ђхоз€ин или господинї) Ч €вл€етс€ эпитетом Ђгосподьї, Ђвладыкаї дл€ разных богов и градоначальников у древних западных семитов. “акже €вл€лс€ конкретным божеством в ассиро-вавилонской этнокультуре, почитавшимс€ в ‘иникии, ’анаане и —ирии как громовержец, бог плодороди€, вод, войны, неба, солнца и прочего.
почитавшимс€ в ‘иникии, ’анаане и —ирии как громовержец, бог плодороди€, вод, войны, неба, солнца и прочего.
ѕервоначально им€ Ѕаал было нарицательным обозначением божества того или иного племени, потом местности (Ѕаал “ира, Ѕаал —идона и др.), в это врем€ его св€тилища приурочивались к источникам, лесам и горам. “итул ЂЅаалї давалс€ кн€зь€м и градоначальникам, входил в им€. Ќапример, упом€нутый в египетской повести XI в. до н.э. Ђкн€зь Ѕибла “екер-Ѕаалї, √аннибал, Ѕалтазар, список царей “ира.
врем€ его св€тилища приурочивались к источникам, лесам и горам. “итул ЂЅаалї давалс€ кн€зь€м и градоначальникам, входил в им€. Ќапример, упом€нутый в египетской повести XI в. до н.э. Ђкн€зь Ѕибла “екер-Ѕаалї, √аннибал, Ѕалтазар, список царей “ира.
¬ ”гарите Ѕаал высоко почиталс€ под именем Ѕалу, имел эпитет Ђ—илачї и ЂЅыкї, был сыном бога ƒагану, его сестрой и возлюбленной была јнат (Ђисточникї, богин€ источников). ћог изображатьс€ в облике могучего быка или воина в рогатом шлеме, что св€зывает его с «евсом, «евсом-јммоном, вавилонским «евсом-Ѕаалом.
¬ ‘иникии он именовалс€ Ѕаал-÷афон (угарит. Ѕаал-÷апану, по названию горы) или просто Ѕаал, Ѕел. Ёпитет ЂЅаалї имели и другие финикийские боги, покровительствующие разным област€м жизни. Ѕог проточной воды и родоначальник морских божеств. —ын Ёла (угарит. »лу). ≈го жена Ч богин€ јстарта, аналог шумерской »штар.
÷ентр культа был в “ире, отсюда он распространилс€ и в древнем »зраильском царстве и в »удее.
ѕочиталс€ Ѕаал и в финикийском арфагене (им€ √аннибал означает Ђлюбимец Ѕаалаї); через финикийцев и карфаген€н постепенно во XX-X веке до н.э. культ Ѕаала распространилс€ далеко на «апад (в ≈гипет, »спанию и др.). »мператор √елиогабал (Ёлагабал) перенес его культ в –им.
ЅјјЋ-’јћћќЌ
¬ арфаген культ Ѕаал-’аммона был привезен новой волной переселенцев из “ира в VII-VI веках до н.э. Ѕетели с его именем встречаютс€ с VI века до н.э., вскоре по€вл€ютс€ изображени€ бога в типичном переднеазиатском стиле Ч мощного бородатого старца в длинной, часто плиссированной одежде, восседающего на троне, обычно украшенном керубами. Ќа голове Ѕаала Ч высока€ коническа€ тиара с пелериной, либо корона из перьев, правую руку он поднимает в благословл€ющем жесте, в левой держит посох с навершием в виде шишки сосны, либо одного или трех хлебных колосьев. –€дом с головой часто помещаетс€ крылатый солнечный диск (‘аравахар), как на египетских барельефах (символ √ора Ѕехдетского).
переднеазиатском стиле Ч мощного бородатого старца в длинной, часто плиссированной одежде, восседающего на троне, обычно украшенном керубами. Ќа голове Ѕаала Ч высока€ коническа€ тиара с пелериной, либо корона из перьев, правую руку он поднимает в благословл€ющем жесте, в левой держит посох с навершием в виде шишки сосны, либо одного или трех хлебных колосьев. –€дом с головой часто помещаетс€ крылатый солнечный диск (‘аравахар), как на египетских барельефах (символ √ора Ѕехдетского).
ѕриблизительно с середины V века до н.э. Ѕаал-’аммон начинает почитатьс€ вместе с “анит, полное им€ которой Ђ“аннит перед Ѕааломї, составив с ней божественную пару. ¬ других финикийских колони€х (на ћальте, ћотии и в —ардинии) это добавление засвидетельствовано позже Ч в IV веке до н.э.
јтрибуты свидетельствуют о Ѕаал-’аммоне как о божестве плодороди€ и сол€рном божестве; соснова€ шишка Ч символ бессмерти€ и мужской плодовитости. Ќа гемме VII-VI века до н.э. трон бога стоит на ладье, плывущей по водам подземного океана, на что указывают стебли растений, растущие вниз, следовательно, он может рассматриватьс€ как владыка небесного, земного и поземного мира.
√реки отождествл€ли его с роносом, образ которого в Ђ“еогонииї √есиода очень похож на хуррито-хеттского умарби, отождествл€вшегос€ семитами с богом плодороди€ ƒагоном, тот же, в свою очередь, почиталс€ в —ирии и Ћиване как Ѕаал-’амон, а в эллинистическое врем€ как ронос.
¬ римское врем€ Ѕаал-’аммон отождествл€лс€ с —атурном, который в италийской мифологии был божеством плодороди€; в римских надпис€х, посв€щенных Ѕаал-’аммону, он именуетс€ senex (Ђстарецї),¹ frugifer (Ђплодоносныйї), deus frugum (Ђбог злаковї) и genitor (Ђродительї). »зображение бога было отчеканено на денарии лоди€ јльбина, боровшегос€ за императорскую власть в 193-197 годах и происходившего из √адрумета, где в эпоху јвгуста чеканились монеты с изображением Ѕаал-’аммона.
ак и “анит, Ѕаал-’аммону приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. ” греков карфагенские обычаи вызывали отвращение, и ѕлутарх сообщает, что тиран √елон, разгромивший карфаген€н в битве при √имере, специально вписал в мирный договор условие, запрещавшее им впредь приносить своих детей в жертву роносу.
ќдно из крупнейших жертвоприношений было совершено в 310 до н.э., когда арфаген был осажден јгафоклом. —вои неудачи пунийцы объ€сн€ли отходом от старинного благочести€ и тем, что вместо собственных детей уже довольно долгое врем€ богу приносили чужих Ч купленных и тайно выращенных. „тобы умилостивить гнев божества в жертву принесли 200 детей из благородных семей, и еще 300 человек принесли себ€ в жертву добровольно [ƒиодор. XX:14, 4].
_______________________________
[1] Еон именуетс€ senex (Ђстарецї), frugifer (Ђплодоносныйї), deus frugum (Ђбог злаковї)Е (÷иркин ё.Ѕ. арфаген и его культура) Ч эпитет Ѕаала-’аммона Ђстарецї, в сочетании с другим эпитетом Ђбог злаковї Ч удивительно перекликаетс€ с такими же эпитетами египетского ќсириса, о чем свидетельствуют ‘резер и Ёлиаде ћирча:
ЕЂегипетские жнецы, следу€ древнему обычаю, бьют себ€ в грудь и громко причитают над первым срезанным снопом, обраща€сь с мольбой к »сиде. ћоление это принимает форму траурного песнопени€, которому греки дали название μανέρως. “акого же рода жалобные напевы исполн€лись жнецами в ‘иникии и в других област€х «ападной јзии. Ёти скорбные мелодии были предназначены, видимо, дл€ оплакивани€ бога зерна, наход€щего смерть под серпами жнецов. ”мерщвл€емым божеством египт€н был ќсирис. Ќазвание погребальной песни Ч ћанерос Ч €вл€етс€, по всей веро€тности, производным от греческих слов Ђ¬ернись домой!ї Ч слов, которые часто встречаютс€ в причитани€х по мертвому богу.
(Е)
ѕредставление о смерти духа зерна во врем€ жатвы нашло свое пр€мое отражение в обычае, соблюдаемом арабским населением ћоаба. огда жатва близитс€ к завершению и остаетс€ убрать зерно на маленьком участке пол€, владелец пол€ берет в руки сноп пшеницы. «атем вырывают €му в виде могилы и, как на обычных похоронах, вертикально став€т в нее два камн€: один Ч в изголовье, а другой Ч в ноги. ѕосле этого сноп погружают на дно могилы и шейх произносит слова: Ђ—тарик мертвї. «атем сноп засыпают землей, повтор€€ молитву: Ђƒа ниспошлет нам јллах пшеницу покойногої.ї
(‘резер. «олота€ ветвь)
Ђ¬ ≈гипте XX века ритуальные снопы обв€зываютс€ точно так же, как на древних пам€тниках, которые в свою очередь воспроизвод€т обычай, унаследованный от доисторических времен. ¬ јравии ѕетрее последний сноп закапываетс€ в землю под именем Ђ—тарикаї, т.е. под тем же именем, которое он носил в ≈гипте фараонов.ї (Ђ»стори€ веры и религиозных идейї Ёлиаде ћирча)
ЅјјЋ-“ј–—
Ѕаал-“арс (Ђ¬ладыка “арсаї) Ч бог ѕерсидской империи, топонимически прив€занный к городу “арсу, в иликии. Ќа иконографию Ѕаал-“арса серьезно повли€ла эллинистическа€ традици€.
Ќа прот€жении IV-I веков до н.э. на всем пространстве восточного —редиземноморь€ шел процесс эллинизации, то есть перен€ти€ местным населением греческого €зыка, культуры, обычаев и традиций. ћеханизм и причины подобного процесса заключались, по большей части, в особенност€х политической и социальной структуры эллинистических государств. Ёлиту эллинистического общества составл€ли преимущественно представители греко-македонской аристократии. ќни принесли на ¬осток греческие религию и обычаи, активно насажда€ их вокруг себ€.
„ерез отождествление местных богов с греческими, происходил м€гкий процесс их синкретизации («евс-јммон, «евс-Ѕаал, и др.). ≈сли раньше образ Ѕаала имел откровенно египетское вли€ние (кеглеобразна€ корона хеджет, набедренна€ пов€зка, сама стилистика в целом), то образ «евса-Ѕаала имеет уже греческие каноны верховного божества: трон (на котором «евс обычно восседает), борода, длинный греческий хитон (или гиматий), скипетр, орел.
Ќачалом эллинистической экспансии прин€то считать создание империи јлександра ћакедонского, ее распад и образование эллинистических государств (336-280 до н.э.). “ем более удивительно наблюдать откровенно греческую иконографию Ѕаал-“арса на монетах отчеканенных ‘арнабазом II, персидским военачальником и сатрапом ‘ригии и иликии в 380-375 до н.э. — VI в. до н.э. илики€ входила в состав персидского царства јхеменидов, и только в 333 до н.э. завоевана јлександром ћакедонским. » тем не менее, даже на закате јхеменидской империи образ Ѕаал-“арса весьма далек от персидского, что говорит о серьезном вли€нии греческой культуры на јнатолию, и во времена персидского владычества и, конечно же, в доахеменидскую эпоху.
“очно така€ же иконографи€ Ѕаал-“арса отражена на монетах отчеканенных и другими правител€ми иликии, например, ƒатамом, военачальником и сатрапом персидской провинции аппадоки€ (граничащей с иликией) в 385-362 до н.э. ƒатам был карийцем по рождению. ≈го отец был сатрапом иликии и фаворитом персидского цар€ јртаксеркса II. ƒатам, будучи одним из телохранителей цар€, отличилс€ в войне јртаксеркса против кадусиев, и был назначен на должность сатрапа вместо отца, павшего в этой войне.
_______________________________

ƒатам (Tarkumuwa), сатрап аппадокии и иликии в 385-362 до н.э. “арс, илики€. —татер (AR 10.51g), ок. 375 до н.э.
Av: Ѕаал-“арс, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр, на навершии которого сидит орел, в левой руке Ч гроздь винограда и пшеничный колос; за ним Ч фимиатерион, сосуд дл€ курени€ благовоний; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: сатрап “аркумува (ƒатам) в персидской одежде сидит на троне со стрелой в руке; справа Ч лук, выше Ч крылатый солнечный диск (‘аравахар); TRKMW (на арамейском €зыке).
_______________________________

ƒатам (Tarkumuwa), сатрап аппадокии и иликии в 385-362 до н.э. “арс, илики€.
—татер (AR 23mm, 10.30g), ок. 370 до н.э.
Av: Ѕаал-“арс, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр, на навершии которого сидит орел; в левой руке Ч гроздь винограда и пшеничный колос; за ним Ч фимиатерион, сосуд дл€ курени€ благовоний; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: слева бог јну с подн€той рукой, справа сатрап “аркумува (ƒатам), между ними Ч курительница дл€ благовоний; TRKMW (на арамейском €зыке).
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€. —татер (AR 10.72g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; на голове Ч венок, в правой руке Ч гроздь винограда, пшеничный колос и орел, в левой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев, терзающий на быка; MZDY (на арамейском €зыке).
_______________________________

‘арнабаз II, персидский военачальник и сатрап ‘ригии и иликии ок. 380-375 до н.э. “арс, илики€.
—татер (AR 10.75g), ок. 370 до н.э.
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: голова јреса в аттическом шлеме; FRNBZW / HLK (на арамейском €зыке).
_______________________________
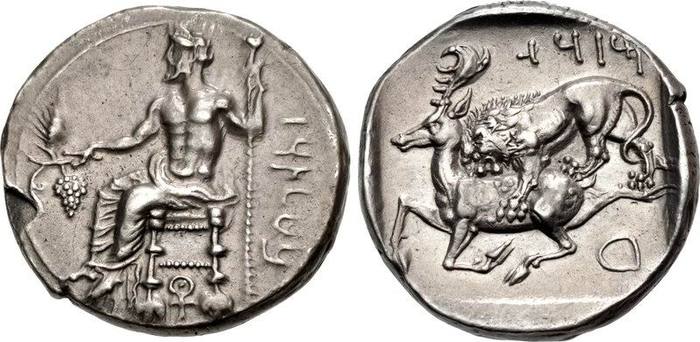
ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
—татер (AR 25mm, 10.77g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч гроздь винограда и пшеничный колос, в левой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; внизу Ч анкх; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев, терзающий олен€; MZDY (на арамейском €зыке).
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
—татер (AR 23mm, 10.51g).
Av: Ѕаал-“арс, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр на котором сидит орел; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев, над ним Ч символ солнца, ниже Ч серп луны; MZDY (на арамейском €зыке).
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
—татер (AR 23mm, 10.81g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне и с венком на голове, восседающий на троне, в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; слева фимиатерион, сосуд дл€ курени€ благовоний, на котором сидит орел; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев, идущий влево.
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап провинции илики€ при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. ћириандр, илики€. —татер (AR 23mm, 10.33g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, слева Ч двойной топор (лабрис); B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев; MZDY (на арамейском €зыке).
_______________________________

Ѕалакр, сатрап иликии в 333-324 до н.э. (после ее присоединени€ к ћакедонскому царству). “арс, илики€.
—татер (AR 10.90g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, слева Ч пшеничный колос; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев терзающий быка, вверху Ч булава и "B", внизу Ч два р€да крепостных стен.
_______________________________

Ѕалакр, сатрап иликии в 333-324 до н.э. (после ее присоединени€ к ћакедонскому царству). —олы, илики€.
—татер (AR 10.94g).
Av: Ѕаал-“арс, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, слева Ч гроздь винограда и пшеничный колос; Σ
Rv: бюст јфины в аттическом шлеме с трехчастным гребнем.
_______________________________

ѕерси€, »мпери€ јлександра ¬еликого. “етрадрахма (AR 25mm, 17.06g), 328-311 до н.э.
Av: «евс в хитоне, восседающий на троне, в правой руке Ч скипетр; M
Rv: лев, идущий влево; √
_______________________________

јлександр III ¬еликий (336-323 до н.э.). “арс, илики€, ћакедонское царство.
“етрадрахма (AR 25mm, 17.21g), ок. 333-327 до н.э.
Av: јлександр в образе √еракла;
Rv: «евс Ётофор, восседающий на троне с орлом и скипетром; слева богин€ Ќика и кадуцей; BAΣIΛEΩΣ AΛEΞANΔΡOΥ
_______________________________

јлександр III ¬еликий (336-323 до н.э.). ћиласа, ари€, ћакедонское царство.
“етрадрахма (AR 25mm, 17.24g), ок. 333-327 до н.э.
Av: јлександр в образе √еракла в львиной шкуре;
Rv: «евс Ётофор, восседающий на троне с орлом и скипетром, слева Ч лабарум; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
_______________________________

јлександр III ¬еликий (336-323 до н.э.). ћемфис, ћакедонское царство.
“етрадрахма (AR 26mm, 17.04g), ок. 332-323 до н.э.
Av: јлександр в образе √еракла в львиной шкуре;
Rv: «евс Ётофор, восседающий на троне с орлом и скипетром; слева голова барана в короне јмона шути; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
_______________________________
— закатом јхеменидской империи, восстанавливаетс€ эллинистическое культурно-религиозное вли€ние на анатолийские провинции. » Ѕаалы бывших персидских сатрапий обретают, видимо, прежнее им€ Ђ«евсї.² Ѕольшой попул€рностью в провинци€х ћакедонского царства пользовалс€ образ «евса Ётофора (Ἀετοφόρος, Ђдержащий орлаї), на руке которого сидит орел (св€щенна€ птица «евса и его атрибут).
_______________________________
[2] Ќа сколько можно судить по чеканке монет, малоазийские Ѕаалы даже во времена ѕерсидской империи никак не отличимы от греческой иконографии «евса.
’ристианский писатель ≈всевий в своих трудах отмечал, что финикийцы бо€лись произносить имена богов, поэтому называли их ЂЁлї Ч бог, ЂЅаалї Ч владыка, Ђјдонї Ч господь. «апрет на произношение св€щенного имени бога финикийцы перен€ли у египт€н, и традици€ эта (как мы видим) была также восприн€та и другими народами.
Ћюбопытно, что недалеко от иликии, в Ћабранде ( ари€), при династии √екатомна, который был назначен сатрапом арии в 385 году до н.э. јртаксерксом II, было построено (на месте более древнего) знаменитое св€тилище «евса Ћабрандейского (Λαβρανδεύς). ѕри раскопках была найдена посв€тительна€ надпись »дре€ (351-344 до н.э.), второго из трех сыновей цар€ √екатомна: Ђ»дрей, сын √екатомна из ћиласа посв€щает андрон «евсу Ћабрандейскомуї (IΔPIEYΣ EKATOMNΩ MYΛAΣEYΣ ANEΘHKE TON ANΔPΩNA ΔII ΛAMBPAYNΔΩI). ќтличительной особенностью «евса Ћабрандейского €вл€етс€ наличие у него двойного топора. ѕо словам ѕлутарха, собственно, из-за боевого топора «евс и получил свой эпитет, потому что боевой топор у лидийцев называетс€ Ђлабрисомї.
‘еофраст в сочинении Ђќ водахї тоже упоминает храм «евса-¬ладыки (Ζηνοποσειδῶν) в арии. Ζηνοποσειδῶν Ч греческое им€ божества, почитавшегос€ в арии под именем ќсого (греч. Ὀσόγω, Ὀσόγωα). —амые ранние упоминани€ об этом божестве в письменных источниках относ€тс€ к IV в. до н.э. —охранились монеты с изображением «евса ќсого; его атрибуты Ч трезубец, краб, орел. Ќа св€зь «евса ќсого с морской стихией указывает ѕавсаний.
_______________________________

ћавсол (Μαύσωλος), старший сын √екатомна, сатрап арии в 377-353 до н.э. ћиласа (Μύλασα), ари€.
“етрадрахма (AR 23mm, 15.28g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандейский с двойным топором и копьем; MAYΣΣΩΛΛO
_______________________________

»дрей (Ἱδριεύς), сын √екатомна, сатрап арии в 351-344 до н.э. ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 24mm, 14.72g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандейский с двойным топором и копьем; IΔPIEΩΣ
_______________________________

ћиласа (Μύλασα), ари€. “етрадрахма (AR 13.46g), III в. до н.э. ћагистрат »реней (Ειρηναίος).
Av: «евс Ћабрандейский с двойным топором и скипетром;
Rv: «евс ќсого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / EIPHNAIOΣ
_______________________________

√екатомн (Ἑκατόμνος), сатрап арии в 385-377 до н.э. ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 23mm, 14.65g).
Av: «евс Ћабрандейский с двойным топором и копьем;
Rv: лев; EKATOMNΩ
_______________________________
PS
≈ще несколько монет с изображением Ѕаала на анатолийских монетах времЄн империи јхеменидов:

јриарат I (Aριαραθης), сатрап аппадокии в 350-322 до н.э. √азиура, аппадоки€. ƒрахма (AR 5.28g).
Av: Ѕаал-√азур (¬ладыка √азиуры) в хитоне, восседающий на троне; на голове Ч венок, в правой руке Ч гроздь винограда, пшеничный колос и орел, в левой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; B'L GZYR (на арамейском €зыке);
Rv: крылатый грифон, терзающий олен€.
_______________________________

“ирибаз (Τιρίβαζος, 385-380 до н.э.). »сс (Ισσός), илики€. —татер (AR 10.48g).
Av: Ѕаал в хитоне, держит в правой руке орла, в левой Ч скипетр;
Rv: безбородый √еракл держит в левой руке лук и шкуру льва, в правой Ч палицу.
_______________________________

“ирибаз, сатрап Ћидии в 388-380 до н.э. —татер (AR 20mm, 10.33g), 384/3 до н.э.
Av: Ѕаал в хитоне, держит в правой руке орла, в левой Ч скипетр; MAP (на греческом) TRBZW (на арамейском €зыке);
Rv: фаравахар, сочетающий в себе крылатый солнечный диск и торс јхура-ћазды с венком и цветком лотоса в руках (аналог √ора Ѕехдетского).
_______________________________
¬ызывают интерес монеты с безбородым Ѕаал-“арсом. „еканка монеты с јфиной на реверсе точно не определена по времени, однако на следующей монете, р€дом с безбородым Ѕаал-“арсом, стоит им€ ћазе€. ¬идимо, выступа€ в образе Ѕаал-“арса (т.е. ¬ладыки “арса), ћазей подчеркивал свою власть, в качестве сатрапа, над иликией.
_______________________________

илики€ (Uncertain). ќбол (AR 0.63g), IV в. до н.э.
Av: безбородый Ѕаал-“арс на троне, в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, на левой Ч сидит орел;
Rv: голова јфины в аттическом шлеме.
_______________________________

илики€ (Uncertain). ќбол (AR 0.71g), IV в. до н.э.
Av: безбородый Ѕаал-“арс на троне, в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, на левой Ч сидит орел;
Rv: голова јфины в аттическом шлеме.
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
ќбол (AR 10mm, 0.82g).
Av: ћазей (в образе Ѕаал-“арса) в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; слева надпись MZDY (на арамейском €зыке);
Rv: лев идущий влево, над ним Ч крылатый солнечный диск (‘аравахар).
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
ќбол (AR 10mm, 0.75g).
Av: ћазей (в образе Ѕаал-“арса) в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса;
Rv: лев, над ним Ч символ солнца, ниже Ч серп луны.
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
ќбол (AR 10mm, 0.69g).
Av: ћазей (в образе Ѕаал-“арса), восседающий на троне; в правой руке Ч колос и виноградна€ гроздь, в левой Ч скипетр;
Rv: лев, терзающий олен€.
_______________________________
Ќесколько особн€ком сто€т монеты чеканенные в иликии при сатрапе ћазее (Μαζαῖος), на которых Ѕаал изображен в двойной короне ≈гипта. ѕо мнению ‘рэнка овача (Frank Kovacs), в образе Ѕаал-“арса изображен јртаксеркс III ќх (359-338), тронное им€ которого (др.-перс. Artachšaçá), означает Ђ¬ладеющий праведным царствомї. Ћюбопытно, что на обороте монет этой серии, видимо, изображен ћазей (сатрап провинции) также в двойной короне пшент. ¬озможно, сери€ подобных монет была выпущена в честь второго покорени€ ≈гипта в 342 до н.э.
_______________________________

ћазей (Mazday), сатрап провинции илики€ в 361-328 до н.э. “арс, илики€. —татер (AR 24mm, 10.76g).
Av: Ѕаал-“арс на троне, в двойной короне ≈гипта, в правой руке держит цветок лотоса, в левой руке Ч скипетр; B'LTRZ (на арамейском €зыке).
Rv: лежащий лев, над ним лук.
_______________________________

ћазей (Mazday), сатрап провинции илики€ в 361-328 до н.э. “арс, илики€. ќбол (AR 10mm, 0.74g).
Av: Ѕаал на троне, в двойной короне ≈гипта, в правой руке держит скипетр, в левой руке Ч цветок лотоса.
Rv: голова ћазе€ в двойной короне ≈гипта.
_______________________________
 почитавшимс€ в ‘иникии, ’анаане и —ирии как громовержец, бог плодороди€, вод, войны, неба, солнца и прочего.
почитавшимс€ в ‘иникии, ’анаане и —ирии как громовержец, бог плодороди€, вод, войны, неба, солнца и прочего.ѕервоначально им€ Ѕаал было нарицательным обозначением божества того или иного племени, потом местности (Ѕаал “ира, Ѕаал —идона и др.), в это
 врем€ его св€тилища приурочивались к источникам, лесам и горам. “итул ЂЅаалї давалс€ кн€зь€м и градоначальникам, входил в им€. Ќапример, упом€нутый в египетской повести XI в. до н.э. Ђкн€зь Ѕибла “екер-Ѕаалї, √аннибал, Ѕалтазар, список царей “ира.
врем€ его св€тилища приурочивались к источникам, лесам и горам. “итул ЂЅаалї давалс€ кн€зь€м и градоначальникам, входил в им€. Ќапример, упом€нутый в египетской повести XI в. до н.э. Ђкн€зь Ѕибла “екер-Ѕаалї, √аннибал, Ѕалтазар, список царей “ира.¬ ”гарите Ѕаал высоко почиталс€ под именем Ѕалу, имел эпитет Ђ—илачї и ЂЅыкї, был сыном бога ƒагану, его сестрой и возлюбленной была јнат (Ђисточникї, богин€ источников). ћог изображатьс€ в облике могучего быка или воина в рогатом шлеме, что св€зывает его с «евсом, «евсом-јммоном, вавилонским «евсом-Ѕаалом.
¬ ‘иникии он именовалс€ Ѕаал-÷афон (угарит. Ѕаал-÷апану, по названию горы) или просто Ѕаал, Ѕел. Ёпитет ЂЅаалї имели и другие финикийские боги, покровительствующие разным област€м жизни. Ѕог проточной воды и родоначальник морских божеств. —ын Ёла (угарит. »лу). ≈го жена Ч богин€ јстарта, аналог шумерской »штар.
÷ентр культа был в “ире, отсюда он распространилс€ и в древнем »зраильском царстве и в »удее.
ѕочиталс€ Ѕаал и в финикийском арфагене (им€ √аннибал означает Ђлюбимец Ѕаалаї); через финикийцев и карфаген€н постепенно во XX-X веке до н.э. культ Ѕаала распространилс€ далеко на «апад (в ≈гипет, »спанию и др.). »мператор √елиогабал (Ёлагабал) перенес его культ в –им.
ЅјјЋ-’јћћќЌ
¬ арфаген культ Ѕаал-’аммона был привезен новой волной переселенцев из “ира в VII-VI веках до н.э. Ѕетели с его именем встречаютс€ с VI века до н.э., вскоре по€вл€ютс€ изображени€ бога в типичном
 переднеазиатском стиле Ч мощного бородатого старца в длинной, часто плиссированной одежде, восседающего на троне, обычно украшенном керубами. Ќа голове Ѕаала Ч высока€ коническа€ тиара с пелериной, либо корона из перьев, правую руку он поднимает в благословл€ющем жесте, в левой держит посох с навершием в виде шишки сосны, либо одного или трех хлебных колосьев. –€дом с головой часто помещаетс€ крылатый солнечный диск (‘аравахар), как на египетских барельефах (символ √ора Ѕехдетского).
переднеазиатском стиле Ч мощного бородатого старца в длинной, часто плиссированной одежде, восседающего на троне, обычно украшенном керубами. Ќа голове Ѕаала Ч высока€ коническа€ тиара с пелериной, либо корона из перьев, правую руку он поднимает в благословл€ющем жесте, в левой держит посох с навершием в виде шишки сосны, либо одного или трех хлебных колосьев. –€дом с головой часто помещаетс€ крылатый солнечный диск (‘аравахар), как на египетских барельефах (символ √ора Ѕехдетского).ѕриблизительно с середины V века до н.э. Ѕаал-’аммон начинает почитатьс€ вместе с “анит, полное им€ которой Ђ“аннит перед Ѕааломї, составив с ней божественную пару. ¬ других финикийских колони€х (на ћальте, ћотии и в —ардинии) это добавление засвидетельствовано позже Ч в IV веке до н.э.
јтрибуты свидетельствуют о Ѕаал-’аммоне как о божестве плодороди€ и сол€рном божестве; соснова€ шишка Ч символ бессмерти€ и мужской плодовитости. Ќа гемме VII-VI века до н.э. трон бога стоит на ладье, плывущей по водам подземного океана, на что указывают стебли растений, растущие вниз, следовательно, он может рассматриватьс€ как владыка небесного, земного и поземного мира.
√реки отождествл€ли его с роносом, образ которого в Ђ“еогонииї √есиода очень похож на хуррито-хеттского умарби, отождествл€вшегос€ семитами с богом плодороди€ ƒагоном, тот же, в свою очередь, почиталс€ в —ирии и Ћиване как Ѕаал-’амон, а в эллинистическое врем€ как ронос.
¬ римское врем€ Ѕаал-’аммон отождествл€лс€ с —атурном, который в италийской мифологии был божеством плодороди€; в римских надпис€х, посв€щенных Ѕаал-’аммону, он именуетс€ senex (Ђстарецї),¹ frugifer (Ђплодоносныйї), deus frugum (Ђбог злаковї) и genitor (Ђродительї). »зображение бога было отчеканено на денарии лоди€ јльбина, боровшегос€ за императорскую власть в 193-197 годах и происходившего из √адрумета, где в эпоху јвгуста чеканились монеты с изображением Ѕаал-’аммона.
ак и “анит, Ѕаал-’аммону приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. ” греков карфагенские обычаи вызывали отвращение, и ѕлутарх сообщает, что тиран √елон, разгромивший карфаген€н в битве при √имере, специально вписал в мирный договор условие, запрещавшее им впредь приносить своих детей в жертву роносу.
ќдно из крупнейших жертвоприношений было совершено в 310 до н.э., когда арфаген был осажден јгафоклом. —вои неудачи пунийцы объ€сн€ли отходом от старинного благочести€ и тем, что вместо собственных детей уже довольно долгое врем€ богу приносили чужих Ч купленных и тайно выращенных. „тобы умилостивить гнев божества в жертву принесли 200 детей из благородных семей, и еще 300 человек принесли себ€ в жертву добровольно [ƒиодор. XX:14, 4].
_______________________________
[1] Еон именуетс€ senex (Ђстарецї), frugifer (Ђплодоносныйї), deus frugum (Ђбог злаковї)Е (÷иркин ё.Ѕ. арфаген и его культура) Ч эпитет Ѕаала-’аммона Ђстарецї, в сочетании с другим эпитетом Ђбог злаковї Ч удивительно перекликаетс€ с такими же эпитетами египетского ќсириса, о чем свидетельствуют ‘резер и Ёлиаде ћирча:
ЕЂегипетские жнецы, следу€ древнему обычаю, бьют себ€ в грудь и громко причитают над первым срезанным снопом, обраща€сь с мольбой к »сиде. ћоление это принимает форму траурного песнопени€, которому греки дали название μανέρως. “акого же рода жалобные напевы исполн€лись жнецами в ‘иникии и в других област€х «ападной јзии. Ёти скорбные мелодии были предназначены, видимо, дл€ оплакивани€ бога зерна, наход€щего смерть под серпами жнецов. ”мерщвл€емым божеством египт€н был ќсирис. Ќазвание погребальной песни Ч ћанерос Ч €вл€етс€, по всей веро€тности, производным от греческих слов Ђ¬ернись домой!ї Ч слов, которые часто встречаютс€ в причитани€х по мертвому богу.
(Е)
ѕредставление о смерти духа зерна во врем€ жатвы нашло свое пр€мое отражение в обычае, соблюдаемом арабским населением ћоаба. огда жатва близитс€ к завершению и остаетс€ убрать зерно на маленьком участке пол€, владелец пол€ берет в руки сноп пшеницы. «атем вырывают €му в виде могилы и, как на обычных похоронах, вертикально став€т в нее два камн€: один Ч в изголовье, а другой Ч в ноги. ѕосле этого сноп погружают на дно могилы и шейх произносит слова: Ђ—тарик мертвї. «атем сноп засыпают землей, повтор€€ молитву: Ђƒа ниспошлет нам јллах пшеницу покойногої.ї
(‘резер. «олота€ ветвь)
Ђ¬ ≈гипте XX века ритуальные снопы обв€зываютс€ точно так же, как на древних пам€тниках, которые в свою очередь воспроизвод€т обычай, унаследованный от доисторических времен. ¬ јравии ѕетрее последний сноп закапываетс€ в землю под именем Ђ—тарикаї, т.е. под тем же именем, которое он носил в ≈гипте фараонов.ї (Ђ»стори€ веры и религиозных идейї Ёлиаде ћирча)
ЅјјЋ-“ј–—
Ѕаал-“арс (Ђ¬ладыка “арсаї) Ч бог ѕерсидской империи, топонимически прив€занный к городу “арсу, в иликии. Ќа иконографию Ѕаал-“арса серьезно повли€ла эллинистическа€ традици€.
Ќа прот€жении IV-I веков до н.э. на всем пространстве восточного —редиземноморь€ шел процесс эллинизации, то есть перен€ти€ местным населением греческого €зыка, культуры, обычаев и традиций. ћеханизм и причины подобного процесса заключались, по большей части, в особенност€х политической и социальной структуры эллинистических государств. Ёлиту эллинистического общества составл€ли преимущественно представители греко-македонской аристократии. ќни принесли на ¬осток греческие религию и обычаи, активно насажда€ их вокруг себ€.
„ерез отождествление местных богов с греческими, происходил м€гкий процесс их синкретизации («евс-јммон, «евс-Ѕаал, и др.). ≈сли раньше образ Ѕаала имел откровенно египетское вли€ние (кеглеобразна€ корона хеджет, набедренна€ пов€зка, сама стилистика в целом), то образ «евса-Ѕаала имеет уже греческие каноны верховного божества: трон (на котором «евс обычно восседает), борода, длинный греческий хитон (или гиматий), скипетр, орел.
Ќачалом эллинистической экспансии прин€то считать создание империи јлександра ћакедонского, ее распад и образование эллинистических государств (336-280 до н.э.). “ем более удивительно наблюдать откровенно греческую иконографию Ѕаал-“арса на монетах отчеканенных ‘арнабазом II, персидским военачальником и сатрапом ‘ригии и иликии в 380-375 до н.э. — VI в. до н.э. илики€ входила в состав персидского царства јхеменидов, и только в 333 до н.э. завоевана јлександром ћакедонским. » тем не менее, даже на закате јхеменидской империи образ Ѕаал-“арса весьма далек от персидского, что говорит о серьезном вли€нии греческой культуры на јнатолию, и во времена персидского владычества и, конечно же, в доахеменидскую эпоху.
“очно така€ же иконографи€ Ѕаал-“арса отражена на монетах отчеканенных и другими правител€ми иликии, например, ƒатамом, военачальником и сатрапом персидской провинции аппадоки€ (граничащей с иликией) в 385-362 до н.э. ƒатам был карийцем по рождению. ≈го отец был сатрапом иликии и фаворитом персидского цар€ јртаксеркса II. ƒатам, будучи одним из телохранителей цар€, отличилс€ в войне јртаксеркса против кадусиев, и был назначен на должность сатрапа вместо отца, павшего в этой войне.
_______________________________

ƒатам (Tarkumuwa), сатрап аппадокии и иликии в 385-362 до н.э. “арс, илики€. —татер (AR 10.51g), ок. 375 до н.э.
Av: Ѕаал-“арс, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр, на навершии которого сидит орел, в левой руке Ч гроздь винограда и пшеничный колос; за ним Ч фимиатерион, сосуд дл€ курени€ благовоний; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: сатрап “аркумува (ƒатам) в персидской одежде сидит на троне со стрелой в руке; справа Ч лук, выше Ч крылатый солнечный диск (‘аравахар); TRKMW (на арамейском €зыке).
_______________________________

ƒатам (Tarkumuwa), сатрап аппадокии и иликии в 385-362 до н.э. “арс, илики€.
—татер (AR 23mm, 10.30g), ок. 370 до н.э.
Av: Ѕаал-“арс, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр, на навершии которого сидит орел; в левой руке Ч гроздь винограда и пшеничный колос; за ним Ч фимиатерион, сосуд дл€ курени€ благовоний; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: слева бог јну с подн€той рукой, справа сатрап “аркумува (ƒатам), между ними Ч курительница дл€ благовоний; TRKMW (на арамейском €зыке).
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€. —татер (AR 10.72g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; на голове Ч венок, в правой руке Ч гроздь винограда, пшеничный колос и орел, в левой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев, терзающий на быка; MZDY (на арамейском €зыке).
_______________________________

‘арнабаз II, персидский военачальник и сатрап ‘ригии и иликии ок. 380-375 до н.э. “арс, илики€.
—татер (AR 10.75g), ок. 370 до н.э.
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: голова јреса в аттическом шлеме; FRNBZW / HLK (на арамейском €зыке).
_______________________________
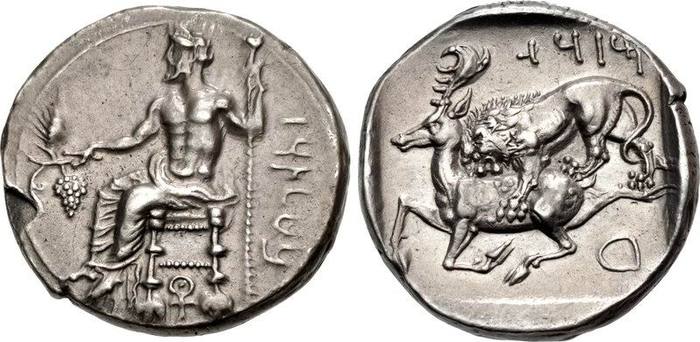
ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
—татер (AR 25mm, 10.77g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч гроздь винограда и пшеничный колос, в левой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; внизу Ч анкх; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев, терзающий олен€; MZDY (на арамейском €зыке).
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
—татер (AR 23mm, 10.51g).
Av: Ѕаал-“арс, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр на котором сидит орел; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев, над ним Ч символ солнца, ниже Ч серп луны; MZDY (на арамейском €зыке).
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
—татер (AR 23mm, 10.81g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне и с венком на голове, восседающий на троне, в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; слева фимиатерион, сосуд дл€ курени€ благовоний, на котором сидит орел; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев, идущий влево.
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап провинции илики€ при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. ћириандр, илики€. —татер (AR 23mm, 10.33g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, слева Ч двойной топор (лабрис); B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев; MZDY (на арамейском €зыке).
_______________________________

Ѕалакр, сатрап иликии в 333-324 до н.э. (после ее присоединени€ к ћакедонскому царству). “арс, илики€.
—татер (AR 10.90g).
Av: Ѕаал-“арс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, слева Ч пшеничный колос; B'LTRZ (на арамейском €зыке);
Rv: лев терзающий быка, вверху Ч булава и "B", внизу Ч два р€да крепостных стен.
_______________________________

Ѕалакр, сатрап иликии в 333-324 до н.э. (после ее присоединени€ к ћакедонскому царству). —олы, илики€.
—татер (AR 10.94g).
Av: Ѕаал-“арс, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, слева Ч гроздь винограда и пшеничный колос; Σ
Rv: бюст јфины в аттическом шлеме с трехчастным гребнем.
_______________________________

ѕерси€, »мпери€ јлександра ¬еликого. “етрадрахма (AR 25mm, 17.06g), 328-311 до н.э.
Av: «евс в хитоне, восседающий на троне, в правой руке Ч скипетр; M
Rv: лев, идущий влево; √
_______________________________

јлександр III ¬еликий (336-323 до н.э.). “арс, илики€, ћакедонское царство.
“етрадрахма (AR 25mm, 17.21g), ок. 333-327 до н.э.
Av: јлександр в образе √еракла;
Rv: «евс Ётофор, восседающий на троне с орлом и скипетром; слева богин€ Ќика и кадуцей; BAΣIΛEΩΣ AΛEΞANΔΡOΥ
_______________________________

јлександр III ¬еликий (336-323 до н.э.). ћиласа, ари€, ћакедонское царство.
“етрадрахма (AR 25mm, 17.24g), ок. 333-327 до н.э.
Av: јлександр в образе √еракла в львиной шкуре;
Rv: «евс Ётофор, восседающий на троне с орлом и скипетром, слева Ч лабарум; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
_______________________________

јлександр III ¬еликий (336-323 до н.э.). ћемфис, ћакедонское царство.
“етрадрахма (AR 26mm, 17.04g), ок. 332-323 до н.э.
Av: јлександр в образе √еракла в львиной шкуре;
Rv: «евс Ётофор, восседающий на троне с орлом и скипетром; слева голова барана в короне јмона шути; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
_______________________________
— закатом јхеменидской империи, восстанавливаетс€ эллинистическое культурно-религиозное вли€ние на анатолийские провинции. » Ѕаалы бывших персидских сатрапий обретают, видимо, прежнее им€ Ђ«евсї.² Ѕольшой попул€рностью в провинци€х ћакедонского царства пользовалс€ образ «евса Ётофора (Ἀετοφόρος, Ђдержащий орлаї), на руке которого сидит орел (св€щенна€ птица «евса и его атрибут).
_______________________________
[2] Ќа сколько можно судить по чеканке монет, малоазийские Ѕаалы даже во времена ѕерсидской империи никак не отличимы от греческой иконографии «евса.
’ристианский писатель ≈всевий в своих трудах отмечал, что финикийцы бо€лись произносить имена богов, поэтому называли их ЂЁлї Ч бог, ЂЅаалї Ч владыка, Ђјдонї Ч господь. «апрет на произношение св€щенного имени бога финикийцы перен€ли у египт€н, и традици€ эта (как мы видим) была также восприн€та и другими народами.
Ћюбопытно, что недалеко от иликии, в Ћабранде ( ари€), при династии √екатомна, который был назначен сатрапом арии в 385 году до н.э. јртаксерксом II, было построено (на месте более древнего) знаменитое св€тилище «евса Ћабрандейского (Λαβρανδεύς). ѕри раскопках была найдена посв€тительна€ надпись »дре€ (351-344 до н.э.), второго из трех сыновей цар€ √екатомна: Ђ»дрей, сын √екатомна из ћиласа посв€щает андрон «евсу Ћабрандейскомуї (IΔPIEYΣ EKATOMNΩ MYΛAΣEYΣ ANEΘHKE TON ANΔPΩNA ΔII ΛAMBPAYNΔΩI). ќтличительной особенностью «евса Ћабрандейского €вл€етс€ наличие у него двойного топора. ѕо словам ѕлутарха, собственно, из-за боевого топора «евс и получил свой эпитет, потому что боевой топор у лидийцев называетс€ Ђлабрисомї.
Ђ” миласийцев есть два св€тилища «евса: одно Ч так называемого «евса ќсого; другое Ч «евса Ћабрандинского. ѕервое находитс€ в городе, а Ћабранды Ч селение вдали от города, на горе, вблизи прохода из јлабанд в ћиласы. ¬ Ћабрандах есть древний храм и дерев€нна€ стату€ «евса —трати€, почитаема€ окрестными жител€ми и миласийцами. ќт св€тилища до города идет мощена€ дорога длиной почти что 60 стадий, называема€ св€щенной; по ней движутс€ св€щенные праздничные процессии. ∆реческие должности всегда пожизненно занимают знатнейшие граждане. Ёти храмы принадлежат собственно городу, третий же храм Ч «евса арийского Ч €вл€етс€ общим св€тилищем всех карийцев; в нем имеют долю как брать€ лидийцы и мисийцы.ї
(—трабон. √еографи€, нига XIV, II, 23.)
‘еофраст в сочинении Ђќ водахї тоже упоминает храм «евса-¬ладыки (Ζηνοποσειδῶν) в арии. Ζηνοποσειδῶν Ч греческое им€ божества, почитавшегос€ в арии под именем ќсого (греч. Ὀσόγω, Ὀσόγωα). —амые ранние упоминани€ об этом божестве в письменных источниках относ€тс€ к IV в. до н.э. —охранились монеты с изображением «евса ќсого; его атрибуты Ч трезубец, краб, орел. Ќа св€зь «евса ќсого с морской стихией указывает ѕавсаний.
Ђ” кра€ горы находитс€ храм ѕосейдона √иппи€ (ѕокровител€ коней), недалеко от стадиона ћантинеи.
(Е)
≈сть старинное сказание, что морска€ вода по€вл€етс€ в этом св€тилище. Ќечто подобное рассказывают и афин€не относительно морской воды на јкрополе, и из карийцев те, которые занимают ћиласы, рассказывают нечто такое же относительно храма своего бога, которого на своем местном €зыке они называют ќсогоа (Ὀσογῶα). ” афин€н море у гавани ‘алера отстоит от города приблизительно на 20 стадиев; равным образом и у жителей ћилас пристань находитс€ стади€х в 80 от города. ј ведь ћантине€ находитс€ еще дальше от мор€, и то, что морска€ вода по€вл€етс€ у них на столь далеком рассто€нии, совершенно €вно указывает на божье соизволение.ї
(ѕавсаний VIII. 10.4)
_______________________________

ћавсол (Μαύσωλος), старший сын √екатомна, сатрап арии в 377-353 до н.э. ћиласа (Μύλασα), ари€.
“етрадрахма (AR 23mm, 15.28g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандейский с двойным топором и копьем; MAYΣΣΩΛΛO
_______________________________

»дрей (Ἱδριεύς), сын √екатомна, сатрап арии в 351-344 до н.э. ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 24mm, 14.72g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандейский с двойным топором и копьем; IΔPIEΩΣ
_______________________________

ћиласа (Μύλασα), ари€. “етрадрахма (AR 13.46g), III в. до н.э. ћагистрат »реней (Ειρηναίος).
Av: «евс Ћабрандейский с двойным топором и скипетром;
Rv: «евс ќсого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / EIPHNAIOΣ
_______________________________

√екатомн (Ἑκατόμνος), сатрап арии в 385-377 до н.э. ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 23mm, 14.65g).
Av: «евс Ћабрандейский с двойным топором и копьем;
Rv: лев; EKATOMNΩ
_______________________________
PS
≈ще несколько монет с изображением Ѕаала на анатолийских монетах времЄн империи јхеменидов:

јриарат I (Aριαραθης), сатрап аппадокии в 350-322 до н.э. √азиура, аппадоки€. ƒрахма (AR 5.28g).
Av: Ѕаал-√азур (¬ладыка √азиуры) в хитоне, восседающий на троне; на голове Ч венок, в правой руке Ч гроздь винограда, пшеничный колос и орел, в левой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; B'L GZYR (на арамейском €зыке);
Rv: крылатый грифон, терзающий олен€.
_______________________________

“ирибаз (Τιρίβαζος, 385-380 до н.э.). »сс (Ισσός), илики€. —татер (AR 10.48g).
Av: Ѕаал в хитоне, держит в правой руке орла, в левой Ч скипетр;
Rv: безбородый √еракл держит в левой руке лук и шкуру льва, в правой Ч палицу.
_______________________________

“ирибаз, сатрап Ћидии в 388-380 до н.э. —татер (AR 20mm, 10.33g), 384/3 до н.э.
Av: Ѕаал в хитоне, держит в правой руке орла, в левой Ч скипетр; MAP (на греческом) TRBZW (на арамейском €зыке);
Rv: фаравахар, сочетающий в себе крылатый солнечный диск и торс јхура-ћазды с венком и цветком лотоса в руках (аналог √ора Ѕехдетского).
_______________________________
¬ызывают интерес монеты с безбородым Ѕаал-“арсом. „еканка монеты с јфиной на реверсе точно не определена по времени, однако на следующей монете, р€дом с безбородым Ѕаал-“арсом, стоит им€ ћазе€. ¬идимо, выступа€ в образе Ѕаал-“арса (т.е. ¬ладыки “арса), ћазей подчеркивал свою власть, в качестве сатрапа, над иликией.
_______________________________

илики€ (Uncertain). ќбол (AR 0.63g), IV в. до н.э.
Av: безбородый Ѕаал-“арс на троне, в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, на левой Ч сидит орел;
Rv: голова јфины в аттическом шлеме.
_______________________________

илики€ (Uncertain). ќбол (AR 0.71g), IV в. до н.э.
Av: безбородый Ѕаал-“арс на троне, в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса, на левой Ч сидит орел;
Rv: голова јфины в аттическом шлеме.
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
ќбол (AR 10mm, 0.82g).
Av: ћазей (в образе Ѕаал-“арса) в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса; слева надпись MZDY (на арамейском €зыке);
Rv: лев идущий влево, над ним Ч крылатый солнечный диск (‘аравахар).
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
ќбол (AR 10mm, 0.75g).
Av: ћазей (в образе Ѕаал-“арса) в хитоне, восседающий на троне; в правой руке Ч скипетр с навершием в виде лотоса;
Rv: лев, над ним Ч символ солнца, ниже Ч серп луны.
_______________________________

ћазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап иликии при персидском царе јртаксерксе III и јлександре ¬еликом. “арс, илики€.
ќбол (AR 10mm, 0.69g).
Av: ћазей (в образе Ѕаал-“арса), восседающий на троне; в правой руке Ч колос и виноградна€ гроздь, в левой Ч скипетр;
Rv: лев, терзающий олен€.
_______________________________
Ќесколько особн€ком сто€т монеты чеканенные в иликии при сатрапе ћазее (Μαζαῖος), на которых Ѕаал изображен в двойной короне ≈гипта. ѕо мнению ‘рэнка овача (Frank Kovacs), в образе Ѕаал-“арса изображен јртаксеркс III ќх (359-338), тронное им€ которого (др.-перс. Artachšaçá), означает Ђ¬ладеющий праведным царствомї. Ћюбопытно, что на обороте монет этой серии, видимо, изображен ћазей (сатрап провинции) также в двойной короне пшент. ¬озможно, сери€ подобных монет была выпущена в честь второго покорени€ ≈гипта в 342 до н.э.
_______________________________

ћазей (Mazday), сатрап провинции илики€ в 361-328 до н.э. “арс, илики€. —татер (AR 24mm, 10.76g).
Av: Ѕаал-“арс на троне, в двойной короне ≈гипта, в правой руке держит цветок лотоса, в левой руке Ч скипетр; B'LTRZ (на арамейском €зыке).
Rv: лежащий лев, над ним лук.
_______________________________

ћазей (Mazday), сатрап провинции илики€ в 361-328 до н.э. “арс, илики€. ќбол (AR 10mm, 0.74g).
Av: Ѕаал на троне, в двойной короне ≈гипта, в правой руке держит скипетр, в левой руке Ч цветок лотоса.
Rv: голова ћазе€ в двойной короне ≈гипта.
_______________________________
|
ћетки: Ѕаал «евс √реци€ Ќумизматика |
ƒ»ќ— ”–џ |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
ќ“–ќ » «≈¬—ј
Διόσκοροι (Διὸς κοῦραι) Ч ƒиоскуры, Ђќтроки «евсаї, т.е. астор и ѕолидевк Ч брать€ близнецы (Δίδυμοι), участники похода аргонавтов и алидонской охоты. ѕосле смерти и апофеоза¹ Ч покровители путешественников, гостеприимства и конных сост€заний. ќтождествл€лись с ”тренней и ¬ечерней звездой (утренн€€ и вечерн€€ ¬енера, в древности, считались разными звездами), позднее, с созвездием Ѕлизнецов.

ј—“ќ–
»м€ астора (Κάστωρ) имеет значение Ђбобрї. ¬ греческой мифологии сакральность образа бобра отмечена обращением самого «евса в это животное. ¬ мифе о любовном преследовании «евсом Ќемесиды, он, вслед за богиней (принимающей р€д животных форм, чтобы избежать его объ€тий), сам превращаетс€ в животных-преследователей. огда Ќемесида превращаетс€ в рыбу, «евс обращаетс€ в бобра, гон€ющегос€ за ней. „ерез р€д превращений Ќемесида и «евс оборачиваютс€ гусыней и лебедем, и «евс достигает своей цели. —несенное Ќемесидой-гусыней €йцо находит Ћеда, жена цар€ “индаре€. »з этого €йца рождаютс€ ≈лена с литемнестрой и мальчики-близнецы Ч астор и ѕолидевк.
любовном преследовании «евсом Ќемесиды, он, вслед за богиней (принимающей р€д животных форм, чтобы избежать его объ€тий), сам превращаетс€ в животных-преследователей. огда Ќемесида превращаетс€ в рыбу, «евс обращаетс€ в бобра, гон€ющегос€ за ней. „ерез р€д превращений Ќемесида и «евс оборачиваютс€ гусыней и лебедем, и «евс достигает своей цели. —несенное Ќемесидой-гусыней €йцо находит Ћеда, жена цар€ “индаре€. »з этого €йца рождаютс€ ≈лена с литемнестрой и мальчики-близнецы Ч астор и ѕолидевк.
Ќепон€тно, почему из всей череды перевоплощений «евса и Ќемесиды, выбор (дл€ имени астора) пал именно на бобра, если €йцо снесла Ќемесида в образе гусыни, а соитие было с «евсом в образе лебед€. онечно могли быть и другие варианты мифа с перевоплощени€ми, в котором в конце цепочки была бобриха. –оберт √рейвс объ€сн€ет обсто€тельства рождени€ божественных близнецов, видимо, исход€ из этого:
ѕо позднейшему мифу сыном «евса был только ѕолидевк, и только он из братьев обладал бессмертием. ќднако образ астора в древности был весьма значимым, о чем свидетельствует наличие храма астора в –име.
стати, помимо прочего, на наделение астора таким необычным именем (Κάστωρ) могло повли€ть созвучие со словом κάσις (брат). Ѕратска€ любовь и прив€занность проход€т красной линией через все мифы, в которых участвуют неразлучные герои-близнецы. ѕосле смерти они были вз€ты на небо, олицетвор€€ собой ”треннюю и ¬ечернюю звезду (ἑῷος ἀστήρ и ἕσπερος ἀστήρ). —обственно слово ἀστήρ (Ђхастерї, звезда) Ч это еще одно созвучие с именем астора.²
именем астора.²
_________________________________
[1] ἀποθεόσις (ἀπο-θεόσις) ἡ обожествление, прославление, причисление к сонму богов Polyb., Diod., Plut.
[2] κάστωρ (-ορος) ὁ зоол. бобр Her., Arst.
κάσις (-ιος) ὁ (voc. κάσι) брат Trag.
ἀστερόω Ч си€ть на небе;
ἀστήρ (-έρος) ὁ (dat. pl. ἀστράσι или ἄστρασι)
1) звезда, метеор, небесное знамение, метеорит;
2) сигнальный огонь, плам€;
3) перен. светило, светоч, краса (ἀ. πατρίδος Plut.).
роме значени€ Ђзвездаї, у слова ἀστήρ есть и другое интересное значение: Ђсигнальный огоньї или Ђсветочї, что прекрасно коррелирует с факелами, которые на многочисленных изображени€х держат в своих руках брать€ ƒиоскуры. ѕричем, в то врем€ как у одного брата потухший факел опущен вниз, факел другого €рко горит в высоко подн€той руке, возвеща€ начало нового дн€. √овор€ иначе, когда один из ƒиоскуров готов сойти в царство теней, другой готов вознестись на ќлимп. — древних времен ”тренней и ¬ечерней звездой считалась планета ¬енера. ѕричем, в древности считали, что утренн€€ и вечерн€€ ¬енеры Ч это разные звезды.³
_________________________________
[3] ἑῷος, эп.-ион. ἠοῖος, Anth. ἑώϊος
1) предрассветный, ранний, утренний (ἀστήρ Eur., Plat.);
2) лежащий на востоке, восточный;
ἕως ἡ утренн€€ зар€, денница, рассвет (ἡ φωσφόρος ἕως διώκουσα ἄστρα Eur. Ч светоносна€ денница, прогон€юща€ звезды);
ἑωσφόρος (ἑωσ-φόρος) ὁ (sc. ἀστήρ; лат. Lucifer); утренн€€ звезда, т.е. планета ¬енера Hes., Plat., Plut.;
ἕσπερος ὁ (sc. ἀστήρ) вечерн€€ звезда Hom., Arst.; преимущ. планета ¬енера Plat., Anth., Cic.
ѕќЋ»ƒ≈¬
»м€ Πολυδεύκης, как уже отмечалось выше, €кобы означает Ђмногосладостныйї (т.е. приторный), от πολύς + ἡδύς.⁴
_________________________________
[4] πολύ n к πολύς
1) весьма, очень, крайне (πολυΐστωρ Ч много знающий, весьма ученый);
2) гораздо, значительно, намного;
3) больше, скорее (ἡμῖν π. βούλεται ἢ Δαναοῖσιν νίκην, sc. ὁ Ζεύς Hom.);
4) безусловно, самый (π. φίλτατος Hom. Ч самый наилюбимейший).
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ, дор. ἁδύς (gen. ἡδέος, ἡδείας, ἡδέος)
1) сладкий (в более широком смысле, чем γλυχύς), вкусный (δεῖπνον, οἶνος Hom.);
2) при€тно пахнущий, душистый, ароматный (ὀδμή, ἀμβροσίη Hom.);
3) при€тный дл€ уха, ласкающий слух (ἀοιδή Hom.);
4) сладостный (ὕπνος Hom., Eur.; κοῖτος Hom.; ἐλπίς Pind.);
5) при€тный, радостный (ἡ. ἀκοῦσαι λόγος Plat. Ч при€тна€ дл€ слуха речь);
6) дорогой, милый (ἀνήρ Soph.);
7) испытывающий радость, восхищенный, довольный.
«начение имени ѕолидевк (как Ђмногосладостныйї) √рейвс относит к винным возли€ни€м во врем€ празднеств, посв€щенных ƒиоскурам, либо, конкретно, ѕолидевку. ’от€ само предположение о происхождении имени ѕолидевка из сочетани€ πολύς + ἡδύς не €вл€етс€ однозначным. ћожно рассмотреть и другой этимологический вариант: πολύ + δήω, дающий право прочитать им€ ѕолидевка как Ђдолгожданныйї,⁵ т.е. (в качестве ”тренней звезды) знаменующий наступление нового дн€.
_________________________________
[5] δήω
1) найти, встретить (τινά и τι Hom., Anth.);
2) дождатьс€ (τέκμωρ Ἰλίου Hom.).
роме того, как было ранее отмечено, атрибутами астора и ѕолидевка €вл€ютс€ факелы.⁶
_________________________________
[6] δάος (-εος) τό факел Hom.
δαΐς (-ΐδος), ст€ж. δᾴς, δᾳδός
I. ἡ факел Hom., Hes., Arph., Arst.
II. ἡ (только dat. δᾰΐ) бой, схватка Hom., Hes., Aesch.
—очетание πολύς + δαΐς могло бы дать значение Ђмногофакельныйї (возжигающий факел с наступлением каждого нового дн€). ƒругое значение слова δαΐς (бой, схватка) отсылает нас к описанию мифологического образа ѕолидевка как искуснейшего кулачного бойца, побеждавшего во многих сост€зани€х.
—очетание же πολιός + δαΐς дает еще один, не менее интересный, вариант прочтени€ имени ѕолидевк: Ђ€ркий светочї.⁷
_________________________________
[7] πολιός
1) седой, седовласый (ματέρες Soph.);
2) покрытый пеной (седой), вспененный (ἅλς Hom.; πέλαγος Arph.);
3) старый, древний (νόμος Aesch.; μάθημα Plat.);
4) старческий (σώματα Plat.; δάκρυον Eur.);
5) серый (λύκος Hom.);
6) блест€щий, светлый (σίδηρος Hom.; χαλκός Pind.);
7) си€ющий, лучезарный (ἔαρ Hes.; αἰθήρ Eur.).
≈ще одно интересное созвучие (δαίω + κόροι)⁸ наводит на ассоциации о разделении братьев ƒиоскуров (Διόσ-κοροι) после смерти (когда один Ч в преисподней, другой Ч на ќлимпе).
_________________________________
[8] δαίω
1) med. делить, раздел€ть;
2) med. распредел€ть, раздавать, одел€ть;
3) pass. быть раздел€емым или разделенным;
4) pass. разрыватьс€ (δαϊκτήρ душераздирающий).
κόρος, эп.-ион. κοῦρος, дор. κῶρος ὁ
1) ребенок, младенец;
2) мальчик, юноша, молодой человек;
3) сын (Θησέως κόροι Soph. Ч сыновь€ “есе€, т.е. Ἀκάμας и Δημοφῶν).
ƒ»ќ— ”–џ
—огласно песн€м јлкмана, ƒиоскуры родились на островке ѕефн в Ћаконике (Λακωνική). ќ том же свидетельствует и ѕавсаний:
¬ Ђ»лиадеї им€ Ђƒиоскурыї не встречаетс€, хот€ астор и ѕолидевк упом€нуты (III 237). ¬ Ђќдиссееї, при описании јида, астор и ѕолидевк называютс€ “индаридами (Τυνδαρίδαι), детьми “индаре€, супруга Ћеды. ¬ позднейших мифах сюжет получает следующее развитие:
Ётот сюжет стал наиболее попул€рным. ≈динственна€ неув€зка в подобном прочтении состоит в том, что ƒиоскурами (Ђотроками «евсаї) называют обоих братьев, а не только ѕолидевка. Ќаделение божественностью лишь одного из близнецов √рейвс объ€сн€ет следующим образом:
ќба брата были великими геро€ми √реции. астора никто не мог превзойти в искусстве править колесницей, он смир€л самых неукротимых коней. ѕолидевк же был искуснейшим кулачным бойцом. ѕосейдон подарил им коней и дал силу спасать терп€щих кораблекрушение. ћифы повествуют также об участии ƒиоскуров в предпри€ти€х других героев Ч в охоте на калидонского вепр€, в походе аргонавтов; в јттике рассказывали о походе их против “есе€ с целью вернуть похищенную им сестру их ≈лену.
ѕ–ќ“»¬ќ—“ќяЌ»≈ Ћј ќЌ— »’ » ћ≈——≈Ќ— »’ ЅЋ»«Ќ≈÷ќ¬
—водный брат “индаре€ јфарей вз€л в жены свою сводную сестру јрену, котора€ родила ему »даса (Ἴδας) и Ћинке€ (Λυγκεύς), хот€ »дас, родившись первым, считалс€ сыном ѕосейдона (јполлодор III. 10:3). »дас и Ћинкей Ч мессенские герои, сопоставимые, по первоначальному значению своему, с лаконскими ƒиоскурами. ќба брата, называющиес€ также јфаретидами, по имени отца своего, были национальными геро€ми покоренной ћессении, чем и объ€сн€етс€ их второстепенное значение по отношению к геро€м победоносной —парты Ч ƒиоскурам.
Ѕрак с Ћевкиппидами узаконивал царское положение спартанских соправителей. ќни названы жрицами јфины и јртемиды и нос€т относ€щиес€ к луне имена, Ќа самом деле они представл€ли луну-богиню, и на вазописи ƒиоскуры часто сопровождают колесницу —елены.
¬ мифах повествуетс€ о посто€нном соперничестве между ƒиоскурами и близнецами »дасом и Ћинкеем. ¬ конечном итоге, в споре с ними из-за неподеленной добычи, астор был убит. ѕолидевк, отомстив за брата, вознес молитву «евсу: Ђќтец, не дай мне пережить брата своего!ї. ѕосле чего, ѕолидевк как сын «евса, был вз€т на небеса. ќднако отцом астора был смертный “индарей, и он не мог быть вознесен на небо. Ќо ѕолидевк согласилс€ на бессмертие лишь вместе с астором, поэтому «евсу пришлось разрешить им попеременно (ἑτερήμερος)⁹ проводить свои дни на ќлимпе и в преисподней, смен€€ друг друга.
_________________________________
[9] ἑτερήμερος (ἑτερ-ήμερος) чередующийс€ через день (ἄλλοτε μὲν ζώουσιν ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δὲ τεθνᾶσιν Hom. Ч попеременно смен€ющие друг друга на небе астор и ѕолидевк).
ƒ»ќ— ”–џ ¬ Ќ”ћ»«ћј“» ≈
_______________________________

“арент (Τάραντας), алабри€. —татер (AV 8.61g), ок. 302-300 до н.э.
Av: голова √еры в диадеме, справа Ч дельфин; TAPA / KON
Rv: ƒиоскуры верхом на лошад€х, в руках Ч венок и пальмова€ ветвь; ΔIOΣKOΡOI / ΣA
_______________________________

—иракузы (Συράκοσαι), —ицили€. Æ 22mm (10.92g), ок. 214-212 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: ƒиоскуры в пилосах, верхом на кон€х; ΣYPAKOΣIΩN / A / T
_______________________________

Ћуций ћеммий (L. Memmius). –им. ƒенарий (AR 3.66g), 109/8 до н.э.
Av: голова, украшенна€ венком, справа Ч звезда;
Rv: ƒиоскуры, с копь€ми, держащие в поводу лошадей; L MEMMI
_______________________________

оммод (Lucius Aelius Aurelius Commodus, 177-192). ћедальон (Æ 41mm, 60.51g), 184/5г.
Av: бюст оммода в лавровом венке; M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS BRIT
Rv: «евс (ёпитер), восседающий на троне, в правой руке Ч перун, в левой Ч скипетр; слева и справа Ч ƒиоскуры, держащие в поводу лошадей; внизу Ч орел; P M TR P X IMP VII COS III P P
_______________________________

ћарк јврелий (161-180). –им. јурей (AV 21mm, 7.29g), 177/8г.
„екан в честь провозглашени€ оммода августом и соправителем ћарка јврели€ в 177г.
Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG
Rv: астор, в плаще и пилосе, держит кон€ под уздцы, в левой руке Ч копье; TR P III IMP II COS P P
_______________________________

ƒиомед —отер (царь ѕаропамисады ок. 115-105 до н.э.). “етрадрахма (AR 26mm, 9.01g).
Av: бюст ƒиомеда в беотийском шлеме; BAΣIΛEΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔIOMHΔOY
Rv: ƒиоскуры на кон€х, с пальмовыми ветв€ми и копь€ми; легенда на кхарошти: Maharajasa tratarasa Diyamitasa.
_______________________________

≈вкратид I ¬еликий (ок. 170-145 до н.э.). Ѕактри€. ƒрахма (AR 19mm, 4.16g).
Av: бюст с тенией (ταινία, налобна€ пов€зка) на голове;
Rv: ƒиоскуры на кон€х с копь€ми и пальмовыми ветв€ми; BAΣIΛEΩΣ EYKPATIΔOY
_______________________________

јнтиох VI (Αντίοχος Στ´ Διόνυσος Επιφανής; 145-142 до н.э.). ÷арство —елевкидов, —ири€. “етрадрахма (AR 29mm, 16.48g).
Av: бюст јнтиоха VI в лучевой короне;
Rv: ƒиоскуры на кон€х с копь€ми; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ EѕI‘ANOYΣ DIONYΣOY / ΘΞΡ / TPY / ΣTA
Х ΘΞΡ Ч 169 год эры —елевкидов, что соответствует 144/3 до н.э.
_______________________________

≈вкратид I (царь Ѕактрии ок. 170-145 до н.э.). “етрадрахма (AR 34mm, 16.91g).
Av: бюст ≈вкратида в беотийском шлеме, украшенном рогами быка;
Rv: ƒиоскуры на кон€х с копь€ми и пальмовыми ветв€ми; BAΣIΛEΩΣ ΜΕΓΑΛΟY EYKPATIΔOY
_______________________________

—ирос (Σύρος), иклады. “етрадрахма (AR 33mm, 16.72g), ок. 160г.
Av: голова ƒеметры в венке из колосьев;
Rv: внутри оливкового венка ƒиоскуры сто€т с копь€ми, над головами Ч звезды; ΘEΩN KABEIPΩN / ΣYPIΩN
_______________________________

Ѕруттий (Βρεττία). ƒидрахма (AR 5.62g), 215-213 до н.э.
Av: бюсты ƒиоскуров, поверх пилосов (πῖλος) Ч лавровые венки, над головами Ч звезды, слева Ч –ог изобили€;
Rv: ƒиоскуры, с пальмовыми ветв€ми, скачущие на кон€х; ΒΡΕΤΤΙΩΝ
_______________________________

“риполь (Τρίπολις), ‘иники€. “етрадрахма (AR 29mm, 15.08g), ок. 94/3 до н.э.
Av: бюсты ƒиоскуров в лавровых венках, над головами Ч звезды;
Rv: внутри оливкового венка Ч “юхе в башенной короне, с загнутым посохом (pedum) в правой руке и –огом изобили€ Ч в левой; TPIѕOΛITΩN THΣ IEPAΣ KAI AYTONOMOY ΞH / HI
_______________________________

—ицили€. јнонимный чекан. ƒенарий (AR 18mm, 4.19g), 211/10 до н.э.
Av: голова богини –омы (Roma) в крылатом шлеме; X
Rv: ƒиоскуры с копь€ми, скачущие на кон€х, над головами Ч звезды; ROMA
Х «нак ЂXї (лат. Ђдес€тьї) на аверсе монеты указывает на номинал Ч первые денарии были равны дес€ти ассам.
ќдин из первых римских денариев был отчеканен в эпоху II ѕунической войны, когда по »талии ходил с войском √аннибал, а на —ицилии јрхимед защищал —иракузы от легионеров ћарцелла. –ассматриваемый денарий Ч один из двух монетных типов раннего римского чекана: аверс изображает богиню –ому (покровительницу города), реверс Ч ƒиоскуров, военных защитников –има. —акральна€ св€зь астора и ѕоллукса с римской гражданской общиной шла еще с первых лет республики, когда по легенде божественные брать€ помогли римл€нам выиграть битву при –егилльском озере (494 до н.э.). ¬ благодарность потомки –омула построили на форуме храм астора и ѕоллукса, который служил офисом преторам и был хранилищем преторской казны.
_______________________________

—ервилий ¬ати€ (Gaius Servilius Vatia). ƒенарий (AR 3.89g), 136 до н.э.
Av: голова богини –омы (Roma) в крылатом шлеме, слева Ч венок; ROMA
Rv: ƒиоскуры с копь€ми на кон€х, над головами Ч звезды; [C] SERVEILI M [F] (Caius Serveilius Marci filius)
_______________________________

‘онтей (Manius Fonteius). –имска€ республика. ƒенарий (AR 21mm, 3.80g), 108/7 до н.э.
Av: головы ƒиоскуров в лавровом венке и звездами над головой;
Rv: весельное судно; MN FONTEI / M
_______________________________

ордий –уф (Manius Cordius Rufus, 46 до н.э.). –имска€ республика. ƒенарий (AR 3.79g).
Av: бюсты ƒиоскуров, поверх пилосов Ч лавровые венки, над головами Ч звезды; RVFVS.III.VIR
Rv: богин€ ¬енера ¬ертикорди€ (Verticordia, Ђќбращающа€ сердцаї), держаща€ в правой руке весы, в левой Ч скипетр; на плече ¬енеры Ч упидон; MN.CORDIVS
_______________________________

√ета (цезарь, 198-209). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.53g), ок. 199-204 гг.
Av: бюст √еты; P SEPT GETA CAES PONT
Rv: астор держит кон€, в левой руке Ч скипетр; CASTOR
_______________________________

Ёвмен II (197-158 до н.э.). ѕергамское царство. “етрадрахма (AR 16.74g), 189 до н.э.
Av: бюст Ёвмена с диадемой на голове;
Rv: ƒиоскуры с копь€ми, внутри лаврового венка; BAΣIΛEΩΣ EYMENOY / AP
_______________________________

ћаксентий (307-312). ќсти€. ‘оллис (Æ 26mm, 7.74g), 309-312гг.
Av: бюст ћаксенти€ в лавровом венке; IMP(erator) C(aesar) MAXENTIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus)
Rv: ƒиоскуры, с копьем в руке, сто€т лицом друг к другу, держа лошадей; между ними апитолийска€ волчица, корм€ща€ –омула и –ема; AETERNITAS AVG N(oster) / MOSTA
_______________________________

Ёлий (ок. 80-70 до н.э.). ƒобруджа (ћала€ —кифи€). Æ 22mm (8.00g).
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: головы двух коней; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑIΛIOΣ / ΠE / AI
_______________________________

јкросак (ок. II-I вв. до н.э.). ћала€ —кифи€. Æ 11.34g.
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: головы двух коней; ΒΑΣΙΛ ΑΚΡΟΣ / ΑNΔPE
_______________________________

’арасп (ок. 180-150 до н.э.). ћала€ —кифи€. Æ 24mm (9.54g).
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: орел стоит на пучке молний; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΧΑΡΑΣΠΟΥ / ME
_______________________________

Ёлий (ок. 80-70 до н.э.). ћала€ —кифи€. Æ 23mm (10.57g).
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: головы двух коней; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑIΛIOΣ / TK
_______________________________

ѕанорм (Πάνορμος), —ицили€. Æ 18mm (2.36g), ок. 240 до н.э.
Av: головы ƒиоскуров в пилосах;
Rv: оливковый венок; ѕANOPMITAN
_______________________________

Ћакони€ (Λακωνική, Ћакедемон, —парта). Æ 35mm (27.87g), ок. 35-31 до н.э.
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: лавровый венок; ΛA
_______________________________

Ћуций —ервий –уф (Lucius Servius Sulpicius Rufus). –имска€ республика. јурей (AV 20mm, 7.91g), 41 до н.э.
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, над головами Ч звезды; L.SERVIVS RVFVS
Rv: крепостные ворота в город “ускул (Tusculum) с надписью TVSCVL
_______________________________

ћитридат VI (120-111). јмис, ѕонт. Æ 18mm (4.18g).
Av: бюст ѕерсе€, чью голову украшают крыль€;
Rv: шапки ƒиоскуров, украшенные звездами, между ними –ог изобили€; AMIΣOY
_______________________________

“арент (Τάραντας), алабри€. Ќомос (AR 19mm, 6.47g), ок. 280-272 до н.э.
Av: ƒиоскуры верхом на лошад€х, в руках Ч пальмова€ и оливкова€ ветви; ΣΩΔAMOΣ
Rv: ‘алант (Φάλανθος, мифический основатель “арента) верхом на дельфине, в левой руке держит два копь€ и щит; слева Ч крылата€ Ќика с лавровым венком; TAPA / ΠY
_______________________________
ƒ»ќ— ”–џ Ќј ћќЌ≈“ј’ Ѕј “–»»
¬первые изображение ƒиоскуров по€вл€етс€ на монетах первых селевкидских царей. «начительную попул€рность они приобретают в √реко-Ѕактрийском царстве. ћонетный тип с ƒиоскурами присутствует в чекане парф€нских царей, а также среди монет так называемой индо-скифской чеканки. Ќаконец, последн€€ (по хронологии) группа монет с изображени€ми ƒиоскуров по€вл€етс€ на эллинистическом ¬остоке в чекане √ондофара.
ульт ƒиоскуров, естественно, пришел на ¬осток вместе с греками. Ќеобходимо отметить, что к началу эллинистической эпохи уже произошло сли€ние культа ƒиоскуров с культом абиров. ¬ античной традиции по€вление культа ƒиоскуров- абиров на ¬остоке напр€мую св€зывалось с јлександром ћакедонским. ¬о вс€ком случае, ‘илострат в описании жизни јполлони€ “ианского говорит об этом пр€мо:
—амые ранние материальные свидетельства распространени€ культа ƒиоскуров, относ€тс€ к периоду —елевкидов. –аспространение его засвидетельствовано прежде всего монетами. ≈стественно, что сюжеты, представленные на монетах, никогда не были случайными. ќни своим образным строем служили делу официальной пропаганды.
ѕоказательно, что очень долгое врем€ на монетах, выпускавшихс€ сначала —елевкидами, а затем греко-бактрийскими цар€ми, присутствовали только эллинские божества. ѕервый известный (и на долгое врем€ единственный) пример по€влени€ местных (в данном случае индийских) божеств дают монеты јгафокла и ѕанталеона.
“ип монет с изображени€ми ƒиоскуров по€вил€етс€ в монетной практике —елевкидов уже при основателе династии и просуществовал до времени —елевка III. ќн не занимал ведущего положени€ в монетном деле державы, но посто€нно в нем присутствовал, и именно как царский тип. ѕри этом использовалс€ он только в бронзовом чекане. Ётот тип характерен дл€ восточных монетных дворов, самым западным двором был, видимо, “арс.
ќчень попул€рен был тип с изображением ƒиоскуров в Ќисибине. ќсобенно интересно то, что данный тип присутствует в выпусках и Ѕактр, и јй ’анум. Ётот тип использовал и узурпатор “имарх, который выпускал на двух монетных дворах, находившихс€ под его контролем, тетрадрахмы с изображени€ми ƒиоскуров.
ќбраз ƒиоскуров был очень попул€рен и в монетном деле √реко-Ѕактрии. »зображени€ ƒиоскуров (или их символов) встречаютс€ на монетах ≈вкратида I (170-145 до н.э.), ƒиомеда (95-90 до н.э.), Ћиси€ (120-110 до н.э.), јнтиалкида (115- 95 до н.э.), совместных монетах јнтиалкида и Ћиси€, јрхеби€ (90-80 до н.э.).
ќсобого внимани€ заслуживает монетный чекан ≈вкратида I, который выдел€етс€ не только обилием типов, но и обилием номиналов. —реди монет этого цар€ необходимо указать на монету, котора€ представлена единственным экземпл€ром, хран€щимс€ в Ќациональной Ѕиблиотеке в ѕариже. Ёто крупнейша€ антична€ золота€ монета, ее вес 169,2g. —читаетс€, что эта монета Ч наградна€, выпущенна€ по поводу какой-то крупной победы цар€. ќстальные греко-бактрийские цари, использовавшие символику, св€занную с ƒиоскурами, далеко отстают от ≈вкратида.
_______________________________

≈вкратид I ¬еликий (ок. 170-145 до н.э.). 20 статеров (AV 58 mm, 169.20g).
Av: бюст ≈вкратида в беотийском шлеме с бычьим хвостом, шлем украшен бычьими рогами и ушами;
Rv: ƒиоскуры, скачущие на лошад€х, держат копь€ и пальмовые ветви; BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOY EYKPATIΔOY
_______________________________
Ќаконец, монетный тип с ƒиоскурами присутствует в чекане парф€нских царей. ћонеты с типом ƒиоскуров выпускались главным образом в период царствовани€ ћитридата I, а также ‘раата II и ѕакора I. ¬се монеты (за исключением тех, которые чеканились при ѕакоре) Ч бронзовые. ¬ыпуск всех монет был сконцентрирован исключительно на главном восточном монетном дворе Ч Ёкбатанах.
ѕомимо нумизматических материалов, относительно культа ƒиоскуров у парф€н встречаютс€ и эпиграфические свидетельства. ќдна из делосских надписей датируетс€ началом I в. до н.э. ¬ ней пожизненный жрец и Ђпервый другї великого цар€ царей јрсака производит посв€щение Ђвеликим самофракийским богам абирам ƒиоскурамї. ќдин из сыновей парф€нского цар€ ћитридата II упоминаетс€ в том же контексте в другой надписи, к сожалению, пострадавшей значительно сильнее.
»меютс€ монеты с типами ƒиоскуров и среди монет так называемой индо-скифской чеканки. ќни выпускались при царе јзилисе. ¬ажнейшее отличие их от остальных монет с изображением ƒиоскуров состоит в том, что они дают обилие типов как тетрадрахм, так и драхм. —огласно наиболее распространенному сейчас мнению, монеты јзилиса должны датироватьс€ второй половиной I в. до н.э.
Ќаконец, последн€€ (по хронологии) группа монет с изображени€ми ƒиоскуров по€вл€етс€ на эллинистическом ¬остоке в чекане √ондофара. Ёти монеты также серебр€ные. ƒатировка царствовани€ √ондофара в насто€щее врем€ более или менее усто€лась. ≈го царствование относ€т к первой половине I в. н.э., точнее примерно к периоду 20-46 гг.
“аким образом, на прот€жении нескольких веков на эллинистическом ¬остоке наличествовала практика чеканки монеты с изображени€ми ƒиоскуров, что €вно свидетельствовало о существовании здесь культа божественных близнецов и о его €вной поддержке со стороны государственных властей. ќн никогда не выходил на первый план, который занимали «евс, јполлон, јфина и другие олимпийские божества, но в то же самое врем€ занимал свою определенную Ђнишуї. »ногда его значение возрастало, что находило свое отражение в практике чеканки монеты Ч по€влении изображений ƒиоскуров не только на бронзовой, но и на серебр€ной монете.
¬.ј. √аибов. ƒиоскуры ƒильберджина
_______________________________
ќ“–ќ » «≈¬—ј
Διόσκοροι (Διὸς κοῦραι) Ч ƒиоскуры, Ђќтроки «евсаї, т.е. астор и ѕолидевк Ч брать€ близнецы (Δίδυμοι), участники похода аргонавтов и алидонской охоты. ѕосле смерти и апофеоза¹ Ч покровители путешественников, гостеприимства и конных сост€заний. ќтождествл€лись с ”тренней и ¬ечерней звездой (утренн€€ и вечерн€€ ¬енера, в древности, считались разными звездами), позднее, с созвездием Ѕлизнецов.

ј—“ќ–
»м€ астора (Κάστωρ) имеет значение Ђбобрї. ¬ греческой мифологии сакральность образа бобра отмечена обращением самого «евса в это животное. ¬ мифе о
 любовном преследовании «евсом Ќемесиды, он, вслед за богиней (принимающей р€д животных форм, чтобы избежать его объ€тий), сам превращаетс€ в животных-преследователей. огда Ќемесида превращаетс€ в рыбу, «евс обращаетс€ в бобра, гон€ющегос€ за ней. „ерез р€д превращений Ќемесида и «евс оборачиваютс€ гусыней и лебедем, и «евс достигает своей цели. —несенное Ќемесидой-гусыней €йцо находит Ћеда, жена цар€ “индаре€. »з этого €йца рождаютс€ ≈лена с литемнестрой и мальчики-близнецы Ч астор и ѕолидевк.
любовном преследовании «евсом Ќемесиды, он, вслед за богиней (принимающей р€д животных форм, чтобы избежать его объ€тий), сам превращаетс€ в животных-преследователей. огда Ќемесида превращаетс€ в рыбу, «евс обращаетс€ в бобра, гон€ющегос€ за ней. „ерез р€д превращений Ќемесида и «евс оборачиваютс€ гусыней и лебедем, и «евс достигает своей цели. —несенное Ќемесидой-гусыней €йцо находит Ћеда, жена цар€ “индаре€. »з этого €йца рождаютс€ ≈лена с литемнестрой и мальчики-близнецы Ч астор и ѕолидевк. Ќепон€тно, почему из всей череды перевоплощений «евса и Ќемесиды, выбор (дл€ имени астора) пал именно на бобра, если €йцо снесла Ќемесида в образе гусыни, а соитие было с «евсом в образе лебед€. онечно могли быть и другие варианты мифа с перевоплощени€ми, в котором в конце цепочки была бобриха. –оберт √рейвс объ€сн€ет обсто€тельства рождени€ божественных близнецов, видимо, исход€ из этого:
ЂЌемесида была луной-богиней в ипостаси нимфы, и в древнейшем мифе, созданном на основе сюжета любовной погони, она преследовала цар€-жреца, который претерпевал сезонные превращени€, превраща€сь в зайца, в рыбу, пчелу, мышь Ч или же так: в зайца, рыбу, птицу и пшеничное зерно, Ч и в конечном счете она пожирала его. — победой патриархальной системы преследуемый и преследователь мен€лись местами: теперь богин€ бежала от «евса. Ѕогин€ превращалась в выдру или бобриху. » им€ астор (Ђбобрї) Ч есть не что иное, как отголосок этого мифа, тогда как им€ ѕолидевк (Ђприторное [вино]ї) свидетельствует о характере празднеств, во врем€ которых совершалась эта погон€ї.
ѕо позднейшему мифу сыном «евса был только ѕолидевк, и только он из братьев обладал бессмертием. ќднако образ астора в древности был весьма значимым, о чем свидетельствует наличие храма астора в –име.
стати, помимо прочего, на наделение астора таким необычным именем (Κάστωρ) могло повли€ть созвучие со словом κάσις (брат). Ѕратска€ любовь и прив€занность проход€т красной линией через все мифы, в которых участвуют неразлучные герои-близнецы. ѕосле смерти они были вз€ты на небо, олицетвор€€ собой ”треннюю и ¬ечернюю звезду (ἑῷος ἀστήρ и ἕσπερος ἀστήρ). —обственно слово ἀστήρ (Ђхастерї, звезда) Ч это еще одно созвучие с
 именем астора.²
именем астора.²_________________________________
[1] ἀποθεόσις (ἀπο-θεόσις) ἡ обожествление, прославление, причисление к сонму богов Polyb., Diod., Plut.
[2] κάστωρ (-ορος) ὁ зоол. бобр Her., Arst.
κάσις (-ιος) ὁ (voc. κάσι) брат Trag.
ἀστερόω Ч си€ть на небе;
ἀστήρ (-έρος) ὁ (dat. pl. ἀστράσι или ἄστρασι)
1) звезда, метеор, небесное знамение, метеорит;
2) сигнальный огонь, плам€;
3) перен. светило, светоч, краса (ἀ. πατρίδος Plut.).
роме значени€ Ђзвездаї, у слова ἀστήρ есть и другое интересное значение: Ђсигнальный огоньї или Ђсветочї, что прекрасно коррелирует с факелами, которые на многочисленных изображени€х держат в своих руках брать€ ƒиоскуры. ѕричем, в то врем€ как у одного брата потухший факел опущен вниз, факел другого €рко горит в высоко подн€той руке, возвеща€ начало нового дн€. √овор€ иначе, когда один из ƒиоскуров готов сойти в царство теней, другой готов вознестись на ќлимп. — древних времен ”тренней и ¬ечерней звездой считалась планета ¬енера. ѕричем, в древности считали, что утренн€€ и вечерн€€ ¬енеры Ч это разные звезды.³
_________________________________
[3] ἑῷος, эп.-ион. ἠοῖος, Anth. ἑώϊος
1) предрассветный, ранний, утренний (ἀστήρ Eur., Plat.);
2) лежащий на востоке, восточный;
ἕως ἡ утренн€€ зар€, денница, рассвет (ἡ φωσφόρος ἕως διώκουσα ἄστρα Eur. Ч светоносна€ денница, прогон€юща€ звезды);
ἑωσφόρος (ἑωσ-φόρος) ὁ (sc. ἀστήρ; лат. Lucifer); утренн€€ звезда, т.е. планета ¬енера Hes., Plat., Plut.;
ἕσπερος ὁ (sc. ἀστήρ) вечерн€€ звезда Hom., Arst.; преимущ. планета ¬енера Plat., Anth., Cic.
ѕќЋ»ƒ≈¬
»м€ Πολυδεύκης, как уже отмечалось выше, €кобы означает Ђмногосладостныйї (т.е. приторный), от πολύς + ἡδύς.⁴
_________________________________
[4] πολύ n к πολύς
1) весьма, очень, крайне (πολυΐστωρ Ч много знающий, весьма ученый);
2) гораздо, значительно, намного;
3) больше, скорее (ἡμῖν π. βούλεται ἢ Δαναοῖσιν νίκην, sc. ὁ Ζεύς Hom.);
4) безусловно, самый (π. φίλτατος Hom. Ч самый наилюбимейший).
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ, дор. ἁδύς (gen. ἡδέος, ἡδείας, ἡδέος)
1) сладкий (в более широком смысле, чем γλυχύς), вкусный (δεῖπνον, οἶνος Hom.);
2) при€тно пахнущий, душистый, ароматный (ὀδμή, ἀμβροσίη Hom.);
3) при€тный дл€ уха, ласкающий слух (ἀοιδή Hom.);
4) сладостный (ὕπνος Hom., Eur.; κοῖτος Hom.; ἐλπίς Pind.);
5) при€тный, радостный (ἡ. ἀκοῦσαι λόγος Plat. Ч при€тна€ дл€ слуха речь);
6) дорогой, милый (ἀνήρ Soph.);
7) испытывающий радость, восхищенный, довольный.
«начение имени ѕолидевк (как Ђмногосладостныйї) √рейвс относит к винным возли€ни€м во врем€ празднеств, посв€щенных ƒиоскурам, либо, конкретно, ѕолидевку. ’от€ само предположение о происхождении имени ѕолидевка из сочетани€ πολύς + ἡδύς не €вл€етс€ однозначным. ћожно рассмотреть и другой этимологический вариант: πολύ + δήω, дающий право прочитать им€ ѕолидевка как Ђдолгожданныйї,⁵ т.е. (в качестве ”тренней звезды) знаменующий наступление нового дн€.
_________________________________
[5] δήω
1) найти, встретить (τινά и τι Hom., Anth.);
2) дождатьс€ (τέκμωρ Ἰλίου Hom.).
роме того, как было ранее отмечено, атрибутами астора и ѕолидевка €вл€ютс€ факелы.⁶
_________________________________
[6] δάος (-εος) τό факел Hom.
δαΐς (-ΐδος), ст€ж. δᾴς, δᾳδός
I. ἡ факел Hom., Hes., Arph., Arst.
II. ἡ (только dat. δᾰΐ) бой, схватка Hom., Hes., Aesch.
—очетание πολύς + δαΐς могло бы дать значение Ђмногофакельныйї (возжигающий факел с наступлением каждого нового дн€). ƒругое значение слова δαΐς (бой, схватка) отсылает нас к описанию мифологического образа ѕолидевка как искуснейшего кулачного бойца, побеждавшего во многих сост€зани€х.
—очетание же πολιός + δαΐς дает еще один, не менее интересный, вариант прочтени€ имени ѕолидевк: Ђ€ркий светочї.⁷
_________________________________
[7] πολιός
1) седой, седовласый (ματέρες Soph.);
2) покрытый пеной (седой), вспененный (ἅλς Hom.; πέλαγος Arph.);
3) старый, древний (νόμος Aesch.; μάθημα Plat.);
4) старческий (σώματα Plat.; δάκρυον Eur.);
5) серый (λύκος Hom.);
6) блест€щий, светлый (σίδηρος Hom.; χαλκός Pind.);
7) си€ющий, лучезарный (ἔαρ Hes.; αἰθήρ Eur.).
≈ще одно интересное созвучие (δαίω + κόροι)⁸ наводит на ассоциации о разделении братьев ƒиоскуров (Διόσ-κοροι) после смерти (когда один Ч в преисподней, другой Ч на ќлимпе).
_________________________________
[8] δαίω
1) med. делить, раздел€ть;
2) med. распредел€ть, раздавать, одел€ть;
3) pass. быть раздел€емым или разделенным;
4) pass. разрыватьс€ (δαϊκτήρ душераздирающий).
κόρος, эп.-ион. κοῦρος, дор. κῶρος ὁ
1) ребенок, младенец;
2) мальчик, юноша, молодой человек;
3) сын (Θησέως κόροι Soph. Ч сыновь€ “есе€, т.е. Ἀκάμας и Δημοφῶν).
ƒ»ќ— ”–џ
—огласно песн€м јлкмана, ƒиоскуры родились на островке ѕефн в Ћаконике (Λακωνική). ќ том же свидетельствует и ѕавсаний:
Ђ—тади€х в двадцати от ‘алам расположено у мор€ местечко ѕефн. ѕеред ним лежит островок, не больше чем большой камень; он тоже называетс€ ѕефн (Πέφνος). ∆ители ‘алам говор€т, что тут родились ƒиоскуры. я знаю, что это же сказал и јлкман в своих песн€х. Ќо говор€т, что воспитаны они были не в ѕефне: √ермес перенес их в ѕеллану (Πελλάνος). Ќа этом островке сто€т медные статуи ƒиоскуров, величиною в фут.ї
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. Ћаконика, XXVI:2)
¬ Ђ»лиадеї им€ Ђƒиоскурыї не встречаетс€, хот€ астор и ѕолидевк упом€нуты (III 237). ¬ Ђќдиссееї, при описании јида, астор и ѕолидевк называютс€ “индаридами (Τυνδαρίδαι), детьми “индаре€, супруга Ћеды. ¬ позднейших мифах сюжет получает следующее развитие:
Ђ“индарей женилс€ на Ћеде, дочери этолийского цар€ ‘ести€, котора€ родила ему астора и литемнестру, и одновременно Ћеда родила ≈лену и ѕолидевка от «евса. ѕозднее, усыновив ѕолидевка, “индарей вернул себе спартанский трон и был одним из тех, кого спас от смерти јсклепий.ї
(јполлодор III.10.3)
Ётот сюжет стал наиболее попул€рным. ≈динственна€ неув€зка в подобном прочтении состоит в том, что ƒиоскурами (Ђотроками «евсаї) называют обоих братьев, а не только ѕолидевка. Ќаделение божественностью лишь одного из близнецов √рейвс объ€сн€ет следующим образом:
Ђќбычно, чтобы обосновать приоритет цар€-жреца перед танистом, говорили, что царь €вл€етс€ сыном бога, рожденным матерью, чей муж считалс€ отцом одновременно родившегос€ близнеца, причем первый из братьев считалс€ бессмертным, а второй Ч смертным. “ак, √еракл Ч это сын «евса и јлкмены, а его близнец »фикл считалс€ сыном мужа јлкмены Ч јмфитриона.ї
ќба брата были великими геро€ми √реции. астора никто не мог превзойти в искусстве править колесницей, он смир€л самых неукротимых коней. ѕолидевк же был искуснейшим кулачным бойцом. ѕосейдон подарил им коней и дал силу спасать терп€щих кораблекрушение. ћифы повествуют также об участии ƒиоскуров в предпри€ти€х других героев Ч в охоте на калидонского вепр€, в походе аргонавтов; в јттике рассказывали о походе их против “есе€ с целью вернуть похищенную им сестру их ≈лену.
ѕ–ќ“»¬ќ—“ќяЌ»≈ Ћј ќЌ— »’ » ћ≈——≈Ќ— »’ ЅЋ»«Ќ≈÷ќ¬
—водный брат “индаре€ јфарей вз€л в жены свою сводную сестру јрену, котора€ родила ему »даса (Ἴδας) и Ћинке€ (Λυγκεύς), хот€ »дас, родившись первым, считалс€ сыном ѕосейдона (јполлодор III. 10:3). »дас и Ћинкей Ч мессенские герои, сопоставимые, по первоначальному значению своему, с лаконскими ƒиоскурами. ќба брата, называющиес€ также јфаретидами, по имени отца своего, были национальными геро€ми покоренной ћессении, чем и объ€сн€етс€ их второстепенное значение по отношению к геро€м победоносной —парты Ч ƒиоскурам.
Ђ—лучилось так, что дочери Ћевкиппа Ч левкиппиды, а именно: ‘еба (Φοίβη, Ђси€юща€ї), котора€ была жрицей јфины, и √илаира (Ἱλάειρα, Ђкротка€, благотворна€ї), жрица јртемиды, были обручены со своими двоюродными брать€ми »дасом и Ћинкеем. ќднако астор и ѕолидевк, которые больше известны как ƒиоскуры, украли их, и те родили им сыновей.ї
(√рейвс. ћифы ƒревней √реции, 74)
Ѕрак с Ћевкиппидами узаконивал царское положение спартанских соправителей. ќни названы жрицами јфины и јртемиды и нос€т относ€щиес€ к луне имена, Ќа самом деле они представл€ли луну-богиню, и на вазописи ƒиоскуры часто сопровождают колесницу —елены.
¬ мифах повествуетс€ о посто€нном соперничестве между ƒиоскурами и близнецами »дасом и Ћинкеем. ¬ конечном итоге, в споре с ними из-за неподеленной добычи, астор был убит. ѕолидевк, отомстив за брата, вознес молитву «евсу: Ђќтец, не дай мне пережить брата своего!ї. ѕосле чего, ѕолидевк как сын «евса, был вз€т на небеса. ќднако отцом астора был смертный “индарей, и он не мог быть вознесен на небо. Ќо ѕолидевк согласилс€ на бессмертие лишь вместе с астором, поэтому «евсу пришлось разрешить им попеременно (ἑτερήμερος)⁹ проводить свои дни на ќлимпе и в преисподней, смен€€ друг друга.
_________________________________
[9] ἑτερήμερος (ἑτερ-ήμερος) чередующийс€ через день (ἄλλοτε μὲν ζώουσιν ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δὲ τεθνᾶσιν Hom. Ч попеременно смен€ющие друг друга на небе астор и ѕолидевк).
ƒ»ќ— ”–џ ¬ Ќ”ћ»«ћј“» ≈
_______________________________

“арент (Τάραντας), алабри€. —татер (AV 8.61g), ок. 302-300 до н.э.
Av: голова √еры в диадеме, справа Ч дельфин; TAPA / KON
Rv: ƒиоскуры верхом на лошад€х, в руках Ч венок и пальмова€ ветвь; ΔIOΣKOΡOI / ΣA
_______________________________

—иракузы (Συράκοσαι), —ицили€. Æ 22mm (10.92g), ок. 214-212 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: ƒиоскуры в пилосах, верхом на кон€х; ΣYPAKOΣIΩN / A / T
_______________________________

Ћуций ћеммий (L. Memmius). –им. ƒенарий (AR 3.66g), 109/8 до н.э.
Av: голова, украшенна€ венком, справа Ч звезда;
Rv: ƒиоскуры, с копь€ми, держащие в поводу лошадей; L MEMMI
_______________________________

оммод (Lucius Aelius Aurelius Commodus, 177-192). ћедальон (Æ 41mm, 60.51g), 184/5г.
Av: бюст оммода в лавровом венке; M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS BRIT
Rv: «евс (ёпитер), восседающий на троне, в правой руке Ч перун, в левой Ч скипетр; слева и справа Ч ƒиоскуры, держащие в поводу лошадей; внизу Ч орел; P M TR P X IMP VII COS III P P
_______________________________

ћарк јврелий (161-180). –им. јурей (AV 21mm, 7.29g), 177/8г.
„екан в честь провозглашени€ оммода августом и соправителем ћарка јврели€ в 177г.
Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG
Rv: астор, в плаще и пилосе, держит кон€ под уздцы, в левой руке Ч копье; TR P III IMP II COS P P
_______________________________

ƒиомед —отер (царь ѕаропамисады ок. 115-105 до н.э.). “етрадрахма (AR 26mm, 9.01g).
Av: бюст ƒиомеда в беотийском шлеме; BAΣIΛEΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔIOMHΔOY
Rv: ƒиоскуры на кон€х, с пальмовыми ветв€ми и копь€ми; легенда на кхарошти: Maharajasa tratarasa Diyamitasa.
_______________________________

≈вкратид I ¬еликий (ок. 170-145 до н.э.). Ѕактри€. ƒрахма (AR 19mm, 4.16g).
Av: бюст с тенией (ταινία, налобна€ пов€зка) на голове;
Rv: ƒиоскуры на кон€х с копь€ми и пальмовыми ветв€ми; BAΣIΛEΩΣ EYKPATIΔOY
_______________________________

јнтиох VI (Αντίοχος Στ´ Διόνυσος Επιφανής; 145-142 до н.э.). ÷арство —елевкидов, —ири€. “етрадрахма (AR 29mm, 16.48g).
Av: бюст јнтиоха VI в лучевой короне;
Rv: ƒиоскуры на кон€х с копь€ми; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ EѕI‘ANOYΣ DIONYΣOY / ΘΞΡ / TPY / ΣTA
Х ΘΞΡ Ч 169 год эры —елевкидов, что соответствует 144/3 до н.э.
_______________________________

≈вкратид I (царь Ѕактрии ок. 170-145 до н.э.). “етрадрахма (AR 34mm, 16.91g).
Av: бюст ≈вкратида в беотийском шлеме, украшенном рогами быка;
Rv: ƒиоскуры на кон€х с копь€ми и пальмовыми ветв€ми; BAΣIΛEΩΣ ΜΕΓΑΛΟY EYKPATIΔOY
_______________________________

—ирос (Σύρος), иклады. “етрадрахма (AR 33mm, 16.72g), ок. 160г.
Av: голова ƒеметры в венке из колосьев;
Rv: внутри оливкового венка ƒиоскуры сто€т с копь€ми, над головами Ч звезды; ΘEΩN KABEIPΩN / ΣYPIΩN
_______________________________

Ѕруттий (Βρεττία). ƒидрахма (AR 5.62g), 215-213 до н.э.
Av: бюсты ƒиоскуров, поверх пилосов (πῖλος) Ч лавровые венки, над головами Ч звезды, слева Ч –ог изобили€;
Rv: ƒиоскуры, с пальмовыми ветв€ми, скачущие на кон€х; ΒΡΕΤΤΙΩΝ
_______________________________

“риполь (Τρίπολις), ‘иники€. “етрадрахма (AR 29mm, 15.08g), ок. 94/3 до н.э.
Av: бюсты ƒиоскуров в лавровых венках, над головами Ч звезды;
Rv: внутри оливкового венка Ч “юхе в башенной короне, с загнутым посохом (pedum) в правой руке и –огом изобили€ Ч в левой; TPIѕOΛITΩN THΣ IEPAΣ KAI AYTONOMOY ΞH / HI
_______________________________

—ицили€. јнонимный чекан. ƒенарий (AR 18mm, 4.19g), 211/10 до н.э.
Av: голова богини –омы (Roma) в крылатом шлеме; X
Rv: ƒиоскуры с копь€ми, скачущие на кон€х, над головами Ч звезды; ROMA
Х «нак ЂXї (лат. Ђдес€тьї) на аверсе монеты указывает на номинал Ч первые денарии были равны дес€ти ассам.
ќдин из первых римских денариев был отчеканен в эпоху II ѕунической войны, когда по »талии ходил с войском √аннибал, а на —ицилии јрхимед защищал —иракузы от легионеров ћарцелла. –ассматриваемый денарий Ч один из двух монетных типов раннего римского чекана: аверс изображает богиню –ому (покровительницу города), реверс Ч ƒиоскуров, военных защитников –има. —акральна€ св€зь астора и ѕоллукса с римской гражданской общиной шла еще с первых лет республики, когда по легенде божественные брать€ помогли римл€нам выиграть битву при –егилльском озере (494 до н.э.). ¬ благодарность потомки –омула построили на форуме храм астора и ѕоллукса, который служил офисом преторам и был хранилищем преторской казны.
_______________________________

—ервилий ¬ати€ (Gaius Servilius Vatia). ƒенарий (AR 3.89g), 136 до н.э.
Av: голова богини –омы (Roma) в крылатом шлеме, слева Ч венок; ROMA
Rv: ƒиоскуры с копь€ми на кон€х, над головами Ч звезды; [C] SERVEILI M [F] (Caius Serveilius Marci filius)
_______________________________

‘онтей (Manius Fonteius). –имска€ республика. ƒенарий (AR 21mm, 3.80g), 108/7 до н.э.
Av: головы ƒиоскуров в лавровом венке и звездами над головой;
Rv: весельное судно; MN FONTEI / M
_______________________________

ордий –уф (Manius Cordius Rufus, 46 до н.э.). –имска€ республика. ƒенарий (AR 3.79g).
Av: бюсты ƒиоскуров, поверх пилосов Ч лавровые венки, над головами Ч звезды; RVFVS.III.VIR
Rv: богин€ ¬енера ¬ертикорди€ (Verticordia, Ђќбращающа€ сердцаї), держаща€ в правой руке весы, в левой Ч скипетр; на плече ¬енеры Ч упидон; MN.CORDIVS
_______________________________

√ета (цезарь, 198-209). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.53g), ок. 199-204 гг.
Av: бюст √еты; P SEPT GETA CAES PONT
Rv: астор держит кон€, в левой руке Ч скипетр; CASTOR
_______________________________

Ёвмен II (197-158 до н.э.). ѕергамское царство. “етрадрахма (AR 16.74g), 189 до н.э.
Av: бюст Ёвмена с диадемой на голове;
Rv: ƒиоскуры с копь€ми, внутри лаврового венка; BAΣIΛEΩΣ EYMENOY / AP
_______________________________

ћаксентий (307-312). ќсти€. ‘оллис (Æ 26mm, 7.74g), 309-312гг.
Av: бюст ћаксенти€ в лавровом венке; IMP(erator) C(aesar) MAXENTIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus)
Rv: ƒиоскуры, с копьем в руке, сто€т лицом друг к другу, держа лошадей; между ними апитолийска€ волчица, корм€ща€ –омула и –ема; AETERNITAS AVG N(oster) / MOSTA
_______________________________

Ёлий (ок. 80-70 до н.э.). ƒобруджа (ћала€ —кифи€). Æ 22mm (8.00g).
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: головы двух коней; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑIΛIOΣ / ΠE / AI
_______________________________

јкросак (ок. II-I вв. до н.э.). ћала€ —кифи€. Æ 11.34g.
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: головы двух коней; ΒΑΣΙΛ ΑΚΡΟΣ / ΑNΔPE
_______________________________

’арасп (ок. 180-150 до н.э.). ћала€ —кифи€. Æ 24mm (9.54g).
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: орел стоит на пучке молний; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΧΑΡΑΣΠΟΥ / ME
_______________________________

Ёлий (ок. 80-70 до н.э.). ћала€ —кифи€. Æ 23mm (10.57g).
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: головы двух коней; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑIΛIOΣ / TK
_______________________________

ѕанорм (Πάνορμος), —ицили€. Æ 18mm (2.36g), ок. 240 до н.э.
Av: головы ƒиоскуров в пилосах;
Rv: оливковый венок; ѕANOPMITAN
_______________________________

Ћакони€ (Λακωνική, Ћакедемон, —парта). Æ 35mm (27.87g), ок. 35-31 до н.э.
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, украшенных лавровыми венками;
Rv: лавровый венок; ΛA
_______________________________

Ћуций —ервий –уф (Lucius Servius Sulpicius Rufus). –имска€ республика. јурей (AV 20mm, 7.91g), 41 до н.э.
Av: головы ƒиоскуров в пилосах, над головами Ч звезды; L.SERVIVS RVFVS
Rv: крепостные ворота в город “ускул (Tusculum) с надписью TVSCVL
_______________________________

ћитридат VI (120-111). јмис, ѕонт. Æ 18mm (4.18g).
Av: бюст ѕерсе€, чью голову украшают крыль€;
Rv: шапки ƒиоскуров, украшенные звездами, между ними –ог изобили€; AMIΣOY
_______________________________

“арент (Τάραντας), алабри€. Ќомос (AR 19mm, 6.47g), ок. 280-272 до н.э.
Av: ƒиоскуры верхом на лошад€х, в руках Ч пальмова€ и оливкова€ ветви; ΣΩΔAMOΣ
Rv: ‘алант (Φάλανθος, мифический основатель “арента) верхом на дельфине, в левой руке держит два копь€ и щит; слева Ч крылата€ Ќика с лавровым венком; TAPA / ΠY
_______________________________
ƒ»ќ— ”–џ Ќј ћќЌ≈“ј’ Ѕј “–»»
¬первые изображение ƒиоскуров по€вл€етс€ на монетах первых селевкидских царей. «начительную попул€рность они приобретают в √реко-Ѕактрийском царстве. ћонетный тип с ƒиоскурами присутствует в чекане парф€нских царей, а также среди монет так называемой индо-скифской чеканки. Ќаконец, последн€€ (по хронологии) группа монет с изображени€ми ƒиоскуров по€вл€етс€ на эллинистическом ¬остоке в чекане √ондофара.
ульт ƒиоскуров, естественно, пришел на ¬осток вместе с греками. Ќеобходимо отметить, что к началу эллинистической эпохи уже произошло сли€ние культа ƒиоскуров с культом абиров. ¬ античной традиции по€вление культа ƒиоскуров- абиров на ¬остоке напр€мую св€зывалось с јлександром ћакедонским. ¬о вс€ком случае, ‘илострат в описании жизни јполлони€ “ианского говорит об этом пр€мо:
Ђѕереправившись через реку √идраот и миновав земли многих племен, јполлоний и его спутники достигли √ифасиса. ¬ стади€х тридцати от этой реки они натолкнулись на алтари с надписью: Ђќтцу јммону, брату √ераклу, јфине ѕронойе, «евсу ќлимпийскому, самофракийским абирам, »ндийскому √елиосу и ƒельфийскому јполлонуї.
ќни говор€т, что там поставлен и медный столб с надписью: Ђ«десь остановилс€ јлександрїЕ
(Vita Apoll. II, 43).
—амые ранние материальные свидетельства распространени€ культа ƒиоскуров, относ€тс€ к периоду —елевкидов. –аспространение его засвидетельствовано прежде всего монетами. ≈стественно, что сюжеты, представленные на монетах, никогда не были случайными. ќни своим образным строем служили делу официальной пропаганды.
ѕоказательно, что очень долгое врем€ на монетах, выпускавшихс€ сначала —елевкидами, а затем греко-бактрийскими цар€ми, присутствовали только эллинские божества. ѕервый известный (и на долгое врем€ единственный) пример по€влени€ местных (в данном случае индийских) божеств дают монеты јгафокла и ѕанталеона.
“ип монет с изображени€ми ƒиоскуров по€вил€етс€ в монетной практике —елевкидов уже при основателе династии и просуществовал до времени —елевка III. ќн не занимал ведущего положени€ в монетном деле державы, но посто€нно в нем присутствовал, и именно как царский тип. ѕри этом использовалс€ он только в бронзовом чекане. Ётот тип характерен дл€ восточных монетных дворов, самым западным двором был, видимо, “арс.
ќчень попул€рен был тип с изображением ƒиоскуров в Ќисибине. ќсобенно интересно то, что данный тип присутствует в выпусках и Ѕактр, и јй ’анум. Ётот тип использовал и узурпатор “имарх, который выпускал на двух монетных дворах, находившихс€ под его контролем, тетрадрахмы с изображени€ми ƒиоскуров.
ќбраз ƒиоскуров был очень попул€рен и в монетном деле √реко-Ѕактрии. »зображени€ ƒиоскуров (или их символов) встречаютс€ на монетах ≈вкратида I (170-145 до н.э.), ƒиомеда (95-90 до н.э.), Ћиси€ (120-110 до н.э.), јнтиалкида (115- 95 до н.э.), совместных монетах јнтиалкида и Ћиси€, јрхеби€ (90-80 до н.э.).
ќсобого внимани€ заслуживает монетный чекан ≈вкратида I, который выдел€етс€ не только обилием типов, но и обилием номиналов. —реди монет этого цар€ необходимо указать на монету, котора€ представлена единственным экземпл€ром, хран€щимс€ в Ќациональной Ѕиблиотеке в ѕариже. Ёто крупнейша€ антична€ золота€ монета, ее вес 169,2g. —читаетс€, что эта монета Ч наградна€, выпущенна€ по поводу какой-то крупной победы цар€. ќстальные греко-бактрийские цари, использовавшие символику, св€занную с ƒиоскурами, далеко отстают от ≈вкратида.
_______________________________

≈вкратид I ¬еликий (ок. 170-145 до н.э.). 20 статеров (AV 58 mm, 169.20g).
Av: бюст ≈вкратида в беотийском шлеме с бычьим хвостом, шлем украшен бычьими рогами и ушами;
Rv: ƒиоскуры, скачущие на лошад€х, держат копь€ и пальмовые ветви; BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOY EYKPATIΔOY
_______________________________
Ќаконец, монетный тип с ƒиоскурами присутствует в чекане парф€нских царей. ћонеты с типом ƒиоскуров выпускались главным образом в период царствовани€ ћитридата I, а также ‘раата II и ѕакора I. ¬се монеты (за исключением тех, которые чеканились при ѕакоре) Ч бронзовые. ¬ыпуск всех монет был сконцентрирован исключительно на главном восточном монетном дворе Ч Ёкбатанах.
ѕомимо нумизматических материалов, относительно культа ƒиоскуров у парф€н встречаютс€ и эпиграфические свидетельства. ќдна из делосских надписей датируетс€ началом I в. до н.э. ¬ ней пожизненный жрец и Ђпервый другї великого цар€ царей јрсака производит посв€щение Ђвеликим самофракийским богам абирам ƒиоскурамї. ќдин из сыновей парф€нского цар€ ћитридата II упоминаетс€ в том же контексте в другой надписи, к сожалению, пострадавшей значительно сильнее.
»меютс€ монеты с типами ƒиоскуров и среди монет так называемой индо-скифской чеканки. ќни выпускались при царе јзилисе. ¬ажнейшее отличие их от остальных монет с изображением ƒиоскуров состоит в том, что они дают обилие типов как тетрадрахм, так и драхм. —огласно наиболее распространенному сейчас мнению, монеты јзилиса должны датироватьс€ второй половиной I в. до н.э.
Ќаконец, последн€€ (по хронологии) группа монет с изображени€ми ƒиоскуров по€вл€етс€ на эллинистическом ¬остоке в чекане √ондофара. Ёти монеты также серебр€ные. ƒатировка царствовани€ √ондофара в насто€щее врем€ более или менее усто€лась. ≈го царствование относ€т к первой половине I в. н.э., точнее примерно к периоду 20-46 гг.
“аким образом, на прот€жении нескольких веков на эллинистическом ¬остоке наличествовала практика чеканки монеты с изображени€ми ƒиоскуров, что €вно свидетельствовало о существовании здесь культа божественных близнецов и о его €вной поддержке со стороны государственных властей. ќн никогда не выходил на первый план, который занимали «евс, јполлон, јфина и другие олимпийские божества, но в то же самое врем€ занимал свою определенную Ђнишуї. »ногда его значение возрастало, что находило свое отражение в практике чеканки монеты Ч по€влении изображений ƒиоскуров не только на бронзовой, но и на серебр€ной монете.
¬.ј. √аибов. ƒиоскуры ƒильберджина
_______________________________
|
ћетки: ƒиоскуры астор ѕолидевк √реци€ Ётимологи€ Ќумизматика |
≈–Ѕ≈– |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
≈–Ѕ≈–, » Ќ≈ “ќЋ№ ќ
ербер (Κέρβερος) Ч трехглавый пес, порождение “ифона (Τυφῶν) и ≈хидны (Ἔχιδνα), охран€ющий врата јида, царства мертвых, не позвол€€ умершим возвращатьс€ в мир живых. »сполн€€ волю Ёври≠сфе€, √еракл вывел ербера из подземного царства.
[1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ “резен (главный город обл. Τροιζηνία в јрголиде, на севере ѕелопоннеса) Her., Thuc., Xen.
ѕредъ€вив пса Ёври≠сфею, √еракл вернул ербера в јид. Ёто был последний, двенадцатый подвиг √еракла.
Ётимологи€ имени ербер (Κέρβερος) не однозначна. »сход€ из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант:
ербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. “аким его описывает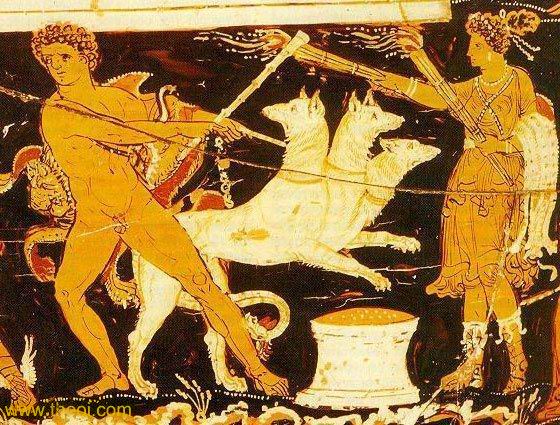 јполлодор в Ђћифологической библиотекеї. “аким он представлен на керамике. ’от€ на более древних артефактах ербер нередко изображалс€ двухголовым, что сближает его с псом ќрфом (его двуглавым мифологическим братом).
јполлодор в Ђћифологической библиотекеї. “аким он представлен на керамике. ’от€ на более древних артефактах ербер нередко изображалс€ двухголовым, что сближает его с псом ќрфом (его двуглавым мифологическим братом).
«меина€ грива вызывает ассоциации с ћедузой √оргоной. ќба персонажа, и ћедуза, и ербер осуществл€ли охранную функцию. —амо им€ Μέδουσα Ч производное от μεδέουσα Ч означает Ђохранительницаї. —огласно ≈врипиду, горгоны охран€ли ѕуп «емли (ὀμφαλός) Ч камень, который рон €кобы проглотил вместо «евса и затем изрыгнул обратно.
»ногда, изобража€ эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по кра€м накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. ”рей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. ¬еро€тно, изобража€ уреев над эгидой јфины (или над головой √оргоны) греческий художник пыталс€ опиратьс€ на тот же символизм. ѕоэтому не должно удивл€ть и наличие уреев над головой хранител€ входа в јид ербера. —обственно стоглава€ змеина€ грива Ч это развитие темы умножени€ уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.



“е же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα Ч стоглавое шипение змей), употребл€ютс€ в описании “ифона, ≈хидны, Ћернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и ербер, рожденное “ифоном и ≈хидной).
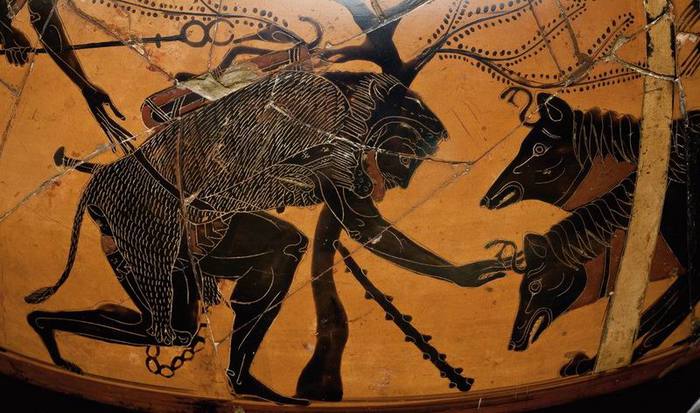
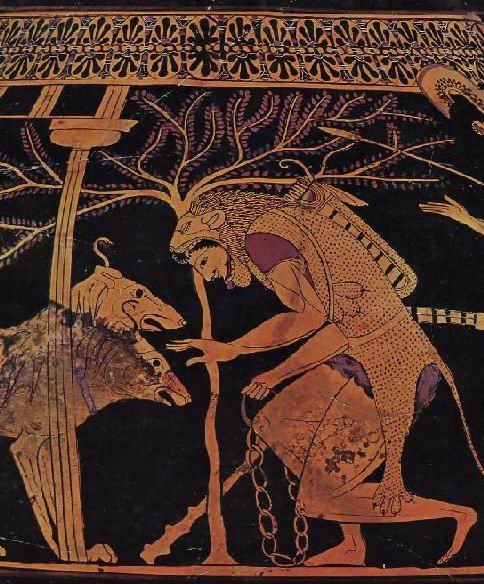
—цена похищени€ √ераклом пса ербера из јида. јттика, √реци€. ќк. 530 до н.э. ћастер јндокид.
” ербера был брат-близнец ќрф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. ќн упоминаетс€ в мифе о дес€том подвиге √еракла. ’оз€ином ќрфа был √ерион, у которого тот охран€л стада волшебных Ђкрасных быковї. √еракл увел у √ериона его стадо, при этом убив ќрфа.
Ђкрасных быковї. √еракл увел у √ериона его стадо, при этом убив ќрфа.
√реческое слово Ђὄρθροςї означает Ђпредрассветный сумракї. ¬ представлении египт€н, вечером солнце опускаетс€ в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. —уд€ по значению имени ќрфа, он должен был бы охран€ть именно восточные ворота јида. ¬озможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуетс€ о похищении √ераклом быков √ериона на крайнем западе. “ам же (на западе) он убивает и ќрфа.
ќб ќрфе не так много сведений, но любопытно, что согласно ѕоллуксу, в »берии ќрф имел св€тилище и носил им€ √аргеттий (Γαργήττιος). Ђ√аргеттийї означает Ђиз √аргеттаї (область в јттике), откуда, видимо, ќрф был заимствован (либо в »берии был одноименный город). ¬озможно, также, что эпитет ќрфа √аргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повли€ть на развитие мифологического образа ќрфа.


1. —икион (Σικυών), —икиони€. —татер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: ’имера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: лет€щий голубь в оливковом венке; Σ
2. —икион (Σικυών), —икиони€. —татер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: ’имера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: лет€щий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde).
’имера (Χίμαιρα) Ч еще одно порождение “ифона и ≈хидны, с трем€ головами: льва, козы и дракона (убита Ѕеллерофонтом). ¬ изложении √омера Ч это огнедышащее чудовище обитавшее в Ћикии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). ’имера стала именем нарицательным, но, несмотр€ на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает Ђмолода€ козаї или Ђкозочкаї. ѕричем, что интересно, огонь извергали все три головы (включа€ козью).
¬еро€тно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. ћожно даже осторожно предположить, что этимологи€ слова изначально к Ђкозеї вообще отношени€ не имела. “акже и голова козы на спине льва могла по€витьс€ позднее, из-за созвучи€, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). ƒл€ льва подобный эпитет выгл€дит более уместным, нежели издевательское им€ Ђкозочкаї (χίμαιρα).
√л€д€ на изображение ’имеры, приходит понимание причины возникновени€ образа ербера (на ранних артефактах) с двум€ песьими головами. ¬идимо, с точки зрени€ художников, змеина€ голова на хвосте ербера входила в общее число голов чудовища. ¬се зависит от того как считать.
с двум€ песьими головами. ¬идимо, с точки зрени€ художников, змеина€ голова на хвосте ербера входила в общее число голов чудовища. ¬се зависит от того как считать.
¬ообще, с очевидной €сностью, бросаетс€ в глаза шаблонность и однотипность хтонических Ђсущностейї ( ербер, ќрф, “ифон, √идра, ’имера), и с точки зрени€ иконографии, и в плане взаимоотношений с главными геро€ми мифических историй (наиболее €рким представителем которых, конечно же, €вл€етс€ √еракл). “ак уж повелось, что герои считают своим долгом сразитьс€ с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои).
¬ средневековых астрономических атласах созвездие ербер (Cerberus) изображаетс€ в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке √еркулес (соседнее созвездие). ¬месте со змеей ( ербером) в руке зажата ветка с €блоками, видимо, добыта€ √ераклом в саду нимф √есперид. Ќо, согласно мифам, €блоки охран€л змей Ћадон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. » который, конечно же, тоже был порождением “ифона и ≈хидны. —праведливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстраци€х ербер (Cerberus) изображен с песьими головами. » тем не менее, при чем тут молодильные €блоки? Ќаверное, имеет смысл присмотретьс€ к Ћадону повнимательней.
ћолодильные €блоки давали каждому, кто к ним прикоснетс€, вечную молодость и бессмертие. »менно эти волшебные плоды и велел царь Ёврисфей добыть √ераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзира€ на то, что дракон, по јполлодору, был бессмертный). “аков был одиннадцатый подвиг геро€.
¬ ЂЋ€гушкахї јристофана Ћадон упоминаетс€ в потоке ругательств, которые обрушивает Ёак, привратник јида, на ƒиониса, спустившегос€ туда, чтобы вывести в мир живых Ёврипида. “ак как ƒионис переодет √ераклом, Ёак, вспомина€ похищение √ераклом ербера, желает тому все адовы муки. „тобы чуть ли не все кошмарные создани€ греческой мифологии потрудились над его растерзанием. „тоб ≈хидна вырвала ему легкие, горгоны Ч почки, а гончие оцита и Ђстоглава€ ехиднаї (прозвище Ћадона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-√еракла (ƒиониса).
— учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому р€ду персонажей царства јида, то эпитет Ђстоглава€ ехиднаї подошел бы не только Ћадону, но и многим другим хтоническим создани€м греческого бестиари€.
бы не только Ћадону, но и многим другим хтоническим создани€м греческого бестиари€.
ѕо поводу же пожирани€ внутренностей, нельз€ не вспомнить √идруса, попул€рного персонажа бестиариев, который был известен как Ђгрозаї крокодилов. ’от€, гл€д€ на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил?
Ѕестиарии основывались на Ђ‘изиологеї Ч произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской јлександрии. Ђ‘изиологї, написанный на греческом, несколько раз переводилс€ на латинский €зык. ќдин из таких переводов, называемый Ђ¬ерси€ Bї, стал основой на которой был построен латинский бестиарий.
ак это часто случалось с бестиари€ми, в них попадала информаци€, прошедша€ через множество авторов, переписчиков и трансформировавша€с€ до неузнаваемости. √идрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и гр€зью обмазывалс€ вовсе не дл€ того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. ¬ ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, Ђохотникї), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, Ђживущий в водеї). ’от€ в переводе с греческого ἐνυδρίς Ч это выдра.
ѕозднее, видимо пресытившись зме€ми, ихневмон резко мен€ет рацион своего питани€.
“рансформаци€ сюжета противосто€ни€ Ђэнудр (ихневмон) Ч зме€ї в противосто€ние Ђгидрус Ч крокодилї в целом пон€тен. » энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: Ђживущий в водеї. —лово δράκων может быть переведено и как Ђзме€ї, и как Ђдраконї.²
________________________________
[2] δράκων (-οντος) ὁ
1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.
2) зме€; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.
3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.
ѕричем, первоначальный смысл Ч конечно же, Ђзме€ї (или Ђзмейї). ƒракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом Ч это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Ќужно отметить, что если крокодилу дорисовать крыль€, то он вполне сойдет за Ђдраконаї. ¬прочем, если сильно не придиратьс€, то сойдет и без крыльев.
—ложно представить как трансформировалс€ мотив обмазывани€ энудра в гр€зи, но заметим, что в природе ихневмоны используют Ђгр€зьї (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант дл€ проникновени€ в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует јристотель (см. выше).
≈гипетска€ мифологи€ нередко попадает в греческие произведени€ именно в таком приземленном виде. ¬ данном случае, символическа€ борьба божеств света и тьмы (–а и јпопа) описываетс€ у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их Ђприродных антипатийї. онечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставлени€ животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает јтум) действительно питаетс€, в том числе, и €довитыми зме€ми, так что греки оп€ть спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египт€не.
¬ бестиари€х гидруса (hydrus) и гидру (hydra) раздел€ли, хот€ перевод в обоих случа€х один Ч Ђвод€на€ зме€ї.³
________________________________
[3] hydrus, i m (греч. ὕδρος)
1) гидра, вод€на€ зме€ PM, Sol; зме€ (вообще) V, O, VF;
2) змеиный €д Sil.
hydra, ae f (греч. ὕδρα)
1) миф. гидра, вод€на€ зме€ V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Ћернейска€ гидра;
2) (или Anguis) √идра (созвездие).
“ем не менее √идра в бестиари€х фигурирует в качестве Ћернейской, имеет дев€ть голов (которые, как, например, у ƒиодора —ицилийского, умножаютс€ до сотни), а гидрус специализировалс€ по изведению крокодилов (и имел одну голову).
[4] ѕопытка рационального толковани€ мифа основана на созвучии слов ὕδρα (√идра) и ἕδρα (Ђгедраї) Ч Ђместо, областьї, либо, более конкретно, Ч Ђруслої (учитыва€ контекст излагаемой истории). –ечь, видимо, идет о прорыве плотины или дамбы.
ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη ἡ
1) седалище, сиденье, кресло, стул;
2) престол; ex. (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.)
3) место, область ex. (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.);
4) местопребывание, жилище, обитель; ex. Πανὸς ἕ. Eur.; ἕδραι σκότιοι Eur. Ч царство теней
5) св€тилище, алтарь; ex. (ἕδραι θεῶν Aesch.)
6) пристанище, убежище; ex. ναύλοχοι ἕδραι Soph. Ч сто€нка кораблей, пристань;
7) русло; ex. (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.).
¬прочем, после бесконечной путаницы в разных вариантах и интерпретаци€х, отождествление многоголовой √идры и √идруса, охотника за крокодилами, в конце концов произошло. –ишар ‘урниваль дает любопытное развитие образа гидруса. ”мил€ет и мораль, которой он резюмирует этот сюжет:
Ќа средневековой испанской картине XV века јрхангел ћихаил, продолжа€ линию поведени€ античных героев, убивает дракона, как будто списанного с √идруса или √идры, с которой он был отождествлен. ’от€ точно также мог быть списан и с “ифона, и с ≈хидны (Ἔχιδνα, Ђгадюкаї), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.
списанного с √идруса или √идры, с которой он был отождествлен. ’от€ точно также мог быть списан и с “ифона, и с ≈хидны (Ἔχιδνα, Ђгадюкаї), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.
—обственно, и с изначальной природой (а, может быть, и с иконографией) ербера не все так однозначно. ¬от что по этому поводу свидетельствует ѕавсаний:
[5] Ταίναρον τό “енар(он), мыс и южн. оконечность Ћаконии, на ѕелопоннесе, с храмом ѕосидона и с пещерой, котора€, по преданию, была входом в подземное царство HH., Her., Thuc., Eur., Arph., Men.
Ќеоднозначность толковани€ природы ербера св€зана с неоднозначностью слова κύων.
¬ целом, средневековые ученые не видели большой разницы между ербером и Ћадоном (и прочими хтоническими сущност€ми). ¬се драконы что-то сторожат или охран€ют, иконографи€ их однотипна (змееподобна и многоглава), а имена либо топонимичны (т.е. имеют географическую прив€зку), либо имеют вид прозвища (или эпитета), характеризующего персонажа в прив€зке к конкретной истории.
роме того, вариантов прочтени€ одних и тех же мифов (с массой противоречий и фривольным отношением к первоисточнику) было в избытке. Ќу а то как легко дракон превращаетс€ в пса можно судить по иллюстраци€м из бестиариев, где крокодил (по большому счету, тот же дракон) больше похож на собаку, чем на рептилию. ¬ свою очередь, ту легкость, с которой пес превращаетс€ обратно в дракона, нам демонстрируют средневековые астрономы.
«¬≈«ƒЌџ… ≈–Ѕ≈–
÷ербер Ч Ђновоеї, то есть не античное и не внесенное в каталог ѕтолеме€, но устаревшее и ныне несуществующее созвездие северного полушари€ неба. —озвездие предложено яном √евелием и опубликовано в 1690 году в его посмертной Ђ”ранографииї, хот€, как астеризм созвезди€ √еркулес, было известно и раньше.
ѕримечательно, что √игин в своей Ђјстрономииї, издани€ 1485 года, однозначно изображает подвиг √еракла, в котором тот добывает золотые €блоки в саду √есперид, как выше уже было отмечено, €блоки эти охран€л змей Ћадон. »менно Ћадон, обвивающий €блоню, и изображен √игином в качестве астеризма созвезди€ √еркулес. аким образом Ћадон превратилс€ в ÷ербера Ч остаетс€ загадкой, но именно это название закрепилось в астрономической традиции.
—озвездие ÷ербер было использовано ƒжоном —енексом в созвездии ¬етвь яблони, и в последствии у разных авторов они часто трактуютс€ как одно созвездие (где ÷ербер обвивает ¬етвь яблони). ак Ђ÷ерберї и Ђ¬етвьї, включено известным попул€ризатором астрономии ‘ламмарионом в список созвездий в Ђ»стории небаї (1872).

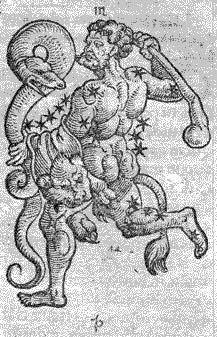
2. √игин, Ђјстрономи€ї, издание 1570 года. √еркулес и змей Ћадон.

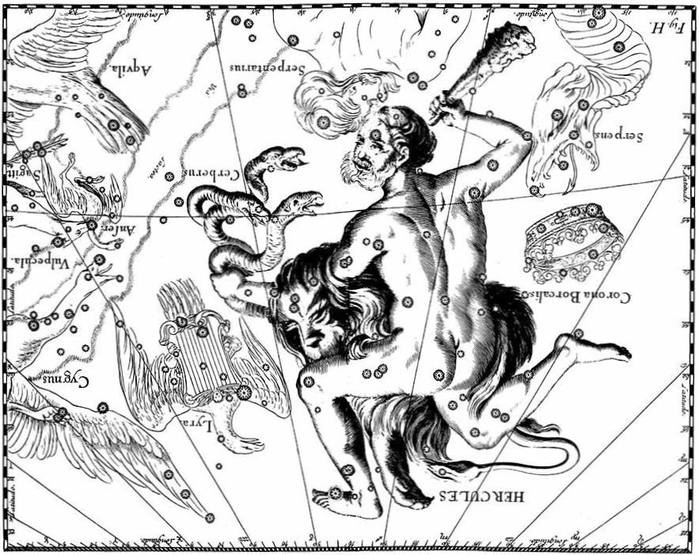
4. —озвездие √еркулес (Hercules). Ђ”ранографи€ї яна √евели€, 1690г. ¬ композицию включены звезды, выделенные в качестве астеризма, и подписанные как Cerberus.


6. »оганн Ѕоде, атлас Ђѕредставление звездї, 1782 года. ¬ руке √еркулеса Ч астеризм ÷ербер и ¬етвь (Cerberus u. Zweig).


8. јлександр ƒжеймсон, Ђ«вездный атласї, 1822 год. ¬ руке √еркулеса Ч астеризм ÷ербер и ¬етвь яблони (Cerberus et Ramus Pomifer).
“”“”
“уту (егип. Twtw, др.-греч. Τυθωες, лат. Tithoes) Ч египетский бог, получивший широкое распространение во всем ≈гипте во времена ѕозднего периода. ѕочиталс€ как бог, Ђобеспечивающий защиту от демоновї, Ђпродлевающий жизньї и Ђзащищающий людей от мира мертвыхї.
≈динственный, известный сегодн€ храм посв€щенный богу “уту, расположен в древнем поселении еллис. –ельефы с изображением “уту можно встретить и на стенах других храмов, например, таких как алабша. Ќа стенах храма Ўенхур выписан эпитет “уту: Ђтот кто приходит к зовущему егої. ≈сть у “уту и другие эпитеты: Ђсын Ќейтї, Ђлевї, Ђвеликий силойї, Ђуправл€ющий демонами —ехмет и скитающимис€ демонами Ѕастї.
≈го изображали в виде гибридного существа с телом крылатого льва, головой человека, сокола или крокодила и хвостом в виде змеи (уре€). “уту был сыном богини войны и охоты Ќейт (отождествл€емой с греческой јфиной). ¬ других интерпретаци€х, матер€ми “уту считались богини ћут, —ехмет, Ќехбет и Ѕаст.
»значально, “уту почиталс€ как защитник гробниц, в более поздние времена он выполн€л роль оберегающего сп€щих от плохих снов и опасностей.
ќднозначно, “уту Ч прекрасный прообраз дл€ львиноподобных ‘иванского —финкса и ’имеры, а также змеехвостых ербера, ќрфа и той же ’имеры. ѕричем, дл€ ербера, прообраз не только внешний. “уту стоит на страже, не позвол€€ хтоническим демонам из мира мертвых вредить живым. —обственно, это же €вл€етс€ главной функцией и ербера, сто€щего на страже у врат јида, и не позвол€ющего душам умерших покидать пределы ѕодземного царства.



2. —тела из јлександрии, датируема€ правлением императора јдриана, в насто€щее врем€ в находитс€ в ’удожественно-историческом музее, в јвстрии.
3. —тела с изображением “уту из ≈гипетского музе€ в Ѕерлине (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung).
»зображение “уту из берлинского музе€ представл€ет особый интерес. ¬о-первых, сфинкс с телом льва имеет две головы (крокодилью и человеческую), а во-вторых, вокруг человеческой головы располагаютс€ еще восемь голов (баран, гусь, сокол, бык, лев, шакал, бабуин, кот). Ёти головы, как бы вырастающие из загривка, также могли бы послужить толчком дл€ развити€ темы змеиной многоглавости.
Ќо Ђиздавать самые разнообразные голосаї могут только Ђсамые разнообразныеї головы, змеиные головы могут лишь Ђоднообразної шипеть. стати, эту же тему Ђмногоголось€ї мы встречаем и в описании “ифона:
ѕодобно “уту, такую же Ђмногоглавуюї иконографию имел еще один египетский бог-защитник Ч Ѕес ѕантеос, получивший широкое распространение в ≈гипте около VIII-VII вв. до н.э.
получивший широкое распространение в ≈гипте около VIII-VII вв. до н.э.
[6] Παντεός Ч Ђвсебогї, бог, совмещающий в себе других богов, отождествленных с ним.
Ќадо полагать, “уту прошел тот же процесс отождествлени€ с другими богами-защитниками, и вправе тоже иметь эпитет Ђѕантеосї.
Ќа стеле из јлександрийского музе€ голову “уту окружают семь дополнительных голов (урей, стерв€тник, сокол, Ѕес, ибис, крокодил, баран), центральна€ из которых Ч голова Ѕеса. орона Ўути, украшающа€ “уту (из двух высоких перьев, у основани€ которых наход€тс€ витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно €вл€етс€ и короной Ѕеса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествл€ютс€.
орона Ўути, украшающа€ “уту (из двух высоких перьев, у основани€ которых наход€тс€ витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно €вл€етс€ и короной Ѕеса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествл€ютс€.
Ќеобходимо также обратить внимание на схожесть написани€ греческих имен “уту (Τυθωες) и “ифона (Τυφωεύς). Ќе исключено, что они имели и схожее произношение. Ѕуква υ (ипсилон) имеет дво€кое прочтение ([ü] либо [ί] Ч в зависимости от нюансов транслитерации).⁷
________________________________
[7] Ѕуква ипсилон (Yυ) в древнегреческом €зыке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук Ч огубленное [ί]. ѕодобный звук есть в современном немецком €зыке и обозначаетс€ латинской буквой u с умлаутом Ч ü. ¬ русском €зыке огубленного [ί] нет, и в практике преподавани€ древнегреческого €зыка в русско€зычной аудитории букву ипсилон читают как букву ю.
онечно, “уту и “ифона, кроме схожести имен, мало что объедин€ет. ћожно сказать, ничего не объедин€ет. Ќо дл€ начала, достаточно и этого. ќп€ть же, эпитет Ђуправл€ющий демонами —ехмет и скитающимис€ демонами Ѕастї Ч мог бы стать отправной точкой дл€ неоднозначного толковани€, и вдохновить на развитие темы хтонического образа “уту.
Ќесмотр€ на то, что греки “ифона отождествл€ли с египетским —етом, общего между ними Ч тоже не много. ” них разна€ иконографи€ и разна€ мифологи€. —хожи они, пожалуй, только общей характеристикой: злобностью нрава, да еще желанием беззаконно отн€ть власть у верховного бога. —ет был богом песчаных бурь, убивающим, в сезон засухи, все живое в долине Ќила. “ифон (др.-греч. Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, эпич. Τυφάων) Ч олицетворение огненных сил земли, с их разрушительными действи€ми и €довитыми испарени€ми.
ѕричина наделени€ “ифона определенными качествами кроетс€, как обычно, в его имени.
ћогло ли греческое им€ “уту (Τυθωες) стать толчком дл€ развити€ независимого образа “ифона (Τυφωεύς)? «на€ живой и изворотливый ум античных сочинителей, ответ однозначен Ч возможно всЄ.
_______________________________
≈–Ѕ≈–, » Ќ≈ “ќЋ№ ќ
Ђ“ак-то, не зна€ ни смерти, ни старости, нимфа ≈хидна,
√ибель несуща€, жизнь под землей проводила в јримах.
ак говор€т, с быстроглазою девою той сочеталс€
¬ жарких объ€ти€х гордый и страшный “ифон беззаконный.
» зачала от него, и детей родила крепкодушных.
ƒл€ √ериона сперва родила она ќрфа-собаку;
¬след же за ней Ч несказанного ербера, страшного видом,
ћедноголосого адова пса, кровожадного звер€,
Ќагло-бесстыдного, злого, с п€тьюдес€тью головами.ї
(√есиод, “еогони€)
ербер (Κέρβερος) Ч трехглавый пес, порождение “ифона (Τυφῶν) и ≈хидны (Ἔχιδνα), охран€ющий врата јида, царства мертвых, не позвол€€ умершим возвращатьс€ в мир живых. »сполн€€ волю Ёври≠сфе€, √еракл вывел ербера из подземного царства.
Ђ огда √еракл стал просить ѕлутона отдать ему ербера, тот разрешил ему вз€ть пса, если он одолеет его без помощи оружи€, которое при нем было. √еракл нашел пса у ворот јхеронта, и, будучи защищен со всех сторон панцирем и покрыт львиной шкурой, обхватил голову собаки, и не отпускал, хот€ дракон, замен€вший ерберу хвост, кусал его. √еракл душил чудовище до тех пор, пока не укротил его, и вывел на поверхность земли в области города “резена.ї¹________________________________
(јполлодор Ђћифическа€ библиотека IIї)
[1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ “резен (главный город обл. Τροιζηνία в јрголиде, на севере ѕелопоннеса) Her., Thuc., Xen.
ѕредъ€вив пса Ёври≠сфею, √еракл вернул ербера в јид. Ёто был последний, двенадцатый подвиг √еракла.
Ётимологи€ имени ербер (Κέρβερος) не однозначна. »сход€ из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант:
κήρ, κηρός ἡ зла€ смерть, гибель, зло, бедствие;
βάρος (-εος) τό
1) т€жесть, вес;
2) множество, обилие;
3) сила, мощь;
βαρύς, βαρεῖα, βαρύ
1) т€желый, т€желовесный Her., Plat., Arst., Plut.
2) сильный, мощный, грозный;
3) т€желый, т€жкий, т€гостный, тж. жестокий;
4) невыносимый, несносный;
5) опасный;
6) разгневанный, гневный;
7) угрюмый, мрачный.
ербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. “аким его описывает
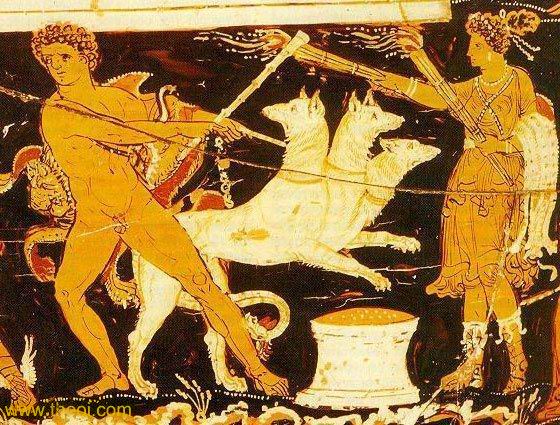 јполлодор в Ђћифологической библиотекеї. “аким он представлен на керамике. ’от€ на более древних артефактах ербер нередко изображалс€ двухголовым, что сближает его с псом ќрфом (его двуглавым мифологическим братом).
јполлодор в Ђћифологической библиотекеї. “аким он представлен на керамике. ’от€ на более древних артефактах ербер нередко изображалс€ двухголовым, что сближает его с псом ќрфом (его двуглавым мифологическим братом). «меина€ грива вызывает ассоциации с ћедузой √оргоной. ќба персонажа, и ћедуза, и ербер осуществл€ли охранную функцию. —амо им€ Μέδουσα Ч производное от μεδέουσα Ч означает Ђохранительницаї. —огласно ≈врипиду, горгоны охран€ли ѕуп «емли (ὀμφαλός) Ч камень, который рон €кобы проглотил вместо «евса и затем изрыгнул обратно.
»ногда, изобража€ эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по кра€м накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. ”рей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. ¬еро€тно, изобража€ уреев над эгидой јфины (или над головой √оргоны) греческий художник пыталс€ опиратьс€ на тот же символизм. ѕоэтому не должно удивл€ть и наличие уреев над головой хранител€ входа в јид ербера. —обственно стоглава€ змеина€ грива Ч это развитие темы умножени€ уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.



ѕасти гадов отравой и €дом €ро сочатс€,
— шеи безмерной √иганта аспиды космами виснутЕ
(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса II, 31)
“е же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα Ч стоглавое шипение змей), употребл€ютс€ в описании “ифона, ≈хидны, Ћернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и ербер, рожденное “ифоном и ≈хидной).
Ђ¬торым приказом было умертвить Ћернейскую гидру, у которой из единого туловища вырастало сто шей, оканчивавшихс€ змеиными головами. Ќа месте каждой срубленной головы вырастали две новыеїЕ
(ƒиодор —ицилийский Ђ»сторическа€ библиотекаї, IV:XI.5)
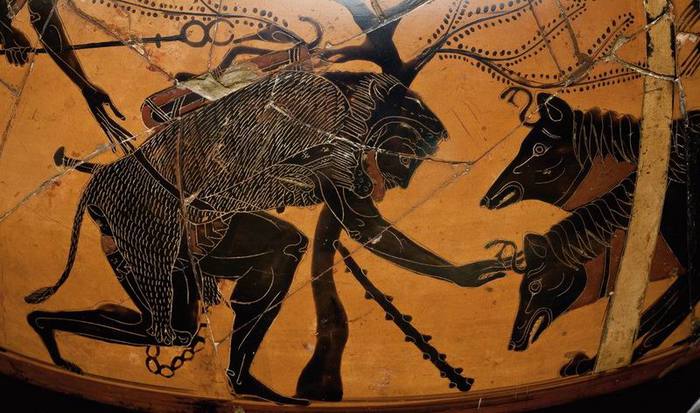
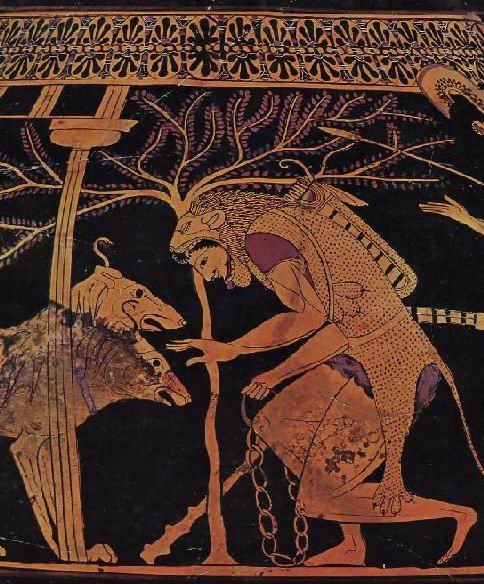
” ербера был брат-близнец ќрф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. ќн упоминаетс€ в мифе о дес€том подвиге √еракла. ’оз€ином ќрфа был √ерион, у которого тот охран€л стада волшебных
 Ђкрасных быковї. √еракл увел у √ериона его стадо, при этом убив ќрфа.
Ђкрасных быковї. √еракл увел у √ериона его стадо, при этом убив ќрфа. √реческое слово Ђὄρθροςї означает Ђпредрассветный сумракї. ¬ представлении египт€н, вечером солнце опускаетс€ в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. —уд€ по значению имени ќрфа, он должен был бы охран€ть именно восточные ворота јида. ¬озможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуетс€ о похищении √ераклом быков √ериона на крайнем западе. “ам же (на западе) он убивает и ќрфа.
ќб ќрфе не так много сведений, но любопытно, что согласно ѕоллуксу, в »берии ќрф имел св€тилище и носил им€ √аргеттий (Γαργήττιος). Ђ√аргеттийї означает Ђиз √аргеттаї (область в јттике), откуда, видимо, ќрф был заимствован (либо в »берии был одноименный город). ¬озможно, также, что эпитет ќрфа √аргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повли€ть на развитие мифологического образа ќрфа.
Γαργηττός ὁ √аргетт (дем в атт. филе Αἰγηίς) Arph., Plut.
γοργός 3
1) страшный, грозный; ex. γ. ἰδεῖν или ὁρᾶσθαι Xen. Ч грозный на вид;
2) ретивый, буйный; ex. (ἵππος Xen., Plut.).


1. —икион (Σικυών), —икиони€. —татер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: ’имера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: лет€щий голубь в оливковом венке; Σ
2. —икион (Σικυών), —икиони€. —татер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: ’имера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: лет€щий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde).
’имера (Χίμαιρα) Ч еще одно порождение “ифона и ≈хидны, с трем€ головами: льва, козы и дракона (убита Ѕеллерофонтом). ¬ изложении √омера Ч это огнедышащее чудовище обитавшее в Ћикии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). ’имера стала именем нарицательным, но, несмотр€ на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает Ђмолода€ козаї или Ђкозочкаї. ѕричем, что интересно, огонь извергали все три головы (включа€ козью).
Ђ“акже еще разрешилась она [≈хидна] изрыгающей плам€,
ћощной, большой, быстроногой ’имерой с трем€ головами:
ѕервою Ч огненноокого льва, ужасного видом,
озьей Ч другою, а третьей Ч могучего зме€-дракона.
—переди лев, позади же дракон, а коза в середине;
яркое, жгучее плам€ все пасти ее извергалиї.
(√есиод. “еогони€, 314-319)
¬еро€тно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. ћожно даже осторожно предположить, что этимологи€ слова изначально к Ђкозеї вообще отношени€ не имела. “акже и голова козы на спине льва могла по€витьс€ позднее, из-за созвучи€, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). ƒл€ льва подобный эпитет выгл€дит более уместным, нежели издевательское им€ Ђкозочкаї (χίμαιρα).
√л€д€ на изображение ’имеры, приходит понимание причины возникновени€ образа ербера (на ранних артефактах)
 с двум€ песьими головами. ¬идимо, с точки зрени€ художников, змеина€ голова на хвосте ербера входила в общее число голов чудовища. ¬се зависит от того как считать.
с двум€ песьими головами. ¬идимо, с точки зрени€ художников, змеина€ голова на хвосте ербера входила в общее число голов чудовища. ¬се зависит от того как считать.¬ообще, с очевидной €сностью, бросаетс€ в глаза шаблонность и однотипность хтонических Ђсущностейї ( ербер, ќрф, “ифон, √идра, ’имера), и с точки зрени€ иконографии, и в плане взаимоотношений с главными геро€ми мифических историй (наиболее €рким представителем которых, конечно же, €вл€етс€ √еракл). “ак уж повелось, что герои считают своим долгом сразитьс€ с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои).
¬ средневековых астрономических атласах созвездие ербер (Cerberus) изображаетс€ в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке √еркулес (соседнее созвездие). ¬месте со змеей ( ербером) в руке зажата ветка с €блоками, видимо, добыта€ √ераклом в саду нимф √есперид. Ќо, согласно мифам, €блоки охран€л змей Ћадон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. » который, конечно же, тоже был порождением “ифона и ≈хидны. —праведливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстраци€х ербер (Cerberus) изображен с песьими головами. » тем не менее, при чем тут молодильные €блоки? Ќаверное, имеет смысл присмотретьс€ к Ћадону повнимательней.
ЂЁти €блоки охран€л бессмертный дракон, сын “ифона и ≈хидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.ї
(јполлодор Ђћифологическа€ библиотекаї II, 5)
ћолодильные €блоки давали каждому, кто к ним прикоснетс€, вечную молодость и бессмертие. »менно эти волшебные плоды и велел царь Ёврисфей добыть √ераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзира€ на то, что дракон, по јполлодору, был бессмертный). “аков был одиннадцатый подвиг геро€.
¬ ЂЋ€гушкахї јристофана Ћадон упоминаетс€ в потоке ругательств, которые обрушивает Ёак, привратник јида, на ƒиониса, спустившегос€ туда, чтобы вывести в мир живых Ёврипида. “ак как ƒионис переодет √ераклом, Ёак, вспомина€ похищение √ераклом ербера, желает тому все адовы муки. „тобы чуть ли не все кошмарные создани€ греческой мифологии потрудились над его растерзанием. „тоб ≈хидна вырвала ему легкие, горгоны Ч почки, а гончие оцита и Ђстоглава€ ехиднаї (прозвище Ћадона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-√еракла (ƒиониса).
— учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому р€ду персонажей царства јида, то эпитет Ђстоглава€ ехиднаї подошел
 бы не только Ћадону, но и многим другим хтоническим создани€м греческого бестиари€.
бы не только Ћадону, но и многим другим хтоническим создани€м греческого бестиари€.ѕо поводу же пожирани€ внутренностей, нельз€ не вспомнить √идруса, попул€рного персонажа бестиариев, который был известен как Ђгрозаї крокодилов. ’от€, гл€д€ на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил?
Ђ√идрус Ч закл€тый враг крокодила и его природа и свойства таковы, что когда он видит крокодила сп€щим на берегу, то входит в него через открытый рот, сперва ката€сь в гр€зи, чтобы легче было проникнуть через глотку. рокодил немедленно его заглатывает живым. ќднако тот, разодрав все внутренности крокодилу, выходит из него невредимым.ї
(Ђјбердинский бестиарийї)
Ѕестиарии основывались на Ђ‘изиологеї Ч произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской јлександрии. Ђ‘изиологї, написанный на греческом, несколько раз переводилс€ на латинский €зык. ќдин из таких переводов, называемый Ђ¬ерси€ Bї, стал основой на которой был построен латинский бестиарий.
ак это часто случалось с бестиари€ми, в них попадала информаци€, прошедша€ через множество авторов, переписчиков и трансформировавша€с€ до неузнаваемости. √идрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и гр€зью обмазывалс€ вовсе не дл€ того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. ¬ ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, Ђохотникї), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, Ђживущий в водеї). ’от€ в переводе с греческого ἐνυδρίς Ч это выдра.
Ђ»хневмон, живущий в ≈гипте, когда увидит змею, называемую аспидом, нападает на нее не прежде, чем созовет других помощников. ѕротив ударов и укусов они обмазывают себ€ гр€зью: именно, намочившись сначала в воде, они катаютс€ по земле.ї
(Ђјристотель, »стори€ животныхї IX, 44)
ѕозднее, видимо пресытившись зме€ми, ихневмон резко мен€ет рацион своего питани€.
Ђ»хневмона называют также энудром или ниллосом. √овор€т, что он мажет себ€ гр€зью, чтобы стать скользким и запрыгнуть в пасть крокодила и тогда сожрать его печень, и убить его.ї
(“имофей из √азы. 43.1)
“рансформаци€ сюжета противосто€ни€ Ђэнудр (ихневмон) Ч зме€ї в противосто€ние Ђгидрус Ч крокодилї в целом пон€тен. » энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: Ђживущий в водеї. —лово δράκων может быть переведено и как Ђзме€ї, и как Ђдраконї.²
________________________________
[2] δράκων (-οντος) ὁ
1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.
2) зме€; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.
3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.
ѕричем, первоначальный смысл Ч конечно же, Ђзме€ї (или Ђзмейї). ƒракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом Ч это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Ќужно отметить, что если крокодилу дорисовать крыль€, то он вполне сойдет за Ђдраконаї. ¬прочем, если сильно не придиратьс€, то сойдет и без крыльев.
—ложно представить как трансформировалс€ мотив обмазывани€ энудра в гр€зи, но заметим, что в природе ихневмоны используют Ђгр€зьї (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант дл€ проникновени€ в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует јристотель (см. выше).
≈гипетска€ мифологи€ нередко попадает в греческие произведени€ именно в таком приземленном виде. ¬ данном случае, символическа€ борьба божеств света и тьмы (–а и јпопа) описываетс€ у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их Ђприродных антипатийї. онечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставлени€ животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает јтум) действительно питаетс€, в том числе, и €довитыми зме€ми, так что греки оп€ть спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египт€не.
¬ бестиари€х гидруса (hydrus) и гидру (hydra) раздел€ли, хот€ перевод в обоих случа€х один Ч Ђвод€на€ зме€ї.³
________________________________
[3] hydrus, i m (греч. ὕδρος)
1) гидра, вод€на€ зме€ PM, Sol; зме€ (вообще) V, O, VF;
2) змеиный €д Sil.
hydra, ae f (греч. ὕδρα)
1) миф. гидра, вод€на€ зме€ V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Ћернейска€ гидра;
2) (или Anguis) √идра (созвездие).
“ем не менее √идра в бестиари€х фигурирует в качестве Ћернейской, имеет дев€ть голов (которые, как, например, у ƒиодора —ицилийского, умножаютс€ до сотни), а гидрус специализировалс€ по изведению крокодилов (и имел одну голову).
√идра Ч это дракон со множеством голов, который жил на острове или на болоте в провинции јркади€. Ќа латыни она зоветс€ excedra, так как на месте одной отрубленной головы у нее три отрастает (excrescebant), но это басни. “ем не менее, все согласны в том, что гидра Ч это было место, откуда извергнулась вода и уничтожила соседний город, где закрыли один источник воды и прорвалось великое множество. ¬ид€ это, √еркулес осушил это место и закрыл источник воды. √идра названа от слова Ђводаї.⁴________________________________
(јбердинский бестиарий 626: fol. 68v-69r)
[4] ѕопытка рационального толковани€ мифа основана на созвучии слов ὕδρα (√идра) и ἕδρα (Ђгедраї) Ч Ђместо, областьї, либо, более конкретно, Ч Ђруслої (учитыва€ контекст излагаемой истории). –ечь, видимо, идет о прорыве плотины или дамбы.
ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη ἡ
1) седалище, сиденье, кресло, стул;
2) престол; ex. (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.)
3) место, область ex. (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.);
4) местопребывание, жилище, обитель; ex. Πανὸς ἕ. Eur.; ἕδραι σκότιοι Eur. Ч царство теней
5) св€тилище, алтарь; ex. (ἕδραι θεῶν Aesch.)
6) пристанище, убежище; ex. ναύλοχοι ἕδραι Soph. Ч сто€нка кораблей, пристань;
7) русло; ex. (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.).
¬прочем, после бесконечной путаницы в разных вариантах и интерпретаци€х, отождествление многоголовой √идры и √идруса, охотника за крокодилами, в конце концов произошло. –ишар ‘урниваль дает любопытное развитие образа гидруса. ”мил€ет и мораль, которой он резюмирует этот сюжет:
ЂЁто Ч зме€, имеюща€ множество голов, и ее природа такова, что если ей отрезать одну какую-либо голову, то на этом месте вырастает две новых.
35. «ме€ эта врожденной ненавистью ненавидит крокодила. » когда заметит крокодила, пожравшего человека и раскаивающегос€ столь сильно, что желани€ съедать других людей он уже начисто лишилс€, гидра, рассчитав в уме, что обмануть его окажетс€ нетрудно, Ч ибо он уже ест все, не разбира€, Ч так вываливаетс€ в гр€зи, что становитс€ как будто мертвой; крокодил же, на гидру наткнувшись, поедает и заглатывает ее целиком. “огда гидра, оказавшись в животе у крокодила, раздирает на части все его внутренности, а потом выбираетс€ наружу, чрезвычайно раду€сь победе.
» поэтому € говорю, что опасаюсь, как бы за отмщением через раска€ние не последовала месть другого рода. »бо гидра, у которой множество голов, означает человека, у которого столько подруг, сколько у него знакомых; сколь же велики сердца у людей такой породы, могущих делить их на такое множество частей! Ч ибо ни одна [из знакомых] не владеет ими целиком.ї
(ЂЅестиарий любвиї –ишар ‘урниваль)
Ќа средневековой испанской картине XV века јрхангел ћихаил, продолжа€ линию поведени€ античных героев, убивает дракона, как будто
 списанного с √идруса или √идры, с которой он был отождествлен. ’от€ точно также мог быть списан и с “ифона, и с ≈хидны (Ἔχιδνα, Ђгадюкаї), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.
списанного с √идруса или √идры, с которой он был отождествлен. ’от€ точно также мог быть списан и с “ифона, и с ≈хидны (Ἔχιδνα, Ђгадюкаї), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.—обственно, и с изначальной природой (а, может быть, и с иконографией) ербера не все так однозначно. ¬от что по этому поводу свидетельствует ѕавсаний:
√екатей ћилетский нашел более веро€тное толкование, сказав, что на “енаре⁵ вырос страшный змей и был назван ѕсом јида, так как укушенный им тотчас же умирал от его €да; этот-то змей и был приведен √ераклом к Ёврисфею. √омер Ч он первый упоминает о ѕсе јида, которого привел √еракл, Ч не дал ему никакого имени и не описал его вида, как он сделал это с ’имерой. ѕозднейшие писатели дали ему им€ ÷ербера и, уподобив его во всем остальном собаке, стали говорить, что он имеет три головы. ћежду тем √омер мог подразумевать здесь собаку, домашнее дл€ человека животное, с таким же веро€тием, как и какого-нибудь дракона, которого он мог назвать ѕсом јида.________________________________
(ѕавсаний Ђќписание Ёлладыї III.XXV.3-4)
[5] Ταίναρον τό “енар(он), мыс и южн. оконечность Ћаконии, на ѕелопоннесе, с храмом ѕосидона и с пещерой, котора€, по преданию, была входом в подземное царство HH., Her., Thuc., Eur., Arph., Men.
Ќеоднозначность толковани€ природы ербера св€зана с неоднозначностью слова κύων.
κύων, κῠνός ὁ и ἡ (dat. κυνί, acc. κύνα, voc. κύον; dat. pl. κυσί Ч эп. κύνεσσι)
1) собака;
4) чудовище;
ex. Διὸς πτηνὸς κ. Aesch., Soph. = αἰετός (ἀετός, орЄл);
ἡ ῥαψῳδὸς κ. Soph. = Σφίγξ (—финга, —финкс);
Ζηνὸς κύνες Aesch. = Ἅρπυιαι (√арпии);
κύνες Κωκυτοῦ Arph. = Ἐρινύες (Ёринии);
Λέρνας κ. Eur. = Ὕδρα (Ћернейска€ √идра);
6) тюлень.
¬ целом, средневековые ученые не видели большой разницы между ербером и Ћадоном (и прочими хтоническими сущност€ми). ¬се драконы что-то сторожат или охран€ют, иконографи€ их однотипна (змееподобна и многоглава), а имена либо топонимичны (т.е. имеют географическую прив€зку), либо имеют вид прозвища (или эпитета), характеризующего персонажа в прив€зке к конкретной истории.
Λέρνη, дор. Λέρνα ἡ Ћерна, болотистое озеро и ручей, вытекающий из него, в јрголиде, где жила, по преданию, многоглава€ гидра, убита€ √ераклом Aesch., Eur.
Λάδων (-ωνος) ὁ Ћадон, река в јркадии, правый приток јлфе€; тж. божество этой реки Hes.
Λάδων ὁ дракон, охран€вший золотые €блоки √есперид и убитый √еркулесом.
роме того, вариантов прочтени€ одних и тех же мифов (с массой противоречий и фривольным отношением к первоисточнику) было в избытке. Ќу а то как легко дракон превращаетс€ в пса можно судить по иллюстраци€м из бестиариев, где крокодил (по большому счету, тот же дракон) больше похож на собаку, чем на рептилию. ¬ свою очередь, ту легкость, с которой пес превращаетс€ обратно в дракона, нам демонстрируют средневековые астрономы.
«¬≈«ƒЌџ… ≈–Ѕ≈–
÷ербер Ч Ђновоеї, то есть не античное и не внесенное в каталог ѕтолеме€, но устаревшее и ныне несуществующее созвездие северного полушари€ неба. —озвездие предложено яном √евелием и опубликовано в 1690 году в его посмертной Ђ”ранографииї, хот€, как астеризм созвезди€ √еркулес, было известно и раньше.
ѕримечательно, что √игин в своей Ђјстрономииї, издани€ 1485 года, однозначно изображает подвиг √еракла, в котором тот добывает золотые €блоки в саду √есперид, как выше уже было отмечено, €блоки эти охран€л змей Ћадон. »менно Ћадон, обвивающий €блоню, и изображен √игином в качестве астеризма созвезди€ √еркулес. аким образом Ћадон превратилс€ в ÷ербера Ч остаетс€ загадкой, но именно это название закрепилось в астрономической традиции.
—озвездие ÷ербер было использовано ƒжоном —енексом в созвездии ¬етвь яблони, и в последствии у разных авторов они часто трактуютс€ как одно созвездие (где ÷ербер обвивает ¬етвь яблони). ак Ђ÷ерберї и Ђ¬етвьї, включено известным попул€ризатором астрономии ‘ламмарионом в список созвездий в Ђ»стории небаї (1872).

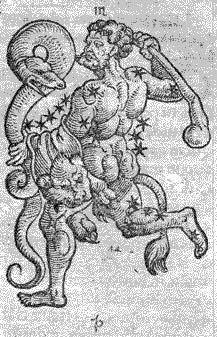
2. √игин, Ђјстрономи€ї, издание 1570 года. √еркулес и змей Ћадон.

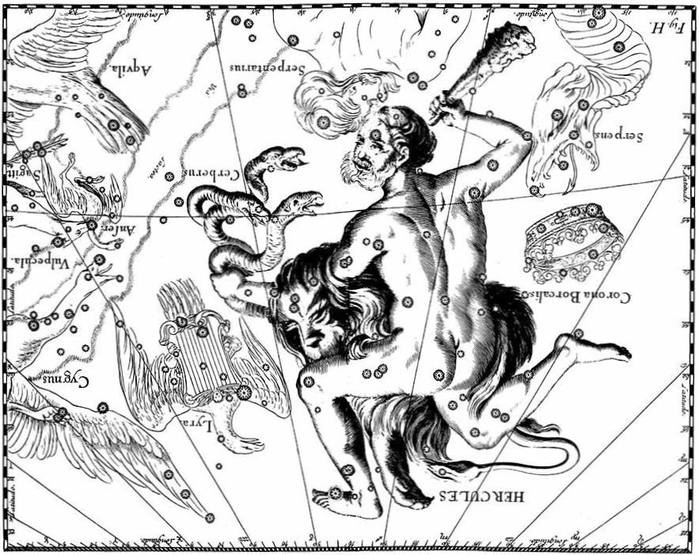
4. —озвездие √еркулес (Hercules). Ђ”ранографи€ї яна √евели€, 1690г. ¬ композицию включены звезды, выделенные в качестве астеризма, и подписанные как Cerberus.


6. »оганн Ѕоде, атлас Ђѕредставление звездї, 1782 года. ¬ руке √еркулеса Ч астеризм ÷ербер и ¬етвь (Cerberus u. Zweig).


8. јлександр ƒжеймсон, Ђ«вездный атласї, 1822 год. ¬ руке √еркулеса Ч астеризм ÷ербер и ¬етвь яблони (Cerberus et Ramus Pomifer).
“”“”
“уту (егип. Twtw, др.-греч. Τυθωες, лат. Tithoes) Ч египетский бог, получивший широкое распространение во всем ≈гипте во времена ѕозднего периода. ѕочиталс€ как бог, Ђобеспечивающий защиту от демоновї, Ђпродлевающий жизньї и Ђзащищающий людей от мира мертвыхї.
≈динственный, известный сегодн€ храм посв€щенный богу “уту, расположен в древнем поселении еллис. –ельефы с изображением “уту можно встретить и на стенах других храмов, например, таких как алабша. Ќа стенах храма Ўенхур выписан эпитет “уту: Ђтот кто приходит к зовущему егої. ≈сть у “уту и другие эпитеты: Ђсын Ќейтї, Ђлевї, Ђвеликий силойї, Ђуправл€ющий демонами —ехмет и скитающимис€ демонами Ѕастї.
≈го изображали в виде гибридного существа с телом крылатого льва, головой человека, сокола или крокодила и хвостом в виде змеи (уре€). “уту был сыном богини войны и охоты Ќейт (отождествл€емой с греческой јфиной). ¬ других интерпретаци€х, матер€ми “уту считались богини ћут, —ехмет, Ќехбет и Ѕаст.
»значально, “уту почиталс€ как защитник гробниц, в более поздние времена он выполн€л роль оберегающего сп€щих от плохих снов и опасностей.
ќднозначно, “уту Ч прекрасный прообраз дл€ львиноподобных ‘иванского —финкса и ’имеры, а также змеехвостых ербера, ќрфа и той же ’имеры. ѕричем, дл€ ербера, прообраз не только внешний. “уту стоит на страже, не позвол€€ хтоническим демонам из мира мертвых вредить живым. —обственно, это же €вл€етс€ главной функцией и ербера, сто€щего на страже у врат јида, и не позвол€ющего душам умерших покидать пределы ѕодземного царства.



2. —тела из јлександрии, датируема€ правлением императора јдриана, в насто€щее врем€ в находитс€ в ’удожественно-историческом музее, в јвстрии.
3. —тела с изображением “уту из ≈гипетского музе€ в Ѕерлине (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung).
»зображение “уту из берлинского музе€ представл€ет особый интерес. ¬о-первых, сфинкс с телом льва имеет две головы (крокодилью и человеческую), а во-вторых, вокруг человеческой головы располагаютс€ еще восемь голов (баран, гусь, сокол, бык, лев, шакал, бабуин, кот). Ёти головы, как бы вырастающие из загривка, также могли бы послужить толчком дл€ развити€ темы змеиной многоглавости.
ЂЁти €блоки охран€л бессмертный дракон (Ћадон), сын “ифона и ≈хидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.ї
(јполлодор Ђћифологическа€ библиотекаї II, 5)
Ќо Ђиздавать самые разнообразные голосаї могут только Ђсамые разнообразныеї головы, змеиные головы могут лишь Ђоднообразної шипеть. стати, эту же тему Ђмногоголось€ї мы встречаем и в описании “ифона:
Ђ„удовище обладает неверо€тной силой рук и ног и имеет на затылке сто змеиных голов, с черными €зыками и огненными глазами; из пастей его раздаетс€ то обыкновенный голос богов, то рев ужасного быка, то рыканье льва, то вой собаки, то резкий свист, отдающийс€ эхом в горах.ї
(ѕиндар. ќлимпийские песни IV, 7)
ѕодобно “уту, такую же Ђмногоглавуюї иконографию имел еще один египетский бог-защитник Ч Ѕес ѕантеос,
 получивший широкое распространение в ≈гипте около VIII-VII вв. до н.э.
получивший широкое распространение в ≈гипте около VIII-VII вв. до н.э.Ђ¬ процессе отождествлени€ Ѕеса с другими богами-защитниками, возникает образ вмещающий в себ€ дес€ть божеств (собственно Ѕеса, јха, јмама, ’айета, »хти, ћефджета, ћенева, —егеба, —опду и “етену) в едином божестве, которое известно под именем Ѕес ѕантеос.ї⁶________________________________
(¬.—олкин)
[6] Παντεός Ч Ђвсебогї, бог, совмещающий в себе других богов, отождествленных с ним.
Ќадо полагать, “уту прошел тот же процесс отождествлени€ с другими богами-защитниками, и вправе тоже иметь эпитет Ђѕантеосї.
Ќа стеле из јлександрийского музе€ голову “уту окружают семь дополнительных голов (урей, стерв€тник, сокол, Ѕес, ибис, крокодил, баран), центральна€ из которых Ч голова Ѕеса.
 орона Ўути, украшающа€ “уту (из двух высоких перьев, у основани€ которых наход€тс€ витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно €вл€етс€ и короной Ѕеса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествл€ютс€.
орона Ўути, украшающа€ “уту (из двух высоких перьев, у основани€ которых наход€тс€ витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно €вл€етс€ и короной Ѕеса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествл€ютс€.Ќеобходимо также обратить внимание на схожесть написани€ греческих имен “уту (Τυθωες) и “ифона (Τυφωεύς). Ќе исключено, что они имели и схожее произношение. Ѕуква υ (ипсилон) имеет дво€кое прочтение ([ü] либо [ί] Ч в зависимости от нюансов транслитерации).⁷
________________________________
[7] Ѕуква ипсилон (Yυ) в древнегреческом €зыке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук Ч огубленное [ί]. ѕодобный звук есть в современном немецком €зыке и обозначаетс€ латинской буквой u с умлаутом Ч ü. ¬ русском €зыке огубленного [ί] нет, и в практике преподавани€ древнегреческого €зыка в русско€зычной аудитории букву ипсилон читают как букву ю.
онечно, “уту и “ифона, кроме схожести имен, мало что объедин€ет. ћожно сказать, ничего не объедин€ет. Ќо дл€ начала, достаточно и этого. ќп€ть же, эпитет Ђуправл€ющий демонами —ехмет и скитающимис€ демонами Ѕастї Ч мог бы стать отправной точкой дл€ неоднозначного толковани€, и вдохновить на развитие темы хтонического образа “уту.
Ќесмотр€ на то, что греки “ифона отождествл€ли с египетским —етом, общего между ними Ч тоже не много. ” них разна€ иконографи€ и разна€ мифологи€. —хожи они, пожалуй, только общей характеристикой: злобностью нрава, да еще желанием беззаконно отн€ть власть у верховного бога. —ет был богом песчаных бурь, убивающим, в сезон засухи, все живое в долине Ќила. “ифон (др.-греч. Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, эпич. Τυφάων) Ч олицетворение огненных сил земли, с их разрушительными действи€ми и €довитыми испарени€ми.
Ђ“ифон возжелал стать властелином над богами и смертными, но «евс вступил с ним в борьбу, от которой земл€ сотр€слась до оснований, суша, море и небо загорелись, и даже обитатели подземного царства затрепетали. ћеткий удар молнии прекратил неистовство “ифона, который был низвергнут в “артар, его плам€ забило из расселин Ётны. » здесь он еще не может вполне успокоитьс€: когда он шевелитс€, происход€т землетр€сени€ и дуют знойные ветры.ї
ѕричина наделени€ “ифона определенными качествами кроетс€, как обычно, в его имени.
Τῡφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ “ифон;
1) гигант, сын “артара и √еи, побежденный «евсом Aesch., Plat., Plut.;
2) миф. царь ≈гипта Her.
τῡφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut.
τύφω (ῡ) (pf. pass. τέθυμμαι)
1) дымить, чадить;
2) тлеть;
3) зажигать, воспламен€ть, сжигать на медленном огне;
τῦφος ὁ
1) дым, чад; ex: τ. ἔμαρψέν τι Anth. дым унес что-л., что-л. улетело с дымом, т.е. сгорело;
2) гордость, надменность, спесь (κενοδοξία καὶ τ. Polyb.); ex: τοῦ τύφου διφαίνεις δοκῶν μὴ τετυφῶσθαι Ч Ђты обнаруживаешь гордость, полага€, что ты свободен от гордостиї, т.е. гордишьс€ отсутствием гордости (ответ ѕлатона ƒиогену —инопскому).
τῡφόω
1) досл. окутывать дымом, перен. наполн€ть чванством (τινα Plut.); ex: χαίρων καὶ τετυφωμένος Plut. Ч Ђликующий и гордыйї; τετυφωμένη ἀπόκρισις Plut. Ч Ђнадменный ответї;
2) помрачать, сводить с ума (ὁ οἶνος τετυφωμένους ποιεῖ Arst.); ex: ληρεῖν καὶ τετυφῶσθαι Dem. Ч Ђдурачитьс€ и сумасбродствоватьї;
τῡφώνιος adj=2 тифонов, т.е. суровый, грубый (σκληρία Plut.).
ћогло ли греческое им€ “уту (Τυθωες) стать толчком дл€ развити€ независимого образа “ифона (Τυφωεύς)? «на€ живой и изворотливый ум античных сочинителей, ответ однозначен Ч возможно всЄ.
ќстров “ринакри€ ⁸ был на падших наложен √игантов,
√рузом т€желым его под землей лежащий придавлен
ƒревний “ифей,⁹ что дерзнул возмечтать о престоле небесном,
¬се продолжает борьбу, все врем€ восстать угрожает.
Ќо авсонийский ѕелор над правой простерс€ рукою,
“ы же на левой, ѕахин; Ћилибеем придавлены ноги,¹⁰
√олову Ётна гнетет. “ифей, прот€нувшись под нею,
–том извергает песок и огонь изрыгает, бесну€сь.
“щетно стараетс€ он то брем€ свалить земл€ное,
—илой своей раскидать города и огромные горы:
¬от и трепещет земл€, и сам повелитель безмолвных ¹¹
¬ страхе, не вскрылась бы вдруг, не дала бы зи€ни€ суша.
—вет не проник бы к нему, ужаса€ пугливые тени.
(ќвидий. ћетаморфозы V, 346-358)
______________________
[8] Τρινακρία (Τριν-ακρία) ἡ “ринакри€, Ђ“рехвершинна€ї (древнейшее название —ицилии) Thuc., Theocr.
[9] Τυφωεύς (-έος) ὁ эп. = Τυφῶν (“ифон).
[10] ѕелор, ѕахин, Ћилибей Ч три мыса —ицилии.
[11] Ђѕовелитель безмолвныхї (то есть умерших) Ч ѕлутон (јид).
_______________________________
|
ћетки: ербер “уту “ифон √реци€ —редневекова€ астрономи€ |
ћ»“–»ƒј“ ≈¬ѕј“ќ– Ч Ќќ¬џ… ƒ»ќЌ»— |
ƒневник |
—.ё. —апрыкин
–≈Ћ»√»я » ”Ћ№“џ ѕќЌ“ј ЁЋЋ»Ќ»—“»„≈— ќ√ќ » –»ћ— ќ√ќ ¬–≈ћ≈Ќ»
—реди мужских богов умирающей и возрождающейс€ природы ƒионис, греческий бог плодороди€, винодели€, виноградарства, пиров и симпозиев, занимал одно из ведущих мест. ≈го культ считалс€ в ѕонте не только официальным, но и царским, так как сам ћитридат ≈впатор называл себ€ его воплощением и добавл€л эпитет Ђƒионисї к своему личному имени и царскому титулу.
»зображени€ ƒиониса и его атрибутов посто€нно присутствовали на царских статерах и тетрадрахмах, а также на квазиавтономных монетах понтийских полисов. Ќа монетах с именем и титулом ћитридата ≈впатора с 96/5г до н.э. по€вл€етс€ обрамление реверса в виде венка плюща, что указывает на царский характер культа ƒиониса и на отождествление цар€ с этим богом. ¬ распор€жении исследователей имеютс€ ранние тетрадрахмы ћитридата VI без венка плюща, которые, по убедительной датировке √. л€йнера, по€вились не позднее 102/1г до н.э., когда понтийский монарх стал официально величатьс€ ћитридатом ≈впатором ƒионисом.
Ќа понтийско-пафлагонских медных монетах —инопы, јмиса, оманы ѕонтийской, Ћаодикеи, абиры, ƒии изображались голова молодого ƒиониса в плющевом венке и его символы Ч циста, тирс, пантера. ћонеты с дионисийской атрибутикой ‘.»мхоф-Ѕлумер датировал 105-90 гг. до н.э. (тип Ђƒионис-тирсї) и 90-80 гг. до н.э. (Ђƒионис-цистаї, Ђпантера-цистаї), согласно классификации ‘. де аллата€, монеты Ђƒионис/пантера-цистаї относ€тс€ к 100-95 гг. до н.э., а монеты типа Ђƒионис-тирсї Ч к 90-85 гг. до н.э.


1. ћитидат VI ≈впатор (121-63 до н.э.). ѕонт (—иноп или јмис). “етрадрахма (AR 28.5mm, 16.69g), ок. 115-105 до н.э. Av: голова ћитридата VI в образе ƒиониса; Rv: внутри венка из плюща пасущийс€ ѕегас; слева звезда над полумес€цем; BAΣIΛEΩΣ MIΘPAΔATOY EYѕATOPOΣ
2. ћитридат VI ≈впатор (121-63 до н.э.). “етрадрахма (AR 16.68g), ок. 74г. Av: голова ћитридата VI в образе ƒиониса; Rv: внутри венка из плюща пасущийс€ олень; слева звезда над полумес€цем; BAΣIΛEΩΣ ΜΙΘΡAΔAΤOY ΕYΠAΤOΡOΣ


3. ‘анагори€, Ѕоспорское царство. ƒрахма (AR 3.59g), ок. 90-80 до н.э. Av: голова ƒиониса в венке. Rv: тирс; ‘јΝј√ќ–ΙΤΩΝ
4. √оргиппи€, Ѕоспорское царство. “етрахалк (Æ 22.00mm, 7.77g), ок. 90-80 до н.э. Av: голова ƒиониса в венке. Rv: “реножник и тирс; ΓΟΡΓΙΠΠΕΩΝ


5. √оргиппи€, Ѕоспорское царство. ќбол (Æ 30.00mm, 19.15g), ок. 109-63 до н.э. Av: голова ћена во фригийской шапке и лавровом венке. Rv: ƒионис с тирсом, слева пантера; ΓΟΡΓΙΠΠΕΩΝ
6. јмис, ѕонт. Æ 7.81g, ок. 85-65 до н.э. Av: голова ƒиониса в венке из плюща. Rv: циста накрыта€ шкурой леопарда, к ней прислонен тирс; I‘E ΑΜΙΣΟΥ
ѕо одной из версий ћитридат вз€л себе эпитет Ђƒионисї не позднее 88 г. до н.э., а по другой Ч не ранее 88 г. до н.э., что €кобы стало следствием его родственных св€зей с сирийским царем јнтиохом VI ƒионисом по материнской линии. ѕосле освобождени€ јзии от римл€н в 89-85 гг. до н.э. почти все греческое население приветствовало ћитридата как ƒиониса. Ђќни (греки) звали ћитридата Ѕогом, ќтцом, —пасителем јзии, ≈вхием (Εὐχέος, Ђблагожелательныйї), Ќисием (Νισαῖος),¹ ¬акхом, Ћиберомї Ч говорит ÷ицерон. ¬ 88 г. до н.э., когда в јфины прибыл личный друг цар€ ћитридата ≈впатора философ-перипатетик јфинеон, ставший там наместником понтийского монарха, то его встретили актеры ƒиониса (техниты, τεχνῖται Διονυσιακοί) и приверженцы его культа, так как этот наместник воспринималс€ в качестве посланника Ќового ƒиониса. ¬ честь этого событи€ и в ознаменование заслуг покровител€ јфинеона цар€ ћитридата ≈впатора были организованы празднества, принесены жертвы и совершены обр€ды.
_______________________________
[1] Νισαῖος Ч нисейский.
ѕосле рождени€ ƒиониса, «евс отдал его на воспитание нимфам Ќисейской долины (Eur. Bacch. 556-559).
ѕроцесс обожествлени€ ћитридата ≈впатора началс€ раньше событий в ѕергаме и јфинах первых лет войны ѕонта с –имом. ¬ 110-107 гг. до н.э., когда проходила рымска€ кампани€ во главе с полководцем понтийского цар€ ƒиофантом, ћитридат ≈впатор еще не пользовалс€ этим эпитетом. ќн прин€л его позднее и это могло быть вызвано тенденцией к усилению власти понтийского цар€ после 106 г. до н.э., как только на повестку дн€ встал вопрос о территориальной экспансии в ћалой јзии и подготовке будущих войн с –имом. ѕолитико-пропагандистский аспект культа ƒиониса в ѕонтийском царстве усилилс€, когда в 106 г. до н.э. ћитридат VI попыталс€ завладеть ѕафлагонией и вмешалс€ в дела аппадокии, чтобы захватить ћалую јрмению и олхиду.
ќтождествление ћитридата VI с ЂЌовым ƒионисомї шло от подданных, которые, благогове€ перед властителем, дублировали божественный титул. Ёто стало результатом воспри€ти€ его по делам и де€ни€м, которые были в прошлом и, как они верили, будут совершены в будущем, поэтому термин νέος Ч Ђновыйї, Ђмолодойї должен был означать начало новой жизни с царем-победителем. ќтсюда тесна€ св€зь с ƒионисом Ч богом плодороди€ и возрождени€. ћитридат ≈впатор прин€л титул Ђƒионисї в самом конце II в. до н.э. в результате присоединени€ к ѕонтийскому царству соседних территорий от ќльвии и Ѕоспора до ћалой јрмении и олхиды, что ознаменовало начало борьбы за расширение малоазийских владений. ¬ таких услови€х царь стремилс€ предстать в глазах подданных и союзников в роли избавител€ от внешней угрозы, в том числе исходившей от варваров и римл€н, поэтому дл€ создани€ образа филэллина и благодетел€ он выбрал ƒиониса, попул€рного у греков бога возрождени€ новой жизни и спасител€. Ётот бог как нельз€ более подходил на роль Ђбожественногої покровител€ цар€ Ч освободител€ обширных регионов ћалой јзии и всего ѕричерноморь€ от внешней угрозы. ѕоэтому по€вление его имени в титулатуре понтийского монарха €вилось не следствием простого заимствовани€ у —елевкидов, а диктовалось политическими соображени€ми и задачами внешней и внутренней политики.
¬ведение царского культа на основе отождествлени€ ћитридата с богом ƒионисом прошло несколько этапов. —начала в ѕонтийском государстве и соседних эллинистических царствах и полисах, не без подачи со стороны окружени€ ћитридата ≈впатора, сложилась легенда о его божественном происхождении. ќна св€зывала рождение цар€ с образом молодого ƒиониса и его матери —емелы, согласно мифу погибшей от удара молнии «евса-громовержца. ћолни€ «евса сделала ƒиониса бессмертным богом и, соответственно, бессмертным стал сам царь ћитридат ≈впатор, названный ƒионисом.
«атем на монетах ѕонта и ѕафлагонии в самом начале I в. до н.э. по€вились портрет «евса и орел на молнии, а также дионисийские символы. ѕри этом изображению бога (в р€де случаев даже «евса) были приданы черты лица прав€щего цар€. ј после этого уже в ѕергаме и јфинах на первом, успешном дл€ него этапе войны с –имом, наступил апофеоз царского культа, когда ћитридата VI официально героизировали как Ќового ƒиониса, спасител€ всех греков.
÷арска€ пропаганда была рассчитана на эллинские и эллинизованные слои населени€ ѕонта и соседних областей, поскольку ƒионис был широко-попул€рен, в том числе в греческих полисах. ‘рако-анатолийское население ћалой јзии ассоциировало его с фригийскими мужскими богами —абазием и јттисом, причем последний даже имел прозвища Ζεύς и Διόνυσος.
ƒиониса почитали и как морского бога, например в ‘ессалии, где греки называли его ƒионисом ѕелагием (ѕελάγιος, Ђморскойї). »з ћисии происходит вотивна€ стела II-I вв. до н.э. с посв€щением ƒионису-јттису-√елиосу, так как солнце и лучи света считались источником жизни и плодороди€, Ч это примеры синкретизма ƒиониса и других богов плодороди€. »рано€зычное население воспринимало его как горного бога, близкого авестийским Haoma или Soma. ¬едь матерью последнего была «емл€, а матерью ƒиониса Ч —емела, почитавша€с€ в том числе и как богин€ «емли. јзиатские народы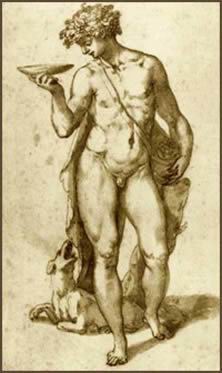 св€зывали ƒиониса с культом кон€, а в јнатолии он ассоциировалс€ с лунным богом ћеном ¬садником.
св€зывали ƒиониса с культом кон€, а в јнатолии он ассоциировалс€ с лунным богом ћеном ¬садником.
ќсобенно широко ƒионис почиталс€ в јмисе и —инопе, а в “рапезуйте его считали защитником виноградников, поэтому на монетах города императорской эпохи он представлен в виде сто€щего обнаженного юноши с тирсом, канфаром (κάνθαρος, кубок дл€ вина) и патерой (лат. patera, греч. φιάλη, жертвенна€ чаша). Ќа монетах јмиса бога изображали с цистой (греч. κίστη, лат. cista),² тирсом и змеей. Ќа монетах ерасунта ƒионис представлен обнаженным с тирсом и пантерой.
_______________________________
[2] cista mystica (греч. ἱερά κίστη) Ч св€щенна€ корзинка, из которой выползала Ђноворожденна€ї зме€ (образ ƒиониса) во врем€ ƒионисийских мистерий.
¬ митридатовскую и римскую эпохи ƒионис выступал в главной своей функции Ч покровител€ винодели€, виноградарства и производительных сил природы, что доказывает его изображение вместе с ƒеметрой на одной из монет јмиса. Ётот монетный тип и посто€нные атрибуты ƒиониса Ч пантера и зме€ Ч выдают катахтоническое (καταχθόνιος) значение образа,³ близкое пониманию людьми угасани€ и возрождени€ природы и всего сущего как начала новой жизни в потустороннем мире, что составл€ло главную идею элевсинского культа. ѕоэтому ƒионис считалс€ мужским паредром великих элевсинских богинь, а хтоническа€ сторона его культа подтверждаетс€ находкой в одной из могил некропол€ јмиса четырех бронзовых медальонов конца II Ч начала I в. до н.э. ќни украшали один из дерев€нных саркофагов или погребальный столик, так как к ним приделаны кольца от руко€тей. Ќа пластинах в высоком рельефе представлены ƒионис-Ѕык и его женский коррел€т јриадна, а также —ерапис и »зида. —в€зь ƒиониса с —ераписом-јидом прослеживаетс€ по монетам южнопонтийских городов, поскольку он имел отношение к погребальному культу. ¬се это свидетельствует о воспри€тии ƒиониса как бога, дарующего жизнь после смерти, что соответствовало функции сотера-спасител€, обычной дл€ божества плодороди€, покровительствовавшего рождению и новой жизни. ƒионис воспринималс€ и в облике победител€ смерти, олицетвор€€ переход от потусторонней жизни к мирской.
находкой в одной из могил некропол€ јмиса четырех бронзовых медальонов конца II Ч начала I в. до н.э. ќни украшали один из дерев€нных саркофагов или погребальный столик, так как к ним приделаны кольца от руко€тей. Ќа пластинах в высоком рельефе представлены ƒионис-Ѕык и его женский коррел€т јриадна, а также —ерапис и »зида. —в€зь ƒиониса с —ераписом-јидом прослеживаетс€ по монетам южнопонтийских городов, поскольку он имел отношение к погребальному культу. ¬се это свидетельствует о воспри€тии ƒиониса как бога, дарующего жизнь после смерти, что соответствовало функции сотера-спасител€, обычной дл€ божества плодороди€, покровительствовавшего рождению и новой жизни. ƒионис воспринималс€ и в облике победител€ смерти, олицетвор€€ переход от потусторонней жизни к мирской.
_______________________________
[3] καταχθόνιος (κατα-χθόνιος) Ч подземный, преисподний (κατὰ χθονὸς θεαί Aesch. Ч богини подземного царства).
¬оспри€тие ƒиониса как божества плодороди€ и возрождени€ в хтоническом смысле, характерное дл€ греческой религии, в ѕонтийском царстве подтверждают многочисленные терракотовые статуэтки бога и членов его свиты. »х массовое производство было налажено в јмисе в так называемой Ђмастерской коропластаї, откуда они распростран€лись по всему ѕричерноморью и поступали даже в Ёгеиду. ѕараллельно изображени€ ƒиониса отливали в бронзе, о чем свидетельствуют бронзовый бюст ƒиониса-Ѕыка начала I в. до н.э. из јмиса, который хранитс€ в ћузее искусств в Ѕонне, 19-сантиметрова€ бронзова€ голова ƒиониса из ара-—амсуна (јмиса) I в. до н.э с бородой и в обрамлении длинных волос, украшенных коримбами (κόρυμβος, гроздь) и виноградными листь€ми, и бронзова€ маска ƒиониса (также из музе€ —амсуна). Ѕронзовые бюсты и маски служили прототипами терракотовых масок ƒиониса-Ѕыка,
бога и членов его свиты. »х массовое производство было налажено в јмисе в так называемой Ђмастерской коропластаї, откуда они распростран€лись по всему ѕричерноморью и поступали даже в Ёгеиду. ѕараллельно изображени€ ƒиониса отливали в бронзе, о чем свидетельствуют бронзовый бюст ƒиониса-Ѕыка начала I в. до н.э. из јмиса, который хранитс€ в ћузее искусств в Ѕонне, 19-сантиметрова€ бронзова€ голова ƒиониса из ара-—амсуна (јмиса) I в. до н.э с бородой и в обрамлении длинных волос, украшенных коримбами (κόρυμβος, гроздь) и виноградными листь€ми, и бронзова€ маска ƒиониса (также из музе€ —амсуна). Ѕронзовые бюсты и маски служили прототипами терракотовых масок ƒиониса-Ѕыка, который тесно св€зан с хтонической стороной культа, и ƒиониса-¬инограда (Διόνυσος Βότρυς), покровител€ виноградарства, винодели€ и плодороди€.
который тесно св€зан с хтонической стороной культа, и ƒиониса-¬инограда (Διόνυσος Βότρυς), покровител€ виноградарства, винодели€ и плодороди€.
¬ јмисе изготовлены терракотовые фигурки юного ƒиониса с быком, протомы быков, маски бога и представителей его свиты Ч сатиров и силенов, пожилых и юных, обычно с цветами и пов€зками. —реди них встречаютс€ протомы (маски) ƒиониса-¬инограда в венке и с бородой в виде виноградных гроздьев, ƒиониса-Ѕыка с бородой, небольшими рожками и в короне типа тюрбана, иногда он без бороды. —реди продукции амисских коропластов встречаютс€ маски ƒиониса-¬инограда без бороды, но с волосами, украшенными гроздь€ми винограда, и скифосом (σκύφος, керамическа€ чаша дл€ пить€) в правой руке. ќни напоминают о том, что это бог молодого вина, которого почитали во врем€ праздников плодороди€, в том числе аттических јнфестерий. ¬ первые два дн€ их участники пили вино до исступлени€, а на третий день приносили жертвы умершим, что св€зано с почитанием хтонического ƒиониса. —кифос или канфар в руках ƒиониса или возлежащего √еракла €вл€лс€ атрибутом хтонической стороны культа, когда богов и героев воспринимали как спасителей, вкусивших божественный напиток бессмерти€.
напоминают о том, что это бог молодого вина, которого почитали во врем€ праздников плодороди€, в том числе аттических јнфестерий. ¬ первые два дн€ их участники пили вино до исступлени€, а на третий день приносили жертвы умершим, что св€зано с почитанием хтонического ƒиониса. —кифос или канфар в руках ƒиониса или возлежащего √еракла €вл€лс€ атрибутом хтонической стороны культа, когда богов и героев воспринимали как спасителей, вкусивших божественный напиток бессмерти€.
ѕри раскопках в —инопе эллинистического храма II в. до н.э. и домашних св€тилищ обнаружены вотивные терракоты —ераписа, ƒиониса, √еракла, »зиды, фигурки и протомы быков, маски силенов и сатиров, св€занные с почитанием —ераписа и ƒиониса, а также «евса, јртемиды и ƒеметры. ’рам в —инопе относ€т к —ерапису, следовательно, изображени€ ƒиониса из этого храма подтверждают св€зь этих богов. ќна основана на их покровительстве плодородию, хтоническим силам, а также важной роли обоих в культе мертвых. Ёто убедительно подтверждают вышеупом€нутые бронзовые медальоны позднеэллинистической эпохи с изображени€ми ƒиониса-Ѕыка, јриадны, —ераписа и »зиды из некропол€ јмиса, украшавшие саркофаг.
следовательно, изображени€ ƒиониса из этого храма подтверждают св€зь этих богов. ќна основана на их покровительстве плодородию, хтоническим силам, а также важной роли обоих в культе мертвых. Ёто убедительно подтверждают вышеупом€нутые бронзовые медальоны позднеэллинистической эпохи с изображени€ми ƒиониса-Ѕыка, јриадны, —ераписа и »зиды из некропол€ јмиса, украшавшие саркофаг.
Ѕольшинство терракотовых фигурок и протом (προτομή),⁴ бронзовых и мраморных изображений ƒиониса и членов его свиты из јмиса и других городов ёжного ѕричерноморь€ датируетс€ второй половиной II Ч первой половиной I вв. до н.э., или римской эпохой. » только единичные экземпл€ры относ€тс€ к III в. до н.э. и рубежу I в. до н.э. Ч I в. н.э. “ак называема€ Ђмастерска€ коропластаї в јмисе выпускала фигурки и протомы дионисийского круга еще до ћитридата ≈впатора, однако основна€ их масса совпадает с введением в ѕонтийском царстве официального культа ƒиониса.
_______________________________
[4] προτομή (προ-τομή) ἡ верхн€€ часть тела, бюст.
—.ј.‘иногенова установила, что амисские коропласты выпускали два типа масок ƒиониса, которые датируютс€ IV-III вв. до н.э. и I в. до н.э. Ќекоторые из них производили непосредственно в городах —еверного ѕричерноморь€ Ч ’ерсонесе “аврическом, ѕантикапее, ћирмекии, использу€ импортные образцы из јмиса, причем именно в конце II Ч начале I вв. до н.э., когда амисские коропласты наладили наиболее массовый выпуск такой продукции. ѕараллельно началс€ чекан монет с изображением ƒиониса и атрибутами его культа.
¬полне возможно, что, после того как ћитридат VI получил им€ Ђƒионисї, а затем был официально героизирован, некоторые терракотовые изображени€ бога, как в скульптуре, глиптике и на монетах, стали напоминать облик цар€ Ч Ќового ƒиониса. ’от€ больша€ часть терракот из јмиса по-прежнему изображала ƒиониса в традиционном понимании, культ которого превратилс€ в общепонтийский.
ѕо политическим соображени€м, продиктованным желанием предстать освободителем эллинов и эллинизованных варваров от римл€н, понтийский царь хотел уподобитьс€ јлександру ћакедонскому, провозгласившему свободу эллинов от персов, что превратило его в избавител€ от злых и темных вражеских сил. эпохе позднего эллинизма у греков и эллинизованных подданных различных царей јзии образ јлександра ¬еликого как ƒиониса уже полностью сформировалс€ и практически повсюду стал знаменем политики и официальной идеологии. Ёти идеи соответствовали функци€м ƒиониса, которого считали сотером, поэтому ћитридату VI придавалс€ идеализированный образ божества, а его статуи выставл€ли в храмах ƒиониса в јфинах и ƒиониса атагемона в ѕергаме, св€тилищах ƒиониса в ¬ани ( олхида) и ѕантикапее.
÷елью прин€ти€ имени Ђƒионисї было не столько сделать культ бога царским, сколько использовать его дл€ обосновани€ претензий ћитридата на обожествление и героизацию. ¬ свою очередь, это усиливало попул€рность ƒиониса среди подданных и союзников цар€, стимулиру€ синкретизм с другими богами. ќкружение ћитридата использовало в своих политико-стратегических цел€х именно эллинское, а не ирано-анатолийское божество, насажда€ его попул€рность дл€ престижа власти полуэллинского монарха.
ƒионис в образе спасител€ и покровител€ власти оставалс€ попул€рным в јнатолии и в римскую эпоху. »мператорска€ власть охотно помещала его изображение на монеты греческих городов провинции ¬ифини€ ѕонт, так как это подчеркивало идею обожествлени€ прав€щих императоров. ¬ I в. н.э. на монетах јмастрии был запечатлен бюст молодого ƒиониса и виноградна€ ветвь с шестью гроздь€ми, что сопровождалось легендой ΔION[YCO]C —≈¬ј—“ќ—,⁵ котора€ свидетельствует об обожествлении императора јвгуста и ассоциации его с попул€рным богом винодели€ и возрождени€. ƒионис в образе молодого человека с тирсом и пантерой встречаетс€ на монетах этого города при Ћуцилле и оммоде во второй половине II в. н.э. и на монетах соседней —инопы при ¬алериане и √аллиене, что указывает на прочность его культа на прот€жении длительного времени. ≈го традиционные атрибуты Ч тирс, гроздь винограда, пантера Ч показывают, что в римское врем€ бог по-прежнему почиталс€ в качестве покровител€ виноградарства и винодели€. ј его изображение с канфаром, на монетах ѕомпейопол€ при ‘аустине ћладшей, и длинным скипетром, подтверждает его функцию покровител€ верховной власти как сотера, освещающего ее своей божественной силой. Ёто можно рассматривать в качестве наследства прежних эллинистических представлений о боге, столь попул€рном в ѕонтийском царстве при ћитридате ≈впаторе.
_______________________________
[5] σεβαστός (лат. augustus) св€щенный Ч эпитет римск. императоров (Καῖσαρ Σεβαστός Luc.).
_______________________________
–≈Ћ»√»я » ”Ћ№“џ ѕќЌ“ј ЁЋЋ»Ќ»—“»„≈— ќ√ќ » –»ћ— ќ√ќ ¬–≈ћ≈Ќ»
—реди мужских богов умирающей и возрождающейс€ природы ƒионис, греческий бог плодороди€, винодели€, виноградарства, пиров и симпозиев, занимал одно из ведущих мест. ≈го культ считалс€ в ѕонте не только официальным, но и царским, так как сам ћитридат ≈впатор называл себ€ его воплощением и добавл€л эпитет Ђƒионисї к своему личному имени и царскому титулу.
»зображени€ ƒиониса и его атрибутов посто€нно присутствовали на царских статерах и тетрадрахмах, а также на квазиавтономных монетах понтийских полисов. Ќа монетах с именем и титулом ћитридата ≈впатора с 96/5г до н.э. по€вл€етс€ обрамление реверса в виде венка плюща, что указывает на царский характер культа ƒиониса и на отождествление цар€ с этим богом. ¬ распор€жении исследователей имеютс€ ранние тетрадрахмы ћитридата VI без венка плюща, которые, по убедительной датировке √. л€йнера, по€вились не позднее 102/1г до н.э., когда понтийский монарх стал официально величатьс€ ћитридатом ≈впатором ƒионисом.
Ќа понтийско-пафлагонских медных монетах —инопы, јмиса, оманы ѕонтийской, Ћаодикеи, абиры, ƒии изображались голова молодого ƒиониса в плющевом венке и его символы Ч циста, тирс, пантера. ћонеты с дионисийской атрибутикой ‘.»мхоф-Ѕлумер датировал 105-90 гг. до н.э. (тип Ђƒионис-тирсї) и 90-80 гг. до н.э. (Ђƒионис-цистаї, Ђпантера-цистаї), согласно классификации ‘. де аллата€, монеты Ђƒионис/пантера-цистаї относ€тс€ к 100-95 гг. до н.э., а монеты типа Ђƒионис-тирсї Ч к 90-85 гг. до н.э.


1. ћитидат VI ≈впатор (121-63 до н.э.). ѕонт (—иноп или јмис). “етрадрахма (AR 28.5mm, 16.69g), ок. 115-105 до н.э. Av: голова ћитридата VI в образе ƒиониса; Rv: внутри венка из плюща пасущийс€ ѕегас; слева звезда над полумес€цем; BAΣIΛEΩΣ MIΘPAΔATOY EYѕATOPOΣ
2. ћитридат VI ≈впатор (121-63 до н.э.). “етрадрахма (AR 16.68g), ок. 74г. Av: голова ћитридата VI в образе ƒиониса; Rv: внутри венка из плюща пасущийс€ олень; слева звезда над полумес€цем; BAΣIΛEΩΣ ΜΙΘΡAΔAΤOY ΕYΠAΤOΡOΣ


3. ‘анагори€, Ѕоспорское царство. ƒрахма (AR 3.59g), ок. 90-80 до н.э. Av: голова ƒиониса в венке. Rv: тирс; ‘јΝј√ќ–ΙΤΩΝ
4. √оргиппи€, Ѕоспорское царство. “етрахалк (Æ 22.00mm, 7.77g), ок. 90-80 до н.э. Av: голова ƒиониса в венке. Rv: “реножник и тирс; ΓΟΡΓΙΠΠΕΩΝ


5. √оргиппи€, Ѕоспорское царство. ќбол (Æ 30.00mm, 19.15g), ок. 109-63 до н.э. Av: голова ћена во фригийской шапке и лавровом венке. Rv: ƒионис с тирсом, слева пантера; ΓΟΡΓΙΠΠΕΩΝ
6. јмис, ѕонт. Æ 7.81g, ок. 85-65 до н.э. Av: голова ƒиониса в венке из плюща. Rv: циста накрыта€ шкурой леопарда, к ней прислонен тирс; I‘E ΑΜΙΣΟΥ
ѕо одной из версий ћитридат вз€л себе эпитет Ђƒионисї не позднее 88 г. до н.э., а по другой Ч не ранее 88 г. до н.э., что €кобы стало следствием его родственных св€зей с сирийским царем јнтиохом VI ƒионисом по материнской линии. ѕосле освобождени€ јзии от римл€н в 89-85 гг. до н.э. почти все греческое население приветствовало ћитридата как ƒиониса. Ђќни (греки) звали ћитридата Ѕогом, ќтцом, —пасителем јзии, ≈вхием (Εὐχέος, Ђблагожелательныйї), Ќисием (Νισαῖος),¹ ¬акхом, Ћиберомї Ч говорит ÷ицерон. ¬ 88 г. до н.э., когда в јфины прибыл личный друг цар€ ћитридата ≈впатора философ-перипатетик јфинеон, ставший там наместником понтийского монарха, то его встретили актеры ƒиониса (техниты, τεχνῖται Διονυσιακοί) и приверженцы его культа, так как этот наместник воспринималс€ в качестве посланника Ќового ƒиониса. ¬ честь этого событи€ и в ознаменование заслуг покровител€ јфинеона цар€ ћитридата ≈впатора были организованы празднества, принесены жертвы и совершены обр€ды.
_______________________________
[1] Νισαῖος Ч нисейский.
ѕосле рождени€ ƒиониса, «евс отдал его на воспитание нимфам Ќисейской долины (Eur. Bacch. 556-559).
ѕроцесс обожествлени€ ћитридата ≈впатора началс€ раньше событий в ѕергаме и јфинах первых лет войны ѕонта с –имом. ¬ 110-107 гг. до н.э., когда проходила рымска€ кампани€ во главе с полководцем понтийского цар€ ƒиофантом, ћитридат ≈впатор еще не пользовалс€ этим эпитетом. ќн прин€л его позднее и это могло быть вызвано тенденцией к усилению власти понтийского цар€ после 106 г. до н.э., как только на повестку дн€ встал вопрос о территориальной экспансии в ћалой јзии и подготовке будущих войн с –имом. ѕолитико-пропагандистский аспект культа ƒиониса в ѕонтийском царстве усилилс€, когда в 106 г. до н.э. ћитридат VI попыталс€ завладеть ѕафлагонией и вмешалс€ в дела аппадокии, чтобы захватить ћалую јрмению и олхиду.
ќтождествление ћитридата VI с ЂЌовым ƒионисомї шло от подданных, которые, благогове€ перед властителем, дублировали божественный титул. Ёто стало результатом воспри€ти€ его по делам и де€ни€м, которые были в прошлом и, как они верили, будут совершены в будущем, поэтому термин νέος Ч Ђновыйї, Ђмолодойї должен был означать начало новой жизни с царем-победителем. ќтсюда тесна€ св€зь с ƒионисом Ч богом плодороди€ и возрождени€. ћитридат ≈впатор прин€л титул Ђƒионисї в самом конце II в. до н.э. в результате присоединени€ к ѕонтийскому царству соседних территорий от ќльвии и Ѕоспора до ћалой јрмении и олхиды, что ознаменовало начало борьбы за расширение малоазийских владений. ¬ таких услови€х царь стремилс€ предстать в глазах подданных и союзников в роли избавител€ от внешней угрозы, в том числе исходившей от варваров и римл€н, поэтому дл€ создани€ образа филэллина и благодетел€ он выбрал ƒиониса, попул€рного у греков бога возрождени€ новой жизни и спасител€. Ётот бог как нельз€ более подходил на роль Ђбожественногої покровител€ цар€ Ч освободител€ обширных регионов ћалой јзии и всего ѕричерноморь€ от внешней угрозы. ѕоэтому по€вление его имени в титулатуре понтийского монарха €вилось не следствием простого заимствовани€ у —елевкидов, а диктовалось политическими соображени€ми и задачами внешней и внутренней политики.
¬ведение царского культа на основе отождествлени€ ћитридата с богом ƒионисом прошло несколько этапов. —начала в ѕонтийском государстве и соседних эллинистических царствах и полисах, не без подачи со стороны окружени€ ћитридата ≈впатора, сложилась легенда о его божественном происхождении. ќна св€зывала рождение цар€ с образом молодого ƒиониса и его матери —емелы, согласно мифу погибшей от удара молнии «евса-громовержца. ћолни€ «евса сделала ƒиониса бессмертным богом и, соответственно, бессмертным стал сам царь ћитридат ≈впатор, названный ƒионисом.
«атем на монетах ѕонта и ѕафлагонии в самом начале I в. до н.э. по€вились портрет «евса и орел на молнии, а также дионисийские символы. ѕри этом изображению бога (в р€де случаев даже «евса) были приданы черты лица прав€щего цар€. ј после этого уже в ѕергаме и јфинах на первом, успешном дл€ него этапе войны с –имом, наступил апофеоз царского культа, когда ћитридата VI официально героизировали как Ќового ƒиониса, спасител€ всех греков.
÷арска€ пропаганда была рассчитана на эллинские и эллинизованные слои населени€ ѕонта и соседних областей, поскольку ƒионис был широко-попул€рен, в том числе в греческих полисах. ‘рако-анатолийское население ћалой јзии ассоциировало его с фригийскими мужскими богами —абазием и јттисом, причем последний даже имел прозвища Ζεύς и Διόνυσος.
ƒиониса почитали и как морского бога, например в ‘ессалии, где греки называли его ƒионисом ѕелагием (ѕελάγιος, Ђморскойї). »з ћисии происходит вотивна€ стела II-I вв. до н.э. с посв€щением ƒионису-јттису-√елиосу, так как солнце и лучи света считались источником жизни и плодороди€, Ч это примеры синкретизма ƒиониса и других богов плодороди€. »рано€зычное население воспринимало его как горного бога, близкого авестийским Haoma или Soma. ¬едь матерью последнего была «емл€, а матерью ƒиониса Ч —емела, почитавша€с€ в том числе и как богин€ «емли. јзиатские народы
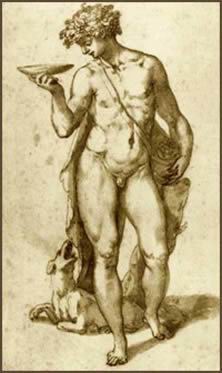 св€зывали ƒиониса с культом кон€, а в јнатолии он ассоциировалс€ с лунным богом ћеном ¬садником.
св€зывали ƒиониса с культом кон€, а в јнатолии он ассоциировалс€ с лунным богом ћеном ¬садником.ќсобенно широко ƒионис почиталс€ в јмисе и —инопе, а в “рапезуйте его считали защитником виноградников, поэтому на монетах города императорской эпохи он представлен в виде сто€щего обнаженного юноши с тирсом, канфаром (κάνθαρος, кубок дл€ вина) и патерой (лат. patera, греч. φιάλη, жертвенна€ чаша). Ќа монетах јмиса бога изображали с цистой (греч. κίστη, лат. cista),² тирсом и змеей. Ќа монетах ерасунта ƒионис представлен обнаженным с тирсом и пантерой.
_______________________________
[2] cista mystica (греч. ἱερά κίστη) Ч св€щенна€ корзинка, из которой выползала Ђноворожденна€ї зме€ (образ ƒиониса) во врем€ ƒионисийских мистерий.
¬ митридатовскую и римскую эпохи ƒионис выступал в главной своей функции Ч покровител€ винодели€, виноградарства и производительных сил природы, что доказывает его изображение вместе с ƒеметрой на одной из монет јмиса. Ётот монетный тип и посто€нные атрибуты ƒиониса Ч пантера и зме€ Ч выдают катахтоническое (καταχθόνιος) значение образа,³ близкое пониманию людьми угасани€ и возрождени€ природы и всего сущего как начала новой жизни в потустороннем мире, что составл€ло главную идею элевсинского культа. ѕоэтому ƒионис считалс€ мужским паредром великих элевсинских богинь, а хтоническа€ сторона его культа подтверждаетс€
 находкой в одной из могил некропол€ јмиса четырех бронзовых медальонов конца II Ч начала I в. до н.э. ќни украшали один из дерев€нных саркофагов или погребальный столик, так как к ним приделаны кольца от руко€тей. Ќа пластинах в высоком рельефе представлены ƒионис-Ѕык и его женский коррел€т јриадна, а также —ерапис и »зида. —в€зь ƒиониса с —ераписом-јидом прослеживаетс€ по монетам южнопонтийских городов, поскольку он имел отношение к погребальному культу. ¬се это свидетельствует о воспри€тии ƒиониса как бога, дарующего жизнь после смерти, что соответствовало функции сотера-спасител€, обычной дл€ божества плодороди€, покровительствовавшего рождению и новой жизни. ƒионис воспринималс€ и в облике победител€ смерти, олицетвор€€ переход от потусторонней жизни к мирской.
находкой в одной из могил некропол€ јмиса четырех бронзовых медальонов конца II Ч начала I в. до н.э. ќни украшали один из дерев€нных саркофагов или погребальный столик, так как к ним приделаны кольца от руко€тей. Ќа пластинах в высоком рельефе представлены ƒионис-Ѕык и его женский коррел€т јриадна, а также —ерапис и »зида. —в€зь ƒиониса с —ераписом-јидом прослеживаетс€ по монетам южнопонтийских городов, поскольку он имел отношение к погребальному культу. ¬се это свидетельствует о воспри€тии ƒиониса как бога, дарующего жизнь после смерти, что соответствовало функции сотера-спасител€, обычной дл€ божества плодороди€, покровительствовавшего рождению и новой жизни. ƒионис воспринималс€ и в облике победител€ смерти, олицетвор€€ переход от потусторонней жизни к мирской._______________________________
[3] καταχθόνιος (κατα-χθόνιος) Ч подземный, преисподний (κατὰ χθονὸς θεαί Aesch. Ч богини подземного царства).
¬оспри€тие ƒиониса как божества плодороди€ и возрождени€ в хтоническом смысле, характерное дл€ греческой религии, в ѕонтийском царстве подтверждают многочисленные терракотовые статуэтки
 бога и членов его свиты. »х массовое производство было налажено в јмисе в так называемой Ђмастерской коропластаї, откуда они распростран€лись по всему ѕричерноморью и поступали даже в Ёгеиду. ѕараллельно изображени€ ƒиониса отливали в бронзе, о чем свидетельствуют бронзовый бюст ƒиониса-Ѕыка начала I в. до н.э. из јмиса, который хранитс€ в ћузее искусств в Ѕонне, 19-сантиметрова€ бронзова€ голова ƒиониса из ара-—амсуна (јмиса) I в. до н.э с бородой и в обрамлении длинных волос, украшенных коримбами (κόρυμβος, гроздь) и виноградными листь€ми, и бронзова€ маска ƒиониса (также из музе€ —амсуна). Ѕронзовые бюсты и маски служили прототипами терракотовых масок ƒиониса-Ѕыка,
бога и членов его свиты. »х массовое производство было налажено в јмисе в так называемой Ђмастерской коропластаї, откуда они распростран€лись по всему ѕричерноморью и поступали даже в Ёгеиду. ѕараллельно изображени€ ƒиониса отливали в бронзе, о чем свидетельствуют бронзовый бюст ƒиониса-Ѕыка начала I в. до н.э. из јмиса, который хранитс€ в ћузее искусств в Ѕонне, 19-сантиметрова€ бронзова€ голова ƒиониса из ара-—амсуна (јмиса) I в. до н.э с бородой и в обрамлении длинных волос, украшенных коримбами (κόρυμβος, гроздь) и виноградными листь€ми, и бронзова€ маска ƒиониса (также из музе€ —амсуна). Ѕронзовые бюсты и маски служили прототипами терракотовых масок ƒиониса-Ѕыка, который тесно св€зан с хтонической стороной культа, и ƒиониса-¬инограда (Διόνυσος Βότρυς), покровител€ виноградарства, винодели€ и плодороди€.
который тесно св€зан с хтонической стороной культа, и ƒиониса-¬инограда (Διόνυσος Βότρυς), покровител€ виноградарства, винодели€ и плодороди€.¬ јмисе изготовлены терракотовые фигурки юного ƒиониса с быком, протомы быков, маски бога и представителей его свиты Ч сатиров и силенов, пожилых и юных, обычно с цветами и пов€зками. —реди них встречаютс€ протомы (маски) ƒиониса-¬инограда в венке и с бородой в виде виноградных гроздьев, ƒиониса-Ѕыка с бородой, небольшими рожками и в короне типа тюрбана, иногда он без бороды. —реди продукции амисских коропластов встречаютс€ маски ƒиониса-¬инограда без бороды, но с волосами, украшенными гроздь€ми винограда, и скифосом (σκύφος, керамическа€ чаша дл€ пить€) в правой руке. ќни
 напоминают о том, что это бог молодого вина, которого почитали во врем€ праздников плодороди€, в том числе аттических јнфестерий. ¬ первые два дн€ их участники пили вино до исступлени€, а на третий день приносили жертвы умершим, что св€зано с почитанием хтонического ƒиониса. —кифос или канфар в руках ƒиониса или возлежащего √еракла €вл€лс€ атрибутом хтонической стороны культа, когда богов и героев воспринимали как спасителей, вкусивших божественный напиток бессмерти€.
напоминают о том, что это бог молодого вина, которого почитали во врем€ праздников плодороди€, в том числе аттических јнфестерий. ¬ первые два дн€ их участники пили вино до исступлени€, а на третий день приносили жертвы умершим, что св€зано с почитанием хтонического ƒиониса. —кифос или канфар в руках ƒиониса или возлежащего √еракла €вл€лс€ атрибутом хтонической стороны культа, когда богов и героев воспринимали как спасителей, вкусивших божественный напиток бессмерти€.ѕри раскопках в —инопе эллинистического храма II в. до н.э. и домашних св€тилищ обнаружены вотивные терракоты —ераписа, ƒиониса, √еракла, »зиды, фигурки и протомы быков, маски силенов и сатиров, св€занные с почитанием —ераписа и ƒиониса, а также «евса, јртемиды и ƒеметры. ’рам в —инопе относ€т к —ерапису,
 следовательно, изображени€ ƒиониса из этого храма подтверждают св€зь этих богов. ќна основана на их покровительстве плодородию, хтоническим силам, а также важной роли обоих в культе мертвых. Ёто убедительно подтверждают вышеупом€нутые бронзовые медальоны позднеэллинистической эпохи с изображени€ми ƒиониса-Ѕыка, јриадны, —ераписа и »зиды из некропол€ јмиса, украшавшие саркофаг.
следовательно, изображени€ ƒиониса из этого храма подтверждают св€зь этих богов. ќна основана на их покровительстве плодородию, хтоническим силам, а также важной роли обоих в культе мертвых. Ёто убедительно подтверждают вышеупом€нутые бронзовые медальоны позднеэллинистической эпохи с изображени€ми ƒиониса-Ѕыка, јриадны, —ераписа и »зиды из некропол€ јмиса, украшавшие саркофаг.Ѕольшинство терракотовых фигурок и протом (προτομή),⁴ бронзовых и мраморных изображений ƒиониса и членов его свиты из јмиса и других городов ёжного ѕричерноморь€ датируетс€ второй половиной II Ч первой половиной I вв. до н.э., или римской эпохой. » только единичные экземпл€ры относ€тс€ к III в. до н.э. и рубежу I в. до н.э. Ч I в. н.э. “ак называема€ Ђмастерска€ коропластаї в јмисе выпускала фигурки и протомы дионисийского круга еще до ћитридата ≈впатора, однако основна€ их масса совпадает с введением в ѕонтийском царстве официального культа ƒиониса.
_______________________________
[4] προτομή (προ-τομή) ἡ верхн€€ часть тела, бюст.
—.ј.‘иногенова установила, что амисские коропласты выпускали два типа масок ƒиониса, которые датируютс€ IV-III вв. до н.э. и I в. до н.э. Ќекоторые из них производили непосредственно в городах —еверного ѕричерноморь€ Ч ’ерсонесе “аврическом, ѕантикапее, ћирмекии, использу€ импортные образцы из јмиса, причем именно в конце II Ч начале I вв. до н.э., когда амисские коропласты наладили наиболее массовый выпуск такой продукции. ѕараллельно началс€ чекан монет с изображением ƒиониса и атрибутами его культа.
¬полне возможно, что, после того как ћитридат VI получил им€ Ђƒионисї, а затем был официально героизирован, некоторые терракотовые изображени€ бога, как в скульптуре, глиптике и на монетах, стали напоминать облик цар€ Ч Ќового ƒиониса. ’от€ больша€ часть терракот из јмиса по-прежнему изображала ƒиониса в традиционном понимании, культ которого превратилс€ в общепонтийский.
ѕо политическим соображени€м, продиктованным желанием предстать освободителем эллинов и эллинизованных варваров от римл€н, понтийский царь хотел уподобитьс€ јлександру ћакедонскому, провозгласившему свободу эллинов от персов, что превратило его в избавител€ от злых и темных вражеских сил. эпохе позднего эллинизма у греков и эллинизованных подданных различных царей јзии образ јлександра ¬еликого как ƒиониса уже полностью сформировалс€ и практически повсюду стал знаменем политики и официальной идеологии. Ёти идеи соответствовали функци€м ƒиониса, которого считали сотером, поэтому ћитридату VI придавалс€ идеализированный образ божества, а его статуи выставл€ли в храмах ƒиониса в јфинах и ƒиониса атагемона в ѕергаме, св€тилищах ƒиониса в ¬ани ( олхида) и ѕантикапее.
÷елью прин€ти€ имени Ђƒионисї было не столько сделать культ бога царским, сколько использовать его дл€ обосновани€ претензий ћитридата на обожествление и героизацию. ¬ свою очередь, это усиливало попул€рность ƒиониса среди подданных и союзников цар€, стимулиру€ синкретизм с другими богами. ќкружение ћитридата использовало в своих политико-стратегических цел€х именно эллинское, а не ирано-анатолийское божество, насажда€ его попул€рность дл€ престижа власти полуэллинского монарха.
ƒионис в образе спасител€ и покровител€ власти оставалс€ попул€рным в јнатолии и в римскую эпоху. »мператорска€ власть охотно помещала его изображение на монеты греческих городов провинции ¬ифини€ ѕонт, так как это подчеркивало идею обожествлени€ прав€щих императоров. ¬ I в. н.э. на монетах јмастрии был запечатлен бюст молодого ƒиониса и виноградна€ ветвь с шестью гроздь€ми, что сопровождалось легендой ΔION[YCO]C —≈¬ј—“ќ—,⁵ котора€ свидетельствует об обожествлении императора јвгуста и ассоциации его с попул€рным богом винодели€ и возрождени€. ƒионис в образе молодого человека с тирсом и пантерой встречаетс€ на монетах этого города при Ћуцилле и оммоде во второй половине II в. н.э. и на монетах соседней —инопы при ¬алериане и √аллиене, что указывает на прочность его культа на прот€жении длительного времени. ≈го традиционные атрибуты Ч тирс, гроздь винограда, пантера Ч показывают, что в римское врем€ бог по-прежнему почиталс€ в качестве покровител€ виноградарства и винодели€. ј его изображение с канфаром, на монетах ѕомпейопол€ при ‘аустине ћладшей, и длинным скипетром, подтверждает его функцию покровител€ верховной власти как сотера, освещающего ее своей божественной силой. Ёто можно рассматривать в качестве наследства прежних эллинистических представлений о боге, столь попул€рном в ѕонтийском царстве при ћитридате ≈впаторе.
_______________________________
[5] σεβαστός (лат. augustus) св€щенный Ч эпитет римск. императоров (Καῖσαρ Σεβαστός Luc.).
_______________________________
|
ћетки: ƒионис √реци€ Ќумизматика |
јЅ–ј —ј— |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
јЅ–ј —ј—, » ќЌќ√–ј‘»я » Ё“»ћќЋќ√»я
јбраксас (греч. Ἀβράξας) или (более ранн€€ форма) јбрасакс (греч. Ἀβρασάξ) Ч гностическое космологическое божество, ¬ерховный глава Ќебес и Ёонов, олицетвор€ющий единство ћирового ¬ремени и ѕространства.
Ќе существует единого мнени€ относительно значени€ и происхождени€ имени јбрасакс, но, несомненно, прообразом бога, носившего это им€, был бог —олнца, и јбрасакс должен был представл€ть одну из ипостасей “ворца мира.
был бог —олнца, и јбрасакс должен был представл€ть одну из ипостасей “ворца мира.
јбраксаса изображали на античных геммах, амулетах, стелах в виде существа с телом человека, головой петуха и зме€ми вместо ног. ¬ одной руке он держит меч или плеть, в другой Ч щит. –€дом с именем јбраксас (или вместо него) на амулетах с его изображением, можно видеть и другие имена (ΙΑΩ, ΣΑΒΑΩΘ, ΑΔΩΝΕΟΣ и др.), что говорит о их равноценности и взаимозамен€емости.
≈два ли не самое упоминаемое на геммах им€ (нар€ду с именем јбраксас) Ч это IAW, сол€рное верховное божество финикийцев. —ол€рность »ао подтверждает и ћакробий в Ђ—атурнали€хї, хот€ »ао, в его изложении, это не верховное божество, а щедрое обильными урожа€ми осеннее солнце:
[1] Ἥλιος, эп. Ἠέλιος ὁ √елиос бог солнца, сын титана √ипериона и “еи.
¬€чеслав »ванов дает другой перевод оракула јполлона ларосского. » его вариант гораздо выгодней отличаетс€ от интерпретации ћакроби€, за которым замечено довольно вольное обращение с цитируемыми источниками. ¬ерси€ ¬.»ванова определ€ет »ао как божество сто€щее над годом (каким мы его и знаем), а не богом только осеннего солнца.
” гностиков »ао становитс€ непостижимым богом тайны, согласно »ринею, заключающим в себе Ђсемь небесных сферї (»ао √ебдомай, Ђ»ао —едьмичникї).
Ћюбопытно, что подобный эпитет (Ђ—едьмичникї) был и у јполлона в јфинах. —амо слово ἑβδομαῖος означает Ђпроисход€щий (или приход€щийс€) на седьмой деньї. ѕоскольку считалось, что јполлон был рожден в седьмой день мес€ца (Ἑβδομαγενής), то соответственно ему был посв€щен седьмой день каждого мес€ца, отсюда эпитет √ебдомагет (Ἑβδομαγέτης) Ч Ђуправитель седьмого дн€ї.
≈сли, с долей допущени€, предположить тождество »ао и јполлона, то следующим шагом будет установление тождества между »ао и √ором Ѕехдетским, поскольку греки между √ором и јполлоном разницы не видели. ¬ орфическом гимне јполлону, он откровенно описываетс€ как Ђ—олнце, взмывающее на золотых крыль€хї. Ќо крылатый солнечный диск Ч это символ √ора Ѕехдетского.
[2] сын ƒн€ Ч т.е. сын «евса. «десь отсыл к италийской форме имени «евса Ч Divus, которое соотносилось с лат. diu:
diu adv. (арх. dius) днем Man, Ap: neque noctu neque diu Pl Ч ни ночью, ни днем.
dius, -a, -um (apx. из divus) 1) божественный; 2) поэт. величественный, величавый; 3) прекрасный.
≈ще более убедительным доводом можно считать египетские истоки иконографии јбраксаса. —уд€ по
 всему, образ јбраксаса Ч это видоизмененный образ √ора Ѕехдетского, который имел вид крылатого солнечного диска с двум€, как бы свисающими, уре€ми по кра€м. ѕетух символизирует утреннее возрождающеес€ солнце, меч и плеть Ч символы власти, змеи Ч богини Ќехбет и ”аджит в образе уреев. роме того, в петушиный гребень могла эволюционировать красна€ корона дешрет (dšrt), либо (что более веро€тно) двойна€ корона объединенного ≈гипта, котора€ дл€ греков потер€ла свой сакральный смысл. ѕо крайней мере, иконографи€ √ора, в образе сокола с двойной короной на голове, в ≈гипте была, пожалуй, наиболее распространенной.
всему, образ јбраксаса Ч это видоизмененный образ √ора Ѕехдетского, который имел вид крылатого солнечного диска с двум€, как бы свисающими, уре€ми по кра€м. ѕетух символизирует утреннее возрождающеес€ солнце, меч и плеть Ч символы власти, змеи Ч богини Ќехбет и ”аджит в образе уреев. роме того, в петушиный гребень могла эволюционировать красна€ корона дешрет (dšrt), либо (что более веро€тно) двойна€ корона объединенного ≈гипта, котора€ дл€ греков потер€ла свой сакральный смысл. ѕо крайней мере, иконографи€ √ора, в образе сокола с двойной короной на голове, в ≈гипте была, пожалуй, наиболее распространенной.
¬озможный вариант прочтени€ имени Ἀβρασάξ Ч Ђисполненный светаї (ἁβρός Ч Ђблистательныйї, σάξις Ч Ђнаполнениеї). Ёта этимологическа€ верси€ косвенно подтверждаетс€ √игином в Ђћифахї (ћифы II, 183), где он повествует об именах коней √елиоса, среди прочих упомина€ имена јбраксас и »ао:
‘ульгенций приводит следующие имена коней: Ёритрей (Ἐρυθραῖος, Ђалыйї), јктин (Ἀκτῖνος, Ђси€ющийї), Ћамп (Λαμπάς, Ђсветочї) и ‘илогей (Φιλόγαιος, Ђлюб€щий «емлюї).³ јбсолютное большинство имен коней √елиоса, так или иначе, св€заны с Ђси€ниемї. » хот€ ссылка √игина на √омера (который, €кобы, и свидетельствует об именах јбрасакс и »ао, как об именах коней √елиоса) подвергаетс€ сомнению и критике (так как больше никем не подтверждаетс€), тем не менее такое свидетельство имеет место быть, и этот вариант имен четверки коней никак семантически не выдел€ютс€ из общего р€да.
___________________________
[3] φιλόγαιος (φιλό-γαιος) Ч люб€щий «емлю, т.е. стрем€щийс€ (склон€ющийс€) к «емле Ч вечерний аспект солнца (в противовес Ђутреннему аспектуї в образе Ђалогої (Ἐρυθραῖος), Ђрассветногої кон€).
Ќиже на стелах (в верхней части) Ч изображение √ора Ѕехдетского, в виде крылатого солнечного диска с двум€ уре€ми.


¬ поздней античности и в —редневековье изображение этого божества трактовали следующим образом: петух Ч символ предвидени€ и бдительности, змеи символизируют внутренние чувства интуиции и озарени€. ƒругие эманации этого божества Ч ”м, —лово, ћудрость, —ила.
озарени€. ƒругие эманации этого божества Ч ”м, —лово, ћудрость, —ила.
√еммы с изображением јбраксаса находили в »ндии, јзии, ≈гипте, частью в »спании, куда они вместе с ¬асилидовым учением были занесены присциллианами. ¬ —редние века јбраксас принимаетс€ всеми магическими и алхимическими сектами, геммы с его именем имеют широкое распространение в качестве амулетов.
¬ системе ¬асилида им€ јбраксас имеет мистический смысл, поскольку его им€ составлено из семи греческих букв (Θέων Ἑπταγράμματον), а магическое число 7 символизирует общую идею ¬селенной.
√ностическа€ система прив€зывает 7 известных тогда планет (включа€ солнце и луну) к дн€м недели, и таким образом день недели соответствует одной из планет и духовной сущности этой планеты:
—умма числовых значений букв, составл€ющих им€ Ἀβράξας (Α = 1, Β = 2, Ρ = 100, Α = 1, Σ = 200, Α = 1, Ξ = 60), дает 365 Ч число дней в году (Ђцелокупность мирового времениї), а также число небес (Ђцелокупность мирового пространстваї) и соответствующих небесам эонов (Ђцелокупность духовного мираї).


1. √емма, темно-зелена€ €шма (19x14.5x3mm), III в. н.э. Ѕританский музей, Ћондон. Av: јбраксас с факелом и щитом; ABPACAΞ | IAW (на щите). Rv: уроборос; ABW | XWN | IWX
2. √емма, красно-зелена€ €шма (16x12x4mm), III в. н.э. ћичиганский университет (Ann Arbor, University of Michigan, Special Collections Library). Av: јбраксас с человеческой головой; ABPACAΞ. Rv: IAѠ


3. √емма-амулет, красно-зелена€ €шма (15x11x4mm). ћичиганский университет (Ann Arbor, University of Michigan, Special Collections Library). јбраксас стоит вправо со щитом и плетью; IAH | IE | HIO | YW
4. √емма-амулет, красно-зелена€ €шма (26x19x4mm). ћичиганский университет (Ann Arbor, University of Michigan, Special Collections Library). Av: јбраксас со щитом и плетью, вокруг Ч три звезды и лунный серп; IAѠ. Rv: ΑΒΡΑCΑΞ
IAW
[4] iȝw Ч старик, старый возраст.
јтум Ђстар теломї не только потому что в гелиопольской традиции считалс€ Ђтворцом всего сущегої. ¬ позднейшей традиции јтум (отождествленный с –а) фигурирует как Ђвечернее состарившеес€ солнцеї, прошедшее полноту дн€. ¬ то врем€ как ’епри Ч Ђобновленное утреннее солнцеї.
јтум почиталс€ в »уну (Ἰwnw), который греки переименовали в √елиополис, отождествл€€, таким образом, √елиоса и јтума. ѕозднее √елиос был отождествлен с јполлоном. » хот€ ни к √елиосу, ни к јполлону эпитет »ао не прилагалс€, однако одно из св€щенных имен-эпитетов јтума, как видим, не кануло в лету.
“.е., в качестве версии, имеем, что не только образ јбраксаса имеет египетские корни, но и одно из наиболее часто употребл€емых его имен (Ἰαώ) имеет египетскую этимологию, и просто €вл€етс€ его эпитетом, в значении Ђдревнийї (Ἰȝw).
≈гипетскую природу имени »ао подтверждает и “еософский словарь:
откровени€м Ѕлавацкой имеет смысл относитьс€ с изр€дной долей скепсиса, и тем не менее. ак уже выше отмечалось, значение древнеегипетского слова Ђ»-ха-хої (iȝw) Ч Ђстарикї (т.е. Ђдревнийї). Ќо, исход€ из того, что Ἰȝw Ч это эпитет демиурга јтума, то в египетских мистери€х в него действительно могло вкладыватьс€ значение Ђединое вечное и сокрытое божествої.
’Ќ”Ѕ»—


5. √емма (фиолетовый аметист, 10х8х3.5mm), ок. II-III вв. Ћондон, Ѕританский государственный музей. »нв. є CBd-843. Av: змееподобное божество с мужским торсом и головой сокола в короне пшент, в руках держит два скипетра; MIYCIC (retrograd). Rv: бюсты √елиоса и «евса, повернутые друг к другу лицом; ниже Ч пар€ща€ птица с рыбой в клюве.
6. Ёскиз-гравюра к гемме CBd-843, ок. 1768-1805. Ћондон, Ѕританский государственный музей. »нв. є 2010,5006.1097. ѕрорисовка сделана со слепка геммы, им€ MIYCIC (Μίυσις) читаетс€ правильно. ¬ низу рисунка стоит буква “, маркирующа€ коллекцию „арльза “аунли.
¬ св€зи с именем MIYCIC, выгравированном на гемме, Ѕоннер (Bonner Ч SMA, XIII Inscriptions, p. 183) рассматривает амулет из Ѕруклинского музе€, на котором изображено львиноголовое божество с анхом в правой руке и скипетром с навершием в виде головы льва Ч в левой. Ќа реверсе воспроизведена длинна€ инвокаци€ в 13-ть строк. Ќа аверсе выгравированы следующие имена: Μίως, Μίωσι, Ἁρμιῶς, Οὐσιρμιῶς, Φρῆ, Σιμίεφε, Φνοῦτο, Φῶς, ѕῦρ, ‘λόξ. ѕеревод текста геммы следующий:
ƒалее Ѕоннер сообщает, что Ћеонтополем называлось место в ƒельте, ныне известное как “елль ћокдам, на правом берегу нильского рукава. ѕоклонение льву здесь зафиксировано множеством монументов. Ћьвиноголовый бог идентифицировалс€ у местных жителей с –а и √ором, его солнечный аспект характеризуетс€ именами: —вет (Φῶς), ќгонь (ѕῦρ), ѕлам€ (‘λόξ). ћиус (греч. Μίως, егип. Μȝy-ḥs)⁵ Ч это Ђлев, что накладывает заклинаниеї своим взгл€дом, иде€ эта выражена в двух египетских элементах, комбинированных в его имени, что также подтверждает Ёлиан. ’армиус (Ἁρμιῶς) Ч это √ор-лев, ”сирмиус (Οὐσιρμιῶς) Ч ќсирис-лев. ‘рэ (Φρῆ) Ч солнце, —имиефе (Σιμίεφε) Ч Ђсын небесной львицыї, ‘нуто (Φνοῦτο) Ч общее наименование бога (с коптского).
ƒалее пара цитат о соколиной голове зме€, который часто изображалс€ на геммах, и больше известный по имени ’нубис (Χνουβίς, Χνουμίς, Χνουφίς),⁶ и которого ≈всевий отождествл€ет с јгатодемоном (Ἀγαθοδαίμων):
«десь же ≈всевий дает €кобы египетский вариант имени ’нубис Ч неф (Κνήφ),⁸ который вполне может быть еще одной искаженной интерпретацией, уже упоминавшейс€ выше, формой имени ’нубиса Ч Χνουφίς.
∆рец Ёпе€, называемый Ђглавным толкователем св€щенных вещей, а также писцомї, изложил аллегорию зме€ с головой сокола таким образом:
[5] ћаахес (егип. Μȝy-ḥs; греч. Μάιχες, Μαχές, Μιχός, Μίυσις, Μίος) Ч в древнеегипетской мифологии львиноголовый бог войны, грозы и бури. ћаахес почиталс€ как сын бога –а и либо богини-кошки Ѕаст (покровительницы Ќижнего ≈гипта), либо богини войны —ехмет (покровительницы ¬ерхнего ≈гипта). Ќосил эпитеты: Ђ√осподин убиенныхї, Ђдикосмотр€щий левї, Ђрадующийс€ кровиї, Ђ¬ластитель ножаї. ультовые центры: Ћеонтополь (егип. Tȝ-rmw, “арему) и Ѕубастис (греч. Βούβαστις, егип. Pr-bȝst, ѕер-Ѕаст).
[6] –азные формы написани€ имени ’нубис св€заны с реформой греческого письма. ¬ древнегреческом €зыке буква β (бета) произносилась как взрывной звук [bæ]. ѕосле реформы (котора€ была весьма раст€нута во времени) эта буква стала произноситьс€ как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [væ] (и называтьс€, соответственно, Ђвитаї). ƒл€ передачи звука [bæ] (в заимствованных иностранных словах) у грамматиков возникали сложности. ¬ыход из положени€ находили через применение сочетани€ μπ или μβ. ¬ качестве примера хорошо подходит переходный вариант написани€ слова Ђсубботаї: σάμβατον (сравн. σάββατον). —егодн€ дл€ передачи звука [bæ] в греческом €зыке используют сочетание букв μπ (κόμπρα Ч Ђкобраї).
[7] ἀγαθοδαίμων (ἀγαθός δαίμων) ἡ благой дух.
[8] Κνήφ ὁ indecl. неф (египетское божество, изображавшеес€ в виде змеи) Plut.
—алмасий считает, что им€ Χνουβίς происходит от коптского слова XNOYB, Ђзолотої, и поэтому объ€сн€ет другое название, которое иногда употребл€етс€ вместо него, XOΛXN-OYBIΣ (’олхн-”бис) Ч Ђполностью золотойї. яблонский, однако, считает, что слово более правдоподобно происходит от XNOYM (Ђхорошийї) и ΙΣ (Ђдухї), и, таким образом, получаетс€, что Ђјгатодемонї Ч это буквальный перевод имени Χνουμίς на греческий (ἀγαθοδαίμων).
_______________________________
јЅ–ј —ј—, » ќЌќ√–ј‘»я » Ё“»ћќЋќ√»я
јбраксас (греч. Ἀβράξας) или (более ранн€€ форма) јбрасакс (греч. Ἀβρασάξ) Ч гностическое космологическое божество, ¬ерховный глава Ќебес и Ёонов, олицетвор€ющий единство ћирового ¬ремени и ѕространства.

Ќе существует единого мнени€ относительно значени€ и происхождени€ имени јбрасакс, но, несомненно, прообразом бога, носившего это им€,
 был бог —олнца, и јбрасакс должен был представл€ть одну из ипостасей “ворца мира.
был бог —олнца, и јбрасакс должен был представл€ть одну из ипостасей “ворца мира.јбраксаса изображали на античных геммах, амулетах, стелах в виде существа с телом человека, головой петуха и зме€ми вместо ног. ¬ одной руке он держит меч или плеть, в другой Ч щит. –€дом с именем јбраксас (или вместо него) на амулетах с его изображением, можно видеть и другие имена (ΙΑΩ, ΣΑΒΑΩΘ, ΑΔΩΝΕΟΣ и др.), что говорит о их равноценности и взаимозамен€емости.
≈два ли не самое упоминаемое на геммах им€ (нар€ду с именем јбраксас) Ч это IAW, сол€рное верховное божество финикийцев. —ол€рность »ао подтверждает и ћакробий в Ђ—атурнали€хї, хот€ »ао, в его изложении, это не верховное божество, а щедрое обильными урожа€ми осеннее солнце:
19. (Е) оракулом јполлона ларосского солнцу даетс€ также другое им€. ¬ тех самых св€щенных стихах оно называетс€ среди прочего яо. ¬едь јполлон ларосский, будучи спрошен, кто из богов должен считатьс€ [тем], которого зовут яо, так возвестил:___________________________
“аинство знающим средство от боли скрыть повелело.
≈сть же знанье невелико и слабый умишко.
“ы назначаешь бога яо быть из всех самым крайним:
¬ зимнюю пору јид есть, с весны же началом Ч тут «евс,
Ћетом Ч Ёелиос,¹ осенью уж Ч яо роскошный.
[1] Ἥλιος, эп. Ἠέλιος ὁ √елиос бог солнца, сын титана √ипериона и “еи.
¬€чеслав »ванов дает другой перевод оракула јполлона ларосского. » его вариант гораздо выгодней отличаетс€ от интерпретации ћакроби€, за которым замечено довольно вольное обращение с цитируемыми источниками. ¬ерси€ ¬.»ванова определ€ет »ао как божество сто€щее над годом (каким мы его и знаем), а не богом только осеннего солнца.
¬éдущим должно таить утешительных таинств уроки;
— малым обманом простому уму разуменье открыто.
¬сех Ч говорите Ч превыше богов всемогущий »ао:
¬ зимнюю стужу јидом зовут его; вешней порою Ч «евсом;
ќн Ч √елиос летом; а осенью Ч пышный јдонисЕ
” гностиков »ао становитс€ непостижимым богом тайны, согласно »ринею, заключающим в себе Ђсемь небесных сферї (»ао √ебдомай, Ђ»ао —едьмичникї).

Ћюбопытно, что подобный эпитет (Ђ—едьмичникї) был и у јполлона в јфинах. —амо слово ἑβδομαῖος означает Ђпроисход€щий (или приход€щийс€) на седьмой деньї. ѕоскольку считалось, что јполлон был рожден в седьмой день мес€ца (Ἑβδομαγενής), то соответственно ему был посв€щен седьмой день каждого мес€ца, отсюда эпитет √ебдомагет (Ἑβδομαγέτης) Ч Ђуправитель седьмого дн€ї.
≈сли, с долей допущени€, предположить тождество »ао и јполлона, то следующим шагом будет установление тождества между »ао и √ором Ѕехдетским, поскольку греки между √ором и јполлоном разницы не видели. ¬ орфическом гимне јполлону, он откровенно описываетс€ как Ђ—олнце, взмывающее на золотых крыль€хї. Ќо крылатый солнечный диск Ч это символ √ора Ѕехдетского.
ќ владыка, сын Ћето, далеко раз€щий, могучий ‘еб,___________________________
¬севид€щий, владычествующий над смертными и бессмертными,
сын ƒн€,², взмывающий ввысь на золотых крыль€хЕ
(ќрфический гимн)
[2] сын ƒн€ Ч т.е. сын «евса. «десь отсыл к италийской форме имени «евса Ч Divus, которое соотносилось с лат. diu:
diu adv. (арх. dius) днем Man, Ap: neque noctu neque diu Pl Ч ни ночью, ни днем.
dius, -a, -um (apx. из divus) 1) божественный; 2) поэт. величественный, величавый; 3) прекрасный.
≈ще более убедительным доводом можно считать египетские истоки иконографии јбраксаса. —уд€ по

 всему, образ јбраксаса Ч это видоизмененный образ √ора Ѕехдетского, который имел вид крылатого солнечного диска с двум€, как бы свисающими, уре€ми по кра€м. ѕетух символизирует утреннее возрождающеес€ солнце, меч и плеть Ч символы власти, змеи Ч богини Ќехбет и ”аджит в образе уреев. роме того, в петушиный гребень могла эволюционировать красна€ корона дешрет (dšrt), либо (что более веро€тно) двойна€ корона объединенного ≈гипта, котора€ дл€ греков потер€ла свой сакральный смысл. ѕо крайней мере, иконографи€ √ора, в образе сокола с двойной короной на голове, в ≈гипте была, пожалуй, наиболее распространенной.
всему, образ јбраксаса Ч это видоизмененный образ √ора Ѕехдетского, который имел вид крылатого солнечного диска с двум€, как бы свисающими, уре€ми по кра€м. ѕетух символизирует утреннее возрождающеес€ солнце, меч и плеть Ч символы власти, змеи Ч богини Ќехбет и ”аджит в образе уреев. роме того, в петушиный гребень могла эволюционировать красна€ корона дешрет (dšrt), либо (что более веро€тно) двойна€ корона объединенного ≈гипта, котора€ дл€ греков потер€ла свой сакральный смысл. ѕо крайней мере, иконографи€ √ора, в образе сокола с двойной короной на голове, в ≈гипте была, пожалуй, наиболее распространенной.¬озможный вариант прочтени€ имени Ἀβρασάξ Ч Ђисполненный светаї (ἁβρός Ч Ђблистательныйї, σάξις Ч Ђнаполнениеї). Ёта этимологическа€ верси€ косвенно подтверждаетс€ √игином в Ђћифахї (ћифы II, 183), где он повествует об именах коней √елиоса, среди прочих упомина€ имена јбраксас и »ао:
»ћ≈Ќј ќЌ≈… —ќЋЌ÷ј
Ёой (Ἠοῖος Ч Ђпредрассветный, ранний, утреннийї), из-за него начинаетс€ день. јйтопс (Αἴθοψ), то есть Ђпламенныйї. »з-за него созревает хлеб. Ёто прист€жные жеребцы. ”пр€жные кобылы: Ѕронта (Βροντά, Ђгромова€ї), и —теропа (Στεροπά, Ђмолнийна€ї). Ёто сообщает Ёвмел оринфский. √омер называет их: јбраксас, —отер (Σωτήρ, Ђспасающий, охран€ющийї), Ѕел (Βέλος, Ђмолни€ї) и »ао (Ἰάω). ќвидий называет их: ѕироент (Πυρόεις, Πυρόεντος, Ђогненный, пламенныйї), Ёой (Ἠοῖος, Ђутреннийї), Ётон (Αἰθόν, Ђсверкающий, огненныйї) и ‘легон (Φλέγον, Ђпылающийї).
‘ульгенций приводит следующие имена коней: Ёритрей (Ἐρυθραῖος, Ђалыйї), јктин (Ἀκτῖνος, Ђси€ющийї), Ћамп (Λαμπάς, Ђсветочї) и ‘илогей (Φιλόγαιος, Ђлюб€щий «емлюї).³ јбсолютное большинство имен коней √елиоса, так или иначе, св€заны с Ђси€ниемї. » хот€ ссылка √игина на √омера (который, €кобы, и свидетельствует об именах јбрасакс и »ао, как об именах коней √елиоса) подвергаетс€ сомнению и критике (так как больше никем не подтверждаетс€), тем не менее такое свидетельство имеет место быть, и этот вариант имен четверки коней никак семантически не выдел€ютс€ из общего р€да.
___________________________
[3] φιλόγαιος (φιλό-γαιος) Ч люб€щий «емлю, т.е. стрем€щийс€ (склон€ющийс€) к «емле Ч вечерний аспект солнца (в противовес Ђутреннему аспектуї в образе Ђалогої (Ἐρυθραῖος), Ђрассветногої кон€).
Ќиже на стелах (в верхней части) Ч изображение √ора Ѕехдетского, в виде крылатого солнечного диска с двум€ уре€ми.


¬ поздней античности и в —редневековье изображение этого божества трактовали следующим образом: петух Ч символ предвидени€ и бдительности, змеи символизируют внутренние чувства интуиции и
 озарени€. ƒругие эманации этого божества Ч ”м, —лово, ћудрость, —ила.
озарени€. ƒругие эманации этого божества Ч ”м, —лово, ћудрость, —ила.√еммы с изображением јбраксаса находили в »ндии, јзии, ≈гипте, частью в »спании, куда они вместе с ¬асилидовым учением были занесены присциллианами. ¬ —редние века јбраксас принимаетс€ всеми магическими и алхимическими сектами, геммы с его именем имеют широкое распространение в качестве амулетов.
¬ системе ¬асилида им€ јбраксас имеет мистический смысл, поскольку его им€ составлено из семи греческих букв (Θέων Ἑπταγράμματον), а магическое число 7 символизирует общую идею ¬селенной.
√ностическа€ система прив€зывает 7 известных тогда планет (включа€ солнце и луну) к дн€м недели, и таким образом день недели соответствует одной из планет и духовной сущности этой планеты:
Ђ»мена же славы тех, которые над —емью Ќебесами, суть таковы: первый Ч это яот (Ιαωθ), Ћьвинолицый; второй Ч это Ёлоай (Ελοαιος), ќслинолицый; третий Ч это јстафай (Αθταφαιος), √иенолицый; четвертый Ч это яо (Ιαω), 3меинолицый и —емиглавый; п€тый Ч это јдонай (Αδωναιως), ƒраконолицый; шестой Ч это јдони (Αδωνι), ќбезь€нолицый; седьмой Ч это —аббатай (Σαββαταιος), ѕламеннолицый. “акова есть седмица неделиї.
—умма числовых значений букв, составл€ющих им€ Ἀβράξας (Α = 1, Β = 2, Ρ = 100, Α = 1, Σ = 200, Α = 1, Ξ = 60), дает 365 Ч число дней в году (Ђцелокупность мирового времениї), а также число небес (Ђцелокупность мирового пространстваї) и соответствующих небесам эонов (Ђцелокупность духовного мираї).


1. √емма, темно-зелена€ €шма (19x14.5x3mm), III в. н.э. Ѕританский музей, Ћондон. Av: јбраксас с факелом и щитом; ABPACAΞ | IAW (на щите). Rv: уроборос; ABW | XWN | IWX
2. √емма, красно-зелена€ €шма (16x12x4mm), III в. н.э. ћичиганский университет (Ann Arbor, University of Michigan, Special Collections Library). Av: јбраксас с человеческой головой; ABPACAΞ. Rv: IAѠ


3. √емма-амулет, красно-зелена€ €шма (15x11x4mm). ћичиганский университет (Ann Arbor, University of Michigan, Special Collections Library). јбраксас стоит вправо со щитом и плетью; IAH | IE | HIO | YW
4. √емма-амулет, красно-зелена€ €шма (26x19x4mm). ћичиганский университет (Ann Arbor, University of Michigan, Special Collections Library). Av: јбраксас со щитом и плетью, вокруг Ч три звезды и лунный серп; IAѠ. Rv: ΑΒΡΑCΑΞ
IAW
Ђ—огласно гелиопольской божественной генеалогии, установившейс€ еще в Ђ“екстах пирамидї, it itw Ч Ђотцом отцов егої €вл€етс€ (–а)-јтум, творец всего сущего, €вл€ющийс€ родоначальником божественной Ённеады. ¬еро€тно, именно јтум подразумеваетс€ в том случае, когда говоритс€, что не захватит —ет того, кто Ђстар теломї (iȝw ẖt)⁴ и того, кто правил еще до по€влени€ —ета: ЂЌе захватит он старого телом, того, сделавшего правление, (прежде чем) пришел он на землюї (Urk.VI.39.4-5: nn nhp n.f iȝw ẖt s ḥḳȝ nn pr.n.f ḥr tȝ).ї ( арлова .‘.)___________________________
[4] iȝw Ч старик, старый возраст.
јтум Ђстар теломї не только потому что в гелиопольской традиции считалс€ Ђтворцом всего сущегої. ¬ позднейшей традиции јтум (отождествленный с –а) фигурирует как Ђвечернее состарившеес€ солнцеї, прошедшее полноту дн€. ¬ то врем€ как ’епри Ч Ђобновленное утреннее солнцеї.
Ђя [–а] многоименный и многосущный, и сущность мо€ в каждом боге! (Е) я Ч ’епри утром, –а в полдень и јтум вечеромї.
јтум почиталс€ в »уну (Ἰwnw), который греки переименовали в √елиополис, отождествл€€, таким образом, √елиоса и јтума. ѕозднее √елиос был отождествлен с јполлоном. » хот€ ни к √елиосу, ни к јполлону эпитет »ао не прилагалс€, однако одно из св€щенных имен-эпитетов јтума, как видим, не кануло в лету.
“.е., в качестве версии, имеем, что не только образ јбраксаса имеет египетские корни, но и одно из наиболее часто употребл€емых его имен (Ἰαώ) имеет египетскую этимологию, и просто €вл€етс€ его эпитетом, в значении Ђдревнийї (Ἰȝw).
≈гипетскую природу имени »ао подтверждает и “еософский словарь:
Ђ ак я (Ἰά), так и яхо (Ἰαώ) были еврейскими Ђтайными именамиї, произошедшими от »ао, но халдеи имели яхо еще до того, как евреи прин€ли это им€, и у них, как по€снено некоторыми гностиками и неоплатониками, это было высшее непостижимое божество, восседающее над семью небесами и представл€ющее собой ƒуховный —вет, означа€ как разумного ƒемиурга ћатериальной ¬селенной, так и Ѕожественный ћанас в человеке. »стинным ключом к этому, сообщаемым только посв€щенным, €вл€лось то, что им€ »ао было Ђтрехбуквенным и его природа Ч тайнойї, как объ€сн€ли иерофанты. “акже и финикийцы имели верховное божество, им€ которого состо€ло из трех букв (»ао) и их значени€ были тайными; а Ђ»-ха-хої было св€щенным словом в египетских мистери€х, которое означало Ђединое вечное и сокрытое божествої в природе и в человеке.ї
откровени€м Ѕлавацкой имеет смысл относитьс€ с изр€дной долей скепсиса, и тем не менее. ак уже выше отмечалось, значение древнеегипетского слова Ђ»-ха-хої (iȝw) Ч Ђстарикї (т.е. Ђдревнийї). Ќо, исход€ из того, что Ἰȝw Ч это эпитет демиурга јтума, то в египетских мистери€х в него действительно могло вкладыватьс€ значение Ђединое вечное и сокрытое божествої.
’Ќ”Ѕ»—


5. √емма (фиолетовый аметист, 10х8х3.5mm), ок. II-III вв. Ћондон, Ѕританский государственный музей. »нв. є CBd-843. Av: змееподобное божество с мужским торсом и головой сокола в короне пшент, в руках держит два скипетра; MIYCIC (retrograd). Rv: бюсты √елиоса и «евса, повернутые друг к другу лицом; ниже Ч пар€ща€ птица с рыбой в клюве.
6. Ёскиз-гравюра к гемме CBd-843, ок. 1768-1805. Ћондон, Ѕританский государственный музей. »нв. є 2010,5006.1097. ѕрорисовка сделана со слепка геммы, им€ MIYCIC (Μίυσις) читаетс€ правильно. ¬ низу рисунка стоит буква “, маркирующа€ коллекцию „арльза “аунли.
¬ св€зи с именем MIYCIC, выгравированном на гемме, Ѕоннер (Bonner Ч SMA, XIII Inscriptions, p. 183) рассматривает амулет из Ѕруклинского музе€, на котором изображено львиноголовое божество с анхом в правой руке и скипетром с навершием в виде головы льва Ч в левой. Ќа реверсе воспроизведена длинна€ инвокаци€ в 13-ть строк. Ќа аверсе выгравированы следующие имена: Μίως, Μίωσι, Ἁρμιῶς, Οὐσιρμιῶς, Φρῆ, Σιμίεφε, Φνοῦτο, Φῶς, ѕῦρ, ‘λόξ. ѕеревод текста геммы следующий:
Ђ”слышь мен€ ты, кто частью своей обитает в Ћеонтополе, кто установлен в св€щенном чертоге, кто посылает громы и молнии и кто есть властелин тьмы и ветров, кто имеет в своем доминионе небесную силу, что управл€ет вечной природой. “ы еси бог, что совершает дела быстро, кто слышит молитвы, великой чести, кто имеет образ льва. “вои имена: ћиус, ћиуси, ’армиус, ”сирмиус, ‘рэ, —имиефе, ‘нуто, —вет, ќгонь и ѕлам€. Ѕудь милостив к јммонмиусу.ї
ƒалее Ѕоннер сообщает, что Ћеонтополем называлось место в ƒельте, ныне известное как “елль ћокдам, на правом берегу нильского рукава. ѕоклонение льву здесь зафиксировано множеством монументов. Ћьвиноголовый бог идентифицировалс€ у местных жителей с –а и √ором, его солнечный аспект характеризуетс€ именами: —вет (Φῶς), ќгонь (ѕῦρ), ѕлам€ (‘λόξ). ћиус (греч. Μίως, егип. Μȝy-ḥs)⁵ Ч это Ђлев, что накладывает заклинаниеї своим взгл€дом, иде€ эта выражена в двух египетских элементах, комбинированных в его имени, что также подтверждает Ёлиан. ’армиус (Ἁρμιῶς) Ч это √ор-лев, ”сирмиус (Οὐσιρμιῶς) Ч ќсирис-лев. ‘рэ (Φρῆ) Ч солнце, —имиефе (Σιμίεφε) Ч Ђсын небесной львицыї, ‘нуто (Φνοῦτο) Ч общее наименование бога (с коптского).
ƒалее пара цитат о соколиной голове зме€, который часто изображалс€ на геммах, и больше известный по имени ’нубис (Χνουβίς, Χνουμίς, Χνουφίς),⁶ и которого ≈всевий отождествл€ет с јгатодемоном (Ἀγαθοδαίμων):
Ђ«мей, за исключением насильственной смерти, всегда умирает естественным образом, по этой причине финикийцы дали ему им€ ƒобрый √ений или јгафодемон.⁷ ѕо той же причине египт€не называли его нефом и дали ему голову сокола, из-за особой стремительности этой птицыї.
(≈всевий, I. 7)
«десь же ≈всевий дает €кобы египетский вариант имени ’нубис Ч неф (Κνήφ),⁸ который вполне может быть еще одной искаженной интерпретацией, уже упоминавшейс€ выше, формой имени ’нубиса Ч Χνουφίς.
∆рец Ёпе€, называемый Ђглавным толкователем св€щенных вещей, а также писцомї, изложил аллегорию зме€ с головой сокола таким образом:
Ђ—амой божественной природой из всех был один «мей с головой сокола, и такого восхитительного вида что, когда он открывал глаза, то все вокруг наполн€лось светом, а когда закрывал глаза, то опускалась сразу тьмаї. «мей на наших геммах, однако, изображен не с головой сокола, а с головой льва, поэтому эта легенда относитс€ скорее всего к богу јбраксасу, иногда изображаемому с головой сокола или льва вместо привычной головы петуха.ї___________________________
[5] ћаахес (егип. Μȝy-ḥs; греч. Μάιχες, Μαχές, Μιχός, Μίυσις, Μίος) Ч в древнеегипетской мифологии львиноголовый бог войны, грозы и бури. ћаахес почиталс€ как сын бога –а и либо богини-кошки Ѕаст (покровительницы Ќижнего ≈гипта), либо богини войны —ехмет (покровительницы ¬ерхнего ≈гипта). Ќосил эпитеты: Ђ√осподин убиенныхї, Ђдикосмотр€щий левї, Ђрадующийс€ кровиї, Ђ¬ластитель ножаї. ультовые центры: Ћеонтополь (егип. Tȝ-rmw, “арему) и Ѕубастис (греч. Βούβαστις, егип. Pr-bȝst, ѕер-Ѕаст).
[6] –азные формы написани€ имени ’нубис св€заны с реформой греческого письма. ¬ древнегреческом €зыке буква β (бета) произносилась как взрывной звук [bæ]. ѕосле реформы (котора€ была весьма раст€нута во времени) эта буква стала произноситьс€ как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [væ] (и называтьс€, соответственно, Ђвитаї). ƒл€ передачи звука [bæ] (в заимствованных иностранных словах) у грамматиков возникали сложности. ¬ыход из положени€ находили через применение сочетани€ μπ или μβ. ¬ качестве примера хорошо подходит переходный вариант написани€ слова Ђсубботаї: σάμβατον (сравн. σάββατον). —егодн€ дл€ передачи звука [bæ] в греческом €зыке используют сочетание букв μπ (κόμπρα Ч Ђкобраї).
[7] ἀγαθοδαίμων (ἀγαθός δαίμων) ἡ благой дух.
[8] Κνήφ ὁ indecl. неф (египетское божество, изображавшеес€ в виде змеи) Plut.
—алмасий считает, что им€ Χνουβίς происходит от коптского слова XNOYB, Ђзолотої, и поэтому объ€сн€ет другое название, которое иногда употребл€етс€ вместо него, XOΛXN-OYBIΣ (’олхн-”бис) Ч Ђполностью золотойї. яблонский, однако, считает, что слово более правдоподобно происходит от XNOYM (Ђхорошийї) и ΙΣ (Ђдухї), и, таким образом, получаетс€, что Ђјгатодемонї Ч это буквальный перевод имени Χνουμίς на греческий (ἀγαθοδαίμων).
_______________________________
|
ћетки: јбраксас ’нубис ћаахес јгатодемон ≈гипет √реци€ |
ј–“≈ћ»ƒј |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
ј–“≈ћ»ƒј, ƒ≈¬ј ќ’ќ“Ќ»÷ј
јртемида (греч. Ἄρτεμις, микенск. a-ti-mi-te), в древнегреческой мифологии Ч владычица зверей (πότνια θηρῶν), богин€ охоты (ἀγροτέρη), плодороди€, богин€ женского целомудри€, покровительница всего живого на «емле, дающа€ счастье в браке и помощь при родах.
јртемида была рождена от союза «евса и Ћето. √ера, жена «евса, пожелала смерти Ћето и послала зме€ ѕифона, чтобы тот преследовал Ћето по всему миру, и не дал родить ей там, где светит солнце. ёжный ветер подн€л Ћето на своих крыль€х и перенес на ќстров ќртиги€ (Ђѕерепелиный островї, древнее название острова ƒелос). ƒо рождени€ јполлона и јртемиды, остров вечно плавал по морю, пока «евс не повелел ѕосейдону закрепить его на месте, с тем чтобы на нем могла укрытьс€ и разрешитьс€ от бремени Ћето, котора€ и родила здесь, вблизи —в€щенного озера, близнецов јполлона и јртемиду. ѕоскольку јртемида была рождена на ќртигии, древние греки считали ее богиней этого места. ќтсюда эпитет богини: јртемида ќртиги€ (Ἄρτεμις Ὀρτυγία).
и јртемиду. ѕоскольку јртемида была рождена на ќртигии, древние греки считали ее богиней этого места. ќтсюда эпитет богини: јртемида ќртиги€ (Ἄρτεμις Ὀρτυγία).
Ёпитет ќртиги€ несколько созвучен с именем јртемиды. онечно, это может быть простой случайностью. ¬озможно то, что јртемида €вл€етс€ сестрой-близнецом јполлона, несет в себе этимологию ее имени (ἄρτιος, Ђпарныйї)? ¬прочем, и это может быть всего лишь совпадением (причем, что характерно, не последним).
—читаетс€, что значение имени јртемида Ч Ђдеваї (кем она и €вл€етс€).¹ —опровождающие ее нимфы также дают обет безбрачи€, те же, кто не соблюдает его Ч строго караютс€ (как, например, аллисто, нарушивша€ обет, и превращенна€ за это в медведицу).
___________________________
[1] Ἄρτεμις (-ῐδος) ἡ јртемида, дочь «евса и Ћето, сестра јполлона.
ἀρτεμής Ч здоровый, целый, невредимый Hom., Plat., Plut., Anth.
јртемида заботитс€ обо всем, что живет на земле и растет в лесу и в поле (ἀρτιθαλής Ч Ђнедавно расцветшийї, т.е. Ђсвежийї, Ђцветущийї). «аботитс€ она и о диких звер€х, и о стадах домашнего скота, и о люд€х. ќна вызывает рост трав, цветов и деревьев, она благословл€ет рождение (ἀρτίτοκος Ч Ђноворожденныйї), свадьбу и брак (ἄρθμιος Ч Ђсоюзї).
јртемида проводит врем€ в лесах и горах, охот€сь в окружении нимф Ч своих спутниц и тоже охотниц. ќна вооружена луком (один из ее часто употребл€емых эпитетов Ч ἰοχέαιρα, Ђстрелометательницаї), ее сопровождает свора собак. ¬ аттическом календаре в честь охотничьего празднества Ἐλαφηβόλια, посв€щенного јртемиде Ёлафеболии (Ђохотница на олен€ї), был назван дев€тый мес€ц года Ёлафеболион (Ἐλαφηβολιών, соответствующий 2-ой половине марта и 1-ой апрел€).
ее сопровождает свора собак. ¬ аттическом календаре в честь охотничьего празднества Ἐλαφηβόλια, посв€щенного јртемиде Ёлафеболии (Ђохотница на олен€ї), был назван дев€тый мес€ц года Ёлафеболион (Ἐλαφηβολιών, соответствующий 2-ой половине марта и 1-ой апрел€).
¬ древнейшей своей ипостаси јртемида не только охотница (јгротера, Ἀγροτέρα), но и медведица. ¬ Ѕрауроне, у восточного побережь€ јттики, находилс€ храм јртемиды Ѕрауронии (Ἄρτεμις Βραυρωνία). — одной стороны, в этот храм посв€щались одежды умерших при родах женщин (это св€зано с функцией јртемиды как родовспомогательницы). Ќо с этим же храмом был св€зан странный обычай: афинские девочки в возрасте от п€ти до дес€ти лет посел€лись на некоторое врем€ в этом храме, назывались Ђмедведицамиї (ἄρκτοι), и во врем€ справл€вшегос€ раз в четыре года праздника Ѕрауроний осуществл€ли, одетые в выкрашенные шафраном одежды, церемонии в честь јртемиды. — этим обычаем сопоставл€ют аркадский миф о нимфе аллисто (Καλλιστώ, от καλλιστεύω Ч выдел€тьс€ или превосходить красотой, быть самым красивым), спутнице јртемиды, превращенной ею в медведицу, из-за того, что та нарушила обет целомудри€. ќднако здесь просматриваютс€ и следы древнего териоморфного, т.е. Ђзвериногої облика самой јртемиды. ѕо словам ѕавсани€ в јркадии был храм јртемиды с эпитетом аллисто (Καλλιστώ). “.е. нимфа аллисто Ч это, веро€тно, отделивша€с€ от јртемиды зверина€ ипостась ¬ладычицы в образе медведицы.
слову, образ медведицы мог возникнуть из-за созвучи€ имени јртемиды со словами ἄρκτος (Ђмедведицаї) и ἀρταμέω (Ђтерзатьї, Ђразрыватьї), ἀρθρόω (Ђрасчлен€тьї). ¬ дошедших до нас мифах јртемида никого не рвала на части, хот€ и славилась крутым нравом и мстительностью. ќднако в архаическом прошлом приношение кровавых жертв было в пор€дке вещей.
—озвучие со словом Ђхлебї (ἄρτος), суд€ по всему, повли€ло на функционал јртемиды, как богини плодороди€.
» в то же врем€, богин€ обладает решительным и агрессивным характером, часто пользуетс€ стрелами как орудием наказани€ и строго следит за исполнением издавна установленных обычаев, упор€дочивающих животный и растительный мир. ≈е карательна€ функци€, видимо, св€зана с другим созвучием: ὀρθῶς Ч Ђправильної, Ђистинної, Ђсправедливої.
как орудием наказани€ и строго следит за исполнением издавна установленных обычаев, упор€дочивающих животный и растительный мир. ≈е карательна€ функци€, видимо, св€зана с другим созвучием: ὀρθῶς Ч Ђправильної, Ђистинної, Ђсправедливої.
јртемида Ч враг любого нарушени€ прав и устоев олимпийцев (ἀρτύνω Ч Ђприводить в пор€докї). Ѕлагодар€ ее хитрости погибли брать€-великаны јлоады, пытавшиес€ нарушить мировой пор€док. ƒерзкий и необузданный “итий был убит стрелами јртемиды и јполлона.
¬ героической мифологии јртемида √егемони€ (Ἄρτεμις Ἡγεμονία, ѕредводительница) Ч участница битвы с гигантами, в которой ей помогал √еракл. ¬ “ро€нской войне она вместе с јполлоном воюет на стороне тро€нцев. ѕодобна€ воинственность јртемиды (Ἄρτεμις) объ€снима сочетанием слов ἄρης (воинский дух) и θέμις (закон, правосудие, возмездие).
јртемида ќрти€ (Ὀρθία) была одной из самых важных и почитаемых богинь в —парте. Ѕожество это относилось доолимпийскому культу. ѕричем ранние вотивные надписи упоминают только ќртию. ѕавсаний, в своей книге Ђќписание Ёлладыї касаетс€ происхождени€ данного культа:
ульт јртемиды был распространен повсеместно, но особенно славилс€ ее храм в Ёфесе в ћалой јзии, где почиталось изображение јртемиды Ђмногогрудойї (πολύμαστος), богини-покровительницы деторождени€.
где почиталось изображение јртемиды Ђмногогрудойї (πολύμαστος), богини-покровительницы деторождени€.
Ќе исключено, что на многогрудость јртемиды повли€ло созвучие эпитета ѕр€ха (ἀλάκατος, Ђхалакатосї) со словом молочна€ (γάλακτος, Ђгалактосї), т.е. питающа€ молоком (γάλα). ¬ ƒревней √реции пр€хами (пр€дущими нить судьбы) были не только ћойры, эпитет χρυσηλάκατος (с золотым веретеном) носили и многие другие богини, например, у —офокла это ора (Κόρα), у ѕиндара Ч Ћето (Λατώ), у √омера Ч јртемида. Ѕогиней же изобретательницей пр€дени€, как такового, считалась јфина.
јртемида Ћохи€ (Λοχεία, –одовспомогательница) про€вл€ет себ€ в том, что она через свою помощницу »лифию (в прошлом свою ипостась) помогает роженицам, во врем€ т€желых родов (Callim. Hymn. III 20-25). —огласно греческой мифологии, только по€вившись на свет, она помогает матери прин€ть родившегос€ вслед за ней јполлона (Apollod. I 4).
ƒревнее представление об јртемиде св€зано с ее лунной природой, отсюда ее близость к другим лунным богин€м Ч —елене и √екате, а также римским лунным богин€м Ч ƒиане и, собственно, Ћуне (Luna). ¬прочем, —елена, в паре со своим солнечным братом √елиосом, €вл€етс€ откровенной параллелью к паре јртемида и јполлон. √еката Ч это отдельно выделивша€с€ хтоническа€ ипостась јртемиды. ¬ некоторых городах (јфины, Ёпидавр, остров ƒелос) к имени јртемида прибавл€ли эпитет √еката (Ἄρτεμις Ἑκάτα Ч јртемида, мечуща€ в цель). —обственно, эпитеты ἕκατος (далеко раз€щий), ἑκαταβόλος (далеко мечущий) Ч это эпитеты, мечущих стрелы, јполлона и јртемиды. ѕоэтому √екату (Ἑκάτη) так трудно идентифицировать на древних артефактах. ак и јртемиду, ее именуют ночной охотницей, у нее те же, что и у јртемиды, атрибуты (лук, стрелы, охотничьи собаки, олени). ≈е главным идентификатором считаетс€ факел, которым она освещает свой путь в подземном мире. Ќо ровно так же факел Ч это атрибут јртемиды, отсюда ее эпитет Φωσφόρος Ч Ђ—ветоносна€ї.
ѕолемизиру€ с √еродотом в форме пр€мого обращени€ к нему, ѕлутарх говорит:
√овор€ о торжественных процесси€х в јгры, ѕлутарх имеет в виду процессию к знаменитому св€тилищу јртемиды јграйи (Ἀγραία). Ќо јртемиду здесь он именует эпитетом Ђ√екатаї.
“ак же и ћакробий не видит разницы между √екатой и ƒианой:
орнут эпитетами √екат и √еката напр€мую называет, соответственно, јполлона и јртемиду:
ј–“≈ћ»ƒј ќ’ќ“Ќ»÷ј
Ёпитет јртемиды Ч Ἀγραία Ч имеет весьма двусмысленный характер. ≈стественно главное значение эпитета јграй€ Ч Ђјгрска€ї, по названию города јгра. ’от€ неизвестно, что здесь первично, возможно, название св€тилища в честь јртемиды охотницы (ἀγρεύς) было распространено на город. ƒругое интересное созвучие Ч ἄγριος (дикий, свирепый) Ч навевает ассоциации с архаическим образом јртемиды, в образе медведицы, в Ѕрауроне.
”пом€нутый выше эпитет јгротера (Ἀγροτέρα, Ђохотницаї), этимологически, видимо, св€зан с другим схожим словом (в плане словообразовани€) Ч θηραγρέτης Ч с тем же значением. ¬ свою очередь, этимологи€ слова θηραγρέτης тоже весьма любопытна.
“.е. θηραγρέτης, надо полагать, это производное от ἀγρευτής (охотник). ѕерва€ часть слова (θηρ-) уточн€ет, что это охотник на диких зверей. “огда эпитет јртемиды Ч јгротера (Ἀγροτέρα, Ђохотницаї) Ч это, видимо, производное от θηρατής (Ђохотницаї), а перва€ половина слова (ἀγρο-, от ἄγριος, Ђдикийї) Ч это аналогичное уточнение Ч на кого именно она охотница Ч на диких зверей.
Ќесмотр€ на однозначную этимологию эпитета јгротера, јртемида ќхотница почиталась и как покровительница рыбной ловле. ¬ одной из эпиграмм јполлонида, јртемида имеет пр€мое отношение к рыболовству:
¬ комментарии к стиху 39 гимна к јртемиде аллимаха еще Ўпанхейм говорил о ней как о богине, покровительнице рыболовства, ссыла€сь на ѕлутарха. » в самом деле, мы находим у ѕлутарха такое упоминание јгротеры:
Ќаконец, из плиты, найденной на “аманском полуострове, мы узнаем, что Ђ сеномид, сын ѕоси€, посв€тил храм јртемиде јгротере при ѕерисаде, сыне Ћевкона, архонте Ѕоспора и ‘еодосии и царе синдов, торетов и дандариевї. —таница јхтанизовска€, где была найдена эта плита, расположена на самом берегу мор€, и вполне веро€тно, что тамошние греки и местное население, более или менее эллинизированное, занимавшеес€ здесь рыболовством, почитало јгротеру как покровительницу рыбной ловли.
≈стественно, материал ѕричерноморь€ меньше всего подходит дл€ раскрыти€ природы греческих культов. ќднако хорошо известно, что дл€ јфин V-IV веков до н.э. рыболовство представл€ло собой один из основных источников пропитани€, в отличие от охоты, котора€ была лишь видом развлечени€ афинской аристократии.
_______________________________
ј–“≈ћ»ƒј Ћј‘–»я
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јхай€.)
XVIII.6. ” жителей ѕатр (Πάτραι) на јкрополе есть св€тилище јртемиды Ћафрии (Λαφρία). Ёто им€ богини иноземное, да и сама€ стату€ привезена из другого места. огда император јвгуст сн€л население алидона и всей остальной Ётолии, чтобы весь этот этолийский народ тоже объединить в одном городе, в Ќикополе, выстроенном немного севернее јкциума, тогда-то и жители ѕатр получили себе эту статую јртемиды Ћафрии.
–авным образом из тех статуй, которые были вз€ты из Ётолии и у акарнанцев, большинство их было доставлено в Ќикополь, а жител€м ѕатр јвгуст подарил в числе всего другого из калидонской добычи также и статую јртемиды Ћафрии, которой еще и в мое врем€ поклон€ютс€ на јкрополе ѕатр.
√овор€т, что это наименование Ћафри€ дано богине по имени одного фокидского гражданина; что Ћафрий, сын астали€, внук ƒельфа, создал эту древнюю статую јртемиды; другие же утверждают, что гнев јртемиды (»лиада, IX, 533 сл.), вызванный Ёнеем (Οἰνεύς), с течением времени по отношению к калидон€нам сделалс€ м€гче (ἐλαφρότερον), и в этом хот€т видеть причину наименовани€ богини Ћафрией. Ѕогин€ на статуе изображена в виде охотницы и сделана из слоновой кости и золота, работы навпактийцев ћенехма и —оида. ѕредполагают, что они жили немного позднее анаха из —икиона и аллона из Ёгины.
7. ∆ители ѕатр каждый год совершают в честь јртемиды празднества, называемые Ћафрии (Λάφρια), во врем€ которых они принос€т жертвы по местному обычаю. ругом у алтар€ они вбивают коль€ еще зеленые, каждый в 16 локтей длиной, а в середину на жертвенник они наваливают самых сухих дров. ѕри наступлении праздника они делают и подход к жертвеннику совершенно ровным, завалива€ землей ступени жертвенника.
ѕраздник открываетс€ блест€щей и великолепной процессией в честь јртемиды; ее жрица, девушка, едет в конце процессии на колеснице, запр€женной лан€ми. ∆ертвоприношение же у них установлено совершать во врем€ этого праздника только на следующий день, причем и частные лица не меньше, чем государство, прилагают все усили€ к тому, чтобы праздник был пышным и торжественным.
Ѕросают на жертвенник живых птиц из тех, которые употребл€ют в пищу, и вс€ких других жертвенных животных, кроме того, диких свиней, оленей и косуль; другие принос€т волчат и медвежат, а иные и взрослых животных. Ќа алтарь кладут также плоды культивированных фруктовых деревьев. ѕосле этого поджигают дрова. я видел здесь, как медведи и другие животные, лишь только огонь начинал охватывать дрова, бросались за загородку, и некоторым удавалось силою прорватьс€; но те, которые их привели сюда, вновь заставл€ют их вернутьс€ на костер. » никто не помнит, чтобы какой-либо зверь тронул хоть одного из присутствующих.
ј–“≈ћ»ƒј “–» Ћј–»я
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јхай€.)
XIX.1. <Е> огда ионийцы засел€ли јрою, јнтею и ћесатис, у них был общий храм и св€щенный участок јртемиды, именуемой “рикларией (Τρικλαρία).⁵ » каждый год ионийцы устраивали в честь нее праздник и ночное бдение. ƒолжность жрицы при богине несла девушка до тех пор, пока она не знала мужа.
___________________________
[5] Ёпитет јртемиды Ч Τρικλαρία (Τρικληρία) Ч производное от τρεῖς κλῆρος (Ђтри землиї) Ч Ђтрехземельна€ї.
τρι- в сложн. словах = τρεῖς;
τρεῖς, -οἱ, -αἱ, τρία τά (gen. τριῶν, dat. τρισί) три, трое; ex. τρία ἔπεα Pind. Ч три слова, т.е. сказанное в добрый час (три считалось счастливым числом);
κλῆρος, дор. κλᾶρος ὁ
1) тж. pl. жребий; ex. ἐν или ἐπὴ κλήρους ἐβάλοντο Hom. Ч они бросили жребии; ἀπὸ κλήρων γίγνεσθαι Plat. Ч распредел€тьс€ по жребию;
2) метание жреби€, жеребьевка; ex. κλῆρον τιθέναι Eur. Ч решать в пор€дке жеребьевки;
3) доставшеес€ по жребию, удел, дол€, наследство, досто€ние;
4) удел, владение, земельна€ собственность; ex. κ. Ἰαόνιος (= Ἰόνιος) Aesch. Ч владени€ ион€н.
2. √овор€т, как-то пришлось выполн€ть об€занность жрицы омето (Κομαιθώ), девушке замечательной красоты. —лучилось так, что в нее влюбилс€ ћеланипп (Μελάνιππος), превосходивший своих сверстников красотою лица и другими качествами. огда он равным образом добилс€ любви девушки, ћеланипп стал сватать ее у ее отца. Ќо обычно старости свойственно противитьс€ многим желани€м юности, а также особенно оставатьс€ глухими к страдани€м их юной любви. “о же случилось тогда и с ћеланиппом: полный желань€ женитьс€ на желавшей того же омето, он встретил холодный отказ в этом и со стороны своих родителей и со стороны родителей омето.
“огда в печальном романе ћеланиппа подтвердилось то, что подтверждалось много раз и в других случа€х, а именно: что любви свойственно нарушать законы людские и попирать почтение к богам. “ак и тогда омето и ћеланипп насладились полностью в самом храме јфродиты своей страстной любовью. ќни собирались и в дальнейшем пользоватьс€ храмом все так же, как своим брачным чертогом, но внезапно гнев јртемиды обрушилс€ на людей: земл€ перестала приносить плоды, их поразили необычные болезни со смертными случа€ми, более частыми, чем прежде.
огда при этих бедстви€х они прибегли к помощи божественного откровени€ в ƒельфах, то ѕифи€ открыла преступление ћеланиппа и омето; и веление бога было Ч их самих принести в жертву јртемиде и затем каждый год приносить богине в жертву девушку и юношу, которые были самыми красивыми. »з-за этого жертвоприношени€ река у храма јртемиды “рикларии получила название јмелиха (Ἀμείλιχος, ЂЌемилостива€ї), а раньше у нее не было никакого названи€.
* * * ______________________________________________________________
 ’ерсонес, ‘раки€.
’ерсонес, ‘раки€.
ƒихалк (Æ 20mm, 7.01g), ок. 300-290 до н.э.
Av: јртемида закалывающа€ копьЄм олен€; ’≈–
Rv: изображение быка, приготовившегос€ к атаке, под ним палица √еракла, ниже горит; ΣΥΡΙΣΚΩN (им€ магистрата).
______________________________________________________________
 јнтонин ѕий (138-161). јнхиал, ‘раки€.
јнтонин ѕий (138-161). јнхиал, ‘раки€.
Æ 21mm (4.80g).
Av: бюст јнтонина ѕи€; AΔP ANTΩN™INOC C™B
Rv: јртемида с луком в руке; OYΛΠ AΓXIAΛ™ΩN
______________________________________________________________
 ћитридат VI ≈впатор (109-63 до н.э.). ѕантикапей.
ћитридат VI ≈впатор (109-63 до н.э.). ѕантикапей.
“етрахалк (Æ 23mm, 7.69g), ок. 80-75 до н.э.
Av: бюст јртемиды, за плечом горит, (надчекан: колос);
Rv: лежащий олень; ΠΑΝΤΙΚΑΠΑΙΤΩN
______________________________________________________________
 ћитридат VI ≈впатор (109-63 до н.э.). ‘анагори€.
ћитридат VI ≈впатор (109-63 до н.э.). ‘анагори€.
“етрахалк (Æ 21mm, 7.09g), ок. 109-100 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: лежащий олень; ΦΑΝΑΓΟΡΙΤΩΝ
______________________________________________________________
 оммод (177-192). “риполи, Ћиди€.
оммод (177-192). “риполи, Ћиди€.
Æ 34mm (23.37g).
Av: бюст оммода; AYT KAICA AYP KOMOΔOC
Rv: Ћето держит на плече јполлона, а в левой руке јртемиду, котора€ стрел€ет из лука; TPIѕOΛEITΩN
______________________________________________________________
 —иракузы, —ицили€.
—иракузы, —ицили€.
AR 23mm (10.17g), 214-212 до н.э.
Av: бюст јфины в коринфском шлеме;
Rv: стрел€юща€ из лука јртемида с собакой у ног; ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ
______________________________________________________________
 ‘ессали€ (Θεσσαλία), ‘ессалийска€ Ћига.
‘ессали€ (Θεσσαλία), ‘ессалийска€ Ћига.
√емистатер (AR 2.88g), ок. 45 до н.э.
ћагистраты Ќикократ, ‘илоксенид и ѕетрей (Nikokrates, Philoxenides, Petraios).
Av: голова јполлона в лавровом венке; NIKOKPATEYΣ
Rv: јртемида —ветоносна€ (Φωσφόρος) с двум€ факелами; ‘IΛOΞE / ΘΕΣΣΑΛΩΝ / ѕ≈[TPA]
______________________________________________________________
 лавдий (41-54). Ёфес, »они€.
лавдий (41-54). Ёфес, »они€.
AR 27mm (11.40g), ок. 41г.
Av: бюст лавди€; TI CLAVD CAES AVG
Rv: тетрастильный храм јртемиды (Ἀρταμίσιον) в Ёфесе с ее культовой статуей; DIAN EPHE
______________________________________________________________
 —абина јвгуста (128-137). Ёфес, »они€.
—абина јвгуста (128-137). Ёфес, »они€.
Æ 34mm (18.58g).
Av: бюст —абины в диадеме; C™BACTH CAB™INA
Rv: стату€ јртемиды Ёфесской, с обеих сторон олени; APT™MIC ™‘™CIA
______________________________________________________________
 лавдий (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, 41-54) и јгриппина (жена лавди€ с 49г.).
лавдий (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, 41-54) и јгриппина (жена лавди€ с 49г.).
“етрадрахма (AR 11.28g), ок. 50г. ¬ыпуск в честь получени€ јгриппиной титула јвгуста.
Av: лавдий и јгриппина; TI CLAVD CAES AVG AGRIPP AVGVSTA
Rv: стату€ јртемиды Ёфесской; DIANA EPHESIA
______________________________________________________________
 –егий, Ѕруттий (Ῥήγιον, Βρεττία).
–егий, Ѕруттий (Ῥήγιον, Βρεττία).
Æ 25mm (12.14g), 215-150 до н.э.
Av: головы јполлона в лавровом венке и јртемиды в диадеме;
Rv: треножник; PH√INΩN
______________________________________________________________
 ћагнеси€ (Μαγνησία, Μάγνητες), ‘ессали€.
ћагнеси€ (Μαγνησία, Μάγνητες), ‘ессали€.
ƒрахма (AR 4.31g), ок. 140-130 до н.э.
Av: голова «евса в дубовом венке;
Rv: јртемида сидит на проре, в левой руке держит лук, за плечом Ч колчан; [ΜΑ]ΓΝΗΤΩ[Ν]
______________________________________________________________
 аракалла (197-217). ѕатры, јхе€ (Πάτραι, Ἀχαΐα).
аракалла (197-217). ѕатры, јхе€ (Πάτραι, Ἀχαΐα).
ƒиассарий (Æ 23mm, 8.70g), ок. 215г.
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; M AVR ANTONINVS PIVS AVG GERM
Rv: јртемида опираетс€ на лук, слева собака; COL A A PATR
______________________________________________________________
 “ури€ (Θουρία), Ћукани€.
“ури€ (Θουρία), Ћукани€.
Æ 23mm (7.06g), ок. 280 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: јртемида —ветоносна€ (Φωσφόρος), в левой руке Ч два копь€, в правой Ч факел, за спиной Ч колчан, р€дом Ч собака; ΘOYPIΩN
______________________________________________________________
 аракалла (198-217). “абы (Tabae), ‘риги€. ћонетарий јртемидор (Artemidorus). ћедальон (Æ 37mm, 31.01g).
аракалла (198-217). “абы (Tabae), ‘риги€. ћонетарий јртемидор (Artemidorus). ћедальон (Æ 37mm, 31.01g).
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AYTOK KAI M AY ANTΩN™INOC
Rv: јртемида во фригийской шапке, с луком в левой руке, правую т€нет к колчану за спиной; напротив стоит лунный бог ћен во фригийской шапке, со скипетром в левой руке; APX APT™MIΔΩPOY / TABHNΩN
______________________________________________________________
 ‘иатира, Ћиди€. ѕсевдо-автономный чекан.
‘иатира, Ћиди€. ѕсевдо-автономный чекан.
Æ 25mm (6.69g), III в.
Av: персонификаци€ римского сената; I™ΡΑ —ΥΝ ΚΛΗΤќ— (ἱερά σύν κλητός, Ђ—в€щенный сенатї);
Rv: јртемида-—елена (Σελασφόρος, Ђфакелоносна€ї) в короткой тунике, с двум€ факелами; за спиной Ч серп луны; ΘYAT™IPHNΩN
______________________________________________________________
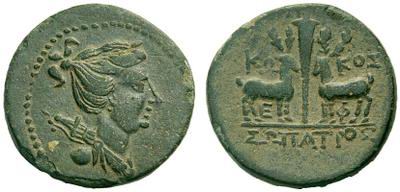 Ёфес (Ἔφεσος), »они€.
Ёфес (Ἔφεσος), »они€.
Æ 18mm (4.33g), ок. 48-27 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: факел јртемиды, слева и справа олени; [ΔHMHTPIOΣ] KΩKOΣ ΣΩΠΑΤΡΟΣ (магистрат) / EΦ
______________________________________________________________
 Ёфес (Ἔφεσος), »они€.
Ёфес (Ἔφεσος), »они€.
—татер (AV 8.57g), ок. 130 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: стату€ јртемиды Ёфесской, слева коринфский шлем; ≈‘ / Δ
______________________________________________________________
 раг (Κράγος), Ћига Ћикийска€.
раг (Κράγος), Ћига Ћикийска€.
ƒрахма (AR 1.09g), ок. 40г.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: колчан, слева пальмова€ ветвь; ΛY K–
______________________________________________________________
 ћассали€ (Μασσαλία), колони€ ионического торгового города ‘оке€.
ћассали€ (Μασσαλία), колони€ ионического торгового города ‘оке€.
ƒрахма (AR 15mm, 2.91g), ок. 130-121 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом горит;
Rv: лев, между передними лапами ‘; MAΣΣA
______________________________________________________________
 ѕерга (Πέργη), ѕамфили€.
ѕерга (Πέργη), ѕамфили€.
“етрадрахма (AR 28mm, 16.91g), 260-230 до н.э.
Av: бюст јртемиды в лавровом венке, за плечом колчан;
Rv: јртемида с лавровым венком в правой руке и копьЄм в левой, за плечом лук и колчан, р€дом олень; APTEMIΔOΣ ΠEPΓAIAΣ
______________________________________________________________
 јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 100 литр (EL 6.51g), ок. 304-289 до н.э.
јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 100 литр (EL 6.51g), ок. 304-289 до н.э.
Av: голова јртемиды перет€нута€ лентой, за спиной Ч колчан, левее Ч треножник; ΣΩTEIPA
Rv: голова јполлона в лавровом венке, правее Ч треножник; ΣYPAKOΣIΩN
______________________________________________________________
 Ёфес, »они€.
Ёфес, »они€.
ƒидрахма (AR 20mm, 6.57g), ок. 258-202 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: протома олен€, справа пчела; ΣΩΣIΣ ≈‘
______________________________________________________________
 јбидос (Ἄβυδος), √еллеспонт.
јбидос (Ἄβυδος), √еллеспонт.
“етрадрахма (AR 16.87g), ок. 80-70 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: орЄл с расправленными крыль€ми; справа ибела восседающа€ на троне с двум€ львами, в правой руке фиала, в левой тимпан (бубен); ΑΒΥΔΗΝΩΝ / ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ (магистрат јртемон).
______________________________________________________________
 јгафокл (317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€.
јгафокл (317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€.
Æ 23mm (8.42g).
Av: бюст јртемиды, за плечом колчан; ΣΩTEIPA
Rv: перун «евса; AΓAΘOKΛEOΣ BAΣIΛEΩΣ
______________________________________________________________
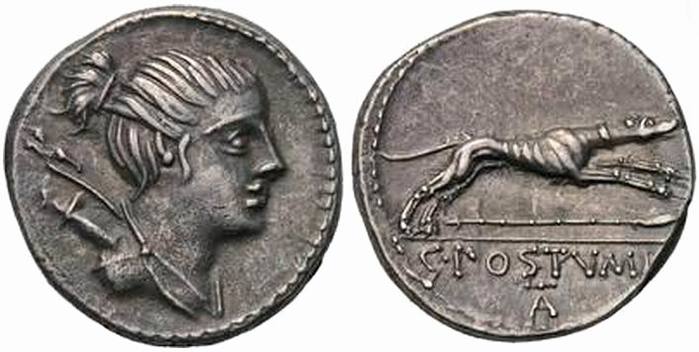 √ай ѕостумий (C. Postumius). –им.
√ай ѕостумий (C. Postumius). –им.
ƒенарий (AR 14mm, 3.80g), 74 до н.э.
Av: бюст јртемиды, за плечом лук и колчан;
Rv: бегуща€ собака; C POSTVMI / TA (monogram).
______________________________________________________________
 јмфиполис (Ἀμφίπολις), ћакедони€.
јмфиполис (Ἀμφίπολις), ћакедони€.
“етрадрахма (AR 31mm, 16.67g), ок. 167-149 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан. Aверс выполнен в виде македонского щита.
Rv: палица √еракла внутри дубового венка; ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ
______________________________________________________________
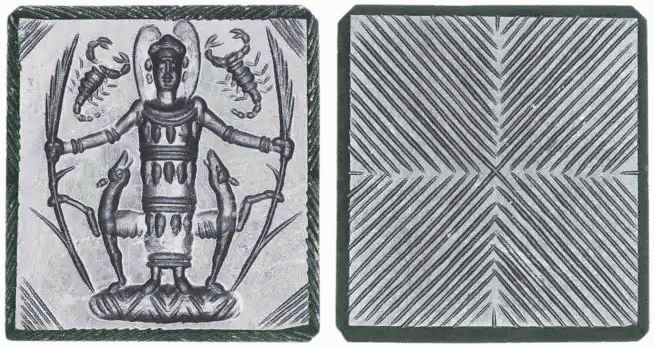 √емма-амулет (25x24x6mm), темно-зелЄна€ €шма.
√емма-амулет (25x24x6mm), темно-зелЄна€ €шма.
Ѕританский музей, Ћондон.
Av: јртемида Ёфесска€ с колось€ми в руках, две лани по бокам, выше Ч два скорпиона;
Rv: геометрический рисунок.
______________________________________________________________
 ‘ранци€. ѕам€тна€ медицинска€ медаль к 50-тилетию службы прусского военного врача »оганна јрнольда …озефа Ѕюттнера (Æ 47mm, 45.27g), 1835г. √равер √.‘. Ѕрандт.
‘ранци€. ѕам€тна€ медицинска€ медаль к 50-тилетию службы прусского военного врача »оганна јрнольда …озефа Ѕюттнера (Æ 47mm, 45.27g), 1835г. √равер √.‘. Ѕрандт.
Av: голова »оганна Ѕюттнера; I. AR. IOS. BUETTNER EQ. INTER SVPREMOS MED. MILIT. PRAEFECTOS SECVNDVS / MEDICI CASTRENSES BORVSS. D [сигнатура: BRANDT F.].
Rv: јсклепий сидит перед статуей јртемиды Ёфесской; IN MEMORIAM SOLLEMN. X LVSTR. OFF. EXACT / D. XV. OCTOB. / MDCCCXXXV
___________________________________________________________
ј–“≈ћ»ƒј, ƒ≈¬ј ќ’ќ“Ќ»÷ј
јртемида (греч. Ἄρτεμις, микенск. a-ti-mi-te), в древнегреческой мифологии Ч владычица зверей (πότνια θηρῶν), богин€ охоты (ἀγροτέρη), плодороди€, богин€ женского целомудри€, покровительница всего живого на «емле, дающа€ счастье в браке и помощь при родах.
јртемида была рождена от союза «евса и Ћето. √ера, жена «евса, пожелала смерти Ћето и послала зме€ ѕифона, чтобы тот преследовал Ћето по всему миру, и не дал родить ей там, где светит солнце. ёжный ветер подн€л Ћето на своих крыль€х и перенес на ќстров ќртиги€ (Ђѕерепелиный островї, древнее название острова ƒелос). ƒо рождени€ јполлона и јртемиды, остров вечно плавал по морю, пока «евс не повелел ѕосейдону закрепить его на месте, с тем чтобы на нем могла укрытьс€ и разрешитьс€ от бремени Ћето, котора€ и родила здесь, вблизи —в€щенного озера, близнецов јполлона
 и јртемиду. ѕоскольку јртемида была рождена на ќртигии, древние греки считали ее богиней этого места. ќтсюда эпитет богини: јртемида ќртиги€ (Ἄρτεμις Ὀρτυγία).
и јртемиду. ѕоскольку јртемида была рождена на ќртигии, древние греки считали ее богиней этого места. ќтсюда эпитет богини: јртемида ќртиги€ (Ἄρτεμις Ὀρτυγία).Ђƒевушки! ¬ лад восклицайте:
ѕеан! ѕеан!
√ромко, громко призывайте
јртемиду ќртигию,
јполлонову сестру,
„то в руках держа
по светочу,
ћчитс€ лесом за олен€ми,
» ее охотниц-нимф!
ѕеан! ѕеан!ї
(—офокл Ђ“рахин€нкиї; пер. —. Ўервинского)
Ёпитет ќртиги€ несколько созвучен с именем јртемиды. онечно, это может быть простой случайностью. ¬озможно то, что јртемида €вл€етс€ сестрой-близнецом јполлона, несет в себе этимологию ее имени (ἄρτιος, Ђпарныйї)? ¬прочем, и это может быть всего лишь совпадением (причем, что характерно, не последним).
—читаетс€, что значение имени јртемида Ч Ђдеваї (кем она и €вл€етс€).¹ —опровождающие ее нимфы также дают обет безбрачи€, те же, кто не соблюдает его Ч строго караютс€ (как, например, аллисто, нарушивша€ обет, и превращенна€ за это в медведицу).
___________________________
[1] Ἄρτεμις (-ῐδος) ἡ јртемида, дочь «евса и Ћето, сестра јполлона.
ἀρτεμής Ч здоровый, целый, невредимый Hom., Plat., Plut., Anth.
јртемида заботитс€ обо всем, что живет на земле и растет в лесу и в поле (ἀρτιθαλής Ч Ђнедавно расцветшийї, т.е. Ђсвежийї, Ђцветущийї). «аботитс€ она и о диких звер€х, и о стадах домашнего скота, и о люд€х. ќна вызывает рост трав, цветов и деревьев, она благословл€ет рождение (ἀρτίτοκος Ч Ђноворожденныйї), свадьбу и брак (ἄρθμιος Ч Ђсоюзї).
јртемида проводит врем€ в лесах и горах, охот€сь в окружении нимф Ч своих спутниц и тоже охотниц. ќна вооружена луком (один из ее часто употребл€емых эпитетов Ч ἰοχέαιρα, Ђстрелометательницаї),
 ее сопровождает свора собак. ¬ аттическом календаре в честь охотничьего празднества Ἐλαφηβόλια, посв€щенного јртемиде Ёлафеболии (Ђохотница на олен€ї), был назван дев€тый мес€ц года Ёлафеболион (Ἐλαφηβολιών, соответствующий 2-ой половине марта и 1-ой апрел€).
ее сопровождает свора собак. ¬ аттическом календаре в честь охотничьего празднества Ἐλαφηβόλια, посв€щенного јртемиде Ёлафеболии (Ђохотница на олен€ї), был назван дев€тый мес€ц года Ёлафеболион (Ἐλαφηβολιών, соответствующий 2-ой половине марта и 1-ой апрел€).¬ древнейшей своей ипостаси јртемида не только охотница (јгротера, Ἀγροτέρα), но и медведица. ¬ Ѕрауроне, у восточного побережь€ јттики, находилс€ храм јртемиды Ѕрауронии (Ἄρτεμις Βραυρωνία). — одной стороны, в этот храм посв€щались одежды умерших при родах женщин (это св€зано с функцией јртемиды как родовспомогательницы). Ќо с этим же храмом был св€зан странный обычай: афинские девочки в возрасте от п€ти до дес€ти лет посел€лись на некоторое врем€ в этом храме, назывались Ђмедведицамиї (ἄρκτοι), и во врем€ справл€вшегос€ раз в четыре года праздника Ѕрауроний осуществл€ли, одетые в выкрашенные шафраном одежды, церемонии в честь јртемиды. — этим обычаем сопоставл€ют аркадский миф о нимфе аллисто (Καλλιστώ, от καλλιστεύω Ч выдел€тьс€ или превосходить красотой, быть самым красивым), спутнице јртемиды, превращенной ею в медведицу, из-за того, что та нарушила обет целомудри€. ќднако здесь просматриваютс€ и следы древнего териоморфного, т.е. Ђзвериногої облика самой јртемиды. ѕо словам ѕавсани€ в јркадии был храм јртемиды с эпитетом аллисто (Καλλιστώ). “.е. нимфа аллисто Ч это, веро€тно, отделивша€с€ от јртемиды зверина€ ипостась ¬ладычицы в образе медведицы.
Ђ≈сли держатьс€ из “риколон пр€мого пути, идущего направо, то прежде всего крута€ дорога приведет к источнику, называемому руной ( лючи); спустившись же дальше стадий на 30 от рун, встретишь могилу аллисто. Ёто высока€ земл€на€ насыпь, на которой растет много дичков, но много и плодовых деревьев. Ќа вершине этого холма находитс€ храм јртемиды, именуемой аллистой (ѕрекраснейшей). ћне кажетс€, что [поэт] ѕанор, который первым в своих поэмах назвал этим именем јртемиду, заимствовал его у аркад€н.ї (ѕавсаний, ќписание Ёллады. јркади€, XXXV:7)
слову, образ медведицы мог возникнуть из-за созвучи€ имени јртемиды со словами ἄρκτος (Ђмедведицаї) и ἀρταμέω (Ђтерзатьї, Ђразрыватьї), ἀρθρόω (Ђрасчлен€тьї). ¬ дошедших до нас мифах јртемида никого не рвала на части, хот€ и славилась крутым нравом и мстительностью. ќднако в архаическом прошлом приношение кровавых жертв было в пор€дке вещей.
—озвучие со словом Ђхлебї (ἄρτος), суд€ по всему, повли€ло на функционал јртемиды, как богини плодороди€.
» в то же врем€, богин€ обладает решительным и агрессивным характером, часто пользуетс€ стрелами
 как орудием наказани€ и строго следит за исполнением издавна установленных обычаев, упор€дочивающих животный и растительный мир. ≈е карательна€ функци€, видимо, св€зана с другим созвучием: ὀρθῶς Ч Ђправильної, Ђистинної, Ђсправедливої.
как орудием наказани€ и строго следит за исполнением издавна установленных обычаев, упор€дочивающих животный и растительный мир. ≈е карательна€ функци€, видимо, св€зана с другим созвучием: ὀρθῶς Ч Ђправильної, Ђистинної, Ђсправедливої.јртемида Ч враг любого нарушени€ прав и устоев олимпийцев (ἀρτύνω Ч Ђприводить в пор€докї). Ѕлагодар€ ее хитрости погибли брать€-великаны јлоады, пытавшиес€ нарушить мировой пор€док. ƒерзкий и необузданный “итий был убит стрелами јртемиды и јполлона.
¬ героической мифологии јртемида √егемони€ (Ἄρτεμις Ἡγεμονία, ѕредводительница) Ч участница битвы с гигантами, в которой ей помогал √еракл. ¬ “ро€нской войне она вместе с јполлоном воюет на стороне тро€нцев. ѕодобна€ воинственность јртемиды (Ἄρτεμις) объ€снима сочетанием слов ἄρης (воинский дух) и θέμις (закон, правосудие, возмездие).
јртемида ќрти€ (Ὀρθία) была одной из самых важных и почитаемых богинь в —парте. Ѕожество это относилось доолимпийскому культу. ѕричем ранние вотивные надписи упоминают только ќртию. ѕавсаний, в своей книге Ђќписание Ёлладыї касаетс€ происхождени€ данного культа:
Ђ≈е же называют не только ќртией, но и Ћигодесмой (Λύγοδέσμα, —в€занна€ ивой), так как она была найдена в кусте ив, и ивовые ветки, охватившие ее кругом, поддерживали статую пр€мо (ὄρθιος, Ђпр€мойї)ї.
Ђ„то дерев€нна€ стату€ јртемиды ќртии (ѕр€мосто€щей) в Ћакедемоне привезена от варваров, свидетельством мне служит следующее: во-первых, нашедшие эту статую јстрабак и јлопек, дети »рба, сына јмфисфена, внука јмфикле€, правнука јгиса, тотчас сошли с ума; во-вторых, когда спартанцы-лимнаты, жители иносур, ћесои и ѕитаны, стали приносить ей жертву, они были доведены до ссоры, а затем и до взаимных убийств, и в то врем€, как многие умерли у самого алтар€, остальные погибли от болезни. ѕосле этого им было сообщено божье слово Ч орошать жертвенник человеческой кровью.
<Е>
ѕрежде приносили в жертву того, на которого указывал жребий, но Ћикург заменил это бичеванием эфебов, и алтарь стал таким образом орошатьс€ человеческой кровьюї.
ульт јртемиды был распространен повсеместно, но особенно славилс€ ее храм в Ёфесе в ћалой јзии,
 где почиталось изображение јртемиды Ђмногогрудойї (πολύμαστος), богини-покровительницы деторождени€.
где почиталось изображение јртемиды Ђмногогрудойї (πολύμαστος), богини-покровительницы деторождени€.Ќе исключено, что на многогрудость јртемиды повли€ло созвучие эпитета ѕр€ха (ἀλάκατος, Ђхалакатосї) со словом молочна€ (γάλακτος, Ђгалактосї), т.е. питающа€ молоком (γάλα). ¬ ƒревней √реции пр€хами (пр€дущими нить судьбы) были не только ћойры, эпитет χρυσηλάκατος (с золотым веретеном) носили и многие другие богини, например, у —офокла это ора (Κόρα), у ѕиндара Ч Ћето (Λατώ), у √омера Ч јртемида. Ѕогиней же изобретательницей пр€дени€, как такового, считалась јфина.
јртемида Ћохи€ (Λοχεία, –одовспомогательница) про€вл€ет себ€ в том, что она через свою помощницу »лифию (в прошлом свою ипостась) помогает роженицам, во врем€ т€желых родов (Callim. Hymn. III 20-25). —огласно греческой мифологии, только по€вившись на свет, она помогает матери прин€ть родившегос€ вслед за ней јполлона (Apollod. I 4).
ƒревнее представление об јртемиде св€зано с ее лунной природой, отсюда ее близость к другим лунным богин€м Ч —елене и √екате, а также римским лунным богин€м Ч ƒиане и, собственно, Ћуне (Luna). ¬прочем, —елена, в паре со своим солнечным братом √елиосом, €вл€етс€ откровенной параллелью к паре јртемида и јполлон. √еката Ч это отдельно выделивша€с€ хтоническа€ ипостась јртемиды. ¬ некоторых городах (јфины, Ёпидавр, остров ƒелос) к имени јртемида прибавл€ли эпитет √еката (Ἄρτεμις Ἑκάτα Ч јртемида, мечуща€ в цель). —обственно, эпитеты ἕκατος (далеко раз€щий), ἑκαταβόλος (далеко мечущий) Ч это эпитеты, мечущих стрелы, јполлона и јртемиды. ѕоэтому √екату (Ἑκάτη) так трудно идентифицировать на древних артефактах. ак и јртемиду, ее именуют ночной охотницей, у нее те же, что и у јртемиды, атрибуты (лук, стрелы, охотничьи собаки, олени). ≈е главным идентификатором считаетс€ факел, которым она освещает свой путь в подземном мире. Ќо ровно так же факел Ч это атрибут јртемиды, отсюда ее эпитет Φωσφόρος Ч Ђ—ветоносна€ї.
ѕолемизиру€ с √еродотом в форме пр€мого обращени€ к нему, ѕлутарх говорит:
Ђќбеща€ описывать историю ЁлладыЕ, про€вив пристрастие особо к јфинам, ты все же не рассказал и о процессии в јгры (Ἄγραι),² которую еще и теперь посылают к √екате, праздну€ благодарственные празднества в честь победыї.
________________________
[2] Ἄγραι (-αἱ) Plut. = Ἄγρα
Ἄγρα ἡ јгра (атт. дем со св€тилищем јртемиды-охотницы Ч Ἄρτεμις Ἀγραία) Plat., Plut.
√овор€ о торжественных процесси€х в јгры, ѕлутарх имеет в виду процессию к знаменитому св€тилищу јртемиды јграйи (Ἀγραία). Ќо јртемиду здесь он именует эпитетом Ђ√екатаї.
“ак же и ћакробий не видит разницы между √екатой и ƒианой:
Ђƒиане же как “рехдорожной [богине]³ они (фюсики)⁴ предоставл€ют владение всеми дорогамиї. (Ђ—атурналииї ћакробий)
________________________
[3] τριοδῖτις (-ῐδος) adj. f трехдорожна€, т.е. чтима€ на перекрестках (эпитет √екаты) Plut.; ex. ἁ θεὸς ἐν τριόδοισι Theocr. = Ἑκάτη;
Ἐνοδία ἡ Ёноди€, Ђѕридорожна€ї (эпитет √екаты) Eur., Luc.
[4] φυσικός ὁ естествоиспытатель, естествовед; ex. οἱ φυσικοί Arst., Plut. Ђфизикиї (философы ионической и отчасти элейской школы).
орнут эпитетами √екат и √еката напр€мую называет, соответственно, јполлона и јртемиду:
ЂЌекоторые рассуждают об этимологии √еката (Ἕκατος) и √екаты (Ἑκάτη) иначе, полага€, что те, кто наложил на них эти имена, мол€тс€ им, чтобы [эти божества] были вдали от них и чтобы к ним [мол€щимс€] не приближалс€ вред, исход€щий от јполлона и јртемиды. ¬едь последние, оказываетс€, иногда вред€т воздуху и станов€тс€ причиной чумных заболеваний. ѕоэтому прежние люди относили к ним и внезапную смертьї.
( орнут Ћуций јнней. √реческое богословие 32.)
ј–“≈ћ»ƒј ќ’ќ“Ќ»÷ј
Ёпитет јртемиды Ч Ἀγραία Ч имеет весьма двусмысленный характер. ≈стественно главное значение эпитета јграй€ Ч Ђјгрска€ї, по названию города јгра. ’от€ неизвестно, что здесь первично, возможно, название св€тилища в честь јртемиды охотницы (ἀγρεύς) было распространено на город. ƒругое интересное созвучие Ч ἄγριος (дикий, свирепый) Ч навевает ассоциации с архаическим образом јртемиды, в образе медведицы, в Ѕрауроне.
ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth.
ἄγριος
1) дикий;
2) жестокий, свирепый, лютый, злой;
3) неукротимый, необузданный, грубый;
4) мучительный, т€желый;
5) бурный, ужасный.
”пом€нутый выше эпитет јгротера (Ἀγροτέρα, Ђохотницаї), этимологически, видимо, св€зан с другим схожим словом (в плане словообразовани€) Ч θηραγρέτης Ч с тем же значением. ¬ свою очередь, этимологи€ слова θηραγρέτης тоже весьма любопытна.
θηραγρέτης (θηρ-αγρέτης) -ου ὁ зверолов, охотник Eur., Anth.
θήρ, θηρός ὁ (в прозе преимущ. θηρίον)
1) хищный зверь; ex. ὁ Νέμειος θ. Eur. Ч Ќемейский зверь (лев); Ἐρυμάνθιος θ. Soph. Ч Ёримантский зверь (вепрь);
2) (тж. ἐπὴ χέρσου θήρ Hom.) наземное животное;
3) животное (вообще);
4) чудовище; ex. (ὁ θ. Κένταυρος Soph.); ἀμαίμακος θήρ Soph. Ч неукротимое чудовище (т.е. Κέρβερος);
5) перен. человек; ex. θῆρες ξιφήρεις Eur. Ч вооруженные мечами люди (т.е. Ὀρέστης καὴ Πυλάδης)
θήρα, ион. θήρη ἡ
1) охота, звероловство; ex. ζῆν ἀπὸ θήρας Arst. Ч жить охотой; αἱ τῶν ἰχθύων θῆραι Arst. Ч рыболовство;
2) преследование, погон€;
3) добыча, улов;
4) дичь;
5) ловушка, западн€;
θηρατής (-οῦ) ὁ досл. охотник, перен. ловец; ex. (λόγων Arph.; δόξης Diog.L.)
ἀγρευτής = ἀγρεύς
ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth.
“.е. θηραγρέτης, надо полагать, это производное от ἀγρευτής (охотник). ѕерва€ часть слова (θηρ-) уточн€ет, что это охотник на диких зверей. “огда эпитет јртемиды Ч јгротера (Ἀγροτέρα, Ђохотницаї) Ч это, видимо, производное от θηρατής (Ђохотницаї), а перва€ половина слова (ἀγρο-, от ἄγριος, Ђдикийї) Ч это аналогичное уточнение Ч на кого именно она охотница Ч на диких зверей.
Ќесмотр€ на однозначную этимологию эпитета јгротера, јртемида ќхотница почиталась и как покровительница рыбной ловле. ¬ одной из эпиграмм јполлонида, јртемида имеет пр€мое отношение к рыболовству:
Ђ“риглу [trigla, рыба Ђморской петухї] с раскаленного угл€ и фикиду [fikida, морска€ рыба] тебе, хранительница вод, јртемида, приношу в дар €, ћенис-рыболов, Ч и вино, налив до краев и раскрошив сухой кусок хлеба, Ч приношение бедн€ка, за которое ты давай мне всегда полные сети улова; в твоих руках все сети, блаженна€.ї (Apollonides. Anthologia Palatina, VI, 105).
¬ комментарии к стиху 39 гимна к јртемиде аллимаха еще Ўпанхейм говорил о ней как о богине, покровительнице рыболовства, ссыла€сь на ѕлутарха. » в самом деле, мы находим у ѕлутарха такое упоминание јгротеры:
ЕЂнаш сверстник ќптат почтил јгротеру многими лучшими част€ми и морского и лесного улова, а также богиню ƒинтиннуїЕ (Plut., De sollert. animal., 965 C-D.).
Ќаконец, из плиты, найденной на “аманском полуострове, мы узнаем, что Ђ сеномид, сын ѕоси€, посв€тил храм јртемиде јгротере при ѕерисаде, сыне Ћевкона, архонте Ѕоспора и ‘еодосии и царе синдов, торетов и дандариевї. —таница јхтанизовска€, где была найдена эта плита, расположена на самом берегу мор€, и вполне веро€тно, что тамошние греки и местное население, более или менее эллинизированное, занимавшеес€ здесь рыболовством, почитало јгротеру как покровительницу рыбной ловли.
≈стественно, материал ѕричерноморь€ меньше всего подходит дл€ раскрыти€ природы греческих культов. ќднако хорошо известно, что дл€ јфин V-IV веков до н.э. рыболовство представл€ло собой один из основных источников пропитани€, в отличие от охоты, котора€ была лишь видом развлечени€ афинской аристократии.
ј–“≈ћ»ƒј Ћј‘–»я
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јхай€.)
XVIII.6. ” жителей ѕатр (Πάτραι) на јкрополе есть св€тилище јртемиды Ћафрии (Λαφρία). Ёто им€ богини иноземное, да и сама€ стату€ привезена из другого места. огда император јвгуст сн€л население алидона и всей остальной Ётолии, чтобы весь этот этолийский народ тоже объединить в одном городе, в Ќикополе, выстроенном немного севернее јкциума, тогда-то и жители ѕатр получили себе эту статую јртемиды Ћафрии.
–авным образом из тех статуй, которые были вз€ты из Ётолии и у акарнанцев, большинство их было доставлено в Ќикополь, а жител€м ѕатр јвгуст подарил в числе всего другого из калидонской добычи также и статую јртемиды Ћафрии, которой еще и в мое врем€ поклон€ютс€ на јкрополе ѕатр.
√овор€т, что это наименование Ћафри€ дано богине по имени одного фокидского гражданина; что Ћафрий, сын астали€, внук ƒельфа, создал эту древнюю статую јртемиды; другие же утверждают, что гнев јртемиды (»лиада, IX, 533 сл.), вызванный Ёнеем (Οἰνεύς), с течением времени по отношению к калидон€нам сделалс€ м€гче (ἐλαφρότερον), и в этом хот€т видеть причину наименовани€ богини Ћафрией. Ѕогин€ на статуе изображена в виде охотницы и сделана из слоновой кости и золота, работы навпактийцев ћенехма и —оида. ѕредполагают, что они жили немного позднее анаха из —икиона и аллона из Ёгины.
7. ∆ители ѕатр каждый год совершают в честь јртемиды празднества, называемые Ћафрии (Λάφρια), во врем€ которых они принос€т жертвы по местному обычаю. ругом у алтар€ они вбивают коль€ еще зеленые, каждый в 16 локтей длиной, а в середину на жертвенник они наваливают самых сухих дров. ѕри наступлении праздника они делают и подход к жертвеннику совершенно ровным, завалива€ землей ступени жертвенника.
ѕраздник открываетс€ блест€щей и великолепной процессией в честь јртемиды; ее жрица, девушка, едет в конце процессии на колеснице, запр€женной лан€ми. ∆ертвоприношение же у них установлено совершать во врем€ этого праздника только на следующий день, причем и частные лица не меньше, чем государство, прилагают все усили€ к тому, чтобы праздник был пышным и торжественным.
Ѕросают на жертвенник живых птиц из тех, которые употребл€ют в пищу, и вс€ких других жертвенных животных, кроме того, диких свиней, оленей и косуль; другие принос€т волчат и медвежат, а иные и взрослых животных. Ќа алтарь кладут также плоды культивированных фруктовых деревьев. ѕосле этого поджигают дрова. я видел здесь, как медведи и другие животные, лишь только огонь начинал охватывать дрова, бросались за загородку, и некоторым удавалось силою прорватьс€; но те, которые их привели сюда, вновь заставл€ют их вернутьс€ на костер. » никто не помнит, чтобы какой-либо зверь тронул хоть одного из присутствующих.
ј–“≈ћ»ƒј “–» Ћј–»я
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јхай€.)
XIX.1. <Е> огда ионийцы засел€ли јрою, јнтею и ћесатис, у них был общий храм и св€щенный участок јртемиды, именуемой “рикларией (Τρικλαρία).⁵ » каждый год ионийцы устраивали в честь нее праздник и ночное бдение. ƒолжность жрицы при богине несла девушка до тех пор, пока она не знала мужа.
___________________________
[5] Ёпитет јртемиды Ч Τρικλαρία (Τρικληρία) Ч производное от τρεῖς κλῆρος (Ђтри землиї) Ч Ђтрехземельна€ї.
τρι- в сложн. словах = τρεῖς;
τρεῖς, -οἱ, -αἱ, τρία τά (gen. τριῶν, dat. τρισί) три, трое; ex. τρία ἔπεα Pind. Ч три слова, т.е. сказанное в добрый час (три считалось счастливым числом);
κλῆρος, дор. κλᾶρος ὁ
1) тж. pl. жребий; ex. ἐν или ἐπὴ κλήρους ἐβάλοντο Hom. Ч они бросили жребии; ἀπὸ κλήρων γίγνεσθαι Plat. Ч распредел€тьс€ по жребию;
2) метание жреби€, жеребьевка; ex. κλῆρον τιθέναι Eur. Ч решать в пор€дке жеребьевки;
3) доставшеес€ по жребию, удел, дол€, наследство, досто€ние;
4) удел, владение, земельна€ собственность; ex. κ. Ἰαόνιος (= Ἰόνιος) Aesch. Ч владени€ ион€н.
2. √овор€т, как-то пришлось выполн€ть об€занность жрицы омето (Κομαιθώ), девушке замечательной красоты. —лучилось так, что в нее влюбилс€ ћеланипп (Μελάνιππος), превосходивший своих сверстников красотою лица и другими качествами. огда он равным образом добилс€ любви девушки, ћеланипп стал сватать ее у ее отца. Ќо обычно старости свойственно противитьс€ многим желани€м юности, а также особенно оставатьс€ глухими к страдани€м их юной любви. “о же случилось тогда и с ћеланиппом: полный желань€ женитьс€ на желавшей того же омето, он встретил холодный отказ в этом и со стороны своих родителей и со стороны родителей омето.
“огда в печальном романе ћеланиппа подтвердилось то, что подтверждалось много раз и в других случа€х, а именно: что любви свойственно нарушать законы людские и попирать почтение к богам. “ак и тогда омето и ћеланипп насладились полностью в самом храме јфродиты своей страстной любовью. ќни собирались и в дальнейшем пользоватьс€ храмом все так же, как своим брачным чертогом, но внезапно гнев јртемиды обрушилс€ на людей: земл€ перестала приносить плоды, их поразили необычные болезни со смертными случа€ми, более частыми, чем прежде.
огда при этих бедстви€х они прибегли к помощи божественного откровени€ в ƒельфах, то ѕифи€ открыла преступление ћеланиппа и омето; и веление бога было Ч их самих принести в жертву јртемиде и затем каждый год приносить богине в жертву девушку и юношу, которые были самыми красивыми. »з-за этого жертвоприношени€ река у храма јртемиды “рикларии получила название јмелиха (Ἀμείλιχος, ЂЌемилостива€ї), а раньше у нее не было никакого названи€.
 ’ерсонес, ‘раки€.
’ерсонес, ‘раки€. ƒихалк (Æ 20mm, 7.01g), ок. 300-290 до н.э.
Av: јртемида закалывающа€ копьЄм олен€; ’≈–
Rv: изображение быка, приготовившегос€ к атаке, под ним палица √еракла, ниже горит; ΣΥΡΙΣΚΩN (им€ магистрата).
______________________________________________________________
 јнтонин ѕий (138-161). јнхиал, ‘раки€.
јнтонин ѕий (138-161). јнхиал, ‘раки€. Æ 21mm (4.80g).
Av: бюст јнтонина ѕи€; AΔP ANTΩN™INOC C™B
Rv: јртемида с луком в руке; OYΛΠ AΓXIAΛ™ΩN
______________________________________________________________
 ћитридат VI ≈впатор (109-63 до н.э.). ѕантикапей.
ћитридат VI ≈впатор (109-63 до н.э.). ѕантикапей.“етрахалк (Æ 23mm, 7.69g), ок. 80-75 до н.э.
Av: бюст јртемиды, за плечом горит, (надчекан: колос);
Rv: лежащий олень; ΠΑΝΤΙΚΑΠΑΙΤΩN
______________________________________________________________
 ћитридат VI ≈впатор (109-63 до н.э.). ‘анагори€.
ћитридат VI ≈впатор (109-63 до н.э.). ‘анагори€.“етрахалк (Æ 21mm, 7.09g), ок. 109-100 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: лежащий олень; ΦΑΝΑΓΟΡΙΤΩΝ
______________________________________________________________
 оммод (177-192). “риполи, Ћиди€.
оммод (177-192). “риполи, Ћиди€. Æ 34mm (23.37g).
Av: бюст оммода; AYT KAICA AYP KOMOΔOC
Rv: Ћето держит на плече јполлона, а в левой руке јртемиду, котора€ стрел€ет из лука; TPIѕOΛEITΩN
______________________________________________________________
 —иракузы, —ицили€.
—иракузы, —ицили€. AR 23mm (10.17g), 214-212 до н.э.
Av: бюст јфины в коринфском шлеме;
Rv: стрел€юща€ из лука јртемида с собакой у ног; ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ
______________________________________________________________
 ‘ессали€ (Θεσσαλία), ‘ессалийска€ Ћига.
‘ессали€ (Θεσσαλία), ‘ессалийска€ Ћига.√емистатер (AR 2.88g), ок. 45 до н.э.
ћагистраты Ќикократ, ‘илоксенид и ѕетрей (Nikokrates, Philoxenides, Petraios).
Av: голова јполлона в лавровом венке; NIKOKPATEYΣ
Rv: јртемида —ветоносна€ (Φωσφόρος) с двум€ факелами; ‘IΛOΞE / ΘΕΣΣΑΛΩΝ / ѕ≈[TPA]
______________________________________________________________
 лавдий (41-54). Ёфес, »они€.
лавдий (41-54). Ёфес, »они€.AR 27mm (11.40g), ок. 41г.
Av: бюст лавди€; TI CLAVD CAES AVG
Rv: тетрастильный храм јртемиды (Ἀρταμίσιον) в Ёфесе с ее культовой статуей; DIAN EPHE
______________________________________________________________
 —абина јвгуста (128-137). Ёфес, »они€.
—абина јвгуста (128-137). Ёфес, »они€. Æ 34mm (18.58g).
Av: бюст —абины в диадеме; C™BACTH CAB™INA
Rv: стату€ јртемиды Ёфесской, с обеих сторон олени; APT™MIC ™‘™CIA
______________________________________________________________
 лавдий (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, 41-54) и јгриппина (жена лавди€ с 49г.).
лавдий (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, 41-54) и јгриппина (жена лавди€ с 49г.).“етрадрахма (AR 11.28g), ок. 50г. ¬ыпуск в честь получени€ јгриппиной титула јвгуста.
Av: лавдий и јгриппина; TI CLAVD CAES AVG AGRIPP AVGVSTA
Rv: стату€ јртемиды Ёфесской; DIANA EPHESIA
______________________________________________________________
 –егий, Ѕруттий (Ῥήγιον, Βρεττία).
–егий, Ѕруттий (Ῥήγιον, Βρεττία). Æ 25mm (12.14g), 215-150 до н.э.
Av: головы јполлона в лавровом венке и јртемиды в диадеме;
Rv: треножник; PH√INΩN
______________________________________________________________
 ћагнеси€ (Μαγνησία, Μάγνητες), ‘ессали€.
ћагнеси€ (Μαγνησία, Μάγνητες), ‘ессали€.ƒрахма (AR 4.31g), ок. 140-130 до н.э.
Av: голова «евса в дубовом венке;
Rv: јртемида сидит на проре, в левой руке держит лук, за плечом Ч колчан; [ΜΑ]ΓΝΗΤΩ[Ν]
______________________________________________________________
 аракалла (197-217). ѕатры, јхе€ (Πάτραι, Ἀχαΐα).
аракалла (197-217). ѕатры, јхе€ (Πάτραι, Ἀχαΐα).ƒиассарий (Æ 23mm, 8.70g), ок. 215г.
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; M AVR ANTONINVS PIVS AVG GERM
Rv: јртемида опираетс€ на лук, слева собака; COL A A PATR
______________________________________________________________
 “ури€ (Θουρία), Ћукани€.
“ури€ (Θουρία), Ћукани€.Æ 23mm (7.06g), ок. 280 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: јртемида —ветоносна€ (Φωσφόρος), в левой руке Ч два копь€, в правой Ч факел, за спиной Ч колчан, р€дом Ч собака; ΘOYPIΩN
______________________________________________________________
 аракалла (198-217). “абы (Tabae), ‘риги€. ћонетарий јртемидор (Artemidorus). ћедальон (Æ 37mm, 31.01g).
аракалла (198-217). “абы (Tabae), ‘риги€. ћонетарий јртемидор (Artemidorus). ћедальон (Æ 37mm, 31.01g). Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AYTOK KAI M AY ANTΩN™INOC
Rv: јртемида во фригийской шапке, с луком в левой руке, правую т€нет к колчану за спиной; напротив стоит лунный бог ћен во фригийской шапке, со скипетром в левой руке; APX APT™MIΔΩPOY / TABHNΩN
______________________________________________________________
 ‘иатира, Ћиди€. ѕсевдо-автономный чекан.
‘иатира, Ћиди€. ѕсевдо-автономный чекан.Æ 25mm (6.69g), III в.
Av: персонификаци€ римского сената; I™ΡΑ —ΥΝ ΚΛΗΤќ— (ἱερά σύν κλητός, Ђ—в€щенный сенатї);
Rv: јртемида-—елена (Σελασφόρος, Ђфакелоносна€ї) в короткой тунике, с двум€ факелами; за спиной Ч серп луны; ΘYAT™IPHNΩN
______________________________________________________________
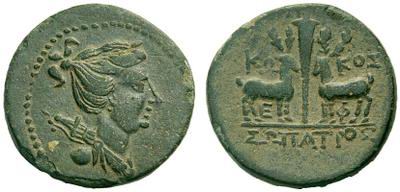 Ёфес (Ἔφεσος), »они€.
Ёфес (Ἔφεσος), »они€. Æ 18mm (4.33g), ок. 48-27 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: факел јртемиды, слева и справа олени; [ΔHMHTPIOΣ] KΩKOΣ ΣΩΠΑΤΡΟΣ (магистрат) / EΦ
______________________________________________________________
 Ёфес (Ἔφεσος), »они€.
Ёфес (Ἔφεσος), »они€. —татер (AV 8.57g), ок. 130 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: стату€ јртемиды Ёфесской, слева коринфский шлем; ≈‘ / Δ
______________________________________________________________
 раг (Κράγος), Ћига Ћикийска€.
раг (Κράγος), Ћига Ћикийска€. ƒрахма (AR 1.09g), ок. 40г.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: колчан, слева пальмова€ ветвь; ΛY K–
______________________________________________________________
 ћассали€ (Μασσαλία), колони€ ионического торгового города ‘оке€.
ћассали€ (Μασσαλία), колони€ ионического торгового города ‘оке€.ƒрахма (AR 15mm, 2.91g), ок. 130-121 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом горит;
Rv: лев, между передними лапами ‘; MAΣΣA
______________________________________________________________
 ѕерга (Πέργη), ѕамфили€.
ѕерга (Πέργη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 28mm, 16.91g), 260-230 до н.э.
Av: бюст јртемиды в лавровом венке, за плечом колчан;
Rv: јртемида с лавровым венком в правой руке и копьЄм в левой, за плечом лук и колчан, р€дом олень; APTEMIΔOΣ ΠEPΓAIAΣ
______________________________________________________________
 јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 100 литр (EL 6.51g), ок. 304-289 до н.э.
јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 100 литр (EL 6.51g), ок. 304-289 до н.э.Av: голова јртемиды перет€нута€ лентой, за спиной Ч колчан, левее Ч треножник; ΣΩTEIPA
Rv: голова јполлона в лавровом венке, правее Ч треножник; ΣYPAKOΣIΩN
______________________________________________________________
 Ёфес, »они€.
Ёфес, »они€. ƒидрахма (AR 20mm, 6.57g), ок. 258-202 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: протома олен€, справа пчела; ΣΩΣIΣ ≈‘
______________________________________________________________
 јбидос (Ἄβυδος), √еллеспонт.
јбидос (Ἄβυδος), √еллеспонт. “етрадрахма (AR 16.87g), ок. 80-70 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан;
Rv: орЄл с расправленными крыль€ми; справа ибела восседающа€ на троне с двум€ львами, в правой руке фиала, в левой тимпан (бубен); ΑΒΥΔΗΝΩΝ / ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ (магистрат јртемон).
______________________________________________________________
 јгафокл (317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€.
јгафокл (317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€.Æ 23mm (8.42g).
Av: бюст јртемиды, за плечом колчан; ΣΩTEIPA
Rv: перун «евса; AΓAΘOKΛEOΣ BAΣIΛEΩΣ
______________________________________________________________
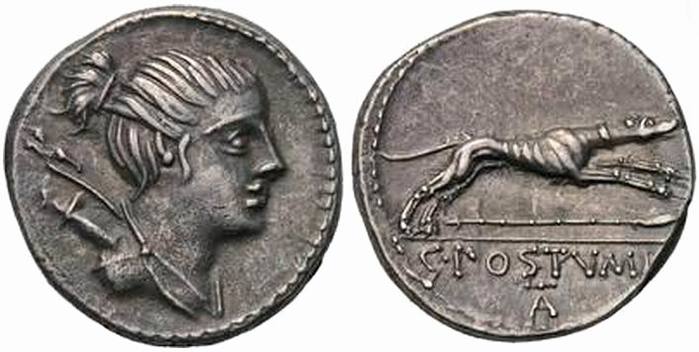 √ай ѕостумий (C. Postumius). –им.
√ай ѕостумий (C. Postumius). –им.ƒенарий (AR 14mm, 3.80g), 74 до н.э.
Av: бюст јртемиды, за плечом лук и колчан;
Rv: бегуща€ собака; C POSTVMI / TA (monogram).
______________________________________________________________
 јмфиполис (Ἀμφίπολις), ћакедони€.
јмфиполис (Ἀμφίπολις), ћакедони€.“етрадрахма (AR 31mm, 16.67g), ок. 167-149 до н.э.
Av: бюст јртемиды в диадеме, за плечом колчан. Aверс выполнен в виде македонского щита.
Rv: палица √еракла внутри дубового венка; ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ
______________________________________________________________
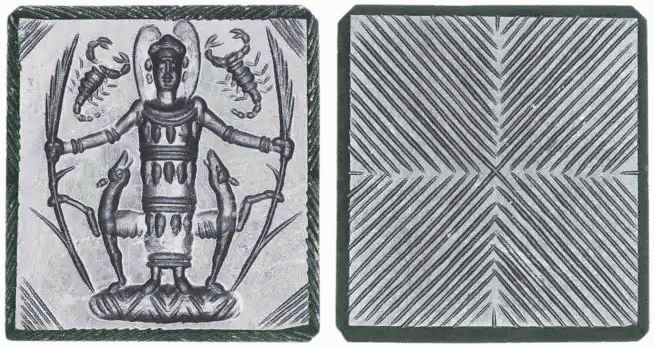 √емма-амулет (25x24x6mm), темно-зелЄна€ €шма.
√емма-амулет (25x24x6mm), темно-зелЄна€ €шма.Ѕританский музей, Ћондон.
Av: јртемида Ёфесска€ с колось€ми в руках, две лани по бокам, выше Ч два скорпиона;
Rv: геометрический рисунок.
______________________________________________________________
 ‘ранци€. ѕам€тна€ медицинска€ медаль к 50-тилетию службы прусского военного врача »оганна јрнольда …озефа Ѕюттнера (Æ 47mm, 45.27g), 1835г. √равер √.‘. Ѕрандт.
‘ранци€. ѕам€тна€ медицинска€ медаль к 50-тилетию службы прусского военного врача »оганна јрнольда …озефа Ѕюттнера (Æ 47mm, 45.27g), 1835г. √равер √.‘. Ѕрандт.Av: голова »оганна Ѕюттнера; I. AR. IOS. BUETTNER EQ. INTER SVPREMOS MED. MILIT. PRAEFECTOS SECVNDVS / MEDICI CASTRENSES BORVSS. D [сигнатура: BRANDT F.].
Rv: јсклепий сидит перед статуей јртемиды Ёфесской; IN MEMORIAM SOLLEMN. X LVSTR. OFF. EXACT / D. XV. OCTOB. / MDCCCXXXV
___________________________________________________________
|
ћетки: јртемида √еката √реци€ Ётимологи€ Ќумизматика |
Ќ» ј, Ѕќ√»Ќя ѕќЅ≈ƒџ |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
Ѕќ√»Ќя ѕќЅ≈ƒџ
Ќика (Νίκη, дор. Νίκα) Ч богин€ победы,¹ дочь титана ѕалланта (Πάλλαντος) и океаниды —тикс (Στύξ), нимфы одноименной реки. —оюзница «евса в его борьбе с титанами и гигантами; она же нередко сопровождает воинственную јфину ѕалладу.
_______________________
[1] νῖκος (-εος) τό NT. = νίκη
νίκη, дор. νίκα ἡ победа (μάχης Hom.; πολέμου и ἐν τῷ πολέμῳ Plat.);
ex.: νίκη ἀντιπάλων Arph. Ч победа над противниками.
ак символ успешного результата, счастливого исхода, Ќика участвует во всех военных предпри€ти€х, в гимнастических (γυμναστικός) и музыкальных (μουσικός) сост€зани€х, во всех религиозных торжествах, совершаемых по случаю успеха. »зображаетс€ крылатой, чаще лет€щей или бегущей; атрибуты ее Ч тени€ (ταινία, св€щенна€ пов€зка) и лавровый венок, позднее также пальмова€ ветвь, оружие и трофей.
” скульпторов Ќика или совершает возли€ни€ из патеры перед алтарем, или €вл€етс€ вестницей победы, с атрибутом √ермеса Ч кадуцеем. „асто изображаетс€ пар€щей, увенчива€ лавровым венком голову победител€, либо управл€ющей колесницей, либо складывающей из непри€тельского оружи€ трофей, например, на балюстраде храма јфины Ќики (Νίκη Αθάνα Πολιάς) в јфинах. „асто «евс ќлимпийский и јфина ѕарфенос изображались со статуэткой Ќики в руках, отчего и тот и друга€ нос€т эпитет Ђпобедоносныйї (νικηφόρος).


1. √иерон II (тиран —иракуз 270-215 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 5 литр (AR 17mm, 4.51g), ок. 218-214 до н.э. Av: голова ‘илистис, жены √иерона II, в диадеме, голова покрыта пеплосом. Rv: крылата€ Ќика правит бигой; BAΣIΛIΣΣA ΦIΛIΣTIΔOΣ
2. —елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). —арды, государство —елевкидов. “етрадрахма (AR 26mm, 17.05g), 282/1 до н.э. Av: голова √еракла в львиной шкуре; Rv: «евс Ќикефор (Νικήφορος) на троне со скипетром в левой руке, в правой руке держит крылатую Ќику; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY


3. Ћисимах (305-281). јмфиполис, ‘ракийское царство. “етрадрахма (AR 30mm, 17.15g), ок. 288-281 до н.э. Av: голова јлександра III в диадеме с рогами јмона. Rv: јфина на троне, в корифском шлеме, с копьем, опираетс€ на щит с изображением льва, в правой руке Ч крылата€ Ќика, держаща€ лавровый венок над именем Ћисимаха; ниже Ч кадуцей; BAΣIΛEΩΣ ΛYΣIMAXOY
4. ѕанорм (Πάνορμος), —ицили€. “етрадрахма (AR 27mm, 17.13g), ок. 405-380 до н.э. Av: голова нимфы јретусы в диадеме, вокруг головы Ч три дельфина; Rv: —елена правит квадригой, лет€ща€ Ќика венчает еЄ голову лавровым венком; в обрезе Ч гиппокамп, р€дом финикийское название ѕанорма Ч Sуs.
ј‘»Ќј-Ќ» ј
’рамы, сохранившиес€ на јкрополе јфин, построены в середине V в. до н.э. ќдержав окончательную победу над персами, греческие города-государства объединились в јфинский морской союз, главную роль в котором играли јфины. —оюзом была учреждена казна, часть денег которой пошло на восстановление јкропол€, разрушенного персами. ÷ентральное место в композиции нового комплекса занимал храм ƒевы јфины Ч ѕарфенон. ѕройти к нему можно было через ѕропилеи, представл€вшие собой широкую мраморную лестницу, завершающуюс€ крытой колоннадой в классическом стиле.
’рам јфины Ќики был заложен дес€ть лет спуст€ после окончани€ строительства ѕарфенона. Ёто небольшой храм, с правой стороны от ворот, выполненный в амфипростиле с ионическими колоннами по четыре в каждом портике. ¬нутри находилась стату€ јфины, котора€ держала в левой руке шлем, а в правой гранат Ч символы защиты и плодороди€. ‘риз и фронтоны храма украшали скульптурные сюжеты на тему греко-персидских войн. ¬ передней части храма находилс€ алтарь. ¬о врем€ праздника ѕанафиней (Παναθήναια), посв€щенного богине, сюда поднималась торжественна€ процесси€, и совершались жертвоприношени€.
¬ римскую эпоху, с легкой руки ѕавсани€, храм јфины Ќики получил другое название Ч Ναός της Απτέρου Νίκης Ч ’рам Ќики бескрылой. ≈динственный труд ѕавсани€ Ч Ђќписание Ёлладыї Ч €вл€етс€ по сути античным путеводителем по древней √реции и описывает дорожные впечатлени€ автора. Ќа јкрополе в то врем€ сто€ли три статуи јфины работы ‘иди€: јфина ѕарфенос (Παρθένος), јфина ѕромахос (Πρόμαχος), а также јфина Ћемни€ (Λήμνια),² находивша€с€ неподалеку от ѕропилей, изображенна€ в необычной позе с непокрытой головой. —тату€ јфины без шлема находилась и внутри храма јфины Ќики. ¬идимо, отсутствие шлема на голове јфины (что, изначально, символизировало завершение войны с персами), а также ее эпитет Ќика Ч послужило отправной точкой к сочинению истории о бескрылой богине победы Ќике, которую горожане лишили крыльев, дабы она никогда не покидала јфины.
_______________________
[2] παρθένος ἡ 1) дева, девушка Hom., Xen., Trag. etc. 2) девственный, непорочный, чистый (ψυχή Eur.; πηγή Aesch.).
πρόμαχος (πρό-μᾰχος) 1) сражающийс€ впереди; 2) сражающийс€ в защиту (π. πόλεως Aesch. Ч сражающийс€ за [родной] город).
Λήμνια (= Λήμνιος) ὁ лемносска€, т.е. с острова Ћемнос (Λῆμνος ἡ вулканический остров в сев. части Ёгейского мор€, считавшийс€ главным местопребыванием √ефеста) Hom., Pind. etc.
¬» “ќ–»я
¬иктори€ (лат. Victoria) Ч в римской мифологии богин€ победы и олицетворение победы. »звестна с древних времен с эпитетами ѕеллони€ (Pellonia, Ђобращающа€ в бегство [врага]ї), ¬ика ѕота (Vica Pota, Ђмогущественна€ победительницаї).
ќсобый размах культ ¬иктории приобрел во времена –имской »мперии, когда богин€ была провозглашена неразлучной спутницей императоров. ¬ знак ее величи€ и значимости римскими императорами был выстроен храм ¬иктории на ѕалатине и воздвигнут алтарь в курии сената. ќбраз ¬иктории нередко чеканилс€ на монетах, выпущенных в честь великих побед римской армии.


5. јдриан (117-138). –им. јурей (AV 21mm; 7.28g), ок. 135-138г. Av: Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: ёпитер на троне, левой рукой опираетс€ на скипетр, в правой руке держит ¬икторию; IOVI VICTORI (Jovi [Pater] Victoris, Ђёпитер победоносныйї).
6. аракалла (198-217). –им. јурей (20mm, 7.02g), ок. 198г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; IMP CAE M AVR ANT AVG P TR P. Rv: ћинерва, опира€сь на копье, держит статуэтку крылатой ¬иктории с лавровым венком в подн€той руке, у ног Ч щит, справа Ч трофей; MINER VICTRIX (Minerva Victrix, Ђћинерва победоносна€ї).


7. аракалла (198-217). –им. јурей (AV 7.46g), 213г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS FEL AVG. Rv: ¬иктори€ с трофеем на левом плече, в правой руке держит лавровый венок; VICTORIA GERMANICA
8. Mакрин (217-218). –им. јурей (AV 7.00g), 217/8г. Av: бюст ћакрина в лавровом венке; IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG. Rv: между двух щитов, лет€ща€ ¬иктори€ с диадемой в руках; VICT PART P M TR P II COS II P P

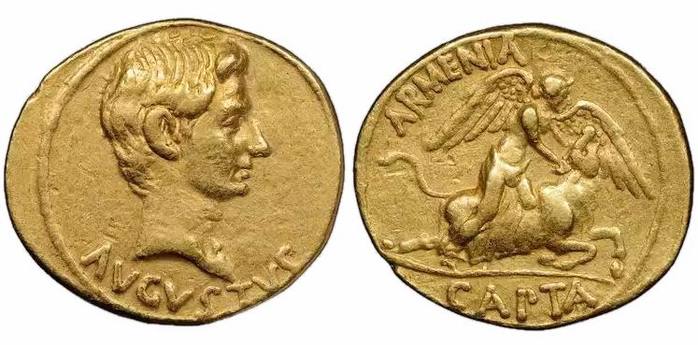
9. јнтонин ѕий (138-161). –им. јурей (AV 6.88g), ок. 143/4г. Av: голова јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: крылата€ ¬иктори€ держит трофей; IMPERATOR II
10. ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). јурей (AV 20mm, 7.80g), 19 до н.э. ћонетный двор: ѕергам (Pergamon), ћизи€. Av: голова јвгуста; AVGVSTVS. Rv: ¬иктори€ перерезает горло быку; ARMENIA CAPTA (јрмени€ покорена).
Х јрм€не обратились к –иму за помощью в избавлении от јрташеса II в пользу его брата “играна III (20-3 до н.э.), јвгуст послал “ибери€, но тот прибыл слишком поздно, чтобы оказать помощь. јрм€не сами устранили јрташеса. Ќикогда не упуска€ возможности использовать пропаганду в собственных интересах, римл€не оценили эту Ђпобедуї как свой монументальный дипломатический триумф, что было зафиксировано чеканкой пам€тной монеты ќктавиана јвгуста.


11. аракалла (198-217). –им. ƒенарий (AR 19mm). Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG GERM. Rv: ¬иктори€ сидит на трофейном оружии со щитом в руке (VO / XX); в обрезе Ч колчан и сигнальный рожок; VICT PARTHICA (Victus Parthica, побежденна€ ѕарфи€).
12. —ептимий —евер (Lucius Septimius Severus, 193-211). јурей (AV 20mm). 210г. Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: ¬иктори€, с трофеем на плече, держит за руку ребенка; P M TR P XVIII COS III P P


13. Ћуций ¬ер (161-169), соправитель ћарка јврели€ с 161г. –им. јурей (AV 7.29g), ок. 163/4г. Av: бюст Ћуци€ ¬ера в лавровом венке; L VERVS AVG ARMENIACVS. Rv: ¬иктори€ стоит со щитом (VIC / AVG), поставив его на пальму; TR P IIII IMP II COS II
14. оммод (177-193). –им. јурей (AV 7.31g), ок. 180г. Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG. Rv: ¬иктори€ сидит на селле (sella, Ђстулї), в левой руке держит пальмовую ветвь, в правой Ч патеру; TR P V IMP IIII COS II P P


15. √ордиан III (238-244). –им. јнтониниан (AR 24mm, 4.08g), ок. 244г. Av: бюст √ордиана III в лучевой короне; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью, правой рукой придерживает щит, упирающийс€ нижним краем в голову пленника; VICTORIA AETERNA
16. аракала (211-217). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.09g), ок. 201-206г. Av: бюст аракалы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью и лавровым венком; VICT PART MAX


17. ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). “аррагона (Tarraco), »спани€. ƒенарий (AR 21mm, 3.80g), ок. 19-18 до н.э. Av: голова јвгуста; CAESAR AVGVSTVS. Rv: ¬иктори€ летит, держа щит с надписью CL V (clypeus virtutis, Ђщит доблестиї) и афластон; S P Q R (Senatus Populusque Romanus, Ђ—енат и граждане –имаї).
18. “ра€н (98-117). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.46g), 102г. Av: голова “ра€на в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью перед алтарем, совершает возли€ни€ из патеры; P M TR P COS IIII P P


19. Ћуций √остилий —азерна. –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.86g), 48 до н.э. Av: голова богини ѕиетас в диадеме. Rv: бегуща€ ¬иктори€ с трофеем и кадуцеем; L. HOSTILIVS SASERNA
20. ƒомициан (81-96). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.51g), 95/6г. Av: голова ƒомициана в лавровом венке; IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P XV. Rv: крылата€ ћинерва ѕобедоносна€ (Minerva Victrix) в коринфском шлеме, с копьем и щитом; IMP XXII COS XVII CENS P P P
_ _
_
21. јдриан (117-138). –им. ƒенарий (AR 18mm, 2.65g), 134-138г. Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: ¬иктори€ с оливковой ветвью; VICTORIA AVG
22. —иде (Σίδη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 30mm, 16.54g), ок. 183-175 до н.э. Av: голова јфины в коринфском шлеме; Rv: Ќика с лавровым венком в руке, слева Ч плод граната; KΛEY (им€ магистрата).


23. √альба (68-69). –им. —естерций (Æ 35mm, 26.14g), ок. 68г. Av: бюст √альбы в лавровом венке; IMP SER GALBA CAES AVG TR P. Rv: ¬иктори€ держит статуэтку јфины ѕаллады (лат. Palladium) в правой руке и пальмовую ветвь Ч в левой; S C
24. “ра€н (98-117). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.22g). Av: голова “ра€на в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью перед алтарем, совершает возли€ни€ из патеры; P M TR P COS IIII P P
_ _
_
25. ѕирр (как царь —ицилии, 278-275 до н.э.). —иракузы, Ёпир. —татер (AV 15mm, 4.27g). Av: голова јртемиды с колчаном на левом плече. Rv: Ќика несет трофей в левой руке и венок Ч в правой; BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY
26. ѕупиен (238). –им. —естерций (Æ 28mm, 17.25g), 238г. Av: бюст ѕупиена в лавровом венке; IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью и лавровым венком; VICTORIA AVG G / S C


27. Ќерон (54-68). есари€ аппадокийска€ (Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας). √емидрахма (AR 13mm, 1.70g), ок. 54-68г. Av: голова Ќерона в лавровом венке; NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI. Rv: Ќика сидит на сфере, в руках держит тению (ταινία).
28. —иде (Σίδη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 30mm, 17.04g), ок. 205-100 до н.э. Av: голова јфины в коринфском шлеме; Rv: Ќика с лавровым венком в руке, слева Ч плод граната (σίδη); ΔI


29. јнтонин ѕий (138-161). –им. —естерций (Æ 34mm, 24.26g), ок. 143/4г. Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: крылата€ ¬иктори€ держит трофей; IMPERATOR II / S C
30. Ћуций ¬ер (161-169). Ќике€ (Νίκαια), ¬ифини€. ƒиассарий (Æ 23mm, 8.54g). Av: бюст Ћуци€ ¬ера; AYT KAICA AYPHΛ OYHPOC. Rv: бескрыла€ Ќика (Νίκη Ἄπτερος) с пальмовой ветвью и лавровым венком; NIKAI™ΩN
Ё“»ћќЋќ√»я
Ћатинское слово victoria Ч это, суд€ по всему, искаженное греческое слово νικηφορία (Ђникефори€ї). »скажение получилось в виду схожести написани€ греческой буквы ν (Ђнї) и латинской v (Ђвї). ѕереход φ~θ~τ Ч довольно частое €вление и вопросов не вызывает. ѕодтверждением этой версии €вл€етс€ наличие в латинском €зыке слова nicator (в значении Ђпобедительї), синонимичного более распространенному victor.
“акже можно рассмотреть вариант происхождени€ слова victoria от греческого же слова νικητήριος (победный), которое, видимо, €вл€етс€ составным из νίκη (Ђпобедаї) + τηρέω (Ђохран€ть, оберегатьї).
” италиков эпитет Ђѕобедоносныйї, ЂЌесущий победуї был наиболее употребим по отношению к аналогам греческих «евса и јфины Ч ёпитеру и ћинерве, которые также изображались, держащими в руке статуэтку богини ѕобеды Ч ¬иктории.
Ёпитет ¬иктории ¬ика ѕота (Vica Pota, Ђмогущественна€ победительницаї), видимо, также греческого происхождени€: νίκα (Ђпобедаї) + πότνια (Ђвладычицаї, Ђповелительницаї).
_______________________________

ћетапонтий (Μεταπόντιον), Ћукани€. “етробол (AV 14mm, 2.60g), ок. 302 до н.э.
Av: голова Ќики в диадеме; NIKA
Rv: €чменный колос; METAΠON
_______________________________

јдриан (117-138). –им. јурей (AV 19mm, 7.24g), ок. 134-138г.
Av: голова јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P
Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью в левой руке, и лавровым венком Ч в правой; VICTORIA AVG
_______________________________

√альба (68-69). –им. —естерций (Æ 35mm, 25.79g), 68г.
Av: бюст √альбы в дубовом венке; IMP SER GALBA AVG TR P
Rv: ¬иктори€ c лавровым венком и пальмовой ветвью; S C
_______________________________

ћедальон (AR 38mm, 52.02g), ок. XVII-XVIII в. ѕадуанска€ школа, тип ћарка јврели€.
Av: бюст ћарка јврели€ в лавровом венке; M ANTONINVS AVG TR P XXIX
Rv: ¬иктори€ на троне со щитом и пальмовой ветвью, справа Ч трофей; IMP VII COS III
_______________________________

√рациан (367-383). јнтиохи€. —олид (AV 20mm, 4.44g), ок. 372г.
Av: бюст √рациана в диадеме с розетками; D N GRATIANVS AVG
Rv: ¬иктори€ сидит на кирасе, держит щит (VOT V MVL X), справа хризма; VICTORIA AVGVSTORVM / ANOB√
_______________________________

јдриан (117-138). –им. јурей (AV 7.47g), 138г.
Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P
Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью в левой руке, на правой руке сидит голубь с лавровым венком в клюве; VICTORIA AVG
_______________________________

ѕирр (Πύρρος, 297-272 до н.э.). —иракузы, Ёпирское царство. —татер (AV 8.55g), 278 до н.э.
Av: голова јфины в коринфском шлеме, слева сова; ј
Rv: крылата€ Ќика с венком и трофеем; BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY
_______________________________
__
јлександр III (336-323 до н.э.). ћакедонское царство. —татер (AV 18mm, 8.53g).
Av: голова јфины в коринфском шлеме;
Rv: крылата€ Ќика с венком и корабельной мачтой (στῦλος); AΛEΞANΔPOY
_______________________________
__
јлександр III (336-323 до н.э.). ћакедонское царство. —татер (AV 19mm, 8.60g).
Av: голова јфины в коринфском шлеме;
Rv: крылата€ Ќика с венком и корабельной мачтой (στῦλος); AΛEΞANΔPOY
_______________________________
_
–имска€ республика. ƒидрахма (AR 17mm, 6.52g), ок. 250-240 до н.э.
Av: голова –омы во фригийском шлеме, слева Ч –ог изобили€.
Rv: ¬иктори€ прив€зывает венок к пальмовой ветви; ROMANO
_______________________________

“ерина (Τερίνα), Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.41g), 400-356 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAIΩN
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с голубем на правой руке.
_______________________________

–имска€ республика. ƒидрахма (AR 17mm, 6.57g), ок. 250-240 до н.э.
Av: голова –омы во фригийском шлеме.
Rv: крылата€ ¬иктори€ прив€зывает венок к пальмовой ветви; ROMANO / O
_______________________________
.
Ѕеоти€ (Βοιωτία). ƒрахма (18mm, 4.97g), ок. 225-171 до н.э.
Av: голова ѕосейдона в лавровом венке;
Rv: крылата€ Ќика держит трезубец и лавровый венок; BOIΩTΩN
_______________________________

—елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). —узы (Σοῦσα), √осударство —елевкидов. “етрадрахма (AR 27mm, 17.07g), 305-295 до н.э.
Av: голова —елевка I в шлеме из шкуры пантеры, украшенном бычьими рогами и ушами, вокруг шеи пов€зана шкура пантеры.
Rv: Ќика, возлагающа€ венок на трофей; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΣ
_______________________________
_
авн (Καῦνος), ари€. —татер (AR 19mm, 11.57g), ок. 410-390 до н.э.
Av: крылата€ Ќика с кадуцеем в правой руке и лавровым венком в левой;
Rv: Δ (inverted) I / Γ
_______________________________

ќлимпи€ (Ὀλυμπία), Ёлида. —татер (AR 12.10g), ок. 432 до н.э. ¬ыпуск в честь 87 ќлимпиады.
Av: орел, схвативший зайца;
Rv: крылата€ Ќика, с пальмовой ветвью в правой руке, сидит на циппусе (cippus), ниже Ч оливкова€ ветвь; A
_______________________________
.
“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 22mm, 7.96g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), правой рукой опираетс€ на кадуцей.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.79g), 425-420 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке и лавровым венком Ч в левой.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 21mm, 7.34g), ок. 425-420 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION / ‘
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.77g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровым венком в правой руке.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. опи€ серебр€ного статера (21mm, 7.20g), ок. 400 до н.э.
√альванопластика –оберта –еди (Robert Ready), маркированна€ RR. Ѕританский музей (British Museum).
Av: внутри лаврового венка голова нимфы “ерины в стефане; ‘
Rv: крылата€ Ќика сидит на лежащей гидрии, с кадуцеем в правой руке, на левой руке сидит голубь; TEPINAION
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. ƒрахма (AR 15mm, 2.19g), ок. 300 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины, слева Ч трискелион (τρισκέλιον); TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке.
_______________________________

√еракле€ ѕонтийска€ (Ἡρακλεία ἐν Πόντου), ¬ифини€. —татер (AR 21mm, 6.84g), 380-360 до н.э.
Av: голова √еракла в львиной шкуре;
Rv: крылата€ Ќика правой рукой указует на название города, р€дом лежит палица √еракла; HPAKΛEIA
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 22mm, 7.68g), ок. 440-425 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины в диадеме, внутри лаврового венка.
Rv: крылата€ Ќика сидит на гидрии, с кадуцеем в левой руке и венком Ч в правой; TEPINAION.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.71g), ок. 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в левой руке.
_______________________________
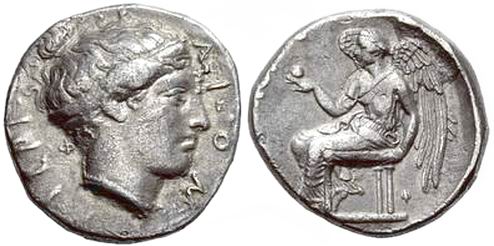
“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.21g), ок. 420 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION / ‘
Rv: крылата€ Ќика сидит на дифросе, игра€ шаром; ‘
Х ƒифр, дифрос (греч. δίφρος) Ч легкий табурет у древних греков (римл€не называли его sella, Ђстулї).
_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 7.16g), 410-405 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе, с оливковой ветвью в правой руке.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.64g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровым венком в правой руке.
_______________________________
_
“ерина (Τερίνα), Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.60g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAIΩN
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе, с голубем на правой руке.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.77g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровой ветвью в правой руке; перед ней стоит журавль.
Х ÷иппус, ципп (лат. cippus) Ч могильна€ вертикально сто€ща€ каменна€ плита с надписью или рельефным изображением. роме плоской плиты, циппусы могли иметь кубическую, €йцеобразную, сферическую или цилиндрическую форму (в виде невысокого столба).
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.77g), ок. 425-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на дифросе, игра€ шаром; TEPINAION / ‘
_______________________________

јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. “етрадрахма (AR 26mm, 17.13g), ок. 310-305 до н.э.
Av: голова оры в венке из колосьев; KOPAΣ
Rv: крылата€ Ќика прибивает шлем к трофею; в правой руке молоток; справа трискелион (τρισκέλιον, τρισκελής); A√AΘOKΛEIOΣ
_______________________________

ѕирр (Πύρρος, 297-272 до н.э.). —иракузы, Ёпирское царство. —татер (AV 18mm), ок. 278 до н.э.
Av: голова јфины в коринфском шлеме, слева сова; ј
Rv: крылата€ Ќика с венком и трофеем, у ног Ч перун (πυρών); BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY
_______________________________

ћитилена (Μυτιλήνη), Ћесбос. √екта (EL 12mm, 2.52g), ок. 377-326 до н.э.
Av: голова «евса в лавровом венке;
Rv: бюст крылатой Ќики в квадратном поле.
_______________________________
.
Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 18mm, 8.39g), ок. 370 до н.э.
Av: Ќика, прибивающа€ шлем к трофею;
Rv: протома ѕегаса.
_______________________________

изик, ћизи€. √екта (EL 9.5mm, 2.63g), V-IV в. до н.э.
Av: Ќика с афластоном (ἄφλαστον) в руке;
Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.
_______________________________

ћитилена, (Μυτιλήνη), Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.54g), ок. 377-326 до н.э.
Av: голова «евса ћелихи€ (Μειλίχιος, Ђмилосердныйї) в лавровом венке.
Rv: бюст Ќики с расправленными крыль€ми в квадратном поле, над головой Ч две звезды.
_______________________________
Ѕќ√»Ќя ѕќЅ≈ƒџ
Ќика (Νίκη, дор. Νίκα) Ч богин€ победы,¹ дочь титана ѕалланта (Πάλλαντος) и океаниды —тикс (Στύξ), нимфы одноименной реки. —оюзница «евса в его борьбе с титанами и гигантами; она же нередко сопровождает воинственную јфину ѕалладу.

_______________________
[1] νῖκος (-εος) τό NT. = νίκη
νίκη, дор. νίκα ἡ победа (μάχης Hom.; πολέμου и ἐν τῷ πολέμῳ Plat.);
ex.: νίκη ἀντιπάλων Arph. Ч победа над противниками.
ак символ успешного результата, счастливого исхода, Ќика участвует во всех военных предпри€ти€х, в гимнастических (γυμναστικός) и музыкальных (μουσικός) сост€зани€х, во всех религиозных торжествах, совершаемых по случаю успеха. »зображаетс€ крылатой, чаще лет€щей или бегущей; атрибуты ее Ч тени€ (ταινία, св€щенна€ пов€зка) и лавровый венок, позднее также пальмова€ ветвь, оружие и трофей.
” скульпторов Ќика или совершает возли€ни€ из патеры перед алтарем, или €вл€етс€ вестницей победы, с атрибутом √ермеса Ч кадуцеем. „асто изображаетс€ пар€щей, увенчива€ лавровым венком голову победител€, либо управл€ющей колесницей, либо складывающей из непри€тельского оружи€ трофей, например, на балюстраде храма јфины Ќики (Νίκη Αθάνα Πολιάς) в јфинах. „асто «евс ќлимпийский и јфина ѕарфенос изображались со статуэткой Ќики в руках, отчего и тот и друга€ нос€т эпитет Ђпобедоносныйї (νικηφόρος).


1. √иерон II (тиран —иракуз 270-215 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 5 литр (AR 17mm, 4.51g), ок. 218-214 до н.э. Av: голова ‘илистис, жены √иерона II, в диадеме, голова покрыта пеплосом. Rv: крылата€ Ќика правит бигой; BAΣIΛIΣΣA ΦIΛIΣTIΔOΣ
2. —елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). —арды, государство —елевкидов. “етрадрахма (AR 26mm, 17.05g), 282/1 до н.э. Av: голова √еракла в львиной шкуре; Rv: «евс Ќикефор (Νικήφορος) на троне со скипетром в левой руке, в правой руке держит крылатую Ќику; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY


3. Ћисимах (305-281). јмфиполис, ‘ракийское царство. “етрадрахма (AR 30mm, 17.15g), ок. 288-281 до н.э. Av: голова јлександра III в диадеме с рогами јмона. Rv: јфина на троне, в корифском шлеме, с копьем, опираетс€ на щит с изображением льва, в правой руке Ч крылата€ Ќика, держаща€ лавровый венок над именем Ћисимаха; ниже Ч кадуцей; BAΣIΛEΩΣ ΛYΣIMAXOY
4. ѕанорм (Πάνορμος), —ицили€. “етрадрахма (AR 27mm, 17.13g), ок. 405-380 до н.э. Av: голова нимфы јретусы в диадеме, вокруг головы Ч три дельфина; Rv: —елена правит квадригой, лет€ща€ Ќика венчает еЄ голову лавровым венком; в обрезе Ч гиппокамп, р€дом финикийское название ѕанорма Ч Sуs.
ј‘»Ќј-Ќ» ј
’рамы, сохранившиес€ на јкрополе јфин, построены в середине V в. до н.э. ќдержав окончательную победу над персами, греческие города-государства объединились в јфинский морской союз, главную роль в котором играли јфины. —оюзом была учреждена казна, часть денег которой пошло на восстановление јкропол€, разрушенного персами. ÷ентральное место в композиции нового комплекса занимал храм ƒевы јфины Ч ѕарфенон. ѕройти к нему можно было через ѕропилеи, представл€вшие собой широкую мраморную лестницу, завершающуюс€ крытой колоннадой в классическом стиле.
’рам јфины Ќики был заложен дес€ть лет спуст€ после окончани€ строительства ѕарфенона. Ёто небольшой храм, с правой стороны от ворот, выполненный в амфипростиле с ионическими колоннами по четыре в каждом портике. ¬нутри находилась стату€ јфины, котора€ держала в левой руке шлем, а в правой гранат Ч символы защиты и плодороди€. ‘риз и фронтоны храма украшали скульптурные сюжеты на тему греко-персидских войн. ¬ передней части храма находилс€ алтарь. ¬о врем€ праздника ѕанафиней (Παναθήναια), посв€щенного богине, сюда поднималась торжественна€ процесси€, и совершались жертвоприношени€.
¬ римскую эпоху, с легкой руки ѕавсани€, храм јфины Ќики получил другое название Ч Ναός της Απτέρου Νίκης Ч ’рам Ќики бескрылой. ≈динственный труд ѕавсани€ Ч Ђќписание Ёлладыї Ч €вл€етс€ по сути античным путеводителем по древней √реции и описывает дорожные впечатлени€ автора. Ќа јкрополе в то врем€ сто€ли три статуи јфины работы ‘иди€: јфина ѕарфенос (Παρθένος), јфина ѕромахос (Πρόμαχος), а также јфина Ћемни€ (Λήμνια),² находивша€с€ неподалеку от ѕропилей, изображенна€ в необычной позе с непокрытой головой. —тату€ јфины без шлема находилась и внутри храма јфины Ќики. ¬идимо, отсутствие шлема на голове јфины (что, изначально, символизировало завершение войны с персами), а также ее эпитет Ќика Ч послужило отправной точкой к сочинению истории о бескрылой богине победы Ќике, которую горожане лишили крыльев, дабы она никогда не покидала јфины.
_______________________
[2] παρθένος ἡ 1) дева, девушка Hom., Xen., Trag. etc. 2) девственный, непорочный, чистый (ψυχή Eur.; πηγή Aesch.).
πρόμαχος (πρό-μᾰχος) 1) сражающийс€ впереди; 2) сражающийс€ в защиту (π. πόλεως Aesch. Ч сражающийс€ за [родной] город).
Λήμνια (= Λήμνιος) ὁ лемносска€, т.е. с острова Ћемнос (Λῆμνος ἡ вулканический остров в сев. части Ёгейского мор€, считавшийс€ главным местопребыванием √ефеста) Hom., Pind. etc.
¬» “ќ–»я
¬иктори€ (лат. Victoria) Ч в римской мифологии богин€ победы и олицетворение победы. »звестна с древних времен с эпитетами ѕеллони€ (Pellonia, Ђобращающа€ в бегство [врага]ї), ¬ика ѕота (Vica Pota, Ђмогущественна€ победительницаї).
ќсобый размах культ ¬иктории приобрел во времена –имской »мперии, когда богин€ была провозглашена неразлучной спутницей императоров. ¬ знак ее величи€ и значимости римскими императорами был выстроен храм ¬иктории на ѕалатине и воздвигнут алтарь в курии сената. ќбраз ¬иктории нередко чеканилс€ на монетах, выпущенных в честь великих побед римской армии.


5. јдриан (117-138). –им. јурей (AV 21mm; 7.28g), ок. 135-138г. Av: Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: ёпитер на троне, левой рукой опираетс€ на скипетр, в правой руке держит ¬икторию; IOVI VICTORI (Jovi [Pater] Victoris, Ђёпитер победоносныйї).
6. аракалла (198-217). –им. јурей (20mm, 7.02g), ок. 198г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; IMP CAE M AVR ANT AVG P TR P. Rv: ћинерва, опира€сь на копье, держит статуэтку крылатой ¬иктории с лавровым венком в подн€той руке, у ног Ч щит, справа Ч трофей; MINER VICTRIX (Minerva Victrix, Ђћинерва победоносна€ї).


7. аракалла (198-217). –им. јурей (AV 7.46g), 213г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS FEL AVG. Rv: ¬иктори€ с трофеем на левом плече, в правой руке держит лавровый венок; VICTORIA GERMANICA
8. Mакрин (217-218). –им. јурей (AV 7.00g), 217/8г. Av: бюст ћакрина в лавровом венке; IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG. Rv: между двух щитов, лет€ща€ ¬иктори€ с диадемой в руках; VICT PART P M TR P II COS II P P

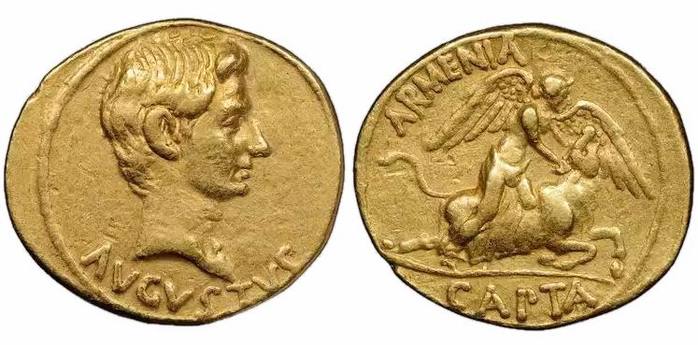
9. јнтонин ѕий (138-161). –им. јурей (AV 6.88g), ок. 143/4г. Av: голова јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: крылата€ ¬иктори€ держит трофей; IMPERATOR II
10. ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). јурей (AV 20mm, 7.80g), 19 до н.э. ћонетный двор: ѕергам (Pergamon), ћизи€. Av: голова јвгуста; AVGVSTVS. Rv: ¬иктори€ перерезает горло быку; ARMENIA CAPTA (јрмени€ покорена).
Х јрм€не обратились к –иму за помощью в избавлении от јрташеса II в пользу его брата “играна III (20-3 до н.э.), јвгуст послал “ибери€, но тот прибыл слишком поздно, чтобы оказать помощь. јрм€не сами устранили јрташеса. Ќикогда не упуска€ возможности использовать пропаганду в собственных интересах, римл€не оценили эту Ђпобедуї как свой монументальный дипломатический триумф, что было зафиксировано чеканкой пам€тной монеты ќктавиана јвгуста.


11. аракалла (198-217). –им. ƒенарий (AR 19mm). Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG GERM. Rv: ¬иктори€ сидит на трофейном оружии со щитом в руке (VO / XX); в обрезе Ч колчан и сигнальный рожок; VICT PARTHICA (Victus Parthica, побежденна€ ѕарфи€).
12. —ептимий —евер (Lucius Septimius Severus, 193-211). јурей (AV 20mm). 210г. Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: ¬иктори€, с трофеем на плече, держит за руку ребенка; P M TR P XVIII COS III P P


13. Ћуций ¬ер (161-169), соправитель ћарка јврели€ с 161г. –им. јурей (AV 7.29g), ок. 163/4г. Av: бюст Ћуци€ ¬ера в лавровом венке; L VERVS AVG ARMENIACVS. Rv: ¬иктори€ стоит со щитом (VIC / AVG), поставив его на пальму; TR P IIII IMP II COS II
14. оммод (177-193). –им. јурей (AV 7.31g), ок. 180г. Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG. Rv: ¬иктори€ сидит на селле (sella, Ђстулї), в левой руке держит пальмовую ветвь, в правой Ч патеру; TR P V IMP IIII COS II P P


15. √ордиан III (238-244). –им. јнтониниан (AR 24mm, 4.08g), ок. 244г. Av: бюст √ордиана III в лучевой короне; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью, правой рукой придерживает щит, упирающийс€ нижним краем в голову пленника; VICTORIA AETERNA
16. аракала (211-217). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.09g), ок. 201-206г. Av: бюст аракалы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью и лавровым венком; VICT PART MAX


17. ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). “аррагона (Tarraco), »спани€. ƒенарий (AR 21mm, 3.80g), ок. 19-18 до н.э. Av: голова јвгуста; CAESAR AVGVSTVS. Rv: ¬иктори€ летит, держа щит с надписью CL V (clypeus virtutis, Ђщит доблестиї) и афластон; S P Q R (Senatus Populusque Romanus, Ђ—енат и граждане –имаї).
18. “ра€н (98-117). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.46g), 102г. Av: голова “ра€на в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью перед алтарем, совершает возли€ни€ из патеры; P M TR P COS IIII P P


19. Ћуций √остилий —азерна. –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.86g), 48 до н.э. Av: голова богини ѕиетас в диадеме. Rv: бегуща€ ¬иктори€ с трофеем и кадуцеем; L. HOSTILIVS SASERNA
20. ƒомициан (81-96). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.51g), 95/6г. Av: голова ƒомициана в лавровом венке; IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P XV. Rv: крылата€ ћинерва ѕобедоносна€ (Minerva Victrix) в коринфском шлеме, с копьем и щитом; IMP XXII COS XVII CENS P P P
_
 _
_
21. јдриан (117-138). –им. ƒенарий (AR 18mm, 2.65g), 134-138г. Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: ¬иктори€ с оливковой ветвью; VICTORIA AVG
22. —иде (Σίδη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 30mm, 16.54g), ок. 183-175 до н.э. Av: голова јфины в коринфском шлеме; Rv: Ќика с лавровым венком в руке, слева Ч плод граната; KΛEY (им€ магистрата).


23. √альба (68-69). –им. —естерций (Æ 35mm, 26.14g), ок. 68г. Av: бюст √альбы в лавровом венке; IMP SER GALBA CAES AVG TR P. Rv: ¬иктори€ держит статуэтку јфины ѕаллады (лат. Palladium) в правой руке и пальмовую ветвь Ч в левой; S C
24. “ра€н (98-117). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.22g). Av: голова “ра€на в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью перед алтарем, совершает возли€ни€ из патеры; P M TR P COS IIII P P
_
 _
_
25. ѕирр (как царь —ицилии, 278-275 до н.э.). —иракузы, Ёпир. —татер (AV 15mm, 4.27g). Av: голова јртемиды с колчаном на левом плече. Rv: Ќика несет трофей в левой руке и венок Ч в правой; BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY
26. ѕупиен (238). –им. —естерций (Æ 28mm, 17.25g), 238г. Av: бюст ѕупиена в лавровом венке; IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG. Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью и лавровым венком; VICTORIA AVG G / S C


27. Ќерон (54-68). есари€ аппадокийска€ (Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας). √емидрахма (AR 13mm, 1.70g), ок. 54-68г. Av: голова Ќерона в лавровом венке; NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI. Rv: Ќика сидит на сфере, в руках держит тению (ταινία).
28. —иде (Σίδη), ѕамфили€. “етрадрахма (AR 30mm, 17.04g), ок. 205-100 до н.э. Av: голова јфины в коринфском шлеме; Rv: Ќика с лавровым венком в руке, слева Ч плод граната (σίδη); ΔI


29. јнтонин ѕий (138-161). –им. —естерций (Æ 34mm, 24.26g), ок. 143/4г. Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: крылата€ ¬иктори€ держит трофей; IMPERATOR II / S C
30. Ћуций ¬ер (161-169). Ќике€ (Νίκαια), ¬ифини€. ƒиассарий (Æ 23mm, 8.54g). Av: бюст Ћуци€ ¬ера; AYT KAICA AYPHΛ OYHPOC. Rv: бескрыла€ Ќика (Νίκη Ἄπτερος) с пальмовой ветвью и лавровым венком; NIKAI™ΩN
Ё“»ћќЋќ√»я
Ћатинское слово victoria Ч это, суд€ по всему, искаженное греческое слово νικηφορία (Ђникефори€ї). »скажение получилось в виду схожести написани€ греческой буквы ν (Ђнї) и латинской v (Ђвї). ѕереход φ~θ~τ Ч довольно частое €вление и вопросов не вызывает. ѕодтверждением этой версии €вл€етс€ наличие в латинском €зыке слова nicator (в значении Ђпобедительї), синонимичного более распространенному victor.
nicator, -oris m победитель.
victor, -oris m 1) победитель; 2) одерживающий или одержавший победу, победоносный.
“акже можно рассмотреть вариант происхождени€ слова victoria от греческого же слова νικητήριος (победный), которое, видимо, €вл€етс€ составным из νίκη (Ђпобедаї) + τηρέω (Ђохран€ть, оберегатьї).
νικηφορία (νῑκη-φορία), дор. νῑκᾱφορία ἡ одержание победы, победа Pind.
νικητήριος Ч победный, даваемый победителю (ἆθλον Plat.; φίλημα Xen.).
” италиков эпитет Ђѕобедоносныйї, ЂЌесущий победуї был наиболее употребим по отношению к аналогам греческих «евса и јфины Ч ёпитеру и ћинерве, которые также изображались, держащими в руке статуэтку богини ѕобеды Ч ¬иктории.
Ёпитет ¬иктории ¬ика ѕота (Vica Pota, Ђмогущественна€ победительницаї), видимо, также греческого происхождени€: νίκα (Ђпобедаї) + πότνια (Ђвладычицаї, Ђповелительницаї).
_______________________________

ћетапонтий (Μεταπόντιον), Ћукани€. “етробол (AV 14mm, 2.60g), ок. 302 до н.э.
Av: голова Ќики в диадеме; NIKA
Rv: €чменный колос; METAΠON
_______________________________

јдриан (117-138). –им. јурей (AV 19mm, 7.24g), ок. 134-138г.
Av: голова јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P
Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью в левой руке, и лавровым венком Ч в правой; VICTORIA AVG
_______________________________

√альба (68-69). –им. —естерций (Æ 35mm, 25.79g), 68г.
Av: бюст √альбы в дубовом венке; IMP SER GALBA AVG TR P
Rv: ¬иктори€ c лавровым венком и пальмовой ветвью; S C
_______________________________

ћедальон (AR 38mm, 52.02g), ок. XVII-XVIII в. ѕадуанска€ школа, тип ћарка јврели€.
Av: бюст ћарка јврели€ в лавровом венке; M ANTONINVS AVG TR P XXIX
Rv: ¬иктори€ на троне со щитом и пальмовой ветвью, справа Ч трофей; IMP VII COS III
_______________________________

√рациан (367-383). јнтиохи€. —олид (AV 20mm, 4.44g), ок. 372г.
Av: бюст √рациана в диадеме с розетками; D N GRATIANVS AVG
Rv: ¬иктори€ сидит на кирасе, держит щит (VOT V MVL X), справа хризма; VICTORIA AVGVSTORVM / ANOB√
_______________________________

јдриан (117-138). –им. јурей (AV 7.47g), 138г.
Av: голова јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P
Rv: ¬иктори€ с пальмовой ветвью в левой руке, на правой руке сидит голубь с лавровым венком в клюве; VICTORIA AVG
_______________________________

ѕирр (Πύρρος, 297-272 до н.э.). —иракузы, Ёпирское царство. —татер (AV 8.55g), 278 до н.э.
Av: голова јфины в коринфском шлеме, слева сова; ј
Rv: крылата€ Ќика с венком и трофеем; BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY
_______________________________
__

јлександр III (336-323 до н.э.). ћакедонское царство. —татер (AV 18mm, 8.53g).
Av: голова јфины в коринфском шлеме;
Rv: крылата€ Ќика с венком и корабельной мачтой (στῦλος); AΛEΞANΔPOY
_______________________________
__

јлександр III (336-323 до н.э.). ћакедонское царство. —татер (AV 19mm, 8.60g).
Av: голова јфины в коринфском шлеме;
Rv: крылата€ Ќика с венком и корабельной мачтой (στῦλος); AΛEΞANΔPOY
_______________________________
_

–имска€ республика. ƒидрахма (AR 17mm, 6.52g), ок. 250-240 до н.э.
Av: голова –омы во фригийском шлеме, слева Ч –ог изобили€.
Rv: ¬иктори€ прив€зывает венок к пальмовой ветви; ROMANO
_______________________________

“ерина (Τερίνα), Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.41g), 400-356 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAIΩN
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с голубем на правой руке.
_______________________________

–имска€ республика. ƒидрахма (AR 17mm, 6.57g), ок. 250-240 до н.э.
Av: голова –омы во фригийском шлеме.
Rv: крылата€ ¬иктори€ прив€зывает венок к пальмовой ветви; ROMANO / O
_______________________________
.

Ѕеоти€ (Βοιωτία). ƒрахма (18mm, 4.97g), ок. 225-171 до н.э.
Av: голова ѕосейдона в лавровом венке;
Rv: крылата€ Ќика держит трезубец и лавровый венок; BOIΩTΩN
_______________________________

—елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). —узы (Σοῦσα), √осударство —елевкидов. “етрадрахма (AR 27mm, 17.07g), 305-295 до н.э.
Av: голова —елевка I в шлеме из шкуры пантеры, украшенном бычьими рогами и ушами, вокруг шеи пов€зана шкура пантеры.
Rv: Ќика, возлагающа€ венок на трофей; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΣ
_______________________________
_

авн (Καῦνος), ари€. —татер (AR 19mm, 11.57g), ок. 410-390 до н.э.
Av: крылата€ Ќика с кадуцеем в правой руке и лавровым венком в левой;
Rv: Δ (inverted) I / Γ
_______________________________

ќлимпи€ (Ὀλυμπία), Ёлида. —татер (AR 12.10g), ок. 432 до н.э. ¬ыпуск в честь 87 ќлимпиады.
Av: орел, схвативший зайца;
Rv: крылата€ Ќика, с пальмовой ветвью в правой руке, сидит на циппусе (cippus), ниже Ч оливкова€ ветвь; A
_______________________________
.

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 22mm, 7.96g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), правой рукой опираетс€ на кадуцей.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.79g), 425-420 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке и лавровым венком Ч в левой.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 21mm, 7.34g), ок. 425-420 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION / ‘
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.77g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровым венком в правой руке.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. опи€ серебр€ного статера (21mm, 7.20g), ок. 400 до н.э.
√альванопластика –оберта –еди (Robert Ready), маркированна€ RR. Ѕританский музей (British Museum).
Av: внутри лаврового венка голова нимфы “ерины в стефане; ‘
Rv: крылата€ Ќика сидит на лежащей гидрии, с кадуцеем в правой руке, на левой руке сидит голубь; TEPINAION
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. ƒрахма (AR 15mm, 2.19g), ок. 300 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины, слева Ч трискелион (τρισκέλιον); TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в правой руке.
_______________________________

√еракле€ ѕонтийска€ (Ἡρακλεία ἐν Πόντου), ¬ифини€. —татер (AR 21mm, 6.84g), 380-360 до н.э.
Av: голова √еракла в львиной шкуре;
Rv: крылата€ Ќика правой рукой указует на название города, р€дом лежит палица √еракла; HPAKΛEIA
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 22mm, 7.68g), ок. 440-425 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины в диадеме, внутри лаврового венка.
Rv: крылата€ Ќика сидит на гидрии, с кадуцеем в левой руке и венком Ч в правой; TEPINAION.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.71g), ок. 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с кадуцеем в левой руке.
_______________________________
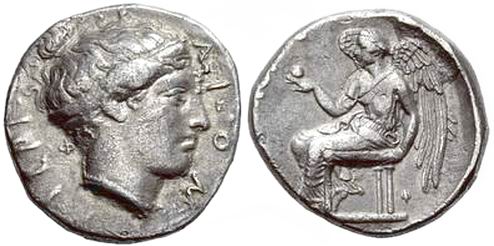
“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.21g), ок. 420 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION / ‘
Rv: крылата€ Ќика сидит на дифросе, игра€ шаром; ‘
Х ƒифр, дифрос (греч. δίφρος) Ч легкий табурет у древних греков (римл€не называли его sella, Ђстулї).
_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 7.16g), 410-405 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе, с оливковой ветвью в правой руке.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.64g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровым венком в правой руке.
_______________________________
_

“ерина (Τερίνα), Ѕруттий. —татер (AR 20mm, 7.60g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAIΩN
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе, с голубем на правой руке.
_______________________________

“ерина, Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). —татер (AR 21mm, 7.77g), 420-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на циппусе (cippus), с лавровой ветвью в правой руке; перед ней стоит журавль.
Х ÷иппус, ципп (лат. cippus) Ч могильна€ вертикально сто€ща€ каменна€ плита с надписью или рельефным изображением. роме плоской плиты, циппусы могли иметь кубическую, €йцеобразную, сферическую или цилиндрическую форму (в виде невысокого столба).
_______________________________

“ерина, Ѕруттий. —татер (AR 7.77g), ок. 425-400 до н.э.
Av: голова нимфы “ерины; TEPINAION
Rv: крылата€ Ќика сидит на дифросе, игра€ шаром; TEPINAION / ‘
_______________________________

јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. “етрадрахма (AR 26mm, 17.13g), ок. 310-305 до н.э.
Av: голова оры в венке из колосьев; KOPAΣ
Rv: крылата€ Ќика прибивает шлем к трофею; в правой руке молоток; справа трискелион (τρισκέλιον, τρισκελής); A√AΘOKΛEIOΣ
_______________________________

ѕирр (Πύρρος, 297-272 до н.э.). —иракузы, Ёпирское царство. —татер (AV 18mm), ок. 278 до н.э.
Av: голова јфины в коринфском шлеме, слева сова; ј
Rv: крылата€ Ќика с венком и трофеем, у ног Ч перун (πυρών); BAΣIΛEΩΣ ΠYPPOY
_______________________________

ћитилена (Μυτιλήνη), Ћесбос. √екта (EL 12mm, 2.52g), ок. 377-326 до н.э.
Av: голова «евса в лавровом венке;
Rv: бюст крылатой Ќики в квадратном поле.
_______________________________
.

Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 18mm, 8.39g), ок. 370 до н.э.
Av: Ќика, прибивающа€ шлем к трофею;
Rv: протома ѕегаса.
_______________________________

изик, ћизи€. √екта (EL 9.5mm, 2.63g), V-IV в. до н.э.
Av: Ќика с афластоном (ἄφλαστον) в руке;
Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.
_______________________________

ћитилена, (Μυτιλήνη), Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.54g), ок. 377-326 до н.э.
Av: голова «евса ћелихи€ (Μειλίχιος, Ђмилосердныйї) в лавровом венке.
Rv: бюст Ќики с расправленными крыль€ми в квадратном поле, над головой Ч две звезды.
_______________________________
|
ћетки: Ќика ¬иктори€ јфина √реци€ –им Ётимологи€ Ќумизматика |
јѕќЋЋќЌ ƒ≈Ћ№‘»Ќ»… |
ƒневник |
І1. јполлон выбирает жрецов, которые будут служить в его храме.
Ќачал в уме своем тут размышл€ть јполлон-дальновержец,
ак бы ему и кого из людей привести в это место,
„тобы жрецами его они стали в ѕифоне скалистом.¹
“ак размышл€€, узрел он в дали винно-черного мор€
Ѕыстрое судно. ¬езло оно много мужей благородных,
215
рит€н из града ћиносова носа, Ч и сразу решил он,
„то совершать станут жертвы и всем возвещать предсказань€
«олотолукого ‘еба-властител€,² что б ни изрек он,
»з-под ѕарнасской скалы прорицань€ дава€ из лавра.
–ади богатств и товаров они на суднé своем черном
220
ѕлыли в песчанистый ѕилос, к родившимс€ в ѕилосе люд€м.
¬друг повстречалс€ им ‘еб-јполлон. Ќа корабль быстроходный
¬ыскочил он из воды, уподобившись видом дельфину.
“ам и осталс€ лежать он чудовищем страшным, огромным.
»з мор€ков же никто догадатьс€ не мог о причине.
225
» отовсюду толкал он и тр€с корабельные балки.
ћолча, объ€тые страхом, сидели внутри мореходцы;
Ќе распустили снастей на бокастом суднé они черном
» парусов корабл€ черноносого ставить не стали:
ак они что-либо где укрепили ремн€ми сначала,
230
“ак и поплыли. ѕорывами Ќот быстроходный корабль их
—зади, с кормы, подгон€л. ћиновали сначала ћалею,
«емлю Ћаконскую мимо проплыли и √елос приморский,
ѕрибыли в “енар, страну, где царит утешающий смертных
√елиос; в м€гких лугах превосходного этого кра€
235
ћного пасетс€ обычно овец густорунных владыки.
«десь пожелали они свой корабль задержать и, сошедши,
ƒивное диво вблизи осмотреть и глазами увидеть,
Ѕудет ли чудище дальше на днище лежать корабельном
»ль в многорыбную бездну морскую опуститс€ снова.
240
Ќе подчинилс€, однако, рулю превосходный корабль их Ч
ƒальше пошел самовольно вдоль тучного ѕелопоннеса:
Ћегким своим дуновеньем его направл€л потихоньку
÷арь јполлон дальнострельный. ƒорогу свою соверша€,
—удно в јрену пришло, в јргифею, при€тную видом,
245
¬ ‘риос на броде јлфейском и славные здань€ми Ёпи,
ƒальше Ч в песчанистый ѕилос, к родившимс€ в ѕилосе люд€м.
руны потом их корабль миновал, и ’алкиду, и ƒиму,
ћимо Ёлиды св€щенной прошел он Ч державы эпейцев.
«евсову раду€сь ветру попутному, ‘еры покинул.
250
¬ ‘риос на броде јлфейском и славные здань€ми Ёпи,
ƒальше Ч в песчанистый ѕилос, к родившимс€ в ѕилосе люд€м.
руны потом их корабль миновал, и ’алкиду, и ƒиму,
ћимо Ёлиды св€щенной прошел он Ч державы эпейцев.
«евсову раду€сь ветру попутному, ‘еры покинул.
255
¬друг, при безоблачном небе, бурливо рванул из эфира
— запада ветер великий, по «евсовой воле, чтоб морем
√орько-соленым как можно скорее промчалс€ корабль их.
Ѕыстро обратной дорогой они на зарю и на солнце
ѕоплыли. ¬ел же ронионов сын, јполлон-повелитель.
260
рисе пришли они, издали видной, богатой лозами,
¬ гавань. » врезалс€ в берег песчаный корабль мореходный.
»з корабл€ подн€лс€ тут наверх јполлон-дальновержец,
¬идом средь белого полдн€ звезде уподобившись; искры
—ыпались густо с нее; достигало до неба си€нье.
265
¬ храм он спустилс€, пронесшись дорогой треножников ценных.
ярко сверкнувши лучами, зажег он в св€тилище плам€,
» осветилась вс€ риса си€ньем. » громко вскричали
∆ены крисейцев и дочери их в по€сах многоценных
ќт јполлонова взблеска. » ужас объ€л их великий.
270
—нова оттуда назад к кораблю он, как мысль, устремилс€,
ќбраз прин€вши весьма молодого и сильного мужа;
ƒлинные кудри его на широкие падали плечи.
√ромко он крит€н окликнул и слово крылатое молвил:
Ђ—транники, кто вы? ќткуда плывете дорогою влажной?
275
≈дете ль вы по делам иль блуждаете в море бесцельно,
ак поступают обычно разбойники, рыска€ всюду,
∆изнью игра€ своею и беды нес€ чужеземцам?
„то так печально сидите вы здесь, отчего не сойдете
Ќá берег вы, отчего не свернете снастей корабельных?
280
Ќет меж труд€щихс€ т€жко людей, кто бы делал иначе,
ѕосле того как на черном своем корабле быстроходном
суше пристанет, трудом изнуренный; душой его тотчас
ќвладевает желанье великое сладостной пищиї.
“ак он сказал и сердца их отвагою бодрой наполнил.
285
рит€н начальник немедл€ в ответ ему слово промолвил:
Ђќ чужестранец! ќсанкой и всем своим видом походишь
“ы не на смертнорожденных людей Ч на бессмертного бога.
«дравствуй! ѕривет тебе наш! ƒа пошлют тебе счастие боги!
ƒай мне, прошу €, правдивый ответ, чтоб доподлинно знать мне:
290
„то за земл€? „то за край? „то за смертные здесь обитают?
¬ место другое держали мы путь по великому морю Ч
¬ ѕилос из рита: оттуда мы родом и этим гордимс€.
Ќыне ж сюда мы пришли с кораблем не по собственной воле,
ѕлыли б домой мы другою дорогой, другими пут€ми:
295
ѕротив желани€ кто-то сюда нас привел из бессмертныхї.
»м, на их речь отвеча€, сказал јполлон-дальновержец:
Ђ—транники! ¬ носе, богатом деревь€ми, вы обитали
–аньше. Ќо ныне домой вы к себе не воротитесь больше,
¬ город возлюбленный ваш и в прекрасные ваши жилища,
300
милым супругам. Ќо здесь вы получите храм мой богатый,
«десь вы останетесь жить, почитанием пользу€сь общим.
—ын € великого «евса. √оржус€ € быть јполлоном,
¬ас же сюда € привел чрез великую бездну морскую,
Ќе замышл€€ вам зла. Ѕогатейший мой храм во владенье
305
«десь вы получите, всеми людьми почитаемый много.
¬олю бессмертных вы будете знать и, богов изволеньем,
—танете жить в величайшем почете во вечные веки.
Ќу а теперь поскорее исполните все, что скажу €:
ѕрежде всего разв€жите ремни и спустите ветрила;
310
—делавши это, ваш черный корабль извлеките на сушу,
»з равнобокого выньте суднá все богатства и снасти,
—оорудите мне жертвенник здесь высоко над прибоем,
» разожгите огонь, и €чмень принесите мне в жертву,
» обступите алтарь, и молитву ко мне сотворите.
315
“ак как впервые из мор€ туманного в виде дельфина
Ѕлиз корабл€ быстроходного € подн€лс€ перед вами,
“о и молитесь мне впредь, как ƒельфинию,³ и да зоветс€
∆ертвенник этот дельфийским. » будет он славен вовеки.
ончивши, с€дьте обедать близ черного вашего судна
320
» возли€нь€ свершите блаженным богам олимпийским.
ѕосле ж того, как свой голод вы сладкой едой утолите,
¬месте идите со мною, пеан зат€нувши,⁴ доколе
¬ы не придете в страну, где получите храм богатейшийї.
“ак он промолвил. ќни же приказу его подчинились.
(√омеровы гимны. √имн јполлону ѕифийскому)
_______________________
[1] Πυθών (-ῶνος) ἡ (Hom., HH., Pind., Soph., Arph. = Πυθώ)
Πυθώ (-οῦς) ἡ (dat. Πῡθοῖ) ѕифо
1) древнее название местности у подошвы ѕарнасса в ‘окиде, где находилс€ город ƒельфы Hom., Her.
2) Pind. = Δελφοί
[2] Φοῖβος ὁ ‘еб, ЂЋучезарныйї (эпитет јполлона) Hom., Aesch. etc.
[3] Δελφοί αἱ ƒельфы (город в ‘окиде, у подножи€ ѕарнасса, с оракулом јполлона Ч у Hom. Πυθώ Ч HH., Pind., Her., Thuc. etc.)
Δελφίνιος ὁ ƒельфиний (эпитет јполлона) HH., Anth.
Δελφίνιον τό ƒельфиний
1) город на вост. побережье ’иоса Thuc.
2) св€тилище јполлона в јфинах.
Δελφίνι τό дельфин.
[4] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пэан (хоровой гимн, благодарственный, победный, военный, умилостивительный или скорбный, преимущ. в честь јполлона, реже јртемиды и других).
І2. ”стами ѕифии Ёсхил рассказывает кого почитали в ƒельфийском храме до јполлона.
¬ молитвах именую прежде всех богов
ѕервовещунью «емлю.⁵ ѕосле матери
‘емиду славлю,⁶ что на прорицалище
¬торой воссела, Ч помн€т были. “реть€ честь
5
ёнейшей “итаниде, ‘ебе.⁷ ƒочь «емли,
—естры произволеньем, не насилием
—т€жала ‘еба царство. ¬месте с именем
ѕрестол дан, бабкой внуку в колыбельный дар.
ќт озера отчизны, от ƒелийских скал,⁸
10
—юда причалив, к пристан€м ѕалладиным,
¬ удел ѕарнасский держит путь наследник Ч ‘еб,⁹
ѕривод€т бога в шествии торжественном
—ыны √ефеста; в заросл€х тропы тор€т, Ч
“вор€т гостеприимным нелюдимый дол.
15
ѕришельца ублажает и дарами чтит
Ќарод тогдашний этих мест и ƒельф, их царь.
—озиждил вещим «евс-отец сыновний дух:
¬ступил четвертым Ћоксий во св€тилище,¹⁰
ѕророком «евса: отчее вещает сын.
(Ёсхил. Ёвмениды, 1)
_______________________
[5] Γῆ, дор. Γᾶ и Γαῖα ἡ √е или √е€ (богин€ земли, дочь ’аоса, мать ”рана, ѕонта, ќкеана, »апета, ћнемосины и др.) Hes., Pind., Trag., Luc.
[6] Θέμις (-ιδος или -ιτος, эп. -ιστος, ион. -ιος) ἡ ‘емида (дочь ”рана и √еи, жена «евса, богин€ пор€дка и правосуди€, а также государственности и гражданских установлений) Hom., Hes.
ќбладание ‘емидой прорицалищем относ€т к ƒевкалионову потопу.
ЂЌимфам корикским [ орик Ч пещера на ѕарнасе] они [ƒевкалион и ѕирра], и гор божествам, помолились,
¬ещей ‘емиде, тогда прорицалищем оным владевшей.ї (ќвидий. ћетаморфозы I, 320)
[7] Φοίβη ἡ ‘еба (дочь ”рана и √еи, мать јстерии и Ћето) Hes.
[8] Δῆλος ἡ ƒелос (самый маленький из икладских островов, считалс€ местом рождени€ близнецов јполлона и јртемиды) Hom., HH., Her., Thuc.
[9] Φοῖβος ὁ ‘еб, ЂЋучезарныйї (эпитет јполлона) Hom., Aesch.
φοῖβος 3
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) си€ющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.).
[10] Λοξίας (-ου, ион. -εω) ὁ Ћоксий, Ђ¬итиеватыйї, т.е. Ђзапутанныйї в своих вещани€х (эпитет јполлона) Aesch., Soph.
јѕќЋЋќЌ ¬ Ќ”ћ»«ћј“» ≈

изик, ћизи€. —татер (EL 20mm, 16.11g), ок. 550-450 до н.э.
Av: крылата€ антропоморфна€ фигура јполлона с головой дельфина, в руке держит тунца;
Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.
_______________________________
__

изик, ћизи€. —татер (EL 23mm, 15.94g), ок. 400-330 до н.э.
Av: јполлон, лет€щий на грифоне, в правой руке держит лавровую ветвь; ниже Ч тунец;
Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.
_______________________________
.

ƒельфы, ‘окида, ƒельфийский союз (јмфиктиони€). —татер (AR 23mm, 12.27g), 336-334 до н.э.
Av: голова ƒеметры в венке из колосьев, покрыта€ полосом;
Rv: јполлон сидит на омфале, держит лавровый скипетр с листь€ми; локтем опираетс€ на лиру; слева Ч треножник; ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΩΝ
_______________________________

Ќикокл (325-306). ѕафос (Πάφος), ипр. ƒистатер (AR 26mm, 21.29g).
Av: голова јфродиты в высокой стефане с узором в виде городской стены; ѕ BA
Rv: јполлон в лавровом венке сидит на омфале, на плече накидка; в правой руке Ч стрела, левой придерживает лук; слева Ч лаврова€ ветвь; ΝΙΚΟΚΛΕΟΥΣ / ΠΑΦΙΟΝ
Х ¬ ѕафосе јфродиту почитали больше всех богов, и ее значимость подчеркнута буквами на аверсе: ѕ ¬A (Πάφου Βασίλισσα, ÷арица ѕафоса). ≈е стенной венец подчеркивает это, а также символизирует прочность и неприступность стен ѕафоса, защитницей которого она была. Ќа реверсе изображен јполлон, синкретизированный с √илатом, богом, изначально почитавшемс€ на ипре. √ород урион (Κούριον), который находилс€ неподалеку на западном побережье, был известен своим св€тилищем јполлона-√илата (Ἱερό τοῦ Ἀπόλλωνα Ὑλάτη). ¬ысказывалось предположение, что фигура на реверсе этой монеты изображает статую, установленную в ѕафосе, возможно, Ќикоклом, и впоследствии вывезенную в јнтиохию, где она послужила прототипом дл€ сид€щей фигуры јполлона, по€вившейс€ на монетах —елевкидов.
_______________________________

изик (Κύζικος), ћизи€. “етрадрахма (AR 26mm, 10.70g), ок. 300 до н.э.
Av: голова оры в венке из колосьев, покрыта€ пеплосом; ΣΩTEIPA
Rv: јполлон сидит на омфале с кифарой в руках, у ног лежит тунец; KYZI
_______________________________

—елевк II аллиник (246-225 до н.э.). —арды, √осударство —елевкидов. “етрадрахма (AR 30mm, 16.81g), ок. 246-242 до н.э.
Av: голова —елевка II в тении;
Rv: јполлон, в правой руке держит стрелу, локтем левой опираетс€ на треножник; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
_______________________________

јнтигон III ƒосон (Αντίγονος Γ ́ 229-221 до н.э.). “етрадрахма (AR 32mm, 16.38g), 227-225 до н.э.
Av: голова ѕосейдона в венке;
Rv: јполлон в лавровом венке сидит на проре, в левой руке Ч лук; BAΣIΛEΩΣ ANTI√ONOY
_______________________________

ћирина (Μύρινα), Ёолида. “етрадрахма (AR 32mm, 16.25g), ок. 160-143 до н.э.
јv: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: внутри лаврового венка јполлон √ринейский стоит с фиалой и лавровой ветвью в руках; у ног Ч омфал и амфора; MYPINAIΩN
Х Γρύνεια, -ιον τό √рине€ или √риней (портовый город в Ёолиде со св€тилищем јполлона) Her., Xen.
_______________________________

ќлинф, ’алкидийска€ лига (432-348), ћакедони€. “етрадрахма (AR 14.29g), ок. 358-355 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: кифара; XAΛKIΔEΩN / EΠI ANNIKA
_______________________________

ћилет, »они€. ƒрахма (AR 20mm, 5.35g), ок. 205 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: лев с повернутой назад головой; выше Ч солнце, в виде восьмиконечной звезды; [M]ENANΔΡ[ΟΣ].
_______________________________

јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, тиран —иракуз 317-289 до н.э.). —иракузы, —ицили€. 25 литр (EL 3.60g), ок. 310-305 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке, правее Ч лук;
Rv: треножник; ΣYPAKOΣIΩN
_______________________________

јмфиполис, ћакедони€. “етрадрахма (AR 14.42g), ок. 369/8 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: факел, слева Ч сфинкс; AMΦIΠOΛITΩN
_______________________________

ќлинф, ’алкидийска€ лига (432-348), ћакедони€. “етрадрахма (AR 24mm, 14.32g), ок. 395 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: семиструнна€ кифара; XAΛKIΔEΩN
_______________________________

‘илипп II (359-336 до н.э.). ѕелла, ћакедони€. —татер (AV 18mm, 8.59g), ок. 340-328 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: возница правит бигой; ниже Ч канфар; ΦΙΛΙΠΠΟΥ
_______________________________

јбдера, ‘раки€. —татер (AR 23mm, 11.29g), 336-311 до н.э. ћагистрат ѕитодор.
Av: голова јполлона в лавровом венке; ABΔH
Rv: грифон; справа голова олен€; EѕI ѕYΘOΔΩPOY
_______________________________
|
ћетки: јполлон ƒельфиний √реци€ Ќумизматика |
—ј“»–џ » —»Ћ≈Ќџ |
ƒневник |
—атиры (Σάτυροι) Ч низшие лесные божества греческой религии, демоны плодороди€. —атиры, согласно мифам, €вл€ютс€ потомством бога ѕана, отсюда их наполовину![—атир и нимфа, терракота, ок. 1780-90гг. лодион ( лод ћишель) [Clodion (Claude Michel), 1738-1814]. s_sn (300x403, 22Kb)](//img1.liveinternet.ru/images/attach/d/2/145/981/145981631_s_sn.jpg) козлина€ природа. Ќа ранних изображени€х, сатиры предстают козлоногими, покрытыми шерстью полулюдьми, иногда с небольшими козьими рогами и ушами. ¬идимо, от ѕана они перен€ли и любовь к игре на флейте. ћногоголосие флейт Ч непременный атрибут вакхических шествий и оргий. „асто сатиров изображают как существ хитрых и задиристых, устраивающих злые каверзы люд€м, забредшим в их владени€. Ќеуемна€ похотливость сатиров Ч наиболее частый сюжет в керамике, и даже на монетах, во множественных сценах преследовани€ нимф и менад. ѕристрастие к винным возли€ни€м также нашло широкое отражение в изобразительном искусстве. —атир с канфаром в руке или в обнимку с амфорой вина Ч весьма часта€ сцена на монетах VI-IV в. до н.э.
козлина€ природа. Ќа ранних изображени€х, сатиры предстают козлоногими, покрытыми шерстью полулюдьми, иногда с небольшими козьими рогами и ушами. ¬идимо, от ѕана они перен€ли и любовь к игре на флейте. ћногоголосие флейт Ч непременный атрибут вакхических шествий и оргий. „асто сатиров изображают как существ хитрых и задиристых, устраивающих злые каверзы люд€м, забредшим в их владени€. Ќеуемна€ похотливость сатиров Ч наиболее частый сюжет в керамике, и даже на монетах, во множественных сценах преследовани€ нимф и менад. ѕристрастие к винным возли€ни€м также нашло широкое отражение в изобразительном искусстве. —атир с канфаром в руке или в обнимку с амфорой вина Ч весьма часта€ сцена на монетах VI-IV в. до н.э.
—илены (Σειληνοί) Ч второстепенные божества, духи источников, рек и озер, т.е. мест, изобилующих богатой растительностью. ѕо происхождению силены св€заны с лидийскими и фригийскими сказани€ми о ¬акхе, который тоже имеет анатолийские корни, и очень непросто приживалс€ на греческой почве. ќтношение силенов к водной стихии выражаетс€ в их наполовину лошадиной природе, так как конь Ч относитс€ к группе животных, посв€щенных водным божествам греческой мифологии. ярким примером тому служит ѕосейдон, чьим св€щенным животным был конь. ќтличительными чертами силенов были конские копыта, уши и хвост.
силены св€заны с лидийскими и фригийскими сказани€ми о ¬акхе, который тоже имеет анатолийские корни, и очень непросто приживалс€ на греческой почве. ќтношение силенов к водной стихии выражаетс€ в их наполовину лошадиной природе, так как конь Ч относитс€ к группе животных, посв€щенных водным божествам греческой мифологии. ярким примером тому служит ѕосейдон, чьим св€щенным животным был конь. ќтличительными чертами силенов были конские копыта, уши и хвост.
ѕрирода силенов представл€ет собой соединение, с одной стороны, животного, низменного, пь€ного весель€ и балагурства, с другой Ч серьезного вакхического восторга, который про€вл€етс€ в музыкальном творчестве и пророческом экстазе. ¬ греческих сказани€х о силенах отразились обе эти стороны демонического характера силенов, хот€, вследствие смешени€ и сли€ни€ с сатирами, силенам приписали больше смешных и животных черт, чем было в их природе. ѕри этом многие атрибуты силенов, например атрибут осла, Ч обычный в малоазийских мифологических представлени€х символ пророческого дара, Ч были извращены в сторону комизма.
ѕодобно греческим сатирам, малоазийские силены считались изобретател€ми национальной музыки, а именно флейты. Ѕлизкое отношение силенов к музыке иллюстрируетс€ мифом о ћарсии, который в сказани€х называетс€ силеном и богом реки, протекавшей через фригийский город елены. ћарсий на аттической сцене изображалс€ как представитель устаревшей флейты, котора€ уступила представл€емой јполлоном кифаре. »менно под этим углом имеет смысл рассматривать рассказ о суде јполлона над ћарсием. јфина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. ћарсий, однако, подобрал флейту и довел игру на ней до такого совершенства, что осмелилс€ вызвать јполлона на сост€зание. ћидас, будучи судьей в этом соревновании, присудил победу ћарсию. “огда јполлон содрал с ћарси€ шкуру, а ћидаса, за его суд, наградил ослиными ушами. »з крови силена или слез нимф, оплакивавших гибель своего любимца, образовалась река, которой дали им€ ћарси€.
имеет смысл рассматривать рассказ о суде јполлона над ћарсием. јфина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. ћарсий, однако, подобрал флейту и довел игру на ней до такого совершенства, что осмелилс€ вызвать јполлона на сост€зание. ћидас, будучи судьей в этом соревновании, присудил победу ћарсию. “огда јполлон содрал с ћарси€ шкуру, а ћидаса, за его суд, наградил ослиными ушами. »з крови силена или слез нимф, оплакивавших гибель своего любимца, образовалась река, которой дали им€ ћарси€.
√реками силены были настолько адаптированы, что мало чем отличались от сатиров. » те, и другие были божествами плодороди€ (отсюда итифаллический образ). » те, и другие составл€ют свиту ƒиониса. Ќеодолима€ страсть к нимфам, божественному ¬акхову напитку, игре на флейтахЕ ƒаже копыта потер€ли примерно в одно врем€, максимально приблизившись к антропоморфному изображению. ≈динственно, что их отличает Ч это конский хвост силенов, и их же плешива€ голова. ¬идимо, из-за этой плешивости укоренилось представление, что Ђтех из сатиров, которые достигают преклонных лет, называют силенамиї (ѕавсаний. ќписание Ёллады I, 23:5). ’от€ сенофонт, устами —ократа, говорит, что Ђна€ды, богини, рождают силеновї ( сенофонт. ѕир V, 7).
≈сли уж ученые мужи перестали отличать силена от сатира, какой спрос с людей не особенно грамотных? ¬ этой св€зи не удивительно возникновение в греческой мифологии персонифицированного —илена, воспитател€ ƒиониса, который по природе своей был сатиром.¹
______________________________
[1] Σειληνός, ион. Σῑληνός ὁ —илен (сын √ермеса или ѕана, воспитатель и посто€нный спутник ¬акха, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пь€ным стариком) Pind., Her., Eur.
онвергенци€ образа сатиров и силенов столь глубока, что, даже при наличии конского хвоста, часто можно видеть, вместо лысой головы силенов, роскошную шевелюру, присущую сатирам. “.е. единственно верным отличительным признаком силенов осталс€ исключительно их конский развевающийс€ хвост. ¬прочем, распознавание сатиров и силенов по портретному изображению (например, на монетах) все же опираетс€ на наличие или отсутствие Ђрастительностиї на голове.
(например, на монетах) все же опираетс€ на наличие или отсутствие Ђрастительностиї на голове.
—ј“»–џ » —»Ћ≈Ќџ ¬ Ќ”ћ»«ћј“» ≈
_

1. —ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 9.87g), 525-480 до н.э. јрхаический стиль. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
2. —ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 19mm, 9.88g), 525-480 до н.э. јрхаический стиль. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.


3. ‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 21mm, 8.10g), ок. 480-463 до н.э. Av: сатир, схвативший нимфу; Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
4. —ирий, ‘раки€. —татер (AR 9.83g), ок. 490 до н.э. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части.


5. ‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 20mm, 8.65g), 412-404 до н.э. Av: силен, схвативший нимфу; A. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
6. ‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 21mm, 8.50g), 412-404 до н.э. Av: силен, схвативший нимфу; A. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.


7. изик, ћизи€. √екта (EL 11mm, 2.68g), ок. 500-450 до н.э. Av: силен наливает вино в канфар из амфоры; ниже Ч тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
8. ‘асос (Θάσος), ‘раки€. “ригемиобол (AR 12mm, 0.94g), 405-355 до н.э. Av: бегущий силен с киликом в руке. Rv: амфора в квадратном поле; ΘAΣEΩN


9. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. —татер (AV 9.12g), 350-300 до н.э. Av: голова сатира с козлиными ушами; Rv: рогатый грифон держит в зубах стрелу јполлона; ниже Ч колос; ѕAN
10. атана, —ицили€. ƒрахма (AR 10mm, 3.68g), ок 410-405 до н.э. Av: плешива€ голова силена с лошадиными ушами. Rv: рогата€ голова речного бога јменана перев€занна€ тенией; ΚΑΤΑΝΑΙΩΝ


11. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. √емидрахма (AR 27mm, 23.72g), ок. 303-293 до н.э. Av: голова сатира в венке из плюща. Rv: лев, подн€вший правую лапу; ΠΑΝΤΙ
12. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. —татер (AV 9.17g), 340-330 до н.э. Av: голова сатира в плющевом венке; Rv: рогатый грифон держит в зубах стрелу јполлона; ниже Ч колос; ѕAN


13. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. ƒрахма (AR 16mm, 3.45g), ок. 340-325 до н.э. Av: голова сатира; Rv: голова быка; ѕAN
14. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. ƒиобол (AR 13mm, 1.36g), ок. 355-340 до н.э. Av: голова силена в венке из плюща. Rv: голова барана; ΠΑΝΤΙ


15. атана, —ицили€. Ћитра (AR 12mm, 0.72g), ок 415-405 до н.э. Av: голова силена в венке из плюща. Rv: крылатый перун между двум€ щитами; ΚΑΤΑΝΑΙOΝ
16. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. Æ 24mm (13.48g), ок. 340-325 до н.э. Av: голова сатира в плющевом венке. Rv: лук и стрела; ΠΑΝΤΙ
_______________________________
![—атир и нимфа, терракота, ок. 1780-90гг. лодион ( лод ћишель) [Clodion (Claude Michel), 1738-1814]. s_sn (300x403, 22Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/2/145/981/145981631_s_sn.jpg) козлина€ природа. Ќа ранних изображени€х, сатиры предстают козлоногими, покрытыми шерстью полулюдьми, иногда с небольшими козьими рогами и ушами. ¬идимо, от ѕана они перен€ли и любовь к игре на флейте. ћногоголосие флейт Ч непременный атрибут вакхических шествий и оргий. „асто сатиров изображают как существ хитрых и задиристых, устраивающих злые каверзы люд€м, забредшим в их владени€. Ќеуемна€ похотливость сатиров Ч наиболее частый сюжет в керамике, и даже на монетах, во множественных сценах преследовани€ нимф и менад. ѕристрастие к винным возли€ни€м также нашло широкое отражение в изобразительном искусстве. —атир с канфаром в руке или в обнимку с амфорой вина Ч весьма часта€ сцена на монетах VI-IV в. до н.э.
козлина€ природа. Ќа ранних изображени€х, сатиры предстают козлоногими, покрытыми шерстью полулюдьми, иногда с небольшими козьими рогами и ушами. ¬идимо, от ѕана они перен€ли и любовь к игре на флейте. ћногоголосие флейт Ч непременный атрибут вакхических шествий и оргий. „асто сатиров изображают как существ хитрых и задиристых, устраивающих злые каверзы люд€м, забредшим в их владени€. Ќеуемна€ похотливость сатиров Ч наиболее частый сюжет в керамике, и даже на монетах, во множественных сценах преследовани€ нимф и менад. ѕристрастие к винным возли€ни€м также нашло широкое отражение в изобразительном искусстве. —атир с канфаром в руке или в обнимку с амфорой вина Ч весьма часта€ сцена на монетах VI-IV в. до н.э.—илены (Σειληνοί) Ч второстепенные божества, духи источников, рек и озер, т.е. мест, изобилующих богатой растительностью. ѕо происхождению
 силены св€заны с лидийскими и фригийскими сказани€ми о ¬акхе, который тоже имеет анатолийские корни, и очень непросто приживалс€ на греческой почве. ќтношение силенов к водной стихии выражаетс€ в их наполовину лошадиной природе, так как конь Ч относитс€ к группе животных, посв€щенных водным божествам греческой мифологии. ярким примером тому служит ѕосейдон, чьим св€щенным животным был конь. ќтличительными чертами силенов были конские копыта, уши и хвост.
силены св€заны с лидийскими и фригийскими сказани€ми о ¬акхе, который тоже имеет анатолийские корни, и очень непросто приживалс€ на греческой почве. ќтношение силенов к водной стихии выражаетс€ в их наполовину лошадиной природе, так как конь Ч относитс€ к группе животных, посв€щенных водным божествам греческой мифологии. ярким примером тому служит ѕосейдон, чьим св€щенным животным был конь. ќтличительными чертами силенов были конские копыта, уши и хвост.ѕрирода силенов представл€ет собой соединение, с одной стороны, животного, низменного, пь€ного весель€ и балагурства, с другой Ч серьезного вакхического восторга, который про€вл€етс€ в музыкальном творчестве и пророческом экстазе. ¬ греческих сказани€х о силенах отразились обе эти стороны демонического характера силенов, хот€, вследствие смешени€ и сли€ни€ с сатирами, силенам приписали больше смешных и животных черт, чем было в их природе. ѕри этом многие атрибуты силенов, например атрибут осла, Ч обычный в малоазийских мифологических представлени€х символ пророческого дара, Ч были извращены в сторону комизма.
ѕодобно греческим сатирам, малоазийские силены считались изобретател€ми национальной музыки, а именно флейты. Ѕлизкое отношение силенов к музыке иллюстрируетс€ мифом о ћарсии, который в сказани€х называетс€ силеном и богом реки, протекавшей через фригийский город елены. ћарсий на аттической сцене изображалс€ как представитель устаревшей флейты, котора€ уступила представл€емой јполлоном кифаре. »менно под этим углом
 имеет смысл рассматривать рассказ о суде јполлона над ћарсием. јфина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. ћарсий, однако, подобрал флейту и довел игру на ней до такого совершенства, что осмелилс€ вызвать јполлона на сост€зание. ћидас, будучи судьей в этом соревновании, присудил победу ћарсию. “огда јполлон содрал с ћарси€ шкуру, а ћидаса, за его суд, наградил ослиными ушами. »з крови силена или слез нимф, оплакивавших гибель своего любимца, образовалась река, которой дали им€ ћарси€.
имеет смысл рассматривать рассказ о суде јполлона над ћарсием. јфина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. ћарсий, однако, подобрал флейту и довел игру на ней до такого совершенства, что осмелилс€ вызвать јполлона на сост€зание. ћидас, будучи судьей в этом соревновании, присудил победу ћарсию. “огда јполлон содрал с ћарси€ шкуру, а ћидаса, за его суд, наградил ослиными ушами. »з крови силена или слез нимф, оплакивавших гибель своего любимца, образовалась река, которой дали им€ ћарси€.√реками силены были настолько адаптированы, что мало чем отличались от сатиров. » те, и другие были божествами плодороди€ (отсюда итифаллический образ). » те, и другие составл€ют свиту ƒиониса. Ќеодолима€ страсть к нимфам, божественному ¬акхову напитку, игре на флейтахЕ ƒаже копыта потер€ли примерно в одно врем€, максимально приблизившись к антропоморфному изображению. ≈динственно, что их отличает Ч это конский хвост силенов, и их же плешива€ голова. ¬идимо, из-за этой плешивости укоренилось представление, что Ђтех из сатиров, которые достигают преклонных лет, называют силенамиї (ѕавсаний. ќписание Ёллады I, 23:5). ’от€ сенофонт, устами —ократа, говорит, что Ђна€ды, богини, рождают силеновї ( сенофонт. ѕир V, 7).
≈сли уж ученые мужи перестали отличать силена от сатира, какой спрос с людей не особенно грамотных? ¬ этой св€зи не удивительно возникновение в греческой мифологии персонифицированного —илена, воспитател€ ƒиониса, который по природе своей был сатиром.¹
______________________________
[1] Σειληνός, ион. Σῑληνός ὁ —илен (сын √ермеса или ѕана, воспитатель и посто€нный спутник ¬акха, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пь€ным стариком) Pind., Her., Eur.
онвергенци€ образа сатиров и силенов столь глубока, что, даже при наличии конского хвоста, часто можно видеть, вместо лысой головы силенов, роскошную шевелюру, присущую сатирам. “.е. единственно верным отличительным признаком силенов осталс€ исключительно их конский развевающийс€ хвост. ¬прочем, распознавание сатиров и силенов по портретному изображению
 (например, на монетах) все же опираетс€ на наличие или отсутствие Ђрастительностиї на голове.
(например, на монетах) все же опираетс€ на наличие или отсутствие Ђрастительностиї на голове.Ђћужчины €вл€лись [во врем€ мистерий] в обличии козлов или коней, откуда Ч двойной тип —атира: козлоподобного (тип пелопонесский и св€занный с культом ѕана) и —атира Ч точнее, —илена, Ч снабженного конским хвостом, известный по аттическим вазам тип, так называемых, Ђконейї (ίπποι), которые упоминаютс€ еще, как служители или блюстители пор€дка дионисийской общины, в, найденном в афинских Ћимнах, уставе орфического религиозного братства II века.ї
(¬. »ванов. –елиги€ ƒиониса I, 2)
ЕЂв некоторых област€х √реции, главным образом в ѕелопоннесе, демоны плодороди€, в том числе и сатиры, представл€лись козлообразными. »наче в аттическом фольклоре, где пелопонесским козлам соответствовали конеобразные фигуры (силены); однако и в јфинах театральна€ маска сатира содержала, нар€ду с лошадиными чертами (грива, хвост), также и козлиные (бородка, козь€ шкура), и у аттических драматургов сатиры нередко именуютс€ Ђкозламиї (τράγοι).ї
(».ћ. “ронский. Ђ»стори€ античной литературыї с. 110)
—ј“»–џ » —»Ћ≈Ќџ ¬ Ќ”ћ»«ћј“» ≈
_


1. —ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 9.87g), 525-480 до н.э. јрхаический стиль. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
2. —ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 19mm, 9.88g), 525-480 до н.э. јрхаический стиль. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.


3. ‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 21mm, 8.10g), ок. 480-463 до н.э. Av: сатир, схвативший нимфу; Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
4. —ирий, ‘раки€. —татер (AR 9.83g), ок. 490 до н.э. Av: сатир, схвативший нимфу за руку; Rv: квадрат, разделенный на четыре части.


5. ‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 20mm, 8.65g), 412-404 до н.э. Av: силен, схвативший нимфу; A. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
6. ‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 21mm, 8.50g), 412-404 до н.э. Av: силен, схвативший нимфу; A. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.


7. изик, ћизи€. √екта (EL 11mm, 2.68g), ок. 500-450 до н.э. Av: силен наливает вино в канфар из амфоры; ниже Ч тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
8. ‘асос (Θάσος), ‘раки€. “ригемиобол (AR 12mm, 0.94g), 405-355 до н.э. Av: бегущий силен с киликом в руке. Rv: амфора в квадратном поле; ΘAΣEΩN


9. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. —татер (AV 9.12g), 350-300 до н.э. Av: голова сатира с козлиными ушами; Rv: рогатый грифон держит в зубах стрелу јполлона; ниже Ч колос; ѕAN
10. атана, —ицили€. ƒрахма (AR 10mm, 3.68g), ок 410-405 до н.э. Av: плешива€ голова силена с лошадиными ушами. Rv: рогата€ голова речного бога јменана перев€занна€ тенией; ΚΑΤΑΝΑΙΩΝ


11. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. √емидрахма (AR 27mm, 23.72g), ок. 303-293 до н.э. Av: голова сатира в венке из плюща. Rv: лев, подн€вший правую лапу; ΠΑΝΤΙ
12. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. —татер (AV 9.17g), 340-330 до н.э. Av: голова сатира в плющевом венке; Rv: рогатый грифон держит в зубах стрелу јполлона; ниже Ч колос; ѕAN


13. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. ƒрахма (AR 16mm, 3.45g), ок. 340-325 до н.э. Av: голова сатира; Rv: голова быка; ѕAN
14. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. ƒиобол (AR 13mm, 1.36g), ок. 355-340 до н.э. Av: голова силена в венке из плюща. Rv: голова барана; ΠΑΝΤΙ


15. атана, —ицили€. Ћитра (AR 12mm, 0.72g), ок 415-405 до н.э. Av: голова силена в венке из плюща. Rv: крылатый перун между двум€ щитами; ΚΑΤΑΝΑΙOΝ
16. ѕантикапей, Ѕоспор иммерийский. Æ 24mm (13.48g), ок. 340-325 до н.э. Av: голова сатира в плющевом венке. Rv: лук и стрела; ΠΑΝΤΙ
_______________________________
|
ћетки: —атир —илен √реци€ Ќумизматика |
ѕјЌ |
ƒневник |
ѕан (Πάν, Πᾱνός) Ч козлоногий и рогатый бог лесов, пастбищ и скота, изобретатель пастушеской свирели, чтившийс€ преимущественно в јркадии. ѕо јполлодору ѕана родила нимфа √ибрис (ὕβρις Ч Ђдерзостьї, Ђстроптивостьї) от св€зи с «евсом. ќднако более попул€рна верси€, изложенна€ в гомеровском гимне, согласно которой ѕан родилс€ от союза √ермеса и нимфы ƒриопы (Δρυόπη). »спуганна€ козлиной наружностью и необычайной живостью характера ребенка, нимфа бросила ѕана и убежала. Ќо √ермес, завернув свое дит€ в за€чьи шкуры, отнес его на ќлимп, где он до того развеселил всех богов своим видом и живостью, что боги назвали его ѕаном, так как он доставил всем (греч. πάς)¹ великую радость.
Ќо √ермес, завернув свое дит€ в за€чьи шкуры, отнес его на ќлимп, где он до того развеселил всех богов своим видом и живостью, что боги назвали его ѕаном, так как он доставил всем (греч. πάς)¹ великую радость.
____________________
[1] πᾶν n к πᾶς
πᾶς
1) (тж. πᾶς τις Thuc. etc.) вс€кий, каждый; ex.: πᾶς ἄνθρωπος Xen.
2) весь, целый; ex.: πᾶν κράτος Soph. Ч вс€ полнота могущества;
3) pl. все; ex.: πάντες τε θεοὴ πᾶσαί τε θέαιναι Hom.
ћиф о ѕане, как о забавном ребенке, развеселившем богов, сближает также им€ Πάν со словом πάιν (Ђдит€ї, Ђсынї), через сочетани€, к примеру, Ђмилое дит€ї или Ђ√ермесов сынї, с последующим искажением слова πάιν.² Ќесмотр€ на то, что, в изложении √омера, ѕан родилс€ бородатым, в √реции и јнатолии попул€рностью пользовалс€ образ безбородого юного ѕана.
____________________
[2] πάϊν Anth. acc. к πάϊς
παῖς, παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ ребенок, дит€, мальчик или девочка; ex.: π. παιδός Hom.;
—огласно Ёдвину Ѕрауну (Edwin L. Brown), знакома€ нам форма имени ѕана (Πάν) €вл€етс€ сокращением от более раннего варианта Ч Πάων, и родственно слову ὀπάων Ч Ђпастухї.
ὀπάων (-ονος) ὁ пастух (μήλων Pind.).
–оскошные долины и рощи јркадии Ч царство ѕана, где он резвитс€ в кругу веселых нимф. ѕод его флейту устраиваютс€ веселые, шумные хороводы. ѕо свидетельству ѕавсани€, Ђгора ћайнал (Μαίναλον) €вл€етс€ особенно св€щенной горой ѕана, настолько, что окрестные жители говор€т, будто они слышат, как ѕан играет здесь на свирелиї (ѕавсаний, ќписание Ёллады. јркади€, XXXVI:5).
¬ полдень, утомившись, ѕан засыпает и с ним засыпает вс€ природа под знойными лучами: это затишье считалось св€щенным и ни один пастух не осмеливалс€ нарушить его игрой на свирели, из бо€зни потревожить сон бога-покровител€.
огда горна€ тишина (особенно ночна€) нарушалась нечеловеческими отзвуками или криками, суеверие приписывало их ѕану. ѕоэтому страх, который испытывал человек, слыша резкие звуки, издаваемые ночными обитател€ми леса, называлс€ паническим.
¬идимо, из-за отождествлени€ с египетским богом Ѕанебджедетом (которого греки называли ћендетом),³ в образе барана, ѕан иногда почиталс€ также богом зарождающегос€ света, при восходе солнца. Ќа юго-западе јркадии, на границе с ћессенией, был древнейший храм, посв€щенный ѕану и —елене. ѕозднее это найдет отражение в мифе о любви ѕана к —елене, которую он расположил к себе тем, что дал ей часть своих стад.
____________________
[3] √еродот сообщает, что Ђѕан, на египетском €зыке Ч ћендесї (Πάν, Αἰγυπτιστί Μένδης). «абавно, что √еродот здесь переводит с греческого на греческий, потому что египетское им€ Ђћендесаї Ч Ѕанебджедет (Bȝ-nb-Ḏdt, Ђƒуша ба владыки [–а] ƒжедетаї; ƒжедет Ч египетское название города, который греки переименовали в ћендес). Ёто отождествление пон€тно, ибо Ѕанебджедет изображалс€ в образе барана (bȝ), либо антропоморфно с головой барана, и, помимо прочего, также почиталс€ как бог плодороди€.
Μένδης (-ητος) ἡ ћендет или ћендес (город в сев. части Ќильской дельты) Pind., Plut.
— другой стороны, по причине отождествлени€ с ѕаном, Ѕанебджедет греками (например, тем же √еродотом) именовалс€ Ђћендесским козломї. ¬прочем, это не единственный пример отождествлени€ ѕана с иноземным богом.
—толицей 9-го нома ¬ерхнего ≈гипта был город ’ент-ћин (совр. јхмим). ћин, главное божество города, пользовалс€ особым почтением не только среди местного населени€, толпы паломников стекались сюда из других культовых центров ћина ( оптос, ќмбос и Ќуби€). ќсобенностью иконографии ћина €вл€етс€ его €рко выраженна€ итифаличность. онечно же греки не могли оставить этот факт без внимани€. ћин был отождествлен с ѕаном, а город переименован в ѕанополис (Πανόπολις). Ётому отождествлению способствовало то, что ћин (как и ѕан) считалс€ богом плодороди€, скотоводства и деторождени€.
¬озвраща€сь к сол€рным аллюзи€м, переносимым на ѕана, это могло быть не только вли€ние египетских богов (в силу их отождествлени€), но и по причине созвучи€ имени ѕана (Πανός) со словом φανός.⁴
____________________
[4] φανός 3 {φαίνω}
I
1) светлый, €ркий (πῦρ Plat.);
2) белоснежный, чистый (χλαῖνα Arph.);
3) безм€тежный, радостный (εὐφροσύναι Aesch.; βίος Plat.);
4) прославленный, знаменитый (ἐλλόγιμος καὴ φ. Plat.);
II
ὁ факел, светоч Arph., Anth. (ὑπὸ φανοῦ Xen. Ч при свете факела).
¬ Ћикосуре (Λυκόσουρα), по свидетельству ѕавсани€, находилс€ знаменитый оракул в храме ѕана. —ами же Ћикейские горы в целом были посв€щены «евсу и тому же ѕану.⁵ ¬ местечке ћелпе€ (Μέλπεια) также были обнаружены останки храма ѕана, а среди артефактов множество бронзовых и глин€ных статуэток бога, датируемых VI-V в. до н.э.
ћелпе€ (Μέλπεια) также были обнаружены останки храма ѕана, а среди артефактов множество бронзовых и глин€ных статуэток бога, датируемых VI-V в. до н.э.
____________________
[5] Λύκαιον (ῠ) τό Ћикей, гора в юго-зап. јркадии, посв€щенна€ «евсу и ѕану Thuc.
“ак же как јполлон и √ермес, ѕан считалс€ покровителем путешественников (ἐνόδιος, Ђохран€ющий путиї); он указывал путь на суше и на море, усмир€€ морские волны звуками своей флейты. ак покровителю мор€ков, ѕану устанавливали небольшие св€тилища на побережье, что нашло отражение в эпитете Ђѕрибрежныйї.⁶
____________________
[6] ἄκτιος 2 прибрежный, береговой (эпитет ѕана) Theocr.
ѕану были посв€щены горы, пещеры, дубовые и сосновые рощи. ѕан не был городским божеством, и только по случайным поводам его почитали пам€тниками в городах. “ак, в јфинах ему был посв€щен грот на акрополе в пам€ть поражени€ персов, на которых будто ѕан навел (панический) ужас во врем€ сражени€.
роме ѕана, как индивидуального божества природы, были и другие божества паны (Πάνες) или паниски (Πανίσκοι) демонического характера, как и сатиры, считавшиес€ потомством ѕана Ч род леших с козлиными бородами, мучивших людей в горах и лесах, а также посылавших т€желые сны.⁷
[7] Πᾰνες pl. к Πάν
Πᾶνες οἱ дети ѕана, т.е. Σάτυροι HH., Her., Theocr., Arph. etc.
Πανίσκοι οἱ паниски (буквально: маленькие ѕаны) Ч то же самое, что сатиры; молодые сельские божки.
Σάτυρος ὁ —атир, лесное и полевое божество, получеловек-полукозел, спутник ¬акха, иногда отожд. с ним Hes., Trag., Anth.
√ќћ≈–ќ¬џ √»ћЌџ. XIX ѕјЌ”
(перевод ¬.¬. ¬ересаева)
—пой мне, о ћуза, про ѕана, √ермесова милого сына.
— нимфами светлыми он Ч козлоногий, двурогий, шумливый
Ѕродит по горным дубравам, под темною сенью деревьев.
Ќимфы с верхушек скалистых обрывов его призывают,
5
ѕана они призывают с курчавою, гр€зною шерстью,
Ѕога веселого пастбищ. ¬ удел отданы ему скалы,
—нежные горные главы, тропинки кремнистых утесов.
Ѕродит и здесь он и там, продира€сь сквозь частый кустарник;
“о приютитс€ над краем журчащего нежно потока,
10
“о со скалы на скалу понесетс€, все выше и выше,
¬плоть до макушки, откуда далеко все пастбища видны.
„асто мелькает он там, на сверкающих, белых равнинах,
„асто, охот€сь, по склонам проноситс€, с дикого звер€
ќстрых очей не спуска€. ак только же вечер наступит,
15
ончив охоту, берет он свирель, одиноко садитс€
» начинает так сладко играть, что т€гатьс€ и птичка
— ним не могла бы, когда она в чаще, призывно тоску€,
¬ пору обильной цветами весны заливаетс€ песней.
«вонкоголосые к богу сбираютс€ горные нимфы,
20
ѕл€шут вблизи родника темноводного быструю пл€ску,
» далеко по вершинам разноситс€ горное эхо.
—ам же он то в хороводе ступает, а то в середину
¬ыскочит, топает часто ногами, на звонкие песни
–аду€сь духом. » рысь€ за ним развеваетс€ шкура.
25
“ак они пл€шут на м€гком лугу, где с травой вперемежку
рокусы и гиацинты душистые густо пестреют.
ѕесни поют про великий ќлимп, про блаженных бессмертных,
» про √ермеса, Ч как всех, благодетельный, он превосходит,
ак дл€ богов олимпийских посланником служит проворным
30
» как в јркадию он, родниками обильную, прибыл,
¬ место, где выситс€ роща его на иллене св€щенной.
Ѕог Ч у смертного мужа там пас он овец густорунных.
“ам, дл€ себ€ незаметно, зажегс€ он нежною страстью
дочери ƒриопа, нимфе прекрасноволосой и стройной.
35
—корый устроилс€ брак. –одила ему нимфа в чертогах
ћноголюбивого сына, поистине чудище с виду!
Ѕыл он с рогами, с ногами козлиными, шумный, смешливый.
јхнула мать и вскочила и, бросив дит€, убежала:
¬ ужас пришла от его бородатого, страшного лика.
40
Ќа руки быстро √ермес благодетельный прин€л ребенка.
ќчень душой веселилс€ он, гл€д€ на милого сына.
— ним устремилс€ родитель в жилище блаженных бессмертных,
—ына укутавши шкурой пушистою горного зайца.
—ел перед «евсом властителем он меж другими богами
45
» показал им дит€. ѕокатилис€ со смеху боги.
Ѕольше же прочих бессмертных ¬акхей-ƒионис был утешен.
¬сех порадовал мальчик, Ч и назвали мальчика ѕаном.
ѕјЌ » Ќ»ћ‘џ
— ѕаном греки св€зывали изобретение многоствольной флейты. —огласно мифу, Ёрот ранил ѕана своей золотой стрелой, от чего тот загорелс€ страстью к нимфе —иринге. Ќо увидев ѕана, нимфа в ужасе обратилась в бегство. ѕан бросилс€ в погоню за —ирингой, и почти настиг ее. Ќо та стала молить бога реки спасти ее. Ѕог реки вн€л мольбам нимфы и превратил ее в тростник. ѕан срезал несколько тростинок и, скрепив их воском, сделал сладкозвучную свирель. — тех пор ѕан никогда не расстаетс€ со свирелью, котора€ носит им€ нимфы —иринги, оглаша€ ее нежными звуками окрестные горы.
ужасе обратилась в бегство. ѕан бросилс€ в погоню за —ирингой, и почти настиг ее. Ќо та стала молить бога реки спасти ее. Ѕог реки вн€л мольбам нимфы и превратил ее в тростник. ѕан срезал несколько тростинок и, скрепив их воском, сделал сладкозвучную свирель. — тех пор ѕан никогда не расстаетс€ со свирелью, котора€ носит им€ нимфы —иринги, оглаша€ ее нежными звуками окрестные горы.
Ѕог Ёрот, жела€ утешить ѕана, предсказал, что его игра на свирели сиринге будет привлекать к нему красавиц-нимф. » действительно, нимфы, едва заслышав свирель ѕана, сбегались и пл€сали под звуки его свирели. ѕрисоедин€лс€ к ним и ѕан, пуга€ и забавл€€ нимф своими прыжками в дикой пл€ске.
ќднажды нимфа ѕитис (Πίτυς), возлюбленна€ бога северного ветра Ѕоре€, услышала игру ѕана на сиринге и, восхищенна€ его музыкой, приблизилась к нему и завела с ним разговор. ”видев свою возлюбленную в обществе ѕана, Ѕорей из ревности прин€лс€ дуть с такой силой, что бедна€ нимфа не усто€ла на ногах, упала в пропасть и разбилась. Ѕоги превратили ѕитис в сосну,⁸ венок из веток которой ѕан стал носить на голове.
____________________
[8] πίτυς, -υος ἡ (эп. dat. pl. πίτυσσιν) италь€нска€ сосна, пини€ (Pinus pinea) Hom. etc.
≈ще одна нелегка€ судьба постигла горную нимфу Ёхо (Ἠχώ). —огласно мифу, она была одной из самых прекрасных нимф и обладала удивительным мелодичным голосом, равного которому не было во всей √реции. ќтвергнув домогательства влюбленного ѕана, Ёхо была жестоко наказана. ѕан посе€л безотчетный ужас и панику среди пастухов, внушив им, что опасность исходит от прекрасной нимфы. ќхваченные приступом безумного страха и €рости, пастухи растерзали нимфу. Ѕогин€ земли √е€ прин€ла останки Ёхо, но вз€в плоть, она оставила жить голос Ёхо, так плен€вший всех вокруг. — тех пор голос Ёхо⁹ люди слышат в горах, ущель€х и пещерах.
____________________
[9] ἠχώ, дор. ἀχώ (ᾱ), -οῦς ἡ 1) шум, грохот; 2) звук, глас; 3) вопль, жалоба, стон; 4) звуки речи, голос; 5) молва, слух; 6) отголосок, эхо (ex.: κορυφέν περιστένει οὔρεος ἠ. Hom. Ч горное эхо оглашает вершину).
ѕјЌ » —»–»Ќ√ј

—амой известной была меж гамадриад нонакринских¹⁰
ƒева-на€да одна, ее звали те нимфы —ирингой.
„асто спасалась она от сатиров, за нею бегущих,
» от различных богов, что в тенистом лесу обитают
» в плодородных пол€х. ќртигийскую чтила богиню¹¹
695
ƒелом и девством она. — по€ском, по уставу ƒианы,
¬зоры могли б обмануть и сойти за Ћатонию,¹² если б
Ќе был лук роговым, а у той золотым бы он не был.
ѕутали всЄ же их. –аз возвращалась —иринга с Ћике€;¹³
» увидал ее ѕан и, сосною увенчан колючей,
700
ћолвил он нимфе словаЕ Ч ѕривести лишь слова оставалось
» рассказать, как, отвергнув мольбы, убегала —иринга,
ак она к тихой реке, к Ћадону, поросшему тростьем,¹⁴
¬друг подошла; а когда ее бег прегражден был водою,
ќбраз ее изменить сестриц вод€ных попросила;
705
ѕану казалось уже, что держит в объ€ть€х —ирингу, Ч
Ќо не девический стан, а болотный тростник обнимал он;
ак он вздыхает и как, по тростинкам задвигавшись, ветер
“оненький звук издает, похожий на жалобный голос;
ак он, новым пленен искусством и сладостью звука,
710
Ђ¬ этом согласье, Ч сказал, Ч навсегда мы останемс€ вместе!ї
“ак повелось с той поры, что тростинки неровные, воском
—леплены между собой, сохран€ют той девушки им€.¹⁵
(ќвидий. ћетаморфозы I, 690)
____________________
[10] Ἁμαδρυάς (Ἁμα-δρυάς), -άδος ἡ гамадриада, Ђсоединенна€ с деревомї, лесна€ нимфа. Ќонакринскими гамадриады названы от Ќонакры Ч горы в јркадии.
[11] ќртигийска€ богин€ Ч ƒиана (греч. јртемида).
Ὀρτυγία adj. f рожденна€ на острове ќртиги€, ортигийска€ (эпитет јртемиды) Soph.
[12] Ћатони€ Ч ƒиана, дочь Ћатоны; соответствует греч. Ћетоида (Λητωΐς);
Λητωΐς, дор. Λᾱτωΐς (-ΐδος) ἡ Ћетоида, дочь Ћето, т.е. јртемида.
[13] Λύκαιον τό Ћикей, гора в юго-зап. јркадии, посв€щенна€ ѕану.
[14] Λάδων (-ωνος) ὁ Ћадон, река в јркадии, правый приток јлфе€.
[15] σῦριγξ (-ιγγος) ἡ сиринга, тростникова€ флейта.
ќт Ђтростникаї этимологизируетс€ не только им€ —иринги, но и само слово Ђфлейтаї (φλάουτο).
φλάουτο το флейта.
φλέως (-ω) ὁ тростник, камыш Arph., Arst.
ѕјЌ » ≈√ќ ѕќ“ќћ—“¬ќ ¬ Ќ”ћ»«ћј“» ≈
_______________________________

ћетапонтий (Μεταπόντιον), Ћукани€. Æ 11mm (1.34g), ок. 300-250 до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана в лавровом венке;
Rv: €чменный колос, справа Ч сиринга; META
_______________________________

ћитилена (Μιτυλήνη), Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.54g), ок. 377-326 до н.э.
Av: голова паниска в лавровом венке, на плечи накинута шкура, зав€занна€ на шее;
Rv: голова молодого ƒиониса в плющевом венке.
_______________________________

‘оке€ (Φώκαια), »они€. √екта (EL 10mm, 2.54g), ок. 478-387 до н.э.
Av: голова паниска с козлиными рогами и ушами;
Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.
_______________________________

‘оке€ (Φώκαια), »они€. √екта (EL 9mm, 2.56g), ок. 478-387 до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана;
Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.
_______________________________

ћегалополис (Μεγαλόπολη), јркадский союз (Ἀρκαδικόν). ќбол (AR 0.95g), ок. 340 до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана;
Rv: многоствольна€ флейта сиринга; монограмма јPK (јркадска€ лига).
_______________________________

“исна, Ёолида. ’алк (Æ 7mm, 1.19g), IV в. до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана;
Rv: меч в ножнах; TIΣNAION
_______________________________

‘оке€ (Φώκαια), »они€. √екта (EL 10mm, 2.56g), ок. 478-387 до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана в венке из плюща;
Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.
_______________________________

Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 8.42g), ок. 350 до н.э.
Av: голова ѕана в диадеме,¹⁶ с лагоболоном (λαγωβόλον) на правом плече; Rv: протома ѕегаса.
[16] ќчень редка€ монета. Ќепон€тно, что делает женское украшение на голове ѕана. ¬озможно, ошибка монетари€. —лово στεφάνη (стефана), помимо основного значени€ Ђвенецї, Ђободї (иногда встречающийс€ на голове ƒиониса, сатиров и селенов, вместо плющевого венка), также имеет значение Ђдиадемаї (женское украшение). ¬идимо, эта неоднозначность и привела к по€влению такого курьезного образа ѕана на монете.
_______________________________

√ордиан III (238-244). јдрианополь, ‘раки€. ƒупондий (Æ 22mm, 5.18g).
Av: бюст √ордиана в лучевой короне; AYT K M ANT √O–ΔIANOC
Rv: ѕан с педумом (pedum, Ђза€чий посохї) в левой руке и флейтой сирингой Ч в правой; AΔPIANOѕOΛ™ITΩN
_______________________________

аракалла (198-217). јдрианополь, ‘раки€. Æ 27 mm (11.62g).
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AYT K M AYP CEY ANTΩNEINOC
Rv: ѕан попирает ногой поверженную пантеру; в правой руке Ч педум (pedum), в левой руке Ч небрида; AΔPIANOΠOΛEITΩN
_______________________________

орнели€ —алонина (Augusta 254-268), жена √аллиена. ѕерге (Πέργη), ѕамфили€. Æ 29mm (15.09g).
Av: бюст —алонины; KOPNHΛIA CAΛΩNINA C™BA
Rv: ѕан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

орнели€ —алонина (Augusta 254-268), жена √аллиена. ѕерге (Πέργη), ѕамфили€. Æ 31mm (14.90g).
Av: бюст —алонины; KOPNHΛIA CAΛΩNINA C™BA
Rv: ѕан играет на флейте, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

орнели€ —алонина (Augusta 254-268), жена √аллиена. ѕерге, ѕамфили€. Æ 30mm (16.75g).
Av: бюст —алонины с лунным серпом за плечами; KOPNHΛIA CAΛΩNINA C™BA
Rv: сид€щий ѕан играет на флейте, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

ћаксимин I ‘ракиец (Caius Iulius Verus Maximinus Thrax, 235-238). ѕерге, ѕамфили€. Æ 25mm (10.57g).
Av: бюст ћаксимина в лавровом венке; AY √ IOY OYH MAΞIMON ™YC™B AY√
Rv: сид€щий ѕан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

‘илипп II (Caesar Marcus Iulius Severus Philippus Augustus, 247-249). ѕерге, ѕамфили€. Æ 23mm (8.07g).
Av: бюст ‘илиппа II в лавровом венке; AY K M IOY C™OY ΦIΛΛIΠΠOC C
Rv: сид€щий ѕан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

оммод (Lucius Aelius Aurelius Commodus, 177-192). јполлони€, ћизи€. Æ 19mm (4.17g).
Av: бюст аммода в лавровом венке; AY KAI M AYPH KOMMOΔOC
Rv: ѕан держит за рога козу, в левой руке Ч педум (pedum); AѕOΛΛΩNIATΩN
_______________________________

ёли€ ћаме€ (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Ќике€, ¬ифини€. ƒиассарий (Æ 25mm, 9.32g).
Av: бюст ёлии ћамеи; IOYΛIA MAMAIA AY√
Rv: ѕан в правой руке держит гроздь винограда, в левой Ч педум и накидку из шкуры; EYΣEΒΩN EYΓENΩN NIKAIEΩN
_______________________________
_
√ордиан III (238-244). јдрианополь, ‘раки€. ƒупондий (Æ 23mm, 5.88g).
Av: бюст √ордиана в лучевой короне; AYT K ANT √O–ΔIANOC
Rv: бегущий ѕан с педумом (pedum) в левой руке; AΔPIANOѕOΛEITΩN
_______________________________

Ёлагабал (218-222). Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€.
Æ 28mm (14.69g). онсул “иберий ‘лавий Ќовий –уф (Novius Rufus, consular legate).
Av: бюст Ёлагабала в лавровом венке; AYT K M AYP ANTΩNINOC
Rv: ѕан попирает ногой поверженную пантеру; в правой руке Ч педум (pedum), через левое плечо перекинута небрида; YΠ NOBIOY POYΦOY NIKOΠOΛITΩN ΠPOC ICTPΩ
_______________________________

јбдера, ‘раки€. —татер (AR 12.86g), ок. 411-385 до н.э.
Av: грифон с расправленными крыль€ми;
Rv: ѕан с лагоболоном (λαγωβόλον) в левой руке; ANAΞIѕOΛIΣ
_______________________________
_
—ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 9.87g), 525-480 до н.э. јрхаический стиль.
Av: козлоногий сатир, схвативший нимфу за руку;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
_______________________________
_
—ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 19mm, 9.88g), 525-480 до н.э. јрхаический стиль.
Av: козлоногий сатир, схвативший нимфу за руку;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
_______________________________

—ирий, ‘раки€. —татер (AR 8.94g), ок. 520 до н.э.
Av: сатир с за€чьим посохом (λαγωβόλον) и нимфа с венком;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
_______________________________

—ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 18mm, 10.06g), ок. 525-480 до н.э.
Av: сатир, схвативший нимфу за руку;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
_______________________________
.
‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 21mm, 8.10g), ок. 480-463 до н.э.
Av: сатир, схвативший нимфу;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
_______________________________
.
‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 23mm, 8.76g), 463-449 до н.э.
Av: сатир, схвативший нимфу;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
Х ‘асос, большой остров у западного побережь€ ‘ракии, приобрел свои огромные богатства благодар€ своим местным серебр€ным рудникам, а также шахтам, которые он контролировал на фракийском материке напротив островного города-государства. —огласно √еродоту (VI, 46), город ежегодно извлекал 200-300 талантов из эксплуатации этого минерального богатства. роме того, ‘асос приобрел большое материальное богатство как производитель и экспортер высококачественных вин, которое жестко регулировалось правительством, и, возможно, благодар€ этой торговле вином, ее чеканка распространилась по всему Ёгейскому морю, что сделало его широко признанной и прин€той чеканкой в дальних странах.
_______________________________

‘ранци€, ѕариж. Ѕронзова€ медаль (Æ 60mm, 95.86g), ок. 1909г. √равер јбель ЋафлЄр (Abel Lafleur).
Av: ѕан играющий под деревом на сиринге (многоствольна€ флейта), еще одна сиринга и тирс лежат на земле; по краю Ч орнамент из шишек.
Rv: ѕан преследует нимфу —ирингу в камышах; по краю Ч орнамент из лилий; [сигнатура: ABEL LAFLEUR]
_______________________________
 Ќо √ермес, завернув свое дит€ в за€чьи шкуры, отнес его на ќлимп, где он до того развеселил всех богов своим видом и живостью, что боги назвали его ѕаном, так как он доставил всем (греч. πάς)¹ великую радость.
Ќо √ермес, завернув свое дит€ в за€чьи шкуры, отнес его на ќлимп, где он до того развеселил всех богов своим видом и живостью, что боги назвали его ѕаном, так как он доставил всем (греч. πάς)¹ великую радость.____________________
[1] πᾶν n к πᾶς
πᾶς
1) (тж. πᾶς τις Thuc. etc.) вс€кий, каждый; ex.: πᾶς ἄνθρωπος Xen.
2) весь, целый; ex.: πᾶν κράτος Soph. Ч вс€ полнота могущества;
3) pl. все; ex.: πάντες τε θεοὴ πᾶσαί τε θέαιναι Hom.
ћиф о ѕане, как о забавном ребенке, развеселившем богов, сближает также им€ Πάν со словом πάιν (Ђдит€ї, Ђсынї), через сочетани€, к примеру, Ђмилое дит€ї или Ђ√ермесов сынї, с последующим искажением слова πάιν.² Ќесмотр€ на то, что, в изложении √омера, ѕан родилс€ бородатым, в √реции и јнатолии попул€рностью пользовалс€ образ безбородого юного ѕана.
____________________
[2] πάϊν Anth. acc. к πάϊς
παῖς, παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ ребенок, дит€, мальчик или девочка; ex.: π. παιδός Hom.;
—огласно Ёдвину Ѕрауну (Edwin L. Brown), знакома€ нам форма имени ѕана (Πάν) €вл€етс€ сокращением от более раннего варианта Ч Πάων, и родственно слову ὀπάων Ч Ђпастухї.
ὀπάων (-ονος) ὁ пастух (μήλων Pind.).
–оскошные долины и рощи јркадии Ч царство ѕана, где он резвитс€ в кругу веселых нимф. ѕод его флейту устраиваютс€ веселые, шумные хороводы. ѕо свидетельству ѕавсани€, Ђгора ћайнал (Μαίναλον) €вл€етс€ особенно св€щенной горой ѕана, настолько, что окрестные жители говор€т, будто они слышат, как ѕан играет здесь на свирелиї (ѕавсаний, ќписание Ёллады. јркади€, XXXVI:5).
¬ полдень, утомившись, ѕан засыпает и с ним засыпает вс€ природа под знойными лучами: это затишье считалось св€щенным и ни один пастух не осмеливалс€ нарушить его игрой на свирели, из бо€зни потревожить сон бога-покровител€.
огда горна€ тишина (особенно ночна€) нарушалась нечеловеческими отзвуками или криками, суеверие приписывало их ѕану. ѕоэтому страх, который испытывал человек, слыша резкие звуки, издаваемые ночными обитател€ми леса, называлс€ паническим.
¬идимо, из-за отождествлени€ с египетским богом Ѕанебджедетом (которого греки называли ћендетом),³ в образе барана, ѕан иногда почиталс€ также богом зарождающегос€ света, при восходе солнца. Ќа юго-западе јркадии, на границе с ћессенией, был древнейший храм, посв€щенный ѕану и —елене. ѕозднее это найдет отражение в мифе о любви ѕана к —елене, которую он расположил к себе тем, что дал ей часть своих стад.
____________________
[3] √еродот сообщает, что Ђѕан, на египетском €зыке Ч ћендесї (Πάν, Αἰγυπτιστί Μένδης). «абавно, что √еродот здесь переводит с греческого на греческий, потому что египетское им€ Ђћендесаї Ч Ѕанебджедет (Bȝ-nb-Ḏdt, Ђƒуша ба владыки [–а] ƒжедетаї; ƒжедет Ч египетское название города, который греки переименовали в ћендес). Ёто отождествление пон€тно, ибо Ѕанебджедет изображалс€ в образе барана (bȝ), либо антропоморфно с головой барана, и, помимо прочего, также почиталс€ как бог плодороди€.
Μένδης (-ητος) ἡ ћендет или ћендес (город в сев. части Ќильской дельты) Pind., Plut.
— другой стороны, по причине отождествлени€ с ѕаном, Ѕанебджедет греками (например, тем же √еродотом) именовалс€ Ђћендесским козломї. ¬прочем, это не единственный пример отождествлени€ ѕана с иноземным богом.
—толицей 9-го нома ¬ерхнего ≈гипта был город ’ент-ћин (совр. јхмим). ћин, главное божество города, пользовалс€ особым почтением не только среди местного населени€, толпы паломников стекались сюда из других культовых центров ћина ( оптос, ќмбос и Ќуби€). ќсобенностью иконографии ћина €вл€етс€ его €рко выраженна€ итифаличность. онечно же греки не могли оставить этот факт без внимани€. ћин был отождествлен с ѕаном, а город переименован в ѕанополис (Πανόπολις). Ётому отождествлению способствовало то, что ћин (как и ѕан) считалс€ богом плодороди€, скотоводства и деторождени€.
¬озвраща€сь к сол€рным аллюзи€м, переносимым на ѕана, это могло быть не только вли€ние египетских богов (в силу их отождествлени€), но и по причине созвучи€ имени ѕана (Πανός) со словом φανός.⁴
____________________
[4] φανός 3 {φαίνω}
I
1) светлый, €ркий (πῦρ Plat.);
2) белоснежный, чистый (χλαῖνα Arph.);
3) безм€тежный, радостный (εὐφροσύναι Aesch.; βίος Plat.);
4) прославленный, знаменитый (ἐλλόγιμος καὴ φ. Plat.);
II
ὁ факел, светоч Arph., Anth. (ὑπὸ φανοῦ Xen. Ч при свете факела).
¬ Ћикосуре (Λυκόσουρα), по свидетельству ѕавсани€, находилс€ знаменитый оракул в храме ѕана. —ами же Ћикейские горы в целом были посв€щены «евсу и тому же ѕану.⁵ ¬ местечке
 ћелпе€ (Μέλπεια) также были обнаружены останки храма ѕана, а среди артефактов множество бронзовых и глин€ных статуэток бога, датируемых VI-V в. до н.э.
ћелпе€ (Μέλπεια) также были обнаружены останки храма ѕана, а среди артефактов множество бронзовых и глин€ных статуэток бога, датируемых VI-V в. до н.э.____________________
[5] Λύκαιον (ῠ) τό Ћикей, гора в юго-зап. јркадии, посв€щенна€ «евсу и ѕану Thuc.
“ак же как јполлон и √ермес, ѕан считалс€ покровителем путешественников (ἐνόδιος, Ђохран€ющий путиї); он указывал путь на суше и на море, усмир€€ морские волны звуками своей флейты. ак покровителю мор€ков, ѕану устанавливали небольшие св€тилища на побережье, что нашло отражение в эпитете Ђѕрибрежныйї.⁶
____________________
[6] ἄκτιος 2 прибрежный, береговой (эпитет ѕана) Theocr.
ѕану были посв€щены горы, пещеры, дубовые и сосновые рощи. ѕан не был городским божеством, и только по случайным поводам его почитали пам€тниками в городах. “ак, в јфинах ему был посв€щен грот на акрополе в пам€ть поражени€ персов, на которых будто ѕан навел (панический) ужас во врем€ сражени€.
роме ѕана, как индивидуального божества природы, были и другие божества паны (Πάνες) или паниски (Πανίσκοι) демонического характера, как и сатиры, считавшиес€ потомством ѕана Ч род леших с козлиными бородами, мучивших людей в горах и лесах, а также посылавших т€желые сны.⁷
Ђ«десь же и паны в те дни на злачных резвились лужайках,____________________
¬ сонме на€д и дриад здесь вели хороводы сатирыїЕ
(¬ергилий. омар 115)
[7] Πᾰνες pl. к Πάν
Πᾶνες οἱ дети ѕана, т.е. Σάτυροι HH., Her., Theocr., Arph. etc.
Πανίσκοι οἱ паниски (буквально: маленькие ѕаны) Ч то же самое, что сатиры; молодые сельские божки.
Σάτυρος ὁ —атир, лесное и полевое божество, получеловек-полукозел, спутник ¬акха, иногда отожд. с ним Hes., Trag., Anth.
√ќћ≈–ќ¬џ √»ћЌџ. XIX ѕјЌ”
(перевод ¬.¬. ¬ересаева)
—пой мне, о ћуза, про ѕана, √ермесова милого сына.
— нимфами светлыми он Ч козлоногий, двурогий, шумливый

Ѕродит по горным дубравам, под темною сенью деревьев.
Ќимфы с верхушек скалистых обрывов его призывают,
5
ѕана они призывают с курчавою, гр€зною шерстью,
Ѕога веселого пастбищ. ¬ удел отданы ему скалы,
—нежные горные главы, тропинки кремнистых утесов.
Ѕродит и здесь он и там, продира€сь сквозь частый кустарник;
“о приютитс€ над краем журчащего нежно потока,
10
“о со скалы на скалу понесетс€, все выше и выше,
¬плоть до макушки, откуда далеко все пастбища видны.
„асто мелькает он там, на сверкающих, белых равнинах,
„асто, охот€сь, по склонам проноситс€, с дикого звер€
ќстрых очей не спуска€. ак только же вечер наступит,
15
ончив охоту, берет он свирель, одиноко садитс€
» начинает так сладко играть, что т€гатьс€ и птичка
— ним не могла бы, когда она в чаще, призывно тоску€,
¬ пору обильной цветами весны заливаетс€ песней.
«вонкоголосые к богу сбираютс€ горные нимфы,
20
ѕл€шут вблизи родника темноводного быструю пл€ску,
» далеко по вершинам разноситс€ горное эхо.
—ам же он то в хороводе ступает, а то в середину
¬ыскочит, топает часто ногами, на звонкие песни
–аду€сь духом. » рысь€ за ним развеваетс€ шкура.
25
“ак они пл€шут на м€гком лугу, где с травой вперемежку
рокусы и гиацинты душистые густо пестреют.
ѕесни поют про великий ќлимп, про блаженных бессмертных,
» про √ермеса, Ч как всех, благодетельный, он превосходит,
ак дл€ богов олимпийских посланником служит проворным
30
» как в јркадию он, родниками обильную, прибыл,
¬ место, где выситс€ роща его на иллене св€щенной.
Ѕог Ч у смертного мужа там пас он овец густорунных.
“ам, дл€ себ€ незаметно, зажегс€ он нежною страстью
дочери ƒриопа, нимфе прекрасноволосой и стройной.
35
—корый устроилс€ брак. –одила ему нимфа в чертогах
ћноголюбивого сына, поистине чудище с виду!
Ѕыл он с рогами, с ногами козлиными, шумный, смешливый.
јхнула мать и вскочила и, бросив дит€, убежала:
¬ ужас пришла от его бородатого, страшного лика.
40
Ќа руки быстро √ермес благодетельный прин€л ребенка.
ќчень душой веселилс€ он, гл€д€ на милого сына.
— ним устремилс€ родитель в жилище блаженных бессмертных,
—ына укутавши шкурой пушистою горного зайца.
—ел перед «евсом властителем он меж другими богами
45
» показал им дит€. ѕокатилис€ со смеху боги.
Ѕольше же прочих бессмертных ¬акхей-ƒионис был утешен.
¬сех порадовал мальчик, Ч и назвали мальчика ѕаном.
ѕјЌ » Ќ»ћ‘џ
— ѕаном греки св€зывали изобретение многоствольной флейты. —огласно мифу, Ёрот ранил ѕана своей золотой стрелой, от чего тот загорелс€ страстью к нимфе —иринге. Ќо увидев ѕана, нимфа в
 ужасе обратилась в бегство. ѕан бросилс€ в погоню за —ирингой, и почти настиг ее. Ќо та стала молить бога реки спасти ее. Ѕог реки вн€л мольбам нимфы и превратил ее в тростник. ѕан срезал несколько тростинок и, скрепив их воском, сделал сладкозвучную свирель. — тех пор ѕан никогда не расстаетс€ со свирелью, котора€ носит им€ нимфы —иринги, оглаша€ ее нежными звуками окрестные горы.
ужасе обратилась в бегство. ѕан бросилс€ в погоню за —ирингой, и почти настиг ее. Ќо та стала молить бога реки спасти ее. Ѕог реки вн€л мольбам нимфы и превратил ее в тростник. ѕан срезал несколько тростинок и, скрепив их воском, сделал сладкозвучную свирель. — тех пор ѕан никогда не расстаетс€ со свирелью, котора€ носит им€ нимфы —иринги, оглаша€ ее нежными звуками окрестные горы.Ѕог Ёрот, жела€ утешить ѕана, предсказал, что его игра на свирели сиринге будет привлекать к нему красавиц-нимф. » действительно, нимфы, едва заслышав свирель ѕана, сбегались и пл€сали под звуки его свирели. ѕрисоедин€лс€ к ним и ѕан, пуга€ и забавл€€ нимф своими прыжками в дикой пл€ске.
ќднажды нимфа ѕитис (Πίτυς), возлюбленна€ бога северного ветра Ѕоре€, услышала игру ѕана на сиринге и, восхищенна€ его музыкой, приблизилась к нему и завела с ним разговор. ”видев свою возлюбленную в обществе ѕана, Ѕорей из ревности прин€лс€ дуть с такой силой, что бедна€ нимфа не усто€ла на ногах, упала в пропасть и разбилась. Ѕоги превратили ѕитис в сосну,⁸ венок из веток которой ѕан стал носить на голове.
____________________
[8] πίτυς, -υος ἡ (эп. dat. pl. πίτυσσιν) италь€нска€ сосна, пини€ (Pinus pinea) Hom. etc.
≈ще одна нелегка€ судьба постигла горную нимфу Ёхо (Ἠχώ). —огласно мифу, она была одной из самых прекрасных нимф и обладала удивительным мелодичным голосом, равного которому не было во всей √реции. ќтвергнув домогательства влюбленного ѕана, Ёхо была жестоко наказана. ѕан посе€л безотчетный ужас и панику среди пастухов, внушив им, что опасность исходит от прекрасной нимфы. ќхваченные приступом безумного страха и €рости, пастухи растерзали нимфу. Ѕогин€ земли √е€ прин€ла останки Ёхо, но вз€в плоть, она оставила жить голос Ёхо, так плен€вший всех вокруг. — тех пор голос Ёхо⁹ люди слышат в горах, ущель€х и пещерах.
____________________
[9] ἠχώ, дор. ἀχώ (ᾱ), -οῦς ἡ 1) шум, грохот; 2) звук, глас; 3) вопль, жалоба, стон; 4) звуки речи, голос; 5) молва, слух; 6) отголосок, эхо (ex.: κορυφέν περιστένει οὔρεος ἠ. Hom. Ч горное эхо оглашает вершину).
ѕјЌ » —»–»Ќ√ј

—амой известной была меж гамадриад нонакринских¹⁰
ƒева-на€да одна, ее звали те нимфы —ирингой.
„асто спасалась она от сатиров, за нею бегущих,
» от различных богов, что в тенистом лесу обитают
» в плодородных пол€х. ќртигийскую чтила богиню¹¹
695
ƒелом и девством она. — по€ском, по уставу ƒианы,
¬зоры могли б обмануть и сойти за Ћатонию,¹² если б
Ќе был лук роговым, а у той золотым бы он не был.
ѕутали всЄ же их. –аз возвращалась —иринга с Ћике€;¹³
» увидал ее ѕан и, сосною увенчан колючей,
700
ћолвил он нимфе словаЕ Ч ѕривести лишь слова оставалось
» рассказать, как, отвергнув мольбы, убегала —иринга,
ак она к тихой реке, к Ћадону, поросшему тростьем,¹⁴
¬друг подошла; а когда ее бег прегражден был водою,
ќбраз ее изменить сестриц вод€ных попросила;
705
ѕану казалось уже, что держит в объ€ть€х —ирингу, Ч
Ќо не девический стан, а болотный тростник обнимал он;
ак он вздыхает и как, по тростинкам задвигавшись, ветер
“оненький звук издает, похожий на жалобный голос;
ак он, новым пленен искусством и сладостью звука,
710
Ђ¬ этом согласье, Ч сказал, Ч навсегда мы останемс€ вместе!ї
“ак повелось с той поры, что тростинки неровные, воском
—леплены между собой, сохран€ют той девушки им€.¹⁵
(ќвидий. ћетаморфозы I, 690)
____________________
[10] Ἁμαδρυάς (Ἁμα-δρυάς), -άδος ἡ гамадриада, Ђсоединенна€ с деревомї, лесна€ нимфа. Ќонакринскими гамадриады названы от Ќонакры Ч горы в јркадии.
[11] ќртигийска€ богин€ Ч ƒиана (греч. јртемида).
Ὀρτυγία adj. f рожденна€ на острове ќртиги€, ортигийска€ (эпитет јртемиды) Soph.
[12] Ћатони€ Ч ƒиана, дочь Ћатоны; соответствует греч. Ћетоида (Λητωΐς);
Λητωΐς, дор. Λᾱτωΐς (-ΐδος) ἡ Ћетоида, дочь Ћето, т.е. јртемида.
[13] Λύκαιον τό Ћикей, гора в юго-зап. јркадии, посв€щенна€ ѕану.
[14] Λάδων (-ωνος) ὁ Ћадон, река в јркадии, правый приток јлфе€.
[15] σῦριγξ (-ιγγος) ἡ сиринга, тростникова€ флейта.
ќт Ђтростникаї этимологизируетс€ не только им€ —иринги, но и само слово Ђфлейтаї (φλάουτο).
φλάουτο το флейта.
φλέως (-ω) ὁ тростник, камыш Arph., Arst.
ѕјЌ » ≈√ќ ѕќ“ќћ—“¬ќ ¬ Ќ”ћ»«ћј“» ≈
_______________________________

ћетапонтий (Μεταπόντιον), Ћукани€. Æ 11mm (1.34g), ок. 300-250 до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана в лавровом венке;
Rv: €чменный колос, справа Ч сиринга; META
_______________________________

ћитилена (Μιτυλήνη), Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.54g), ок. 377-326 до н.э.
Av: голова паниска в лавровом венке, на плечи накинута шкура, зав€занна€ на шее;
Rv: голова молодого ƒиониса в плющевом венке.
_______________________________

‘оке€ (Φώκαια), »они€. √екта (EL 10mm, 2.54g), ок. 478-387 до н.э.
Av: голова паниска с козлиными рогами и ушами;
Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.
_______________________________

‘оке€ (Φώκαια), »они€. √екта (EL 9mm, 2.56g), ок. 478-387 до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана;
Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.
_______________________________

ћегалополис (Μεγαλόπολη), јркадский союз (Ἀρκαδικόν). ќбол (AR 0.95g), ок. 340 до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана;
Rv: многоствольна€ флейта сиринга; монограмма јPK (јркадска€ лига).
_______________________________

“исна, Ёолида. ’алк (Æ 7mm, 1.19g), IV в. до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана;
Rv: меч в ножнах; TIΣNAION
_______________________________

‘оке€ (Φώκαια), »они€. √екта (EL 10mm, 2.56g), ок. 478-387 до н.э.
Av: рогата€ голова ѕана в венке из плюща;
Rv: квадратное поле разделенное на четыре части.
_______________________________

Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 8.42g), ок. 350 до н.э.
Av: голова ѕана в диадеме,¹⁶ с лагоболоном (λαγωβόλον) на правом плече; Rv: протома ѕегаса.
[16] ќчень редка€ монета. Ќепон€тно, что делает женское украшение на голове ѕана. ¬озможно, ошибка монетари€. —лово στεφάνη (стефана), помимо основного значени€ Ђвенецї, Ђободї (иногда встречающийс€ на голове ƒиониса, сатиров и селенов, вместо плющевого венка), также имеет значение Ђдиадемаї (женское украшение). ¬идимо, эта неоднозначность и привела к по€влению такого курьезного образа ѕана на монете.
_______________________________

√ордиан III (238-244). јдрианополь, ‘раки€. ƒупондий (Æ 22mm, 5.18g).
Av: бюст √ордиана в лучевой короне; AYT K M ANT √O–ΔIANOC
Rv: ѕан с педумом (pedum, Ђза€чий посохї) в левой руке и флейтой сирингой Ч в правой; AΔPIANOѕOΛ™ITΩN
_______________________________

аракалла (198-217). јдрианополь, ‘раки€. Æ 27 mm (11.62g).
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AYT K M AYP CEY ANTΩNEINOC
Rv: ѕан попирает ногой поверженную пантеру; в правой руке Ч педум (pedum), в левой руке Ч небрида; AΔPIANOΠOΛEITΩN
_______________________________

орнели€ —алонина (Augusta 254-268), жена √аллиена. ѕерге (Πέργη), ѕамфили€. Æ 29mm (15.09g).
Av: бюст —алонины; KOPNHΛIA CAΛΩNINA C™BA
Rv: ѕан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

орнели€ —алонина (Augusta 254-268), жена √аллиена. ѕерге (Πέργη), ѕамфили€. Æ 31mm (14.90g).
Av: бюст —алонины; KOPNHΛIA CAΛΩNINA C™BA
Rv: ѕан играет на флейте, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

орнели€ —алонина (Augusta 254-268), жена √аллиена. ѕерге, ѕамфили€. Æ 30mm (16.75g).
Av: бюст —алонины с лунным серпом за плечами; KOPNHΛIA CAΛΩNINA C™BA
Rv: сид€щий ѕан играет на флейте, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

ћаксимин I ‘ракиец (Caius Iulius Verus Maximinus Thrax, 235-238). ѕерге, ѕамфили€. Æ 25mm (10.57g).
Av: бюст ћаксимина в лавровом венке; AY √ IOY OYH MAΞIMON ™YC™B AY√
Rv: сид€щий ѕан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

‘илипп II (Caesar Marcus Iulius Severus Philippus Augustus, 247-249). ѕерге, ѕамфили€. Æ 23mm (8.07g).
Av: бюст ‘илиппа II в лавровом венке; AY K M IOY C™OY ΦIΛΛIΠΠOC C
Rv: сид€щий ѕан играет на сиринге, в левой руке держит педум (pedum); ѕ™P√AIΩN
_______________________________

оммод (Lucius Aelius Aurelius Commodus, 177-192). јполлони€, ћизи€. Æ 19mm (4.17g).
Av: бюст аммода в лавровом венке; AY KAI M AYPH KOMMOΔOC
Rv: ѕан держит за рога козу, в левой руке Ч педум (pedum); AѕOΛΛΩNIATΩN
_______________________________

ёли€ ћаме€ (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Ќике€, ¬ифини€. ƒиассарий (Æ 25mm, 9.32g).
Av: бюст ёлии ћамеи; IOYΛIA MAMAIA AY√
Rv: ѕан в правой руке держит гроздь винограда, в левой Ч педум и накидку из шкуры; EYΣEΒΩN EYΓENΩN NIKAIEΩN
_______________________________
_

√ордиан III (238-244). јдрианополь, ‘раки€. ƒупондий (Æ 23mm, 5.88g).
Av: бюст √ордиана в лучевой короне; AYT K ANT √O–ΔIANOC
Rv: бегущий ѕан с педумом (pedum) в левой руке; AΔPIANOѕOΛEITΩN
_______________________________

Ёлагабал (218-222). Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€.
Æ 28mm (14.69g). онсул “иберий ‘лавий Ќовий –уф (Novius Rufus, consular legate).
Av: бюст Ёлагабала в лавровом венке; AYT K M AYP ANTΩNINOC
Rv: ѕан попирает ногой поверженную пантеру; в правой руке Ч педум (pedum), через левое плечо перекинута небрида; YΠ NOBIOY POYΦOY NIKOΠOΛITΩN ΠPOC ICTPΩ
_______________________________

јбдера, ‘раки€. —татер (AR 12.86g), ок. 411-385 до н.э.
Av: грифон с расправленными крыль€ми;
Rv: ѕан с лагоболоном (λαγωβόλον) в левой руке; ANAΞIѕOΛIΣ
_______________________________
_

—ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 9.87g), 525-480 до н.э. јрхаический стиль.
Av: козлоногий сатир, схвативший нимфу за руку;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
_______________________________
_

—ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 19mm, 9.88g), 525-480 до н.э. јрхаический стиль.
Av: козлоногий сатир, схвативший нимфу за руку;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
_______________________________

—ирий, ‘раки€. —татер (AR 8.94g), ок. 520 до н.э.
Av: сатир с за€чьим посохом (λαγωβόλον) и нимфа с венком;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
_______________________________

—ирий (Σῖρις), ‘раки€. —татер (AR 18mm, 10.06g), ок. 525-480 до н.э.
Av: сатир, схвативший нимфу за руку;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части по диагонали.
_______________________________
.

‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 21mm, 8.10g), ок. 480-463 до н.э.
Av: сатир, схвативший нимфу;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
_______________________________
.

‘асос (Θάσος), ‘раки€. —татер (AR 23mm, 8.76g), 463-449 до н.э.
Av: сатир, схвативший нимфу;
Rv: квадрат, разделенный на четыре части.
Х ‘асос, большой остров у западного побережь€ ‘ракии, приобрел свои огромные богатства благодар€ своим местным серебр€ным рудникам, а также шахтам, которые он контролировал на фракийском материке напротив островного города-государства. —огласно √еродоту (VI, 46), город ежегодно извлекал 200-300 талантов из эксплуатации этого минерального богатства. роме того, ‘асос приобрел большое материальное богатство как производитель и экспортер высококачественных вин, которое жестко регулировалось правительством, и, возможно, благодар€ этой торговле вином, ее чеканка распространилась по всему Ёгейскому морю, что сделало его широко признанной и прин€той чеканкой в дальних странах.
_______________________________

‘ранци€, ѕариж. Ѕронзова€ медаль (Æ 60mm, 95.86g), ок. 1909г. √равер јбель ЋафлЄр (Abel Lafleur).
Av: ѕан играющий под деревом на сиринге (многоствольна€ флейта), еще одна сиринга и тирс лежат на земле; по краю Ч орнамент из шишек.
Rv: ѕан преследует нимфу —ирингу в камышах; по краю Ч орнамент из лилий; [сигнатура: ABEL LAFLEUR]
_______________________________
|
ћетки: ѕан —атир √реци€ Ќумизматика |
јѕќЋЋќЌ ј–’ј»„Ќџ… |
ƒневник |
ј.‘. Ћосев
ћ»‘ќЋќ√»я јѕќЋЋќЌј
јполлон всегда считалс€ наиболее греческим богом, наиболее типичной фигурой дл€ всей античной мифологии. ќднако, отдельные голоса о негреческом, и в частности малоазиатском, происхождении јполлона раздавались в науке уже давно. “аковы работы ј.Ўенборна Ђќ сущности јполлона и о распространении его культаї, ‘.¬елькера Ђ√реческа€ мифологи€ї, ј.Ѕуше-Ћеклерка Ђ»стори€ божества в античностиї. Ќо только после известной работы ¬иламовица об јполлоне в журнале Hermes 1903г. стали всерьез говорить о малоазиатском происхождении јполлона. ¬иламовиц базируетс€ на антагонизме между јполлоном и греками у √омера, что действительно бросаетс€ в глаза. Ёто соображение делает точку зрени€ ¬иламовица достаточно убедительной. ¬ защиту ¬иламовица высказалс€ Ќильссон. ќднако он, с одной стороны, оспаривает выведение јполлона из Ћикии, а с другой стороны, указывает на его еще более отдаленные корни.
јполлон у √омера изображаетс€ всегдашним покровителем тро€нцев. √реки же если его и признают, то больше испытывают перед ним страх, и он дл€ них δεινός θεός Ч Ђстрашный богї. ¬ эпитете δεινός соедин€етс€ представление о величии и неимоверной силе с ужасом перед чуждым и неведомым демоном.¹
_______________________________
[1] ¬еро€тно, возникновение темы страха перед Ђужаснымї богом св€зано со смешением эпитета ‘еб (φοῖβος), что значит Ђчистыйї, Ђсветлыйї, со словом φόβος Ч Ђстрахї, Ђужасї. Ќе менее значимые созвучи€ Ч между именем Ἀπόλλων и словами ἐπόλλων (Ђгуб€щийї), ἀπολλύω (Ђгубить, уничтожатьї).
Φοῖβος ὁ ‘еб, ЂЋучезарныйї (эпитет јполлона) Hom., Aesch.
φοῖβος 3
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) си€ющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.)
φόβος ὁ
1) страх, ужас, бо€знь (ὀρθόθριξ φ. Aesch. Ч страх, от которого волосы станов€тс€ дыбом);
2) страшна€ пора, ужасное врем€;
3) ужасна€ вещь, страшное событие, ужас;
4) (паническое) бегство (πρῶτος ἦρξε φόβοιο Hom.)
ἀπολλύω = ἀπόλλυμι Thuc., Arst.
ἀπόλλυμι (pf. 1 ἀπολώλεκα) губить, уничтожать (πόλιν Hom., Plut.; λαὸν Ἀχαιῶν Hom.); ex: οἱ ἀπολλύντες Soph. Ч убийцы.
¬ажно отметить большую оригинальность и самого культа јполлона в √реции. ульт этот распространилс€ повсеместно, но специально аполлоновских праздников было мало. »звестны знаменитые празднества в ƒельфах, на ƒелосе, јполлона ѕтойского в Ѕеотии, јполлона “еоксени€ в ѕеллене, јполлона ѕарраси€ в јркадии, јполлона с јртемидой в —икионе. јполлоновский культ часто по€вл€лс€ на месте того или иного древнегреческого культа, оттесн€€ его, но заимству€ из него много существенных черт. ћожно предполагать, что јполлон пришел в √рецию именно со стороны и что он оттеснил многих старогреческих богов и героев.
—овсем другую картину в этом отношении представл€ет собой ћала€ јзи€, где культ јполлона очень древен и где с давних пор были его знаменитые оракулы. Ќа ƒелосе же и в ƒельфах, как это усиленно подчеркивают соответствующие мифы, јполлон всегда мыслилс€ пришельцем со стороны. “акже и экстатическа€ мантика (прорицани€) оракулов јполлона издавна процветала именно в ћалой јзии.
јполлон принес с собой из ћалой јзии почитание седьмого дн€ каждого мес€ца, в то врем€ как обычное греческое празднование каждого мес€ца происходило в полнолуние. Ќо ѕередн€€ јзи€, конечно, не была колыбелью этого седьмого дн€. Ќильссон указывает на то, что в ѕередней јзии это почитание седьмого дн€ могло развитьс€ только благодар€ вли€нию ¬авилона, где как раз издавна очень тщательно соблюдалс€ солнечно-лунный календарь и где впервые были произведены точные наблюдени€ над движени€ми небесных тел. ѕроисхождение этого седьмого дн€ из источников чисто греческих было бы необъ€снимо. ƒаже пеан (παιάν), знаменита€ победна€ и хвалебна€ песнь в честь јполлона, первоначально имела, по Ќильссону, чисто магическое значение, как песнь, сопровождавша€ ритуал очищени€ и исцелени€.²
_______________________________
[2] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пэан Ч хоровой гимн, благодарственный, победный, военный, умилостивительный или скорбный, преимущественно в честь јполлона, реже јртемиды и др. (ἐξάρχειν παιᾶνος ἐπινικίου Plut. Ч запеть пэан в честь победы).
Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ
1) ѕэан (бог-целитель, после √омера отождествл€лс€ преимущественно с јполлоном, реже с јсклепием и др.); ex. Παιήονος γενέθλη Hom. Ч сыны ѕэана, т.е. врачи;
2) целитель, избавитель.
ј√»≈…
¬ поисках более достоверного места зарождени€ культа и мифа јполлона, если миновать не вполне достоверные в этом смысле Ћикию, арию и пограничные с ними области, мы наталкиваемс€ на хеттитов, от которых дошел один текст. Ѕ.√розный и за ним Ќильссон склонны находить в нем указание на отдаленный прототип греческого јполлона. ¬ этом тексте среди прочих богов упоминаетс€ јпулунас, и √розный сопоставл€ет его с вавилонским словом abullu, что значит Ђворотаї. ’еттский јпулунас в таком случае оказалс€ бы богом ворот в качестве охранител€ города или дома Ч нечто вроде греческого јполлона јгие€ (ἀγυιεύς) Ч ”личного (ƒорожного). “акова гипотеза, вывод€ща€ греческого јполлона из хеттской мифологии, откуда он перешел и в јссиро-¬авилонию.
Ёпитет јполлона Ч јгией (ἀγυιεύς), по мнению античных схолиастов и лексикографов, означает не что иное, как Ђстолбовойї.³ ” схолиаста јристофана читаем: Ђќни имели обычай водружать перед двер€ми колонны, суживающиес€ кверху, называемые обелисками, в честь јполлона Ёгие€ї. —вида сообщает: Ђ”личный (ἀγυιεύς) Ч есть колонна, котора€ заканчиваетс€ кверху острием. Ёти колонны став€т перед двер€ми. ќдни говор€т, что они специфичны дл€ јполлона, другие же Ч дл€ ƒиониса, а третьи Ч дл€ того и другогої. “ак же у √есихи€: Ђјгией (ἀγυιεύς) Ч поставленный у двери алтарь в виде колонныї.⁴
_______________________________
[3] ἀγυιεύς (-έως) ὁ
1) покровитель дорог и улиц, хранитель путей (эпитет јполлона) Eur., Dem.
2) алтарь или столб в честь јполлона Soph., Arph.
ἀγυιαῖος предполож. хранимый јполлоном (γῆ Soph.);
ἀγυιάτης (-ου) ὁ хранитель дорог (эпитет јполлона) Eur.
[4] «десь откровенно египетский след. „етырехгранные обелиски, суживающиес€ кверху, и заканчивающиес€ острием Ч это хорошо известный фетиш египетского города »уну. —толбы посв€щались богу солнца јтуму. ќт названи€ колонн (егип. iwn), собственно и происходит название города (Ἰwnw, Ђгород столбовї). ’от€, нужно понимать, что здесь имеет место игра слов iwn ~ wn, где wn Ч Ђсолнечный светї. » именно в эллинизированном варианте Ч ќн (Ὄν) Ч город »уну упом€нут в Ѕиблии. ѕоэтому неудивительно, что греки переименовали город »уну в √елиополис (Ἡλιούπολις) Ч Ђ√ород —олнцаї.
ѕавсаний тоже (I 44, 2) сообщает, что в ћегарах был камень в виде небольшой пирамиды, который почиталс€ за јполлона аринейского. ќсобенно известно почитание колонны в св€зи с јполлоном в ƒельфах. ¬о врем€ одного празднества в ƒидимах водружали два обелиска, именно в честь √екаты и јполлона.⁵ ѕавсаний в своем знаменитом описании одного из древнейших св€тилищ јполлона, именно в јмиклах, говорит (III 19, 2) о статуе јполлона: Ђ≈сли не считать того, что эта стату€ имеет лицо, ступни ног и кисти рук, то все остальное подобно медной колоннеї. «десь, следовательно, некоторый шаг вперед в сравнении с простой колонной. ћать јполлона Ћето также почиталась на ƒелосе в виде Ђбесформенного поленаї.
_______________________________
[5] √екатой здесь, видимо, названа јртемида, сестра јполлона. ¬ некоторых городах (јфины, Ёпидавр, остров ƒелос) к имени јртемида прибавл€ли эпитет √еката (Ἄρτεμις Ἑκάτα Ч јртемида, мечуща€ в цель). —обственно, эпитеты ἕκατος (далеко раз€щий), ἑκατᾱβόλος (далеко мечущий) Ч это эпитеты, мечущих стрелы, и јполлона, и јртемиды.
ƒ≈–≈¬№я, ѕќ—¬яў≈ЌЌџ≈ јѕќЋЋќЌ”
ќбщеизвестна и в античности особенно попул€рна св€зь јполлона с лавром. ќчень часто и на все лады говорили в √реции о лавре в св€зи с јполлоном. јполлона называли: δάφνιος, δαφναίος (лавровый), δαφνηφόρος (лавроносный), δαφνογηθής (лавролюбивый), δαφνόκομος (лавровласый). √оворили о рождении јполлона под лавровым деревом. ќбитал он тоже в храме из лаврового дерева. ¬ ƒельфах лавр находилс€ перед входом в его храм, и лавровыми ветв€ми украшалось здание храма. ¬ ƒельфах же победител€м на сост€зани€х давались лавровые венки (Paus. VIII 48, 2). ќ лавре на ƒелосе упоминает в своем гимне јполлону аллимах (II 1). Ќаиболее часта€ иконографи€ јполлона Ч с лавровым венком на голове. Ќаконец, был знаменит и миф о любви јполлона к нимфе ƒафне (δάφνη, Ђлаврї). —читалось, что лавровое дерево имеет очистительное свойство, из него делали амулеты. ќ прорицани€х, св€занных с лавром, говорит √омеровский гимн (» 215). Ёто посто€нное св€зывание јполлона с лавром, конечно, есть самое определенное свидетельство о чисто фетишистском прошлом мифа об јполлоне.
¬о многих античных текстах говоритс€ о любви јполлона к юноше ипарису. ¬ них образ јполлона св€зываетс€ с кипарисовым деревом. ќ магических действи€х кипариса говорит —ервий в комментарии к ЂЁнеидеї (III 64) вместе с изложением мифа о дружбе ипариса с јполлоном. Ќа значение кипариса дл€ јполлона указывает и ќвидий (Met. X 106). ¬ ћессении была роща, богата€ кипарисами, со стату€ми јполлона арнейского, оры и √ермеса Ѕараноносца (Paus. IV 33, 4). —ам јполлон носил также эпитет ƒримос (Δρυμός) Ч ƒубовый. ќдна из возлюбленных јполлона, родивша€ ему сына јмфиса, зоветс€ ƒриопа ƒубовидна€, а сын јполлона и ƒиады Ч ƒриопс (Δρύοψ).
–€дом с именем јполлона упоминаетс€ и пальма. ќдиссей в известном месте у √омера (ќд. VI 162) сравнивает Ќавсикаю с пальмой, которую он видел у храма јполлона на ƒелосе. ¬ √омеровском гимне (I 117) Ћето рождает своих детей, ухватившись руками за пальму. ќ делосской пальме упоминает аллимах (Hymn. » 4). ” ≈врипида об этом говорит реуса в Ђ»онеї (990), хор в Ђ√екубеї (458) и хор в Ђ»фигении в “авридеї (1099). Ћавр и пальма в мифе о рождении јполлона и јртемиды Ч традиционный мотив. ќвидий (Met. VI 335) говорит в этом случае о соединении оливкового дерева и пальмы. ќ пальмах около храма јртемиды в јвлиде читаем у ѕавсани€ (IX 19, 5). »з деревьев в мифологии и культе јполлона имеет значение маслина, хот€ это дерево св€зано преимущественно с образом јфины ѕаллады. ¬ приведенном выше тексте ≈врипида (Iphig. “. 1099) речь идет не только о пальме, но и о маслине. ” атулла (XXIV 7) читаем: Ђћать Ћето родила теб€ у маслины делосскойї.
ѕавсаний (VIII 23, 4) дает интересное перечисление древних деревьев, среди которых Ч и делосска€ маслина: Ђсамой древней из них €вл€етс€ ива, котора€ растет в храме √еры на —амосе, за ней идет додонский дуб, затем оливковое дерево на (афинском) јкрополе и оливковое дерево у делосцевї. √оворитс€ и о кизиловом дереве в св€зи с именем јполлона.
Ќаконец, мы встречаемс€ с мифом о любви јполлона к √иацинту, или »акинфу (Ὑάκινθος); здесь перед нами хтоническое и фетишистское прошлое мифологии. ѕолибий (VIII 30, 2) говорит о возжигании огн€ на одной могиле в “аренте, котора€ именуетс€ то √иацинтовой, то јполлоновой. ƒругими словами, была некотора€ ступень мифа, когда јполлон и √иацинт представл€ли собой одно и то же. ѕочиталась смерть √иацинта: его могила была чтимой в —парте и “аренте. »меютс€ сведени€ об јртемиде »акинтотрофос Ч »акинфопитательнице на ниде. —ледовательно, почиталось и рождение √иацинта. ѕо общим законам мифологической абстракции фетишистское представление о цветке развилось до антропоморфного представлени€ о боге или демоне √иацинте, которому издавна в —парте был посв€щен праздник √иакинфии. явившийс€ сюда позднее јполлон оттеснил √иацинта и низвел его до степени геро€, а сам овладел его √иакинфи€ми, сохранившими прежнее название.
Ётот архаический и хтонический јполлон, несомненно, реализовал собой ту же идею вечного возвращени€ жизни и смерти, котора€ еще более хтонически была выражена в самом √иацинте. ќтсюда с √иацинтом св€зываютс€ человеческие жертвы, характерные дл€ архаических представлений о круговороте жизни и смерти. Ќекоторым намеком на них €вл€етс€ сообщение јполлодора (III 15, 8, 3-4) о принесении в жертву дочерей √иацинта Ч јнтеиды, јглеиды, Ћитайи и ќрфайи во врем€ голода и чумы в јфинах. »нтересно, что приносимые в жертву дочери Ёрехте€ тоже в источниках именуютс€ »акинфидами; об этом читаем у историка ‘анодема (FHG I, р. 366, frg. 3), причем эти дочери Ёрехте€ почитались вместе с ƒионисом, как об этом отчетливо говорит историк ‘илохор (FHG I, р. 389, frg. 31). “аким образом, от √иацинта т€нетс€ некотора€ нить к ƒионису, что и пон€тно ввиду существенности дл€ ƒиониса идеи трагической смены жизни и смерти.
ѕервый день праздника √иакинфий был траурным днем, а на второй и третий день из трех дней праздника распевались пеаны и было обильное угощение. „то им€ Ђ√иацинтї Ч негреческого происхождени€, об этом свидетельствует суффикс этого имени. „то на √иакинфи€х перед жертвой јполлону приносилась жертва √иацинту и что св€зь между аполлоновскими √иакинфи€ми и древним √иацинтом Ч сама€ непосредственна€, об этом читаем у ѕавсани€ (Paus. III 19, 3). ¬ажность этой архаической фигуры дл€ последующих времен следует из того, что мес€ц »акинфий мы находим не только в —парте, но и на –одосе, осе, ‘ере, ниде, рите и в других местах. ¬ героическую эпоху √иацинт Ч сын јмикла (основател€ спартанского города јмиклы, где был его главный культ) и ƒиомеды, дочери Ћапифа, или музы лио и ѕиера.
Ќаконец, в науке ставилс€ вопрос и о том, какой именно цветок имели в виду греки, когда они говорили о гиацинте. ƒошедшие до нас античные описани€ плохо в€жутс€ с нашим представлением о гиацинте. ѕо-видимому, греки имели в виду цветок, который теперь называетс€ ирисом.
¬ историческом отношении в мифологии јполлона чрезвычайно важен мотив плюща, указывающий на переплетение с мифологией и культом ƒиониса. ” Ёсхила (frg. 341) находим слова: Ђѕлющевой јполлон, Ѕакхий, прорицательї. ¬ орфическом гимне јполлон называетс€ Ђѕлющекудрыйї (Orphica, р. 288). ќб этом объединении јполлона с ƒионисом свидетельствует ƒельфийский оракул.
“ексты говор€т также об јполлоне и тамариске. ” Ќикандра (Ther. 613) читаем: Ђјполлон оропейский посредством тамариска установил гадани€ и св€щенный обычайї. «десь имеетс€ в виду мантическое значение тамариска в культе јполлона из оропы.
∆»¬ќ“Ќџ≈, —¬я«јЌЌџ≈ — јѕќЋЋќЌќћ
¬ первую очередь, представление об јполлоне св€зано с вороном. ѕо аллимаху (Hymn. II 65-68), јполлон в виде ворона указывает, где нужно основать город. ѕо ќвидию (Met. V 329), в том же виде јполлон пр€четс€ от “ифона. –ассказыва€ о превращении богов в разных животных во врем€ их борьбы с “ифоном, ¬атиканские мифографы (I 86, 35) тоже говор€т о превращении јполлона в ворона (хот€ √игин, Astr. II 28, говорит в данном случае о превращении јполлона в журавл€, а јнтонин Ћиберал Ч о превращении его в €стреба).
ѕо схолиасту к јристофану (Nub. 133), беотийцы однажды запрашивали јполлона, где им поселитьс€, и получили от него ответ, что они посел€тс€ там, где увид€т белого ворона. Ётого ворона они и увидели в ‘ессалии у ѕагасейского залива. —о слов аллисфена —трабон (XVII 1, 43) рассказывает, что однажды јлександра ћакедонского, заблудившегос€ в пустыне, тоже спасли два ворона. ” ѕавсани€ (IX 38, 3) читаем, что ворона, согласно указанию пифии, дала знать орхоменцам, где наход€тс€ кости √есиода, которые нужно было перенести в ќрхомен дл€ прекращени€ там моровой €звы. ѕо √еродоту (IV 15), пророк јполлона јристей, прибывший в ћетапонт дл€ учреждени€ культа јполлона, сначала был вороном и в этом виде сопровождал јполлона. јфина у √омера (ќд. XIII 408) рекомендует ќдиссею идти к ≈вмею, пасущему свиней около утеса ¬орона у источника јретузы. —ледовательно, культ ворона был и на »таке, хот€ здесь и не указана св€зь его с јполлоном. Ќа Ћесбосе был храм јполлона с воронами.
јполлон называетс€ и Ђ€стребоподобнымї (»л. XV 237). ¬ качестве вещей птицы €стреб с растерзываемой им голубкой пролетает справа от “елемаха (ќд. XV 525-528), причем он здесь пр€мо объ€вл€етс€ быстрым вестником јполлона.
¬ виде коршунов јполлон и јфина усаживаютс€ на дубе дл€ наблюдени€ за поединком ј€кса и √ектора (»л. VII 58-60).
_

1. “арент, алабри€. „етверть статера (AV 12mm, 2.15g), ок. 280 до н.э. Av: голова јполлона в лавровом венке. Rv: орел с расправленными крыль€ми; TAPANTINΩN
2. ƒельфы, ‘окида, ƒельфийский союз (јмфиктиони€). —татер (AR 23mm, 12.27g), 336-334 до н.э. Av: голова ƒеметры в венке из колосьев, покрыта€ полосом. Rv: јполлон сидит на омфале, держит лавровый скипетр с листь€ми; локтем опираетс€ на лиру; слева Ч треножник; ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΩΝ


3. ƒомициан (81-96). –им. —емис (Æ 5.17g), ок. 90/1г. Av: бюст јполлона в лавровом венке и с лавровой ветвью; IMP DOMIT AVG GERM COS XV. Rv: ворон, сид€щий на лавровой ветке; S C
4. јлександри€, “роада. “етрадрахма (AR 34mm, 16.85g), ок. 128 до н.э. Av: голова јполлона в лавровом венке; Rv: јполлон —минтейский (из троадского города —минта, греч. Σμίνθη), держит патеру в правой руке, лук и стрелу Ч в левой, за плечом Ч колчан; POΓ (CY 173 = 128 до н.э.) AΠOΛΛONOΣ ΣMIΘEΩΣ / AΛEΞANΔPEΩN AΠOΛΛΩNIΔOY
¬ √омеровском гимне (XXI 1 и сл.) в св€зи с јполлоном говоритс€ о лебеде:
ќ лебеде и јполлоновом храме говорит ≈врипид в Ђ»онеї (167-174). ѕение лебед€, Ђлюбимца музї, упоминаетс€ в Ђ»фигении в “авридеї (1103-1105). ќ прекрасном пении лебед€ на ƒелосе говорит аллимах (Hymn. II 5, IV 249):
ѕо орнуту, јполлону посв€щен лебедь потому, что это сама€ музыкальна€ и в то же врем€ сама€ бела€ из птиц. ќ пении гиперборейских лебедей читаем у Ёлиана. ѕо схолиасту к јполлонию –одосскому (II 498), историки ‘ерекид и јриет рассказывали, что јполлон увез свою возлюбленную ирену с ѕелиона на золотой колеснице, запр€женной лебед€ми. Ќа одной картине у ‘илострата јполлон обещает »акинфу среди всех прочих своих благ Ђдать ему возможность на лебед€х объехать те страны, где чтут јполлона и что милы ему самомуї.
јнтонин Ћиберал рассказывает о икне, страстном охотнике (сыне јполлона и “ирии, дочери јмфинома, жившем между ѕлевроном и алидоном), что тот бросилс€ в озеро из-за неподчинени€ ему его любимца богатыр€ ‘или€. ѕо воле јполлона икн вместе со своей матерью делаетс€ озерной птицей, а озеро получает название Ћебединого.


5. изик, ћизи€. —татер (EL 20mm, 16.11g), ок. 550-450 до н.э. Av: крылата€ антропоморфна€ фигура јполлона с головой дельфина, в руке держит тунца. Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.
6. лазомены (Κλαζομεναί), »они€. ƒрахма (AR 16mm, 4.04g), ок. 386-301 до н.э. ћагистрат ћандронакс. Av: голова јполлона в лавровом венке; Rv: лебедь с расправленными крыль€ми; KΛA / MANΔΡΩNA[Ξ]
»з морских животных в мифах фигурирует дельфин. —уществовали даже прозвище јполлона Ч ƒельфиний (Δελφίνιος) и аттический праздник в честь јполлона Ч ƒельфинии (Δελφίνια). ульт јполлона ƒельфини€ был в носсе на рите, на Ёгине, ‘ере, ’иосе, в ћилете и был вообще распространен в ионийском мире. —трабон (IV 1, 4), рассказыва€ о св€тилище јполлона ƒельфини€ и јртемиды Ёфесской в ћассилии, говорит, что св€тилище этого јполлона Ђсоставл€ло общую св€тыню ион€нї. ƒельфиний, возможно, был сначала самосто€тельным демоном. Ќа Ёгине был мес€ц ƒельфиний и праздник ƒельфиний.
ящерица, реже л€гушка и жаба встречаютс€ в мифологии јполлона, несомненно, в св€зи с их хтоническим и мантическим значением. ќбраз јполлона —авроктона, убийцы €щерицы, свидетельствует о той борьбе героизма с хтонизмом, которую мы находим в мифах об убиении јполлоном ѕифона, √игантов, иклопов и пр. јполлон выступает как убийца дракона ѕифона; но ему же посв€щены змеи в Ёпире, например, где они считались порождением ѕифона. ”поминаетс€ в мифах и черепаха, в которую јполлон превратилс€, чтобы вступить в брак с ƒриопой.
»звестен јполлон и как истребитель саранчи, отсюда эпитет Ђѕарнопийї. ѕавсаний (I 24, 8) говорит о медной статуе јполлона ѕарнопи€ на афинском јкрополе (работы ‘иди€), прибавл€€ к этому свои рассуждени€ о том, каким путем вообще может уничтожатьс€ саранча. —трабон (XIII, I 64) сообщает о мес€це ѕарнопии и соответствующих жертвах у азиатских эолийцев.
Ћюбопытно фигурирование в мифологии јполлона мышей. Ёпитет јполлона Σμινθεύς (мышиный)⁶ упоминаетс€ уже у √омера в самом начале Ђ»лиадыї (I 39).
_______________________________
[6] Σμινθεύς (-έως) ὁ сминтеец, эпитет јполлона Ч от троадского города Σμίνθη или Σμίνθος; по другой версии, от σμίνθος Ђмышьї, потому что јполлон слыл истребителем полевых мышей, или потому что мышь считалась символом прорицани€; Hom.
—амое интересное, что бросаетс€ здесь в глаза, Ч это типичное дл€ хтонизма соединение целительных и губительных функций в одном образе. ѕо схолиасту к »л. I 39, јполлон напускает мышей на поле своего жреца, чтобы наказать этого последнего. јполлон уничтожает мышей (как на это указывает Apoll., дела€ здесь ƒиониса спутником јполлона). Ќо мыши мыслились также и полезными, так что, по Ёлиану (De nat. an. XII 5), жители города √амаксита в “роаде содержали мышей в храме јполлона и кормили их на государственный счет. —месь хтонической мантики мышей и их губительных функций мы находим в следующем рассказе —трабона (XIII 1, 48):
јполлон либо мыслитс€ очень близким к мышам, т.е. когда-то сам был мышью, либо противостоит им и воспринимаетс€ как их уничтожитель. «десь обычное переплетение хтонических и героических мотивов, когда демон сначала сам хтоничен, а потом сам же уничтожает в себе эту хтоничность.
«аметим также, что культ јполлона —минфе€ был вообще довольно распространен по берегам ћалой јзии, в ÷ентральной √реции и на «ападе. ќн известен в “роаде, на Ћесбосе, осе, –одосе. ћес€ц с таким названием известен на –одосе, ’иосе, в ћагнезии, јнтиохии. Ќадписи говор€т о сост€зани€х, известных под тем же названием в северо-западной части ћалой јзии (в Ћинде они св€заны с ƒионисом).
јѕќЋЋќЌ ј–Ќ≈…— »…
¬ разных местах √реции с бараном был ув€зан √ермес, в Ћаконии же Ч сначала арн (Κάρνος), а потом, в св€зи с распространением здесь јполлона, и сам јполлон, получивший наименование јполлона арнейского (Καρνεῖος).⁷ арн Ч демон плодороди€, имеющий отношение и к скоту, и к земледелию (к жатве). Ќаименование Ђјполлон арнейскийї €сно указывает на близость такого јполлона к земледельческой и скотоводческой мифологии. “о, что арн был сначала фигурой, независимой от јполлона, €вствует из того факта, что его им€ употребл€лось отдельно, вне какой-либо св€зи с јполлоном (хот€ бы в надпис€х). “о, что это общедорийский демон,⁸ видно из ‘укидида (V 54), который говорит о мес€це арнее, Ђпраздничном дл€ дор€нї, а также из ѕавсани€ (III 13, 4), утверждающего, что Ђпочитание јполлона арнейского установлено у всех дор€нї.
_______________________________
[7] Καρνεῖος, дор. Καρνήϊος ὁ
1) арнейский (эпитет јполлона у дорических племен ѕелопоннесса) Pind., Polyb.
2) арней (лакедемонский мес€ц, соотв. атт. Μεταγειτνιών, т.е. августу-сент€брю, в течение которого совершались дев€тидневные празднества в честь јполлона арнейского) Thuc., Eur., Plut.
[8] δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ
1) бог, богин€; ex. σὺν δαίμονι Hom. Ч с божьей помощью; πρὸς δαίμονα Hom. Ч против божьей воли;
2) божество (преимущ. низшего пор€дка) Ч дух, гений, демон;
3) божеское определение, рокова€ случайность; (тж. δαίμονος τύχη Pind., τύχη δαιμόνων Eur., δ. καὴ τύχη Aeschin., Dem. и τύχη καὴ δαίμονες Plat.);
4) злой рок, несчастье; ex. πλέν τοῦ δαίμονος Soph. Ч несмотр€ на это несчастье;
5) душа умершего.
—амое слово κάρνος √есихий переводит как Ђскот, баранї. ѕавсаний в приведенном только что месте дает много разных сведений об јполлоне арнейском, большей частью уже в его позднейшем виде. ќказываетс€, что в јкарнании был некий пророк јполлона арн (из јкарнании). огда его убили дор€не, то все дорийское войско постиг гнев јполлона, а убийца арна удалилс€ в изгнание. — этого времени будто бы началось у дор€н умилостивление арна. ќднако подобна€ интерпретаци€ арна €вно отличаетс€ поздним характером и оперирует уже с антропоморфическими и героизированными демонами. —ам же ѕавсаний развивает в дальнейшем другую теорию:
¬ этом сообщении ѕавсани€ ценны следующие три мотива. ѕо одному варианту, арн живет в доме ри€ (κριός, Ђбаранї). ѕо другому Ч он сын «евса и ≈вропы, причем известно, что «евс сочеталс€ с ≈вропой в виде быка, и вообще этот миф весьма архаичен. «аметим, что, и по √есихию, арней называетс€, Ђможет быть, по арну, от «евса и ≈вропыї. ѕо третьему варианту, им€ Ђ арнейї происходит от тех кизилей, которые греки срубили под “роей.


7. ћетапонт, Ћукани€. —татер (AR 20mm, 7.45g), 430-410 до н.э. Av: рогата€ голова јполлона арне€ (Κάρνειος); Rv: колос; META
8. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.53g), ок. 377-326 до н.э. Av: рогата€ голова јполлона арне€; Rv: орел в квадратном поле.
ульт јполлона арнейского был распространен в различных местност€х ѕелопоннеса (јргос, Ћаконика, ћессени€, јркади€), в ‘ивах, в Ћинде на –одосе, на рите и во многих других местах. ¬ јргосе жрица јполлона прорицала под воздействием вкушени€ бараньей крови.
¬ св€зи с јполлоном и јртемидой упоминаютс€ и лани. ≈врипид (ј1с. 583-586), рису€ благоденствие цар€ јдмета в период пребывани€ у него јполлона, указывает, между прочим, и на то, что лани внимали музыке јполлона. —трабон (XIV 6, 3) приводит начало элегии некоего автора о прибытии ланей к јполлону на ипр:
јѕќЋЋќЌ Ћ» ≈…— »…
ќсобенно важное значение в культе јполлона имеет волк. ќб этом читаем у √есихи€, и притом с характерно выраженным совмещением противоположностей. »менно, эпитетом Λυκοκτόνος (убивающий волков) у него зовЄтс€ јполлон. — другой стороны, тут же, строкой ниже, читаем: Ђ¬олк посв€щен јполлонуї. ќсобенным почитанием волка отличались ƒельфы, где имелось специальное медное изображение волка. ќб этом существовала местна€ легенда, изложенна€ у ѕавсани€ (X 11, 7):
јристотель (Hist. anim. VI 35) говорит, что ЂЋето пришла из страны гиперборейцев на ƒелос в образе волчицы ввиду страха перед √еройї; здесь тот же мотив.
ќ преследовании јполлоном волков свидетельствует —офокл, у которого в ЂЁлектреї “алфибий, указыва€ на город јргос, говорит ќресту: Ђ¬от Ћикейска€ площадь бога-волкоубийцыї. —холиаст к этому месту и √есихий во втором из только что приведенных мест пр€мо говор€т здесь об јполлоне. ќб јполлоне, преследующем волков, находим у ѕавсани€ (II 9, 7):
“аким образом, јполлон €вл€етс€ здесь убийцей волков, в то врем€ как в ƒельфах волк, наоборот, защитник его храма. ” ѕавсани€ (II 19, 3) рассказываетс€: Ђ—амой большой достопримечательностью у аргосцев в городе €вл€етс€ храм јполлона Ћикейского (хранител€ от волков)ї. » далее следует у ѕавсани€ длинный рассказ, который сводитс€ к тому, что во врем€ прибыти€ ƒана€ в јргос и столкновени€ его с тамошним царем насланный јполлоном волк загрыз быка, вожака стада. Ёто обсто€тельство было истолковано народом в смысле указани€ на необходимость передачи власти ƒанаю. Ќаконец, в честь этого ƒанай построил здесь храм јполлону Ћикейскому.
¬ отношении фигурировани€ волка в мифологии јполлона можно наметить такую последовательность. јполлон прежде всего сам делаетс€ волком или в него превращаетс€, например при бракосочетании с иреной, во врем€ избиени€ тельхинов, или в этом виде приходит на защиту (как в тексте из Ђ—емиї Ёсхила). — одной стороны, јполлон не враждебен волкам; об этом свидетельствует миф, рассказывающий, что после убиени€ ѕифона волк первый принес лавр јполлону. Ќо, €вл€€сь пастушеским богом, јполлон убивает волков, защища€ стада.
¬ јфинах знаменитый Ћицей тоже ведет к мифологии јполлона-волка, потому что λύκειος и означает не что иное, как Ђволчийї. ѕавсаний (I 19, 4) пишет: ЂЋикей (Λύκειος) получил свое название от Ћика, сына ѕандиона, но и в древние времена, как и при мне, он считалс€ храмом јполлона, и здесь бог искони называлс€ Ћикейскимї. “акже √имнасий у афин€н называлс€ Ћикейским (Suid. Laceion). ќ тамошних сост€зани€х читаем, например, у сенофонта (Hipp. Ill 6). ” Ёсхила (Sept. 131) хор обращаетс€ к јполлону Ћикейскому за военной помощью. Ќаконец, есть указани€ и на многие другие города и острова, где почиталс€ јполлон Ћикейский. “аковы ћегара, —икион, Ёпидавр, ƒелос, Ћесбос, ѕарос и др.
—амо прозвище Ћикейский имело множество разного рода толкований и в античности, и в Ќовое врем€. ѕиндар (Pyth. I 39) величает јполлона по его местам, указыва€ на Ћикию, ƒелос и др., причем возможно, что и Ћики€ Ч производное либо от слова Ђволкї, либо от слова Ђликейскийї (име€ в виду јполлона). Ќародна€ этимологи€ св€зывает этот эпитет с корнем, указывающим на Ђсолнечный светї.⁹ «ооморфическое толкование астрономии и метеорологии Ч обычное €вление в античных мифах. ¬ернее же всего, здесь перед нами типичное нерасчлененно-синтетическое мышление, которое еще не дошло до четкого разграничени€ метеорологических, зооморфических и родоплеменных фактов и €влений. этим временам матриархата восход€т и многие другие элементы мифологии јполлона. ¬ греческой литературе многочисленны упоминани€ об јполлоне Ћикейском: у јлкмана (frg. 29, 30 Diehl), Ёсхила (Agam. 1257, Suppl. 686), —офокла (ќ. —. 919, ≈1. 655, 1379), ≈врипида, јристофана, аллимаха. ¬стречаютс€ и рационалистические объ€снени€ эпитета Ђликейскийї, вроде леанфа у ћакроби€ (Sat. I 17, 36): Ђподобно тому, как волки похищают скот, так сам он похищает влагу своими лучамиїЕ
_______________________________
[9] λευκός Ч светлый, €ркий, €сный, си€ющий; ex: (ἠέλιος Hom.; φάος Soph.; αἰθήρ Eur.);
λύκος (ῠ) ὁ волк (ἡ λ. волчица).
¬ заключение, ещЄ несколько слов об этимологии этого важнейшего эпитета јполлона. ƒумать, что он просто указывает на страну Ћикию (как это думал, например, ¬иламовиц), невозможно, так как Ђликейскийї было бы по-гречески не Λύκειος, но Λύκιος.¹⁰ — другой стороны, можно с полной достоверностью утверждать, что оба значени€ эпитета Ђликейскийї чрезвычайно рано перепутались в сознании народа, так что возникша€ здесь народна€ этимологи€ оказалась почти неустранимой. ќтсюда Ч и разнообразие античных этимологий этого эпитета, перечисленных у Serv. Verg. јеп. IV 377. ”казание на Ћикию кроме приведенных выше текстов из ѕиндара и ≈врипида содержитс€ в гомеровском (»л. IV 101, 119) λυκηγενής Ч Ђрожденный в Ћикииї.
_______________________________
[10] Λύκειος ὁ Ћикейский, т.е. Ђволчийї (эпитет јполлона) Aesch.; ex: τοῦ λυκοκτόνου θεοῦ ἀγορὰ Λύκειος Soph. Ч Ћикейска€ площадь (в јргосе), посв€щенна€ истребл€ющему волков богу, т.е. јполлону;
Λύκιος ὁ Ћикийский (эпитет јполлона по р€ду его храмов в Ћикии, преимущ. в ѕатаре) Pind.
¬се эти античные этимологии расчлен€ют в рассматриваемом эпитете то, что едва ли расчленимо в нем дл€ периода архаики и содержитс€ в нем вполне слитно и нераздельно. ƒаже наиболее надежна€ этимологи€ Ђволкї в данном случае не абсолютна: Ќильссон замечает, что ни одно им€ греческого божества не образовано от корн€ названи€ того или иного животного. Ќаиболее очевидное значение гомеровского λυκηγενής Ч Ђрожденный в Ћикииї Ч ‘арнелл понимает как Ђрожденный волчицейї, что Ќильссоном тоже отвергаетс€. ясно, что здесь также насильственно расчлен€етс€ то, что дл€ стародавних времен неразличимо. Ќапример, ЂЋето, родивша€ јполлона и јртемиду в Ћикии, дала такое название этой стране именно ради помогавших ей волковї.
ј.‘. Ћосев. Ђћифологи€ греков и римл€нї
_______________________________
ћ»‘ќЋќ√»я јѕќЋЋќЌј
јполлон всегда считалс€ наиболее греческим богом, наиболее типичной фигурой дл€ всей античной мифологии. ќднако, отдельные голоса о негреческом, и в частности малоазиатском, происхождении јполлона раздавались в науке уже давно. “аковы работы ј.Ўенборна Ђќ сущности јполлона и о распространении его культаї, ‘.¬елькера Ђ√реческа€ мифологи€ї, ј.Ѕуше-Ћеклерка Ђ»стори€ божества в античностиї. Ќо только после известной работы ¬иламовица об јполлоне в журнале Hermes 1903г. стали всерьез говорить о малоазиатском происхождении јполлона. ¬иламовиц базируетс€ на антагонизме между јполлоном и греками у √омера, что действительно бросаетс€ в глаза. Ёто соображение делает точку зрени€ ¬иламовица достаточно убедительной. ¬ защиту ¬иламовица высказалс€ Ќильссон. ќднако он, с одной стороны, оспаривает выведение јполлона из Ћикии, а с другой стороны, указывает на его еще более отдаленные корни.
јполлон у √омера изображаетс€ всегдашним покровителем тро€нцев. √реки же если его и признают, то больше испытывают перед ним страх, и он дл€ них δεινός θεός Ч Ђстрашный богї. ¬ эпитете δεινός соедин€етс€ представление о величии и неимоверной силе с ужасом перед чуждым и неведомым демоном.¹
_______________________________
[1] ¬еро€тно, возникновение темы страха перед Ђужаснымї богом св€зано со смешением эпитета ‘еб (φοῖβος), что значит Ђчистыйї, Ђсветлыйї, со словом φόβος Ч Ђстрахї, Ђужасї. Ќе менее значимые созвучи€ Ч между именем Ἀπόλλων и словами ἐπόλλων (Ђгуб€щийї), ἀπολλύω (Ђгубить, уничтожатьї).
Φοῖβος ὁ ‘еб, ЂЋучезарныйї (эпитет јполлона) Hom., Aesch.
φοῖβος 3
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) си€ющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.)
φόβος ὁ
1) страх, ужас, бо€знь (ὀρθόθριξ φ. Aesch. Ч страх, от которого волосы станов€тс€ дыбом);
2) страшна€ пора, ужасное врем€;
3) ужасна€ вещь, страшное событие, ужас;
4) (паническое) бегство (πρῶτος ἦρξε φόβοιο Hom.)
ἀπολλύω = ἀπόλλυμι Thuc., Arst.
ἀπόλλυμι (pf. 1 ἀπολώλεκα) губить, уничтожать (πόλιν Hom., Plut.; λαὸν Ἀχαιῶν Hom.); ex: οἱ ἀπολλύντες Soph. Ч убийцы.
¬ажно отметить большую оригинальность и самого культа јполлона в √реции. ульт этот распространилс€ повсеместно, но специально аполлоновских праздников было мало. »звестны знаменитые празднества в ƒельфах, на ƒелосе, јполлона ѕтойского в Ѕеотии, јполлона “еоксени€ в ѕеллене, јполлона ѕарраси€ в јркадии, јполлона с јртемидой в —икионе. јполлоновский культ часто по€вл€лс€ на месте того или иного древнегреческого культа, оттесн€€ его, но заимству€ из него много существенных черт. ћожно предполагать, что јполлон пришел в √рецию именно со стороны и что он оттеснил многих старогреческих богов и героев.
—овсем другую картину в этом отношении представл€ет собой ћала€ јзи€, где культ јполлона очень древен и где с давних пор были его знаменитые оракулы. Ќа ƒелосе же и в ƒельфах, как это усиленно подчеркивают соответствующие мифы, јполлон всегда мыслилс€ пришельцем со стороны. “акже и экстатическа€ мантика (прорицани€) оракулов јполлона издавна процветала именно в ћалой јзии.
јполлон принес с собой из ћалой јзии почитание седьмого дн€ каждого мес€ца, в то врем€ как обычное греческое празднование каждого мес€ца происходило в полнолуние. Ќо ѕередн€€ јзи€, конечно, не была колыбелью этого седьмого дн€. Ќильссон указывает на то, что в ѕередней јзии это почитание седьмого дн€ могло развитьс€ только благодар€ вли€нию ¬авилона, где как раз издавна очень тщательно соблюдалс€ солнечно-лунный календарь и где впервые были произведены точные наблюдени€ над движени€ми небесных тел. ѕроисхождение этого седьмого дн€ из источников чисто греческих было бы необъ€снимо. ƒаже пеан (παιάν), знаменита€ победна€ и хвалебна€ песнь в честь јполлона, первоначально имела, по Ќильссону, чисто магическое значение, как песнь, сопровождавша€ ритуал очищени€ и исцелени€.²
_______________________________
[2] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пэан Ч хоровой гимн, благодарственный, победный, военный, умилостивительный или скорбный, преимущественно в честь јполлона, реже јртемиды и др. (ἐξάρχειν παιᾶνος ἐπινικίου Plut. Ч запеть пэан в честь победы).
Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ
1) ѕэан (бог-целитель, после √омера отождествл€лс€ преимущественно с јполлоном, реже с јсклепием и др.); ex. Παιήονος γενέθλη Hom. Ч сыны ѕэана, т.е. врачи;
2) целитель, избавитель.
ј√»≈…
¬ поисках более достоверного места зарождени€ культа и мифа јполлона, если миновать не вполне достоверные в этом смысле Ћикию, арию и пограничные с ними области, мы наталкиваемс€ на хеттитов, от которых дошел один текст. Ѕ.√розный и за ним Ќильссон склонны находить в нем указание на отдаленный прототип греческого јполлона. ¬ этом тексте среди прочих богов упоминаетс€ јпулунас, и √розный сопоставл€ет его с вавилонским словом abullu, что значит Ђворотаї. ’еттский јпулунас в таком случае оказалс€ бы богом ворот в качестве охранител€ города или дома Ч нечто вроде греческого јполлона јгие€ (ἀγυιεύς) Ч ”личного (ƒорожного). “акова гипотеза, вывод€ща€ греческого јполлона из хеттской мифологии, откуда он перешел и в јссиро-¬авилонию.
Ёпитет јполлона Ч јгией (ἀγυιεύς), по мнению античных схолиастов и лексикографов, означает не что иное, как Ђстолбовойї.³ ” схолиаста јристофана читаем: Ђќни имели обычай водружать перед двер€ми колонны, суживающиес€ кверху, называемые обелисками, в честь јполлона Ёгие€ї. —вида сообщает: Ђ”личный (ἀγυιεύς) Ч есть колонна, котора€ заканчиваетс€ кверху острием. Ёти колонны став€т перед двер€ми. ќдни говор€т, что они специфичны дл€ јполлона, другие же Ч дл€ ƒиониса, а третьи Ч дл€ того и другогої. “ак же у √есихи€: Ђјгией (ἀγυιεύς) Ч поставленный у двери алтарь в виде колонныї.⁴
_______________________________
[3] ἀγυιεύς (-έως) ὁ
1) покровитель дорог и улиц, хранитель путей (эпитет јполлона) Eur., Dem.
2) алтарь или столб в честь јполлона Soph., Arph.
ἀγυιαῖος предполож. хранимый јполлоном (γῆ Soph.);
ἀγυιάτης (-ου) ὁ хранитель дорог (эпитет јполлона) Eur.
[4] «десь откровенно египетский след. „етырехгранные обелиски, суживающиес€ кверху, и заканчивающиес€ острием Ч это хорошо известный фетиш египетского города »уну. —толбы посв€щались богу солнца јтуму. ќт названи€ колонн (егип. iwn), собственно и происходит название города (Ἰwnw, Ђгород столбовї). ’от€, нужно понимать, что здесь имеет место игра слов iwn ~ wn, где wn Ч Ђсолнечный светї. » именно в эллинизированном варианте Ч ќн (Ὄν) Ч город »уну упом€нут в Ѕиблии. ѕоэтому неудивительно, что греки переименовали город »уну в √елиополис (Ἡλιούπολις) Ч Ђ√ород —олнцаї.
ѕавсаний тоже (I 44, 2) сообщает, что в ћегарах был камень в виде небольшой пирамиды, который почиталс€ за јполлона аринейского. ќсобенно известно почитание колонны в св€зи с јполлоном в ƒельфах. ¬о врем€ одного празднества в ƒидимах водружали два обелиска, именно в честь √екаты и јполлона.⁵ ѕавсаний в своем знаменитом описании одного из древнейших св€тилищ јполлона, именно в јмиклах, говорит (III 19, 2) о статуе јполлона: Ђ≈сли не считать того, что эта стату€ имеет лицо, ступни ног и кисти рук, то все остальное подобно медной колоннеї. «десь, следовательно, некоторый шаг вперед в сравнении с простой колонной. ћать јполлона Ћето также почиталась на ƒелосе в виде Ђбесформенного поленаї.
_______________________________
[5] √екатой здесь, видимо, названа јртемида, сестра јполлона. ¬ некоторых городах (јфины, Ёпидавр, остров ƒелос) к имени јртемида прибавл€ли эпитет √еката (Ἄρτεμις Ἑκάτα Ч јртемида, мечуща€ в цель). —обственно, эпитеты ἕκατος (далеко раз€щий), ἑκατᾱβόλος (далеко мечущий) Ч это эпитеты, мечущих стрелы, и јполлона, и јртемиды.
ƒ≈–≈¬№я, ѕќ—¬яў≈ЌЌџ≈ јѕќЋЋќЌ”
ќбщеизвестна и в античности особенно попул€рна св€зь јполлона с лавром. ќчень часто и на все лады говорили в √реции о лавре в св€зи с јполлоном. јполлона называли: δάφνιος, δαφναίος (лавровый), δαφνηφόρος (лавроносный), δαφνογηθής (лавролюбивый), δαφνόκομος (лавровласый). √оворили о рождении јполлона под лавровым деревом. ќбитал он тоже в храме из лаврового дерева. ¬ ƒельфах лавр находилс€ перед входом в его храм, и лавровыми ветв€ми украшалось здание храма. ¬ ƒельфах же победител€м на сост€зани€х давались лавровые венки (Paus. VIII 48, 2). ќ лавре на ƒелосе упоминает в своем гимне јполлону аллимах (II 1). Ќаиболее часта€ иконографи€ јполлона Ч с лавровым венком на голове. Ќаконец, был знаменит и миф о любви јполлона к нимфе ƒафне (δάφνη, Ђлаврї). —читалось, что лавровое дерево имеет очистительное свойство, из него делали амулеты. ќ прорицани€х, св€занных с лавром, говорит √омеровский гимн (» 215). Ёто посто€нное св€зывание јполлона с лавром, конечно, есть самое определенное свидетельство о чисто фетишистском прошлом мифа об јполлоне.
¬о многих античных текстах говоритс€ о любви јполлона к юноше ипарису. ¬ них образ јполлона св€зываетс€ с кипарисовым деревом. ќ магических действи€х кипариса говорит —ервий в комментарии к ЂЁнеидеї (III 64) вместе с изложением мифа о дружбе ипариса с јполлоном. Ќа значение кипариса дл€ јполлона указывает и ќвидий (Met. X 106). ¬ ћессении была роща, богата€ кипарисами, со стату€ми јполлона арнейского, оры и √ермеса Ѕараноносца (Paus. IV 33, 4). —ам јполлон носил также эпитет ƒримос (Δρυμός) Ч ƒубовый. ќдна из возлюбленных јполлона, родивша€ ему сына јмфиса, зоветс€ ƒриопа ƒубовидна€, а сын јполлона и ƒиады Ч ƒриопс (Δρύοψ).
–€дом с именем јполлона упоминаетс€ и пальма. ќдиссей в известном месте у √омера (ќд. VI 162) сравнивает Ќавсикаю с пальмой, которую он видел у храма јполлона на ƒелосе. ¬ √омеровском гимне (I 117) Ћето рождает своих детей, ухватившись руками за пальму. ќ делосской пальме упоминает аллимах (Hymn. » 4). ” ≈врипида об этом говорит реуса в Ђ»онеї (990), хор в Ђ√екубеї (458) и хор в Ђ»фигении в “авридеї (1099). Ћавр и пальма в мифе о рождении јполлона и јртемиды Ч традиционный мотив. ќвидий (Met. VI 335) говорит в этом случае о соединении оливкового дерева и пальмы. ќ пальмах около храма јртемиды в јвлиде читаем у ѕавсани€ (IX 19, 5). »з деревьев в мифологии и культе јполлона имеет значение маслина, хот€ это дерево св€зано преимущественно с образом јфины ѕаллады. ¬ приведенном выше тексте ≈врипида (Iphig. “. 1099) речь идет не только о пальме, но и о маслине. ” атулла (XXIV 7) читаем: Ђћать Ћето родила теб€ у маслины делосскойї.
ѕавсаний (VIII 23, 4) дает интересное перечисление древних деревьев, среди которых Ч и делосска€ маслина: Ђсамой древней из них €вл€етс€ ива, котора€ растет в храме √еры на —амосе, за ней идет додонский дуб, затем оливковое дерево на (афинском) јкрополе и оливковое дерево у делосцевї. √оворитс€ и о кизиловом дереве в св€зи с именем јполлона.
Ќаконец, мы встречаемс€ с мифом о любви јполлона к √иацинту, или »акинфу (Ὑάκινθος); здесь перед нами хтоническое и фетишистское прошлое мифологии. ѕолибий (VIII 30, 2) говорит о возжигании огн€ на одной могиле в “аренте, котора€ именуетс€ то √иацинтовой, то јполлоновой. ƒругими словами, была некотора€ ступень мифа, когда јполлон и √иацинт представл€ли собой одно и то же. ѕочиталась смерть √иацинта: его могила была чтимой в —парте и “аренте. »меютс€ сведени€ об јртемиде »акинтотрофос Ч »акинфопитательнице на ниде. —ледовательно, почиталось и рождение √иацинта. ѕо общим законам мифологической абстракции фетишистское представление о цветке развилось до антропоморфного представлени€ о боге или демоне √иацинте, которому издавна в —парте был посв€щен праздник √иакинфии. явившийс€ сюда позднее јполлон оттеснил √иацинта и низвел его до степени геро€, а сам овладел его √иакинфи€ми, сохранившими прежнее название.
Ётот архаический и хтонический јполлон, несомненно, реализовал собой ту же идею вечного возвращени€ жизни и смерти, котора€ еще более хтонически была выражена в самом √иацинте. ќтсюда с √иацинтом св€зываютс€ человеческие жертвы, характерные дл€ архаических представлений о круговороте жизни и смерти. Ќекоторым намеком на них €вл€етс€ сообщение јполлодора (III 15, 8, 3-4) о принесении в жертву дочерей √иацинта Ч јнтеиды, јглеиды, Ћитайи и ќрфайи во врем€ голода и чумы в јфинах. »нтересно, что приносимые в жертву дочери Ёрехте€ тоже в источниках именуютс€ »акинфидами; об этом читаем у историка ‘анодема (FHG I, р. 366, frg. 3), причем эти дочери Ёрехте€ почитались вместе с ƒионисом, как об этом отчетливо говорит историк ‘илохор (FHG I, р. 389, frg. 31). “аким образом, от √иацинта т€нетс€ некотора€ нить к ƒионису, что и пон€тно ввиду существенности дл€ ƒиониса идеи трагической смены жизни и смерти.
ѕервый день праздника √иакинфий был траурным днем, а на второй и третий день из трех дней праздника распевались пеаны и было обильное угощение. „то им€ Ђ√иацинтї Ч негреческого происхождени€, об этом свидетельствует суффикс этого имени. „то на √иакинфи€х перед жертвой јполлону приносилась жертва √иацинту и что св€зь между аполлоновскими √иакинфи€ми и древним √иацинтом Ч сама€ непосредственна€, об этом читаем у ѕавсани€ (Paus. III 19, 3). ¬ажность этой архаической фигуры дл€ последующих времен следует из того, что мес€ц »акинфий мы находим не только в —парте, но и на –одосе, осе, ‘ере, ниде, рите и в других местах. ¬ героическую эпоху √иацинт Ч сын јмикла (основател€ спартанского города јмиклы, где был его главный культ) и ƒиомеды, дочери Ћапифа, или музы лио и ѕиера.
Ќаконец, в науке ставилс€ вопрос и о том, какой именно цветок имели в виду греки, когда они говорили о гиацинте. ƒошедшие до нас античные описани€ плохо в€жутс€ с нашим представлением о гиацинте. ѕо-видимому, греки имели в виду цветок, который теперь называетс€ ирисом.
¬ историческом отношении в мифологии јполлона чрезвычайно важен мотив плюща, указывающий на переплетение с мифологией и культом ƒиониса. ” Ёсхила (frg. 341) находим слова: Ђѕлющевой јполлон, Ѕакхий, прорицательї. ¬ орфическом гимне јполлон называетс€ Ђѕлющекудрыйї (Orphica, р. 288). ќб этом объединении јполлона с ƒионисом свидетельствует ƒельфийский оракул.
“ексты говор€т также об јполлоне и тамариске. ” Ќикандра (Ther. 613) читаем: Ђјполлон оропейский посредством тамариска установил гадани€ и св€щенный обычайї. «десь имеетс€ в виду мантическое значение тамариска в культе јполлона из оропы.
∆»¬ќ“Ќџ≈, —¬я«јЌЌџ≈ — јѕќЋЋќЌќћ
¬ первую очередь, представление об јполлоне св€зано с вороном. ѕо аллимаху (Hymn. II 65-68), јполлон в виде ворона указывает, где нужно основать город. ѕо ќвидию (Met. V 329), в том же виде јполлон пр€четс€ от “ифона. –ассказыва€ о превращении богов в разных животных во врем€ их борьбы с “ифоном, ¬атиканские мифографы (I 86, 35) тоже говор€т о превращении јполлона в ворона (хот€ √игин, Astr. II 28, говорит в данном случае о превращении јполлона в журавл€, а јнтонин Ћиберал Ч о превращении его в €стреба).
ѕо схолиасту к јристофану (Nub. 133), беотийцы однажды запрашивали јполлона, где им поселитьс€, и получили от него ответ, что они посел€тс€ там, где увид€т белого ворона. Ётого ворона они и увидели в ‘ессалии у ѕагасейского залива. —о слов аллисфена —трабон (XVII 1, 43) рассказывает, что однажды јлександра ћакедонского, заблудившегос€ в пустыне, тоже спасли два ворона. ” ѕавсани€ (IX 38, 3) читаем, что ворона, согласно указанию пифии, дала знать орхоменцам, где наход€тс€ кости √есиода, которые нужно было перенести в ќрхомен дл€ прекращени€ там моровой €звы. ѕо √еродоту (IV 15), пророк јполлона јристей, прибывший в ћетапонт дл€ учреждени€ культа јполлона, сначала был вороном и в этом виде сопровождал јполлона. јфина у √омера (ќд. XIII 408) рекомендует ќдиссею идти к ≈вмею, пасущему свиней около утеса ¬орона у источника јретузы. —ледовательно, культ ворона был и на »таке, хот€ здесь и не указана св€зь его с јполлоном. Ќа Ћесбосе был храм јполлона с воронами.
јполлон называетс€ и Ђ€стребоподобнымї (»л. XV 237). ¬ качестве вещей птицы €стреб с растерзываемой им голубкой пролетает справа от “елемаха (ќд. XV 525-528), причем он здесь пр€мо объ€вл€етс€ быстрым вестником јполлона.
¬ виде коршунов јполлон и јфина усаживаютс€ на дубе дл€ наблюдени€ за поединком ј€кса и √ектора (»л. VII 58-60).
_


1. “арент, алабри€. „етверть статера (AV 12mm, 2.15g), ок. 280 до н.э. Av: голова јполлона в лавровом венке. Rv: орел с расправленными крыль€ми; TAPANTINΩN
2. ƒельфы, ‘окида, ƒельфийский союз (јмфиктиони€). —татер (AR 23mm, 12.27g), 336-334 до н.э. Av: голова ƒеметры в венке из колосьев, покрыта€ полосом. Rv: јполлон сидит на омфале, держит лавровый скипетр с листь€ми; локтем опираетс€ на лиру; слева Ч треножник; ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΩΝ


3. ƒомициан (81-96). –им. —емис (Æ 5.17g), ок. 90/1г. Av: бюст јполлона в лавровом венке и с лавровой ветвью; IMP DOMIT AVG GERM COS XV. Rv: ворон, сид€щий на лавровой ветке; S C
4. јлександри€, “роада. “етрадрахма (AR 34mm, 16.85g), ок. 128 до н.э. Av: голова јполлона в лавровом венке; Rv: јполлон —минтейский (из троадского города —минта, греч. Σμίνθη), держит патеру в правой руке, лук и стрелу Ч в левой, за плечом Ч колчан; POΓ (CY 173 = 128 до н.э.) AΠOΛΛONOΣ ΣMIΘEΩΣ / AΛEΞANΔPEΩN AΠOΛΛΩNIΔOY
Ејполлон забросил кифару,
—ам крылатый, стрелы пернатые с луком оставил,
¬змыл он лебедем в небо.
(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса II, 218)
¬ √омеровском гимне (XXI 1 и сл.) в св€зи с јполлоном говоритс€ о лебеде:
‘еб! ¬оспевает и лебедь теб€ под плескание крыльев,
— водоворотов ѕенейских взлета€ на берег высокий.
ќ лебеде и јполлоновом храме говорит ≈врипид в Ђ»онеї (167-174). ѕение лебед€, Ђлюбимца музї, упоминаетс€ в Ђ»фигении в “авридеї (1103-1105). ќ прекрасном пении лебед€ на ƒелосе говорит аллимах (Hymn. II 5, IV 249):
Ђ¬ это врем€ лебеди, голосистые певцы бога, покинувши меонийский [индийский] ѕактол облетели ƒелос кругом семь раз. Ёти самые певучие из птиц воспели роды [Ћето]. Ќа этом основании отрок нат€нул впоследствии столько же струн на лиру, сколько раз эти лебеди воспели муки его рождени€. ќни еще не воспели в восьмой раз, как родилс€ јполлонї.
ѕо орнуту, јполлону посв€щен лебедь потому, что это сама€ музыкальна€ и в то же врем€ сама€ бела€ из птиц. ќ пении гиперборейских лебедей читаем у Ёлиана. ѕо схолиасту к јполлонию –одосскому (II 498), историки ‘ерекид и јриет рассказывали, что јполлон увез свою возлюбленную ирену с ѕелиона на золотой колеснице, запр€женной лебед€ми. Ќа одной картине у ‘илострата јполлон обещает »акинфу среди всех прочих своих благ Ђдать ему возможность на лебед€х объехать те страны, где чтут јполлона и что милы ему самомуї.
јнтонин Ћиберал рассказывает о икне, страстном охотнике (сыне јполлона и “ирии, дочери јмфинома, жившем между ѕлевроном и алидоном), что тот бросилс€ в озеро из-за неподчинени€ ему его любимца богатыр€ ‘или€. ѕо воле јполлона икн вместе со своей матерью делаетс€ озерной птицей, а озеро получает название Ћебединого.


5. изик, ћизи€. —татер (EL 20mm, 16.11g), ок. 550-450 до н.э. Av: крылата€ антропоморфна€ фигура јполлона с головой дельфина, в руке держит тунца. Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.
6. лазомены (Κλαζομεναί), »они€. ƒрахма (AR 16mm, 4.04g), ок. 386-301 до н.э. ћагистрат ћандронакс. Av: голова јполлона в лавровом венке; Rv: лебедь с расправленными крыль€ми; KΛA / MANΔΡΩNA[Ξ]
»з морских животных в мифах фигурирует дельфин. —уществовали даже прозвище јполлона Ч ƒельфиний (Δελφίνιος) и аттический праздник в честь јполлона Ч ƒельфинии (Δελφίνια). ульт јполлона ƒельфини€ был в носсе на рите, на Ёгине, ‘ере, ’иосе, в ћилете и был вообще распространен в ионийском мире. —трабон (IV 1, 4), рассказыва€ о св€тилище јполлона ƒельфини€ и јртемиды Ёфесской в ћассилии, говорит, что св€тилище этого јполлона Ђсоставл€ло общую св€тыню ион€нї. ƒельфиний, возможно, был сначала самосто€тельным демоном. Ќа Ёгине был мес€ц ƒельфиний и праздник ƒельфиний.
ящерица, реже л€гушка и жаба встречаютс€ в мифологии јполлона, несомненно, в св€зи с их хтоническим и мантическим значением. ќбраз јполлона —авроктона, убийцы €щерицы, свидетельствует о той борьбе героизма с хтонизмом, которую мы находим в мифах об убиении јполлоном ѕифона, √игантов, иклопов и пр. јполлон выступает как убийца дракона ѕифона; но ему же посв€щены змеи в Ёпире, например, где они считались порождением ѕифона. ”поминаетс€ в мифах и черепаха, в которую јполлон превратилс€, чтобы вступить в брак с ƒриопой.
»звестен јполлон и как истребитель саранчи, отсюда эпитет Ђѕарнопийї. ѕавсаний (I 24, 8) говорит о медной статуе јполлона ѕарнопи€ на афинском јкрополе (работы ‘иди€), прибавл€€ к этому свои рассуждени€ о том, каким путем вообще может уничтожатьс€ саранча. —трабон (XIII, I 64) сообщает о мес€це ѕарнопии и соответствующих жертвах у азиатских эолийцев.
Ћюбопытно фигурирование в мифологии јполлона мышей. Ёпитет јполлона Σμινθεύς (мышиный)⁶ упоминаетс€ уже у √омера в самом начале Ђ»лиадыї (I 39).
_______________________________
[6] Σμινθεύς (-έως) ὁ сминтеец, эпитет јполлона Ч от троадского города Σμίνθη или Σμίνθος; по другой версии, от σμίνθος Ђмышьї, потому что јполлон слыл истребителем полевых мышей, или потому что мышь считалась символом прорицани€; Hom.
—амое интересное, что бросаетс€ здесь в глаза, Ч это типичное дл€ хтонизма соединение целительных и губительных функций в одном образе. ѕо схолиасту к »л. I 39, јполлон напускает мышей на поле своего жреца, чтобы наказать этого последнего. јполлон уничтожает мышей (как на это указывает Apoll., дела€ здесь ƒиониса спутником јполлона). Ќо мыши мыслились также и полезными, так что, по Ёлиану (De nat. an. XII 5), жители города √амаксита в “роаде содержали мышей в храме јполлона и кормили их на государственный счет. —месь хтонической мантики мышей и их губительных функций мы находим в следующем рассказе —трабона (XIII 1, 48):
Ђ¬ этой ’рисе есть храм јполлона —минфе€; и символ, именно мышь, находитс€ под ногой статуи. Ёто произведение —копаса-паросца. этому месту приурочивают историю или сказку о мышах. ѕришедшие сюда с рита тевкры, о которых впервые сообщил аллин, элегический поэт, имевший много последователей, Ч эти тевкры получили от оракула повеление там остановитьс€ на жительство, где нападут на них сыны земли. –ассказывают, что это случилось в окрестност€х √амаксита, потому что огромное количество полевых мышей выползло там ночью и перегрызло всю кожу на оружии и сосудах. “ам-то они остановилисьї.
јполлон либо мыслитс€ очень близким к мышам, т.е. когда-то сам был мышью, либо противостоит им и воспринимаетс€ как их уничтожитель. «десь обычное переплетение хтонических и героических мотивов, когда демон сначала сам хтоничен, а потом сам же уничтожает в себе эту хтоничность.
«аметим также, что культ јполлона —минфе€ был вообще довольно распространен по берегам ћалой јзии, в ÷ентральной √реции и на «ападе. ќн известен в “роаде, на Ћесбосе, осе, –одосе. ћес€ц с таким названием известен на –одосе, ’иосе, в ћагнезии, јнтиохии. Ќадписи говор€т о сост€зани€х, известных под тем же названием в северо-западной части ћалой јзии (в Ћинде они св€заны с ƒионисом).
јѕќЋЋќЌ ј–Ќ≈…— »…
¬ разных местах √реции с бараном был ув€зан √ермес, в Ћаконии же Ч сначала арн (Κάρνος), а потом, в св€зи с распространением здесь јполлона, и сам јполлон, получивший наименование јполлона арнейского (Καρνεῖος).⁷ арн Ч демон плодороди€, имеющий отношение и к скоту, и к земледелию (к жатве). Ќаименование Ђјполлон арнейскийї €сно указывает на близость такого јполлона к земледельческой и скотоводческой мифологии. “о, что арн был сначала фигурой, независимой от јполлона, €вствует из того факта, что его им€ употребл€лось отдельно, вне какой-либо св€зи с јполлоном (хот€ бы в надпис€х). “о, что это общедорийский демон,⁸ видно из ‘укидида (V 54), который говорит о мес€це арнее, Ђпраздничном дл€ дор€нї, а также из ѕавсани€ (III 13, 4), утверждающего, что Ђпочитание јполлона арнейского установлено у всех дор€нї.
_______________________________
[7] Καρνεῖος, дор. Καρνήϊος ὁ
1) арнейский (эпитет јполлона у дорических племен ѕелопоннесса) Pind., Polyb.
2) арней (лакедемонский мес€ц, соотв. атт. Μεταγειτνιών, т.е. августу-сент€брю, в течение которого совершались дев€тидневные празднества в честь јполлона арнейского) Thuc., Eur., Plut.
[8] δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ
1) бог, богин€; ex. σὺν δαίμονι Hom. Ч с божьей помощью; πρὸς δαίμονα Hom. Ч против божьей воли;
2) божество (преимущ. низшего пор€дка) Ч дух, гений, демон;
3) божеское определение, рокова€ случайность; (тж. δαίμονος τύχη Pind., τύχη δαιμόνων Eur., δ. καὴ τύχη Aeschin., Dem. и τύχη καὴ δαίμονες Plat.);
4) злой рок, несчастье; ex. πλέν τοῦ δαίμονος Soph. Ч несмотр€ на это несчастье;
5) душа умершего.
—амое слово κάρνος √есихий переводит как Ђскот, баранї. ѕавсаний в приведенном только что месте дает много разных сведений об јполлоне арнейском, большей частью уже в его позднейшем виде. ќказываетс€, что в јкарнании был некий пророк јполлона арн (из јкарнании). огда его убили дор€не, то все дорийское войско постиг гнев јполлона, а убийца арна удалилс€ в изгнание. — этого времени будто бы началось у дор€н умилостивление арна. ќднако подобна€ интерпретаци€ арна €вно отличаетс€ поздним характером и оперирует уже с антропоморфическими и героизированными демонами. —ам же ѕавсаний развивает в дальнейшем другую теорию:
Ђƒл€ лакедемон€н не этот јполлон арнейский €вл€етс€ Ђƒомашнимї, а то божество, которое, когда его ахе€не занимали —парту, было почитаемо в доме прорицател€ ри€. ” ѕраксиллы в ее поэмах есть указание, что арней €вл€етс€ сыном ≈вропы и «евса и что его воспитали јполлон и Ћатона. Ќо о нем есть и другое сказание: дл€ постройки дерев€нного кон€ эллины срубили росшие на горе »де, около “рои, в св€щенной роще јполлона, кизиловые деревь€, [кранеи]; узнав, что бог гневаетс€ за это на них, они жертвами умилостивл€ют јполлона и дают ему наименование арне€, по названию этих деревьев, Ђкарнейї, переставив эту букву Ђрї, что, может быть, было особенностью их древнего €зыкаї. (ѕавсаний III 13, 4-5)
¬ этом сообщении ѕавсани€ ценны следующие три мотива. ѕо одному варианту, арн живет в доме ри€ (κριός, Ђбаранї). ѕо другому Ч он сын «евса и ≈вропы, причем известно, что «евс сочеталс€ с ≈вропой в виде быка, и вообще этот миф весьма архаичен. «аметим, что, и по √есихию, арней называетс€, Ђможет быть, по арну, от «евса и ≈вропыї. ѕо третьему варианту, им€ Ђ арнейї происходит от тех кизилей, которые греки срубили под “роей.


7. ћетапонт, Ћукани€. —татер (AR 20mm, 7.45g), 430-410 до н.э. Av: рогата€ голова јполлона арне€ (Κάρνειος); Rv: колос; META
8. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.53g), ок. 377-326 до н.э. Av: рогата€ голова јполлона арне€; Rv: орел в квадратном поле.
ульт јполлона арнейского был распространен в различных местност€х ѕелопоннеса (јргос, Ћаконика, ћессени€, јркади€), в ‘ивах, в Ћинде на –одосе, на рите и во многих других местах. ¬ јргосе жрица јполлона прорицала под воздействием вкушени€ бараньей крови.
¬ св€зи с јполлоном и јртемидой упоминаютс€ и лани. ≈врипид (ј1с. 583-586), рису€ благоденствие цар€ јдмета в период пребывани€ у него јполлона, указывает, между прочим, и на то, что лани внимали музыке јполлона. —трабон (XIV 6, 3) приводит начало элегии некоего автора о прибытии ланей к јполлону на ипр:
‘еба св€щенные лани, чрез шумные волны пробившись,
Ѕыстро пришли мы, дабы гибельных стрел избежать.
„удо великое люд€м: как вдаль без дорог по потоку
Ѕыстро весенний зефир нас перенес на крыле.
јѕќЋЋќЌ Ћ» ≈…— »…
ќсобенно важное значение в культе јполлона имеет волк. ќб этом читаем у √есихи€, и притом с характерно выраженным совмещением противоположностей. »менно, эпитетом Λυκοκτόνος (убивающий волков) у него зовЄтс€ јполлон. — другой стороны, тут же, строкой ниже, читаем: Ђ¬олк посв€щен јполлонуї. ќсобенным почитанием волка отличались ƒельфы, где имелось специальное медное изображение волка. ќб этом существовала местна€ легенда, изложенна€ у ѕавсани€ (X 11, 7):
ЂЌекогда один вор похитил драгоценности из храма јполлона и убежал с ними в лес, где был умерщвлен волком; этот же волк много раз подходил к городу и выл, вследствие чего служители дельфийского храма отправились вслед за волком в лес и нашли украденные драгоценности; в пам€ть этого и был сооружен медный волкї.
јристотель (Hist. anim. VI 35) говорит, что ЂЋето пришла из страны гиперборейцев на ƒелос в образе волчицы ввиду страха перед √еройї; здесь тот же мотив.
ќ преследовании јполлоном волков свидетельствует —офокл, у которого в ЂЁлектреї “алфибий, указыва€ на город јргос, говорит ќресту: Ђ¬от Ћикейска€ площадь бога-волкоубийцыї. —холиаст к этому месту и √есихий во втором из только что приведенных мест пр€мо говор€т здесь об јполлоне. ќб јполлоне, преследующем волков, находим у ѕавсани€ (II 9, 7):
ЂЌекогда сикион€не очень страдали от нашестви€ волков на их стада. јполлон велел накормить этих волков корой одного дерева в соединении с м€сом; в пам€ть гибели волков от этой еды сикион€не и построили храм јполлона Ћикейского [в —икионе]ї.
“аким образом, јполлон €вл€етс€ здесь убийцей волков, в то врем€ как в ƒельфах волк, наоборот, защитник его храма. ” ѕавсани€ (II 19, 3) рассказываетс€: Ђ—амой большой достопримечательностью у аргосцев в городе €вл€етс€ храм јполлона Ћикейского (хранител€ от волков)ї. » далее следует у ѕавсани€ длинный рассказ, который сводитс€ к тому, что во врем€ прибыти€ ƒана€ в јргос и столкновени€ его с тамошним царем насланный јполлоном волк загрыз быка, вожака стада. Ёто обсто€тельство было истолковано народом в смысле указани€ на необходимость передачи власти ƒанаю. Ќаконец, в честь этого ƒанай построил здесь храм јполлону Ћикейскому.
¬ отношении фигурировани€ волка в мифологии јполлона можно наметить такую последовательность. јполлон прежде всего сам делаетс€ волком или в него превращаетс€, например при бракосочетании с иреной, во врем€ избиени€ тельхинов, или в этом виде приходит на защиту (как в тексте из Ђ—емиї Ёсхила). — одной стороны, јполлон не враждебен волкам; об этом свидетельствует миф, рассказывающий, что после убиени€ ѕифона волк первый принес лавр јполлону. Ќо, €вл€€сь пастушеским богом, јполлон убивает волков, защища€ стада.
¬ јфинах знаменитый Ћицей тоже ведет к мифологии јполлона-волка, потому что λύκειος и означает не что иное, как Ђволчийї. ѕавсаний (I 19, 4) пишет: ЂЋикей (Λύκειος) получил свое название от Ћика, сына ѕандиона, но и в древние времена, как и при мне, он считалс€ храмом јполлона, и здесь бог искони называлс€ Ћикейскимї. “акже √имнасий у афин€н называлс€ Ћикейским (Suid. Laceion). ќ тамошних сост€зани€х читаем, например, у сенофонта (Hipp. Ill 6). ” Ёсхила (Sept. 131) хор обращаетс€ к јполлону Ћикейскому за военной помощью. Ќаконец, есть указани€ и на многие другие города и острова, где почиталс€ јполлон Ћикейский. “аковы ћегара, —икион, Ёпидавр, ƒелос, Ћесбос, ѕарос и др.
—амо прозвище Ћикейский имело множество разного рода толкований и в античности, и в Ќовое врем€. ѕиндар (Pyth. I 39) величает јполлона по его местам, указыва€ на Ћикию, ƒелос и др., причем возможно, что и Ћики€ Ч производное либо от слова Ђволкї, либо от слова Ђликейскийї (име€ в виду јполлона). Ќародна€ этимологи€ св€зывает этот эпитет с корнем, указывающим на Ђсолнечный светї.⁹ «ооморфическое толкование астрономии и метеорологии Ч обычное €вление в античных мифах. ¬ернее же всего, здесь перед нами типичное нерасчлененно-синтетическое мышление, которое еще не дошло до четкого разграничени€ метеорологических, зооморфических и родоплеменных фактов и €влений. этим временам матриархата восход€т и многие другие элементы мифологии јполлона. ¬ греческой литературе многочисленны упоминани€ об јполлоне Ћикейском: у јлкмана (frg. 29, 30 Diehl), Ёсхила (Agam. 1257, Suppl. 686), —офокла (ќ. —. 919, ≈1. 655, 1379), ≈врипида, јристофана, аллимаха. ¬стречаютс€ и рационалистические объ€снени€ эпитета Ђликейскийї, вроде леанфа у ћакроби€ (Sat. I 17, 36): Ђподобно тому, как волки похищают скот, так сам он похищает влагу своими лучамиїЕ
_______________________________
[9] λευκός Ч светлый, €ркий, €сный, си€ющий; ex: (ἠέλιος Hom.; φάος Soph.; αἰθήρ Eur.);
λύκος (ῠ) ὁ волк (ἡ λ. волчица).
¬ заключение, ещЄ несколько слов об этимологии этого важнейшего эпитета јполлона. ƒумать, что он просто указывает на страну Ћикию (как это думал, например, ¬иламовиц), невозможно, так как Ђликейскийї было бы по-гречески не Λύκειος, но Λύκιος.¹⁰ — другой стороны, можно с полной достоверностью утверждать, что оба значени€ эпитета Ђликейскийї чрезвычайно рано перепутались в сознании народа, так что возникша€ здесь народна€ этимологи€ оказалась почти неустранимой. ќтсюда Ч и разнообразие античных этимологий этого эпитета, перечисленных у Serv. Verg. јеп. IV 377. ”казание на Ћикию кроме приведенных выше текстов из ѕиндара и ≈врипида содержитс€ в гомеровском (»л. IV 101, 119) λυκηγενής Ч Ђрожденный в Ћикииї.
_______________________________
[10] Λύκειος ὁ Ћикейский, т.е. Ђволчийї (эпитет јполлона) Aesch.; ex: τοῦ λυκοκτόνου θεοῦ ἀγορὰ Λύκειος Soph. Ч Ћикейска€ площадь (в јргосе), посв€щенна€ истребл€ющему волков богу, т.е. јполлону;
Λύκιος ὁ Ћикийский (эпитет јполлона по р€ду его храмов в Ћикии, преимущ. в ѕатаре) Pind.
¬се эти античные этимологии расчлен€ют в рассматриваемом эпитете то, что едва ли расчленимо в нем дл€ периода архаики и содержитс€ в нем вполне слитно и нераздельно. ƒаже наиболее надежна€ этимологи€ Ђволкї в данном случае не абсолютна: Ќильссон замечает, что ни одно им€ греческого божества не образовано от корн€ названи€ того или иного животного. Ќаиболее очевидное значение гомеровского λυκηγενής Ч Ђрожденный в Ћикииї Ч ‘арнелл понимает как Ђрожденный волчицейї, что Ќильссоном тоже отвергаетс€. ясно, что здесь также насильственно расчлен€етс€ то, что дл€ стародавних времен неразличимо. Ќапример, ЂЋето, родивша€ јполлона и јртемиду в Ћикии, дала такое название этой стране именно ради помогавших ей волковї.
ј.‘. Ћосев. Ђћифологи€ греков и римл€нї
_______________________________
|
ћетки: јполлон √реци€ |
∆≈–“¬ќѕ–»ЌќЎ≈Ќ»я |
ƒневник |
∆≈–“¬ќѕ–»ЌќЎ≈Ќ»≈
¬ широком смысле, под жертвоприношением подразумеваетс€ любое приношение богам, которым выражаетс€ зависимость от них, благоговение и благодарность, или посредством которого желают приобрести божественную милость. ѕод пон€тие жертвоприношение подход€т и св€щенные подарки, которые отличаютс€ от жертвы в собственном смысле тем, что они предназначаютс€ богам дл€ посто€нного пользовани€, между тем как собственно жертва доставл€ет им только сиюминутное наслаждение. жертвоприношени€м относ€тс€ и те предметы, которые клали или вешали в храме, но которые там долго не оставались, например, первые плоды, цветы и т.п. (ἀκροθίνια, primitiae). ” греков и римл€н жертва была главной частью культа и самым важным актом большей части праздников. ∆ертвоприношени€ приносились как в праздничные дни, так и в обыкновенные, притом как частными лицами, семействами, родами, так и от лица всего государства. »х приносили при каждом значительном событии в жизни как частного лица, так и народа. ∆ертвоприношение можно разделить на два основных вида: кровавые и бескровные.
бескровным жертвам относ€тс€ первые плоды полей и садов (ἀπαρχαί Ч Ђначатки, первинки, первый сбор плодовї), что составл€ет самый древний вид жертвы раннего периода. Ќачатки приносились не только тем божествам, которые считались специальными покровител€ми земледели€ вообще, или отдельных его отраслей (ƒеметра, ƒионис и пр.), но и другим по различным причинам. “ак, например, ћатери богов во многих местах приносились блюда (κερνή), на которых были разложены по отделени€м разного рода плоды: пшеница, €чмень, горох, чечевица и пр. (јфин. XI, 476). јполлону и јртемиде в праздник ‘аргелий приносились начатки плодов и свежие хлебы; јполлону же и √орам осенью приносились начатки плодов под названием πυανόψια (откуда получил свое название мес€ц Pυανοψιών, встречающийс€ во многих ионических календар€х). ¬ јфинах в праздник ќсхофорий приносились јфине виноградные гроздь€.
ƒругой вид бескровных жертв представл€ют печени€, различавшиес€ по приготовлению, формам и названи€м (πόπανα, πέμματα, μάζαι и др.). —воими формами печени€ нередко намекали на те или иные качества или об€занности богов. “ак, например, јртемиде как богине луны приносились круглые лепешки (ἀμφιφώντες) или печени€ с рогами, јполлону Ч печени€ в виде лиры, лука, стрелы и т.п. ќсобого упоминани€ заслуживают медовые лепешки (μελιτοῦτται), употребл€вшиес€ дл€ умилостивлени€ хтонических сил: их клали, например, в гроб умершим дл€ укрощени€ пса ербера, охран€вшего вход в подземное царство, бросали зме€м при гадании у “рофони€, кормили ими св€щенную змею на афинском јкрополе.
ѕечени€ жертвовались всем богам и притом с соблюдением тех же обычаев, которые соблюдались при кровавых жертвах: в жертву небесным богам они сжигались на алтар€х, подземным богам и душам усопших Ч на жертвеннике (ἐσχάρα) или на гробнице, при жертвоприношении морским или речным богам Ч бросались в воду. ƒл€ сожжени€ использовали горючие материалы, дающие много дыма (кедровое, лавровое дерево, смола гумми). »ногда, впрочем, жертвенные печень€ просто оставл€ли на алтар€х.
∆ивотные жертвы были самыми важными и самыми традиционными в течение всего античного периода. ¬ыбор жертвенного животного был обусловлен определенными соображени€ми. Ќекоторых животных не приносили в жертву определенным божествам, например, козу Ч јфине; другие божества, напротив, Ђтребовалиї себе в жертву то или иное животное. Ёто предпочтение одних животных другим основывалось на том, что известное животное или было особенно любимо богом, или, напротив, считалось ему враждебным и ненавистным. “ак обычно объ€сн€етс€ то обсто€тельство, что ƒеметре приносили в жертву преимущественно свинью, а ƒионису Ч козла, так как свинь€ наносит вред пол€м, а козел Ч винограду. ѕосейдон любил, чтобы ему приносили в жертву черных быков и лошадей. Ѕогам рек приносили в жертву лошадей. –ыбу и дичь жертвовали редко (олен€ приносили в жертву јртемиде, богине охоты), птиц Ч чаще (петуха Ч јсклепию, голубей Ч јфродите, перепелов Ч √еркулесу).
—амыми распространенными жертвенными животными были быки, овцы, козы и свиньи, причем самцов предпочитали самкам. »ногда дл€ одной жертвы объедин€ли трех животных различных пород (τριττύς, τριττύα, suovetaurilia, solitaurilia), как у √омера в Ђќдиссееї, быка, барана и кабана. »ногда жертва состо€ла из значительного числа животных, а во врем€ больших праздников в богатых городах число жертвенных животных доходило до ста. ¬ –име во врем€ 2-й ѕунической войны была принесена жертва из 300 быков. ƒаже частные лица иногда приносили дорогосто€щие жертвы. √екатомбой первоначально называлось жертвоприношение из ста животных, затем этим же словом обозначали вс€кую большую и торжественную жертву.
∆ивотные, предназначавшиес€ дл€ жертвы, должны были быть здоровыми и без телесных недостатков, которых еще не использовали дл€ работ. ќсобенно воспрещалось приносить в жертву рабочего быка. ƒл€ жертвенного животного также требовалс€ определенный возраст. ќтносительно пола соблюдалось правило: мужским божествам приносили в жертву самцов, а женским Ч самок. роме того, учитывалось различие по цвету, причем верховным богам приносили в жертву животных белого цвета, а подземным и богам мор€ Ч черного цвета. Ёти различи€ в общем были одинаковы у греков и римл€н. –имл€не раздел€ли жертвенных животных на majores и lactentes (взрослых и молочных), на victimae (быки) и hostiae (мелкий скот), преимущественно овцы (victima maior est, hostia minor).

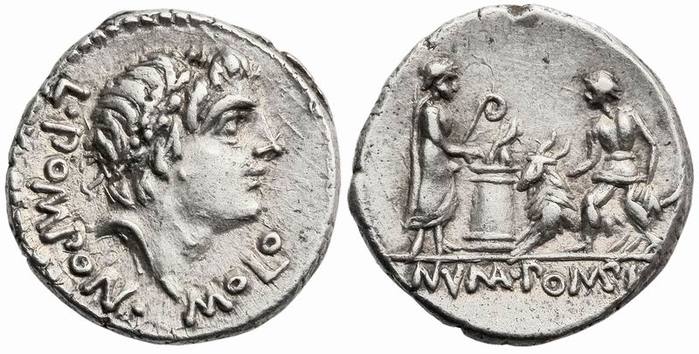
1. –имска€ республика. ћонетарий јвл ѕостумий јльбин (Aulus Postumius Albinus). ƒенарий серрат (AR 19mm, 4.16g), 81 до н.э. Av: бюст ƒианы с луком и колчаном за спиной, выше Ч голова быка. Rv: сцена жертвоприношени€ быка; A POST A F S N ALBIN (ј. ѕостумий јльбин сын —пури€ јльбина).
2. –имска€ республика. Ћ.ѕомпоний ћоло (Lucius Pomponius Molo). ƒенарий (AR 20mm, 3.99g), 97 до н.э. Av: голова јполлона в лавровом венке; L. POMPON. MOLO. Rv: царь Ќума ѕомпилиус, с литуусом в руках, стоит перед гор€щим алтарЄм, виктимарий держит козла, приготовленного к закланию; NVMA POMPIL
ƒревнейшему греческому культу, также как и культу многих народов, не были чужды человеческие жертвы. Ќесмотр€ на то что в некоторых культах, равно как и в культе Ћикейского «евса, принесение человеческих жертв основано было на том воззрении, что божество находит наслаждение в человеческом м€се, по большей части жертвы эти имели основанием желание умилостивить божество принесением в жертву представител€ народа, чтобы отвратить гнев бога, лежащий на всем народе.
ќчистительные человеческие жертвы, перенесенные в √рецию извне, принадлежат к раннему периоду жизни греческого народа. ќднако как только гуманистическое чувство народа начало крепнуть, человеческие жертвы были по большей части отменены. “ам же, где они сохранились, такие жертвоприношени€ существовали фиктивно: их замен€ли другими объектами, например, животными или неодушевленными предметами, или же см€гчали иным способом. “ак, дл€ жертвы избирали преступников, которые до этого были осуждены на смерть. »ногда довольствовались только пролитием человеческой крови (сечение спартанских мальчиков возле алтар€ јртемиды).
„еловеческие жертвы при погребени€х предназначались не богам, но тен€м умерших дл€ удовлетворени€ гнева или чувства мести умершего. ” римл€н в отдаленной древности также существовали человеческие жертвоприношени€ дл€ умилостивлени€ подземных богов человеческой кровью. Ќо этот жестокий обычай здесь также был см€гчен или отменен. ѕо древнему закону –омула, подземным богам посв€щали некоторых преступников (например, изменников), и тот, кто убивал их, не считалс€ преступником (parricida). ¬о врем€ праздника ёпитера Ћатийского (Jupiter Latiarias) также приносили в жертву преступника. Ќа праздниках (компитали€х) ћании, матери ларов, в жертву сначала приносили детей, а со времени ёни€ Ѕрута Ч головки мака или чеснока (ut pro capitibus supplicaretur). ¬ консульство √н. орнели€ Ћентула и ѕ. Ћицини€ расса (97 до н.э.) человеческие жертвы были запрещены постановлением сената.
¬ќ«Ћ»яЌ»≈
¬озли€ние¹ было центральным и жизненно важным аспектом древнегреческой религии и одной из самых простых и распространенных форм религиозной практики. Ёто один из основных религиозных актов, которые определ€ли благочестие в ƒревней √реции, начина€ с бронзового века и даже доисторической √реции. –итуал возли€ни€ был частью повседневной жизни, и мог выполн€тьс€ каждый день (и утром, и вечером).
_________________________
[1] λοιβή ἡ культовое возли€ние; (λοιβαὴ Διός Aesch.; λ. οἴνου Plat.)
σπονδή, дор. σπονδά ἡ (преимущ. pl.) культ. возли€ние; ex: τρίτα σπονδὰς ποιεῖν Xen. Ч совершать три возли€ни€ (в честь √ермеса, ’арит и «евса-избавител€).
χοή ἡ [χέω] возли€ние (преимущественно, в отличие от λοιβή и σπονδή) в честь умерших (из воды, вина и меда) Hom., Trag., Her., Plut.; ex: χοέν или χοὰς χεῖσθαί τινι Hom., Aesch. Ч совершать заупокойное возли€ние в честь кого-либо.
—овместна€ трапеза (συμπόσιον) была наиболее €рким выражением социальных, политических и религиозных отношений. ќбща€ трапеза как социальное учреждение, в период приблизительно от 300 до н.э. до 300 н.э., у греков, римл€н, египт€н, имела одни и те же обычаи приема пищи, с похожей символикой и правилами. ќбщие трапезы становились частью обр€да жертвоприношени€, который был символом совместной трапезы богов и людей. —импосий имел характер развлекательного, дискуссионного, философского общени€ членов формально организованного сообщества или религиозной группы.
”словно греко-римский пир был разделен на две части Ч перва€ предназначалась дл€ приема пищи (δεῖπνον), а втора€ Ч дл€ винных возли€ний (πόσις) и развлечений, котора€ предвар€лась жертвенным возли€нием вина, преимущественно, ƒионису и «евсу —пасителю.
¬озли€ние также совершалось при молитвах об успехе какого-либо предпри€ти€, при торжественных договорах, при жертвоприношении в честь умерших. ¬озли€ние, как и вс€ка€ жертва, совершалось чистыми руками, причем вино дл€ жертвоприношени€ должно было быть чистым, а не смешанным с водой, за исключением возли€ний √ермесу и жертвоприношений, приносившихс€ за столом. роме вина, дл€ возли€ний использовали мед, молоко, растительное масло. ¬ино никогда не приносили в жертву музам и нимфам, √елиосу, јфродите ”рании, аттическим Ёвменидам. ¬озли€ни€ мертвым состо€ли преимущественно из меда (μελίσπονδα) и вина, иногда мед смешивалс€ с молоком (μελίκρατα γάλακτος).
‘»јЋј ћ≈«ќћ‘јЋ
‘иала (φιάλη) Ч древнегреческа€ плоска€ чаша без ручек, из керамики или металла, с кра€ми слегка загнутыми во внутрь. ѕримен€лась как в бытовых цел€х, так и в качестве ритуальной посуды дл€ возли€ний богам (вином, молоком, водой). „асто в центре чаши делалс€ полусферический выступ, тип подобных чаш называетс€ фиала мезомфал (φιάλη μεσόμφαλος).²
_________________________
[2] φιάλη μεσόμφαλος τό фиала, чаша дл€ возли€ний с наход€щимс€ в самом центре выступом.
φιάλη (ᾰ) ἡ
1) сосуд дл€ варки; ex: φ. ἀπύρωτος Hom.;
2) сосуд дл€ пить€, чаша; ex: (Pind., Her., Eur., Arph., Xen.; πίνειν ἐκ φιάλης Plat.);
3) ковш; ex: (φιάλαις ἐκ τοῦ κρατῆρος ἀρυτόμενοι Plat.);
4) погребальный сосуд; ex: (τὰ ὀστέα ἐν φιάλη θεῖναι Hom.);
5) поэт. чашеобразный щит; ex: φ. Ἄρεως Arst.;
6) архит. чашеобразное углубление, щиток; ex: (αἱ ὀροφαὴ καὴ θύραι χρυσαῖς φιάλαις λιθοκόλλητοι Diod.)
ὀμφαλός ὁ
1) анат. пуп(ок) Hom., Plat., Xen.
2) острый выступ, шишка; ex: ἀσπίδος Hom.
3) стержень (в середине €рма);
4) перен. пуп, средоточие, центр; ex: θαλάσσης Hom.; ἄστεος, χθονός Pind.; τῆς γῆς Plat.


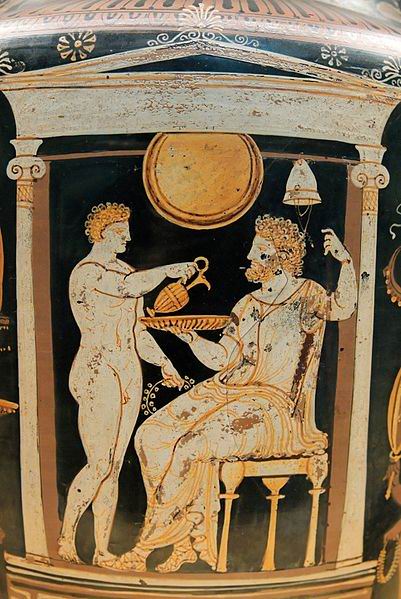
3. —цена возли€ни€ на алтарь во врем€ симпоси€ (συμπόσιον, пиршество). раснофигурна€ фиала, ок. 480 до н.э. Ћувр. ѕариж.
4. јполлон, с лирой в левой руке, совершает возли€ние вином. „ернофигурный килик, ок. 460 до н.э.
5. —цена возли€ни€ в фиалу јида, сид€щего на селле в проеме дистил€. ѕод антаблементом висит шапка-невидимка јида (Ἄϊδος κυνέην Ч род башлыка, из шкуры животного, иногда металлический шлем), имевша€ свойство делать надевшего ее невидимым. ќна была подарена јиду киклопами за то, что он освободил их (по приказу «евса). јпулийский краснофигурный кратер, 340-320 до н.э.


6. «олота€ фиала-мезомфал, IV в. до н.э. Ѕоспорское царство, курган уль-ќба.
7. «олота€ фиала-мезомфал (d 230mm, h 40mm, 982g), эллинистический период (323-146 до н.э.). ѕо торцу надпись: Ђ[ѕосв€щение] демарха јхириса [стоимость или вес] 115 золотых [статеров]ї (ΔAMAPXOY AXYPIOΣ / XPYΣOI ѕbb)
‘иала из кургана уль-ќба [4] выполнена в виде лучевой звезды, в которой 12 больших лучей и 12 меньшего размера, что наводит на мысль о знании мастера, изготовившего чашу, о суточном делении времени на 24 часа. аждый из лучей несет изображение горгонейона. ѕо краю чаши идет р€д из 24-х мужских голов с длинными бородами.
Ќа фиале јхириса (называемой так из-за посв€щени€ на торце) изображены три кольца из 36 желудей и четвертое, внутреннее, из буковых орехов. ¬ наиболее удаленном от центра кольце желуди чередуютс€ с пчелами Ч два символа земных Ђплодов в изобильеї, как писал √есиод. ¬ центре Ч большой омфал, который часто отождествл€етс€ с дельфийским омфалом, считавшимс€ центром «емли (в географическом смысле этого слова). ’от€ пуп «емли изображалс€ в виде камн€ €йцеобразной формы, выт€нутого вверх. ќмфал чаши, напротив, всегда выполн€лс€ слегка приплюснутым.
— другой стороны, золотой шаровидный омфал на чаше јхириса навевает аллюзии, св€занные с сол€рным символизмом. ¬ыт€нутые (от центра к краю) желуди и орехи, также ассоциируютс€ солнечными лучами. —ол€рна€ символика дл€ ритуальных чаш Ч €вление скорее естественное, нежели случайное. Ћюбой круглый предмет украшалс€ солнечным символом Ч круг с расход€щимис€ лучами. ≈сли дл€ бытовых предметов это обычна€ практика, то дл€ ритуальной утвари это тем более норма.
ѕомимо фиалы јхириса, есть и другие чаши, на которых омфал выполн€лс€ в виде шарообразного выступа. ќднако всегда, может за редким исключением, омфал имеет приплюснутую форму. Ёто дает повод дл€ предположени€, что, веро€тнее всего, Ђвыпуклостьї в центре чаши Ч €вл€етс€ ничем иным как жертвенной медовой лепешкой, какие приносили хтоническим богам (ƒионису «имнему, јиду, гени€м местности, геро€м или просто умершим родственникам). ћедова€ лепешка, лежаща€ в центре фиалы, естественно, могла нести в себе сол€рный аспект, но это не символ солнца, как такового. Ёто символ несущий в себе сол€рную энергию жизни, так необходимую насельникам јида. “ем же цел€м служили и медовые возли€ни€.
‘иалы с полусферой в центре, видимо, возникли, как канон, из-за чисто механического перенесени€ изображени€ фиалы с жертвенной лепешкой. »значальное предназначение которой, как упоминалось выше, Ч ритуальное Ч возможность новопреставившемус€ задобрить ербера, спуска€сь в царство јида. Ћибо желание задобрить гени€ местности (или других хтонических богов), дабы те послали хороший урожай.


8. ‘иала-мезомфал. раснофигурна€ аттическа€ керамика, ок. 430 до н.э.
9. јпулийска€ краснофигурна€ фиала-мезомфал, ок. 320-300 до н.э.
Ќельз€, однако, не отметить попытку, в римской ритуальной практике, обыграть сходство фиалы-мезомфал с сол€рным символом ☉ (круг с точкой в центре, заимствованный из египетской иероглифики). Ќа иллюстраци€х ниже мы видим фиалу (лат. patera), с расход€щимис€ от омфала (лат. umbo) лучами, не только в руках усопшего, но и на стенках саркофага.

рышка погребальной урны, II в. до н.э. Ћувр. Ётрусские древности.
_______________________

рышка погребальной урны, III в. до н.э. Ћувр. Ётрусские древности.
_______________________

—аркофаг Ћарции —е€нти. Ќациональный археологический музей, ‘лоренци€. II в. до н.э.
_______________________

—аркофаг, III в. до н.э., Ћувр.
_______________________
Ќа передней стенке грифоны с двух сторон держат солнечный диск мало отличимый от фиалы в руках усопшего. омпозици€ с грифонами Ч это каноническа€ сцена, сохранивша€с€ в неизменном виде вплоть до —редневековь€.

ƒеталь —куола —ан-ћарко, ¬енеци€, 1260 г.
_______________________
√»√»≈я
√игие€ (Ὑγιεία), пожалуй единственна€ из греческих богинь, котора€, как правило, изображаетс€ со змеей на руках. » чаще всего она эту змею кормит из фиалы. ћне кажетс€, это неспроста. ¬ свое врем€ € сделал скромное предположение о том, что образ √игиеи восходит корн€ми к египетской ”аджит. ”аджит часто изображали в виде уре€ над иероглифом Ђплетена€ корзинаї (nebet), который имеет значение Ђвладычицаї [Ќижнего ≈гипта]. ѕохожий иероглиф (shes, heb, обозначающий каменный плоский сосуд), часто взаимозамен€емо использовалс€ с иероглифом Ђкорзинаї. »ероглиф алебастровой чаши (shes, heb) отличаетс€ от иероглифа корзины (nebet) наличием ромба посредине. ¬озвраща€сь к √игиее, именно эти два (условно говор€) иероглифа (змею и чашу) она посто€нно и держит в руках. ƒа и само им€ богини (Ὑγιεία) говорит за себ€. Ѕуква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обсто€тельств, читаетс€ и как [ί], и как [ü]. ѕри обычном переходе согласной γ (Ђгї) в Ђджї, им€ Ὑγιεία с легкостью превращаетс€ в ”джиею, что мало чем отличаетс€ от ”аджит.
ќтсюда вопрос, не была ли √игие€ первой, от которой пошла традици€ иконографии богинь корм€щих с рук гени€ местности, в образе зме€? стати, ”аджит, как вс€ка€ богин€ из свиты –а, имела эпитет ќко –а. ¬от прекрасное объ€снение сол€рного символизма чаши, как атрибута богини √игиеи-”аджит. ’от€ неизвестно, насколько был важен сол€рный символизм чаши дл€ греков.
Ћюбой круглый предмет украшалс€ солнечным символом (круг с расход€щимис€ лучами) Ч бытова€ посуда, щиты, масл€ные лампы. Ёто обычна€ практика и самый простой рисунок. Ќо одно дело рисунок, и совсем другое Ч сферический выступ на дне ритуальной чаши. удр€вец ¬. . считает единственным смыслом наличи€ омфала в центре фиалы Ч это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), котора€, в свою очередь, €вл€етс€ заимствованным египетским сол€рным символом (круг с точкой внутри). ƒл€ этого он даже предлагает новый термин: Ђсолнечна€ фиалаї. »з слова јтон (егип. Ἰtn, солнечный диск) удр€вец выводит греческие имена «евса (через θεόν, θεός) и јфины (в его изложении, женска€ форма имени јтон). “аким образом Ђсолнечна€ фиалаї в руке јфины, €кобы должна демонстрировать ее сол€рную ипостась. —олкин именует эпитетом јтонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню ’атхор-—ехмет, что, очевидно, соответствует эпитету ќко –а, который носили многие богини из свиты –а.
посуда, щиты, масл€ные лампы. Ёто обычна€ практика и самый простой рисунок. Ќо одно дело рисунок, и совсем другое Ч сферический выступ на дне ритуальной чаши. удр€вец ¬. . считает единственным смыслом наличи€ омфала в центре фиалы Ч это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), котора€, в свою очередь, €вл€етс€ заимствованным египетским сол€рным символом (круг с точкой внутри). ƒл€ этого он даже предлагает новый термин: Ђсолнечна€ фиалаї. »з слова јтон (егип. Ἰtn, солнечный диск) удр€вец выводит греческие имена «евса (через θεόν, θεός) и јфины (в его изложении, женска€ форма имени јтон). “аким образом Ђсолнечна€ фиалаї в руке јфины, €кобы должна демонстрировать ее сол€рную ипостась. —олкин именует эпитетом јтонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню ’атхор-—ехмет, что, очевидно, соответствует эпитету ќко –а, который носили многие богини из свиты –а.
Ётимологи€ имени јфины от египетского эпитета јтонет мной ранее рассматривалась в теме Ёгида. ≈динственное, что смущает во всем этом Ђсол€рном символизмеї јфины Ч это полное отсутствие каких бы то ни было свидетельств этой самой сол€рности. ≈е символ Ч сова, птица ночна€. Ђ—ова ћинервы вылетает в полночьї. ј девственность самой богини говорит о ее откровенно лунном аспекте. ¬ообще традици€ отождествлени€ богинь с земным аспектом, в образе богини-матери, и лунным аспектом, в образе девы, уходит в глухую древность ƒревней √реции. ’от€, отдадим должное, воинственность —ехмет јфина восприн€ла в полном объеме. ¬прочем, не только воинственность. ѕосмотрим, что еще интересного об јфине повествуют ученые мужи античности.
—огласно ѕлутарху, во врем€ строительства здани€ ѕарфенона в јфинах,³ Ђсамый энергичный и самый ревностный из мастеров поскользнулс€ и упал с высоты. ќн был в самом т€желом состо€нии, и врачи считали его положение безнадежным. ѕерикл упал духом, но богин€ [јфина], €вившись ему во сне, дала указание, как лечить пострадавшего. ѕрименив это лечение, ѕерикл быстро и без труда его вылечил. ¬ честь этого излечени€ он поставил медную статую јфины √игиеи (÷елительницы) на јкрополе возле алтар€, который, как говор€т, существовал там уже раньшеї (ѕлутарх. ѕерикл 13). “у же самую историю с небольшими вариантами передает и ѕлиний (≈стественна€ истори€, XXII, 44). ѕри этом он добавл€ет, что лекарством служила трава, названна€ после исцелени€ в честь богини Ђпарфениемї. Ќа акрополе было найдено основание статуи јфины √игиеи работы скульптора ѕирра с посв€тительной надписью: Ђјфин€не јфине ÷елительнице. —делал ѕирр, афин€нинї.
_________________________
[3] Παρθενών (-ῶνος) ὁ ѕарфенон, храм јфины в афинском јкрополе; название ѕарфенон €вл€етс€ производным от эпитета јфины Ч Παρθένος Ч ƒева.
Ќебольшой храм, посв€щенный как јфине √игиее так и √игиее, дочери јсклепи€, был расположен на юго-востоке центрального здани€ ѕропилей. »зображали √игиею в виде молодой женщины, корм€щей змею јсклепи€ из чаши. ульт јфины √игиеи на јкрополе датируетс€ VI в. до н.э. в соответствии с эпиграфической надписью, в то врем€ как культ √игиеи датируетс€ приблизительно 420 до н.э. ѕоэтому имеет смысл рассматривать культ √игиеи как дубликат культа целительницы јфины √игиеи, тем более, что богиню √игиею считали дочерью јсклепи€ и јфины (ѕавсаний. ќписание Ёллады I 23, 5).
ƒаже вернее было бы говорить об отделившейс€ ипостаси √игиеи (целительницы) от јфины (воительницы). ќбщие корни јфины и √игиеи хорошо просматриваютс€ в иконографии богинь корм€щих зме€ из фиалы. “олько √игие€ кормит безым€нного зме€ (хот€ иногда зме€ идентифицируют как √ликона), а јфина кормит Ёрихтони€, но, в обоих случа€х, змей представл€ет из себ€ гени€ местности.
≈ще одна богин€-кормилица змеи Ч римска€ —алюс Ч это абсолютный список с √игиеи. —ложно говорить о значимости этой богини в доимперский период. Ќо, в любом случае, ее статус резко подн€лс€ во времена »мперии, когда —алюс стала почитатьс€ как охранительница императора. »конографи€ —алюс полностью копирует √игиею. —обственно —алюс Ч это и есть √игие€, просто, дл€ удобства, им€ греческой богини перевели на италийский.
ὑγίεια, ὑγεία, редко ὑγιεία, ион. ὑγιείη и ὑγείη (ῠ) ἡ
1) здоровье; ὑ. φρενῶν Aesch. Ч здравый смысл; ὑγίεαι καὴ εὐεξίαι Plat. Ч здоровье и благососто€ние;
2) исцеление, выздоровление; (πάσης νόσου Men.).
salus, -utis f [salvus]
1) здоровье, здоровое состо€ние;
2) благо, благополучие, благососто€ние, благоденствие (civium C);
3) спасение, избавление, сохранение жизни (certare pro salute Sl): saluti esse alicui C служить к чьему-л. спасению;
4) спаситель (Lentulus s. nostrae vitae C);
5) средство к спасению, возможность спасени€ (nullam salutem reperire C);
6) привет, поклон;
7) ласк. радость (quid agis Pl).
Ћюбопытно, что слово salus Ч мужского рода. ѕоэтому логичней было бы называть богиню именем Salutis. ¬озможно, путаница пошла от того, что изображение —алюс на монетах часто сопровождаетс€ легендой SALVS AVG (salus Augusti). Ќо эта легенда переводитс€ как пожелание здоровь€ императору, и к богине имеет опосредованное отношение.


16. јдриан (117-138). –им. —естерций (Æ 31mm, 24.40g). Av: бюст јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: —алюс прот€гивает жертвенную лепешку змею, обвивающему алтарь, в левой руке держит патеру; SALVS AVG / S C
17. ƒиадумениан (Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus; 218), соправитель своего отца ћакрина. Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€. Æ 27mm, 217/8г. Av: бюст ƒиадумениана; K M OΠΠEΛI ANTΩ ΔIAΔOYMENIANOC. Rv: девушка, с зав€занными глазами, кормит гени€ в образе зме€; Yѕ CTATI ΛON√INOY NIKOΠOΛITΩN ѕPOC ICTPΩ


18. Ћ.–осций ‘абат (L.Roscius Fabatus), легат ÷езар€. ƒенарий-серрат (AR 3.82g), 59 до н.э. Av: голова ёноны —оспиты в козлиной шкуре, слева Ч патера (фиала-мезомфал); L ROSCI. Rv: девушка, с зав€занными глазами, совершающа€ приношение гению местности в образе зме€; слева коринфский шлем; FABATI
19. “рикка (Τρίκκη), ‘ессали€. ќбол (AR 12mm, 0.92g), ок. 440-400 до н.э. Av: конь скачущий влево. Rv: √игие€, корм€ща€ змею из патеры; TΡIKKAIΩN


20. Ёлагабал (218-222). –им. ƒенарий (AR 22mm, 4.91g). Av: бюст Ёлагабала в короне; IMP CAES MAVR ANTONINVS AVG. Rv: —алюс кормит из патеры гени€ в образе зме€; SALVS ANTONINI AVG
21. аракалла (198-217). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.61g), 205г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: —алюс на троне кормит из патеры гени€ в образе зме€, обвивающего алтарь; PONTIF TR P VIII COS II


22. ћарк јврелий и Ћюций ¬ер (соправители с 161г.). –им. ћедальон (Æ 42mm), 161г. Av: бюсты двух императоров, обращенные друг к другу; IMP ANTONINVS AVG COS III IMP VERVS AVG COS II. Rv: —алюс на троне кормит из патеры гени€ в образе зме€, обвивающего алтарь.
23. ћарк јврелий (161-180). –им. —естерций (Æ 24.93g), 162/3г. Av: бюст ћарка јврели€; IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG P M. Rv: —алюс, со скипетром в левой руке, кормит из патеры зме€, обвивающего алтарь; SALVTI AVGVSTOR TR P XVII / COS III / SC


24. јнтонин ѕий (138-161). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.48g), 148/9г. Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII. Rv: ‘ортуна, с корабельным рулем в левой руке, кормит из патеры зме€, обвивающего алтарь; внизу, р€дом с рулем Ч сфера; COS IIII
25. аракалла (197-217). —ердика, ‘раки€. Æ 30mm (18.71g). Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ΑΥΤ Κ Μ ΑΥPΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟC. Rv: сид€ща€ јфина в коринфском шлеме кормит из чаши зме€ Ёрихтони€, обвивающего оливковое дерево; справа щит, на котором сидит сова; ΟΥΛΠΙΑC C™ΡΔΙΚΗC
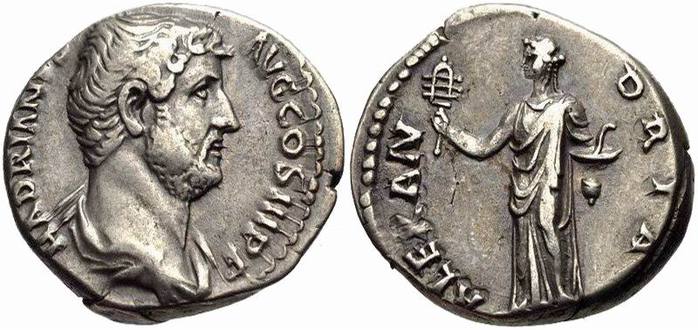

26. јдриан (117-138). –им. ƒенарий (AR 17mm, 3.48g), ок. 134-138гг. Av: бюст јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: »сида в правой руке держит систр, в левой Ч патеру со змеей; ALEXANDRIA
27. ѕамфили€. —татер (AR 23mm, 10.64g), ок. 380-340 до н.э. Av: јфина в аттическом шлеме держит на руке крылатую Ќику, левой рукой придержива€ щит и копье; слева у ног Ч Ёрихтоний. Rv: јполлон с патерой и скипетром перед алтарем.
ў»“
≈сли рассматривать форму фиалы-мезомфал как попытку обыграть сол€рный символизм ритуальной чаши, то было бы не лишним вспомнить еще один интересный атрибут, несущий в себе сол€рный аспект. Ёто щит. ўит с фиалой св€зывает не только кругла€, слегка выгнута€ форма, у щитов в центре тоже находилс€ выступ-омфал. »талики, к слову сказать, выпуклость в центре щита (равно как и в центре чаши) называли умбон (umbo). “ермины Ђумбонї и Ђомфалї Ч равнозначны и в наши дни (и дл€ чаши, и дл€ щита).⁴


28. ћарк јврелий (Marcus Aurelius Antoninus; 161-180). ѕергам, ћизи€. ћагистрат “иллий ратипп (strategos A.Tyllios Kratippos). ћедальон (Æ 33.49g), ок. 161-165гг. Av: бюст ћарка јврели€ в лавровом венке; AYT KAI M AYPH ANTΩNEINOC. Rv: јфина в аттическом шлеме стоит перед св€щеным оливковым деревом, которое обвивает Ёрихтоний; справа Ч щит и копье; EΠI CTPA A TYΛ KPATIΠΠOY ΠEP√AMHNΩN / ΔIC NEOK
29. лодий јльбин (193-197). –им. —естерций (Æ 30mm, 20.14g), ок. 194/5г. Av: бюст лоди€ јльбина; D CLOD SEPT ALBIN CAES. Rv: ћинерва ѕримирительница (Minerva Pacifica) в коринфском шлеме, опираетс€ о щит, придержива€ копье; в правой руке Ч оливкова€ ветвь; MINER PACIF / COS II / S C
_________________________
[4] umbo, -onis m выпуклость, выступ в середине щита (служившего в рукопашном бою ударным оружием).
ὀμφαλός ὁ острый выступ, шишка (ἀσπίδος Ч щит Hom.).
φιάλη (ᾰ) ἡ
1) сосуд дл€ варки;
2) сосуд дл€ пить€, чаша;
3) ковш;
4) погребальный сосуд;
5) поэт. чашеобразный щит; (φιάλη Ἄρεως Arst.).
≈сли рассуждать логически, можно сделать очевидное предположение, если схожие элементы разных девайсов имеют аналогичное название, то мы имеем дело с заимствованием. ќмфал в центре чаши не имеет прикладного характера, это чисто символьный элемент. Ќапротив, омфал щита, часто острый и удлиненный, использовалс€ в ближнем бою дл€ нанесени€ противнику поражающего удара. ќ щитах с острым омфалом упоминает еще √омер.
ЂЌаход€щийс€ в месте пупаї Ч это кривой перевод, но пример из √омера исправл€ет трудности перевода: Ђвыступ щитаї.
ќтметим все же, что, помимо ударной функции, главное предназначение щита Ч защита. ” небольших и средних размеров щитов ручка, за которую щит держали, находилась в центре. », таким образом, умбон огибал кулак. ѕоэтому, в большинстве своем, форма умбона Ч сферическа€. “.е., возвраща€сь к практичности, предназначение умбона-омфала на щите Ч пон€тно, ибо он был важным (чтобы не сказать, необходимым) элементом конструкции. »з этого можно допустить теоретическое предположение, что, именно, щит мог послужить примером дл€ подражани€, т.е. переноса центрального символьного элемента на конструкцию сакральной чаши, с целью усилени€ символьной значимости.
PS
стати, италийский термин umbo (умбон), веро€тно, имеет греческую этимологию:
ὑβός, v. l. ὗβος 3 (ῡ) горбатый Theocr.
ὗβος, v. l. ὕβος ὁ выпуклость, горб; (ἐπὴ τῷ νώτῳ, sc. τῶν καμήλων Arst.).
ѕон€тно, что Ђгорбатостьї Ч это выпуклость сзади, а если оно же спереди, то это просто Ђвыпуклостьї Ч греч. ὑβός, лат. umbo.⁵
_________________________
[5] Ѕуква m в слове umbo (умбон) по€вилась не случайно. Ѕуква β (τό βῆτα Ч бета, 2-€ буква др.-греч. алфавита), в новогреческом стала произноситьс€ как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [ν]. » название ее, соответственно, помен€лось на Ђвитаї. —егодн€ звук Ђbї в греческом встречаетс€ только в заимствовани€х и передаетс€ сочетанием букв μπ, например: Μπαχάμες (Ѕагамы), μπανάνα (банан). Ќо, чтобы новое правило грамматики вошло в обиход, понадобилось некоторое (довольно продолжительное) врем€, что хорошо видно на примерах написани€ слова Ђсубботаї в ≈гипте, в IV в. н.э., которые дает ≈пифаний —аламинский: Σαμβαθον, —αμφαθον, —αμαθον (Epiphanius' Sabitha In Egypt: Σαμβαθον/cαμφαθον/cαμαθον. Mayerson Philip).
Х ≈пифаний —аламинский (греч. Ἐπιφάνιος Σαλαμίνιος; ок. 310/20-403) был епископом —аламина ( ипр), в конце IV века.
‘–ј »…— »≈ ‘»јЋџ
‘иала (h 9cm; d 13.7cm), серебро, позолота, начало III в. до н.э. Ћитье, дополнительное оформление путем пластической деформации, чеканка различными пуансонами.
‘онд Ђ‘раки€ї с музеем Ђ¬асил Ѕожковї. »нв. є ¬Ѕ-“р-02151.

Ёто одна из крупных фиал-мезомфал ахеменидского типа с одинаковой высотой тулова и горловины. “улово покрыто вертикальными мелкими каннелюрами, разделенными между собой позолоченными полосками. —наружи донце окружено рельефным концентрическим по€сом. Ќа месте омфала прикреплена золота€ 18-листна€ розетта, а поверх нее Ч небольшой 8-листный цветок. — внутренней стороны на омфал прикреплена серебр€на€ с позолотой эмблема с изображением головы сатира в венке из плюща. ѕод подбородком на шее зав€зана шкура. «вериные уши повернуты вперед и детально прорисованы. ѕластично смоделированные черты лица подчеркивают буйный характер сатира. ѕоворот головы, складки над бров€ми, широко раскрытые глаза с обозначенными зрачками и плотно сжатые маленькие губы подчеркивают характер участника торжественного шестви€ ƒиониса.
______________________
‘иала (h 4.5сm; d 11.7сm). —еребро, перва€ половина ≤V в. до н.э. –огозенский клад.
–егиональный исторический музей, г.¬раца. »нв. є Ѕ 431.

ќрнаменты внутри сосуда представлены в негативе, а с внешней стороны переданы объемно. –ельефы выполнены в двух €русах: первый, около омфала, состоит из изображений плодов миндал€, чередующихс€ с цветками лотоса. ¬торой р€д выполнен из восьми женских голов, между которыми выбиты трехлистные пальметты. √оловы имеют треугольные лица, сросшиес€ над носом брови, тонкие губы, большие миндалевидные глаза, очерченные тонким рельефным контуром. ¬олосы, завивающиес€ в нижней части в спирали, проработаны насечками.
______________________
‘иала (h 3.5сm; d 25сm), золото, конец ≤V в. до н.э. лад из ѕанагюриште.
–егиональный археологический музей. ѕловдив. »нв. є 3204.
 „аша имеет широкий горизонтальный край усть€ и омфал. ќмфал изготовлен отдельно и прикреплен в центре дна. ѕоверхность фиалы покрыта рельефным орнаментом, расположенным в виде нескольких концентрических окружностей. ¬нутренн€€ состоит из 12 маленьких розеток, которые прикрывают заклепки, скрепл€ющие стенки сосуда и омфал. ƒалее идет р€д из 24 желудей. —ледующие три окружности содержат по 24 декоративных элемента в виде человеческих голов. ќни пропорционально увеличиваютс€ в размерах и образуют исход€щие из центра радиусы. „еловеческие головы Ч это так называемые эфиопы, которых греки считали чернокожими обитател€ми южного кра€, окруженного океаном земного диска. —огласно эллинским веровани€м, эфиопы первыми стали совершать возли€ни€ в честь богов, заслужив тем самым их покровительство. ѕоэтому головы эфиопов превратились в символ благоденстви€. ¬ св€тилище Ќемезиды (IV в. до н.э.) под –амнунтом, јттика, стату€ богини держит в руке подобную фиалу.
„аша имеет широкий горизонтальный край усть€ и омфал. ќмфал изготовлен отдельно и прикреплен в центре дна. ѕоверхность фиалы покрыта рельефным орнаментом, расположенным в виде нескольких концентрических окружностей. ¬нутренн€€ состоит из 12 маленьких розеток, которые прикрывают заклепки, скрепл€ющие стенки сосуда и омфал. ƒалее идет р€д из 24 желудей. —ледующие три окружности содержат по 24 декоративных элемента в виде человеческих голов. ќни пропорционально увеличиваютс€ в размерах и образуют исход€щие из центра радиусы. „еловеческие головы Ч это так называемые эфиопы, которых греки считали чернокожими обитател€ми южного кра€, окруженного океаном земного диска. —огласно эллинским веровани€м, эфиопы первыми стали совершать возли€ни€ в честь богов, заслужив тем самым их покровительство. ѕоэтому головы эфиопов превратились в символ благоденстви€. ¬ св€тилище Ќемезиды (IV в. до н.э.) под –амнунтом, јттика, стату€ богини держит в руке подобную фиалу.
¬с€ поверхность сосуда между головами покрыта сложным узором из пальметт, выполненных в более низком рельефе. —наружи, под краем усть€, врезаны две надписи, указывающие вес фиалы в двух различных единицах измерени€: в драхмах Ч HPDDDDѕ I; и в статерах города Ћампсак Ч H. ≈ще один врезной знак находитс€ с внутренней стороны умбона: ћ.
¬ 1949г. в ходе земл€ных работ в местности ћерул неподалеку от города ѕанагюриште был обнаружен комплект изделий из золота общим весом в 6kg 164g. ƒев€ть сосудов представл€ют собой великолепные образцы искусства мастеров ювелиров раннеэллинистической эпохи: древнегреческие мотивы и стилистические приемы сочетаютс€ в них с фракийскими и ахеменидскими. ¬ научной литературе эти издели€ датируютс€ концом IV Ч началом III в. до н.э. ѕредположительно сосуды были изготовлены в малоазийском городе Ћампсак, либов местной фракийской мастерской и принадлежали прославленному правителю из племени одриссов —евту III (около 330-297 до н.э.).
ѕредание земле изделий из драгоценных металлов и монет входило в обр€довые функции правител€. «арытые в землю, они становились св€щенным даром, сакрализующим пространство, и одновременно с этим отмечающим основные космогонические обр€ды рождени€ нового цар€ и св€щенного брака с ¬еликой богиней-матерью. ¬ традиции устного фракийского орфизма захоронение дара представл€ет собой действие-именование —ына ¬еликой богини-матери. ќн €вл€етс€ одновременно (северным) —олнцем и ќгнем, но мыслим и в позиции св€щенного брака, т.е. в момент его обр€довой смерти, в момент нового рождени€.
______________________
‘иала-мезомфал (h 5сm; d 13.5сm), серебро, начало V в. до н.э. овка, чеканка отдельных деталей, басма.
‘онд Ђ‘раки€ї с музеем Ђ¬асил Ѕожковї »нв. є ¬Ѕ-“р-02230.
 —осуд относитс€ к так называемому ахеменидскому типу Ч форма полусферическа€ с выт€нутым наружу пр€мым устьем и невысоким, плоским омфалом. ¬ средней части сосуда расположены двенадцать гладких миндалевидных выпуклостей очень высокого рельефа. ќрнаментику нижней части составл€ют широкие врезанные €зыки. ќни св€зывают между собой миндалины, тем самым очерчива€ дно фиалы. ѕространство между миндалинами украшают стилизованные растительные мотивы, которые состо€т из заштрихованного овала и цветного бутона и св€зывают миндалины друг с другом.
—осуд относитс€ к так называемому ахеменидскому типу Ч форма полусферическа€ с выт€нутым наружу пр€мым устьем и невысоким, плоским омфалом. ¬ средней части сосуда расположены двенадцать гладких миндалевидных выпуклостей очень высокого рельефа. ќрнаментику нижней части составл€ют широкие врезанные €зыки. ќни св€зывают между собой миндалины, тем самым очерчива€ дно фиалы. ѕространство между миндалинами украшают стилизованные растительные мотивы, которые состо€т из заштрихованного овала и цветного бутона и св€зывают миндалины друг с другом.
ѕервые экземпл€ры фиал ахеменидского типа датированы концом VI в. до н.э. ћиндалевидные фиалы обнаружены в кладах и погребени€х ‘ракии. Ќаиболее ранней из них считаетс€ серебр€на€ фиала из захоронени€ в ћушовице близ ƒуванли. Ѕлизкие параллели известны среди серебр€ных фиал из гробницы »кизтепе, Ћиди€, датированные концом VI Ч началом V в. до н.э.
______________________
‘иала (h 4сm; d 18.8сm), серебро, ≤V в. до н.э.
–егиональный исторический музей, г.¬раца. »нв. є Ѕ 465.
 —осуд принадлежит к типу фиалы-мезомфал и состоит из среднего по глубине тулова с хорошо выраженным отогнутым наружу краем. ƒно с внешней стороны украшено выбитым по€ском ов. ¬ центре дна изнутри находитс€ позолоченный умбон в форме полусферы. ќт него радиально отход€т 14 листьев розетты, составленной из больших по размеру €зыкообразных листов, позолоченных через один и чередующихс€ с мелкими стреловидными отростками. ¬о внешнем декоративном €русе тулова изображены четыре пары грифонов, чередующихс€ с пальметтами. √рифоны сид€т на задних лапах, их головы повернуты назад. “ела изображены пластично, шеи элегантно изогнуты. √рива передана снопами, обрамл€ющими голову. рыль€ обозначены так же, как и грива. ¬о внешнем €русе перь€ переданы рельефными продольными насечками.
—осуд принадлежит к типу фиалы-мезомфал и состоит из среднего по глубине тулова с хорошо выраженным отогнутым наружу краем. ƒно с внешней стороны украшено выбитым по€ском ов. ¬ центре дна изнутри находитс€ позолоченный умбон в форме полусферы. ќт него радиально отход€т 14 листьев розетты, составленной из больших по размеру €зыкообразных листов, позолоченных через один и чередующихс€ с мелкими стреловидными отростками. ¬о внешнем декоративном €русе тулова изображены четыре пары грифонов, чередующихс€ с пальметтами. √рифоны сид€т на задних лапах, их головы повернуты назад. “ела изображены пластично, шеи элегантно изогнуты. √рива передана снопами, обрамл€ющими голову. рыль€ обозначены так же, как и грива. ¬о внешнем €русе перь€ переданы рельефными продольными насечками.
“ип фиалы, как и растительный орнамент из розетт и пальметт, были широко распространены во фракийском искусстве. —огласно античной мифологии, грифоны были стражами золота, которое выходило из земли, обитател€ми пограничной зоны между реальным и загробным миром, спутниками богов, в том числе и јполлона, который в сцене возвращени€ из √ипербореи часто был представлен верхом на грифоне или же в колеснице, запр€женной грифонами. ќбраз мифического животного, сочетающего мощь льва и орла, несет большую семантическую нагрузку. ¬ нем было закодировано верховное ураническое божество, царь-жрец, гарант божественного бессмерти€. ¬еро€тно, это стало причиной частого по€влени€ этого образа в декоративных мотивах произведений фракийского искусства.
______________________
—ервиз јполлона. „етыре серебр€ные фиалы (h 3.6сm, d 12.4-14.8сm). увшин (17.9сm). —еребро с позолотой, V-≤V в. до н.э.
–огозенский клад. –егиональный исторический музей, г.¬раца. »нв. є Ѕ 540.

“ри другие фиалы Ч однотипны, имеют широкое устье с отогнутым краем и полусферическое тулово, украшенное €русом из насечек и радиально расположенными каннелюрами. Ќа умбоне изображена рельефна€ мужска€ голова с классическими чертами лица. »конографический тип ближе всего к изображени€м јполлона. ¬еро€тно, фиала была сделана в царских мастерских отиса ≤ специально дл€ ритуального сервиза.
увшин массивный, литой, листова€ позолота нанесена до гравировки надписи точечным пуансоном. —еребро высокой пробы (96.8%). “улово сосуда €йцевидной формы, декорировано двум€ рельефными €русами с овами, расположенными в основании шейки и по плечикам. ѕо краю усть€ поверх позолоченной ленты выгравировано: ΚΟΤΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΙΣ ( отис, сын јполлона). Ќадписью передаетс€ доктринальна€ позици€ правител€ как сына —олнца, по-древнегречески обозначенного именем јполлон. “ем не менее самым важным в надписи €вл€етс€ обозначение позиции самого цар€, котора€ определена существительным Ђпайсї.⁶ Ёта лексема была выбрана вместо Ђсынї (γιός)⁷ не случайно: ее мистериальный смысл включает не только семантику родства, но и привносит элемент св€щеннодействи€.
____________________________
[6] παῖς, παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ (voc. παῖ Ч эп. тж. πάϊ; pl.: gen. παίδων, dat. παισί Ч эп. παίδεοσι)
1) ребенок, дит€, мальчик или девочка;
π. παιδός Hom., Plat. Ч внук;
πέτρας ὀρείας π. Eur. Ч дит€ горных скал, т.е. Ёхо;
ἐκ παιδός Plat. Ч с детства;
ἀμπέλου π. Pind. Ч дит€ виноградной лозы, т.е. вино;
παῖδες τᾶς ἀμιάντου Aesch. Ч дети морской пучины, т.е. морские животные
2) pl. сыны (в описани€х, преимущ. не переводитс€)
οἱ παῖδες Ἀσκληπιοῦ Plat. Ч сыны јсклепи€, т.е. врачи;
Λυδῶν παῖδες Her. Ч лидийцы;
οἱ ζωγράφων παῖδες Plat. Ч живописцы.
[7] γιός ὁ сын; ex.: θετός γιός приемный сын.
¬еро€тно, кувшин вместе с четырьм€ фиалами представл€л собой специальный ритуальный сервиз, который служил дл€ посв€щений в орфические мистерии. ¬озможно, он был подарен одрисским царем отисом ≤ трибальскому правителю √алесу.
¬ древней ‘ракии было известно два доктринальных пути бессмерти€ дл€ царей-жрецов и воинов: один из них можно назвать јполлоновым (постигнутым способом очищени€), другой Ч ƒионисийским (через кровавое жертвоприношение). ќбр€довый Ђсервиз јполлонаї из –огозенского клада, подаренный одрисским царем отисом ≤ (383-359 до н.э.) трибальскому правителю, веро€тнее всего, и предназначалс€ дл€ совершени€ возли€ний водой и медом. —читалось, что это св€щенные жидкости бога —олнца, —ына ¬еликой богини-матери, в его уранической сущности. ¬изуализаци€ св€щенного брака ¬еликой богини со своим —ыном укрепл€ла надежду на то, что божественна€ энерги€ этого союза вливаетс€ в посв€щенного и ведет его к бессмертию.
______________________
‘–ј »…— »… ќЅ–яƒ
≈лка ѕенкова
‘ракийское направление одно из древнейших направлений эллинизации балканско-анатолийского региона. Ќачина€ со второй половины ≤≤ тыс. до н.э. во фракийской среде оформл€етс€ и осмысливаетс€ иде€ взаимодействи€ Ђземл€-небої, котора€ приобретает характер религиозно-политической доктрины, условно названной профессором ј. ‘олом Ђфракийским орфизмомї.
ульт ƒиониса во ‘ракии засвидетельствован множеством исключительных объектов и находок, самыми ранними из которых €вл€ютс€ могильники с богатым инвентарем из некропол€ близ села ƒуванли в районе ѕловдива. ќсновой дионисийства €вл€етс€ вера в умирающего и заново рождающегос€ бога, который в древней Ёлладе был преимущественно покровителем вегетативного цикла (за исключением некоторых мистериальных празднеств), а во ‘ракии Ч символом и воплощением перехода от жизни к загробному миру. ‘ракийский ƒионис Ч —ын ¬еликой богини-матери, переживающий свое собственное жертвоприношение в образе быка, барана или козла. ¬ своей смерти, через вытекающую из ран и впитывающуюс€ в почву кровь, ƒионис снова соедин€лс€ с землей св€щенным браком и давал жизнь своему сыну, правителю социума. ‘ракийский ƒионис Ч Ѕог-—олнце, называемый —абазием, и Ѕог-ќгонь, называемый «агреем Ч это бог, который обладает верующим в него, очищает и освобождает его, потому что он Ђбог внутриї верующего. ¬ известном фракийском прорицалище днем ƒионис идентифицировалс€ с —олнцем, а ночью Ч с ќгнем. ∆рецы распознавали божественную волю по лучам солнца, падающим на алтарь, и по €зыкам пламени, взвивающимс€ в темное небо.
Ѕык €вл€лс€ основным зооморфным про€влением хтонических («агреево-ƒионисийских) ипостасей —ына ¬еликой богини-матери. ¬ орфических гимнах ƒиониса призывали €витьс€ в образе Ђтрехлетнего быкаї, обращались к нему как к Ђогнерожденномуї и Ђбыколикомуї, Ђдвурогомуї и т.д. ”биение быка и принесение его в жертву представл€ло собой символическое соединение дающей жизнь крови с землей. „ерез этот акт участники обр€да сопереживали таинство смерти и св€щенного брака. ќдновременно с этим бык €вл€лс€ и воплощением бога, поэтому во врем€ жертвоприношени€ плоть животного расчлен€лась (разрывалась) на куски, и жрецы вкушали ее с кровью, дабы ввести бога в свое тело и поселить его в нем. ¬ этом обр€де бог-бык умирал и снова рождалс€. Ћитературна€ обработка обр€да впоследствии вывела из сюжета о разорванном на куски и съеденном титанами «агрее орфический антропологический миф.
¬ контактных зонах эллинских полисов в понтийском регионе ƒионис чаще всего по€вл€етс€ в погребальном контексте или же в св€зи с аттическими празднествами, такими как ¬еликие ƒионисии, Ћенеи и јнфестерии. ¬ вазописи он представлен в сценах открытой дл€ всех оргиастической обр€дности, веро€тно, подобной той, что описана √еродотом в повествовании о царе скифов —киле в ќльвии (Herod. ≤V, 79-80).
—очетание сол€рности и хтонизма и наименование двух ипостасей —ына ¬еликой богини-матери Ч јполлоновой и ƒионисийской Ч результат так называемой Ђƒельфийской реформыї V≤≤≤ в. до н.э. (‘ол. 1998а; 2002); вплоть до ƒиодора жреческий род в ƒельфах называлс€ ‘ракиды (’V≤ 23,3). Ёта реформа состо€ла в эллинизации веры и наречение именами двух ипостасей —ына ¬еликой богини-матери, который в доэллинистический период оставалс€ анонимным. Ѕог приплыл в ƒельфы, то есть на север с юга, в образе дельфина (Hymn. Hom II 315-318). »ли, согласно другим верси€м, на спине дельфина. ¬ вазописи и в письменных источниках дельфины св€заны с јполлоном и ƒионисом. рылатый дельфин Ч образ-символ, имеющий большую смысловую нагрузку. ќн может передвигатьс€ по морю, которое дл€ эллинов после √омера окрашено красным Ч цветом вина, но он также может лететь по воздуху. — помощью дельфинов легче всего попасть из мира мертвых в мир бессмертных. ¬ этом смысле, дельфин Ч прекрасный символ, сочлен€ющий морское (потустороннее) пространство и небесное (ураническое).
¬ олимпийской религии ƒионис Ч властелин смерти, бог, который приходит и уходит, его ритуальные возвращени€ во врем€ праздников случаютс€ раз в два года (“риетериды) или ежегодно (јнфестерии). ¬ ƒельфах он властвует в св€тилище в зимние мес€цы, когда јполлон на колеснице, запр€женной лебед€ми, улетает в страну гипербореев. ≈го передвижение Ч св€зующа€ нить двух пространств Ч земного и подземного, где символика ƒиониса наилучшим образом конструирует свои знаки: Ђ—олнце в загробном миреї, Ђпылающа€ лоза, дочь черной землиї, Ђпитающий огонь ƒиониса и холодный плющ, его защитник, обвившийс€ вокруг него при его рожденииї, Ђфонтаны плюща с воды цвета винаї, Ђчерный цветокї, Ђфакел в ночиї. ¬ знаменитом фракийском св€тилище ƒиониса, о котором впервые упоминает √еродот (V≤≤. 111.2), царско-жреческий род бессов⁸ выполн€л прорицательские функции. —ветоний (Aug. 94, 6) сообщает о гадательной практике, в которой божественную волю распознавали по всполохам огн€ на алтаре, излива€ на него неразбавленное вино.
____________________________
[8] Βέσσοι, Βεσσοί οἱ бессы (плем€ во ‘ракии) Polyb., Anth.
јристотель в своем труде Ђќ чудесах, про которые € слышалї (842, 15-24) упоминает подобное (или то же) св€тилище, в котором во врем€ праздника и жертвоприношени€ вспыхнувший огонь знаменовал плодородный год. ¬ конце ≤V Ч начале V в. неоплатоник ћакробий (Sat. I, 18, 11), рассужда€ о дуалистической сол€рно-хтонической (јполлоно-ƒионисийской) вере фракийцев, ссылаетс€ на јлександра ѕолигистора (перва€ половина ≤ в. до н.э.): Ђћы знаем также, что во ‘ракии —олнце и Ћибер Ч одно (божество), которое они, называ€ его —абазием, чествуют с великолепной религиозностьюЕ Ќа вершине «илмисос этому богу воздвигнуто св€тилище круглой формы, крыша которого в середине открыта небуї.
https://newparadigma-ru.livejournal.com/53928.html
‘ракийское золото из Ѕолгарии. ¬ыставка в √»ћ. ћосква. 2013г.
_______________________________
¬ широком смысле, под жертвоприношением подразумеваетс€ любое приношение богам, которым выражаетс€ зависимость от них, благоговение и благодарность, или посредством которого желают приобрести божественную милость. ѕод пон€тие жертвоприношение подход€т и св€щенные подарки, которые отличаютс€ от жертвы в собственном смысле тем, что они предназначаютс€ богам дл€ посто€нного пользовани€, между тем как собственно жертва доставл€ет им только сиюминутное наслаждение. жертвоприношени€м относ€тс€ и те предметы, которые клали или вешали в храме, но которые там долго не оставались, например, первые плоды, цветы и т.п. (ἀκροθίνια, primitiae). ” греков и римл€н жертва была главной частью культа и самым важным актом большей части праздников. ∆ертвоприношени€ приносились как в праздничные дни, так и в обыкновенные, притом как частными лицами, семействами, родами, так и от лица всего государства. »х приносили при каждом значительном событии в жизни как частного лица, так и народа. ∆ертвоприношение можно разделить на два основных вида: кровавые и бескровные.
бескровным жертвам относ€тс€ первые плоды полей и садов (ἀπαρχαί Ч Ђначатки, первинки, первый сбор плодовї), что составл€ет самый древний вид жертвы раннего периода. Ќачатки приносились не только тем божествам, которые считались специальными покровител€ми земледели€ вообще, или отдельных его отраслей (ƒеметра, ƒионис и пр.), но и другим по различным причинам. “ак, например, ћатери богов во многих местах приносились блюда (κερνή), на которых были разложены по отделени€м разного рода плоды: пшеница, €чмень, горох, чечевица и пр. (јфин. XI, 476). јполлону и јртемиде в праздник ‘аргелий приносились начатки плодов и свежие хлебы; јполлону же и √орам осенью приносились начатки плодов под названием πυανόψια (откуда получил свое название мес€ц Pυανοψιών, встречающийс€ во многих ионических календар€х). ¬ јфинах в праздник ќсхофорий приносились јфине виноградные гроздь€.
ƒругой вид бескровных жертв представл€ют печени€, различавшиес€ по приготовлению, формам и названи€м (πόπανα, πέμματα, μάζαι и др.). —воими формами печени€ нередко намекали на те или иные качества или об€занности богов. “ак, например, јртемиде как богине луны приносились круглые лепешки (ἀμφιφώντες) или печени€ с рогами, јполлону Ч печени€ в виде лиры, лука, стрелы и т.п. ќсобого упоминани€ заслуживают медовые лепешки (μελιτοῦτται), употребл€вшиес€ дл€ умилостивлени€ хтонических сил: их клали, например, в гроб умершим дл€ укрощени€ пса ербера, охран€вшего вход в подземное царство, бросали зме€м при гадании у “рофони€, кормили ими св€щенную змею на афинском јкрополе.
ѕечени€ жертвовались всем богам и притом с соблюдением тех же обычаев, которые соблюдались при кровавых жертвах: в жертву небесным богам они сжигались на алтар€х, подземным богам и душам усопших Ч на жертвеннике (ἐσχάρα) или на гробнице, при жертвоприношении морским или речным богам Ч бросались в воду. ƒл€ сожжени€ использовали горючие материалы, дающие много дыма (кедровое, лавровое дерево, смола гумми). »ногда, впрочем, жертвенные печень€ просто оставл€ли на алтар€х.
∆ивотные жертвы были самыми важными и самыми традиционными в течение всего античного периода. ¬ыбор жертвенного животного был обусловлен определенными соображени€ми. Ќекоторых животных не приносили в жертву определенным божествам, например, козу Ч јфине; другие божества, напротив, Ђтребовалиї себе в жертву то или иное животное. Ёто предпочтение одних животных другим основывалось на том, что известное животное или было особенно любимо богом, или, напротив, считалось ему враждебным и ненавистным. “ак обычно объ€сн€етс€ то обсто€тельство, что ƒеметре приносили в жертву преимущественно свинью, а ƒионису Ч козла, так как свинь€ наносит вред пол€м, а козел Ч винограду. ѕосейдон любил, чтобы ему приносили в жертву черных быков и лошадей. Ѕогам рек приносили в жертву лошадей. –ыбу и дичь жертвовали редко (олен€ приносили в жертву јртемиде, богине охоты), птиц Ч чаще (петуха Ч јсклепию, голубей Ч јфродите, перепелов Ч √еркулесу).
—амыми распространенными жертвенными животными были быки, овцы, козы и свиньи, причем самцов предпочитали самкам. »ногда дл€ одной жертвы объедин€ли трех животных различных пород (τριττύς, τριττύα, suovetaurilia, solitaurilia), как у √омера в Ђќдиссееї, быка, барана и кабана. »ногда жертва состо€ла из значительного числа животных, а во врем€ больших праздников в богатых городах число жертвенных животных доходило до ста. ¬ –име во врем€ 2-й ѕунической войны была принесена жертва из 300 быков. ƒаже частные лица иногда приносили дорогосто€щие жертвы. √екатомбой первоначально называлось жертвоприношение из ста животных, затем этим же словом обозначали вс€кую большую и торжественную жертву.
∆ивотные, предназначавшиес€ дл€ жертвы, должны были быть здоровыми и без телесных недостатков, которых еще не использовали дл€ работ. ќсобенно воспрещалось приносить в жертву рабочего быка. ƒл€ жертвенного животного также требовалс€ определенный возраст. ќтносительно пола соблюдалось правило: мужским божествам приносили в жертву самцов, а женским Ч самок. роме того, учитывалось различие по цвету, причем верховным богам приносили в жертву животных белого цвета, а подземным и богам мор€ Ч черного цвета. Ёти различи€ в общем были одинаковы у греков и римл€н. –имл€не раздел€ли жертвенных животных на majores и lactentes (взрослых и молочных), на victimae (быки) и hostiae (мелкий скот), преимущественно овцы (victima maior est, hostia minor).

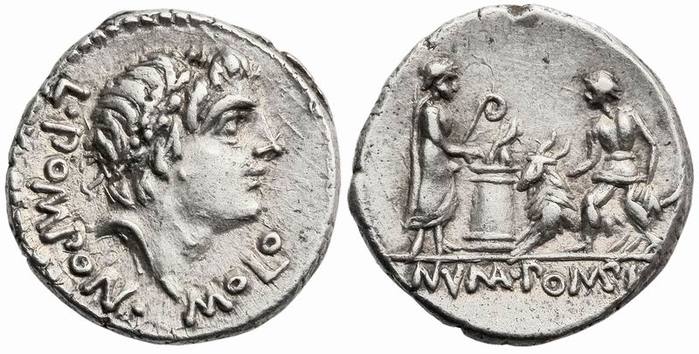
1. –имска€ республика. ћонетарий јвл ѕостумий јльбин (Aulus Postumius Albinus). ƒенарий серрат (AR 19mm, 4.16g), 81 до н.э. Av: бюст ƒианы с луком и колчаном за спиной, выше Ч голова быка. Rv: сцена жертвоприношени€ быка; A POST A F S N ALBIN (ј. ѕостумий јльбин сын —пури€ јльбина).
2. –имска€ республика. Ћ.ѕомпоний ћоло (Lucius Pomponius Molo). ƒенарий (AR 20mm, 3.99g), 97 до н.э. Av: голова јполлона в лавровом венке; L. POMPON. MOLO. Rv: царь Ќума ѕомпилиус, с литуусом в руках, стоит перед гор€щим алтарЄм, виктимарий держит козла, приготовленного к закланию; NVMA POMPIL
ƒревнейшему греческому культу, также как и культу многих народов, не были чужды человеческие жертвы. Ќесмотр€ на то что в некоторых культах, равно как и в культе Ћикейского «евса, принесение человеческих жертв основано было на том воззрении, что божество находит наслаждение в человеческом м€се, по большей части жертвы эти имели основанием желание умилостивить божество принесением в жертву представител€ народа, чтобы отвратить гнев бога, лежащий на всем народе.
ќчистительные человеческие жертвы, перенесенные в √рецию извне, принадлежат к раннему периоду жизни греческого народа. ќднако как только гуманистическое чувство народа начало крепнуть, человеческие жертвы были по большей части отменены. “ам же, где они сохранились, такие жертвоприношени€ существовали фиктивно: их замен€ли другими объектами, например, животными или неодушевленными предметами, или же см€гчали иным способом. “ак, дл€ жертвы избирали преступников, которые до этого были осуждены на смерть. »ногда довольствовались только пролитием человеческой крови (сечение спартанских мальчиков возле алтар€ јртемиды).
„еловеческие жертвы при погребени€х предназначались не богам, но тен€м умерших дл€ удовлетворени€ гнева или чувства мести умершего. ” римл€н в отдаленной древности также существовали человеческие жертвоприношени€ дл€ умилостивлени€ подземных богов человеческой кровью. Ќо этот жестокий обычай здесь также был см€гчен или отменен. ѕо древнему закону –омула, подземным богам посв€щали некоторых преступников (например, изменников), и тот, кто убивал их, не считалс€ преступником (parricida). ¬о врем€ праздника ёпитера Ћатийского (Jupiter Latiarias) также приносили в жертву преступника. Ќа праздниках (компитали€х) ћании, матери ларов, в жертву сначала приносили детей, а со времени ёни€ Ѕрута Ч головки мака или чеснока (ut pro capitibus supplicaretur). ¬ консульство √н. орнели€ Ћентула и ѕ. Ћицини€ расса (97 до н.э.) человеческие жертвы были запрещены постановлением сената.
¬ќ«Ћ»яЌ»≈
¬озли€ние¹ было центральным и жизненно важным аспектом древнегреческой религии и одной из самых простых и распространенных форм религиозной практики. Ёто один из основных религиозных актов, которые определ€ли благочестие в ƒревней √реции, начина€ с бронзового века и даже доисторической √реции. –итуал возли€ни€ был частью повседневной жизни, и мог выполн€тьс€ каждый день (и утром, и вечером).
_________________________
[1] λοιβή ἡ культовое возли€ние; (λοιβαὴ Διός Aesch.; λ. οἴνου Plat.)
σπονδή, дор. σπονδά ἡ (преимущ. pl.) культ. возли€ние; ex: τρίτα σπονδὰς ποιεῖν Xen. Ч совершать три возли€ни€ (в честь √ермеса, ’арит и «евса-избавител€).
χοή ἡ [χέω] возли€ние (преимущественно, в отличие от λοιβή и σπονδή) в честь умерших (из воды, вина и меда) Hom., Trag., Her., Plut.; ex: χοέν или χοὰς χεῖσθαί τινι Hom., Aesch. Ч совершать заупокойное возли€ние в честь кого-либо.
—овместна€ трапеза (συμπόσιον) была наиболее €рким выражением социальных, политических и религиозных отношений. ќбща€ трапеза как социальное учреждение, в период приблизительно от 300 до н.э. до 300 н.э., у греков, римл€н, египт€н, имела одни и те же обычаи приема пищи, с похожей символикой и правилами. ќбщие трапезы становились частью обр€да жертвоприношени€, который был символом совместной трапезы богов и людей. —импосий имел характер развлекательного, дискуссионного, философского общени€ членов формально организованного сообщества или религиозной группы.

”словно греко-римский пир был разделен на две части Ч перва€ предназначалась дл€ приема пищи (δεῖπνον), а втора€ Ч дл€ винных возли€ний (πόσις) и развлечений, котора€ предвар€лась жертвенным возли€нием вина, преимущественно, ƒионису и «евсу —пасителю.
¬озли€ние также совершалось при молитвах об успехе какого-либо предпри€ти€, при торжественных договорах, при жертвоприношении в честь умерших. ¬озли€ние, как и вс€ка€ жертва, совершалось чистыми руками, причем вино дл€ жертвоприношени€ должно было быть чистым, а не смешанным с водой, за исключением возли€ний √ермесу и жертвоприношений, приносившихс€ за столом. роме вина, дл€ возли€ний использовали мед, молоко, растительное масло. ¬ино никогда не приносили в жертву музам и нимфам, √елиосу, јфродите ”рании, аттическим Ёвменидам. ¬озли€ни€ мертвым состо€ли преимущественно из меда (μελίσπονδα) и вина, иногда мед смешивалс€ с молоком (μελίκρατα γάλακτος).
‘»јЋј ћ≈«ќћ‘јЋ
‘иала (φιάλη) Ч древнегреческа€ плоска€ чаша без ручек, из керамики или металла, с кра€ми слегка загнутыми во внутрь. ѕримен€лась как в бытовых цел€х, так и в качестве ритуальной посуды дл€ возли€ний богам (вином, молоком, водой). „асто в центре чаши делалс€ полусферический выступ, тип подобных чаш называетс€ фиала мезомфал (φιάλη μεσόμφαλος).²
_________________________
[2] φιάλη μεσόμφαλος τό фиала, чаша дл€ возли€ний с наход€щимс€ в самом центре выступом.
φιάλη (ᾰ) ἡ
1) сосуд дл€ варки; ex: φ. ἀπύρωτος Hom.;
2) сосуд дл€ пить€, чаша; ex: (Pind., Her., Eur., Arph., Xen.; πίνειν ἐκ φιάλης Plat.);
3) ковш; ex: (φιάλαις ἐκ τοῦ κρατῆρος ἀρυτόμενοι Plat.);
4) погребальный сосуд; ex: (τὰ ὀστέα ἐν φιάλη θεῖναι Hom.);
5) поэт. чашеобразный щит; ex: φ. Ἄρεως Arst.;
6) архит. чашеобразное углубление, щиток; ex: (αἱ ὀροφαὴ καὴ θύραι χρυσαῖς φιάλαις λιθοκόλλητοι Diod.)
ὀμφαλός ὁ
1) анат. пуп(ок) Hom., Plat., Xen.
2) острый выступ, шишка; ex: ἀσπίδος Hom.
3) стержень (в середине €рма);
4) перен. пуп, средоточие, центр; ex: θαλάσσης Hom.; ἄστεος, χθονός Pind.; τῆς γῆς Plat.


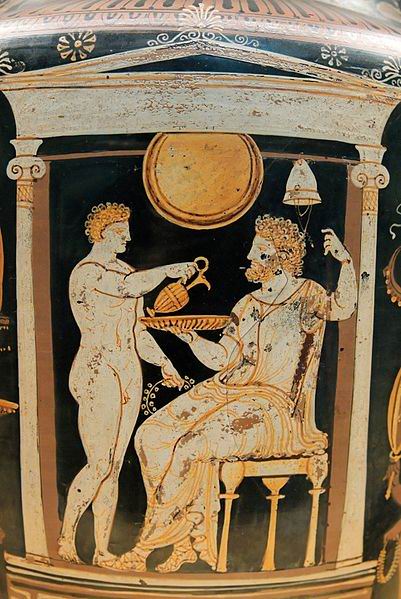
3. —цена возли€ни€ на алтарь во врем€ симпоси€ (συμπόσιον, пиршество). раснофигурна€ фиала, ок. 480 до н.э. Ћувр. ѕариж.
4. јполлон, с лирой в левой руке, совершает возли€ние вином. „ернофигурный килик, ок. 460 до н.э.
5. —цена возли€ни€ в фиалу јида, сид€щего на селле в проеме дистил€. ѕод антаблементом висит шапка-невидимка јида (Ἄϊδος κυνέην Ч род башлыка, из шкуры животного, иногда металлический шлем), имевша€ свойство делать надевшего ее невидимым. ќна была подарена јиду киклопами за то, что он освободил их (по приказу «евса). јпулийский краснофигурный кратер, 340-320 до н.э.


6. «олота€ фиала-мезомфал, IV в. до н.э. Ѕоспорское царство, курган уль-ќба.
7. «олота€ фиала-мезомфал (d 230mm, h 40mm, 982g), эллинистический период (323-146 до н.э.). ѕо торцу надпись: Ђ[ѕосв€щение] демарха јхириса [стоимость или вес] 115 золотых [статеров]ї (ΔAMAPXOY AXYPIOΣ / XPYΣOI ѕb
‘иала из кургана уль-ќба [4] выполнена в виде лучевой звезды, в которой 12 больших лучей и 12 меньшего размера, что наводит на мысль о знании мастера, изготовившего чашу, о суточном делении времени на 24 часа. аждый из лучей несет изображение горгонейона. ѕо краю чаши идет р€д из 24-х мужских голов с длинными бородами.
Ќа фиале јхириса (называемой так из-за посв€щени€ на торце) изображены три кольца из 36 желудей и четвертое, внутреннее, из буковых орехов. ¬ наиболее удаленном от центра кольце желуди чередуютс€ с пчелами Ч два символа земных Ђплодов в изобильеї, как писал √есиод. ¬ центре Ч большой омфал, который часто отождествл€етс€ с дельфийским омфалом, считавшимс€ центром «емли (в географическом смысле этого слова). ’от€ пуп «емли изображалс€ в виде камн€ €йцеобразной формы, выт€нутого вверх. ќмфал чаши, напротив, всегда выполн€лс€ слегка приплюснутым.
— другой стороны, золотой шаровидный омфал на чаше јхириса навевает аллюзии, св€занные с сол€рным символизмом. ¬ыт€нутые (от центра к краю) желуди и орехи, также ассоциируютс€ солнечными лучами. —ол€рна€ символика дл€ ритуальных чаш Ч €вление скорее естественное, нежели случайное. Ћюбой круглый предмет украшалс€ солнечным символом Ч круг с расход€щимис€ лучами. ≈сли дл€ бытовых предметов это обычна€ практика, то дл€ ритуальной утвари это тем более норма.
ѕомимо фиалы јхириса, есть и другие чаши, на которых омфал выполн€лс€ в виде шарообразного выступа. ќднако всегда, может за редким исключением, омфал имеет приплюснутую форму. Ёто дает повод дл€ предположени€, что, веро€тнее всего, Ђвыпуклостьї в центре чаши Ч €вл€етс€ ничем иным как жертвенной медовой лепешкой, какие приносили хтоническим богам (ƒионису «имнему, јиду, гени€м местности, геро€м или просто умершим родственникам). ћедова€ лепешка, лежаща€ в центре фиалы, естественно, могла нести в себе сол€рный аспект, но это не символ солнца, как такового. Ёто символ несущий в себе сол€рную энергию жизни, так необходимую насельникам јида. “ем же цел€м служили и медовые возли€ни€.
‘иалы с полусферой в центре, видимо, возникли, как канон, из-за чисто механического перенесени€ изображени€ фиалы с жертвенной лепешкой. »значальное предназначение которой, как упоминалось выше, Ч ритуальное Ч возможность новопреставившемус€ задобрить ербера, спуска€сь в царство јида. Ћибо желание задобрить гени€ местности (или других хтонических богов), дабы те послали хороший урожай.
Ђ¬ –име были два храма ёноны —оспиты: один на Forum olitonum (ќвощна€ площадь) и другой на ѕалатине, но это были по сравнению с ланувийским храмом второстепенные св€тилища. ¬ пещере рощи содержалс€ св€щенный змей (гений места), которому ежегодно весной избранна€ девушка, входивша€ в пещеру с зав€занными глазами, приносила жертвенную лепешку, при этом Ч если змей принимал лепешку, то это считалось знаком чистоты девушки и знамением плодороди€ года. “очно так же в определенный день в году совершали жертвоприношение в Ћанувийской роще римские консулы.ї


8. ‘иала-мезомфал. раснофигурна€ аттическа€ керамика, ок. 430 до н.э.
9. јпулийска€ краснофигурна€ фиала-мезомфал, ок. 320-300 до н.э.
Ќельз€, однако, не отметить попытку, в римской ритуальной практике, обыграть сходство фиалы-мезомфал с сол€рным символом ☉ (круг с точкой в центре, заимствованный из египетской иероглифики). Ќа иллюстраци€х ниже мы видим фиалу (лат. patera), с расход€щимис€ от омфала (лат. umbo) лучами, не только в руках усопшего, но и на стенках саркофага.

рышка погребальной урны, II в. до н.э. Ћувр. Ётрусские древности.
_______________________

рышка погребальной урны, III в. до н.э. Ћувр. Ётрусские древности.
_______________________

—аркофаг Ћарции —е€нти. Ќациональный археологический музей, ‘лоренци€. II в. до н.э.
_______________________

—аркофаг, III в. до н.э., Ћувр.
_______________________
Ќа передней стенке грифоны с двух сторон держат солнечный диск мало отличимый от фиалы в руках усопшего. омпозици€ с грифонами Ч это каноническа€ сцена, сохранивша€с€ в неизменном виде вплоть до —редневековь€.

ƒеталь —куола —ан-ћарко, ¬енеци€, 1260 г.
_______________________
√»√»≈я
√игие€ (Ὑγιεία), пожалуй единственна€ из греческих богинь, котора€, как правило, изображаетс€ со змеей на руках. » чаще всего она эту змею кормит из фиалы. ћне кажетс€, это неспроста. ¬ свое врем€ € сделал скромное предположение о том, что образ √игиеи восходит корн€ми к египетской ”аджит. ”аджит часто изображали в виде уре€ над иероглифом Ђплетена€ корзинаї (nebet), который имеет значение Ђвладычицаї [Ќижнего ≈гипта]. ѕохожий иероглиф (shes, heb, обозначающий каменный плоский сосуд), часто взаимозамен€емо использовалс€ с иероглифом Ђкорзинаї. »ероглиф алебастровой чаши (shes, heb) отличаетс€ от иероглифа корзины (nebet) наличием ромба посредине. ¬озвраща€сь к √игиее, именно эти два (условно говор€) иероглифа (змею и чашу) она посто€нно и держит в руках. ƒа и само им€ богини (Ὑγιεία) говорит за себ€. Ѕуква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обсто€тельств, читаетс€ и как [ί], и как [ü]. ѕри обычном переходе согласной γ (Ђгї) в Ђджї, им€ Ὑγιεία с легкостью превращаетс€ в ”джиею, что мало чем отличаетс€ от ”аджит.
ќтсюда вопрос, не была ли √игие€ первой, от которой пошла традици€ иконографии богинь корм€щих с рук гени€ местности, в образе зме€? стати, ”аджит, как вс€ка€ богин€ из свиты –а, имела эпитет ќко –а. ¬от прекрасное объ€снение сол€рного символизма чаши, как атрибута богини √игиеи-”аджит. ’от€ неизвестно, насколько был важен сол€рный символизм чаши дл€ греков.
Ћюбой круглый предмет украшалс€ солнечным символом (круг с расход€щимис€ лучами) Ч бытова€
 посуда, щиты, масл€ные лампы. Ёто обычна€ практика и самый простой рисунок. Ќо одно дело рисунок, и совсем другое Ч сферический выступ на дне ритуальной чаши. удр€вец ¬. . считает единственным смыслом наличи€ омфала в центре фиалы Ч это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), котора€, в свою очередь, €вл€етс€ заимствованным египетским сол€рным символом (круг с точкой внутри). ƒл€ этого он даже предлагает новый термин: Ђсолнечна€ фиалаї. »з слова јтон (егип. Ἰtn, солнечный диск) удр€вец выводит греческие имена «евса (через θεόν, θεός) и јфины (в его изложении, женска€ форма имени јтон). “аким образом Ђсолнечна€ фиалаї в руке јфины, €кобы должна демонстрировать ее сол€рную ипостась. —олкин именует эпитетом јтонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню ’атхор-—ехмет, что, очевидно, соответствует эпитету ќко –а, который носили многие богини из свиты –а.
посуда, щиты, масл€ные лампы. Ёто обычна€ практика и самый простой рисунок. Ќо одно дело рисунок, и совсем другое Ч сферический выступ на дне ритуальной чаши. удр€вец ¬. . считает единственным смыслом наличи€ омфала в центре фиалы Ч это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), котора€, в свою очередь, €вл€етс€ заимствованным египетским сол€рным символом (круг с точкой внутри). ƒл€ этого он даже предлагает новый термин: Ђсолнечна€ фиалаї. »з слова јтон (егип. Ἰtn, солнечный диск) удр€вец выводит греческие имена «евса (через θεόν, θεός) и јфины (в его изложении, женска€ форма имени јтон). “аким образом Ђсолнечна€ фиалаї в руке јфины, €кобы должна демонстрировать ее сол€рную ипостась. —олкин именует эпитетом јтонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню ’атхор-—ехмет, что, очевидно, соответствует эпитету ќко –а, который носили многие богини из свиты –а. Ђ≈динственна€ в своем роде и полиморфна€, Ђ≈е ¬еличествої, как ее называют, представл€ет в совокупности ’атхор и —ехмет, будучи јтумом женского рода; ее свет€щиес€ лики озар€ют все стороны света, она проводница солнечной энергии, и даже сам диск светила, определ€ющийс€ как существо женского рода (јтонет). ќко –а, она излучает каждое утро свет, пробуждает и с триумфом согревает вселенную.ї
(¬. —олкин)
Ётимологи€ имени јфины от египетского эпитета јтонет мной ранее рассматривалась в теме Ёгида. ≈динственное, что смущает во всем этом Ђсол€рном символизмеї јфины Ч это полное отсутствие каких бы то ни было свидетельств этой самой сол€рности. ≈е символ Ч сова, птица ночна€. Ђ—ова ћинервы вылетает в полночьї. ј девственность самой богини говорит о ее откровенно лунном аспекте. ¬ообще традици€ отождествлени€ богинь с земным аспектом, в образе богини-матери, и лунным аспектом, в образе девы, уходит в глухую древность ƒревней √реции. ’от€, отдадим должное, воинственность —ехмет јфина восприн€ла в полном объеме. ¬прочем, не только воинственность. ѕосмотрим, что еще интересного об јфине повествуют ученые мужи античности.
—огласно ѕлутарху, во врем€ строительства здани€ ѕарфенона в јфинах,³ Ђсамый энергичный и самый ревностный из мастеров поскользнулс€ и упал с высоты. ќн был в самом т€желом состо€нии, и врачи считали его положение безнадежным. ѕерикл упал духом, но богин€ [јфина], €вившись ему во сне, дала указание, как лечить пострадавшего. ѕрименив это лечение, ѕерикл быстро и без труда его вылечил. ¬ честь этого излечени€ он поставил медную статую јфины √игиеи (÷елительницы) на јкрополе возле алтар€, который, как говор€т, существовал там уже раньшеї (ѕлутарх. ѕерикл 13). “у же самую историю с небольшими вариантами передает и ѕлиний (≈стественна€ истори€, XXII, 44). ѕри этом он добавл€ет, что лекарством служила трава, названна€ после исцелени€ в честь богини Ђпарфениемї. Ќа акрополе было найдено основание статуи јфины √игиеи работы скульптора ѕирра с посв€тительной надписью: Ђјфин€не јфине ÷елительнице. —делал ѕирр, афин€нинї.
_________________________
[3] Παρθενών (-ῶνος) ὁ ѕарфенон, храм јфины в афинском јкрополе; название ѕарфенон €вл€етс€ производным от эпитета јфины Ч Παρθένος Ч ƒева.
Ќебольшой храм, посв€щенный как јфине √игиее так и √игиее, дочери јсклепи€, был расположен на юго-востоке центрального здани€ ѕропилей. »зображали √игиею в виде молодой женщины, корм€щей змею јсклепи€ из чаши. ульт јфины √игиеи на јкрополе датируетс€ VI в. до н.э. в соответствии с эпиграфической надписью, в то врем€ как культ √игиеи датируетс€ приблизительно 420 до н.э. ѕоэтому имеет смысл рассматривать культ √игиеи как дубликат культа целительницы јфины √игиеи, тем более, что богиню √игиею считали дочерью јсклепи€ и јфины (ѕавсаний. ќписание Ёллады I 23, 5).
ƒаже вернее было бы говорить об отделившейс€ ипостаси √игиеи (целительницы) от јфины (воительницы). ќбщие корни јфины и √игиеи хорошо просматриваютс€ в иконографии богинь корм€щих зме€ из фиалы. “олько √игие€ кормит безым€нного зме€ (хот€ иногда зме€ идентифицируют как √ликона), а јфина кормит Ёрихтони€, но, в обоих случа€х, змей представл€ет из себ€ гени€ местности.
≈ще одна богин€-кормилица змеи Ч римска€ —алюс Ч это абсолютный список с √игиеи. —ложно говорить о значимости этой богини в доимперский период. Ќо, в любом случае, ее статус резко подн€лс€ во времена »мперии, когда —алюс стала почитатьс€ как охранительница императора. »конографи€ —алюс полностью копирует √игиею. —обственно —алюс Ч это и есть √игие€, просто, дл€ удобства, им€ греческой богини перевели на италийский.
ὑγίεια, ὑγεία, редко ὑγιεία, ион. ὑγιείη и ὑγείη (ῠ) ἡ
1) здоровье; ὑ. φρενῶν Aesch. Ч здравый смысл; ὑγίεαι καὴ εὐεξίαι Plat. Ч здоровье и благососто€ние;
2) исцеление, выздоровление; (πάσης νόσου Men.).
salus, -utis f [salvus]
1) здоровье, здоровое состо€ние;
2) благо, благополучие, благососто€ние, благоденствие (civium C);
3) спасение, избавление, сохранение жизни (certare pro salute Sl): saluti esse alicui C служить к чьему-л. спасению;
4) спаситель (Lentulus s. nostrae vitae C);
5) средство к спасению, возможность спасени€ (nullam salutem reperire C);
6) привет, поклон;
7) ласк. радость (quid agis Pl).
Ћюбопытно, что слово salus Ч мужского рода. ѕоэтому логичней было бы называть богиню именем Salutis. ¬озможно, путаница пошла от того, что изображение —алюс на монетах часто сопровождаетс€ легендой SALVS AVG (salus Augusti). Ќо эта легенда переводитс€ как пожелание здоровь€ императору, и к богине имеет опосредованное отношение.


16. јдриан (117-138). –им. —естерций (Æ 31mm, 24.40g). Av: бюст јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: —алюс прот€гивает жертвенную лепешку змею, обвивающему алтарь, в левой руке держит патеру; SALVS AVG / S C
17. ƒиадумениан (Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus; 218), соправитель своего отца ћакрина. Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€. Æ 27mm, 217/8г. Av: бюст ƒиадумениана; K M OΠΠEΛI ANTΩ ΔIAΔOYMENIANOC. Rv: девушка, с зав€занными глазами, кормит гени€ в образе зме€; Yѕ CTATI ΛON√INOY NIKOΠOΛITΩN ѕPOC ICTPΩ


18. Ћ.–осций ‘абат (L.Roscius Fabatus), легат ÷езар€. ƒенарий-серрат (AR 3.82g), 59 до н.э. Av: голова ёноны —оспиты в козлиной шкуре, слева Ч патера (фиала-мезомфал); L ROSCI. Rv: девушка, с зав€занными глазами, совершающа€ приношение гению местности в образе зме€; слева коринфский шлем; FABATI
19. “рикка (Τρίκκη), ‘ессали€. ќбол (AR 12mm, 0.92g), ок. 440-400 до н.э. Av: конь скачущий влево. Rv: √игие€, корм€ща€ змею из патеры; TΡIKKAIΩN


20. Ёлагабал (218-222). –им. ƒенарий (AR 22mm, 4.91g). Av: бюст Ёлагабала в короне; IMP CAES MAVR ANTONINVS AVG. Rv: —алюс кормит из патеры гени€ в образе зме€; SALVS ANTONINI AVG
21. аракалла (198-217). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.61g), 205г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: —алюс на троне кормит из патеры гени€ в образе зме€, обвивающего алтарь; PONTIF TR P VIII COS II


22. ћарк јврелий и Ћюций ¬ер (соправители с 161г.). –им. ћедальон (Æ 42mm), 161г. Av: бюсты двух императоров, обращенные друг к другу; IMP ANTONINVS AVG COS III IMP VERVS AVG COS II. Rv: —алюс на троне кормит из патеры гени€ в образе зме€, обвивающего алтарь.
23. ћарк јврелий (161-180). –им. —естерций (Æ 24.93g), 162/3г. Av: бюст ћарка јврели€; IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG P M. Rv: —алюс, со скипетром в левой руке, кормит из патеры зме€, обвивающего алтарь; SALVTI AVGVSTOR TR P XVII / COS III / SC


24. јнтонин ѕий (138-161). –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.48g), 148/9г. Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII. Rv: ‘ортуна, с корабельным рулем в левой руке, кормит из патеры зме€, обвивающего алтарь; внизу, р€дом с рулем Ч сфера; COS IIII
25. аракалла (197-217). —ердика, ‘раки€. Æ 30mm (18.71g). Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ΑΥΤ Κ Μ ΑΥPΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟC. Rv: сид€ща€ јфина в коринфском шлеме кормит из чаши зме€ Ёрихтони€, обвивающего оливковое дерево; справа щит, на котором сидит сова; ΟΥΛΠΙΑC C™ΡΔΙΚΗC
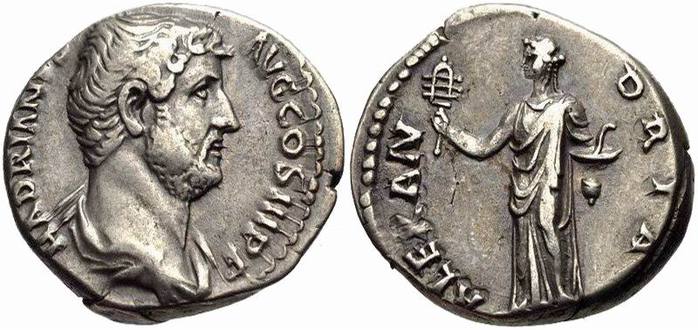

26. јдриан (117-138). –им. ƒенарий (AR 17mm, 3.48g), ок. 134-138гг. Av: бюст јдриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: »сида в правой руке держит систр, в левой Ч патеру со змеей; ALEXANDRIA
27. ѕамфили€. —татер (AR 23mm, 10.64g), ок. 380-340 до н.э. Av: јфина в аттическом шлеме держит на руке крылатую Ќику, левой рукой придержива€ щит и копье; слева у ног Ч Ёрихтоний. Rv: јполлон с патерой и скипетром перед алтарем.
ў»“
≈сли рассматривать форму фиалы-мезомфал как попытку обыграть сол€рный символизм ритуальной чаши, то было бы не лишним вспомнить еще один интересный атрибут, несущий в себе сол€рный аспект. Ёто щит. ўит с фиалой св€зывает не только кругла€, слегка выгнута€ форма, у щитов в центре тоже находилс€ выступ-омфал. »талики, к слову сказать, выпуклость в центре щита (равно как и в центре чаши) называли умбон (umbo). “ермины Ђумбонї и Ђомфалї Ч равнозначны и в наши дни (и дл€ чаши, и дл€ щита).⁴


28. ћарк јврелий (Marcus Aurelius Antoninus; 161-180). ѕергам, ћизи€. ћагистрат “иллий ратипп (strategos A.Tyllios Kratippos). ћедальон (Æ 33.49g), ок. 161-165гг. Av: бюст ћарка јврели€ в лавровом венке; AYT KAI M AYPH ANTΩNEINOC. Rv: јфина в аттическом шлеме стоит перед св€щеным оливковым деревом, которое обвивает Ёрихтоний; справа Ч щит и копье; EΠI CTPA A TYΛ KPATIΠΠOY ΠEP√AMHNΩN / ΔIC NEOK
29. лодий јльбин (193-197). –им. —естерций (Æ 30mm, 20.14g), ок. 194/5г. Av: бюст лоди€ јльбина; D CLOD SEPT ALBIN CAES. Rv: ћинерва ѕримирительница (Minerva Pacifica) в коринфском шлеме, опираетс€ о щит, придержива€ копье; в правой руке Ч оливкова€ ветвь; MINER PACIF / COS II / S C
_________________________
[4] umbo, -onis m выпуклость, выступ в середине щита (служившего в рукопашном бою ударным оружием).
ὀμφαλός ὁ острый выступ, шишка (ἀσπίδος Ч щит Hom.).
φιάλη (ᾰ) ἡ
1) сосуд дл€ варки;
2) сосуд дл€ пить€, чаша;
3) ковш;
4) погребальный сосуд;
5) поэт. чашеобразный щит; (φιάλη Ἄρεως Arst.).
≈сли рассуждать логически, можно сделать очевидное предположение, если схожие элементы разных девайсов имеют аналогичное название, то мы имеем дело с заимствованием. ќмфал в центре чаши не имеет прикладного характера, это чисто символьный элемент. Ќапротив, омфал щита, часто острый и удлиненный, использовалс€ в ближнем бою дл€ нанесени€ противнику поражающего удара. ќ щитах с острым омфалом упоминает еще √омер.
ἐπομφάλιος (ἐπ-ομφάλιος) Ч наход€щийс€ в месте пупа; βαλεῖν σάκος ἐπομφάλιον Hom. Ч ударить в центральный выступ щита.
ЂЌаход€щийс€ в месте пупаї Ч это кривой перевод, но пример из √омера исправл€ет трудности перевода: Ђвыступ щитаї.
ὀμφάλιον (ᾰ) τό
1) пупочек Anth.
2) шишка, острый выступ (в центре щита) Diog.L.
ὀμφάλιος 2 (ᾰ) имеющий острый выступ, с шишкой; (σάκεος τρύφος Anth. Ч элемент щита).
ὀμφαλόεις (-όεσσα, -όεν) снабженный в середине острым выступом, шишковатый (ἀσπίς Hom. Ч щит);
ex: οἰμωγαὴ ὀμφαλόεσσαι шутл. Arph. Ч шишковатые завывани€ (т.е. гомеровские песни, о бр€цающих ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι [т.е. щитах с острым выступом в середине])
ὀμφαλός τό (lat. umbo) шишка, остроконечное возвышение посередине щита, ἐπομφάλιον, которое делалось частью дл€ того, чтобы по его бокам скользили стрелы, частью же им наносили удары в рукопашной схватке;
umbo, -onis m
1) выпуклость, выступ в середине щита (служившего в рукопашном бою ударным оружием) (aliquem umbone resupinare L);
2) щит (umbone se protegere Just): non sufficit u. ictibus V щит не может выдержать (стольких) ударов;
3) локоть или кулак (cunctos umbone repellere M).
ќтметим все же, что, помимо ударной функции, главное предназначение щита Ч защита. ” небольших и средних размеров щитов ручка, за которую щит держали, находилась в центре. », таким образом, умбон огибал кулак. ѕоэтому, в большинстве своем, форма умбона Ч сферическа€. “.е., возвраща€сь к практичности, предназначение умбона-омфала на щите Ч пон€тно, ибо он был важным (чтобы не сказать, необходимым) элементом конструкции. »з этого можно допустить теоретическое предположение, что, именно, щит мог послужить примером дл€ подражани€, т.е. переноса центрального символьного элемента на конструкцию сакральной чаши, с целью усилени€ символьной значимости.
PS
стати, италийский термин umbo (умбон), веро€тно, имеет греческую этимологию:
ὑβός, v. l. ὗβος 3 (ῡ) горбатый Theocr.
ὗβος, v. l. ὕβος ὁ выпуклость, горб; (ἐπὴ τῷ νώτῳ, sc. τῶν καμήλων Arst.).
κύρτωμα ή κόσμημα στο μέσο τής ασπίδας Ч Ђвыпуклость как украшение в центре щитаї.
_________________________
κύρτωμα, -ατος τό кривизна, горбатость;
κόσμημα, -ατος τό украшение Xen., Luc.; ex. τὰ πολέμου κοσμήματα Plat. Ч воинские украшени€;
μέσος, эп. μέσσος 3 наход€щийс€ в середине, средний, срединный, центральный;
ἀσπίς, -ίδος (ῐδ) ἡ щит.
ѕон€тно, что Ђгорбатостьї Ч это выпуклость сзади, а если оно же спереди, то это просто Ђвыпуклостьї Ч греч. ὑβός, лат. umbo.⁵
_________________________
[5] Ѕуква m в слове umbo (умбон) по€вилась не случайно. Ѕуква β (τό βῆτα Ч бета, 2-€ буква др.-греч. алфавита), в новогреческом стала произноситьс€ как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [ν]. » название ее, соответственно, помен€лось на Ђвитаї. —егодн€ звук Ђbї в греческом встречаетс€ только в заимствовани€х и передаетс€ сочетанием букв μπ, например: Μπαχάμες (Ѕагамы), μπανάνα (банан). Ќо, чтобы новое правило грамматики вошло в обиход, понадобилось некоторое (довольно продолжительное) врем€, что хорошо видно на примерах написани€ слова Ђсубботаї в ≈гипте, в IV в. н.э., которые дает ≈пифаний —аламинский: Σαμβαθον, —αμφαθον, —αμαθον (Epiphanius' Sabitha In Egypt: Σαμβαθον/cαμφαθον/cαμαθον. Mayerson Philip).
Х ≈пифаний —аламинский (греч. Ἐπιφάνιος Σαλαμίνιος; ок. 310/20-403) был епископом —аламина ( ипр), в конце IV века.
‘–ј »…— »≈ ‘»јЋџ
‘иала (h 9cm; d 13.7cm), серебро, позолота, начало III в. до н.э. Ћитье, дополнительное оформление путем пластической деформации, чеканка различными пуансонами.
‘онд Ђ‘раки€ї с музеем Ђ¬асил Ѕожковї. »нв. є ¬Ѕ-“р-02151.

Ёто одна из крупных фиал-мезомфал ахеменидского типа с одинаковой высотой тулова и горловины. “улово покрыто вертикальными мелкими каннелюрами, разделенными между собой позолоченными полосками. —наружи донце окружено рельефным концентрическим по€сом. Ќа месте омфала прикреплена золота€ 18-листна€ розетта, а поверх нее Ч небольшой 8-листный цветок. — внутренней стороны на омфал прикреплена серебр€на€ с позолотой эмблема с изображением головы сатира в венке из плюща. ѕод подбородком на шее зав€зана шкура. «вериные уши повернуты вперед и детально прорисованы. ѕластично смоделированные черты лица подчеркивают буйный характер сатира. ѕоворот головы, складки над бров€ми, широко раскрытые глаза с обозначенными зрачками и плотно сжатые маленькие губы подчеркивают характер участника торжественного шестви€ ƒиониса.
‘иала (h 4.5сm; d 11.7сm). —еребро, перва€ половина ≤V в. до н.э. –огозенский клад.
–егиональный исторический музей, г.¬раца. »нв. є Ѕ 431.

ќрнаменты внутри сосуда представлены в негативе, а с внешней стороны переданы объемно. –ельефы выполнены в двух €русах: первый, около омфала, состоит из изображений плодов миндал€, чередующихс€ с цветками лотоса. ¬торой р€д выполнен из восьми женских голов, между которыми выбиты трехлистные пальметты. √оловы имеют треугольные лица, сросшиес€ над носом брови, тонкие губы, большие миндалевидные глаза, очерченные тонким рельефным контуром. ¬олосы, завивающиес€ в нижней части в спирали, проработаны насечками.
‘иала (h 3.5сm; d 25сm), золото, конец ≤V в. до н.э. лад из ѕанагюриште.
–егиональный археологический музей. ѕловдив. »нв. є 3204.
 „аша имеет широкий горизонтальный край усть€ и омфал. ќмфал изготовлен отдельно и прикреплен в центре дна. ѕоверхность фиалы покрыта рельефным орнаментом, расположенным в виде нескольких концентрических окружностей. ¬нутренн€€ состоит из 12 маленьких розеток, которые прикрывают заклепки, скрепл€ющие стенки сосуда и омфал. ƒалее идет р€д из 24 желудей. —ледующие три окружности содержат по 24 декоративных элемента в виде человеческих голов. ќни пропорционально увеличиваютс€ в размерах и образуют исход€щие из центра радиусы. „еловеческие головы Ч это так называемые эфиопы, которых греки считали чернокожими обитател€ми южного кра€, окруженного океаном земного диска. —огласно эллинским веровани€м, эфиопы первыми стали совершать возли€ни€ в честь богов, заслужив тем самым их покровительство. ѕоэтому головы эфиопов превратились в символ благоденстви€. ¬ св€тилище Ќемезиды (IV в. до н.э.) под –амнунтом, јттика, стату€ богини держит в руке подобную фиалу.
„аша имеет широкий горизонтальный край усть€ и омфал. ќмфал изготовлен отдельно и прикреплен в центре дна. ѕоверхность фиалы покрыта рельефным орнаментом, расположенным в виде нескольких концентрических окружностей. ¬нутренн€€ состоит из 12 маленьких розеток, которые прикрывают заклепки, скрепл€ющие стенки сосуда и омфал. ƒалее идет р€д из 24 желудей. —ледующие три окружности содержат по 24 декоративных элемента в виде человеческих голов. ќни пропорционально увеличиваютс€ в размерах и образуют исход€щие из центра радиусы. „еловеческие головы Ч это так называемые эфиопы, которых греки считали чернокожими обитател€ми южного кра€, окруженного океаном земного диска. —огласно эллинским веровани€м, эфиопы первыми стали совершать возли€ни€ в честь богов, заслужив тем самым их покровительство. ѕоэтому головы эфиопов превратились в символ благоденстви€. ¬ св€тилище Ќемезиды (IV в. до н.э.) под –амнунтом, јттика, стату€ богини держит в руке подобную фиалу.¬с€ поверхность сосуда между головами покрыта сложным узором из пальметт, выполненных в более низком рельефе. —наружи, под краем усть€, врезаны две надписи, указывающие вес фиалы в двух различных единицах измерени€: в драхмах Ч HPDDDDѕ I; и в статерах города Ћампсак Ч H. ≈ще один врезной знак находитс€ с внутренней стороны умбона: ћ.
¬ 1949г. в ходе земл€ных работ в местности ћерул неподалеку от города ѕанагюриште был обнаружен комплект изделий из золота общим весом в 6kg 164g. ƒев€ть сосудов представл€ют собой великолепные образцы искусства мастеров ювелиров раннеэллинистической эпохи: древнегреческие мотивы и стилистические приемы сочетаютс€ в них с фракийскими и ахеменидскими. ¬ научной литературе эти издели€ датируютс€ концом IV Ч началом III в. до н.э. ѕредположительно сосуды были изготовлены в малоазийском городе Ћампсак, либов местной фракийской мастерской и принадлежали прославленному правителю из племени одриссов —евту III (около 330-297 до н.э.).
ѕредание земле изделий из драгоценных металлов и монет входило в обр€довые функции правител€. «арытые в землю, они становились св€щенным даром, сакрализующим пространство, и одновременно с этим отмечающим основные космогонические обр€ды рождени€ нового цар€ и св€щенного брака с ¬еликой богиней-матерью. ¬ традиции устного фракийского орфизма захоронение дара представл€ет собой действие-именование —ына ¬еликой богини-матери. ќн €вл€етс€ одновременно (северным) —олнцем и ќгнем, но мыслим и в позиции св€щенного брака, т.е. в момент его обр€довой смерти, в момент нового рождени€.
‘иала-мезомфал (h 5сm; d 13.5сm), серебро, начало V в. до н.э. овка, чеканка отдельных деталей, басма.
‘онд Ђ‘раки€ї с музеем Ђ¬асил Ѕожковї »нв. є ¬Ѕ-“р-02230.
 —осуд относитс€ к так называемому ахеменидскому типу Ч форма полусферическа€ с выт€нутым наружу пр€мым устьем и невысоким, плоским омфалом. ¬ средней части сосуда расположены двенадцать гладких миндалевидных выпуклостей очень высокого рельефа. ќрнаментику нижней части составл€ют широкие врезанные €зыки. ќни св€зывают между собой миндалины, тем самым очерчива€ дно фиалы. ѕространство между миндалинами украшают стилизованные растительные мотивы, которые состо€т из заштрихованного овала и цветного бутона и св€зывают миндалины друг с другом.
—осуд относитс€ к так называемому ахеменидскому типу Ч форма полусферическа€ с выт€нутым наружу пр€мым устьем и невысоким, плоским омфалом. ¬ средней части сосуда расположены двенадцать гладких миндалевидных выпуклостей очень высокого рельефа. ќрнаментику нижней части составл€ют широкие врезанные €зыки. ќни св€зывают между собой миндалины, тем самым очерчива€ дно фиалы. ѕространство между миндалинами украшают стилизованные растительные мотивы, которые состо€т из заштрихованного овала и цветного бутона и св€зывают миндалины друг с другом. ѕервые экземпл€ры фиал ахеменидского типа датированы концом VI в. до н.э. ћиндалевидные фиалы обнаружены в кладах и погребени€х ‘ракии. Ќаиболее ранней из них считаетс€ серебр€на€ фиала из захоронени€ в ћушовице близ ƒуванли. Ѕлизкие параллели известны среди серебр€ных фиал из гробницы »кизтепе, Ћиди€, датированные концом VI Ч началом V в. до н.э.
‘иала (h 4сm; d 18.8сm), серебро, ≤V в. до н.э.
–егиональный исторический музей, г.¬раца. »нв. є Ѕ 465.
 —осуд принадлежит к типу фиалы-мезомфал и состоит из среднего по глубине тулова с хорошо выраженным отогнутым наружу краем. ƒно с внешней стороны украшено выбитым по€ском ов. ¬ центре дна изнутри находитс€ позолоченный умбон в форме полусферы. ќт него радиально отход€т 14 листьев розетты, составленной из больших по размеру €зыкообразных листов, позолоченных через один и чередующихс€ с мелкими стреловидными отростками. ¬о внешнем декоративном €русе тулова изображены четыре пары грифонов, чередующихс€ с пальметтами. √рифоны сид€т на задних лапах, их головы повернуты назад. “ела изображены пластично, шеи элегантно изогнуты. √рива передана снопами, обрамл€ющими голову. рыль€ обозначены так же, как и грива. ¬о внешнем €русе перь€ переданы рельефными продольными насечками.
—осуд принадлежит к типу фиалы-мезомфал и состоит из среднего по глубине тулова с хорошо выраженным отогнутым наружу краем. ƒно с внешней стороны украшено выбитым по€ском ов. ¬ центре дна изнутри находитс€ позолоченный умбон в форме полусферы. ќт него радиально отход€т 14 листьев розетты, составленной из больших по размеру €зыкообразных листов, позолоченных через один и чередующихс€ с мелкими стреловидными отростками. ¬о внешнем декоративном €русе тулова изображены четыре пары грифонов, чередующихс€ с пальметтами. √рифоны сид€т на задних лапах, их головы повернуты назад. “ела изображены пластично, шеи элегантно изогнуты. √рива передана снопами, обрамл€ющими голову. рыль€ обозначены так же, как и грива. ¬о внешнем €русе перь€ переданы рельефными продольными насечками. “ип фиалы, как и растительный орнамент из розетт и пальметт, были широко распространены во фракийском искусстве. —огласно античной мифологии, грифоны были стражами золота, которое выходило из земли, обитател€ми пограничной зоны между реальным и загробным миром, спутниками богов, в том числе и јполлона, который в сцене возвращени€ из √ипербореи часто был представлен верхом на грифоне или же в колеснице, запр€женной грифонами. ќбраз мифического животного, сочетающего мощь льва и орла, несет большую семантическую нагрузку. ¬ нем было закодировано верховное ураническое божество, царь-жрец, гарант божественного бессмерти€. ¬еро€тно, это стало причиной частого по€влени€ этого образа в декоративных мотивах произведений фракийского искусства.
—ервиз јполлона. „етыре серебр€ные фиалы (h 3.6сm, d 12.4-14.8сm). увшин (17.9сm). —еребро с позолотой, V-≤V в. до н.э.
–огозенский клад. –егиональный исторический музей, г.¬раца. »нв. є Ѕ 540.

“ри другие фиалы Ч однотипны, имеют широкое устье с отогнутым краем и полусферическое тулово, украшенное €русом из насечек и радиально расположенными каннелюрами. Ќа умбоне изображена рельефна€ мужска€ голова с классическими чертами лица. »конографический тип ближе всего к изображени€м јполлона. ¬еро€тно, фиала была сделана в царских мастерских отиса ≤ специально дл€ ритуального сервиза.
увшин массивный, литой, листова€ позолота нанесена до гравировки надписи точечным пуансоном. —еребро высокой пробы (96.8%). “улово сосуда €йцевидной формы, декорировано двум€ рельефными €русами с овами, расположенными в основании шейки и по плечикам. ѕо краю усть€ поверх позолоченной ленты выгравировано: ΚΟΤΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΙΣ ( отис, сын јполлона). Ќадписью передаетс€ доктринальна€ позици€ правител€ как сына —олнца, по-древнегречески обозначенного именем јполлон. “ем не менее самым важным в надписи €вл€етс€ обозначение позиции самого цар€, котора€ определена существительным Ђпайсї.⁶ Ёта лексема была выбрана вместо Ђсынї (γιός)⁷ не случайно: ее мистериальный смысл включает не только семантику родства, но и привносит элемент св€щеннодействи€.
____________________________
[6] παῖς, παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ (voc. παῖ Ч эп. тж. πάϊ; pl.: gen. παίδων, dat. παισί Ч эп. παίδεοσι)
1) ребенок, дит€, мальчик или девочка;
π. παιδός Hom., Plat. Ч внук;
πέτρας ὀρείας π. Eur. Ч дит€ горных скал, т.е. Ёхо;
ἐκ παιδός Plat. Ч с детства;
ἀμπέλου π. Pind. Ч дит€ виноградной лозы, т.е. вино;
παῖδες τᾶς ἀμιάντου Aesch. Ч дети морской пучины, т.е. морские животные
2) pl. сыны (в описани€х, преимущ. не переводитс€)
οἱ παῖδες Ἀσκληπιοῦ Plat. Ч сыны јсклепи€, т.е. врачи;
Λυδῶν παῖδες Her. Ч лидийцы;
οἱ ζωγράφων παῖδες Plat. Ч живописцы.
[7] γιός ὁ сын; ex.: θετός γιός приемный сын.
¬еро€тно, кувшин вместе с четырьм€ фиалами представл€л собой специальный ритуальный сервиз, который служил дл€ посв€щений в орфические мистерии. ¬озможно, он был подарен одрисским царем отисом ≤ трибальскому правителю √алесу.
¬ древней ‘ракии было известно два доктринальных пути бессмерти€ дл€ царей-жрецов и воинов: один из них можно назвать јполлоновым (постигнутым способом очищени€), другой Ч ƒионисийским (через кровавое жертвоприношение). ќбр€довый Ђсервиз јполлонаї из –огозенского клада, подаренный одрисским царем отисом ≤ (383-359 до н.э.) трибальскому правителю, веро€тнее всего, и предназначалс€ дл€ совершени€ возли€ний водой и медом. —читалось, что это св€щенные жидкости бога —олнца, —ына ¬еликой богини-матери, в его уранической сущности. ¬изуализаци€ св€щенного брака ¬еликой богини со своим —ыном укрепл€ла надежду на то, что божественна€ энерги€ этого союза вливаетс€ в посв€щенного и ведет его к бессмертию.
‘–ј »…— »… ќЅ–яƒ
≈лка ѕенкова
‘ракийское направление одно из древнейших направлений эллинизации балканско-анатолийского региона. Ќачина€ со второй половины ≤≤ тыс. до н.э. во фракийской среде оформл€етс€ и осмысливаетс€ иде€ взаимодействи€ Ђземл€-небої, котора€ приобретает характер религиозно-политической доктрины, условно названной профессором ј. ‘олом Ђфракийским орфизмомї.
ульт ƒиониса во ‘ракии засвидетельствован множеством исключительных объектов и находок, самыми ранними из которых €вл€ютс€ могильники с богатым инвентарем из некропол€ близ села ƒуванли в районе ѕловдива. ќсновой дионисийства €вл€етс€ вера в умирающего и заново рождающегос€ бога, который в древней Ёлладе был преимущественно покровителем вегетативного цикла (за исключением некоторых мистериальных празднеств), а во ‘ракии Ч символом и воплощением перехода от жизни к загробному миру. ‘ракийский ƒионис Ч —ын ¬еликой богини-матери, переживающий свое собственное жертвоприношение в образе быка, барана или козла. ¬ своей смерти, через вытекающую из ран и впитывающуюс€ в почву кровь, ƒионис снова соедин€лс€ с землей св€щенным браком и давал жизнь своему сыну, правителю социума. ‘ракийский ƒионис Ч Ѕог-—олнце, называемый —абазием, и Ѕог-ќгонь, называемый «агреем Ч это бог, который обладает верующим в него, очищает и освобождает его, потому что он Ђбог внутриї верующего. ¬ известном фракийском прорицалище днем ƒионис идентифицировалс€ с —олнцем, а ночью Ч с ќгнем. ∆рецы распознавали божественную волю по лучам солнца, падающим на алтарь, и по €зыкам пламени, взвивающимс€ в темное небо.
Ѕык €вл€лс€ основным зооморфным про€влением хтонических («агреево-ƒионисийских) ипостасей —ына ¬еликой богини-матери. ¬ орфических гимнах ƒиониса призывали €витьс€ в образе Ђтрехлетнего быкаї, обращались к нему как к Ђогнерожденномуї и Ђбыколикомуї, Ђдвурогомуї и т.д. ”биение быка и принесение его в жертву представл€ло собой символическое соединение дающей жизнь крови с землей. „ерез этот акт участники обр€да сопереживали таинство смерти и св€щенного брака. ќдновременно с этим бык €вл€лс€ и воплощением бога, поэтому во врем€ жертвоприношени€ плоть животного расчлен€лась (разрывалась) на куски, и жрецы вкушали ее с кровью, дабы ввести бога в свое тело и поселить его в нем. ¬ этом обр€де бог-бык умирал и снова рождалс€. Ћитературна€ обработка обр€да впоследствии вывела из сюжета о разорванном на куски и съеденном титанами «агрее орфический антропологический миф.
¬ контактных зонах эллинских полисов в понтийском регионе ƒионис чаще всего по€вл€етс€ в погребальном контексте или же в св€зи с аттическими празднествами, такими как ¬еликие ƒионисии, Ћенеи и јнфестерии. ¬ вазописи он представлен в сценах открытой дл€ всех оргиастической обр€дности, веро€тно, подобной той, что описана √еродотом в повествовании о царе скифов —киле в ќльвии (Herod. ≤V, 79-80).
—очетание сол€рности и хтонизма и наименование двух ипостасей —ына ¬еликой богини-матери Ч јполлоновой и ƒионисийской Ч результат так называемой Ђƒельфийской реформыї V≤≤≤ в. до н.э. (‘ол. 1998а; 2002); вплоть до ƒиодора жреческий род в ƒельфах называлс€ ‘ракиды (’V≤ 23,3). Ёта реформа состо€ла в эллинизации веры и наречение именами двух ипостасей —ына ¬еликой богини-матери, который в доэллинистический период оставалс€ анонимным. Ѕог приплыл в ƒельфы, то есть на север с юга, в образе дельфина (Hymn. Hom II 315-318). »ли, согласно другим верси€м, на спине дельфина. ¬ вазописи и в письменных источниках дельфины св€заны с јполлоном и ƒионисом. рылатый дельфин Ч образ-символ, имеющий большую смысловую нагрузку. ќн может передвигатьс€ по морю, которое дл€ эллинов после √омера окрашено красным Ч цветом вина, но он также может лететь по воздуху. — помощью дельфинов легче всего попасть из мира мертвых в мир бессмертных. ¬ этом смысле, дельфин Ч прекрасный символ, сочлен€ющий морское (потустороннее) пространство и небесное (ураническое).
¬ олимпийской религии ƒионис Ч властелин смерти, бог, который приходит и уходит, его ритуальные возвращени€ во врем€ праздников случаютс€ раз в два года (“риетериды) или ежегодно (јнфестерии). ¬ ƒельфах он властвует в св€тилище в зимние мес€цы, когда јполлон на колеснице, запр€женной лебед€ми, улетает в страну гипербореев. ≈го передвижение Ч св€зующа€ нить двух пространств Ч земного и подземного, где символика ƒиониса наилучшим образом конструирует свои знаки: Ђ—олнце в загробном миреї, Ђпылающа€ лоза, дочь черной землиї, Ђпитающий огонь ƒиониса и холодный плющ, его защитник, обвившийс€ вокруг него при его рожденииї, Ђфонтаны плюща с воды цвета винаї, Ђчерный цветокї, Ђфакел в ночиї. ¬ знаменитом фракийском св€тилище ƒиониса, о котором впервые упоминает √еродот (V≤≤. 111.2), царско-жреческий род бессов⁸ выполн€л прорицательские функции. —ветоний (Aug. 94, 6) сообщает о гадательной практике, в которой божественную волю распознавали по всполохам огн€ на алтаре, излива€ на него неразбавленное вино.
____________________________
[8] Βέσσοι, Βεσσοί οἱ бессы (плем€ во ‘ракии) Polyb., Anth.
јристотель в своем труде Ђќ чудесах, про которые € слышалї (842, 15-24) упоминает подобное (или то же) св€тилище, в котором во врем€ праздника и жертвоприношени€ вспыхнувший огонь знаменовал плодородный год. ¬ конце ≤V Ч начале V в. неоплатоник ћакробий (Sat. I, 18, 11), рассужда€ о дуалистической сол€рно-хтонической (јполлоно-ƒионисийской) вере фракийцев, ссылаетс€ на јлександра ѕолигистора (перва€ половина ≤ в. до н.э.): Ђћы знаем также, что во ‘ракии —олнце и Ћибер Ч одно (божество), которое они, называ€ его —абазием, чествуют с великолепной религиозностьюЕ Ќа вершине «илмисос этому богу воздвигнуто св€тилище круглой формы, крыша которого в середине открыта небуї.
https://newparadigma-ru.livejournal.com/53928.html
‘ракийское золото из Ѕолгарии. ¬ыставка в √»ћ. ћосква. 2013г.
_______________________________
|
ћетки: ‘иала јфина √игие€ ƒионис Ќумизматика ∆ертвоприношение Ётимологи€ ‘раки€ √реци€ |
Ё¬ќЋё÷»я ”Ћ№“ј ƒ»ќЌ»—ј |
ƒневник |
¬€чеслав »ванов
ЁЋЋ»Ќ— јя –≈Ћ»√»я —“–јƒјёў≈√ќ Ѕќ√ј. √лава IX
¬о ‘ракии мы застаем дионисийскую религию в процессе ее образовани€, всецело отвечающем тому гипотетическому построению, которое €вилось результатом нашего анализа св€зей между вакхическим культом и оргиазмом тризн. ƒолжно ли думать, что именно фракийцы принесли эллинам откровение ƒиониса? ћы не решаемс€ утверждать об этом ничего положительного. ќргиастическа€ почва, наследие древнейшего культа душ, была подготовлена дл€ новой веры, как мы видели, повсюду; сама€ вера выработалась в лоне отдельных племен, потом охватила своим заражением весь греческий мир. ¬от все, что представл€етс€ нам достоверным. ¬езде в мифе ƒионис со своим оргийным сонмом €вл€етс€ пришельцем извне и завоевателем; он встречает сопротивление, и побеждает его. ак плющ стелетс€ по заросл€м, ползет по стволам чащи, укутывает деревь€ и опутывает ветви, Ч и деревь€ то как бы мир€тс€ и родн€тс€ с ним, и кажутс€ удвоенными его зеленой сетью, то чахнут и глохнут в его живучих и убийственных тисках, Ч так бог плюща обвил своею избыточной силой всю народную религию, удвоил собою одни культы и вытеснил другие. ќдно только сопротивление было возможно и действительно: там, где дионисийска€ иде€ была раньше вобрана культом верховного бога, ƒионис был бессилен пред своей же собственной сущностью. ¬се остальное в народной религии должно было прин€ть более или менее глубокий отпечаток его вли€ни€.
¬озьмем пример. Ќи одно жертвоприношение не могло обойтись в исторической √реции без флейт. ћежду тем, √омер ничего не знает о флейте при жертвенных обр€дах. ‘лейты, которые слышались, по √омеру, и в греческом стане, и в стенах осажденной “рои, были принесены из ‘ригии, Ч быть может, также из ‘ракии или с острова рита, Ч но сделались необходимой частью общеэллинского богослужени€. ѕринесены же были они, конечно, вакхическими сонмами. ќ том же свидетельствует употребление венков. √омер не знает цветочных венков. ѕервоначально они примен€лись только при погребени€х; мы видим их на головах покойников на древнейших вазах. ¬озложение венка на голову мертвого было, по-видимому, св€зано с его обожествлением.¹ ¬месте с погребальной маской венок был сн€т с мертвого и возложен на живых. Ёто было дело той тризны, откуда произошла дионисийска€ религи€. Ёта религи€ овладевает венком, как своим особенным символом и атрибутом; он зоветс€ Ђвакхї.
__________________________
[1] ¬ ≈гипте венец на голове покойника называлс€ Ђвенцом оправдани€ї (mȝḥ n mȝˁ-ḫrw). —огласно египетской традиции, Ђвенец оправдани€ї водружалс€ на голову новопреставившемус€ в качестве символа чистоты. —огласно религиозным представлени€м, душе покойного надлежало пройти суд ќсириса, на котором взвешивалось его сердце. ≈сли его сердце оказывалось не от€гощенным грехами Ч умерший получал статус Ђоправданногої (дословно, правогласного) и попадал в вечнозеленые тростниковые пол€. ¬енец оправдани€ также известен как Ђвенец бессмерти€ї (Crown of immortality).
Ђ—пециальна€ глава Ђ ниги мертвыхї (XIX) была посв€щена венцу подобного рода, и до нас дошла даже магическа€ формула, которую следовало читать, когда такой венок возлагали на крышку гроба. Ёти Ђвенцы оправдани€ї (Wreath of triumph / Wreath of justification) были широко распространены со времени XVII династии до греко-римского периода.ї (√овард артер. √робница “утанхамона)
»з религии ƒиониса венок заимствуетс€ общегреческим культом и общегреческим обычаем. ѕиршество без венков на головах гостей невозможно, потому что вино и чаши и пиршественные трапезы Ч служение ƒионису. ¬енок делаетс€ принадлежностью пиров, как и ƒионисов дифирамб, о котором јрхилох поет:
Ќе име€ в виду дать полный исторический очерк распространени€ ƒионисовой религии и ее дальнейших судеб в эллинском мире, ограничимс€ характеристикой нескольких главных этапов этого распространени€ и нескольких моментов ее вли€ни€, имевших мировое значение.
¬ерна€ своему происхождению из тризны и почитани€ душ, религи€ ƒиониса должна была примкнуть к уже готовым местным культам сил подземных и растительных. Ѕыло указано на сравнительно позднее образование имени ƒиониса. ¬ ту эпоху, когда вакхическа€ иде€ овладевает Ёлладой, должно было дифференцироватьс€ им€ и пон€тие ƒи€-ƒиониса от ƒи€-«евса эллинов. ќдну из самых ранних ступеней этой дифференциации мы застаем в Ѕеотии. ‘ивы делаютс€ преимущественно родиной ƒиониса; там он родитс€ от «евса и дочери адмовой, —емелы.
‘ивы Ч центр культа јреса, как бога смерти, бога человеческих жертвоприношений, Ч свидетельством тому служит миф о ћенекее, заколовшем себ€ в жертву буйному и воинственному богу на стенах семивратного города и возрастившем из своей пролитой крови гранатовое дерево. —емела,² чье мистическое св€тилище (ἄβατον) обличает ее хтоническую сущность, Ч дочь «мееубийцы и √армонии, дочери јресовой. «ме€, убита€ адмом, родилась от јреса, и сам он вместе с женой обращаютс€ в змей. «ме€ же всегда символ хтонический. адм Ч домовой змий, µένοικος ὄφις, равноименный ћенекею: дух, живущий в недрах, древний дух тризн. Ќо если хтоническа€ основа культов додионисийских объ€сн€ет легкость их сочетани€ и смешени€ с ¬акховой религией в Ѕеотии, то в той же Ѕеотии эта религи€ €вл€етс€ нам с чертами чисто эллинскими: ее мрачный характер измен€етс€, просветл€етс€, кровавый элемент см€гчен, иде€ растительного изобили€, завис€щего от хтонических сил, и радостный оргиазм вступают в свои права. ƒионис чтитс€ в ‘ивах под своими растительными и оргиастическими символами Ч в фетишах столпа и плюща. «анесенные из ‘ригии экстатические флейты оглашают оргии иферона. ћестна€ керамика выдает нам безудержность оргийного разгула беотийских вакханалий. ƒионис встречает на своем пути р€д местных растительных и сельских божеств; он вбирает в себ€ их numina и nomina.³ Ѕог јристей усваивает себе его черты и становитс€ дионисийским героем. Ѕоги Φλές (или Φλεών), и Βρισεύς обращаютс€ в культовые наименовани€ (ἐπικλήσεις) ƒиониса. Ќо пришлец сталкиваетс€ на своем завоевательном пути и с противником огромной силы. ≈го им€ Ч јполлон. ќтношени€ между этими божествами Ч одна из любопытнейших страниц истории эллинской религии; но они еще недостаточно расследованы. ћежду тем в этих отношени€х пред глазами исследовател€ развертываетс€ велика€ культурна€ борьба, положивша€ неизгладимую печать на всю греческую жизнь.
__________________________
[2] Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ —емела (дочь адма и √ермионы, мать ¬акха от «евса) Pind., Her., Eur.
συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становитьс€ совершенно черным, совершенно чернеть;
μέλας Ч черный;
[3] numina et nomina Ч обличи€ (божественные про€влени€) и имена (эпиклесы).
¬ јполлоновой религии единственно про€вилось вли€ние эллинского жречества. ≈сли бы совокупность исторических причин не воспреп€тствовала усилению греческого жречества, вс€ религи€ и образованность √реции нашла бы, веро€тно, другие пути развити€. √реци€, наподобие »ндии, создала бы великие религиозно-философские учени€; она углубила бы свою народную веру, котора€ осталась нестройным и поэтическим, в своей живой и изменчивой противоречивости, многобожием; слабость жречества, неблагопри€тна€ дл€ развити€ глубочайших мистических и умозрительных начал, данных в зародыше во фрагментах эллинской Ђтеологииї (θεολογία), Ч была, напротив, благопри€тна расцвету искусства, поэзии и научно-философской мысли. ѕотенци€ греческого жречества сказалась в создании религии јполлоновой. Ќе даром как бы на знамени этой жреческой религии Ч на портике дельфийского храма Ч были начертаны многозначительные в своей гиератической краткости изречени€: Ђ(ты) есиї (εἶ, ибо таково естественное истолкование всегда казавшегос€ загадочным слова) и Ђѕознай самого себ€ї (мы разумеем: как сущего, Ч познай в себе —амого, т.е. јтмана индусов), Ч что пр€мо обращает нас к Ђ≈сиї (asi) и Ђ“о ты есиї (tattvamasi) ведической философии, Ч быть может, общему и международному досто€нию сокровенной, эстетической мудрости жрецов и теургов (θεουργός), дл€ которой пон€тие и слово Ђбыти€ї уже само по себе заключало идею божественности, как это сквозит еще в элеатском учении о бытии или в еврейских монотеистических формулах: Ђ—ущийї, Ђјз есмьї, Ђя буду, кто будуї.
ажетс€, что развитие аполлонийской религии было существенно обусловлено аристократической оппозицией культовым и культурным захватам народных оргиастических вер, Ч религии ƒионисовой, могущественной пристрастием сельских, земледельческих масс. Ѕог стро€ и меры, пор€дка и гармонии, сдержки и обособлени€, бог завоевателей и господ, законодателей и повелителей, Ч бог, прежде всего, мужской религиозной реакции против женского владычества (вспомним оправдание матереубийцы ќреста в ƒельфах) и женских, всегда оргийных, культов, Ч должен был считатьс€ с соперником Ч разрешителем, освободителем, задушевным богом неудержной скорби и неудержного весель€, варварским богом темных переживаний и неустроенных движений души, Ч богом мужеубийственных женских сонмов. —оперничество обоих божеств выразилось в стремлении јполлонова культа усвоить и захватить в свое обладание р€д досто€ний ƒиониса. —юда, прежде всего, может быть отнесено отлучение јртемиды от ƒиониса и ее сочетание с јполлоном в образе сестры.
Ёто соединение јртемиды с јполлоном совершилось в одном из главных древних центров греческой религиозной и культурной жизни, на острове ƒелосе (с которым мы все лучше знакомимс€, благодар€ новейшим раскопкам, делающим ‘ранции такую же честь, как и ее раскопки в ƒельфах). Ќа ƒелосе јртемида издавна у себ€ дома. Ёто видно уже из гомеровского наименовани€ острова именем јртемиды ќртигии. — другой стороны, критское вли€ние было могущественно на ƒелосе. јполлон и јртемида стро€т себе там алтарь из рогов: образ внушен, быть может, критским обычаем, установленным результатами новейших раскопок на рите, Ч украшать жертвенники рогами, чему параллели наход€тс€ в библейских текстах. “есей, возвраща€сь победоносный, с рита, учреждает на ƒелосе круговой танец, подражающий блужданию в Ћабиринте (предмет изображений на знаменитой архаической вазе ЂFrançoisї во ‘лоренции): обр€д сам провозглашает свое критское происхождение. –елиги€ критска€ Ч религи€ јртемиды и некоего ƒионисова первообраза; и св€щенна€ пл€ска, конечно, отрасль оргиастических обр€дов критского бога двойного топора. Ќа древнейшей дионисийской почве ƒелоса утверждаетс€ религи€ обособившегос€ ƒиониса. √ерой ƒелоса Ч јниос (Ἄνιος), его мать Ч –ойо (Ῥοιώ, гранатовое дерево), т.е. гранатовый плод (ƒиониса), а дед Ч —тафилос (Στάφυλος), т.е. ƒионисов виноградный грозд (σταφυλή, виноградна€ гроздь), женатый на ’рисеиде, внучке ƒионисовой. огда —тафилос узнает о беременности дочери, он заключает ее в ковчег [и бросает в воду]: мотив €вно дионисийский. ƒочери јни€ Ч ќйно, —пермо и Ёлаис (Οἰνώ, Σπερμώ, Ἐλαΐς, т.е. нимфы вина, хлебного посева и маслины), так называемые Οἰνοτρόφοι или Οἰνοτρόποι, т.е. взрастительницы винограда, или Ђпресуществительницыї в вино, Ч триада дионисийских растительных сил, культ которой, в своем переживании, еще сквозит в нашем обр€де церковного благословени€ Ђпшеницы, вина и еле€ї. ќдин сын јни€ разорван собаками: знакомый нам дионисийский символ. Ётот герой ƒиониса отчужден от него и провозглашен жрецом јполлона. “рех дочерей своих все же он посв€щает ƒионису; от этого бога они получают дар своей чудотворной силы и впоследствии испытывают судьбу дионисийских героинь Ч преследование, бегство и превращение (в белых голубиц, Ч быть может, не без св€зи с критским культом голуб€).⁴ “ак не только јртемида, но и јниос отн€ты на ƒелосе јполлоном у его соперника-ƒиониса и принимают черты аполлонийские.
__________________________
[4] οἰνάς (-άδος) ἡ
1) виноградна€ лоза Anth.
2) дикий голубь, в€хирь Arst.
”же Ђќдиссе€ї выдает попытку Ч даже благодать изобили€ виноградного приписать јполлону: она называет вино даром ћарона, жреца јполлонова. ћежду тем уже фракийска€ родина ћарона указывает на его исконную св€зь с ƒионисом, Ч как и его местный культ и филиаци€⁵ от Ёванта (Εὐάνθης) и ќйнопиона (Οἰνοπίων), двух ипостасей ¬акха. –€д героев и божеств, низведенных до героев, оспариваетс€ јполлоном у ƒиониса. “аков, прежде всего, фракийский ќрфей (по одной новой теории Ч самосто€тельный бог минийского племени), €вл€ющийс€, по свидетельствам самих древних, с двойственным обликом пророка аполлонийского и дионисийского. Ќаксос весь увит дионисийскими легендами: но его герой, Ќаксос, оказываетс€ сыном јполлона. Ёлевтер (Ἐλευθήρ), герой-эпоним города, принадлежащего богу-–азрешителю,⁶ получает в свою очередь в отцы јполлона. ѕраздники дионисийского характера, как аттические ќсхофории и ‘аргелии и лаконские арнеи (с их σταφυλοδρόµια⁷), превращаютс€ в прославление јполлона.⁸ ¬ јмиклах јполлон овладевает хтоническим »акинфом (Ὑάκινθος), родственным ƒионису-ѕсилаксу (Ψίλαξ). Ќа јмиклейском троне, отданном јполлону, над гробом »акинфа, мы встречаем изображени€ дионисийских героев: јдраста (Ἄδραστος) и јдмета (Ἄδμητος). јдмет (Ђнеоборимыйї, как и јдраст Ч Ђнеизбежныйї) Ч ипостась бога смерти, вз€того в его дионисийском, страдальном аспекте бога умирающего и воскресающего. јполлон, в отмщение за пролитую им кровь зми€-ѕифона, должен нести под началом јдмета подневольную службу. јполлонийска€ иде€ подвергаетс€ опасности быть вобранной и поглощенной идеей ƒиониса. Ќо развитие мифа восстановл€ет первую, и божество јполлона торжествует. јполлон изводит из јида јдмета, как геро€ смертного, в награду за его доброту к своему божественному пастуху-подневольнику: он упоил ћойр вином (черта, заимствованна€ из дионисийского круга представлений и верований) и заручилс€ их согласием освободить јдмета от смертной участи, если другой смертный решитс€ умереть в замену его. јдмета замен€ет его жена јлкеста, Ч воспоминание о жертвенном убиении жен на древних тризнах.
__________________________
[5] filiation f. развитие чего-л. в преемственной св€зи, в пр€мой зависимости.
[6] Ἐλευθήρ, (-ῆρος) ὁ Ёлевтер, город в Ѕеотии;
ἐλευθέριος Ч несущий освобождение, освобождающий, избавл€ющий (Ζεύς Pind., Her., Thuc., Luc.; σωτέρ καὴ ἐ. θεός Arst.)
[7] σταφυλοδρόµια Ч соревнование в беге, держа в руке фиалу с виноградом.
[8] ὀσχοφόρια, ὠσχοφόρια {ὄσχος} τά осхофории (досл. Ђнесение [виноградных] побеговї). ¬о врем€ афинского празднества Σκίρα, в 7-й день мес€ца пианепсиона (окт€брь-но€брь), 20 избранных взрослых юношей (по двое от каждого сослови€) по очереди бежали из храма ƒиониса в Ћимнах в храм јфины —кирас (Ἀθηνᾶ Σκιράς) на ‘алероне, нес€ в руках виноградные ветви с гроздь€ми. аждый из 10 победителей получал в награду чашу, наполненную напитком, составленным из п€ти главнейших продуктов года (вина, меда, сыра, муки и оливкового масла Ч πενταπλόα), и почетное место в следовавшей затем процессии. ѕраздничное шествие, в котором впереди поющего хора шли два мальчика в женской одежде, начиналось на ќсхофории, площади перед храмом јфины, и следовало к храму ƒиониса, где ‘италиды приносили жертву.
Θαργήλια τά ‘аргелии (афинский праздник в честь јполлона и јртемиды в мес€це фаргелионе, май-июнь) Dem., Arst. »значально, это был праздник созревани€ плодов, дл€ чего 6 фаргелиона приносилась жертва ƒеметре ’лое. ѕозднее, ‘аргелии приобрели характер очистительного и искупительного праздника дл€ всего города и его жителей. ќчищение производилось как 6 фаргелиона, в день рождени€ јртемиды, так и 7, когда родилс€ јполлон.
Κάρνεα τά арнеи (празднества в честь јполлона арнейского, отмечавшиес€ в лакедемонском мес€це карнее, август-сент€брь). “оржества начинались 7-го карне€ и продолжались в течении дев€ти дней.
Ѕорьба јполлона за обладание ‘ивами оставила свой отпечаток на мифах о Ќиобе и Ќиобидах. —оперничество двух божеств воплощаетс€, в культурной и обр€довой сфере, в антагонизме двух родов музыки Ч духовой и струнной. –€д мифов окрашены стремлением прославить кифару и унизить флейту: таков миф о ћарсии.⁹ ћузы, исконные дионисийские божества, пророческие нимфы текучих вод, отторгаютс€ у ƒиониса и неразрывно св€зываютс€ с јполлоном. ифароды (κιθαρῳδοί) замалчивают ƒиониса, и его чары, и слав€т ‘еба.
—воего высшего напр€жени€ и вместе разрешени€ борьба достигает в ƒельфах. ¬акх-пришлец рано завладевает хтоническим оракулом ѕифона и пророчествует, как во ‘ракии, устами своей экстатической ѕифии. Ќо јполлон отвоевывает дельфийский оракул. Ёто его победа осуществл€етс€, однако, лишь путем ответной уступки, глубоко измен€ющей его собственную природу. ќн усваивает себе дар экстатических вдохновений, пророчественный и очистительный. ≈го божество приобретает от ƒионисова божества начала энтузиазма, мантики и катартики. ∆рица јполлона в јргосе иступл€етс€ и исполн€етс€ богом чрез выпитие крови (по ѕавсанию, Ч ἐξ Ἀπόλλωνος µανῆναι). ¬ ƒельфах оба бога празднуют свое примирение, необходимое дл€ духовного равновеси€ Ёллады и дл€ полноты творческого раскрыти€ идеи обоих. ¬ р€де изображений керамики и пластики мы видим символы союза. ƒионис и јполлон подают друг другу руки при ликовании св€щенного фиаса (θίασος).¹⁰ ќни обмениваютс€ своими атрибутами. ƒионис, отныне Ђ“ирсоносец-ѕеанї, ЂЁвий-ѕеанї,¹¹ увенчиваетс€ лаврами, јполлон Ч плющом; ƒионис играет на лире, јполлон-Ђфлейтистї приближает к устам двойную флейту. ¬первые эта последн€€ признаетс€ на пифийских играх, и флейтист-—аккадас реформирует в первой половине VI века старую св€щенную драму, изображающую убиение ѕифона. јполлон убил ѕифона, но он должен пострадать и искупить убийство изгнанием и неволей: победный бог раздел€ет судьбы бога страдающего. —путники ƒиониса €вл€ютс€ в свою очередь с символом јполлоновой религии. Ќа одной луврской краснофигурной вазе —илен с лирой и канфаром плывет на дельфине. Ќа другой вазе —атир учитс€ лирной игре: оргиазм учитс€ строю.
“реножник дельфийского храма отдан јполлоновой ѕифии; но под ним чтитс€ св€щенный гроб ƒиониса. ƒельфийский храм разделен: на восточной стороне прославлен изображени€ми јполлон, на западной Ч ƒионис. ƒельфийский год делитс€ на две части: зимой поетс€ ƒионисов дифирамб (διθύραμβος),¹² весну зачинает јполлонов пеан (παιάν).¹³ ќсоба€ коллеги€ жрецов (ὅσιοι Ч Ђсв€тыеї, в дионисийском смысле) совершает вакхические служени€. ћиф повествует, что сам јполлон погребает сердце растерзанного ƒиониса в ƒельфах или на вершине соседнего ѕарнаса. ƒве снежные вершины прекрасно-величавой горы поделены между обоими некогда враждовавшими брать€ми. ƒельфийский оракул распростран€ет по Ёлладе почитание ƒиониса.
__________________________
[9] Μαρσύας (-ου), ион. Μαρσύης (-ύεω) ὁ ћарсий, сатир, спутник ¬акха, с которого јполлон содрал кожу за попытку сост€затьс€ с ним в музыкальном искусстве Her., Xen.
[10] θίασος ὁ
1) торжественное шествие в честь божества, преимущ. ¬акха; ex. θίασοι τρεῖς γυναικείων χορῶν Eur. Ч три вакхических женских хоровода);
2) группа, сонм, сборище; ex. Μουσῶν Arph.; ἡλίκων Eur.
[11] Εὔιος ὁ Ёвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и οὐοῖ (эпитет ¬акха) Plut.
Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονο)ς, атт. Παιών (-ῶνος) ὁ целитель, избавитель (ѕеан, эпитет бога-целител€, после √омера отождествл€лс€ преимущ. с јполлоном, реже с јсклепием и др.).
[12] διθύραμβος (ῠ) ὁ дифирамб
1) эпитет ¬акха Eur.
2) торжественна€ хорова€ песнь в честь богов, преимущ. ¬акха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.
3) высокопарна€ речь, славословие Plat., Arst.
[13] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пеан, хорова€ лирическа€ песнь, жанр древнегреческой поэзии. ѕервоначально пеан Ч это гимн, адресованный јполлону, позже Ч и другим богам (ƒионису, √елиосу, јсклепию).
Ќо если јполлон выходит из борьбы измененным, Ч очищенным и просветленным €вл€етс€ и ƒионис. —интез обоих божеств впервые дает всей греческой идее ее окончательную формулу. »з обеих божественных потенций слагаетс€ эллинский пафос эстетического и этического стро€. ќба бога дополн€ют друг друга, как золотое видение аполлонийских чар умир€ет экстатическое буйство музыкального хмел€, как охранительна€ мера и грань спасает человеческое я в его центробежном самоотчуждении, как права€ объективаци€ наших внутренних хаотических волнений целительно и творчески-плодотворно разрешает правое безумие исступившего из своих граней духа. ѕоистине ƒионис-ƒифирамб уже не губитель, а исцелитель, ѕеан: Ђвладыка, друг плюща, ¬акх, ѕеан, јполлон звонколирныйї, Ч славит его трагеди€. ‘илодам, поэт IV века, поет: Ђ огда сын «евса и ‘ионы (мистическое и небесное им€ —емелы по ее успении) совершил свои странстви€ на земле, на ќлимп взошел он, ѕеаном бессмертным нарекли его там плющом венчанные ћузы, јполлон завел песнь Ч и они пелиїЕ ƒионис прин€т в число небожителей. ћиф и художество представл€ют его соратником богов в их войне с √игантами. Ѕез ƒионисова содействи€ не совершил бы той могучей реформации, котора€ до корней преобразила и очеловечила греческое нравственное сознание. Ѕез јполлона ƒионис не обрел бы среди ћуз своей любимицы Ч ћузы трагических хоров, ћельпомены.


1. ћетапонт, Ћукани€. —татер (AR 20mm, 7.45g), 430-410 до н.э. Av: рогата€ голова јполлона арне€ (Κάρνειος). Rv: колос; META
2. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.53g), ок. 377-326 до н.э. Av: рогата€ голова јполлона арне€. Rv: орел в квадратном поле.


3. –одос, ари€. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне; Rv: крылата€ Ќика стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN
4. –одос, ари€. ƒрахма (Æ 34mm, 24.42g), 31 до н.э. - 60 н.э. ћагистрат ƒамарат (Δαμάρατος). Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне. Rv: крылата€ Ќика на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / EѕI ΔAMAPATOY
Ётот культурно-исторический синтез начáл аполлонийского и дионисийского совпал с эпохой тиранов. »ща оперетьс€ на демократию, тираны покровительствовали народной религии оргийного ¬акха. ѕериандр оринфский, в VII в. до н.э., вводит дифирамб (приписанный возродителю хороводов Ч јриону,¹⁴ ипостаси ƒионисовой) в обр€д и обычай; той же династии принадлежит ковчег ипсела, посв€щенный ƒионису. лисфен —икионский Ђотдаетї ƒионису трагические хоры, прославл€вшие дотоле јдраста: трагеди€ официально св€зываетс€ с ƒионисовым культом. ѕозднейшие актеры назывались Ђремесленниками ƒионисаї или, собственно, Ђкруг ƒионисаї (οἰ περὶ ∆ιόνυσον τεχνῖται): думаем, что это наименование спутников бога можно толковать в смысле хоровой дружины того, кто носил посто€нную маску ƒиониса, Ч протагониста св€щенной драмы ƒионисовых страстей. Ђ рылатое слової: οὐδὲν πρὸς ∆ιόνυσον (т.е. Ђздесь нет ничего, что бы касалось до ƒионисаї), Ч формулировавшее критерий Ђдионисийностиї, который был обычным в древности при оценке трагедий, Ч возникло, быть может, в том же —икионе и запечатлело протест толпы против расширени€ культового содержани€ драмы и дифирамба путем перенесени€ ƒионисовых черт на новых героев, возникавших как бы личинами божественного геро€ трагических Ђстрастейї. ќсобенно важное значение в деле утверждени€ ƒионисовой религии имеет правление ѕисистрата в јфинах. ѕисистрат исходит из тех же политических соображений, как и ѕериандр: он опираетс€ на сельское население и поднимает его религию. ќн учреждает Ђгородские ƒионисииї. ќн даже ищет отожествить себ€ с ƒионисом до такой степени, что в одной статуе бога, при нем воздвигнутой, современники узнают его черты. Ѕудучи сам родом из местности, где сельский культ ¬акха был прочен, ѕисистрат в своей внешнеполитической де€тельности вступает в соотношени€ с государственными общинами ƒионисова исповедани€. ¬ пору своего временного изгнани€, проведенного им во ‘ракии, он, конечно, вполне проникаетс€ дионисийской идеей. ѕредприн€той им переработке гомеровских рапсодий об€заны мы, веро€тно, несколькими дионисийскими интерпол€ци€ми в тексте √омера. ѕреобразу€ культы ƒелоса, ѕисистрат, по-видимому, и там выдвигает элементы религии ƒионисовой; орудием дл€ того служит миф о “есее, облик которого принимает многие дионисийские черты. –елигиозна€ де€тельность ѕисистрата увенчиваетс€ орфической реформой.
Ёту реформу можно определить как попытку основани€ дионисийской церкви. Ќекогда обвин€ли де€телей этого движени€, особенно теолога при дворе ѕисистрата Ч ќномакрита,¹⁵ в сознательных подлогах, которыми они будто бы придали своим собственным измышлени€м характер древнейшего авторитета. ћы знаем теперь, что, несмотр€ на свободу редакции, допущенную орфиками, реформа имела целью закрепить действительно древнее предание. Ќова€ община вступила в союз с культовой общиной Ёлевсина и путем религиозного синкретизма преобразила элевсинское служение. ќна дала ему религиозно-мистическое и гностическое углубление и создала тот загадочный и могущественный фактор эллинской религиозной жизни, который вс€ древность так высоко оценивала и чтила, а мы тщетно ищем расследовать и уразуметь до конца Ч в Ёлевсинских мистери€х.
__________________________
[14] Ἀρίων ὁ Μηθυμναῖος ὁ јрион из ћетимны (о. Ћесбос), греч. поэт 2-ой пол. VII в. до н.э. Her., Luc.
[15] Ὀνομάκριτος ὁ ќномакрит, афинский поэт и прорицатель времен ѕисистратидов, редактор сочинений √омера и ћусе€, приблиз. 520-435 до н.э. —огласно ѕавсанию, был первым орфическим теологом и поэтом.
ѕравда, орфическа€ церковь имела характер эзотерический, характер секты, лишь наполовину разоблачающей свои тайны и не предъ€вл€ющей прит€заний господствовать над умами народа иначе как в лице и чрез посредство посв€щенных. Ќо она дала внутренний устой ƒионисовой религии, и когда эта религи€ подвергалась опасности понижени€ и вырождени€, спасла глубокие идеи, лежавшие в ее основе. ¬ лоне раннего орфизма окончательно сложилась религиозна€ концепци€ страдающего бога, как иде€ космологическа€ и этическа€ вместе, Ч и выработались учени€ о бессмертии и участи душ, о нравственном миропор€дке, о круге рождений (κύκλος γενέσεως), о теле как гробе души (σῶµα σῆµα), о мистическом очищении, о конечном боготождестве человеческого духа (ἐγένου θεὸς ἐξ ἀνθρώπου Ч Ђиз человека ты стал богомї, Ч формула орфических таинств). ƒионисийска€ религи€, преломленна€ в ¬еданте орфиков, глубоко напечатлелась на освободительных прозрени€х греческой поэзии и на всей философии √реции. Ѕез этой закваски непон€тны миросозерцани€ ѕиндара, Ёсхила, ѕлатона. «ависимость древнейших философских систем от творчества религиозного везде прозрачна, но еще не раскрыта, как надлежало бы.
¬ конце гармонического развити€ эллинской мысли иде€ вселенского страдани€, представление о мире жертвенно страдающем чрез разъединение и разъ€тие божества, в себе единого, Ч делаетс€ основной идеей как неоплатонизма, так и позднего синкретизма, всех богов отожествившего с ƒионисом, поставившего ƒиониса на высоту ¬себога (Παντεός) страдающего, как страдальный аспект мира возникновений и уничтожений. ¬прочем, еще јнаксимандр учил об уничтожении индивидуумов, как возмездии, платимом ими за свое обособление и отъединение. ћифы о дионисийских пещерах (βακχικὰ ἄντρα или σπήλαια) показывают, как души упиваютс€ в них чарующими испарени€ми, чтобы, опь€нившись забвением прежней чистоты и единства, ринутьс€ из своей верховной отчизны в юдоль страды земной; кажетс€, что и ѕлатонова притча о пещере, противополагающа€ миру ноуменов состо€ние духа, погруженного в феноменальное, в образе узничества пещерного, Ч принадлежит к той же семье дионисийских мифов.
¬ области пон€тий этических, ƒионисова религи€ возрастила идеал геро€ страдающего, страстотерпца √еракла, Ч идеал, который, сочета€сь с утонченной моралью века, создает в воображении ѕлатона (Rp. II, 361 D) образ праведника, признанного при жизни за злоде€, подвергаемого поругани€м, бичеванию и расп€тию, этот пророческий образ, совпадающий с вдохновени€ми младшего »саии. ƒионисийска€ мистика сделала доступным €зычникам и тот своеобразный мессианизм, который мы находим в знаменитой четвертой Ёклоге ¬ергили€, чрез нее ставшего вещим прорицателем и предметом благоговейного страха в глазах мистического средневековь€.
_______________________
Ќам остаетс€ коснутьс€, в этом беглом обзоре дионисийских вли€ний, вопроса о св€зи между ƒионисовой религией и христианством, Ч только коснутьс€. ќграничимс€ несколькими указани€ми на первоначальные аналогии между возникающим христианством и ƒионисовой религией, которые представл€ютс€ нам как бы упреждени€ми, восприн€тыми новым откровением из древнего религиозного опыта еще в самой колыбели нашего вероучени€.
¬ евангельских притчах и повествовании мы встречаем непривычную череду образов и символов, принадлежащих кругу дионисийских представлений. ¬иноград и виноградник (ἄµπελος ∆ιονύσου); виноградари, убивающие сына хоз€ина в винограднике, как титанические виноградари в винограднике умерщвл€ют ¬акха, он же непосредственно сын ƒиев, рожденный из чресл небесного отца; рыба и рыбна€ ловл€ (∆ιόνυσος ἰχθύς, Ч как ἰχθύς [рыба], наравне с ќрфеем, Ч символ ’риста; ∆ιόνυσος ἁλιεύς [рыбак]); чудесное насыщение народа хлебами и рыбами; хождение по водам и укрощение бури; полевые лилии и дети, играющие на флейте; облик —ына человеческого, как гост€ и хоз€ина пиршеств и участника веселий, как жениха, окруженного девами, несущими светильники, как пастыр€ и агнца;¹⁶ мед и смоковница; огонь осол€ющий, и сем€, не оживающее, пока не умрет; отмена поста дл€ сынов чертога брачного, и обещание нового вина в жизни новой; причащение хлебом и вином на жертвенной вечере (как в вакхических мистери€х); вход в »ерусалим на осле (животное ƒиониса) среди вдохновенных кликов и в окружении пальмовых ветвей; эпифании и очищени€; миро и слезы женских молитвенных восторгов; в четвертом ≈вангелии Ч претворение воды в вино на свадебном пире, речи о воде живой, о виноградной лозе, о съедении тела и выпитии крови ’риста, Ч все это намечено в прообразах ƒионисовой религии, как намечен и сам жертвенный облик Ѕога и человека вместе, чудесно зачатого земной избранницей небесного ќтца (по успении своем вз€той на небо), преследуемого и бегством спасенного во младенчестве, распростран€ющего свое внутреннее царство в охваченных св€щенным восторгом, Ђобратившихс€ї (µετάνοια, µετατροπή ≈вангели€), забывших и презревших искаженную земную действительность душах людей, Ч странствующего по земле со своим божественно-беззаботным и детски-радостным сонмом, Ч часто не узнаваемого под новыми ликами своих €влений, окруженного непрерывающимс€ чудом, удал€ющегос€ незаметным из враждебной толпы, Ч наконец, плененного врагами, страдающего, убитого, погребенного, женщинами оплаканного, воскресшего, взошедшего на небеса до своего нового молнийного €влени€.
__________________________
[16] —амо слово Ђовенї (ὄῑν, οἰοῖν, οἰῶν) весьма созвучно таким дионисовым атрибутам как вино (οἶνος) или виноградна€ лоза (οἴνη). ј слово βοῦκος (пастух) подозрительно созвучно со слав€нским словом ЂЅогї, что не противоречит ипостаси Ѕога, как Ђпастыр€ї.
Ѕыть может, малоазийские и сирийские общины поклонников ¬ышнего Ѕога (ὕψιστος θεός), сохранившие в своих веровани€х многие черты культа ƒиониса —абази€, посредствовали между √алилеей и дионисийской Ёлладой и заронили среди соседних €зычникам арамеев отголоски прозрений и предчувствий, родившихс€ в лоне чуждого им богопочитани€. Ѕыть может, дионисийские идеи и представлени€ и издавна уже отдавались отдаленным эхом в еврейском пророчествовании. ¬о вс€ком случае, родство и взаимное т€готение ƒионисовой веры, вдруг преображающей в глазах Ђвакхаї-тирсоносца юдоль земную в блаженную Ќису, этой огнем крест€щей веры, чрез которую человек тер€ет свою душу, чтобы вновь приобрести ее, Ч и первоначальной, существенно экстатической стихии христианства Ч чувствуетс€, вопреки особенно ожесточенным нападени€м христианских апологетов на все, что от ƒиониса в €зычестве: эта вражда именно объ€сн€етс€ Ч бо€знью соперничества.
ћежду тем ƒионис был тайным и внутренним союзником Ѕога галилейских рыбарей против иного опасного соперника Ч ћитры, чей культ €вл€ет р€д общих с христианством внешних особенностей и, по-видимому, повли€л на некоторые христианские представлени€, как в свою очередь дионисийство вли€ло на маздеизм. ≈сли не случилось то, что, по мнению –енана, было ближайшей исторической возможностью, Ч если культ ћитры не сделалс€ вселенской религией, Ч отчасти тому причиной было, быть может, скрытое присутствие в христианстве дионисийских начал, которые делали его непосредственно-пон€тным и бессознательно близким издавна воспитанной дл€ его при€ти€ ƒионисовым откровением души €зыческой.
_______________________________
ЁЋЋ»Ќ— јя –≈Ћ»√»я —“–јƒјёў≈√ќ Ѕќ√ј. √лава IX
¬о ‘ракии мы застаем дионисийскую религию в процессе ее образовани€, всецело отвечающем тому гипотетическому построению, которое €вилось результатом нашего анализа св€зей между вакхическим культом и оргиазмом тризн. ƒолжно ли думать, что именно фракийцы принесли эллинам откровение ƒиониса? ћы не решаемс€ утверждать об этом ничего положительного. ќргиастическа€ почва, наследие древнейшего культа душ, была подготовлена дл€ новой веры, как мы видели, повсюду; сама€ вера выработалась в лоне отдельных племен, потом охватила своим заражением весь греческий мир. ¬от все, что представл€етс€ нам достоверным. ¬езде в мифе ƒионис со своим оргийным сонмом €вл€етс€ пришельцем извне и завоевателем; он встречает сопротивление, и побеждает его. ак плющ стелетс€ по заросл€м, ползет по стволам чащи, укутывает деревь€ и опутывает ветви, Ч и деревь€ то как бы мир€тс€ и родн€тс€ с ним, и кажутс€ удвоенными его зеленой сетью, то чахнут и глохнут в его живучих и убийственных тисках, Ч так бог плюща обвил своею избыточной силой всю народную религию, удвоил собою одни культы и вытеснил другие. ќдно только сопротивление было возможно и действительно: там, где дионисийска€ иде€ была раньше вобрана культом верховного бога, ƒионис был бессилен пред своей же собственной сущностью. ¬се остальное в народной религии должно было прин€ть более или менее глубокий отпечаток его вли€ни€.
¬озьмем пример. Ќи одно жертвоприношение не могло обойтись в исторической √реции без флейт. ћежду тем, √омер ничего не знает о флейте при жертвенных обр€дах. ‘лейты, которые слышались, по √омеру, и в греческом стане, и в стенах осажденной “рои, были принесены из ‘ригии, Ч быть может, также из ‘ракии или с острова рита, Ч но сделались необходимой частью общеэллинского богослужени€. ѕринесены же были они, конечно, вакхическими сонмами. ќ том же свидетельствует употребление венков. √омер не знает цветочных венков. ѕервоначально они примен€лись только при погребени€х; мы видим их на головах покойников на древнейших вазах. ¬озложение венка на голову мертвого было, по-видимому, св€зано с его обожествлением.¹ ¬месте с погребальной маской венок был сн€т с мертвого и возложен на живых. Ёто было дело той тризны, откуда произошла дионисийска€ религи€. Ёта религи€ овладевает венком, как своим особенным символом и атрибутом; он зоветс€ Ђвакхї.
__________________________
[1] ¬ ≈гипте венец на голове покойника называлс€ Ђвенцом оправдани€ї (mȝḥ n mȝˁ-ḫrw). —огласно египетской традиции, Ђвенец оправдани€ї водружалс€ на голову новопреставившемус€ в качестве символа чистоты. —огласно религиозным представлени€м, душе покойного надлежало пройти суд ќсириса, на котором взвешивалось его сердце. ≈сли его сердце оказывалось не от€гощенным грехами Ч умерший получал статус Ђоправданногої (дословно, правогласного) и попадал в вечнозеленые тростниковые пол€. ¬енец оправдани€ также известен как Ђвенец бессмерти€ї (Crown of immortality).
Ђ—пециальна€ глава Ђ ниги мертвыхї (XIX) была посв€щена венцу подобного рода, и до нас дошла даже магическа€ формула, которую следовало читать, когда такой венок возлагали на крышку гроба. Ёти Ђвенцы оправдани€ї (Wreath of triumph / Wreath of justification) были широко распространены со времени XVII династии до греко-римского периода.ї (√овард артер. √робница “утанхамона)
»з религии ƒиониса венок заимствуетс€ общегреческим культом и общегреческим обычаем. ѕиршество без венков на головах гостей невозможно, потому что вино и чаши и пиршественные трапезы Ч служение ƒионису. ¬енок делаетс€ принадлежностью пиров, как и ƒионисов дифирамб, о котором јрхилох поет:
Ђћὸлнийным вином зажженный, € ль за чашей не горазд
«ат€нуть запевом звонким ƒионису дифирамб?ї
Ќе име€ в виду дать полный исторический очерк распространени€ ƒионисовой религии и ее дальнейших судеб в эллинском мире, ограничимс€ характеристикой нескольких главных этапов этого распространени€ и нескольких моментов ее вли€ни€, имевших мировое значение.
¬ерна€ своему происхождению из тризны и почитани€ душ, религи€ ƒиониса должна была примкнуть к уже готовым местным культам сил подземных и растительных. Ѕыло указано на сравнительно позднее образование имени ƒиониса. ¬ ту эпоху, когда вакхическа€ иде€ овладевает Ёлладой, должно было дифференцироватьс€ им€ и пон€тие ƒи€-ƒиониса от ƒи€-«евса эллинов. ќдну из самых ранних ступеней этой дифференциации мы застаем в Ѕеотии. ‘ивы делаютс€ преимущественно родиной ƒиониса; там он родитс€ от «евса и дочери адмовой, —емелы.
‘ивы Ч центр культа јреса, как бога смерти, бога человеческих жертвоприношений, Ч свидетельством тому служит миф о ћенекее, заколовшем себ€ в жертву буйному и воинственному богу на стенах семивратного города и возрастившем из своей пролитой крови гранатовое дерево. —емела,² чье мистическое св€тилище (ἄβατον) обличает ее хтоническую сущность, Ч дочь «мееубийцы и √армонии, дочери јресовой. «ме€, убита€ адмом, родилась от јреса, и сам он вместе с женой обращаютс€ в змей. «ме€ же всегда символ хтонический. адм Ч домовой змий, µένοικος ὄφις, равноименный ћенекею: дух, живущий в недрах, древний дух тризн. Ќо если хтоническа€ основа культов додионисийских объ€сн€ет легкость их сочетани€ и смешени€ с ¬акховой религией в Ѕеотии, то в той же Ѕеотии эта религи€ €вл€етс€ нам с чертами чисто эллинскими: ее мрачный характер измен€етс€, просветл€етс€, кровавый элемент см€гчен, иде€ растительного изобили€, завис€щего от хтонических сил, и радостный оргиазм вступают в свои права. ƒионис чтитс€ в ‘ивах под своими растительными и оргиастическими символами Ч в фетишах столпа и плюща. «анесенные из ‘ригии экстатические флейты оглашают оргии иферона. ћестна€ керамика выдает нам безудержность оргийного разгула беотийских вакханалий. ƒионис встречает на своем пути р€д местных растительных и сельских божеств; он вбирает в себ€ их numina и nomina.³ Ѕог јристей усваивает себе его черты и становитс€ дионисийским героем. Ѕоги Φλές (или Φλεών), и Βρισεύς обращаютс€ в культовые наименовани€ (ἐπικλήσεις) ƒиониса. Ќо пришлец сталкиваетс€ на своем завоевательном пути и с противником огромной силы. ≈го им€ Ч јполлон. ќтношени€ между этими божествами Ч одна из любопытнейших страниц истории эллинской религии; но они еще недостаточно расследованы. ћежду тем в этих отношени€х пред глазами исследовател€ развертываетс€ велика€ культурна€ борьба, положивша€ неизгладимую печать на всю греческую жизнь.
__________________________
[2] Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ —емела (дочь адма и √ермионы, мать ¬акха от «евса) Pind., Her., Eur.
συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становитьс€ совершенно черным, совершенно чернеть;
μέλας Ч черный;
[3] numina et nomina Ч обличи€ (божественные про€влени€) и имена (эпиклесы).
¬ јполлоновой религии единственно про€вилось вли€ние эллинского жречества. ≈сли бы совокупность исторических причин не воспреп€тствовала усилению греческого жречества, вс€ религи€ и образованность √реции нашла бы, веро€тно, другие пути развити€. √реци€, наподобие »ндии, создала бы великие религиозно-философские учени€; она углубила бы свою народную веру, котора€ осталась нестройным и поэтическим, в своей живой и изменчивой противоречивости, многобожием; слабость жречества, неблагопри€тна€ дл€ развити€ глубочайших мистических и умозрительных начал, данных в зародыше во фрагментах эллинской Ђтеологииї (θεολογία), Ч была, напротив, благопри€тна расцвету искусства, поэзии и научно-философской мысли. ѕотенци€ греческого жречества сказалась в создании религии јполлоновой. Ќе даром как бы на знамени этой жреческой религии Ч на портике дельфийского храма Ч были начертаны многозначительные в своей гиератической краткости изречени€: Ђ(ты) есиї (εἶ, ибо таково естественное истолкование всегда казавшегос€ загадочным слова) и Ђѕознай самого себ€ї (мы разумеем: как сущего, Ч познай в себе —амого, т.е. јтмана индусов), Ч что пр€мо обращает нас к Ђ≈сиї (asi) и Ђ“о ты есиї (tattvamasi) ведической философии, Ч быть может, общему и международному досто€нию сокровенной, эстетической мудрости жрецов и теургов (θεουργός), дл€ которой пон€тие и слово Ђбыти€ї уже само по себе заключало идею божественности, как это сквозит еще в элеатском учении о бытии или в еврейских монотеистических формулах: Ђ—ущийї, Ђјз есмьї, Ђя буду, кто будуї.
ажетс€, что развитие аполлонийской религии было существенно обусловлено аристократической оппозицией культовым и культурным захватам народных оргиастических вер, Ч религии ƒионисовой, могущественной пристрастием сельских, земледельческих масс. Ѕог стро€ и меры, пор€дка и гармонии, сдержки и обособлени€, бог завоевателей и господ, законодателей и повелителей, Ч бог, прежде всего, мужской религиозной реакции против женского владычества (вспомним оправдание матереубийцы ќреста в ƒельфах) и женских, всегда оргийных, культов, Ч должен был считатьс€ с соперником Ч разрешителем, освободителем, задушевным богом неудержной скорби и неудержного весель€, варварским богом темных переживаний и неустроенных движений души, Ч богом мужеубийственных женских сонмов. —оперничество обоих божеств выразилось в стремлении јполлонова культа усвоить и захватить в свое обладание р€д досто€ний ƒиониса. —юда, прежде всего, может быть отнесено отлучение јртемиды от ƒиониса и ее сочетание с јполлоном в образе сестры.
Ёто соединение јртемиды с јполлоном совершилось в одном из главных древних центров греческой религиозной и культурной жизни, на острове ƒелосе (с которым мы все лучше знакомимс€, благодар€ новейшим раскопкам, делающим ‘ранции такую же честь, как и ее раскопки в ƒельфах). Ќа ƒелосе јртемида издавна у себ€ дома. Ёто видно уже из гомеровского наименовани€ острова именем јртемиды ќртигии. — другой стороны, критское вли€ние было могущественно на ƒелосе. јполлон и јртемида стро€т себе там алтарь из рогов: образ внушен, быть может, критским обычаем, установленным результатами новейших раскопок на рите, Ч украшать жертвенники рогами, чему параллели наход€тс€ в библейских текстах. “есей, возвраща€сь победоносный, с рита, учреждает на ƒелосе круговой танец, подражающий блужданию в Ћабиринте (предмет изображений на знаменитой архаической вазе ЂFrançoisї во ‘лоренции): обр€д сам провозглашает свое критское происхождение. –елиги€ критска€ Ч религи€ јртемиды и некоего ƒионисова первообраза; и св€щенна€ пл€ска, конечно, отрасль оргиастических обр€дов критского бога двойного топора. Ќа древнейшей дионисийской почве ƒелоса утверждаетс€ религи€ обособившегос€ ƒиониса. √ерой ƒелоса Ч јниос (Ἄνιος), его мать Ч –ойо (Ῥοιώ, гранатовое дерево), т.е. гранатовый плод (ƒиониса), а дед Ч —тафилос (Στάφυλος), т.е. ƒионисов виноградный грозд (σταφυλή, виноградна€ гроздь), женатый на ’рисеиде, внучке ƒионисовой. огда —тафилос узнает о беременности дочери, он заключает ее в ковчег [и бросает в воду]: мотив €вно дионисийский. ƒочери јни€ Ч ќйно, —пермо и Ёлаис (Οἰνώ, Σπερμώ, Ἐλαΐς, т.е. нимфы вина, хлебного посева и маслины), так называемые Οἰνοτρόφοι или Οἰνοτρόποι, т.е. взрастительницы винограда, или Ђпресуществительницыї в вино, Ч триада дионисийских растительных сил, культ которой, в своем переживании, еще сквозит в нашем обр€де церковного благословени€ Ђпшеницы, вина и еле€ї. ќдин сын јни€ разорван собаками: знакомый нам дионисийский символ. Ётот герой ƒиониса отчужден от него и провозглашен жрецом јполлона. “рех дочерей своих все же он посв€щает ƒионису; от этого бога они получают дар своей чудотворной силы и впоследствии испытывают судьбу дионисийских героинь Ч преследование, бегство и превращение (в белых голубиц, Ч быть может, не без св€зи с критским культом голуб€).⁴ “ак не только јртемида, но и јниос отн€ты на ƒелосе јполлоном у его соперника-ƒиониса и принимают черты аполлонийские.
__________________________
[4] οἰνάς (-άδος) ἡ
1) виноградна€ лоза Anth.
2) дикий голубь, в€хирь Arst.
”же Ђќдиссе€ї выдает попытку Ч даже благодать изобили€ виноградного приписать јполлону: она называет вино даром ћарона, жреца јполлонова. ћежду тем уже фракийска€ родина ћарона указывает на его исконную св€зь с ƒионисом, Ч как и его местный культ и филиаци€⁵ от Ёванта (Εὐάνθης) и ќйнопиона (Οἰνοπίων), двух ипостасей ¬акха. –€д героев и божеств, низведенных до героев, оспариваетс€ јполлоном у ƒиониса. “аков, прежде всего, фракийский ќрфей (по одной новой теории Ч самосто€тельный бог минийского племени), €вл€ющийс€, по свидетельствам самих древних, с двойственным обликом пророка аполлонийского и дионисийского. Ќаксос весь увит дионисийскими легендами: но его герой, Ќаксос, оказываетс€ сыном јполлона. Ёлевтер (Ἐλευθήρ), герой-эпоним города, принадлежащего богу-–азрешителю,⁶ получает в свою очередь в отцы јполлона. ѕраздники дионисийского характера, как аттические ќсхофории и ‘аргелии и лаконские арнеи (с их σταφυλοδρόµια⁷), превращаютс€ в прославление јполлона.⁸ ¬ јмиклах јполлон овладевает хтоническим »акинфом (Ὑάκινθος), родственным ƒионису-ѕсилаксу (Ψίλαξ). Ќа јмиклейском троне, отданном јполлону, над гробом »акинфа, мы встречаем изображени€ дионисийских героев: јдраста (Ἄδραστος) и јдмета (Ἄδμητος). јдмет (Ђнеоборимыйї, как и јдраст Ч Ђнеизбежныйї) Ч ипостась бога смерти, вз€того в его дионисийском, страдальном аспекте бога умирающего и воскресающего. јполлон, в отмщение за пролитую им кровь зми€-ѕифона, должен нести под началом јдмета подневольную службу. јполлонийска€ иде€ подвергаетс€ опасности быть вобранной и поглощенной идеей ƒиониса. Ќо развитие мифа восстановл€ет первую, и божество јполлона торжествует. јполлон изводит из јида јдмета, как геро€ смертного, в награду за его доброту к своему божественному пастуху-подневольнику: он упоил ћойр вином (черта, заимствованна€ из дионисийского круга представлений и верований) и заручилс€ их согласием освободить јдмета от смертной участи, если другой смертный решитс€ умереть в замену его. јдмета замен€ет его жена јлкеста, Ч воспоминание о жертвенном убиении жен на древних тризнах.
__________________________
[5] filiation f. развитие чего-л. в преемственной св€зи, в пр€мой зависимости.
[6] Ἐλευθήρ, (-ῆρος) ὁ Ёлевтер, город в Ѕеотии;
ἐλευθέριος Ч несущий освобождение, освобождающий, избавл€ющий (Ζεύς Pind., Her., Thuc., Luc.; σωτέρ καὴ ἐ. θεός Arst.)
[7] σταφυλοδρόµια Ч соревнование в беге, держа в руке фиалу с виноградом.
[8] ὀσχοφόρια, ὠσχοφόρια {ὄσχος} τά осхофории (досл. Ђнесение [виноградных] побеговї). ¬о врем€ афинского празднества Σκίρα, в 7-й день мес€ца пианепсиона (окт€брь-но€брь), 20 избранных взрослых юношей (по двое от каждого сослови€) по очереди бежали из храма ƒиониса в Ћимнах в храм јфины —кирас (Ἀθηνᾶ Σκιράς) на ‘алероне, нес€ в руках виноградные ветви с гроздь€ми. аждый из 10 победителей получал в награду чашу, наполненную напитком, составленным из п€ти главнейших продуктов года (вина, меда, сыра, муки и оливкового масла Ч πενταπλόα), и почетное место в следовавшей затем процессии. ѕраздничное шествие, в котором впереди поющего хора шли два мальчика в женской одежде, начиналось на ќсхофории, площади перед храмом јфины, и следовало к храму ƒиониса, где ‘италиды приносили жертву.
Θαργήλια τά ‘аргелии (афинский праздник в честь јполлона и јртемиды в мес€це фаргелионе, май-июнь) Dem., Arst. »значально, это был праздник созревани€ плодов, дл€ чего 6 фаргелиона приносилась жертва ƒеметре ’лое. ѕозднее, ‘аргелии приобрели характер очистительного и искупительного праздника дл€ всего города и его жителей. ќчищение производилось как 6 фаргелиона, в день рождени€ јртемиды, так и 7, когда родилс€ јполлон.
Κάρνεα τά арнеи (празднества в честь јполлона арнейского, отмечавшиес€ в лакедемонском мес€це карнее, август-сент€брь). “оржества начинались 7-го карне€ и продолжались в течении дев€ти дней.
Ѕорьба јполлона за обладание ‘ивами оставила свой отпечаток на мифах о Ќиобе и Ќиобидах. —оперничество двух божеств воплощаетс€, в культурной и обр€довой сфере, в антагонизме двух родов музыки Ч духовой и струнной. –€д мифов окрашены стремлением прославить кифару и унизить флейту: таков миф о ћарсии.⁹ ћузы, исконные дионисийские божества, пророческие нимфы текучих вод, отторгаютс€ у ƒиониса и неразрывно св€зываютс€ с јполлоном. ифароды (κιθαρῳδοί) замалчивают ƒиониса, и его чары, и слав€т ‘еба.
—воего высшего напр€жени€ и вместе разрешени€ борьба достигает в ƒельфах. ¬акх-пришлец рано завладевает хтоническим оракулом ѕифона и пророчествует, как во ‘ракии, устами своей экстатической ѕифии. Ќо јполлон отвоевывает дельфийский оракул. Ёто его победа осуществл€етс€, однако, лишь путем ответной уступки, глубоко измен€ющей его собственную природу. ќн усваивает себе дар экстатических вдохновений, пророчественный и очистительный. ≈го божество приобретает от ƒионисова божества начала энтузиазма, мантики и катартики. ∆рица јполлона в јргосе иступл€етс€ и исполн€етс€ богом чрез выпитие крови (по ѕавсанию, Ч ἐξ Ἀπόλλωνος µανῆναι). ¬ ƒельфах оба бога празднуют свое примирение, необходимое дл€ духовного равновеси€ Ёллады и дл€ полноты творческого раскрыти€ идеи обоих. ¬ р€де изображений керамики и пластики мы видим символы союза. ƒионис и јполлон подают друг другу руки при ликовании св€щенного фиаса (θίασος).¹⁰ ќни обмениваютс€ своими атрибутами. ƒионис, отныне Ђ“ирсоносец-ѕеанї, ЂЁвий-ѕеанї,¹¹ увенчиваетс€ лаврами, јполлон Ч плющом; ƒионис играет на лире, јполлон-Ђфлейтистї приближает к устам двойную флейту. ¬первые эта последн€€ признаетс€ на пифийских играх, и флейтист-—аккадас реформирует в первой половине VI века старую св€щенную драму, изображающую убиение ѕифона. јполлон убил ѕифона, но он должен пострадать и искупить убийство изгнанием и неволей: победный бог раздел€ет судьбы бога страдающего. —путники ƒиониса €вл€ютс€ в свою очередь с символом јполлоновой религии. Ќа одной луврской краснофигурной вазе —илен с лирой и канфаром плывет на дельфине. Ќа другой вазе —атир учитс€ лирной игре: оргиазм учитс€ строю.
“реножник дельфийского храма отдан јполлоновой ѕифии; но под ним чтитс€ св€щенный гроб ƒиониса. ƒельфийский храм разделен: на восточной стороне прославлен изображени€ми јполлон, на западной Ч ƒионис. ƒельфийский год делитс€ на две части: зимой поетс€ ƒионисов дифирамб (διθύραμβος),¹² весну зачинает јполлонов пеан (παιάν).¹³ ќсоба€ коллеги€ жрецов (ὅσιοι Ч Ђсв€тыеї, в дионисийском смысле) совершает вакхические служени€. ћиф повествует, что сам јполлон погребает сердце растерзанного ƒиониса в ƒельфах или на вершине соседнего ѕарнаса. ƒве снежные вершины прекрасно-величавой горы поделены между обоими некогда враждовавшими брать€ми. ƒельфийский оракул распростран€ет по Ёлладе почитание ƒиониса.
__________________________
[9] Μαρσύας (-ου), ион. Μαρσύης (-ύεω) ὁ ћарсий, сатир, спутник ¬акха, с которого јполлон содрал кожу за попытку сост€затьс€ с ним в музыкальном искусстве Her., Xen.
[10] θίασος ὁ
1) торжественное шествие в честь божества, преимущ. ¬акха; ex. θίασοι τρεῖς γυναικείων χορῶν Eur. Ч три вакхических женских хоровода);
2) группа, сонм, сборище; ex. Μουσῶν Arph.; ἡλίκων Eur.
[11] Εὔιος ὁ Ёвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и οὐοῖ (эпитет ¬акха) Plut.
Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονο)ς, атт. Παιών (-ῶνος) ὁ целитель, избавитель (ѕеан, эпитет бога-целител€, после √омера отождествл€лс€ преимущ. с јполлоном, реже с јсклепием и др.).
[12] διθύραμβος (ῠ) ὁ дифирамб
1) эпитет ¬акха Eur.
2) торжественна€ хорова€ песнь в честь богов, преимущ. ¬акха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.
3) высокопарна€ речь, славословие Plat., Arst.
[13] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пеан, хорова€ лирическа€ песнь, жанр древнегреческой поэзии. ѕервоначально пеан Ч это гимн, адресованный јполлону, позже Ч и другим богам (ƒионису, √елиосу, јсклепию).
Ќо если јполлон выходит из борьбы измененным, Ч очищенным и просветленным €вл€етс€ и ƒионис. —интез обоих божеств впервые дает всей греческой идее ее окончательную формулу. »з обеих божественных потенций слагаетс€ эллинский пафос эстетического и этического стро€. ќба бога дополн€ют друг друга, как золотое видение аполлонийских чар умир€ет экстатическое буйство музыкального хмел€, как охранительна€ мера и грань спасает человеческое я в его центробежном самоотчуждении, как права€ объективаци€ наших внутренних хаотических волнений целительно и творчески-плодотворно разрешает правое безумие исступившего из своих граней духа. ѕоистине ƒионис-ƒифирамб уже не губитель, а исцелитель, ѕеан: Ђвладыка, друг плюща, ¬акх, ѕеан, јполлон звонколирныйї, Ч славит его трагеди€. ‘илодам, поэт IV века, поет: Ђ огда сын «евса и ‘ионы (мистическое и небесное им€ —емелы по ее успении) совершил свои странстви€ на земле, на ќлимп взошел он, ѕеаном бессмертным нарекли его там плющом венчанные ћузы, јполлон завел песнь Ч и они пелиїЕ ƒионис прин€т в число небожителей. ћиф и художество представл€ют его соратником богов в их войне с √игантами. Ѕез ƒионисова содействи€ не совершил бы той могучей реформации, котора€ до корней преобразила и очеловечила греческое нравственное сознание. Ѕез јполлона ƒионис не обрел бы среди ћуз своей любимицы Ч ћузы трагических хоров, ћельпомены.


1. ћетапонт, Ћукани€. —татер (AR 20mm, 7.45g), 430-410 до н.э. Av: рогата€ голова јполлона арне€ (Κάρνειος). Rv: колос; META
2. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.53g), ок. 377-326 до н.э. Av: рогата€ голова јполлона арне€. Rv: орел в квадратном поле.


3. –одос, ари€. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне; Rv: крылата€ Ќика стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN
4. –одос, ари€. ƒрахма (Æ 34mm, 24.42g), 31 до н.э. - 60 н.э. ћагистрат ƒамарат (Δαμάρατος). Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне. Rv: крылата€ Ќика на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / EѕI ΔAMAPATOY
Ётот культурно-исторический синтез начáл аполлонийского и дионисийского совпал с эпохой тиранов. »ща оперетьс€ на демократию, тираны покровительствовали народной религии оргийного ¬акха. ѕериандр оринфский, в VII в. до н.э., вводит дифирамб (приписанный возродителю хороводов Ч јриону,¹⁴ ипостаси ƒионисовой) в обр€д и обычай; той же династии принадлежит ковчег ипсела, посв€щенный ƒионису. лисфен —икионский Ђотдаетї ƒионису трагические хоры, прославл€вшие дотоле јдраста: трагеди€ официально св€зываетс€ с ƒионисовым культом. ѕозднейшие актеры назывались Ђремесленниками ƒионисаї или, собственно, Ђкруг ƒионисаї (οἰ περὶ ∆ιόνυσον τεχνῖται): думаем, что это наименование спутников бога можно толковать в смысле хоровой дружины того, кто носил посто€нную маску ƒиониса, Ч протагониста св€щенной драмы ƒионисовых страстей. Ђ рылатое слової: οὐδὲν πρὸς ∆ιόνυσον (т.е. Ђздесь нет ничего, что бы касалось до ƒионисаї), Ч формулировавшее критерий Ђдионисийностиї, который был обычным в древности при оценке трагедий, Ч возникло, быть может, в том же —икионе и запечатлело протест толпы против расширени€ культового содержани€ драмы и дифирамба путем перенесени€ ƒионисовых черт на новых героев, возникавших как бы личинами божественного геро€ трагических Ђстрастейї. ќсобенно важное значение в деле утверждени€ ƒионисовой религии имеет правление ѕисистрата в јфинах. ѕисистрат исходит из тех же политических соображений, как и ѕериандр: он опираетс€ на сельское население и поднимает его религию. ќн учреждает Ђгородские ƒионисииї. ќн даже ищет отожествить себ€ с ƒионисом до такой степени, что в одной статуе бога, при нем воздвигнутой, современники узнают его черты. Ѕудучи сам родом из местности, где сельский культ ¬акха был прочен, ѕисистрат в своей внешнеполитической де€тельности вступает в соотношени€ с государственными общинами ƒионисова исповедани€. ¬ пору своего временного изгнани€, проведенного им во ‘ракии, он, конечно, вполне проникаетс€ дионисийской идеей. ѕредприн€той им переработке гомеровских рапсодий об€заны мы, веро€тно, несколькими дионисийскими интерпол€ци€ми в тексте √омера. ѕреобразу€ культы ƒелоса, ѕисистрат, по-видимому, и там выдвигает элементы религии ƒионисовой; орудием дл€ того служит миф о “есее, облик которого принимает многие дионисийские черты. –елигиозна€ де€тельность ѕисистрата увенчиваетс€ орфической реформой.
Ёту реформу можно определить как попытку основани€ дионисийской церкви. Ќекогда обвин€ли де€телей этого движени€, особенно теолога при дворе ѕисистрата Ч ќномакрита,¹⁵ в сознательных подлогах, которыми они будто бы придали своим собственным измышлени€м характер древнейшего авторитета. ћы знаем теперь, что, несмотр€ на свободу редакции, допущенную орфиками, реформа имела целью закрепить действительно древнее предание. Ќова€ община вступила в союз с культовой общиной Ёлевсина и путем религиозного синкретизма преобразила элевсинское служение. ќна дала ему религиозно-мистическое и гностическое углубление и создала тот загадочный и могущественный фактор эллинской религиозной жизни, который вс€ древность так высоко оценивала и чтила, а мы тщетно ищем расследовать и уразуметь до конца Ч в Ёлевсинских мистери€х.
__________________________
[14] Ἀρίων ὁ Μηθυμναῖος ὁ јрион из ћетимны (о. Ћесбос), греч. поэт 2-ой пол. VII в. до н.э. Her., Luc.
[15] Ὀνομάκριτος ὁ ќномакрит, афинский поэт и прорицатель времен ѕисистратидов, редактор сочинений √омера и ћусе€, приблиз. 520-435 до н.э. —огласно ѕавсанию, был первым орфическим теологом и поэтом.
ѕравда, орфическа€ церковь имела характер эзотерический, характер секты, лишь наполовину разоблачающей свои тайны и не предъ€вл€ющей прит€заний господствовать над умами народа иначе как в лице и чрез посредство посв€щенных. Ќо она дала внутренний устой ƒионисовой религии, и когда эта религи€ подвергалась опасности понижени€ и вырождени€, спасла глубокие идеи, лежавшие в ее основе. ¬ лоне раннего орфизма окончательно сложилась религиозна€ концепци€ страдающего бога, как иде€ космологическа€ и этическа€ вместе, Ч и выработались учени€ о бессмертии и участи душ, о нравственном миропор€дке, о круге рождений (κύκλος γενέσεως), о теле как гробе души (σῶµα σῆµα), о мистическом очищении, о конечном боготождестве человеческого духа (ἐγένου θεὸς ἐξ ἀνθρώπου Ч Ђиз человека ты стал богомї, Ч формула орфических таинств). ƒионисийска€ религи€, преломленна€ в ¬еданте орфиков, глубоко напечатлелась на освободительных прозрени€х греческой поэзии и на всей философии √реции. Ѕез этой закваски непон€тны миросозерцани€ ѕиндара, Ёсхила, ѕлатона. «ависимость древнейших философских систем от творчества религиозного везде прозрачна, но еще не раскрыта, как надлежало бы.
¬ конце гармонического развити€ эллинской мысли иде€ вселенского страдани€, представление о мире жертвенно страдающем чрез разъединение и разъ€тие божества, в себе единого, Ч делаетс€ основной идеей как неоплатонизма, так и позднего синкретизма, всех богов отожествившего с ƒионисом, поставившего ƒиониса на высоту ¬себога (Παντεός) страдающего, как страдальный аспект мира возникновений и уничтожений. ¬прочем, еще јнаксимандр учил об уничтожении индивидуумов, как возмездии, платимом ими за свое обособление и отъединение. ћифы о дионисийских пещерах (βακχικὰ ἄντρα или σπήλαια) показывают, как души упиваютс€ в них чарующими испарени€ми, чтобы, опь€нившись забвением прежней чистоты и единства, ринутьс€ из своей верховной отчизны в юдоль страды земной; кажетс€, что и ѕлатонова притча о пещере, противополагающа€ миру ноуменов состо€ние духа, погруженного в феноменальное, в образе узничества пещерного, Ч принадлежит к той же семье дионисийских мифов.
¬ области пон€тий этических, ƒионисова религи€ возрастила идеал геро€ страдающего, страстотерпца √еракла, Ч идеал, который, сочета€сь с утонченной моралью века, создает в воображении ѕлатона (Rp. II, 361 D) образ праведника, признанного при жизни за злоде€, подвергаемого поругани€м, бичеванию и расп€тию, этот пророческий образ, совпадающий с вдохновени€ми младшего »саии. ƒионисийска€ мистика сделала доступным €зычникам и тот своеобразный мессианизм, который мы находим в знаменитой четвертой Ёклоге ¬ергили€, чрез нее ставшего вещим прорицателем и предметом благоговейного страха в глазах мистического средневековь€.
Ќам остаетс€ коснутьс€, в этом беглом обзоре дионисийских вли€ний, вопроса о св€зи между ƒионисовой религией и христианством, Ч только коснутьс€. ќграничимс€ несколькими указани€ми на первоначальные аналогии между возникающим христианством и ƒионисовой религией, которые представл€ютс€ нам как бы упреждени€ми, восприн€тыми новым откровением из древнего религиозного опыта еще в самой колыбели нашего вероучени€.
¬ евангельских притчах и повествовании мы встречаем непривычную череду образов и символов, принадлежащих кругу дионисийских представлений. ¬иноград и виноградник (ἄµπελος ∆ιονύσου); виноградари, убивающие сына хоз€ина в винограднике, как титанические виноградари в винограднике умерщвл€ют ¬акха, он же непосредственно сын ƒиев, рожденный из чресл небесного отца; рыба и рыбна€ ловл€ (∆ιόνυσος ἰχθύς, Ч как ἰχθύς [рыба], наравне с ќрфеем, Ч символ ’риста; ∆ιόνυσος ἁλιεύς [рыбак]); чудесное насыщение народа хлебами и рыбами; хождение по водам и укрощение бури; полевые лилии и дети, играющие на флейте; облик —ына человеческого, как гост€ и хоз€ина пиршеств и участника веселий, как жениха, окруженного девами, несущими светильники, как пастыр€ и агнца;¹⁶ мед и смоковница; огонь осол€ющий, и сем€, не оживающее, пока не умрет; отмена поста дл€ сынов чертога брачного, и обещание нового вина в жизни новой; причащение хлебом и вином на жертвенной вечере (как в вакхических мистери€х); вход в »ерусалим на осле (животное ƒиониса) среди вдохновенных кликов и в окружении пальмовых ветвей; эпифании и очищени€; миро и слезы женских молитвенных восторгов; в четвертом ≈вангелии Ч претворение воды в вино на свадебном пире, речи о воде живой, о виноградной лозе, о съедении тела и выпитии крови ’риста, Ч все это намечено в прообразах ƒионисовой религии, как намечен и сам жертвенный облик Ѕога и человека вместе, чудесно зачатого земной избранницей небесного ќтца (по успении своем вз€той на небо), преследуемого и бегством спасенного во младенчестве, распростран€ющего свое внутреннее царство в охваченных св€щенным восторгом, Ђобратившихс€ї (µετάνοια, µετατροπή ≈вангели€), забывших и презревших искаженную земную действительность душах людей, Ч странствующего по земле со своим божественно-беззаботным и детски-радостным сонмом, Ч часто не узнаваемого под новыми ликами своих €влений, окруженного непрерывающимс€ чудом, удал€ющегос€ незаметным из враждебной толпы, Ч наконец, плененного врагами, страдающего, убитого, погребенного, женщинами оплаканного, воскресшего, взошедшего на небеса до своего нового молнийного €влени€.
__________________________
[16] —амо слово Ђовенї (ὄῑν, οἰοῖν, οἰῶν) весьма созвучно таким дионисовым атрибутам как вино (οἶνος) или виноградна€ лоза (οἴνη). ј слово βοῦκος (пастух) подозрительно созвучно со слав€нским словом ЂЅогї, что не противоречит ипостаси Ѕога, как Ђпастыр€ї.
Ѕыть может, малоазийские и сирийские общины поклонников ¬ышнего Ѕога (ὕψιστος θεός), сохранившие в своих веровани€х многие черты культа ƒиониса —абази€, посредствовали между √алилеей и дионисийской Ёлладой и заронили среди соседних €зычникам арамеев отголоски прозрений и предчувствий, родившихс€ в лоне чуждого им богопочитани€. Ѕыть может, дионисийские идеи и представлени€ и издавна уже отдавались отдаленным эхом в еврейском пророчествовании. ¬о вс€ком случае, родство и взаимное т€готение ƒионисовой веры, вдруг преображающей в глазах Ђвакхаї-тирсоносца юдоль земную в блаженную Ќису, этой огнем крест€щей веры, чрез которую человек тер€ет свою душу, чтобы вновь приобрести ее, Ч и первоначальной, существенно экстатической стихии христианства Ч чувствуетс€, вопреки особенно ожесточенным нападени€м христианских апологетов на все, что от ƒиониса в €зычестве: эта вражда именно объ€сн€етс€ Ч бо€знью соперничества.
ћежду тем ƒионис был тайным и внутренним союзником Ѕога галилейских рыбарей против иного опасного соперника Ч ћитры, чей культ €вл€ет р€д общих с христианством внешних особенностей и, по-видимому, повли€л на некоторые христианские представлени€, как в свою очередь дионисийство вли€ло на маздеизм. ≈сли не случилось то, что, по мнению –енана, было ближайшей исторической возможностью, Ч если культ ћитры не сделалс€ вселенской религией, Ч отчасти тому причиной было, быть может, скрытое присутствие в христианстве дионисийских начал, которые делали его непосредственно-пон€тным и бессознательно близким издавна воспитанной дл€ его при€ти€ ƒионисовым откровением души €зыческой.
_______________________________
|
ћетки: ƒионис јполлон √реци€ |
”Ћ№“ ”ћ»–јёў≈√ќ Ѕќ√ј |
ƒневник |
¬€чеслав »ванов
ЁЋЋ»Ќ— јя –≈Ћ»√»я —“–јƒјёў≈√ќ Ѕќ√ј. √лава VIII
Ќа рите, на склонах »ды, в миметических представлени€х периодически изображалось рождение «евса: оргиазм и первобытна€ св€щенна€ драма, с ним св€занна€, сохранилась в «евсовом культе, где оргиастические уреты совершали, по мифу, воинственные пл€ски близ пещеры, в которой таилс€ от гнева отца новорожденный «евс. Ќо критский бог меда и земного изобили€, рожденный во мраке пещеры, λίκνω ἐνί χρυσέω, воспитанный нимфами и јдрастеей, вскормленный пчелами и козой јмалфеей, окруженный юношами, пл€шущими под оргийный звон щитов, бог преследуемый и живущий в недрах горы, т.е. умерший, бог, наконец, пр€мо провозглашенный умершим и чей гроб показываетс€ верующим в том же »дейском вертепе, Ч этот критский «евс Ч не общий «евс эллинов.
¬ этой стране исконных человеческих жертв и экстатических пл€сок дионисийска€ религи€ рано определилась в своей особенности, но не носила своего имени. ≈е монотеистическа€ тенденци€, исключавша€ в оргиастических общинах вс€кое иное богопочитание (кроме, разве, почитани€ женской ипостаси бога оргий), помешала критскому богу двойного топора сопричислитьс€ к сонму эллинских божеств, с которыми он вступил в ранние отношени€ и взаимодействие. √реки отожествили его с своим верховным богом и, подчин€€сь политическому и культурному вли€нию рита, усвоили собственному верованию некоторые из его черт: именно, миф о его рождении. ƒионисова религи€ только позднее проникает на рит в своей эллинской форме и уже не смешиваетс€ с религией критского «евса. Ќаравне с ритом, ћала€ јзи€ (где мы встречаем тот же культовый символ двойного топора), и именно ‘риги€, должна быть признана местностью, где дионисийска€ религи€ рано стала утверждатьс€ в своих общих чертах. Ќо и здесь не вы€вилось божество ƒиониса. ќтчасти его религиозна€ сущность была, как и на рите, перенесена на «евса; малоазийский «евс есть бог умирани€; только позднее €вл€етс€ потребность отожествить его с ƒионисом, потому что в лице его узнаетс€ ƒионис (Ζεύς ∆ιόνυσος). √лавной же причиной отклонени€ фригийских культов от религиозного идеала ƒиониса было сосредоточение местного оргиазма корибантов на обожествлении женского оргиастического начала, пребывающей и абсолютной женской ипостаси мужского бога, периодически возникающего, страдающего и умирающего, Ч котора€ во ‘ракии €вл€етс€ с чертами јртемиды, во ‘ригии в образе ¬еликой ћатери, ибебы. Ќо ‘риги€, по-видимому, только колони€ фракийцев, племени дионисийского по преимуществу. Ќа вопрос о родине ƒионисовой религии большинство ученых отвечают: ‘раки€. » нельз€ отрицать, что описанный нами феномен образовани€ этой религии, последовательные фазы и ранние формы ее развити€ мы встречаем именно в недрах этого загадочного и малоизвестного, арийского по происхождению, по характеру Ч дико-меланхолического и глубоко-возбудимого народа.
ќ фракийцах √еродот рассказывает, что они не берегут девства своих дочерей, но позвол€ют им свободно сходитьс€ с мужчинами, что по умершим они прав€т пышные и кровавые тризны, что из богов чтут только јреса, ƒиониса и јртемиду. ћы бы сказали: одну оргиастическую сущность в ее женском аспекте (јртемида) и мужском, он же вместе јрес или ƒионис сообразно роду оргиазма, представленному двум€ типами оргийных женщин: јмазонами и ћенадами.¹ „то таково именно было представление древних о фракийских культах, можно заключать и из его отображени€ в типах художественных. “ак, на вазе из лузи (Ann. d. Inst. 43, табл. K=RoscherТs Lex. III, 1185), представл€ющей сцену убиени€ ќрфе€, мы видим женщин, с двух сторон на него нападающих: справа приближаетс€ јмазона на коне, во фригийском колпаке и с копьем, напоминающим тирс; слева Ч две менады забрасывают певца т€желыми камн€ми, подобно менадам ≈врипида, мечущим камни в ѕенфе€; на голове одной Ч фригийский убор, волосы другой пов€заны дионисийской митрой. Ќа амфоре из ¬ульчи (Roscher III, 1183) менада в шлеме замахиваетс€ на ќрфе€ двойным топором, атрибутом јмазон. “ипы фракийских менад и јмазон почти смешиваютс€.
_________________________________
[1] Ἀμαζών (-όνος) ἡ амазонка; преимущ. pl. Ἀμαζόνες αἱ амазонки (миф. плем€ воинственных женщин, жившее в ѕонте Hom., в —кифии или в Ћивии Diod.);
μαινάς (-άδος) ἡ исступленна€ вакханка, менада.
–€д свидетельств выдвигают, как особенности фракийского вакхизма: мантику, или экстатическое пророчествование; религиозное учреждение пророков и пророчиц ƒиониса, Ч они же отожествл€ютс€ с самим ƒионисом; наконец, веру как бы в некий обмен душ между царствами надземным и подземным, Ч в бессмертие души, рассматриваемое как ее переселение в недра земли и новый возврат на землю. ¬прочем, не должно забывать, что фракийцы не знали имени ƒиониса и что их религи€ распадалась на местные культы, дионисийски окрашенные, но не объединенные окончательными и общими формами веровани€ и служени€. Ќаиболее характерны и полны извести€ о религии северо-фракийских гетов.
√еты чтили «алмоксиса, соедин€ющего в своем облике черты бога и пророка. ќн собирает гетов на пир, Ч повествует предание. ƒионис, как и јрес, Ч бог пира; уже одна эта черта обличает в нем бога тризн: пиршество, в его ритуальном значении, Ч угощение богов, первоначально Ч душ умерших (θεοξένια, сотрапеза богов и людей). «алмоксис научает гетов на пиршестве, что смерть только переселение в обители блаженства. ѕотом он удал€етс€ от них и таитс€ в подземном чертоге, устроенном им под пиршественной храминой, а на четвертый год, уже оплаканный ими, как умерший, Ч возвращаетс€ к своему народу; из чего геты убедились, что он говорил им правду. ќчевидно, дело идет о возврате из недр земли, из подземного царства. » он открыл им тогда, что и он, и его верные живыми придут снова на землю из мира загробного. ќни считают себ€ бессмертными, Ч говорит √еродот, Ч и думают, что не умрут, а пойдут к «алмоксису. Ђ» чрез каждые три года на четвертый они посылают одного из своих, выбрав по жребию, вестником с поручени€ми и просьбами к богу. ј посылают вестника так: одни станов€тс€ в строй, выставив три копь€, а другие, схватив за руки и за ноги вестника и раскачав его, бросают на копь€. ≈сли он умрет, напоровшись на остри€, Ч «алмоксис милостив, думают они; если же не умрет, пронзенный, они кор€т и вин€т его, как нечестивца, и отр€жают гонцом другого. » не признают они иного богаї. ¬от религи€ ƒиониса в своем возникновении. „еловеческие жертвоприношени€, оргиазм пиршества и поминок, бог умирающий и воскресающий Ч все давно в этой варварской и детской, и так по-детски изображенной √еродотом религии «алмоксиса, Ч до отожествлени€ жертвы и бога, жреца и бога. ¬ самом деле, €вно значение снар€жаемого посланца. Ёто Ч новый «алмоксис, и поручени€, ему даваемые, Ч молитвы, обращенные к божеству, нисход€щему в преисподнюю, сильному благодетельствовать или вредить оттуда живым. ѕо свидетельству —трабона, жрец ƒиониса у гетов зоветс€ богом. ¬ трагедии Ђ–есосї мы читаем, что герой, претерпевший страсти, будет жить под землей, облеченный божественной силой, подобно тому как некий пророк ¬акха (не€сно, о ком именно идет речь: ќ «алмоксисе? о Ћикурге? ќрфее? или, наконец, об одном лице в названных трех?) поселен в недрах скалистого ѕанге€ фракийского, великий бог дл€ ведущих (мы разумеем: посв€щенных в тайну жертвенного дионисийского отожествлени€).
“акова двойственна€ природа «алмоксиса; прежде Ч человека, потом Ч бога. «алмоксис, очевидно, только абстракци€ правильно повтор€емых жертв, или, что то же самое, обожествлени€ чрез жертвенное убиение. тому же выводу приводит и логика гетского св€щеннодействи€. ≈сли тот, кого √еродот называет послом, не пронзен копь€ми, он Ч не бог, и участники кровавого радени€ лишены причасти€ богу чрез обагрение его жертвенной кровью; он Ч дурной человек, потому что не удостоен благодати обожествлени€. ѕрибавим, что Ђ«алмоксисї, по древнему словопроизводству (от ζαλµός = δορὰ ἄρκτου), значит: Ђнос€щий медвежью шкуруї, Ч что соответствует имени ƒиониса ЂЅассарейї или ЂЅассарї Ч Ђнос€щий лисью шкуруї.² —ама€ община, быть может, звалась Ђ«алмоксисыї, по аналогии общин Ѕассаров, —абов и ¬акхов. аждый член ее был «алмоксис, по участию в жертвоприношении и в праве стать жертвой.
_________________________________
[2] Βασσαρεύς Ѕассарей, лидийское божество, отождествл€вшийс€ с ƒионисом;
βασσαρίς (-ίδος) ἡ бассарида Anacr., Anth. = βάκχη (вакханка);
βασσάριον τό ливийска€ лисица Her.
βασσάρα ὁ лись€ шкура.
«наменательна независимость богочеловека «алмоксиса от какого бы то ни было другого божества. ак его пророческое достоинство, так и его божественность представл€ютс€ безусловно автономными. Ёто свидетельствует о глубокой древности изучаемого €влени€. ƒревнейшее верование не знает мужского бессмертного божества. ¬ глазах первобытного человека боги подвержены смерти, как все существа природные. √еты, правда, отрицают самое смерть, как уничтожение; дл€ них смерть Ч переход в иной мир и временное отсутствие. “ем не менее, божество не избавлено от необходимости этого перехода, превращени€ и восстановлени€. »х божество должно вкусить смерть наравне с людьми. Ёто представление делает впервые пон€тной и мыслимой возможность образовани€ идеи божества, как абстракции из р€да обожествленных жертв.
ѕосто€нной величиной в обр€де €вл€етс€ пентаэтерическое жертвенное человекоубиение, с целью создани€ или обновлени€ подземного благодетельного, но и страшного фактора, необходимого дл€ блага жителей земли. ћножество последовательных жертв сливаетс€ в единую божественную сущность кого-то могучего и милостивого, но также и гневного, умилостивлений требующего, живущего в преисподней, но имеющего придти назад, Ч образ, общий первоначальной религии и позднейшему фольклору, еще различимый в мифах (слав€нских и германских, как миф ифгейзера) о подземном богатыре, живущем под землей, в горных недрах, до урочной годины своего восстани€. „то жертвы гетов, как отдельные звень€ непрерывной цепи, св€зываютс€ в единую, во множестве лиц правильно повтор€ющуюс€ и преемственно дл€щуюс€ жертву, Ч она же творит и питает единое, посто€нно обновл€ющеес€, божественное начало в области загробной, Ч €вствует и из аналогии диких племен, обеспечивающих жертвенную преемственность особенного ритуала надевани€ на нового обреченного кожи, сн€той с только что убитого, Ч как это наблюдаетс€ в древнемексиканских обр€дах: здесь абстракци€ божества из обожествленных человеческих жертв совершаетс€ как бы нагл€дно пред нашими глазами.
«амечательно в обр€де гетов подн€тие жертвы на копь€. ѕочему именно на копь€? Ёто Ч символ высшей почести. ƒоселе в нашем церковном служении Ђ÷арь всехї прославл€етс€ как Ђдориносимыйї (δορυφόρος), т.е. копьеносимый, чинами ангельскими. ѕодн€тие на щите или на скрещенных копь€х означает провозглашение военачальником или царем. √етский обычай убиени€ посредством подн€ти€ на копь€, как кажетс€, св€зан с тем, общим многим первобытным народам, обожествлением цар€ и умерщвлением цар€-бога, которое истолковано ‘рейзером (James George Frazer) в его Ђ«олотой ¬етвиї. ƒл€ дикого царь Ч воплощение божества, носитель божественной силы и силы своего народа. ќн должен быть убит еще молодым, чтобы низойти в царство мертвых полным этой мощи и стать, в виде духа, не бессильным покровителем своих людей. ќбычай, изредка еще встречаемый в своем чистом виде, удержалс€ в многочисленных пережитках. ¬от что, например, было наблюдено европейцами (јкоста, по цитате в Golden Bough) у краснокожих ћексики.
ѕодробность обр€да Ч употребление каменного ножа Ч заслуживает внимани€. –елигиозный обычай вообще сохран€ет бытовые особенности, например, утварь, Ч эпохи минувшей; все древнее считаетс€ уже по тому самому св€щенным. ќбр€д консервативен и, предохран€€ от забвени€ и замены устарелое в быте, тем самым осв€щает его. аменный нож необходим в обр€де, потому что архаичен, потому что уже анахронизм. Ќо еще первобытнее растерзание жертвы руками. ќтметим в особенности сходство мексиканского обр€да с мифом о ƒионисе-«агрее, которого «евс ставит царем мира и который затем растерзан “итанами, причем расчлененное тело его сварено в котле, а трепещущее сердце вынуто из груди и принесено «евсу; обожествление отдельной головы ƒиониса засвидетельствовано другими обр€дами.
ћы различаем в этом этнографическом аналоге религиозный принцип посто€нной преемственности
человеческой жертвы, отожествл€емой с божеством и долженствующей как бы непрерывно обновл€ть собой божественный numen (образ), питать его неугасимый огонь. Ѕожество распадаетс€ на последовательность человекобогов, слагаетс€ из неограниченного числа обожествленных чрез жертвенное убиение душ. ќбреченный, как мы видим, достигает вершины божеских и, следовательно, царских почестей. то царь, тот обречен; кто обречен, тот царь; и царь Ч бог: вот круг идей, в которых вращаетс€ мысль первобытного человека. ƒругие параллели ближе привод€т нас к изучаемой нами древности и даже пр€мо возвращают к циклу фракийских культов.
–итор ƒион ’рисостом рассказывает, что у персов в его эпоху (II в. н.э.) был странный обычай. ќдного из осужденных на смертную казнь сажали они на престол царский, облачали его в царские одежды, давали ему есть и пить и веселитьс€ вволю, предоставл€ли ему гарем царский, исполн€ли все его прихоти, а потом бичевали и распинали его. ќтголоски этого обыча€ ‘рейзер находит в предании о √амане, повешенном в праздник ѕурим, Ч которое составл€ет предмет библейской повести о Ёсфири.
Ќедавно внимание ученых было привлечено новыми данными о римских —атурнали€х, почерпнутыми из жити€ св. ƒаси€, текст которого, по рукописи ѕарижской Ќациональной Ѕиблиотеки, был издан ‘. юмоном (Fr. Cumont), известным исследователем культа ћитры. ѕо легенде, содержащей исторически достоверные частности, римские солдаты в ћезии (современной Ѕолгарии) ежегодно справл€ли —атурналии следующим обр€дом: за мес€ц до праздника они избирали из своей среды по жребию красивого молодого воина, одевали его в царскую одежду и величали царем —атурном; его окружали вс€ким почетом и доставл€ли ему вс€кие потехи и наслаждени€; когда же наступал праздник, он должен был зарезатьс€ перед алтарем —атурна. ќдин из вариантов жити€ гласит, впрочем, так: Ђон приносит себ€ в жертву, умерщвл€€ себ€ мечем, безым€нным и гнусным идоламї (ἀνωνύµοις καί µυσαροῖς εἰδώλοις). то были эти безым€нные боги? Ќе культ ли соседней северной ‘ракии перед нами в своих отдаленных переживани€х? —атурналии соответствовали дионисийским јнфестери€м, и жертва, быть может, почти чрез тыс€челетие после жертв, описанных √еродотом, совершалась тому же фракийскому ƒионису, которого первоисточник жити€ не называет, или не узнава€ его под его фракийским именем, или из ненависти к ƒионису, или потому, наконец, что древний дионисийский обычай так и не обрел имени своего бога, ведомого, быть может, только Ђпророкамї, хранител€м тайны. ќбщее между культом «алмоксиса и обр€дом —атурналий в ћезии в том, что жертва возвеличиваетс€, облекаетс€ достоинством фиктивного цар€. »здание жити€ естественно натолкнуло ученых на сближение между царем —атурналий и ’ристом, казнь которого совершаетс€ в формах фиктивного провозглашени€ царем. ¬енец, трость и багр€ница, наречение царем иудейским и надпись на кресте, самый крест, напоминающий выше упом€нутый азиатский обычай, Ч все подтверждает, по-видимому, аналогию потешного обр€да кровавых —атурналий. Ќо возвратимс€ к религии ƒиониса.
ƒл€ познани€ ее начал мы выводим из изложенного важное заключение. ћы видели, что на тризнах, откуда она проистекла, человек, надевший маску покойника, приноситс€ в жертву, обыкновенно чрез растерзание, замаскированными участниками-жрецами оргий. ќтвлечение из обр€да тризны, с фиктивной обстановкой ее жертвоприношени€, создало тип геро€, обреченного на роковую гибель и трагически гибнущего, Ч этот первообраз страдающего бога, Ђгеро€ї ƒиониса. ¬ св€зи наших последних изучений становитс€ веро€тным, что убиение человека в маске геро€ Ч только замена первоначального убиени€ самого геро€ Ч цар€ или вожд€. ѕогребенный, став богом, приобщает своей божественности и членов своей общины, так как человек, растерзанный в его маске, служит проводником и преемником той части его божественной силы, котора€ должна быть распределена между живыми причастниками жертвы. “о, что было в незапам€тные времена действительностью, обратилось в жертвенную трагедию, в обр€довое изображение героических страстей. “ак, трагеди€ эпохи исторической, представша€ нам в своих ранних и уже незапам€тных начатках в образе человеческого жертвоприношени€, совершаемого в фиктивной обстановке похоронного маскарада, восходит, быть может, в своих последних корн€х до глубоко забытой реальности каннибальского религиозного цареубийства-богоубийства.
_______________________________
ЁЋЋ»Ќ— јя –≈Ћ»√»я —“–јƒјёў≈√ќ Ѕќ√ј. √лава VIII
Ќа рите, на склонах »ды, в миметических представлени€х периодически изображалось рождение «евса: оргиазм и первобытна€ св€щенна€ драма, с ним св€занна€, сохранилась в «евсовом культе, где оргиастические уреты совершали, по мифу, воинственные пл€ски близ пещеры, в которой таилс€ от гнева отца новорожденный «евс. Ќо критский бог меда и земного изобили€, рожденный во мраке пещеры, λίκνω ἐνί χρυσέω, воспитанный нимфами и јдрастеей, вскормленный пчелами и козой јмалфеей, окруженный юношами, пл€шущими под оргийный звон щитов, бог преследуемый и живущий в недрах горы, т.е. умерший, бог, наконец, пр€мо провозглашенный умершим и чей гроб показываетс€ верующим в том же »дейском вертепе, Ч этот критский «евс Ч не общий «евс эллинов.
¬ этой стране исконных человеческих жертв и экстатических пл€сок дионисийска€ религи€ рано определилась в своей особенности, но не носила своего имени. ≈е монотеистическа€ тенденци€, исключавша€ в оргиастических общинах вс€кое иное богопочитание (кроме, разве, почитани€ женской ипостаси бога оргий), помешала критскому богу двойного топора сопричислитьс€ к сонму эллинских божеств, с которыми он вступил в ранние отношени€ и взаимодействие. √реки отожествили его с своим верховным богом и, подчин€€сь политическому и культурному вли€нию рита, усвоили собственному верованию некоторые из его черт: именно, миф о его рождении. ƒионисова религи€ только позднее проникает на рит в своей эллинской форме и уже не смешиваетс€ с религией критского «евса. Ќаравне с ритом, ћала€ јзи€ (где мы встречаем тот же культовый символ двойного топора), и именно ‘риги€, должна быть признана местностью, где дионисийска€ религи€ рано стала утверждатьс€ в своих общих чертах. Ќо и здесь не вы€вилось божество ƒиониса. ќтчасти его религиозна€ сущность была, как и на рите, перенесена на «евса; малоазийский «евс есть бог умирани€; только позднее €вл€етс€ потребность отожествить его с ƒионисом, потому что в лице его узнаетс€ ƒионис (Ζεύς ∆ιόνυσος). √лавной же причиной отклонени€ фригийских культов от религиозного идеала ƒиониса было сосредоточение местного оргиазма корибантов на обожествлении женского оргиастического начала, пребывающей и абсолютной женской ипостаси мужского бога, периодически возникающего, страдающего и умирающего, Ч котора€ во ‘ракии €вл€етс€ с чертами јртемиды, во ‘ригии в образе ¬еликой ћатери, ибебы. Ќо ‘риги€, по-видимому, только колони€ фракийцев, племени дионисийского по преимуществу. Ќа вопрос о родине ƒионисовой религии большинство ученых отвечают: ‘раки€. » нельз€ отрицать, что описанный нами феномен образовани€ этой религии, последовательные фазы и ранние формы ее развити€ мы встречаем именно в недрах этого загадочного и малоизвестного, арийского по происхождению, по характеру Ч дико-меланхолического и глубоко-возбудимого народа.
ќ фракийцах √еродот рассказывает, что они не берегут девства своих дочерей, но позвол€ют им свободно сходитьс€ с мужчинами, что по умершим они прав€т пышные и кровавые тризны, что из богов чтут только јреса, ƒиониса и јртемиду. ћы бы сказали: одну оргиастическую сущность в ее женском аспекте (јртемида) и мужском, он же вместе јрес или ƒионис сообразно роду оргиазма, представленному двум€ типами оргийных женщин: јмазонами и ћенадами.¹ „то таково именно было представление древних о фракийских культах, можно заключать и из его отображени€ в типах художественных. “ак, на вазе из лузи (Ann. d. Inst. 43, табл. K=RoscherТs Lex. III, 1185), представл€ющей сцену убиени€ ќрфе€, мы видим женщин, с двух сторон на него нападающих: справа приближаетс€ јмазона на коне, во фригийском колпаке и с копьем, напоминающим тирс; слева Ч две менады забрасывают певца т€желыми камн€ми, подобно менадам ≈врипида, мечущим камни в ѕенфе€; на голове одной Ч фригийский убор, волосы другой пов€заны дионисийской митрой. Ќа амфоре из ¬ульчи (Roscher III, 1183) менада в шлеме замахиваетс€ на ќрфе€ двойным топором, атрибутом јмазон. “ипы фракийских менад и јмазон почти смешиваютс€.
_________________________________
[1] Ἀμαζών (-όνος) ἡ амазонка; преимущ. pl. Ἀμαζόνες αἱ амазонки (миф. плем€ воинственных женщин, жившее в ѕонте Hom., в —кифии или в Ћивии Diod.);
μαινάς (-άδος) ἡ исступленна€ вакханка, менада.
–€д свидетельств выдвигают, как особенности фракийского вакхизма: мантику, или экстатическое пророчествование; религиозное учреждение пророков и пророчиц ƒиониса, Ч они же отожествл€ютс€ с самим ƒионисом; наконец, веру как бы в некий обмен душ между царствами надземным и подземным, Ч в бессмертие души, рассматриваемое как ее переселение в недра земли и новый возврат на землю. ¬прочем, не должно забывать, что фракийцы не знали имени ƒиониса и что их религи€ распадалась на местные культы, дионисийски окрашенные, но не объединенные окончательными и общими формами веровани€ и служени€. Ќаиболее характерны и полны извести€ о религии северо-фракийских гетов.
√еты чтили «алмоксиса, соедин€ющего в своем облике черты бога и пророка. ќн собирает гетов на пир, Ч повествует предание. ƒионис, как и јрес, Ч бог пира; уже одна эта черта обличает в нем бога тризн: пиршество, в его ритуальном значении, Ч угощение богов, первоначально Ч душ умерших (θεοξένια, сотрапеза богов и людей). «алмоксис научает гетов на пиршестве, что смерть только переселение в обители блаженства. ѕотом он удал€етс€ от них и таитс€ в подземном чертоге, устроенном им под пиршественной храминой, а на четвертый год, уже оплаканный ими, как умерший, Ч возвращаетс€ к своему народу; из чего геты убедились, что он говорил им правду. ќчевидно, дело идет о возврате из недр земли, из подземного царства. » он открыл им тогда, что и он, и его верные живыми придут снова на землю из мира загробного. ќни считают себ€ бессмертными, Ч говорит √еродот, Ч и думают, что не умрут, а пойдут к «алмоксису. Ђ» чрез каждые три года на четвертый они посылают одного из своих, выбрав по жребию, вестником с поручени€ми и просьбами к богу. ј посылают вестника так: одни станов€тс€ в строй, выставив три копь€, а другие, схватив за руки и за ноги вестника и раскачав его, бросают на копь€. ≈сли он умрет, напоровшись на остри€, Ч «алмоксис милостив, думают они; если же не умрет, пронзенный, они кор€т и вин€т его, как нечестивца, и отр€жают гонцом другого. » не признают они иного богаї. ¬от религи€ ƒиониса в своем возникновении. „еловеческие жертвоприношени€, оргиазм пиршества и поминок, бог умирающий и воскресающий Ч все давно в этой варварской и детской, и так по-детски изображенной √еродотом религии «алмоксиса, Ч до отожествлени€ жертвы и бога, жреца и бога. ¬ самом деле, €вно значение снар€жаемого посланца. Ёто Ч новый «алмоксис, и поручени€, ему даваемые, Ч молитвы, обращенные к божеству, нисход€щему в преисподнюю, сильному благодетельствовать или вредить оттуда живым. ѕо свидетельству —трабона, жрец ƒиониса у гетов зоветс€ богом. ¬ трагедии Ђ–есосї мы читаем, что герой, претерпевший страсти, будет жить под землей, облеченный божественной силой, подобно тому как некий пророк ¬акха (не€сно, о ком именно идет речь: ќ «алмоксисе? о Ћикурге? ќрфее? или, наконец, об одном лице в названных трех?) поселен в недрах скалистого ѕанге€ фракийского, великий бог дл€ ведущих (мы разумеем: посв€щенных в тайну жертвенного дионисийского отожествлени€).
“акова двойственна€ природа «алмоксиса; прежде Ч человека, потом Ч бога. «алмоксис, очевидно, только абстракци€ правильно повтор€емых жертв, или, что то же самое, обожествлени€ чрез жертвенное убиение. тому же выводу приводит и логика гетского св€щеннодействи€. ≈сли тот, кого √еродот называет послом, не пронзен копь€ми, он Ч не бог, и участники кровавого радени€ лишены причасти€ богу чрез обагрение его жертвенной кровью; он Ч дурной человек, потому что не удостоен благодати обожествлени€. ѕрибавим, что Ђ«алмоксисї, по древнему словопроизводству (от ζαλµός = δορὰ ἄρκτου), значит: Ђнос€щий медвежью шкуруї, Ч что соответствует имени ƒиониса ЂЅассарейї или ЂЅассарї Ч Ђнос€щий лисью шкуруї.² —ама€ община, быть может, звалась Ђ«алмоксисыї, по аналогии общин Ѕассаров, —абов и ¬акхов. аждый член ее был «алмоксис, по участию в жертвоприношении и в праве стать жертвой.
_________________________________
[2] Βασσαρεύς Ѕассарей, лидийское божество, отождествл€вшийс€ с ƒионисом;
βασσαρίς (-ίδος) ἡ бассарида Anacr., Anth. = βάκχη (вакханка);
βασσάριον τό ливийска€ лисица Her.
βασσάρα ὁ лись€ шкура.
«наменательна независимость богочеловека «алмоксиса от какого бы то ни было другого божества. ак его пророческое достоинство, так и его божественность представл€ютс€ безусловно автономными. Ёто свидетельствует о глубокой древности изучаемого €влени€. ƒревнейшее верование не знает мужского бессмертного божества. ¬ глазах первобытного человека боги подвержены смерти, как все существа природные. √еты, правда, отрицают самое смерть, как уничтожение; дл€ них смерть Ч переход в иной мир и временное отсутствие. “ем не менее, божество не избавлено от необходимости этого перехода, превращени€ и восстановлени€. »х божество должно вкусить смерть наравне с людьми. Ёто представление делает впервые пон€тной и мыслимой возможность образовани€ идеи божества, как абстракции из р€да обожествленных жертв.
ѕосто€нной величиной в обр€де €вл€етс€ пентаэтерическое жертвенное человекоубиение, с целью создани€ или обновлени€ подземного благодетельного, но и страшного фактора, необходимого дл€ блага жителей земли. ћножество последовательных жертв сливаетс€ в единую божественную сущность кого-то могучего и милостивого, но также и гневного, умилостивлений требующего, живущего в преисподней, но имеющего придти назад, Ч образ, общий первоначальной религии и позднейшему фольклору, еще различимый в мифах (слав€нских и германских, как миф ифгейзера) о подземном богатыре, живущем под землей, в горных недрах, до урочной годины своего восстани€. „то жертвы гетов, как отдельные звень€ непрерывной цепи, св€зываютс€ в единую, во множестве лиц правильно повтор€ющуюс€ и преемственно дл€щуюс€ жертву, Ч она же творит и питает единое, посто€нно обновл€ющеес€, божественное начало в области загробной, Ч €вствует и из аналогии диких племен, обеспечивающих жертвенную преемственность особенного ритуала надевани€ на нового обреченного кожи, сн€той с только что убитого, Ч как это наблюдаетс€ в древнемексиканских обр€дах: здесь абстракци€ божества из обожествленных человеческих жертв совершаетс€ как бы нагл€дно пред нашими глазами.
«амечательно в обр€де гетов подн€тие жертвы на копь€. ѕочему именно на копь€? Ёто Ч символ высшей почести. ƒоселе в нашем церковном служении Ђ÷арь всехї прославл€етс€ как Ђдориносимыйї (δορυφόρος), т.е. копьеносимый, чинами ангельскими. ѕодн€тие на щите или на скрещенных копь€х означает провозглашение военачальником или царем. √етский обычай убиени€ посредством подн€ти€ на копь€, как кажетс€, св€зан с тем, общим многим первобытным народам, обожествлением цар€ и умерщвлением цар€-бога, которое истолковано ‘рейзером (James George Frazer) в его Ђ«олотой ¬етвиї. ƒл€ дикого царь Ч воплощение божества, носитель божественной силы и силы своего народа. ќн должен быть убит еще молодым, чтобы низойти в царство мертвых полным этой мощи и стать, в виде духа, не бессильным покровителем своих людей. ќбычай, изредка еще встречаемый в своем чистом виде, удержалс€ в многочисленных пережитках. ¬от что, например, было наблюдено европейцами (јкоста, по цитате в Golden Bough) у краснокожих ћексики.
Ђќни выбирали лучшего из пленников, давали ему им€ одного из своих богов, Ч ему же и обречен был он жертвой, Ч облачали и украшали его наподобие идола этого бога. ќбреченный представл€л таким образом бога в некоторых культах целый год, в других шесть или менее мес€цев. ¬ течение этого времени ему воздавались божеские почести Ч те же, что подобали представл€емому им божеству. ≈го обильно кормили, поили, и вс€чески увесел€ли. огда он проходил по улицам, толпа окружала его и оказывала ему знаки богопочтени€. ≈му приносили дары, и к нему приводили больных и немощных, чтобы он благословл€л и исцел€л их. ќн мог делать, что хотел дл€ своего удовольстви€; но за ним всюду следовали дес€ть, двенадцать человек стражи, наблюда€, чтобы он не убежал. ќн возвещал о своем приближении звуками флейты, чтобы народ готов был встретить его знаками боготворени€. огда наступал праздник и обреченный был откормлен, они убивали его и съедали в торжественном жертвоприношении. “ак, по свидетельству очевидца, один юноша, обреченный на жертву, был окружаем наслаждени€ми и всенародным поклонением, увенчиваем цветами Ч до того дн€, когда жрец возвел его наверх пирамидального храма, рассек его грудь каменным ножом, вырвал его сердце и подн€л вверх, показыва€ солнцу. √олова, как предмет особенного почитани€, была отделена от тела, а члены рассечены, сварены и съедены. “отчас затем назначен был его преемник, дл€ жертвоприношени€ следующего года, и кожа убитого была возложена на его преемника.ї
ѕодробность обр€да Ч употребление каменного ножа Ч заслуживает внимани€. –елигиозный обычай вообще сохран€ет бытовые особенности, например, утварь, Ч эпохи минувшей; все древнее считаетс€ уже по тому самому св€щенным. ќбр€д консервативен и, предохран€€ от забвени€ и замены устарелое в быте, тем самым осв€щает его. аменный нож необходим в обр€де, потому что архаичен, потому что уже анахронизм. Ќо еще первобытнее растерзание жертвы руками. ќтметим в особенности сходство мексиканского обр€да с мифом о ƒионисе-«агрее, которого «евс ставит царем мира и который затем растерзан “итанами, причем расчлененное тело его сварено в котле, а трепещущее сердце вынуто из груди и принесено «евсу; обожествление отдельной головы ƒиониса засвидетельствовано другими обр€дами.
ћы различаем в этом этнографическом аналоге религиозный принцип посто€нной преемственности
человеческой жертвы, отожествл€емой с божеством и долженствующей как бы непрерывно обновл€ть собой божественный numen (образ), питать его неугасимый огонь. Ѕожество распадаетс€ на последовательность человекобогов, слагаетс€ из неограниченного числа обожествленных чрез жертвенное убиение душ. ќбреченный, как мы видим, достигает вершины божеских и, следовательно, царских почестей. то царь, тот обречен; кто обречен, тот царь; и царь Ч бог: вот круг идей, в которых вращаетс€ мысль первобытного человека. ƒругие параллели ближе привод€т нас к изучаемой нами древности и даже пр€мо возвращают к циклу фракийских культов.
–итор ƒион ’рисостом рассказывает, что у персов в его эпоху (II в. н.э.) был странный обычай. ќдного из осужденных на смертную казнь сажали они на престол царский, облачали его в царские одежды, давали ему есть и пить и веселитьс€ вволю, предоставл€ли ему гарем царский, исполн€ли все его прихоти, а потом бичевали и распинали его. ќтголоски этого обыча€ ‘рейзер находит в предании о √амане, повешенном в праздник ѕурим, Ч которое составл€ет предмет библейской повести о Ёсфири.
Ќедавно внимание ученых было привлечено новыми данными о римских —атурнали€х, почерпнутыми из жити€ св. ƒаси€, текст которого, по рукописи ѕарижской Ќациональной Ѕиблиотеки, был издан ‘. юмоном (Fr. Cumont), известным исследователем культа ћитры. ѕо легенде, содержащей исторически достоверные частности, римские солдаты в ћезии (современной Ѕолгарии) ежегодно справл€ли —атурналии следующим обр€дом: за мес€ц до праздника они избирали из своей среды по жребию красивого молодого воина, одевали его в царскую одежду и величали царем —атурном; его окружали вс€ким почетом и доставл€ли ему вс€кие потехи и наслаждени€; когда же наступал праздник, он должен был зарезатьс€ перед алтарем —атурна. ќдин из вариантов жити€ гласит, впрочем, так: Ђон приносит себ€ в жертву, умерщвл€€ себ€ мечем, безым€нным и гнусным идоламї (ἀνωνύµοις καί µυσαροῖς εἰδώλοις). то были эти безым€нные боги? Ќе культ ли соседней северной ‘ракии перед нами в своих отдаленных переживани€х? —атурналии соответствовали дионисийским јнфестери€м, и жертва, быть может, почти чрез тыс€челетие после жертв, описанных √еродотом, совершалась тому же фракийскому ƒионису, которого первоисточник жити€ не называет, или не узнава€ его под его фракийским именем, или из ненависти к ƒионису, или потому, наконец, что древний дионисийский обычай так и не обрел имени своего бога, ведомого, быть может, только Ђпророкамї, хранител€м тайны. ќбщее между культом «алмоксиса и обр€дом —атурналий в ћезии в том, что жертва возвеличиваетс€, облекаетс€ достоинством фиктивного цар€. »здание жити€ естественно натолкнуло ученых на сближение между царем —атурналий и ’ристом, казнь которого совершаетс€ в формах фиктивного провозглашени€ царем. ¬енец, трость и багр€ница, наречение царем иудейским и надпись на кресте, самый крест, напоминающий выше упом€нутый азиатский обычай, Ч все подтверждает, по-видимому, аналогию потешного обр€да кровавых —атурналий. Ќо возвратимс€ к религии ƒиониса.
ƒл€ познани€ ее начал мы выводим из изложенного важное заключение. ћы видели, что на тризнах, откуда она проистекла, человек, надевший маску покойника, приноситс€ в жертву, обыкновенно чрез растерзание, замаскированными участниками-жрецами оргий. ќтвлечение из обр€да тризны, с фиктивной обстановкой ее жертвоприношени€, создало тип геро€, обреченного на роковую гибель и трагически гибнущего, Ч этот первообраз страдающего бога, Ђгеро€ї ƒиониса. ¬ св€зи наших последних изучений становитс€ веро€тным, что убиение человека в маске геро€ Ч только замена первоначального убиени€ самого геро€ Ч цар€ или вожд€. ѕогребенный, став богом, приобщает своей божественности и членов своей общины, так как человек, растерзанный в его маске, служит проводником и преемником той части его божественной силы, котора€ должна быть распределена между живыми причастниками жертвы. “о, что было в незапам€тные времена действительностью, обратилось в жертвенную трагедию, в обр€довое изображение героических страстей. “ак, трагеди€ эпохи исторической, представша€ нам в своих ранних и уже незапам€тных начатках в образе человеческого жертвоприношени€, совершаемого в фиктивной обстановке похоронного маскарада, восходит, быть может, в своих последних корн€х до глубоко забытой реальности каннибальского религиозного цареубийства-богоубийства.
_______________________________
|
ћетки: ƒионис √реци€ |
ƒ»ќЌ»—ќ¬џ ѕ–ќя¬Ћ≈Ќ»я |
ƒневник |
¬€чеслав »ванов
ЁЋЋ»Ќ— јя –≈Ћ»√»я —“–јƒјёў≈√ќ Ѕќ√ј. √лава V
ћифу не удаетс€ пластически и окончательно очертить ƒионисов облик. Ѕог, вечно превращающийс€ и проход€щий через все формы, Ч бог-бык, бог-козел, бог-лев, бог-барс, бог-олень, бог-зме€, бог-рыба, бог-плющ, бог-лоза, бог-дерево, бог-столп, бог-юноша, бог-муж брадатый, бог-младенец, бог-дева, бог-огонь (πῦρ εὔιον), бог-пучина морска€, бог-дождева€ влага, бог-солнце, бог-ночь и смерть, бог в колыбели, бог в гробу или в осмоленном ковчеге, брошенном в море, в горных недрах или в узком колодце, в темном озере или в болоте, бог в бедре «евсовом и в котле “итанов, бог на дельфинах, бог среди изнеженного сонма женщин и в женских одеждах, бог на корабле, или на колеснице, влекомой тиграми, или на двухколесной тележке, везомый двум€ сатирами и двум€ менадами, бог в объ€ти€х јриадны, бог в шлеме и всеоружии (на изображени€х √игантомахии), бог с лирой јполлона, бог-ловчий, бог сокровенный и исчезнувший, бог-беглец, бог обмана и веселого пр€тань€, бог-загадка, бог-голос, бог-маска, Ч этот бог всегда только маска и всегда одна оргиастическа€ сущность.
≈го многообразность и как бы текучесть не позвол€ет облечь его numen в посто€нное и устойчивое формальное представление; миф прибегает к различению многих ƒионисов, которые суть не только разные аспекты бога, как Μειλίχιος (личина из фигового дерева) и Βακχεύς (маска из ствола виноградной лозы) на Ќаксосе, Ч но и последовательные его бого€влени€ или возрождени€. ѕозднейшие мифологи уже насчитывают до п€ти различных ƒионисов, в точном определении которых, впрочем, расход€тс€. –елигиозна€ мысль не может остановитьс€ на данном звене в цепи обновлени€ бога, предчувствует и отмечает его начало в генезисе вселенной, до по€влени€ первого ƒиониса, «агре€, сына ѕерсефоны, и полагает принципиально возможным его новый приход, что логически обусловливает феномен обожествлени€ людей под его именем (νέοι ∆ιόνυσοι, напр., ƒимитрий ‘алерский, јнтоний), феномен, в котором кроютс€, быть может, корни римского культа императоров, несомненно родившегос€ в греческом мире, по-видимому в ћалой јзии, и только сменившего там культ греческих царей.
ќчевидно, миф ищет выражени€ чему-то данному изначала; и веро€тным становитс€, что не экстаз возник из того или иного представлени€ о боге, но бог €вилс€ олицетворением экстаза и как бы разрешающим и искомым видением охваченного беспредметным исступлением сонма Ђвакховї. ћожно предположить, что Ђвакхиї, как община оргиастов и как самое обозначение исступленных (βακχάς) в слове, древнее ¬акха (Βάκχος Ч Ђнеистовыйї, Ђодержимыйї, Ђликующийї), как лица мифологического.
Ќесомненно, что первобытный человек приписывает свои душевные переживани€ божественной силе, в него всел€ющейс€ и его одержащей; в этом смысле бог дан одновременно с исступлением. Ќо от этого неопределенного обожествлени€ оргийной силы еще далеко до мифологической концепции ƒиониса. ѕервоначально, божество дионисийской общины Ч secretum illud quod sola reverentia vident, как говорит “ацит о божестве германцев (Ђименами богов означают они то тайное, что вид€т только глазами веры и почитани€ї), следовательно, быть может, нечто менее широкое, правда, по объему пон€ти€, но однородное, например, с полинезийским божеством ћана, о котором ћакс ћюллер говорит, со слов путешественников: Ђэто сила или вли€ние сверхматериального пор€дка и, в некотором смысле, сила сверхъестественна€; но она открываетс€ в силе материальной и во вс€кого рода могуществе человеческом. ћана не сосредоточиваетс€ в одном предмете, но может быть проводима в каждый предмет. ќбладают ћаной духи, будь то души, отделенные от тела, или сверхъестественные существа. ¬с€ религи€ этих дикарей в том, чтобы овладеть ћанойї.
Ћюбопытно, что миф о ƒионисе никак не может покрыть собой весь круг дионисийских €влений, Ч признак, что миф Ч только попытка дать им, уже внутренне определившимс€, объ€снение этиологическое. Ќапример, дионисийское безумие не объ€снено мифом. „асто прибегает он, дл€ его оправдани€, к мотиву гнева √еры. Ќаконец, при участии идей малоазийской религии ибелы, возникает упоминаемое ѕлатоном св€щенное предание (λόγος), по которому сам ¬акх €вл€етс€ жертвой насланного √ерою безуми€ (¬акх, приезжающий на осле в ƒодону, чтобы излечитьс€ от безуми€), отчего он и насылает в свою очередь на людей вакхические исступлени€ и восторги. ѕо јполлодору (III, 5:1) и ёлиану, ƒионис излечиваетс€ от безуми€ фригийской матерью Ч ибелой.
ƒионис умирает вечно и умирает насильственно. ≈сли “итаны умертвили первого ƒиониса, то кто и как убил сына —емелы? —оздаетс€ поздний миф об убиении ƒиониса ѕерсеем; отчего, по общему закону отождествлени€ убийцы и жертвы, ѕерсей €вл€ет черты ƒиониса: он Ч жертва меланхолического безуми€.
ƒионисийский миф до такой степени недостаточен дл€ объ€снени€ культовых €влений дионисийского цикла, что у ѕлутарха, чтител€ ƒиониса, мы встречаем (de def. orac. 14) следующее неожиданное за€вление: Ђ“оржества и жертвенные служени€, в которых мы находим омофагии Ч пожирание жертвы сырьем Ч и растерзани€, посты и плачи (постились орфики после омофагии, плачи нам известны из характеристики ночных триетерий), часто же хулени€ и исступлени€, и, как говорит ѕиндар, кликани€ с сильным отбрасыванием головы (черта, повтор€юща€с€ в радени€х дервишей), Ч эти торжества и жертвоприношени€ совершаютс€, по моему мнению, не в честь кого-либо из богов, но с целью отвращени€ злых демонов. » все то, что в гимнах и мифах рассказываетс€ о божественных похищени€х, блуждани€х, пр€тани€х, побегах и подневольных службах, Ч все это не страсти богов, а демоновї. √реческое мифотворчество не смогло пластически преодолеть и властно очертить хаотической стихии оргиазма, отчасти чуждого эллинскому гению по своим историческим корн€м, отчасти коренившегос€ в темном демонизме народных масс и естественно т€готевшего к формам, аналогичным шаманству, нашей хлыстовщине и средневековому сатанизму.
»ща определить содержание религиозной идеи, которую мы можем полагать первоначальной в эллинском оргиазме, прежде всего должны мы исключить представление о божественности вина или опь€нени€ чрез вино из первого и исходного круга дионисийских созерцаний. онечно, не вино было обожествлено в ƒионисе, как это может казатьс€ веро€тным хот€ бы из мифа об »карии. √омер знает вино как усладу и как существенную часть жертвы богам и душам умерших, но бога вина не знает. ƒалее, элементы культа, отмеченные печатью €вной первобытности, естественно признать в составе ƒионисовой религии и наиболее древними; но среди этих элементов мы не находим опь€нени€ вином, ни вообще опь€нени€ физического; мы встречаем исключительно психические аффекты; питанием же исступленных €вл€ютс€ сырое м€со и гор€ча€ кровь.
ѕравда, вино было рано оценено оргиастами, как могущественный стимул исступлени€. ‘ракийцы опь€н€лись несмешанным вином, брагой и наркотиками Ч курени€ми из конопл€ного семени. »х пророки прорицали Ђобильно вкусив винаї, по словам ћакроби€. «агробное блаженство рисовалось их воображению, как состо€ние вечного опь€нени€. »значала хранились в греческой пам€ти и обще-арийские представлени€ о живой влаге, дающей бессмертие богам, Ч амброзии. ƒионис, бог опь€ненных душ, вобрал в себ€ и реализовал в вине, любезном оргийной общине, этот идеал растительной крови, текучей и огневой божественной души. ћы увидим, что он рано стал божеством растительности, цветени€ и обили€ земного: лозу винограда возлюбил он выше всех произрастаний земли. ≈го страдающа€ и жертвоприносима€ сущность была узнана и в винограде: в страст€х растаптываемых гроздий, в мученичестве обрезаемых ножом виноградар€ лоз увидели повторение страстей бога. ќргиазм изначальных радений нашел свое отражение в упоенном буйстве праздников виноградного сбора. Ћичина оргиастов пришлась к лицу виноградар€м. Ѕыл обретен новый, более общий и простой, менее ужасный, менее опасный аспект глубокой и мрачной веры.
¬ этой св€зи пон€тной становитс€ аномали€ ƒионисова имени. Ёта аномали€ в том, что оно, по-видимому, compositum (Ђсложное, составноеї), и при том, как кажетс€, образовано чрез сложение с именем «евса, ƒи€ (Διός gen. к Ζεύς). ≈го толковали: Ђсын «евсаї, Ђвлага «евсаї, Ђгнев «евсаї; можно было бы прибавить к этим этимологи€м столь же сомнительную: Ђсила, или вол€, «евсаї, вид€ в νῦσος корень numen (Ђкивком головы выраженный знак, мановение, вол€, повелениеї), от νεύω (Ђподавать знак, киватьї). ≈сть толкование: Ђдвухкопытныйї; отдельно сто€т неубедительные словопроизводства из семитических €зыков и санскрита. Ќадпись на одной вазе ∆IΟΣ ‘ΩΣ (∆ιὸς φώς Ч Ђпотомок «евсовї) над изображением ¬акха, подкрепл€ет мнение о присутствии в имени бога элемента «евсова имени. »так, Ђмногоименныйї бог не имеет своего имени. Βάκχος (Ђ¬акхї) Ч им€, характеризующее шум и бурю оргий, как и фракийское Σάβος, по-видимому, раньше означало вакхантов, нежели бога ¬акха. Ќе име€ соответственного имени, ƒионис заимствует им€ у отца, ƒи€. ƒифференцированное из «евсова имени им€ ƒиониса обличает дифференциацию самого пон€ти€ из пон€ти€ «евса.
¬ самом деле, оргийные культы исключительны. Ѕлизость оргиастов к своему богу преп€тствует им знать или признавать других богов. ќргиастические религии т€готеют к монотеизму. Ѕог, которому служит така€ община, есть единственно доступный ей аспект божества, следовательно Ч бог в его высшем и наиболее общем виде Ч «евс. »м€ ƒиониса, столь абстрактное, возникло как отвлечение божественной силы оргий, дл€ различени€ от других божеств и в силу необходимости стал к ним в определенное отношение. ѕервой же порой обожествлени€ оргийной силы был период означени€ ее простым именем высшего бога.
»скусственность имени ƒиониса и как бы конкуренци€ с этим именем других имен выдают долгие поиски за словесным ознаменованием божества и, следовательно, за его определением догматическим и его пластическим образом. ритский бог двойного топора и человеческих жертв, предшествующий на рите ƒионису-ќмадию, есть критский «евс. „то этот «евс Ч ƒионис, €вствует и из оргиастического характера его культа и мифического института куретов, и из того, что €вл€етс€ в аспекте бога умирающего. ≈го оплакивали, как ƒиониса, считали богом јидом (Ζεῦς ἤ Ἅιδης ὀνοµαζόµενος στέργεις, по ≈врипиду), как и ƒиониса, про которого √ераклит говорит, что его оргии совершаютс€ в честь јида. ≈го культ был культ хтонический. ≈го гроб на рите (гроб «евса Ч нелепость с точки зрени€ общегреческой) был известен издревле, и результаты новейших раскопок согласны с древней локализацией культа этого умершего «евса. ”же ќдиссе€, повеству€ о собеседовани€х ћиноса критского с «евсом, намекает на »дейскую пещеру, как жилище подземного бога. ѕрирода этого критского служени€ и его ближайшее родство с дионисийством выступают в фигуре крит€нина Ёпименида, пророка, не раз переживавшего в »дейской пещере долгие экстазы отделени€ души от тела, Ђмудрого в вещах божественных мудростью энтузиастическойї (по выражению ѕлутарха), великого очистител€ јфин от мести подземных божеств и религиозного реформатора очищенного им города. ћы уже встречали Ђбога двойного топораї в лице ƒиониса-человекорастерзател€ на “енедосе. ¬от намеки на первоначальное почитание ƒиониса среди греков под неопределенным именем «евса или, точнее, без вс€кого имени. Ќе даром ритор поздней поры, јристид говорит: Ђ—лышал € и другое предание, что сам «евс Ч ƒионисї. » если мы заподозрим это за€вление в религиозном синкретизме или философской теокразии (θεοκρασία, богосмешение), то формальный культ «евса-¬акха (Ζεῦς Βάκχος) в ѕергамоне, засвидетельствованный эпиграфически, показывает, по-видимому, нечто большее: здесь теокрази€ кажетс€ нам имеющей свои корни в древнейшей религиозной идее и свои традиции во фригийском и пафлагонском культе «евса, умирающего зимой и воскресающего весной, т.е. ƒиониса с именем «евса.
»менно потому, что бог жертвенного страдани€ не имеет имени и лица, так легко, так логически возможно его облечение во многие лица, µορφαί ∆ιονύσου, лики, или формы, ƒионисовы. ќн бог-Ђгеройї (ἥρως) вообще, как бог умирающий, и при том страстнόю смертью; и оттого издревле его божество ипостазируетс€ во многих геро€х, единое под разноликими масками судьбы трагической. ћы видели р€д примеров такого ипостазировани€; умножим этот р€д, не прит€за€ исчерпать его, несколькими другими примерами.
ќдно из древнейших свидетельств о трагических хорах есть свидетельство п€той книги √еродота о сикионцах. Ђ—икионцы, Ч говорит он, Ч чтили јдраста и славили его страсти (πάθεα) трагическими хорами, ƒиониса не чт€, а чт€ јдраста. лисфен же (тиран сикионский) возвратил (ἀπέδωκε) хоры ƒионису, а остальной культ, принадлежавший дотоле јдрасту, отдал ћеланиппуї. ƒело в том, что јдраст был герой аргивский, а лисфен, из политических соображений, хотел отвратить свой народ от традиций, св€зывавших его с јргосом. Ќе зна€, что ему делать с внедрившимс€ в —икионе почитанием геро€ јдраста, он спрашивает о том в ƒельфах; но оракул защищает јдраста. “огда тиран надумал добыть из ‘ив фиванского геро€ ћеланиппа, вывез, с разрешени€ фив€н, гроб его и построил ему в —икионе храм. “ак культ геро€ ћеланиппа зан€л место культа јдрастова. “рагическим же хорам тиран указал прославл€ть не јдрастовы страсти, а ƒионисовы. «амена, очевидно, была возможна только при условии внутреннего родства или аналогии между замен€емыми культами. “рагические хоры имели своей общей и принципиальной задачей служение ƒионису; между тем они изображали судьбу јдраста. Ќе был ли јдраст только одним из местных обличий ƒиониса? –ассматрива€ дошедшие до нас мифологические данные об јдрасте, мы убеждаемс€ в присутствии в его облике черт самого ƒиониса, как бога хтонического. јдраст Ч дионисийский герой, или ипостась ƒиониса. ≈го отличительный атрибут в мифе Ч быстрый конь јрион (Ἀρείων), Ђбожественный јрион, ведший свой род от боговї, именно рожденный от ѕосейдона и Ёриннии, следовательно Ч черный; черный цвет принадлежит дионисийской символике, и Ђчерновласыйї (κυανόθριξ, κυανοχαίτης) Ч эпитет јида. «лой враг јдраста Ч ћеланипп (Μελάνιππος); что значит Ђчерноконныйї. ћеланипп убивает его близких и чуть не умерщвл€ет его самого, но волшебный адский конь его уносит геро€ из сечи; чтό, однако, только обычное символическое означение героической смерти. »так, герой черного кон€ умерщвл€етс€ своим же враждебным двойником, Ч черта, возможна€ только в знакомом нам круге дионисийских представлений о жреце и жертве.
Ћичность јдраста вообще отмечена чисто дионисийской трагикой: он вынужден предприн€ть поход против ‘ив, хот€ наперед знает о роковом исходе войны. ¬прочем, при состо€нии наших источников, мы не располагаем всеми элементами первоначального трагического мифа.
ќбраз јристе€ (Ἀρισταῖος), как ипостаси ƒионисовой, не менее прозрачен. ќн, прежде всего, представл€ет аспект ƒиониса как бога пчел и меда; ибо ¬акх столь же бог меда, сколь вина. ќднако јристей Ч и виноградарь. ¬ —ицилии он почитаетс€ в одном храме с ¬акхом. ќн преследует Ёвридику, котора€ умирает в бегстве от укуса змеи: здесь јристей-ƒионис €вл€етс€ и ƒионисом-јидом. ќн сопричислен к ƒионисову сонму (по другим, он Ч сын ƒиониса) и восхищен в гору √емос (Αἷμος), во ‘ракии, где живет под землей, т.е. делаетс€, как ƒионис, претерпев смерть, божеством подземным (Ђсмертный не счастливый по страст€м своимї (θνητὸς οὐ µάκαρ παθέεσσι), как означает его в одном стихе √ригорий Ќазианзин).
’арактеристичен благородный –есос (Ῥῆσος), сын ћузы, коварно убитый под “роей ќдиссеем и ƒиомедом, €вл€ющимис€ Ђкак волкиї, т.е. в личине волков, и поселенный также под землей, во фракийском (дионисийском) ѕангее (Παγγαῖος), как жрец ƒионисов. ’арактеристичен виноградарь и друг ƒиониса Οἰνεύς, сын ‘ити€, сына ќресфе€, Ч чь€ собака (символ лета)¹ рождает виноградную лозу. ’арактеристичен и сын его (или јреса) и дионисийской јлфеи, ћелеагр (Μελέαγρος), жизнь которого св€зана с волшебной головней; мать сжигает головню, негоду€ на сына за убийство ее братьев, и жизнь его сгорает одновременно: быть может, Ч ипостась ƒиониса, как факела ночных оргий, тризн по боге умершем. ќт ќресфе€ до ћелагра дионисийска€ филиаци€ обличаетс€ самыми именами; подобной же филиацией св€зана с ƒионисом менада јнтиопа, дочь Ќикте€ (Νυκτεύς, Ђночнойї),² которого друга€ дочь Ќиктимена (Νυκτιμένη, Ђночна€ї)³ замужем за ѕолидором (Πολύδωρος, Ђмногодарныйї Ч им€ божества хтонического). ’арактеристичен своими Ђстраст€миї (πάθη) ѕаламед (Παλαμήδης), засыпанный в колодце камн€ми, как его дубликат јнтей (Ἀνταῖος, одно из имен ƒиониса), погибающий в колодце.
_________________________________
[1] Κύναστρον (Κύν-αστρον) τό ѕесь€ звезда, т.е. —ириус Arst.
[2] Νυκτέλιος 2 прославл€емый в ночных празднествах (эпитет ¬акха) Plut., Anth.
[3] »м€ Νυκτιμένη несЄт в себе не однозначное прочтение. »ванов читает это им€ как Ђночна€ї (дословно Ђночью €вл€юща€с€ї, νυκτός + ἴμεν). ќднако это им€ можно разложить и иначе: νυκτι-μένος. ¬ этом случае им€ Νυκτιμένη несЄт в себе не только определение Ђночна€ї или даже Ђмрачна€ї (νύκτιος), но и Ђгневна€ї (μένος). роме того, им€ Νυκτιμένη может €вл€тьс€ искажением от νύκτιος μήνη Ч подобное словосочетание (νύκτερος μήνη) можно найти у Ёсхила (ἃς οὔθТ ἥλιος προσδέρκεται ἀκτῖσιν οὔθТ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ).
μήνη, дор. μήνα ἡ луна (ἡ νύκτερος μήνη. Aesch.; σέλας μήνης Hom.);
Μήνη ἡ ћена (богин€ луны) HH., Luc.
Ќо не только во многих ликах героев €вл€етс€ единый лик ƒиониса: он же просвечивает и в некоторых божествах, например, в јресе, боге дионисийских фракийцев. –€д общих черт св€зывает ƒиониса и јреса. Ѕыло даже предание, что јрес Ч отец ƒиониса: указание на первоначальное культовое единство. јрес Ч Ђбезумныйї (µαινόµενος), как ƒионис. ≈му служат женщины (γυναικοθοίνας, как ƒионис Ч γυναικοµανής). ќн бог воинских кликов (Ἐνυάλιος), как ƒионис. “рагеди€ Ђ—емь против ‘ивї, трагеди€ воинственного пафоса и упоени€ јресом, признана древними Ч Ђполной ƒионисаї. ƒионис €вл€етс€ в шлеме и всеоружии. јрес и ƒионис Ч равно хтонические боги.
»так, оргиастическа€ иде€ ƒионисовой религии воплотилась в лице ƒиониса только после долгих поисков за божеством и именем, ей адекватным; и даже по возникновении ƒиониса-лица она как бы еще выходила за кра€ найденного ею вместилища, перелива€сь в культы иных, уже обособившихс€ божеств и создава€ р€д дифференцированных подобий и повторений ƒиониса. Ќо если первоначальное в вакхической религии есть оргиастическое служение, открывшеес€ нам как служение жертвенное, и если жертва древнее бога, то что же обусловило самое жертву?
—уществует мнение, по которому мотивом оргиазма дионисийского €вл€ютс€ Ђрастительные чарыї (vegetationszauber), т.е. заклинание духов растительности, магическое пробуждение природных сил, путем обр€дового воспроизведени€ их демонически-оргийной жизни, к их высшей де€тельности, потребной человеку, завис€щему от земного плодороди€. ќсновани€ми этому мнению служат, с одной стороны, аналоги€ сельского оргиазма у разных народов, с другой Ч св€зь ƒиониса с миром растительным. “о и другое основание недостаточны. –елиги€ ƒиониса не есть религи€ сельска€. Ќапротив, в формах своего оргиазма (а мы должны искать ее корней именно в оргиазме), это Ч зимн€€ религи€ горных высей, снежных стремнин, бесплодных круч и диких ущелий, или же Ч в частном своем аспекте Ч религи€ влажных, болотистых, бесплодных низин. ѕриуроченна€ только впоследствии к культу винограда и плодовых деревьев, она никогда не имела пр€мого отношени€ к посеву злаков. ѕочитание дерева и растительной жизни вообще принадлежит, правда, к древнейшим ее элементам; но это по преимуществу культ горных зарослей, ели, сосны, дуба и, прежде всего, дикого плюща. —ельский оргиазм других народов целесообразен; его маги€ служит потребност€м практическим. “рудно отыскать что-либо подобное в дионисийском оргиазме.
¬месте с тем, цела€ обширна€ область дионисийских €влений, не име€ ничего общего с идеей растительности, €сно выдает свое отношение к идее загробного существовани€ и к культу сил хтонических, или подземных. Ёту-то сферу религиозных представлений и действий, наравне с внутренне-родственной ей сферой религиозных представлений и социологических €влений, св€занных с идеей пола, и должно, по нашему мнению, считать первоначальной в дионисийском оргиазме. ќтношение к растительности было только выведено из хтонической стороны ƒионисова служени€.
—видетельства изобилуют. ѕрежде всего, это религи€ бога умирающего и погребенного, т.е. нисход€щего в свое подземное царство. ”мирает сам ƒионис, и умирают, или нисход€т в преисподнюю, его бесчисленные двойники, его отражени€, ипостаси или личины. “ак, по одному местному аттическому преданию, ƒионис ищет дороги в јид и просит некоего ѕросимна указать ему путь. “от соглашаетс€, с тем чтобы ƒионис, вернувшись на землю, наградил его своей любовью. Ќо возвратившийс€ ƒионис уже не застает ѕросимна в живых. ¬ пам€ть о друге он воздвигает на его могиле фиговую ветвь, символ пола. ƒионис вызываетс€ наверх (ἀνακαλεῖται) в Ћерне, причем черную овцу бросают в озеро, в жертву ѕилаоху (ѕυλάοχος) Ч јиду-¬ратнику. ƒионисийские празднества соединены с поминками: ‘еодэсии, Ћенэи, јнфестерии, јпатурии, дельфийские √ероиды, Ќекисии в јргосе.
ƒионис зоветс€ χθόνιος, µειλίχιος, νυκτέλιος, Ἅιδης, καθηγεµών, как божество преисподней, и величаетс€ р€дом эвфемистических имен, свойственных богам подземного царства, общим гостеприимцам, равно распредел€ющим дары, богатым и обогащающим владыкам (χαριδότης, ὀλβιοδότης, ἱσοδαίτης). ќн герой (ἥρως) и царь душ (ἄναξ), Ζαγρεύς Ч сильный охотник. ≈го символика Ч символика хтонических божеств, пурпуровый и черный цвета, гранатовое €блоко, ковчег. ” фракийцев, где дионисийска€ религи€ €вл€ет свою древнейшую форму, это бог мертвых. ќттого геты, οἱ ἀθανατίζοντες, по выражению √еродота, вер€т в бессмертие, вечную жизнь со своим богом. Ђ авзианцы плачут при рождении человека, и радуютс€ об умерших, как обретших покой от многих золї. ‘ракийцам единогласно приписываетс€ древними appetitus maximus mortis. ≈ще в одной поздней надписи, найденной близ ‘илиппов, умерший мальчик напутствуем молитвами родных на цветущие луга ƒионисовы, где будут утешать его нимфы и сатиры божественного факелоносного сонма. ¬ исторической √реции св€зь ƒиониса с культом умерших все более затемн€етс€; но никогда не перестает он утверждатьс€ как божество хтоническое.
≈сли же св€зь с культом душ первоначальна в ƒионисовой религии, естественно предположить, что моменты оргиазма были приурочены прежде всего к тризне и поминкам, как и дионисийские празднества исторической √реции, так часто сопровождаемые поминками по умершим, суть или тризны по ƒионису, или ликовани€ о смерти, им преодоленной. Ётот вывод, как покажет последующее изложение, освещает характернейшие черты оргийных служений: самый феномен оргиазма и его особенную обстановку; человеческие жертвы; растерзание жертв; роль маски в ƒионисовом культе; наконец, отношение этого культа к религиозному началу пола.
___________________________
–ассмотрев мистику дионисийского служени€, мы установили двойной принцип ее: отождествление бога с жертвой и с жертвователем. ќргиастическа€ община, соедин€юща€с€ дл€ жертвы, определилась как временна€ коллеги€ жрецов; но так как жрец и жертва равно представл€ют самоотчуждающеес€ и страдающее божество, эта община открылась нам в то же врем€ и как коллективна€ жертва. –елиги€ страдающего бога самоутверждаетс€ в этой исконной мистике отождествлени€. –астерзание бога-жертвы оргиастами, т.е. переход жертвы в лиц, ее растерзавших, и чрез то пресуществление жрецов в жертву Ч вот первичный символ этой религии разрыва и разлуки, разрешени€ всех уз и всех св€зей, трагических экстазов убийственного расторжени€ и тоски по утраченном единстве. ≈е древнейша€ стихи€ обнаруживаетс€ в первобытно-каннибалическом имени страдающего бога: Ђ–астерзатель человековї. » та же стихи€ неизменной €вл€етс€ нам в изречении позднего мистика, неоплатоника ѕрокла: Ђ–азъ€тие или расторжение Ч начало дионисийское; гармоническое соединение Ч начало аполлонийскоеї. лимент јлександрийский (Str. 1, 13, p. 128) не простирает своего отрицани€ ƒионисова культа на данную в этом культе мистическую идею расторжени€: Ђ» варварска€ и эллинска€ философи€ видит вечную истину в некоем расторжении, расп€тии, Ч не том, о котором говорит мифологи€ ƒионисова, но о котором учит теологи€ вечно сущего Ћогосаї.
“ак, религиозна€ иде€, составл€юща€ предмет нашего изучени€, осталась верной себе до конца. Ќа ее примере мы можем проверить всю справедливость замечани€ Ёрвина –оде о греческой религии: Ђ√реческа€ религи€, Ч говорит он, Ч как религи€ не установленна€, а органически возникша€, не могла выразить в пон€ти€х мыслей и чувств, определивших ее внутреннее содержание и внешний облик. ќна была представлена одними св€щеннодействи€ми. Ќет в ней и св€щенных книг, из коих можно было бы уразуметь глубочайший смысл и св€зь идей, обусловивших отношение эллина к божественным силам, созданным его верой. ƒомыслы и вымыслы поэтов сплетают свой хоровод вокруг пребывающего неизменным зерна народного веровани€, которое, несмотр€ на недостаток логического развити€ религиозных представлений, или, быть может, именно вследствие этого недостатка, с достойной удивлени€ верностью сохран€етс€ в своем исконном своеобразииї (предисловие к 1-му изд. Ђѕсихеиї).
ћы искали распознать первоначальные черты дионисийской религии, и она предстала нам в образе первобытного каннибализма. ¬ том сложном составе, в каком мы застаем в историческую эпоху эту мистическую, т.е. на идее единени€ с божеством основанную религию, Ч первичными элементами мы признали элементы оргиазма мистического, растерзани€ человеческой жертвы. ћы видели, что жертва древнее бога и что бог только обожествление жертвы; что первоначально дионисийска€ община не знает ни имени своего бога, ни его истории или св€щенной легенды, что бог общины не разнитс€ именем от ее членов и не имеет определенного лица, что община различает в нем только черты бога растерзанного, бога страдающего: миф должен еще только открыть, изобрести страсти бога, данного изначала страдающим. »ща происхождени€ этого мистического оргиазма, мы отстранили прежнее выведение его из культа вина, как источника состо€ний экстатических, как отстранили и выведение его из энтузиастического сочувстви€ состо€ни€м и страст€м природы, мыслимой как существо живое, ее периодическому цветению и отцветанию, умиранию и возрождению. ћы отклонили, наконец, и гипотезу о св€зи дионисийской религии с весенними заклинани€ми, облекающимис€ у многих народов в формы оргиастические: эта св€зь допустима только дл€ немногих и при том не первоначальных частей сложного феномена, нами изучаемого; как религи€ ƒиониса, в своей исконной сущности, Ч не религи€ земледельческа€ и даже не пастушеска€, а скорее охотничь€, так и оргиазм ее лишен практических целей полевого магизма. ¬ иной обширной области €влений дионисийского культа, в области, не имеющей пр€мого и изначального отношени€ к идее силы растительной, хот€ и тесно св€занной с ней исторически отношени€ми производными, усмотрели мы коренное досто€ние ƒионисовой религии: это Ч область культовых €влений почитани€ мертвых и общени€ с силами царства подземного. “огда оргиастическое служение и жертва дионисийска€ раскрылись нам, прежде всего, как обр€д и жертва первобытных тризн.
Ќе подлежит сомнению этнографический факт, что тризны составл€ют моменты наивысшего подъема и напр€жени€ в психической жизни первобытных племен и как бы горную зону, где всего чаще и сильнее разражаютс€ ее глухо назревающие грозы: тризна оргийна искони и по существу. ќграничимс€ одним, но весьма характерным по степени приближени€ к аналогическим €влени€м ƒионисовой религии примером Ѕатлока, плем€, живущее в северной части “рансваал€, ежегодно справл€ет праздник в честь умерших. удесники, спр€тавшись, извлекают из флейт странные звуки, которые народ считает за голоса духов. Ђћодимо здесьї, говорит толпа. ѕодобным же образом, в ночные часы фракийских радений, по уже выше рассмотренному свидетельству Ёсхила в трагедии ЂЁдоныї, скрытые Ђмимы ужасаї воспроизводили, среди завывани€ флейт, ревы невидимого быка, которые, €вл€€сь признаком приближени€ бога оргий, способствовали возбуждению всеобщего экстаза (–оде, Ђѕсихе€ї).
»злишне настаивать также и на том общеизвестном факте, что древнейшие тризны не обход€тс€ без человеческих жертв. Ќа костре ѕатрокла, по √омеру, принесены в жертву тени геро€ двенадцать тро€нских юношей. ќ жертвенной смерти доблестных жен на похоронах мужей говор€т мифы об Ёвадне, Ћаодамии, ѕанфии. ѕоликсена приноситс€ в жертву на могиле јхилла. “арквиний гордый умерщвл€ет, по одному преданию, в жертву душам предков, Ч детей.
√реки раздел€ли общенародное верование, что души умерших всел€ютс€ в живых, при условии вкушени€ от покинутой ими плоти и ее крови: дл€ подтверждени€ этого мнени€ философ ѕорфирий ссылаетс€ на древнего ‘ерекида. јполлоний “ианский исцел€ет одержимого отрока, изгон€€ из него дух одного павшего в битве воина, им владевший.
¬ греческом мифе растерзани€, многожды засвидетельствовано, отношение к культу душ. ѕерсефона, богин€ теней, растерзывает ћинфу. ƒух јхилла, по ‘илострату, разрывает на части отданную ему рабыню. Ћевкона (бела€), жена охотника ианиппа (Κυάνιππος, Ђчерноконныйї), т.е. «агре€, разорвана собаками мужа. Ќесомненно, что представление об адских псах, раздирающих труп, собаках √екаты, имеет св€зь с отдачей трупа в добычу псам или волкам (обычай, например, тунгусов); что у √омера мы встречаем, естественно, только в применении к вражеским трупам. Ќо не случайно, что собаки јртемиды разрывают јктеона, ƒиониса мес€ца ≈лафеболиона и вместе ƒиониса хтонического, Ђдикого охотникаї (на что указывает его закованный идол, описанный ѕавсанием в дев€той книге и подобный идолу ƒиониса в оковах): эти собаки, конечно, только девы, спутницы богини, хтонической охотницы, преследующие јктеона так, как Ђсобакиї-менады разрывают там же, на ифероне, тайно приблизившегос€ к ним дионисийского геро€ ѕенфе€. Ёриннии, образ которых сложилс€ из черт знакомых нам по типу охваченной убийственным исступлением менады, Ч безумные, потр€сающие факелами, зме€ми увенчанные девы-Ёриннии зовутс€ собаками у Ёсхила и у других писателей, гон€тс€ за преступником, как ловчие псы за дичью, и нюхают воздух, привлекаемые запахом пролитой свежей крови. ƒревн€€ эпидемическа€ болезнь воображаемого превращени€ в собак, несомненно, развилась в √реции в св€зи с оргиастическим обычаем преследовани€ жертвы, обреченной подземным силам, женщинами, изображавшими охотничьи своры. ¬ампиризм и вурдалачество углубл€ютс€ своими корн€ми в эту темную эпоху оргийных тризн и утверждаютс€, как определенно характеризованное фольклором €вление, в пору разложени€ древнейшего оргиазма.
¬ 24-й песни »лиады, √екуба говорит своему супругу, ѕриаму, отговарива€ его идти с дарами в стан јхилла дл€ выкупа тела √ектора:
„тобы пон€ть до конца слова √екубы, нужно уловить в ее каннибальском вожделении (которое в »лиаде, конечно, не проста€ риторическа€ фигура) противопоставление с собаками, раздирающими тело ее сына. Ѕыть может, в первоначальной, догомеровской версии √екуба говорила еще определеннее: Ђ“еперь √ектора разрывают псы, а јхилл на то любуетс€; о, если бы мне быть собакой (т.е. изображать собаку) на тризне √ектора, где јхилл был бы обреченной на растерзание жертвой!ї. „уткий миф подтверждает такое толкование. √екуба €вл€етс€ в поэме Ћикофрона в образе собаки. √еката обращает ее (√екубу) в одну из своих спутниц, устрашающих ночным лаем людей, не отмолившихс€ жертвами от гнева подземной богини. —обаки на рельефных изображени€х саркофагов принадлежат, очевидно, той же сфере религиозных представлений. еры, первоначально души умерших, впоследствии божества смерти, зовутс€ собаками јида. ѕо √есиоду, еры пьют человеческую кровь.
ќргиастическа€ женщина тризн, женщина-собака или волчица могил, должна была предстать народному воображению и в образе вампира, как героин€ гоголевской повести Ђ¬ийї, где литературна€ обработка, к сожалению, затемнила много €рких черт исконного мифа. ќвидий в Ђ‘астахї передает римские заклинани€ против strigae (колдуний), высасывающих кровь детей во врем€ их сна: молодое животное замен€ло детскую жертву, сердце отдавалось за сердце, внутренность за внутренность, душа за душу. ак растерзание жертвы, ее съедение, выпитие ее крови, так и детское жертвоприношение св€зываютс€ с оргиазмом тризн. Ёто €вствует, по крайней мере, из римских параллелей. ѕоследнему “арквинию народна€ ненависть приписывала детские жертвоприношени€ Ћарам. ѕо ћакробию, куклы привешивались к двер€м римских домов, как замена детской жертвы царице ћанов. ќргиастическое вдохновение и дар пророческий, свойственный менадам, иногда €вл€ютс€ св€занными с выпитием крови. “ак, жрица √еры јкрейской, еще в эпоху ѕавсани€, пророчествовала, напившись крови; и мы вправе отнести это свидетельство и к менадам, потому что тип пророчествующей и боговдохновенной женщины вообще возник в лоне ƒионисовой религии.
___________________________
Ќо если к культу умерших свод€тс€ столь исконные черты этой религии, как жертвенное человекорастерзание, пожирание сырой плоти и кровопийство, Ч как должно судить об элементах древопочитани€, также, несомненно, составл€ющих древнейшую черту дионисийского оргиазма?
ƒионис Ч бог древесный (δενδρίτης, δενδρεύς), в древе обитающий (ἔνδενδρος), лесной (ὑλήεις), бог густых зарослей (δασύλλιος), обильной растительности (φλεών, φλοῖος). Ђƒревá радостный ƒионис да возращаетї, Ч молитс€ ѕиндар. Ђ¬акхї Ч молодой побег ели на праздниках ƒионисий. Ќам знакомы по вазам изображени€ древесного ствола, облаченного в одежды бога. »ногда маска ƒиониса прикреплена к верхней части ствола, так что ветви кажутс€ выросшими из его головы; алтарь с дарами стоит перед деревом. ‘иванский ƒионис Περικιόνιος Ч дерев€нный столп, увитый плющом. ¬акх воспитываетс€ в раю Ќисы, или в Ђсаду ƒионисовомї (∆ιονύσου κῆπος). “ем не менее, выводить весь дионисийский феномен из первобытного древопочитани€ оказываетс€ невозможным. ульт деревьев имеет вполне самосто€тельное значение в греческой религии и обнимает гораздо более широкий круг, нежели почитание ƒиониса. “ак, в поэмах √омера он €вл€етс€ без вс€кого отношени€ к этому богу. ѕо √есиоду, нимфы гор и лесов (ќреады, ƒриады, √амадриады) рождены ћатерью-√еей вместе с горами и лесами: св€зь их с √ермесом, јполлоном или ѕаном теснее их св€зи с ƒионисом. — другой стороны, религи€ ƒиониса неизмеримо шире по своему объему, чем древопочитание дионисийское. ќчевидно, два религиозных круга, име€ разные центры, покрывают друг друга только в некоторых своих част€х.
ƒионисийска€ религи€ сочеталась очень рано с культом древесных душ. Ёто взаимоотношение становитс€ €сным, если мы будем держатьс€ гипотезы о возникновении вакхического оргиазма из оргиазма тризн. ƒерево, один из первоначальных фетишей, рассматриваетс€ как обиталище душ человеческих, отделенных от тела. ƒионис также признаетс€ как бы мертвым или погребенным в дереве. ≈сли на Ќаксосе две маски ƒиониса сделаны из дерева, одна Ч из смоковницы, друга€ Ч из лозы виноградной, то оба фетиша имеют значение как бы мощей бога; уже то обсто€тельство, что это были маски, указывает на их назначение представл€ть собой бога умершего. ћенады опрокидывают горную сосну, и коринф€не, следу€ повелению дельфийского оракула чтить эту сосну, Ђкак ƒионисаї, вырезают из нее два идола бога: эта умерша€, говор€ €зыком древних, сосна есть бог умерший. ќтсюда и культ ковчегов со скрытыми в них изображени€ми ƒиониса. „то ковчег, гроб бога Ч дерево, видно из мифа об ќсирисе, где этот, отождествленный с ¬акхом, бог €вл€етс€ поистине с чертами ¬акха: ибо древопочитание вообще чуждо религи€м ≈гипта. ƒерево ἐρείκη (Erica arborea) принимает в себ€ гроб с телом ќсириса; »сида срубает дерево и обретает тело; богин€ завещает чтить ковчег-дерево, и оно служит предметом культа в Ѕиблосе, еще в эпоху ѕлутарха.
ƒионис Ч дерево постольку, поскольку мифические лица, превращенные в деревь€, Ч действительно деревь€. ѕо представлению первоначальному, это души умерших, вселившиес€ в деревь€, как ƒафна Ч лавр, юноша ипарис Ч кипарисное дерево, јттис Ч сосна, ‘илемон и Ѕавкида Ч два сплетшиес€ ветв€ми дуба. ѕо ‘еокриту, близ —парты был платан, заключавший в себе душу ≈лены: Ђ„ти мен€, Ч говорит дерево, Ч € дерево ≈леныї. ак вместилища душ (кому не пам€тен эпизод деревьев-людей в Ђјдуї ƒанта?), деревь€ способны и высвобождать наружу скрытую в них жизнь, порождать людей: таковы ƒриопы, чада дубравы Ч дубровники, фригийские корибанты Ђдреворожденныеї (δενδροφυεῖς), ћелиады Ч дети €сеней.⁴ ¬от представление, недрившеес€ в исконном греческом миропонимании и вполне совпавшее с основным представлением о боге возрождающемс€, боге ѕалингенезии. ќттого в ѕраси€х (Πράσιοι) бог-младенец выходит из ковчега, прибитого к берегу морскими волнами.
_________________________________
[4] Μελίαι αἱ ћелии (нимфы, родившиес€ из земли, окропленной кровью ”рана) Hes.
μελία, ион. μελίη ἡ (дор. gen. pl. μελιᾶν) €сень Hom. etc.
μελιηδής, дор. μελιαδής 2 сладкий как мед (λωτοῖο καρπός, οἶνος Hom.).
μέλας черный, темно-красный, мрачный, жестокий.
‘иллида, царица фракийска€, дума€, что покинута своим возлюбленным, ƒемофооном (Δημοφόων), сыном “есеевым, удавилась: черта мифа, параллельна€ мифу об Ёригоне; св€зь же предани€ требует подразумеваемого дополнени€, что ‘иллида повесилась на миндальном дереве и что оно сделалось обиталищем ее души. ¬ерный ƒемофоон возвращаетс€, узнает возлюбленную в дереве, страстно обнимает его, Ч и дерево вдруг покрываетс€ листвой. Ќаблюдение над цветением миндального дерева поэтически сочеталось здесь с символикой листвы, знаменующей оживление, возрождение. ¬спомним внезапное осыпание листвы древесной в Ђ–усалкеї ѕушкина. »з могил вырастают деревь€, хран€щие в себе душу погребенных. “ак, стираксовые деревь€ выросли у могилы –адаманта. —тиракс Ч мистическое дерево, дающее благовоние, воскур€емое подземным божествам. Ћюбопытно, что, по замечанию ѕлутарха, тут же, неподалеку от могилы, протекает ручей иссуса (Κισσοῦσα), или Ђплющевойї, где нимфы купали младенца-ƒиониса.
ƒуши умерших всел€ютс€ в дерево: ƒионис, как абстракци€ душ или героев тризны, всел€етс€ в дерево, как они. Ќо это вселение Ч только следствие, выведенное из культа душ. ѕо одному преданию, ƒионис обещает любимой им деве венок, как он дает волшебной красоты венец и јриадне. ƒева умирает, как умирает и јриадна, и превращаетс€ в гранатовое дерево. ¬енец, полученный ею в дар, есть венцеподобный плод гранатовый. ¬от сочетание представлений ƒионисова венка Ч силы растительной Ч и смерти. √ранатовое €блоко Ч символ обручени€ со смертью, как в мифе о ѕерсефоне. ≈сли ƒионис выращивает гранатовое €блоко, €сно, что корни его в царстве теней, что он, именно как хтоническое божество, €вл€етс€ богом расцветающей природы.
’лорида (Χλῶρις) Ч Ђцветуща€ї Ч и Θυία, Ђƒионисом одержима€ї, Ч две женские фигуры,⁵ неразлучные в јиде, по знаменитой в древности картине ѕолигнота, изображавшей подземное царство. ≈сли ветвь в руках дионисийского тайнослужител€ Ч Ђвакхї, и венок на голове его Ч Ђвакхї, Ч это потому, что Ђвакхї Ч сам он, как вместитель души жертвенно умершего (¬акху подобно) существа, первоначально Ч как живой двойник геро€ тризны.
_________________________________
[5] Χλῶρις (-ιδος) ἡ ’лорида (дочь орхоменского цар€, жена Ќеле€, мать Ќестора) Hom.
Θυῖα, ион. Θυίη ἡ “и€ (дочь ефиса, мать ƒельфа [от јполлона], миф. учредительница празднеств в честь ƒиониса) Her.
ѕо другому преданию о гранатовом €блоке, этот плод вырос из пролитой и землей впитанной крови ƒиониса-«агре€; оттого јид любит это дерево и растит его в своих подземных садах. «десь св€зь растительности и кровавой тризны еще нагл€днее. »з жертвенной крови ћенеке€ вырастает гранатовое дерево. Ќа ковчеге ипсела, знаменитой работе VII века, описанной ѕавсанием, ƒионис изображен почивающим в пещере, осененной виноградом, €блон€ми и гранатовыми деревь€ми: уже это сопоставление гранатового дерева с другими плодовыми и виноградом заключает в себе выведение растительной силы ƒиониса из его хтонической природы, как бога преисподней, что еще более выставл€етс€ на вид символом пещеры и помещением изображени€ на ковчеге-гробнице.
≈сли ƒионис, как царь душ, Ч царь растительности, то, как царь душ, он и владыка плодов земных, обили€ плодовитого. ќн один из хтонических ὀλβιοδόται, πλουτοδόται, подземных де€телей богатства и избытка, как он и именуетс€ наравне с јидом и другими силами царства теней. ¬месте с ƒеметрой и ѕерсефоной, владычицами земли и сени смертной, он чтитс€, по ѕавсанию, как Ђплодоносецї (καρποφόρος). ’тонический ƒионис фракийских Ѕизальтов возвещает знамением великого зарева предсто€щее изобилие земных произрастаний, Ђблагое летої (εὐετηρία).
»так, смертный аспект бога страдающего первее аспекта растительного. »з смерти Ч жизнь. —ем€ не даст плода, если не умрет. ќзольский родоначальник Ч ќресфей (Ὀρεσθεύς) имел собаку, котора€ родила древесный пень; он похоронил мертвое дерево, из могилы выросла виноградна€ лоза ƒиониса. »з смерти Ч жизнь: таково исконное представление религии бога цветущего, бога изобильного.
ƒревопочитание естественно и непосредственно сочеталось с культом ƒиониса, как бога душ; но могила и тризна представл€ют в этом соединении религиозно-историческое prius. ƒва дальнейших феномена органически св€заны с служением тризн: половой оргиазм с одной стороны, личина и лицедейство Ч с другой.
_______________________________
ЁЋЋ»Ќ— јя –≈Ћ»√»я —“–јƒјёў≈√ќ Ѕќ√ј. √лава V
ћифу не удаетс€ пластически и окончательно очертить ƒионисов облик. Ѕог, вечно превращающийс€ и проход€щий через все формы, Ч бог-бык, бог-козел, бог-лев, бог-барс, бог-олень, бог-зме€, бог-рыба, бог-плющ, бог-лоза, бог-дерево, бог-столп, бог-юноша, бог-муж брадатый, бог-младенец, бог-дева, бог-огонь (πῦρ εὔιον), бог-пучина морска€, бог-дождева€ влага, бог-солнце, бог-ночь и смерть, бог в колыбели, бог в гробу или в осмоленном ковчеге, брошенном в море, в горных недрах или в узком колодце, в темном озере или в болоте, бог в бедре «евсовом и в котле “итанов, бог на дельфинах, бог среди изнеженного сонма женщин и в женских одеждах, бог на корабле, или на колеснице, влекомой тиграми, или на двухколесной тележке, везомый двум€ сатирами и двум€ менадами, бог в объ€ти€х јриадны, бог в шлеме и всеоружии (на изображени€х √игантомахии), бог с лирой јполлона, бог-ловчий, бог сокровенный и исчезнувший, бог-беглец, бог обмана и веселого пр€тань€, бог-загадка, бог-голос, бог-маска, Ч этот бог всегда только маска и всегда одна оргиастическа€ сущность.
≈го многообразность и как бы текучесть не позвол€ет облечь его numen в посто€нное и устойчивое формальное представление; миф прибегает к различению многих ƒионисов, которые суть не только разные аспекты бога, как Μειλίχιος (личина из фигового дерева) и Βακχεύς (маска из ствола виноградной лозы) на Ќаксосе, Ч но и последовательные его бого€влени€ или возрождени€. ѕозднейшие мифологи уже насчитывают до п€ти различных ƒионисов, в точном определении которых, впрочем, расход€тс€. –елигиозна€ мысль не может остановитьс€ на данном звене в цепи обновлени€ бога, предчувствует и отмечает его начало в генезисе вселенной, до по€влени€ первого ƒиониса, «агре€, сына ѕерсефоны, и полагает принципиально возможным его новый приход, что логически обусловливает феномен обожествлени€ людей под его именем (νέοι ∆ιόνυσοι, напр., ƒимитрий ‘алерский, јнтоний), феномен, в котором кроютс€, быть может, корни римского культа императоров, несомненно родившегос€ в греческом мире, по-видимому в ћалой јзии, и только сменившего там культ греческих царей.
ќчевидно, миф ищет выражени€ чему-то данному изначала; и веро€тным становитс€, что не экстаз возник из того или иного представлени€ о боге, но бог €вилс€ олицетворением экстаза и как бы разрешающим и искомым видением охваченного беспредметным исступлением сонма Ђвакховї. ћожно предположить, что Ђвакхиї, как община оргиастов и как самое обозначение исступленных (βακχάς) в слове, древнее ¬акха (Βάκχος Ч Ђнеистовыйї, Ђодержимыйї, Ђликующийї), как лица мифологического.
Ќесомненно, что первобытный человек приписывает свои душевные переживани€ божественной силе, в него всел€ющейс€ и его одержащей; в этом смысле бог дан одновременно с исступлением. Ќо от этого неопределенного обожествлени€ оргийной силы еще далеко до мифологической концепции ƒиониса. ѕервоначально, божество дионисийской общины Ч secretum illud quod sola reverentia vident, как говорит “ацит о божестве германцев (Ђименами богов означают они то тайное, что вид€т только глазами веры и почитани€ї), следовательно, быть может, нечто менее широкое, правда, по объему пон€ти€, но однородное, например, с полинезийским божеством ћана, о котором ћакс ћюллер говорит, со слов путешественников: Ђэто сила или вли€ние сверхматериального пор€дка и, в некотором смысле, сила сверхъестественна€; но она открываетс€ в силе материальной и во вс€кого рода могуществе человеческом. ћана не сосредоточиваетс€ в одном предмете, но может быть проводима в каждый предмет. ќбладают ћаной духи, будь то души, отделенные от тела, или сверхъестественные существа. ¬с€ религи€ этих дикарей в том, чтобы овладеть ћанойї.
Ћюбопытно, что миф о ƒионисе никак не может покрыть собой весь круг дионисийских €влений, Ч признак, что миф Ч только попытка дать им, уже внутренне определившимс€, объ€снение этиологическое. Ќапример, дионисийское безумие не объ€снено мифом. „асто прибегает он, дл€ его оправдани€, к мотиву гнева √еры. Ќаконец, при участии идей малоазийской религии ибелы, возникает упоминаемое ѕлатоном св€щенное предание (λόγος), по которому сам ¬акх €вл€етс€ жертвой насланного √ерою безуми€ (¬акх, приезжающий на осле в ƒодону, чтобы излечитьс€ от безуми€), отчего он и насылает в свою очередь на людей вакхические исступлени€ и восторги. ѕо јполлодору (III, 5:1) и ёлиану, ƒионис излечиваетс€ от безуми€ фригийской матерью Ч ибелой.
ƒионис умирает вечно и умирает насильственно. ≈сли “итаны умертвили первого ƒиониса, то кто и как убил сына —емелы? —оздаетс€ поздний миф об убиении ƒиониса ѕерсеем; отчего, по общему закону отождествлени€ убийцы и жертвы, ѕерсей €вл€ет черты ƒиониса: он Ч жертва меланхолического безуми€.
ƒионисийский миф до такой степени недостаточен дл€ объ€снени€ культовых €влений дионисийского цикла, что у ѕлутарха, чтител€ ƒиониса, мы встречаем (de def. orac. 14) следующее неожиданное за€вление: Ђ“оржества и жертвенные служени€, в которых мы находим омофагии Ч пожирание жертвы сырьем Ч и растерзани€, посты и плачи (постились орфики после омофагии, плачи нам известны из характеристики ночных триетерий), часто же хулени€ и исступлени€, и, как говорит ѕиндар, кликани€ с сильным отбрасыванием головы (черта, повтор€юща€с€ в радени€х дервишей), Ч эти торжества и жертвоприношени€ совершаютс€, по моему мнению, не в честь кого-либо из богов, но с целью отвращени€ злых демонов. » все то, что в гимнах и мифах рассказываетс€ о божественных похищени€х, блуждани€х, пр€тани€х, побегах и подневольных службах, Ч все это не страсти богов, а демоновї. √реческое мифотворчество не смогло пластически преодолеть и властно очертить хаотической стихии оргиазма, отчасти чуждого эллинскому гению по своим историческим корн€м, отчасти коренившегос€ в темном демонизме народных масс и естественно т€готевшего к формам, аналогичным шаманству, нашей хлыстовщине и средневековому сатанизму.
»ща определить содержание религиозной идеи, которую мы можем полагать первоначальной в эллинском оргиазме, прежде всего должны мы исключить представление о божественности вина или опь€нени€ чрез вино из первого и исходного круга дионисийских созерцаний. онечно, не вино было обожествлено в ƒионисе, как это может казатьс€ веро€тным хот€ бы из мифа об »карии. √омер знает вино как усладу и как существенную часть жертвы богам и душам умерших, но бога вина не знает. ƒалее, элементы культа, отмеченные печатью €вной первобытности, естественно признать в составе ƒионисовой религии и наиболее древними; но среди этих элементов мы не находим опь€нени€ вином, ни вообще опь€нени€ физического; мы встречаем исключительно психические аффекты; питанием же исступленных €вл€ютс€ сырое м€со и гор€ча€ кровь.
ѕравда, вино было рано оценено оргиастами, как могущественный стимул исступлени€. ‘ракийцы опь€н€лись несмешанным вином, брагой и наркотиками Ч курени€ми из конопл€ного семени. »х пророки прорицали Ђобильно вкусив винаї, по словам ћакроби€. «агробное блаженство рисовалось их воображению, как состо€ние вечного опь€нени€. »значала хранились в греческой пам€ти и обще-арийские представлени€ о живой влаге, дающей бессмертие богам, Ч амброзии. ƒионис, бог опь€ненных душ, вобрал в себ€ и реализовал в вине, любезном оргийной общине, этот идеал растительной крови, текучей и огневой божественной души. ћы увидим, что он рано стал божеством растительности, цветени€ и обили€ земного: лозу винограда возлюбил он выше всех произрастаний земли. ≈го страдающа€ и жертвоприносима€ сущность была узнана и в винограде: в страст€х растаптываемых гроздий, в мученичестве обрезаемых ножом виноградар€ лоз увидели повторение страстей бога. ќргиазм изначальных радений нашел свое отражение в упоенном буйстве праздников виноградного сбора. Ћичина оргиастов пришлась к лицу виноградар€м. Ѕыл обретен новый, более общий и простой, менее ужасный, менее опасный аспект глубокой и мрачной веры.
¬ этой св€зи пон€тной становитс€ аномали€ ƒионисова имени. Ёта аномали€ в том, что оно, по-видимому, compositum (Ђсложное, составноеї), и при том, как кажетс€, образовано чрез сложение с именем «евса, ƒи€ (Διός gen. к Ζεύς). ≈го толковали: Ђсын «евсаї, Ђвлага «евсаї, Ђгнев «евсаї; можно было бы прибавить к этим этимологи€м столь же сомнительную: Ђсила, или вол€, «евсаї, вид€ в νῦσος корень numen (Ђкивком головы выраженный знак, мановение, вол€, повелениеї), от νεύω (Ђподавать знак, киватьї). ≈сть толкование: Ђдвухкопытныйї; отдельно сто€т неубедительные словопроизводства из семитических €зыков и санскрита. Ќадпись на одной вазе ∆IΟΣ ‘ΩΣ (∆ιὸς φώς Ч Ђпотомок «евсовї) над изображением ¬акха, подкрепл€ет мнение о присутствии в имени бога элемента «евсова имени. »так, Ђмногоименныйї бог не имеет своего имени. Βάκχος (Ђ¬акхї) Ч им€, характеризующее шум и бурю оргий, как и фракийское Σάβος, по-видимому, раньше означало вакхантов, нежели бога ¬акха. Ќе име€ соответственного имени, ƒионис заимствует им€ у отца, ƒи€. ƒифференцированное из «евсова имени им€ ƒиониса обличает дифференциацию самого пон€ти€ из пон€ти€ «евса.
¬ самом деле, оргийные культы исключительны. Ѕлизость оргиастов к своему богу преп€тствует им знать или признавать других богов. ќргиастические религии т€готеют к монотеизму. Ѕог, которому служит така€ община, есть единственно доступный ей аспект божества, следовательно Ч бог в его высшем и наиболее общем виде Ч «евс. »м€ ƒиониса, столь абстрактное, возникло как отвлечение божественной силы оргий, дл€ различени€ от других божеств и в силу необходимости стал к ним в определенное отношение. ѕервой же порой обожествлени€ оргийной силы был период означени€ ее простым именем высшего бога.
»скусственность имени ƒиониса и как бы конкуренци€ с этим именем других имен выдают долгие поиски за словесным ознаменованием божества и, следовательно, за его определением догматическим и его пластическим образом. ритский бог двойного топора и человеческих жертв, предшествующий на рите ƒионису-ќмадию, есть критский «евс. „то этот «евс Ч ƒионис, €вствует и из оргиастического характера его культа и мифического института куретов, и из того, что €вл€етс€ в аспекте бога умирающего. ≈го оплакивали, как ƒиониса, считали богом јидом (Ζεῦς ἤ Ἅιδης ὀνοµαζόµενος στέργεις, по ≈врипиду), как и ƒиониса, про которого √ераклит говорит, что его оргии совершаютс€ в честь јида. ≈го культ был культ хтонический. ≈го гроб на рите (гроб «евса Ч нелепость с точки зрени€ общегреческой) был известен издревле, и результаты новейших раскопок согласны с древней локализацией культа этого умершего «евса. ”же ќдиссе€, повеству€ о собеседовани€х ћиноса критского с «евсом, намекает на »дейскую пещеру, как жилище подземного бога. ѕрирода этого критского служени€ и его ближайшее родство с дионисийством выступают в фигуре крит€нина Ёпименида, пророка, не раз переживавшего в »дейской пещере долгие экстазы отделени€ души от тела, Ђмудрого в вещах божественных мудростью энтузиастическойї (по выражению ѕлутарха), великого очистител€ јфин от мести подземных божеств и религиозного реформатора очищенного им города. ћы уже встречали Ђбога двойного топораї в лице ƒиониса-человекорастерзател€ на “енедосе. ¬от намеки на первоначальное почитание ƒиониса среди греков под неопределенным именем «евса или, точнее, без вс€кого имени. Ќе даром ритор поздней поры, јристид говорит: Ђ—лышал € и другое предание, что сам «евс Ч ƒионисї. » если мы заподозрим это за€вление в религиозном синкретизме или философской теокразии (θεοκρασία, богосмешение), то формальный культ «евса-¬акха (Ζεῦς Βάκχος) в ѕергамоне, засвидетельствованный эпиграфически, показывает, по-видимому, нечто большее: здесь теокрази€ кажетс€ нам имеющей свои корни в древнейшей религиозной идее и свои традиции во фригийском и пафлагонском культе «евса, умирающего зимой и воскресающего весной, т.е. ƒиониса с именем «евса.
»менно потому, что бог жертвенного страдани€ не имеет имени и лица, так легко, так логически возможно его облечение во многие лица, µορφαί ∆ιονύσου, лики, или формы, ƒионисовы. ќн бог-Ђгеройї (ἥρως) вообще, как бог умирающий, и при том страстнόю смертью; и оттого издревле его божество ипостазируетс€ во многих геро€х, единое под разноликими масками судьбы трагической. ћы видели р€д примеров такого ипостазировани€; умножим этот р€д, не прит€за€ исчерпать его, несколькими другими примерами.
ќдно из древнейших свидетельств о трагических хорах есть свидетельство п€той книги √еродота о сикионцах. Ђ—икионцы, Ч говорит он, Ч чтили јдраста и славили его страсти (πάθεα) трагическими хорами, ƒиониса не чт€, а чт€ јдраста. лисфен же (тиран сикионский) возвратил (ἀπέδωκε) хоры ƒионису, а остальной культ, принадлежавший дотоле јдрасту, отдал ћеланиппуї. ƒело в том, что јдраст был герой аргивский, а лисфен, из политических соображений, хотел отвратить свой народ от традиций, св€зывавших его с јргосом. Ќе зна€, что ему делать с внедрившимс€ в —икионе почитанием геро€ јдраста, он спрашивает о том в ƒельфах; но оракул защищает јдраста. “огда тиран надумал добыть из ‘ив фиванского геро€ ћеланиппа, вывез, с разрешени€ фив€н, гроб его и построил ему в —икионе храм. “ак культ геро€ ћеланиппа зан€л место культа јдрастова. “рагическим же хорам тиран указал прославл€ть не јдрастовы страсти, а ƒионисовы. «амена, очевидно, была возможна только при условии внутреннего родства или аналогии между замен€емыми культами. “рагические хоры имели своей общей и принципиальной задачей служение ƒионису; между тем они изображали судьбу јдраста. Ќе был ли јдраст только одним из местных обличий ƒиониса? –ассматрива€ дошедшие до нас мифологические данные об јдрасте, мы убеждаемс€ в присутствии в его облике черт самого ƒиониса, как бога хтонического. јдраст Ч дионисийский герой, или ипостась ƒиониса. ≈го отличительный атрибут в мифе Ч быстрый конь јрион (Ἀρείων), Ђбожественный јрион, ведший свой род от боговї, именно рожденный от ѕосейдона и Ёриннии, следовательно Ч черный; черный цвет принадлежит дионисийской символике, и Ђчерновласыйї (κυανόθριξ, κυανοχαίτης) Ч эпитет јида. «лой враг јдраста Ч ћеланипп (Μελάνιππος); что значит Ђчерноконныйї. ћеланипп убивает его близких и чуть не умерщвл€ет его самого, но волшебный адский конь его уносит геро€ из сечи; чтό, однако, только обычное символическое означение героической смерти. »так, герой черного кон€ умерщвл€етс€ своим же враждебным двойником, Ч черта, возможна€ только в знакомом нам круге дионисийских представлений о жреце и жертве.
Ћичность јдраста вообще отмечена чисто дионисийской трагикой: он вынужден предприн€ть поход против ‘ив, хот€ наперед знает о роковом исходе войны. ¬прочем, при состо€нии наших источников, мы не располагаем всеми элементами первоначального трагического мифа.
ќбраз јристе€ (Ἀρισταῖος), как ипостаси ƒионисовой, не менее прозрачен. ќн, прежде всего, представл€ет аспект ƒиониса как бога пчел и меда; ибо ¬акх столь же бог меда, сколь вина. ќднако јристей Ч и виноградарь. ¬ —ицилии он почитаетс€ в одном храме с ¬акхом. ќн преследует Ёвридику, котора€ умирает в бегстве от укуса змеи: здесь јристей-ƒионис €вл€етс€ и ƒионисом-јидом. ќн сопричислен к ƒионисову сонму (по другим, он Ч сын ƒиониса) и восхищен в гору √емос (Αἷμος), во ‘ракии, где живет под землей, т.е. делаетс€, как ƒионис, претерпев смерть, божеством подземным (Ђсмертный не счастливый по страст€м своимї (θνητὸς οὐ µάκαρ παθέεσσι), как означает его в одном стихе √ригорий Ќазианзин).
’арактеристичен благородный –есос (Ῥῆσος), сын ћузы, коварно убитый под “роей ќдиссеем и ƒиомедом, €вл€ющимис€ Ђкак волкиї, т.е. в личине волков, и поселенный также под землей, во фракийском (дионисийском) ѕангее (Παγγαῖος), как жрец ƒионисов. ’арактеристичен виноградарь и друг ƒиониса Οἰνεύς, сын ‘ити€, сына ќресфе€, Ч чь€ собака (символ лета)¹ рождает виноградную лозу. ’арактеристичен и сын его (или јреса) и дионисийской јлфеи, ћелеагр (Μελέαγρος), жизнь которого св€зана с волшебной головней; мать сжигает головню, негоду€ на сына за убийство ее братьев, и жизнь его сгорает одновременно: быть может, Ч ипостась ƒиониса, как факела ночных оргий, тризн по боге умершем. ќт ќресфе€ до ћелагра дионисийска€ филиаци€ обличаетс€ самыми именами; подобной же филиацией св€зана с ƒионисом менада јнтиопа, дочь Ќикте€ (Νυκτεύς, Ђночнойї),² которого друга€ дочь Ќиктимена (Νυκτιμένη, Ђночна€ї)³ замужем за ѕолидором (Πολύδωρος, Ђмногодарныйї Ч им€ божества хтонического). ’арактеристичен своими Ђстраст€миї (πάθη) ѕаламед (Παλαμήδης), засыпанный в колодце камн€ми, как его дубликат јнтей (Ἀνταῖος, одно из имен ƒиониса), погибающий в колодце.
_________________________________
[1] Κύναστρον (Κύν-αστρον) τό ѕесь€ звезда, т.е. —ириус Arst.
[2] Νυκτέλιος 2 прославл€емый в ночных празднествах (эпитет ¬акха) Plut., Anth.
[3] »м€ Νυκτιμένη несЄт в себе не однозначное прочтение. »ванов читает это им€ как Ђночна€ї (дословно Ђночью €вл€юща€с€ї, νυκτός + ἴμεν). ќднако это им€ можно разложить и иначе: νυκτι-μένος. ¬ этом случае им€ Νυκτιμένη несЄт в себе не только определение Ђночна€ї или даже Ђмрачна€ї (νύκτιος), но и Ђгневна€ї (μένος). роме того, им€ Νυκτιμένη может €вл€тьс€ искажением от νύκτιος μήνη Ч подобное словосочетание (νύκτερος μήνη) можно найти у Ёсхила (ἃς οὔθТ ἥλιος προσδέρκεται ἀκτῖσιν οὔθТ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ).
μήνη, дор. μήνα ἡ луна (ἡ νύκτερος μήνη. Aesch.; σέλας μήνης Hom.);
Μήνη ἡ ћена (богин€ луны) HH., Luc.
Ќо не только во многих ликах героев €вл€етс€ единый лик ƒиониса: он же просвечивает и в некоторых божествах, например, в јресе, боге дионисийских фракийцев. –€д общих черт св€зывает ƒиониса и јреса. Ѕыло даже предание, что јрес Ч отец ƒиониса: указание на первоначальное культовое единство. јрес Ч Ђбезумныйї (µαινόµενος), как ƒионис. ≈му служат женщины (γυναικοθοίνας, как ƒионис Ч γυναικοµανής). ќн бог воинских кликов (Ἐνυάλιος), как ƒионис. “рагеди€ Ђ—емь против ‘ивї, трагеди€ воинственного пафоса и упоени€ јресом, признана древними Ч Ђполной ƒионисаї. ƒионис €вл€етс€ в шлеме и всеоружии. јрес и ƒионис Ч равно хтонические боги.
»так, оргиастическа€ иде€ ƒионисовой религии воплотилась в лице ƒиониса только после долгих поисков за божеством и именем, ей адекватным; и даже по возникновении ƒиониса-лица она как бы еще выходила за кра€ найденного ею вместилища, перелива€сь в культы иных, уже обособившихс€ божеств и создава€ р€д дифференцированных подобий и повторений ƒиониса. Ќо если первоначальное в вакхической религии есть оргиастическое служение, открывшеес€ нам как служение жертвенное, и если жертва древнее бога, то что же обусловило самое жертву?
—уществует мнение, по которому мотивом оргиазма дионисийского €вл€ютс€ Ђрастительные чарыї (vegetationszauber), т.е. заклинание духов растительности, магическое пробуждение природных сил, путем обр€дового воспроизведени€ их демонически-оргийной жизни, к их высшей де€тельности, потребной человеку, завис€щему от земного плодороди€. ќсновани€ми этому мнению служат, с одной стороны, аналоги€ сельского оргиазма у разных народов, с другой Ч св€зь ƒиониса с миром растительным. “о и другое основание недостаточны. –елиги€ ƒиониса не есть религи€ сельска€. Ќапротив, в формах своего оргиазма (а мы должны искать ее корней именно в оргиазме), это Ч зимн€€ религи€ горных высей, снежных стремнин, бесплодных круч и диких ущелий, или же Ч в частном своем аспекте Ч религи€ влажных, болотистых, бесплодных низин. ѕриуроченна€ только впоследствии к культу винограда и плодовых деревьев, она никогда не имела пр€мого отношени€ к посеву злаков. ѕочитание дерева и растительной жизни вообще принадлежит, правда, к древнейшим ее элементам; но это по преимуществу культ горных зарослей, ели, сосны, дуба и, прежде всего, дикого плюща. —ельский оргиазм других народов целесообразен; его маги€ служит потребност€м практическим. “рудно отыскать что-либо подобное в дионисийском оргиазме.
¬месте с тем, цела€ обширна€ область дионисийских €влений, не име€ ничего общего с идеей растительности, €сно выдает свое отношение к идее загробного существовани€ и к культу сил хтонических, или подземных. Ёту-то сферу религиозных представлений и действий, наравне с внутренне-родственной ей сферой религиозных представлений и социологических €влений, св€занных с идеей пола, и должно, по нашему мнению, считать первоначальной в дионисийском оргиазме. ќтношение к растительности было только выведено из хтонической стороны ƒионисова служени€.
—видетельства изобилуют. ѕрежде всего, это религи€ бога умирающего и погребенного, т.е. нисход€щего в свое подземное царство. ”мирает сам ƒионис, и умирают, или нисход€т в преисподнюю, его бесчисленные двойники, его отражени€, ипостаси или личины. “ак, по одному местному аттическому преданию, ƒионис ищет дороги в јид и просит некоего ѕросимна указать ему путь. “от соглашаетс€, с тем чтобы ƒионис, вернувшись на землю, наградил его своей любовью. Ќо возвратившийс€ ƒионис уже не застает ѕросимна в живых. ¬ пам€ть о друге он воздвигает на его могиле фиговую ветвь, символ пола. ƒионис вызываетс€ наверх (ἀνακαλεῖται) в Ћерне, причем черную овцу бросают в озеро, в жертву ѕилаоху (ѕυλάοχος) Ч јиду-¬ратнику. ƒионисийские празднества соединены с поминками: ‘еодэсии, Ћенэи, јнфестерии, јпатурии, дельфийские √ероиды, Ќекисии в јргосе.
ƒионис зоветс€ χθόνιος, µειλίχιος, νυκτέλιος, Ἅιδης, καθηγεµών, как божество преисподней, и величаетс€ р€дом эвфемистических имен, свойственных богам подземного царства, общим гостеприимцам, равно распредел€ющим дары, богатым и обогащающим владыкам (χαριδότης, ὀλβιοδότης, ἱσοδαίτης). ќн герой (ἥρως) и царь душ (ἄναξ), Ζαγρεύς Ч сильный охотник. ≈го символика Ч символика хтонических божеств, пурпуровый и черный цвета, гранатовое €блоко, ковчег. ” фракийцев, где дионисийска€ религи€ €вл€ет свою древнейшую форму, это бог мертвых. ќттого геты, οἱ ἀθανατίζοντες, по выражению √еродота, вер€т в бессмертие, вечную жизнь со своим богом. Ђ авзианцы плачут при рождении человека, и радуютс€ об умерших, как обретших покой от многих золї. ‘ракийцам единогласно приписываетс€ древними appetitus maximus mortis. ≈ще в одной поздней надписи, найденной близ ‘илиппов, умерший мальчик напутствуем молитвами родных на цветущие луга ƒионисовы, где будут утешать его нимфы и сатиры божественного факелоносного сонма. ¬ исторической √реции св€зь ƒиониса с культом умерших все более затемн€етс€; но никогда не перестает он утверждатьс€ как божество хтоническое.
≈сли же св€зь с культом душ первоначальна в ƒионисовой религии, естественно предположить, что моменты оргиазма были приурочены прежде всего к тризне и поминкам, как и дионисийские празднества исторической √реции, так часто сопровождаемые поминками по умершим, суть или тризны по ƒионису, или ликовани€ о смерти, им преодоленной. Ётот вывод, как покажет последующее изложение, освещает характернейшие черты оргийных служений: самый феномен оргиазма и его особенную обстановку; человеческие жертвы; растерзание жертв; роль маски в ƒионисовом культе; наконец, отношение этого культа к религиозному началу пола.
–ассмотрев мистику дионисийского служени€, мы установили двойной принцип ее: отождествление бога с жертвой и с жертвователем. ќргиастическа€ община, соедин€юща€с€ дл€ жертвы, определилась как временна€ коллеги€ жрецов; но так как жрец и жертва равно представл€ют самоотчуждающеес€ и страдающее божество, эта община открылась нам в то же врем€ и как коллективна€ жертва. –елиги€ страдающего бога самоутверждаетс€ в этой исконной мистике отождествлени€. –астерзание бога-жертвы оргиастами, т.е. переход жертвы в лиц, ее растерзавших, и чрез то пресуществление жрецов в жертву Ч вот первичный символ этой религии разрыва и разлуки, разрешени€ всех уз и всех св€зей, трагических экстазов убийственного расторжени€ и тоски по утраченном единстве. ≈е древнейша€ стихи€ обнаруживаетс€ в первобытно-каннибалическом имени страдающего бога: Ђ–астерзатель человековї. » та же стихи€ неизменной €вл€етс€ нам в изречении позднего мистика, неоплатоника ѕрокла: Ђ–азъ€тие или расторжение Ч начало дионисийское; гармоническое соединение Ч начало аполлонийскоеї. лимент јлександрийский (Str. 1, 13, p. 128) не простирает своего отрицани€ ƒионисова культа на данную в этом культе мистическую идею расторжени€: Ђ» варварска€ и эллинска€ философи€ видит вечную истину в некоем расторжении, расп€тии, Ч не том, о котором говорит мифологи€ ƒионисова, но о котором учит теологи€ вечно сущего Ћогосаї.
“ак, религиозна€ иде€, составл€юща€ предмет нашего изучени€, осталась верной себе до конца. Ќа ее примере мы можем проверить всю справедливость замечани€ Ёрвина –оде о греческой религии: Ђ√реческа€ религи€, Ч говорит он, Ч как религи€ не установленна€, а органически возникша€, не могла выразить в пон€ти€х мыслей и чувств, определивших ее внутреннее содержание и внешний облик. ќна была представлена одними св€щеннодействи€ми. Ќет в ней и св€щенных книг, из коих можно было бы уразуметь глубочайший смысл и св€зь идей, обусловивших отношение эллина к божественным силам, созданным его верой. ƒомыслы и вымыслы поэтов сплетают свой хоровод вокруг пребывающего неизменным зерна народного веровани€, которое, несмотр€ на недостаток логического развити€ религиозных представлений, или, быть может, именно вследствие этого недостатка, с достойной удивлени€ верностью сохран€етс€ в своем исконном своеобразииї (предисловие к 1-му изд. Ђѕсихеиї).
ћы искали распознать первоначальные черты дионисийской религии, и она предстала нам в образе первобытного каннибализма. ¬ том сложном составе, в каком мы застаем в историческую эпоху эту мистическую, т.е. на идее единени€ с божеством основанную религию, Ч первичными элементами мы признали элементы оргиазма мистического, растерзани€ человеческой жертвы. ћы видели, что жертва древнее бога и что бог только обожествление жертвы; что первоначально дионисийска€ община не знает ни имени своего бога, ни его истории или св€щенной легенды, что бог общины не разнитс€ именем от ее членов и не имеет определенного лица, что община различает в нем только черты бога растерзанного, бога страдающего: миф должен еще только открыть, изобрести страсти бога, данного изначала страдающим. »ща происхождени€ этого мистического оргиазма, мы отстранили прежнее выведение его из культа вина, как источника состо€ний экстатических, как отстранили и выведение его из энтузиастического сочувстви€ состо€ни€м и страст€м природы, мыслимой как существо живое, ее периодическому цветению и отцветанию, умиранию и возрождению. ћы отклонили, наконец, и гипотезу о св€зи дионисийской религии с весенними заклинани€ми, облекающимис€ у многих народов в формы оргиастические: эта св€зь допустима только дл€ немногих и при том не первоначальных частей сложного феномена, нами изучаемого; как религи€ ƒиониса, в своей исконной сущности, Ч не религи€ земледельческа€ и даже не пастушеска€, а скорее охотничь€, так и оргиазм ее лишен практических целей полевого магизма. ¬ иной обширной области €влений дионисийского культа, в области, не имеющей пр€мого и изначального отношени€ к идее силы растительной, хот€ и тесно св€занной с ней исторически отношени€ми производными, усмотрели мы коренное досто€ние ƒионисовой религии: это Ч область культовых €влений почитани€ мертвых и общени€ с силами царства подземного. “огда оргиастическое служение и жертва дионисийска€ раскрылись нам, прежде всего, как обр€д и жертва первобытных тризн.
Ќе подлежит сомнению этнографический факт, что тризны составл€ют моменты наивысшего подъема и напр€жени€ в психической жизни первобытных племен и как бы горную зону, где всего чаще и сильнее разражаютс€ ее глухо назревающие грозы: тризна оргийна искони и по существу. ќграничимс€ одним, но весьма характерным по степени приближени€ к аналогическим €влени€м ƒионисовой религии примером Ѕатлока, плем€, живущее в северной части “рансваал€, ежегодно справл€ет праздник в честь умерших. удесники, спр€тавшись, извлекают из флейт странные звуки, которые народ считает за голоса духов. Ђћодимо здесьї, говорит толпа. ѕодобным же образом, в ночные часы фракийских радений, по уже выше рассмотренному свидетельству Ёсхила в трагедии ЂЁдоныї, скрытые Ђмимы ужасаї воспроизводили, среди завывани€ флейт, ревы невидимого быка, которые, €вл€€сь признаком приближени€ бога оргий, способствовали возбуждению всеобщего экстаза (–оде, Ђѕсихе€ї).
»злишне настаивать также и на том общеизвестном факте, что древнейшие тризны не обход€тс€ без человеческих жертв. Ќа костре ѕатрокла, по √омеру, принесены в жертву тени геро€ двенадцать тро€нских юношей. ќ жертвенной смерти доблестных жен на похоронах мужей говор€т мифы об Ёвадне, Ћаодамии, ѕанфии. ѕоликсена приноситс€ в жертву на могиле јхилла. “арквиний гордый умерщвл€ет, по одному преданию, в жертву душам предков, Ч детей.
√реки раздел€ли общенародное верование, что души умерших всел€ютс€ в живых, при условии вкушени€ от покинутой ими плоти и ее крови: дл€ подтверждени€ этого мнени€ философ ѕорфирий ссылаетс€ на древнего ‘ерекида. јполлоний “ианский исцел€ет одержимого отрока, изгон€€ из него дух одного павшего в битве воина, им владевший.
¬ греческом мифе растерзани€, многожды засвидетельствовано, отношение к культу душ. ѕерсефона, богин€ теней, растерзывает ћинфу. ƒух јхилла, по ‘илострату, разрывает на части отданную ему рабыню. Ћевкона (бела€), жена охотника ианиппа (Κυάνιππος, Ђчерноконныйї), т.е. «агре€, разорвана собаками мужа. Ќесомненно, что представление об адских псах, раздирающих труп, собаках √екаты, имеет св€зь с отдачей трупа в добычу псам или волкам (обычай, например, тунгусов); что у √омера мы встречаем, естественно, только в применении к вражеским трупам. Ќо не случайно, что собаки јртемиды разрывают јктеона, ƒиониса мес€ца ≈лафеболиона и вместе ƒиониса хтонического, Ђдикого охотникаї (на что указывает его закованный идол, описанный ѕавсанием в дев€той книге и подобный идолу ƒиониса в оковах): эти собаки, конечно, только девы, спутницы богини, хтонической охотницы, преследующие јктеона так, как Ђсобакиї-менады разрывают там же, на ифероне, тайно приблизившегос€ к ним дионисийского геро€ ѕенфе€. Ёриннии, образ которых сложилс€ из черт знакомых нам по типу охваченной убийственным исступлением менады, Ч безумные, потр€сающие факелами, зме€ми увенчанные девы-Ёриннии зовутс€ собаками у Ёсхила и у других писателей, гон€тс€ за преступником, как ловчие псы за дичью, и нюхают воздух, привлекаемые запахом пролитой свежей крови. ƒревн€€ эпидемическа€ болезнь воображаемого превращени€ в собак, несомненно, развилась в √реции в св€зи с оргиастическим обычаем преследовани€ жертвы, обреченной подземным силам, женщинами, изображавшими охотничьи своры. ¬ампиризм и вурдалачество углубл€ютс€ своими корн€ми в эту темную эпоху оргийных тризн и утверждаютс€, как определенно характеризованное фольклором €вление, в пору разложени€ древнейшего оргиазма.
¬ 24-й песни »лиады, √екуба говорит своему супругу, ѕриаму, отговарива€ его идти с дарами в стан јхилла дл€ выкупа тела √ектора:
Ђ“акую, знать, долю сурова€ ѕарка
¬ыпр€ла нашему сыну, как € несчастливца родила, Ч
ƒолю, чтоб псов он насытил, вдали от родных пред очами
Ћютого мужа, которого сердце, когда бы могла €,
¬пившись в грудь, пожирать, отомстила б за то, что он сделал
— сыном моимїЕ
„тобы пон€ть до конца слова √екубы, нужно уловить в ее каннибальском вожделении (которое в »лиаде, конечно, не проста€ риторическа€ фигура) противопоставление с собаками, раздирающими тело ее сына. Ѕыть может, в первоначальной, догомеровской версии √екуба говорила еще определеннее: Ђ“еперь √ектора разрывают псы, а јхилл на то любуетс€; о, если бы мне быть собакой (т.е. изображать собаку) на тризне √ектора, где јхилл был бы обреченной на растерзание жертвой!ї. „уткий миф подтверждает такое толкование. √екуба €вл€етс€ в поэме Ћикофрона в образе собаки. √еката обращает ее (√екубу) в одну из своих спутниц, устрашающих ночным лаем людей, не отмолившихс€ жертвами от гнева подземной богини. —обаки на рельефных изображени€х саркофагов принадлежат, очевидно, той же сфере религиозных представлений. еры, первоначально души умерших, впоследствии божества смерти, зовутс€ собаками јида. ѕо √есиоду, еры пьют человеческую кровь.
ќргиастическа€ женщина тризн, женщина-собака или волчица могил, должна была предстать народному воображению и в образе вампира, как героин€ гоголевской повести Ђ¬ийї, где литературна€ обработка, к сожалению, затемнила много €рких черт исконного мифа. ќвидий в Ђ‘астахї передает римские заклинани€ против strigae (колдуний), высасывающих кровь детей во врем€ их сна: молодое животное замен€ло детскую жертву, сердце отдавалось за сердце, внутренность за внутренность, душа за душу. ак растерзание жертвы, ее съедение, выпитие ее крови, так и детское жертвоприношение св€зываютс€ с оргиазмом тризн. Ёто €вствует, по крайней мере, из римских параллелей. ѕоследнему “арквинию народна€ ненависть приписывала детские жертвоприношени€ Ћарам. ѕо ћакробию, куклы привешивались к двер€м римских домов, как замена детской жертвы царице ћанов. ќргиастическое вдохновение и дар пророческий, свойственный менадам, иногда €вл€ютс€ св€занными с выпитием крови. “ак, жрица √еры јкрейской, еще в эпоху ѕавсани€, пророчествовала, напившись крови; и мы вправе отнести это свидетельство и к менадам, потому что тип пророчествующей и боговдохновенной женщины вообще возник в лоне ƒионисовой религии.
Ќо если к культу умерших свод€тс€ столь исконные черты этой религии, как жертвенное человекорастерзание, пожирание сырой плоти и кровопийство, Ч как должно судить об элементах древопочитани€, также, несомненно, составл€ющих древнейшую черту дионисийского оргиазма?
ƒионис Ч бог древесный (δενδρίτης, δενδρεύς), в древе обитающий (ἔνδενδρος), лесной (ὑλήεις), бог густых зарослей (δασύλλιος), обильной растительности (φλεών, φλοῖος). Ђƒревá радостный ƒионис да возращаетї, Ч молитс€ ѕиндар. Ђ¬акхї Ч молодой побег ели на праздниках ƒионисий. Ќам знакомы по вазам изображени€ древесного ствола, облаченного в одежды бога. »ногда маска ƒиониса прикреплена к верхней части ствола, так что ветви кажутс€ выросшими из его головы; алтарь с дарами стоит перед деревом. ‘иванский ƒионис Περικιόνιος Ч дерев€нный столп, увитый плющом. ¬акх воспитываетс€ в раю Ќисы, или в Ђсаду ƒионисовомї (∆ιονύσου κῆπος). “ем не менее, выводить весь дионисийский феномен из первобытного древопочитани€ оказываетс€ невозможным. ульт деревьев имеет вполне самосто€тельное значение в греческой религии и обнимает гораздо более широкий круг, нежели почитание ƒиониса. “ак, в поэмах √омера он €вл€етс€ без вс€кого отношени€ к этому богу. ѕо √есиоду, нимфы гор и лесов (ќреады, ƒриады, √амадриады) рождены ћатерью-√еей вместе с горами и лесами: св€зь их с √ермесом, јполлоном или ѕаном теснее их св€зи с ƒионисом. — другой стороны, религи€ ƒиониса неизмеримо шире по своему объему, чем древопочитание дионисийское. ќчевидно, два религиозных круга, име€ разные центры, покрывают друг друга только в некоторых своих част€х.
ƒионисийска€ религи€ сочеталась очень рано с культом древесных душ. Ёто взаимоотношение становитс€ €сным, если мы будем держатьс€ гипотезы о возникновении вакхического оргиазма из оргиазма тризн. ƒерево, один из первоначальных фетишей, рассматриваетс€ как обиталище душ человеческих, отделенных от тела. ƒионис также признаетс€ как бы мертвым или погребенным в дереве. ≈сли на Ќаксосе две маски ƒиониса сделаны из дерева, одна Ч из смоковницы, друга€ Ч из лозы виноградной, то оба фетиша имеют значение как бы мощей бога; уже то обсто€тельство, что это были маски, указывает на их назначение представл€ть собой бога умершего. ћенады опрокидывают горную сосну, и коринф€не, следу€ повелению дельфийского оракула чтить эту сосну, Ђкак ƒионисаї, вырезают из нее два идола бога: эта умерша€, говор€ €зыком древних, сосна есть бог умерший. ќтсюда и культ ковчегов со скрытыми в них изображени€ми ƒиониса. „то ковчег, гроб бога Ч дерево, видно из мифа об ќсирисе, где этот, отождествленный с ¬акхом, бог €вл€етс€ поистине с чертами ¬акха: ибо древопочитание вообще чуждо религи€м ≈гипта. ƒерево ἐρείκη (Erica arborea) принимает в себ€ гроб с телом ќсириса; »сида срубает дерево и обретает тело; богин€ завещает чтить ковчег-дерево, и оно служит предметом культа в Ѕиблосе, еще в эпоху ѕлутарха.
ƒионис Ч дерево постольку, поскольку мифические лица, превращенные в деревь€, Ч действительно деревь€. ѕо представлению первоначальному, это души умерших, вселившиес€ в деревь€, как ƒафна Ч лавр, юноша ипарис Ч кипарисное дерево, јттис Ч сосна, ‘илемон и Ѕавкида Ч два сплетшиес€ ветв€ми дуба. ѕо ‘еокриту, близ —парты был платан, заключавший в себе душу ≈лены: Ђ„ти мен€, Ч говорит дерево, Ч € дерево ≈леныї. ак вместилища душ (кому не пам€тен эпизод деревьев-людей в Ђјдуї ƒанта?), деревь€ способны и высвобождать наружу скрытую в них жизнь, порождать людей: таковы ƒриопы, чада дубравы Ч дубровники, фригийские корибанты Ђдреворожденныеї (δενδροφυεῖς), ћелиады Ч дети €сеней.⁴ ¬от представление, недрившеес€ в исконном греческом миропонимании и вполне совпавшее с основным представлением о боге возрождающемс€, боге ѕалингенезии. ќттого в ѕраси€х (Πράσιοι) бог-младенец выходит из ковчега, прибитого к берегу морскими волнами.
_________________________________
[4] Μελίαι αἱ ћелии (нимфы, родившиес€ из земли, окропленной кровью ”рана) Hes.
μελία, ион. μελίη ἡ (дор. gen. pl. μελιᾶν) €сень Hom. etc.
μελιηδής, дор. μελιαδής 2 сладкий как мед (λωτοῖο καρπός, οἶνος Hom.).
μέλας черный, темно-красный, мрачный, жестокий.
‘иллида, царица фракийска€, дума€, что покинута своим возлюбленным, ƒемофооном (Δημοφόων), сыном “есеевым, удавилась: черта мифа, параллельна€ мифу об Ёригоне; св€зь же предани€ требует подразумеваемого дополнени€, что ‘иллида повесилась на миндальном дереве и что оно сделалось обиталищем ее души. ¬ерный ƒемофоон возвращаетс€, узнает возлюбленную в дереве, страстно обнимает его, Ч и дерево вдруг покрываетс€ листвой. Ќаблюдение над цветением миндального дерева поэтически сочеталось здесь с символикой листвы, знаменующей оживление, возрождение. ¬спомним внезапное осыпание листвы древесной в Ђ–усалкеї ѕушкина. »з могил вырастают деревь€, хран€щие в себе душу погребенных. “ак, стираксовые деревь€ выросли у могилы –адаманта. —тиракс Ч мистическое дерево, дающее благовоние, воскур€емое подземным божествам. Ћюбопытно, что, по замечанию ѕлутарха, тут же, неподалеку от могилы, протекает ручей иссуса (Κισσοῦσα), или Ђплющевойї, где нимфы купали младенца-ƒиониса.
ƒуши умерших всел€ютс€ в дерево: ƒионис, как абстракци€ душ или героев тризны, всел€етс€ в дерево, как они. Ќо это вселение Ч только следствие, выведенное из культа душ. ѕо одному преданию, ƒионис обещает любимой им деве венок, как он дает волшебной красоты венец и јриадне. ƒева умирает, как умирает и јриадна, и превращаетс€ в гранатовое дерево. ¬енец, полученный ею в дар, есть венцеподобный плод гранатовый. ¬от сочетание представлений ƒионисова венка Ч силы растительной Ч и смерти. √ранатовое €блоко Ч символ обручени€ со смертью, как в мифе о ѕерсефоне. ≈сли ƒионис выращивает гранатовое €блоко, €сно, что корни его в царстве теней, что он, именно как хтоническое божество, €вл€етс€ богом расцветающей природы.

ЂЋист стремитс€ в область неба,
орень ищет тьмы ночной;
Ћист живет лучами ‘еба,
орень —тиксовой струейї.
’лорида (Χλῶρις) Ч Ђцветуща€ї Ч и Θυία, Ђƒионисом одержима€ї, Ч две женские фигуры,⁵ неразлучные в јиде, по знаменитой в древности картине ѕолигнота, изображавшей подземное царство. ≈сли ветвь в руках дионисийского тайнослужител€ Ч Ђвакхї, и венок на голове его Ч Ђвакхї, Ч это потому, что Ђвакхї Ч сам он, как вместитель души жертвенно умершего (¬акху подобно) существа, первоначально Ч как живой двойник геро€ тризны.
_________________________________
[5] Χλῶρις (-ιδος) ἡ ’лорида (дочь орхоменского цар€, жена Ќеле€, мать Ќестора) Hom.
Θυῖα, ион. Θυίη ἡ “и€ (дочь ефиса, мать ƒельфа [от јполлона], миф. учредительница празднеств в честь ƒиониса) Her.
ѕо другому преданию о гранатовом €блоке, этот плод вырос из пролитой и землей впитанной крови ƒиониса-«агре€; оттого јид любит это дерево и растит его в своих подземных садах. «десь св€зь растительности и кровавой тризны еще нагл€днее. »з жертвенной крови ћенеке€ вырастает гранатовое дерево. Ќа ковчеге ипсела, знаменитой работе VII века, описанной ѕавсанием, ƒионис изображен почивающим в пещере, осененной виноградом, €блон€ми и гранатовыми деревь€ми: уже это сопоставление гранатового дерева с другими плодовыми и виноградом заключает в себе выведение растительной силы ƒиониса из его хтонической природы, как бога преисподней, что еще более выставл€етс€ на вид символом пещеры и помещением изображени€ на ковчеге-гробнице.
≈сли ƒионис, как царь душ, Ч царь растительности, то, как царь душ, он и владыка плодов земных, обили€ плодовитого. ќн один из хтонических ὀλβιοδόται, πλουτοδόται, подземных де€телей богатства и избытка, как он и именуетс€ наравне с јидом и другими силами царства теней. ¬месте с ƒеметрой и ѕерсефоной, владычицами земли и сени смертной, он чтитс€, по ѕавсанию, как Ђплодоносецї (καρποφόρος). ’тонический ƒионис фракийских Ѕизальтов возвещает знамением великого зарева предсто€щее изобилие земных произрастаний, Ђблагое летої (εὐετηρία).
»так, смертный аспект бога страдающего первее аспекта растительного. »з смерти Ч жизнь. —ем€ не даст плода, если не умрет. ќзольский родоначальник Ч ќресфей (Ὀρεσθεύς) имел собаку, котора€ родила древесный пень; он похоронил мертвое дерево, из могилы выросла виноградна€ лоза ƒиониса. »з смерти Ч жизнь: таково исконное представление религии бога цветущего, бога изобильного.
ƒревопочитание естественно и непосредственно сочеталось с культом ƒиониса, как бога душ; но могила и тризна представл€ют в этом соединении религиозно-историческое prius. ƒва дальнейших феномена органически св€заны с служением тризн: половой оргиазм с одной стороны, личина и лицедейство Ч с другой.
_______________________________
|
ћетки: ƒионис √реци€ |
√≈–ќ» |
ƒневник |
¬€чеслав »ванов
ƒ»ќЌ»— » ѕ–јƒ»ќЌ»—»…—“¬ќ
IV. √≈–ќ»-»ѕќ—“ј—» ƒ»ќЌ»—ј
1. √ерои как страстотерпцы древнейшего френоса и ἥρως Διόνυσος
√еро€ми называли эллины смертных (обычно, впрочем, родных по крови богам, если не пр€мо от богов рожденных смертными женами Ђсынов божиихї Ч θεών παίδες), прославленных необычайными де€ни€ми и участью, на земле претерпевших страдание, по смерти же не утративших индивидуальной силы воздействи€ на живых, особенно на ближних своего рода и племени и своей страны, имеющих свою сферу владычества в подземном царстве и умноживших собой неопределенно-огромный сонм подземных царей.
¬ легионе сошедших в недра земли Ђбогоравныхї (ἰσόθεοι, ἡμίθεοι), Ђблагородныхї (γενναίοι), Ђогромныхї (πελώριοι), Ђблагообразныхї (εὔμορφοι, Ч Aesch. Ag. 454), Ђсильныхї (ἰσχυροί, δυνατοί, κρείσσονες), Ђсв€щенныхї (σεμνοί) смешались, без сомнени€, забытые демоны и развенчанные по недоразумению боги, чье местное им€, прозвание и обличие не выдержало соперничества шире распространенных ознаменований того же или родственного религиозного пон€ти€, Ч с возвеличенными непрерывным стародавним почитанием родовыми и племенными пращурами, какими помнило их былинное и обр€довое предание заповедных урочищ. Ќо так как под геро€ми в собственном смысле общенародное словоупотребление разумело именно живших на земле смертных, а не богов бессмертных, то втора€ из названных двух категорий определительна дл€ всех героев вообще; ибо существа божественные, утратившие свою божественность, во всем должны были уподобитьс€ осв€щенным предкам и, если даже прит€зали некогда на олимпийские обители и соответствующие жертвы (θύματα), довольствоватьс€ отныне дарами, ниспосылаемыми в жилища усопших, и жертвами только героическими (ἐνάγισματα), т.е. надгробными.
’от€ многосмысленное и таинственное им€ ἥρως (Ђгеройї) часто было равносильно δαίμων (Ђбожествої, Ђдухї) в неопределенности своего применени€ к предметам темных народных вер, все же оно неразрывно сочеталось с представлением, что данный объект хтонического культа жил в свое врем€ среди людей, чего нельз€ было, однако, утверждать о всех обитател€х преисподней, отчего демоны хтонические и герои никогда и не были окончательно отожествлены у эллинов, вопреки мнению ”зенера, ни даже в сельских религи€х с их εὐήθεις θεοί (Ђдобродушные богиї). » каковы бы ни были в VII-VI веках до н.э. догматические и литургические видоизменени€ исконного культа героев, как бы ни субтилизировались пон€ти€ о загробной иерархии и о степен€х героической канонизации, основы веровани€ остались искони те же во все эпохи эллинства. ќбоготворение же предков, только затемненное у √омера, отрицать невозможно, Ч хот€ еще менее основательно было бы выводить весь героический культ из этого обоготворени€, ввиду подавл€ющего большинства героических имен и образов божественного происхождени€, Ч что свидетельствует, впрочем, лишь о большей живучести религиозной пам€ти сравнительно с пам€тью исторической. ћир в глазах древнего человека полон душ разного качества, разной силы; душа и при жизни человека может временно покидать его тело, и в это тело может всел€тьс€ друга€ душа; живущий смертный бывает носителем души сверхчеловеческой; по смерти человека место такой душе в сонме подземных сильных, а не в толпе безликих теней. ѕусть в переходную эпоху относительного скепсиса и в предрасположенной к нему общественной среде, Ч когда денежна€ вира (штраф за убийство) взамен кровавой мести временно заглушает голос пролитой крови, а об очищении от крови еще ничего не слышно, Ч незавидным представл€етс€ живому могущество бесплотных, и јхиллу приписываетс€ предпочтение рабской доли на земле господству над призраками: все же и тогда остаетс€ душа јхиллова в јиде душой подземного сильного, в противоположность бледному множеству подчиненных ему слабейших душ.
Ќо древнейшее представление об этом загробном сонме могучих неотделимо от почитани€ могилы боготворимого еще при жизни вожд€ и владыки Ч и тускнеет по мере удалени€ от отеческих курганов. √омеров эпос был оторван от родимой почвы. Ќеудивительно, что развитие новой колонизации повело за собой оживление героического культа: последнее стало естественной задачей религиозной политики, стремившейс€ к укреплению племенных св€зей и к оздоровлению корней национального самосознани€. ак отличительным признаком в пон€тии Ђгеро€ї, при всем обоготворении его, служит именно его смерть, так истинной основой героического культа Ч вещественна€ наличность могилы, со всем, что отсюда следует, до употребительного уже в VI веке перенесени€ св€щенных останков. Ђћногие души могучие славных героев низринул в мрачный јидї Ч в этом стихе, несмотр€ на всю отчужденность создавшей его эпохи и среды от загробной мистики, изначальной в эллинстве и вскоре пышно расцветшей, правильно выражена обща€ и посто€нна€ основа и культа почивших, и культа героев. “а же черта Ч смерть геро€ Ч с особенной резкостью запечатлеваетс€ и в предании. »бо эта смерть все же нечто большее, чем неизбежный конец любого смертного: недаром герой Ч полубог; за ним были права на бессмертие, которого ценою стольких трудов достигает один √еракл. ≈сли бы мы сказали: смерть геро€ Ђтрагичнаї сама по себе, то выразили бы современной фразеологией подлинно античное переживание героического Ђпафосаї: ведь затем, в сущности, и создали эллины свою трагедию, чтобы в религиозно-художественном творчестве дать исход и воплощение именно этому чувству.
¬прочем, то же по существу наблюдение можно представить ос€зательнее и нагл€днее. ѕоминки Ч плач по усопшем; героическое предание естественно сосредоточено на скорбной стороне поминаемой участи, поскольку носителем его служит френос (θρῆνος), обр€довый плач; а таковой долго был единственным хранилищем и проводником былинной пам€ти. Ђћного было богатырей до јгамемнона, Ч замечает весьма точно √ораций, Ч но они забылись, не оплаканные, затем что не нашлось про них вещего певцаї. ¬ самом деле, место позднейшего эпоса занимала до √омера поминальна€ эполира, плачевные Ђславыї (κλέα ἀνδρῶν) и уже своды таковых. ¬ певцах Ђславї, поминальщиках и плакальщицах, недостатка, правда, не было; но выселение в чужие кра€ отлучило и мало-помалу отучило переселенцев от отеческих могил с их поминальными обр€дами, и перезабылись старинные славы, а те, что еще помнились, изменились до неузнаваемости во всем, что не относилось к существенной характеристике геро€ и его участи, в устах поколений, родившихс€ на чужбине. » все же √омерова »лиада Ч одна из таких laudationes funebres (Ђпоминальные славослови€ї), чем и объ€сн€етс€ ее Ђэпизодичностьї: замысел поэта вовсе не представить войну с “роей, но лишь јхиллову обиду с ее последстви€ми Ч гибелью ѕатрокла и гибелью √ектора, как роковыми поводами к гибели самого оплакиваемого геро€, јхилла; »лиада Ч только перва€ часть похоронной песни об јхилловом роке. »так, даже в ионийском эпосе, столь отдалившемс€ от староотеческого быта, поминальные славы еще сохран€ют свой первоначальный смысл и строй. Ёти сказани€, по своему общему заданию, Ч распространенный плач (γόος), они родились из печали и сетовани€. ѕо содержанию, они Ч страстные были (παθητικά), повествующие о Ђстраст€х героическихї (ηρωικά πάθη). Ќеслучайно јристотель определ€ет »лиаду как поэму Ђпатетическуюї, т.е. страстную (в противоположность Ђэтическойї, т.е. бытоописательной ќдиссее), и ћала€ »лиада начинаетс€ с упоминани€ о Ђстраст€хї:
ј ќдиссей так определ€ет дело певца ƒемодока:
–елигиозно-историческа€ особенность отношени€ к герою Ч именно скорбь и плач по нем: особенность его участи Ч Ђстрадани€ї, или Ђстрастиї. ќба рода объектов религиозного служени€ тем и разн€тс€ между собой, что бессмертные, Ђвечно блаженныеї боги по существу не подвержены страданию и бесстрастны (ἀπαθείς), герои же, будучи из рода смертных, по необходимости страст€м причастны (εμπαθείς), они Ч страстотерпцы, лик их Ч страстной.
ѕрадионисийские культы искали синкретической формы, объедин€ющей обе религии Ч олимпийскую и хтоническую. Ёто был долгий период смутных поисков, глухого брожени€ умов, алчущих религиозной гармонии, миросозерцани€ целостного и утешительного. –ождались причудливые сказани€, возникали иррациональные Ђмогилы боговї. Ѕывали, без сомнени€, случаи (какие мы подозреваем в религиозных новообразовани€х, вроде Ђ«евса-јгамемнонаї, Ђ«евса-јмфиара€ї, Ђ«евса-“рофони€ї, Ђ«евса-јристе€ї и им подобных), когда культовое прозвище бога, обособившись, давало начало самосто€тельному героическому и прадионисийскому по своей природе культу, впоследствии же этот последний примыкал обратно к богопочитанию, его породившему, оставл€€, однако, росток, коему суждено было позднее привитьс€ к стволу ƒионисовой религии, в качестве подчиненного культа героической ƒионисовой ипостаси.
огда им€ и почитание ƒиониса было всенародно утверждено, пон€тие страстей героических перенесено было на обретенного, наконец, в его лице истинного Ђбога-геро€ї, что по существу значит: бога и человека вместе (ἀνθρωποδαίμων, как в трагедии Ђ–есї именуетс€ ее герой, праведный ƒионисов прообраз). ¬ какое же отношение должен был стать новый бог, герой κατεξοχήν (κατ ́ ἐξοχέν, более рельефно про€вленный), к другим геро€м? Ќигде у древних, даже в орфическом Ђбогословииї, мы не найдем на этот вопрос догматически определенного ответа. Ќо €вно обнаруживаетс€ склонность религиозной мысли к признанию каждой отдельной героической участи как бы частным случаем единой универсальной героической судьбы или идеи, представленной ƒионисом. ≈го патетическое божество обобщает, объемлет, содержит в себе все страстные доли, все лики и души поминаемых страстотерпцев. ѕо многообразным историческим причинам, по услови€м возникновени€ отдельных героических служений в эпоху прадионисийскую, некоторые герои привод€тс€ в ближайшую с ƒионисом св€зь, другие остаютс€ от него поодаль; но все они Ч общники его страстей, он Ч верховный владыка их подземных обителей, куда нисходит к ним всем, как свой к своим присным, со светочем и вестью возврата, палингенесии (παλιγγενεσία, Ђновое рождениеї). Ќеудивительно, что уже на ранних изображени€х героизации мы встречаем, кроме исконной хтонической змеи, собственно дионисийские символы: венки вокруг головы сид€щего на троне геро€ и ƒионисов сосуд с вином Ч канфар Ч в его руках. —ледуют изображени€ героических загробных вечерей, иногда с участием самого возлежащего ƒиониса. Ќо что значат слова √еродота о сикионцах, что они Ђчтили (геро€) јдраста и славили страсти его трагическими хорами, ƒиониса не чт€, но јдраста, лисфен же (тиран сикионский) отдал хоры ƒионису, а остальное служение (герою, противнику јдраста) Ч ћеланиппуї? Ќе свидетельствует ли этот случай о сепаратизме местных героических культов, об их сопротивлении дионисийской универсализации страстных служений? ¬прочем, последние в своей чисто обр€довой сфере оставались неприкосновенными: станов€ща€с€ трагеди€ одна, по-видимому, выступает пр€мым органом начавшегос€ объединени€. Ёто религиозно-политическое назначение проливает на ее развитие неожиданный свет. Ќо стародавн€€ традици€ плачей по любимому герою, очевидно, глубоко коренилась в народной жизни, и присловие: Ђпри чем тут ƒионис (Οὐδέν πρός Διόνυσον)?ї Ч служит доныне пам€тником недоумени€ и ропота, с каким в эпоху возникающей трагедии толпа встречала вторжение дионисийского обр€да в обр€д героического страстного действа и, обратно, внесение последнего в обр€довый круг ƒионисовой религии.
ћежду тем, несмотр€ на указанное сопротивление, развитие, нашедшее свое естественное русло, не могло остановитьс€; трагеди€ вырастала, верна€ преданию героических страстей, в лоне религии бога душ, бога страстей, и живое мифотворчество непрестанно видоизмен€ло всю героическую легенду в дионисийском духе. »де€ пафоса повсюду представл€етс€ насто€тельно выдвинутой и развитой по определенным категори€м (каковы, например, преследование и укрывательство ребенка, ранн€€ смерть, бегство, роковое безумие, поиски, обретение и разоблачение, ревность богов, гибель от геро€-двойника, таинственное исчезновение, метаморфоза и т.д., откуда вырабатываютс€ типические схемы положений, признаваемых Ђтрагическимиї), Ч по категори€м, заимствованным из круга дионисийских представлений то очень древней эпохи, то сравнительно поздних, в зависимости от времени и условий соприкосновени€ данного героического культа с религией ƒиониса.
√устота дионисийской окраски, однако, различна, и там, где она значительна, мы можем пр€мо говорить о Ђдионисийскихї геро€х или Ђгероических ипостас€хї ƒиониса; причем первое обозначение уместно по отношению к тем геро€м, предание о которых приведено в прагматическую св€зь со св€щенной историей бога или иначе отразило ее, под ипостас€ми же ƒиониса следует по преимуществу разуметь иноименные обличи€ самого бога, его местные подмены героическим двойником, прадионисийские мифообразовани€ из периода поисков лика и имени, пытающиес€ впервые воплотить искомую величину религиозного сознани€. Ќижеследующие сопоставлени€ преследуют цель только иллюстративную: в ходе всего исследовани€ мы посто€нно встречаемс€ с дионисийскими геро€ми и ипостас€ми, Ч умножим их число несколькими новыми и показательными примерами.
2. Ѕезыменный √ерой
¬ведению ƒионисова культа предшествует по местам почитание безыменного √еро€. ѕодле храма ƒиониса олоната (Διονύσου Κολωνάτα ναός) в —парте был, по словам ѕавсани€, св€щенный участок Ђгеро€ї, и жертвы приносились ему фиасами менад раньше, чем ƒионису, потому что, Ч как толковала этот обычай молва, Ч он был вождем (ἡγεμών), приведшим бога в —парту. ћы полагаем, что герой этот отнюдь не √еракл, с которым пытались отожествить его, ибо тогда он не мог бы остатьс€ неназванным, Ч но ипостась самого ƒиониса: на это указывает соответствие его очага (ἐσχάρα) пригородным героическим Ђочагамї божественного пришельца (например, в —икионе или на о.‘ере), которые продолжают считатьс€ ему принадлежащими и после того, как в городском кремле жертвуют ему уже на высоком алтаре (βωμός), как богу. ¬ јфинах ƒионис Ёлевтерий чтитс€ на южном склоне јкропол€ как бог, в предместье же Ч как герой; и когда возвращаетс€ к своему хтоническому жертвеннику, именуетс€ Ђвождем внизї (καθηγεμών).
Ёто не сделало, однако, излишней отдельную местную ипостась Ёлевтери€-геро€ как Ђвожд€ вверхї, т.е. в город (ἄστυ), Ч в лице элевтерийца ѕегаса, приведшего в јфины бога (ὥς Ἀθηναίοις τόν τέον εἰσήγαγε) и чтимого совместно с ƒионисом, как показывают описанные ѕавсанием (I, 2) древние изображени€ јмфиктионовых гостин. ƒа и сам јмфиктион, как все гостеприимцы ƒионисовы, Ч дионисийский и, следовательно, страстной герой; его страсти (πάθος) состо€т в низвержении с престола и изгнании (преследовании) со стороны Ёрихтони€, другого божественного двойника, некогда младенца в корзине (κίστη), навод€щего безумие на нимф јкропол€, и вместе зми€, Ч ипостаси афинского пра-ƒиониса и геро€ миметических действ в эпоху Ћукиана (de salt. 39), веро€тно весьма древних по происхождению. ƒионисийским героем афинской старины €вл€етс€ и последний по легенде царь одр, не имеющий прочного места в генеалогической традиции сын того ћеланфа, что при помощи ƒиониса победил на поединке санфа, Ч сын, следовательно, геро€-ипостаси киферонского ƒиониса ћеланайгида. одр претерпевает πάθος Ђперед городомї (πρό τής πόλεως); но гроб его оказываетс€ потом в окрестност€х ƒионисова театра, т.е. участка ƒиониса Ёлевтери€, близ Ћисикратова хорегического пам€тника. ”подобленный ƒионису самим перемещением культа, он нужен был афин€нам (особенно в эпоху орфической реформы) дл€ обосновани€ дионисийского характера сакральной власти архонта-цар€, живущего в Ѕуколии и уступающего на празднике јнфестерий жену свою ƒионису.
„то касаетс€ безыменного √еро€, он мог уцелеть в отдельных местност€х, как герой κατεξοχήν, Ђдобрый геройї (ἥρως χρηστός), Ђгерой-господинї (κύριος ἥρως), бог-герой Ч напр., в лице фракийского и фессалийского Ђвсадникаї, повтор€ющегос€ в длинном р€де загадочных изображений. “ам же, где было придано ему собственное им€, он должен был, в эпоху торжества ƒионисовой религии, быть узнан как ипостась ƒиониса, как его двойник-предтеча, и зачислен в разр€д героев, чь€ близость к ƒионису ознаменована и характерными чертами мифа, и обр€дом. ¬ Ёлиде, напротив, герой был, по-видимому, рано отожествлен с ƒионисом, но все же предшествовал ему в виде оргиастически призываемого хтонического быка.¹
___________________________
[1] ¬ оргиастическом призывании (точнее, вызывании Ч ἀνάκλησις) элейских женщин, сообщаемом ѕлутархом: ἐλθεῖν ἥρω Διόνυσε ktl., с припевом: ἄξιε ταῦρε, Ч первоначальной представл€етс€ нам формула: ἐλθεῖν, ἥρω ἄξιε ταῦρε, ἐλθεῖν βοέωι ποδί θύων.
3. “ипы геро€-конника. ƒионисийские мученицы.
¬ качестве всадника близок фракийскому и фессалийскому герою аргивский конник, наездник черного кон€ јрейона, двойник и предтеча ƒиониса Ч јдраст. Ђ“рагические хорыї, славившие в —икионе его Ђстрастиї, по словам √еродота, были Ђотданыї тираном сикионским лисфеном ƒионису, Ч возвращены богу, как его исконное досто€ние. ¬ јргосе остатки јдрастова дворца показывались близ ƒионисова храма; гроб его, как подобает дионисийскому гробу, Ч ƒельфы здесь были прообразом, Ч оказалс€ в храме јполлоновом; в ƒельфах была воздвигнута аргив€нами јдрастова стату€. ульт его в —икионе, по √еродоту, заменен был, по соображени€м политическим, другим героическим и дионисийским культом, составл€вшим, очевидно, его эквивалент: это был культ фиванского ћеланиппа. »так, владельцу черного кон€ противопоставл€етс€ Ђчерноконныйї, двойнику Ч враждебный двойник. ќба Ч ипостаси ƒиониса-јида, оба Ч герои страстей, причем πάθος ћеланиппа носит специфически-дионисийский характер: он обезглавлен.
— другим, одноименным только что рассмотренному, страдальческим обликом ƒиониса-јида встречаемс€ мы в лице прекрасного юноши ћеланиппа, античного –омео эпохи романтических переделок и украшений мифологического предани€. ќн влюблен в юную жрицу патрской јртемиды-“рикларии, по имени омето, и проводит с ней ночь в храме ужасной богини. »стори€ погибших любовников должна была служить этиологическим объ€снением человеческих жертв обоего пола, которые приносились сопрестольникам, древнему ƒионису и јртемиде, до Ђнового заветаї ƒиониса-Ёсимнета (т.е. устроител€, умирител€), получившего свое им€ от нового и примирительного закона, им данного через фессалийца Ёврипила. ѕоследний также лик ƒиониса-јида, как это доказывают и его им€ Ђпривратника широких вратї, и принесенный им из вз€той ахе€нами “рои ковчег с идолом другого ƒиониса, как бы удвоивший собою его собственный гроб в ѕатрах.
Ќо мало того, что всадник на черном коне находит двойника-соперника в лице „ерноконного, ћеланиппа: им€ Ђ„ерноконныйї (μελάνιππος), но уже в другой форме Ч ианипп (Κυάνιππος), Ч нос€т и сын, и внук его; могильное им€ матери последнего также омето. ћы видим, что основна€ иде€ јдрастова культа Ч почитание геро€-всадника. ианипп в ‘ессалии оказываетс€ охотником, убивающим своих собак, растерзавших его жену, на костре погибшей, и потом лишающим себ€ жизни: такова, по крайней мере, поздн€€ сентиментальна€ новелла, первоначальное обр€довое значение которой прозрачно. ∆ена ианиппа Ч Ћевкона, бела€, Ч жертва и ипостась лунной јртемиды-√екаты; двойник јдраста, преследователь служительниц јртемидиных, собак √екаты, Ч страстнόй дионисийский герой, лик фессалийского подземного пра-ƒиониса, служение коему было св€зано с кровавыми обр€дами тризн.
ƒругой пример растерзани€ дионисийской героини (срв. мифы о ƒирке, размыканной быком, и о ћинфе, растерзанной ѕерсефоной) представл€ет собою дол€ нимфы Ёхо: гнева€сь на нее, ѕан привел в безумие пастухов и козоводов, которые разорвали ее, как псы или волки. ћиф принадлежит к буколическому кругу, где ƒионис почитаетс€ под именем ƒафнида, юного товарища охот јртемидиных, геро€ страстнόго, и обличает верность буколической песни коренной оргиастической традиции. ѕан здесь заместитель самого ƒиониса, он частично отожествл€етс€ с ƒафнидом, и приписание убийственного де€ни€ ему было обусловлено несовместимостью такового с нежной маской буколического полубога.
4. “ипы геро€-охотника
ƒикий горный охотник со сворой хтонических собак жил в героических культах, то как безыменный герой, Ч например, герой (горы) ѕелиона, которому в области фессалийских магнетов еще во II в. до н.э. или даже позднее некий ѕифодор, сын ѕротагора, воздвигает по обету эдикулу с рельефом, изображающим юного копьеносца и лань, и с посв€щением Ђ√ероюї Ч то под случайными местными наименовани€ми, как инорт (Κυνόρτας) или инна (Κιννής) на аттическом √имете. Ќе только сам Ђборз€тникї ( инорт) Ч предмет культа, но и его Ђсобакиї и Ђдоезжачиеї (κυσίν καί κυνηγέταις), что указывает уже на общины служителей ловчего бога, ибо религиозные общины часто означались тотемом св€щенного животного (каковы: Ђмедведицыї, Ђбыкиї, Ђкозлыї, Ђпчелыї и т.п.). ≈стественно, что эти местные, почти или вовсе безыменные, мелкие культы т€готеют к сли€нию с культами большими и общепрославленными, и мы видим, что инорт сливаетс€ с јполлоном ћалеатом, инад с ѕосейдоном, а Ђпсариї приживаютс€ к св€тилищу јсклепи€.
»так, пра-ƒионис «агрей не был достаточно могуществен, чтобы объединить под своим именем все родственные культы; он становитс€ Ђвысочайшим из боговї лишь после того, как отожествл€етс€ с ƒионисом. ќргиастическа€ жизнь анонимных общин его поклонников так и не нашла своего естественного русла. ≈го иноименный двойник јктеон был низведен на ступень второстепенного геро€. —трастной герой (о чем свидетельствует и утвержденное ƒельфами почитание его гроба в ќрхомене), он был некогда богом страстей, ¬еликим Ћовчим, пра-ƒионисом јидом, и блуждал по горным дебр€м и каменистым вершинам в оленьей шкуре (Nonn. V, 413), ища кровавой добычи. »мена јкусила€, —тесихора, ѕолигнота ручаютс€ за его первоначально независимое от јртемиды значение: он ипостась ќмади€-«агре€, во им€ которого растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей), чтобы напитать причастников кровью самого бога. ћедный кумир јктеона, прикованного к скале в ќрхомене (Paus. IX, 38, 5), Ч то же, что древний идол Ёниали€ в оковах, виденный ѕавсанием в —парте, или ƒиониса-ќмади€ в оковах на ’иосе. “ем не менее, св€зь јктеона с јртемидой исконна€: это св€зь Ћовчего ќмади€ с охотницей јгрионией, Ч общение культов и в то же врем€ оргиастический обр€довый антагонизм. ” ≈врипида мы встречаем мотив соревновани€ обоих:
[2] ¬ мотиве похвальбы геро€ и его сост€зани€ с божеством, мы вправе подозревать в герое полузабытый лик бога-соперника. “аковы, например, дионисийские типы лирников Ћина и ‘амиры и флейтиста-сатира ћарси€, страсти коих и гибель в сост€зании с јполлоном знаменуют подчинение представл€емых ими родов энтузиастической музыки јполлонову культу.
Ѕешенство јктеоновых собак Ч друга€ форма того же представлени€ о растерзании менадами. „ьи же эти менады Ч ƒионисовы или јртемидины? ћиф представл€ет собак то собственной сворой јктеона, то сворой јртемиды: дело идет об оргиастических сопрестольниках и о жертвенном лике оргиастического бога, умерщвл€емого женщинами, его служительницами и жрицами; преследование здесь знак культового сли€ни€, а не разделени€, обмен жертв, а не вражда культов. Ќа кратере (–убо) неаполитанского музе€ јктеон, с оленьими рогами на голове, в присутствии јртемиды, подземного √ерми€ (Ἑρμῆς) и ƒионисова спутника Ч ѕана, убивает св€щенную лань.
¬ противоположность дикому јктеону, охотник »пполит, сын амазонки јнтиопы и дионисийского “есе€, Ч дружественна€ јртемиде ипостась ее сопрестольника; его страсти, однако, подобны јктеоновым и нос€т чисто дионисийский отпечаток: только не собаками разорван он, а размыкан Ч герой-конник Ч кон€ми.
5. ќрест и ѕилад
ќрест Ч одна из определенно выраженных прадионисийских ипостасей. Ђ—ын отчийї Ч (Aesch. Ch. 1051) и столько же маска ƒиониса-јида, сколько јгамемнон Ч «евса, недаром приходит он гостем на навьи гостины афинских јнфестерий, безмолвный в круг безмолствующих, как и подобает гостю с того света. Ђ√орецї по имени, пришелец с парнасских предгорий, он Ч подобие Ђгорного скитальцаї (ὀρειφοίτης), ¬еликого Ћовчего.³ ≈го гонит, как јктеона, охотничь€ свора Ќочи и, обреченный јиду обетным постригом, он одержим безумием: вот отличительное в его страстнόм обличии.
___________________________
[3] ‘анокл (по цитате у ѕлутарха):
Ђ√орный скиталец, узнал ƒионис, как прекрасен јдόнис:
Ўествует, быстрый, на ипр, и похищает егої.
ƒельфийской ќрестии предшествовала дионисийска€, как дельфийскому јполлону парнасские менады Ќочи. Ёта ќрести€ оставила €вные следы в јркадии, где он отожествлен был с ќрестеем, сыном Ћикаона (Paus. VIII, 3, 1), Ч и, по-видимому, не случайно: не в силу только общности имени, но и в силу внутренней св€зи местного хтонического и фаллического (δάκτυλος) ќресте€-ќреста с аркадским оргиастическим культом Ёриний, богинь Ќочи, вдыхающих в человека безумие (μανίαι). ѕервоначально матереубийство Ч убиение жрицы двойного топора Ч мыслилось соде€нным в безумии, как и јлкмеоново матереубийство, по некоторым вариантам мифа, непредумышленно и бессознательно. Ѕезумие как последствие матереубийства Ч уже аполлонийска€ верси€. ѕевцы √омеровой школы, вообще чуждающиес€ оргиастического мифа, предпочли вовсе умолчать об этом темном деле. ќчищение, во вс€ком случае, было совершено, согласно аркадскому преданию, Ђчернымиї богин€ми, превращающимис€ в Ђбелыхї: так дионисийский ћеламп очищает обезумевших от ƒиониса ѕройтид. Ёсхилово действо в некотором смысле реакци€ против аполлонийского видоизменени€ легенды и частичный возврат к более древней ее форме: јполлон оп€ть оказываетс€ немощным очистить ќреста; очищает его, конечно, и не јреопаг, чье решение только улаживает договор с Ёвменидами; последнее слово и завершительное сн€тие недуга остаетс€ за ними.
ѕилад (Πυλάδης), Ђвратникї по своему имени,⁴ одноименный, как с ѕилаохом-јидом (ѕυλάοχος), так и с √ермием-ѕилием, и €вно лик последнего, т.е. подземного √ерми€, с имени которого начинаетс€ Ёсхилова трагеди€, которого не напрасно же призывает, сто€ на отцовском кургане, ќрест, и не напрасно дает ќресту в спутники јполлон, Ч молчаливый ѕилад составл€ет с ним такую же чету, как с ƒионисом хтоническим и фаллическим юный ѕросимн.
___________________________
[4] Ќапрасно им€ это сближают с ‘ермопилами, когда Πύλαι значит по преимуществу πύλαι Ἀΐδαο (Theognis, 427), Ἅιδου πύλαι (Aesch. Ag. 1291), πύλαι εἰς Ἀΐδαο (h. Orph. XVIII). »з этого гомеровского (напр. Il. IX, 312) образа, а не наоборот, развиваетс€ представление о δόμοι Ἀΐδαο, ибо порог и ворота служили местом погребени€ (Eitrem, Hermes und die Todten, S. 38). Πύλαι встречаетс€ в хтонических именах, как Ёврипил (Εὐρύπυλος).
ќрест умирал не раз: он был растерзан собаками и, как кажетс€, размыкан кон€ми (уже ќдиссе€ учит, что обманы, к которым прибегают герои, суть Ч версии истинного мифа, и потому неспроста выдумана заговорщиками повесть о смерти ќреста на ристалище); он, наконец, пал жертвой јртемиды таврической. ћало того: еще младенцем погиб он от “елефа, Ч геро€, конечно, дионисийского, Ч потом от Ёгисфа, Ч и старцем Ч от укуса змеи (как змием, сосущим грудь матери, привиделс€ он, по Ёсхилу, во сне, накануне рокового дн€, литемнестре). Tριστίς Ορέστες (по √орацию), он посто€нно выходец из могилы, из недр того кургана, на котором стоит со своим неразлучным и безглагольным спутником, блюдущим вход и выход безмолвного царства, Ч стоит, возглаша€ свой чудесный возврат и укор€€ в неверии живых, которые гл€д€т на него Ч и глазам своим не вер€т. »сторизирующа€ легенда по-своему спа€ла разрозненные части таинственного мифа о вечно сход€щем в могилу и из нее возвращающемс€ боге-герое в суховатую и отталкивающую биографию, которую она не умеет достойно закончить. ќрест неразрывно и вместе антагонистически св€зан с јртемидой как ƒионис: отсюда его дружба с Ёлектрой, и противоположность »фигении, и роль жертвы в “авриде, и похищение кумира Ταυροπόλος, несомненный знак сопрестольничества. Ёто похищение, как было правильно отмечено –ошером, находит параллель в мифе о критском нагее, бледном, но €вно дионисийском отражении ќреста.
6. јристей. Ἀφανισμός. ћелитей. —очетание героических ипостасей ƒиониса и јртемиды.
јристей Ч широко распространенное и по отдельным местност€м разноокрашенное олицетворение плодонос€щей силы подземного (как это €вствует из эвфемистического имени) пра-ƒиониса. ¬ качестве ипостаси јида, он преследует Ёвридику, супругу ќрфе€, и вызывает пчел из тлени€. ≈го сыновь€ ’арм (”слад) и алликарп ( расноплод), как сам ƒионис, по √омеру, Ђуслада смертныхї (χάρμα βροτοίσιν) и, по надпис€м, Ђѕлодовикї (Κάρπιος) и Ђ расноплодї (Καλλίκαρπος). ульт јристе€ несомненно древнее имени и лица ƒионисова; примечательны воинственные пл€ски в честь его на еосе, подобные пл€скам критских куретов. “оржество ƒиониса низвело јристе€ в герои. ¬ —ицилии он был сопрестольником (πάρεδρος) ƒионисовым. —ыном јристе€-охотника оказываетс€ јктеон. ∆енский ƒионисов коррел€т представлен в цикле јристе€ Ч матерью иреной (јртемидой) с одной стороны, с другой Ч супругой јвтоноей, сестрой —емелы и матерью јктеона. ƒочь јристе€ угощает ¬акха вином. Ѕолее того, он с ћакридой, дочерью, воспитывают младенца ƒиониса, по поручению √ерми€; ћакрида, по имени которой дионисийский остров Ёвбе€, где младенец был вскормлен, именовалс€ вначале ћакридой, Ч одна из дионисийских нимф-мамок (τεθῆναι). —паса€ ребенка от преследующей его √еры, ћакрида бежит с Ёвбеи на остров феаков, оркиру, также именуемый ћакридой; там она таит бога в пещере Ђс двойным входомї (δίθυρος; отражение в мифе культовой этимологии имени Ђƒифирамбї). —оперничество јристе€ с ƒионисом как покровителем винодели€, в защиту дара пчел и еле€ Ч не противополагает его ƒионису, но именно с ним сближает.
Ѕудучи древнее ƒиониса, бог јристей не необходимо должен претерпеть, как собственно герой, трагические страсти: πάθος ƒикого ќхотника перенесен на јктеона; уход с земли божественного отца мыслитс€ как ἀφανισμός Ч вз€тие в горные недра. Ἀφανισμός самого ƒиониса рассматривалс€, впрочем, все же как род Ђстрастейї. –ес восхищен в недра горы после претерпенного мученичества; —алмоксид, пра-ƒионис фракийских гетов, –адаманф, брат ћиноса, божественный сын прадионисийской »о Ч Ёпаф, также вз€тые в гору, страстной доли не имели, подобно јристею, тогда как поглощение землей дионисийского јмфиара€ носит характер героических страстей. ћенее известно исчезновение Ёвтима (Εὔθυμος), несомненно дионисийского геро€ италийской Ћокриды, который освобождает жителей “емеса от безыменного √еро€, требовавшего ежегодно в жертву девы, одолев его в посв€щенном ему храме (как “есей ћинотавра в Ћабиринте), после чего √ерой исчезает в море: легенда отражает, по-видимому, утверждение кроткой религии ƒиониса на месте человекоубийственной прадионисийской; √ерой здесь предшествует ƒионису, как Ἀμείλιχος (Ђсуровыйї) в ѕатрах ƒионису-Ёсимнету. „то до –еса, племенного бога-охотника дионисийских эдонов, религиозное значение которого во ‘ракии доказывает сама интерпол€ци€ ƒолонии в »лиаде, Ч повесть у ѕарфени€ о любви охотницы јргантоны (ипостаси јртемидиной) заставл€ет предполагать, что он был объектом женских плачевных вызываний (ἀνάκλησις) как бог исчезнувший: узнав о смерти –еса, јргантона блуждает по местам прежних свиданий, громко зовет возлюбленного по имени, потом исчезает у речных струй, как нимфа-менада.
ѕараллелен јристееву мифу миф о ћелитее (Μελιταῖος), вскормленнике пчел и основателе пчелиного города Ч ћелиты фтийской (Μελίτη). ≈го принадлежность миру подземному обнаруживаетс€ в предании о деве јспалиде. ¬ ћелите царствует уже не ћелитей, а “артар (итак, вот кто был ћелитей),⁵ Ч ибо пчелиное царство (как €вствует из знаменитого мифа об јристее, рассказанного ¬ергилием, Georg. IV, 315 sqq.), возникает из смерти.⁶ “артар покушаетс€ овладеть јспалидой, но его убивает брат девы, јстигит, надевший на себ€ одежду сестры. јспалида повесилась; тело ее не могут найти; взамен тела јртемида дает изображение, перед которым с того времени девы города принос€т в жертву козл€т, как перед кумиром богини, искупа€ тем собственную жизнь. ¬се предание Ч €ркий пример сопрестольничества ƒиониса и јртемиды. јспалида Ч Ёригона; превращение повешенного на дереве женского тела в кумир Ч αἴτιον (Ђпричинаї) обр€да эоры (αἰώρα), в котором человеческие жертвы были заменены подвешенными к ветв€м куклами. ак в мифе об »карии и Ёригоне, культы обоих оргийных божеств неразрывно слиты; жертвенные девы мысл€тс€ охваченными самоубийственным безумием. ѕереодевание юношей в женские одежды Ч черта обща€ обоим культам и запечатлевающа€ их св€зь. јспалида как ипостась јртемиды родственна критской ƒиктинне. ѕо √есихию, ἄσπαλος Ч рыба, ἀσπαλιευτής Ч рыбарь. Ђ–ыбарьї Ч одно из обр€довых именований островного ƒиониса, как на островной обр€довый круг указывает и переодевание. јспалида Ч Ђрыбицаї Ч быть может, одно из имен јртемиды низин (Λιμνῆτις, Ђболотна€ї), ибо ƒиктинна Ч Ђмрежницаї Ч бегает, охот€сь, по болотистым заросл€м (φοιταί διά λίμνας, Eur. Hipp. 145). ≈е преследует ћинос, критский пра-ƒионис двойного топора; она кидаетс€ в море и попадает в рыбачьи сети (δίκτυα, Callim. h. III), Ч как рыбачьими сет€ми вылавливаютс€ кумиры ƒиониса и тела дионисийских героев.
___________________________
[5] —рвн. ћелитода (Μελιτώδης) Ч эпитет ѕерсефоны, соправительницы јида.
Μελιτώδης ἡ (sc. θεά) Ђћедова€ богин€ї, т.е. ѕерсефона (которой приносились медовые лепешки) Theocr.
[6] ћученическа€ смерть цар€ ќнесила на ипре повела за собою его провозглашение героем из ƒельфов и установление его культа, потому что сопровождалось чудом: в его отрубленной голове, выставленной на городской стене, завелс€ пчелиный рой (Deneken, ЂHerosї, Roscher's Myth. Lex. I, 2520). „удо с пчелами и πάθος, были, следовательно, мотивами его сопричтени€ к сонму дионисийских мучеников.
7. √еракл. Ёней.
ƒревнейша€ истори€ √еракла в эллинстве Ч истори€ неудавшейс€ попытки объединить элементы будущей ƒионисовой религии вокруг этого Ђгеро€-богаї, как именует его ѕиндар (Nem. III, 22: ἥρως θεός) наименованием, собственно подобающим одному ƒионису. ћного причин обусловило неудачу: и печать доризма, которую, постепенно застыва€ и камене€, принимает его уже только подвижнический образ, Ч и его отчужденность от жизнемощных корней материкового, фракийско-парнасского оргиазма, Ч и, наконец, сама устойчивость представлени€ о нем, исключающа€ ту не героическую, но божественную легкость превращений, кака€ прежде всего оказалась необходимой дл€ владыки смерти и возрождени€, дл€ бога нижнего и вышнего вместе, дл€ небожител€ и внезапного стихийного демона в одном лице. ¬ свою раннюю пору √еракл (по-видимому Ч —андон хеттского “арса) был прадионисийским сопрестольником оргиастической богини, умирающим на костре и воскресающим, увенчанным виноградными гроздь€ми, грозным своими рогами и обоюдоострой секирой. ќн был тогда и навсегда осталс€ своего рода богочеловеком, претерпевающим страсти. ¬ свою позднейшую пору он непрерывно сближаетс€ в свойствах, судьбах и де€ни€х с ƒионисом, во всем ему уподобл€етс€, но при этом остаетс€ себе верен так, что черты сходства кажутс€ проистекающими из его самобытной природы: всегда эллины чувствовали его исконную независимость от ƒиониса и не забыли в нем своеобразного предтечи ƒионисова.
¬ самом деле, герой из героев, но уже не бог, √еракл, искони ƒионису подобный, встретив на пути своем истинного геро€-бога, не мог остатьс€ ему чуждым, но и затер€тьс€ в сонме его спутников не мог: возможно ему было только как бы удвоитьс€ божеством ƒионисовым, что и случилось. ажетс€, что лишь путем такого удвоени€ достигнуто было полное обожествление геро€-страстотерпца, ибо √еракл страждущий, умерший и возведенный на ќлимп,⁷ предполагает утверждение ƒионисовой религии как предварительное условие. ѕо ¬иламовицу, миф о безумии √еракла создан дл€ мотивации √ераклова ухода к Ёврисфею, в дионисийских ‘ивах. Ќо веро€тнее, что безумие, налагающее на геро€ дионисийскую печать (Ѕеллерофонт, јлкмеон, ќрест, Ёант), было простым следствием усмотрени€ одноприродности √еракла и ƒиониса. ѕереодевание √ераклова жреца в женские одежды на о. осе и этиологическое объ€снение обр€да, известного, по-видимому, и в других местах, мифом об ќмфале свидетельствуют не только о факте распространени€ на √еракла островного дионисийского культа, но и о внутренней возможности этого распространени€ в силу исконных особенностей культа √ераклова, как €влени€ производного из религиозного круга малоазийской ¬еликой ћатери, –еи.
___________________________
[7] ѕри описании амиклейского трона ѕавсаний (III, 18, 11) говорит об изображении младенца ƒиониса, несомого на ќлимп √ермием, и √еракла, ведомого туда же јфиной дл€ сожительствовани€ с богами.
√еракл и ƒионис воистину брать€. Ѕоги не могут победить √игантов без помощи двух героев, рожденных «евсом от смертных матерей Ч —емелы и јлкмены. «апрет кл€стьс€ именем √еракла и равно именем ƒиониса под кровлей дома (υπό στέγη) также указывает на одинаковое чувствование обоих как носителей какой-то грозовой, безумно и разрушительно высвобождающейс€ силы. ќба служат мистическим звеном, соедин€ющим мир живых и мир загробный: ибо √еракл более древний посетитель јида, чем дионисийские “есей и ѕирифой, Ч он укротил ербера, он и на земле одолел бога смерти (Θάνατος); поэтому мисты нисход€т в подземное царство под общим покровительством обоих братьев. —тремление в теснейшем сближении представить обоих, равно воплощающих собою религиозный идеал бога-сына, страдальца и спасител€ (ἀλκτήρ, σωτήρ), сказалось в следующей, поздней эпохи, надписи (Anthol. Pal. II, p. 682):
Ётолийский цикл дионисийских легенд и дионисийска€ генеалоги€ этолийских героев восполн€ютс€ преданием, что мать ћелеагра, јлфе€ (Ἀλθαίη), супруга Ёне€, родила от ƒиониса ƒе€ниру (Δηιάνειρα): так √еракл св€зываетс€ со своим божественным братом и через роковую виновницу страстной своей смерти. ћелеагр, напротив, рожден јлфеей (по версии, обработанной ≈врипидом) от јре€. Ёней (Οἰνεύς)⁸ Ч вместе ипостась ƒиониса и јре€, существенное тожество коих было уже выше показано. ќн св€зан с ƒионисом, как винодатель и гостеприимец ƒиониса и √еракла (убившего у него в доме, очевидно Ч в дионисийском безумии, отрока-виночерпи€) Ч как сыноубийца, как беглец от јгри€ (подобно ƒионису, беглецу беотийских јгрионий), как страстотерпец, по јполлодору (I, 8, 6), и герой гробницы в аргивской Ёноэ (Οἰνόη), Ч наконец, как сын ‘ити€ (Φύτιος) и внук ќресте€, родоначальника озольских локров, обретшего виноградную лозу как песий дар, т.е. дар летнего зно€. — јреем же сближает Ёне€, прежде всего, происхождение от воинственного бога, намеченное уже √омером, считающим его не за сына дионисийского ‘ити€, а за сына ѕорфе€ и јреева внука. ѕо-видимому, в этолийском цикле оба божества были нераздельны: первоначально оргиазм племени был мужески-воинственным, и позднее узнанный ƒионис €вилс€ лишь обособленным аспектом древнего бога этолийских куретов. Ётолийский пра-ƒионис соедин€л в себе черты влажного ƒиониса (Ὕης Οἰνεύς)⁹ и јре€; женским коррел€том его была јртемида, виновница калидонской охоты.
___________________________
[8] οἴνη, дор. οἴνα ἡ
1) виноградна€ лоза Hes.
2) вино Anth.
[9] Ὕης, Ὑῆς (-ου) ὁ принос€щий дождь (эпитет ¬акха и —абази€) Arph., Plut.
8. »постаси ƒиониса жертвенного и цветущего
„ем грознее рисуютс€ образы прадионисийской старины, Ч каков Ёней, Ч тем неожиданнее и €рче выступают, преломленные в героических ипостас€х, очертани€ иного типа: лики пра-ƒиониса кроткого, благостного, жертвенно страдающего. “ут мысль невольно обращаетс€ к ќрфею: но мы воздержимс€ от уже испробованного в науке анализа трудной темы, не наде€сь со своей стороны способствовать точному вы€снению первоначальных черт этого, во вс€ком случае, хтонического и оргиастического бога. ћудрый и праведный воевода ахейского воинства под стенами “рои, жертва предательства и невинный страстотерпец, ѕаламед, стал дл€ эллинов, подобно √ераклу, религиозно-нравственным идеалом геро€ Ђпассийї и не был забыт как таковой даже в византийской поэзии. ѕо словам сенофонта (Cyneg. I, II), Ђбез вины убиенный, он столь великой чести удостоен был от богов, как никто иной из смертных; пал же не от руки тех, кому приписывают это дело (т.е. ќдиссе€, јгамемнона, ƒиомеда), но от руки злодеевї. » сенофонт, конечно, прав: страсти ѕаламеда древнее, чем историко-драматическа€ мотиваци€ гибели геро€. јполлоний “ианский, по ‘илострату, находит гроб его на месте страстей, где не прерывалось издревле его почитание, Ч а над гробом его статую, с надписью: ЂЅожественному ѕаламедуї, Ч и молитс€ ему так: Ђƒревний гнев забудь, о ѕаламед, и дай родитьс€ мужам многим и мудрым, ты, через кого в люд€х разумение, чрез, кого ћузы, чрез кого € самї. ѕримечательно, что ѕаламед из подземного царства покровительствует (по ‘илострату, Her.) и виноградникам.
оварно загублен и камн€ми завален, подобно побитому камн€ми ѕаламеду, јнфей (Parthen. 15). ультовое им€ Ђјнфейї (Ἀνθεῦς, Ђцветущийї) носит ƒионис в ѕатрах, где бог в св€щенной ограде (τέμενος) некоей героини почиталс€ одновременно в трех ликах Ч как Μεσατεύς, Ἀνθεῦς, Ἀρόεις.¹⁰
___________________________
[10] ἀερόεις, эп.-ион. ἠερόεις (-όεσσα, -όεν) туманный, темный; ex. (Τάρταρος Hom., Hes.).
јнфей, сын јнтенора, также, по-видимому, в качестве одного из героев страстного цикла, неча€нно убит ѕарисом. јхейский јнфий (Ἀνθείας) Ч вариант патрского ƒиониса јнфе€: этой отроческой ипостаси ƒиониса придан характер страстного “риптолема (как ‘аэтонту Ч страстного √ели€), он падает со змеиной колесницы се€тел€, сп€щего в доме јнфиева отца, Ёвмела; всем троим усвоены черты дионисийские. ќдноименный јнфа (Ἄνθα, Ἄνθης), герой “резены, исчезает отроком: его похищает јдраст и делает своим виночерпием (срвн. миф о √анимеде). ћладенческий облик страстного бога, напоминающий амфиклейскую легенду, Ч немейский јрхемор, он же ќфельт и Ч как это ни неожиданно Ч јмфиарай, жизнь которого таинственно св€зана с его жизнью.
»так, этот прадионисийский тип варьируетс€ от младенца до мощного хтонического бога, благ подател€, покровител€ произрастаний земных и чадороди€; оргиастический культ, ему посв€щенный, св€зан с сельскими празднествами и надгробным плачем, веро€тно и вызывани€ми (ἀνάκλησις); предметом плача служат божественные страсти. “акой младенческой или отроческой ипостасью еще не обретенного ƒиониса €вл€етс€ Ћин (Λίνος), чье им€ служит обозначением одного из древнейших действ.
Ёту сельскую сцену выковал на јхилловом щите √ефест. ћальчик изображает в обр€де того бога или геро€, которого хор оплакивает. » если плач зоветс€ по припеву Ђлиномї (λίνος), то и сам отрок Ч Ћин (в действе), и круговой хор правит страсти Ћина,¹¹ как сикионский круговой хор правил страсти јдраста. Ђ∆алобна€ заплачка, заимствованна€, по-видимому, у финики€н, сочеталась, как оргийный момент экстатической скорби, с восторгами веселых празднеств виноградного сбора и с представлением о безвременно погибшем некоем боге-младенце, чье им€ и чей образ мы встречаем в собственной √реции в местных аргивских легендахї, по которым он разорван собаками; френетическое междометие дало им€ безыменному ребенку, герою страстей. јналогию Ћину составл€ет египетский ћанерос (μανέρως);¹² родственны и страстные участи отроков Ѕорма и √илла.
___________________________
[11] ¬озможно праздник св€зан с уборкой льна (λίνον). Ћибо перекликаетс€ с афинскими Ћене€ми (Λήναια).
λίνεος Ч льн€ной; ex. ὅπλα λίνεα Her. Ч льн€ные канаты.
Ληναῖος ὁ Ћеней (бог винодели€, т.е. ¬акх-ƒионис) Diod., Anth.
Λήναια τά (sc. ἱερά) Ћеней (афинский праздник винодели€ в 8-11 дни мес€ца Γαμηλιών в честь ¬акха; к нему приурочивались сост€зани€ драматургических произведений) Arph., Arst.
Λῆναι (-ῶν) αἱ лены, т.е. вакханки Anth.
[12] μανέρως, μανερῶς ὁ (dat. μανέρωτι, acc. μανέρωτα) погребальна€ песнь у египт€н Her.
Μανέρως, Μανερῶς Ч им€ рано умершего сына первого егип. цар€.
«асыпан камн€ми в јргосе, подобно упом€нутому јнфию, и некий ћеланхр (Μέλανχρος), которого сближают с дионисийским циклом, кроме его пафосa, и им€, и культ гробницы. Ћидийский јмпел (Ἄμπελος, Ђвиноградна€ лозаї, Ђвиноградї), тожество коего с ƒионисом виноградников означено самим именем, Ч любимый богом отрок, умерщвленный быком, т.е. самим ƒионисом в исступлении. ’тонический характер амиклейских »акинфий и употребление на празднике плющевых венков €вл€ют их как дорический аналог ионийских јнфестерий и позвол€ют подозревать в юном »акинфе (Ὑάκινθος), страсти и могила которого типичны дл€ дионисийских героев, одну из отн€тых јполлоном у ƒиониса добыч, тем более, что культ выводитс€ в предании из ‘ив и что неизменный женский коррел€т геро€ не отсутствует Ч в лице »акинфовой сестры ѕолибои (Πολύβοια), носительницы имени (срв. Εὔβοια, им€ ƒионисова острова и менады), свойственного јртемиде, либо оре-ѕерсефоне.
„то страстные герои цветени€ принадлежат дионисийскому кругу как демонические ипостаси ƒиониса-јнфе€, показывает и миф о прекрасном Ќарциссе, охотнике и брате неразлучной с ним и совершенно ему подобной сестры-охотницы (Paus. IX, 31:6), встречающем в своей жизни дионисийскую нимфу Ёхо (растерзанную потом безумными пастухами в волчьих шкурах) и двойника с мечом (Αμεινίας), чтимом у своей гробницы в ќропе глубоким молчанием, как ќрест на празднике јнфестерий, и именуемом, как божество подземное, Ђмолчаливымї (σιγηλός).¹³ Ѕог јдонис, самосто€тельный прадионисийский страстной лик, €вл€етс€ дионисийским героем, как мы выше видели (І 5), через Ђпохищениеї ƒионисом-ќхотником.
___________________________
[13] και Σίγηλος μεν κύριον ὄνομα Ναρκίσσου, σιγηλός δε ο σιωπηλός. (по ≈встафию ad Οdyss. p. 1967, 36).
9. ѕатетическа€ стилизаци€ героической легенды
ћногие общие черты сближают с ѕаламедом другого страстного геро€ из тро€нского цикла Ч ѕротесила€. ѕоследний Ч €вна€ ипостась пра-ƒиониса подземного, и ≈врипид настойчиво приводит его в св€зь с ƒионисом. Ћаодами€ совершает перед его статуей вакхические служени€, что подтверждаетс€ и изображени€ми на саркофагах. ѕротесилай владеет дионисийским оракулом и, подобно ѕаламеду, покровительствует виноградникам.
–адаманф справедливый, светлокудрый брат ћиноса критского, ипостаси бога двойной секиры, начальник блаженных душ, обитающих в Ёлисии, милостивый лик подземного «евса, кроткое солнце глубин, куда он перенесен с лица земли, Ч не отожествл€етс€, но сопоставл€етс€ с ƒионисом-јидом, родственное сходство с которым отличает всех богоравных героев, вз€тых в земные недра, как –еса, —алмоксида, јристе€ и отца јлкмены Ч јмфиара€. ќтсюда соседство св€тынь –адаманфа и ƒиониса близ √алиарта, вокруг гробницы јлкмены, супруги –адаманфа в Ёлисии, а на земле Ч матери, от «евса зачавшей Ђспасител€ї, близкого и родного ƒионису, Ч √еракла. –адаманф, родоначальник царей дионисийской Ёвбеи, одно из звеньев, смыкающих эллинский культ ƒиониса с его предтечей, культом критского «евса.
ѕеренесение отдельных дионисийских черт на издревле прославленных страст€ми героев можно видеть на примере јхилла (Ἀχιλλεύς). ƒионисийский обр€д переодевани€ отроков в женские одежды отразилс€ одинаково в мифе о пребывании јхилла среди дочерей Ћикомеда и в мифе об укрывательстве јфамантом и его женою, »но, их воспитанника ƒиониса в девичьем нар€де. ƒионис помогает јхиллу, Ч как впоследствии македонский јлександр Ч Ђјхиллї Ч подражает ƒионису и признаетс€ его эпифанией (νέος Διόνυσος, Ђюный ƒионисї): по ипри€м, “елеф, бор€сь против јхилла, запутываетс€ в виноградную лозу, подобно фракийскому преследователю ƒиониса, Ћикургу. —огласно второй песне о мертвых (младшей Nεκυία) в ќдиссее пепел јхилла смешан с ѕатрокловым в золотой урне, подаренной ‘етиде ƒионисом; по ƒиктису, јхилл сам, умира€, завещает сложить в эту урну свой прах вместе с прахом ѕатрокла и јнтилоха. јхилл, несомненно, один из древнейших (восход€щих к эпохе до выселени€ эолийцев из ‘ессалии в ћалую јзию) объектов героического плача и laudationis funebris (Ђпоминальные панегирикиї) на праотеческих курганах, откуда и возникла эпическа€ οἴμη (Ђпеснь, сказаниеї). »бо песнь о нем есть песнь о несравненной славе, незаслуженных бедстви€х и роковой безвременной гибели народного любимца, богоравного смертного, преследуемого горем-злосчастием, потому что так написано ему на роду. Ќе значит ли потому и им€ его то же, что ѕенфей (ἔχω-πένθος)? ак бы то ни было, религиозное сознание народа естественно искало сблизить, насколько возможно, этих ранних героев френоса с обретенным после долгих поисков всеобщим богом страстей, Ђстрадающим богомї. ¬ ином отношении к ƒионису был счастливец “есей; но его принадлежность местности, насыщенной вли€ни€ми прадионисийских и дионисийских культов, и исконна€ св€зь с ритом имеют последствием то, что в длинном р€де наиболее €рких вы€влений своей религиозной сущности он оказываетс€ не подобием только, а как бы непосредственной эпифанией ƒиониса: вот почему сын Ёге€ Ч юноша в женской одежде Ч побеждает ћинотавра, добывает венец јмфитриты, сочетаетс€ с јриадной, а потом с ‘едрой, нисходит в јид, хоронит на своей земле изгнанников Ч великодушный гостеприимец, и прославл€етс€ Ѕакхилидом в дифирамбах.
ак некие €зыческие св€тцы, проходит перед нами героическа€ Ђзолота€ легендаї эллинской древности, и в ее пестром многообразии неожиданно выступает основна€ однородность, почти схематизм. –елиги€ ƒиониса как бога-геро€ и геро€-прообраза налагает на нее общую печать. ѕозднейшие мифообразовани€ эту печать закономерно принимают. “ак, выдержан в дионисийском стиле роман ѕанфеи в сенофонтовой Ђ иропедииї: верна€ жена слагает в пор€дке разрубленное тело мужа, рука которого, когда ир пожимает ее, остаетс€ в его руке, Ч а потом закалываетс€ на мужнином могильном кургане. “есей в трагедии —енеки также складывает вместе собранные части растерзанного »пполита. ¬ обоих случа€х представлено обр€довое сложение дионисийски разорванного тела (κατά σύστασιν ἀρμονίας) Ђпо составу его согласи€ї (κατά σύστασιν αρμονίας), что, как учили под египетским вли€нием орфики и позднее герметики, служит условием возрождени€ (παλιγγενεσία) умершего. Ќо наиболее, быть может, показательно про€вилась упом€нута€ стилизаци€ героической легенды по прототипу мифа о ƒионисе в греческой обработке чужеземного предани€ о –омуле: эллины и героизировали, и обожествили римского геро€-эпонима на свой лад. ≈му приписаны и могила (τάφος), и страсти (πάθος), Ч притом последние в форме σπαραγμός (Ђразрываниеї). ѕравда, римл€не вообще игнорировали эту чуждую им версию; однако, греческое представление о Ђпохищенииї (ἀφανισμός, ἁρπαγμός) на черных јреевых кон€х лежит в основе √орациева образа: ЂQuirinus Martis equis Acheronta fugitї.¹⁴
___________________________
[14] hac Quirinus Martis equis Acheronta fugit Ч этот вирин (т.е. –омул) на лошад€х ћарса избежал смерти ( винт √ораций ‘лакк, Ђќды 3.3.16. ÷езарю јвгустуї).
_______________________________
ƒ»ќЌ»— » ѕ–јƒ»ќЌ»—»…—“¬ќ
IV. √≈–ќ»-»ѕќ—“ј—» ƒ»ќЌ»—ј
1. √ерои как страстотерпцы древнейшего френоса и ἥρως Διόνυσος
√еро€ми называли эллины смертных (обычно, впрочем, родных по крови богам, если не пр€мо от богов рожденных смертными женами Ђсынов божиихї Ч θεών παίδες), прославленных необычайными де€ни€ми и участью, на земле претерпевших страдание, по смерти же не утративших индивидуальной силы воздействи€ на живых, особенно на ближних своего рода и племени и своей страны, имеющих свою сферу владычества в подземном царстве и умноживших собой неопределенно-огромный сонм подземных царей.
¬ легионе сошедших в недра земли Ђбогоравныхї (ἰσόθεοι, ἡμίθεοι), Ђблагородныхї (γενναίοι), Ђогромныхї (πελώριοι), Ђблагообразныхї (εὔμορφοι, Ч Aesch. Ag. 454), Ђсильныхї (ἰσχυροί, δυνατοί, κρείσσονες), Ђсв€щенныхї (σεμνοί) смешались, без сомнени€, забытые демоны и развенчанные по недоразумению боги, чье местное им€, прозвание и обличие не выдержало соперничества шире распространенных ознаменований того же или родственного религиозного пон€ти€, Ч с возвеличенными непрерывным стародавним почитанием родовыми и племенными пращурами, какими помнило их былинное и обр€довое предание заповедных урочищ. Ќо так как под геро€ми в собственном смысле общенародное словоупотребление разумело именно живших на земле смертных, а не богов бессмертных, то втора€ из названных двух категорий определительна дл€ всех героев вообще; ибо существа божественные, утратившие свою божественность, во всем должны были уподобитьс€ осв€щенным предкам и, если даже прит€зали некогда на олимпийские обители и соответствующие жертвы (θύματα), довольствоватьс€ отныне дарами, ниспосылаемыми в жилища усопших, и жертвами только героическими (ἐνάγισματα), т.е. надгробными.
’от€ многосмысленное и таинственное им€ ἥρως (Ђгеройї) часто было равносильно δαίμων (Ђбожествої, Ђдухї) в неопределенности своего применени€ к предметам темных народных вер, все же оно неразрывно сочеталось с представлением, что данный объект хтонического культа жил в свое врем€ среди людей, чего нельз€ было, однако, утверждать о всех обитател€х преисподней, отчего демоны хтонические и герои никогда и не были окончательно отожествлены у эллинов, вопреки мнению ”зенера, ни даже в сельских религи€х с их εὐήθεις θεοί (Ђдобродушные богиї). » каковы бы ни были в VII-VI веках до н.э. догматические и литургические видоизменени€ исконного культа героев, как бы ни субтилизировались пон€ти€ о загробной иерархии и о степен€х героической канонизации, основы веровани€ остались искони те же во все эпохи эллинства. ќбоготворение же предков, только затемненное у √омера, отрицать невозможно, Ч хот€ еще менее основательно было бы выводить весь героический культ из этого обоготворени€, ввиду подавл€ющего большинства героических имен и образов божественного происхождени€, Ч что свидетельствует, впрочем, лишь о большей живучести религиозной пам€ти сравнительно с пам€тью исторической. ћир в глазах древнего человека полон душ разного качества, разной силы; душа и при жизни человека может временно покидать его тело, и в это тело может всел€тьс€ друга€ душа; живущий смертный бывает носителем души сверхчеловеческой; по смерти человека место такой душе в сонме подземных сильных, а не в толпе безликих теней. ѕусть в переходную эпоху относительного скепсиса и в предрасположенной к нему общественной среде, Ч когда денежна€ вира (штраф за убийство) взамен кровавой мести временно заглушает голос пролитой крови, а об очищении от крови еще ничего не слышно, Ч незавидным представл€етс€ живому могущество бесплотных, и јхиллу приписываетс€ предпочтение рабской доли на земле господству над призраками: все же и тогда остаетс€ душа јхиллова в јиде душой подземного сильного, в противоположность бледному множеству подчиненных ему слабейших душ.
Ќо древнейшее представление об этом загробном сонме могучих неотделимо от почитани€ могилы боготворимого еще при жизни вожд€ и владыки Ч и тускнеет по мере удалени€ от отеческих курганов. √омеров эпос был оторван от родимой почвы. Ќеудивительно, что развитие новой колонизации повело за собой оживление героического культа: последнее стало естественной задачей религиозной политики, стремившейс€ к укреплению племенных св€зей и к оздоровлению корней национального самосознани€. ак отличительным признаком в пон€тии Ђгеро€ї, при всем обоготворении его, служит именно его смерть, так истинной основой героического культа Ч вещественна€ наличность могилы, со всем, что отсюда следует, до употребительного уже в VI веке перенесени€ св€щенных останков. Ђћногие души могучие славных героев низринул в мрачный јидї Ч в этом стихе, несмотр€ на всю отчужденность создавшей его эпохи и среды от загробной мистики, изначальной в эллинстве и вскоре пышно расцветшей, правильно выражена обща€ и посто€нна€ основа и культа почивших, и культа героев. “а же черта Ч смерть геро€ Ч с особенной резкостью запечатлеваетс€ и в предании. »бо эта смерть все же нечто большее, чем неизбежный конец любого смертного: недаром герой Ч полубог; за ним были права на бессмертие, которого ценою стольких трудов достигает один √еракл. ≈сли бы мы сказали: смерть геро€ Ђтрагичнаї сама по себе, то выразили бы современной фразеологией подлинно античное переживание героического Ђпафосаї: ведь затем, в сущности, и создали эллины свою трагедию, чтобы в религиозно-художественном творчестве дать исход и воплощение именно этому чувству.
¬прочем, то же по существу наблюдение можно представить ос€зательнее и нагл€днее. ѕоминки Ч плач по усопшем; героическое предание естественно сосредоточено на скорбной стороне поминаемой участи, поскольку носителем его служит френос (θρῆνος), обр€довый плач; а таковой долго был единственным хранилищем и проводником былинной пам€ти. Ђћного было богатырей до јгамемнона, Ч замечает весьма точно √ораций, Ч но они забылись, не оплаканные, затем что не нашлось про них вещего певцаї. ¬ самом деле, место позднейшего эпоса занимала до √омера поминальна€ эполира, плачевные Ђславыї (κλέα ἀνδρῶν) и уже своды таковых. ¬ певцах Ђславї, поминальщиках и плакальщицах, недостатка, правда, не было; но выселение в чужие кра€ отлучило и мало-помалу отучило переселенцев от отеческих могил с их поминальными обр€дами, и перезабылись старинные славы, а те, что еще помнились, изменились до неузнаваемости во всем, что не относилось к существенной характеристике геро€ и его участи, в устах поколений, родившихс€ на чужбине. » все же √омерова »лиада Ч одна из таких laudationes funebres (Ђпоминальные славослови€ї), чем и объ€сн€етс€ ее Ђэпизодичностьї: замысел поэта вовсе не представить войну с “роей, но лишь јхиллову обиду с ее последстви€ми Ч гибелью ѕатрокла и гибелью √ектора, как роковыми поводами к гибели самого оплакиваемого геро€, јхилла; »лиада Ч только перва€ часть похоронной песни об јхилловом роке. »так, даже в ионийском эпосе, столь отдалившемс€ от староотеческого быта, поминальные славы еще сохран€ют свой первоначальный смысл и строй. Ёти сказани€, по своему общему заданию, Ч распространенный плач (γόος), они родились из печали и сетовани€. ѕо содержанию, они Ч страстные были (παθητικά), повествующие о Ђстраст€х героическихї (ηρωικά πάθη). Ќеслучайно јристотель определ€ет »лиаду как поэму Ђпатетическуюї, т.е. страстную (в противоположность Ђэтическойї, т.е. бытоописательной ќдиссее), и ћала€ »лиада начинаетс€ с упоминани€ о Ђстраст€хї:
Ђ√рад »лион € пою и ƒарданию, пажитей конских
рай луговой, где много страстей претерпели ƒанаиї...
ј ќдиссей так определ€ет дело певца ƒемодока:
Ђћузой ли, дочерью «евса, наставленный иль јполлоном,
Ћадно и стройно поешь ты страдальную участь ахейцев.ї
–елигиозно-историческа€ особенность отношени€ к герою Ч именно скорбь и плач по нем: особенность его участи Ч Ђстрадани€ї, или Ђстрастиї. ќба рода объектов религиозного служени€ тем и разн€тс€ между собой, что бессмертные, Ђвечно блаженныеї боги по существу не подвержены страданию и бесстрастны (ἀπαθείς), герои же, будучи из рода смертных, по необходимости страст€м причастны (εμπαθείς), они Ч страстотерпцы, лик их Ч страстной.
ѕрадионисийские культы искали синкретической формы, объедин€ющей обе религии Ч олимпийскую и хтоническую. Ёто был долгий период смутных поисков, глухого брожени€ умов, алчущих религиозной гармонии, миросозерцани€ целостного и утешительного. –ождались причудливые сказани€, возникали иррациональные Ђмогилы боговї. Ѕывали, без сомнени€, случаи (какие мы подозреваем в религиозных новообразовани€х, вроде Ђ«евса-јгамемнонаї, Ђ«евса-јмфиара€ї, Ђ«евса-“рофони€ї, Ђ«евса-јристе€ї и им подобных), когда культовое прозвище бога, обособившись, давало начало самосто€тельному героическому и прадионисийскому по своей природе культу, впоследствии же этот последний примыкал обратно к богопочитанию, его породившему, оставл€€, однако, росток, коему суждено было позднее привитьс€ к стволу ƒионисовой религии, в качестве подчиненного культа героической ƒионисовой ипостаси.
огда им€ и почитание ƒиониса было всенародно утверждено, пон€тие страстей героических перенесено было на обретенного, наконец, в его лице истинного Ђбога-геро€ї, что по существу значит: бога и человека вместе (ἀνθρωποδαίμων, как в трагедии Ђ–есї именуетс€ ее герой, праведный ƒионисов прообраз). ¬ какое же отношение должен был стать новый бог, герой κατεξοχήν (κατ ́ ἐξοχέν, более рельефно про€вленный), к другим геро€м? Ќигде у древних, даже в орфическом Ђбогословииї, мы не найдем на этот вопрос догматически определенного ответа. Ќо €вно обнаруживаетс€ склонность религиозной мысли к признанию каждой отдельной героической участи как бы частным случаем единой универсальной героической судьбы или идеи, представленной ƒионисом. ≈го патетическое божество обобщает, объемлет, содержит в себе все страстные доли, все лики и души поминаемых страстотерпцев. ѕо многообразным историческим причинам, по услови€м возникновени€ отдельных героических служений в эпоху прадионисийскую, некоторые герои привод€тс€ в ближайшую с ƒионисом св€зь, другие остаютс€ от него поодаль; но все они Ч общники его страстей, он Ч верховный владыка их подземных обителей, куда нисходит к ним всем, как свой к своим присным, со светочем и вестью возврата, палингенесии (παλιγγενεσία, Ђновое рождениеї). Ќеудивительно, что уже на ранних изображени€х героизации мы встречаем, кроме исконной хтонической змеи, собственно дионисийские символы: венки вокруг головы сид€щего на троне геро€ и ƒионисов сосуд с вином Ч канфар Ч в его руках. —ледуют изображени€ героических загробных вечерей, иногда с участием самого возлежащего ƒиониса. Ќо что значат слова √еродота о сикионцах, что они Ђчтили (геро€) јдраста и славили страсти его трагическими хорами, ƒиониса не чт€, но јдраста, лисфен же (тиран сикионский) отдал хоры ƒионису, а остальное служение (герою, противнику јдраста) Ч ћеланиппуї? Ќе свидетельствует ли этот случай о сепаратизме местных героических культов, об их сопротивлении дионисийской универсализации страстных служений? ¬прочем, последние в своей чисто обр€довой сфере оставались неприкосновенными: станов€ща€с€ трагеди€ одна, по-видимому, выступает пр€мым органом начавшегос€ объединени€. Ёто религиозно-политическое назначение проливает на ее развитие неожиданный свет. Ќо стародавн€€ традици€ плачей по любимому герою, очевидно, глубоко коренилась в народной жизни, и присловие: Ђпри чем тут ƒионис (Οὐδέν πρός Διόνυσον)?ї Ч служит доныне пам€тником недоумени€ и ропота, с каким в эпоху возникающей трагедии толпа встречала вторжение дионисийского обр€да в обр€д героического страстного действа и, обратно, внесение последнего в обр€довый круг ƒионисовой религии.
ћежду тем, несмотр€ на указанное сопротивление, развитие, нашедшее свое естественное русло, не могло остановитьс€; трагеди€ вырастала, верна€ преданию героических страстей, в лоне религии бога душ, бога страстей, и живое мифотворчество непрестанно видоизмен€ло всю героическую легенду в дионисийском духе. »де€ пафоса повсюду представл€етс€ насто€тельно выдвинутой и развитой по определенным категори€м (каковы, например, преследование и укрывательство ребенка, ранн€€ смерть, бегство, роковое безумие, поиски, обретение и разоблачение, ревность богов, гибель от геро€-двойника, таинственное исчезновение, метаморфоза и т.д., откуда вырабатываютс€ типические схемы положений, признаваемых Ђтрагическимиї), Ч по категори€м, заимствованным из круга дионисийских представлений то очень древней эпохи, то сравнительно поздних, в зависимости от времени и условий соприкосновени€ данного героического культа с религией ƒиониса.
√устота дионисийской окраски, однако, различна, и там, где она значительна, мы можем пр€мо говорить о Ђдионисийскихї геро€х или Ђгероических ипостас€хї ƒиониса; причем первое обозначение уместно по отношению к тем геро€м, предание о которых приведено в прагматическую св€зь со св€щенной историей бога или иначе отразило ее, под ипостас€ми же ƒиониса следует по преимуществу разуметь иноименные обличи€ самого бога, его местные подмены героическим двойником, прадионисийские мифообразовани€ из периода поисков лика и имени, пытающиес€ впервые воплотить искомую величину религиозного сознани€. Ќижеследующие сопоставлени€ преследуют цель только иллюстративную: в ходе всего исследовани€ мы посто€нно встречаемс€ с дионисийскими геро€ми и ипостас€ми, Ч умножим их число несколькими новыми и показательными примерами.
2. Ѕезыменный √ерой
¬ведению ƒионисова культа предшествует по местам почитание безыменного √еро€. ѕодле храма ƒиониса олоната (Διονύσου Κολωνάτα ναός) в —парте был, по словам ѕавсани€, св€щенный участок Ђгеро€ї, и жертвы приносились ему фиасами менад раньше, чем ƒионису, потому что, Ч как толковала этот обычай молва, Ч он был вождем (ἡγεμών), приведшим бога в —парту. ћы полагаем, что герой этот отнюдь не √еракл, с которым пытались отожествить его, ибо тогда он не мог бы остатьс€ неназванным, Ч но ипостась самого ƒиониса: на это указывает соответствие его очага (ἐσχάρα) пригородным героическим Ђочагамї божественного пришельца (например, в —икионе или на о.‘ере), которые продолжают считатьс€ ему принадлежащими и после того, как в городском кремле жертвуют ему уже на высоком алтаре (βωμός), как богу. ¬ јфинах ƒионис Ёлевтерий чтитс€ на южном склоне јкропол€ как бог, в предместье же Ч как герой; и когда возвращаетс€ к своему хтоническому жертвеннику, именуетс€ Ђвождем внизї (καθηγεμών).
Ёто не сделало, однако, излишней отдельную местную ипостась Ёлевтери€-геро€ как Ђвожд€ вверхї, т.е. в город (ἄστυ), Ч в лице элевтерийца ѕегаса, приведшего в јфины бога (ὥς Ἀθηναίοις τόν τέον εἰσήγαγε) и чтимого совместно с ƒионисом, как показывают описанные ѕавсанием (I, 2) древние изображени€ јмфиктионовых гостин. ƒа и сам јмфиктион, как все гостеприимцы ƒионисовы, Ч дионисийский и, следовательно, страстной герой; его страсти (πάθος) состо€т в низвержении с престола и изгнании (преследовании) со стороны Ёрихтони€, другого божественного двойника, некогда младенца в корзине (κίστη), навод€щего безумие на нимф јкропол€, и вместе зми€, Ч ипостаси афинского пра-ƒиониса и геро€ миметических действ в эпоху Ћукиана (de salt. 39), веро€тно весьма древних по происхождению. ƒионисийским героем афинской старины €вл€етс€ и последний по легенде царь одр, не имеющий прочного места в генеалогической традиции сын того ћеланфа, что при помощи ƒиониса победил на поединке санфа, Ч сын, следовательно, геро€-ипостаси киферонского ƒиониса ћеланайгида. одр претерпевает πάθος Ђперед городомї (πρό τής πόλεως); но гроб его оказываетс€ потом в окрестност€х ƒионисова театра, т.е. участка ƒиониса Ёлевтери€, близ Ћисикратова хорегического пам€тника. ”подобленный ƒионису самим перемещением культа, он нужен был афин€нам (особенно в эпоху орфической реформы) дл€ обосновани€ дионисийского характера сакральной власти архонта-цар€, живущего в Ѕуколии и уступающего на празднике јнфестерий жену свою ƒионису.
„то касаетс€ безыменного √еро€, он мог уцелеть в отдельных местност€х, как герой κατεξοχήν, Ђдобрый геройї (ἥρως χρηστός), Ђгерой-господинї (κύριος ἥρως), бог-герой Ч напр., в лице фракийского и фессалийского Ђвсадникаї, повтор€ющегос€ в длинном р€де загадочных изображений. “ам же, где было придано ему собственное им€, он должен был, в эпоху торжества ƒионисовой религии, быть узнан как ипостась ƒиониса, как его двойник-предтеча, и зачислен в разр€д героев, чь€ близость к ƒионису ознаменована и характерными чертами мифа, и обр€дом. ¬ Ёлиде, напротив, герой был, по-видимому, рано отожествлен с ƒионисом, но все же предшествовал ему в виде оргиастически призываемого хтонического быка.¹
___________________________
[1] ¬ оргиастическом призывании (точнее, вызывании Ч ἀνάκλησις) элейских женщин, сообщаемом ѕлутархом: ἐλθεῖν ἥρω Διόνυσε ktl., с припевом: ἄξιε ταῦρε, Ч первоначальной представл€етс€ нам формула: ἐλθεῖν, ἥρω ἄξιε ταῦρε, ἐλθεῖν βοέωι ποδί θύων.
3. “ипы геро€-конника. ƒионисийские мученицы.
¬ качестве всадника близок фракийскому и фессалийскому герою аргивский конник, наездник черного кон€ јрейона, двойник и предтеча ƒиониса Ч јдраст. Ђ“рагические хорыї, славившие в —икионе его Ђстрастиї, по словам √еродота, были Ђотданыї тираном сикионским лисфеном ƒионису, Ч возвращены богу, как его исконное досто€ние. ¬ јргосе остатки јдрастова дворца показывались близ ƒионисова храма; гроб его, как подобает дионисийскому гробу, Ч ƒельфы здесь были прообразом, Ч оказалс€ в храме јполлоновом; в ƒельфах была воздвигнута аргив€нами јдрастова стату€. ульт его в —икионе, по √еродоту, заменен был, по соображени€м политическим, другим героическим и дионисийским культом, составл€вшим, очевидно, его эквивалент: это был культ фиванского ћеланиппа. »так, владельцу черного кон€ противопоставл€етс€ Ђчерноконныйї, двойнику Ч враждебный двойник. ќба Ч ипостаси ƒиониса-јида, оба Ч герои страстей, причем πάθος ћеланиппа носит специфически-дионисийский характер: он обезглавлен.
— другим, одноименным только что рассмотренному, страдальческим обликом ƒиониса-јида встречаемс€ мы в лице прекрасного юноши ћеланиппа, античного –омео эпохи романтических переделок и украшений мифологического предани€. ќн влюблен в юную жрицу патрской јртемиды-“рикларии, по имени омето, и проводит с ней ночь в храме ужасной богини. »стори€ погибших любовников должна была служить этиологическим объ€снением человеческих жертв обоего пола, которые приносились сопрестольникам, древнему ƒионису и јртемиде, до Ђнового заветаї ƒиониса-Ёсимнета (т.е. устроител€, умирител€), получившего свое им€ от нового и примирительного закона, им данного через фессалийца Ёврипила. ѕоследний также лик ƒиониса-јида, как это доказывают и его им€ Ђпривратника широких вратї, и принесенный им из вз€той ахе€нами “рои ковчег с идолом другого ƒиониса, как бы удвоивший собою его собственный гроб в ѕатрах.
Ќо мало того, что всадник на черном коне находит двойника-соперника в лице „ерноконного, ћеланиппа: им€ Ђ„ерноконныйї (μελάνιππος), но уже в другой форме Ч ианипп (Κυάνιππος), Ч нос€т и сын, и внук его; могильное им€ матери последнего также омето. ћы видим, что основна€ иде€ јдрастова культа Ч почитание геро€-всадника. ианипп в ‘ессалии оказываетс€ охотником, убивающим своих собак, растерзавших его жену, на костре погибшей, и потом лишающим себ€ жизни: такова, по крайней мере, поздн€€ сентиментальна€ новелла, первоначальное обр€довое значение которой прозрачно. ∆ена ианиппа Ч Ћевкона, бела€, Ч жертва и ипостась лунной јртемиды-√екаты; двойник јдраста, преследователь служительниц јртемидиных, собак √екаты, Ч страстнόй дионисийский герой, лик фессалийского подземного пра-ƒиониса, служение коему было св€зано с кровавыми обр€дами тризн.
ƒругой пример растерзани€ дионисийской героини (срв. мифы о ƒирке, размыканной быком, и о ћинфе, растерзанной ѕерсефоной) представл€ет собою дол€ нимфы Ёхо: гнева€сь на нее, ѕан привел в безумие пастухов и козоводов, которые разорвали ее, как псы или волки. ћиф принадлежит к буколическому кругу, где ƒионис почитаетс€ под именем ƒафнида, юного товарища охот јртемидиных, геро€ страстнόго, и обличает верность буколической песни коренной оргиастической традиции. ѕан здесь заместитель самого ƒиониса, он частично отожествл€етс€ с ƒафнидом, и приписание убийственного де€ни€ ему было обусловлено несовместимостью такового с нежной маской буколического полубога.
4. “ипы геро€-охотника
ƒикий горный охотник со сворой хтонических собак жил в героических культах, то как безыменный герой, Ч например, герой (горы) ѕелиона, которому в области фессалийских магнетов еще во II в. до н.э. или даже позднее некий ѕифодор, сын ѕротагора, воздвигает по обету эдикулу с рельефом, изображающим юного копьеносца и лань, и с посв€щением Ђ√ероюї Ч то под случайными местными наименовани€ми, как инорт (Κυνόρτας) или инна (Κιννής) на аттическом √имете. Ќе только сам Ђборз€тникї ( инорт) Ч предмет культа, но и его Ђсобакиї и Ђдоезжачиеї (κυσίν καί κυνηγέταις), что указывает уже на общины служителей ловчего бога, ибо религиозные общины часто означались тотемом св€щенного животного (каковы: Ђмедведицыї, Ђбыкиї, Ђкозлыї, Ђпчелыї и т.п.). ≈стественно, что эти местные, почти или вовсе безыменные, мелкие культы т€готеют к сли€нию с культами большими и общепрославленными, и мы видим, что инорт сливаетс€ с јполлоном ћалеатом, инад с ѕосейдоном, а Ђпсариї приживаютс€ к св€тилищу јсклепи€.
»так, пра-ƒионис «агрей не был достаточно могуществен, чтобы объединить под своим именем все родственные культы; он становитс€ Ђвысочайшим из боговї лишь после того, как отожествл€етс€ с ƒионисом. ќргиастическа€ жизнь анонимных общин его поклонников так и не нашла своего естественного русла. ≈го иноименный двойник јктеон был низведен на ступень второстепенного геро€. —трастной герой (о чем свидетельствует и утвержденное ƒельфами почитание его гроба в ќрхомене), он был некогда богом страстей, ¬еликим Ћовчим, пра-ƒионисом јидом, и блуждал по горным дебр€м и каменистым вершинам в оленьей шкуре (Nonn. V, 413), ища кровавой добычи. »мена јкусила€, —тесихора, ѕолигнота ручаютс€ за его первоначально независимое от јртемиды значение: он ипостась ќмади€-«агре€, во им€ которого растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей), чтобы напитать причастников кровью самого бога. ћедный кумир јктеона, прикованного к скале в ќрхомене (Paus. IX, 38, 5), Ч то же, что древний идол Ёниали€ в оковах, виденный ѕавсанием в —парте, или ƒиониса-ќмади€ в оковах на ’иосе. “ем не менее, св€зь јктеона с јртемидой исконна€: это св€зь Ћовчего ќмади€ с охотницей јгрионией, Ч общение культов и в то же врем€ оргиастический обр€довый антагонизм. ” ≈врипида мы встречаем мотив соревновани€ обоих:
Ђ“ы видишь злую участь јктеонову.___________________________
ќн псиц живой добычей откормил; они
≈го же растерзали. Ћучшим быть ловцом,
„ем дева јртемида, похвал€лс€ онї.²
[2] ¬ мотиве похвальбы геро€ и его сост€зани€ с божеством, мы вправе подозревать в герое полузабытый лик бога-соперника. “аковы, например, дионисийские типы лирников Ћина и ‘амиры и флейтиста-сатира ћарси€, страсти коих и гибель в сост€зании с јполлоном знаменуют подчинение представл€емых ими родов энтузиастической музыки јполлонову культу.
Ѕешенство јктеоновых собак Ч друга€ форма того же представлени€ о растерзании менадами. „ьи же эти менады Ч ƒионисовы или јртемидины? ћиф представл€ет собак то собственной сворой јктеона, то сворой јртемиды: дело идет об оргиастических сопрестольниках и о жертвенном лике оргиастического бога, умерщвл€емого женщинами, его служительницами и жрицами; преследование здесь знак культового сли€ни€, а не разделени€, обмен жертв, а не вражда культов. Ќа кратере (–убо) неаполитанского музе€ јктеон, с оленьими рогами на голове, в присутствии јртемиды, подземного √ерми€ (Ἑρμῆς) и ƒионисова спутника Ч ѕана, убивает св€щенную лань.
¬ противоположность дикому јктеону, охотник »пполит, сын амазонки јнтиопы и дионисийского “есе€, Ч дружественна€ јртемиде ипостась ее сопрестольника; его страсти, однако, подобны јктеоновым и нос€т чисто дионисийский отпечаток: только не собаками разорван он, а размыкан Ч герой-конник Ч кон€ми.
5. ќрест и ѕилад
ќрест Ч одна из определенно выраженных прадионисийских ипостасей. Ђ—ын отчийї Ч (Aesch. Ch. 1051) и столько же маска ƒиониса-јида, сколько јгамемнон Ч «евса, недаром приходит он гостем на навьи гостины афинских јнфестерий, безмолвный в круг безмолствующих, как и подобает гостю с того света. Ђ√орецї по имени, пришелец с парнасских предгорий, он Ч подобие Ђгорного скитальцаї (ὀρειφοίτης), ¬еликого Ћовчего.³ ≈го гонит, как јктеона, охотничь€ свора Ќочи и, обреченный јиду обетным постригом, он одержим безумием: вот отличительное в его страстнόм обличии.
___________________________
[3] ‘анокл (по цитате у ѕлутарха):
Ђ√орный скиталец, узнал ƒионис, как прекрасен јдόнис:
Ўествует, быстрый, на ипр, и похищает егої.
ƒельфийской ќрестии предшествовала дионисийска€, как дельфийскому јполлону парнасские менады Ќочи. Ёта ќрести€ оставила €вные следы в јркадии, где он отожествлен был с ќрестеем, сыном Ћикаона (Paus. VIII, 3, 1), Ч и, по-видимому, не случайно: не в силу только общности имени, но и в силу внутренней св€зи местного хтонического и фаллического (δάκτυλος) ќресте€-ќреста с аркадским оргиастическим культом Ёриний, богинь Ќочи, вдыхающих в человека безумие (μανίαι). ѕервоначально матереубийство Ч убиение жрицы двойного топора Ч мыслилось соде€нным в безумии, как и јлкмеоново матереубийство, по некоторым вариантам мифа, непредумышленно и бессознательно. Ѕезумие как последствие матереубийства Ч уже аполлонийска€ верси€. ѕевцы √омеровой школы, вообще чуждающиес€ оргиастического мифа, предпочли вовсе умолчать об этом темном деле. ќчищение, во вс€ком случае, было совершено, согласно аркадскому преданию, Ђчернымиї богин€ми, превращающимис€ в Ђбелыхї: так дионисийский ћеламп очищает обезумевших от ƒиониса ѕройтид. Ёсхилово действо в некотором смысле реакци€ против аполлонийского видоизменени€ легенды и частичный возврат к более древней ее форме: јполлон оп€ть оказываетс€ немощным очистить ќреста; очищает его, конечно, и не јреопаг, чье решение только улаживает договор с Ёвменидами; последнее слово и завершительное сн€тие недуга остаетс€ за ними.
ѕилад (Πυλάδης), Ђвратникї по своему имени,⁴ одноименный, как с ѕилаохом-јидом (ѕυλάοχος), так и с √ермием-ѕилием, и €вно лик последнего, т.е. подземного √ерми€, с имени которого начинаетс€ Ёсхилова трагеди€, которого не напрасно же призывает, сто€ на отцовском кургане, ќрест, и не напрасно дает ќресту в спутники јполлон, Ч молчаливый ѕилад составл€ет с ним такую же чету, как с ƒионисом хтоническим и фаллическим юный ѕросимн.
___________________________
[4] Ќапрасно им€ это сближают с ‘ермопилами, когда Πύλαι значит по преимуществу πύλαι Ἀΐδαο (Theognis, 427), Ἅιδου πύλαι (Aesch. Ag. 1291), πύλαι εἰς Ἀΐδαο (h. Orph. XVIII). »з этого гомеровского (напр. Il. IX, 312) образа, а не наоборот, развиваетс€ представление о δόμοι Ἀΐδαο, ибо порог и ворота служили местом погребени€ (Eitrem, Hermes und die Todten, S. 38). Πύλαι встречаетс€ в хтонических именах, как Ёврипил (Εὐρύπυλος).
ќрест умирал не раз: он был растерзан собаками и, как кажетс€, размыкан кон€ми (уже ќдиссе€ учит, что обманы, к которым прибегают герои, суть Ч версии истинного мифа, и потому неспроста выдумана заговорщиками повесть о смерти ќреста на ристалище); он, наконец, пал жертвой јртемиды таврической. ћало того: еще младенцем погиб он от “елефа, Ч геро€, конечно, дионисийского, Ч потом от Ёгисфа, Ч и старцем Ч от укуса змеи (как змием, сосущим грудь матери, привиделс€ он, по Ёсхилу, во сне, накануне рокового дн€, литемнестре). Tριστίς Ορέστες (по √орацию), он посто€нно выходец из могилы, из недр того кургана, на котором стоит со своим неразлучным и безглагольным спутником, блюдущим вход и выход безмолвного царства, Ч стоит, возглаша€ свой чудесный возврат и укор€€ в неверии живых, которые гл€д€т на него Ч и глазам своим не вер€т. »сторизирующа€ легенда по-своему спа€ла разрозненные части таинственного мифа о вечно сход€щем в могилу и из нее возвращающемс€ боге-герое в суховатую и отталкивающую биографию, которую она не умеет достойно закончить. ќрест неразрывно и вместе антагонистически св€зан с јртемидой как ƒионис: отсюда его дружба с Ёлектрой, и противоположность »фигении, и роль жертвы в “авриде, и похищение кумира Ταυροπόλος, несомненный знак сопрестольничества. Ёто похищение, как было правильно отмечено –ошером, находит параллель в мифе о критском нагее, бледном, но €вно дионисийском отражении ќреста.
6. јристей. Ἀφανισμός. ћелитей. —очетание героических ипостасей ƒиониса и јртемиды.
јристей Ч широко распространенное и по отдельным местност€м разноокрашенное олицетворение плодонос€щей силы подземного (как это €вствует из эвфемистического имени) пра-ƒиониса. ¬ качестве ипостаси јида, он преследует Ёвридику, супругу ќрфе€, и вызывает пчел из тлени€. ≈го сыновь€ ’арм (”слад) и алликарп ( расноплод), как сам ƒионис, по √омеру, Ђуслада смертныхї (χάρμα βροτοίσιν) и, по надпис€м, Ђѕлодовикї (Κάρπιος) и Ђ расноплодї (Καλλίκαρπος). ульт јристе€ несомненно древнее имени и лица ƒионисова; примечательны воинственные пл€ски в честь его на еосе, подобные пл€скам критских куретов. “оржество ƒиониса низвело јристе€ в герои. ¬ —ицилии он был сопрестольником (πάρεδρος) ƒионисовым. —ыном јристе€-охотника оказываетс€ јктеон. ∆енский ƒионисов коррел€т представлен в цикле јристе€ Ч матерью иреной (јртемидой) с одной стороны, с другой Ч супругой јвтоноей, сестрой —емелы и матерью јктеона. ƒочь јристе€ угощает ¬акха вином. Ѕолее того, он с ћакридой, дочерью, воспитывают младенца ƒиониса, по поручению √ерми€; ћакрида, по имени которой дионисийский остров Ёвбе€, где младенец был вскормлен, именовалс€ вначале ћакридой, Ч одна из дионисийских нимф-мамок (τεθῆναι). —паса€ ребенка от преследующей его √еры, ћакрида бежит с Ёвбеи на остров феаков, оркиру, также именуемый ћакридой; там она таит бога в пещере Ђс двойным входомї (δίθυρος; отражение в мифе культовой этимологии имени Ђƒифирамбї). —оперничество јристе€ с ƒионисом как покровителем винодели€, в защиту дара пчел и еле€ Ч не противополагает его ƒионису, но именно с ним сближает.
Ѕудучи древнее ƒиониса, бог јристей не необходимо должен претерпеть, как собственно герой, трагические страсти: πάθος ƒикого ќхотника перенесен на јктеона; уход с земли божественного отца мыслитс€ как ἀφανισμός Ч вз€тие в горные недра. Ἀφανισμός самого ƒиониса рассматривалс€, впрочем, все же как род Ђстрастейї. –ес восхищен в недра горы после претерпенного мученичества; —алмоксид, пра-ƒионис фракийских гетов, –адаманф, брат ћиноса, божественный сын прадионисийской »о Ч Ёпаф, также вз€тые в гору, страстной доли не имели, подобно јристею, тогда как поглощение землей дионисийского јмфиара€ носит характер героических страстей. ћенее известно исчезновение Ёвтима (Εὔθυμος), несомненно дионисийского геро€ италийской Ћокриды, который освобождает жителей “емеса от безыменного √еро€, требовавшего ежегодно в жертву девы, одолев его в посв€щенном ему храме (как “есей ћинотавра в Ћабиринте), после чего √ерой исчезает в море: легенда отражает, по-видимому, утверждение кроткой религии ƒиониса на месте человекоубийственной прадионисийской; √ерой здесь предшествует ƒионису, как Ἀμείλιχος (Ђсуровыйї) в ѕатрах ƒионису-Ёсимнету. „то до –еса, племенного бога-охотника дионисийских эдонов, религиозное значение которого во ‘ракии доказывает сама интерпол€ци€ ƒолонии в »лиаде, Ч повесть у ѕарфени€ о любви охотницы јргантоны (ипостаси јртемидиной) заставл€ет предполагать, что он был объектом женских плачевных вызываний (ἀνάκλησις) как бог исчезнувший: узнав о смерти –еса, јргантона блуждает по местам прежних свиданий, громко зовет возлюбленного по имени, потом исчезает у речных струй, как нимфа-менада.
ѕараллелен јристееву мифу миф о ћелитее (Μελιταῖος), вскормленнике пчел и основателе пчелиного города Ч ћелиты фтийской (Μελίτη). ≈го принадлежность миру подземному обнаруживаетс€ в предании о деве јспалиде. ¬ ћелите царствует уже не ћелитей, а “артар (итак, вот кто был ћелитей),⁵ Ч ибо пчелиное царство (как €вствует из знаменитого мифа об јристее, рассказанного ¬ергилием, Georg. IV, 315 sqq.), возникает из смерти.⁶ “артар покушаетс€ овладеть јспалидой, но его убивает брат девы, јстигит, надевший на себ€ одежду сестры. јспалида повесилась; тело ее не могут найти; взамен тела јртемида дает изображение, перед которым с того времени девы города принос€т в жертву козл€т, как перед кумиром богини, искупа€ тем собственную жизнь. ¬се предание Ч €ркий пример сопрестольничества ƒиониса и јртемиды. јспалида Ч Ёригона; превращение повешенного на дереве женского тела в кумир Ч αἴτιον (Ђпричинаї) обр€да эоры (αἰώρα), в котором человеческие жертвы были заменены подвешенными к ветв€м куклами. ак в мифе об »карии и Ёригоне, культы обоих оргийных божеств неразрывно слиты; жертвенные девы мысл€тс€ охваченными самоубийственным безумием. ѕереодевание юношей в женские одежды Ч черта обща€ обоим культам и запечатлевающа€ их св€зь. јспалида как ипостась јртемиды родственна критской ƒиктинне. ѕо √есихию, ἄσπαλος Ч рыба, ἀσπαλιευτής Ч рыбарь. Ђ–ыбарьї Ч одно из обр€довых именований островного ƒиониса, как на островной обр€довый круг указывает и переодевание. јспалида Ч Ђрыбицаї Ч быть может, одно из имен јртемиды низин (Λιμνῆτις, Ђболотна€ї), ибо ƒиктинна Ч Ђмрежницаї Ч бегает, охот€сь, по болотистым заросл€м (φοιταί διά λίμνας, Eur. Hipp. 145). ≈е преследует ћинос, критский пра-ƒионис двойного топора; она кидаетс€ в море и попадает в рыбачьи сети (δίκτυα, Callim. h. III), Ч как рыбачьими сет€ми вылавливаютс€ кумиры ƒиониса и тела дионисийских героев.
___________________________
[5] —рвн. ћелитода (Μελιτώδης) Ч эпитет ѕерсефоны, соправительницы јида.
Μελιτώδης ἡ (sc. θεά) Ђћедова€ богин€ї, т.е. ѕерсефона (которой приносились медовые лепешки) Theocr.
[6] ћученическа€ смерть цар€ ќнесила на ипре повела за собою его провозглашение героем из ƒельфов и установление его культа, потому что сопровождалось чудом: в его отрубленной голове, выставленной на городской стене, завелс€ пчелиный рой (Deneken, ЂHerosї, Roscher's Myth. Lex. I, 2520). „удо с пчелами и πάθος, были, следовательно, мотивами его сопричтени€ к сонму дионисийских мучеников.
7. √еракл. Ёней.
ƒревнейша€ истори€ √еракла в эллинстве Ч истори€ неудавшейс€ попытки объединить элементы будущей ƒионисовой религии вокруг этого Ђгеро€-богаї, как именует его ѕиндар (Nem. III, 22: ἥρως θεός) наименованием, собственно подобающим одному ƒионису. ћного причин обусловило неудачу: и печать доризма, которую, постепенно застыва€ и камене€, принимает его уже только подвижнический образ, Ч и его отчужденность от жизнемощных корней материкового, фракийско-парнасского оргиазма, Ч и, наконец, сама устойчивость представлени€ о нем, исключающа€ ту не героическую, но божественную легкость превращений, кака€ прежде всего оказалась необходимой дл€ владыки смерти и возрождени€, дл€ бога нижнего и вышнего вместе, дл€ небожител€ и внезапного стихийного демона в одном лице. ¬ свою раннюю пору √еракл (по-видимому Ч —андон хеттского “арса) был прадионисийским сопрестольником оргиастической богини, умирающим на костре и воскресающим, увенчанным виноградными гроздь€ми, грозным своими рогами и обоюдоострой секирой. ќн был тогда и навсегда осталс€ своего рода богочеловеком, претерпевающим страсти. ¬ свою позднейшую пору он непрерывно сближаетс€ в свойствах, судьбах и де€ни€х с ƒионисом, во всем ему уподобл€етс€, но при этом остаетс€ себе верен так, что черты сходства кажутс€ проистекающими из его самобытной природы: всегда эллины чувствовали его исконную независимость от ƒиониса и не забыли в нем своеобразного предтечи ƒионисова.
¬ самом деле, герой из героев, но уже не бог, √еракл, искони ƒионису подобный, встретив на пути своем истинного геро€-бога, не мог остатьс€ ему чуждым, но и затер€тьс€ в сонме его спутников не мог: возможно ему было только как бы удвоитьс€ божеством ƒионисовым, что и случилось. ажетс€, что лишь путем такого удвоени€ достигнуто было полное обожествление геро€-страстотерпца, ибо √еракл страждущий, умерший и возведенный на ќлимп,⁷ предполагает утверждение ƒионисовой религии как предварительное условие. ѕо ¬иламовицу, миф о безумии √еракла создан дл€ мотивации √ераклова ухода к Ёврисфею, в дионисийских ‘ивах. Ќо веро€тнее, что безумие, налагающее на геро€ дионисийскую печать (Ѕеллерофонт, јлкмеон, ќрест, Ёант), было простым следствием усмотрени€ одноприродности √еракла и ƒиониса. ѕереодевание √ераклова жреца в женские одежды на о. осе и этиологическое объ€снение обр€да, известного, по-видимому, и в других местах, мифом об ќмфале свидетельствуют не только о факте распространени€ на √еракла островного дионисийского культа, но и о внутренней возможности этого распространени€ в силу исконных особенностей культа √ераклова, как €влени€ производного из религиозного круга малоазийской ¬еликой ћатери, –еи.
___________________________
[7] ѕри описании амиклейского трона ѕавсаний (III, 18, 11) говорит об изображении младенца ƒиониса, несомого на ќлимп √ермием, и √еракла, ведомого туда же јфиной дл€ сожительствовани€ с богами.
√еракл и ƒионис воистину брать€. Ѕоги не могут победить √игантов без помощи двух героев, рожденных «евсом от смертных матерей Ч —емелы и јлкмены. «апрет кл€стьс€ именем √еракла и равно именем ƒиониса под кровлей дома (υπό στέγη) также указывает на одинаковое чувствование обоих как носителей какой-то грозовой, безумно и разрушительно высвобождающейс€ силы. ќба служат мистическим звеном, соедин€ющим мир живых и мир загробный: ибо √еракл более древний посетитель јида, чем дионисийские “есей и ѕирифой, Ч он укротил ербера, он и на земле одолел бога смерти (Θάνατος); поэтому мисты нисход€т в подземное царство под общим покровительством обоих братьев. —тремление в теснейшем сближении представить обоих, равно воплощающих собою религиозный идеал бога-сына, страдальца и спасител€ (ἀλκτήρ, σωτήρ), сказалось в следующей, поздней эпохи, надписи (Anthol. Pal. II, p. 682):
Ђќба из ‘ив, √ромовержца сыны, и воители оба:
“ирсом ужасен один; палицей грозен другой.
—межны обоих столпы; и оружи€ сходны обоих:
Ўкуры олен€ и льва, систр с бубенцами, кимвал.
√ера обоим враждебна. Ѕессмертными землю покинув,
ќба взошли на ќлимп. ќба питомцы огн€.ї
Ётолийский цикл дионисийских легенд и дионисийска€ генеалоги€ этолийских героев восполн€ютс€ преданием, что мать ћелеагра, јлфе€ (Ἀλθαίη), супруга Ёне€, родила от ƒиониса ƒе€ниру (Δηιάνειρα): так √еракл св€зываетс€ со своим божественным братом и через роковую виновницу страстной своей смерти. ћелеагр, напротив, рожден јлфеей (по версии, обработанной ≈врипидом) от јре€. Ёней (Οἰνεύς)⁸ Ч вместе ипостась ƒиониса и јре€, существенное тожество коих было уже выше показано. ќн св€зан с ƒионисом, как винодатель и гостеприимец ƒиониса и √еракла (убившего у него в доме, очевидно Ч в дионисийском безумии, отрока-виночерпи€) Ч как сыноубийца, как беглец от јгри€ (подобно ƒионису, беглецу беотийских јгрионий), как страстотерпец, по јполлодору (I, 8, 6), и герой гробницы в аргивской Ёноэ (Οἰνόη), Ч наконец, как сын ‘ити€ (Φύτιος) и внук ќресте€, родоначальника озольских локров, обретшего виноградную лозу как песий дар, т.е. дар летнего зно€. — јреем же сближает Ёне€, прежде всего, происхождение от воинственного бога, намеченное уже √омером, считающим его не за сына дионисийского ‘ити€, а за сына ѕорфе€ и јреева внука. ѕо-видимому, в этолийском цикле оба божества были нераздельны: первоначально оргиазм племени был мужески-воинственным, и позднее узнанный ƒионис €вилс€ лишь обособленным аспектом древнего бога этолийских куретов. Ётолийский пра-ƒионис соедин€л в себе черты влажного ƒиониса (Ὕης Οἰνεύς)⁹ и јре€; женским коррел€том его была јртемида, виновница калидонской охоты.
___________________________
[8] οἴνη, дор. οἴνα ἡ
1) виноградна€ лоза Hes.
2) вино Anth.
[9] Ὕης, Ὑῆς (-ου) ὁ принос€щий дождь (эпитет ¬акха и —абази€) Arph., Plut.
8. »постаси ƒиониса жертвенного и цветущего
„ем грознее рисуютс€ образы прадионисийской старины, Ч каков Ёней, Ч тем неожиданнее и €рче выступают, преломленные в героических ипостас€х, очертани€ иного типа: лики пра-ƒиониса кроткого, благостного, жертвенно страдающего. “ут мысль невольно обращаетс€ к ќрфею: но мы воздержимс€ от уже испробованного в науке анализа трудной темы, не наде€сь со своей стороны способствовать точному вы€снению первоначальных черт этого, во вс€ком случае, хтонического и оргиастического бога. ћудрый и праведный воевода ахейского воинства под стенами “рои, жертва предательства и невинный страстотерпец, ѕаламед, стал дл€ эллинов, подобно √ераклу, религиозно-нравственным идеалом геро€ Ђпассийї и не был забыт как таковой даже в византийской поэзии. ѕо словам сенофонта (Cyneg. I, II), Ђбез вины убиенный, он столь великой чести удостоен был от богов, как никто иной из смертных; пал же не от руки тех, кому приписывают это дело (т.е. ќдиссе€, јгамемнона, ƒиомеда), но от руки злодеевї. » сенофонт, конечно, прав: страсти ѕаламеда древнее, чем историко-драматическа€ мотиваци€ гибели геро€. јполлоний “ианский, по ‘илострату, находит гроб его на месте страстей, где не прерывалось издревле его почитание, Ч а над гробом его статую, с надписью: ЂЅожественному ѕаламедуї, Ч и молитс€ ему так: Ђƒревний гнев забудь, о ѕаламед, и дай родитьс€ мужам многим и мудрым, ты, через кого в люд€х разумение, чрез, кого ћузы, чрез кого € самї. ѕримечательно, что ѕаламед из подземного царства покровительствует (по ‘илострату, Her.) и виноградникам.
оварно загублен и камн€ми завален, подобно побитому камн€ми ѕаламеду, јнфей (Parthen. 15). ультовое им€ Ђјнфейї (Ἀνθεῦς, Ђцветущийї) носит ƒионис в ѕатрах, где бог в св€щенной ограде (τέμενος) некоей героини почиталс€ одновременно в трех ликах Ч как Μεσατεύς, Ἀνθεῦς, Ἀρόεις.¹⁰
___________________________
[10] ἀερόεις, эп.-ион. ἠερόεις (-όεσσα, -όεν) туманный, темный; ex. (Τάρταρος Hom., Hes.).
јнфей, сын јнтенора, также, по-видимому, в качестве одного из героев страстного цикла, неча€нно убит ѕарисом. јхейский јнфий (Ἀνθείας) Ч вариант патрского ƒиониса јнфе€: этой отроческой ипостаси ƒиониса придан характер страстного “риптолема (как ‘аэтонту Ч страстного √ели€), он падает со змеиной колесницы се€тел€, сп€щего в доме јнфиева отца, Ёвмела; всем троим усвоены черты дионисийские. ќдноименный јнфа (Ἄνθα, Ἄνθης), герой “резены, исчезает отроком: его похищает јдраст и делает своим виночерпием (срвн. миф о √анимеде). ћладенческий облик страстного бога, напоминающий амфиклейскую легенду, Ч немейский јрхемор, он же ќфельт и Ч как это ни неожиданно Ч јмфиарай, жизнь которого таинственно св€зана с его жизнью.
»так, этот прадионисийский тип варьируетс€ от младенца до мощного хтонического бога, благ подател€, покровител€ произрастаний земных и чадороди€; оргиастический культ, ему посв€щенный, св€зан с сельскими празднествами и надгробным плачем, веро€тно и вызывани€ми (ἀνάκλησις); предметом плача служат божественные страсти. “акой младенческой или отроческой ипостасью еще не обретенного ƒиониса €вл€етс€ Ћин (Λίνος), чье им€ служит обозначением одного из древнейших действ.
Ђ¬ круге пл€шущих, отрок по звонко-рокочущей лире
—ладко перстами бр€цáл, припева€ голосом тонким:
ЂЋин прекрасный!ї ќни же, кружась в хороводе, запеву
ѕеньем и вскриками в лад и топотом ног отвечали.ї
(»лиада XVIII, 569)
Ёту сельскую сцену выковал на јхилловом щите √ефест. ћальчик изображает в обр€де того бога или геро€, которого хор оплакивает. » если плач зоветс€ по припеву Ђлиномї (λίνος), то и сам отрок Ч Ћин (в действе), и круговой хор правит страсти Ћина,¹¹ как сикионский круговой хор правил страсти јдраста. Ђ∆алобна€ заплачка, заимствованна€, по-видимому, у финики€н, сочеталась, как оргийный момент экстатической скорби, с восторгами веселых празднеств виноградного сбора и с представлением о безвременно погибшем некоем боге-младенце, чье им€ и чей образ мы встречаем в собственной √реции в местных аргивских легендахї, по которым он разорван собаками; френетическое междометие дало им€ безыменному ребенку, герою страстей. јналогию Ћину составл€ет египетский ћанерос (μανέρως);¹² родственны и страстные участи отроков Ѕорма и √илла.
___________________________
[11] ¬озможно праздник св€зан с уборкой льна (λίνον). Ћибо перекликаетс€ с афинскими Ћене€ми (Λήναια).
λίνεος Ч льн€ной; ex. ὅπλα λίνεα Her. Ч льн€ные канаты.
Ληναῖος ὁ Ћеней (бог винодели€, т.е. ¬акх-ƒионис) Diod., Anth.
Λήναια τά (sc. ἱερά) Ћеней (афинский праздник винодели€ в 8-11 дни мес€ца Γαμηλιών в честь ¬акха; к нему приурочивались сост€зани€ драматургических произведений) Arph., Arst.
Λῆναι (-ῶν) αἱ лены, т.е. вакханки Anth.
[12] μανέρως, μανερῶς ὁ (dat. μανέρωτι, acc. μανέρωτα) погребальна€ песнь у египт€н Her.
Μανέρως, Μανερῶς Ч им€ рано умершего сына первого егип. цар€.
«асыпан камн€ми в јргосе, подобно упом€нутому јнфию, и некий ћеланхр (Μέλανχρος), которого сближают с дионисийским циклом, кроме его пафосa, и им€, и культ гробницы. Ћидийский јмпел (Ἄμπελος, Ђвиноградна€ лозаї, Ђвиноградї), тожество коего с ƒионисом виноградников означено самим именем, Ч любимый богом отрок, умерщвленный быком, т.е. самим ƒионисом в исступлении. ’тонический характер амиклейских »акинфий и употребление на празднике плющевых венков €вл€ют их как дорический аналог ионийских јнфестерий и позвол€ют подозревать в юном »акинфе (Ὑάκινθος), страсти и могила которого типичны дл€ дионисийских героев, одну из отн€тых јполлоном у ƒиониса добыч, тем более, что культ выводитс€ в предании из ‘ив и что неизменный женский коррел€т геро€ не отсутствует Ч в лице »акинфовой сестры ѕолибои (Πολύβοια), носительницы имени (срв. Εὔβοια, им€ ƒионисова острова и менады), свойственного јртемиде, либо оре-ѕерсефоне.
„то страстные герои цветени€ принадлежат дионисийскому кругу как демонические ипостаси ƒиониса-јнфе€, показывает и миф о прекрасном Ќарциссе, охотнике и брате неразлучной с ним и совершенно ему подобной сестры-охотницы (Paus. IX, 31:6), встречающем в своей жизни дионисийскую нимфу Ёхо (растерзанную потом безумными пастухами в волчьих шкурах) и двойника с мечом (Αμεινίας), чтимом у своей гробницы в ќропе глубоким молчанием, как ќрест на празднике јнфестерий, и именуемом, как божество подземное, Ђмолчаливымї (σιγηλός).¹³ Ѕог јдонис, самосто€тельный прадионисийский страстной лик, €вл€етс€ дионисийским героем, как мы выше видели (І 5), через Ђпохищениеї ƒионисом-ќхотником.
___________________________
[13] και Σίγηλος μεν κύριον ὄνομα Ναρκίσσου, σιγηλός δε ο σιωπηλός. (по ≈встафию ad Οdyss. p. 1967, 36).
9. ѕатетическа€ стилизаци€ героической легенды
ћногие общие черты сближают с ѕаламедом другого страстного геро€ из тро€нского цикла Ч ѕротесила€. ѕоследний Ч €вна€ ипостась пра-ƒиониса подземного, и ≈врипид настойчиво приводит его в св€зь с ƒионисом. Ћаодами€ совершает перед его статуей вакхические служени€, что подтверждаетс€ и изображени€ми на саркофагах. ѕротесилай владеет дионисийским оракулом и, подобно ѕаламеду, покровительствует виноградникам.
–адаманф справедливый, светлокудрый брат ћиноса критского, ипостаси бога двойной секиры, начальник блаженных душ, обитающих в Ёлисии, милостивый лик подземного «евса, кроткое солнце глубин, куда он перенесен с лица земли, Ч не отожествл€етс€, но сопоставл€етс€ с ƒионисом-јидом, родственное сходство с которым отличает всех богоравных героев, вз€тых в земные недра, как –еса, —алмоксида, јристе€ и отца јлкмены Ч јмфиара€. ќтсюда соседство св€тынь –адаманфа и ƒиониса близ √алиарта, вокруг гробницы јлкмены, супруги –адаманфа в Ёлисии, а на земле Ч матери, от «евса зачавшей Ђспасител€ї, близкого и родного ƒионису, Ч √еракла. –адаманф, родоначальник царей дионисийской Ёвбеи, одно из звеньев, смыкающих эллинский культ ƒиониса с его предтечей, культом критского «евса.
ѕеренесение отдельных дионисийских черт на издревле прославленных страст€ми героев можно видеть на примере јхилла (Ἀχιλλεύς). ƒионисийский обр€д переодевани€ отроков в женские одежды отразилс€ одинаково в мифе о пребывании јхилла среди дочерей Ћикомеда и в мифе об укрывательстве јфамантом и его женою, »но, их воспитанника ƒиониса в девичьем нар€де. ƒионис помогает јхиллу, Ч как впоследствии македонский јлександр Ч Ђјхиллї Ч подражает ƒионису и признаетс€ его эпифанией (νέος Διόνυσος, Ђюный ƒионисї): по ипри€м, “елеф, бор€сь против јхилла, запутываетс€ в виноградную лозу, подобно фракийскому преследователю ƒиониса, Ћикургу. —огласно второй песне о мертвых (младшей Nεκυία) в ќдиссее пепел јхилла смешан с ѕатрокловым в золотой урне, подаренной ‘етиде ƒионисом; по ƒиктису, јхилл сам, умира€, завещает сложить в эту урну свой прах вместе с прахом ѕатрокла и јнтилоха. јхилл, несомненно, один из древнейших (восход€щих к эпохе до выселени€ эолийцев из ‘ессалии в ћалую јзию) объектов героического плача и laudationis funebris (Ђпоминальные панегирикиї) на праотеческих курганах, откуда и возникла эпическа€ οἴμη (Ђпеснь, сказаниеї). »бо песнь о нем есть песнь о несравненной славе, незаслуженных бедстви€х и роковой безвременной гибели народного любимца, богоравного смертного, преследуемого горем-злосчастием, потому что так написано ему на роду. Ќе значит ли потому и им€ его то же, что ѕенфей (ἔχω-πένθος)? ак бы то ни было, религиозное сознание народа естественно искало сблизить, насколько возможно, этих ранних героев френоса с обретенным после долгих поисков всеобщим богом страстей, Ђстрадающим богомї. ¬ ином отношении к ƒионису был счастливец “есей; но его принадлежность местности, насыщенной вли€ни€ми прадионисийских и дионисийских культов, и исконна€ св€зь с ритом имеют последствием то, что в длинном р€де наиболее €рких вы€влений своей религиозной сущности он оказываетс€ не подобием только, а как бы непосредственной эпифанией ƒиониса: вот почему сын Ёге€ Ч юноша в женской одежде Ч побеждает ћинотавра, добывает венец јмфитриты, сочетаетс€ с јриадной, а потом с ‘едрой, нисходит в јид, хоронит на своей земле изгнанников Ч великодушный гостеприимец, и прославл€етс€ Ѕакхилидом в дифирамбах.
ак некие €зыческие св€тцы, проходит перед нами героическа€ Ђзолота€ легендаї эллинской древности, и в ее пестром многообразии неожиданно выступает основна€ однородность, почти схематизм. –елиги€ ƒиониса как бога-геро€ и геро€-прообраза налагает на нее общую печать. ѕозднейшие мифообразовани€ эту печать закономерно принимают. “ак, выдержан в дионисийском стиле роман ѕанфеи в сенофонтовой Ђ иропедииї: верна€ жена слагает в пор€дке разрубленное тело мужа, рука которого, когда ир пожимает ее, остаетс€ в его руке, Ч а потом закалываетс€ на мужнином могильном кургане. “есей в трагедии —енеки также складывает вместе собранные части растерзанного »пполита. ¬ обоих случа€х представлено обр€довое сложение дионисийски разорванного тела (κατά σύστασιν ἀρμονίας) Ђпо составу его согласи€ї (κατά σύστασιν αρμονίας), что, как учили под египетским вли€нием орфики и позднее герметики, служит условием возрождени€ (παλιγγενεσία) умершего. Ќо наиболее, быть может, показательно про€вилась упом€нута€ стилизаци€ героической легенды по прототипу мифа о ƒионисе в греческой обработке чужеземного предани€ о –омуле: эллины и героизировали, и обожествили римского геро€-эпонима на свой лад. ≈му приписаны и могила (τάφος), и страсти (πάθος), Ч притом последние в форме σπαραγμός (Ђразрываниеї). ѕравда, римл€не вообще игнорировали эту чуждую им версию; однако, греческое представление о Ђпохищенииї (ἀφανισμός, ἁρπαγμός) на черных јреевых кон€х лежит в основе √орациева образа: ЂQuirinus Martis equis Acheronta fugitї.¹⁴
___________________________
[14] hac Quirinus Martis equis Acheronta fugit Ч этот вирин (т.е. –омул) на лошад€х ћарса избежал смерти ( винт √ораций ‘лакк, Ђќды 3.3.16. ÷езарю јвгустуї).
_______________________________
|
ћетки: ƒионис √ерои √реци€ |







