-ћетки
sol invictus ƒеметра «одиак абраксас агатодемон алконост амон анджети анубис апедемак апис аполлон артемида атаргатис афина афродита ба баал баст бес бог больша€ медведица бримо бык велес венок оправдани€ виктори€ гарпократ геката гелиакический восход сириуса гений георгий геракл герма гермес герои гигие€ гор горгона греци€ гросс дельфиний дионис диоскуры египет жезл жертвоприношение завет загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар ка кадуцей кастор кербер керы комоедицы лабиринт лабранды лабрис латона лев лето маат маахес мании масленица мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика мокошь наос народы мор€ немесида никола нумерологи€ нумизматика оргии орфей орфики осирис оусень пан пасха персей персефона полидевк посох поэтика птах п€тница ра рим русалки сатир сатурналии себек серапис сет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневекова€ астрономи€ тирс титаны тифон туту уннефер упуаут урей уроборос фиала фивы фраки€ хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс эвмениды эгида эридан эринии этимологи€ этруски юпитер €рило
-ѕоиск по дневнику
-ѕосто€нные читатели
Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider јбап јмари_“иа_јй€ √еркен ƒобра_∆елаю ∆рицајтлантиды »_2017900 »рини€ Ћана_77 ћелнир Ќателла_ лиманова Ќоэли –ельгона —оккар Ёллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый
-—татистика
«аписи с меткой греци€
(и еще 42931 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
ƒеметра «одиак агатодемон анубис апис аполлон артемида афина бес бык геката гелиакический восход сириуса гений геракл гермес гор горгона греци€ дионис египет жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера керы лабранды лабрис маахес мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика наос нумизматика орфики осирис персей посох поэтика птах ра рим сатир серапис сет сирены сириус скипетр сотис средневекова€ астрономи€ титаны упуаут фивы хапи хатхор хеб-сед эгида эридан этимологи€ этруски юпитер
јƒ”÷≈… |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
∆≈«Ћ, ”¬»“џ… «ћ≈яћ»
адуцей (лат. caduceus), керикион (др.-греч. κηρύκειον), скипетр (греч. σκῆπτρον) Ч это жезл √ермеса (ћеркури€), вестника (ἄγγελος), посланца богов. — его помощью √ермес открывает врата подземного царства (отсюда эпитет √ермеса Ч Ђѕривратникї, Πυληδόκος) и вводит туда души умерших.
Ќазвание жезла caduceus римл€не, суд€ по всему, заимствовали у греков:

роме того, корень καδ- вообще соотноситс€ с потусторонним миром:
Ќа латыни слово cado (корневое дл€ словообразовани€ Ђcaduceusї) означает Ђпадать, умиратьї. «аход за горизонт небесных светил описываетс€ производным от cado: sol cadens (Ђзаход€щее солнцеї). ”мершие души спускающиес€ в јид также проход€т Ђкаденциюї, т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых.
ѕосредством своего волшебного жезла √ермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней.
Ётимологи€ жезла ῥαβδίον (ῥάβδος), возможно, имеет отношение к слову ῥόπτρον (булава, палица), которое в свою очередь, веро€тно, происходит от ῥοπή (вес, значение, важность). ѕо крайней мере происхождение скипетра от булавы Ч достаточно распространенна€ верси€. ’от€ у √омера встречаем и такое написание Ђзолотого жезлаї:
Ётимологи€ греческого названи€ жезла Ч скипетр (σκῆπτρον) Ч отсылает нас к пастушьему посоху.
√ермес был родовым богом ериков. ерики (Κήρυκες) Ч жреческий аттический род в јфинах. ерик (Κήρυξ, Ђглашатайї) считалс€ первым глашатаем Ёлевсинских мистерий, от которого пошел род глашатаев. ¬ об€занности глашатаев (κήρυκες или ιεροκήρυκες) входило провозглашение св€щенного перемири€ (ἐκεχειρία) во врем€ праздников, приглашение присутствующих к благоговейному молчанию (εὐφημία) при начале св€щеннодействи€, произнесение молитв от лица присутствующих при св€щеннодействии и т.п.
ѕо преданию, ерик был сыном бога √ермеса и смертной женщины √ерсы (по другой версии Ч ѕандросы). ќт √ермеса же, как гласит легенда, ерик и получил жезл глашатаев. ¬ свою очередь, роду ериков жезл об€зан своим греческим названием Ч керикион (греч. κηρύκειον).
’от€, мимоходом, можно также обратить внимание на подозрительное созвучие слова κηρύκειον с одной стороны, со словом κήρ (Ђсмерть, гибельї), а с другой стороны со словом κῆρ (κέαρ, Ђдушаї). —очетание, например, слова κῆρ с ἷξις (Ђпрохождениеї) или ἵκω (Ђовладеватьї) дает интересное наполнение: κῆρ + ἷξις Ч Ђпрохождение душиї; κῆρ + ἵκω Ч Ђовладевать душойї. ѕодобную семантику (и возможную этимологию) мы рассмотрели выше дл€ слова кадуцей.
≈сли же возвращатьс€ к мифологическому происхождению жезла, нужно отметить, что изначально это был пастуший посох (σκῆπτρον). √ермес вымен€л его у јполлона, взамен подарив тому лиру из черепахового панцир€ (χέλυς). ѕосох имел свойство прекращать споры и мирить врагов. огда √ермес поместил его между двум€ борющимис€ зме€ми, те тотчас перестали кусатьс€ и немедленно обвили его в мире между собой. Ётот миф объ€сн€ет наличие кадуце€ в руках посланников как знак мира и защиты, он €вл€етс€ их главным атрибутом, и ручательством их неприкосновенности.
–имл€не √ермеса отождествл€ли со своим ћеркурием, хот€ им€ Mercurius, веро€тно, заимствовано римл€нами из греческого €зыка (Μερκούριους), и изначально обозначало подростковый, юношеский возраст божества.
ѕерва€ часть слова Μερκούριους (μεῖραξ) указывает на подростковый возраст, втора€ (κοῦρος) Ч на пол подростка. ƒополнительно созвучи€ со словом μέρος (и производными от него) повли€ли на специализацию бога-подростка. «начени€ корн€ μερ- (Ђчастьї, Ђдол€ї) предполагают аллюзию на предмет торговых дел, а также дел незаконного характера (Ђворовска€ дол€ї).
—озвучие слова κουρήϊος (юный) со словом κύριος (повелитель, попечитель), в итоге закрепило и окончательно оформило функционал ћеркури€ как Ђпокровител€ торговцевї. “о же значение им€ ћеркурий имеет и в латинском прочтении (Ђохран€ющий товарї).
ќфициально ћеркурий был прин€т в число италийских богов в конце V в. до н.э., после трехлетнего голода, когда, одновременно с введением культа ћеркури€, были введены культы —атурна, подател€ хлеба, и ÷ереры. ’рам в честь ћеркури€ был осв€щен в майские иды 495г. до н.э.; тогда же был упор€дочен хлебный вопрос (annona) и учреждено сословие купцов, именовавшихс€ mercatores или mercuriales.
“аким образом, созвучие, наделившее √ермеса (выступающего под именем ћеркурий) новыми смыслами, дало импульс к развитию его образа в совершенно ином направлении (по сравнению с изначальным). “еперь ћеркурий стал позиционироватьс€ в роли покровител€ путешествующим купцам и прочим торговым люд€м, а также ворам и мошенникам. ѕосле такой метаморфозы кадуцей в руках ћеркури€ потер€л вс€кий смысл и €вл€лс€ лишь отличительным атрибутом божества.
изначальным). “еперь ћеркурий стал позиционироватьс€ в роли покровител€ путешествующим купцам и прочим торговым люд€м, а также ворам и мошенникам. ѕосле такой метаморфозы кадуцей в руках ћеркури€ потер€л вс€кий смысл и €вл€лс€ лишь отличительным атрибутом божества.
—ходные с кадуцеем символы были распространены и у других древних народов. ¬ месопотамской традиции сплетенные змеи считались воплощением бога-целител€ (возможно, отсюда происходит библейский образ медного зми€, исцел€ющего змеиные укусы). ƒве змеи были символом плодороди€ в малоазийской традиции.
ѕомимо √ермеса, кадуцей €вл€етс€ атрибутом египетского јнубиса, от которого, суд€ по всему, и был заимствован, после отождествлени€ этих богов в единое синкретическое божество с говор€щим именем √ерманубис (Ἑρμανοῦβις). “акже его изображение встречаетс€ в руках финикийского ¬аала и иногда у »зиды и »штар. адуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, Ч это финикийский сол€рный символ.
богов в единое синкретическое божество с говор€щим именем √ерманубис (Ἑρμανοῦβις). “акже его изображение встречаетс€ в руках финикийского ¬аала и иногда у »зиды и »штар. адуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, Ч это финикийский сол€рный символ.
¬ средневековых астрономических атласах, кадуцей нередко находитс€ в руках зодиакальной ƒевы. ¬прочем, это очевидно объ€сн€етс€ тем, что управителем ƒевы €вл€етс€ ћеркурий.
адуцей схож с другим жезлом Ч посохом бога медицины и врачевани€ јсклепи€ (Ἀσκληπιός, Ђвскрывающийї). Ќо жезл јсклепи€ изображалс€ с одной змеей, в отличие от жезла √ермеса и римского ћеркури€ (Virga horrida, лат. Ђужасный жезлї), сопровождающих души умерших в царство јида.
ѕосох јсклепи€ Ч распространенный медицинский символ. ѕо легенде, древнегреческий бог медицины и врачевани€ јсклепий, шел, опира€сь на посох, во дворец критского цар€ ћиноса, который позвал его воскресить умершего сына. ѕо дороге посох обвила зме€ и јсклепий убил ее. —ледом по€вилась втора€ зме€, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею. јсклепий нашел эту траву и с ее помощью стал воскрешать мертвых. «десь возникает законный вопрос: если умерша€ зме€ была оживлена, то почему жезл обвивает только одна зме€? » котора€ это зме€ из двух, та что воскресла или та, что ее оживила?
адуцей отчасти перекликаетс€ и с жезлом ƒиониса Ч тирсом (др.-греч. θύρσος). ƒионис Ч бог плодонос€щих сил земли, растительности, виноградарства, винодели€. Ѕожество критского, либо восточного (фракийского и лидийско-фригийского) происхождени€, распространившеес€ в √реции сравнительно поздно (конец второго тыс€челети€ до н.э.), и с большим трудом утвердившеес€ там. ¬ –име ƒионис почиталс€ под именем ¬акха. ¬акх изображалс€ юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листь€ми и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), котора€ называлась еще Ђсердцем ¬акхаї. »ногда тирс украшали, св€занными в узел, лентами.
утвердившеес€ там. ¬ –име ƒионис почиталс€ под именем ¬акха. ¬акх изображалс€ юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листь€ми и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), котора€ называлась еще Ђсердцем ¬акхаї. »ногда тирс украшали, св€занными в узел, лентами.
— другой стороны, известны изображени€ ƒиониса, на которых его голову украшает змеина€ корона. ћанипулирование зме€ми составл€ло часть ритуалов в честь Ѕахуса, и таким образом змеи стали атрибутом его свиты Ч сатиров. ѕобеги плюща и змеи не были символами взаимозамен€емыми, однако общие корни тирса и кадуце€ очевидны. ќп€ть же, ѕлутарх упоминает тирс, увитый зме€ми (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). –авно как и изображение кадуце€, увенчанного шишкой и обвитого двум€ зме€ми, Ч €вление весьма распространенное. ¬алерий ‘лакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις Ч зме€), обвивающую тирс:
взаимозамен€емыми, однако общие корни тирса и кадуце€ очевидны. ќп€ть же, ѕлутарх упоминает тирс, увитый зме€ми (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). –авно как и изображение кадуце€, увенчанного шишкой и обвитого двум€ зме€ми, Ч €вление весьма распространенное. ¬алерий ‘лакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις Ч зме€), обвивающую тирс:
¬прочем, символизм змей актуален там, где змеи имеют повсеместное распространение. Ќапример в ≈гипте, особенно в болотистой дельте Ќила. ¬ √реции же символизм обвивающих жезл змей, легко мог быть ретранслирован на растени€, которые, подобно зме€м, поднимаютс€ вверх, обвива€ деревь€.
«меиные атрибуты иногда св€зывают с зимней ипостасью ƒиониса. ¬ орфическом воззрении, основанном на древнейшем сли€нии териоморфических культов, между змеей и быком устанавливаетс€ мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змей Ч хтоническа€ ипостась ƒиониса. ƒионис выступает как бык в мире живых и как змей Ч в подземном царстве. »ли, проще говор€, бык Ч летн€€ ипостась ƒиониса, змей Ч зимн€€. ќтсюда, в молени€х к ƒионису было выражение: Ђбык породил змею и зме€ породила быкаї.
мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змей Ч хтоническа€ ипостась ƒиониса. ƒионис выступает как бык в мире живых и как змей Ч в подземном царстве. »ли, проще говор€, бык Ч летн€€ ипостась ƒиониса, змей Ч зимн€€. ќтсюда, в молени€х к ƒионису было выражение: Ђбык породил змею и зме€ породила быкаї.
¬ более поздней италийской традиции, ƒионису (Ѕахусу) отводитс€ только четверть года, когда времена года стали символизироватьс€ четырьм€ божествами Ч ¬енерой, ÷ерерой, Ѕахусом и Ѕореем. ¬ этой традиции ƒионис олицетвор€л осеннее солнце, управл€€ зодиакальными ¬есами, —корпионом и —трельцом.
∆езл тирс ассоциируетс€ преимущественно с ƒионисом (¬акхом), но иногда встречаетс€ также в ≈гипте и в ћалой јзии. ѕлющ, обвивающий тирс, также воплощал жизненную силу растений и был атрибутом воскресающих богов. ¬ греческой мифологии плющ посв€щен ƒионису, который коронован плющом, а его чаша €вл€етс€ Ђчашей плющаї. ≈го тирс обвит плющом, а одной из его эмблем €вл€етс€ столб, обросший плющом. — плющом св€заны многочисленные эпитеты ƒиониса: κισσοχαίτης, κισσοκόμης Ч Ђс локонами вьющимис€, как плющї или Ђс увитыми плющом волосамиї, κισσοφόρος Ч Ђплющеносныйї. ¬ афинском деме јхарны (Ἀχαρναί) почиталс€ ƒионис-ѕлющ (Κισσός). ј в ћегаре почиталс€ ƒионис Ђ√устолиственныйї.
” египт€н плющ Ч растение ќсириса. ѕлутарх в трактате Ђќб »сиде и ќсирисеї пишет: Ђэллины посв€щают ƒионису плющ, а у египт€н, по слухам, он называетс€ хеносирис (χενόσιρις), и это им€, как говор€т, означает "побег ќсириса"ї. ¬ семитской мифологии плющ посв€щен фригийскому јттису и означает бессмертие.
означает "побег ќсириса"ї. ¬ семитской мифологии плющ посв€щен фригийскому јттису и означает бессмертие.
ќдним из объ€снений наличи€ шишки в виде наверши€ на тирсе служит то, что к вину, которое пили во врем€ вакханалий, примешивали забродившую сосновую смолу (κωνῖτις πίσσα) Ч считалось, что этот коктейль усиливает сексуальные ощущени€. ¬прочем, соснова€ шишка (κῶνος) вообще считалась символом жизни и плодовитости, и €вл€лась также атрибутом и эмблемой —абази€, јстарты в ¬авилоне и јртемиды в ѕамфилии, а также ћитры. —осна (πεύκη; иногда ель, ἐλάτη) считалась также деревом «евса (в римской мифологии ёпитера), ибелы и јттиса ‘ригийского. огда в ≈гипте развилс€ культ —ераписа, сосна стала и его эмблемой.
Ётимологи€ слова Ђтирсї (θύρσος, θύρσα) не€сна. ƒиодор —ицилийский (Ђ»сторическа€ библиотекаї), повеству€ об индийском походе ƒиониса, отмечает, что за ним следовала толпа менад, которые были вооружены копь€ми, имевшими вид тирсов. ¬€чеслав »ванов также отмечает фактическое тождество между копьем и тирсом:
¬ этом плане, слову тирс имеетс€ прекрасное созвучие:
ћожно также рассмотреть некоторое созвучие со словом θύρα (Ђдверьї, т.е. граница между внутренним и внешним).
ƒионис не был, как √ермес, проводником (ἡγεμόνιος) душ в јид, но эта функци€ жезла (помогающего пересекать границы миров) могла быть и утрачена в процессе самосто€тельного развити€ тирса.
«десь уместно вспомнить эпитет ƒиониса Ђћеланайгисї (Μελάναιγις, Ђнос€щий черную эгиду [козью шкуру]ї) Ч эпитет темного ƒиониса, св€занного с духами мертвых. —огласно мифу, рожденному в Ёлевтерах (Ἐλευθεραί, горна€ деревушка на границе јттики и Ѕеотии), культ ƒиониса ћеланайгиса был основан дочерьми Ёлевтера.
≈ще больше конкретики несет в себе эпитет ’тоний (χθόνιος, подземный), который носил не только √ермес, но и ƒионис. ѕричем, Ђ’тонийї Ч эпитет весьма древний, видимо, доставшийс€ ƒионису по наследству от более ранних (Ђпрадионисийскихї) культов, в силу его отождествлени€ с јидом, «евсом ’тонием и р€дом других менее значимых локальных богов. ¬.». »ванов, опира€сь на орфическую традицию, недвусмысленно повествует о ƒионисе «агрее, как о Ђвладыке отшедшихї:
Ќе исключено также, что слово тирс (θύρσος) этимологически св€зано с торжественной процессией в честь ƒиониса Ч θίασος (Ђтиасї).
¬озвраща€сь к хтонической этимологии тирса, можно вспомнить другое его название Ч нартек (νάρθηξ).
“ак вот, в св€зи с выше предложенным предположением об изначальной хтонической этимологии тирса, можно рассмотреть ту же этимологию и дл€ нартека:
роме того слово νάρκα (νάρκη, оцепенение) заставл€ет вернутьс€ к цитате из ѕлутарха о том, что Ђƒионису посв€щают забвение и ферулуї. ≈сли это сопоставить с тем, что √ермес своим жезлом Ђсмыкает глаза людей и погружает их в сонї, то и здесь между жезлами √ермеса и ƒиониса возникает любопытное пересечение.
» все же рассмотрим Ђклассическийї кадуцей, увитый двум€ зме€ми. ¬ том или ином виде кадуцей присутствовал у митраистов и орфеистов,
присутствовал у митраистов и орфеистов, и герметиков, позднее, алхимиков. Ќо где корни этого символа?
и герметиков, позднее, алхимиков. Ќо где корни этого символа?
адуцей можно встретить в виде двух змей, обвившихс€ вокруг жезла, на египетских монументах. —читаетс€, что этот символ греческие поэты и мифотворцы заимствовали у египт€н, а у греков кадуцей, в свою очередь, €кобы перен€ли римл€не.
Ћюбопытно, что греки уже в первых веках нашей эры (а позднее и римл€не), в качестве символа и атрибута √ермеса, нар€ду с керикионом, часто изображали петуха. ¬прочем, петух, как известно, великий предвестник утра и —олнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).
керикионом, часто изображали петуха. ¬прочем, петух, как известно, великий предвестник утра и —олнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).
¬ оккультизме петух считаетс€ символом ключа, отвор€ющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. ¬от как писал об этом один из отцов церкви јмвросий ћедиоланский (III в.): Ђ ак при€тна ночью песнь петуха. » не только при€тна, но и полезна. ¬сем всел€ет надежду в сердце этот крик; больные чувствуют облегчение, уменьшаетс€ боль в ранах: с приходом света спадает жар лихорадкиї.
¬ XIII веке изображени€ посоха со змеей и поющего петуха украшали титульные листы медицинских сочинений. — 1696 года золотой петух по€вилс€ на гербе французских врачей.
»спользование кадуце€, в эпоху ¬озрождени€, в качестве общемедицинской эмблемы списывают на смешение символики жезла √ермеса и посоха јсклепи€. Ќо скорее всего, корни такого использовани€ кадуце€ надо искать в истории развити€ алхимии.
Ќа ранней стадии алхимии √ермес был ее покровителем. јлхимики на сосудах с препаратами обычно ставили печать с изображением √ермеса, отсюда термин Ђгерметичностьї. ѕод вли€нием греческих ученых, и главным образом јристотел€, алхими€ на ¬остоке развилась в систему примерно к III веку, затем она, значительно обогащенна€, распространилась из арабского мира через »спанию по всей ≈вропе. —огласно мнению врача и ботаника јльберта ¬еликого (XIII в.), телесное исцеление с помощью медицинских средств €вл€лось Ђочищениемї. ќн сравнивал этот процесс с очисткой простых металлов, которые алхимики пытались превратить в драгоценные.
¬ XVI-XVIII века хими€, фармаци€ и медицина были очень тесно св€заны, поэтому атрибут √ермеса кадуцей мог стать медико-фармацевтической эмблемой. ¬ античном же мире посох јсклепи€ и жезл √ермеса несли в себе совершенно разный смысл, и только в XVI веке стали общемедицинскими символами.
анадский историк медицины ‘.√аррисон указывает, что впервые использовал кадуцей как медицинский символ »оганн ‘робен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в √ермании. ¬ качестве своего издательского знака он в 1516г. вз€л руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двум€ зме€ми.
кадуцей как медицинский символ »оганн ‘робен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в √ермании. ¬ качестве своего издательского знака он в 1516г. вз€л руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двум€ зме€ми.
ќдним из первых использовал жезл √ермеса в качестве медицинской эмблемы личный врач корол€ јнглии √енриха VIII сэр ”иль€м Ѕаттс в 1520г. ¬ 1556г. в јнглии, использовать кадуцей, в качестве медицинской эмблемы, предложил президент оролевской коллегии врачей Ћондона ƒ. айз, который ввел серебр€ный жезл президента, увенчанный этой эмблемой.
¬ XVII-XVIII веках многие врачи брали в качестве медицинской эмблемы кадуцей в той или иной модификации. — 60-х годов XIX века жезл √ермеса стал официальной эмблемой службы общественного здравоохранени€ —Ўј. »спользуетс€ он как символ медицины и в некоторых других странах. Ќапример, в 1970г. исполнилось 100 лет со дн€ основани€ медицинской школы ÷ейлона, гербом которой с самого начала €вл€етс€ жезл √ермеса.
¬прочем жезл, как медицинский символ, Ч это достаточно позднее поветрие. — ранних времен жезл (или посох) €вл€лс€ в первую очередь эмблемой власти и одним из знаков царского достоинства.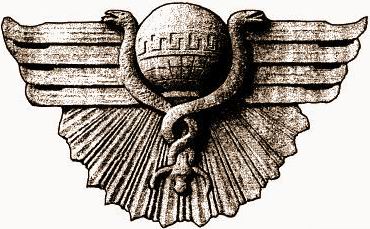 ќн венчаетс€ несколькими характерными способами: скипетр римского консула Ч орлом; английских королей Ч шаром и крестом, или голубем; французских королей Ч геральдической лилией (fleur-de-lys).
ќн венчаетс€ несколькими характерными способами: скипетр римского консула Ч орлом; английских королей Ч шаром и крестом, или голубем; французских королей Ч геральдической лилией (fleur-de-lys).
“ипологически предшественниками скипетра были пастуший посох и ритуальные дубины (булавы), символы плодороди€, созидательных сил и власти. јнтичные греки, римл€не и германцы в своих обр€дах и на церемони€х пользовались короткими жезлами-скипетрами, властители же династии аролингов ввели в обиход длинные скипетры. ѕастушеский посох (изогнутый на верхнем конце крюком) Ч атрибут множества богов (например, всех ƒобрых ѕастырей) и св€тых, постепенно трансформировалс€ в пастырский (например, епископский) посох. ¬ ≈гипте жезл ’екет (ḥḳt, Ђкрюкї) и кнут (nḫḫw) Ч Ђпосох волопасаї и Ђбич пастухаї Ч олицетвор€ли верховную власть и владычество.
“акже в ≈гипте был весьма распространен удлиненный скипетр ”ас (wȝs), раздвоенный внизу и с навершием в виде головы св€щенного животного —ета. ”ас €вл€лс€ символом не только могущества, но заключал в себе целебные силы. ¬ руках богов он становитс€ скипетром благополучи€ и символом здоровь€ и счасть€. ƒо —реднего царства, умершему давали с собой в могилу дерев€нный скипетр ”ас, чтобы тот мог примен€ть его дл€ пользовани€ божественными благами. ѕозднее этим символом украшали фризы на стенах гробниц. ѕопул€рным мотивом во все времена было изображение двух скипетров ”ас, которые окаймл€ли по кра€м поле картины или надписи и своими головами поддерживали идеограмму Ђнебої.
ƒругой тип удлиненного скипетра Ч ”адж (wȝḏ) Ч имел вид жезла в виде стебл€ папируса и символизировал вечную молодость. ∆езлы богов выставл€лись на всех торжествах и их несли во врем€ процессий. ¬о врем€ военных походов царей, вз€тый с собой жезл јмона должен обеспечить его владельцу защиту бога. —кипетр ”ас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов ≈гипта, символ могущества фараонов. ќдин из эпитетов √ора Ч это Ђгосподин жезла, прокладывающий себе путьї. »з Ќового царства известны многие изображени€, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. “аким образом, скипетры-жезлы €вл€ютс€ не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.
врем€ процессий. ¬о врем€ военных походов царей, вз€тый с собой жезл јмона должен обеспечить его владельцу защиту бога. —кипетр ”ас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов ≈гипта, символ могущества фараонов. ќдин из эпитетов √ора Ч это Ђгосподин жезла, прокладывающий себе путьї. »з Ќового царства известны многие изображени€, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. “аким образом, скипетры-жезлы €вл€ютс€ не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.
¬ ƒревнем ≈гипте, ‘араоны считали источником своей царской власти и непобедимости в войнах покровительство богинь-защитниц Ќижнего и ¬ерхнего ≈гипта Ч ”аджит (”то) и Ќехбет (Ќехебт), соответственно. ”аджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хот€ более распространенный символ ”аджит Ч это налобный урей. Ќехбет, в египетской мифологии Ч богин€ хранительница царского рода; образ Ќехбет Ч коршун Ч восходит к
Ќехбет (Ќехебт), соответственно. ”аджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хот€ более распространенный символ ”аджит Ч это налобный урей. Ќехбет, в египетской мифологии Ч богин€ хранительница царского рода; образ Ќехбет Ч коршун Ч восходит к древнейшему символу неба Ч распростертые крыль€. »ногда коршуна замен€ют второй змеей. ƒва зме€ (уре€), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Ќехбет и ”то, как символ объединени€ ¬ерхнего (tȝ-šmˁw, Ђ«емл€ лилииї) и Ќижнего ≈гипта (tȝ-mḥw, Ђ«емл€ папирусаї) в единое государство.
древнейшему символу неба Ч распростертые крыль€. »ногда коршуна замен€ют второй змеей. ƒва зме€ (уре€), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Ќехбет и ”то, как символ объединени€ ¬ерхнего (tȝ-šmˁw, Ђ«емл€ лилииї) и Ќижнего ≈гипта (tȝ-mḥw, Ђ«емл€ папирусаї) в единое государство.
¬ Ђѕам€тнике мемфисской теологииї, когда описываетс€ передача ’ору власти над обеими земл€ми ≈гипта, повествуетс€ следующее:
Ќа левой картинке можно видеть богинь ”то и Ќехбет, держащих жезлы уадж (wȝḏ, папирус), обвитые зме€ми в коронах ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта. Ќа правой картинке оба этих жезла наход€тс€ в руке бога “ота.


“аким образом, резонно предположить, что в более поздний (греко-римский) период оба жезла богинь, увитые зме€ми, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетвор€ющие ”то и Ќехбет. „то, суд€ по всему, и было сделано. “ем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по
увитые зме€ми, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетвор€ющие ”то и Ќехбет. „то, суд€ по всему, и было сделано. “ем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по сути, они идентичны. » ”аджит, и Ќехбет €вл€ютс€ покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе €вл€ютс€ дочерьми бога –а и нос€т титул Ђќко –аї.
сути, они идентичны. » ”аджит, и Ќехбет €вл€ютс€ покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе €вл€ютс€ дочерьми бога –а и нос€т титул Ђќко –аї.
¬ начале XX века, близ јлександрии были обнаружены катакомбы ом јль-Ўукафа (Kom el Shoqafa), датируемые I-II веком н.э. ¬ этом трехъ€русном некрополе расположены гробницы египетской аристократии. ¬с€ настенна€ резьба и украшение саркофагов оформлены в смешанном стиле, который включает в себ€ элементы египетской и греко-римской традиций. ѕогребальный зал расположен на втором уровне ом эль Ўукафы. ¬ход в зал традиционно украшают змеи в двойной египетской короне, держащие одновременно и кадуцей, и жезл тирс. „то-то мне подсказывает, что это все те же богини охранительницы ”аджит и Ќехбет, но уже с жезлами, соответствующими традиции нового времени. Ќад головами змей размещен дополнительный охранный символ Ч эгида (щит с головой √оргоны).
соответствующими традиции нового времени. Ќад головами змей размещен дополнительный охранный символ Ч эгида (щит с головой √оргоны).
¬ V-IV веках до н.э. в древнем –име и ÷ентральной »талии в качестве денег использовалс€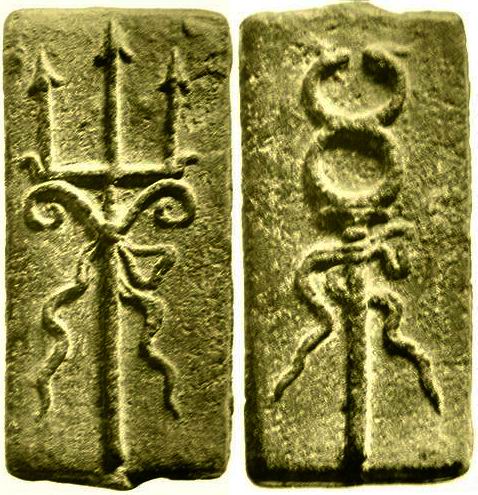 литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который называлс€ Aes signatum (Ђимеющий знакї). Ќа одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуце€ и тирса. ќн имеет вид жезла с двум€ зме€ми, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиес€ ленты, св€занные в узел в виде банта.
литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который называлс€ Aes signatum (Ђимеющий знакї). Ќа одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуце€ и тирса. ќн имеет вид жезла с двум€ зме€ми, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиес€ ленты, св€занные в узел в виде банта.
≈ще один египетский символ, который можно рассмотреть как предтечу жезла “ирс, это ”зел »зиды. ќн широко использовалс€ как амулет, и представл€ет из себ€ несколько видоизмененный јнкх, у которого вместо перекладины Ч петли банта, опущенные вниз. ”зел »зиды, означает бессмертие, что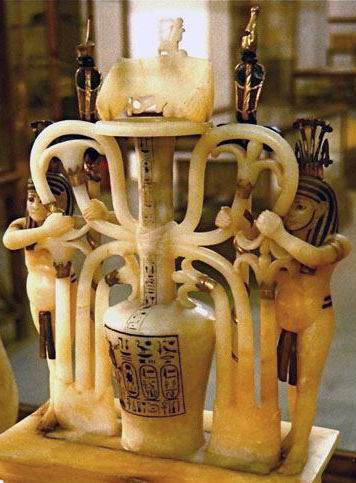 прекрасно коррелирует со значением јнкха, символа вечной жизни. ¬ерхн€€ петл€ ”зла »зиды (котора€, по одной из версий, €вл€етс€ символом солнца) могла впоследствии трансформироватьс€ в навершие “ирса, украшенное лентами, св€занными в виде банта.
прекрасно коррелирует со значением јнкха, символа вечной жизни. ¬ерхн€€ петл€ ”зла »зиды (котора€, по одной из версий, €вл€етс€ символом солнца) могла впоследствии трансформироватьс€ в навершие “ирса, украшенное лентами, св€занными в виде банта.
ќднако существует и еще один интересный символ в виде банта-узла. ѕримером чему может служить алебастрова€ ваза из гробницы “утанхамона, выставленна€ в аирском музее. ѕетли узла, на этом экспонате, сплетены из символов ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта Ч лотоса и папируса. —верху на петл€х наход€тс€ уреи в коронах ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта Ч богини Ќехбет и ”то. ѕо кра€м Ч две фигуры ’апи, крепко ст€гивающие узел.
Ћигатура в виде св€зки стеблей лотоса и папируса Ђ—ема-“ауиї (егип. smȝ-tȝwy) означает Ђобъединение двух земельї (¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта), часто служит украшением трона ќсириса, изображалась на боковых стенках трона египетских фараонов. “аким образом, символ —ема-“ауи также вполне мог повли€ть на эволюцию “ирса.
„јЎј ”¬»“јя «ћ≈≈…
» напоследок, в развитие темы ”аджит и Ќехбет можно вспомнить еще один интересный символ, не только доживший до наших дней, но и примен€емый сегодн€ как символ здравоохранени€. Ёто зме€, обвивающа€ чашу.
 »ероглиф nb (Ђnebї) используетс€ в значении Ђгосподинї, либо в женской форме nbt Ч Ђгоспожаї.
»ероглиф nb (Ђnebї) используетс€ в значении Ђгосподинї, либо в женской форме nbt Ч Ђгоспожаї.
 ѕохожий иероглиф, обозначающий каменный плоский сосуд (šs, Ђshesї или ḥb, Ђhebї), иногда взаимозамен€емо использовалс€ с иероглифом корзины. »ероглиф алебастровой чаши (ḥb) отличаетс€ от иероглифа корзины (nbt) наличием ромба посредине.
ѕохожий иероглиф, обозначающий каменный плоский сосуд (šs, Ђshesї или ḥb, Ђhebї), иногда взаимозамен€емо использовалс€ с иероглифом корзины. »ероглиф алебастровой чаши (ḥb) отличаетс€ от иероглифа корзины (nbt) наличием ромба посредине.
«начение nbt (Ђгоспожаї) фигурирует в изображени€х коршуна (богин€ Ќехбет) и уре€ (”аджит), символизирующих ¬ерхний и Ќижний ≈гипет. ѕри этом богини располагаютс€ сто€щими над иероглифом nb. — другой стороны, нужно заметить, что слово nbt (Ђnebetї) Ч Ђгоспожаї, в египетском €зыке, имело омоним (nbt) в значении Ђкорзинаї. ѕоэтому, нередко можно встретить изображение Ќехбет и ”то, сто€щими на хорошо рельефно прорисованной корзине, что позвол€ло опускать женское окончание (-t), потому как в слове Ђкорзинаї (nbt) женское окончание уже подразумеваетс€. —о временем, видимо, эта форма изображени€ богинь на рельефах вошла в обиход, и корзины перестали прорисовыватьс€, т.е. стали более походить на чашу. ќчевидно, такой попул€рный символ как изображение кобры над иероглифом nbt, в значении Ђгоспожа ”аджитї, в греческий период не мог не найти своего развити€ и переиначивани€ на свой лад вездесущими греками. ѕреображение ”то, богини охранительницы Ќижнего ≈гипта, происходило поэтапно и было раст€нуто во времени. ƒревнегреческие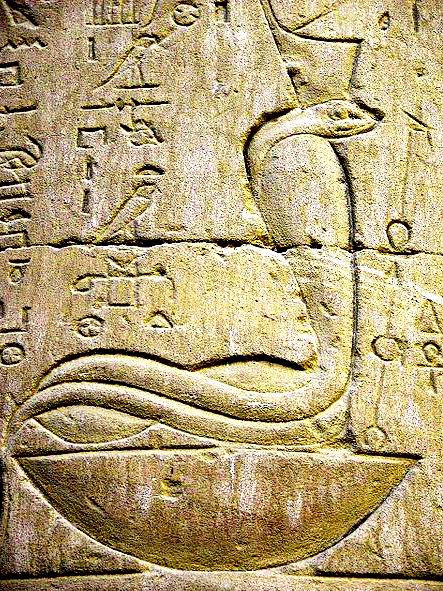 усили€ в этом начинании были продолжены в —редние века и закреплены в Ќовейшей истории. ќкончательным
усили€ в этом начинании были продолжены в —редние века и закреплены в Ќовейшей истории. ќкончательным  же результатом сей метаморфозы €вл€етс€ медицинский символ Ђзме€, обвивающа€ чашуї. ѕопробуем восстановить процесс этого перевоплощени€.
же результатом сей метаморфозы €вл€етс€ медицинский символ Ђзме€, обвивающа€ чашуї. ѕопробуем восстановить процесс этого перевоплощени€.
√реки отождествл€ли ”аджит с јфродитой. јтрибутом јфродиты €вл€лась золота€ чаша, наполненна€ вином, испив из которой, человек получает вечную молодость. »нтересное развитие сюжета. »нтереса здесь добавл€ет и то, что им€ јфродиты €вл€етс€ производным от ”аджит. Ётимологи€ имени подробно изложена в статье јфродита.
ќднако следует заметить, что медицинскую эмблему св€зывают не с јфродитой, а с совершенно другой богиней Ч дочерью јсклепи€ Ч √игиеей. Ќо нас это не должно смущать.
√реческое написание имени √игие€ Ч Ὑγιεία (перва€ буква в имени Ч ипсилон Ч читаетс€ с придыханием Ч Ђ’игие€ї). ќднако, нужно заметить, что буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обсто€тельств, читаетс€ и как [i], и как [u].³ ѕри обычном переходе согласной γ (Ђгї) в Ђджї, им€ Ὑγιεία с легкостью превращаетс€ в ”джиею, что мало чем отличаетс€ от ”аджит. Ёто лишний раз показывает заимствование греками египетской богини, только у греков ”аджит разбиваетс€ на две ипостаси: богин€ любви јфродита и богин€ здоровь€ √игие€. », заметим, более древний символ ”аджит Ч зме€ (св€занна€ с √игиеей) Ч возобладал.
___________________________
[3] Ѕуква ипсилон (Yυ) в древнегреческом €зыке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук Ч огубленное [ί]. ѕодобный звук есть в современном немецком €зыке и обозначаетс€ латинской буквой u с умлаутом Ч ü. ¬ русском €зыке огубленного [ί] нет, и в практике преподавани€ древнегреческого €зыка в русско€зычной аудитории букву ипсилон читают примерно так, как читают по-русски букву ю кириллицы.
Х λύρα [лю́ра] Ч лира;
¬ аттическом диалекте древнегреческого €зыка буква ипсилон в начале слова всегда сопровождаетс€ густым придыханием.
Х ὕμνος [хю́мнос] Ч гимн, песн€.
—праведливости ради, нужно отметить, что Ќехбет в наши дни тоже не забыта. » иногда встречаютс€ варианты, когда Ќехбет, в образе змеи обвивает чашу вместе с ”аджит, как, например, на знаке различи€ ¬оенно-медицинской академии имени —.ћ. ирова.
 две змеи.
две змеи.
ЂЅорьба съ чумоюї Ч еще один интересный знак дл€ должностных лиц за борьбу с чумой, темно-бронзовый дл€ санитаров и нижних чинов и посеребренный дл€ врачей. ”твержден 21 июн€ 1897г. ¬ народе прослыл Ђмедицинским √еоргиемї, ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.
дл€ санитаров и нижних чинов и посеребренный дл€ врачей. ”твержден 21 июн€ 1897г. ¬ народе прослыл Ђмедицинским √еоргиемї, ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.
√ерб поселка ¬ольгинский ¬ладимирской области. Ќа нем лазорева€ чаша увита двум€ золотыми зме€ми. ѕоселение при этом достаточно молодое: оно было организовано в 1973 году неподалеку от ѕокровского завода биопрепаратов дл€ производства средств защиты сельскохоз€йственных животных от болезней.
»менно фармацевтический профиль ѕокровского завода и подчеркиваетс€ в гербе поселени€. ј синий цвет чаши указывает на ветеринарную направленность научных изысканий и производства препаратов.
_______________________________
∆≈«Ћ, ”¬»“џ… «ћ≈яћ»
адуцей (лат. caduceus), керикион (др.-греч. κηρύκειον), скипетр (греч. σκῆπτρον) Ч это жезл √ермеса (ћеркури€), вестника (ἄγγελος), посланца богов. — его помощью √ермес открывает врата подземного царства (отсюда эпитет √ермеса Ч Ђѕривратникї, Πυληδόκος) и вводит туда души умерших.
ЕЂ€, единственный из богов, по ночам не сплю, а должен водить к ѕлутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. <Е> мало того, что € бываю в палестрах, служу глашатаем на народных собрани€х, учу ораторов произносить речи, Ч устраивать дела мертвецов Ч это тоже мо€ об€занность.ї (Ћукиан. –азговоры богов. √ермес и ћай€)
ἑρμαγέλη (ἑρμ-αγέλη) ἡ стадо √ермеса, т.е. сонм усопших или привидений Anth.
Ќазвание жезла caduceus римл€не, суд€ по всему, заимствовали у греков:
καδδῦσαι эп. part. aor. pl. f к καταδύω (= καταδύνω);
καταδύνω (κατα-δύνω) вторгатьс€, углубл€тьс€, забиратьс€, проникать, входить.

роме того, корень καδ- вообще соотноситс€ с потусторонним миром:
κᾶδος = κῆδος
κῆδος, дор. Pind. κᾶδος (-εος) τό
1) скорбь, горе, печаль ex. (πολύστονον Hom.);
2) тревога, забота;
3) (преимущ. pl.) погребальный обр€д, похороны;
κήδειος Ч погребальный, похоронный, траурный.
Ќа латыни слово cado (корневое дл€ словообразовани€ Ђcaduceusї) означает Ђпадать, умиратьї. «аход за горизонт небесных светил описываетс€ производным от cado: sol cadens (Ђзаход€щее солнцеї). ”мершие души спускающиес€ в јид также проход€т Ђкаденциюї, т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых.
cado, cecidī, casūrus, ere
1) падать, сваливатьс€, выпадать, (об атмосферных осадках) падать, идти;
2) (о небесных светилах) заходить (cadentia sidera V; Arcturus cadens H): sol cadens V заход€щее солнце, тж. запад;
3) падать, погибать;
9) падать, понижатьс€ (pretium cadit L); уменьшатьс€, убывать, слабеть (vires cadunt Lcr): c. animo C etc. падать духом;
13) оканчиватьс€;
14) быть закалываемым, приноситьс€ в жертву (ovis cadit deo O);
cadūcus, -a, -um [cado]
1) близкий (склонный) к падению (vitis C; frons, flos O);
2) обреченный на смерть (juvenis V);
3) преход€щий, тленный, бренный, ничтожный (res humanae, corpus C; felicitas QC; spes O); недолговечный (fama O);
4) поэт. падающий, упавший (folia O); низвергающийс€ (aqua O; fulmen H);
5) павший (bello V);
6) юр. оставшийс€ без наследника, выморочный, бесхоз€йный (hereditas C; possessio Just);
7) мед. падучий: morbus c. Ap эпилепси€.
cadus, ī m (греч.)
1) большой глин€ный (редко металлический) кувшин конической формы, преим. дл€ вина Pl, V, O, но тж. дл€ масла, меда и пр. M, PM etc.;
2) погребальна€ урна (ossa cado texisse aeno V).
ѕосредством своего волшебного жезла √ермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней.
ЂЁрмий [Ἑρμῆς] тем временем, бог килленийский, мужей умерщвленных,
ƒуши из трупов бесчувственных вызвал; име€ в руке своей
∆езл золотой [ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶν καλὴν χρυσείην]ї.¹
(√омер. ќдиссе€ XXIV, 1-3)
___________________________
[1] χρυσοῦν ῥάβδον Ч золотой магический жезл √ермеса, увитый белыми лентами, а впоследствии зме€ми. Hom.
ῥάβδος ἡ палка, трость, посох (ῥάβδῳ κρούειν Xen.);
ῥαβδίον τό палочка, жезл Babr.
Ётимологи€ жезла ῥαβδίον (ῥάβδος), возможно, имеет отношение к слову ῥόπτρον (булава, палица), которое в свою очередь, веро€тно, происходит от ῥοπή (вес, значение, важность). ѕо крайней мере происхождение скипетра от булавы Ч достаточно распространенна€ верси€. ’от€ у √омера встречаем и такое написание Ђзолотого жезлаї:
χρυσόρραπις (χρῡσό-ρρᾰπις), -ῐδος adj. с золотым жезлом (Ἑρμῆς Hom., HH.);
ῥαπίς (-ίδος) ἡ розга, прут.
Ётимологи€ греческого названи€ жезла Ч скипетр (σκῆπτρον) Ч отсылает нас к пастушьему посоху.
σκίπων, σκήπων, σκηπίων ὁ посох, палка, жезл Anth., Polyb.;
σκήπτω Ч 1) опиратьс€; 2) бросать, метать, пускать; 3) насылать (σκήψασθαι κότον τινί Aesch. Ч обрушить свой гнев на кого-л.);
σκηπτός ὁ 1) молни€, гроза; 2) ураган, вихрь, смерч (χθονὸς τυφὼς ἀείρας σκηπτόν Soph.);
σκηπάνιον (ᾰ) τό жезл, скипетр Hom., Anth.
σκῆπτρον, дор. σκᾰπτον, поздн. Anth. σκᾶπτρον τό посох, жезл, скипетр (τὸ σ. Διός Soph.); перен., тж. pl. царска€ власть.
√ермес был родовым богом ериков. ерики (Κήρυκες) Ч жреческий аттический род в јфинах. ерик (Κήρυξ, Ђглашатайї) считалс€ первым глашатаем Ёлевсинских мистерий, от которого пошел род глашатаев. ¬ об€занности глашатаев (κήρυκες или ιεροκήρυκες) входило провозглашение св€щенного перемири€ (ἐκεχειρία) во врем€ праздников, приглашение присутствующих к благоговейному молчанию (εὐφημία) при начале св€щеннодействи€, произнесение молитв от лица присутствующих при св€щеннодействии и т.п.
ѕо преданию, ерик был сыном бога √ермеса и смертной женщины √ерсы (по другой версии Ч ѕандросы). ќт √ермеса же, как гласит легенда, ерик и получил жезл глашатаев. ¬ свою очередь, роду ериков жезл об€зан своим греческим названием Ч керикион (греч. κηρύκειον).
’от€, мимоходом, можно также обратить внимание на подозрительное созвучие слова κηρύκειον с одной стороны, со словом κήρ (Ђсмерть, гибельї), а с другой стороны со словом κῆρ (κέαρ, Ђдушаї). —очетание, например, слова κῆρ с ἷξις (Ђпрохождениеї) или ἵκω (Ђовладеватьї) дает интересное наполнение: κῆρ + ἷξις Ч Ђпрохождение душиї; κῆρ + ἵκω Ч Ђовладевать душойї. ѕодобную семантику (и возможную этимологию) мы рассмотрели выше дл€ слова кадуцей.
≈сли же возвращатьс€ к мифологическому происхождению жезла, нужно отметить, что изначально это был пастуший посох (σκῆπτρον). √ермес вымен€л его у јполлона, взамен подарив тому лиру из черепахового панцир€ (χέλυς). ѕосох имел свойство прекращать споры и мирить врагов. огда √ермес поместил его между двум€ борющимис€ зме€ми, те тотчас перестали кусатьс€ и немедленно обвили его в мире между собой. Ётот миф объ€сн€ет наличие кадуце€ в руках посланников как знак мира и защиты, он €вл€етс€ их главным атрибутом, и ручательством их неприкосновенности.
–имл€не √ермеса отождествл€ли со своим ћеркурием, хот€ им€ Mercurius, веро€тно, заимствовано римл€нами из греческого €зыка (Μερκούριους), и изначально обозначало подростковый, юношеский возраст божества.
μεῖραξ (-ᾰκος) ὁ отрок, юноша, подросток, но преимущ. ἡ девочка (лет 14-15) Arph., Luc.
κορος, эп.-ион. κοῦρος, дор. κῶρος ὁ
1) ребенок, младенец; 2) мальчик, юноша, молодой человек; 3) сын;
κουρήϊος Ч юношеский.
ѕерва€ часть слова Μερκούριους (μεῖραξ) указывает на подростковый возраст, втора€ (κοῦρος) Ч на пол подростка. ƒополнительно созвучи€ со словом μέρος (и производными от него) повли€ли на специализацию бога-подростка. «начени€ корн€ μερ- (Ђчастьї, Ђдол€ї) предполагают аллюзию на предмет торговых дел, а также дел незаконного характера (Ђворовска€ дол€ї).
μέρος (-εος) τό часть, дол€;
μερίς ἡ 1) пай, дол€, участие; 2) сторона; 3) слой, круг, класс; 4) политическа€ группа, парти€; 5) поддержка, помощь;
μέρμερος Ч ловкий, хитрый; ex.: μέρμερον χρῆμα Plut. Ч хитра€ тварь (о лисе).
—озвучие слова κουρήϊος (юный) со словом κύριος (повелитель, попечитель), в итоге закрепило и окончательно оформило функционал ћеркури€ как Ђпокровител€ торговцевї. “о же значение им€ ћеркурий имеет и в латинском прочтении (Ђохран€ющий товарї).
merx (арх. mers), mercis f товар (merces mutare V вести меновую торговлю);
curo, -avi, -atum, -are [cura] заботитьс€, иметь попечение, печьс€, интересоватьс€, не оставл€ть без внимани€.
ќфициально ћеркурий был прин€т в число италийских богов в конце V в. до н.э., после трехлетнего голода, когда, одновременно с введением культа ћеркури€, были введены культы —атурна, подател€ хлеба, и ÷ереры. ’рам в честь ћеркури€ был осв€щен в майские иды 495г. до н.э.; тогда же был упор€дочен хлебный вопрос (annona) и учреждено сословие купцов, именовавшихс€ mercatores или mercuriales.
Ђ¬ майские иды купцы приносили ћеркурию и матери его ћае жертвы, стара€сь умилостивить божество хитрости и обмана, которыми сопровождалась вс€ка€ торгова€ сделка. Ќедалеко от апенских ворот (Porta Capena) был источник, посв€щенный богу, откуда купцы в этот день черпали воду, погружали в нее лавровую ветвь и кропили себе голову и товары, с соответствующими молитвами, как бы смыва€ с себ€ и товаров вину соде€нного обманаї.
“аким образом, созвучие, наделившее √ермеса (выступающего под именем ћеркурий) новыми смыслами, дало импульс к развитию его образа в совершенно ином направлении (по сравнению с
 изначальным). “еперь ћеркурий стал позиционироватьс€ в роли покровител€ путешествующим купцам и прочим торговым люд€м, а также ворам и мошенникам. ѕосле такой метаморфозы кадуцей в руках ћеркури€ потер€л вс€кий смысл и €вл€лс€ лишь отличительным атрибутом божества.
изначальным). “еперь ћеркурий стал позиционироватьс€ в роли покровител€ путешествующим купцам и прочим торговым люд€м, а также ворам и мошенникам. ѕосле такой метаморфозы кадуцей в руках ћеркури€ потер€л вс€кий смысл и €вл€лс€ лишь отличительным атрибутом божества.—ходные с кадуцеем символы были распространены и у других древних народов. ¬ месопотамской традиции сплетенные змеи считались воплощением бога-целител€ (возможно, отсюда происходит библейский образ медного зми€, исцел€ющего змеиные укусы). ƒве змеи были символом плодороди€ в малоазийской традиции.
ѕомимо √ермеса, кадуцей €вл€етс€ атрибутом египетского јнубиса, от которого, суд€ по всему, и был заимствован, после отождествлени€ этих
 богов в единое синкретическое божество с говор€щим именем √ерманубис (Ἑρμανοῦβις). “акже его изображение встречаетс€ в руках финикийского ¬аала и иногда у »зиды и »штар. адуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, Ч это финикийский сол€рный символ.
богов в единое синкретическое божество с говор€щим именем √ерманубис (Ἑρμανοῦβις). “акже его изображение встречаетс€ в руках финикийского ¬аала и иногда у »зиды и »штар. адуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, Ч это финикийский сол€рный символ.
¬ средневековых астрономических атласах, кадуцей нередко находитс€ в руках зодиакальной ƒевы. ¬прочем, это очевидно объ€сн€етс€ тем, что управителем ƒевы €вл€етс€ ћеркурий.
адуцей схож с другим жезлом Ч посохом бога медицины и врачевани€ јсклепи€ (Ἀσκληπιός, Ђвскрывающийї). Ќо жезл јсклепи€ изображалс€ с одной змеей, в отличие от жезла √ермеса и римского ћеркури€ (Virga horrida, лат. Ђужасный жезлї), сопровождающих души умерших в царство јида.
ѕосох јсклепи€ Ч распространенный медицинский символ. ѕо легенде, древнегреческий бог медицины и врачевани€ јсклепий, шел, опира€сь на посох, во дворец критского цар€ ћиноса, который позвал его воскресить умершего сына. ѕо дороге посох обвила зме€ и јсклепий убил ее. —ледом по€вилась втора€ зме€, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею. јсклепий нашел эту траву и с ее помощью стал воскрешать мертвых. «десь возникает законный вопрос: если умерша€ зме€ была оживлена, то почему жезл обвивает только одна зме€? » котора€ это зме€ из двух, та что воскресла или та, что ее оживила?
адуцей отчасти перекликаетс€ и с жезлом ƒиониса Ч тирсом (др.-греч. θύρσος). ƒионис Ч бог плодонос€щих сил земли, растительности, виноградарства, винодели€. Ѕожество критского, либо восточного (фракийского и лидийско-фригийского) происхождени€, распространившеес€ в √реции сравнительно поздно (конец второго тыс€челети€ до н.э.), и с большим трудом
 утвердившеес€ там. ¬ –име ƒионис почиталс€ под именем ¬акха. ¬акх изображалс€ юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листь€ми и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), котора€ называлась еще Ђсердцем ¬акхаї. »ногда тирс украшали, св€занными в узел, лентами.
утвердившеес€ там. ¬ –име ƒионис почиталс€ под именем ¬акха. ¬акх изображалс€ юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листь€ми и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), котора€ называлась еще Ђсердцем ¬акхаї. »ногда тирс украшали, св€занными в узел, лентами. — другой стороны, известны изображени€ ƒиониса, на которых его голову украшает змеина€ корона. ћанипулирование зме€ми составл€ло часть ритуалов в честь Ѕахуса, и таким образом змеи стали атрибутом его свиты Ч сатиров. ѕобеги плюща и змеи не были символами
 взаимозамен€емыми, однако общие корни тирса и кадуце€ очевидны. ќп€ть же, ѕлутарх упоминает тирс, увитый зме€ми (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). –авно как и изображение кадуце€, увенчанного шишкой и обвитого двум€ зме€ми, Ч €вление весьма распространенное. ¬алерий ‘лакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις Ч зме€), обвивающую тирс:
взаимозамен€емыми, однако общие корни тирса и кадуце€ очевидны. ќп€ть же, ѕлутарх упоминает тирс, увитый зме€ми (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). –авно как и изображение кадуце€, увенчанного шишкой и обвитого двум€ зме€ми, Ч €вление весьма распространенное. ¬алерий ‘лакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις Ч зме€), обвивающую тирс:Ђ¬акх погружает в пенистый сок, увитый плющом и змеиной травой офианой, тирсї.
¬прочем, символизм змей актуален там, где змеи имеют повсеместное распространение. Ќапример в ≈гипте, особенно в болотистой дельте Ќила. ¬ √реции же символизм обвивающих жезл змей, легко мог быть ретранслирован на растени€, которые, подобно зме€м, поднимаютс€ вверх, обвива€ деревь€.
ЂЁта [бассарида] змею на дуб забрасывает, и вкруг древа
јспид чешуйчатый вьетс€ вдруг плющом густолистным,
√ибким стеблем прильнувши к коре ствола векового,
—им плющом, что как змеи кольцами вьетс€ и гнетс€!ї
(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса XLV, 306)
«меиные атрибуты иногда св€зывают с зимней ипостасью ƒиониса. ¬ орфическом воззрении, основанном на древнейшем сли€нии териоморфических культов, между змеей и быком устанавливаетс€
 мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змей Ч хтоническа€ ипостась ƒиониса. ƒионис выступает как бык в мире живых и как змей Ч в подземном царстве. »ли, проще говор€, бык Ч летн€€ ипостась ƒиониса, змей Ч зимн€€. ќтсюда, в молени€х к ƒионису было выражение: Ђбык породил змею и зме€ породила быкаї.
мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змей Ч хтоническа€ ипостась ƒиониса. ƒионис выступает как бык в мире живых и как змей Ч в подземном царстве. »ли, проще говор€, бык Ч летн€€ ипостась ƒиониса, змей Ч зимн€€. ќтсюда, в молени€х к ƒионису было выражение: Ђбык породил змею и зме€ породила быкаї.¬ более поздней италийской традиции, ƒионису (Ѕахусу) отводитс€ только четверть года, когда времена года стали символизироватьс€ четырьм€ божествами Ч ¬енерой, ÷ерерой, Ѕахусом и Ѕореем. ¬ этой традиции ƒионис олицетвор€л осеннее солнце, управл€€ зодиакальными ¬есами, —корпионом и —трельцом.
∆езл тирс ассоциируетс€ преимущественно с ƒионисом (¬акхом), но иногда встречаетс€ также в ≈гипте и в ћалой јзии. ѕлющ, обвивающий тирс, также воплощал жизненную силу растений и был атрибутом воскресающих богов. ¬ греческой мифологии плющ посв€щен ƒионису, который коронован плющом, а его чаша €вл€етс€ Ђчашей плющаї. ≈го тирс обвит плющом, а одной из его эмблем €вл€етс€ столб, обросший плющом. — плющом св€заны многочисленные эпитеты ƒиониса: κισσοχαίτης, κισσοκόμης Ч Ђс локонами вьющимис€, как плющї или Ђс увитыми плющом волосамиї, κισσοφόρος Ч Ђплющеносныйї. ¬ афинском деме јхарны (Ἀχαρναί) почиталс€ ƒионис-ѕлющ (Κισσός). ј в ћегаре почиталс€ ƒионис Ђ√устолиственныйї.
Ђќни (жители јхарны) называют јфину Ђ оннойї и ƒиониса Ђѕоющимї; того же бога они называют Ђѕлющомї (Κισσός), говор€, что тут впервые по€вилс€ плющ как растениеї.
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јттика, XXXI:3)
Ђѕолиэд построил храм ƒионису и воздвиг дерев€нное изображение, которое в мое врем€ все было закрыто [одеждой], кроме лица; оно одно только и было видно. –€дом с ним стоит —атир, творение ѕраксител€, из паросского мрамора. Ёто изображение ƒиониса они называют Ђќтеческимї (Πατρός); другого же ƒиониса, которого они называют Ђ√устолиственнымї (ƒасилием, Δασυλλίος), по их рассказам, посв€тил Ёвхенор, сын ойрана, внук ѕолиэда.ї
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јттика, XLIII:5)
” египт€н плющ Ч растение ќсириса. ѕлутарх в трактате Ђќб »сиде и ќсирисеї пишет: Ђэллины посв€щают ƒионису плющ, а у египт€н, по слухам, он называетс€ хеносирис (χενόσιρις), и это им€, как говор€т,
 означает "побег ќсириса"ї. ¬ семитской мифологии плющ посв€щен фригийскому јттису и означает бессмертие.
означает "побег ќсириса"ї. ¬ семитской мифологии плющ посв€щен фригийскому јттису и означает бессмертие.ќдним из объ€снений наличи€ шишки в виде наверши€ на тирсе служит то, что к вину, которое пили во врем€ вакханалий, примешивали забродившую сосновую смолу (κωνῖτις πίσσα) Ч считалось, что этот коктейль усиливает сексуальные ощущени€. ¬прочем, соснова€ шишка (κῶνος) вообще считалась символом жизни и плодовитости, и €вл€лась также атрибутом и эмблемой —абази€, јстарты в ¬авилоне и јртемиды в ѕамфилии, а также ћитры. —осна (πεύκη; иногда ель, ἐλάτη) считалась также деревом «евса (в римской мифологии ёпитера), ибелы и јттиса ‘ригийского. огда в ≈гипте развилс€ культ —ераписа, сосна стала и его эмблемой.
Ётимологи€ слова Ђтирсї (θύρσος, θύρσα) не€сна. ƒиодор —ицилийский (Ђ»сторическа€ библиотекаї), повеству€ об индийском походе ƒиониса, отмечает, что за ним следовала толпа менад, которые были вооружены копь€ми, имевшими вид тирсов. ¬€чеслав »ванов также отмечает фактическое тождество между копьем и тирсом:
Ђќхотничье копье, увитое плющом или хвоей, есть тирс. <Е> это св€щенное орудие, оружие и как-бы чудотворна€ хоругвь вакхов, этот жезл ветвь-копье-светоч, сообщающий тирсоносцу ƒионисово вдохновение и силу неодолимуюїЕ (¬€чеслав »ванов Ђƒионис и прадионисийствої)
¬ этом плане, слову тирс имеетс€ прекрасное созвучие:
θήρατρον τό орудие охоты Xen., Plut.;
θήρα, ион. θήρη ἡ охота, звероловство;
θήρης охотник; ex.: θῆρες ξιφήρεις Eur. Ч вооруженные мечами (Ὀρέστης καὴ Πυλάδης).
___________________________
Х η (τὸ ἦτα) Ђэтаї, 7-€ буква др.-греч. алфавита, с середины II в. н.э. стала произноситьс€ как [ί], соответственно новое название буквы Ч Ђитаї.
ћожно также рассмотреть некоторое созвучие со словом θύρα (Ђдверьї, т.е. граница между внутренним и внешним).
θύρα ион. θύρη ἡ (дор. acc. pl. θύρᾰς, эол. acc. pl. θύραις) Ч дверь, вход;
θῠρωρός эп. θῠραωρός (θῠρα-ωρός) ὁ и ἡ Ч привратник, страж [дословно, охран€ющий врата].
ƒионис не был, как √ермес, проводником (ἡγεμόνιος) душ в јид, но эта функци€ жезла (помогающего пересекать границы миров) могла быть и утрачена в процессе самосто€тельного развити€ тирса.
«десь уместно вспомнить эпитет ƒиониса Ђћеланайгисї (Μελάναιγις, Ђнос€щий черную эгиду [козью шкуру]ї) Ч эпитет темного ƒиониса, св€занного с духами мертвых. —огласно мифу, рожденному в Ёлевтерах (Ἐλευθεραί, горна€ деревушка на границе јттики и Ѕеотии), культ ƒиониса ћеланайгиса был основан дочерьми Ёлевтера.
Ђƒочери Ёлевтера, увидев призрак ƒиониса в черной козьей шкуре (φάσμα τοῦ Διονύσου ἔχον μελάνην αἰγίδα), отнеслись к нему с презрением; тогда разгневанный бог наслал на них безумие. ѕосле этого Ёлевтер получил оракул, согласно которому дл€ исцелени€ от безуми€ нужно было почитать ƒиониса ћеланайгиса (Μελαναιγίδος Διόνυσος)ї. (Suidae Lexicon. S.v.)
≈ще больше конкретики несет в себе эпитет ’тоний (χθόνιος, подземный), который носил не только √ермес, но и ƒионис. ѕричем, Ђ’тонийї Ч эпитет весьма древний, видимо, доставшийс€ ƒионису по наследству от более ранних (Ђпрадионисийскихї) культов, в силу его отождествлени€ с јидом, «евсом ’тонием и р€дом других менее значимых локальных богов. ¬.». »ванов, опира€сь на орфическую традицию, недвусмысленно повествует о ƒионисе «агрее, как о Ђвладыке отшедшихї:
Ђќрфический синтез жизни и смерти как другой жизни, св€занной с первой возвратом душ на лицо земли (палингенесией), укрепл€€ соответствующее представление о ƒионисе, как о вожде по пути вниз и по пути вверх, естественно пользуетс€ «агреем как готовым в народном сознании оргиастическим аспектом ƒиониса подземного, но дает ему своеобразное оптимистическое и эвфемистическое истолкование: ЂЌеправо люди, в неведении о дарах смерти, мн€т, что лют «агрей: это Ч владыка отшедших, ƒионис отрадный. ѕод страшным ликом того, кто увлекает души в подземный мрак, таитс€ лик благостный; тот, кого бо€тс€, как смертоносного губител€, сам Ч страдающий богї.ї
(¬€чеслав »ванов Ђƒионис и прадионисийствої)
Ќе исключено также, что слово тирс (θύρσος) этимологически св€зано с торжественной процессией в честь ƒиониса Ч θίασος (Ђтиасї).
θίασος Ч торжественное шествие в честь божества, преимущ. ¬акха;
θιασάρχης (θιᾰσ-άρχης) Ч тиасарх, предводитель вакхической толпы Luc.
¬озвраща€сь к хтонической этимологии тирса, можно вспомнить другое его название Ч нартек (νάρθηξ).
νάρθηξ
1) бот. нартек, ферула (Ferula communis L., растение из семейства зонтичных, сердцевина которого медленно тлеет, т.е. долго хранит огонь; отсюда миф о том, что похищенную у «евса искру ѕрометей принес люд€м в стебле нартека) Hes., Aesch., etc.
2) культ. нартековый жезл (вакхантов); ex.: νάρθηκες ἱεροί Eur.; ναρθεκοφόροι Ђнартеконосцыї;
3) нартековый прут, палка, дубинка Xen.
Ђ—путники ƒиониса на таких шестви€х несли его атрибут Ч тирс из стебл€ ферулы (скипетр, украшенный плющом и виноградными листь€ми, увенчанный шишкой пинии) как символ мужского созидающего начала, вдохновени€ и ораторского искусстваї.
(Ћ.√. Ѕ€зров)
Ђƒругие же думают, что поговорка велит забывать, что говор€т и как ведут себ€ твои сотоварищи за винной чашей: потому-то отеческие заветы и посв€щают ƒионису забвение и ферулуї.
(«астольные беседы. ѕлутарх)
“ак вот, в св€зи с выше предложенным предположением об изначальной хтонической этимологии тирса, можно рассмотреть ту же этимологию и дл€ нартека:
νέρτερος Ч подземный, ex.: οἱ νέρτεροι θεοί Soph. боги подземного царства;
νερτεροδρόμος (νερτερο-δρόμος) ὁ гонец из подземного царства Luc.
νάρκη Ч оцепенение, онемение или паралич Plat., Arst., Plut.
Ђнаркисс (νάρκισσος, нарцисс) притупл€ет нервы и вызывает т€желое оцепенение (νάρκη); поэтому —офокл назвал его Ђдревним увенчанием великих боговї, то есть богов подземных (νέρτεροι)ї.
(«астольные беседы. ѕлутарх)
роме того слово νάρκα (νάρκη, оцепенение) заставл€ет вернутьс€ к цитате из ѕлутарха о том, что Ђƒионису посв€щают забвение и ферулуї. ≈сли это сопоставить с тем, что √ермес своим жезлом Ђсмыкает глаза людей и погружает их в сонї, то и здесь между жезлами √ермеса и ƒиониса возникает любопытное пересечение.
ЕЂошибочно называли древние ƒиониса сыном «абвени€ (Λήθη) Ч скорее он отец забвени€ (Λύσιος)ї.² (ѕлутарх Ђ«астольные беседыї)
___________________________
[2] ќбыгрываетс€ созвучие двух слов.
Λήθη (Ћета, богин€ забвени€) и ћне€ (Μνεία, пам€ть) играли роль в ƒионисийских мистери€х в Ёфесе. (Ancient Greek Inscriptions in the British Museum. Oxford, 1874-1916. V. III, 600)
λήθη, дор. λάθᾱ (λᾱ) ἡ забывание, забвение; ex.: λήθην τινὸς ποιεῖσθαι Her. Ч давать забвение;
Λύσιος Ч отгон€ющий заботы, дающий забвение, эпитет ƒиониса. Plut.;
λύσις Ч освобождение, избавление.
» все же рассмотрим Ђклассическийї кадуцей, увитый двум€ зме€ми. ¬ том или ином виде кадуцей
 присутствовал у митраистов и орфеистов,
присутствовал у митраистов и орфеистов, и герметиков, позднее, алхимиков. Ќо где корни этого символа?
и герметиков, позднее, алхимиков. Ќо где корни этого символа?адуцей можно встретить в виде двух змей, обвившихс€ вокруг жезла, на египетских монументах. —читаетс€, что этот символ греческие поэты и мифотворцы заимствовали у египт€н, а у греков кадуцей, в свою очередь, €кобы перен€ли римл€не.
Ћюбопытно, что греки уже в первых веках нашей эры (а позднее и римл€не), в качестве символа и атрибута √ермеса, нар€ду с
 керикионом, часто изображали петуха. ¬прочем, петух, как известно, великий предвестник утра и —олнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).
керикионом, часто изображали петуха. ¬прочем, петух, как известно, великий предвестник утра и —олнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).¬ оккультизме петух считаетс€ символом ключа, отвор€ющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. ¬от как писал об этом один из отцов церкви јмвросий ћедиоланский (III в.): Ђ ак при€тна ночью песнь петуха. » не только при€тна, но и полезна. ¬сем всел€ет надежду в сердце этот крик; больные чувствуют облегчение, уменьшаетс€ боль в ранах: с приходом света спадает жар лихорадкиї.
¬ XIII веке изображени€ посоха со змеей и поющего петуха украшали титульные листы медицинских сочинений. — 1696 года золотой петух по€вилс€ на гербе французских врачей.
»спользование кадуце€, в эпоху ¬озрождени€, в качестве общемедицинской эмблемы списывают на смешение символики жезла √ермеса и посоха јсклепи€. Ќо скорее всего, корни такого использовани€ кадуце€ надо искать в истории развити€ алхимии.
Ќа ранней стадии алхимии √ермес был ее покровителем. јлхимики на сосудах с препаратами обычно ставили печать с изображением √ермеса, отсюда термин Ђгерметичностьї. ѕод вли€нием греческих ученых, и главным образом јристотел€, алхими€ на ¬остоке развилась в систему примерно к III веку, затем она, значительно обогащенна€, распространилась из арабского мира через »спанию по всей ≈вропе. —огласно мнению врача и ботаника јльберта ¬еликого (XIII в.), телесное исцеление с помощью медицинских средств €вл€лось Ђочищениемї. ќн сравнивал этот процесс с очисткой простых металлов, которые алхимики пытались превратить в драгоценные.

¬ XVI-XVIII века хими€, фармаци€ и медицина были очень тесно св€заны, поэтому атрибут √ермеса кадуцей мог стать медико-фармацевтической эмблемой. ¬ античном же мире посох јсклепи€ и жезл √ермеса несли в себе совершенно разный смысл, и только в XVI веке стали общемедицинскими символами.
анадский историк медицины ‘.√аррисон указывает, что впервые использовал
 кадуцей как медицинский символ »оганн ‘робен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в √ермании. ¬ качестве своего издательского знака он в 1516г. вз€л руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двум€ зме€ми.
кадуцей как медицинский символ »оганн ‘робен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в √ермании. ¬ качестве своего издательского знака он в 1516г. вз€л руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двум€ зме€ми.ќдним из первых использовал жезл √ермеса в качестве медицинской эмблемы личный врач корол€ јнглии √енриха VIII сэр ”иль€м Ѕаттс в 1520г. ¬ 1556г. в јнглии, использовать кадуцей, в качестве медицинской эмблемы, предложил президент оролевской коллегии врачей Ћондона ƒ. айз, который ввел серебр€ный жезл президента, увенчанный этой эмблемой.
¬ XVII-XVIII веках многие врачи брали в качестве медицинской эмблемы кадуцей в той или иной модификации. — 60-х годов XIX века жезл √ермеса стал официальной эмблемой службы общественного здравоохранени€ —Ўј. »спользуетс€ он как символ медицины и в некоторых других странах. Ќапример, в 1970г. исполнилось 100 лет со дн€ основани€ медицинской школы ÷ейлона, гербом которой с самого начала €вл€етс€ жезл √ермеса.
¬прочем жезл, как медицинский символ, Ч это достаточно позднее поветрие. — ранних времен жезл (или посох) €вл€лс€ в первую очередь эмблемой власти и одним из знаков царского достоинства.
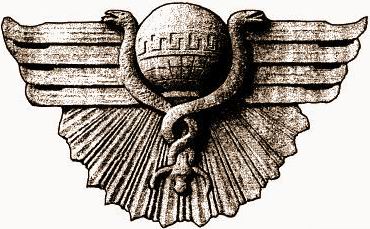 ќн венчаетс€ несколькими характерными способами: скипетр римского консула Ч орлом; английских королей Ч шаром и крестом, или голубем; французских королей Ч геральдической лилией (fleur-de-lys).
ќн венчаетс€ несколькими характерными способами: скипетр римского консула Ч орлом; английских королей Ч шаром и крестом, или голубем; французских королей Ч геральдической лилией (fleur-de-lys).“ипологически предшественниками скипетра были пастуший посох и ритуальные дубины (булавы), символы плодороди€, созидательных сил и власти. јнтичные греки, римл€не и германцы в своих обр€дах и на церемони€х пользовались короткими жезлами-скипетрами, властители же династии аролингов ввели в обиход длинные скипетры. ѕастушеский посох (изогнутый на верхнем конце крюком) Ч атрибут множества богов (например, всех ƒобрых ѕастырей) и св€тых, постепенно трансформировалс€ в пастырский (например, епископский) посох. ¬ ≈гипте жезл ’екет (ḥḳt, Ђкрюкї) и кнут (nḫḫw) Ч Ђпосох волопасаї и Ђбич пастухаї Ч олицетвор€ли верховную власть и владычество.
“акже в ≈гипте был весьма распространен удлиненный скипетр ”ас (wȝs), раздвоенный внизу и с навершием в виде головы св€щенного животного —ета. ”ас €вл€лс€ символом не только могущества, но заключал в себе целебные силы. ¬ руках богов он становитс€ скипетром благополучи€ и символом здоровь€ и счасть€. ƒо —реднего царства, умершему давали с собой в могилу дерев€нный скипетр ”ас, чтобы тот мог примен€ть его дл€ пользовани€ божественными благами. ѕозднее этим символом украшали фризы на стенах гробниц. ѕопул€рным мотивом во все времена было изображение двух скипетров ”ас, которые окаймл€ли по кра€м поле картины или надписи и своими головами поддерживали идеограмму Ђнебої.
ƒругой тип удлиненного скипетра Ч ”адж (wȝḏ) Ч имел вид жезла в виде стебл€ папируса и символизировал вечную молодость. ∆езлы богов выставл€лись на всех торжествах и их несли во
 врем€ процессий. ¬о врем€ военных походов царей, вз€тый с собой жезл јмона должен обеспечить его владельцу защиту бога. —кипетр ”ас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов ≈гипта, символ могущества фараонов. ќдин из эпитетов √ора Ч это Ђгосподин жезла, прокладывающий себе путьї. »з Ќового царства известны многие изображени€, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. “аким образом, скипетры-жезлы €вл€ютс€ не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.
врем€ процессий. ¬о врем€ военных походов царей, вз€тый с собой жезл јмона должен обеспечить его владельцу защиту бога. —кипетр ”ас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов ≈гипта, символ могущества фараонов. ќдин из эпитетов √ора Ч это Ђгосподин жезла, прокладывающий себе путьї. »з Ќового царства известны многие изображени€, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. “аким образом, скипетры-жезлы €вл€ютс€ не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.¬ ƒревнем ≈гипте, ‘араоны считали источником своей царской власти и непобедимости в войнах покровительство богинь-защитниц Ќижнего и ¬ерхнего ≈гипта Ч ”аджит (”то) и
 Ќехбет (Ќехебт), соответственно. ”аджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хот€ более распространенный символ ”аджит Ч это налобный урей. Ќехбет, в египетской мифологии Ч богин€ хранительница царского рода; образ Ќехбет Ч коршун Ч восходит к
Ќехбет (Ќехебт), соответственно. ”аджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хот€ более распространенный символ ”аджит Ч это налобный урей. Ќехбет, в египетской мифологии Ч богин€ хранительница царского рода; образ Ќехбет Ч коршун Ч восходит к древнейшему символу неба Ч распростертые крыль€. »ногда коршуна замен€ют второй змеей. ƒва зме€ (уре€), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Ќехбет и ”то, как символ объединени€ ¬ерхнего (tȝ-šmˁw, Ђ«емл€ лилииї) и Ќижнего ≈гипта (tȝ-mḥw, Ђ«емл€ папирусаї) в единое государство.
древнейшему символу неба Ч распростертые крыль€. »ногда коршуна замен€ют второй змеей. ƒва зме€ (уре€), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Ќехбет и ”то, как символ объединени€ ¬ерхнего (tȝ-šmˁw, Ђ«емл€ лилииї) и Ќижнего ≈гипта (tȝ-mḥw, Ђ«емл€ папирусаї) в единое государство.Ђѕри V династии солнце изображаетс€ не только с двум€ крыль€ми, но и с двум€ уре€ми, как бы соскальзывающими с диска. (Е) при XII династии солнечные уреи получают венцы ќбеих «емель [¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта]. (Е) Ќеудивительно поэтому, что при “хутмосе I знак солнца с двум€ уре€ми используетс€ как идеограмма дл€ написани€ титула фараонов: nj-swt-bjt Ђцарь ¬ерхнего и Ќижнего ≈гиптаї. рыль€, правда, в этом случае не изображаютс€, но они и не нужны. Ќеобходима€ двойственность отражена уре€миї. (Ђƒва цар€ Ч два солнцаї ќ.ƒ. Ѕерлев)
¬ Ђѕам€тнике мемфисской теологииї, когда описываетс€ передача ’ору власти над обеими земл€ми ≈гипта, повествуетс€ следующее:
Ђ“огда обвились вокруг чела его две владычицы. ќн Ч ’ор, тот, кто €вл€етс€ как царь ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта, тот, кто объединил ќбе земли в номе [Ѕела€] —тена (т.е. в ћемфисе), месте, где ќбе земли были объединеныї.
Ќа левой картинке можно видеть богинь ”то и Ќехбет, держащих жезлы уадж (wȝḏ, папирус), обвитые зме€ми в коронах ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта. Ќа правой картинке оба этих жезла наход€тс€ в руке бога “ота.


“аким образом, резонно предположить, что в более поздний (греко-римский) период оба жезла богинь,
 увитые зме€ми, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетвор€ющие ”то и Ќехбет. „то, суд€ по всему, и было сделано. “ем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по
увитые зме€ми, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетвор€ющие ”то и Ќехбет. „то, суд€ по всему, и было сделано. “ем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по сути, они идентичны. » ”аджит, и Ќехбет €вл€ютс€ покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе €вл€ютс€ дочерьми бога –а и нос€т титул Ђќко –аї.
сути, они идентичны. » ”аджит, и Ќехбет €вл€ютс€ покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе €вл€ютс€ дочерьми бога –а и нос€т титул Ђќко –аї.¬ начале XX века, близ јлександрии были обнаружены катакомбы ом јль-Ўукафа (Kom el Shoqafa), датируемые I-II веком н.э. ¬ этом трехъ€русном некрополе расположены гробницы египетской аристократии. ¬с€ настенна€ резьба и украшение саркофагов оформлены в смешанном стиле, который включает в себ€ элементы египетской и греко-римской традиций. ѕогребальный зал расположен на втором уровне ом эль Ўукафы. ¬ход в зал традиционно украшают змеи в двойной египетской короне, держащие одновременно и кадуцей, и жезл тирс. „то-то мне подсказывает, что это все те же богини охранительницы ”аджит и Ќехбет, но уже с жезлами,
 соответствующими традиции нового времени. Ќад головами змей размещен дополнительный охранный символ Ч эгида (щит с головой √оргоны).
соответствующими традиции нового времени. Ќад головами змей размещен дополнительный охранный символ Ч эгида (щит с головой √оргоны).¬ V-IV веках до н.э. в древнем –име и ÷ентральной »талии в качестве денег использовалс€
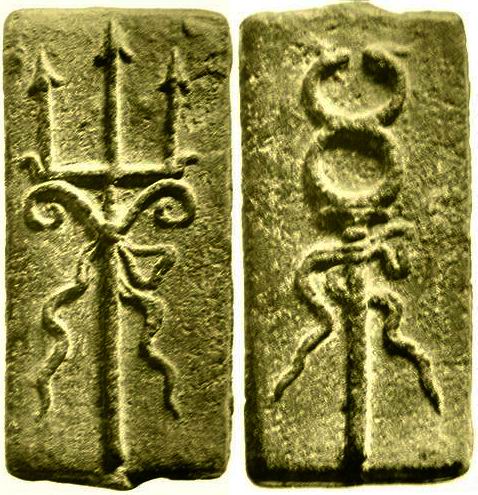 литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который называлс€ Aes signatum (Ђимеющий знакї). Ќа одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуце€ и тирса. ќн имеет вид жезла с двум€ зме€ми, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиес€ ленты, св€занные в узел в виде банта.
литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который называлс€ Aes signatum (Ђимеющий знакї). Ќа одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуце€ и тирса. ќн имеет вид жезла с двум€ зме€ми, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиес€ ленты, св€занные в узел в виде банта.≈ще один египетский символ, который можно рассмотреть как предтечу жезла “ирс, это ”зел »зиды. ќн широко использовалс€ как амулет, и представл€ет из себ€ несколько видоизмененный јнкх, у которого вместо перекладины Ч петли банта, опущенные вниз. ”зел »зиды, означает бессмертие, что
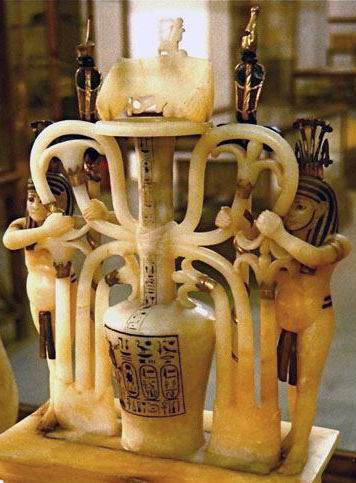 прекрасно коррелирует со значением јнкха, символа вечной жизни. ¬ерхн€€ петл€ ”зла »зиды (котора€, по одной из версий, €вл€етс€ символом солнца) могла впоследствии трансформироватьс€ в навершие “ирса, украшенное лентами, св€занными в виде банта.
прекрасно коррелирует со значением јнкха, символа вечной жизни. ¬ерхн€€ петл€ ”зла »зиды (котора€, по одной из версий, €вл€етс€ символом солнца) могла впоследствии трансформироватьс€ в навершие “ирса, украшенное лентами, св€занными в виде банта. ќднако существует и еще один интересный символ в виде банта-узла. ѕримером чему может служить алебастрова€ ваза из гробницы “утанхамона, выставленна€ в аирском музее. ѕетли узла, на этом экспонате, сплетены из символов ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта Ч лотоса и папируса. —верху на петл€х наход€тс€ уреи в коронах ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта Ч богини Ќехбет и ”то. ѕо кра€м Ч две фигуры ’апи, крепко ст€гивающие узел.
Ћигатура в виде св€зки стеблей лотоса и папируса Ђ—ема-“ауиї (егип. smȝ-tȝwy) означает Ђобъединение двух земельї (¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта), часто служит украшением трона ќсириса, изображалась на боковых стенках трона египетских фараонов. “аким образом, символ —ема-“ауи также вполне мог повли€ть на эволюцию “ирса.
„јЎј ”¬»“јя «ћ≈≈…
» напоследок, в развитие темы ”аджит и Ќехбет можно вспомнить еще один интересный символ, не только доживший до наших дней, но и примен€емый сегодн€ как символ здравоохранени€. Ёто зме€, обвивающа€ чашу.

«начение nbt (Ђгоспожаї) фигурирует в изображени€х коршуна (богин€ Ќехбет) и уре€ (”аджит), символизирующих ¬ерхний и Ќижний ≈гипет. ѕри этом богини располагаютс€ сто€щими над иероглифом nb. — другой стороны, нужно заметить, что слово nbt (Ђnebetї) Ч Ђгоспожаї, в египетском €зыке, имело омоним (nbt) в значении Ђкорзинаї. ѕоэтому, нередко можно встретить изображение Ќехбет и ”то, сто€щими на хорошо рельефно прорисованной корзине, что позвол€ло опускать женское окончание (-t), потому как в слове Ђкорзинаї (nbt) женское окончание уже подразумеваетс€. —о временем, видимо, эта форма изображени€ богинь на рельефах вошла в обиход, и корзины перестали прорисовыватьс€, т.е. стали более походить на чашу. ќчевидно, такой попул€рный символ как изображение кобры над иероглифом nbt, в значении Ђгоспожа ”аджитї, в греческий период не мог не найти своего развити€ и переиначивани€ на свой лад вездесущими греками. ѕреображение ”то, богини охранительницы Ќижнего ≈гипта, происходило поэтапно и было раст€нуто во времени. ƒревнегреческие
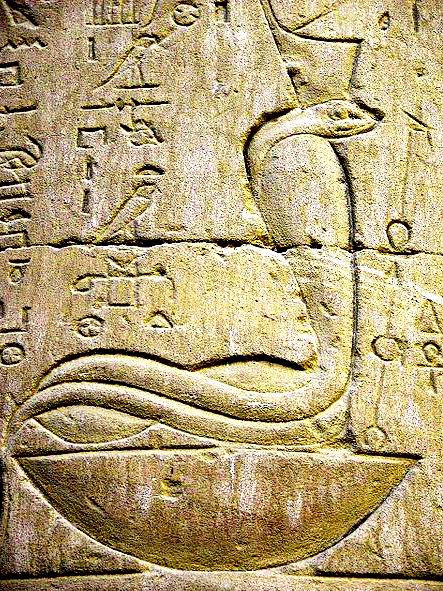 усили€ в этом начинании были продолжены в —редние века и закреплены в Ќовейшей истории. ќкончательным
усили€ в этом начинании были продолжены в —редние века и закреплены в Ќовейшей истории. ќкончательным  же результатом сей метаморфозы €вл€етс€ медицинский символ Ђзме€, обвивающа€ чашуї. ѕопробуем восстановить процесс этого перевоплощени€.
же результатом сей метаморфозы €вл€етс€ медицинский символ Ђзме€, обвивающа€ чашуї. ѕопробуем восстановить процесс этого перевоплощени€.√реки отождествл€ли ”аджит с јфродитой. јтрибутом јфродиты €вл€лась золота€ чаша, наполненна€ вином, испив из которой, человек получает вечную молодость. »нтересное развитие сюжета. »нтереса здесь добавл€ет и то, что им€ јфродиты €вл€етс€ производным от ”аджит. Ётимологи€ имени подробно изложена в статье јфродита.
ќднако следует заметить, что медицинскую эмблему св€зывают не с јфродитой, а с совершенно другой богиней Ч дочерью јсклепи€ Ч √игиеей. Ќо нас это не должно смущать.
Ђ¬ажнейшей фигурой среди божественных детей јсклепи€ €вл€етс€ егостарша€ дочь √игие€ Ч богин€ здоровь€. ћесто зарождени€ культа √игиеи считают “итанис (около —икиона), затем ѕелопоннес, где она всегда была богиней-попечительницей здоровь€ людей. ¬ јфинах она олицетвор€ла чистый воздух и целебные источники. ульт богини √игиеи пришел из √реции в –им вместе с культом бога јсклепи€ (Ёскулапа).
ќсновные атрибуты √игиеи Ч чаша и зме€ Ч первоначально изображались отдельно, затем они были соединены; так по€вилась одна из наиболее широко распространенных общемедицинских эмблем. сожалению, значение символа чаши, в отличие от других атрибутов богов исцелени€, пока еще изучено недостаточно.ї
√реческое написание имени √игие€ Ч Ὑγιεία (перва€ буква в имени Ч ипсилон Ч читаетс€ с придыханием Ч Ђ’игие€ї). ќднако, нужно заметить, что буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обсто€тельств, читаетс€ и как [i], и как [u].³ ѕри обычном переходе согласной γ (Ђгї) в Ђджї, им€ Ὑγιεία с легкостью превращаетс€ в ”джиею, что мало чем отличаетс€ от ”аджит. Ёто лишний раз показывает заимствование греками египетской богини, только у греков ”аджит разбиваетс€ на две ипостаси: богин€ любви јфродита и богин€ здоровь€ √игие€. », заметим, более древний символ ”аджит Ч зме€ (св€занна€ с √игиеей) Ч возобладал.
___________________________
[3] Ѕуква ипсилон (Yυ) в древнегреческом €зыке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук Ч огубленное [ί]. ѕодобный звук есть в современном немецком €зыке и обозначаетс€ латинской буквой u с умлаутом Ч ü. ¬ русском €зыке огубленного [ί] нет, и в практике преподавани€ древнегреческого €зыка в русско€зычной аудитории букву ипсилон читают примерно так, как читают по-русски букву ю кириллицы.
Х λύρα [лю́ра] Ч лира;
¬ аттическом диалекте древнегреческого €зыка буква ипсилон в начале слова всегда сопровождаетс€ густым придыханием.

Х ὕμνος [хю́мнос] Ч гимн, песн€.
—праведливости ради, нужно отметить, что Ќехбет в наши дни тоже не забыта. » иногда встречаютс€ варианты, когда Ќехбет, в образе змеи обвивает чашу вместе с ”аджит, как, например, на знаке различи€ ¬оенно-медицинской академии имени —.ћ. ирова.
Ќарукавный знак Ч тканева€ нашивка в форме круга темно-синего цвета с кантом красного цвета. ¬ центре знака Ч изображение малой эмблемы (серебр€на€ чаша √иппократа с серебр€ным вензелевым изображением имени ѕавла I, обвита€ двум€ серебр€ными зме€ми, и серебр€ный факел за ней) на фоне красного пр€мого равноконечного креста, обрамленногоЁтот знак продолжает традицию военно-медицинской символики царской –оссии. ¬ –оссии эмблема, под названием Ђ√иппократова чашаї, стала основным медицинским символом в XVIII в. Ќа знаке изображалс€ герб –оссийской империи Ч двуглавый орел в короне со скипетром и державой. √ерб обвит дубовой и лавровой ветв€ми. ѕод ним внизу на месте переплетени€ ветвей расположены позолоченные чаша и, спускающиес€ к ней по веткам,лентами орденов Ћенина и расного «намени. ѕод эмблемой Ч два перекрещенных меча серебристого цвета.
 две змеи.
две змеи.ЂЅорьба съ чумоюї Ч еще один интересный знак дл€ должностных лиц за борьбу с чумой, темно-бронзовый
 дл€ санитаров и нижних чинов и посеребренный дл€ врачей. ”твержден 21 июн€ 1897г. ¬ народе прослыл Ђмедицинским √еоргиемї, ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.
дл€ санитаров и нижних чинов и посеребренный дл€ врачей. ”твержден 21 июн€ 1897г. ¬ народе прослыл Ђмедицинским √еоргиемї, ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.√ерб поселка ¬ольгинский ¬ладимирской области. Ќа нем лазорева€ чаша увита двум€ золотыми зме€ми. ѕоселение при этом достаточно молодое: оно было организовано в 1973 году неподалеку от ѕокровского завода биопрепаратов дл€ производства средств защиты сельскохоз€йственных животных от болезней.
»менно фармацевтический профиль ѕокровского завода и подчеркиваетс€ в гербе поселени€. ј синий цвет чаши указывает на ветеринарную направленность научных изысканий и производства препаратов.
_______________________________
|
ћетки: адуцей “ирс ∆езл —кипетр ѕосох √ермес ћеркурий ƒионис Ётимологи€ √реци€ ≈гипет |
Ќјќ— |
ƒневник |
Ќаос (греч. ναός) Ч центральна€ часть христианского храма, где во врем€ богослужени€ наход€тс€ пришедшие в храм мол€щиес€.
ναός
I. атт. тж. νεώς, эп.-ион. νηός, эол. ναῦος ὁ <ναίω I>
1) жилище (богов), храм; ex. (θεῶν Pind.; δαιμόνων Plat.)
2) (= σηκός) св€тилище храма; ex. (τοῦ ἱροῦ νηός Her.)
3) €щик в виде храма дл€ изображений богов; ex. (τὸ ἄγαλμα ἐν νηῷ μικρῷ Her.)
II. дор. gen. к ναῦς
ναῦς, эп.-ион. νηῦς, дор. ναῦς ἡ корабль, судно
ναοφύλαξ (νᾱο-φύλαξ)
I. -ᾰκος (ῠ) ὁ <ναός I> хранитель (страж) храма Eur.
II. -ᾰκος ὁ <ναῦς> кормчий корабл€ Soph.
Ναΐοη (Nάιος, Ναός) Ч эпитет «евса в ƒодоне, видимо, в значении Ђ—ущийї или Ђ’рамовыйї, от ναίω Ч жить, обитать, насел€ть, либо от того же ναός (ναῦος) Ч св€тилище. ¬прочем, оба варианта и этимологически и семантически взаимоув€заны.
ѕользовавшийс€ при написании своей Ђјргонавтикиї старинными источниками јполлоний –одосский упоминает, что корабль ясона обладал даром пророчества, потому как сама јфина ѕаллада поместила в корму Ђјргої доску св€щенного дуба из рощи ƒодонского оракула (древнейшего св€тилища «евса).
"— радостным кличем спускайте ладью на светлые волны!
“ы же, что создана нами из сосен и крепкого дуба,
јрго, внимай моей песне! “ы ей уже раз покорилась, Ч
ѕомнишь, когда моим пеньем пленил € лесные трущобы,
ручи обрывистых скал Ч и к пучине морской ты спустилась,
√оры родные покинув. —ойди же и нынче! ѕроложишь
“ы неизведанный путь; поспеши же на ‘асис далекий.¹
Ќашей покорна кифаре и силе божественной песни!"
», загремев, отозвалс€ в ответ мне дуб томарийский.²
јргос³ в подводную часть основу из этого дуба
репко, по воле ѕаллады, включил; и корабль чернобокий
¬друг приподн€лс€ легко и к пучине морской устремилс€Е
(јполлоний –одосский. јргонавтика II. 258)
_________________________
[1] Φᾶσις (-ιδος) ὁ ‘асид, река в олхиде, ныне –ион Hes., Pind., Aesch., Soph.
[2] Τόμαρος ὁ “омар (гора в Ёпире, близ ƒодоны) Dem.
[3] Ἄργος ὁ јргос, сын ‘рикса, строитель корабл€ јрго.
Ќалицо ув€зка корабл€ (ναῦς) и св€тилища (ναός), вопрос только в том, эта ув€зка допущена автором в силу созвучи€ или в силу более глубокой традиции? ќстановимс€ на этом моменте чуть подробнее.
Ќаос в архаической Ёлладе (как видно из изначальной цитаты) Ч это св€тилище в виде дерев€нного лар€, в котором хранили изображение божеств. “аким же образом греки именовали египетские св€тилища в форме дерев€нного ковчега с дверцами, который находилс€ в св€та€ св€тых храма. —обственно у египт€н греки эту традицию и заимствовали. ¬ ≈гипте во врем€ праздников наосы устанавливали на ладью и выносили из храма, соверша€ торжественные процессии. Ќаос Ч образ неба; и открывание его дверей сопровождалось словами: Ђѕусть будут открыты ворота небаї. Ќаос с открытыми дверцами символизировал непосредственное незримое присутствие божества среди празднующих, на торжествах в его честь.


1. ∆рецы, несущие св€щенную ладью јмона; в центре ладьи установлен наос. –ельеф из Ђ расного св€тилищаї ’атшепсут в арнаке.
2. ∆рецы, несущие церемониальную ладью заупокойного культа –амсеса II. –ельеф из –амессеума.
ƒжеймс Ѕрэстед в Ђ»стории ƒревнего ≈гиптаї повествует, что в египетских храмах бога –а, построенных еще в эпоху ƒревнего ÷арства, по обеим сторонам св€тилища воздвигались на фундаменте изображени€ кораблей, соответствующих тем двум небесным ладь€м, в которых бог солнца –а совершал свое путешествие по небу днем и ночью.
Ђ“вой правый глаз Ч вечерн€€ ладь€ ћесктет (msktt), твой левый глаз Ч утренн€€ ладь€ ћанджет (mˁnḏt)ї.
’–јћ Ќќ¬ќ√ќ ј –ќѕќЋя
¬ каждом Ђнациональном отделенииї Ќового јкропол€ имеетс€ храм. ¬ московском отделении он располагаетс€ в подвальном этаже здани€. ’рам состоит из трех частей Ч Ђзала ладьиї, Ђкриптї и центрального зала.
Ђ«ал ладьиї располагаетс€ первым от входа и €вл€етс€ своего рода притвором храма. ¬ его центре на полу на зеркале установлен постамент, на котором стоит псевдоегипетска€ ладь€ с головами египетского бога јнубиса на носу и на корме; в открытом наосе (надстройке в центре ладьи) устанавливаетс€ лампада;⁴ за наосом стоит статуэтка Ђкаї (египетское изображение духовной сущности).
____________________________
[4] ¬ ƒревнем ≈гипте в св€щенных ладь€х такого рода наос был всегда закрытым и в нем устанавливалась стату€ божества. Ќо в данному случае произошел конфликт божества с лампадой, в результате которого победила последн€€. “акже в ƒревнем ≈гипте подобные ладьи не сто€ли в храме посто€нно, а вносились туда в особые дни и устанавливались носом к Ђсв€тилищуї, а не боком, как это сделано в храме Ќового јкропол€.
Ќа четырех стенах зала наход€тс€ египетские рельефы, содержащие иероглифические Ђохранные заклинани€ї. ѕотолок Ђзала ладьиї и всех остальных частей храма расписан Ђегипетскимиї п€тиконечными звездами. »з зала две Ђпотайныеї двери ведут в Ђкриптыї Ч маленькие комнаты, предназначенные дл€ индивидуальных ритуалов. „етыре Ђкриптыї окружают круглый центральный зал, из каждой Ђкриптыї в него ведет дверь.
¬ Ђкрипте учителейї расположена стату€ греко-римского божества —ераписа, внушительных размеров бюст ’орхе јнхел€ Ћивраги и гипсовый слепок его руки. “акже там сто€т небольшие портреты Ѕлаватской и Ўри –ама (президента “еософского общества, который считаетс€ учителем Ћивраги).
¬ Ђкрипте BFї (∆енской Ѕригады) в специальных нишах наход€тс€ статуи римской богини ¬есты (держащей в руках светильник с огнем BF) и греческой јфродиты. ћежду нишами стоит флаг BF, напротив него на стене висит меч, увитый цветами. —тены крипты синие, освещение Ч насыщенного синего цвета.
¬ Ђкрипте CSї ( орпуса Ѕезопасности) в нишах сто€т статуи египетского бога ќсириса и греческого божества јреса (или римского ћарса). ” статуи јреса располагаетс€ светильник с огнем CS. роме того, в крипте сто€т небольшие статуэтки египетского бога јнубиса и зме€ в форме буквы S (урей). Ќа стене Ч ритуальный меч, используемый во врем€ церемоний. —тены крипты красные, освещение Ч €рко-красное.
¬ Ђкрипте BMї (ћужской Ѕригады) в нишах сто€т статуи греческого бога √ефеста и египетского бога ѕтаха. –€дом стоит статуэтка скарабе€ и фанерный куб с землей. Ќа стене висит большой двуручный меч. ¬ углу крипты стоит Ђмакетї алхимической печи Ч Ђатанораї (athanor). —тены крипты коричневые, освещение Ч желтое.
÷ентральный зал круглый, с небольшой пр€моугольной нишей. ¬ нише на стене помещен бронзовый орел (символ Ќового јкропол€), там же сто€т египетска€ стату€ (которую называют Ђученикї) и флаги Ќового јкропол€.
¬ центре зала расположен глубокий круглый колодец с водой. —верху колодец закрыт невысоким контейнером с песком, привезенным из ≈гипта и смешанным с песком из крипты Ћивраги. Ќа контейнере стоит алтарь в форме египетского столба Ђджедї, на нем расположена бронзова€ чаша дл€ Ђжертвоприношенийї. Ќа стенах изображены египетские божества и сцена Ђвзвешивани€ душиї из египетской Ђ ниги ћертвыхї. ѕотолок крипты куполообразный. —трого по оси колодца через все этажи здани€ проходит труба, котора€ теоретически должна проводить на алтарь свет —ириуса в моменты совершени€ церемоний.
—¬я“»Ћ»ў≈ ’–јћј ’ј“’ќ– ¬ ƒ≈Ќƒ≈–≈
—в€тилище, или как его называли египт€не —ет ”рет (st wrt) Ч Ђ¬еликое ћестої, это не просто центр всего комплекса и место дл€ статуи божества. Ёто храм внутри храма, сакральный центр микрокосма, символ предвечного холма земли, по€вившегос€ в начале творени€, обитель Ѕожественного ƒуха, сошедшего дл€ воссоединени€ со своим рукотворным изображением. —в€та€ св€тых ƒендеры посв€щено двум основным аспектам единого принципа женского божества: восточна€ часть Ч ’атхор, а западна€ Ч »сиде.
ѕомимо культовых статуй, здесь же находилась и св€щенна€ ладь€ божества, именовавша€с€ ”чесет
 нефру (wṯst nfrw) Ч Ђѕоднимающа€ красотыї, выполненна€ из кедрового дерева, золота и других драгоценных материалов. Ќос и корма ладьи были украшены эгидами Ч скульптурными головами божества, обрамленными богатыми ожерель€ми усех (wsḫ). Ёгиды магическим образом защищали культовую статую, поко€щуюс€ в укрытом тончайшими ткан€ми наосе, который находилс€ в центре корабл€. Ќа носу ладьи в сопровождении ћаат, под охраной сто€щего сфинкса “уту Ч грозного божества, ослепл€ющего своим взором всех недоброжелателей, царь подносил к статуе сосуды со св€щенным молоком.
нефру (wṯst nfrw) Ч Ђѕоднимающа€ красотыї, выполненна€ из кедрового дерева, золота и других драгоценных материалов. Ќос и корма ладьи были украшены эгидами Ч скульптурными головами божества, обрамленными богатыми ожерель€ми усех (wsḫ). Ёгиды магическим образом защищали культовую статую, поко€щуюс€ в укрытом тончайшими ткан€ми наосе, который находилс€ в центре корабл€. Ќа носу ладьи в сопровождении ћаат, под охраной сто€щего сфинкса “уту Ч грозного божества, ослепл€ющего своим взором всех недоброжелателей, царь подносил к статуе сосуды со св€щенным молоком.Ђя иду к тебе, ƒвойственна€ √оспожа –ехит (Rḫjt), ћогуча€ не имеюща€ себе подоби€, Ч обращаетс€ царь к ’атхор в текстах ƒендеры, Ч приношу € тебе ладью ћанеджет (mˁnḏt), что защитит тело твое, укроет теб€ на «емле жизни день каждый. “ы, “а, что поднимаетс€ в небесах в начале года (звезда —ириус)їЕ
÷арь подносит богин€м на рельефах, украшающих стены, жертвенные дары Ч молоко, св€щенные воду и вино, благовони€, лотосы, систры. ѕоднос€ божеству статуэтку ћаат, воплощающую в себе принцип локальной гармонии, царь тем самым восстанавливает космическую гармонию, ибо Ђсердце богини ћаат возлюбило его, и она возноситс€ к богам в вечностиї, воссоедин€€ локальный и вселенский миропор€док, провозглаша€ новое торжество вселенной над изначальным хаосом.
’рам становитс€ воплощенным подобием Ђидеального мираї, перенос€ посредством молитвы и богослужени€ благодать божества на всю землю. ќднако исполнение ритуала возможно только при соблюдении максимальной точности, как в св€щеннодействии, так и в расчетах при сооружении храма. “ексты св€та€ св€тых, содержащие в себе важнейшие теологические аспекты культовых действий в храме, восхвал€ют цар€-строител€ не столько за богатство и грандиозность творени€, сколько за следование канону сакральной архитектуры: только в этом случае в строительстве храма будут участвовать сами боги, и он станет не просто моделью космоса, но живым организмом, поддерживающим миропор€док.
Ќј¬№
Ќавь (от греч. ναῦος Ч ладь€) Ч вид погребального обр€да, в слав€нской мифологии воплощение смерти, первоначально св€занное с представлением о погребальной ладье, на которой плывут в царство мертвых.
Ќавье царство аналог царства јида, в который душа попадает, переправившись через реку —тикс (јхерон) в ладье ’арона. ’арон перевозит умерших, получа€ за это плату в один обол (по погребальному обр€ду наход€щийс€ у покойников под €зыком).
√реками традици€ заимствована из ≈гипта, где, некрополь находилс€ на «ападе, т.е. на левом берегу Ќила. „тобы попасть в некрополь (быть погребенным) нужно было переправитьс€ через реку, естественно, тоже за определенную плату.
Ђ огда собираютс€ погребать тело [усопшего], его родичи предварительно сообщают день похорон судь€м и [другим] родственникам, а также друзь€м умершего, и подчеркивают, что [такой-то] Ч называ€ им€ усопшего Ч собралс€ перейти реку (διαβαίνειν μέλλει τήν λίμνην). «атем, когда приход€т судьи числом сорок три и усаживаютс€ на полукружную скамью, установленную на противоположном берегу реки, на воду спускаетс€ ладь€, заранее приготовленна€ теми, кто заботитс€ о такого рода вещах, на ней стоит перевозчик, которого египт€не на своем наречии называют Ђхаронї (χάρωνα). ѕоэтому они говор€т, что ќрфей,⁵ в древности прид€ в ≈гипет и увидев этот обычай, сложил мифы об устройстве подземного царства, в чем-то копиру€ [египетские истории], в чем-то придумыва€ своеї. (ƒиодор —ицилийский)
_________________________
[5] ќрфическа€ религи€ оформилась не ранее VI в до н.э., по€вилась она в ёжной »талии или в јфинах. ћифическим основателем дионисийских мистерий считалс€ жрец јполлона ќрфей.
_______________________________
|
ћетки: Ќаос √реци€ ≈гипет |
√≈–ћј |
ƒневник |
√ерма (ἕρμα, ἑρμῆς) Ч четырехгранный столб (τετράγωνος ἐργασία), завершенный скульптурной головой, первоначально бога √ермеса (Ἑρμῆς), затем других богов и богинь, а с V века до н.э. и портретными
 изображени€ми государственных де€телей, философов и пр.
изображени€ми государственных де€телей, философов и пр.—вое название герма (ἑρμῆς, скульптурна€ колонна) получила от созвучи€ имени √ермеса (Ἑρμῆς) со словом Ђкаменьї (χερμάς). »значально гермы (χερμάς) €вл€лись обозначением границ земельных владений, как указатели на перекрестках дорог, так же гермами назывались и могильные камни. ¬идимо, здесь кроютс€ корни таких качеств √ермеса, как Ђохранитель собственностиї, Ђпокровитель путешествующихї (ἐνόδιος), Ђпроводник умерших в царство тенейї (νεκροπομπός, ψυχοπομπός).
”станавливались гермы (ἑρμῆς) на улицах, перекрестках, в центре рынков и площадей. –€дом устраивались небольшие алтари дл€ принесени€ жертв. Ќередко к гермам приделывалс€ с лицевой стороны фаллос Ч символ плодороди€. —огласно √еродоту, афин€не первыми из эллинов стали делать изображение √ермеса в виде четырехгранной колонны с эрегированным фаллосом и научились этому у пеласгов. ¬ элейской иллене (јркади€) √ермеса и вовсе почитали в образе фаллоса. ¬ 415г. до н.э. гермы были уничтожены. ¬о времена –има они потер€ли св€зь с фаллическим культом √ермеса и стали изготавливатьс€ в виде четырехсторонней колонны, на которую водружалс€ бюст божества.
√ермы часто размещали на рыночных площад€х (ἀγορά), т.к. √ермес был покровителем торговли. ѕавсаний рассказывает о местной традиции в ‘арах (Φαραί), св€занной с √ермесом јгореем (Ђ–ыночнымї).¹
Ђќкружность площади в ‘арах очень больша€, она устроена в старинном стиле. ѕосредине площади стоит мраморна€ стату€ √ермеса с бородой; эта стату€ в виде четырехугольной колонны, сто€щей пр€мо на земле, небольшой величины. ≈сть на ней надпись, что ее посв€тил мессенец —имил. Ётот √ермес называетс€ –ыночным; возле него устроено прорицалище. ѕеред статуей находитс€ жертвенник, тоже из мрамора; к этому жертвеннику прикреплены свинцом медные светильники. ∆елающий получить предсказание от бога приходит к вечеру, делает на жертвеннике воскурение ладаном; затем, наполнив светильники маслом и зажегши их, кладет на жертвенник направо от статуи местную монету Ч она называетс€ Ђхалкосї² Ч и шепчет на ухо богу тот вопрос, с которым он сюда €вилс€. ѕосле этого он уходит с площади, заткнувши уши. ”йд€ за пределы площади, он отнимает руки от ушей, и то слово, которое он услышит, он считает ответом бога. “акого же рода гадание есть и у египт€н в храме јписа.ї (ѕавсаний. ќписание Ёллады. јхай€, XXII:2)____________________________________
[1] ἀγοραῖος
1) рыночный, базарный (ὄχλος Xen., Plut.; δῆμος Arst.);
2) покровительствующий торговле (Ἑρμῆς Arph.)
Ἑρμαγόρας (Ἑρμ-αγόρας), -ου ὁ √ермагор, Ђ√ермес с рыночной площадиї (т.е. стату€ √ермеса) Luc.
[2] χαλκός ὁ халк, аттическа€ мелка€ медна€ монета = 1/4 обола = 1/48 драхмы Plut.
¬ажна€ особенность гермы Ч то, что ее столб €вл€етс€ не Ђподставкой дл€ бюстаї, а частью единого целого. ¬ диалоге Ђ√иппархї, приписываемом ѕлатону, есть упоминание о гермах с надпис€ми, установленных √иппархом, сыном ѕисистрата, на дорогах јттики [Plat. Hipparch. 228d]. ¬еро€тно, это событие относитс€ к 522-514 годам до н.э., уже после постройки јлтар€ ƒвенадцати (олимпийских) богов. ѕо данным археологических исследований, каменные гермы существовали в јфинах в начале V в. до н.э.
ѕервые гермы, веро€тнее всего, представл€ли собой культовые изображени€ √ермеса. ћногосторонний характер бога √ермеса, которому первоначально посв€щались гермы, лаконичность выразительных средств, традиционность изображений способствовали самому широкому распространению герм. ”же в IV в. до н.э. по€вились гермы и других богов Ч ¬акха, √еракла, ѕана, јфродиты; предполагают, что в виде герм изображали прежде всего тех богов, которые сближались с √ермесом в какой-либо исконно подвластной ему сфере.
ќдна из герм √ермеса, работы скульптора јлкамена (Ἀλκαμένης), стала известна благодар€ огромному количеству копий, несколько дес€тков которых сохранились и представлены в разных музе€х мира. ”траченный оригинал датируетс€ 450-440 годами до н.э. ¬ св€зи с этим неоднократно обсуждалась проблема архаистического стил€ в античном искусстве.
ƒжером ѕоллит (Jerome J. Pollitt) по смыслу различает три вида архаизации. —имволическа€ архаизаци€ (emblematic archaism) стремитс€ сделать предмет узнаваемым, придать ему традиционный вид. ќ репрезентативной архаизации (representational archaism) можно говорить в том случае, когда произведение должно было выгл€деть определенным образом в соответствии с правилами, независимо от эстетических предпочтений мастера. Ќаконец, полна€ архаизаци€ (comprehensive archaism) направлена на достижение эстетического эффекта,
![ќдносторонн€€ бронзова€ медаль (Æ 67mm, 45.43g) из часной коллекци€ –иссе (W. Risse). √равер ј. ƒюпре (Augustin Dupré). Av: ѕод деревом стоит герма ѕриапа, в окружении двух нимф. —лева, в кустах, —атир и еще одна нимфа. —права Ч гор€щий алтарь / [сигнатура: DUPRÉ F.]. —южет медали опираетс€ на центральную сцену знаменитой картины Ќиколы ѕуссена (Nicolas Poussin), изображающей поклонение богу садов и плодороди€ ѕриапу, котора€ находитс€ в ’удожественном музее в —ан-ѕаулу, Ѕразили€. h_hq (700x697, 229Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/4/160/458/160458335_h_hq.jpg) гармоничное объединение архаических черт с элементами более позднего Ђгосподствующегої стил€. ¬ случае с гермами јлкамена, все три пон€ти€ сложно разделить. „ерты архаического стил€ (фронтальность и статичность фигуры, орнаментальна€ декоративность) позвол€ли добитьс€ визуального единства произведени€, украсить его и одновременно напомнить зрителю о благочестивых обыча€х предков.
гармоничное объединение архаических черт с элементами более позднего Ђгосподствующегої стил€. ¬ случае с гермами јлкамена, все три пон€ти€ сложно разделить. „ерты архаического стил€ (фронтальность и статичность фигуры, орнаментальна€ декоративность) позвол€ли добитьс€ визуального единства произведени€, украсить его и одновременно напомнить зрителю о благочестивых обыча€х предков.—кульпторы поздней классики и эллинизма иногда использовали совершенно иные средства: не сглаживали, но, напротив, обостр€ли контраст между столбом гермы и ее антропоморфной частью; так, среди герм по€вились по€сные и поколенные изображени€, детализированные, натуралистично выполненные.
—ледует заметить, что отнесение к гермам скульптурных полуфигур (προτομή) основываетс€ на предположении, что главный отличительный признак гермы Ч четырехугольна€ форма ее нижней части. ¬еро€тнее всего, так и есть. ¬реде (Henning Wrede) приводит целый р€д синонимов, среди которых не раз подчеркиваетс€ именно эта особенность. ќднако древние авторы в своих трудах иногда считают нужным акцентировать внимание на других детал€х. Ќапример, у ѕавсани€ встречаем:
ЕЂафин€не (Е) первые стали сооружать столбы с изображени€ми богов без конечностей, гермыїЕ
(ѕавсаний I, 24. 3)
” герм-полуфигур руки хорошо проработаны, включа€ кисти. ¬идимо, из-за внешних отличий ѕавсаний предпочитает описывать этот вид скульптуры иначе. ќ стату€х јртемиды и √еракла в гимнасии близ храма јртемиды ‘ереи он сообщает:

Ђ“ут находитс€ и стату€ јртемиды, сделанна€ из белого мрамора; она отделана только от бедер, так же как и у √еракла, нижн€€ часть которого похожа на четырехугольные столбы гермї.
(ѕавсаний II, 10. 6)
ѕавсаний не называет гермой и статую √ермеса в ‘игалии:
Ђ¬ наход€щемс€ здесь гимнасии есть стату€ √ермеса; он представлен как будто с накинутым на плечи гиматием, но он не доходит ему до ног, так как стату€ оканчиваетс€ четырехугольной колоннойї. (ѕавсаний VIII, 39. 6)
“очно неизвестно, когда возникли гермы-протомы. ќдно из самых ранних изображений гермы-полуфигуры на монете ротона относитс€ к последней четверти V - началу IV в. до н.э. Ќа монете хорошо различима стату€ бородатого бога, ниже бедер переход€ща€ в столб; в правой руке он держит фиалу, в левой Ч кадуцей. Ќаличие кадуце€ позвол€ет идентифицировать его как √ермеса.
— наступлением римского владычества гермы не утратили своей попул€рности. ” римл€н уже имелась собственна€ своеобразна€ форма скульптуры Ч бюсты предков; неудивительно, что гермы легко стали частью и римской традиции. √ермы этого времени отличаютс€ большим разнообразием художественных приемов и их сочетаний.
ѕо€вились новые разновидности: например, нехарактерные дл€ √реции, но пользовавшиес€ спросом среди римл€н неоаттические гермы богини јфины; заказчиком такой скульптуры был, в частности, ÷ицерон [Cic. Att., I, 10, 3]. »звестны и трехсторонние гермы, где женское лицо интерпретируетс€ как лицо ƒеметры или оры;³ они датированы I в. до н.э. - I в. н.э.
¬ –име, где гермы использовали в качестве пограничных знаков, их наиболее часто украшали изображени€ми бога границ “ермина, ‘авна и —ильвана. »зображени€ герм могли быть и сдвоенными. ¬ таких случа€х гермы получали специальные названи€ Ч √ермафина (√ермес и јфина), √ермеракл (√ермес и √еракл), √ермарес (√ермес и јрес) и др.⁴ ќсоба€ истори€ была у герм с бюстом јфродиты. Ќа ипре существовал культ
 јфродитоса, которого изображали в виде гермы с женской протомой, но с фаллосом, традиционно присущим всем гермам. ¬идимо это и послужило поводом дать герме јфродиты мужское им€ Ἀφρόδιτος. ¬ IV веке до н.э. культ јфродитоса прижилс€ в јфинах, где трансформировалс€ в образ двуполого персонажа, сына √ермеса и јфродиты Ч √ермафродита.⁵
јфродитоса, которого изображали в виде гермы с женской протомой, но с фаллосом, традиционно присущим всем гермам. ¬идимо это и послужило поводом дать герме јфродиты мужское им€ Ἀφρόδιτος. ¬ IV веке до н.э. культ јфродитоса прижилс€ в јфинах, где трансформировалс€ в образ двуполого персонажа, сына √ермеса и јфродиты Ч √ермафродита.⁵____________________________________
[3] “рехсторонние гермы Ч это редкий тип античных скульптур, представл€ющих собой призматический столб (похожий на обычную герму, но с трем€ гран€ми) с трем€ разными ликами или фигурами, обращенными в разные стороны, чаще соотносимые с √екатой (т.н. гермекаты).
Ἑρμεκάτη (Ἑρμ-εκάτη) ὁ √ермеката, герма с наверши€ми в виде бюстов или протом триморфной √екаты.
[4] Ἑρμάνουβις (Ἑρμ-άνουβις), -ιδος ὁ √ерманубис (соединенные изображени€ √ермеса и јнубиса) Plut.
Ἑρμηρακλῆς (Ἑρμ-ηρακλῆς), -έους ὁ √ерм(г)еракл (соединенные изображени€ √ермеса и √еракла) Cic.
Ἑρμαθήνη (Ἑρμ-αθήνη) ἡ √ермафина (бюст јфины в виде гермы или соединенные бюсты јфины и √ермеса) Cic.
Ἑρμοπάν (Ἑρμο-πάν) ὁ √ермопан, герма, заканчивающа€с€ бюстом ѕана, либо сдвоенное изображение ѕана и √ермеса на герме.
[5] Ἑρμαφρόδιτος (Ἑρμ-αφρόδιτος) ὁ √ермафродит (сын √ермеса и јфродиты, обоеполое существо) Diod., Luc., Anth.
—ледует заметить, что некоторые гермы римского времени, предназначенные дл€ украшени€ гимнасиев и вилл, фактически превратились в разновидность декоративной скульптуры. ¬ первую очередь это относитс€ к гермам Ч копи€м статуй и портретным гермам, которые изображали греческих философов, поэтов и политических де€телей. —читаетс€, что выбор скульптурной формы дл€ портрета не случаен: гермы традиционно устанавливались в древнегреческих гимнаси€х и св€заны с почитанием √ермеса как бога слова, мышлени€, речи. ќднако существовали и такие произведени€, как найденна€ на вилле ѕапирусов герма ƒорифора работы скульптора јполлони€ (середина I в. н.э., Ќеаполь, Ќациональный археологический музей). »зменение функции герм сказалось на значении самого термина: если греческое слово ἕρμα обозначает культовое изображение √ермеса, то латинское hermae относитс€ прежде всего к разновидности скульптуры и может обозначать изва€ни€ других богов и людей.
_______________________________

ќктавиан јвгуст (27 до н.э. - 14 н.э.). –имска€ республика.
ƒенарий (AR 20mm, 3.83g), ок. 28/7 до н.э. ћонетный двор: Ѕрундизий (Brundisium).
Av: голова јвгуста;
Rv: герма ёпитера “ермина (Iupiter Terminus) в радиальной короне, ниже Ч крылатый перун (πυρών); IMP CAESAR
Terminus, -i m “ермин, покровитель границ.
_______________________________

‘ранци€, Ћион. —еребр€ный жетон ЂЋионское фармацевтическое обществої (AR 31mm, 9.90g), 1806г.
√равер ∆ан-ћари Ўаван (Jean-Marie Chavanne, 1766-1826).
Av: голова лавди€ √алена (медик, философ, 129-216); CLAUDE GALIEN / [сигнатура: CHAVANNE F.]
Rv: герма јфины √игиеи (÷елительницы), корм€щей из патеры зме€ Ёрихтони€, который обвивает оливковое дерево; на шлеме јфины сидит сова; SOCIETE DE PHARMACIE DE LYON / MDCCCVI
_______________________________

Ћюдовик XVIII (1814-1824). ‘ранци€. ћедаль Ђ‘ранко-јмериканска€ конвенци€ о судоходстве и торговлеї (Æ 51mm, 69.50g), 1822г. √раверы Ѕертран јндриЄ (Jean-Bertrand Andrieu) и √айрар (Raymond Gayrard), под руководством ƒе ѕюйморена (De Puymaurin).
Av: бюст Ћюдовика XVIII; LUDOVICVS XVIII FRANC ET NAV REX / [сигнатура: ANDRIEU F. / DE PUYMAURIN DIREXIT]
Rv: персонификации ‘ранции, в коринфском шлеме, с –огом изобили€ и со щитом, и јмерики, в головном уборе коренных американцев; в центре герма ћеркури€ с датой MDCCCXXII (1822) / GALLIA ET AMERICA FOEDERATA / NOVIS COMMERCIORVM PACTIS IVNCTAE / [сигнатура: GAYRARD F.]
_______________________________

Ћюдовик XV (1710-1774). ‘ранци€. Ѕронзова€ медаль (Æ 42mm, 33.11g), 1724г. ћедаль выпущена в честь завершени€ арбитража во ‘ранции, между –оссией, “урцией и ѕерсией, о спорных территори€х. ћедальер ∆ан дю ¬ивье (Jean du Vivier).
Av: бюст Ћюдовика XV в лавровом венке; LUDOVICUS XV. D. G. FRAN. ET NAV. REX / [сигнатура: DU VIVIER F.]
Rv: герма “ермина (Terminus) Ч блюстител€ неприкосновенности границ; к герме прислонены три щита с изображени€ми гербов “урции, –оссии и ѕерсии; FINIUV ARBITER / TURCAS INTER RUSSOS ET PERSAS / MDCCXXIV
_______________________________

Ќиколай I (1825-1855). –оссийска€ »мпери€. ѕам€тна€ бронзова€ медаль в честь 100-лети€ основани€ »мператорской академии наук в —анкт-ѕетербурге (Æ 65mm, 146.67g), 1826г. √равер граф ‘едор “олстой.
Av: голова Ќикола€ I; Ѕ. ћ. Ќ» ќЋј… I »ћѕ≈–ј“ќ–Џ » —јћќƒ≈–∆≈÷Џ ¬—≈–ќ——. / [сигнатура: √. Ѳ≈ќƒќ– “ќЋ—“ќ…].
Rv: ћинерва, восседающа€ на троне, держит венок над двойной гермой ѕетра I и јлександра I, у ног Ч сова; ќ—Ќќ¬ј“≈Ћё » ’–јЌ»“≈ЋяћЏ / »ћѕ≈–. —. ѕ≈“≈–. ј јƒ≈ћİя Ќј” Џ / ƒ≈ јЅ–я XXIX ƒЌя / MDCCCXXVI √. / [сигнатура: —ќ„. » –Ѣ«. √. Ѳ≈ќƒ. “ќЋ—“ќ…].
_______________________________

јвстрийска€ импери€, ¬ена. Ёрнст ‘рейхерр фон ‘ойхтерслебен (Ernst Maria Johann Karl Freiherr von Feuchtersleben, 1806-1849), врач, философ и поэт. ѕам€тна€ бронзова€ медаль (Æ 51mm, 62.20g), 1851г.
Av: голова Ёрнста ‘рейхерра; ERN. L. B. A. Feuchtersleben. FAC. MED. VIND. DEC. MDCCCXLV - XLVII / NAT. 1806 - OB. 1849
Rv: герма јртемиды многогрудой (πολύμαστος), которую обвивает зме€ богини √игиеи, пьюща€ из патеры, справа Ч лира прислоненна€ к герме; MEDICO. PHILOSOPHO. POETAE / COLLEGIUM DOCTORUM / FAC. MED. VIND / MDCCCXLV
_______________________________

‘ранци€, “реть€ –еспублика (1870-1940). Ѕронзова€ медаль ЂЌациональное общество садоводстваї (Æ 67mm, 131.40g), 1898г. √равер јльфред Ѕоррель (Alfred Borrel).
Av: персонификаци€ садоводства, стоит с двум€ венками, опира€сь на герму ѕана; HORTORVM CVLTVRA / [сигнатура: A. BORREL].
Rv: венок из цветов, овощей и фруктов; SOCIÉTÉ NATIONALE DТHORTICULTURE DE FRANCE / Mr GERAND / PLANTES AQUATIQUES / MAI 1898
_______________________________

‘ранци€. ћедаль Ђ—оюз предпри€тий химической промышленностиї (AR 37mm, 26.06g), 1949г.
Av: герма Ћавуазье (LAVOISIER 1743-1794), над которой ¬иктори€ держит пальмовую ветвь; справа Ч весы.
Rv: UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES / S. LUIGIA BURDESE / 1949
Х јнтуан Ћоран Ћавуазье (Antoine Laurent de Lavoisier; 1743-1794) Ч французский естествоиспытатель, основатель современной химии.
_______________________________

‘ридрих фон Ўиллер (1759-1805). √ермани€, Ўтутгарт. Ѕронзова€ медаль (Æ 59mm), 1905г. ћедальеры ћайер (Wilhelm Mayer) и ¬ильгельм (Franz Wilhelm), Ўтутгартский монетный двор.
Av: герма Ўиллера, справа Ч Ќика водружает лавровый венок на голову поэта; слева Ч јмур с факелом и горном; ниже Ч пальмова€ ветвь, на которой лежат раскрыта€ книга и п€тиструнна€ лира; [сигнатура: M.&W. ST.].
Rv: пальмова€ и лаврова€ ветви; цитата из поэмы Ўиллера Ђ“оржество победителейї; 1805-1905.
Х ‘ридрих фон Ўиллер Ч немецкий поэт, философ, драматург, историк, врач. ќдин из €рчайших представителей немецкого романтизма и гуманизма. Ќиже, четверостишье, цитируемое на медали, и его перевод выполненный ¬.ј. ∆уковским.
| Von des lebens gütern allen. Ist der ruhm das höchste doch, Wenn der Leib in Staub zerfallen, Lebt der große Name noch. | ∆ить в любви племен делами Ч Ѕлаго первое земли; Ѕудем вечны именами » сокрытые в пыли! |
_______________________________

‘ранци€, ѕариж. ќдносторонн€€ настольна€ латунна€ медаль (Br 70mm, 50.00g). ћедальер јнри ƒропси (Henry Dropsy).
Av: нимфа и козлоногий сатир, пл€шущие перед гермой ѕана; нимфа держит в руках венок из тростника; сатир играет на двух флейтах [сигнатура: HENRY DROPSY].
_______________________________
|
ћетки: √ерма √ермес √реци€ |
—»–≈Ќџ » Ќ≈ “ќЋ№ ќ |
ƒневник |
—ирены (Σειρῆνες) Ч сладкоголосые полуптицы-полудевы, унаследовавшие от отца речного бога јхело€ дикую стихийность, а от матери-музы ћельпомены Ч божественный голос. ѕо другой версии, отцом сирен был морской бог ‘оркий. ¬ роли матери, в разных изложени€х, выступают (помимо ћельпомены): музы “ерпсихора или аллиопа, а также √е€ (Γαῖα, богин€ земли) и ето (Κητώ).
»значально сирены были прекрасными девами. ¬ послегомеровских сказани€х сирены изображаютс€ как девы чудной красоты, с очаровательным голосом. «вуками своих песен они усыпл€ют путников, а затем раздирают их на части и пожирают.
—уществовало несколько сказаний, объ€сн€ющих, почему они приобрели птичий облик. —огласно ≈врипиду, они были спутницами ѕерсефоны. ѕосле ее похищени€ јидом, ƒеметра сделала сирен крылатыми, ибо они не помогли ѕерсефоне; либо они были превращены в птиц как раз дл€ того, чтобы найти ѕерсефону.
’арактеристика и Ђрод де€тельностиї сирен кроетс€ в их названии. —ирены (σειρήν), очаровывают своим пением мореплавателей, условно говор€, Ђзавлекают их в свои сетиї, что хорошо перекликаетс€ с семантикой слова σειρή Ч Ђаркан, путы, узыї. стати, помимо пени€, сирены завораживали мор€ков своим взгл€дом.
σειρήν (-ῆνος) ἡ
1) Σειρῆνες Ч сирены (миф. девы, обитавшие у южных берегов »талии, завлекавшие своим пением мореплавателей и убивавшие их);
2) коварна€ очаровательница Eur.
3) очарование, оба€ние, прелесть Plut.
—огласно описанию √омера, сирен было две. ѕозднее называли трех сирен, имена которых были ѕейсино€ (Πεισηνόη, от πησινόα Ч Ђовладевающа€ разумомї, т.е. Ђобольщающа€ї, Ђсвод€ща€ с умаї), јглаопа (Ἀγλαῶπη, от ἀγλαώψ Ч Ђсо сверкающим взоромї) и ‘елксиопа (Θελξιώπη Ч Ђочаровывающа€ взгл€домї) или ‘елксино€ (θελξινόη Ч Ђчарующа€ї). ” разных авторов иногда встречаютс€ и другие имена, которые по сути €вл€ютс€ эпитетами, характеризующими сирен более конкретно, например, јристотель называет одну из сирен Ћигией (Λίγεια, Ђ—ладкозвучна€ї), у √игина одна из сирен зовЄтс€ ћолпой (Μολπή, Ђпениеї).
¬ описани€х сирен, как правило, одна из них играет на кифаре, друга€ поет, треть€ играет на флейте. Ќаиболее распространенна€ флейта имела у греков название сиринга (σύριγξ), впервые она встречаетс€ в Ђ»лиадеї √омера. —озвучие слов Ђсиренаї и Ђсирингаї, дл€ греческих сказителей, конечно не могло остатьс€ незамеченным. —ладкозвучное пение, подобное волшебным звукам свирели сиринги и их коварство, которое они употребл€ют с целью увлечь, Ђзаарканитьї, Ђопутатьї своими чарами Ч и составл€ет суть сирен, их Ђрод де€тельностиї.
—ирен сближали с гарпи€ми (Ἅρπυιαι) и керами (Κῆρες). √арпии (от ἅρπη, сокол) Ч персонификации различных аспектов бури. ¬ мифах они представлены злобными похитительницами (ἅρπαγος) детей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер. „исло их колеблетс€ от двух до п€ти; изображаютс€ в виде диких полуженщин-полуптиц с крыль€ми и лапами грифа. √арпий обычно помещали на —трофадских островах в Ёгейском море.
¬ некоторых мифах говоритс€, что когда-то гарпии были прекрасными женщинами; в пам€ть о прошлом у них сохранились женские лица и грудь. »х причисл€ли к самым опасным чудовищам подземного царства. —читалось, что гарпии по€вл€ютс€ в грозу и ураган, распростран€€ нестерпимую вонь, подобно хищным птицам стерв€тникам. √арпии бо€лись лишь одного: звуков медных духовых инструментов. ѕо јкусилаю, гарпии сторожат €блоки, по Ёпимениду, тождественны √есперидам (Ἑσπερίδες) Ч прекрасным нимфам, охран€ющим золотые €блоки.
еры Ч это души умерших, сделавшиес€ кровожадными демонами, принос€щие люд€м страдани€ и смерть. ƒревние греки представл€ли кер крылатыми женскими существами, которые подлетали к умирающему человеку и похищали его душу. »ногда ера описывалась как единственна€ богин€ беды, она была мрачной дочерью Ќюкты (Ќочи) и Ёреба (ћрака).
√есиод описывает кер как уродливых страшилищ, мрачных, скрежещущих зубами, обрызганных кровью, спор€щих друг с другом за павших на поле битвы, кровь которых они высасывают. ѕозже керы были отождествлены с эрини€ми (Ἐρινύες, Ђгневныеї), богин€ми мести, рождЄнными √еей. ¬ римской мифологии им соответствуют фурии.
Ђ ак тень, метатьс€ будешь,
ј за тобою прыгать неустанно
» страшные и злые псицы: их
Ѕожественна природа Ч это еры.
¬ скитани€х когда придешь, ќрест,
¬ јфины, там есть истукан ѕаллады,
ѕрижмись к нему, Ч Ёринии теб€
ѕокинут вмиг; теб€ эгидой стоит
≈й осенить Ч и очарует змейїЕ
(≈врипид ЂЁлектраї)
—огласно √есиоду, эринии порождены «емлей от крови ”рана. »х рождение приписывают первому совершившемус€ преступлению: когда ронос оскопил своего отца ”рана, капли его крови, пада€, породили эриний.
—огласно орфикам, это дев€ть дочерей «евса ’тони€ (јида) и ѕерсефоны. ѕо версии ѕсевдо-√ераклита их тридцать тыс€ч. ” позднейших поэтов эриний три: “исифона (Τισιφόνη, Ђмстительница за убийствої), јлекто (Ἀληκτώ или Ἀλληκτώ, Ђнеугомонна€ї) Ч никогда не отдыхающа€, безжалостна€, непримирима€ и непрощающа€, и ћегера (Μέγαιρα, Ђвозмущенна€ї), олицетворение мщени€ и гнева, которую изображали в виде ужасной женщины со зме€ми вместо волос, с оскаленными зубами и бичом в руках.
Ёсхил в Ђќрестееї изобразил всех эриний подобными горгонам, в виде отвратительных старух с извивающимис€ зме€ми вместо волос, собачьими головами, черными, как уголь, телами, крыль€ми, как у летучих мышей, и налитыми кровью глазами. ¬ руках они держали усе€нные бронзовыми гвозд€ми плети, и жертвы их умирали мучительной смертью. √оргоноподобной эрини€ (“исифона) изображена и у ќвиди€ в Ђћетаморфозахї.
Ђ¬ыход Ёрини€ им заступила зловещей преградой:
–уки она развела, узлами гадюк обвитые,
¬скинула волосы, змей потревожила, те зашипели.
„асть их лежит на плечах, другие, спустившись по груди,
—вист издают, извергают свой €д, €зыками мелькают.ї
(ќвидий, ћетаморфозы IV, 489-493)
ќднако афин€не называли эриний Ђѕочтеннымиї. —огласно мифу, эринии преследовали ќреста за убийство матери, которое тот совершил по велению јполлона. јполлон смог лишь на врем€ усыпить богинь-мстительниц, защища€ ќреста. онец же преследованию положила јфина-ѕаллада, провед€ первый в истории мифической √реции суд, суд над ќрестом, в результате которого герой был оправдан. Ёринии пришли в €рость, поскольку суд отн€л их исконное право карать муками нарушившего закон. ќднако јфина усмирила гнев богинь, убедив эриний остатьс€ (μένω) в јттике, пообещав, что все афин€не будут воздавать почести древним богин€м. — тех пор как эринии сменили гнев на милость, их стали называть эвменидами (Εὐμενίδες, Ђмилостивыеї, Ђблагосклонныеї). Ёвменид отождествл€ют с этрусскими мани€ми. ¬прочем, храм ћани€м, по свидетельству ѕавсани€, был и в јркадии. ƒа и само слово μανία, скорее всего имеет греческую этимологию.
Ђ1. ≈сли по направлению из ћегалополиса в ћессению пройти стадий 7, то налево от большой дороги будет храм богинь; этих богинь самих и всю местность вокруг этого храма называют ћании (μανία, Ђбезумиеї). ћне кажетс€, что это эпитет богинь Ёвменид (Εὐμενίδες Ђблагосклонныеї) и что здесь, говор€т, ќреста охватило безумие в наказание за убийство матери.
2. Ќедалеко от этого храма есть небольшой земл€ной холм; на нем возвышаетс€ сделанный из камн€ палец, так что и самое название этому холму ћогила ѕальца. «десь говор€т, ќрест в припадке безуми€ откусил на одной руке палец. –€дом с этой местностью есть друга€, называема€ јкэ (Ἄκης, ἄκεως, Ђисцелениеї), так как здесь произошло исцеление ќреста от болезни, и в этом месте воздвигнут храм Ёвменидам. Ёти богини, когда они собирались свести с ума ќреста, говор€т, €вились ему черными; когда же он откусил себе палец, они вновь €вились ему, но уже белыми, и при виде их он вновь обрел разум и, таким образом, первым он принес очистительную жертву, отвраща€ от себ€ их гнев, а белым богин€м принес благодарственную жертву; у местных жителей установлен обычай приносить жертву им и ’аритам (Χάριτες, богини радости и очаровани€) вместе.ї
(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јркади€, XXXIV)
ѕричину, приведшую к метаморфозе Ђзлобныхї богинь мщени€ в Ђблагосклонныхї и Ђмилостивыхї, имеет смысл искать, как обычно, в созвучи€х.
μένος (-εος) τό
1) сила, мощь;
2) стремительность, неукротимость, €рость;
3) гнев, злоба, бешенство;
4) жизненна€ сила, жизнь;
5) кровь (как источник силы и гнева).
μαίνω (только aor. ἔμηνα)
1) свести с ума, навести безумие;
2) привести в €рость, довести до бешенства, взбесить;
μαινάς (-άδος)
I.
1) неистовствующа€, исступленна€; ex. (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.)
2) свод€ща€ с ума, навод€ща€ безумие; ex. (ὄρνις, т.е. ἴυγξ Pind.)
II. менада, исступленна€ вакханка;
μανία, ион. μᾰνίη ἡ тж. pl.
1) сумасшествие, душевна€ болезнь, безумие Pind., Her., Trag. etc.
2) исступление, вдохновение, восторженность; ex. (ἀπὸ Μουσῶν Plat.)
Εὐμενίδες (-ων) αἱ Ёвмениды, ЂЅлагосклонныеї (sc. θεαί) = Ἐρινύες Trag. etc.
εὐμενές (εὐ-μενές) τὸ благоволение, благосклонность Plat., Dem.
εὐμενής (εὐ-μενής) благожелательный, благосклонный, милостивый;
μενοινή ἡ желание, стремление Anth.
μένω
1) сто€ть на месте, стойко держатьс€;
2) оказывать сопротивление, выдерживать;
3) ждать, ожидать;
4) оставатьс€, пребывать;
5) оставатьс€ в покое, быть неподвижным;
6) перен. (тж. μ. ἐν ταὐτῷ Plat.) быть незыблемым, быть неизменным, оставатьс€ в силе;
7) оставатьс€ вдали, быть далеким;
8) оставатьс€ безде€тельным, сидеть без дела, бездействовать.
“аким образом, в силу созвучи€, злобные и неукротимые (μένος) мании-эринии превращаютс€ в благожелательных (εὐ-μενής) эвменид, пожелавших остатьс€ (μένω) в јттике. стати, на Ђпреображениеї эриний (Ἐρινύες), также, возможно, повли€ло созвучие со словом εἰρηναῖος (мирный).
εἰρηναῖος мирный; ex. εἰ. τινι εἶναι Her. Ч жить в мире с кем-л.; ταῦτά σφι εἰρηναῖα ἦν Her. это умиротворило их;
εἰρηνεύω
1) жить в мире
2) умиротвор€ть
εἰρήνη, поэт. εἰρήνα, дор. εἰράνα ἡ мир, мирна€ жизнь; ex. εἰρήνην ἔχειν Xen., Plut. Ч вести мирную жизнь;
Εἰρήνη, дор. Εἰράνα ἡ »рена или »рина, богин€ мирной жизни (Pind., Eur., Arph.), одна из трех ќр (Ὧραι Ч Εὐνομίη τε Δίκη τε καὴ Εἰρήνη. Hes.)
“акое непростое и многозначное представление об эрини€х дало повод орфикам временами отождествл€ть их и с богин€ми —удьбы Ч ћойрами:
LXIX. Ё–»Ќ»яћ.
¬ы, о богини всечтимые, звездные, в грома раскатах!
ќ “исифона! ќ ты, јллекто! ќ богин€ ћегера!
¬ы, потаенные, вы, о ночные, живете сокрыто,
¬озле потока св€щенного —тикса в глубокой пещере,
¬ечно витаете вы над преступными мысл€ми смертных,
ƒико ликуете, о непреклонные, при злоде€нь€х,
—трашные, мощные, в шкурах звериных, терзаете т€жко;
∆уткие девы подземного јда, ваш облик изменчив,
ќ невидимки туманные, быстрые в беге, как мысли,
¬ечные судьи, очами самой —праведливости-ƒики
—мертных вы вечно блюдете во всех племенах неиссчетных!
Ќыне о вы, змеекудрые, вы, многовидные ћойры,
—лавой мен€ наградите беззлобной и праведной жизни!
(ќрфический гимн.)
¬озвраща€сь к сиренам, в отличие от кер и эриний, они не были настолько демонизированы, и воспринимались даже как музы иного мира Ч их изображали на надгробных пам€тниках.
яснее всего дает представление о роли сирен в мифологической картине мира этрусска€ люстра V в. до н.э., найденна€ в одной из гробниц этрусского города ортоны. ÷ентральное место в глубине люстры занимает голова √оргоны с выпученными глазами и высунутым €зыком. ƒалее идут изображени€ животных, охран€ющих вход в подземный мир: лев и грифон, львица и пантера, терзающие быка, олен€ и кабана. ∆ивотные отделены от следующей полосы волнистой линией, обозначающей ќкеан. Ќад волнами на одинаковом рассто€нии друг от друга пар€т восемь дельфинов. Ѕлиже к кромке, символизирующей грань между миром живых и царством мертвых, имеетс€ еще одна полоса изображений Ч восемь фигурок силенов, дующих в двойные флейты, и столько же женских демонических существ с птичьими ногами и широко раскрытыми ртами. Ёто и есть сирены, музы подземного мира, возвещающие смерть. –€дом с сиренами и силенами изображены речные божки ахелои с рожками на голове.
Ёто удивительно точна€ иллюстраци€ представлений о входе в загробный мир как греков, так и негреческих народов Ёгеиды и ћалой јзии, совпадающа€ с мифами о происхождении сирен. ќтцом сирен миф называет јхело€, речного бога, считавшегос€ владыкой всех пресных вод и поэтому отцом всех нимф. Ёто позвол€ет видеть в сиренах не морских демонов, а специфических нимф тех рек, которые наход€тс€ на границе подземного мира.
PS
—огласно мифам, если смертным удастс€ проплыть благополучно мимо сирен, то их самих ждала смерть. »м надлежало броситьс€ с утеса в море, что и произошло. »збежать гибели удалось аргонавтам, так как божественный голос ќрфе€ заглушил пенье сирен. ”слышать же это пенье, оставшись живым, смог лишь один ќдиссей. ќн приказал своим спутникам залепить уши воском, а себ€ крепко-накрепко прив€зать к мачте.
Ќо, утопившись в море, сирены лишь мен€ют свой облик, утратив крыль€, они обзавод€тс€ прекрасными рыбьими хвостами. ќтсюда пошло поверие, что русалки, обитающие в омуте, Ч это души утопленниц.
_______________________________
|
ћетки: —ирены еры Ёринии ћании Ёвмениды √реци€ Ётимологи€ |
ћ≈Ќјƒџ |
ƒневник |
¬€чеслав »ванов
ƒ»ќЌ»— » ѕ–јƒ»ќЌ»—»…—“¬ќ
III. ѕ–јƒ»ќЌ»—»…— »… ќ–≈Ќ№ ћ≈Ќјƒ
1. ƒревнейша€ пам€ть о менадах
ѕрадионисийский корень менад обнаруживаетс€ р€дом определительных признаков. ≈сли немногие упоминани€ √омера о ƒионисе оспоримы в рассуждении их подлинной древности, Ч о менадах можно утверждать, что √омер их знает, не зна€ ƒиониса. ќстерега€сь рассматривать √омерову Ђменадуї (μαινάς) как служительницу позднейшего культа, исследователи толковали это слово в общем и неизбежно плоском значении Ч Ђбезумствующа€, исступленна€ї;¹ однако субстантиваци€ глагольного пон€ти€, и притом только в женском роде, требует прин€ть nomen за означение устойчивого типа, тем более, что уподобление јндромахи, устремившейс€ вперед с сильно бьющимс€ сердцем, Ђменадеї могло быть вполне пон€тно и художественно-действенно лишь при том условии, если эта последн€€ была хорошо известна как бытовое и психологическое €вление sui generis (уникальность). Ќо менада без ƒиониса единственно мыслима лишь на почве теории, устанавливающей прадионисийскую эпоху в развитии ƒионисовой религии.
______________________________
[1] μαινάς, -άδος (ᾰδ) adj. f
I.
1) неистовствующа€, исступленна€; ex. (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.);
2) свод€ща€ с ума, навод€ща€ безумие; ex. (ὄρνις, т.е. ἴυγξ Pind.)
II.
1) исступленна€ вакханка, менада; ex. μαινάδι ἴση Hom. Ч подобна€ менаде, т.е. обезумевша€ от гор€ (јндромаха);
2) исступленна€ словно менада; ex. Κασάνδρα Eur.
Х ќчевидно этимологи€ слова μαινάς (менада) тесно св€зана с луной (μηνάς) и культом богини луны.
Μήνη ἡ (= Σελήνη) ћена (богин€ луны) HH., Luc.
μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. Ч лунное си€ние
μῆνις, дор. μᾰνις (-ιος), поздн. μῆνιδος ἡ гнев, негодование, злоба; ex. (Διός Hom.; βαρεῖα Soph.)
” ѕавсани€ (X, 4, 3), далее, мы находим нижеследующее объ€снение эпитета города ѕанопе€ (Πανοπεύς) καλλίχορος в ќдиссее (XI, 580):
¬ самом деле, составители того рассказа об ќдиссеевом нисхождении в подземное царство, который в составе ќдиссеи известен под названием первой песни о мертвых (Nεκυία),⁴ очевидно, знали ѕанопей, по дороге из ’еронеи в ƒавлиду, как Ђгород прекрасных хороводовї, что не может быть отнесено к хорам нимф, как предлагает Ћобек, потому что речь идет не об источнике, а о городе, и скорее всего указывает на паломничества феорид,⁵ их св€щенные шестви€, или Ђфеорииї,⁶ к местам парнасских радений. ∆енские дионисийские таинства знакомы и √есиоду.⁷
______________________________
[4] νεκυία, правильнее νέκυια ἡ вызывание мертвецов, некроманти€ Diod., Plut., Luc. (заглавие XI песни Ђќдиссеиї).
[5] θεωρίς (-ίδος) ἡ феорида, паломница.
[6] ѕример такой феории (θεωρία) в отрывке ≈врипидова Ђѕаламедаї у —трабона (X, р. 720 —), где вакхический хор не эллинских женщин приходит в ахейский стан, чтобы под его охраной, согласно общему ἱερά νόμιμα (св€щенному обр€ду), править на горе »де оргии ƒионису и фригийской ћатери богов. ѕредводительница хора называет себ€ фиадой ƒиониса (θυιάς Διονύσου ἱκόμαν), по эмендации ¬иламовица (Herakles I, S. 363, ј. 40).
[7] ἐμανήσαν, ὥς μέν Ἡσίοδος φησίν, ὅτι τάς Διονύσου (Apollod. II, 2, 2)
√лубока€ древность отпечатлелась на формах оргиастических сообществ. ƒельфийские фиады составл€ли религиозный союз Ч фиас (θίασος), предводительницей или насто€тельницей (ἀρχηγός) которого во времена ѕлутарха была ле€. Ёпонимной фиасоначальницей почиталась мифическа€ ‘и€ (Θυῖα), р€дом с ней сто€ла не менее мифическа€ Ђ„ерна€ї (Κελαινώ, Mέλαινα, Μελανίς, Μελανθέια, Μελανθώ⁸). ѕосв€щенное ‘ии капище в ƒельфах известно √еродоту (VII, 178). ќ подобном же ἡρῷον стародавней менады говорит ѕавсаний, отмеча€ Ђблиз театра города ѕатр (срв. место погребени€ ‘ессалы пониже приводимой надписи из ћагнесии) св€щенный участок некоей местной жительницыї. √робницы јстикратеи (Αστυκράτεια) и ћанто в ћегаре, при входе в св€щенный участок (τέμενος) ƒиониса, очевидно, также были местами героического культа древле прославленных менад, из коих втора€, как говорит ее им€, обладала даром пророческим. ¬прочем, миф хорошо их помнит: они были дочерьми ѕолиида, основател€ культа ƒиониса Ђотеческогої (πατρώιος) в ћегаре, ћелампова правнука и, подобно прадеду, дионисийского геро€, прорицател€ и очистител€.⁹
______________________________
[8] 226. ѕрибавим несколько слов о другой, а именно гомеровской, ћеланфό. древнейшим героическим ликам пра-ƒиониса подземного принадлежит, по нашему мнению, козовод ћеланфий в ќдиссее, изрубленный в куски и отданный в снедь псам пособник женихов, носитель хтонического и дионисийского имени, соименный одному из героев ¬акхова воинства в поэме Ќонна, льющий вино в кубок по изображению на одной камее (Roscher's Myth. Lex. II, 2582), страстнόй герой в черной козьей шкуре (μελάναιγις). ћеланфию соответствует, как женский коррел€т, повешенна€ (подобно Ёригоне и св€занна€, следовательно, с јртемидой) ћеланфо. ѕараллелизм мужского и женского черных имен, хтонические собаки, разъ€тие тела на части, женское повешение, Ч наконец, сама€ оппозици€ аристократическим культам, Ч все определ€ет ћеланфи€ и ћеланфо в вышераскрытом смысле и служит характерным примером подгомеровской религиозной √реции и отношени€ к ней √омеридов. (Waser s. v. Delphos, Pauly-Wissowa's Real-Enc. IV, 2700. Weicker, griech. Götterlehre I, S.)
[9] ѕолиид (Πολύειδος) сочетаетс€ в предании с ритом, и Ч в противоположность легенде о ћелампе как ученике египетских жрецов Ч это не кажетс€ нам лишенным правдоподоби€. ћы подозреваем здесь древнейший синкретизм материкового культа и островного, простирающего власть ƒиониса на морскую стихию, Ч чем объ€сн€лась бы и двойственна€ организаци€ местных менад, ознаменованна€ двум€ дочерьми ѕолиида. ѕоследний кажетс€ героической проекцией островного ƒиониса, Ђмноговидногої (πολυειδής). ѕоставленный ѕолиидом в ћегаре Ђзакрытыйї идол ƒиониса, из частей которого ѕавсаний мог видеть только лицо (πρόσῶπον), был, веро€тно, одной из ƒионисовых голов, почитаемых в островном круге. “ак бог, вытащенный рыбаками из мор€ в ћетимне, был личнόю маской (πρόσῶπον); оракул повелел чтить его как ƒиониса ‘аллена (Διόνυσος Φαλλήν) (Euseb., praep. ev. V, 36).
2. ћагнетска€ надпись. ћенады-родоначальницы
Ќадпись из ћагнесии на ћеандре, начертанна€ (по-видимому, заново) в I в., но говор€ща€ о событи€х более или менее отдаленной древности, приводит дельфийский оракул, в исполнение коего магнеты призвали из ‘ив менад, чтобы учредить в своем городе оргии ƒионису по беотийскому чину. Ќиже перевод этой надписи:
Ёта надпись не только подтверждает извести€ о коллеги€х менад и наблюдени€ о их насаждении центральной религиозной властью, т.е. дельфийским жречеством, в —парте, јхайе, Ёлиде, но и проливает свет на традиционные нормы организации женских оргий. ћы видим, что не напрасно ≈врипид в трагедии Ђ¬акханкиї, изобража€ установление ƒионисовой религии в ‘ивах, говорит о трех сонмах менад, предводимых трем€ дочерьми адма, Ч что подтверждает и пользовавшийс€ другими источниками ‘еокрит в своих ЂЋенахї. ‘иванска€ община служительниц ƒиониса очевидно представл€ла собою тройственный фиас; кажда€ из трех частей его приносила жертвы у отдельного алтар€ и вела свой род от одной из трех древних основательниц оргий, сестер —емелы, впервые поставивших алтари ƒионису в горах, Ч јгавы, јвтонои, »но. „етырнадцать афинских герэр (γεραιραί)¹¹ принос€т жертвы ƒионису в Ћимнах на четырнадцати разных алтар€х. јлтарь поручалс€ предпочтительно жрице из рода, ведущего свое происхождение от древней менады. —коль неожиданным ни кажетс€ на первый взгл€д, что род ведетс€ не от дионисийского геро€, но от менады, однако должно признать, что в оргиастических общинах это было именно так. —лова оракула: Ђиз рода адмовой »ної, Ч приобретают, с этой точки зрени€, значение свидетельства первостепенной важности. —чет поколений по женской линии (какой мы находим в героических генеалоги€х √есиодовой школы) Ч в родовом преемстве именно женского жречества вообще не безызвестен. Ётот знаменательный остаток матриархата доказывает гинекократический строй культа богини, из коего проистекли женские оргии, более древние по своему происхождению, нежели почитание ƒиониса. “ак Ὀλεῖαι минийского клана продолжали родовое преемство первых миниад (Μινυάδες).¹² ќ —емахидах читаем у —тефана ¬изантийца, что так звалс€ Ђдем в јттике, от —емаха, Ч у него же и дочерей его гостил ƒионис; от них, т.е. от дочерей —емаховых, пошли жрицы ƒионисовыї. ƒельфийские фиады древнее самого ƒельфа, дружелюбно встретившего в своем царстве пришельца јполлона, ибо они принадлежат к его божественной родословной. ћегарские менады ведут свой род от ѕолиида, лакедемонские Ћевкиппиды от Ћевкиппа Ч чрез посредство дочерей названных героев, которые и €вл€ютс€ в собственном смысле родоначальницами, так как генеалогический р€д продолжают μαινάδες ἀρχηγοί. “аков наиболее важный дл€ нашей ближайшей цели вывод из приведенной надписи.
______________________________
[11] γεραραί, γεραιραί αἱ Ђстарицыї (жрицы ƒиониса в јфинах) Dem.
[12] Μινυάδες Ч в греческой мифологии три дочери (Ћевкиппа, јрсиппа и јлкифо€) правившего в ќрхомене ћини€ (родоначальника племени миниев). ¬о врем€ празднеств в честь ƒиониса, ћиниады отказались принимать участие в вакхических шестви€х и остались дома, продолжа€ пр€сть и заниматьс€ другими домашними делами. ƒионис пыталс€ заставить их примкнуть к менадам, но ћиниады ответили ему насмешками. “огда ƒионис наслал на ћиниад безумие, в припадке которого они разорвали сына Ћевкиппы, прин€в его за олен€.
явление ƒиониса в древе можно назвать обычным; но дерево на этот раз не ель или смоковница, а платан, в котором посел€ютс€ божественные и героические души, как это показывает пример ≈лены. “опографи€ трех учреждаемых фиасов также многозначительна. ѕервый, естественно, имеет своим средоточием место чудесного €влени€. ѕомещение другого находит себе р€д аналогий в св€тилищах ƒиониса Ђfuori le muraї (за стенами города), перед городскими воротами. ќдним из древнейших случаев такой локализации культа €вл€етс€ Ђочагї (ἐσχάρα) Ёлевтере€ в јкадемии: здесь ƒионис почитаетс€, как пришелец и гость, на месте своего предварительного становь€ у городских стен. ќн овладевает городом как захожий герой; апофеоза ожидает его в кремле. —в€щенный участок, отводимый ему внутри сакральной границы города (intra pomoerium), вмещает его храм и театр. Ётот последний Ч Ђсв€тилище (ἱερόν) ƒионисаї, как гласит надпись при входе в театр Ч именно ћагнесии на ћеандре (Inschr. v. Magn. 233). «олочена€ скульптурна€ группа ƒиониса, окруженного менадами, сто€ла близ сикионского театра. ќбщение между городским, театральным участком и пригородным, как мы видим это в јфинах и в том же —икионе (Paus. II, 7, 5), поддерживаетс€ обр€дом перенесени€ чтимых кумиров ночью при светочах. ѕоскольку ƒионис €вл€етс€ при этом Ђнизвод€щимї своих поклонников с высот кремл€ за город и поклонники в ночном шествии Ђнисход€тї с ним к его героическому, т.е. хтоническому, Ђочагуї. ƒионису театра свойственно наименование Ђвожд€ внизї (καθηγεμών), а фиасу театра Ч наименование Ђнисход€щихї (καταβαταί); но оба имеют значение религиозно-символическое: под нисхождением за героем разумеетс€ нисхождение в подземное царство, что и знаменуетс€ ночным шествием со светочами, и перенесение кремлевого идола в низины равносильно погребению бога. ¬се покушени€ некоторых ученых отн€ть у трагедии характер мистерий ƒионисовых рушатс€ при первом пристальном взгл€де на сценические древности. ќрганическа€ св€зь менад с театром Ч друга€ улика его исконного назначени€ быть св€тилищем страдающего и умирающего бога.
Ќеобходимо, однако, ограничить вышесказанное о св€щенных родах нижеследующими соображени€ми. огда речь идет о родовом преемстве св€щеннослужени€, часто слово Ђродї (γένος) должно понимать как искусственное соединение фиктивных родичей, как религиозный союз в сакрально-юридических формах рода, им€ и sacra которого уже не могли прекратитьс€, однажды став элементом государственной религии, т.е. непременной частью прин€того государством на все века состава гентильных культов. “ак, культ ƒиониса Ђотеческогої (Πατρώιος) в ћегаре мог и во дни ѕавсани€ быть во владении ѕолиидова рода, подобно тому как в »карии он принадлежал »карийскому роду, члены которого были как бы икарийцами по преимуществу и постольку противополагали себ€ остальному гражданству. “аковым мог быть афинский род Ѕакхиадов, организованный в цел€х служени€ ƒионису Ёлевтерею и праздновани€ городских ¬еликих ƒионисий, Ч род, управл€емый, по эпиграфическим данным, выборными архонтами. ƒопущение чужих к родовым Ђорги€мї, отправл€емым Ђоргеонамиї,¹³ есть уже прин€тие в подчиненную категорию членов рода, и первоначальное посв€щение в мистерии могло быть, как думал ј.ƒитерих, только формой усыновлени€.
______________________________
[13] ὀργεών (-ῶνος) ὁ оргеон (представитель каждого афинского дема, избиравшийс€ дл€ участи€ в периодических жертвоприношени€х) Isae.
¬ообще можно сказать, что дионисийское жречество более глубоко, чем другие эллинские, уходит корн€ми в родовой уклад. ¬ самом деле, служение ƒионису было соборным по преимуществу, что и выражаетс€ сакральным термином Ђоргийї. »бо оргии суть богослужени€, совершаемые совместно Ч и первоначально без жреца Ч всеми участниками, каковые поэтому равно все зовутс€ Ђвакхамиї (βακχοί) и Ђосв€щеннымиї (ὅσιοι). ≈стественна€ же форма соборности, Ч поскольку речь идет не об исключающих присутствие мужчин женских радени€х, Ч была непосредственно дана в союзе родичей. “олько позднейшее врем€ ослабило эту норму по отношению к мужскому жречеству. Ќо значение последнего, в противоположность древнейшему жречеству прадионисийских культов, в исторической ƒионисовой религии было относительно не велико и бόльшим быть не могло в силу ее внутренних основоположений.
3. оллегии менад
“риединое устройство, прообраз которого мы видим в ‘ивах, было обычным в женских фиасах. ¬ ћагнесию, как мы видели, посылаютс€ дл€ учреждени€ триединого союза, три менады Ђиз родаї одной из трех первоменад Ђсв€щенной ‘ивыї. ѕервоначальна€ триада может еще усиливатьс€ в тройную. ѕо стихотворению ‘еокрита, литургическое значение которого несомненно, три сестры —емелы с их трем€ сонмами воздвигают три алтар€ —емеле и дев€ть ƒионису.
ƒев€ть мужей и дев€ть женщин образуют жреческие коллегии ƒиониса Ёсимнета (Αἰσυμνήτος, чтимого, по-видимому, совместно с јртемидой “рикларией) в ѕатрах. ¬от почему приписанна€ јнакреонту эпиграмма, Ч веро€тно, надпись на базе рельефа, Ч живописует трех менад:
Ќо в то же врем€ мы встречаем св€щенные коллегии, не отвечающие принципу триады. “аковы одиннадцать ƒионисиад (или δύσμαιναι) в —парте и Ђшестнадцать женї в Ёлиде. ¬ обоих этих случа€х перед нами, предположительно, результат исторического процесса последовательной спайки прежде самосто€тельных фиасов. „исло четырнадцати герэр в јфинах объ€сн€етс€ орфическим происхождением обр€да и св€зываетс€ с гептадой орфиков, заимствованным ими из ≈гипта символом дионисийского расторжени€ и воссоединени€ божественной монады. ќднако, заметны и следы древнейшей дихотомии, котора€ соответствовала, быть может, изначальному муже-женскому дуализму парнасской оргиастической религии. ћы видели в ћегаре двух перво-менад, дочерей ѕолиида, и гипотетически объ€снили этот факт обр€дового предани€ иначе, а именно Ч ранним синкретизмом двух культовых форм: материкового и островного. ¬ мифе о “ерее перед нами также только две менады Ч ѕрокна и ‘иломела; миф этот принадлежит ƒавлиде и, думаетс€, отражает глубокую старину ѕарнаса. ќ последней мы можем заключать и по дельфийскому преданию о Ђ„ернойї и Ђќбу€ннойї (Θυῖα). Ќо примечательно, что родоначальницей фиад в собственном смысле почитаетс€ только втора€, с которой, веро€тно, начинаетс€ трихотомическое устройство дельфийского фиаса Ч по крайней мере, на фронтоне јполлонова храма ƒионис был изображен, по ¬елькеру, с трем€ фиадами. ‘и€ кажетс€ менадой ƒиониса; „ерна€ Ч первопророчицей, как одержима€ силой «емли (κάτοχος έκ τής Γῆς); ей подобна и мегарска€ ћантό. “риединое устройство, св€занное, по-видимому, с ƒионисовыми триетери€ми, утвердилось в Ѕеотии, где ‘ивы провозгласили на всю Ёлладу рождество ƒионисово; ему подчинилс€ и минийский ќрхомен. ќно означало конец эпохи предчувствий чаемого юного бога, гр€дущего сопрестольника темной богини, Ч конец эпохи менад, еще не знающих ƒиониса.
¬се вышесказанное позвол€ет нам отчетливее уразуметь свидетельство ƒиодора о менадах исторической √реции: все девушки в тех городских общинах, где введены триетерии, должны по отеческому обычаю и св€щенному уставу, за исполнением которого блюдут городские власти, в дни, назначенные дл€ оргий, брать в руки тирсы и соучаствовать в радени€х, восклица€ Ђэвойї и слав€ ƒиониса, Ч женщины же замужние должны, кажда€ с тем сонмом, к которому принадлежит (κατά συστήματα), приносить совокупно жертвы богу и энтузиастически св€щеннодействовать, по чину и преданию оргий, и вообще вс€чески провозглашать и прославл€ть присутствие ƒиониса. »так, во главе сонмов сто€т их предводительницы, ведущие Ђфеориюї Ђв горыї (εἰς ὅρος); это посв€щенные менады, преемственно продолжающие родовое (по женской линии) служение; их окружают замужние гражданки, приписанные к соответствующему сонму, Ч некоторые из них, быть может, причислены к самому роду; меж тем как женщины активно участвуют в коллективных (Ђоргийныхї) жертвоприношени€х и иных таинственных св€щеннодействи€х, девушки составл€ют как бы сопутствующий им хор. ѕон€тно все народное уважение к участницам столь строго организованных, недоступных мужчинам оргий и особенное почтение к насто€тельницам св€щенных фиасов. ќдна поздней эпохи надпись из ћилета отчетливо рисует религиозно-бытовой тип такой игуменьи (εἰς ὄρος ἦγε) менад, характерно названных Ђгородскимиї или Ђгражданскимиї (πολιητίδες), в согласии с ƒиодором, причем общее выражение, Ђкак надлежит доброй женщинеї (χρῆστηι τούτο γυναίκι θέμις), Ч указывает на то, что все гражданки считались причастными городским орги€м; надпись, в нашем переводе, гласит:
4. Ёринии как отражение прадионисийских менад в мифе
„то Ёринии (Ἐρινύες) во многом подобны менадам, Ч те и другие, например, Ђловчие собакиї, Ч не подлежит сомнению; вопрос в том, позднее ли стали воображать и изображать их наподобие менад, или же они (Ёринии, не Ёвмениды) Ч стародавн€€ проекци€ в мифе культовой реальности менад первоначальных. ћы уверены в последнем: произвола в мифотворчестве нет, и предположенное уподобление должно было бы опиратьс€ на какое-либо соотношение между кругом Ёриний и кругом ƒиониса, но и подземный ƒионис им вовсе чужд. — другой стороны, если нам удалось напасть на след прадионисийских менад, то мы пр€мо видим их перед собой в лице Ёриний. »бо что иное эти Ђдщери Ќочиї, чье присутствие, чье прикосновение, чьи змеи, чьи факелы навод€т безумие, Ч что иное эти сестры Ћиссы, отымающей у человека разум, Ч как не неистовые служительницы ночной богини, с факелами в руках, увитые зме€ми, ведущие дикие хороводы? —равним Ёсхиловых Ёриний и ≈врипидовых вакханок: не так же ли засыпают те и другие, устав от бешеной погони или исступленного кружени€, и вдруг, чуткие, вскакивают, чтобы продолжать на€ву св€щенный свой бред? ћы понимаем, почему Ёринии Ч Ђстаршие богиниї и Ђстарицыї; они Ч представительницы ветхого завета эллинской религии. ћы понимаем, почему они страшны: они Ч воспоминание об ужасной религиозной были человеко-убийственных преследований. ћы понимаем, почему наименьшее число их не всегда три, как это приличествует женским божествам, мыслимым множественными, но иногда, на изображени€х ќрестовой травли, их всего только две Ч как две перво-менады, Ђ„ерна€ї и Ђќбу€нна€ї, запомнились из седой старины в ƒельфах. ћы понимаем, почему, древние обладательницы прорицалища, так свободно проникают они, по Ёсхилу, в јполлонов храм и располагаютс€ на каменных сидень€х вкруг омфала.
»х дионисийские атрибуты изначальны, ибо не было основани€ ни цели одар€ть их таковыми после: буколический кентрон (βουκόλος κέντρον Ч пастушье стрекало) или обоюдоостра€ секира и плющевой венок. ќни мычат, как коровы, а мычанье быка или подражание этому звуку мы знаем как отличие дионисийских оргий, по описанию из ЂЁдоновї Ёсхила. “от же поэт р€дит Ёринию в черную козью шкуру, придава€ ей соответствующее наименование ƒиониса (μελάναιγις, Eumen. 680); она же Ч „ерна€, как та дельфийска€ первовещунь€. ѕрежде чем иферон,¹⁴ змеиное гнездо, стал св€щенной горой ƒиониса, им владели увитые зме€ми жрицы Ќочи: отсюда предание о гибели юноши иферона, презревшего любовь Ёринии “исифоны, Ч от жала ее змеи. —трастнဠлегенда запечатлела культовую пам€ть о мужеубийственных орги€х киферонских менад, еще не укрощенных дельфийской религией. “ак отражение обр€довой действительности в мифе восполн€ет недостаток пр€мых свидетельств о доаполлоновском, прадионисийском прошлом парнасского оргиазма.
______________________________
[14] Κιθαιρών (-ῶνος) ὁ иферон (гора на границе јттики и Ѕеотии) Her., Aesch., Soph.
__________________________________
________________
ќћћ≈Ќ“ј–»»
¬ качестве послеслови€, хотелось бы обратитьс€ к мифологическому сюжету рождени€ ƒиониса в изложении Ќонна, который первыми менадами (μαινάς, т.е. Ђнеиствующимиї) определ€ет нимф, вскормивших ƒиониса. ќднако причиной их безумства €вл€етс€ не ƒионис, а √ера, преисполненна€ €ростью, ревнива€ супруга «евса.
[1] Ὥραι αἱ ’оры, богини времен года, €сной погоды, урожа€, юности и красоты, хранительницы небесных врат, спутницы богов, преимущ. јфродиты; по √есиоду их было три: Εὐνομία, Δίκη и Εἰρήνη, в аттической культе Ч две: Θαλλώ (¬есна) и Καρπώ (ќсень) Hom., HH., Hes., Theocr.
[2] λυαῖος ὁ освободитель (от забот) Ч эпитет ¬акха-ƒиониса Anacr., Plut.
[3] εἰραφιώτης (-ου) adj. m предполож. {ῥάπτω} зашитый (подразумеваетс€ в бедро «евса) Ч эпитет ¬акха HH.
[4] Σελήνη ἡ —елена (или ‘еба, дочь √ипериона, сестра √елиоса, богин€ луны); от σέλας (Ђсветї, Ђси€ниеї) HH., Hes.
[5] Λάμος ὁ Ћам, река в иликии.
[6] Μελικέρτης (-ου) ὁ ћеликерт, в древнегреческой мифологии, сын »но и цар€ ќрхомена јфаманта. ѕосле того, как √ера наслала на его мать »но безумие и та бросилась в море вместе с сыном, ћеликерт был превращен в морское божество ѕалемона (Παλαίμων), который обычно изображалс€ верхом на дельфине.
_______________________________
ƒ»ќЌ»— » ѕ–јƒ»ќЌ»—»…—“¬ќ
III. ѕ–јƒ»ќЌ»—»…— »… ќ–≈Ќ№ ћ≈Ќјƒ
1. ƒревнейша€ пам€ть о менадах
ѕрадионисийский корень менад обнаруживаетс€ р€дом определительных признаков. ≈сли немногие упоминани€ √омера о ƒионисе оспоримы в рассуждении их подлинной древности, Ч о менадах можно утверждать, что √омер их знает, не зна€ ƒиониса. ќстерега€сь рассматривать √омерову Ђменадуї (μαινάς) как служительницу позднейшего культа, исследователи толковали это слово в общем и неизбежно плоском значении Ч Ђбезумствующа€, исступленна€ї;¹ однако субстантиваци€ глагольного пон€ти€, и притом только в женском роде, требует прин€ть nomen за означение устойчивого типа, тем более, что уподобление јндромахи, устремившейс€ вперед с сильно бьющимс€ сердцем, Ђменадеї могло быть вполне пон€тно и художественно-действенно лишь при том условии, если эта последн€€ была хорошо известна как бытовое и психологическое €вление sui generis (уникальность). Ќо менада без ƒиониса единственно мыслима лишь на почве теории, устанавливающей прадионисийскую эпоху в развитии ƒионисовой религии.
______________________________
[1] μαινάς, -άδος (ᾰδ) adj. f
I.
1) неистовствующа€, исступленна€; ex. (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.);
2) свод€ща€ с ума, навод€ща€ безумие; ex. (ὄρνις, т.е. ἴυγξ Pind.)
II.
1) исступленна€ вакханка, менада; ex. μαινάδι ἴση Hom. Ч подобна€ менаде, т.е. обезумевша€ от гор€ (јндромаха);
2) исступленна€ словно менада; ex. Κασάνδρα Eur.
Х ќчевидно этимологи€ слова μαινάς (менада) тесно св€зана с луной (μηνάς) и культом богини луны.
Μήνη ἡ (= Σελήνη) ћена (богин€ луны) HH., Luc.
μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. Ч лунное си€ние
μῆνις, дор. μᾰνις (-ιος), поздн. μῆνιδος ἡ гнев, негодование, злоба; ex. (Διός Hom.; βαρεῖα Soph.)
” ѕавсани€ (X, 4, 3), далее, мы находим нижеследующее объ€снение эпитета города ѕанопе€ (Πανοπεύς) καλλίχορος в ќдиссее (XI, 580):
Ђѕочему √омер называет город ѕанопей хороводным (καλλίχορος),² узнал € в јфинах от так называемых фиад.³ ‘иады же Ч аттические женщины, которые ход€т через год на ѕарнас и вместе с женщинами из ƒельфов прав€т оргии ƒионису. »х обычай Ч водить хороводы по пути в ƒельфы, как в других местах, так и в ѕанопее. Ёпитет, прилагаемый √омером к имени этого города, по-видимому, знаменует хороводы фиадї.
___________________________
[2] καλλίχορος (καλλί-χορος)
1) с прекрасными площад€ми дл€ хороводов; ex. (Πανοπεύς Hom.; πόλις Pind.; Ἀθῆναι Eur.; ἀγορά Anth.)
2) предназначенный дл€ прекрасных пл€сок, хороводный; ex. (παιάν, στέφανος Eur.)
3) кружащийс€ в из€щной пл€ске, ведущий хоровод; ex. (δελφῖνες Eur.) τρόπον τὸν καλλιχορώτατον Arph. Ч в чудеснейшем хороводе.
[3] θυϊάς (-άδος) ἡ исступленна€, неистова€ Plut.
¬ самом деле, составители того рассказа об ќдиссеевом нисхождении в подземное царство, который в составе ќдиссеи известен под названием первой песни о мертвых (Nεκυία),⁴ очевидно, знали ѕанопей, по дороге из ’еронеи в ƒавлиду, как Ђгород прекрасных хороводовї, что не может быть отнесено к хорам нимф, как предлагает Ћобек, потому что речь идет не об источнике, а о городе, и скорее всего указывает на паломничества феорид,⁵ их св€щенные шестви€, или Ђфеорииї,⁶ к местам парнасских радений. ∆енские дионисийские таинства знакомы и √есиоду.⁷
______________________________
[4] νεκυία, правильнее νέκυια ἡ вызывание мертвецов, некроманти€ Diod., Plut., Luc. (заглавие XI песни Ђќдиссеиї).
[5] θεωρίς (-ίδος) ἡ феорида, паломница.
[6] ѕример такой феории (θεωρία) в отрывке ≈врипидова Ђѕаламедаї у —трабона (X, р. 720 —), где вакхический хор не эллинских женщин приходит в ахейский стан, чтобы под его охраной, согласно общему ἱερά νόμιμα (св€щенному обр€ду), править на горе »де оргии ƒионису и фригийской ћатери богов. ѕредводительница хора называет себ€ фиадой ƒиониса (θυιάς Διονύσου ἱκόμαν), по эмендации ¬иламовица (Herakles I, S. 363, ј. 40).
[7] ἐμανήσαν, ὥς μέν Ἡσίοδος φησίν, ὅτι τάς Διονύσου (Apollod. II, 2, 2)
√лубока€ древность отпечатлелась на формах оргиастических сообществ. ƒельфийские фиады составл€ли религиозный союз Ч фиас (θίασος), предводительницей или насто€тельницей (ἀρχηγός) которого во времена ѕлутарха была ле€. Ёпонимной фиасоначальницей почиталась мифическа€ ‘и€ (Θυῖα), р€дом с ней сто€ла не менее мифическа€ Ђ„ерна€ї (Κελαινώ, Mέλαινα, Μελανίς, Μελανθέια, Μελανθώ⁸). ѕосв€щенное ‘ии капище в ƒельфах известно √еродоту (VII, 178). ќ подобном же ἡρῷον стародавней менады говорит ѕавсаний, отмеча€ Ђблиз театра города ѕатр (срв. место погребени€ ‘ессалы пониже приводимой надписи из ћагнесии) св€щенный участок некоей местной жительницыї. √робницы јстикратеи (Αστυκράτεια) и ћанто в ћегаре, при входе в св€щенный участок (τέμενος) ƒиониса, очевидно, также были местами героического культа древле прославленных менад, из коих втора€, как говорит ее им€, обладала даром пророческим. ¬прочем, миф хорошо их помнит: они были дочерьми ѕолиида, основател€ культа ƒиониса Ђотеческогої (πατρώιος) в ћегаре, ћелампова правнука и, подобно прадеду, дионисийского геро€, прорицател€ и очистител€.⁹
______________________________
[8] 226. ѕрибавим несколько слов о другой, а именно гомеровской, ћеланфό. древнейшим героическим ликам пра-ƒиониса подземного принадлежит, по нашему мнению, козовод ћеланфий в ќдиссее, изрубленный в куски и отданный в снедь псам пособник женихов, носитель хтонического и дионисийского имени, соименный одному из героев ¬акхова воинства в поэме Ќонна, льющий вино в кубок по изображению на одной камее (Roscher's Myth. Lex. II, 2582), страстнόй герой в черной козьей шкуре (μελάναιγις). ћеланфию соответствует, как женский коррел€т, повешенна€ (подобно Ёригоне и св€занна€, следовательно, с јртемидой) ћеланфо. ѕараллелизм мужского и женского черных имен, хтонические собаки, разъ€тие тела на части, женское повешение, Ч наконец, сама€ оппозици€ аристократическим культам, Ч все определ€ет ћеланфи€ и ћеланфо в вышераскрытом смысле и служит характерным примером подгомеровской религиозной √реции и отношени€ к ней √омеридов. (Waser s. v. Delphos, Pauly-Wissowa's Real-Enc. IV, 2700. Weicker, griech. Götterlehre I, S.)
[9] ѕолиид (Πολύειδος) сочетаетс€ в предании с ритом, и Ч в противоположность легенде о ћелампе как ученике египетских жрецов Ч это не кажетс€ нам лишенным правдоподоби€. ћы подозреваем здесь древнейший синкретизм материкового культа и островного, простирающего власть ƒиониса на морскую стихию, Ч чем объ€сн€лась бы и двойственна€ организаци€ местных менад, ознаменованна€ двум€ дочерьми ѕолиида. ѕоследний кажетс€ героической проекцией островного ƒиониса, Ђмноговидногої (πολυειδής). ѕоставленный ѕолиидом в ћегаре Ђзакрытыйї идол ƒиониса, из частей которого ѕавсаний мог видеть только лицо (πρόσῶπον), был, веро€тно, одной из ƒионисовых голов, почитаемых в островном круге. “ак бог, вытащенный рыбаками из мор€ в ћетимне, был личнόю маской (πρόσῶπον); оракул повелел чтить его как ƒиониса ‘аллена (Διόνυσος Φαλλήν) (Euseb., praep. ev. V, 36).
2. ћагнетска€ надпись. ћенады-родоначальницы
Ќадпись из ћагнесии на ћеандре, начертанна€ (по-видимому, заново) в I в., но говор€ща€ о событи€х более или менее отдаленной древности, приводит дельфийский оракул, в исполнение коего магнеты призвали из ‘ив менад, чтобы учредить в своем городе оргии ƒионису по беотийскому чину. Ќиже перевод этой надписи:
¬ добрый час (ἀγαθῆι τύχηι). ѕританом был јкродем, сын ƒиотима. Ќарод магнетов вопросил бога о бывшем знамении: в сломленной ветром чинаре, ниже города, обретено изва€ние ƒиониса; что знаменует сие народу, и что делать ему надлежит, дабы жить безбо€зненно в в€щем благоденствии? —в€щенновопрошател€ми посланы в ƒельфы: √ермонакт, сын Ёпикрата, и јристарх, сын ƒиодора. Ѕог изрек:
¬ы, что в удел у ћеандровых струй улучили твердыню,
Ќашей державы надежный оплот, о магнеты, пришли вы
¬ещий из уст моих слышать глагол: ƒиониса €вленье,
¬ полом расщепленном древе лежащего, юноши видом,
„то знаменует? ¬немлите! ремл€ воздвига€ громаду,
¬ы не радели владыке сложить пышнозданные домы.
Ќыне, народ многомощный, восставь св€тилища богу:
“ирсы угодны ему и жреца непорочного жертвы.
ѕуть вам обратный лежит чрез угоди€ ‘ивы св€щенной;
“ам обретете менад из рода адмовой »но.
ќргии¹⁰ жены дадут вам и чин благолепный служений,
» ƒионисовы сонмы св€щеннопостав€т во граде.
___________________________
[10] ὄργια ἡ орги€, тайный обр€д, ритуал, св€щеннодействие, жертвоприношение.
—огласно божественному вещанию, чрез св€щенновопрошателей приведены были из ‘ив три менады: оскό (Κοσκώ), Ѕаубό (Βαυβώ) и ‘ессала (Θεσσαλά). » оско собрала сонм (θίασος), тех, что у чинары; Ѕаубо же Ч сонм, что перед городом; ‘ессала же Ч сонм атабатов (καταβαταί). ѕо смерти были они погребены городом. ѕрах оско покоитс€ в селении оскобуне (Κοσκοβουνός, холм оско), Ѕаубо Ч в “абарне (Ταβάρνα), ‘ессалы Ч близ театра.
Ёта надпись не только подтверждает извести€ о коллеги€х менад и наблюдени€ о их насаждении центральной религиозной властью, т.е. дельфийским жречеством, в —парте, јхайе, Ёлиде, но и проливает свет на традиционные нормы организации женских оргий. ћы видим, что не напрасно ≈врипид в трагедии Ђ¬акханкиї, изобража€ установление ƒионисовой религии в ‘ивах, говорит о трех сонмах менад, предводимых трем€ дочерьми адма, Ч что подтверждает и пользовавшийс€ другими источниками ‘еокрит в своих ЂЋенахї. ‘иванска€ община служительниц ƒиониса очевидно представл€ла собою тройственный фиас; кажда€ из трех частей его приносила жертвы у отдельного алтар€ и вела свой род от одной из трех древних основательниц оргий, сестер —емелы, впервые поставивших алтари ƒионису в горах, Ч јгавы, јвтонои, »но. „етырнадцать афинских герэр (γεραιραί)¹¹ принос€т жертвы ƒионису в Ћимнах на четырнадцати разных алтар€х. јлтарь поручалс€ предпочтительно жрице из рода, ведущего свое происхождение от древней менады. —коль неожиданным ни кажетс€ на первый взгл€д, что род ведетс€ не от дионисийского геро€, но от менады, однако должно признать, что в оргиастических общинах это было именно так. —лова оракула: Ђиз рода адмовой »ної, Ч приобретают, с этой точки зрени€, значение свидетельства первостепенной важности. —чет поколений по женской линии (какой мы находим в героических генеалоги€х √есиодовой школы) Ч в родовом преемстве именно женского жречества вообще не безызвестен. Ётот знаменательный остаток матриархата доказывает гинекократический строй культа богини, из коего проистекли женские оргии, более древние по своему происхождению, нежели почитание ƒиониса. “ак Ὀλεῖαι минийского клана продолжали родовое преемство первых миниад (Μινυάδες).¹² ќ —емахидах читаем у —тефана ¬изантийца, что так звалс€ Ђдем в јттике, от —емаха, Ч у него же и дочерей его гостил ƒионис; от них, т.е. от дочерей —емаховых, пошли жрицы ƒионисовыї. ƒельфийские фиады древнее самого ƒельфа, дружелюбно встретившего в своем царстве пришельца јполлона, ибо они принадлежат к его божественной родословной. ћегарские менады ведут свой род от ѕолиида, лакедемонские Ћевкиппиды от Ћевкиппа Ч чрез посредство дочерей названных героев, которые и €вл€ютс€ в собственном смысле родоначальницами, так как генеалогический р€д продолжают μαινάδες ἀρχηγοί. “аков наиболее важный дл€ нашей ближайшей цели вывод из приведенной надписи.
______________________________
[11] γεραραί, γεραιραί αἱ Ђстарицыї (жрицы ƒиониса в јфинах) Dem.
[12] Μινυάδες Ч в греческой мифологии три дочери (Ћевкиппа, јрсиппа и јлкифо€) правившего в ќрхомене ћини€ (родоначальника племени миниев). ¬о врем€ празднеств в честь ƒиониса, ћиниады отказались принимать участие в вакхических шестви€х и остались дома, продолжа€ пр€сть и заниматьс€ другими домашними делами. ƒионис пыталс€ заставить их примкнуть к менадам, но ћиниады ответили ему насмешками. “огда ƒионис наслал на ћиниад безумие, в припадке которого они разорвали сына Ћевкиппы, прин€в его за олен€.
явление ƒиониса в древе можно назвать обычным; но дерево на этот раз не ель или смоковница, а платан, в котором посел€ютс€ божественные и героические души, как это показывает пример ≈лены. “опографи€ трех учреждаемых фиасов также многозначительна. ѕервый, естественно, имеет своим средоточием место чудесного €влени€. ѕомещение другого находит себе р€д аналогий в св€тилищах ƒиониса Ђfuori le muraї (за стенами города), перед городскими воротами. ќдним из древнейших случаев такой локализации культа €вл€етс€ Ђочагї (ἐσχάρα) Ёлевтере€ в јкадемии: здесь ƒионис почитаетс€, как пришелец и гость, на месте своего предварительного становь€ у городских стен. ќн овладевает городом как захожий герой; апофеоза ожидает его в кремле. —в€щенный участок, отводимый ему внутри сакральной границы города (intra pomoerium), вмещает его храм и театр. Ётот последний Ч Ђсв€тилище (ἱερόν) ƒионисаї, как гласит надпись при входе в театр Ч именно ћагнесии на ћеандре (Inschr. v. Magn. 233). «олочена€ скульптурна€ группа ƒиониса, окруженного менадами, сто€ла близ сикионского театра. ќбщение между городским, театральным участком и пригородным, как мы видим это в јфинах и в том же —икионе (Paus. II, 7, 5), поддерживаетс€ обр€дом перенесени€ чтимых кумиров ночью при светочах. ѕоскольку ƒионис €вл€етс€ при этом Ђнизвод€щимї своих поклонников с высот кремл€ за город и поклонники в ночном шествии Ђнисход€тї с ним к его героическому, т.е. хтоническому, Ђочагуї. ƒионису театра свойственно наименование Ђвожд€ внизї (καθηγεμών), а фиасу театра Ч наименование Ђнисход€щихї (καταβαταί); но оба имеют значение религиозно-символическое: под нисхождением за героем разумеетс€ нисхождение в подземное царство, что и знаменуетс€ ночным шествием со светочами, и перенесение кремлевого идола в низины равносильно погребению бога. ¬се покушени€ некоторых ученых отн€ть у трагедии характер мистерий ƒионисовых рушатс€ при первом пристальном взгл€де на сценические древности. ќрганическа€ св€зь менад с театром Ч друга€ улика его исконного назначени€ быть св€тилищем страдающего и умирающего бога.
Ќеобходимо, однако, ограничить вышесказанное о св€щенных родах нижеследующими соображени€ми. огда речь идет о родовом преемстве св€щеннослужени€, часто слово Ђродї (γένος) должно понимать как искусственное соединение фиктивных родичей, как религиозный союз в сакрально-юридических формах рода, им€ и sacra которого уже не могли прекратитьс€, однажды став элементом государственной религии, т.е. непременной частью прин€того государством на все века состава гентильных культов. “ак, культ ƒиониса Ђотеческогої (Πατρώιος) в ћегаре мог и во дни ѕавсани€ быть во владении ѕолиидова рода, подобно тому как в »карии он принадлежал »карийскому роду, члены которого были как бы икарийцами по преимуществу и постольку противополагали себ€ остальному гражданству. “аковым мог быть афинский род Ѕакхиадов, организованный в цел€х служени€ ƒионису Ёлевтерею и праздновани€ городских ¬еликих ƒионисий, Ч род, управл€емый, по эпиграфическим данным, выборными архонтами. ƒопущение чужих к родовым Ђорги€мї, отправл€емым Ђоргеонамиї,¹³ есть уже прин€тие в подчиненную категорию членов рода, и первоначальное посв€щение в мистерии могло быть, как думал ј.ƒитерих, только формой усыновлени€.
______________________________
[13] ὀργεών (-ῶνος) ὁ оргеон (представитель каждого афинского дема, избиравшийс€ дл€ участи€ в периодических жертвоприношени€х) Isae.
¬ообще можно сказать, что дионисийское жречество более глубоко, чем другие эллинские, уходит корн€ми в родовой уклад. ¬ самом деле, служение ƒионису было соборным по преимуществу, что и выражаетс€ сакральным термином Ђоргийї. »бо оргии суть богослужени€, совершаемые совместно Ч и первоначально без жреца Ч всеми участниками, каковые поэтому равно все зовутс€ Ђвакхамиї (βακχοί) и Ђосв€щеннымиї (ὅσιοι). ≈стественна€ же форма соборности, Ч поскольку речь идет не об исключающих присутствие мужчин женских радени€х, Ч была непосредственно дана в союзе родичей. “олько позднейшее врем€ ослабило эту норму по отношению к мужскому жречеству. Ќо значение последнего, в противоположность древнейшему жречеству прадионисийских культов, в исторической ƒионисовой религии было относительно не велико и бόльшим быть не могло в силу ее внутренних основоположений.
3. оллегии менад
“риединое устройство, прообраз которого мы видим в ‘ивах, было обычным в женских фиасах. ¬ ћагнесию, как мы видели, посылаютс€ дл€ учреждени€ триединого союза, три менады Ђиз родаї одной из трех первоменад Ђсв€щенной ‘ивыї. ѕервоначальна€ триада может еще усиливатьс€ в тройную. ѕо стихотворению ‘еокрита, литургическое значение которого несомненно, три сестры —емелы с их трем€ сонмами воздвигают три алтар€ —емеле и дев€ть ƒионису.
ЂЅог, который находитс€ в ларце, именуетс€ Ёсимнетом (¬ладыкой); тех, которые служат специально ему, всего дев€ть человек, их выбирает народ по их достоинству из числа всех граждан; столько же выбираетс€ и женщин. ¬ праздничную ночь один только раз выносит наружу жрец этот ларец. Ёто особенность и торжественный акт специально этой ночи. роме того, часть молодых людей, детей местных жителей, украсив свои головы венками из колосьев, спускаетс€ к реке ћелиху: некогда так украшались те, кого вели на жертву јртемиде. ¬ наше же врем€ они складывают свои венки из колосьев у статуи богини и, омывшись в реке, вновь возлагают на себ€ венки, но уже из плюща и так идут к храму Ёсимнета.ї (ѕавсаний VII, 20:1)
ƒев€ть мужей и дев€ть женщин образуют жреческие коллегии ƒиониса Ёсимнета (Αἰσυμνήτος, чтимого, по-видимому, совместно с јртемидой “рикларией) в ѕатрах. ¬от почему приписанна€ јнакреонту эпиграмма, Ч веро€тно, надпись на базе рельефа, Ч живописует трех менад:
ЂЁта, что с тирсом в руке, Ч √еликони€, Ч с нею сантиппа;
√лавка Ч треть€: с горы сход€т от оргий св€тых
праздничным хорам они, вдохновенные, и ƒионису
—очное гроздие в дар, плющ и козленка несут.ї
Ќо в то же врем€ мы встречаем св€щенные коллегии, не отвечающие принципу триады. “аковы одиннадцать ƒионисиад (или δύσμαιναι) в —парте и Ђшестнадцать женї в Ёлиде. ¬ обоих этих случа€х перед нами, предположительно, результат исторического процесса последовательной спайки прежде самосто€тельных фиасов. „исло четырнадцати герэр в јфинах объ€сн€етс€ орфическим происхождением обр€да и св€зываетс€ с гептадой орфиков, заимствованным ими из ≈гипта символом дионисийского расторжени€ и воссоединени€ божественной монады. ќднако, заметны и следы древнейшей дихотомии, котора€ соответствовала, быть может, изначальному муже-женскому дуализму парнасской оргиастической религии. ћы видели в ћегаре двух перво-менад, дочерей ѕолиида, и гипотетически объ€снили этот факт обр€дового предани€ иначе, а именно Ч ранним синкретизмом двух культовых форм: материкового и островного. ¬ мифе о “ерее перед нами также только две менады Ч ѕрокна и ‘иломела; миф этот принадлежит ƒавлиде и, думаетс€, отражает глубокую старину ѕарнаса. ќ последней мы можем заключать и по дельфийскому преданию о Ђ„ернойї и Ђќбу€ннойї (Θυῖα). Ќо примечательно, что родоначальницей фиад в собственном смысле почитаетс€ только втора€, с которой, веро€тно, начинаетс€ трихотомическое устройство дельфийского фиаса Ч по крайней мере, на фронтоне јполлонова храма ƒионис был изображен, по ¬елькеру, с трем€ фиадами. ‘и€ кажетс€ менадой ƒиониса; „ерна€ Ч первопророчицей, как одержима€ силой «емли (κάτοχος έκ τής Γῆς); ей подобна и мегарска€ ћантό. “риединое устройство, св€занное, по-видимому, с ƒионисовыми триетери€ми, утвердилось в Ѕеотии, где ‘ивы провозгласили на всю Ёлладу рождество ƒионисово; ему подчинилс€ и минийский ќрхомен. ќно означало конец эпохи предчувствий чаемого юного бога, гр€дущего сопрестольника темной богини, Ч конец эпохи менад, еще не знающих ƒиониса.
¬се вышесказанное позвол€ет нам отчетливее уразуметь свидетельство ƒиодора о менадах исторической √реции: все девушки в тех городских общинах, где введены триетерии, должны по отеческому обычаю и св€щенному уставу, за исполнением которого блюдут городские власти, в дни, назначенные дл€ оргий, брать в руки тирсы и соучаствовать в радени€х, восклица€ Ђэвойї и слав€ ƒиониса, Ч женщины же замужние должны, кажда€ с тем сонмом, к которому принадлежит (κατά συστήματα), приносить совокупно жертвы богу и энтузиастически св€щеннодействовать, по чину и преданию оргий, и вообще вс€чески провозглашать и прославл€ть присутствие ƒиониса. »так, во главе сонмов сто€т их предводительницы, ведущие Ђфеориюї Ђв горыї (εἰς ὅρος); это посв€щенные менады, преемственно продолжающие родовое (по женской линии) служение; их окружают замужние гражданки, приписанные к соответствующему сонму, Ч некоторые из них, быть может, причислены к самому роду; меж тем как женщины активно участвуют в коллективных (Ђоргийныхї) жертвоприношени€х и иных таинственных св€щеннодействи€х, девушки составл€ют как бы сопутствующий им хор. ѕон€тно все народное уважение к участницам столь строго организованных, недоступных мужчинам оргий и особенное почтение к насто€тельницам св€щенных фиасов. ќдна поздней эпохи надпись из ћилета отчетливо рисует религиозно-бытовой тип такой игуменьи (εἰς ὄρος ἦγε) менад, характерно названных Ђгородскимиї или Ђгражданскимиї (πολιητίδες), в согласии с ƒиодором, причем общее выражение, Ђкак надлежит доброй женщинеї (χρῆστηι τούτο γυναίκι θέμις), Ч указывает на то, что все гражданки считались причастными городским орги€м; надпись, в нашем переводе, гласит:
Ђ«десь ƒионисова жрица (ὅσιη) лежит. ¬акханки градские,
ћолвите: Ђрадуйс€!ї „тить доброй жене надлежит
“у, что вас в горы водила, что оргии правила с вами,
„то возносила дары жертв и служений за град.
≈сли же спросит вас пришлый: Ђкак им€ ей?ї Ч јлкмеонида Ч
»м€, √ероди€ дочь, знавша€ правых удел (καλών μοίραν επισταμένη).ї
4. Ёринии как отражение прадионисийских менад в мифе
„то Ёринии (Ἐρινύες) во многом подобны менадам, Ч те и другие, например, Ђловчие собакиї, Ч не подлежит сомнению; вопрос в том, позднее ли стали воображать и изображать их наподобие менад, или же они (Ёринии, не Ёвмениды) Ч стародавн€€ проекци€ в мифе культовой реальности менад первоначальных. ћы уверены в последнем: произвола в мифотворчестве нет, и предположенное уподобление должно было бы опиратьс€ на какое-либо соотношение между кругом Ёриний и кругом ƒиониса, но и подземный ƒионис им вовсе чужд. — другой стороны, если нам удалось напасть на след прадионисийских менад, то мы пр€мо видим их перед собой в лице Ёриний. »бо что иное эти Ђдщери Ќочиї, чье присутствие, чье прикосновение, чьи змеи, чьи факелы навод€т безумие, Ч что иное эти сестры Ћиссы, отымающей у человека разум, Ч как не неистовые служительницы ночной богини, с факелами в руках, увитые зме€ми, ведущие дикие хороводы? —равним Ёсхиловых Ёриний и ≈врипидовых вакханок: не так же ли засыпают те и другие, устав от бешеной погони или исступленного кружени€, и вдруг, чуткие, вскакивают, чтобы продолжать на€ву св€щенный свой бред? ћы понимаем, почему Ёринии Ч Ђстаршие богиниї и Ђстарицыї; они Ч представительницы ветхого завета эллинской религии. ћы понимаем, почему они страшны: они Ч воспоминание об ужасной религиозной были человеко-убийственных преследований. ћы понимаем, почему наименьшее число их не всегда три, как это приличествует женским божествам, мыслимым множественными, но иногда, на изображени€х ќрестовой травли, их всего только две Ч как две перво-менады, Ђ„ерна€ї и Ђќбу€нна€ї, запомнились из седой старины в ƒельфах. ћы понимаем, почему, древние обладательницы прорицалища, так свободно проникают они, по Ёсхилу, в јполлонов храм и располагаютс€ на каменных сидень€х вкруг омфала.
»х дионисийские атрибуты изначальны, ибо не было основани€ ни цели одар€ть их таковыми после: буколический кентрон (βουκόλος κέντρον Ч пастушье стрекало) или обоюдоостра€ секира и плющевой венок. ќни мычат, как коровы, а мычанье быка или подражание этому звуку мы знаем как отличие дионисийских оргий, по описанию из ЂЁдоновї Ёсхила. “от же поэт р€дит Ёринию в черную козью шкуру, придава€ ей соответствующее наименование ƒиониса (μελάναιγις, Eumen. 680); она же Ч „ерна€, как та дельфийска€ первовещунь€. ѕрежде чем иферон,¹⁴ змеиное гнездо, стал св€щенной горой ƒиониса, им владели увитые зме€ми жрицы Ќочи: отсюда предание о гибели юноши иферона, презревшего любовь Ёринии “исифоны, Ч от жала ее змеи. —трастнဠлегенда запечатлела культовую пам€ть о мужеубийственных орги€х киферонских менад, еще не укрощенных дельфийской религией. “ак отражение обр€довой действительности в мифе восполн€ет недостаток пр€мых свидетельств о доаполлоновском, прадионисийском прошлом парнасского оргиазма.
______________________________
[14] Κιθαιρών (-ῶνος) ὁ иферон (гора на границе јттики и Ѕеотии) Her., Aesch., Soph.
________________
ќћћ≈Ќ“ј–»»
¬ качестве послеслови€, хотелось бы обратитьс€ к мифологическому сюжету рождени€ ƒиониса в изложении Ќонна, который первыми менадами (μαινάς, т.е. Ђнеиствующимиї) определ€ет нимф, вскормивших ƒиониса. ќднако причиной их безумства €вл€етс€ не ƒионис, а √ера, преисполненна€ €ростью, ревнива€ супруга «евса.
Ђ«евс-ќтец от —емелы пылавшего лона младенца,______________________________
ѕолурожденного ¬акха, избежавшего молний,
ѕрин€л и поместил в бедро, и ждал окончань€
Ѕега мес€цев лунных, положенных дл€ рождень€.
¬от и рожденье, и длань ронида как повитуха
ќпытна€ в этом деле, бедро от швов разрешает,
√де дит€ пребывало, трудных вспомощница родов.
—тало бедро «евеса, как и у женщин, см€гчатьс€:
—лишком ранний младенец без матери чрева доношен,
10
¬з€т от женского лона, зашит он в бедро мужское!
“олько лишь по€вилс€ от крови бога младенец,
’оры¹ дит€ увенчали из стеблей плюща плетеницей,
—лав€ гр€дущее ¬акха, и сами в цветочных уборах
Ѕлагорогого зме€ кольца гибкого тела
–асполагают у чресл благорогого ƒиониса.
Ќад драканийским отрогом, местом рождени€ ¬акха,
ћайи отпрыск, √ермес, взлетел в простор поднебесный,
ѕрин€в во длани младенца. –одившегос€ Ћиэ€²
ќн нарек ƒионисом, ибо в ноге свое брем€
20
¬ыносил ƒий, хрома€ с бедром непомерно раздутым;
«начит и Ђнисї в сиракузском говоре Ђхромоногийї Ч
“ак вот в имени бога им€ отца прозвучало!
Ѕог народившийс€ также зоветс€ Ёйрафиотом,³
»бо в бедро мужское зашил младенца родитель!
“олько лишь бог народилс€ (не требовалось омовень€!),
ƒетку, не знавшую плача, во длани √ермес принимает Ч
Ѕог был подобен —елене с рожками над висками.⁴
Ќимфам, дщер€м потока Ћама,⁵ младенец доверен,
—ын «евеса, владыка лозы виноградной. » ¬акха
30
ѕрин€ли на руки нимфы, в уста дит€ти влива€
ажда€ сок свой млечный от груди, текущий свободно.
¬зоры дит€ устремл€ет ко своду горнему неба,
√лаз не смыкает, лежа на спинке, ножками воздух
ћаленький ¬акх взбивает, млеком себ€ услажда€,
Ќа небосвод взирает, владенье отчее, дивный,
–аду€сь бегу созвездий, смеетс€ дит€ беззаботно.
ќтпрыска ƒи€ корм€щих, дщерей Ћама потока,
√нев ревнивый и т€жкий супруги «евеса бичует:
» безумствуют нимфы, застигнуты €ростью √еры,
40
Ѕьют рабынь и прислужниц, странников на перекрестках
“роп и дорог на части острым ножом разрубают,
¬о€ и завыва€, с выпученными очами
¬ пл€ске несутс€ свирепой, в безумстве раздравши ланиты,
¬ разуме помутившись, бегут и бегут непрестанно,
то куда, то кружас€ на месте, то прыга€ дальше!
¬олосы, распустившись, вольно вьютс€ по ветру
Ѕурному, ткань хитона шафранна€ каждой безумной
ѕеною белой клубитс€, стекающей с грудей девичьих.
Ѕуйством влекомы, унесшим их разум, они бы
50
Ќеразумного ¬акха ножом растерзали на части,
≈сли б, нечуемый вовсе, ступа€ как вор по воздушным
“ропам, крылатой плесницей ¬акха √ермес не похитил!
—жав младенца в объ€ть€х спасительных, тут же уносит
¬акха √ермес в жилище »но, разродившейс€ только.
ƒева младенца в то врем€ к своей груди подносила,
ЌоворождЄнного сына, дит€ свое, ћеликерта,⁶
» округлые груди полнились млеком обильным,
— них сочилос€ млеко, сосцы тесн€ и терза€!ї
(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса IX)
[1] Ὥραι αἱ ’оры, богини времен года, €сной погоды, урожа€, юности и красоты, хранительницы небесных врат, спутницы богов, преимущ. јфродиты; по √есиоду их было три: Εὐνομία, Δίκη и Εἰρήνη, в аттической культе Ч две: Θαλλώ (¬есна) и Καρπώ (ќсень) Hom., HH., Hes., Theocr.
[2] λυαῖος ὁ освободитель (от забот) Ч эпитет ¬акха-ƒиониса Anacr., Plut.
[3] εἰραφιώτης (-ου) adj. m предполож. {ῥάπτω} зашитый (подразумеваетс€ в бедро «евса) Ч эпитет ¬акха HH.
[4] Σελήνη ἡ —елена (или ‘еба, дочь √ипериона, сестра √елиоса, богин€ луны); от σέλας (Ђсветї, Ђси€ниеї) HH., Hes.
[5] Λάμος ὁ Ћам, река в иликии.
[6] Μελικέρτης (-ου) ὁ ћеликерт, в древнегреческой мифологии, сын »но и цар€ ќрхомена јфаманта. ѕосле того, как √ера наслала на его мать »но безумие и та бросилась в море вместе с сыном, ћеликерт был превращен в морское божество ѕалемона (Παλαίμων), который обычно изображалс€ верхом на дельфине.
_______________________________
|
ћетки: ћенады ƒионис √реци€ ћистерии |
ƒ»ќЌ»— & јѕќЋЋќЌ |
ƒневник |
¬€чеслав »ванов
ƒ»ќЌ»— » ѕ–јƒ»ќЌ»—»…—“¬ќ
II. ƒ≈Ћ№‘»…— »≈ Ѕ–ј“№я
1. «мий и змиеубийца
јполлон овладевает дельфийским прорицалищем чрез убиение его стража (φύλαξ, φρουρός) и обладател€, хтонического зми€ Ч ѕифона (Πύθων). ѕод чудовищной личиной Ђвещегої (от πεύθομαι), как обычно понималось это им€, дракона (μαντικόν δαιμόνιον, по √есихию), или Ч по √омеридам Ч смрадный (от πύθω Ч гнить), вредоносной змеи (δράκαινα) нелегко распознать затемненные, уже в гомерическом гимне пифийскому јполлону, черты дельфийского пра-ƒиониса.
«миеубийца, согласно закону мистических отношений между вакхом-жрецом и ƒионисом жертвенным, исполнилс€ духом последнего: с той поры стал он вещуном и гадателем. Ќо в круге дионисийских представлений ипостась жреческа€ столь же причастна божественным Ђстраст€мї, как и ипостась жертвенна€: јполлон, поскольку он введен в этот круг, должен усвоить себе нечто от антиномической сущности страдающего бога. —ветозарный олимпиец, отвращающийс€, по слову Ёсхила, от плачевных обр€дов и всего имеющего отношение к сфере подземной с ее Ђсквернойї (μίασμα), должен соприкоснутьс€ с миром загробным, им Ђосквернитьс€ї (μιαίνεσθαι) и потом от него же Ђочиститьс€ї. “е, кто не знали об этом приобщении јполлона подземной сфере, знали, тем не менее, об его очищении от драконовой крови, хот€ достаточно обосновать необходимость такового не могли; оттого, быть может, так и настаивают √омериды на мотиве Ђтлетворного духаї, Ч он был бы сам по себе μίασμα.
Ћогика культа была неумолима: оставалось только сделать ее следстви€ по возможности непроницаемыми дл€ непосв€щенных. јполлон нисходит в јид, что экзотерически изображаетс€ как его плен и кабала у јдмета (Ἄδμητος, Ђнеоборимыйї Ч эпитет јида). ѕиндар знает, что за насильственное овладение дельфийским оракулом √е€ искала низринуть јполлона в “артар. Ѕратоубийство не разделило братьев. ƒионис не гневаетс€ на своих трагических убийц, Ч он в них всел€етс€. ѕифону же должно было умереть, чтобы, исполнив свою страстную участь, вернутьс€ к эллинам преображенным и новым.
„то ѕифон не чудовище, уничтожение коего Ч заслуга геро€ или бога (как изображает это де€ние упом€нутый гимн VI или конца VII века), €вствует из религиозных почестей, «мию присужденных, из почитани€ его гробницы, как и из очистительного возмезди€, понесенного убийцей. ѕлутарх, говор€ о Ђвеликих страст€х божеств, или демонов (δαιμόνων πάθη μεγάλα)ї, сообщает дельфийское эзотерическое толкование јполлоновой кары: не дев€ть кратких земных лет (ἐννεάτηρις, по сакральному летоисчислению, фактически Ч восемь) должен был провести бог опальным изгнанником в “емпейской долине, но на дев€ть великих годов (космических периодов) сошел он в иной мир, дабы, смертью смыв с себ€ прокл€тие (ἄγος), вернутьс€ потом на лицо земли воистину ‘ебом (αληθώς Φοίβος), т.е. светлым и непорочным, и воцаритьс€ над прорицалищем, коим дотоле временно правила ‘емида.
Ёта поздн€€ мистика восходит в основе своей к исконному дельфийскому преданию, преломившемус€ через призму раннего орфизма, вли€ние которого на ƒельфы узнаетс€ по многочисленным следам. ќсновное в ней Ч взгл€д на смерть ѕифона как на божественные страсти и представление о страстнόм сошествии јполлона в подземное царство. ќвладение пророчественным даром земли, прорицалищем недр земных (μαντεῖον χθόνιον) обусловлено было дл€ пра-ƒионисова преемника частичным уподоблением, ассимил€цией ƒионису как Ђбогу-героюї, т.е. богу, претерпевающему страдание и смерть. “акова предпосылка того теснейшего единени€ между дельфийскими брать€ми-сопрестольниками, которое в религии ƒельфов равносильно признанию обоих двум€ сторонами, лицами или ипостас€ми единой божественной силы.
2. ѕричины ‘ебова овладени€ ƒельфийским оракулом. Ѕог-очиститель.
Ѕорьба и примирение дельфийских братьев Ч основное событие, обусловившее расцвет классической Ёллады. ѕочему ƒельфам нужно было именно это культовое соединение? » если дионисийский элемент был там изначала дан, почему нельз€ было ограничитьс€ развитием его одного, и потребовалось сделать столько уступок јполлону? ”ступки же эти таковы, что поистине образование дельфийской религии кажетс€ делом искусственным, плодом сознательной религиозной политики, клонившейс€ к возвеличению делийца насчет умаленного и обедненного ƒиониса. аким цел€м служило это возвеличение, и как возможно было это обеднение?
ќтвет на последний вопрос непосредственно вытекает из того обсто€тельства, что дионисийство, уже полное своеобразного содержани€, было еще только прадионисийством и, как бы чреватое богом, в себе его вынашивало, в то врем€ как, обратно, религи€ јполлона, еще нуждавша€с€ в ближайшем определении своего божества, умела, тем не менее, призывать его по имени и живо представл€ла себе его устойчивый, как бы вычерченный из света облик. Ќа вопрос же о целесообразности јполлонова прославлени€ и обогащени€ можно ответить в самой общей форме так: иде€ дионисийской беспредельности, чтобы стать вполне конкретной и действенной, требовала Ђсвоего другогої, Ч противоположени€ тому и взаимодействи€ с тем, что именно не есть ƒионис.
» прежде всего јполлон был нужен как его восполнитель, потому что представл€л собой силу пор€дка очистительного. —трастное, Ђпатетическоеї состо€ние нуждаетс€, помимо того катартического исхода, который оно, при известных благопри€тных услови€х, обретает в себе самом, еще и в катартике внешней. –азнуздание дионисийских сил не только грозило гибелью, как личност€м, так и общественным группам, но и с формально-религиозной точки зрени€ требовало посторонних очищений. ѕриходилось считатьс€ не с теми уже упор€доченными €влени€ми давно устроенного культа, знакомыми нам из эпохи более поздней, которые сами по себе преследуют цели внутреннего разрешени€ аффектов; дело шло, напротив, о стихийных вспышках разрушительного огн€, о бур€х неукрощенного древнего хаоса, об аномали€х сознани€ и слепом нарушении творимых гражданственностью норм общественного уклада и душевной гигиены. ƒионисийство бессильно было развить из себ€ начала этические; оно не имело в себе и неподвижности, необходимой дл€ обосновани€ религиозного авторитета. —троить на нем как на некоем камне было нельз€; а ƒельфы задумали великое строительство.
¬о чье же им€ надлежало им его предприн€ть? Ќе во им€ ли того, кто сам еще не имел имени? Ќо от ƒиониса можно было только пророчествовать, а не законодательствовать. ј между тем в двери св€тилища уже стучалс€ обу€нный Ёрини€ми ќрест. Ќужны были Ч властный глагол, скрижаль непреложна€, сильна€ и уверенна€ защита кого-то строгого, чуждого и светлого, кто, по слову старцев в Ёсхиловом Ђјгамемнонеї о Ћоксии, Ђуходит от плачаї и чуждаетс€ вс€кого безмерного, особенно меланхолического возбуждени€, кто повелительно требует от своих поклонников самообладани€ и душевного равновеси€, кто, став однажды заступником, Ђне выдаст и не изменитї, как говорит о том же јполлоне Ёсхилов ќрест. то он, в длинных спокойных складках белой одежды, сильный убелить одежду мол€щегос€, хот€ бы она была забрызгана кровью, и зачурать его своим светом от порождений мрака, успокоить ропот мертвых и вернуть живого живым, оградив его от слишком ощутительных вли€ний царства подземного? “аким избавителем и исцелителем отчасти уже был, отчасти мог стать один Ч ‘еб-јполлон.
√омерический проэмий (προοίμιον, прелюди€) к јполлону пифийскому Ч историческое свидетельство: древнейша€ организаци€ дельфийского св€тилища определ€етс€ вли€нием рита. Ѕык, культ которого сохранилс€ в ƒельфах, и дельфин, присво€емый јполлоном стародавний символ островной прадионисийской религии, подтверждают повествование √омеридов. рит€не были великими Ђочистител€миї, как о том свидетельствует легенда о ’рисофемиде или знаменитый пример позднейшего Ёпименида. »так, казалось бы, достаточно было критского воздействи€, чтобы развить в ƒельфах из исконно местного оргиазма систему очищений, составл€вшую потребность времени. “ем не менее, ни божество идейского «евса, ни божество самого ƒиониса не могло послужить краеугольным камнем созидаемого оракула. Ёпоха додонского «евса была пережита; нова€ концепци€ всевышнего отца не закончена; критский «евс непон€тен эллинству; едва намечающийс€ ƒионис неустойчив и опасен. ¬озможно и веро€тно, что крит€не посредствовали между ƒельфами и делийским богом, ибо уже раньше были религиозными устроител€ми ƒелоса.
—ила имени јполлонова была испытана. Ќедаром малоазийские аэды (ἀοιδός, певцы) его избрали своим покровителем: он оказалс€ могущественным и грозным защитником, этически нормативной духовной властью, снискавшей всеобщее признание, Ч богом междуплеменным и сверхнародным, а потому и общенациональным преимущественно перед коренными божествами старинной родины, Ч богом, наконец, более формальным, так сказать, по своей идейной сущности, нежели содержательным, легко вмещающим новое содержание, требующим раскрыти€ заложенных в его первообразе возможностей и потому в общине певцов охотно обмен€вшим звучный лук на кифару √ерми€, которой изобретатель не дорожил. јполлону можно было придать р€д новых атрибутов и, прежде всего, отдать в его ведение мантику, собственность дионисийских женщин, от коих жречество должно было стать по возможности независимым. —трашный и светлый, јполлон-губитель¹ был вместе и целителем, ѕеаном.² ƒревнейшие староотеческие пеаны были перенесены малоазийскими поселенцами на бога из страны света, Ћикии: он сам стал ѕеан. Ёто обсто€тельство имело решающее значение; народ, в своей наиболее предприимчивой и передовой части, в лице заморских колонистов, давно забывших хтонические и героические предани€ и призраки, св€занные с могилами старой родины, Ч обрел искомого Ђочистител€ї; Ёфиопида уже знает очищени€ от пролитой крови.
____________________________
[1] √убительные свойства јполлона происход€т от созвучи€ его имени (Ἀπόλλω) с ἀπολλύω. Ёсхил в Ђ“рагеди€хї, в отношение јполлона (устами ассандры), употребл€ет слово ἐπόλλων, т.е. Ђгуб€щийї, что так же несет в себе созвучие с его именем.
ѕутей страж раз€щий,
—разивший мен€ на смерть, мой бог!
(Ёсхил. Ђ“рагедииї. ѕер. ¬. »ванов)
ἀπόλλυμι (ἀπ-όλλῡμι) Ч губить, уничтожать (οἱ ἀπολλύντες Soph. Ч убийцы);
ἀπώλεια (ἀπ-ώλεια) ἡ разрушение, уничтожение, гибель (ἀ. καὴ φθορά Arst.);
[2] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών Ч »сцелитель.
этому присоединилось, наконец, и другое основание величайшей важности: јполлон должен был перевесить вли€ние ƒиониса, бога женщин, потому что был вождем и поборником мужчин; он был на стороне ќреста и отцовской власти против преобладани€ женских прав и св€тыни материнства в религиозном сознании народа. »так, с јполлоном можно было твердо и законодательно св€щенноначальствовать над всеми племенами и общественными сло€ми эллинства, ответить запросам эпохи и поработить исконных властительниц дельфийской области Ч фиад.³ „то дельфийское жречество с политической дальновидностью избрало то богопочитание, которому принадлежало переживаемое врем€, видно и из того, что другим центрам жречества, отстранившимс€ от јполлона, как, например, феспийскому, с его глубочайшим преданием о Ќочи и Ёросе и культом бога-Ѕыка (ƒиониса), не удалось достичь всенародного признани€. ”зурпаци€ же ƒионисовых досто€ний в јполлонову пользу была легка: кому принадлежит власть очистительна€, за тем остаетс€ во всем последнее, решающее слово; у него в руках ключи от божественных сокровищниц, он один разрешает и в€жет. “ак творилс€ Ђантичный ¬атиканї.
____________________________
[3] θυϊάς (-άδος)
1) adj. f исступленна€, неистова€ Plut.;
2) ἡ тиада, неистовствующа€ вакханка Aesch.
3. јполлон и ѕифи€
»значальный женский культ парнасских фиад и киферонских менад был оргиастическим и человекоубийственным служением той же подземной богине Ќочи (Nύξ), котора€ чтилась и в беотийских ‘еспи€х как один из аспектов ћатери-«емли, √еи (Γῆ, дор. Γαῖα). ¬прочем, им€ этого женского божества в ƒельфах едва ли возможно с точностью установить, Ч божество —тикс (Στύξ, Ђ”жасныйї) не было от него по существу различно; к тому же сама€ природа его требовала или полного безмолви€ о нем, или эвфемизмов (как, напр., Eὐφρόνη Ч ночь, досл. Ђблагосклонна€ї). Ётому культу свойственны были экстатическое пророчествование, ночные радени€ и почитание змеи; отсюда с незапам€тных времен существовало в нем, конечно, и представление о ѕифоне. Ќо от иерогамического зми€ родитс€ на орги€х фиад (ликнофори€х)⁴ младенец. ѕо обретении человекоподобного оргиастического бога служительницы Ќочи станов€тс€ вакхическими менадами, и ѕифон разоблачаетс€ им как ƒионис.
ѕо схолиасту ѕиндара, ƒионис раньше јполлона пришел в ƒельфы как провещатель (πρόμαντις) Ќочи: через него прорицает богин€ Ќикта (Νύκτα), как после него через ѕифона Ч богин€ ‘емида (Θέμιδα). ќтсюда первые пам€тные преданию менады в ƒельфах: ћелена (Mέλαινα) и ‘и€ (Θυῖα)⁵ Ч Ђ„ерна€ї и Ђќбу€нна€ї. ѕоследн€€ знаменует уже пришествие ƒиониса; перва€, более древн€€, чем ƒионис, представл€ет исконный культ темной богини.
____________________________
[4] Λικνοφόρια Ч приношение корзин с первинками плодов на дионисийских празднествах;
[5] Θυῖα, ион. Θυίη ἡ “и€ (дочь ефиса, мать ƒельфа (от јполлона), мифическа€ учредительница празднеств в честь ƒиониса) Her.
—ама сила прорицательна€ принадлежит по-прежнему Ќочи; Ђпровещательї Ч только голос и глагол ее, €зык изрекающий (ἑρμηνεύς, истолкователь). «десь јполлон по праву становитс€ на первое место: все изреченное и изрекаемое в его власти более, чем во власти ƒиониса, который сам слишком глубоко погружен в ночь. ѕравда, с развитием чисто-аполлонийской идеи это представление вытесн€етс€ другим, ближе отвечающим природе и достоинству бога-сына: ему невместно быть только устами «емли или голосом Ќочи, он Ч слово отчее. “ак, јлкеев гимн, пересказанный √имерием, изображает его посланником «евсовым к эллинам, провозгласителем непреложных «евсовых уставов, и, по словам Ёсхиловой ѕифии:
ѕо новой концепции, ѕифией овладевает јполлон уже как начало самобытно-действенное: она говорит то, что внушает ей он, а не божество темных недр. Ѕорьба с древним ѕифоном понимаетс€, с этой точки зрени€, как преодоление Ђхаосаї Ђлогосомї. Ќо последовательное проведение этого принципа было невозможно в пределах эллинской религии: он противоречил ее коренным историческим основоположени€м.
ѕосле экстатических восклицаний Ёсхиловой ассандры (в трагедии Ђјгамемнонї), кажущихс€ хору аргивских старейшин бессв€зными и непон€тными, наступает внезапно мгновение, когда пророческа€ речь, по словам самой пророчицы, сбрасывает с себ€ покрывало, под которым она таилась как невеста, и называет вещи и событи€ их именами, определительно, без загадочных намеков и иносказаний: это аполлонийский момент в мантике. ѕифи€ Ч прорицательница (προφήτης) Ч осталась в своей глубочайшей и непокорной, недоступной јполлону сущности голосом Ќочи, но подле нее стали жрецы €сного ѕровещател€, толмачи и истолкователи Ч ὑποφῆται. ѕодчинение исступленной вещуньи јполлону было насильственным: ассандра, к которой он воспылал страстною любовью, обманывает Ћокси€ посулом женских ласк и не держит обета; за что бог, прежде всего, карает ее тем, что никто не верит ее правдивым вещани€м, Ч хот€, по изображению Ёсхила, самый дар вещани€ был даром любви влюбленного бога, Ч а потом приводит ее к плахе, во исполнение неизбежных Ч однако, именно дл€ дионисийской героини Ч Ђстрастейї (πάθη). ¬нутренние противоречи€ исторического предани€ поэт преобразил в роковые противоречи€ трагической участи. “о же отношение к јполлону сквозит и в других мифах.
ѕифи€, по ѕиндару (Pyth. VI, 106), дельфийска€ Ђпчелаї (μέλισσα), и Ђпчелыї стро€т в ƒельфах јполлону чудесный храм, который он переносит к √иперборе€м (Paus. X 5, 9); но Ђпчеламиї экстатические женщины могли именоватьс€ только в качестве служительниц ƒиониса или јртемиды. Sibylla ¬ергили€, насильственно (stimulis) принуждаема€ ‘ебом пророчествовать Ч кумcка€ (отожествленна€ с эритрейской) сибилла ћеланкрера,⁶ Ч девственна€, т.е. не отдавша€с€ јполлону менада, как о том свидетельствует и ее мрачное им€, и ее Ђподземный чертогї (θάλαμος κατάγαιος). Ћикофрон называет метафорически ассандру Ђкларийской, т.е. јполлоновой, менадой (μιμαλλόνος) и устами ћеланкрерыї. ќчевидно, последн€€ приурочена к јполлонову культу только после того, как јполлон овладел всею мантикой. —казание об аполлонийской пророчице ќрфе (Oρφή, им€ из круга ночи), на которую ƒионис навел свое безумие, также обличает исконно-дионисийскую природу женского вещани€ Ђот јполлонаї.
Ёто јполлоново овладение досто€нием ƒионисовым сказалось и в мифе о ƒафне. ƒафна, дочь «емли, исконной обладательницы дельфийского оракула, котора€ посв€щает ее в πρόμαντις, Ч душа пророчественного лавра, могущего причин€ть и безумие. ≈е природа горной нимфы, вдохновл€емой вещею мудростью матери, и ее бегство от преследующего ‘еба⁷ также указывает на принадлежность ее дионисийскому кругу.
____________________________
[6] ћеланкрера Ч дочь ƒардана и Ќесо, им€ кимской (κυμαῖος) сивиллы.
σίβυλλα ἡ сибилла или сивилла (вещунь€, пророчица) Arph., Plat., Arst.
[7] Δάφνη ἡ ƒафна, нимфа; (спаса€сь от преследовани€ влюбленного в нее јполлона, была превращена в лавровое дерево) Luc.
ѕелопоннесска€ верси€ мифа выдает нечто большее: первоначально некий преследователь лесной охотницы претерпевает Ђстрастиї, став жертвой дев, подруг ее: другими словами, первоначально влюблен в нее не јполлон, а ƒионис. ƒионисийское (јктеоново) существо преследовател€ окончательно обнаруживаетс€ переодеванием его в женские одежды (он хочет овладеть дубравной нимфой, охот€сь в сонме ее сверстниц, дл€ чего отпускает себе и длинные волосы) и убиением его ножами и копь€ми. ”частие јполлона в обличении перер€женного Ћевкиппа Ч черта, придуманна€ дл€ установлени€ св€зи между дионисийским и аполлонийским мифом, но отразивша€ антагонизм обоих божеств. ѕрибавим, что миф о ƒафне естественно перенесен на јполлона, потому что ƒионис мыслитс€ здесь как солнечный бог (как Ђбелоконныйї, Λεύκιππος, а не Ђчерноконныйї, ћελάνιππος, јрейон), сообразно с солнечной природой лавра, изгон€ющего духов подземного царства.
ќтчуждение јртемиды, исконной сопрестольницы ƒионисовой и предводительницы женских оргиастических сонмов, в пользу јполлона, сестрою которого она становитс€, отразилось в ƒельфах тем, что на вершине двуглавого ѕарнаса, посв€щенной ƒионису, воздвигнуто было (быть может, впрочем, в относительно позднюю эпоху) св€тилище ƒионисово, а на вершине ‘ебовой Ч совместное св€тилище јполлона и јртемиды. Ќаконец, говор€ об отторжении значительной части сакральной сферы женского экстаза от ƒиониса и о подчинении ее јполлону, надлежит вспомнить ћуз, увенчивающихс€ на √еликоне тем самым лавром, который, как мы видели, был унаследован ‘ебом от ƒиониса. ћузы, образовав хор јполлона ифарода (κιθαρῳδός), но сохранив, однако, по местам и свои отдельные культы и празднества, не утратили окончательно своей древнейшей св€зи с богом оргий, какова€ обнаруживаетс€, например, в отношени€х ћельпомены к ƒионису-ћельпомену. ’ор —офокловой Ђјнтигоныї, поведав о фракийском Ћикурге, как этот дикий нарушитель св€тыни радений Ђжен боговдохновенных гнал и угашал огонь св€тойї, продолжает: Ђи ћуз свирельниц прогневилї. ћузы приравнены здесь к менадам и вз€ли в руки вакхические флейты вместо јполлоновых лир. ћузы Ч пестуньи ¬акха, по ƒиодору (IV, 4). —ынами ћуз, кроме ќрфе€, €вл€ютс€ дионисийский герой –ес и дионисийский лирник Ћин. ƒионис на дифирамбическом Ќаксосе Ч хоровожатый ћуз (Μουσηγέτης). ћузы в плющевых венках вокруг ƒиониса представлены в дельфийском пэане ‘илодама (IV в). Ќа одном геликонском камне, под посв€щением ћузе “ерпсихоре, читаем:
—ообщение ѕлутарха, что на празднестве орхоменских јгрионий ƒионис объ€вл€етс€, после тщетных поисков, убежавшим в обители ћуз, приоткрывает глубокую старину. “акова же и обмолвка ≈врипида о принесении »тиса ѕрокною в жертву ћузам: сладкогласный соловей естественно воспринимаетс€ как служитель ћуз; но растерзание »тиса издревле дионисийский миф; очевидно, ћузы и ƒионис мысл€тс€ оп€ть, как в ќрхомене, нераздельно.
Ёсхил, по-видимому, знает, что до прихода јполлона в ƒельфы св€щенна€ пустынь принадлежала оргийным сонмам поклонниц ƒионисовых. ¬ мифологической истории прорицалища, с которой начинаетс€ трагеди€ ЂЁвменидыї, поэт говорит устами ѕифии по поводу арикийской пещеры на ѕарнасе как о чем-то, что надлежит держать в пам€ти:
»так, ƒионис обитает в отведенных ему после дележа угодь€х как исконный владелец парнасских нагорий. „то же до поры, предшествующей дележу, ѕифи€ называет только женские божества, владевшие дельфийским ущельем. Ёти богини суть: √е€, ‘емида (та же ћать-«емл€ в аспекте религиозно-этическом) и, наконец, ‘еба (Φοίβη),⁸ сестра јполлона по позднейшей версии, первоначально Ч сопрестольница ƒиониса. ƒругими словами, ƒионис древнее в ƒельфах, чем јполлон; женское же подземное божество древнее самого ƒиониса. » вместе это значит: от Ђпервовещуньи (πρόμαντις) √еиї до јполлоновой ѕифии культовое господство принадлежало в ƒельфах женщине. — эпохи ‘ебы существует дл€ нее, р€дом с великой богиней, еще и мужское, а именно ƒионисово, божество.
____________________________
[8] Φοιβάς (-άδος) ἡ жрица ‘еба, прорицательница Eur.; ex. ἡ Ἄρτεμις φοιβάς Plut. Ч веща€ јртемида.
φοῖβος 3
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) си€ющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.).
4. ќмфал
ѕифоновым гробом слыл дельфийский храмовой Ђомфалї (ὀμφαλός), €йцевидное каменное сооружение, трижды св€щенное: как средоточие јполлонова дома, как Ђпуп землиї, известный уже в эпоху ѕиндара, и как место очищений. Ђ—вежа€ скверна (μίασμα) матереубийства, Ч говорит Ёсхилов ќрест, Ч была смыта с мен€ у ‘ебова очага (ἑστία) очистительною кровью (καθαρμόι) жертвенной свиньиї (Eum. 282). ∆ивопись на вазах представл€ет ќреста сид€щим у омфала с мечом в руке, јполлона Ч держащим над его головой молодую свинью, неподалеку дремлют Ёринии. ѕоследние у Ёсхила кор€т бога-очистител€ за то, что по его произволу Ђпуп «емли сделан стоком ужасного прокл€ти€ (ἄγος) преступно пролитой кровиї (Eum. 166). ќмфал √еи аналогичен римскому mundus. Ч Ќыне мы знаем, что омфалами вообще назывались куполообразные своды (θόλοι) гробовых склепов, какие сооружались еще в микенскую эпоху: Ђпупї јполлонова храма был издревле чтимой гробницей некоего хтонического божества. Ђ√робница же богаї, по гениальной догадке Ёрвина –оде (Psyche I, S. 130), Ч Ђне что иное как пещера, где он живетї. Ёто представление выражает зме€, нередко обвивающа€ омфалы.
ѕод пророческим жертвенником, находившемс€ уже в сокровенном св€тилище (ἄδυτον) храма, был пещерный склеп (ἄντρον), почитаемый, по ‘илохору (III в.), за гробницу ƒиониса. Ќо паломники, по-видимому, смешивали обе могилы Ч Ђпупаї и Ђуст «емлиї (στόμα √ῆς). ≈сли один только, и притом ненадежный, свидетель (“атиан) принимает омфал за гроб ƒиониса, зато и √игин, и —ервий полагают, что под треножником погребен ѕифон. —оглаша€сь с –оде, что наиболее достоверна€ традици€ (у ¬аррона: omphalos Pythonis tumulus, Ђомфал Ч могильный камень ѕифонаї) сочетает омфал с ѕифоном, а треножник с ƒионисом, мы спрашиваем, однако, чем объ€снить это смешение: не указывает ли оно на некоторую естественную теократию Ч темного ѕифона с не менее темным ƒионисом? ќ первом не знали наверно, что он за существо; эвгемеризм, самопроизвольно возникающий при попытке объ€снени€ божественных могил, заставл€л подозревать в нем страдального ведуна в образе одной из героических ипостасей ƒионисовых.⁹
____________________________
[9] ѕифон, отец јйкса (Aἴξ), пастырь черных коз (сравн. Διόνυσος Mελάναιγις), был владыкою вещего треножника, когда пришел в ƒельфы из Ћикии родившийс€ на ƒелосе јполлон и стал пасти стада ѕифона: контаминаци€ с мифом о пастушеской службе у јдмета, подтверждающа€ характеристику ѕифона как подземного ƒиониса. Plut. quaest gr. 12.
αἶξ (αἴξ, αιγός, эп. dat. pl. αἴγεσιν) ἡ козел) Hom., Arst., Plut.
ќбщераспространенного этиологического мифа, который бы оправдывал существование в ƒельфах могилы —емелина сына, не было. тому же в других местах мысль об омфале роднитс€ по преимуществу с представлением о ƒионисе. ≈му, по сообщению ѕавсани€, принадлежал во ‘лиунте древний храм невдалеке от пелопоннесского омфала; там же встречаем целое гнездо дионисийских св€тынь и св€занных с ними легенд об јмфиарае, ќйнее, √еракле; там јмфиарай впервые начал пророчествовать. Ќа вазах IV века с изображением элевсинского омфала ƒионис или сидит на нем, или стоит подле. јнтиной в том же положении на позднейших элевсинских изображени€х пон€т, очевидно, как Ђновый ƒионисї (νέος Διόνυσος). ѕравда, на древнейших надпис€х (πινακίς) ƒиониса близ омфала нет Ч быть может, их соотношение в Ёлевсине еще было Ђсокровеннымї (ἄρρητος), Ч но самый омфал кажетс€ подражанием ƒельфам и вместе коррективом дельфийского культа (поскольку в Ёлевсине он отдан его правомочному владельцу), если не разоблачением тайного предани€ дельфийских жрецов ƒиониса, так называемых ὅσιοι (Ђотшельникиї).
„то до ƒельфов, самый факт удвоени€ изначала данной могилы ѕифона могилой неопределенного ƒиониса в смежном св€тилище обличает потребность различить и вместе сблизить обе таинственные сущности, нераздельно сливающиес€ в одном представлении о доаполлоновском, дионисийском по своим корн€м, но отличном от позднейшей исторической формы ƒионисова богопочитани€ религиозном начале, которому подчинено было некогда дельфийское прорицалище. ќрфическое вероучение, оказавшее могущественное вли€ние на ƒельфы еще ранее, быть может, VI столети€, оставл€€ тайну ѕифона нераскрытой и только в обр€довой сфере знамену€ его теснейшую св€зь с ƒионисом, постулировало отдельную гробницу последнего в другом св€щеннейшем месте ƒельфов, Ч под пророческим треножником. ќ растерзанном “итанами отроке «агрее, предмирном ƒионисе, сыне зми€ Ч «евса и змеи Ч ѕерсефоны, орфики повествовали: или что сердце его было поглощено родителем, или что јфиной ѕалладой оно погребено было под горою ѕарнасом, или, наконец, что јполлон схоронил под той же горой останки божественного младенца. ѕоследн€€ верси€ могла послужить наиболее пригодным обоснованием тайнодейственного надгробного культа, имевшего характер Ђвызывани€ из мертвыхї (ἀνάκλησις), в дельфийском св€тилище, учрежденного едва ли не впервые именно орфиками.
—имволическое признание существенного тождества ѕифона с ƒионисом, при строгом различении первого как от ƒиониса-«агре€, так и от сына —емелина, входило, Ч можно думать, Ч в состав Ђнеизреченного предани€ї (ἄρρητος λόγος), хранимого ƒионисовыми жрецами храма (ὅσιοι), свершител€ми мистической жертвы, о которой ѕлутарх говорит: Ђдельфийцы вер€т, что останки ƒиониса поко€тс€ у них близ прорицалища (т.е. треножника), и жрецы ƒионисовы принос€т сокровенную жертву в храме јполлона, когда фиады буд€т Ћикнитаї, т.е. в ту пору, когда на ночных радени€х вакхические женщины, собравшиес€ на ѕарнасе, ищут, вызывают и потом лелеют на голове в колыбели-сите (λίκνον) новорожденного ƒиониса.
Ќека€ таинственна€ жертва в пещерных недрах дельфийского св€тилища принесена была, по Ћикофрону, еще јгамемноном, и царь вознагражден был за нее нарочитой милостью ƒиониса. ѕоследний был почтен јтридом, по-видимому, как бог-бык и вместе Ђгеройї (как ἥρως Διόνυσος Tαύρος, каковое сочетание мы находим в женском культе Ёлиды); ему, как погребенному богу, совершил јгамемнон свои возли€ни€, и также «емле и подземным (следовательно, и ѕифону). ќ пра-Ѕыке говорили орфики как о последнем превращении преследуемого “итанами «агре€. ¬ орфическом воззрении, основанном на древнейшем синкретизме териоморфических культов Ч исконного змеиного культа горных менад и культа критского, перенесенного в ‘ивах на всенародного ƒиониса, Ч между змием и быком устанавливаетс€ мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змий Ч хтоническа€ ипостась того же бога; бык в мире живых становитс€ змием в царстве подземном, чтобы снова возродитьс€ быком. ќтсюда изречение: Ђродитель зми€ Ч бык, быка родитель Ч змийї. ƒионис, в качестве Ђгеро€ї, был змием уже не у одних орфиков, но и в общенародном культе. »ерогамическим атрибутом менад на ликнофори€х служила зме€; новорожденный ƒионис мыслилс€ как ταυρόμορφος. “ак развитие ƒионисовой религии в ƒельфах сближало ѕифона с подземным ликом ƒиониса.
ƒельфийское обр€довое действо убиени€ ѕифонова (σεπτήριον), описанное ѕлутархом, весьма показательно. ѕифон предполагаетс€ обитателем хижины (καλιάς), что несомненно способствовало укреплению антропоморфического представлени€ о нем как о прадионисийском герое; эта хижина в св€щенном действе (δρώμενα) Ч то же, что в трагедии первоначальна€ Ђкущаї (σκηνή). ¬ обитель ѕифона, в сопровождении менад, именуемых стародавним минийским именем Ὀλεῖαι, с зажженными светочами в руках, тайком, проникает отрок, изображающий јполлона. ќпрокидываетс€ жертвенный стол, как это делалось в чинопоследовании оргийных таинств; хижина поджигаетс€ светочами, возникает см€тение, все опрометью бегут из дверей храма. ѕосле блужданий и полонени€ беглеца, над ним совершаетс€ уставное очищение. Ёто страстное действо (μίμησις πάθος), по своему строю и духу всецело дионисийское, восходит древнейшими част€ми своего состава к обр€дам фиад, как и два другие эннаэтерические празднества с их участием Ч √ероида (Ἡρωΐς) и ’арила (Χαρίλα), но в целом кажетс€ продуктом литургического творчества орфиков. ѕечатью их синкретического умозрени€ отмечено то уподобление јполлона ƒионису, при котором первый почти утрачивает свои отличительные черты и превращаетс€ в эпифанию второго как хоровожатого оргий, как »акха (Ἴακχος) элевсинских мистерий. ¬ римском надгробии из ‘илиппов мы встречаем сходный образ отрока со светочами в руках, как форму чаемой, согласно орфическим веровани€м, дионисийской апофеозы юного покойника в царстве душ:
»так, новый ƒионис действа жречески убивает своего прадионисийского двойника. ƒельфийский јполлон, в понимании орфиков, поистине Ч Ђƒионисодотї (Διονυσόδοτος Ч Ђдарующий ƒионисаї), как он именовалс€ в роде флиасийских Ћикомидов, хранителей древнейшего орфического предани€.
5. ƒионисийские прорицалища. ѕрава ƒиониса.
Ќекоторый свет на историю дельфийского јполлонова оракула проливает истори€ оракула в јмфиклее, принадлежавшего ƒионису. ќписыва€ этот последний, ѕавсаний (X. 33:9-10) сообщает местное фокейское предание о змии, от которого город получил название ќфитии. ¬ластелин той страны, охран€€ от вражеских козней младенца-сына, спр€тал его в сосуд (ἀγγεῖον) и укрыл в безопасном месте; волк угрожает дит€ти, но змий, обвившись кольцами вокруг сосуда, его оберегает. ѕришед однажды навестить дит€, отец видит на сосуде зми€, поражает его копьем и убивает одним ударом зараз и зми€, и младенца, Ч но, узнав от пастухов, что змий был верным стражем ребенка, сжигает на общем костре мертвого сына и его доброго пестуна. ¬ ќфитии, Ч продолжает ѕавсаний, Ч совершаютс€ оргии ƒионису, но кумира на виду нет, ни доступа в тайное св€тилище (ἄδυτον). Ѕог прорицает амфиклейцам и врачует недуги положенных в храме больных во врем€ их сна, Ч провещателем же (πρόμαντις) служит жрец, одержимый богом и изрекающий им внушенное.
¬олк легенды (коррел€т дельфийского волка) играет по отношению к младенцу роль знакомого нам двойника-преследовател€, Ћика или Ћикурга;¹⁰ культ хтонической змеи, пророчествующей из своего гроба, мы встречаем как по ту сторону ѕарнаса, в ‘ивах и других местах Ѕеотии, так и в ƒельфах, где им€ гробового зми€ Ч ѕифон. ≈сли в ƒельфах оракулом Ќочи и «ми€ овладевает јполлон и его вторжение задерживает и осложн€ет естественное развитие прадионисийской формы в дионисийскую, то в јмфиклее мы наблюдаем непосредственное сочетание хтонического и экстатического культа с религией ƒиониса. ¬еро€тно, что ƒионис, обретший свой общеэллинский лик и свое общеэллинское им€, был лишь позднее соединен с этим исконным культом, когда же это соединение произошло, прадионисийский змий в јмфиклее отожествлен был с ƒионисом. —хороненный в сосуде младенец есть погребенный ƒионис, он же и змий: убива€ зми€, отец убивает ребенка; костер младенца Ч костер зми€. —окровенное св€тилище заключает в себе гроб зми€ и младенца вместе. Ќад гробом совершаютс€ таинства Ќочи и страдающего бога-младенца в его страстнόм лике, зми€ Ч в лике бога живого в сени смертной. —мыкающим звеном между эпохой Ќочи и «ми€ и эпохой нового ƒиониса служит возникновение мифического представлени€ о божественном младенце, разоблачение зми€ как новорожденного человекоподобного бога.
____________________________
[10] λύκος ὁ волк (πολιός, ὠμοφάγος Hom.).
Λύκος ὁ Ћик, сын афинского цар€ ѕандиона, миф. родоначальник ликийцев Her.
Λυκοῦργος ὁ Ћикург, сын ƒрианта, царь племени эдон€н во ‘ракии. Ћикург прогнал из своего царства ƒиониса, убив его кормилиц, за что был ослеплен «евсом. (√омер. »лиада VI, 130)
јмфиклейский оракул сосредоточивает в одном фокусе разрозненные указани€, относ€щиес€ к дельфийскому, и не оставл€ет сомнени€ в правильности проводимого взгл€да на религиозно-историческую эволюцию последнего от ѕифона к ƒионису, остановить которую јполлоново начало было бессильно и в результате которой јполлонов оракул по существу стал дионисийским оракулом. –ассмотрим аналогичный случай дележа божественных братьев на почве другого древнего прорицалища. јполлон пифийский —отер (Σωτήρ), или спаситель (ἐπίκλησις хтонического бога), в јмбракии несомненно зан€л место первоначального ƒиониса, усвоив себе его черты, прин€в его темный облик. ќттого слывет он родителем ћелане€ (черного), отца ƒриопов; ћеланей Ч основатель дионисийской Ёретрии (Ἐρέτρια), стрелок сам и отец стрелка Ёврита. » характер имен, и мотив охоты сближают этих героев с ƒионисом-«агреем, диким охотником. „то прежде хтонического јполлона чтилс€ в јмбракии ƒионис и притом в своем древнем мрачном аспекте, очевидно и из уцелевшего с той поры двойного культа ƒионисовой сопрестольницы јртемиды, как √егемоны и јгротеры; последнее им€ пр€мо указывает на кровавые оргии и человеческие жертвы.¹¹ ѕример јмбракии свидетельствует, между прочим, в пользу древности мистической теократии двуединого дельфийского ƒиониса-јполлона.
____________________________
[11] ¬.»ванов, видимо, намекает на то, что этимологи€ слова ἀγροτέρα (охотница) св€зана не столько со словом ἀγρός (сельска€ местность), сколько со словом ἄγριος (дикий, жестокий).
ἀγροτέρα ἡ охотница (эпитет јртемиды) Pind., Xen.
ἀγρότειρα adj. f деревенска€, сельска€ (αὐλή Eur.).
ἄγριος 1) дикий; 2) жестокий, свирепый, лютый, злой; 3) неукротимый, необузданный, грубый; 4) мучительный, т€желый; 5) бурный, ужасный.
θήρα, ион. θήρη ἡ охота, звероловство; ex. ζῆν ἀπὸ θήρας Arst. Ч жить охотой; αἱ τῶν ἰχθύων θῆραι
Ќормальность эволюции прадионисийского оракула «емли в оракул ƒиониса подтверждаетс€, наконец, и примером мегарского Ђпрорицалища Ќочиї (Νυκτός καλούμενον μαντείον) в непосредственном соседстве храма ƒиониса ночного (Nυκτέλιος). ƒельфийский оракул ничем не отличаетс€, в принципе своей организации, от фракийских ƒионисовых оракулов, славившихс€ еще в римскую эпоху: в них одинаково пророчествовали пифии, окруженные жрецами Ч Ђпророкамиї, или Ђпровозвестител€миї (προφῆται). —прашиваетс€, однако: была ли эта эволюци€ в самом начале прервана в ƒельфах пришествием јполлона, так что ƒионису довелось впоследствии как бы сызнова завоевывать то, что естественно переходило к нему в наследственное владение от первопророчицы √еи, из чего следовало бы, что он €вл€етс€ там пришельцем извне и притом позднейшим, нежели јполлон, Ч или же в ходе этой эволюции ƒионисово numen (Ђобличиеї) настолько определилось еще до јполлона, что последний мог утвердить свое господство только ценою частичного ему уподоблени€, чтобы, как только numen нашло свое nomen (Ђим€ї), признать его автохтонным и правомочным своим предшественником и общником захваченной державы?
«а јполлоново старшинство высказываетс€ с оговорками Ёрвин –оде. Ђƒионис был первым пророком в ƒельфах, по схолиасту ѕиндараї, Ч напоминает он и продолжает: Ђнаследником ƒионисова пророчествовани€ признает јполлона и ¬ойт (Voigt), но этот исследователь отожествл€ет ƒиониса с ѕифоном, что едва ли может быть оправдано.
я думаю, что по упразднении хтонического оракула, прорицавшего при посредстве сновидений, јполлон заимствовал из дионисийской мантики неведомый ему дотоле способ дивинации в экстазе (furor divinus). Ќо кто возьметс€ дать €сный и доказательный ответ на вопрос о том, как именно в результате многоразличных сдвигов и сочетаний смен€вших одна другую сил, во всеми оспариваемом центре эллинской религии воспреобладал, наконец, сложный и многосоставный культ јполлона?ї. √иллер фон √ертринген (Hiller v. Gaertringen), следу€ –оде, находит, что, если √е€ и ѕосейдон в ƒельфах несомненно древнее јполлона, то ƒионис, напротив, моложе его, но столь могущественно было вли€ние нового пришельца, что произвело коренное изменение в јполлоновой мантике: отменены были принесенные критскими Ђоргеонамиї пифийского гимна гадани€ по жреби€м и по шелесту св€щенного лавра, и дионисийска€ пифи€ воссела на пророчественный треножник. ¬месте с тем названный ученый отмечает древность св€занных с фиадами празднеств, справл€емых по старому календарю эпохи мифической.
ћы, со своей стороны, принимаем без колебаний второе решение выше поставленной дилеммы, не утвержда€ этим, однако, что ƒионисово им€ прозвучало в ƒельфах раньше јполлонова имени. Ќапротив, безыменность рождающегос€ в культе фиад бога и была условием јполлонова воцарени€ в образе чаемого ƒиониса. ритские Ђоргеоныї со своим прадионисийским тотемом дельфина, жрецы-очистители и пророки-сновидцы, столкнулись в ƒельфах с фиадами-пифи€ми, увенчанными вещим лавром, оргиастическими служительницами темной √еи и подземного зми€, вызывательницами из могильных недр неведомого бога, младенца ли, или Ђжениха, нового солнцаї. Ёто соединение прадионисийского критского культа с религией менад дает впервые полный состав ƒионисовой религии, Ч когда менады знают лик и им€ родившегос€ младенца. Ќо ƒионис еще не родилс€ на их орги€х, когда пришли критские оргеоны, и потому чужой и юный бог должен был зан€ть праздный престол и, занима€ его, по возможности ответить ожидани€м его призвавших. ќн делаетс€ ƒафнефором, ƒельфинием, пифийским прорицателем, привод€щим furor divinus. огда ƒионис родитс€, он станет уже только јполлоновым сопрестольником, каковым никогда бы стать не мог, если б издавна не был владыкою ƒельфов, как пра-ƒионис. –ешающее значение в этом споре имеет, на наш взгл€д, ответ на вопрос: искони ли прорицала пифи€? ћы отвечаем: да, она и была изначала устами «емли (στόμα √ῆς). рит€не гимна были первыми жрецами, ставшими между нею и народом, истолковател€ми ее темных вещаний (ὑποφεταί), усмирител€ми ее исступлени€ и ограничител€ми ее вли€ни€. Ёто ограничение было единственным существенным нововведением јполлоновой эры. »бо менады древнее ƒиониса, что очевидно ускользает от –оде, когда он говорит, что у ƒиониса заимствовал јполлон экстатическое прорицание; между тем пифи€, им порабощенна€, была еще прадионисийской пифией.
»з умолчани€ о пифии в гекзаметрах гимна к пифийскому јполлону мы отнюдь не заключаем вместе с другими исследовател€ми, что ее не было, но что тенденци€ составителей гимна побуждала их изображать событи€ так, как будто бы ее не было. √имн представл€етс€ нам пам€тником борьбы нового жреческого вли€ни€ с исконным укладом оргиастического культа, основанного на женском пророчествовании и почитании женского божества с его мужским прадионисийским коррел€том. ѕришелец јполлон, по свидетельству гимна, вступа€ в свое новое владение, проходит между р€дами треножников: не предполагаетс€ ли этим существование пифийского треножника? ƒионисийским одушевлением охвачены крисейские жены и девы, подымающие при виде света от очага јполлонова св€щенный вопль (ὀλόλυξαν). Ѕог начинает пророчествовать Ђиз лавраї (ἐκ δάφνης), в котором выше мы усмотрели исконное досто€ние менад. ќн принимает культовое наименование “ельфуса (Τελφοῦσα) Ч Ђв пам€ть о том, что струи постыдил “ельфусы св€щеннойї: рассказ гимна о гневе јполлона на речную нимфу беотийской горы, по нашему мнению, не что иное, как мифологическое воспоминание о сопротивлении и насильственном подчинении новому закону местных прадионисийских менад. ћифическа€ проекци€ таковых (как будет показано ниже) Ч Ёринии: нам пон€тны отсюда и вражда Ђстарших богиньї к јполлону вообще, та давн€€ обида на Ђюного всадника, растоптавшего старицї, которой не могут забыть ему Ёсхиловы Ёвмениды, Ч и, применительно к данному частному случаю, наличность в их сонме эринии “ельфусы.
јполлоново господство не вносит в приемы дивинации ничего нового. »нкубаци€ была употребительна во фракийских прорицалищах ƒиониса и, хот€ вообще согласуетс€ с духом критского ведовства (ведь Ђоргеоныї гимна были соотечественниками Ёпименида), но, по ≈врипиду, јполлон сам же отмен€ет ее, как остаток владычества √еи. „то касаетс€ Ђжребиевї, этот не определительный дл€ ƒельфов и в них не укоренившийс€ способ гадани€ скорее предполагает участие вещих женщин, нежели его исключает. ∆ребии олицетворены в трех доаполлоновских парнасских крылатых сестрах ‘ри€х (Θριαί), Ђучительницах гадани€ї (μαντείης δάσκαλοι) и Ђпестунь€х јполлонаї, причем образ пестуний очевидно заимствован у дионисийского мифа, восход€щего в свою очередь к обр€ду менад. » стих Ч Ђжребии мечущих много, но мало гадателей верныхї Ч недаром сложен, по преданию, пифией; впрочем, это только переделка знаменитого изречени€: Ђмного тирсы нос€щих, но истинных вакхов не многої. “ак мы не находим ни одного довода, который бы мог поколебать в нас уверенность в первобытной древности женского оргиазма как исконной колыбели дельфийской религии.
6. ƒележ и союз
ѕриведем, дл€ вы€снени€ древнейших отношений между дельфийскими брать€ми, несколько других примеров, показывающих рост культового круга, объединенного јполлоновым именем, на счет безыменного дионисийского. ћарон, по √омеру (ќдисс. IX, 197) Ч јполлонов жрец виночерпий; когда ƒионис провозглашен единым владыкой божественного дара лозы виноградной, Ч он воссоедин€етс€ с ƒионисом.¹²
¬ области геортологической, древнейшие ‘аргелии, сопр€женные с прадионисийскими человеческими жертвами, перешли навсегда в праздничный круг јполлона очистител€. —минфии (Σμίνθια), мышиный праздник (σμίνθος = αρουραίος, Ђкрысаї), этиологически объ€сн€емый истреблением мышей, вред€щих виноградникам, правились на –одосе, по надпис€м, в честь ƒиониса, по позднейшим сообщени€м Ч в честь јполлона и ƒиониса как предполагаемых истребителей;¹³ так как культ —минфе€ (Σμίνθειος или Σμινθεύς) св€зан с мантикой (мышь Ч ζώον μαντικώτατον) и происхождение его, по-видимому, критское, то закрепление его за јполлоном в “роаде, чему древнейшим свидетельством служит I песнь »лиады, представл€ет собою аналог утверждению власти јполлона как прорицател€ в прадионисийских ƒельфах.
ћусическое соперничество дельфийских братьев составило бы предмет отдельного и обширного исследовани€; в дополнение к вышесказанному о музах, любопытно бросить взгл€д на историю мифа о Ћине. ѕроблемой религиозного мифотворчества встал вопрос о том, которому из божественных братьев-соперников приписать одно из древнейших преданий хоровой лирики Ч λίνος (Ђлинї), народный плач (φρενός) по некоему умершему богу того же имени (Λίνος).
____________________________
[12] ћарон почитаетс€ как дионисийский герой вместе с «евсом и ƒионисом в ћаронее и составл€ет предмет героического культа в ѕисидии. (Preller-Robert, gr. Mythol., S. 731).
[13] ЂΕπίθετον Απόλλωνος, κατά τον Αρίσταρχον από πόλεως Τρωικής Σμίνθης καλουμένης. Ο δε Απίων από των μυών, οί σμίνθοι καλούνται. Και εν Ρόδω Σμίνθεια εορτή, ότι των μυών ποτε λυμαινομένων τον καρπόν των αμπελώνων Απόλλων και Διόνυσος διέφθειραν τους μύας.ї
ак олицетворение Ђстрастейї, страстотерпец Ћин принадлежал ƒионису. ≈го им€ Ч припев каждого страстного обр€да (παντός πάθους παρενθήκη). ¬ остатках гесиодовской поэзии находим такой гимнический отрывок (fr. 192 Bz):
Ќо так как плачи и хороводы во им€ Ћина требовали лирного сопровождени€, то неоспоримы были права јполлона ифарода на это мифическое лицо, столь неопределенное, что в аргивском предании оно €вл€етс€ младенцем, разорванным овчарками, а в фиванском Ч Ђбожественным мужем-лирникомї, сост€завшимс€ с јполлоном и при€вшим смерть от ревности бога, между тем как у √омера Ћин Ч погибший прекрасный отрок, и —апфо воспевает его вместе с јдонисом (под именем Ётолин (Οἰτολίνου), Ђобреченный на смерть Ћинї; ѕавсаний IX, 29:8), в позднее же врем€ ему приписываетс€ апокрифическое повествование о подвигах ƒиониса. ¬ фиванской традиции характерны тесное сближение Ћина с ћузами (черта, доаполлоновска€) и пещерный героический культ (ѕавсаний IX, 29:6). ѕредание јргоса сплетено с легендой о оребе (Κόροιβος). ѕо растерзании младенца Ћина (пра-ƒиониса младенца) хтоническими собаками, наслано јполлоном на јргос чудовище, вырывающее детей из материнской утробы. ореб убивает его и, чтобы очиститьс€ от крови, идет в ƒельфы. ѕифи€ повелевает ему вз€ть на плечи треножник и нести его, доколе он не упадет под ношей, а где упадет Ч воздвигнуть св€тилище јполлону. “ак основан был оребом город “реножников (Τριποδίσκοι) в ћегариде; гробница геро€ была предметом почитани€ в ћегаре. ”стран€€ из рассказа черты дельфийской переработки, открываем в основе его факт оргиастического детоубийства, воспоминание о котором св€залось с простонародными обр€дами плача по Ћину и с причитани€ми, подражание коим находим в припеве Ёсхилова хора, вспоминающего жертвоприношение »фигении: Ђплач сотворите, но благо да верх одержитї. ѕредание о страстнόм герое использовано ƒельфами в цел€х искоренени€ дикого оргиазма и насаждени€ гармонической религии двуединого дельфийского божества, знаменуемой треножником, символом светлого ‘еба, вещей «емли и погребенного ƒиониса.
ћистическое сли€ние братьев-соперников в двуипостасное единство было намечено дельфийским жречеством в экзотерической форме внешних доказательств нерушимого союза и особенно в форме обмена св€щенными атрибутами и знаками соответствующих божественных энергий. «адолго до ‘илодама, јполлон Ч уже у Ёсхила (fr. 341 Nauck) Ч Ђплющеносец и вакхї (ὁ κισσέως Ἀπόλλων, ὁ βακχέως, ὁ μάντις). Ќа керченской вазе оба юных бога подают друг другу руки под дельфийской јполлоновой пальмой, над Ђпупом землиї. ќтсюда и культовое сочетание ƒиониса с јсклепием: возникает ƒионис Ч Ђврач, ѕеоний, целительї (ἰατρός, Παιώνιος, ὑγιάτης). ƒельфийский оракул заповедует чтить его как Ђврачевател€ї. ¬прочем, в этом качестве он был издавна известен в јмфиклее; ћеламп, в свою очередь, олицетвор€ет дионисийскую медицину. √ерой страстей, јсклепий, исцелитель дионисийских ѕройтид (р€дом с ћелампом) не тер€ет однако своего отца јполлона, но получает в воспитатели ƒиониса.
ѕр€мое провозглашение дельфийской теократии, если не видеть таковой, например, в культовом Ђпэанеї ƒионису поэта ‘илодама, известном по надписи IV века, где припев Ђεὐοῖ ὦ ἰό Βάκχї (ќ, благой ¬акх!) смен€етс€ аполлонийским Ђἰέ Παιάνї (ќ, »збавитель!), Ч мы находим лишь в позднюю эпоху, когда никака€ теократи€ уже никого не удивл€ет. ќ ѕарнасе поет Ћукан:
–итор ћенандр так обращаетс€ к многоименному богу вдохновенных восторгов: Ђƒионисом зовут теб€ фиванцы, дельфийцы же чтут двойным именем: јполлон и ƒионис. ¬округ теб€ дикие звери (дельфийский волк и вакхическа€ пантера), вокруг теб€ фиады, от теб€ и луна приемлет лучи (разумеетс€ прадионисийска€ сопрестольница и јполлонова сестра, јртемида)ї. Ќо и по словам ѕавсани€ парнасские фиады твор€т радени€ на вершинах горы совокупно ƒионису и јполлону.
7. Παλίντονος ἁρμονίη ¹⁴
”твержденна€ в ƒельфах иде€ божественного двуединства јполлона и ƒиониса вошла в плоть и кровь эллинства. „то же такое был этот союз в конечном счете? –елигиозно-политический компромисс? Ќесомненно, но без дурного умысла и лицемерного расчета. Ќапротив, в основе его лежало мистическое утверждение некоей в божестве установленной антиномии. √армони€, которую созерцать дано богам и осуществл€ть предоставлено люд€м, была, конечно, не осуществлена, но все же ознаменована, и жизнь отлилась в формы этого ознаменовани€: это было кумиротворчество гармонии, ее εἴδωλον (образ) и как бы зеркальное отражение. ќтсюда Ђэстетический феноменї античности. ƒионис поистине лежал погребенным под дельфийским порогом; и когда воскресал Ч воскресал с душами, которых выпускал из темных врат, и в душах, которыми овладевал, и они видели, отторгнутые от земли, слепительные епифании духа. Ќо на земле ему не было места, где преклонить голову; его только непрестанно и пышно отпевали, и восхищатьс€ им любили понаслышке, не зазыва€ к себе в слишком близкое соседство: его демоническое веселье было опасно, как огонь в доме. ƒаже в художестве гениальна€ непредвиденность (не все же были Ёсхилы, чтобы лепить Ђво хмелюї титанов) была слишком ненадежна, и потому к ней приставлен был дл€ надзора аполлонийский канон.
____________________________
[14] παλίντονος ἁρμονίη Ч напр€женна€ гармони€ (παλίντονος ἁρμονίη κόσμου ὥσπερ λύρης καὴ τόξου Ч мирова€ гармони€, в которой, подобно лире и луку, напр€жение чередуетс€ с ослаблением. Heracl. ap. Plut.)
ƒионис был не от сего мира. ќн хотел божественной жизни и делал ее действительно божественной, как только к ней прикасалс€: чудесно воспламен€лась она тогда и, как вспыхнувша€ бабочка, превращалась в пепел. ћногие эллины Ч и это были лучшие в эллинстве Ч думали, как √Єте, который славил Ђживое, тоскующее по огненной смертиї; но большинство, предпочита€ менее сильные ощущени€ превращаемости, выработали особенное и как бы дипломатическое отношение к ƒионису, которое издавна обманывает научившихс€ по-гречески анахарсисов, не догадывающихс€, что больша€ часть античных суждений о ¬акхе Ч осторожное лукавство и лишь притворство напускной беспечности, и вообще сдержанность, предписываема€ часто простым тактом. –ешительно, слишком многого не следовало касатьс€, произнос€ ƒионисово им€, которое было, однако, неизбежно у всех на устах. ƒионис и жизнь Ч это было опасное сочетание, напоминающее любовь —емелы. огда ƒионис выступал законодателем, он требовал невозможного, которое единственно ему по нраву: к политической де€тельности он был €вно неспособен. ¬се божества олицетвор€ют закон; все они Ч законодатели, и закономерны сами. ќдин ƒионис провозглашал и осуществл€л свободу. ќтрицание закона, противоположение ему свободы есть в дионисийском античном идеале черта христиански-новозаветна€. »бо ƒионис-освободитель не м€тежен и не горд, и так нисходит к люд€м, как к своим кровным, и так же восходит к отцу, в котором пребывает: ведь «евс и ƒионис, по коренному воззрению эллинов, одна сущность, даже до временного или местного сли€ни€ самих обличий.
ƒельфийское определение сыновнего лика дало как бы химическую формулу души эллинства. »менно таково ее Ђсмешениеї (κρᾶσις): два жизнетворческих начала соединились в ней Ч ƒионис и јполлон. Ќо как различна была судьба обоих! Ќа долю Ђбогаї, только Ђбогаї, выпало вселенское, но не божественное Ч мы бы сказали, архангельское Ч посланничество: завершить в идее, осуществить в полноте €влени€ и довести до исторических пределов поприща во славе Ч античную культуру, во всем полновесном значении этого огромного слова, Ч потом же проси€ть и застыть в уже бездушном отражении далеким и гордым Ђидоломї золото-эфирной гармонии, чистым символом совершенной формы. ј ƒионису, богу нисхождени€ и потому уже скорее Ђгероюї, чем Ђбогуї, на роду написаны вечно обновл€юща€с€ страстнဠсмерть и божественное восстание из гроба. ƒионисийство, погребенное древностью, возродилось Ч не на одно ли мгновенье? Ч в новозаветности, и все видели ƒиониса с тирсом-крестом. ѕотом он куда-то исчез; есть племена, мисты коих вер€т, что он все где-то скрываетс€ и его можно найти, Ч там, где всего менее ждешь его встретить. ¬о вс€ком случае, то его возрождение в дни Ђумершего ѕанаї было реально, а потому и не формально, т.е. не в старых формах, а в новой маске. »бо реальности, почитаемые божественными, на самом деле только Ђгероическиеї, т.е. страстные ипостаси единого Ens realissimum; те же, что не страдают, Ч не реальности, Ђсущие воистинуї, а только отражени€ божественных идей, вечно-сущих форм станов€щегос€ быти€.
_______________________________
ƒ»ќЌ»— ¬ Ћ”„≈¬ќ… ќ–ќЌ≈

јнтиох VI ƒионис Ёпифан (145-142 до н.э.). —ири€ (√осударство —елевкидов). Æ 22mm (8.40g).
Av: голова јнтиоха VI в образе ƒиониса, в венке из плюща и лучевой короне;
Rv: слон держит хоботом факел; BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY EѕI‘ANOYΣ ΔIONYΣOY / ΣTA
_______________________________

–одос (Ῥόδος), ари€. Æ 35mm (19.83g), I в. н.э. ћагистрат “имострат.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: цветок розы; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY (ταμία Τειμοστράτου).
_______________________________

–одос, ари€. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. ћагистрат √ипсикл.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылата€ Ќика стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / ΕΠΙ ΥΨΙΚΛΗΟΥC
_______________________________
_
–одос, ари€. Æ 34mm (20.26g), I в. н.э. ћагистрат “имострат.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: цветок розы; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY
_______________________________

–одос, ари€. ƒрахма (Æ 35mm, 26.42g), I в. н.э. ћагистрат “имострат.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылата€ Ќика с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY
_______________________________

–одос, ари€. ƒрахма (Æ 35mm, 25.58g), 31 до н.э. Ц 60 н.э. ћагистрат ƒамарат.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылата€ Ќика с пальмовой ветвью и лавровым венком; POΔIΩN / EѕI TAMIA ΔAMAPATOY (ἐπί ταμία Δαμάρατου).
_______________________________
ƒ»ќЌ»— » ѕ–јƒ»ќЌ»—»…—“¬ќ
II. ƒ≈Ћ№‘»…— »≈ Ѕ–ј“№я
1. «мий и змиеубийца
јполлон овладевает дельфийским прорицалищем чрез убиение его стража (φύλαξ, φρουρός) и обладател€, хтонического зми€ Ч ѕифона (Πύθων). ѕод чудовищной личиной Ђвещегої (от πεύθομαι), как обычно понималось это им€, дракона (μαντικόν δαιμόνιον, по √есихию), или Ч по √омеридам Ч смрадный (от πύθω Ч гнить), вредоносной змеи (δράκαινα) нелегко распознать затемненные, уже в гомерическом гимне пифийскому јполлону, черты дельфийского пра-ƒиониса.
«миеубийца, согласно закону мистических отношений между вакхом-жрецом и ƒионисом жертвенным, исполнилс€ духом последнего: с той поры стал он вещуном и гадателем. Ќо в круге дионисийских представлений ипостась жреческа€ столь же причастна божественным Ђстраст€мї, как и ипостась жертвенна€: јполлон, поскольку он введен в этот круг, должен усвоить себе нечто от антиномической сущности страдающего бога. —ветозарный олимпиец, отвращающийс€, по слову Ёсхила, от плачевных обр€дов и всего имеющего отношение к сфере подземной с ее Ђсквернойї (μίασμα), должен соприкоснутьс€ с миром загробным, им Ђосквернитьс€ї (μιαίνεσθαι) и потом от него же Ђочиститьс€ї. “е, кто не знали об этом приобщении јполлона подземной сфере, знали, тем не менее, об его очищении от драконовой крови, хот€ достаточно обосновать необходимость такового не могли; оттого, быть может, так и настаивают √омериды на мотиве Ђтлетворного духаї, Ч он был бы сам по себе μίασμα.
Ћогика культа была неумолима: оставалось только сделать ее следстви€ по возможности непроницаемыми дл€ непосв€щенных. јполлон нисходит в јид, что экзотерически изображаетс€ как его плен и кабала у јдмета (Ἄδμητος, Ђнеоборимыйї Ч эпитет јида). ѕиндар знает, что за насильственное овладение дельфийским оракулом √е€ искала низринуть јполлона в “артар. Ѕратоубийство не разделило братьев. ƒионис не гневаетс€ на своих трагических убийц, Ч он в них всел€етс€. ѕифону же должно было умереть, чтобы, исполнив свою страстную участь, вернутьс€ к эллинам преображенным и новым.
„то ѕифон не чудовище, уничтожение коего Ч заслуга геро€ или бога (как изображает это де€ние упом€нутый гимн VI или конца VII века), €вствует из религиозных почестей, «мию присужденных, из почитани€ его гробницы, как и из очистительного возмезди€, понесенного убийцей. ѕлутарх, говор€ о Ђвеликих страст€х божеств, или демонов (δαιμόνων πάθη μεγάλα)ї, сообщает дельфийское эзотерическое толкование јполлоновой кары: не дев€ть кратких земных лет (ἐννεάτηρις, по сакральному летоисчислению, фактически Ч восемь) должен был провести бог опальным изгнанником в “емпейской долине, но на дев€ть великих годов (космических периодов) сошел он в иной мир, дабы, смертью смыв с себ€ прокл€тие (ἄγος), вернутьс€ потом на лицо земли воистину ‘ебом (αληθώς Φοίβος), т.е. светлым и непорочным, и воцаритьс€ над прорицалищем, коим дотоле временно правила ‘емида.
Ёта поздн€€ мистика восходит в основе своей к исконному дельфийскому преданию, преломившемус€ через призму раннего орфизма, вли€ние которого на ƒельфы узнаетс€ по многочисленным следам. ќсновное в ней Ч взгл€д на смерть ѕифона как на божественные страсти и представление о страстнόм сошествии јполлона в подземное царство. ќвладение пророчественным даром земли, прорицалищем недр земных (μαντεῖον χθόνιον) обусловлено было дл€ пра-ƒионисова преемника частичным уподоблением, ассимил€цией ƒионису как Ђбогу-героюї, т.е. богу, претерпевающему страдание и смерть. “акова предпосылка того теснейшего единени€ между дельфийскими брать€ми-сопрестольниками, которое в религии ƒельфов равносильно признанию обоих двум€ сторонами, лицами или ипостас€ми единой божественной силы.
2. ѕричины ‘ебова овладени€ ƒельфийским оракулом. Ѕог-очиститель.
Ѕорьба и примирение дельфийских братьев Ч основное событие, обусловившее расцвет классической Ёллады. ѕочему ƒельфам нужно было именно это культовое соединение? » если дионисийский элемент был там изначала дан, почему нельз€ было ограничитьс€ развитием его одного, и потребовалось сделать столько уступок јполлону? ”ступки же эти таковы, что поистине образование дельфийской религии кажетс€ делом искусственным, плодом сознательной религиозной политики, клонившейс€ к возвеличению делийца насчет умаленного и обедненного ƒиониса. аким цел€м служило это возвеличение, и как возможно было это обеднение?
ќтвет на последний вопрос непосредственно вытекает из того обсто€тельства, что дионисийство, уже полное своеобразного содержани€, было еще только прадионисийством и, как бы чреватое богом, в себе его вынашивало, в то врем€ как, обратно, религи€ јполлона, еще нуждавша€с€ в ближайшем определении своего божества, умела, тем не менее, призывать его по имени и живо представл€ла себе его устойчивый, как бы вычерченный из света облик. Ќа вопрос же о целесообразности јполлонова прославлени€ и обогащени€ можно ответить в самой общей форме так: иде€ дионисийской беспредельности, чтобы стать вполне конкретной и действенной, требовала Ђсвоего другогої, Ч противоположени€ тому и взаимодействи€ с тем, что именно не есть ƒионис.
» прежде всего јполлон был нужен как его восполнитель, потому что представл€л собой силу пор€дка очистительного. —трастное, Ђпатетическоеї состо€ние нуждаетс€, помимо того катартического исхода, который оно, при известных благопри€тных услови€х, обретает в себе самом, еще и в катартике внешней. –азнуздание дионисийских сил не только грозило гибелью, как личност€м, так и общественным группам, но и с формально-религиозной точки зрени€ требовало посторонних очищений. ѕриходилось считатьс€ не с теми уже упор€доченными €влени€ми давно устроенного культа, знакомыми нам из эпохи более поздней, которые сами по себе преследуют цели внутреннего разрешени€ аффектов; дело шло, напротив, о стихийных вспышках разрушительного огн€, о бур€х неукрощенного древнего хаоса, об аномали€х сознани€ и слепом нарушении творимых гражданственностью норм общественного уклада и душевной гигиены. ƒионисийство бессильно было развить из себ€ начала этические; оно не имело в себе и неподвижности, необходимой дл€ обосновани€ религиозного авторитета. —троить на нем как на некоем камне было нельз€; а ƒельфы задумали великое строительство.
¬о чье же им€ надлежало им его предприн€ть? Ќе во им€ ли того, кто сам еще не имел имени? Ќо от ƒиониса можно было только пророчествовать, а не законодательствовать. ј между тем в двери св€тилища уже стучалс€ обу€нный Ёрини€ми ќрест. Ќужны были Ч властный глагол, скрижаль непреложна€, сильна€ и уверенна€ защита кого-то строгого, чуждого и светлого, кто, по слову старцев в Ёсхиловом Ђјгамемнонеї о Ћоксии, Ђуходит от плачаї и чуждаетс€ вс€кого безмерного, особенно меланхолического возбуждени€, кто повелительно требует от своих поклонников самообладани€ и душевного равновеси€, кто, став однажды заступником, Ђне выдаст и не изменитї, как говорит о том же јполлоне Ёсхилов ќрест. то он, в длинных спокойных складках белой одежды, сильный убелить одежду мол€щегос€, хот€ бы она была забрызгана кровью, и зачурать его своим светом от порождений мрака, успокоить ропот мертвых и вернуть живого живым, оградив его от слишком ощутительных вли€ний царства подземного? “аким избавителем и исцелителем отчасти уже был, отчасти мог стать один Ч ‘еб-јполлон.
√омерический проэмий (προοίμιον, прелюди€) к јполлону пифийскому Ч историческое свидетельство: древнейша€ организаци€ дельфийского св€тилища определ€етс€ вли€нием рита. Ѕык, культ которого сохранилс€ в ƒельфах, и дельфин, присво€емый јполлоном стародавний символ островной прадионисийской религии, подтверждают повествование √омеридов. рит€не были великими Ђочистител€миї, как о том свидетельствует легенда о ’рисофемиде или знаменитый пример позднейшего Ёпименида. »так, казалось бы, достаточно было критского воздействи€, чтобы развить в ƒельфах из исконно местного оргиазма систему очищений, составл€вшую потребность времени. “ем не менее, ни божество идейского «евса, ни божество самого ƒиониса не могло послужить краеугольным камнем созидаемого оракула. Ёпоха додонского «евса была пережита; нова€ концепци€ всевышнего отца не закончена; критский «евс непон€тен эллинству; едва намечающийс€ ƒионис неустойчив и опасен. ¬озможно и веро€тно, что крит€не посредствовали между ƒельфами и делийским богом, ибо уже раньше были религиозными устроител€ми ƒелоса.
—ила имени јполлонова была испытана. Ќедаром малоазийские аэды (ἀοιδός, певцы) его избрали своим покровителем: он оказалс€ могущественным и грозным защитником, этически нормативной духовной властью, снискавшей всеобщее признание, Ч богом междуплеменным и сверхнародным, а потому и общенациональным преимущественно перед коренными божествами старинной родины, Ч богом, наконец, более формальным, так сказать, по своей идейной сущности, нежели содержательным, легко вмещающим новое содержание, требующим раскрыти€ заложенных в его первообразе возможностей и потому в общине певцов охотно обмен€вшим звучный лук на кифару √ерми€, которой изобретатель не дорожил. јполлону можно было придать р€д новых атрибутов и, прежде всего, отдать в его ведение мантику, собственность дионисийских женщин, от коих жречество должно было стать по возможности независимым. —трашный и светлый, јполлон-губитель¹ был вместе и целителем, ѕеаном.² ƒревнейшие староотеческие пеаны были перенесены малоазийскими поселенцами на бога из страны света, Ћикии: он сам стал ѕеан. Ёто обсто€тельство имело решающее значение; народ, в своей наиболее предприимчивой и передовой части, в лице заморских колонистов, давно забывших хтонические и героические предани€ и призраки, св€занные с могилами старой родины, Ч обрел искомого Ђочистител€ї; Ёфиопида уже знает очищени€ от пролитой крови.
____________________________
[1] √убительные свойства јполлона происход€т от созвучи€ его имени (Ἀπόλλω) с ἀπολλύω. Ёсхил в Ђ“рагеди€хї, в отношение јполлона (устами ассандры), употребл€ет слово ἐπόλλων, т.е. Ђгуб€щийї, что так же несет в себе созвучие с его именем.
ѕутей страж раз€щий,
—разивший мен€ на смерть, мой бог!
(Ёсхил. Ђ“рагедииї. ѕер. ¬. »ванов)
ἀπόλλυμι (ἀπ-όλλῡμι) Ч губить, уничтожать (οἱ ἀπολλύντες Soph. Ч убийцы);
ἀπώλεια (ἀπ-ώλεια) ἡ разрушение, уничтожение, гибель (ἀ. καὴ φθορά Arst.);
[2] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών Ч »сцелитель.
этому присоединилось, наконец, и другое основание величайшей важности: јполлон должен был перевесить вли€ние ƒиониса, бога женщин, потому что был вождем и поборником мужчин; он был на стороне ќреста и отцовской власти против преобладани€ женских прав и св€тыни материнства в религиозном сознании народа. »так, с јполлоном можно было твердо и законодательно св€щенноначальствовать над всеми племенами и общественными сло€ми эллинства, ответить запросам эпохи и поработить исконных властительниц дельфийской области Ч фиад.³ „то дельфийское жречество с политической дальновидностью избрало то богопочитание, которому принадлежало переживаемое врем€, видно и из того, что другим центрам жречества, отстранившимс€ от јполлона, как, например, феспийскому, с его глубочайшим преданием о Ќочи и Ёросе и культом бога-Ѕыка (ƒиониса), не удалось достичь всенародного признани€. ”зурпаци€ же ƒионисовых досто€ний в јполлонову пользу была легка: кому принадлежит власть очистительна€, за тем остаетс€ во всем последнее, решающее слово; у него в руках ключи от божественных сокровищниц, он один разрешает и в€жет. “ак творилс€ Ђантичный ¬атиканї.
____________________________
[3] θυϊάς (-άδος)
1) adj. f исступленна€, неистова€ Plut.;
2) ἡ тиада, неистовствующа€ вакханка Aesch.
3. јполлон и ѕифи€
»значальный женский культ парнасских фиад и киферонских менад был оргиастическим и человекоубийственным служением той же подземной богине Ќочи (Nύξ), котора€ чтилась и в беотийских ‘еспи€х как один из аспектов ћатери-«емли, √еи (Γῆ, дор. Γαῖα). ¬прочем, им€ этого женского божества в ƒельфах едва ли возможно с точностью установить, Ч божество —тикс (Στύξ, Ђ”жасныйї) не было от него по существу различно; к тому же сама€ природа его требовала или полного безмолви€ о нем, или эвфемизмов (как, напр., Eὐφρόνη Ч ночь, досл. Ђблагосклонна€ї). Ётому культу свойственны были экстатическое пророчествование, ночные радени€ и почитание змеи; отсюда с незапам€тных времен существовало в нем, конечно, и представление о ѕифоне. Ќо от иерогамического зми€ родитс€ на орги€х фиад (ликнофори€х)⁴ младенец. ѕо обретении человекоподобного оргиастического бога служительницы Ќочи станов€тс€ вакхическими менадами, и ѕифон разоблачаетс€ им как ƒионис.
ѕо схолиасту ѕиндара, ƒионис раньше јполлона пришел в ƒельфы как провещатель (πρόμαντις) Ќочи: через него прорицает богин€ Ќикта (Νύκτα), как после него через ѕифона Ч богин€ ‘емида (Θέμιδα). ќтсюда первые пам€тные преданию менады в ƒельфах: ћелена (Mέλαινα) и ‘и€ (Θυῖα)⁵ Ч Ђ„ерна€ї и Ђќбу€нна€ї. ѕоследн€€ знаменует уже пришествие ƒиониса; перва€, более древн€€, чем ƒионис, представл€ет исконный культ темной богини.
____________________________
[4] Λικνοφόρια Ч приношение корзин с первинками плодов на дионисийских празднествах;
[5] Θυῖα, ион. Θυίη ἡ “и€ (дочь ефиса, мать ƒельфа (от јполлона), мифическа€ учредительница празднеств в честь ƒиониса) Her.
—ама сила прорицательна€ принадлежит по-прежнему Ќочи; Ђпровещательї Ч только голос и глагол ее, €зык изрекающий (ἑρμηνεύς, истолкователь). «десь јполлон по праву становитс€ на первое место: все изреченное и изрекаемое в его власти более, чем во власти ƒиониса, который сам слишком глубоко погружен в ночь. ѕравда, с развитием чисто-аполлонийской идеи это представление вытесн€етс€ другим, ближе отвечающим природе и достоинству бога-сына: ему невместно быть только устами «емли или голосом Ќочи, он Ч слово отчее. “ак, јлкеев гимн, пересказанный √имерием, изображает его посланником «евсовым к эллинам, провозгласителем непреложных «евсовых уставов, и, по словам Ёсхиловой ѕифии:
Ђ¬ступил четвертым Ћоксий во св€тилище,
ѕророком «евса: отчее вещает сын.ї
(Ёсхил. Ёвмениды, 18)
ѕо новой концепции, ѕифией овладевает јполлон уже как начало самобытно-действенное: она говорит то, что внушает ей он, а не божество темных недр. Ѕорьба с древним ѕифоном понимаетс€, с этой точки зрени€, как преодоление Ђхаосаї Ђлогосомї. Ќо последовательное проведение этого принципа было невозможно в пределах эллинской религии: он противоречил ее коренным историческим основоположени€м.
ѕосле экстатических восклицаний Ёсхиловой ассандры (в трагедии Ђјгамемнонї), кажущихс€ хору аргивских старейшин бессв€зными и непон€тными, наступает внезапно мгновение, когда пророческа€ речь, по словам самой пророчицы, сбрасывает с себ€ покрывало, под которым она таилась как невеста, и называет вещи и событи€ их именами, определительно, без загадочных намеков и иносказаний: это аполлонийский момент в мантике. ѕифи€ Ч прорицательница (προφήτης) Ч осталась в своей глубочайшей и непокорной, недоступной јполлону сущности голосом Ќочи, но подле нее стали жрецы €сного ѕровещател€, толмачи и истолкователи Ч ὑποφῆται. ѕодчинение исступленной вещуньи јполлону было насильственным: ассандра, к которой он воспылал страстною любовью, обманывает Ћокси€ посулом женских ласк и не держит обета; за что бог, прежде всего, карает ее тем, что никто не верит ее правдивым вещани€м, Ч хот€, по изображению Ёсхила, самый дар вещани€ был даром любви влюбленного бога, Ч а потом приводит ее к плахе, во исполнение неизбежных Ч однако, именно дл€ дионисийской героини Ч Ђстрастейї (πάθη). ¬нутренние противоречи€ исторического предани€ поэт преобразил в роковые противоречи€ трагической участи. “о же отношение к јполлону сквозит и в других мифах.
ѕифи€, по ѕиндару (Pyth. VI, 106), дельфийска€ Ђпчелаї (μέλισσα), и Ђпчелыї стро€т в ƒельфах јполлону чудесный храм, который он переносит к √иперборе€м (Paus. X 5, 9); но Ђпчеламиї экстатические женщины могли именоватьс€ только в качестве служительниц ƒиониса или јртемиды. Sibylla ¬ергили€, насильственно (stimulis) принуждаема€ ‘ебом пророчествовать Ч кумcка€ (отожествленна€ с эритрейской) сибилла ћеланкрера,⁶ Ч девственна€, т.е. не отдавша€с€ јполлону менада, как о том свидетельствует и ее мрачное им€, и ее Ђподземный чертогї (θάλαμος κατάγαιος). Ћикофрон называет метафорически ассандру Ђкларийской, т.е. јполлоновой, менадой (μιμαλλόνος) и устами ћеланкрерыї. ќчевидно, последн€€ приурочена к јполлонову культу только после того, как јполлон овладел всею мантикой. —казание об аполлонийской пророчице ќрфе (Oρφή, им€ из круга ночи), на которую ƒионис навел свое безумие, также обличает исконно-дионисийскую природу женского вещани€ Ђот јполлонаї.
Ёто јполлоново овладение досто€нием ƒионисовым сказалось и в мифе о ƒафне. ƒафна, дочь «емли, исконной обладательницы дельфийского оракула, котора€ посв€щает ее в πρόμαντις, Ч душа пророчественного лавра, могущего причин€ть и безумие. ≈е природа горной нимфы, вдохновл€емой вещею мудростью матери, и ее бегство от преследующего ‘еба⁷ также указывает на принадлежность ее дионисийскому кругу.
____________________________
[6] ћеланкрера Ч дочь ƒардана и Ќесо, им€ кимской (κυμαῖος) сивиллы.
σίβυλλα ἡ сибилла или сивилла (вещунь€, пророчица) Arph., Plat., Arst.
[7] Δάφνη ἡ ƒафна, нимфа; (спаса€сь от преследовани€ влюбленного в нее јполлона, была превращена в лавровое дерево) Luc.
ѕелопоннесска€ верси€ мифа выдает нечто большее: первоначально некий преследователь лесной охотницы претерпевает Ђстрастиї, став жертвой дев, подруг ее: другими словами, первоначально влюблен в нее не јполлон, а ƒионис. ƒионисийское (јктеоново) существо преследовател€ окончательно обнаруживаетс€ переодеванием его в женские одежды (он хочет овладеть дубравной нимфой, охот€сь в сонме ее сверстниц, дл€ чего отпускает себе и длинные волосы) и убиением его ножами и копь€ми. ”частие јполлона в обличении перер€женного Ћевкиппа Ч черта, придуманна€ дл€ установлени€ св€зи между дионисийским и аполлонийским мифом, но отразивша€ антагонизм обоих божеств. ѕрибавим, что миф о ƒафне естественно перенесен на јполлона, потому что ƒионис мыслитс€ здесь как солнечный бог (как Ђбелоконныйї, Λεύκιππος, а не Ђчерноконныйї, ћελάνιππος, јрейон), сообразно с солнечной природой лавра, изгон€ющего духов подземного царства.
ќтчуждение јртемиды, исконной сопрестольницы ƒионисовой и предводительницы женских оргиастических сонмов, в пользу јполлона, сестрою которого она становитс€, отразилось в ƒельфах тем, что на вершине двуглавого ѕарнаса, посв€щенной ƒионису, воздвигнуто было (быть может, впрочем, в относительно позднюю эпоху) св€тилище ƒионисово, а на вершине ‘ебовой Ч совместное св€тилище јполлона и јртемиды. Ќаконец, говор€ об отторжении значительной части сакральной сферы женского экстаза от ƒиониса и о подчинении ее јполлону, надлежит вспомнить ћуз, увенчивающихс€ на √еликоне тем самым лавром, который, как мы видели, был унаследован ‘ебом от ƒиониса. ћузы, образовав хор јполлона ифарода (κιθαρῳδός), но сохранив, однако, по местам и свои отдельные культы и празднества, не утратили окончательно своей древнейшей св€зи с богом оргий, какова€ обнаруживаетс€, например, в отношени€х ћельпомены к ƒионису-ћельпомену. ’ор —офокловой Ђјнтигоныї, поведав о фракийском Ћикурге, как этот дикий нарушитель св€тыни радений Ђжен боговдохновенных гнал и угашал огонь св€тойї, продолжает: Ђи ћуз свирельниц прогневилї. ћузы приравнены здесь к менадам и вз€ли в руки вакхические флейты вместо јполлоновых лир. ћузы Ч пестуньи ¬акха, по ƒиодору (IV, 4). —ынами ћуз, кроме ќрфе€, €вл€ютс€ дионисийский герой –ес и дионисийский лирник Ћин. ƒионис на дифирамбическом Ќаксосе Ч хоровожатый ћуз (Μουσηγέτης). ћузы в плющевых венках вокруг ƒиониса представлены в дельфийском пэане ‘илодама (IV в). Ќа одном геликонском камне, под посв€щением ћузе “ерпсихоре, читаем:
Ђѕлющ “ерпсихоре приличен, а Ѕромию сладка€ флейта:
≈й вдохновени€ дар, звонкие чары ему.ї
—ообщение ѕлутарха, что на празднестве орхоменских јгрионий ƒионис объ€вл€етс€, после тщетных поисков, убежавшим в обители ћуз, приоткрывает глубокую старину. “акова же и обмолвка ≈врипида о принесении »тиса ѕрокною в жертву ћузам: сладкогласный соловей естественно воспринимаетс€ как служитель ћуз; но растерзание »тиса издревле дионисийский миф; очевидно, ћузы и ƒионис мысл€тс€ оп€ть, как в ќрхомене, нераздельно.
Ёсхил, по-видимому, знает, что до прихода јполлона в ƒельфы св€щенна€ пустынь принадлежала оргийным сонмам поклонниц ƒионисовых. ¬ мифологической истории прорицалища, с которой начинаетс€ трагеди€ ЂЁвменидыї, поэт говорит устами ѕифии по поводу арикийской пещеры на ѕарнасе как о чем-то, что надлежит держать в пам€ти:
Ђ—их мест владыка Ѕромий, Ч не забыла €;
ћенад своих отсюда двинул бог в поход,
ѕенфе€, словно зайца, затравить судив.ї
»так, ƒионис обитает в отведенных ему после дележа угодь€х как исконный владелец парнасских нагорий. „то же до поры, предшествующей дележу, ѕифи€ называет только женские божества, владевшие дельфийским ущельем. Ёти богини суть: √е€, ‘емида (та же ћать-«емл€ в аспекте религиозно-этическом) и, наконец, ‘еба (Φοίβη),⁸ сестра јполлона по позднейшей версии, первоначально Ч сопрестольница ƒиониса. ƒругими словами, ƒионис древнее в ƒельфах, чем јполлон; женское же подземное божество древнее самого ƒиониса. » вместе это значит: от Ђпервовещуньи (πρόμαντις) √еиї до јполлоновой ѕифии культовое господство принадлежало в ƒельфах женщине. — эпохи ‘ебы существует дл€ нее, р€дом с великой богиней, еще и мужское, а именно ƒионисово, божество.
____________________________
[8] Φοιβάς (-άδος) ἡ жрица ‘еба, прорицательница Eur.; ex. ἡ Ἄρτεμις φοιβάς Plut. Ч веща€ јртемида.
φοῖβος 3
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) си€ющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.).
4. ќмфал
ѕифоновым гробом слыл дельфийский храмовой Ђомфалї (ὀμφαλός), €йцевидное каменное сооружение, трижды св€щенное: как средоточие јполлонова дома, как Ђпуп землиї, известный уже в эпоху ѕиндара, и как место очищений. Ђ—вежа€ скверна (μίασμα) матереубийства, Ч говорит Ёсхилов ќрест, Ч была смыта с мен€ у ‘ебова очага (ἑστία) очистительною кровью (καθαρμόι) жертвенной свиньиї (Eum. 282). ∆ивопись на вазах представл€ет ќреста сид€щим у омфала с мечом в руке, јполлона Ч держащим над его головой молодую свинью, неподалеку дремлют Ёринии. ѕоследние у Ёсхила кор€т бога-очистител€ за то, что по его произволу Ђпуп «емли сделан стоком ужасного прокл€ти€ (ἄγος) преступно пролитой кровиї (Eum. 166). ќмфал √еи аналогичен римскому mundus. Ч Ќыне мы знаем, что омфалами вообще назывались куполообразные своды (θόλοι) гробовых склепов, какие сооружались еще в микенскую эпоху: Ђпупї јполлонова храма был издревле чтимой гробницей некоего хтонического божества. Ђ√робница же богаї, по гениальной догадке Ёрвина –оде (Psyche I, S. 130), Ч Ђне что иное как пещера, где он живетї. Ёто представление выражает зме€, нередко обвивающа€ омфалы.
ѕод пророческим жертвенником, находившемс€ уже в сокровенном св€тилище (ἄδυτον) храма, был пещерный склеп (ἄντρον), почитаемый, по ‘илохору (III в.), за гробницу ƒиониса. Ќо паломники, по-видимому, смешивали обе могилы Ч Ђпупаї и Ђуст «емлиї (στόμα √ῆς). ≈сли один только, и притом ненадежный, свидетель (“атиан) принимает омфал за гроб ƒиониса, зато и √игин, и —ервий полагают, что под треножником погребен ѕифон. —оглаша€сь с –оде, что наиболее достоверна€ традици€ (у ¬аррона: omphalos Pythonis tumulus, Ђомфал Ч могильный камень ѕифонаї) сочетает омфал с ѕифоном, а треножник с ƒионисом, мы спрашиваем, однако, чем объ€снить это смешение: не указывает ли оно на некоторую естественную теократию Ч темного ѕифона с не менее темным ƒионисом? ќ первом не знали наверно, что он за существо; эвгемеризм, самопроизвольно возникающий при попытке объ€снени€ божественных могил, заставл€л подозревать в нем страдального ведуна в образе одной из героических ипостасей ƒионисовых.⁹
____________________________
[9] ѕифон, отец јйкса (Aἴξ), пастырь черных коз (сравн. Διόνυσος Mελάναιγις), был владыкою вещего треножника, когда пришел в ƒельфы из Ћикии родившийс€ на ƒелосе јполлон и стал пасти стада ѕифона: контаминаци€ с мифом о пастушеской службе у јдмета, подтверждающа€ характеристику ѕифона как подземного ƒиониса. Plut. quaest gr. 12.
αἶξ (αἴξ, αιγός, эп. dat. pl. αἴγεσιν) ἡ козел) Hom., Arst., Plut.
ќбщераспространенного этиологического мифа, который бы оправдывал существование в ƒельфах могилы —емелина сына, не было. тому же в других местах мысль об омфале роднитс€ по преимуществу с представлением о ƒионисе. ≈му, по сообщению ѕавсани€, принадлежал во ‘лиунте древний храм невдалеке от пелопоннесского омфала; там же встречаем целое гнездо дионисийских св€тынь и св€занных с ними легенд об јмфиарае, ќйнее, √еракле; там јмфиарай впервые начал пророчествовать. Ќа вазах IV века с изображением элевсинского омфала ƒионис или сидит на нем, или стоит подле. јнтиной в том же положении на позднейших элевсинских изображени€х пон€т, очевидно, как Ђновый ƒионисї (νέος Διόνυσος). ѕравда, на древнейших надпис€х (πινακίς) ƒиониса близ омфала нет Ч быть может, их соотношение в Ёлевсине еще было Ђсокровеннымї (ἄρρητος), Ч но самый омфал кажетс€ подражанием ƒельфам и вместе коррективом дельфийского культа (поскольку в Ёлевсине он отдан его правомочному владельцу), если не разоблачением тайного предани€ дельфийских жрецов ƒиониса, так называемых ὅσιοι (Ђотшельникиї).
„то до ƒельфов, самый факт удвоени€ изначала данной могилы ѕифона могилой неопределенного ƒиониса в смежном св€тилище обличает потребность различить и вместе сблизить обе таинственные сущности, нераздельно сливающиес€ в одном представлении о доаполлоновском, дионисийском по своим корн€м, но отличном от позднейшей исторической формы ƒионисова богопочитани€ религиозном начале, которому подчинено было некогда дельфийское прорицалище. ќрфическое вероучение, оказавшее могущественное вли€ние на ƒельфы еще ранее, быть может, VI столети€, оставл€€ тайну ѕифона нераскрытой и только в обр€довой сфере знамену€ его теснейшую св€зь с ƒионисом, постулировало отдельную гробницу последнего в другом св€щеннейшем месте ƒельфов, Ч под пророческим треножником. ќ растерзанном “итанами отроке «агрее, предмирном ƒионисе, сыне зми€ Ч «евса и змеи Ч ѕерсефоны, орфики повествовали: или что сердце его было поглощено родителем, или что јфиной ѕалладой оно погребено было под горою ѕарнасом, или, наконец, что јполлон схоронил под той же горой останки божественного младенца. ѕоследн€€ верси€ могла послужить наиболее пригодным обоснованием тайнодейственного надгробного культа, имевшего характер Ђвызывани€ из мертвыхї (ἀνάκλησις), в дельфийском св€тилище, учрежденного едва ли не впервые именно орфиками.
—имволическое признание существенного тождества ѕифона с ƒионисом, при строгом различении первого как от ƒиониса-«агре€, так и от сына —емелина, входило, Ч можно думать, Ч в состав Ђнеизреченного предани€ї (ἄρρητος λόγος), хранимого ƒионисовыми жрецами храма (ὅσιοι), свершител€ми мистической жертвы, о которой ѕлутарх говорит: Ђдельфийцы вер€т, что останки ƒиониса поко€тс€ у них близ прорицалища (т.е. треножника), и жрецы ƒионисовы принос€т сокровенную жертву в храме јполлона, когда фиады буд€т Ћикнитаї, т.е. в ту пору, когда на ночных радени€х вакхические женщины, собравшиес€ на ѕарнасе, ищут, вызывают и потом лелеют на голове в колыбели-сите (λίκνον) новорожденного ƒиониса.
Ќека€ таинственна€ жертва в пещерных недрах дельфийского св€тилища принесена была, по Ћикофрону, еще јгамемноном, и царь вознагражден был за нее нарочитой милостью ƒиониса. ѕоследний был почтен јтридом, по-видимому, как бог-бык и вместе Ђгеройї (как ἥρως Διόνυσος Tαύρος, каковое сочетание мы находим в женском культе Ёлиды); ему, как погребенному богу, совершил јгамемнон свои возли€ни€, и также «емле и подземным (следовательно, и ѕифону). ќ пра-Ѕыке говорили орфики как о последнем превращении преследуемого “итанами «агре€. ¬ орфическом воззрении, основанном на древнейшем синкретизме териоморфических культов Ч исконного змеиного культа горных менад и культа критского, перенесенного в ‘ивах на всенародного ƒиониса, Ч между змием и быком устанавливаетс€ мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змий Ч хтоническа€ ипостась того же бога; бык в мире живых становитс€ змием в царстве подземном, чтобы снова возродитьс€ быком. ќтсюда изречение: Ђродитель зми€ Ч бык, быка родитель Ч змийї. ƒионис, в качестве Ђгеро€ї, был змием уже не у одних орфиков, но и в общенародном культе. »ерогамическим атрибутом менад на ликнофори€х служила зме€; новорожденный ƒионис мыслилс€ как ταυρόμορφος. “ак развитие ƒионисовой религии в ƒельфах сближало ѕифона с подземным ликом ƒиониса.
ƒельфийское обр€довое действо убиени€ ѕифонова (σεπτήριον), описанное ѕлутархом, весьма показательно. ѕифон предполагаетс€ обитателем хижины (καλιάς), что несомненно способствовало укреплению антропоморфического представлени€ о нем как о прадионисийском герое; эта хижина в св€щенном действе (δρώμενα) Ч то же, что в трагедии первоначальна€ Ђкущаї (σκηνή). ¬ обитель ѕифона, в сопровождении менад, именуемых стародавним минийским именем Ὀλεῖαι, с зажженными светочами в руках, тайком, проникает отрок, изображающий јполлона. ќпрокидываетс€ жертвенный стол, как это делалось в чинопоследовании оргийных таинств; хижина поджигаетс€ светочами, возникает см€тение, все опрометью бегут из дверей храма. ѕосле блужданий и полонени€ беглеца, над ним совершаетс€ уставное очищение. Ёто страстное действо (μίμησις πάθος), по своему строю и духу всецело дионисийское, восходит древнейшими част€ми своего состава к обр€дам фиад, как и два другие эннаэтерические празднества с их участием Ч √ероида (Ἡρωΐς) и ’арила (Χαρίλα), но в целом кажетс€ продуктом литургического творчества орфиков. ѕечатью их синкретического умозрени€ отмечено то уподобление јполлона ƒионису, при котором первый почти утрачивает свои отличительные черты и превращаетс€ в эпифанию второго как хоровожатого оргий, как »акха (Ἴακχος) элевсинских мистерий. ¬ римском надгробии из ‘илиппов мы встречаем сходный образ отрока со светочами в руках, как форму чаемой, согласно орфическим веровани€м, дионисийской апофеозы юного покойника в царстве душ:
Ђƒевы ль, тавром ƒиониса клейменные, отрока звали
¬ сонме сатиров играть на цветоносном лугу?
¬з€ли ль с кошницами нимфы участником таинств полнощных,
’оровожатым, с четой светочей смольных в руках?ї
»так, новый ƒионис действа жречески убивает своего прадионисийского двойника. ƒельфийский јполлон, в понимании орфиков, поистине Ч Ђƒионисодотї (Διονυσόδοτος Ч Ђдарующий ƒионисаї), как он именовалс€ в роде флиасийских Ћикомидов, хранителей древнейшего орфического предани€.
5. ƒионисийские прорицалища. ѕрава ƒиониса.
Ќекоторый свет на историю дельфийского јполлонова оракула проливает истори€ оракула в јмфиклее, принадлежавшего ƒионису. ќписыва€ этот последний, ѕавсаний (X. 33:9-10) сообщает местное фокейское предание о змии, от которого город получил название ќфитии. ¬ластелин той страны, охран€€ от вражеских козней младенца-сына, спр€тал его в сосуд (ἀγγεῖον) и укрыл в безопасном месте; волк угрожает дит€ти, но змий, обвившись кольцами вокруг сосуда, его оберегает. ѕришед однажды навестить дит€, отец видит на сосуде зми€, поражает его копьем и убивает одним ударом зараз и зми€, и младенца, Ч но, узнав от пастухов, что змий был верным стражем ребенка, сжигает на общем костре мертвого сына и его доброго пестуна. ¬ ќфитии, Ч продолжает ѕавсаний, Ч совершаютс€ оргии ƒионису, но кумира на виду нет, ни доступа в тайное св€тилище (ἄδυτον). Ѕог прорицает амфиклейцам и врачует недуги положенных в храме больных во врем€ их сна, Ч провещателем же (πρόμαντις) служит жрец, одержимый богом и изрекающий им внушенное.
¬олк легенды (коррел€т дельфийского волка) играет по отношению к младенцу роль знакомого нам двойника-преследовател€, Ћика или Ћикурга;¹⁰ культ хтонической змеи, пророчествующей из своего гроба, мы встречаем как по ту сторону ѕарнаса, в ‘ивах и других местах Ѕеотии, так и в ƒельфах, где им€ гробового зми€ Ч ѕифон. ≈сли в ƒельфах оракулом Ќочи и «ми€ овладевает јполлон и его вторжение задерживает и осложн€ет естественное развитие прадионисийской формы в дионисийскую, то в јмфиклее мы наблюдаем непосредственное сочетание хтонического и экстатического культа с религией ƒиониса. ¬еро€тно, что ƒионис, обретший свой общеэллинский лик и свое общеэллинское им€, был лишь позднее соединен с этим исконным культом, когда же это соединение произошло, прадионисийский змий в јмфиклее отожествлен был с ƒионисом. —хороненный в сосуде младенец есть погребенный ƒионис, он же и змий: убива€ зми€, отец убивает ребенка; костер младенца Ч костер зми€. —окровенное св€тилище заключает в себе гроб зми€ и младенца вместе. Ќад гробом совершаютс€ таинства Ќочи и страдающего бога-младенца в его страстнόм лике, зми€ Ч в лике бога живого в сени смертной. —мыкающим звеном между эпохой Ќочи и «ми€ и эпохой нового ƒиониса служит возникновение мифического представлени€ о божественном младенце, разоблачение зми€ как новорожденного человекоподобного бога.
____________________________
[10] λύκος ὁ волк (πολιός, ὠμοφάγος Hom.).
Λύκος ὁ Ћик, сын афинского цар€ ѕандиона, миф. родоначальник ликийцев Her.
Λυκοῦργος ὁ Ћикург, сын ƒрианта, царь племени эдон€н во ‘ракии. Ћикург прогнал из своего царства ƒиониса, убив его кормилиц, за что был ослеплен «евсом. (√омер. »лиада VI, 130)
јмфиклейский оракул сосредоточивает в одном фокусе разрозненные указани€, относ€щиес€ к дельфийскому, и не оставл€ет сомнени€ в правильности проводимого взгл€да на религиозно-историческую эволюцию последнего от ѕифона к ƒионису, остановить которую јполлоново начало было бессильно и в результате которой јполлонов оракул по существу стал дионисийским оракулом. –ассмотрим аналогичный случай дележа божественных братьев на почве другого древнего прорицалища. јполлон пифийский —отер (Σωτήρ), или спаситель (ἐπίκλησις хтонического бога), в јмбракии несомненно зан€л место первоначального ƒиониса, усвоив себе его черты, прин€в его темный облик. ќттого слывет он родителем ћелане€ (черного), отца ƒриопов; ћеланей Ч основатель дионисийской Ёретрии (Ἐρέτρια), стрелок сам и отец стрелка Ёврита. » характер имен, и мотив охоты сближают этих героев с ƒионисом-«агреем, диким охотником. „то прежде хтонического јполлона чтилс€ в јмбракии ƒионис и притом в своем древнем мрачном аспекте, очевидно и из уцелевшего с той поры двойного культа ƒионисовой сопрестольницы јртемиды, как √егемоны и јгротеры; последнее им€ пр€мо указывает на кровавые оргии и человеческие жертвы.¹¹ ѕример јмбракии свидетельствует, между прочим, в пользу древности мистической теократии двуединого дельфийского ƒиониса-јполлона.
____________________________
[11] ¬.»ванов, видимо, намекает на то, что этимологи€ слова ἀγροτέρα (охотница) св€зана не столько со словом ἀγρός (сельска€ местность), сколько со словом ἄγριος (дикий, жестокий).
ἀγροτέρα ἡ охотница (эпитет јртемиды) Pind., Xen.
ἀγρότειρα adj. f деревенска€, сельска€ (αὐλή Eur.).
ἄγριος 1) дикий; 2) жестокий, свирепый, лютый, злой; 3) неукротимый, необузданный, грубый; 4) мучительный, т€желый; 5) бурный, ужасный.
θήρα, ион. θήρη ἡ охота, звероловство; ex. ζῆν ἀπὸ θήρας Arst. Ч жить охотой; αἱ τῶν ἰχθύων θῆραι
Ќормальность эволюции прадионисийского оракула «емли в оракул ƒиониса подтверждаетс€, наконец, и примером мегарского Ђпрорицалища Ќочиї (Νυκτός καλούμενον μαντείον) в непосредственном соседстве храма ƒиониса ночного (Nυκτέλιος). ƒельфийский оракул ничем не отличаетс€, в принципе своей организации, от фракийских ƒионисовых оракулов, славившихс€ еще в римскую эпоху: в них одинаково пророчествовали пифии, окруженные жрецами Ч Ђпророкамиї, или Ђпровозвестител€миї (προφῆται). —прашиваетс€, однако: была ли эта эволюци€ в самом начале прервана в ƒельфах пришествием јполлона, так что ƒионису довелось впоследствии как бы сызнова завоевывать то, что естественно переходило к нему в наследственное владение от первопророчицы √еи, из чего следовало бы, что он €вл€етс€ там пришельцем извне и притом позднейшим, нежели јполлон, Ч или же в ходе этой эволюции ƒионисово numen (Ђобличиеї) настолько определилось еще до јполлона, что последний мог утвердить свое господство только ценою частичного ему уподоблени€, чтобы, как только numen нашло свое nomen (Ђим€ї), признать его автохтонным и правомочным своим предшественником и общником захваченной державы?
«а јполлоново старшинство высказываетс€ с оговорками Ёрвин –оде. Ђƒионис был первым пророком в ƒельфах, по схолиасту ѕиндараї, Ч напоминает он и продолжает: Ђнаследником ƒионисова пророчествовани€ признает јполлона и ¬ойт (Voigt), но этот исследователь отожествл€ет ƒиониса с ѕифоном, что едва ли может быть оправдано.
Ђјполлон овладевает хтоническим, охран€емым змеею оракулом. “ак как вопрошать оракула первоначально значит вступать в сношение с духом умершего, то пророчествовала вначале не «емл€, но живущий в ней дух. ’тоническими могут быть названы все оракулы через инкубацию, ибо «емл€ Ч мать сновидений. ѕлеменной бог фракийских флегийцев прорицал в сновидени€х; его происхождение из культа душ обнаруживаетс€ этим фактом, как и свойственным ему фетишем змеи. ѕоэтому мне кажетс€, что и в ƒельфах хтонический ƒионис есть бог мертвых или бог смерти. ƒоказательства этого: гробница ƒиониса во св€тилище храма, имеюща€ вид ступени (βάθρον), и тайна€ жертва, приносима€ над ней жреческой коллегией (ὅσιοι).ї (¬ойт)
я думаю, что по упразднении хтонического оракула, прорицавшего при посредстве сновидений, јполлон заимствовал из дионисийской мантики неведомый ему дотоле способ дивинации в экстазе (furor divinus). Ќо кто возьметс€ дать €сный и доказательный ответ на вопрос о том, как именно в результате многоразличных сдвигов и сочетаний смен€вших одна другую сил, во всеми оспариваемом центре эллинской религии воспреобладал, наконец, сложный и многосоставный культ јполлона?ї. √иллер фон √ертринген (Hiller v. Gaertringen), следу€ –оде, находит, что, если √е€ и ѕосейдон в ƒельфах несомненно древнее јполлона, то ƒионис, напротив, моложе его, но столь могущественно было вли€ние нового пришельца, что произвело коренное изменение в јполлоновой мантике: отменены были принесенные критскими Ђоргеонамиї пифийского гимна гадани€ по жреби€м и по шелесту св€щенного лавра, и дионисийска€ пифи€ воссела на пророчественный треножник. ¬месте с тем названный ученый отмечает древность св€занных с фиадами празднеств, справл€емых по старому календарю эпохи мифической.
ћы, со своей стороны, принимаем без колебаний второе решение выше поставленной дилеммы, не утвержда€ этим, однако, что ƒионисово им€ прозвучало в ƒельфах раньше јполлонова имени. Ќапротив, безыменность рождающегос€ в культе фиад бога и была условием јполлонова воцарени€ в образе чаемого ƒиониса. ритские Ђоргеоныї со своим прадионисийским тотемом дельфина, жрецы-очистители и пророки-сновидцы, столкнулись в ƒельфах с фиадами-пифи€ми, увенчанными вещим лавром, оргиастическими служительницами темной √еи и подземного зми€, вызывательницами из могильных недр неведомого бога, младенца ли, или Ђжениха, нового солнцаї. Ёто соединение прадионисийского критского культа с религией менад дает впервые полный состав ƒионисовой религии, Ч когда менады знают лик и им€ родившегос€ младенца. Ќо ƒионис еще не родилс€ на их орги€х, когда пришли критские оргеоны, и потому чужой и юный бог должен был зан€ть праздный престол и, занима€ его, по возможности ответить ожидани€м его призвавших. ќн делаетс€ ƒафнефором, ƒельфинием, пифийским прорицателем, привод€щим furor divinus. огда ƒионис родитс€, он станет уже только јполлоновым сопрестольником, каковым никогда бы стать не мог, если б издавна не был владыкою ƒельфов, как пра-ƒионис. –ешающее значение в этом споре имеет, на наш взгл€д, ответ на вопрос: искони ли прорицала пифи€? ћы отвечаем: да, она и была изначала устами «емли (στόμα √ῆς). рит€не гимна были первыми жрецами, ставшими между нею и народом, истолковател€ми ее темных вещаний (ὑποφεταί), усмирител€ми ее исступлени€ и ограничител€ми ее вли€ни€. Ёто ограничение было единственным существенным нововведением јполлоновой эры. »бо менады древнее ƒиониса, что очевидно ускользает от –оде, когда он говорит, что у ƒиониса заимствовал јполлон экстатическое прорицание; между тем пифи€, им порабощенна€, была еще прадионисийской пифией.
»з умолчани€ о пифии в гекзаметрах гимна к пифийскому јполлону мы отнюдь не заключаем вместе с другими исследовател€ми, что ее не было, но что тенденци€ составителей гимна побуждала их изображать событи€ так, как будто бы ее не было. √имн представл€етс€ нам пам€тником борьбы нового жреческого вли€ни€ с исконным укладом оргиастического культа, основанного на женском пророчествовании и почитании женского божества с его мужским прадионисийским коррел€том. ѕришелец јполлон, по свидетельству гимна, вступа€ в свое новое владение, проходит между р€дами треножников: не предполагаетс€ ли этим существование пифийского треножника? ƒионисийским одушевлением охвачены крисейские жены и девы, подымающие при виде света от очага јполлонова св€щенный вопль (ὀλόλυξαν). Ѕог начинает пророчествовать Ђиз лавраї (ἐκ δάφνης), в котором выше мы усмотрели исконное досто€ние менад. ќн принимает культовое наименование “ельфуса (Τελφοῦσα) Ч Ђв пам€ть о том, что струи постыдил “ельфусы св€щеннойї: рассказ гимна о гневе јполлона на речную нимфу беотийской горы, по нашему мнению, не что иное, как мифологическое воспоминание о сопротивлении и насильственном подчинении новому закону местных прадионисийских менад. ћифическа€ проекци€ таковых (как будет показано ниже) Ч Ёринии: нам пон€тны отсюда и вражда Ђстарших богиньї к јполлону вообще, та давн€€ обида на Ђюного всадника, растоптавшего старицї, которой не могут забыть ему Ёсхиловы Ёвмениды, Ч и, применительно к данному частному случаю, наличность в их сонме эринии “ельфусы.
јполлоново господство не вносит в приемы дивинации ничего нового. »нкубаци€ была употребительна во фракийских прорицалищах ƒиониса и, хот€ вообще согласуетс€ с духом критского ведовства (ведь Ђоргеоныї гимна были соотечественниками Ёпименида), но, по ≈врипиду, јполлон сам же отмен€ет ее, как остаток владычества √еи. „то касаетс€ Ђжребиевї, этот не определительный дл€ ƒельфов и в них не укоренившийс€ способ гадани€ скорее предполагает участие вещих женщин, нежели его исключает. ∆ребии олицетворены в трех доаполлоновских парнасских крылатых сестрах ‘ри€х (Θριαί), Ђучительницах гадани€ї (μαντείης δάσκαλοι) и Ђпестунь€х јполлонаї, причем образ пестуний очевидно заимствован у дионисийского мифа, восход€щего в свою очередь к обр€ду менад. » стих Ч Ђжребии мечущих много, но мало гадателей верныхї Ч недаром сложен, по преданию, пифией; впрочем, это только переделка знаменитого изречени€: Ђмного тирсы нос€щих, но истинных вакхов не многої. “ак мы не находим ни одного довода, который бы мог поколебать в нас уверенность в первобытной древности женского оргиазма как исконной колыбели дельфийской религии.
6. ƒележ и союз
ѕриведем, дл€ вы€снени€ древнейших отношений между дельфийскими брать€ми, несколько других примеров, показывающих рост культового круга, объединенного јполлоновым именем, на счет безыменного дионисийского. ћарон, по √омеру (ќдисс. IX, 197) Ч јполлонов жрец виночерпий; когда ƒионис провозглашен единым владыкой божественного дара лозы виноградной, Ч он воссоедин€етс€ с ƒионисом.¹²
¬ области геортологической, древнейшие ‘аргелии, сопр€женные с прадионисийскими человеческими жертвами, перешли навсегда в праздничный круг јполлона очистител€. —минфии (Σμίνθια), мышиный праздник (σμίνθος = αρουραίος, Ђкрысаї), этиологически объ€сн€емый истреблением мышей, вред€щих виноградникам, правились на –одосе, по надпис€м, в честь ƒиониса, по позднейшим сообщени€м Ч в честь јполлона и ƒиониса как предполагаемых истребителей;¹³ так как культ —минфе€ (Σμίνθειος или Σμινθεύς) св€зан с мантикой (мышь Ч ζώον μαντικώτατον) и происхождение его, по-видимому, критское, то закрепление его за јполлоном в “роаде, чему древнейшим свидетельством служит I песнь »лиады, представл€ет собою аналог утверждению власти јполлона как прорицател€ в прадионисийских ƒельфах.
ћусическое соперничество дельфийских братьев составило бы предмет отдельного и обширного исследовани€; в дополнение к вышесказанному о музах, любопытно бросить взгл€д на историю мифа о Ћине. ѕроблемой религиозного мифотворчества встал вопрос о том, которому из божественных братьев-соперников приписать одно из древнейших преданий хоровой лирики Ч λίνος (Ђлинї), народный плач (φρενός) по некоему умершему богу того же имени (Λίνος).
____________________________
[12] ћарон почитаетс€ как дионисийский герой вместе с «евсом и ƒионисом в ћаронее и составл€ет предмет героического культа в ѕисидии. (Preller-Robert, gr. Mythol., S. 731).
[13] ЂΕπίθετον Απόλλωνος, κατά τον Αρίσταρχον από πόλεως Τρωικής Σμίνθης καλουμένης. Ο δε Απίων από των μυών, οί σμίνθοι καλούνται. Και εν Ρόδω Σμίνθεια εορτή, ότι των μυών ποτε λυμαινομένων τον καρπόν των αμπελώνων Απόλλων και Διόνυσος διέφθειραν τους μύας.ї
ак олицетворение Ђстрастейї, страстотерпец Ћин принадлежал ƒионису. ≈го им€ Ч припев каждого страстного обр€да (παντός πάθους παρενθήκη). ¬ остатках гесиодовской поэзии находим такой гимнический отрывок (fr. 192 Bz):
Ђ—ына любимого ты родила, ”рани€, Ћина.
—колько ни есть на земле песнопевцев и лирнихов, Ћина
¬се поминают, все плачут об нем на пирах, в хороводах;
ѕеснь зачинают певцы и кончают именем Ћина.ї
Ќо так как плачи и хороводы во им€ Ћина требовали лирного сопровождени€, то неоспоримы были права јполлона ифарода на это мифическое лицо, столь неопределенное, что в аргивском предании оно €вл€етс€ младенцем, разорванным овчарками, а в фиванском Ч Ђбожественным мужем-лирникомї, сост€завшимс€ с јполлоном и при€вшим смерть от ревности бога, между тем как у √омера Ћин Ч погибший прекрасный отрок, и —апфо воспевает его вместе с јдонисом (под именем Ётолин (Οἰτολίνου), Ђобреченный на смерть Ћинї; ѕавсаний IX, 29:8), в позднее же врем€ ему приписываетс€ апокрифическое повествование о подвигах ƒиониса. ¬ фиванской традиции характерны тесное сближение Ћина с ћузами (черта, доаполлоновска€) и пещерный героический культ (ѕавсаний IX, 29:6). ѕредание јргоса сплетено с легендой о оребе (Κόροιβος). ѕо растерзании младенца Ћина (пра-ƒиониса младенца) хтоническими собаками, наслано јполлоном на јргос чудовище, вырывающее детей из материнской утробы. ореб убивает его и, чтобы очиститьс€ от крови, идет в ƒельфы. ѕифи€ повелевает ему вз€ть на плечи треножник и нести его, доколе он не упадет под ношей, а где упадет Ч воздвигнуть св€тилище јполлону. “ак основан был оребом город “реножников (Τριποδίσκοι) в ћегариде; гробница геро€ была предметом почитани€ в ћегаре. ”стран€€ из рассказа черты дельфийской переработки, открываем в основе его факт оргиастического детоубийства, воспоминание о котором св€залось с простонародными обр€дами плача по Ћину и с причитани€ми, подражание коим находим в припеве Ёсхилова хора, вспоминающего жертвоприношение »фигении: Ђплач сотворите, но благо да верх одержитї. ѕредание о страстнόм герое использовано ƒельфами в цел€х искоренени€ дикого оргиазма и насаждени€ гармонической религии двуединого дельфийского божества, знаменуемой треножником, символом светлого ‘еба, вещей «емли и погребенного ƒиониса.
ћистическое сли€ние братьев-соперников в двуипостасное единство было намечено дельфийским жречеством в экзотерической форме внешних доказательств нерушимого союза и особенно в форме обмена св€щенными атрибутами и знаками соответствующих божественных энергий. «адолго до ‘илодама, јполлон Ч уже у Ёсхила (fr. 341 Nauck) Ч Ђплющеносец и вакхї (ὁ κισσέως Ἀπόλλων, ὁ βακχέως, ὁ μάντις). Ќа керченской вазе оба юных бога подают друг другу руки под дельфийской јполлоновой пальмой, над Ђпупом землиї. ќтсюда и культовое сочетание ƒиониса с јсклепием: возникает ƒионис Ч Ђврач, ѕеоний, целительї (ἰατρός, Παιώνιος, ὑγιάτης). ƒельфийский оракул заповедует чтить его как Ђврачевател€ї. ¬прочем, в этом качестве он был издавна известен в јмфиклее; ћеламп, в свою очередь, олицетвор€ет дионисийскую медицину. √ерой страстей, јсклепий, исцелитель дионисийских ѕройтид (р€дом с ћелампом) не тер€ет однако своего отца јполлона, но получает в воспитатели ƒиониса.
ѕр€мое провозглашение дельфийской теократии, если не видеть таковой, например, в культовом Ђпэанеї ƒионису поэта ‘илодама, известном по надписи IV века, где припев Ђεὐοῖ ὦ ἰό Βάκχї (ќ, благой ¬акх!) смен€етс€ аполлонийским Ђἰέ Παιάνї (ќ, »збавитель!), Ч мы находим лишь в позднюю эпоху, когда никака€ теократи€ уже никого не удивл€ет. ќ ѕарнасе поет Ћукан:
Ђ‘еба св€та€ гора, и Ѕроми€! упно сли€нным
ѕрав€т фиванки на ней оргий дельфийских чреду.ї
–итор ћенандр так обращаетс€ к многоименному богу вдохновенных восторгов: Ђƒионисом зовут теб€ фиванцы, дельфийцы же чтут двойным именем: јполлон и ƒионис. ¬округ теб€ дикие звери (дельфийский волк и вакхическа€ пантера), вокруг теб€ фиады, от теб€ и луна приемлет лучи (разумеетс€ прадионисийска€ сопрестольница и јполлонова сестра, јртемида)ї. Ќо и по словам ѕавсани€ парнасские фиады твор€т радени€ на вершинах горы совокупно ƒионису и јполлону.
7. Παλίντονος ἁρμονίη ¹⁴
”твержденна€ в ƒельфах иде€ божественного двуединства јполлона и ƒиониса вошла в плоть и кровь эллинства. „то же такое был этот союз в конечном счете? –елигиозно-политический компромисс? Ќесомненно, но без дурного умысла и лицемерного расчета. Ќапротив, в основе его лежало мистическое утверждение некоей в божестве установленной антиномии. √армони€, которую созерцать дано богам и осуществл€ть предоставлено люд€м, была, конечно, не осуществлена, но все же ознаменована, и жизнь отлилась в формы этого ознаменовани€: это было кумиротворчество гармонии, ее εἴδωλον (образ) и как бы зеркальное отражение. ќтсюда Ђэстетический феноменї античности. ƒионис поистине лежал погребенным под дельфийским порогом; и когда воскресал Ч воскресал с душами, которых выпускал из темных врат, и в душах, которыми овладевал, и они видели, отторгнутые от земли, слепительные епифании духа. Ќо на земле ему не было места, где преклонить голову; его только непрестанно и пышно отпевали, и восхищатьс€ им любили понаслышке, не зазыва€ к себе в слишком близкое соседство: его демоническое веселье было опасно, как огонь в доме. ƒаже в художестве гениальна€ непредвиденность (не все же были Ёсхилы, чтобы лепить Ђво хмелюї титанов) была слишком ненадежна, и потому к ней приставлен был дл€ надзора аполлонийский канон.
____________________________
[14] παλίντονος ἁρμονίη Ч напр€женна€ гармони€ (παλίντονος ἁρμονίη κόσμου ὥσπερ λύρης καὴ τόξου Ч мирова€ гармони€, в которой, подобно лире и луку, напр€жение чередуетс€ с ослаблением. Heracl. ap. Plut.)
ƒионис был не от сего мира. ќн хотел божественной жизни и делал ее действительно божественной, как только к ней прикасалс€: чудесно воспламен€лась она тогда и, как вспыхнувша€ бабочка, превращалась в пепел. ћногие эллины Ч и это были лучшие в эллинстве Ч думали, как √Єте, который славил Ђживое, тоскующее по огненной смертиї; но большинство, предпочита€ менее сильные ощущени€ превращаемости, выработали особенное и как бы дипломатическое отношение к ƒионису, которое издавна обманывает научившихс€ по-гречески анахарсисов, не догадывающихс€, что больша€ часть античных суждений о ¬акхе Ч осторожное лукавство и лишь притворство напускной беспечности, и вообще сдержанность, предписываема€ часто простым тактом. –ешительно, слишком многого не следовало касатьс€, произнос€ ƒионисово им€, которое было, однако, неизбежно у всех на устах. ƒионис и жизнь Ч это было опасное сочетание, напоминающее любовь —емелы. огда ƒионис выступал законодателем, он требовал невозможного, которое единственно ему по нраву: к политической де€тельности он был €вно неспособен. ¬се божества олицетвор€ют закон; все они Ч законодатели, и закономерны сами. ќдин ƒионис провозглашал и осуществл€л свободу. ќтрицание закона, противоположение ему свободы есть в дионисийском античном идеале черта христиански-новозаветна€. »бо ƒионис-освободитель не м€тежен и не горд, и так нисходит к люд€м, как к своим кровным, и так же восходит к отцу, в котором пребывает: ведь «евс и ƒионис, по коренному воззрению эллинов, одна сущность, даже до временного или местного сли€ни€ самих обличий.
ƒельфийское определение сыновнего лика дало как бы химическую формулу души эллинства. »менно таково ее Ђсмешениеї (κρᾶσις): два жизнетворческих начала соединились в ней Ч ƒионис и јполлон. Ќо как различна была судьба обоих! Ќа долю Ђбогаї, только Ђбогаї, выпало вселенское, но не божественное Ч мы бы сказали, архангельское Ч посланничество: завершить в идее, осуществить в полноте €влени€ и довести до исторических пределов поприща во славе Ч античную культуру, во всем полновесном значении этого огромного слова, Ч потом же проси€ть и застыть в уже бездушном отражении далеким и гордым Ђидоломї золото-эфирной гармонии, чистым символом совершенной формы. ј ƒионису, богу нисхождени€ и потому уже скорее Ђгероюї, чем Ђбогуї, на роду написаны вечно обновл€юща€с€ страстнဠсмерть и божественное восстание из гроба. ƒионисийство, погребенное древностью, возродилось Ч не на одно ли мгновенье? Ч в новозаветности, и все видели ƒиониса с тирсом-крестом. ѕотом он куда-то исчез; есть племена, мисты коих вер€т, что он все где-то скрываетс€ и его можно найти, Ч там, где всего менее ждешь его встретить. ¬о вс€ком случае, то его возрождение в дни Ђумершего ѕанаї было реально, а потому и не формально, т.е. не в старых формах, а в новой маске. »бо реальности, почитаемые божественными, на самом деле только Ђгероическиеї, т.е. страстные ипостаси единого Ens realissimum; те же, что не страдают, Ч не реальности, Ђсущие воистинуї, а только отражени€ божественных идей, вечно-сущих форм станов€щегос€ быти€.
_______________________________
ƒ»ќЌ»— ¬ Ћ”„≈¬ќ… ќ–ќЌ≈

јнтиох VI ƒионис Ёпифан (145-142 до н.э.). —ири€ (√осударство —елевкидов). Æ 22mm (8.40g).
Av: голова јнтиоха VI в образе ƒиониса, в венке из плюща и лучевой короне;
Rv: слон держит хоботом факел; BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY EѕI‘ANOYΣ ΔIONYΣOY / ΣTA
_______________________________

–одос (Ῥόδος), ари€. Æ 35mm (19.83g), I в. н.э. ћагистрат “имострат.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: цветок розы; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY (ταμία Τειμοστράτου).
_______________________________

–одос, ари€. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. ћагистрат √ипсикл.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылата€ Ќика стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / ΕΠΙ ΥΨΙΚΛΗΟΥC
_______________________________
_

–одос, ари€. Æ 34mm (20.26g), I в. н.э. ћагистрат “имострат.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: цветок розы; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY
_______________________________

–одос, ари€. ƒрахма (Æ 35mm, 26.42g), I в. н.э. ћагистрат “имострат.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылата€ Ќика с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY
_______________________________

–одос, ари€. ƒрахма (Æ 35mm, 25.58g), 31 до н.э. Ц 60 н.э. ћагистрат ƒамарат.
Av: голова ƒиониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылата€ Ќика с пальмовой ветвью и лавровым венком; POΔIΩN / EѕI TAMIA ΔAMAPATOY (ἐπί ταμία Δαμάρατου).
_______________________________
|
ћетки: ƒионис јполлон √реци€ Ќумизматика |
»Ќќ»ћ≈ЌЌџ≈ ƒ»ќЌ»—џ |
ƒневник |
¬€чеслав »ванов
ƒ»ќЌ»— » ѕ–јƒ»ќЌ»—»…—“¬ќ
I. »Ќќ»ћ≈ЌЌџ≈ ƒ»ќЌ»—џ
1. “ипы прадионисийских культов
≈сть многозначительна€ историческа€ правда в словах √еродота (II, 52, 1. 3):
¬ самом деле, древнейша€ эпоха ƒионисовой религии есть эпоха безыменного или иноименного Ђпра-ƒиониса. ќдним из свидетельств об этой подготовительной стадии религиозно-исторического процесса, приведшего к объединению местных оргиастических культов под определенным именем одного общеэллинского божества, может служить пустой престол некоего бога, заполненный впоследствии малым кумиром ƒиониса, по изображени€м на монетах ‘ракийского Ёна (Aἰνός). ¬ид прадионисийского культа представл€ет собою почитание безыменного √еро€, распространенное во ‘ракии и ‘ессалии, на долгие времена укоренившеес€ в балканских странах вообще и встречающеес€ здесь и там в разных местах Ёллады и ¬еликой √реции, причем из атрибутов √еро€ развиваютс€ его Ђпрозвищаї (ἐπίκλησις) онника и ќхотника; последние окаменевают в имена, установление коих выводит √еро€ из круга безыменных пра-ƒионисов, и ¬еликий Ћовчий Ч Ђ«агрейї Ч находит уже немалую общину оргиастических поклонников, в качестве самосто€тельной божественной ипостаси пра-ƒиониса Ч јида, Ч пока его культ не впадает притоком в широкую реку торжествующей ƒионисовой религии. безыменным культам относитс€, далее, женский оргиазм, в своем исконном служении неизменно-пребывающему женскому божеству требовавший мужского коррел€та в лице периодически рождающегос€ и умирающего бога и, наконец, обретший искомые им€ и обличие в родившемс€ ƒионисе.
ќргиастические культы, не знающие точного имени и €сно означившегос€ лица боготворимой одержащей силы, естественно приемлют ƒиониса, когда сокровенное им€ найдено и смутное представление о незримом двигателе оргий и возбудителе исступлений антропоморфически определено. »ные же вовлекаютс€ в орбиту других культовых прит€жений, Ч например, јполлона, ѕосейдона, Ч или же обособл€ютс€, коснеют и мельчают в своей местной замкнутости: так, переживани€ прадионисийской ступени сохран€ютс€ до весьма позднего времени Ч и впитываютс€ христианством Ч в почитании все того же безыменного √еро€, о чем свидетельствуют, между прочим, надписи с посв€щением deo Heroi sancto, чаще deo sancto Heroni, найденные на Ёсквилине, и подобные же в других местах.
»ноименные культы испытали дво€кую участь. „аще всего их первоначальные объекты, местные демоны (δαίμων, Ђбожествої) с отличительными особенност€ми будущего ƒиониса, низвод€тс€ на степень героев. Ётиологический миф обычно приводит этих героев в более, или менее тесную св€зь с самим ƒионисом (таковы, напр., Ёлевтер, »карий, ќйней, јристей), порою же прагматически св€зать повесть о них с де€ни€ми бога не может, но неизменно выдвигает их страстную участь (πάθος, Ђстраданиеї) как некую печать их внутреннего родства с божественным чиноначальником (Ἀρχηγέτης) Ђстрастейї; кроме того, в их характеристике необходимо сохран€ютс€ отдельные, как бы физиономические черты бога, героическими двойниками которого они продолжают жить в религиозной пам€ти народа. Ќо это важное €вление в развитии ƒионисовой религии должно быть предметом особого рассмотрени€ (о героических ипостас€х); в пор€дке же насто€щего исследовани€ внимание наше сосредоточиваетс€ на другом типе иноименных культов. Ёто Ч те оргиастические богопочитани€, объект коих был раньше обретени€ ƒионисова имени отожествлен с одним из общенародных и древнейших богов, Ч большею частию, с самим «евсом; он же, в качестве верховного бога, в период до выработки пон€ти€ сыновней ипостаси, был особенно близок монотеистическому складу богочувствовани€, составл€ющему характерное отличие общин оргиастических.
ѕон€тно, что усвоение определившегос€ ƒионисова божества этими подготовительными, прадионисийскими культами Ч в случа€х уже совершившегос€ присоединени€ их к другим древнейшим культовым сферам Ч было в высшей степени затруднено. ¬ редких случа€х, когда это усвоение оказываетс€ тем не менее возможным, оно имеет своим типическим последствием удвоение культа: таковы «евс-бык и ƒионис-бык на рите, «евс и ƒионис ћейлихии, «евс и ƒионис Ћафистии, јрей и ƒионис Ёниалии; сюда же относ€тс€ «евс-јристей, «евс-√ерой, «евс-—абазий и т.п. “акое религиозное образование, как Ђ«евс-¬акхї пергамской надписи, конечно, исключение и аномали€; примечательно, однако, что Ђ«евс-¬акхї чтитс€ р€дом с Ђ«евсомї. ѕравда, надпись, именующа€ обоих вместе, принадлежит поре позднего синкретизма; но последний лишь облегчил, в данном случае, культовое определение исконного местного веровани€. ѕозволительно думать, что сближение некоторых малоазийских ликов «евса с ƒионисом совершилось под вли€нием таких искони синкретических религиозных форм, какими были в своих местных особенност€х культы «евса арийского и “арсского, «евса-’рисаора в —тратоникее и «евса —трати€ в Ћабранде или культ фригийского и писидийского Ђбога спасающегої, отличительным признаком которых служит «евсов атрибут обоюдоострой секиры (λάβρυς), наследие хеттского јттиса-“ешуба и хеттского √еракла ƒиониса Ч —андона в “арсе. ѕоскольку тотем двойного топора с его оргиастическим обр€довым кругом был всецело усвоен религией ƒиониса, как это с особенною отчетливостью наблюдаетс€ на “енедосе, постольку названные божества приобретают прадионисийский характер.
–одственное €вление наблюдаетс€ в ƒодоне, где изначальному почитанию подземного «евса придаютс€ черты дионисийского культа: так, ему совершаютс€ возли€ни€ с виноградных листьев. ѕавсаний, в описании св€тынь аркадского ћегалопол€ (VIII, 31, 2), отмечает странность ѕоликлетовой статуи местного «евса ‘или€ (‘ίλιος): знаменитый художник придал ему черты ƒиониса и даже дал в руку тирс, но на тирсе изва€л орла; так сочетал он атрибуты ƒиониса и «евса.
2. ’тонические «евсы
ѕрототипом большей части прадионисийских ликов «евса €вл€етс€ идейский или диктейский «евс, наследник доэллиннского и родственного хеттским божествам критского, бога с обоюдоострой секирой, бога-быка, живущего в Ћабиринте, Ч он же критский «евс, как бог оргиастических жертв, Ч пра-ƒионис ќмадий (ὅμαδιος) и, как бог погребенный, Ч пра-ƒионис јид. «амечательно, что и этот культ впоследствии удвоен культом быка-ƒиониса, вбирающим в себ€ элементы женского оргиазма и омофагии (ὠμοφαγία), т.е. растерзани€ и съедени€ жертвы живьем. “ак что за «евсом рита остаютс€ из области оргиастической только куреты, а из сферы первоначальных представлений о нем как о боге подземном только почитание пещеры, где он родилс€, и непон€тной позднейшему эллинству (напр., аллимаху) его могилы. производным из критского культам принадлежат «евс-ѕолией афинских буфоний и соприродных им обр€дов на островах, как и милетский «евс или «евс-—осиполис в ћагнесии на ћеандре, который также чтилс€ буфони€ми и, сверх того, угощением богов, дл€ коих воздвигались кущи и три ложа. ¬ самом деле, если элейский —осиполис, младенец-змий, пришел с рита, естественно сочетать с ритом и магнетский культ, Ч как, впрочем, и другие буфонии оказываютс€ генетически св€занными с островом ћиноса. Ёти городские покровители «евсы, будучи божествами подземными, закономерно мысл€тс€ в виде городовых змиев.
¬ лице √анимеда мы встречаем героизацию человеческих жертв, приносимых некоему пра-ƒионису, отожествленному с верховным «евсом и про€вл€ющему свою божественную силу в даре виноградной лозы. ќ Ђбогоподобномї (ἀντίθεος) √анимеде, Ђпрекраснейшем из смертныхї, √омер (»л. XX, 234) говорит, что Ђбоги восхитили его быть виночерпием «евсаї. ѕеред нами суровый пра-ƒионис и предварение юного, гроздью увенчанного ¬акха, испытывающего страсти (πάθος): оргиастическое numen¹ виноградного дара представлено дуалистически своею жреческою и жертвенной ипостасью, Ч другими словами, в мифе о √анимеде предначертан почти полный состав ƒионисовой религии. ћала€ »лиада знала, что «евс дал отцу √анимеда в уплату за сына золотую виноградную гроздь, работу √ефеста, Ч что оп€ть указывает на родство легенды с культом винограда. ¬арианты сказани€ обличают в похитителе √анимедовом человекоубийственного «евса: легенда издавна ориентируетс€ на рит, где похитителем €вл€етс€ ћинос. ¬ малоазийской (от рита независимой и восход€щей, по-видимому, к хеттам) версии ипостась пра-ƒиониса («евса) ќмади€ Ч “антал, жертвоприноситель отрока-сына, угощающий плотью юного ѕелопса богов-сотрапезников, и обладатель бессмертной влаги.
ѕервоначальное почитание ƒионисова numen среди эллинов под неопределенным именем «евса оставило следы и в культе прадионисийских героических ипостасей, прин€тых за ипостаси подземного «евса (Ζεὺς χθόνιος), каковы «евс-јристей, «евс-јмфиарай, «евс-“рофоний, «евс-√ерой, Ч и в культе ћейлихи€.² ѕоследний Ч подземна€ сила, то мыслима€ множественною, как боги-ћаны италиков (δαίμονες μειλίχιοι противополагаютс€ богам небесным, οὐράνιοι), то раздво€юща€с€ на мужскую ипостась и женскую, св€занна€ с древопочитанием вообще (ἔνδενδρος, древобог Ч как ƒионис, так и «евс), в частности же с почитанием смоковницы (συκάσιος, συκεάτης, συκίτης Διόνυσος), древа очищений, и, по-видимому, с кровавым, семитического происхождени€, оргиазмом.
_________________________
[1] numen, -inis n образ, т.е. изображение или стату€ бога (numina divum V).
[2] Ἀρισταῖος {ἀριστεία} ὁ јристей, доблестный;
Ἀμφιάραος (ἀμφι-άραος) ὁ јмфиарай, грозный;
Τροφώνιος ὁ “рофоний, питающий (эпитет «евса с храмом и оракулом в Ћебадии);
Μειλίχιος ὁ ћейлихий, милостивый, милосердный (Ζεύς Plut.).
ќбща€ всем видам древнейшего религиозного миросозерцани€ мысль о коррел€тивной св€зи между смертью и половой силой, о зависимости земного плодороди€ и чадороди€ от воль подземных, поскольку она раскрывалась и в культовых сношени€х с семитами, воплотилась в служении ћейлихию (веро€тно, ћолоху), подземному «евсу, другому лику «евса небесного, и ћейлихии Ч јфродите (јстарте). — возникновением идеи о тождестве јида и ƒиониса, ћейлихием стал и ƒионис. Ђ„ерна€ смоковница, сестра виноградаї была отдана именно последнему; но уже укоренившийс€ культ ћейлихи€ под именем «евса осталс€ одновременно в силе и даже преобладал над новым, приуроченным к имени ƒиониса: так ƒиасии (Διάσια), афинский праздник ћейлихи€ в дионисийском мес€це јнфестерионе, остались за «евсом. Ёвфемистическое им€ ћейлихий, которому соответствуют устрашающие имена того же божества Ч ћаймакт (Μαιμάκτης, Ђ€ростный, буйныйї) дл€ «евса, јгрионий (Ἀγριώνιος, Ђсвирепыйї) и ќмадий (Ὠμάδιος, Ђдикий, жестокийї), ќмест (Ὀμηστής, Ђкровожадныйї) дл€ ƒиониса, свидетельствует о замене человеческих жертв жертвоприношени€ми животных и, наконец, жертвами бескровными и €вно обнаруживает дионисийскую природу ћейлихи€.
3. Ћафистий и јфамант
јналогичен ћейлихию в некоторых отношени€х (хот€ и различен от него, вопреки мнению ќтфрида ћюллера, уже самим происхождением) Ч Ћафистий (Λαφύστιος, Ђѕожирательї): в обоих культах мы видим попытку приписать ужасную силу некоего оргиастического божества, требующего человеческих жертв, сначала «евсу, потом ƒионису. √ероическа€ проекци€ Ћафисти€, бога горы Ћафистион (Λαφύστιον ὄρος) близ ќрхомена в Ѕеотии, а также јфамантовой равнины и города √алоса во ‘тиотиде, Ч јфамант, царь минийского ќрхомена. » подобно тому как первоначальный «евс-Ћафистий удвоен позднейшим религиозным образованием Ч ƒионисом-Ћафистием, так и јфамант, обреченный первому, оказываетс€ в предании одним из исступленных героев-вакхов (βάκχοι). »бо героические ипостаси божества обречены ему: так, јртемида-»фигени€, в качестве смертной девы, обречена јртемиде Ч как жертва или жрица; она же была и тою, и другой. » не только обречен «евсу-Ћафистию сам јфамант, его жрец и жертва, но и каждый старейший в роде из его потомков, приблизившись к дому старейшин в √алосе, умерщвл€лс€ в жертву «евсу-Ћафистию, по свидетельству √еродота (VII, 197). ƒионисийским коррел€том того же сакрального установлени€ €вл€етс€ преследование обреченных дев (Ὀλεῖαι) из минийского рода жрецом ƒиониса, с мечом в руке, на орхоменском празднестве јгрионий, по сообщению ѕлутарха (quaest. gr. 38).
¬овлечение прадионисийского культа в круг ƒионисовой религии совершилось, очевидно, под вли€нием ‘ив, что выразилось в мифологеме мотивом бракосочетани€ јфаманта с »но, сестрою —емелы, фиванской матери ƒиониса. »но, в доме јфаманта воспитавша€ божественного младенца, сына —емелина, хочет извести пасынка ‘рикса и падчерицу √еллу, детей своего мужа от Ќефелы. ƒети бегут из дома и скитаютс€ по дубравам, обезумев от пребывающего под их кровом ƒиониса (согласно √игину). √ера (вмешательство коей составл€ет несомненно позднюю черту мифа), мст€ за покровительство, оказанное сыну —емелы, наводит на јфаманта бешеное неистовство. ќн преследует ‘рикса; но отрока и сестру его спасает их мать, богин€ ќблако, на золоторунном баране. ƒревнейшее сказание говорило о принесении ‘рикса јфамантом в жертву «евсу-Ћафистию. јфамант умерщвл€ет Ћеарха, собственного сына от »но, который представл€етс€ отцу, охваченному дионисийским безумием, то молодым оленем (νεβρός, по Ќонну), то львенком (по ќвидию). √ерой бродит, одичалый, без крова; волки дел€т с ним кровавую снедь.
ѕеред нами типический спутник преследуемого и жертвоприносимого бога: его преследователь и исступленный жрец. јфамант Ч человек-волк (как фракийский Ћикург, ἀνδροφόνος Λυκόοργος шестой песни »лиады) и вместе корм€щий младенца молоком мужских сосцов Ђвакх пестунї (оп€ть как Ћикург, которому хотелось бы отн€ть божественное дит€ у ƒионисовых кормилиц), Ч оленеубийца и небридоносец, разрывающий ƒиониса под личиною Ћеарха. ¬ его лице, как бы на наших глазах, услаждающийс€ снедью детской плоти оргиастический Ћафистий превращаетс€ в вакха-дионисоубийцу. »но, сказание о которой лишь искусственно сопр€жено со сказанием об јфаманте, менада парнасских дебрей, по ≈врипиду, Ч бросаетс€ с сыном ћеликертом в белопенную морскую кипень, предварительно опустив отрока, по одному из вариантов мифа, в кип€щую воду, имеющую силу возрождать в новом образе человека; в море обернулась она Ђбелой богинейї Ћевкофеей (Λευκοθέα), с волшебным покрывалом из пены (κρήδεμνον, головна€ пов€зка с покрывалом дл€ лица), спасающим пловцов (ќдиссе€), а сын ее Ч богом ѕалемоном, покровителем мореходов: так младенец ƒионис у √омера спасаетс€ от €рости Ћикурга, на лоно морской богини; так дионисийские нимфы бросаютс€ в море, преследуемые двойником Ћикурга Ч Ѕутом (Bούτης). ћеликерт Ч дубликат Ћеарха, возникший, очевидно, из контаминации фиванского вакхического культа с неким морским коррел€том такового, и притом, суд€ по имени бога, коррел€том финикийского происхождени€: если Ћеарх Ч отроческий аспект ƒиониса, как молодого льва (λέων), подобного ѕенфею (созвучие слов способствовало, по-видимому, фиксации этого близкого ‘ивам по культу матери богов образа), ћеликерт-ѕалемон³ Ч отроческий аспект ƒиониса на дельфине, каким знал его островной культ. Ќо, как јсклепий, выделившись из јполлонова божества, приобретает полную самосто€тельность, так прекращаетс€ и дальнейша€ св€зь между ѕалемоном и ƒионисом.
_________________________
[3] Μελικέρτης (-ου) ὁ ћеликерт (морское божество) Pind., Polyb., Luc., Anth.
Παλαίμων (-ονος) ὁ ѕалемон, ЂЅорецї (эпитет ћеликерта, сына »но-Ћевкотеи) Eur.
4. «евс Ћикейский, Ћикаон, Ћикург
ѕодобен јфаманту и “анталу Ђпеласгийскийї Ћикаон, героическа€ ипостась «евса-Ћике€ (Λύκαιος), учредитель его культа в јркадии, царь-жрец, предлагающий в снедь своему богу плоть внука јркада, рожденного от «евса дочерью цар€, јртемидиною служительницей, а потом медведицей, аллисто. јркад, как и “анталов ѕелопс, чьей плоти отведали боги, оживлен (примысл эпохи, упразднившей человеческие жертвоприношени€); Ћикаон обернулс€ волком; стол же, на котором было предложено жертвенное €ство, опрокинут разгневанным «евсом, как опрокидывает, с прокл€тием на ѕлисфенидов, роковой стол обманутый родитель ‘иест. ќпрокидывание св€щенных столов Ч оргиастический обр€д, несомненно св€занный с омофагией и составл€вший мистическую часть богослужени€ дионисийских менад; рассказ о ‘иестовой трапезе у Ёсхила Ч отражение мифа о Ћикаоне. ѕодстрекательство к детоубийству приписываетс€ первенцу Ћикаона, ћенолу, т.е. Ђисступленномуї (μαινόλης), носителю дионисийского имени, подобно брату его, первенцу по версии ѕавсани€, Ќиктиму (Νύκτιμος). —ближение јртемиды с Ћикейским «евсом через аллисто также указывает на прадионисийскую природу последнего.
ќсновной тотемический мотив ликейского культа Ч преследование волками оленей. ќлен€ми (ἔλαφοι) зовутс€ обреченные чужеземцы в храме Ћике€, волками Ч жрецы. Ёти, Ч повествует ѕавсаний (VIII, 2, 5), Ч по первом вкушении человеческого м€са поистине обращались в волков; но если побеждали свой голод к такой снеди и не вкушали от нее дев€ть полных лет, становились оп€ть людьми. Ќа то же аркадское предание ссылаетс€ однажды и ѕлатон (Rp. 565 D). ѕеред нами обломки и воспоминани€ древнейших культов, из коих развились народные представлени€ о ликантропии, вера в вурдалачество. —юда же относитс€ упоминаемый ѕлинием (N. Ќ. VIII, 34) обычай в аркадском роде јнфа выбирать по жребию одного из родичей в Ђволкиї; сн€в с себ€ прежние одежды и повесив их на дуб, он становилс€ Ђволкомї, т.е., очевидно, опальным изгнанником, и должен был жить Ђс волкамиї дев€ть лет. ƒионисийское им€ јнфидов и обр€д переодевани€, Ч быть может, с прин€тием личины или других знаков и отличий волка, вроде наброшенной на голову волчьей шкуры с головою звер€, какую мы встречаем на иных античных изображени€х, Ч характеризуют это религиозное установление, как промежуточную, переходную форму между культами прадионисийского Ћике€ и ƒиониса. ѕо-видимому, могущественное и страшное некогда прадионисийское жречество в пору отмены человеческих жертв было поставлено под угрозу опалы в случа€х возврата к человекоубийственной ритуальной практике, причем опала могла условно распростран€тьс€ и на целый жреческий род, как мы видели это на примере јфамантидов.
≈сли волк-Ћикаон есть низведенный на землю «евс-Ћикей, если волк-јфамант Ч «евс-Ћафистий, или, что то же, ƒионис-Ћафистий, то в лице Ћикурга, лютого волка плото€дного (ὠμηστής, λύκος ὠμοφάγος), легко узнаетс€ фракийский пра-ƒионис ќмадий. Ќа дионисийскую природу Ћикурга указывает и его родство с миром растительным (он сын ƒриады, и он же запутываетс€ в виноградную лозу), и его двуостра€ секира. √омеровска€ сцена преследовани€ Ћикургом Ђкормилиц буйного ¬акхаї Ч типическое дл€ дионисийской легенды раздвоение ƒионисова божества. ѕодобным ѕенфею очерчен был Ћикург в ЂЁдонахї Ёсхила. ћладенец, которого вакх-пестун оспаривает у пестуний-вакханок, неистребим, хот€ и делаетс€ несомненно, испытыва€ πάθος, оргиастической жертвой своего €ростного двойника или своих же менад: он растекаетс€, например, стихией влаги. ¬ версии мифа у ƒиодора (V, 50), ƒиониса, впрочем, вовсе нет, а брат Ћикурга, по имени ¬олопас (Bούτης), преследует только кормилиц бога; менады убегают на гору ƒриос, во ‘тиотиде, или же кидаютс€ в море; ƒионис карает преследовател€ безумием.
5. Ћегенда о ћакарее и прадионисийское жречество. ћеламп.
ѕрадионисийские человекоубийственные культы привнесли в историческую религию ƒиониса необходимый ей элемент: многообразно представленный в ликах мифа единый тип свирепого ƒионисова двойника-преследовател€, жреца-исполнител€ оргиастической жертвы. “ип этот одинаково дан был и обр€довой действительностью, и мифологическим преданием. ¬ последнем герои-жрецы-преследователи суть очеловеченные ипостаси пра-ƒиониса ќмади€.
–аздвоение божества на лики жреческий и жертвенный и отожествление жертвы с божеством, коему она приноситс€, было исконным и отличительным досто€нием прадионисийских культов. Ѕог-бык был вместе бог-топор на рите и во всем островном царстве древнейшего дифирамба. ќргиастическое божество фракийских и фригийских культов всегда двойственно, причем стремление определить его как две раздельные сущности встречаетс€ с невозможностью провести это разделение Ч отн€ть у страдальной ипостаси ее грозную, губительную силу и лишить свирепого бога страстнόй участи. Ќо в общем можно заметить, что утверждение исторической религии ƒиониса, совпада€ с заменой мистически-реальных, т.е. человеческих, жертв фиктивно-реальными, символическими (ибо зооморфизм уже обратилс€ в символизм) жертвоприношени€ми животных, способствовало торжеству кроткого лика в двуликом ƒионисовом божестве, Ч чтό и сделало его, по выражению Ћипперта, Ђпасхою эллиновї, Ч и выделению жестокого, губительного начала в дионисийские ипостаси героев-преследователей.
’арактерным примером может служить митиленска€ легенда о ƒионисовом (как это €вствует из самого имени) жреце ћакарее. Ђ роткий на вид, духом же лютыйї (Aelian. v. h. XIII, 2) и Ђлевї (по ƒиодору), ћакарей убивает тирсом жену, казн€ ее за убийство старшего сына. ”мертвила же она старшего сына за то, что тот убил брата отцовским жреческим оружием (σφαγίς), подража€ св€щеннослужению отца, и сжег тело отрока на алтаре ƒионисовом в пору праздновани€ триетерий. “ак покарал ћакаре€ ƒионис за коварное злоде€ние, некогда им совершенное над одним чужеземцем в самом св€тилище (ἀνάκτορον). “ем не менее, ћакарей был чтим народом и, когда умер, по ƒионисову повелению погребен на счет города. ѕрагматизм легенды поздний, но в основных чертах она сложилась по упразднении человеческих жертв и отразила черты религиозного быта предшествующей эпохи. ћакарей слыл основателем храма растительного ƒиониса-Ѕрисе€. Ќовое исследование правильно усмотрело в нем Ђбожественное существо, служившее объектом культа в культовом цикле митиленского ƒионисаї. ¬ нем типически ипостазировано божество ƒиониса, как необорима€ свирепа€ сила и львина€ €рость (δύναμις, ἀλκή, λέων, οργή). ¬акханки в трагедии ≈врипида (ст. 1017) приглашают ƒиониса €витьс€ в образе Ђогнедышащего льваї (πυριφλέγων λέων). Ќо в то же врем€ ћакарей рассматриваетс€ уже не как ƒионис, а в противоположении ему и его кроткому, св€тому закону: это позднейша€, см€гченна€ форма оргиастической религии. ћакарей Ч первоначально прадионисийский оргиастический бог, потом грозный и вместе страдальческий герой, коему принос€тс€ жертвы на его гробнице, наконец Ч квазиисторическое лицо, о котором рассказываютс€ тенденциозные вымыслы (ограбление чужеземца), долженствующие утвердить религиозно-просветительную и гуманную мораль нового века.
—одержание же легенды, этого религиозно-исторического палимпсеста, отчетливо выступает во всех подробност€х. — одной стороны, мы находим в ней картину прадионисийского жречества: убиение чужеземцев в св€тилище, т.е. в жертву богу, принесение в жертву детей и, наконец, родовую наследственность жречества. — другой стороны, перед нами женский триетерический оргиазм с его детоубийством и убийственным преследованием женщин мужскими участниками культа, подобным сохранившемус€ до поздних времен в ќрхомене преследованию миниад (Μινυάδες, три дочери ћини€), именуемых Ὀλεῖαι. Ёто два разных культа: мужской, прадионисийский, и женский, до обретени€ ƒионисова имени посв€щенный богине Ќочи и безыменному ƒионису. ѕервому соответствует жреческа€ Ђсфагидаї, под которою, в данном случае, едва ли не разумеетс€ двуостра€ секира; второму Ч тирс. ќба человекоубийственные культа слиты в единую ƒионисову религию. ѕо-видимому, первый культ Ч островной, с рита пришедший, в минойском предании корен€щийс€ культ двойного топора и быка-ƒифирамба; он же искони был морским и растительным, в частности Ч культом винограда. ¬торой Ч материковый, горный, триетерический, знаменуемый символами-тотемами тирса, плюща и змеи, культ парнасских менад, Ч по своему происхождению, веро€тно, фракийский. —оединение первого с женским оргиазмом второго дает окончательную форму религии ƒионисовой.
атартическое (καθάρσιος), т.е. очистительное, освободительное, целительное разрешение оргиастических преследований по обретении ƒионисова имени €сно ознаменовано в мифе о ћелампе (Μελαμπόδεια), которого √еродот считает первоучителем религии ƒионисовой и установителем ее обр€дов. ѕилосский прорицатель ћеламп (Μελάμπους, -ποδος Ч Ђчерноногийї), сын фессалийского јмифаона, об€занный дружбе змей своим могуществом ведуна, знахар€ и очистител€, вещий дар свой получил, конечно, не от јполлона, с которым был сближен только позднее, когда дельфийский бог овладел всей областью мантики, катартики и медицины, Ч но из недр земли и принадлежит, по особенност€м своего мифа и своей генеалогии, к ликам сферы хтонической. ƒругом змей стал он потому, что первоначально сам был змием: чернота ног, означенна€ в его имени, говорит на символическом €зыке древнейшего мифа о том, что нижн€€ половина его тела оставалась как бы погруженною в подземное царство, что его человеческое туловище кончалось, как у Ёрихтони€, змеиным хвостом.⁴
_________________________
[4] ћеламп не только Ђчерноногийї, но и Ђчернокозийї, как Διόνυσος Mελάναιγις, один из аспектов ƒиониса-јида; таковым же слывет ѕифон. ульт ћелампа засвидетельствован надпис€ми в Ёгисфене, где коза Ч тотем, и миф помнит, что он был вскормлен козою. ƒалее: хтонический пес прадионисийского дикого охотника јктеона носит им€ Μελάμπους, или Mελαγχαίτης (Ђчернокосмыйї), Ч оп€ть одно из наименований ƒиониса, Ч или, наконец, просто Μελανεύς (Ђчерныйї): эти прозвища рассматриваютс€, очевидно, как синонимы.


1. ‘рако-македонские племена (uncertain). “етрадрахма (AR 15.03g), 530-480 до н.э. Av: козел с человеческой головой; Rv: квадрат разделенный на четыре части.
2. √имера (Ἱμέρα), —ицили€. Ћитра (AR 12mm, 0.68g), ок. 470-450 до н.э. Av: крылата€ протома козла с человеческой головой; Rv: наездник верхом на козле; IMERAIΩN


3. ћакедони€, римска€ провинци€. Æ 22mm (10.38g), 168-166 до н.э. ћагистрат √ай ѕублилий (Gaius Publilius, quaestor). Av: голова ƒиониса в венке из плюща. Rv: козел; TAMIOY √AIOY ѕOѕΛIΛIOY
4. Ёги (Αἰγαί), јхай€. √емидрахма (AR 2.74g), V-IV в. до н.э. Av: бородата€ голова ƒиониса в венке из плюща; ΑΙCΑΙ[ΟΝ]. Rv: протома козла; ΑΙC
» самое сближение с јполлоном Ч того, кто выступает пророком ƒионисовым, свидетельствует, что ћеламп, по корн€м своим, прадионисийский демон-вещун, подобный ѕифону и застигнутый распространением религии пифийского јполлона раньше, чем сформировалась религи€ ƒионисова. ак ипостась ƒиониса-јида, ћеламп оказываетс€ узником, заключенным на год в источенную черв€ми дерев€нную темницу Ч домовину. ак та же ипостась, €вл€етс€ он, далее, основателем фаллагогий, посв€щенных, как это твердо знает √ераклит, ƒионису-јиду. ћеламп жив в пам€ти мифа как возродитель мужского чадороди€ и устроитель экстатических пл€сок, в особенности же как организатор женского оргиазма и учитель здравого экстаза, неупор€доченность коего дотоле порождала разнообразные недуги и извращени€. ”пор€дочение сферы женских исступлений обусловливает общение ћелампа с ƒионисовой и пра-ƒионисовой сопрестольницей јртемидой, Ч или им обусловлено. ¬ мифе о ћелампе еще слышны отголоски человеческих жертвоприношений, именно женских (гибель ѕройтиды »финои во врем€ катартического преследовани€, гибель женщин под развалинами обрушившейс€ темницы) и отроческих (повесть о ноже ‘илакса, отца »фиклова), при отмене коих выпитие крови было замещено питьем вина (ржавчина от ножа даетс€ »фиклу с вином как волшебное лекарство, φάρμακον).
ѕо изображению на одной краснофигурной вазе, ћеламп, облеченный в пестрый хитон, противопоставлен как пожилой муж ƒионису-юноше, одетому в такой же хитон, пов€занному митрой (μίτρα) и держащему в руке вакхический канфар (κανθάριον) с вином, подле кумира јртемиды-Ћусии (Λύσια, Ђосвобождающа€ї, Ђизбавительницаї); у подножь€ кумира расположились исцеленные ѕройтиды, между тем как закл€та€ Ћисса (Λύσσα, богин€ безуми€), владевша€ прежде дочерьми ѕройта, с искаженным лицом, пр€четс€ за колонну с треножником; поодаль сидит —илен; на стене св€тилища вис€т рельефы, изображающие бешеную пл€ску сатиров, Ч намек на введенные ћелампом мужские пл€ски; в руках у одной ѕройтиды и ƒиониса раскидистые ветви, у ћелампа и —илена Ч тирсы, так что стан преследуемых (женский) охарактеризован ветв€ми, а стан преследователей (мужской) Ч тирсами, которым соответствует копье в руке исцелительницы јртемиды, Ч причем выдвинуто религиозное тождество обоих примирившихс€, разоружившихс€ станов. ѕеред нами выдержанный в символах мифа исторический рассказ об укрощении обособленного и замкнутого женского оргиазма прадионисийской эпохи новым заветом религии ƒионисовой.
6. јрей
√розна€ ипостась двойственного оргиастического божества, которую мы видели отожествленною в р€де культов с верховным «евсом, Ч в тех случа€х, когда противоположна€ ипостась уже определенно дана в религиозном сознании, когда лицо собственно ƒиониса уже отчетливо вы€влено, Ч не преобладает над ней в виде верховного «евса, но ей соподчин€етс€ и обусловливает представление о €ростном боге-двойнике кроткого ƒиониса Ч кровожадно исступленном јрее.
Ђ‘ригийцы, Ч говорит ѕлутарх (de Is. et Os. 69),Ч думают, что бог зимою спит, а летом пробуждаетс€: как усыпление, так и пробуждение бога они отмечают вакхическими празднествами (βάκχευοντες). ѕафлагонцы же говор€т, что зимою он св€зан и пленен, а весною освобождаетс€ от оковї. “ак фригийска€ колони€ фракийцев, распространивша€ свою религию в ѕафлагонии, Ђв одно сливаетї, по —трабону, божества эдонского (фракийского) Ћикурга и ƒиониса. »ща ближе определить этого Ћикурга, местные культы т€готели к отожествлению его с «евсом, откуда и выше описанный «евс-¬акх. ¬ первоначальном же фракийском веровании это был јрей, т.е. тот бог, которого эллины, издревле себе усвоив, наименовали јреем (Ἄρειος, Ђвоинственныйї). »бо, по основному свидетельству √еродота, Ђиз богов чтут фракийцы только јре€, ƒиониса и јртемидуї, причем јрей и ƒионис должны рассматриватьс€ как два противоположные лица одного мужского numen, носившего разные племенные имена, как —абазий, Ѕассарей, √игон, Ѕалий, ƒиал; те же богопочитани€ были перенесены во ‘ригию и, как кажетс€, распространились из нее по Ћидии.
Ђјре€ долю некую он вз€л в уделї: так намекает на изначальное тожество ƒиониса и јре€ ≈врипид. ƒионис Ёлелей (Ἐλελεῦ) Ч бог воинских кликов, так же как и јрей; ƒионис Ёниалий (Ἐνυάλιος) Ч Ђ¬оинственныйї, как јрей. ѕричем одноименный герой, Ёниалий-фракиец, представл€ет собою страстный, в дионисийском смысле, тип јре€: он умирает от руки своего же божественного двойника. ƒионис, далее, Ч Ђбог, радующийс€ на мечи и на кровьї; он Ч Ђмеднодоспешный воеводаї. ќба божества сливаютс€ в одном образе: ЂЅромий (Βρόμιος, ЂЎумныйї), копьеносец €рый, в битвах шум€щий, отец јрей!ї. ¬оинственные пл€ски в честь ƒиониса издавна совершались фракийцами и вошли в эллинский быт особенно после походов јлександра. —партанска€ πυρρίχη; стала тогда вакхической: вместо копий пл€шущие перебрасывались тирсами и размахивали зажженными факелами, изобража€ ƒионисову победу над ѕенфеем и его битвы в »ндии. “ака€ милитаризаци€ обр€да под впечатлением подвигов македонского Ђнового ƒионисаї (νέος Διόνυσος) была принципиально возможна потому, что тирсы изначала служили копь€ми и ƒионисово действо часто оказывалось воинским, как јреево Ч дионисийским. ¬ооруженные двуострыми секирами дикие служительницы јре€, девы-амазонки, составл€ют полный коррел€т вооруженным тирсами менадам ƒиониса; общим дл€ тех и других €вл€етс€ и ближайшее культовое отношение к јртемиде. ќтсюда уподобление поэтического вдохновени€ вакхическим битвам в Ђ“ристи€хї ќвиди€ (VI 1, 41):
»з всех прадионисийских образов оргиастического бога јрей и в историческую эпоху ƒионисовой религии, остава€сь вполне самобытным в своем круге, по существу не отделилс€ от обособленного ƒионисова божества: отношение между обоими богами представл€ет собой редкий случай изначальной, самопроизвольной, естественной теократии. ¬ообще же јрей почти не отличаетс€ от других пра-ƒионисов: он, по √омеру, пьет кровь, Ч как, ради оргиастического обу€ни€ јреем, пьют человеческую кровь воины перед битвой, по рассказу √еродота (III, 11).
7. «агрей
ѕоглощение ƒионисовым nomen et numen (Ђим€ и обличиеї) самобытного и уже не безыменного прадионисийского культа, как части целым, наблюдаетс€ в истории Ђдикого охотникаї Ч «агре€. Ђ¬еликий Ћовецї (μεγάλως ἀγρεύων, Etym. Gud.) Ч не просто один из эпитетов цар€ душ, как думал, по-видимому, –оде. Ѕез сомнени€, «агрей-јид, как јид, в глазах √ераклита,⁵ и ƒионис: но если ƒионис, прежде всего не только јид, Ч «агрей, совпада€ с јидом по объему религиозного пон€ти€, отличаетс€ от него в обр€довой сфере тем, что он бог оргиастический. ѕо героической ипостаси, им выделенной, Ч јктеону, Ч мы узнаем его как ловчего скитальца по горным вершинам и дебр€м, окруженного сворою хтонических собак; как содружника Ќочи и вожд€ исступленных ее служительниц; как душегубца, от которого надлежит ограждатьс€ магическими апотропе€ми, вроде тех уз, какими были св€заны идолы его двойников: в ќрхомене Ч јктеона, в —парте Ч Ёниали€, на ’иосе Ч ќмади€ ƒиониса. Ѕудучи предметом женского оргиастического поклонени€, он способен к при€тию обличи€ юношеского и детского, что окончательно преп€тствует смешению его как с јидом, так и с подземным «евсом и подготовл€ет почву его орфической метаморфозе в сына «евсова.
ќрфический синтез жизни и смерти как другой жизни, св€занной с первой возвратом душ на лицо земли (палингенесией), укрепл€€ соответствующее представление о ƒионисе, как о вожде по пути вниз и по пути вверх, естественно пользуетс€ «агреем как готовым в народном сознании оргиастическим аспектом ƒиониса подземного, но дает ему своеобразное оптимистическое и эвфемистическое истолкование: ЂЌеправо люди, в неведении о дарах смерти, мн€т, что лют «агрей: это Ч владыка отшедших, ƒионис отрадный. ѕод страшным ликом того, кто увлекает души в подземный мрак, таитс€ лик благостный; тот, кого бо€тс€, как смертоносного губител€, сам Ч страдающий бог. јктеон растерзан собственной или јртемидиной сворой; и «евсов отрок, пожранный “итанами, не кто иной как тот же —ильный Ћовчий, «агрей-ƒионис. ¬ запредельном царстве успокоенных душ оп€ть обретает он свой целостный, кроткий обликї. «агрей утрачивает самосто€тельное значение; но тем большее величие приобретает его мистический образ. ѕевец јлкмеониды провозглашает его, сопрестольника √еи, наивысшим среди богов. ќрфическа€ реформа в ƒельфах и орфическа€ государственна€ религи€ в јфинах VI века упрочивают славу имени «агреева как таинственного ƒионисова имени, вéдомого посв€щенным.
» посв€щенные (если не по принадлежности к иерархии мистов, то по внутреннему отношению к эзотерической теологии), подобные Ёсхилу, чей дух, по выражению јристофана, был вскормлен элевсинскою ƒеметрой, знали «агре€ как сыновний лик того подземного «евса (Ζεύς Χθόνιος), которого называет уже √омер (»л. IX, 457) и почитает судьей над мертвыми Ёсхил (Suppl. 237). Ќо некотора€ не€сность определени€, устранима€ дл€ древних лишь путем обр€дового формализма, все еще чувствуетс€. ¬сегда ли, и исключительно ли, он ƒионис и сын (Ђпрости, «агрей, и ты, гостеприимный царьї, т.е. јид, Ч говорит Ёсхилов —изиф), или же сливаетс€ с отцом, и с кем именно Ч с јидом или с подземным «евсом, Ч на эти вопросы возможен двойственный ответ на основании немногих до нас дошедших и не свободных от противоречи€ изречений Ёсхила о «агрее.⁶
_________________________
[5] ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν. (Heracl. fr. 127 Byw.)
[6] Еτινές δέ τόν Ζαγρέα υιόν Ἅδου φασίν, ώς Αισχύλος έν Σισύφω, ЂΖαγρεί τε νύν με καί πολυξένω χαίρεινї.
Ζαγρέα υιόν Ἅδου Ч «агрей, сын √адеса (јида).
_______________________________
ƒ»ќЌ»— » ѕ–јƒ»ќЌ»—»…—“¬ќ
I. »Ќќ»ћ≈ЌЌџ≈ ƒ»ќЌ»—џ
1. “ипы прадионисийских культов
≈сть многозначительна€ историческа€ правда в словах √еродота (II, 52, 1. 3):
Ђ»здревле пеласги вс€ческие приносили жертвы, мол€сь богам, Ч как € слышал в ƒодоне, Ч но ни прозвищем, ни по имени не называли ни одного божества, ибо именам не научилисьЕ ƒионисово же им€ узнали еще позднее, нежели имена других божествї.
¬ самом деле, древнейша€ эпоха ƒионисовой религии есть эпоха безыменного или иноименного Ђпра-ƒиониса. ќдним из свидетельств об этой подготовительной стадии религиозно-исторического процесса, приведшего к объединению местных оргиастических культов под определенным именем одного общеэллинского божества, может служить пустой престол некоего бога, заполненный впоследствии малым кумиром ƒиониса, по изображени€м на монетах ‘ракийского Ёна (Aἰνός). ¬ид прадионисийского культа представл€ет собою почитание безыменного √еро€, распространенное во ‘ракии и ‘ессалии, на долгие времена укоренившеес€ в балканских странах вообще и встречающеес€ здесь и там в разных местах Ёллады и ¬еликой √реции, причем из атрибутов √еро€ развиваютс€ его Ђпрозвищаї (ἐπίκλησις) онника и ќхотника; последние окаменевают в имена, установление коих выводит √еро€ из круга безыменных пра-ƒионисов, и ¬еликий Ћовчий Ч Ђ«агрейї Ч находит уже немалую общину оргиастических поклонников, в качестве самосто€тельной божественной ипостаси пра-ƒиониса Ч јида, Ч пока его культ не впадает притоком в широкую реку торжествующей ƒионисовой религии. безыменным культам относитс€, далее, женский оргиазм, в своем исконном служении неизменно-пребывающему женскому божеству требовавший мужского коррел€та в лице периодически рождающегос€ и умирающего бога и, наконец, обретший искомые им€ и обличие в родившемс€ ƒионисе.
ќргиастические культы, не знающие точного имени и €сно означившегос€ лица боготворимой одержащей силы, естественно приемлют ƒиониса, когда сокровенное им€ найдено и смутное представление о незримом двигателе оргий и возбудителе исступлений антропоморфически определено. »ные же вовлекаютс€ в орбиту других культовых прит€жений, Ч например, јполлона, ѕосейдона, Ч или же обособл€ютс€, коснеют и мельчают в своей местной замкнутости: так, переживани€ прадионисийской ступени сохран€ютс€ до весьма позднего времени Ч и впитываютс€ христианством Ч в почитании все того же безыменного √еро€, о чем свидетельствуют, между прочим, надписи с посв€щением deo Heroi sancto, чаще deo sancto Heroni, найденные на Ёсквилине, и подобные же в других местах.
»ноименные культы испытали дво€кую участь. „аще всего их первоначальные объекты, местные демоны (δαίμων, Ђбожествої) с отличительными особенност€ми будущего ƒиониса, низвод€тс€ на степень героев. Ётиологический миф обычно приводит этих героев в более, или менее тесную св€зь с самим ƒионисом (таковы, напр., Ёлевтер, »карий, ќйней, јристей), порою же прагматически св€зать повесть о них с де€ни€ми бога не может, но неизменно выдвигает их страстную участь (πάθος, Ђстраданиеї) как некую печать их внутреннего родства с божественным чиноначальником (Ἀρχηγέτης) Ђстрастейї; кроме того, в их характеристике необходимо сохран€ютс€ отдельные, как бы физиономические черты бога, героическими двойниками которого они продолжают жить в религиозной пам€ти народа. Ќо это важное €вление в развитии ƒионисовой религии должно быть предметом особого рассмотрени€ (о героических ипостас€х); в пор€дке же насто€щего исследовани€ внимание наше сосредоточиваетс€ на другом типе иноименных культов. Ёто Ч те оргиастические богопочитани€, объект коих был раньше обретени€ ƒионисова имени отожествлен с одним из общенародных и древнейших богов, Ч большею частию, с самим «евсом; он же, в качестве верховного бога, в период до выработки пон€ти€ сыновней ипостаси, был особенно близок монотеистическому складу богочувствовани€, составл€ющему характерное отличие общин оргиастических.
ѕон€тно, что усвоение определившегос€ ƒионисова божества этими подготовительными, прадионисийскими культами Ч в случа€х уже совершившегос€ присоединени€ их к другим древнейшим культовым сферам Ч было в высшей степени затруднено. ¬ редких случа€х, когда это усвоение оказываетс€ тем не менее возможным, оно имеет своим типическим последствием удвоение культа: таковы «евс-бык и ƒионис-бык на рите, «евс и ƒионис ћейлихии, «евс и ƒионис Ћафистии, јрей и ƒионис Ёниалии; сюда же относ€тс€ «евс-јристей, «евс-√ерой, «евс-—абазий и т.п. “акое религиозное образование, как Ђ«евс-¬акхї пергамской надписи, конечно, исключение и аномали€; примечательно, однако, что Ђ«евс-¬акхї чтитс€ р€дом с Ђ«евсомї. ѕравда, надпись, именующа€ обоих вместе, принадлежит поре позднего синкретизма; но последний лишь облегчил, в данном случае, культовое определение исконного местного веровани€. ѕозволительно думать, что сближение некоторых малоазийских ликов «евса с ƒионисом совершилось под вли€нием таких искони синкретических религиозных форм, какими были в своих местных особенност€х культы «евса арийского и “арсского, «евса-’рисаора в —тратоникее и «евса —трати€ в Ћабранде или культ фригийского и писидийского Ђбога спасающегої, отличительным признаком которых служит «евсов атрибут обоюдоострой секиры (λάβρυς), наследие хеттского јттиса-“ешуба и хеттского √еракла ƒиониса Ч —андона в “арсе. ѕоскольку тотем двойного топора с его оргиастическим обр€довым кругом был всецело усвоен религией ƒиониса, как это с особенною отчетливостью наблюдаетс€ на “енедосе, постольку названные божества приобретают прадионисийский характер.
–одственное €вление наблюдаетс€ в ƒодоне, где изначальному почитанию подземного «евса придаютс€ черты дионисийского культа: так, ему совершаютс€ возли€ни€ с виноградных листьев. ѕавсаний, в описании св€тынь аркадского ћегалопол€ (VIII, 31, 2), отмечает странность ѕоликлетовой статуи местного «евса ‘или€ (‘ίλιος): знаменитый художник придал ему черты ƒиониса и даже дал в руку тирс, но на тирсе изва€л орла; так сочетал он атрибуты ƒиониса и «евса.
2. ’тонические «евсы
ѕрототипом большей части прадионисийских ликов «евса €вл€етс€ идейский или диктейский «евс, наследник доэллиннского и родственного хеттским божествам критского, бога с обоюдоострой секирой, бога-быка, живущего в Ћабиринте, Ч он же критский «евс, как бог оргиастических жертв, Ч пра-ƒионис ќмадий (ὅμαδιος) и, как бог погребенный, Ч пра-ƒионис јид. «амечательно, что и этот культ впоследствии удвоен культом быка-ƒиониса, вбирающим в себ€ элементы женского оргиазма и омофагии (ὠμοφαγία), т.е. растерзани€ и съедени€ жертвы живьем. “ак что за «евсом рита остаютс€ из области оргиастической только куреты, а из сферы первоначальных представлений о нем как о боге подземном только почитание пещеры, где он родилс€, и непон€тной позднейшему эллинству (напр., аллимаху) его могилы. производным из критского культам принадлежат «евс-ѕолией афинских буфоний и соприродных им обр€дов на островах, как и милетский «евс или «евс-—осиполис в ћагнесии на ћеандре, который также чтилс€ буфони€ми и, сверх того, угощением богов, дл€ коих воздвигались кущи и три ложа. ¬ самом деле, если элейский —осиполис, младенец-змий, пришел с рита, естественно сочетать с ритом и магнетский культ, Ч как, впрочем, и другие буфонии оказываютс€ генетически св€занными с островом ћиноса. Ёти городские покровители «евсы, будучи божествами подземными, закономерно мысл€тс€ в виде городовых змиев.
¬ лице √анимеда мы встречаем героизацию человеческих жертв, приносимых некоему пра-ƒионису, отожествленному с верховным «евсом и про€вл€ющему свою божественную силу в даре виноградной лозы. ќ Ђбогоподобномї (ἀντίθεος) √анимеде, Ђпрекраснейшем из смертныхї, √омер (»л. XX, 234) говорит, что Ђбоги восхитили его быть виночерпием «евсаї. ѕеред нами суровый пра-ƒионис и предварение юного, гроздью увенчанного ¬акха, испытывающего страсти (πάθος): оргиастическое numen¹ виноградного дара представлено дуалистически своею жреческою и жертвенной ипостасью, Ч другими словами, в мифе о √анимеде предначертан почти полный состав ƒионисовой религии. ћала€ »лиада знала, что «евс дал отцу √анимеда в уплату за сына золотую виноградную гроздь, работу √ефеста, Ч что оп€ть указывает на родство легенды с культом винограда. ¬арианты сказани€ обличают в похитителе √анимедовом человекоубийственного «евса: легенда издавна ориентируетс€ на рит, где похитителем €вл€етс€ ћинос. ¬ малоазийской (от рита независимой и восход€щей, по-видимому, к хеттам) версии ипостась пра-ƒиониса («евса) ќмади€ Ч “антал, жертвоприноситель отрока-сына, угощающий плотью юного ѕелопса богов-сотрапезников, и обладатель бессмертной влаги.
ѕервоначальное почитание ƒионисова numen среди эллинов под неопределенным именем «евса оставило следы и в культе прадионисийских героических ипостасей, прин€тых за ипостаси подземного «евса (Ζεὺς χθόνιος), каковы «евс-јристей, «евс-јмфиарай, «евс-“рофоний, «евс-√ерой, Ч и в культе ћейлихи€.² ѕоследний Ч подземна€ сила, то мыслима€ множественною, как боги-ћаны италиков (δαίμονες μειλίχιοι противополагаютс€ богам небесным, οὐράνιοι), то раздво€юща€с€ на мужскую ипостась и женскую, св€занна€ с древопочитанием вообще (ἔνδενδρος, древобог Ч как ƒионис, так и «евс), в частности же с почитанием смоковницы (συκάσιος, συκεάτης, συκίτης Διόνυσος), древа очищений, и, по-видимому, с кровавым, семитического происхождени€, оргиазмом.
_________________________
[1] numen, -inis n образ, т.е. изображение или стату€ бога (numina divum V).
[2] Ἀρισταῖος {ἀριστεία} ὁ јристей, доблестный;
Ἀμφιάραος (ἀμφι-άραος) ὁ јмфиарай, грозный;
Τροφώνιος ὁ “рофоний, питающий (эпитет «евса с храмом и оракулом в Ћебадии);
Μειλίχιος ὁ ћейлихий, милостивый, милосердный (Ζεύς Plut.).
ќбща€ всем видам древнейшего религиозного миросозерцани€ мысль о коррел€тивной св€зи между смертью и половой силой, о зависимости земного плодороди€ и чадороди€ от воль подземных, поскольку она раскрывалась и в культовых сношени€х с семитами, воплотилась в служении ћейлихию (веро€тно, ћолоху), подземному «евсу, другому лику «евса небесного, и ћейлихии Ч јфродите (јстарте). — возникновением идеи о тождестве јида и ƒиониса, ћейлихием стал и ƒионис. Ђ„ерна€ смоковница, сестра виноградаї была отдана именно последнему; но уже укоренившийс€ культ ћейлихи€ под именем «евса осталс€ одновременно в силе и даже преобладал над новым, приуроченным к имени ƒиониса: так ƒиасии (Διάσια), афинский праздник ћейлихи€ в дионисийском мес€це јнфестерионе, остались за «евсом. Ёвфемистическое им€ ћейлихий, которому соответствуют устрашающие имена того же божества Ч ћаймакт (Μαιμάκτης, Ђ€ростный, буйныйї) дл€ «евса, јгрионий (Ἀγριώνιος, Ђсвирепыйї) и ќмадий (Ὠμάδιος, Ђдикий, жестокийї), ќмест (Ὀμηστής, Ђкровожадныйї) дл€ ƒиониса, свидетельствует о замене человеческих жертв жертвоприношени€ми животных и, наконец, жертвами бескровными и €вно обнаруживает дионисийскую природу ћейлихи€.
3. Ћафистий и јфамант
јналогичен ћейлихию в некоторых отношени€х (хот€ и различен от него, вопреки мнению ќтфрида ћюллера, уже самим происхождением) Ч Ћафистий (Λαφύστιος, Ђѕожирательї): в обоих культах мы видим попытку приписать ужасную силу некоего оргиастического божества, требующего человеческих жертв, сначала «евсу, потом ƒионису. √ероическа€ проекци€ Ћафисти€, бога горы Ћафистион (Λαφύστιον ὄρος) близ ќрхомена в Ѕеотии, а также јфамантовой равнины и города √алоса во ‘тиотиде, Ч јфамант, царь минийского ќрхомена. » подобно тому как первоначальный «евс-Ћафистий удвоен позднейшим религиозным образованием Ч ƒионисом-Ћафистием, так и јфамант, обреченный первому, оказываетс€ в предании одним из исступленных героев-вакхов (βάκχοι). »бо героические ипостаси божества обречены ему: так, јртемида-»фигени€, в качестве смертной девы, обречена јртемиде Ч как жертва или жрица; она же была и тою, и другой. » не только обречен «евсу-Ћафистию сам јфамант, его жрец и жертва, но и каждый старейший в роде из его потомков, приблизившись к дому старейшин в √алосе, умерщвл€лс€ в жертву «евсу-Ћафистию, по свидетельству √еродота (VII, 197). ƒионисийским коррел€том того же сакрального установлени€ €вл€етс€ преследование обреченных дев (Ὀλεῖαι) из минийского рода жрецом ƒиониса, с мечом в руке, на орхоменском празднестве јгрионий, по сообщению ѕлутарха (quaest. gr. 38).
¬овлечение прадионисийского культа в круг ƒионисовой религии совершилось, очевидно, под вли€нием ‘ив, что выразилось в мифологеме мотивом бракосочетани€ јфаманта с »но, сестрою —емелы, фиванской матери ƒиониса. »но, в доме јфаманта воспитавша€ божественного младенца, сына —емелина, хочет извести пасынка ‘рикса и падчерицу √еллу, детей своего мужа от Ќефелы. ƒети бегут из дома и скитаютс€ по дубравам, обезумев от пребывающего под их кровом ƒиониса (согласно √игину). √ера (вмешательство коей составл€ет несомненно позднюю черту мифа), мст€ за покровительство, оказанное сыну —емелы, наводит на јфаманта бешеное неистовство. ќн преследует ‘рикса; но отрока и сестру его спасает их мать, богин€ ќблако, на золоторунном баране. ƒревнейшее сказание говорило о принесении ‘рикса јфамантом в жертву «евсу-Ћафистию. јфамант умерщвл€ет Ћеарха, собственного сына от »но, который представл€етс€ отцу, охваченному дионисийским безумием, то молодым оленем (νεβρός, по Ќонну), то львенком (по ќвидию). √ерой бродит, одичалый, без крова; волки дел€т с ним кровавую снедь.
ѕеред нами типический спутник преследуемого и жертвоприносимого бога: его преследователь и исступленный жрец. јфамант Ч человек-волк (как фракийский Ћикург, ἀνδροφόνος Λυκόοργος шестой песни »лиады) и вместе корм€щий младенца молоком мужских сосцов Ђвакх пестунї (оп€ть как Ћикург, которому хотелось бы отн€ть божественное дит€ у ƒионисовых кормилиц), Ч оленеубийца и небридоносец, разрывающий ƒиониса под личиною Ћеарха. ¬ его лице, как бы на наших глазах, услаждающийс€ снедью детской плоти оргиастический Ћафистий превращаетс€ в вакха-дионисоубийцу. »но, сказание о которой лишь искусственно сопр€жено со сказанием об јфаманте, менада парнасских дебрей, по ≈врипиду, Ч бросаетс€ с сыном ћеликертом в белопенную морскую кипень, предварительно опустив отрока, по одному из вариантов мифа, в кип€щую воду, имеющую силу возрождать в новом образе человека; в море обернулась она Ђбелой богинейї Ћевкофеей (Λευκοθέα), с волшебным покрывалом из пены (κρήδεμνον, головна€ пов€зка с покрывалом дл€ лица), спасающим пловцов (ќдиссе€), а сын ее Ч богом ѕалемоном, покровителем мореходов: так младенец ƒионис у √омера спасаетс€ от €рости Ћикурга, на лоно морской богини; так дионисийские нимфы бросаютс€ в море, преследуемые двойником Ћикурга Ч Ѕутом (Bούτης). ћеликерт Ч дубликат Ћеарха, возникший, очевидно, из контаминации фиванского вакхического культа с неким морским коррел€том такового, и притом, суд€ по имени бога, коррел€том финикийского происхождени€: если Ћеарх Ч отроческий аспект ƒиониса, как молодого льва (λέων), подобного ѕенфею (созвучие слов способствовало, по-видимому, фиксации этого близкого ‘ивам по культу матери богов образа), ћеликерт-ѕалемон³ Ч отроческий аспект ƒиониса на дельфине, каким знал его островной культ. Ќо, как јсклепий, выделившись из јполлонова божества, приобретает полную самосто€тельность, так прекращаетс€ и дальнейша€ св€зь между ѕалемоном и ƒионисом.
_________________________
[3] Μελικέρτης (-ου) ὁ ћеликерт (морское божество) Pind., Polyb., Luc., Anth.
Παλαίμων (-ονος) ὁ ѕалемон, ЂЅорецї (эпитет ћеликерта, сына »но-Ћевкотеи) Eur.
4. «евс Ћикейский, Ћикаон, Ћикург
ѕодобен јфаманту и “анталу Ђпеласгийскийї Ћикаон, героическа€ ипостась «евса-Ћике€ (Λύκαιος), учредитель его культа в јркадии, царь-жрец, предлагающий в снедь своему богу плоть внука јркада, рожденного от «евса дочерью цар€, јртемидиною служительницей, а потом медведицей, аллисто. јркад, как и “анталов ѕелопс, чьей плоти отведали боги, оживлен (примысл эпохи, упразднившей человеческие жертвоприношени€); Ћикаон обернулс€ волком; стол же, на котором было предложено жертвенное €ство, опрокинут разгневанным «евсом, как опрокидывает, с прокл€тием на ѕлисфенидов, роковой стол обманутый родитель ‘иест. ќпрокидывание св€щенных столов Ч оргиастический обр€д, несомненно св€занный с омофагией и составл€вший мистическую часть богослужени€ дионисийских менад; рассказ о ‘иестовой трапезе у Ёсхила Ч отражение мифа о Ћикаоне. ѕодстрекательство к детоубийству приписываетс€ первенцу Ћикаона, ћенолу, т.е. Ђисступленномуї (μαινόλης), носителю дионисийского имени, подобно брату его, первенцу по версии ѕавсани€, Ќиктиму (Νύκτιμος). —ближение јртемиды с Ћикейским «евсом через аллисто также указывает на прадионисийскую природу последнего.
ќсновной тотемический мотив ликейского культа Ч преследование волками оленей. ќлен€ми (ἔλαφοι) зовутс€ обреченные чужеземцы в храме Ћике€, волками Ч жрецы. Ёти, Ч повествует ѕавсаний (VIII, 2, 5), Ч по первом вкушении человеческого м€са поистине обращались в волков; но если побеждали свой голод к такой снеди и не вкушали от нее дев€ть полных лет, становились оп€ть людьми. Ќа то же аркадское предание ссылаетс€ однажды и ѕлатон (Rp. 565 D). ѕеред нами обломки и воспоминани€ древнейших культов, из коих развились народные представлени€ о ликантропии, вера в вурдалачество. —юда же относитс€ упоминаемый ѕлинием (N. Ќ. VIII, 34) обычай в аркадском роде јнфа выбирать по жребию одного из родичей в Ђволкиї; сн€в с себ€ прежние одежды и повесив их на дуб, он становилс€ Ђволкомї, т.е., очевидно, опальным изгнанником, и должен был жить Ђс волкамиї дев€ть лет. ƒионисийское им€ јнфидов и обр€д переодевани€, Ч быть может, с прин€тием личины или других знаков и отличий волка, вроде наброшенной на голову волчьей шкуры с головою звер€, какую мы встречаем на иных античных изображени€х, Ч характеризуют это религиозное установление, как промежуточную, переходную форму между культами прадионисийского Ћике€ и ƒиониса. ѕо-видимому, могущественное и страшное некогда прадионисийское жречество в пору отмены человеческих жертв было поставлено под угрозу опалы в случа€х возврата к человекоубийственной ритуальной практике, причем опала могла условно распростран€тьс€ и на целый жреческий род, как мы видели это на примере јфамантидов.
≈сли волк-Ћикаон есть низведенный на землю «евс-Ћикей, если волк-јфамант Ч «евс-Ћафистий, или, что то же, ƒионис-Ћафистий, то в лице Ћикурга, лютого волка плото€дного (ὠμηστής, λύκος ὠμοφάγος), легко узнаетс€ фракийский пра-ƒионис ќмадий. Ќа дионисийскую природу Ћикурга указывает и его родство с миром растительным (он сын ƒриады, и он же запутываетс€ в виноградную лозу), и его двуостра€ секира. √омеровска€ сцена преследовани€ Ћикургом Ђкормилиц буйного ¬акхаї Ч типическое дл€ дионисийской легенды раздвоение ƒионисова божества. ѕодобным ѕенфею очерчен был Ћикург в ЂЁдонахї Ёсхила. ћладенец, которого вакх-пестун оспаривает у пестуний-вакханок, неистребим, хот€ и делаетс€ несомненно, испытыва€ πάθος, оргиастической жертвой своего €ростного двойника или своих же менад: он растекаетс€, например, стихией влаги. ¬ версии мифа у ƒиодора (V, 50), ƒиониса, впрочем, вовсе нет, а брат Ћикурга, по имени ¬олопас (Bούτης), преследует только кормилиц бога; менады убегают на гору ƒриос, во ‘тиотиде, или же кидаютс€ в море; ƒионис карает преследовател€ безумием.
5. Ћегенда о ћакарее и прадионисийское жречество. ћеламп.
ѕрадионисийские человекоубийственные культы привнесли в историческую религию ƒиониса необходимый ей элемент: многообразно представленный в ликах мифа единый тип свирепого ƒионисова двойника-преследовател€, жреца-исполнител€ оргиастической жертвы. “ип этот одинаково дан был и обр€довой действительностью, и мифологическим преданием. ¬ последнем герои-жрецы-преследователи суть очеловеченные ипостаси пра-ƒиониса ќмади€.
–аздвоение божества на лики жреческий и жертвенный и отожествление жертвы с божеством, коему она приноситс€, было исконным и отличительным досто€нием прадионисийских культов. Ѕог-бык был вместе бог-топор на рите и во всем островном царстве древнейшего дифирамба. ќргиастическое божество фракийских и фригийских культов всегда двойственно, причем стремление определить его как две раздельные сущности встречаетс€ с невозможностью провести это разделение Ч отн€ть у страдальной ипостаси ее грозную, губительную силу и лишить свирепого бога страстнόй участи. Ќо в общем можно заметить, что утверждение исторической религии ƒиониса, совпада€ с заменой мистически-реальных, т.е. человеческих, жертв фиктивно-реальными, символическими (ибо зооморфизм уже обратилс€ в символизм) жертвоприношени€ми животных, способствовало торжеству кроткого лика в двуликом ƒионисовом божестве, Ч чтό и сделало его, по выражению Ћипперта, Ђпасхою эллиновї, Ч и выделению жестокого, губительного начала в дионисийские ипостаси героев-преследователей.
’арактерным примером может служить митиленска€ легенда о ƒионисовом (как это €вствует из самого имени) жреце ћакарее. Ђ роткий на вид, духом же лютыйї (Aelian. v. h. XIII, 2) и Ђлевї (по ƒиодору), ћакарей убивает тирсом жену, казн€ ее за убийство старшего сына. ”мертвила же она старшего сына за то, что тот убил брата отцовским жреческим оружием (σφαγίς), подража€ св€щеннослужению отца, и сжег тело отрока на алтаре ƒионисовом в пору праздновани€ триетерий. “ак покарал ћакаре€ ƒионис за коварное злоде€ние, некогда им совершенное над одним чужеземцем в самом св€тилище (ἀνάκτορον). “ем не менее, ћакарей был чтим народом и, когда умер, по ƒионисову повелению погребен на счет города. ѕрагматизм легенды поздний, но в основных чертах она сложилась по упразднении человеческих жертв и отразила черты религиозного быта предшествующей эпохи. ћакарей слыл основателем храма растительного ƒиониса-Ѕрисе€. Ќовое исследование правильно усмотрело в нем Ђбожественное существо, служившее объектом культа в культовом цикле митиленского ƒионисаї. ¬ нем типически ипостазировано божество ƒиониса, как необорима€ свирепа€ сила и львина€ €рость (δύναμις, ἀλκή, λέων, οργή). ¬акханки в трагедии ≈врипида (ст. 1017) приглашают ƒиониса €витьс€ в образе Ђогнедышащего льваї (πυριφλέγων λέων). Ќо в то же врем€ ћакарей рассматриваетс€ уже не как ƒионис, а в противоположении ему и его кроткому, св€тому закону: это позднейша€, см€гченна€ форма оргиастической религии. ћакарей Ч первоначально прадионисийский оргиастический бог, потом грозный и вместе страдальческий герой, коему принос€тс€ жертвы на его гробнице, наконец Ч квазиисторическое лицо, о котором рассказываютс€ тенденциозные вымыслы (ограбление чужеземца), долженствующие утвердить религиозно-просветительную и гуманную мораль нового века.
—одержание же легенды, этого религиозно-исторического палимпсеста, отчетливо выступает во всех подробност€х. — одной стороны, мы находим в ней картину прадионисийского жречества: убиение чужеземцев в св€тилище, т.е. в жертву богу, принесение в жертву детей и, наконец, родовую наследственность жречества. — другой стороны, перед нами женский триетерический оргиазм с его детоубийством и убийственным преследованием женщин мужскими участниками культа, подобным сохранившемус€ до поздних времен в ќрхомене преследованию миниад (Μινυάδες, три дочери ћини€), именуемых Ὀλεῖαι. Ёто два разных культа: мужской, прадионисийский, и женский, до обретени€ ƒионисова имени посв€щенный богине Ќочи и безыменному ƒионису. ѕервому соответствует жреческа€ Ђсфагидаї, под которою, в данном случае, едва ли не разумеетс€ двуостра€ секира; второму Ч тирс. ќба человекоубийственные культа слиты в единую ƒионисову религию. ѕо-видимому, первый культ Ч островной, с рита пришедший, в минойском предании корен€щийс€ культ двойного топора и быка-ƒифирамба; он же искони был морским и растительным, в частности Ч культом винограда. ¬торой Ч материковый, горный, триетерический, знаменуемый символами-тотемами тирса, плюща и змеи, культ парнасских менад, Ч по своему происхождению, веро€тно, фракийский. —оединение первого с женским оргиазмом второго дает окончательную форму религии ƒионисовой.
атартическое (καθάρσιος), т.е. очистительное, освободительное, целительное разрешение оргиастических преследований по обретении ƒионисова имени €сно ознаменовано в мифе о ћелампе (Μελαμπόδεια), которого √еродот считает первоучителем религии ƒионисовой и установителем ее обр€дов. ѕилосский прорицатель ћеламп (Μελάμπους, -ποδος Ч Ђчерноногийї), сын фессалийского јмифаона, об€занный дружбе змей своим могуществом ведуна, знахар€ и очистител€, вещий дар свой получил, конечно, не от јполлона, с которым был сближен только позднее, когда дельфийский бог овладел всей областью мантики, катартики и медицины, Ч но из недр земли и принадлежит, по особенност€м своего мифа и своей генеалогии, к ликам сферы хтонической. ƒругом змей стал он потому, что первоначально сам был змием: чернота ног, означенна€ в его имени, говорит на символическом €зыке древнейшего мифа о том, что нижн€€ половина его тела оставалась как бы погруженною в подземное царство, что его человеческое туловище кончалось, как у Ёрихтони€, змеиным хвостом.⁴
_________________________
[4] ћеламп не только Ђчерноногийї, но и Ђчернокозийї, как Διόνυσος Mελάναιγις, один из аспектов ƒиониса-јида; таковым же слывет ѕифон. ульт ћелампа засвидетельствован надпис€ми в Ёгисфене, где коза Ч тотем, и миф помнит, что он был вскормлен козою. ƒалее: хтонический пес прадионисийского дикого охотника јктеона носит им€ Μελάμπους, или Mελαγχαίτης (Ђчернокосмыйї), Ч оп€ть одно из наименований ƒиониса, Ч или, наконец, просто Μελανεύς (Ђчерныйї): эти прозвища рассматриваютс€, очевидно, как синонимы.


1. ‘рако-македонские племена (uncertain). “етрадрахма (AR 15.03g), 530-480 до н.э. Av: козел с человеческой головой; Rv: квадрат разделенный на четыре части.
2. √имера (Ἱμέρα), —ицили€. Ћитра (AR 12mm, 0.68g), ок. 470-450 до н.э. Av: крылата€ протома козла с человеческой головой; Rv: наездник верхом на козле; IMERAIΩN


3. ћакедони€, римска€ провинци€. Æ 22mm (10.38g), 168-166 до н.э. ћагистрат √ай ѕублилий (Gaius Publilius, quaestor). Av: голова ƒиониса в венке из плюща. Rv: козел; TAMIOY √AIOY ѕOѕΛIΛIOY
4. Ёги (Αἰγαί), јхай€. √емидрахма (AR 2.74g), V-IV в. до н.э. Av: бородата€ голова ƒиониса в венке из плюща; ΑΙCΑΙ[ΟΝ]. Rv: протома козла; ΑΙC
» самое сближение с јполлоном Ч того, кто выступает пророком ƒионисовым, свидетельствует, что ћеламп, по корн€м своим, прадионисийский демон-вещун, подобный ѕифону и застигнутый распространением религии пифийского јполлона раньше, чем сформировалась религи€ ƒионисова. ак ипостась ƒиониса-јида, ћеламп оказываетс€ узником, заключенным на год в источенную черв€ми дерев€нную темницу Ч домовину. ак та же ипостась, €вл€етс€ он, далее, основателем фаллагогий, посв€щенных, как это твердо знает √ераклит, ƒионису-јиду. ћеламп жив в пам€ти мифа как возродитель мужского чадороди€ и устроитель экстатических пл€сок, в особенности же как организатор женского оргиазма и учитель здравого экстаза, неупор€доченность коего дотоле порождала разнообразные недуги и извращени€. ”пор€дочение сферы женских исступлений обусловливает общение ћелампа с ƒионисовой и пра-ƒионисовой сопрестольницей јртемидой, Ч или им обусловлено. ¬ мифе о ћелампе еще слышны отголоски человеческих жертвоприношений, именно женских (гибель ѕройтиды »финои во врем€ катартического преследовани€, гибель женщин под развалинами обрушившейс€ темницы) и отроческих (повесть о ноже ‘илакса, отца »фиклова), при отмене коих выпитие крови было замещено питьем вина (ржавчина от ножа даетс€ »фиклу с вином как волшебное лекарство, φάρμακον).
ѕо изображению на одной краснофигурной вазе, ћеламп, облеченный в пестрый хитон, противопоставлен как пожилой муж ƒионису-юноше, одетому в такой же хитон, пов€занному митрой (μίτρα) и держащему в руке вакхический канфар (κανθάριον) с вином, подле кумира јртемиды-Ћусии (Λύσια, Ђосвобождающа€ї, Ђизбавительницаї); у подножь€ кумира расположились исцеленные ѕройтиды, между тем как закл€та€ Ћисса (Λύσσα, богин€ безуми€), владевша€ прежде дочерьми ѕройта, с искаженным лицом, пр€четс€ за колонну с треножником; поодаль сидит —илен; на стене св€тилища вис€т рельефы, изображающие бешеную пл€ску сатиров, Ч намек на введенные ћелампом мужские пл€ски; в руках у одной ѕройтиды и ƒиониса раскидистые ветви, у ћелампа и —илена Ч тирсы, так что стан преследуемых (женский) охарактеризован ветв€ми, а стан преследователей (мужской) Ч тирсами, которым соответствует копье в руке исцелительницы јртемиды, Ч причем выдвинуто религиозное тождество обоих примирившихс€, разоружившихс€ станов. ѕеред нами выдержанный в символах мифа исторический рассказ об укрощении обособленного и замкнутого женского оргиазма прадионисийской эпохи новым заветом религии ƒионисовой.
6. јрей
√розна€ ипостась двойственного оргиастического божества, которую мы видели отожествленною в р€де культов с верховным «евсом, Ч в тех случа€х, когда противоположна€ ипостась уже определенно дана в религиозном сознании, когда лицо собственно ƒиониса уже отчетливо вы€влено, Ч не преобладает над ней в виде верховного «евса, но ей соподчин€етс€ и обусловливает представление о €ростном боге-двойнике кроткого ƒиониса Ч кровожадно исступленном јрее.
Ђ‘ригийцы, Ч говорит ѕлутарх (de Is. et Os. 69),Ч думают, что бог зимою спит, а летом пробуждаетс€: как усыпление, так и пробуждение бога они отмечают вакхическими празднествами (βάκχευοντες). ѕафлагонцы же говор€т, что зимою он св€зан и пленен, а весною освобождаетс€ от оковї. “ак фригийска€ колони€ фракийцев, распространивша€ свою религию в ѕафлагонии, Ђв одно сливаетї, по —трабону, божества эдонского (фракийского) Ћикурга и ƒиониса. »ща ближе определить этого Ћикурга, местные культы т€готели к отожествлению его с «евсом, откуда и выше описанный «евс-¬акх. ¬ первоначальном же фракийском веровании это был јрей, т.е. тот бог, которого эллины, издревле себе усвоив, наименовали јреем (Ἄρειος, Ђвоинственныйї). »бо, по основному свидетельству √еродота, Ђиз богов чтут фракийцы только јре€, ƒиониса и јртемидуї, причем јрей и ƒионис должны рассматриватьс€ как два противоположные лица одного мужского numen, носившего разные племенные имена, как —абазий, Ѕассарей, √игон, Ѕалий, ƒиал; те же богопочитани€ были перенесены во ‘ригию и, как кажетс€, распространились из нее по Ћидии.
Ђјре€ долю некую он вз€л в уделї: так намекает на изначальное тожество ƒиониса и јре€ ≈врипид. ƒионис Ёлелей (Ἐλελεῦ) Ч бог воинских кликов, так же как и јрей; ƒионис Ёниалий (Ἐνυάλιος) Ч Ђ¬оинственныйї, как јрей. ѕричем одноименный герой, Ёниалий-фракиец, представл€ет собою страстный, в дионисийском смысле, тип јре€: он умирает от руки своего же божественного двойника. ƒионис, далее, Ч Ђбог, радующийс€ на мечи и на кровьї; он Ч Ђмеднодоспешный воеводаї. ќба божества сливаютс€ в одном образе: ЂЅромий (Βρόμιος, ЂЎумныйї), копьеносец €рый, в битвах шум€щий, отец јрей!ї. ¬оинственные пл€ски в честь ƒиониса издавна совершались фракийцами и вошли в эллинский быт особенно после походов јлександра. —партанска€ πυρρίχη; стала тогда вакхической: вместо копий пл€шущие перебрасывались тирсами и размахивали зажженными факелами, изобража€ ƒионисову победу над ѕенфеем и его битвы в »ндии. “ака€ милитаризаци€ обр€да под впечатлением подвигов македонского Ђнового ƒионисаї (νέος Διόνυσος) была принципиально возможна потому, что тирсы изначала служили копь€ми и ƒионисово действо часто оказывалось воинским, как јреево Ч дионисийским. ¬ооруженные двуострыми секирами дикие служительницы јре€, девы-амазонки, составл€ют полный коррел€т вооруженным тирсами менадам ƒиониса; общим дл€ тех и других €вл€етс€ и ближайшее культовое отношение к јртемиде. ќтсюда уподобление поэтического вдохновени€ вакхическим битвам в Ђ“ристи€хї ќвиди€ (VI 1, 41):
Ђ ак, острием пронзена, не чувствует раны вакханка,
ƒико взыва€ в ответ зовам эдонских теснин:
“ак загораетс€ грудь, пораженна€ тирсом зеленым;
“ак, воскрыл€€сь, душа боли не помнит земной.ї
»з всех прадионисийских образов оргиастического бога јрей и в историческую эпоху ƒионисовой религии, остава€сь вполне самобытным в своем круге, по существу не отделилс€ от обособленного ƒионисова божества: отношение между обоими богами представл€ет собой редкий случай изначальной, самопроизвольной, естественной теократии. ¬ообще же јрей почти не отличаетс€ от других пра-ƒионисов: он, по √омеру, пьет кровь, Ч как, ради оргиастического обу€ни€ јреем, пьют человеческую кровь воины перед битвой, по рассказу √еродота (III, 11).
7. «агрей
ѕоглощение ƒионисовым nomen et numen (Ђим€ и обличиеї) самобытного и уже не безыменного прадионисийского культа, как части целым, наблюдаетс€ в истории Ђдикого охотникаї Ч «агре€. Ђ¬еликий Ћовецї (μεγάλως ἀγρεύων, Etym. Gud.) Ч не просто один из эпитетов цар€ душ, как думал, по-видимому, –оде. Ѕез сомнени€, «агрей-јид, как јид, в глазах √ераклита,⁵ и ƒионис: но если ƒионис, прежде всего не только јид, Ч «агрей, совпада€ с јидом по объему религиозного пон€ти€, отличаетс€ от него в обр€довой сфере тем, что он бог оргиастический. ѕо героической ипостаси, им выделенной, Ч јктеону, Ч мы узнаем его как ловчего скитальца по горным вершинам и дебр€м, окруженного сворою хтонических собак; как содружника Ќочи и вожд€ исступленных ее служительниц; как душегубца, от которого надлежит ограждатьс€ магическими апотропе€ми, вроде тех уз, какими были св€заны идолы его двойников: в ќрхомене Ч јктеона, в —парте Ч Ёниали€, на ’иосе Ч ќмади€ ƒиониса. Ѕудучи предметом женского оргиастического поклонени€, он способен к при€тию обличи€ юношеского и детского, что окончательно преп€тствует смешению его как с јидом, так и с подземным «евсом и подготовл€ет почву его орфической метаморфозе в сына «евсова.
ќрфический синтез жизни и смерти как другой жизни, св€занной с первой возвратом душ на лицо земли (палингенесией), укрепл€€ соответствующее представление о ƒионисе, как о вожде по пути вниз и по пути вверх, естественно пользуетс€ «агреем как готовым в народном сознании оргиастическим аспектом ƒиониса подземного, но дает ему своеобразное оптимистическое и эвфемистическое истолкование: ЂЌеправо люди, в неведении о дарах смерти, мн€т, что лют «агрей: это Ч владыка отшедших, ƒионис отрадный. ѕод страшным ликом того, кто увлекает души в подземный мрак, таитс€ лик благостный; тот, кого бо€тс€, как смертоносного губител€, сам Ч страдающий бог. јктеон растерзан собственной или јртемидиной сворой; и «евсов отрок, пожранный “итанами, не кто иной как тот же —ильный Ћовчий, «агрей-ƒионис. ¬ запредельном царстве успокоенных душ оп€ть обретает он свой целостный, кроткий обликї. «агрей утрачивает самосто€тельное значение; но тем большее величие приобретает его мистический образ. ѕевец јлкмеониды провозглашает его, сопрестольника √еи, наивысшим среди богов. ќрфическа€ реформа в ƒельфах и орфическа€ государственна€ религи€ в јфинах VI века упрочивают славу имени «агреева как таинственного ƒионисова имени, вéдомого посв€щенным.
» посв€щенные (если не по принадлежности к иерархии мистов, то по внутреннему отношению к эзотерической теологии), подобные Ёсхилу, чей дух, по выражению јристофана, был вскормлен элевсинскою ƒеметрой, знали «агре€ как сыновний лик того подземного «евса (Ζεύς Χθόνιος), которого называет уже √омер (»л. IX, 457) и почитает судьей над мертвыми Ёсхил (Suppl. 237). Ќо некотора€ не€сность определени€, устранима€ дл€ древних лишь путем обр€дового формализма, все еще чувствуетс€. ¬сегда ли, и исключительно ли, он ƒионис и сын (Ђпрости, «агрей, и ты, гостеприимный царьї, т.е. јид, Ч говорит Ёсхилов —изиф), или же сливаетс€ с отцом, и с кем именно Ч с јидом или с подземным «евсом, Ч на эти вопросы возможен двойственный ответ на основании немногих до нас дошедших и не свободных от противоречи€ изречений Ёсхила о «агрее.⁶
_________________________
[5] ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν. (Heracl. fr. 127 Byw.)
[6] Еτινές δέ τόν Ζαγρέα υιόν Ἅδου φασίν, ώς Αισχύλος έν Σισύφω, ЂΖαγρεί τε νύν με καί πολυξένω χαίρεινї.
Ζαγρέα υιόν Ἅδου Ч «агрей, сын √адеса (јида).
_______________________________
|
ћетки: ƒионис «агрей «евс √реци€ |
Ћ≈“ќ (Ћј“ќЌј) |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
≈√»ѕ≈“— »≈ ќ–Ќ» √–≈„≈— ќ… Ѕќ√»Ќ» Ћ≈“ќ
Ћј“ќЌј
»м€ Ћатоны (лат. Latona, Lato) имеет греческую этимологию и происходит от дорийской формы имени Ћето Ч Λᾱτώ (Λατοῦς). —амосто€тельной римской мифологии с участием Ћатоны, по большому счету, нет. ќбратимс€ к первоисточникам и посмотрим что нам сообщает, по поводу Ћатоны, √еродот.
√еродот объ€снил отождествлени€ греческих и египетских богов, причастных и непричастных к рассказанной им истории, единственно обойд€ вниманием Ћатону Ч главного персонажа, описываемого сюжета. ¬осполним пробел.
ƒл€ начала, сравнив с египетскими свидетельствами, отметим, что √еродот изложил все точно. ≈динственно в чем можно было бы поправить историка Ч не египт€не отождествл€ли своих богов с греческими, наоборот, это греки (включа€ √еродота) называют египетских богов своими (греческими) именами.
Ѕуто (др.-греч. Βουτώ, Βουτοῦς) Ч греческое им€ египетской богини ”аджит. ¬ эллинистический период им€ ”аджит имело вид: Wt (”то). —оответственно храм в ее честь Ч Ђƒом ”тої (pr-wt), или Ђћесто ”тої (bw-wt) Ч в греческом прочтении Ч Ѕуто (Βουτώ). ѕо названию храма богини ”то (bw-wt) именовалс€ и сам город (Ѕуто), располагавшийс€ в Ќижнем ≈гипте (в дельте Ќила, в 95 километрах к востоку от јлександрии). ÷ентр культа богини ”аджит находилс€ здесь еще в додинастические времена. ѕозднее именем Ѕуто стали именовать и саму богиню ”то (”аджит).
”аджит Ч богин€ хранительница всего Ќижнего ≈гипта. ћало этого, место рождени€ √ора находитс€ в непосредственной близости к ее храму. ¬есь город ѕе (P) вышел приветствовать родившегос€ бога (Pyr. 2190: pr Ḥrw m ȝḫ-bit ˁḥˁ P n Ḥrw). —овершенно естественно, что именно ”аджит охран€ет укрытого »сидой в заросл€х папируса (ȝḫ-bit) младенца √ора от козней —ета. —обственно, отождествление Ћатоны и ”аджит факт очевидный и давно известный, просто хотелось бы еще раз зафиксировать, почему в мифе фигурирует именно она (”то), а не кто-то еще.
„то ж, перейдем к Ћето-Ћатоне, коротенька€ выжимка из истории вопроса:
–ает (Rˁ.t) Ч это женский паредр –а. », как все богини из свиты –а, –ает, неминуемо, должна иметь эпитет ќко –а (irt Rˁ). Ѕольше того, женска€ ипостась –а Ч крайне невн€тный персонаж. — одной стороны, никто не сомневаетс€ в его существовании, с другой стороны, нет ни одного мало-мальски реального сюжета, где бы –ает себ€ €рко, в запоминающейс€ форме, про€вила. ј ведь это паредр ни какого-то второстепенного локального бога. –а Ч божество весьма значимое. “огда почему, в солнечной ладье, его сопровождает не –ает (его женска€ половина), а Ђпосторонниеї богини с эпитетом ќко –а. »ли не посторонние? ј, может, пон€ти€ Ђќко –аї и Ђ–аетї Ч тождественны? Ёто многое бы объ€снило. «афиксируемс€ на этом предположении. ќно нам может пригодитьс€ в дальнейшем.
¬.—олкин приводит текст из храма в ƒендере, где под именем (вернее эпитетом) –ает (у —олкина Ч –аит) выступает ’атхор:
Ћ≈“ќѕќЋ»—
Ћетополис (Λητοῦς Πόλις, лат. Letus, егип. —ехем или ’ем [Pr-Ḥr-nb-Sḫm; Sšm; Šm; Ḫm]) Ч столица II нижнеегипетского нома. Ётот ном и его бог-сокол Ḫnty-irty (ипостась ’ора, также называемый Ḫnty-Ḫm, т.е. ЂЌаход€щийс€ перед ’емомї) упоминаютс€ в египетских текстах IV династии, однако до насто€щего времени от города дошло лишь несколько разрозненных пам€тников позднего времени, на которых сохранились имена Ќехо II, ѕсаметтиха II, јхориса и Ќектанеба I.
ѕокровительницей города Ћетополь была ебхут (егип. Ḳbḥwt, от ḳbḥw Ч Ђвозли€ниеї, Ђомовениеї), богин€ бальзамировани€ и подательница прохладной чистой воды. ¬ода в ƒревнем ≈гипте была естественным символом жизни, возрождени€ и очищени€, и употребл€лась в храмовых и похоронных очистительных обр€дах и как приношение (возли€ние). »зображалась в виде змеи или в виде женщины с головой змеи; отождествл€лась с богиней-змеей ”то. –еже она принимает образ страуса, св€зывающий ее с богиней ћаат, играющей одну из ключевых ролей в суде над душами умерших.
ѕервые упоминани€ о богине ебхут относ€тс€ к VI династии Ч она упоминаетс€ в “екстах пирамид, обнаруженных в пирамиде фараона ѕепи I (ок. 2313-2279 до н.э.): Ђ ебхут, дочь јнубиса идет дальше, чтобы встретить ѕепиЕ ќна освежает грудь ¬еликого бога в день его часов, она освежает грудь ѕепиЕ ќна моет ѕепиїЕ
ебхут помогала јнубису в процессе мумификации, омывала внутренности и тело умерших, приносила св€щенную воду необходимую дл€ омовени€ умершего, помогала очищать мумию. ќна приносила воду душам мертвых, пока они ждали полного завершени€ процесса мумификации.
¬озвраща€сь к заглавной теме, не совсем пон€тно, почему греки переименовали египетский —ехем (’ем) в Ћетополь. ≈сли исходить из жесткой прив€зки соответстви€ богинь ”аджит и Ћатоны (Ћето), то формально логика есть, ибо в Ћетополе имело место отождествление ебхут, покровительницы города, и ”то. онечно верси€, что отождествление богинь было исключительно по внешним признакам (образ змеи) Ч не выгл€дит убедительным. ’от€, безусловно, образ кобры свидетельствует об охранительной функции ебхут. — другой стороны, может быть, ”аджит здесь вообще не при чем? ћожет быть, имеет смысл обратить внимание на отождествление ебхут и ћаат. ћаат, как и ”то, носила эпитет ќко –а, ибо тоже сопровождала бога –а в его ладье, во врем€ его вечного странстви€. ¬прочем, информации о ебхут крайне мало, а гадать не имеет смысла, оставим Ћетополь, посмотрим что у нас в ≈гипте есть еще занимательного.
Ћј“ќѕќЋ№
Ћатополь (Ёсна) Ч город расположен на западном берегу Ќила к югу от Ћуксора на территории III нома ¬ерхнего ≈гипта. — эпохи —реднего царства известен под двум€ названи€ми: Ἰwnyt и Snȝt (Snt). ¬ ѕозднюю эпоху Ч Tȝ-Snt, отсюда происходит арабское название Ёсна.
Ќа р€ду с ’нумом, в Ћатополе почиталась богин€ Ќейт Ч одна из древнейших богинь египетского пантеона, праматерь богов, культовый центр которой находилс€ в городе —аисе (ƒельта, совр. —а эль-’агар). ≈е символ, состо€щий из двух стрел, перекрещенных на щите, встречаетс€ уже на пам€тниках I династии: погребальных стелах и табличках из раннединастических погребений, амулете из гробницы в Ќаг эль-ƒейр. Ѕогин€ присутствует и в теофорных именах двух выдающихс€ цариц эпохи I династии Ч Ќейтхотеп, супруги цар€ јха, и ћернейт, матери цар€ ƒена. ƒерев€нна€ табличка, обнаруженна€ также в јбидосе, возможно свидетельствует об основании св€тилища Ќейт при личном участии цар€ јха (ок. 3100г. до н.э.).
¬ Ќейт соедин€лись одновременно мужское и женское начало, она имела функции демиурга. Ќейт €вл€етс€ создательницей семи богов и людей. ≈е называли Ђ¬елика€ Ќейт Ч мать богов јмаунтет, котора€ родила –ат-тауи, великую »хет, родившую солнцеї, Ђотец отцов и мать матерейї.
— ƒревнего царства Ќейт также ассоциировалась с погребальным ритуалом. “ексты пирамид (Pyr. 606) упоминают о бдени€х Ќейт над телом усопшего ќсириса вместе с »сидой, Ќефтидой и —елкет. ажда€ из этих четырех богинь изображалась с одной стороны саркофага и покровительствовала одному из четырех Ђсыновей ’ораї Ч духов, покровителей каноп. Ќейт представала на восточной стороне саркофага и была защитницей шакалоголового ƒуамутефа. ак легендарна€ богин€ ткачества, Ќейт также была св€зана с изготовлением погребальных пелен, изготовлением амулетов. »здревле Ќейт считалась защитницей цар€ на прот€жении всей его жизни Ч от рождени€, когда она присутствует в момент зачати€ царицей-матерью сына от бога јмона (маммизи ’атшепсут в ƒейр эль-Ѕахри, јменхотепа III в Ћуксоре и –амсеса II в –амессеуме), и вплоть до его смерти, когда она предстает на роспис€х в его гробницы и изображаетс€ на предметах погребального инвентар€. ульт Ќейт приобрел особенную значимость во врем€ правлени€ XXVI династии, когда —аис стал столицей ≈гипта (VII-VI вв. до н.э.).
—огласно легендам Ёсны, богин€ Ќейт Ч ипостась бога-творца, котора€ отделилась в этом месте от хаоса, создала мир и, с паводком Ќила, спустилась в Ќижний ≈гипет, в —аис, который и стал главным центром ее культа. —опровождавшие ее рыбы латес (лат. Lates niloticus, нильский окунь) стали ее св€щенными животными, от которых, €кобы, и произошло греческое название города ЂЋатопольї (Λάτων πόλις, Λατόπολις). ¬о всем номе св€щенных рыб было запрещено употребл€ть в пищу, неподалеку от Ёсны найдено кладбище их мумий. ¬ честь нильского окун€ называлс€ первый из п€ти эпагоменальных дней Ч ЂЌильский окунь в озере своемї (ˁḥȝ imy swnw.f).
Ќаверное были серьезные причины переименовывать город в честь св€щенной рыбы богини Ќейт (а, к примеру, не в честь самой Ќейт). онечно, это не уникальный случай, можно вспомнить тот же рокодилополь (Κροκοδείλων πόλις). Ќе уникальна и истори€ с сопровождением св€щенными рыбами ладьи солнечного божества (а Ќейт, будучи демиургом, имеет именно сол€рный аспект). “ак, может, все-таки рыбы плывущие впереди солнечной ладьи Ч это аналог ќка –а, богинь, сто€щих на носу барки и охран€ющих –а в его опасном путешествии? ћожет как раз наоборот, рыбы латес (лат. Lates) об€заны своим названием эпитету ќко –а (–ает)? —равним Lates с греческим вариантом имени –ает: –атус (напомню, в египетской грамматике Ђрї и Ђлї Ч равнозначны). «десь нужно еще иметь в виду, что Lates Ч это греко-римское название нильского окун€ (егип ˁḥȝ). ≈гипт€не же св€щенную рыбу вполне могли именовать св€щенным эпитетом Ђ–атї (–ает, т.е. ќко –а), ибо это не просто рыба, Ч это рыба богини Ќейт.
√≈–ћќЌ“ & √≈Ћ»ќѕќЋ№
–ыбы абджу (ȝbḏw, Labeo niloticus, нильский карп) и инет (егип. int, хромис, Tilapia nilotica) Ч св€щенные рыбы-лоцманы, спутники –а. ’ромис имеет €рко-красный цвет и округлую форму, что недвусмысленно подталкивает к ассоциативному сопоставлению его с солнечным ќком. Ќильский карп Ч рыба тоже неординарна€, достигает весьма крупных размеров и отличаетс€ сверкающей чешуей. ¬ честь нильского карпа называлс€ п€тый эпагоменальный день Ч Ђ„иста€ рыба абджу впереди барки –аї (ȝbḏw wˁb m ḥȝt wiȝ n Rˁ).
—путницей –а была и рыба аджу (ˁḏw, кефаль, Mugil cephalus), охран€юща€ его во врем€ ночного плавани€, сража€сь с јпопом. “ак, в Ђ ниге отражени€ злаї эта рыба проглатывает зме€ јпопа (Urk.VI.67.7). ¬ храме Ёдфу, в записи, относ€щейс€ к XIX нижнеегипетскому ному, говоритс€ о запрете поедани€ этой рыбы: Ђ≈го табу Ч это рыба ˁḏw и рыба rȝḏȝї (Edfu. I. 3.335.11: bwt.n.f ˁḏw rȝḏȝ).
»унит (егип. Ἰwny.t), котора€ упоминаетс€ в гимне (см. выше), плывуща€ в ладье, в сопровождении св€щенных рыб Ч одна из жен бога ћонту, покровител€ города √ермонт (Ἑρμώνθις, от ἕρμα, ἑρμῆς Ч четырехгранна€ колонна). ≈гипетское название √ермонта Ч »уни (Ἰwny) или »уну ћонту (Ἰwnw Mnṯw, Ђ—толбы ћонтуї), который €вл€лс€ религиозным и культурным центром 4-го нома ¬ерхнего ≈гипта, родственно египетскому названию √елиопол€ Ч »уну (Ἰwnw), который был расположен в 13-м номе Ќижнего ≈гипта. ¬ этой св€зи, √ермонт именовали также ёжным √елиополем, а богин€ »унит √ермонта отождествл€лась с –ат-тауи, супругой јтума-–а, центром культа которого был все тот же √елиополь.
–ат-тауи (Rˁ.t-tȝ.wy) Ч Ђ–ат, [владычица] ¬ерхнего и Ќижнего ≈гиптаї (Ђ–атї Ч форма женского рода от имени –а, Ђ“ауиї Ч букв. Ђобе землиї). ѕервоначально почиталась под именем –ает (Rˁ.t) как женский паредр бога –а, госпожа всех богов. ѕосле возвышени€ ‘ив (егип. Wȝst, ”асет), когда сюда была перенесена столица ƒревнего ≈гипта (во времена —реднего и Ќового царств), –ат-тауи почиталась здесь как паредр фиванского верховного бога ћонту. ”поминаетс€ также как Ђ√оспожа Ќебес, котора€ проживает в ‘ивахї.
¬ этом же качестве, как жена бога войны ћонту, и вместе с сыном √арпократом (Ἁρποκράτης),⁷ –ат-тауи составл€ла триаду города ћедамуда в ¬ерхнем ≈гипте.
__________________________
[7] Ἁρποκράτης (егип. Ḥr-pȝ-ẖrd, ’еру-па-херд, √ор младенец) Ч √арпократ, греческа€ транскрипци€ бога √ора в образе ребенка.
¬ эпоху Ќового царства, в честь –ат-тауи египт€не устраивали фестиваль в четвертый мес€ц сезона урожа€. »зображалась, так же как обычно изображают ’атхор, антропоморфно с коровьими рогами, между которыми помещен диск солнца.
ќтождествл€лась –ат-тауи и с “ененет, и с —ешат. ѕрослеживаетс€ св€зь с богиней-львицей ѕахт. √реки (живущие в ≈гипте), во времена Ќового царства, как уже упоминалось выше, называли ее –атус и идентифицировали со своей богиней Ћето.
¬от только кого именно греки идентифицировали с богиней Ћето? ’атхор, »унит-–ат-тауи, ”аджит, с которой мы начинали? »ли кого-то еще? онечно, в силу отождествлени€ всех этих богинь, вопрос Ђкого именно?ї становитс€, до некоторой степени, бессмысленным.
≈сли рассматривать тот же греческий миф о Ћето, котора€, преследуема€ ѕифоном (Πύθων), ищет место, чтобы разрешитьс€ родами, с мифом об »зиде, котора€ рожает √ора, скрыва€сь от —ета, Ч трудно не увидеть пр€мую аналогию. “.е., возвраща€сь к √еродоту (к его попытке отождествлени€ богинь), в одном мифе мы имеем двух мирно сосуществующих богинь Ћето: Ћето-»сиду и Ћето-”аджит (Ћатону).
Ёта коллизи€ легко разрешаетс€ единственным образом: предположение, сделанное ранее, о тождественности пон€тий Ђќко –аї и Ђ–аетї (=Ђ–атої, ЂЋатої, ЂЋетої) Ч €вл€етс€ вполне обоснованным, а стало быть верным.
¬место резюме черту можно подвести цитатой из Ѕрокгауза и ≈фрона:
_______________________________
≈√»ѕ≈“— »≈ ќ–Ќ» √–≈„≈— ќ… Ѕќ√»Ќ» Ћ≈“ќ
Ћј“ќЌј
»м€ Ћатоны (лат. Latona, Lato) имеет греческую этимологию и происходит от дорийской формы имени Ћето Ч Λᾱτώ (Λατοῦς). —амосто€тельной римской мифологии с участием Ћатоны, по большому счету, нет. ќбратимс€ к первоисточникам и посмотрим что нам сообщает, по поводу Ћатоны, √еродот.
Ђя уже неоднократно упоминал о прорицалище [в Ѕуто] в ≈гипте и теперь хочу подробнее рассказать об этом достопам€тном месте. Ёто египетское прорицалище находитс€ в храме Ћатоны в большом городе у так называемого —ебеннитского усть€ Ќила,¹ если плыть от мор€ внутрь страны. »м€ этого города, где находитс€ оракул, Ѕуто, как € только что сказал. роме того, в этом Ѕуто есть еще св€тилище јполлона и јртемиды. ’рам же Ћатоны, где именно и находитс€ оракул, и сам очень велик, а его преддвери€ 10 оргий высотой.²
я должен еще упом€нуть о том, что мен€ больше всего поразило из виденного в этом св€тилище. Ќа этом св€щенном участке Ћатоны воздвигнуто храмовое здание, высеченное целиком из одного камн€. —тены его одинаковой высоты и ширины, именно 40 локтей. ровлю над ним образует другой камень с выступом в 4 локт€.³
156. Ёто храмовое здание, таким образом, Ч самое удивительное из того, что можно видеть в этом св€тилище. Ќо почти столь же замечателен и остров под названием ’еммис (Χέμμις). Ћежит остров на большом и глубоком озере р€дом со св€тилищем в Ѕуто. ≈гипт€не же утверждают, будто это плавучий остров. я-то сам, впрочем, не видел, чтобы он плавал или двигалс€, и был весьма удивлен, услышав, что в самом деле могут существовать плавучие острова. Ќа нем стоит большой храм јполлона и воздвигнуты три алтар€ и, кроме того, растет много пальм и других плодоносных и неплодоносных деревьев. ≈гипт€не передают вот какое сказание о плавучем острове, который раньше не был плавучим.
огда Ћатона, принадлежавша€ к сонму восьми древних богов, жила в Ѕуто, где ныне находитс€ ее прорицалище, »сида передала ей на попечение јполлона. Ћатона сохранила јполлона и спасла на, так называемом, ныне плавучем острове, когда всюду рыскавший “ифон пришел, чтобы захватить сына ќсириса. ѕо словам египт€н, јполлон и јртемида Ч дети ƒиониса и »сиды. Ћатона же была их кормилицей и спасительницей. ” египт€н јполлон называетс€ ќром (Ὦρος, √ор), ƒеметра Ч »сидой, а јртемида Ч Ѕубастис.ї (√еродот. »стори€)
________________________
[1] Σεβέννυτος, Σεβεννυτικὴ πόλις ἡ —ебеннит (егип. Ṯb-[n]-nṯr) Ч город в центре нильской ƒельты, столица XII нома Ќижнего ≈гипта.
[2] ὀργυιά, ион. ὀργυιή, эп. ὄργυιᾰ ἡ {ὀρέγω} (pl. только ὀργυιαί) орги€
1) ширина размаха рук Hom., Xen.
2) мера длины = 0.01 стади€, т.е. 1.85m Her., NT.
[3] πῆχυς (-εως) пехий, локоть (мера длины; π. μέτριος содержал 24 δάκτυλοι, т.е. ок. 46cm, π. βασιλήϊος Ч 27 δάκτυλοι) Her., Xen., Plat.
√еродот объ€снил отождествлени€ греческих и египетских богов, причастных и непричастных к рассказанной им истории, единственно обойд€ вниманием Ћатону Ч главного персонажа, описываемого сюжета. ¬осполним пробел.
ƒл€ начала, сравнив с египетскими свидетельствами, отметим, что √еродот изложил все точно. ≈динственно в чем можно было бы поправить историка Ч не египт€не отождествл€ли своих богов с греческими, наоборот, это греки (включа€ √еродота) называют египетских богов своими (греческими) именами.
Ђ—огласно осирическому мифу »сида спр€тала маленького ’ора, ожида€, пока он повзрослеет, в заросл€х папируса Ч в отдаленном и тайном месте, которое не должно было быть доступно дл€ —ета (CT.II.217c-e). ’ор родилс€ в окрестност€х Ѕуто (егип. Pr-Wȝḏt Ч Ђдом ”аджитї, города ѕе и ƒеп), чаще всего этим местом считаетс€ нижнеегипетский город ’еммис. ќ пребывании ’ора в болотах ’еммиса упоминаетс€ уже в Ђ“екстах пирамидї: Ђ¬ышел ’ор из ’еммиса, приветствует Ѕуто ’ора!ї (Pyr. 2190: pr Ḥrw m ȝḫ-bit ˁḥˁ P n Ḥrw). ¬ т.н. сказании Ђ»сида и ’ор в болотах ƒельтыї, зафиксированном на стеле ћеттерниха, есть пассаж, описывающий рождение ’ора в ’еммисе: Ђ–одила € ’ора, сына ќсириса, в болоте ’еммиса. ќбрадовалась € сильно по причине того, что увидела € ответчика за отца его. ”крывала € его, пр€тала € его из-за страха, чтобы не узнал он (—ет)ї (Met.-Stele verso. 168-169: ms.n.i Ḥrw zȝ Wsir m sš ȝḫ-bit ḥˁi.n.i ḥr.s wr mȝȝ.n.i wšb ḥr it.f imn sw sdg sw ḥr snḏ n rḫ.f)ї
Ѕуто (др.-греч. Βουτώ, Βουτοῦς) Ч греческое им€ египетской богини ”аджит. ¬ эллинистический период им€ ”аджит имело вид: Wt (”то). —оответственно храм в ее честь Ч Ђƒом ”тої (pr-wt), или Ђћесто ”тої (bw-wt) Ч в греческом прочтении Ч Ѕуто (Βουτώ). ѕо названию храма богини ”то (bw-wt) именовалс€ и сам город (Ѕуто), располагавшийс€ в Ќижнем ≈гипте (в дельте Ќила, в 95 километрах к востоку от јлександрии). ÷ентр культа богини ”аджит находилс€ здесь еще в додинастические времена. ѕозднее именем Ѕуто стали именовать и саму богиню ”то (”аджит).
”аджит Ч богин€ хранительница всего Ќижнего ≈гипта. ћало этого, место рождени€ √ора находитс€ в непосредственной близости к ее храму. ¬есь город ѕе (P) вышел приветствовать родившегос€ бога (Pyr. 2190: pr Ḥrw m ȝḫ-bit ˁḥˁ P n Ḥrw). —овершенно естественно, что именно ”аджит охран€ет укрытого »сидой в заросл€х папируса (ȝḫ-bit) младенца √ора от козней —ета. —обственно, отождествление Ћатоны и ”аджит факт очевидный и давно известный, просто хотелось бы еще раз зафиксировать, почему в мифе фигурирует именно она (”то), а не кто-то еще.
„то ж, перейдем к Ћето-Ћатоне, коротенька€ выжимка из истории вопроса:
Ћето (греч. Λητώ, лат. Latona, Lato, в микенских текстах Ч ra-to) Ч дочь титана е€ и ‘ебы, мать јполлона и јртемиды от «евса. ѕреследуема€ ревнивой √ерой, Ћето скрываетс€ по всем земл€м, чтобы разрешитьс€ от родов, нигде не наход€ приюта. ѕричина гнева √еры Ч отцовство «евса детей, которых вынашивает Ћето. Ќаконец остров ƒелос, носившийс€ тогда по волнам, прин€л Ћето и согласилс€ носить на себе первое св€тилище будущего бога Ч здесь родившегос€ јполлона. ѕервой родилась јртемида, затем јполлон; в некоторых вариантах мифа јртемида помогает матери во врем€ рождени€ јполлона, из-за чего, так же как »лифи€ (или отождествл€€сь с »лифией), считалась помощницей при родах и подательницей здоровь€ новорожденным.
—одержание мифа, в котором главна€ сюжетна€ лини€ Ч долгие скитани€ богини в попытках скрытьс€ от гнева √еры, видимо, основано на созвучии имени Ћето (Λητώ) со словом λήθω (ускользать, скрыватьс€).⁴
¬ ≈гипте, во времена Ќового царства, Ћето идентифицировалась с богиней –ает, которую греки называли –атус (в египетской грамматике Ђрї и Ђлї Ч равнозначны).
________________________
[4] Λητώ, дор. Λᾱτώ (-οῦς) ἡ Ћето
Ληθώ = Λητώ, Plat.
λήθω, дор. λάθω (только praes. и impf.; эп. 3 л. sing. impf. iter. λήθεσκεν) ускользать, быть скрытым, неведомым.
–ает (Rˁ.t) Ч это женский паредр –а. », как все богини из свиты –а, –ает, неминуемо, должна иметь эпитет ќко –а (irt Rˁ). Ѕольше того, женска€ ипостась –а Ч крайне невн€тный персонаж. — одной стороны, никто не сомневаетс€ в его существовании, с другой стороны, нет ни одного мало-мальски реального сюжета, где бы –ает себ€ €рко, в запоминающейс€ форме, про€вила. ј ведь это паредр ни какого-то второстепенного локального бога. –а Ч божество весьма значимое. “огда почему, в солнечной ладье, его сопровождает не –ает (его женска€ половина), а Ђпосторонниеї богини с эпитетом ќко –а. »ли не посторонние? ј, может, пон€ти€ Ђќко –аї и Ђ–аетї Ч тождественны? Ёто многое бы объ€снило. «афиксируемс€ на этом предположении. ќно нам может пригодитьс€ в дальнейшем.
¬.—олкин приводит текст из храма в ƒендере, где под именем (вернее эпитетом) –ает (у —олкина Ч –аит) выступает ’атхор:
Ђѕривет тебе, дит€ в горизонте,⁵ ты, в небесах поднимающийс€ на рассвете, ты, в окна проникающий, чтобы образы осветить, чтобы статуи в местах своих озарить. ¬идит он дочь свою⁶ в облике ее неизменном и –а соедин€етс€ с –аит. Ќебеса в радости, земл€ в ликовании, ибо воссоединилс€ “от-что-в-√оризонте с “ой-что-в-√оризонте; слышен клич счасть€ в земле јтума из-за –а, воссоединившегос€ со своим ќком правымїЕ
________________________
[5] –а-’армахис (Rˁ ḥr-m-ȝḫt) Ч утреннее (т.е. новорожденное) солнце; дословно: Ђ–а, [который есть] √ор в горизонтеї.
[6] ’атхор (Ḥwt-ḥr) Ч дочь –а, ќко –а; дословно: Ђ¬местилище √ораї.
Ћ≈“ќѕќЋ»—
Ћетополис (Λητοῦς Πόλις, лат. Letus, егип. —ехем или ’ем [Pr-Ḥr-nb-Sḫm; Sšm; Šm; Ḫm]) Ч столица II нижнеегипетского нома. Ётот ном и его бог-сокол Ḫnty-irty (ипостась ’ора, также называемый Ḫnty-Ḫm, т.е. ЂЌаход€щийс€ перед ’емомї) упоминаютс€ в египетских текстах IV династии, однако до насто€щего времени от города дошло лишь несколько разрозненных пам€тников позднего времени, на которых сохранились имена Ќехо II, ѕсаметтиха II, јхориса и Ќектанеба I.
ѕокровительницей города Ћетополь была ебхут (егип. Ḳbḥwt, от ḳbḥw Ч Ђвозли€ниеї, Ђомовениеї), богин€ бальзамировани€ и подательница прохладной чистой воды. ¬ода в ƒревнем ≈гипте была естественным символом жизни, возрождени€ и очищени€, и употребл€лась в храмовых и похоронных очистительных обр€дах и как приношение (возли€ние). »зображалась в виде змеи или в виде женщины с головой змеи; отождествл€лась с богиней-змеей ”то. –еже она принимает образ страуса, св€зывающий ее с богиней ћаат, играющей одну из ключевых ролей в суде над душами умерших.
ѕервые упоминани€ о богине ебхут относ€тс€ к VI династии Ч она упоминаетс€ в “екстах пирамид, обнаруженных в пирамиде фараона ѕепи I (ок. 2313-2279 до н.э.): Ђ ебхут, дочь јнубиса идет дальше, чтобы встретить ѕепиЕ ќна освежает грудь ¬еликого бога в день его часов, она освежает грудь ѕепиЕ ќна моет ѕепиїЕ
ебхут помогала јнубису в процессе мумификации, омывала внутренности и тело умерших, приносила св€щенную воду необходимую дл€ омовени€ умершего, помогала очищать мумию. ќна приносила воду душам мертвых, пока они ждали полного завершени€ процесса мумификации.
¬озвраща€сь к заглавной теме, не совсем пон€тно, почему греки переименовали египетский —ехем (’ем) в Ћетополь. ≈сли исходить из жесткой прив€зки соответстви€ богинь ”аджит и Ћатоны (Ћето), то формально логика есть, ибо в Ћетополе имело место отождествление ебхут, покровительницы города, и ”то. онечно верси€, что отождествление богинь было исключительно по внешним признакам (образ змеи) Ч не выгл€дит убедительным. ’от€, безусловно, образ кобры свидетельствует об охранительной функции ебхут. — другой стороны, может быть, ”аджит здесь вообще не при чем? ћожет быть, имеет смысл обратить внимание на отождествление ебхут и ћаат. ћаат, как и ”то, носила эпитет ќко –а, ибо тоже сопровождала бога –а в его ладье, во врем€ его вечного странстви€. ¬прочем, информации о ебхут крайне мало, а гадать не имеет смысла, оставим Ћетополь, посмотрим что у нас в ≈гипте есть еще занимательного.
Ћј“ќѕќЋ№
Ћатополь (Ёсна) Ч город расположен на западном берегу Ќила к югу от Ћуксора на территории III нома ¬ерхнего ≈гипта. — эпохи —реднего царства известен под двум€ названи€ми: Ἰwnyt и Snȝt (Snt). ¬ ѕозднюю эпоху Ч Tȝ-Snt, отсюда происходит арабское название Ёсна.
Ќа р€ду с ’нумом, в Ћатополе почиталась богин€ Ќейт Ч одна из древнейших богинь египетского пантеона, праматерь богов, культовый центр которой находилс€ в городе —аисе (ƒельта, совр. —а эль-’агар). ≈е символ, состо€щий из двух стрел, перекрещенных на щите, встречаетс€ уже на пам€тниках I династии: погребальных стелах и табличках из раннединастических погребений, амулете из гробницы в Ќаг эль-ƒейр. Ѕогин€ присутствует и в теофорных именах двух выдающихс€ цариц эпохи I династии Ч Ќейтхотеп, супруги цар€ јха, и ћернейт, матери цар€ ƒена. ƒерев€нна€ табличка, обнаруженна€ также в јбидосе, возможно свидетельствует об основании св€тилища Ќейт при личном участии цар€ јха (ок. 3100г. до н.э.).
¬ Ќейт соедин€лись одновременно мужское и женское начало, она имела функции демиурга. Ќейт €вл€етс€ создательницей семи богов и людей. ≈е называли Ђ¬елика€ Ќейт Ч мать богов јмаунтет, котора€ родила –ат-тауи, великую »хет, родившую солнцеї, Ђотец отцов и мать матерейї.
— ƒревнего царства Ќейт также ассоциировалась с погребальным ритуалом. “ексты пирамид (Pyr. 606) упоминают о бдени€х Ќейт над телом усопшего ќсириса вместе с »сидой, Ќефтидой и —елкет. ажда€ из этих четырех богинь изображалась с одной стороны саркофага и покровительствовала одному из четырех Ђсыновей ’ораї Ч духов, покровителей каноп. Ќейт представала на восточной стороне саркофага и была защитницей шакалоголового ƒуамутефа. ак легендарна€ богин€ ткачества, Ќейт также была св€зана с изготовлением погребальных пелен, изготовлением амулетов. »здревле Ќейт считалась защитницей цар€ на прот€жении всей его жизни Ч от рождени€, когда она присутствует в момент зачати€ царицей-матерью сына от бога јмона (маммизи ’атшепсут в ƒейр эль-Ѕахри, јменхотепа III в Ћуксоре и –амсеса II в –амессеуме), и вплоть до его смерти, когда она предстает на роспис€х в его гробницы и изображаетс€ на предметах погребального инвентар€. ульт Ќейт приобрел особенную значимость во врем€ правлени€ XXVI династии, когда —аис стал столицей ≈гипта (VII-VI вв. до н.э.).
—огласно легендам Ёсны, богин€ Ќейт Ч ипостась бога-творца, котора€ отделилась в этом месте от хаоса, создала мир и, с паводком Ќила, спустилась в Ќижний ≈гипет, в —аис, который и стал главным центром ее культа. —опровождавшие ее рыбы латес (лат. Lates niloticus, нильский окунь) стали ее св€щенными животными, от которых, €кобы, и произошло греческое название города ЂЋатопольї (Λάτων πόλις, Λατόπολις). ¬о всем номе св€щенных рыб было запрещено употребл€ть в пищу, неподалеку от Ёсны найдено кладбище их мумий. ¬ честь нильского окун€ называлс€ первый из п€ти эпагоменальных дней Ч ЂЌильский окунь в озере своемї (ˁḥȝ imy swnw.f).
Ќаверное были серьезные причины переименовывать город в честь св€щенной рыбы богини Ќейт (а, к примеру, не в честь самой Ќейт). онечно, это не уникальный случай, можно вспомнить тот же рокодилополь (Κροκοδείλων πόλις). Ќе уникальна и истори€ с сопровождением св€щенными рыбами ладьи солнечного божества (а Ќейт, будучи демиургом, имеет именно сол€рный аспект). “ак, может, все-таки рыбы плывущие впереди солнечной ладьи Ч это аналог ќка –а, богинь, сто€щих на носу барки и охран€ющих –а в его опасном путешествии? ћожет как раз наоборот, рыбы латес (лат. Lates) об€заны своим названием эпитету ќко –а (–ает)? —равним Lates с греческим вариантом имени –ает: –атус (напомню, в египетской грамматике Ђрї и Ђлї Ч равнозначны). «десь нужно еще иметь в виду, что Lates Ч это греко-римское название нильского окун€ (егип ˁḥȝ). ≈гипт€не же св€щенную рыбу вполне могли именовать св€щенным эпитетом Ђ–атї (–ает, т.е. ќко –а), ибо это не просто рыба, Ч это рыба богини Ќейт.
√≈–ћќЌ“ & √≈Ћ»ќѕќЋ№
ЕЂпозволь мне созерцать рыбу абджу в момент ее творени€, и по€влени€ рыбы инет, и ладью »унит в ее озере.ї (√имн –а)
–ыбы абджу (ȝbḏw, Labeo niloticus, нильский карп) и инет (егип. int, хромис, Tilapia nilotica) Ч св€щенные рыбы-лоцманы, спутники –а. ’ромис имеет €рко-красный цвет и округлую форму, что недвусмысленно подталкивает к ассоциативному сопоставлению его с солнечным ќком. Ќильский карп Ч рыба тоже неординарна€, достигает весьма крупных размеров и отличаетс€ сверкающей чешуей. ¬ честь нильского карпа называлс€ п€тый эпагоменальный день Ч Ђ„иста€ рыба абджу впереди барки –аї (ȝbḏw wˁb m ḥȝt wiȝ n Rˁ).
—путницей –а была и рыба аджу (ˁḏw, кефаль, Mugil cephalus), охран€юща€ его во врем€ ночного плавани€, сража€сь с јпопом. “ак, в Ђ ниге отражени€ злаї эта рыба проглатывает зме€ јпопа (Urk.VI.67.7). ¬ храме Ёдфу, в записи, относ€щейс€ к XIX нижнеегипетскому ному, говоритс€ о запрете поедани€ этой рыбы: Ђ≈го табу Ч это рыба ˁḏw и рыба rȝḏȝї (Edfu. I. 3.335.11: bwt.n.f ˁḏw rȝḏȝ).
»унит (егип. Ἰwny.t), котора€ упоминаетс€ в гимне (см. выше), плывуща€ в ладье, в сопровождении св€щенных рыб Ч одна из жен бога ћонту, покровител€ города √ермонт (Ἑρμώνθις, от ἕρμα, ἑρμῆς Ч четырехгранна€ колонна). ≈гипетское название √ермонта Ч »уни (Ἰwny) или »уну ћонту (Ἰwnw Mnṯw, Ђ—толбы ћонтуї), который €вл€лс€ религиозным и культурным центром 4-го нома ¬ерхнего ≈гипта, родственно египетскому названию √елиопол€ Ч »уну (Ἰwnw), который был расположен в 13-м номе Ќижнего ≈гипта. ¬ этой св€зи, √ермонт именовали также ёжным √елиополем, а богин€ »унит √ермонта отождествл€лась с –ат-тауи, супругой јтума-–а, центром культа которого был все тот же √елиополь.
–ат-тауи (Rˁ.t-tȝ.wy) Ч Ђ–ат, [владычица] ¬ерхнего и Ќижнего ≈гиптаї (Ђ–атї Ч форма женского рода от имени –а, Ђ“ауиї Ч букв. Ђобе землиї). ѕервоначально почиталась под именем –ает (Rˁ.t) как женский паредр бога –а, госпожа всех богов. ѕосле возвышени€ ‘ив (егип. Wȝst, ”асет), когда сюда была перенесена столица ƒревнего ≈гипта (во времена —реднего и Ќового царств), –ат-тауи почиталась здесь как паредр фиванского верховного бога ћонту. ”поминаетс€ также как Ђ√оспожа Ќебес, котора€ проживает в ‘ивахї.
¬ этом же качестве, как жена бога войны ћонту, и вместе с сыном √арпократом (Ἁρποκράτης),⁷ –ат-тауи составл€ла триаду города ћедамуда в ¬ерхнем ≈гипте.
__________________________
[7] Ἁρποκράτης (егип. Ḥr-pȝ-ẖrd, ’еру-па-херд, √ор младенец) Ч √арпократ, греческа€ транскрипци€ бога √ора в образе ребенка.
¬ эпоху Ќового царства, в честь –ат-тауи египт€не устраивали фестиваль в четвертый мес€ц сезона урожа€. »зображалась, так же как обычно изображают ’атхор, антропоморфно с коровьими рогами, между которыми помещен диск солнца.
ќтождествл€лась –ат-тауи и с “ененет, и с —ешат. ѕрослеживаетс€ св€зь с богиней-львицей ѕахт. √реки (живущие в ≈гипте), во времена Ќового царства, как уже упоминалось выше, называли ее –атус и идентифицировали со своей богиней Ћето.
¬от только кого именно греки идентифицировали с богиней Ћето? ’атхор, »унит-–ат-тауи, ”аджит, с которой мы начинали? »ли кого-то еще? онечно, в силу отождествлени€ всех этих богинь, вопрос Ђкого именно?ї становитс€, до некоторой степени, бессмысленным.
≈сли рассматривать тот же греческий миф о Ћето, котора€, преследуема€ ѕифоном (Πύθων), ищет место, чтобы разрешитьс€ родами, с мифом об »зиде, котора€ рожает √ора, скрыва€сь от —ета, Ч трудно не увидеть пр€мую аналогию. “.е., возвраща€сь к √еродоту (к его попытке отождествлени€ богинь), в одном мифе мы имеем двух мирно сосуществующих богинь Ћето: Ћето-»сиду и Ћето-”аджит (Ћатону).
Ёта коллизи€ легко разрешаетс€ единственным образом: предположение, сделанное ранее, о тождественности пон€тий Ђќко –аї и Ђ–аетї (=Ђ–атої, ЂЋатої, ЂЋетої) Ч €вл€етс€ вполне обоснованным, а стало быть верным.
¬место резюме черту можно подвести цитатой из Ѕрокгауза и ≈фрона:
Ђѕервоначально при –а не было женских божеств: он творил сам по себе, но впоследствии мы находим р€дом с ним богинь »усааст, –ат и др. »скусственность их совершенно €сна, между прочим, уже из их изображений, которые делали из них двойника »сиды и ’атхор, а не супруг иеракокефального⁸ бога света.ї (Ё—Ѕ≈)
________________________
[8] ἱερακοκέφαλος (ἱερακο-κέφαλος) ὁ сокологоловый; ex.: (θεοί, sc. τῶν Αἰγυπτίων).
_______________________________
|
ћетки: Ћатона Ћето √реци€ ≈гипет Ётимологи€ |
ќ–ќ¬џ √≈–»ќЌј |
ƒневник |
јполлодор
ћ»‘ќЋќ√»„≈— јя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј II
ƒес€тым подвигом Ёврисфей назначил ему [√ераклу] привести коров √ериона из Ёритеи. Ёрите€ была островом, расположенным за ќкеаном: ныне этот остров называетс€ √адейра. Ќа этом острове обитал √ерион, сын ’рисаора и аллирои, дочери ќкеана. ќн обладал телом, сросшимс€ из трех человеческих тел, соединенных между собой до по€са, но раздел€вшихс€ от подреберь€ и бедер. ≈му принадлежали красные коровы, которых пас Ёвритион, а сторожил двуглавый пес ќртр, порожденный ≈хидной и “ифоном.
ќтправившись за коровами √ериона, √еракл прошел через многие степи ≈вропы и пришел в Ћивию. ѕрид€ в “артесс, он поставил там пам€тные знаки о своем походе на границах ≈вропы и Ћивии Ч две одинаковые каменные стелы.
ќбжигаемый лучами солнца во врем€ похода, √еракл направил свой лук против бога √елиоса, и тот, пораженный его мужеством, дал ему золотой кубок, в котором √еракл и пересек ќкеан. ѕрибыв в Ёритею, √еракл расположилс€ дл€ ночлега на горе јбанте. —обака, учу€в его, кинулась к нему, но √еракл отразил ее дубиной и убил пастуха Ёвритиона, прибежавшего ей на помощь.
ћенет, который пас там коров јида, рассказал о случившемс€ √ериону, и тот, застав √еракла на берегу реки јнтемунта угон€ющим коров, вступил с ним в борьбу, но √еракл убил его, застрелив из лука. ѕосле этого он загнал коров в кубок и, переплыв в “артесс, вернул кубок √елиосу.
«атем он пересек јбдерию и прибыл в Ћигурию, где сыновь€ ѕосейдона »алебион и ƒеркин попытались отобрать у него коров. ”бив их, √еракл двинулс€ через “иррению. ¬ области –еги€ один бык отбилс€ от стада, кинулс€ в море и переплыл в —ицилию, перешел через близлежащую землю (котора€ по его имени названа »талией, ибо тирренцы называют быка словом Ђиталосї). «атем он вышел в долину Ёрика, который царствовал над элимами. Ёрик этот был сыном ѕосейдона, и он загнал быка в свои стада.
√еракл же, передав коров √ефесту, поспешил на поиски этого быка и нашел его в стадах Ёрика, но тот сказал, что отдаст быка только в том случае, если √еракл одолеет его в борьбе. √еракл вступил с ним в борьбу и, трижды вз€в верх, убил Ёрика; быка он погнал вместе со всем стадом к »онийскому морю. огда они подошли к морской излучине, √ера наслала на коров слепн€, и стадо разделилось в области фракийского предгорь€. √еракл поймал часть стада и погнал его в направлении √еллеспонта, друга€ же часть осталась дикой. ≈два согнав коров к реке —тримону, √еракл вознегодовал на эту реку, издавна бывшую судоходной. Ќабросав в нее скал, он сделал ее несудоходной, и пригнав коров к Ёврисфею, отдал их ему, а тот принес коров в жертву богине √ере.
_____________________________
—.¬. ƒмитриев
√≈–ј Ћ ¬ ƒ–≈¬Ќ≈…Ў≈… »“јЋ»» (рассказ јполлодора и его источники)
(—тать€ приведена с некоторыми сокращени€ми)
1. ”казание на то, что √ерион (Γηρυών)¹ жил на Ёритии (Ἐρύθεια),² встречаетс€ у многих авторов; √есиод (Th., 290) и —тесихор (Bergk fr., 10) считали ее островом.
________________________________
[1] Γηρυών (-όνος) ὁ √ерион (сын ’рисаора, трехтелый исполин, у которого √еракл угнал быков) Pind., Aesch.
[2] Ἐρύθεια, ион. Ἐρυθείη ἡ Ёрифе€ (миф. остров на крайнем «ападе, за √еракловыми столпами, царство трехтелого √ериона) Hes., Her., Isocr.
2. √есиод говорит, что √ерион был рожден от ’рисаора³ и дочери ќкеана аллирои и имел три головы (Th., 287 f).
3. Ёврити€ (Εὐρυτίων)⁴ и его пса ќртра упоминает √есиод (Th., 293), называ€ тех же родителей √ериона (Th., 304 ff.).
________________________________
[3] Χρυσάωρ (-ορος) ὁ ’рисаор (сын ѕосидона и ћедузы, отец √ериона и Ёхидны) Hes.
[4] Ёпитет √ериона Ёвритий (Εὐρυτίων) очень похоже на искаженное ЂЁрифеонї (Ἐρύθειων, т.е. Ёрифейский, с острова Ёрифе€).
4. 1. ѕо ‘ерекиду, √еракл убивал животных, ид€ за €блоками √есперид, в Ћивии, считавшейс€ Ђматерью диких животныхї (Apollon., 4. 1561; Suid. Λιβυκὸν θηρίον), по ƒиодору Ч на рите (4. 17. 3), в котором хот€т видеть Ђ≈вропуї⁵ (Lyc. Alex., 1836).
________________________________
[5] —огласно мифу, «евс, в образе быка, похитив ≈вропу, переносит ее на рит.
2. ¬ древнейшие времена полагали, что между ≈вропой и јзией не существует пролива (Diod., 4. 18. 5), и, следовательно, антична€ традици€ упоминани€ о Ђстолпахї возникла уже сравнительно поздно (Diod., 4. 18. 4).
3. ѕуть из Ђ≈вропыї в Ћивию лежал через “артесс; причастие Ђπαρελθὼνї заставл€ет видеть в “артессе либо реку (ср.: Ταρτησσοῦ ποταμοῦ. Ч Stesichor., fr. 5), либо область (ср. города “артесса Ч Hecat., fr. 4; 5). —трабон предположил, что в основе гомеровского Ђ“артараї лежал далекий западный “артесс (3. 2. 12).
5. 1. ≈сли Ёрити€-√адира находилась в Ћивии (Diod., 4. 18. 2), то зачем √ераклу надо было переправл€тьс€ в нее через ќкеан из ≈вропы? “о, что эта Ђ≈вропаї не означала современный материк, видно и из описани€ јполлодором обратного пути √еракла (2. 5. 10. 9-11). аллимах говорит о Ђсветло(рыже?)волосых ливийских женщинахї (Hymn., 2. 86), а —т. ¬изантийский сообщает: ЂΛίβυσσα φρουρίον Βιθυνίας ἐπιψαλάσσιονї и ЂΛιβυστῖνοι ἔθνος παρακείμενον Κόλχοις, с.4 ὡς Διόφαντοςї. ЂὋς εἰς Κύταιαν τὴν Λιβυστίνην μολὼνї, Ч говорит Ћикофрон о олхиде (Alex., 1312). ѕод ЂЋивиейї јполлодора скрывалась, возможно, область к востоку от √реции Ч северо-восточна€ ћала€ јзи€ или олхида.
2. ” колхов солнце всходило, а в Ћивии заходило (Apollon., 1. 81 f): это были Ђкра€ светаї, и многие авторы пролагали путь √еракла в Ђчаше —олнцаї через ќкеан Ч из Ћивии к ѕрометею, на авказ (Pherec., fr. 33), от авказа до √есперид, в Ћивию (Ёсхил, fr. 76) сам путь из олхиды в Ћивию через ќкеан указал аргонавтам еще √есиод (Schol. Apollon., 4. 259).
3. ќсобенностью архаического греческого менталитета €вл€лось то, что Ђкра€ светаї могли засел€тьс€ одними и теми же людьми: и на востоке, и на западе жили эфиопы (Strabo, I. 2. 26; Ёсхил, fr. 192; Ёврипид, fr. 771), ÷ирце€ (Hom. Od., 10. 135; 12. 1-9), амазонки (Diod., 2. 44-45; 3. 52-55), иберы (Eustath. Com. Dion., 694 ff.) и т.д. “о же, следовательно, могло относитьс€ и к Ћивии (см.: Apollon, 4. 1227).
6. √омер сообщает, что плем€ абантов владело Ёвбеей и, видимо, еще до “ро€нской войны (Strabo, 10. 1. 8 f.). ”поминает их и јрхилох (Plu. Thes., 5, cf. Hom. Il., 2. 536 f.).
7. —южет и персонажи нигде более не встречаютс€; интересны три момента:
1. ѕо —трабону, на Ёвбее было две реки, покупавшись в одной из которых, скот становилс€ белым, а в другой Ч черным. Ѕыки —олнца (√елиоса) могли быть и красными (φοίνικοι) Ч быки √ериона, и белыми; быки јида, которых пас на Ёритии, считавшейс€ островом, ћенет, были, очевидно, черными. » —олнце (Ἥλιος), и јид (“артар) €вно ассоциировались с Ђкра€ми светаї.⁶
________________________________
[6] ἥλιος, эп. преимущ. ἠέλιος, дор. ἀέλιος и ἅλιος ὁ
1) солнце; ex. ἡλίου κύκλος Trag., Arst. Ч солнечный диск;
2) место восхода солнца, восток; ex. πρὸς ἠῶ τ΄ ἠέλιόν τε Hom., πρὸς ἠῶ τε καὴ ἡλίου ἀνατολάς или πρὸς ἠῶ τε καὴ ἥλιον ἀνατέλλοντα Her. Ч к востоку, на восток;
3) дневной путь солнца, т.е. день; ex. φῶς ἓν ἡλίου Eur. Ч свет одного дн€, т.е. всего лишь один день;
4) солнечна€ жара, зной; ex. ὁ ἥ. πολύς Luc. Ч сильна€ жара;
5) солнечный свет;
6) светлое настроение, €сность;
Λιβύη, дор. Λιβύα ἡ Ћиви€
1) дочь Ёпафа, мать јгенора, Ѕела и Ћелега от «евса Aesch. etc.
2) сев.-зап. побережье јфрики до обоих —иртов Hom.
3) (= Λιβυκὸς νομός) область между сев. ≈гиптом и ћармарикой Her.
4) вс€ сев. јфрика Arst., Polyb. etc.
2. ћенет был застрелен из лука; ни один из известных нам претендентов на быков √ериона не был убит подобным образом.
3. ¬ ¬ифинии, неподалеку от —имплегад, находилась Ἀνθεμοεισίδα λίμηνη (Apollon., 2. 724).
8. ѕредлог Ђεἰςї обозначает цель: следовательно, “артесс здесь не река, а либо названный по имени реки (Strabo, 3. 2. 11) город, контакты с которым греки установили где-то в VII в. до н.э. (Herodot., 4. 152) и который был разрушен около 500 до н.э., либо область.
9. 1. ”дивл€ет неожиданно четкое на общем размытом фоне указание на јбдеру. Ётот город знали √екатей (fr. 127), √елланик (fr. 98), помещавшие древнейшую јбдеру во ‘ракию, и Ёфор (fr. 72). ” ‘ерекида јбдера св€зывалась с походом за кон€ми ƒиомеда.
2. –азночтение Ђεἰς Λιγύηνї (FHG, I, Müller) и Ђεἰς Λιγυστικῆ γῆї (Loeb. clas., L., є121, Frazer) осложн€ет дело, так как Ђλίγυεςї было названием саллиев, а ЂΛιγυστικῆ γῆї означало место племени массалиотов, позже именуемых Ђкельтолигурамиї (Strabo, 4. 6. 3). ћассали€, Ђπόλις τῆς Λιγυστικῆςї. (Hecat., fr. 22), была основана, видимо, в конце VI в. до н.э. (Tim., fr. 39 f.), а до этого существовало одно название Ч λίγυες. јполлоний зовет —тойхадские острова ЂЋигустидскимиї (Λιγυστίδας Ч 4. 553 f.), а —трабон, ссыла€сь на Ђдревнихї, насел€ет их массалиотами (4. 1. 10), жившими, по его же словам, в Ћигустинии (4. 6. 3). Ёти острова, если верить древнейшим источникам јполлони€, находились на другом Ђкраю светаї (4. 563-658 f.), за Ёриданом и –оданом, причем последний €вно может быть идентифицирован с “артессом Ч “артаром (см.: Apollon., 4. 625, f.; 646 f.).
3. —уществовали, видимо, по указанному уже ранее принципу, и колхидские лигуры (Eustath., 76; Herodot, 5994), ведь лигуры помещались на Ђкраю землиї (см.: Hes. fr., 132).
—казать, что јполлодор пользовалс€ одним или преимущественно одним источником, на наш взгл€д, не представл€етс€ возможным. ‘рейзер считает, что его веро€тным источником был ‘ерекид јфинский и опираетс€ на фрагмент 3-й книги Ђ»сторийї ‘ерекида (Athenae, II. 470 f.). ќднако хорошо видно, как схожие в принципе сюжеты имеют у этих авторов разное наполнение: у јполлодора —олнце дало Ђчашуї √ераклу вовсе не из страха (как у ‘ерекида), а из восхищени€ его мужеством. јбсолютно отсутствует у јполлодора упоминание об эпизоде с ќкеаном, приведенном в этом же месте ‘ерекидом, не совпадают и очередность подвигов, описание Ћивии и многие другие детали. ” √екате€ √ерион жил не на Ёритии, и даже не в »берии, а √еракл привел быков в ћикены Ч все это также отличаетс€ от текста јполлодора (fr. 349). Ќе мог быть его источником и √елланик.
“о, что јполлодор пользовалс€ не одним, а несколькими источниками, причем обраща€сь с ними весьма вольно, видно из бросающихс€ в глаза несоответствий различных частей его текста. ќн мгновенно проводит √еракла по Ђ≈вропеї в ЂЋивиюї, а затем, говор€ об обратном пути √еракла, дает относительно подробное описание ≈вропейского материка; автор представл€ет Ђ≈вропуї и ЂЋивиюї как современную ≈вропу и северную јфрику, но приводит рассказ о путешествии √еракла из ЂЋивииї на Ёритию через ќкеан в Ђчаше —олнцаї; оба “артесса, упом€нутых им, значат разное: в первом случае речь, скорее всего, идет о реке, а во втором Ч о городе; и т.д. ћы полагаем, что јполлодор использовал различные источники, опира€сь на различные сведени€ которых, он и создал цельное, но противоречивое повествование. Ѕолее того, правильнее было бы говорить не о конкретном источнике или источниках јполлодора (это завело бы нас в тупик, поскольку пр€мые аналогии невозможны и окончательный ответ, таким образом, тоже невозможен), а о различных пластах или уровн€х традиции описани€ этого подвига √еракла, которые по€вились в разное врем€ и которые јполлодор перемешал в своем повествовании. “аких уровней мы можем выделить четыре:
I. ќчевидно, эта традици€ по€вилась даже до гомеровского времени и св€зывала подвиги √еракла с земл€ми, отсто€щими сравнительно недалеко от северного ѕелопоннеса. — ней, как кажетс€, следует соотносить Ђ≈вропуї и ЂЋивиюї јполлодора, где под Ђ≈вропойї понимаютс€ древнейшие северо-восточные земли, а под ЂЋивиейї Ч область, лежаща€ далее к востоку, но, видимо, ближе олхиды (Diod., 1, 55. 3-5). — различными про€влени€ми этой традиции были, очевидно, св€заны и воспоминани€ о возвращении √еракла с быками √ериона по —кифии и ‘ракии, т.е. по северо-восточным дл€ √реции земл€м, сохранившиес€ как у јполлодора (2. 5. 10. 12-13), так и у √еродота (4. 8), а также указани€ на абантов и Ёвбею. ќдну из версий указанной традиции донес до нас √екатей, утверждавший, что √ерион в действительности жил в северной √реции, в Ёпире, а именно Ч в области јмбракии и јмфилохии (fr. 349).
II. —о временем границы мира раздвинулись, и подвиги √еракла, св€занные с походами на Ђкрай светаї, уводили его все дальше, даже за ќкеан. Ќовый уровень развити€, или пласт традиции, насколько можно судить, дополнил предыдущий: герой, как и прежде, направл€лс€ на север (северо-восток), ему приходилось переправл€тьс€ через ќкеан, чтобы на Ђкраю светаї совершить свой подвиг. ќбратный путь вначале, видимо, снова пролегал через ќкеан: у јполлодора √еракл переплыл его и вернул Ђчашуї —олнцу. ѕривнесение јполлодором поздней трактовки названий Ђ≈вропаї и ЂЋиви€ї в более ранний пласт традиции привело к путанице: √еракл направилс€ в Ђчаше —олнцаї с запада, и, следовательно, получилось так, что √ерион жил на восточном Ђкраю землиї. “ем не менее, несмотр€ на путаницу, √еракл возвращалс€ прежним путем: герой шел на северо-восток, переплывал ќкеан, совершал подвиг, оп€ть переплывал ќкеан и возвращалс€ домой, следовательно, с северо-востока, т.е. из тех же —кифии и ‘ракии. “аким образом, место подвига было просто перенесено за ќкеан, и противоречи€ между маршрутами геро€ на первом и втором уровн€х традиции как такового не существовало.
III. ¬ то же врем€ уже √есиодом был проложен, а јполлодором, опиравшимс€ на древнейшие источники, повторен путь аргонавтов: северо-восток, северна€ ћала€ јзи€ (!), олхида, ќкеан, Ћиви€, ≈вропа (лигуры, “иррени€), —ицили€, √реци€. ќн был модифицирован √еродотом, Ђоткрывшимї пролив из ќкеана в —редиземное море (аргонавты √ериода были вынуждены нести свой корабль на руках через Ћивию, пока не достигли Ђвнутреннего мор€ї Ч ведь пролива, а следовательно, и Ђстолповї тогда еще не знали) и утверждавшим, что Ђто море, по которому во всех направлени€х плавают эллины, и море по ту сторону √еракловых столпов, а также Ёритрейское составл€ют собственно одно целоеї (1. 202).
Ёта традици€, поздн€€, но восход€ща€ к √омеру и √есиоду, также была использована јполлодором (что особенно заметно, если пренебречь упом€нутой путаницей с “артессом как местом отплыти€ в Ђчаше —олнцаї к √ериону). ќб этом свидетельствуют три обсто€тельства:
1) упоминание кельтов, лигуров и “иррении (ср.: Apollod., 2, 5. 10. 9, 1. 9. 24. 5, и Apollon., 4. 646, 659);
2) пр€мой путь √еракла из “иррении на —ицилию, мину€ лежащие между ними земли, т.е. путь ќдиссе€ у √омера и аргонавтов у √есиода. √есиоду же, видимо, восходит помещение √ериона на крайнем западе Ч острове Ёрити€, а также облик √ериона, как и имена и родословные пастуха и его собаки;
3) наконец, впервые встречающеес€ упоминание названи€ Ђ»тали€ї, но применительно лишь к тем земл€м, которые были загадкой дл€ √омера и √есиода: их герои миновали эти земли, направл€€сь из “иррении на —ицилию. ѕонимание под Ђ»талиейї этих земель, простирающихс€ от “иррении до ћессинского пролива, было характерно, по крайней мере, дл€ V в. до н.э.
ѕоследний пласт традиции уже значительно разнитс€ от первых двух, так как позвол€ет проложить другой путь дл€ возвращени€ √еракла от √ериона, а именно по европейскому материку.
IV. —ама€ поздн€€ из известных нам версий предусматривает единственно прин€тый в поздней мифологии и соответствующих научных трудах маршрут похода √еракла к √ериону: он выступает в путь по северному берегу јфрики, т.е. по Ћивии, в привычном понимании этого слова (см.: Diod., 4. 17-18), устанавливает Ђстолпыї между Ћивией и ≈вропой-материком, добывает быков в »спании (ibid., 4. 18. 2 f.), а затем идет домой по ≈вропе, в том числе по »талии. ƒанную версию јполлодор также хорошо знал, что подтверждаетс€ неудачным включением эпизода с установлением Ђстолповї в древнейший пласт традиции повествовани€ о Ђ≈вропеї и ЂЋивииї (2. 5. 10. 4) и намеком на осведомленность о том факте, что в соответствии с уровнем развити€ традиции бык, сбежавший от √еракла, переплыл ћессинский пролив, который повлек за собой не менее неудачный экскурс в этимологию, касающийс€ названи€ города –егий, и, как и в первом случае, грубое смешение разных уровней традиции.
Ёта новейша€ традици€, как видно, ограничивает путь √еракла средиземноморским побережьем, изменив, следовательно, уже не путь возвращени€, а маршрут похода до √ериона. ¬ целом же схема путешестви€ √еракла снова предстала в виде круга, но теперь уже лежащего к западу от √реции. » ничто уже не напоминало о том, какую эволюцию претерпела древнегреческа€ традици€ о походе √еракла за быками √ериона. ќстались лишь разрозненные воспоминани€ о прежних представлени€х, которые кажутс€ читателю нелепыми на фоне €ркого и цельного позднего воспроизведени€ мифа, обраставшего все более красочными подробност€ми, большую часть которых составл€ли подвиги √еракла, совершенные им в »талии, на пути от √ериона.
_____________________________
_____________
ќћћ≈Ќ“ј–»»
„ј—“№ I
Ё–»‘≈я
ƒл€ начала пройдемс€ по именам персонажей острова Ёрифе€, куда √еракл плавал за теми самыми красными коровами.
Ђћрачна€ обитель за ќкеаном великим и славнымї Ч это, как мы понимаем, јид. √еракл не единожды хаживал в царство теней. ¬ описани€х греческой географии разные ученые мужи указывали разные места схождени€ √еракла в царство мертвых, все они св€заны с глубокими пещерами и тектоническими разломами. Ќо до јида, как видим, можно и доплыть. «десь €вно просвечивает египетское вли€ние.
аждое утро –а садитс€ в свою дневную ладью (mˁnḏt, ћанджет), в сопровождении своей свиты, и отправл€етс€ в долгое путешествие по небесному Ќилу с востока на запад. ƒостигнув запада, –а пересаживаетс€ в ночную ладью (msktt, ћесктет), в которой он продолжает свое опасное путешествие по подземному Ќилу, во врем€ которого –а подвергаетс€ нападкам зме€ јпопа, пытающегос€ привнести хаос в небесную гармонию.
»сход€ из выше изложенного, √елиос дает √ераклу не Ђзолотой кубокї (как приводитс€ в тексте), а Ђзолотую ладьюї.⁸ ѕутаница, как обычно в таких случа€х, возникает из-за трудностей перевода и незнани€ первоисточников.
____________________________
[8] κύμβη ἡ досл. чаша, перен. челн Soph.
ἀμίς, ἁμίς (-ίδος) ἡ
1) ночна€ посуда Arph. Dem., Plut.
2) ладь€ Aesch.
σκαφίς (-ίδος) ἡ
1) подойник Hom.
2) корзина, плетенка;
3) чаша, таз, миска Arph., Theocr.
4) челнок, лодка Anth.
«начение слова σκαφίς Ч Ђтазї Ч вызывает ассоциации со словом Ђкорытої. Ђ—тарым корытомї, по сю пору, называют ржавые суда, потрепанные временем и морем. »ли, например, Ђпосудинаї Ч так мор€ки (или рыбаки) снисходительно называют утлые небольшие суденышки и в наши дни.
”дивительно, но ¬€чеслав »ванов, пожалуй, единственный, кто адекватно переводит Ђпосудинуї √елиоса, имену€ средство передвижени€ по воде как Ђзолотой челнї.
“екст јполлодора, в том месте, где √еракл получает от √елиоса ладью, полезно сравнить с текстом ‘ерекида, сохраненным нам јфинеем (XI, 39, р. 470 CD):
асательно этой цитаты, любопытно, что ѕисандр во второй книге Ђ√ераклеиї (Ἡρακλεία) говорит, что Ђчашуї √елиоса √еракл получил от самого ќкеана (видимо, тоже под угрозой выстрелить в него из лука). ј ѕаниасид в первой книге своей Ђ√ераклеиї рассказывает, что Ђфиалї √елиоса √еракл унес у Ќере€ и в нем доплыл до Ёрифии. то во что горазд.
ƒа, так вот, возвращаемс€ к именам, эпитетам и названи€м этого удивительного острова Ёрифе€. —обственно с названи€ острова и начнем. —лово Ἐρύθεια перевод€т как Ђкрасныйї. ќбъ€сн€етс€ это тем, что остров окрашиваетс€ в красный цвет в лучах зари. —итуаци€ усложн€етс€ еще и тем, что коровы √ериона были тоже красного цвета. ¬озможно они окрашивались в красный цвет вместе с островом, теми же лучами. Ћибо, будучи по названию острова Ёрифейскими, они приобрели нужный оттенок в силу игры слов:
ќб эпитете √ериона Ч Ёвритион (Εὐρυτίων) Ч € уже давал по€снение в тексте статьи, повторюсь, очень похоже на искаженное ЂЁрифеонї (Ἐρύθειων, т.е. Ёрифейский, с острова Ёрифе€). —амо слово Εὐρυτίων имеет примерное значение: Ђхорошо охран€ющийї, или, в переводе на литературный русский, Ч Ђпрекрасный пастушокї.
ќднако и само им€ √ериона (Γηρυών) заставл€ет обратить на себ€ внимание. Ётимологию имени логично было бы вывести от слова γηρύω, но значени€ его неоднозначны и противоречивы:
тому же о характере √ериона ничего неизвестно. Ѕыл ли он говорлив, певуч? »ли, напротив, изъ€сн€лс€ на €зыке стада, которое охран€л? ќ том истори€ умалчивает.
¬ызывает интерес им€ пса ќрфа (Ὄρθος или Ὄρθρος), который помогал √ериону охран€ть стадо. «начение слова ορθός Ч Ђпр€мой, правильныйї Ч не объ€сн€ет ничего. √ораздо интересней вариант написани€ имени Ч Ὄρθρος
Ќемного неожиданно дл€ сторожевого адского пса. ’от€, если попробовать поискать созвучи€ к Ђмычащемуї имени √ериона (Γηρυών), можно найти удивительные параллельные ассоциации.
≈сли допустить мысль, что им€ √ериона €вл€етс€ искажением изначального имени со значением Ђутреннийї (от ἠρι), то все становитс€ на свои места. ¬о-первых, по€вл€етс€ смысл в наличии второго адского пса ќрфа. ≈сли ербер осуществл€ет охрану врат в царство јида на западе, то ќрф охран€ет восточные ворота јида, откуда выходит солнечна€ ладь€, после ночного путешестви€ (если развивать тему египетского заимствовани€ сюжета).
¬о-вторых, несмотр€ на путаный рассказ јполлодора, все же можно попытатьс€ попробовать ухватить исходные смыслы. √еракл из √реции, Ђчерез многие степи ≈вропыї, проходит до самого западного ее побережь€, т.е. до берегов реки ќкеан. «десь он получает от √елиоса Ђсолнечную ладьюї, на которой отправл€етс€, через западные врата јида, на волшебный остров, пламенеющий в лучах (утренней?) зари. ѕоразив хтонического великана √ериона, √еракл выводит его стадо через восточные (читай Ђутренниеї) ворота, и оказываетс€ в районе олхиды. ј олхида (котора€ дл€ греков была Ђкраем светаї) Ч это, фактически, синоним слова Ђвостокї.
ƒмитриева —.¬. удивл€ет Ђнеожиданно четкое на общем размытом фоне указание на јбдеруї, которую √екатей и √елланик помещают во ‘ракию.⁹ Ёто не вписываетс€ в его теорию, поэтому он призывает относитьс€ к упоминанию јбдеры, как к ошибочному смешению разных источников. ќднако, принима€ уже за факт, что √еракл возвращаетс€ с востока, он и должен был пересечь ‘ракию. ƒругое дело, что далее его зачем-то заносит в Ћигурию (прибрежна€ область на северо-западе јпеннинского полуострова). ƒмитриев предлагает и к Ћигурии (Λιγυστική)¹⁰ относитьс€ как к позднейшему наслоению. ј вот с этим можно и согласитьс€, ибо, путешеству€ из ‘ракии в √рецию, на италийский полуостров можно попасть только очень сильно заблудившись.
_______________________________
[9] Ἄβδηρα τά јбдеры (город во ‘ракии Her.);
[10] Λιγυστική ἡ (sc. γῆ) Ћигури€ Arst.
ћожно предположить, что этот крюк (с заходом в »талию, и далее на —ицилию) √еракл сделал из-за созвучи€ географических названий. ¬ изложении √есиода, √еракл со стадом, перейд€ в брод ќкеан направл€етс€ к “иринфу (Τίρυνς), т.е. в јрголиду (ѕелопоннес), откуда его и послал за коровами арголидский царь Ёврисфей. ¬ изложении же јполлодора, √еракл, пройд€ јбдеру и Ћигурию, Ђдвинулс€ через “иррению (Τυρρηνία)ї. ¬озможно созвучие названий “иринфа Ч Τίρυνς и “иррении (особенно староаттический и ионийский варианты) Ч Τυρσηνία (Τυρσηνίη)¹¹ как раз и послужило причиной развити€ Ђиталь€нскогої сюжета?
[11] Τίρυνς (-υνθος) ἡ “иринф (древний город в јрголиде, на полуострове ѕелопоннес, к юго-вост. от јргоса) Hom., Hes. etc.
Τυρρηνία, староатт. Τυρσηνία, ион. Τυρσηνίη ἡ “иррени€, т.е. Ётрури€ (в »талии) Her., Thuc., Plat.
“.е., в сухом остатке имеем, что, ушедший на запад √еракл, возвращаетс€ в √рецию с красными коровами √ериона с востока. ѕротиворечи€ (которым, в выше приведенной статье —.¬. ƒмитриева, было посв€щено так много внимани€) сн€ты. ак говаривал Ќачальник „укотки: Ђпотому что «емл€ Ч кругла€ї.
PS
ј все же, что это за коровы за такие Ч красные? ак певал когда-то ÷ой, ЂЌебесный пастух пасет облакаї? ќчень похоже на то. Ќо, если с розовеющими на заре облаками, в принципе, все пон€тно, то об их пастухе все же пару слов имеет смысл добавить.
ак видно из текста, јполлодор (в отличие, например, от √есиода) отдел€ет √ериона (владельца коров) от пастуха Ёвритиона, этих коров пасущего. ћало нам раздвоившегос€ √ериона, Ђна сценеї по€вл€етс€ еще один пастух (пасущий коров јида) по имени ћенет (Μενοίτης). ѕричем, им€ ћенет несколько напоминает им€ анатолийского лунного бога ћена (Μήν), а также греческое слово μηνοειδές Ч Ђсерпї (лунный, естественно).¹²
________________________________
[12] μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. Ч лунное си€ние;
μήνη, дор. μήνα ἡ луна; ex. (ἡ νύκτερος μ. Aesch.; σέλας μήνης Hom.);
Μήνη ἡ (= Σελήνη) ћена (богин€ луны) HH., Luc.
μηνοειδές τό полукруг, дуга, серп;
μηνοειδής (μηνο-ειδής) полулунный, серпообразный, полукружный; ex. (σελήνη Xen., Plut.).
ќп€ть же, трехтелость √ериона ассоциируетс€ с трем€ фазами луны (что перекликаетс€ с лунной триморфной √екатой). », кстати говор€, три мономорфных пастуха (√ерион, Ёвритион и ћенет) и один трехтелый √ерион Ч возможно, это две разные версии мифа, совмещенные јполлодором (а, вернее, задолго до него) в одно повествование? ¬ статье даетс€ косвенное подтверждение этой версии, со ссылкой на —трабона:
Ёти же три цвета (белый, красный и черный) ≈всевий, цитиру€ ѕорфири€, ассоциирует с √екатой “риморфой:
¬прочем, лунную тему можно подт€нуть за уши еще плотнее к рассматриваемой нами истории. ≈сли уж на Ђкрасномї острове пасутс€ красные (или рыжей масти) коровы, то почему бы и их пастуху ћенету не быть рыжим? —казано Ч сделано: μήν + αἰθός.¹³ стати, это словосочетание имеет дво€кий (чтобы не сказать, тро€кий) смысл, его можно прочитать и как Ђрыжий мес€цї, и как Ђмес€ц сверкающийї. ѕричем, все варианты Ч рабочие.
________________________________
[13] μήν, дор. μάν (ᾱ), эол.-ион. μείς, gen. μηνός ὁ (дор. dat. pl. μασί) мес€ц
αἰθός 3
1) опаленный, обожженный Arph.
2) предполож. рыжий; ex. (ἀράχναι Bacchylides ap. Plut.);
3) сверкающий; ex. (ἀσπίς Pind.).
онечно красна€ луна Ч €вление не частое. Ћуна розовеет, только когда висит низко над горизонтом, и краснота ее видна только ночью. “.е. эта лунна€ рыжеватость не св€зана с утренней зарей. Ќапротив, на рассвете, в лучах солнца, луна бледнеет, а потом и вовсе исчезает. „то же придает ей красный оттенок? Ќеужели неугасимый огонь јида окрашивает луну своими сполохами, из-за кра€ земли, когда та слишком низко опускаетс€ к горизонту? ѕодземное царство јида дл€ √реции, расположенной в сейсмически активной зоне, тесно св€занно с подземным огнем, регул€рно вырывающимс€ наружу через жерла вулканов и тектонические разломы. ≈ще одно значение слова αἰθός Ч Ђопаленный, обожженныйї Ч как раз аккуратно ложитс€ в эту логику. Ќе будем забывать, что ћенет пасет коров јида (Ἀΐδης). ѕожалуй, на такой опасной работе можно и Ђспалитьс€ї.
PPS
» последнее, возвраща€сь к имени √ериона (Γηρυών) в его значении Ђмычащийї (от γηρύω, Ђмычатьї). ≈сли мы принимаем лунный аспект √ериона, то значение его имени (Ђмычащийї) начинает играть совсем другими красками. Ђ–огатуюї луну (мес€ц) издревле надел€ли образом быка. “а же √еката часто поминалась с эпитетами Ђрогата€ї (βούκερως), или просто Ђкороваї (ταῦρος). »ме€ древний териоморфный образ быка, такой же эпитет (Ђрогатыйї) носил и ƒионис.¹⁴ », кстати, тот же ƒионис, впоследствии прин€вший цивильный антропоморфный вид, становитс€ пастырем, сначала, тех же быков, а потом и человеков.
[14] ƒионис, как развитие образа египетского ќсириса на греческой почве, так же соотносилс€ с лунным аспектом.
κερατίας (-ου) ὁ рогатый; ex. Διόνυσος Diod.
χρυσόκερως (χρῡσό-κερως), gen. -ω
1) златорогий; ex. (ἔλαφος Pind.; μήνη Διόνυσος Anth.);
2) с позолоченными рогами; ex. (βοῦς Plat.)
„ј—“№ II
»ћћ≈–»я
≈ще одна увлекательна€ истори€ путешестви€ в јид морем повествуетс€ √омером в Ђќдиссееї. ¬ царство јида ќдиссе€, с его спутниками, посылает ÷ирце€. „тобы добратьс€ туда, они переплывают реку ќкеан и попадают в иммерию.¹⁵ ” √омера, иммери€ Ч это мифическа€ страна на западе, где царит вечна€ тьма. ќднако, упоминаема€ √еродотом Ђкиммериан печальна€ областьї Ч это реальна€ территори€ расселени€ киммерийских племен, в VIII-VII вв. до н.э., представл€вша€ собой огромные пространства степи и лесостепи от ‘ракии до авказа. ѕребывание киммерийцев на территории юго-восточного рыма и ерченского полуострова оставило след в топонимике географических названий: Ѕоспор иммерийский, иммерик, иммерийский вал.
________________________________
[15] Κιμμερίη ἡ иммери€ (страна киммерийцев, ныне рым) Her.
Κιμμέριοι οἱ киммерийцы
1) баснословный народ, живший на крайнем западе, в стране вечной тьмы Hom.
2) плем€, насел€вшее ’ерсонес “аврический Her.
√омер жил и творил в VIII в. до н.э. «нал ли он о киммерийских племенах, обитавших далеко на востоке от √реции? Ќеизвестно. ¬озможно, √омер пересказывал историю, которую не понимал. ак можно отправитьс€ в јид (т.е. на запад) и, в конечном счете, оказатьс€ на востоке? »тогом долгих размышлений, видимо, было перенесение иммерии с востока на неопределенный запад.
“о, что киммерийцы никогда не вид€т солнца, не должно нас смущать. ¬едь, в представлении √омера, они насельники јида, либо живущие в преддверии его. ѕо крайней мере, реку —тикс ќдиссей не пересекает, до нее он идет пешком, оставив корабль на берегу реки ќкеан. «начит, и иммери€, по мнению √омера, должна находитьс€ на мрачном западе, где-то между ќкеаном и —тиксом.
¬виду двусмысленного географического расположени€ иммерии, √омер максимально упрощает и описание самого маршрута этого морского путешестви€ (из »онического мор€, через запад, в иммерию). »з положени€ он вышел просто: надо только подн€ть паруса, ветер сам отнесет судно куда надо, ÷ирце€ об этом позаботитс€. ’от€, нужно отметить, с ветром √омер не ошибс€. ¬етер Ѕорей (северо-северо-восточный)¹⁶ дл€ путешестви€ из »онического мор€ на запад будет относительно попутным, особенно на начальном этапе (на выходе из »онического мор€).
[16] Βορέας (-ου), эп.-ион. Βορέης ὁ
1) Ѕорей (сын јстре€ и Ёос, бог сев. ветров) Hom., Hes., Pind., Her.
2) северо-северо-восточный, иногда северный ветер Hom., Arst.
”знав ответы на вопросы (ради чего ÷ирце€ и посылала ќдиссе€ в јид), он садитс€ в корабль и возвращаетс€ назад. “.е., если следовать логике, ќдиссей должен был бы переплыть снова реку ќкеан и оказатьс€ на западе. Ќо здесь логика √омера оп€ть натыкаетс€ на некий, надо понимать, древний канон, по которому переплыв ќкеан, ќдиссей со товарищи оказываетс€ на востоке, где дом утренней «ари (Ἠώς), Ђгде солнце восходитї (ἀντολαὶ Ἠελίοιο) Ч уточн€ет √омер. Ќо одновременно это остров ÷ирцеи, дочери √елиоса, откуда они и отправились в царство јида. “.е. это »оническое море, которое омывает √рецию с запада. Ѕедный √омер. ќн совсем запуталс€.
[17] Αἰαῖος 3 наход€щийс€ в стране Ёа; ex.: Αἰαίη νῆσος Hom. Ч Ёэйский остров (остров у берегов страны Ёа, владение ирки).
[18] Ἕως, эп. Ἠώς ἡ Ёос, лат. Aurora, дочь √ипериона и ‘ии (Θεία) или Ёврифаессы, богин€ утренней зари, жена “ифона (Τιθωνός), мать ћемнона, «ефира, Ѕоре€, Ќота.
ќднозначно, Ђместо, где солнце восходитї не может находитьс€ в —редиземном море. “.е. мы оп€ть имеем дело с какой-то путаницей. ¬идимо остров Ёэ€ мигрировал (вслед за страной киммерийцев) с востока на запад. ќпределить его начальное место расположени€ не сложно:
Αἰαῖος 3 наход€щийс€ в стране Ёа; ex.: Αἰαίη νῆσος Hom. Ч Ёэйский остров (остров у берегов страны Ёа, владение ирки).
Αἰαίη ἡ Ёэа (жительница страны Ёа, т.е. ирка или ÷ирце€) Hom.
ќсталось определитьс€ со страной Ёа, возле которой находитс€ остров ÷ерцеи. Ќет ничего проще Ч это олхида.¹⁹ ƒалека€ страна на востоке (от √реции), самый край известной грекам (той поры) ойкумены.
________________________________
[19] Αἶα ἡ Ёа, старинное название олхиды Her., Soph.
ќдиссе€ занесло в „ерное море? “акое впечатление, что √омер мучительно пытаетс€ совместить несовместимое. Ћибо сказитель пользовалс€ разными верси€ми путешестви€ ќдиссе€ (или схожими описани€ми путешествий других героев). Ћибо географи€, дл€ слепого пиита, Ч запредельно сложна€ категори€.
¬се, между тем, встает на свои места, если прин€ть версию о заимствовании идеи путешестви€ –а по подземному Ќилу каждую ночь. ≈стественно дл€ греков этот сюжет не €вл€етс€ ни религиозным, ни мировоззренческим. ƒл€ √омера, как видим, он не €вл€етс€ даже хоть сколько-нибудь пон€тным. ак мог, он его переосмыслил и вписал в логику своего повествовани€. ѕолучилось то, что получилось. ¬ конце концов поэта цен€т ни за научную содержательность, а за красоту и легкость слога, и за увлекательность сюжетной линии.
Ќапоследок пару слов о ÷ирцее, точнее о ирке (Κίρκη), если придерживатьс€ греческого первоисходника. Ётимологи€ имени св€зана со словом κίρκος (в значении Ђкольцої).²⁰
________________________________
[20] Κίρκη, дор. Κίρκα ἡ ирка или ÷ирце€ (дочь √елиоса, волшебница на о-ве Ёэа Ч Αἰαίη νῆσος) Hom.
κίρκος
I ὁ предполож. €стреб Aesch., Arst.; ex.: ἴρηξ κ. Hom. Ч описывающий круги €стреб;
II ὁ
1) (лат. circus) цирк (в –име) Polyb.;
2) кольцо Anth.
¬ представлении древних греков, река ќкеан окаймл€ла (фактически Ђокольцовывалаї) всю ойкумену, в том виде, как они ее себе представл€ли. ≈сли не брать в расчет переработку √омером маршрута ќдиссе€, то получаетс€, что ќдиссей с товарищами (в изначальном варианте) отплыл с острова ирки и сделав круг вернулс€ туда же (по Ђкольцевому маршрутуї).
ƒругое производное значение от слова κίρκος Ч окружать кольцом (κιρκόω),²¹ т.е. Ђплен€тьї Ч также обыгрываетс€ √омером. ирка (÷ирце€) подмешивает зелье в еду странников, которые оказываютс€ на острове, после чего они превращаютс€ в животных. “очно так же и спутников ќдиссе€, которых тот послал осмотреть остров, ÷ирце€- ирка превратила в свиней и закрыла в загоне.
________________________________
[21] κιρκόω Ч окружать кольцом, заковывать (σκέλη Aesch.).
„ј—“№ III
–≈ ј ќ ≈јЌ
¬ примечани€х к фразе Ђв устье швырнув ќкеана-рекиї даетс€ по€снение: Ђт.е. ввергла бы в царство смертиї.
ќчевидно, что, под устьем реки ќкеан, √омер подразумевает «апад, ибо дорога к устью ќкеана Ђокутана мракомї. — другой стороны, а где у ќкеана, в таком случае, исток? √омер называет ќкеан Ђкруговратно текущимї (ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψορρόου Ὠκεανοῖο),²² т.е. опо€сывающим всю землю. ѕолучаетс€, что у ќкеана нет ни начала, ни конца, ни истока, ни усть€.
________________________________
[22] ἀψόρροος (ἀψό-ρροος) ст€ж. ἀψόρρους 2 текущий всп€ть, т.е. обтекающий кругом (эпитет ќкеана) Hom.
ќднако √еродот пишет, что Ђќкеан, по утверждению эллинов, течет, начина€ от восхода солнца, вокруг всей землиї. “.е. налицо либо трудности перевода, либо трудности с пониманием картины мира античными авторами. ≈сли отталкиватьс€ от √еродота, т.е. исток ќкеана находитс€ на востоке, а устье (как выше отмечено у √омера) Ч на западе, то получаетс€, что ќкеан не Ђкруговратно текущийї, а обтекающий «емлю (как остров) с севера и юга. Ќо откуда ќкеан вытекает на востоке, и куда утекает на западе? «десь €вный пробел.²³
Ќа лицо оп€ть неправильно пон€та€ и неверно истолкованна€ египетска€ мистери€ путешестви€ солнечного бога в ладье по небесному Ќилу днем и подземному Ќилу (в ƒуате) Ч ночью. ¬ этой традиции исток небесного Ќила находилс€ на ¬остоке (на выходе из ƒуата). ”стье же небесного Ќила находилось, соответственно, Ч на «ападе. √реки небесный (и подземный) Ќил Ђзаземлилиї, перевед€ его в горизонтальную плоскость, и назвав ќкеаном. ¬ силу чего, река осталась Ђкруговратно текущейї (по старой пам€ти), но ни о каком путешествии солнца по ней, уже речи быть не могло. Ќо это в теории, на практике все гораздо запутаннее.
√елиос путешествовал по небу на колеснице, а на «ападе переправл€лс€ через реку ќкеан в Ђзолотом кубкеї, вместе с кон€ми и колесницей. ќ путешествии √елиоса по јиду истори€ умалчивает, разные авторы говор€т лишь, что потом √елиос вновь переправл€лс€ через ќкеан в том же Ђкубкеї. Ќо, поскольку солнце всходит на ¬остоке, то у солнечного бога нет другого пути, как только пересечь царство јида на колеснице. «десь возникает непреодолимое противоречие. Ќасельники јида никогда не вид€т солнца. Ќо, проезжа€ подземное царство насквозь, √елиос не мог остатьс€ незамеченным. Ќе найд€ выхода из совершенно неразрешаемого противоречи€, греческие сказители просто опускают эту часть путешестви€, как малозначительную. ј ведь это половина путиЕ
________________________________
[23] ѕлатон в своем Ђ‘едонеї дает весьма приближенное к египетскому понимание о круговращении вод реки ќкеан. ќписыва€ подземные реки, он определ€ет подземную реку јхерон как вторую по величине реку в мире, уступающую только ќкеану. ѕлатон утверждал, что јхерон тек в противоположном направлении от ќкеана под землей.
Ђ¬ эту пропасть (в “артар) стекают все реки, и в ней снова берут начало. (Е) огда вода отступает в ту область, которую мы зовем нижнею, она течет сквозь землю по руслам тамошних рек и наполн€ет их, словно оросительные канавы; а когда уходит оттуда и устремл€етс€ сюда, то снова наполн€ет здешние реки.
(Е)
Ётих рек многое множество, они велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. —ама€ больша€ из всех и сама€ далека€ от середины («емли) течет по кругу; она зоветс€ ќкеаном. Ќавстречу ей, но по другую сторону от центра течет јхеронт. ќн течет по многим пустынным местност€м, главным образом под землейїЕ
(ѕлатон. ‘едон 60-61)
—праведливости ради, надо отметить, что в одном месте ќдиссеи √омер упоминает некую потайную дверь (или ворота) √елиоса (Ἠελίοιο πύλας), на другом берегу реки ќкеан. Ќо что это за дверь, куда она ведет Ч об этом √омер умалчивает. „ерез зап€тую упоминаетс€ и Ћевкада (Λευκάδα), бела€ скала (у которой, по преданию, находилс€ вход в подземное царство). √ермес ведет за собой души усопших мимо Ћевкады и мимо ворот √елиоса к асфоделевым лугам. »з чего становитс€ пон€тно, что единственное назначение Ђсолнечных воротї Ч это возможность √елиосу проскочить незаметно дл€ душ, насел€ющих јид.
ћимнерм находит выход из положени€ и объ€сн€ет каким образом √елиос добираетс€ до востока. ќн плывет в Ђзолотом крылатом ложеї по ќкеану (т.е. не спуска€сь в јид). Ќо, если √елиос не опускаетс€ за горизонт, почему же ночью темно? ¬опрос на засыпку.
ак видно из цитаты, √елиос переплывает ќкеан в своем волшебном Ђложеї, пребыва€ во сне. »нтересное решение, видимо, ћимнерм рассудил, что сп€щий √елиос не лучитс€ светом, от того ночью и темно. „то характерно, плывет он без коней, кони, вместе с колесницей, ждут его уже на востоке. аким образом Ђбыстроногие кониї оказываютс€ на востоке (в краю эфиопов)²⁴ ћимнерм не объ€сн€ет.
Ђ рылатостьї Ђзолотого вогнутого ложаї, видимо, необходима в силу того, что √елиос плывет против течени€. ¬едь ќкеан течет с востока на запад, а √елиос плывет с запада на восток. ¬прочем, это если мы принимаем версию √еродота. ¬ понимании √омера (о Ђкруговратно текущем ќкеанеї), возможно, √елиос огибал «емлю с севера, плыв€ по течению. —еверные земли, дл€ греков, были чем-то настолько запредельно далеким, что когда јполлон (отождествл€емый с √елиосом) улетал в √иперборею, в √реции наступала зима. “.е., в интерпретации √омера, крыль€ Ђзолотому ложуї √елиоса, и в этом случае, не менее важны. ¬едь путь не близкий, а нужно успеть к восходу добратьс€ до места (этого самого восхождени€).
________________________________
[24] рай эфиопов (как место восхода солнца) Ч откровенно египетска€ традици€.
√≈–ј Ћ ј—“–ќ’»“ќЌ
Ќиже, в отрывке из Ђƒе€ний ƒионисаї, Ќонн (от лица ƒиониса) отождествл€ет √еракла јстрохитона (облаченного в звезды) с √елиосом, јполлоном, «евсом, јмоном и многими другими верховными божествами разных народов. √еракл јстрохитон Ч это ћелькарт, финикийский бог-покровитель города “ира. ¬ изложении Ќонна, он представлен не только как сол€рное божество, более того Ч он владыка небесный. ¬озможно, такое расширение функционала произошло от неоднозначно переводимого слова ἄστρον. ≈го можно перевести не только как Ђзвездаї, но и как Ђсолнцеї, и как Ђславаї, т.е. Ђси€ниеї. Ќапример, слово ἀστρόβλητος (ἀστρό-βλητος) переводитс€ как Ђпораженный солнечным ударомї. ј значит и эпитет √еракла Ἀστροχίτων можно перевести не только как Ђоблаченный в одежды из звездї (традиционный перевод), но и как Ђоблаченный в си€ющие одеждыї (как тот же √елиос).
[25] Ἀστροχίτων Ђоблаченный в одежды из звездї (χιτών ἀστέριος) .
[26] Μήνη ἡ (= Σελήνη) ћена (богин€ луны) HH., Luc.
[27] φαέθων (-οντος) part. и adj. си€ющий, блистающий, лучезарный = ἥλιος Anth.
[28] Φοῖβος ὁ ‘еб, ЂЋучезарныйї (эпитет јполлона) Hom., Aesch.
[29] γάμος ὁ тж. pl.
1) брак, бракосочетание, супружество Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst., Luc.
2) свадьба, брачный пир;
3) половые сношени€, сожительство.
[30] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ ѕэан (бог-целитель, после √омера отождествл€лс€ преимущ. с јполлоном.)
Αἰθήρ (-έρος) ὁ Ёфир, бог горних высей (сын Ёреба и Ќочи) Hes.
_______________________________
ћ»‘ќЋќ√»„≈— јя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј II
ƒес€тым подвигом Ёврисфей назначил ему [√ераклу] привести коров √ериона из Ёритеи. Ёрите€ была островом, расположенным за ќкеаном: ныне этот остров называетс€ √адейра. Ќа этом острове обитал √ерион, сын ’рисаора и аллирои, дочери ќкеана. ќн обладал телом, сросшимс€ из трех человеческих тел, соединенных между собой до по€са, но раздел€вшихс€ от подреберь€ и бедер. ≈му принадлежали красные коровы, которых пас Ёвритион, а сторожил двуглавый пес ќртр, порожденный ≈хидной и “ифоном.
ќтправившись за коровами √ериона, √еракл прошел через многие степи ≈вропы и пришел в Ћивию. ѕрид€ в “артесс, он поставил там пам€тные знаки о своем походе на границах ≈вропы и Ћивии Ч две одинаковые каменные стелы.
ќбжигаемый лучами солнца во врем€ похода, √еракл направил свой лук против бога √елиоса, и тот, пораженный его мужеством, дал ему золотой кубок, в котором √еракл и пересек ќкеан. ѕрибыв в Ёритею, √еракл расположилс€ дл€ ночлега на горе јбанте. —обака, учу€в его, кинулась к нему, но √еракл отразил ее дубиной и убил пастуха Ёвритиона, прибежавшего ей на помощь.
ћенет, который пас там коров јида, рассказал о случившемс€ √ериону, и тот, застав √еракла на берегу реки јнтемунта угон€ющим коров, вступил с ним в борьбу, но √еракл убил его, застрелив из лука. ѕосле этого он загнал коров в кубок и, переплыв в “артесс, вернул кубок √елиосу.
«атем он пересек јбдерию и прибыл в Ћигурию, где сыновь€ ѕосейдона »алебион и ƒеркин попытались отобрать у него коров. ”бив их, √еракл двинулс€ через “иррению. ¬ области –еги€ один бык отбилс€ от стада, кинулс€ в море и переплыл в —ицилию, перешел через близлежащую землю (котора€ по его имени названа »талией, ибо тирренцы называют быка словом Ђиталосї). «атем он вышел в долину Ёрика, который царствовал над элимами. Ёрик этот был сыном ѕосейдона, и он загнал быка в свои стада.
√еракл же, передав коров √ефесту, поспешил на поиски этого быка и нашел его в стадах Ёрика, но тот сказал, что отдаст быка только в том случае, если √еракл одолеет его в борьбе. √еракл вступил с ним в борьбу и, трижды вз€в верх, убил Ёрика; быка он погнал вместе со всем стадом к »онийскому морю. огда они подошли к морской излучине, √ера наслала на коров слепн€, и стадо разделилось в области фракийского предгорь€. √еракл поймал часть стада и погнал его в направлении √еллеспонта, друга€ же часть осталась дикой. ≈два согнав коров к реке —тримону, √еракл вознегодовал на эту реку, издавна бывшую судоходной. Ќабросав в нее скал, он сделал ее несудоходной, и пригнав коров к Ёврисфею, отдал их ему, а тот принес коров в жертву богине √ере.
—.¬. ƒмитриев
√≈–ј Ћ ¬ ƒ–≈¬Ќ≈…Ў≈… »“јЋ»» (рассказ јполлодора и его источники)
(—тать€ приведена с некоторыми сокращени€ми)
1. ”казание на то, что √ерион (Γηρυών)¹ жил на Ёритии (Ἐρύθεια),² встречаетс€ у многих авторов; √есиод (Th., 290) и —тесихор (Bergk fr., 10) считали ее островом.
________________________________
[1] Γηρυών (-όνος) ὁ √ерион (сын ’рисаора, трехтелый исполин, у которого √еракл угнал быков) Pind., Aesch.
[2] Ἐρύθεια, ион. Ἐρυθείη ἡ Ёрифе€ (миф. остров на крайнем «ападе, за √еракловыми столпами, царство трехтелого √ериона) Hes., Her., Isocr.
2. √есиод говорит, что √ерион был рожден от ’рисаора³ и дочери ќкеана аллирои и имел три головы (Th., 287 f).
3. Ёврити€ (Εὐρυτίων)⁴ и его пса ќртра упоминает √есиод (Th., 293), называ€ тех же родителей √ериона (Th., 304 ff.).
________________________________
[3] Χρυσάωρ (-ορος) ὁ ’рисаор (сын ѕосидона и ћедузы, отец √ериона и Ёхидны) Hes.
[4] Ёпитет √ериона Ёвритий (Εὐρυτίων) очень похоже на искаженное ЂЁрифеонї (Ἐρύθειων, т.е. Ёрифейский, с острова Ёрифе€).
4. 1. ѕо ‘ерекиду, √еракл убивал животных, ид€ за €блоками √есперид, в Ћивии, считавшейс€ Ђматерью диких животныхї (Apollon., 4. 1561; Suid. Λιβυκὸν θηρίον), по ƒиодору Ч на рите (4. 17. 3), в котором хот€т видеть Ђ≈вропуї⁵ (Lyc. Alex., 1836).
________________________________
[5] —огласно мифу, «евс, в образе быка, похитив ≈вропу, переносит ее на рит.
2. ¬ древнейшие времена полагали, что между ≈вропой и јзией не существует пролива (Diod., 4. 18. 5), и, следовательно, антична€ традици€ упоминани€ о Ђстолпахї возникла уже сравнительно поздно (Diod., 4. 18. 4).
3. ѕуть из Ђ≈вропыї в Ћивию лежал через “артесс; причастие Ђπαρελθὼνї заставл€ет видеть в “артессе либо реку (ср.: Ταρτησσοῦ ποταμοῦ. Ч Stesichor., fr. 5), либо область (ср. города “артесса Ч Hecat., fr. 4; 5). —трабон предположил, что в основе гомеровского Ђ“артараї лежал далекий западный “артесс (3. 2. 12).
5. 1. ≈сли Ёрити€-√адира находилась в Ћивии (Diod., 4. 18. 2), то зачем √ераклу надо было переправл€тьс€ в нее через ќкеан из ≈вропы? “о, что эта Ђ≈вропаї не означала современный материк, видно и из описани€ јполлодором обратного пути √еракла (2. 5. 10. 9-11). аллимах говорит о Ђсветло(рыже?)волосых ливийских женщинахї (Hymn., 2. 86), а —т. ¬изантийский сообщает: ЂΛίβυσσα φρουρίον Βιθυνίας ἐπιψαλάσσιονї и ЂΛιβυστῖνοι ἔθνος παρακείμενον Κόλχοις, с.4 ὡς Διόφαντοςї. ЂὋς εἰς Κύταιαν τὴν Λιβυστίνην μολὼνї, Ч говорит Ћикофрон о олхиде (Alex., 1312). ѕод ЂЋивиейї јполлодора скрывалась, возможно, область к востоку от √реции Ч северо-восточна€ ћала€ јзи€ или олхида.
2. ” колхов солнце всходило, а в Ћивии заходило (Apollon., 1. 81 f): это были Ђкра€ светаї, и многие авторы пролагали путь √еракла в Ђчаше —олнцаї через ќкеан Ч из Ћивии к ѕрометею, на авказ (Pherec., fr. 33), от авказа до √есперид, в Ћивию (Ёсхил, fr. 76) сам путь из олхиды в Ћивию через ќкеан указал аргонавтам еще √есиод (Schol. Apollon., 4. 259).
3. ќсобенностью архаического греческого менталитета €вл€лось то, что Ђкра€ светаї могли засел€тьс€ одними и теми же людьми: и на востоке, и на западе жили эфиопы (Strabo, I. 2. 26; Ёсхил, fr. 192; Ёврипид, fr. 771), ÷ирце€ (Hom. Od., 10. 135; 12. 1-9), амазонки (Diod., 2. 44-45; 3. 52-55), иберы (Eustath. Com. Dion., 694 ff.) и т.д. “о же, следовательно, могло относитьс€ и к Ћивии (см.: Apollon, 4. 1227).
6. √омер сообщает, что плем€ абантов владело Ёвбеей и, видимо, еще до “ро€нской войны (Strabo, 10. 1. 8 f.). ”поминает их и јрхилох (Plu. Thes., 5, cf. Hom. Il., 2. 536 f.).
7. —южет и персонажи нигде более не встречаютс€; интересны три момента:
1. ѕо —трабону, на Ёвбее было две реки, покупавшись в одной из которых, скот становилс€ белым, а в другой Ч черным. Ѕыки —олнца (√елиоса) могли быть и красными (φοίνικοι) Ч быки √ериона, и белыми; быки јида, которых пас на Ёритии, считавшейс€ островом, ћенет, были, очевидно, черными. » —олнце (Ἥλιος), и јид (“артар) €вно ассоциировались с Ђкра€ми светаї.⁶
________________________________
[6] ἥλιος, эп. преимущ. ἠέλιος, дор. ἀέλιος и ἅλιος ὁ
1) солнце; ex. ἡλίου κύκλος Trag., Arst. Ч солнечный диск;
2) место восхода солнца, восток; ex. πρὸς ἠῶ τ΄ ἠέλιόν τε Hom., πρὸς ἠῶ τε καὴ ἡλίου ἀνατολάς или πρὸς ἠῶ τε καὴ ἥλιον ἀνατέλλοντα Her. Ч к востоку, на восток;
3) дневной путь солнца, т.е. день; ex. φῶς ἓν ἡλίου Eur. Ч свет одного дн€, т.е. всего лишь один день;
4) солнечна€ жара, зной; ex. ὁ ἥ. πολύς Luc. Ч сильна€ жара;
5) солнечный свет;
6) светлое настроение, €сность;
Λιβύη, дор. Λιβύα ἡ Ћиви€
1) дочь Ёпафа, мать јгенора, Ѕела и Ћелега от «евса Aesch. etc.
2) сев.-зап. побережье јфрики до обоих —иртов Hom.
3) (= Λιβυκὸς νομός) область между сев. ≈гиптом и ћармарикой Her.
4) вс€ сев. јфрика Arst., Polyb. etc.
2. ћенет был застрелен из лука; ни один из известных нам претендентов на быков √ериона не был убит подобным образом.
3. ¬ ¬ифинии, неподалеку от —имплегад, находилась Ἀνθεμοεισίδα λίμηνη (Apollon., 2. 724).
8. ѕредлог Ђεἰςї обозначает цель: следовательно, “артесс здесь не река, а либо названный по имени реки (Strabo, 3. 2. 11) город, контакты с которым греки установили где-то в VII в. до н.э. (Herodot., 4. 152) и который был разрушен около 500 до н.э., либо область.
9. 1. ”дивл€ет неожиданно четкое на общем размытом фоне указание на јбдеру. Ётот город знали √екатей (fr. 127), √елланик (fr. 98), помещавшие древнейшую јбдеру во ‘ракию, и Ёфор (fr. 72). ” ‘ерекида јбдера св€зывалась с походом за кон€ми ƒиомеда.
2. –азночтение Ђεἰς Λιγύηνї (FHG, I, Müller) и Ђεἰς Λιγυστικῆ γῆї (Loeb. clas., L., є121, Frazer) осложн€ет дело, так как Ђλίγυεςї было названием саллиев, а ЂΛιγυστικῆ γῆї означало место племени массалиотов, позже именуемых Ђкельтолигурамиї (Strabo, 4. 6. 3). ћассали€, Ђπόλις τῆς Λιγυστικῆςї. (Hecat., fr. 22), была основана, видимо, в конце VI в. до н.э. (Tim., fr. 39 f.), а до этого существовало одно название Ч λίγυες. јполлоний зовет —тойхадские острова ЂЋигустидскимиї (Λιγυστίδας Ч 4. 553 f.), а —трабон, ссыла€сь на Ђдревнихї, насел€ет их массалиотами (4. 1. 10), жившими, по его же словам, в Ћигустинии (4. 6. 3). Ёти острова, если верить древнейшим источникам јполлони€, находились на другом Ђкраю светаї (4. 563-658 f.), за Ёриданом и –оданом, причем последний €вно может быть идентифицирован с “артессом Ч “артаром (см.: Apollon., 4. 625, f.; 646 f.).
3. —уществовали, видимо, по указанному уже ранее принципу, и колхидские лигуры (Eustath., 76; Herodot, 5994), ведь лигуры помещались на Ђкраю землиї (см.: Hes. fr., 132).
—казать, что јполлодор пользовалс€ одним или преимущественно одним источником, на наш взгл€д, не представл€етс€ возможным. ‘рейзер считает, что его веро€тным источником был ‘ерекид јфинский и опираетс€ на фрагмент 3-й книги Ђ»сторийї ‘ерекида (Athenae, II. 470 f.). ќднако хорошо видно, как схожие в принципе сюжеты имеют у этих авторов разное наполнение: у јполлодора —олнце дало Ђчашуї √ераклу вовсе не из страха (как у ‘ерекида), а из восхищени€ его мужеством. јбсолютно отсутствует у јполлодора упоминание об эпизоде с ќкеаном, приведенном в этом же месте ‘ерекидом, не совпадают и очередность подвигов, описание Ћивии и многие другие детали. ” √екате€ √ерион жил не на Ёритии, и даже не в »берии, а √еракл привел быков в ћикены Ч все это также отличаетс€ от текста јполлодора (fr. 349). Ќе мог быть его источником и √елланик.
“о, что јполлодор пользовалс€ не одним, а несколькими источниками, причем обраща€сь с ними весьма вольно, видно из бросающихс€ в глаза несоответствий различных частей его текста. ќн мгновенно проводит √еракла по Ђ≈вропеї в ЂЋивиюї, а затем, говор€ об обратном пути √еракла, дает относительно подробное описание ≈вропейского материка; автор представл€ет Ђ≈вропуї и ЂЋивиюї как современную ≈вропу и северную јфрику, но приводит рассказ о путешествии √еракла из ЂЋивииї на Ёритию через ќкеан в Ђчаше —олнцаї; оба “артесса, упом€нутых им, значат разное: в первом случае речь, скорее всего, идет о реке, а во втором Ч о городе; и т.д. ћы полагаем, что јполлодор использовал различные источники, опира€сь на различные сведени€ которых, он и создал цельное, но противоречивое повествование. Ѕолее того, правильнее было бы говорить не о конкретном источнике или источниках јполлодора (это завело бы нас в тупик, поскольку пр€мые аналогии невозможны и окончательный ответ, таким образом, тоже невозможен), а о различных пластах или уровн€х традиции описани€ этого подвига √еракла, которые по€вились в разное врем€ и которые јполлодор перемешал в своем повествовании. “аких уровней мы можем выделить четыре:
I. ќчевидно, эта традици€ по€вилась даже до гомеровского времени и св€зывала подвиги √еракла с земл€ми, отсто€щими сравнительно недалеко от северного ѕелопоннеса. — ней, как кажетс€, следует соотносить Ђ≈вропуї и ЂЋивиюї јполлодора, где под Ђ≈вропойї понимаютс€ древнейшие северо-восточные земли, а под ЂЋивиейї Ч область, лежаща€ далее к востоку, но, видимо, ближе олхиды (Diod., 1, 55. 3-5). — различными про€влени€ми этой традиции были, очевидно, св€заны и воспоминани€ о возвращении √еракла с быками √ериона по —кифии и ‘ракии, т.е. по северо-восточным дл€ √реции земл€м, сохранившиес€ как у јполлодора (2. 5. 10. 12-13), так и у √еродота (4. 8), а также указани€ на абантов и Ёвбею. ќдну из версий указанной традиции донес до нас √екатей, утверждавший, что √ерион в действительности жил в северной √реции, в Ёпире, а именно Ч в области јмбракии и јмфилохии (fr. 349).
II. —о временем границы мира раздвинулись, и подвиги √еракла, св€занные с походами на Ђкрай светаї, уводили его все дальше, даже за ќкеан. Ќовый уровень развити€, или пласт традиции, насколько можно судить, дополнил предыдущий: герой, как и прежде, направл€лс€ на север (северо-восток), ему приходилось переправл€тьс€ через ќкеан, чтобы на Ђкраю светаї совершить свой подвиг. ќбратный путь вначале, видимо, снова пролегал через ќкеан: у јполлодора √еракл переплыл его и вернул Ђчашуї —олнцу. ѕривнесение јполлодором поздней трактовки названий Ђ≈вропаї и ЂЋиви€ї в более ранний пласт традиции привело к путанице: √еракл направилс€ в Ђчаше —олнцаї с запада, и, следовательно, получилось так, что √ерион жил на восточном Ђкраю землиї. “ем не менее, несмотр€ на путаницу, √еракл возвращалс€ прежним путем: герой шел на северо-восток, переплывал ќкеан, совершал подвиг, оп€ть переплывал ќкеан и возвращалс€ домой, следовательно, с северо-востока, т.е. из тех же —кифии и ‘ракии. “аким образом, место подвига было просто перенесено за ќкеан, и противоречи€ между маршрутами геро€ на первом и втором уровн€х традиции как такового не существовало.
III. ¬ то же врем€ уже √есиодом был проложен, а јполлодором, опиравшимс€ на древнейшие источники, повторен путь аргонавтов: северо-восток, северна€ ћала€ јзи€ (!), олхида, ќкеан, Ћиви€, ≈вропа (лигуры, “иррени€), —ицили€, √реци€. ќн был модифицирован √еродотом, Ђоткрывшимї пролив из ќкеана в —редиземное море (аргонавты √ериода были вынуждены нести свой корабль на руках через Ћивию, пока не достигли Ђвнутреннего мор€ї Ч ведь пролива, а следовательно, и Ђстолповї тогда еще не знали) и утверждавшим, что Ђто море, по которому во всех направлени€х плавают эллины, и море по ту сторону √еракловых столпов, а также Ёритрейское составл€ют собственно одно целоеї (1. 202).
Ёта традици€, поздн€€, но восход€ща€ к √омеру и √есиоду, также была использована јполлодором (что особенно заметно, если пренебречь упом€нутой путаницей с “артессом как местом отплыти€ в Ђчаше —олнцаї к √ериону). ќб этом свидетельствуют три обсто€тельства:
1) упоминание кельтов, лигуров и “иррении (ср.: Apollod., 2, 5. 10. 9, 1. 9. 24. 5, и Apollon., 4. 646, 659);
2) пр€мой путь √еракла из “иррении на —ицилию, мину€ лежащие между ними земли, т.е. путь ќдиссе€ у √омера и аргонавтов у √есиода. √есиоду же, видимо, восходит помещение √ериона на крайнем западе Ч острове Ёрити€, а также облик √ериона, как и имена и родословные пастуха и его собаки;
3) наконец, впервые встречающеес€ упоминание названи€ Ђ»тали€ї, но применительно лишь к тем земл€м, которые были загадкой дл€ √омера и √есиода: их герои миновали эти земли, направл€€сь из “иррении на —ицилию. ѕонимание под Ђ»талиейї этих земель, простирающихс€ от “иррении до ћессинского пролива, было характерно, по крайней мере, дл€ V в. до н.э.
ѕоследний пласт традиции уже значительно разнитс€ от первых двух, так как позвол€ет проложить другой путь дл€ возвращени€ √еракла от √ериона, а именно по европейскому материку.
IV. —ама€ поздн€€ из известных нам версий предусматривает единственно прин€тый в поздней мифологии и соответствующих научных трудах маршрут похода √еракла к √ериону: он выступает в путь по северному берегу јфрики, т.е. по Ћивии, в привычном понимании этого слова (см.: Diod., 4. 17-18), устанавливает Ђстолпыї между Ћивией и ≈вропой-материком, добывает быков в »спании (ibid., 4. 18. 2 f.), а затем идет домой по ≈вропе, в том числе по »талии. ƒанную версию јполлодор также хорошо знал, что подтверждаетс€ неудачным включением эпизода с установлением Ђстолповї в древнейший пласт традиции повествовани€ о Ђ≈вропеї и ЂЋивииї (2. 5. 10. 4) и намеком на осведомленность о том факте, что в соответствии с уровнем развити€ традиции бык, сбежавший от √еракла, переплыл ћессинский пролив, который повлек за собой не менее неудачный экскурс в этимологию, касающийс€ названи€ города –егий, и, как и в первом случае, грубое смешение разных уровней традиции.
Ёта новейша€ традици€, как видно, ограничивает путь √еракла средиземноморским побережьем, изменив, следовательно, уже не путь возвращени€, а маршрут похода до √ериона. ¬ целом же схема путешестви€ √еракла снова предстала в виде круга, но теперь уже лежащего к западу от √реции. » ничто уже не напоминало о том, какую эволюцию претерпела древнегреческа€ традици€ о походе √еракла за быками √ериона. ќстались лишь разрозненные воспоминани€ о прежних представлени€х, которые кажутс€ читателю нелепыми на фоне €ркого и цельного позднего воспроизведени€ мифа, обраставшего все более красочными подробност€ми, большую часть которых составл€ли подвиги √еракла, совершенные им в »талии, на пути от √ериона.
_____________
ќћћ≈Ќ“ј–»»
„ј—“№ I
Ё–»‘≈я
ƒл€ начала пройдемс€ по именам персонажей острова Ёрифе€, куда √еракл плавал за теми самыми красными коровами.
ЂЁтот ’рисаор родил трехголового √ерионе€,⁷
—оединившись в любви с аллироею ќкеанидой.
√ерионе€ того умертвила √ераклова сила
¬озле ленивых коров на омытой водой Ёрифее.
¬ тот же направилс€ день к “иринфу св€щенному с этим
—тадом коровьим √еракл, через броды пройд€ ќкеана,
ќрфа убивши и стража коровьего Ёвритиона
«а ќкеаном великим и славным, в обители мрачной.ї
(√есиод. “еогони€ 282-289)
_________________________
[7] Γηρυονεύς (-ῆος) ὁ Hes. = Γηρυών
Γηρυών (-όνος) ὁ √ерион (сын ’рисаора, трехтелый исполин, у которого √еракл угнал быков) Pind., Aesch.
Ђћрачна€ обитель за ќкеаном великим и славнымї Ч это, как мы понимаем, јид. √еракл не единожды хаживал в царство теней. ¬ описани€х греческой географии разные ученые мужи указывали разные места схождени€ √еракла в царство мертвых, все они св€заны с глубокими пещерами и тектоническими разломами. Ќо до јида, как видим, можно и доплыть. «десь €вно просвечивает египетское вли€ние.
Ђ“вой правый глаз Ч вечерн€€ ладь€, твой левый глаз Ч утренн€€ ладь€ї.
аждое утро –а садитс€ в свою дневную ладью (mˁnḏt, ћанджет), в сопровождении своей свиты, и отправл€етс€ в долгое путешествие по небесному Ќилу с востока на запад. ƒостигнув запада, –а пересаживаетс€ в ночную ладью (msktt, ћесктет), в которой он продолжает свое опасное путешествие по подземному Ќилу, во врем€ которого –а подвергаетс€ нападкам зме€ јпопа, пытающегос€ привнести хаос в небесную гармонию.
»сход€ из выше изложенного, √елиос дает √ераклу не Ђзолотой кубокї (как приводитс€ в тексте), а Ђзолотую ладьюї.⁸ ѕутаница, как обычно в таких случа€х, возникает из-за трудностей перевода и незнани€ первоисточников.
____________________________
[8] κύμβη ἡ досл. чаша, перен. челн Soph.
ἀμίς, ἁμίς (-ίδος) ἡ
1) ночна€ посуда Arph. Dem., Plut.
2) ладь€ Aesch.
σκαφίς (-ίδος) ἡ
1) подойник Hom.
2) корзина, плетенка;
3) чаша, таз, миска Arph., Theocr.
4) челнок, лодка Anth.
«начение слова σκαφίς Ч Ђтазї Ч вызывает ассоциации со словом Ђкорытої. Ђ—тарым корытомї, по сю пору, называют ржавые суда, потрепанные временем и морем. »ли, например, Ђпосудинаї Ч так мор€ки (или рыбаки) снисходительно называют утлые небольшие суденышки и в наши дни.
”дивительно, но ¬€чеслав »ванов, пожалуй, единственный, кто адекватно переводит Ђпосудинуї √елиоса, имену€ средство передвижени€ по воде как Ђзолотой челнї.
Ђ√де закат ал, там отцу в дар.
ƒал √ефест-бог золотой челн.
ѕересечь хл€бь круговых вод.
» прогнать Ќочь, чей св€той мрак.
ќсен€л твердь
— черноконной ее колесницыї.
(Ёсхил. Ђ√елиадыї)
“екст јполлодора, в том месте, где √еракл получает от √елиоса ладью, полезно сравнить с текстом ‘ерекида, сохраненным нам јфинеем (XI, 39, р. 470 CD):
Ђ√еракл нат€нул лук, собира€сь выстрелить в √елиоса, но последний приказал √ераклу не делать этого. √еракл, испугавшись, не выстрелил. ¬замен √елиос дал ему золотой кубок, в котором он сам ездил со своими кон€ми после заката через ќкеан в течение всей ночи по направлению к ¬остоку, где встает солнце. ѕосле этого √еракл в этом кубке направилс€ в Ёритею. огда √еракл находилс€ в открытом море, ќкеан (гений реки), жела€ испытать его мужество, подн€л сильное волнение и стал колебать кубок, прин€в свой собственный облик. √еракл намерилс€ в него выстрелить, но ќкеан, испугавшись, приказал ему перестатьї.
асательно этой цитаты, любопытно, что ѕисандр во второй книге Ђ√ераклеиї (Ἡρακλεία) говорит, что Ђчашуї √елиоса √еракл получил от самого ќкеана (видимо, тоже под угрозой выстрелить в него из лука). ј ѕаниасид в первой книге своей Ђ√ераклеиї рассказывает, что Ђфиалї √елиоса √еракл унес у Ќере€ и в нем доплыл до Ёрифии. то во что горазд.
ƒа, так вот, возвращаемс€ к именам, эпитетам и названи€м этого удивительного острова Ёрифе€. —обственно с названи€ острова и начнем. —лово Ἐρύθεια перевод€т как Ђкрасныйї. ќбъ€сн€етс€ это тем, что остров окрашиваетс€ в красный цвет в лучах зари. —итуаци€ усложн€етс€ еще и тем, что коровы √ериона были тоже красного цвета. ¬озможно они окрашивались в красный цвет вместе с островом, теми же лучами. Ћибо, будучи по названию острова Ёрифейскими, они приобрели нужный оттенок в силу игры слов:
ἐρυθρός Ч красный;
ἐρυθαίνω Ч окрашивать в красный цвет, обагр€ть, pass. краснеть, обагр€тьс€; ex. ἐρυθαίνετο αἵματι ὕδωρ, sc. ποταμοῖο Hom.
ἐρύθημα (-ατος) τό
1) краснота;
2) рыжа€ масть
ќб эпитете √ериона Ч Ёвритион (Εὐρυτίων) Ч € уже давал по€снение в тексте статьи, повторюсь, очень похоже на искаженное ЂЁрифеонї (Ἐρύθειων, т.е. Ёрифейский, с острова Ёрифе€). —амо слово Εὐρυτίων имеет примерное значение: Ђхорошо охран€ющийї, или, в переводе на литературный русский, Ч Ђпрекрасный пастушокї.
εὖ- приставка означ. 1) хороший; 2) весьма, вполне;
ῥυτήρ (-ῆρος) ὁ <ῥύομαι> страж, хранитель.
ќднако и само им€ √ериона (Γηρυών) заставл€ет обратить на себ€ внимание. Ётимологию имени логично было бы вывести от слова γηρύω, но значени€ его неоднозначны и противоречивы:
γηρύω, дор. γᾱρύω тж. med.
1) произносить, говорить;
2) петь, воспевать;
3) мычать; ex. (ἁδὺ ἁ μόσχος γαρύεται Theocr.)
ἤρυγον {aor. 2 к ἐρεύγομαι} Ч издающий громкое мычание, мычащий (ἤρυγεν ὡς ὅτε ταῦρος Hom.)
тому же о характере √ериона ничего неизвестно. Ѕыл ли он говорлив, певуч? »ли, напротив, изъ€сн€лс€ на €зыке стада, которое охран€л? ќ том истори€ умалчивает.
¬ызывает интерес им€ пса ќрфа (Ὄρθος или Ὄρθρος), который помогал √ериону охран€ть стадо. «начение слова ορθός Ч Ђпр€мой, правильныйї Ч не объ€сн€ет ничего. √ораздо интересней вариант написани€ имени Ч Ὄρθρος
ὄρθρος ὁ рассвет, утренн€€ зар€.
Ќемного неожиданно дл€ сторожевого адского пса. ’от€, если попробовать поискать созвучи€ к Ђмычащемуї имени √ериона (Γηρυών), можно найти удивительные параллельные ассоциации.
ἦρι эп. adv. рано, ранним утром (всегда с μάλα); ex. ἦ. μάλα или μάλ ́ ἦ. Hom. Ч ранним утром, с самого утра, чуть свет.
ἠριγένεια (ἠρι-γένεια)
I. ион. ἠριγενείη ἡ <ἦρι>
1) рождающа€с€ ранним утром, дит€ раннего утра;
2) зар€, утро
II. ἡ <ἦρ> рождающа€ весной.
ἠριπόλη (ἠρῐ-πόλη) ἡ по€вл€юща€с€ ранним утром, т.е. зар€, рассвет; ex. (φέγγος ἠριπόλης Anth.)
≈сли допустить мысль, что им€ √ериона €вл€етс€ искажением изначального имени со значением Ђутреннийї (от ἠρι), то все становитс€ на свои места. ¬о-первых, по€вл€етс€ смысл в наличии второго адского пса ќрфа. ≈сли ербер осуществл€ет охрану врат в царство јида на западе, то ќрф охран€ет восточные ворота јида, откуда выходит солнечна€ ладь€, после ночного путешестви€ (если развивать тему египетского заимствовани€ сюжета).
¬о-вторых, несмотр€ на путаный рассказ јполлодора, все же можно попытатьс€ попробовать ухватить исходные смыслы. √еракл из √реции, Ђчерез многие степи ≈вропыї, проходит до самого западного ее побережь€, т.е. до берегов реки ќкеан. «десь он получает от √елиоса Ђсолнечную ладьюї, на которой отправл€етс€, через западные врата јида, на волшебный остров, пламенеющий в лучах (утренней?) зари. ѕоразив хтонического великана √ериона, √еракл выводит его стадо через восточные (читай Ђутренниеї) ворота, и оказываетс€ в районе олхиды. ј олхида (котора€ дл€ греков была Ђкраем светаї) Ч это, фактически, синоним слова Ђвостокї.
ƒмитриева —.¬. удивл€ет Ђнеожиданно четкое на общем размытом фоне указание на јбдеруї, которую √екатей и √елланик помещают во ‘ракию.⁹ Ёто не вписываетс€ в его теорию, поэтому он призывает относитьс€ к упоминанию јбдеры, как к ошибочному смешению разных источников. ќднако, принима€ уже за факт, что √еракл возвращаетс€ с востока, он и должен был пересечь ‘ракию. ƒругое дело, что далее его зачем-то заносит в Ћигурию (прибрежна€ область на северо-западе јпеннинского полуострова). ƒмитриев предлагает и к Ћигурии (Λιγυστική)¹⁰ относитьс€ как к позднейшему наслоению. ј вот с этим можно и согласитьс€, ибо, путешеству€ из ‘ракии в √рецию, на италийский полуостров можно попасть только очень сильно заблудившись.
_______________________________
[9] Ἄβδηρα τά јбдеры (город во ‘ракии Her.);
[10] Λιγυστική ἡ (sc. γῆ) Ћигури€ Arst.
ћожно предположить, что этот крюк (с заходом в »талию, и далее на —ицилию) √еракл сделал из-за созвучи€ географических названий. ¬ изложении √есиода, √еракл со стадом, перейд€ в брод ќкеан направл€етс€ к “иринфу (Τίρυνς), т.е. в јрголиду (ѕелопоннес), откуда его и послал за коровами арголидский царь Ёврисфей. ¬ изложении же јполлодора, √еракл, пройд€ јбдеру и Ћигурию, Ђдвинулс€ через “иррению (Τυρρηνία)ї. ¬озможно созвучие названий “иринфа Ч Τίρυνς и “иррении (особенно староаттический и ионийский варианты) Ч Τυρσηνία (Τυρσηνίη)¹¹ как раз и послужило причиной развити€ Ђиталь€нскогої сюжета?
Ђ√ерионе€ того умертвила √ераклова сила________________________________
¬озле ленивых коров на омытой водой ≈рифее.
¬ тот же направилс€ день к “иринфу св€щенному с этим
—тадом коровьим √еракл, через броды пройд€ ќкеана,
ќрфа убивши и стража коровьего ≈вритиона
«а ќкеаном великим и славным, в обители мрачной.ї
(√есиод. Ђ“еогони€ї)
[11] Τίρυνς (-υνθος) ἡ “иринф (древний город в јрголиде, на полуострове ѕелопоннес, к юго-вост. от јргоса) Hom., Hes. etc.
Τυρρηνία, староатт. Τυρσηνία, ион. Τυρσηνίη ἡ “иррени€, т.е. Ётрури€ (в »талии) Her., Thuc., Plat.
“.е., в сухом остатке имеем, что, ушедший на запад √еракл, возвращаетс€ в √рецию с красными коровами √ериона с востока. ѕротиворечи€ (которым, в выше приведенной статье —.¬. ƒмитриева, было посв€щено так много внимани€) сн€ты. ак говаривал Ќачальник „укотки: Ђпотому что «емл€ Ч кругла€ї.
PS
ј все же, что это за коровы за такие Ч красные? ак певал когда-то ÷ой, ЂЌебесный пастух пасет облакаї? ќчень похоже на то. Ќо, если с розовеющими на заре облаками, в принципе, все пон€тно, то об их пастухе все же пару слов имеет смысл добавить.
ак видно из текста, јполлодор (в отличие, например, от √есиода) отдел€ет √ериона (владельца коров) от пастуха Ёвритиона, этих коров пасущего. ћало нам раздвоившегос€ √ериона, Ђна сценеї по€вл€етс€ еще один пастух (пасущий коров јида) по имени ћенет (Μενοίτης). ѕричем, им€ ћенет несколько напоминает им€ анатолийского лунного бога ћена (Μήν), а также греческое слово μηνοειδές Ч Ђсерпї (лунный, естественно).¹²
________________________________
[12] μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. Ч лунное си€ние;
μήνη, дор. μήνα ἡ луна; ex. (ἡ νύκτερος μ. Aesch.; σέλας μήνης Hom.);
Μήνη ἡ (= Σελήνη) ћена (богин€ луны) HH., Luc.
μηνοειδές τό полукруг, дуга, серп;
μηνοειδής (μηνο-ειδής) полулунный, серпообразный, полукружный; ex. (σελήνη Xen., Plut.).
ќп€ть же, трехтелость √ериона ассоциируетс€ с трем€ фазами луны (что перекликаетс€ с лунной триморфной √екатой). », кстати говор€, три мономорфных пастуха (√ерион, Ёвритион и ћенет) и один трехтелый √ерион Ч возможно, это две разные версии мифа, совмещенные јполлодором (а, вернее, задолго до него) в одно повествование? ¬ статье даетс€ косвенное подтверждение этой версии, со ссылкой на —трабона:
Ђѕо —трабону, на Ёвбее было две реки, покупавшись в одной из которых, скот становилс€ белым, а в другой Ч черным. Ѕыки —олнца (√елиоса) могли быть и красными (φοίνικοι) Ч быки √ериона, и белыми; быки јида, которых пас на Ёритии, считавшейс€ островом, ћенет, были, очевидно, черными.ї
Ёти же три цвета (белый, красный и черный) ≈всевий, цитиру€ ѕорфири€, ассоциирует с √екатой “риморфой:
Ђ»з воска трех цветов Ч белого, черного и красного Ч леп€т образ √екаты с плетью, факелом и мечом, обвитый змеей по кругу.ї
¬прочем, лунную тему можно подт€нуть за уши еще плотнее к рассматриваемой нами истории. ≈сли уж на Ђкрасномї острове пасутс€ красные (или рыжей масти) коровы, то почему бы и их пастуху ћенету не быть рыжим? —казано Ч сделано: μήν + αἰθός.¹³ стати, это словосочетание имеет дво€кий (чтобы не сказать, тро€кий) смысл, его можно прочитать и как Ђрыжий мес€цї, и как Ђмес€ц сверкающийї. ѕричем, все варианты Ч рабочие.
________________________________
[13] μήν, дор. μάν (ᾱ), эол.-ион. μείς, gen. μηνός ὁ (дор. dat. pl. μασί) мес€ц
αἰθός 3
1) опаленный, обожженный Arph.
2) предполож. рыжий; ex. (ἀράχναι Bacchylides ap. Plut.);
3) сверкающий; ex. (ἀσπίς Pind.).
онечно красна€ луна Ч €вление не частое. Ћуна розовеет, только когда висит низко над горизонтом, и краснота ее видна только ночью. “.е. эта лунна€ рыжеватость не св€зана с утренней зарей. Ќапротив, на рассвете, в лучах солнца, луна бледнеет, а потом и вовсе исчезает. „то же придает ей красный оттенок? Ќеужели неугасимый огонь јида окрашивает луну своими сполохами, из-за кра€ земли, когда та слишком низко опускаетс€ к горизонту? ѕодземное царство јида дл€ √реции, расположенной в сейсмически активной зоне, тесно св€занно с подземным огнем, регул€рно вырывающимс€ наружу через жерла вулканов и тектонические разломы. ≈ще одно значение слова αἰθός Ч Ђопаленный, обожженныйї Ч как раз аккуратно ложитс€ в эту логику. Ќе будем забывать, что ћенет пасет коров јида (Ἀΐδης). ѕожалуй, на такой опасной работе можно и Ђспалитьс€ї.
PPS
» последнее, возвраща€сь к имени √ериона (Γηρυών) в его значении Ђмычащийї (от γηρύω, Ђмычатьї). ≈сли мы принимаем лунный аспект √ериона, то значение его имени (Ђмычащийї) начинает играть совсем другими красками. Ђ–огатуюї луну (мес€ц) издревле надел€ли образом быка. “а же √еката часто поминалась с эпитетами Ђрогата€ї (βούκερως), или просто Ђкороваї (ταῦρος). »ме€ древний териоморфный образ быка, такой же эпитет (Ђрогатыйї) носил и ƒионис.¹⁴ », кстати, тот же ƒионис, впоследствии прин€вший цивильный антропоморфный вид, становитс€ пастырем, сначала, тех же быков, а потом и человеков.
Ђ»х (менад) дионисийские атрибуты изначальны, ибо не было основани€ ни цели одар€ть их таковыми после: буколический кентрон (βουκόλος κέντρον Ч пастушье стрекало) или обоюдоостра€ секира и плющевой венок. ќни (менады) мычат, как коровы, а мычанье быка или подражание этому звуку мы знаем как отличие дионисийских оргий, по описанию из ЂЁдоновї Ёсхила.ї (¬€чеслав »ванов)
Ђ«вонко песн€ ликует,________________________________
» откуда-то из тайника грозно мимов звучит
Ѕычьегласный рев и мычанье,
» тимпана эхо, словно гром
»з подземного царства несетс€ї.
(Ёдонийцы, фрг. 57)
[14] ƒионис, как развитие образа египетского ќсириса на греческой почве, так же соотносилс€ с лунным аспектом.
κερατίας (-ου) ὁ рогатый; ex. Διόνυσος Diod.
χρυσόκερως (χρῡσό-κερως), gen. -ω
1) златорогий; ex. (ἔλαφος Pind.; μήνη Διόνυσος Anth.);
2) с позолоченными рогами; ex. (βοῦς Plat.)
„ј—“№ II
»ћћ≈–»я
≈ще одна увлекательна€ истори€ путешестви€ в јид морем повествуетс€ √омером в Ђќдиссееї. ¬ царство јида ќдиссе€, с его спутниками, посылает ÷ирце€. „тобы добратьс€ туда, они переплывают реку ќкеан и попадают в иммерию.¹⁵ ” √омера, иммери€ Ч это мифическа€ страна на западе, где царит вечна€ тьма. ќднако, упоминаема€ √еродотом Ђкиммериан печальна€ областьї Ч это реальна€ территори€ расселени€ киммерийских племен, в VIII-VII вв. до н.э., представл€вша€ собой огромные пространства степи и лесостепи от ‘ракии до авказа. ѕребывание киммерийцев на территории юго-восточного рыма и ерченского полуострова оставило след в топонимике географических названий: Ѕоспор иммерийский, иммерик, иммерийский вал.
________________________________
[15] Κιμμερίη ἡ иммери€ (страна киммерийцев, ныне рым) Her.
Κιμμέριοι οἱ киммерийцы
1) баснословный народ, живший на крайнем западе, в стране вечной тьмы Hom.
2) плем€, насел€вшее ’ерсонес “аврический Her.
√омер жил и творил в VIII в. до н.э. «нал ли он о киммерийских племенах, обитавших далеко на востоке от √реции? Ќеизвестно. ¬озможно, √омер пересказывал историю, которую не понимал. ак можно отправитьс€ в јид (т.е. на запад) и, в конечном счете, оказатьс€ на востоке? »тогом долгих размышлений, видимо, было перенесение иммерии с востока на неопределенный запад.
Ђћы наконец ќкеан переплыли глубоко текущий.
“ам страна и город мужей киммерийских. ¬сегдашний
—умрак там и туман. Ќикогда светоносное солнце
Ќе освещает лучами людей, насел€ющих край тот,
«емлю ль оно покидает, вступа€ на звездное небо,
»ли спускаетс€ с неба, к земле направл€€сь обратно.
Ќочь зловеща€ плем€ бессчастных людей окружает.ї
(√омер. ќдиссе€ XI, 13)
“о, что киммерийцы никогда не вид€т солнца, не должно нас смущать. ¬едь, в представлении √омера, они насельники јида, либо живущие в преддверии его. ѕо крайней мере, реку —тикс ќдиссей не пересекает, до нее он идет пешком, оставив корабль на берегу реки ќкеан. «начит, и иммери€, по мнению √омера, должна находитьс€ на мрачном западе, где-то между ќкеаном и —тиксом.
¬виду двусмысленного географического расположени€ иммерии, √омер максимально упрощает и описание самого маршрута этого морского путешестви€ (из »онического мор€, через запад, в иммерию). »з положени€ он вышел просто: надо только подн€ть паруса, ветер сам отнесет судно куда надо, ÷ирце€ об этом позаботитс€. ’от€, нужно отметить, с ветром √омер не ошибс€. ¬етер Ѕорей (северо-северо-восточный)¹⁶ дл€ путешестви€ из »онического мор€ на запад будет относительно попутным, особенно на начальном этапе (на выходе из »онического мор€).
ЂЌе беспокойс€ о том, кто вас через море проводит.________________________
ћачту только поставь, распусти паруса и спокойно
ћожешь сидеть. ƒуновенье Ѕоре€ корабль понесет ваш.
ѕереплывешь наконец течень€ реки ќкеана.
Ѕерег там низкий увидишь, на нем ѕерсефонина роща
»з тополей чернолистных и ветел, тер€ющих сем€.
Ѕлиз ќкеана глубокопучинного судно оставив,
—ам ты к затхлому царству јидову шаг свой направишь.
“ам впадает ѕирифлегетон в јхеронтовы воды
¬месте с оцитом, а он рукавом ведь €вл€етс€ —тикса.ї
(√омер. ќдиссе€ X, 505)
[16] Βορέας (-ου), эп.-ион. Βορέης ὁ
1) Ѕорей (сын јстре€ и Ёос, бог сев. ветров) Hom., Hes., Pind., Her.
2) северо-северо-восточный, иногда северный ветер Hom., Arst.
”знав ответы на вопросы (ради чего ÷ирце€ и посылала ќдиссе€ в јид), он садитс€ в корабль и возвращаетс€ назад. “.е., если следовать логике, ќдиссей должен был бы переплыть снова реку ќкеан и оказатьс€ на западе. Ќо здесь логика √омера оп€ть натыкаетс€ на некий, надо понимать, древний канон, по которому переплыв ќкеан, ќдиссей со товарищи оказываетс€ на востоке, где дом утренней «ари (Ἠώς), Ђгде солнце восходитї (ἀντολαὶ Ἠελίοιο) Ч уточн€ет √омер. Ќо одновременно это остров ÷ирцеи, дочери √елиоса, откуда они и отправились в царство јида. “.е. это »оническое море, которое омывает √рецию с запада. Ѕедный √омер. ќн совсем запуталс€.
Ђ¬скоре покинул корабль наш теченье реки ќкеана________________________________
» по шум€щим волнам широкодорожного мор€
ѕрибыл на остров Ёэю,¹⁷ где рано родившейс€ Ёос
ƒом, и площадки дл€ танцев, и место, где солнце восходит.
“ам быстроходный корабль на прибрежный песок мы втащили,
¬ышли и сами на берег немолчно шум€щего мор€
», в ожидании Ёос божественной, спать улеглис€.
–ано рожденна€ встала из тьмы розоперста€ Ёос.¹⁸
ћы подн€лис€. ѕослал € товарищей к дому ÷ирцеиїЕ
(√омер. ќдиссе€ XII, 1)
[17] Αἰαῖος 3 наход€щийс€ в стране Ёа; ex.: Αἰαίη νῆσος Hom. Ч Ёэйский остров (остров у берегов страны Ёа, владение ирки).
[18] Ἕως, эп. Ἠώς ἡ Ёос, лат. Aurora, дочь √ипериона и ‘ии (Θεία) или Ёврифаессы, богин€ утренней зари, жена “ифона (Τιθωνός), мать ћемнона, «ефира, Ѕоре€, Ќота.
ќднозначно, Ђместо, где солнце восходитї не может находитьс€ в —редиземном море. “.е. мы оп€ть имеем дело с какой-то путаницей. ¬идимо остров Ёэ€ мигрировал (вслед за страной киммерийцев) с востока на запад. ќпределить его начальное место расположени€ не сложно:
Αἰαῖος 3 наход€щийс€ в стране Ёа; ex.: Αἰαίη νῆσος Hom. Ч Ёэйский остров (остров у берегов страны Ёа, владение ирки).
Αἰαίη ἡ Ёэа (жительница страны Ёа, т.е. ирка или ÷ирце€) Hom.
ќсталось определитьс€ со страной Ёа, возле которой находитс€ остров ÷ерцеи. Ќет ничего проще Ч это олхида.¹⁹ ƒалека€ страна на востоке (от √реции), самый край известной грекам (той поры) ойкумены.
________________________________
[19] Αἶα ἡ Ёа, старинное название олхиды Her., Soph.
ќдиссе€ занесло в „ерное море? “акое впечатление, что √омер мучительно пытаетс€ совместить несовместимое. Ћибо сказитель пользовалс€ разными верси€ми путешестви€ ќдиссе€ (или схожими описани€ми путешествий других героев). Ћибо географи€, дл€ слепого пиита, Ч запредельно сложна€ категори€.
¬се, между тем, встает на свои места, если прин€ть версию о заимствовании идеи путешестви€ –а по подземному Ќилу каждую ночь. ≈стественно дл€ греков этот сюжет не €вл€етс€ ни религиозным, ни мировоззренческим. ƒл€ √омера, как видим, он не €вл€етс€ даже хоть сколько-нибудь пон€тным. ак мог, он его переосмыслил и вписал в логику своего повествовани€. ѕолучилось то, что получилось. ¬ конце концов поэта цен€т ни за научную содержательность, а за красоту и легкость слога, и за увлекательность сюжетной линии.
Ќапоследок пару слов о ÷ирцее, точнее о ирке (Κίρκη), если придерживатьс€ греческого первоисходника. Ётимологи€ имени св€зана со словом κίρκος (в значении Ђкольцої).²⁰
________________________________
[20] Κίρκη, дор. Κίρκα ἡ ирка или ÷ирце€ (дочь √елиоса, волшебница на о-ве Ёэа Ч Αἰαίη νῆσος) Hom.
κίρκος
I ὁ предполож. €стреб Aesch., Arst.; ex.: ἴρηξ κ. Hom. Ч описывающий круги €стреб;
II ὁ
1) (лат. circus) цирк (в –име) Polyb.;
2) кольцо Anth.
¬ представлении древних греков, река ќкеан окаймл€ла (фактически Ђокольцовывалаї) всю ойкумену, в том виде, как они ее себе представл€ли. ≈сли не брать в расчет переработку √омером маршрута ќдиссе€, то получаетс€, что ќдиссей с товарищами (в изначальном варианте) отплыл с острова ирки и сделав круг вернулс€ туда же (по Ђкольцевому маршрутуї).
ƒругое производное значение от слова κίρκος Ч окружать кольцом (κιρκόω),²¹ т.е. Ђплен€тьї Ч также обыгрываетс€ √омером. ирка (÷ирце€) подмешивает зелье в еду странников, которые оказываютс€ на острове, после чего они превращаютс€ в животных. “очно так же и спутников ќдиссе€, которых тот послал осмотреть остров, ÷ирце€- ирка превратила в свиней и закрыла в загоне.
________________________________
[21] κιρκόω Ч окружать кольцом, заковывать (σκέλη Aesch.).
„ј—“№ III
–≈ ј ќ ≈јЌ
Ђ«евсова дочь јртемида, богин€ владычица, если б
¬ грудь поразивши стрелой, ты дух мой исторгла из тела
“отчас, теперь! »ли позже мен€ подхватила бы бур€
» унесла бы далеко дорогой, окутанной мраком,
¬ устье швырнув ќкеана-реки, круговратно текущей!ї
(√омер. ќдиссе€ XX, 61)
¬ примечани€х к фразе Ђв устье швырнув ќкеана-рекиї даетс€ по€снение: Ђт.е. ввергла бы в царство смертиї.
ќчевидно, что, под устьем реки ќкеан, √омер подразумевает «апад, ибо дорога к устью ќкеана Ђокутана мракомї. — другой стороны, а где у ќкеана, в таком случае, исток? √омер называет ќкеан Ђкруговратно текущимї (ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψορρόου Ὠκεανοῖο),²² т.е. опо€сывающим всю землю. ѕолучаетс€, что у ќкеана нет ни начала, ни конца, ни истока, ни усть€.
________________________________
[22] ἀψόρροος (ἀψό-ρροος) ст€ж. ἀψόρρους 2 текущий всп€ть, т.е. обтекающий кругом (эпитет ќкеана) Hom.
ќднако √еродот пишет, что Ђќкеан, по утверждению эллинов, течет, начина€ от восхода солнца, вокруг всей землиї. “.е. налицо либо трудности перевода, либо трудности с пониманием картины мира античными авторами. ≈сли отталкиватьс€ от √еродота, т.е. исток ќкеана находитс€ на востоке, а устье (как выше отмечено у √омера) Ч на западе, то получаетс€, что ќкеан не Ђкруговратно текущийї, а обтекающий «емлю (как остров) с севера и юга. Ќо откуда ќкеан вытекает на востоке, и куда утекает на западе? «десь €вный пробел.²³
Ќа лицо оп€ть неправильно пон€та€ и неверно истолкованна€ египетска€ мистери€ путешестви€ солнечного бога в ладье по небесному Ќилу днем и подземному Ќилу (в ƒуате) Ч ночью. ¬ этой традиции исток небесного Ќила находилс€ на ¬остоке (на выходе из ƒуата). ”стье же небесного Ќила находилось, соответственно, Ч на «ападе. √реки небесный (и подземный) Ќил Ђзаземлилиї, перевед€ его в горизонтальную плоскость, и назвав ќкеаном. ¬ силу чего, река осталась Ђкруговратно текущейї (по старой пам€ти), но ни о каком путешествии солнца по ней, уже речи быть не могло. Ќо это в теории, на практике все гораздо запутаннее.
Ђ—путников верных своих на совет пригласив, € сказал им:
—путники верные, слушайте то, что скажу вам, печальный:
Ќам неизвестно, где запад лежит, где €вл€етс€ Ёос,
√де светоносный под землю спускаетс€ √елиос, где он
Ќа небо всходит.ї
(√омер. ќдиссе€ X, 188)
Ђ“олько что новыми солнце лучами пол€ осветило,
¬ыйд€ из тихо текущих, глубоких зыбéй ќкеанаї...
(√омер. ќдиссе€ XIX, 433)
√елиос путешествовал по небу на колеснице, а на «ападе переправл€лс€ через реку ќкеан в Ђзолотом кубкеї, вместе с кон€ми и колесницей. ќ путешествии √елиоса по јиду истори€ умалчивает, разные авторы говор€т лишь, что потом √елиос вновь переправл€лс€ через ќкеан в том же Ђкубкеї. Ќо, поскольку солнце всходит на ¬остоке, то у солнечного бога нет другого пути, как только пересечь царство јида на колеснице. «десь возникает непреодолимое противоречие. Ќасельники јида никогда не вид€т солнца. Ќо, проезжа€ подземное царство насквозь, √елиос не мог остатьс€ незамеченным. Ќе найд€ выхода из совершенно неразрешаемого противоречи€, греческие сказители просто опускают эту часть путешестви€, как малозначительную. ј ведь это половина путиЕ
________________________________
[23] ѕлатон в своем Ђ‘едонеї дает весьма приближенное к египетскому понимание о круговращении вод реки ќкеан. ќписыва€ подземные реки, он определ€ет подземную реку јхерон как вторую по величине реку в мире, уступающую только ќкеану. ѕлатон утверждал, что јхерон тек в противоположном направлении от ќкеана под землей.
Ђ¬ эту пропасть (в “артар) стекают все реки, и в ней снова берут начало. (Е) огда вода отступает в ту область, которую мы зовем нижнею, она течет сквозь землю по руслам тамошних рек и наполн€ет их, словно оросительные канавы; а когда уходит оттуда и устремл€етс€ сюда, то снова наполн€ет здешние реки.
(Е)
Ётих рек многое множество, они велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. —ама€ больша€ из всех и сама€ далека€ от середины («емли) течет по кругу; она зоветс€ ќкеаном. Ќавстречу ей, но по другую сторону от центра течет јхеронт. ќн течет по многим пустынным местност€м, главным образом под землейїЕ
(ѕлатон. ‘едон 60-61)
—праведливости ради, надо отметить, что в одном месте ќдиссеи √омер упоминает некую потайную дверь (или ворота) √елиоса (Ἠελίοιο πύλας), на другом берегу реки ќкеан. Ќо что это за дверь, куда она ведет Ч об этом √омер умалчивает. „ерез зап€тую упоминаетс€ и Ћевкада (Λευκάδα), бела€ скала (у которой, по преданию, находилс€ вход в подземное царство). √ермес ведет за собой души усопших мимо Ћевкады и мимо ворот √елиоса к асфоделевым лугам. »з чего становитс€ пон€тно, что единственное назначение Ђсолнечных воротї Ч это возможность √елиосу проскочить незаметно дл€ душ, насел€ющих јид.
Ђ»х [души усопших] вел за собою
“емным и затхлым путем √ермес, исцеленье несущий.
ћчались они мимо струй океанских, скалы левкадийской,
ћимо ворот √елиόса и мимо страны сновидений.
¬скоре рой их достиг асфодельного луга, который
ƒушам Ч призракам смертных уставших Ч обителью служит.ї
(√омер. ќдиссе€ XXIV, 9)
ћимнерм находит выход из положени€ и объ€сн€ет каким образом √елиос добираетс€ до востока. ќн плывет в Ђзолотом крылатом ложеї по ќкеану (т.е. не спуска€сь в јид). Ќо, если √елиос не опускаетс€ за горизонт, почему же ночью темно? ¬опрос на засыпку.
Ђ√елию труд вековечный судьбою ниспослан на долю.
Ќи быстроногим кон€м отдых неведом, ни сам
ќн передышки не знает, едва розоперста€ Ёос
»з океанских пучин на небо утром взойдет.
Ѕыстро чрез волны несетс€ он в вогнутом ложе крылатом.
—делано дивно оно ловкой √ефеста рукой
»з многоцветного золота. ѕоверху вод он несетс€,
—ладким поко€с€ сном, из √есперидской страны
¬ край эфиопов. ¬осхода, родившейс€ в сумерках Ёос,
∆дут с колесницею там быстрые кони его.
¬став, √иперионов сын на свою колесницу восходит.ї
(ћимнерм. ЂЌанної)
ак видно из цитаты, √елиос переплывает ќкеан в своем волшебном Ђложеї, пребыва€ во сне. »нтересное решение, видимо, ћимнерм рассудил, что сп€щий √елиос не лучитс€ светом, от того ночью и темно. „то характерно, плывет он без коней, кони, вместе с колесницей, ждут его уже на востоке. аким образом Ђбыстроногие кониї оказываютс€ на востоке (в краю эфиопов)²⁴ ћимнерм не объ€сн€ет.
Ђ рылатостьї Ђзолотого вогнутого ложаї, видимо, необходима в силу того, что √елиос плывет против течени€. ¬едь ќкеан течет с востока на запад, а √елиос плывет с запада на восток. ¬прочем, это если мы принимаем версию √еродота. ¬ понимании √омера (о Ђкруговратно текущем ќкеанеї), возможно, √елиос огибал «емлю с севера, плыв€ по течению. —еверные земли, дл€ греков, были чем-то настолько запредельно далеким, что когда јполлон (отождествл€емый с √елиосом) улетал в √иперборею, в √реции наступала зима. “.е., в интерпретации √омера, крыль€ Ђзолотому ложуї √елиоса, и в этом случае, не менее важны. ¬едь путь не близкий, а нужно успеть к восходу добратьс€ до места (этого самого восхождени€).
________________________________
[24] рай эфиопов (как место восхода солнца) Ч откровенно египетска€ традици€.
√≈–ј Ћ ј—“–ќ’»“ќЌ
Ќиже, в отрывке из Ђƒе€ний ƒионисаї, Ќонн (от лица ƒиониса) отождествл€ет √еракла јстрохитона (облаченного в звезды) с √елиосом, јполлоном, «евсом, јмоном и многими другими верховными божествами разных народов. √еракл јстрохитон Ч это ћелькарт, финикийский бог-покровитель города “ира. ¬ изложении Ќонна, он представлен не только как сол€рное божество, более того Ч он владыка небесный. ¬озможно, такое расширение функционала произошло от неоднозначно переводимого слова ἄστρον. ≈го можно перевести не только как Ђзвездаї, но и как Ђсолнцеї, и как Ђславаї, т.е. Ђси€ниеї. Ќапример, слово ἀστρόβλητος (ἀστρό-βλητος) переводитс€ как Ђпораженный солнечным ударомї. ј значит и эпитет √еракла Ἀστροχίτων можно перевести не только как Ђоблаченный в одежды из звездї (традиционный перевод), но и как Ђоблаченный в си€ющие одеждыї (как тот же √елиос).
¬се осмотрев, неуемное сердце взором насытив,________________________________
¬ храм јстрохи́тона входит и громко взывает к владыке
«везд, восклица€ такое слово, полное тайны:
Ђќ √еракл јстрохи́тон,²⁵ владыка огн€, повелитель
ћиропор€дка, о √елий, пастырь людей длиннотенный,
ѕо всему небосводу скачущий огненным диском,
ѕуть двенадцатимес€чный деющий, времени отпрыск,
руг за кругом проходишь Ч и за твоею повозкой
∆изнь дл€ стáра и млáда льетс€ рекою единой:
ћудрый родитель ћены трехтелой ты безматерней,²⁶
» —елена росиста€ призрачное питает
ќтраженное плам€ светом лучей твоих щедрых,
–ожки гнутые бычьи приращива€ понемногу!
ќко всезр€щее выси, ты четвероконной повозкой
ѕравишь, за ливн€ми снеги, за хладом весну к нам приводишь!
ћрачна€ ночь отступает, гонима твоими лучами,
Ѕлещущими, лишь только под сверкающим игом
¬ыи покажут кони, бичуемы дланью твоею!
“олько ты заси€ешь Ч и меркнут в си€нии €рком
«вездные луговины пестрые в поднебесье;
ѕосле же омовень€ в западном ќкеане
— пенных волос отр€хаешь ты прохладную влагу
Ћивнем животвор€щим и на род€щую √ею
–осной влаги потоки утренней ты низвергаешь;
“учные нивы зреют под диском твоим благосклонным,
ќроша€ колось€ в бороздах плодоносных;
Ѕэл Ч на ≈вфрате, в Ћиби́и Ч јммон, и јпис Ч на Ќиле,
рон ты отец Ч в јраби́и, и «евс Ч в ассирийских пределах!
Ѕлагоуханные ветви когт€ми острокривыми
“ыс€челетн€€ птица на твой алтарь благовонный
Ќосит, ‘еникс премудрый, рожда€сь и умира€,
»бо там она снова €вл€етс€, юна€ вечно,
—тарость в огне мен€€ на молодость в солнечном свете!
Ѕудь ты —ерáписом, «евсом тученосным ≈гипта,
роном иль ‘аэтонтом многоименным,²⁷ иль ћитрой
¬авилонским, иль ‘ебом,²⁸ богом эллинским в ƒельфах,
√амосом,²⁹ коего Ёрос в сновидень€х см€тенных
Ќам €вл€ет в обманных любовных объ€ть€х на ложе,
≈сли от сп€щего ƒи€, возбужденного грезой
—трастной, влажное сем€ изливаетс€ в нивы
“верди земной, и горы встают от небесных потоков!
Ѕудь ты ѕэаном цел€щим или пестрым Ёфиром,³⁰
»ли как јстрохи́тон €вись, когда звездное небо
ярко ночью си€ет россыпью светочей горних Ч
¬немли мне благосклонно, будь ко мне милосерден!ї
—лово такое промолвил радостный Ѕромий Ч внезапно
ќбраз божественный вспыхнул јстрохитона в храме
Ќад ƒионисом, лучистый лик божества про€вилс€
јлыми заси€вший очами и в оде€нье
«вездном сверка€, и длань простер он над ƒионисом,
ќбраз €вл€€ вселенной, лик многозвездного неба:
—ветом мерцали ланиты, с брады созвездь€ струились,
дружеской приглаша€ трапезе ƒиониса...
(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса XL. 376-428)
[25] Ἀστροχίτων Ђоблаченный в одежды из звездї (χιτών ἀστέριος) .
[26] Μήνη ἡ (= Σελήνη) ћена (богин€ луны) HH., Luc.
[27] φαέθων (-οντος) part. и adj. си€ющий, блистающий, лучезарный = ἥλιος Anth.
[28] Φοῖβος ὁ ‘еб, ЂЋучезарныйї (эпитет јполлона) Hom., Aesch.
[29] γάμος ὁ тж. pl.
1) брак, бракосочетание, супружество Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst., Luc.
2) свадьба, брачный пир;
3) половые сношени€, сожительство.
[30] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ ѕэан (бог-целитель, после √омера отождествл€лс€ преимущ. с јполлоном.)
Αἰθήρ (-έρος) ὁ Ёфир, бог горних высей (сын Ёреба и Ќочи) Hes.
_______________________________
|
ћетки: √еракл √ерион ќкеан √реци€ Ётимологи€ |
«ј√–≈… |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
ƒ»ќЌ»— «ј√–≈…
1. Ёпоним Ζάγρος
сожалению ничего не удалось найти о Ђкритском «агросеї. ¬озможно, уважаемые ученые допустили ошибку в названии критского «акроса (Ζάκρος), спутав его с иранским «агросом (Ζάγρος).¹ Ќичего о другом написании критского «акроса Ч неизвестно. ƒвусмысленности в этом вопросе добавл€ет написание иранского «агроса на греческом €зыке сегодн€: Ζάγκρος,² в то врем€ как древнегреческий словарь ƒворецкого дает однозначный вариант: Ζάγρος. ¬ конце концов, могло иметь место искажение эпитета «евса, св€занного с местностью (Ζάκρος), на которой располагалс€ культовый центр, как обычно, в силу созвучи€.
______________________________
[1] Ζάκρος Ч место на восточном побережье острова рит, знаменитое найденным здесь неразграбленным храмовым дворцовым комплексом (Κάτω Ζάκρος) минойской цивилизации.
Ζάγρος ὁ «агрос (горна€ цепь между јссирией, јрменией и ћидией) Polyb.
[2] Τα όρη Ζάγκρος αποτελούν την μεγαλύτερη οροσειρά του Ιράν, Ιράκ και της νοτιοανατολικής Τουρκίας (√оры «агрос составл€ют большой горный хребет в »ране, »раке и на юго-востоке “урции).
ѕопытка перевести эпитет ƒиониса Ђ«агрейї (Ζαγρεύς) как Ђ«вероловї (или, более распространенное, Ђвеликий охотникї, от ἀγρεύς Ч Ђохотник, ловецї) Ч вызывает недоумение, ибо титаны разорвали ƒиониса «агре€ в младенческом возрасте. ” него просто не было времени, чтобы про€вить себ€ в качестве охотника. «ато другие эпитеты ƒиониса дают однозначное понимание этимологии эпитета Ζαγρεύς: Ἀγριώνιος (Ђдикий, €ростныйї); Ἀνθρωπορραίστης (Ђрастерзывающий людейї); ὠμάδιος (от ὠμός Ч Ђгрубый, дикий, жестокий, неумолимыйї).³
______________________________
[3] Ζαγρεύς (-εως) ὁ «агрей
1) эпитет ƒиониса Ђпервогої как сына «евса и ѕерсефоны, растерзанного “итанами тотчас же после его рождени€ Anth.
2) эпитет √адеса Aesch.
ζά Ч усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне;
ἄγριος
1) дикий; ex. μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτός Aesch. Ч вино из дикого винограда;
2) жестокий, свирепый, лютый, злой; ex. δρακαίνης φύσις Eur.);
3) неукротимый, необузданный, грубый; ex. ὀργή Soph.; ἔρωτες Plat.);
4) мучительный, т€желый; ex. τραύματα Eur.;
5) бурный, ужасный; ex. νύξ Her.; χεῖμα Eur.
Ἀγριώνιος (-ου) ὁ јгрионий (эпитет ƒиониса) Plut.
ἄγριον τό дикость.
«аметим, что и эта этимологи€ ничего не объ€сн€ет, а, скорее наоборот, еще более все запутывает. ћифы не сохранили сведений о «агрее, не только в плане его охотничьих заслуг, ничего не известно и о дикости и кровожадности новорожденного ƒиониса.
Ќиже отрывок из Ђƒе€ний ƒионисаї, в котором Ќонн описывает перевоплощени€ младенца в различных диких зверей. ѕредыстори€, вкратце, имеет следующий характер. «агре€ тайно зачала ѕерсефона от «евса еще до того, как √адес унес ее в свое подземное царство. «евс распор€дилс€, чтобы сыновь€ –еи Ч критские куреты (или корибанты) сторожили колыбель с младенцем в пещере на горе »да, прыга€ вокруг него и бр€ца€ оружием, как делали это раньше, прыга€ вокруг самого «евса на горе ƒикта. ќднако титаны, посланные ревнивой √ерой, вымазавшись белым гипсом,⁴ чтобы остатьс€ неузнанными, стали ждать, когда куреты заснут. ¬ полночь они выманили «агре€ с помощью детских игрушек: шишки, раковины, золотых €блок, зеркала, бабок (ἀστράγαλοι) и клока шерсти. «агрей не выказал слабости перед набросившимис€ на него титанами и, чтобы обмануть их, начал мен€ть свой облик. —начала он превратилс€ в «евса в накидке из козьих шкур, затем Ч в рона, твор€щего дождь, во льва, кон€, рогатого зме€, тигра и, наконец, в быка. ¬ этот момент титанам удалось схватить его, разорвать на части и пожрать.
[4] ∆елание титанов вымазатьс€ гипсом (чтобы остатьс€ неузнанными), видимо, Ђвозниклої по причине созвучи€ слов Τιτᾶνος (титан) и τίτανος (гипс):
Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ “итан; αἱ Τιτᾶνες и Τιτανίδες Ч титаны, дети ”рана и √еи;
τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; мелова€ пыль Luc.
2. Ёпитет Ќисейский
¬озвраща€сь к изначальной цитате по поводу этимологии имени ƒиониса, как Ђƒи€ [с горы] Ќиса [в Ѕеотии]ї, Ќиса (Νῦσα) была не только в Ѕеотии. ¬о ‘ракии был город Ќиса и гора Ќисейон (Νυσήϊον). тому же, помимо фракийской и беотийской Ќисы, √омер упоминает и другие города с таким же названием. ј √еродот дислоцирует Ќису вообще в Ёфиопии.⁵
____________________________
[5] Διός (dat. Διΐ и Δί) gen. к Ζεύς; ex. (Διὸς ἡμέρα Ч день «евса, т.е. четверг);
Νῦσα, ион. Νύση ἡ Ќиса
1) название городов в Ѕеотии, ‘ракии, аппадокии и др. Hom.
2) город в Ёфиопии Her.
“акое обилие городов затрудн€ет прив€зку Ђƒи€ Ќисейскогої к изначальному географическому объекту. ¬прочем, возможно, дело вообще не в названии горы. ћожет, изначально речь шла об Ђостровномї (νησαῖος)⁶ «евсе, например, ритском, где «евс почиталс€ в образе безбородого юноши Ч чем не прообраз ƒиониса? “ем более, что, согласно мифу, рит Ч это родина ƒиониса «агре€.
[6] νῆσος, дор. νᾶσος ἡ остров; ex. Κρήτης νῆσος Diod. Ч рит; ex. Αἰολίη νῆσος Hom. Ч Ёолов остров;
νησαῖος островной; ex. (πόλις, ὄρη Eur.; πορθμός Anth.).
¬ развитие сюжета, в качестве возможного варианта происхождени€ имени ƒиониса, пам€ту€ о «евсе в бычьем обличии, а также об эпитете «евса Ђ«агрейї (Ђдикийї), можно также, в духе народной этимологии, предложить эпитет Ђбодливыйї (от νύσσω, Ђколоть, толкатьї) Ч Διὸς νύσσος.⁷
____________________________
[7] νύσσω, атт. νύττω
1) колоть, поражать;
2) удар€ть, бить;
3) толкать, подталкивать.
3. ƒревний бог
¬ этой цитате интересно то, что Ќонн называет «агре€ (т.н. Ђпервогої ƒиониса, сына «евса и ѕерсефоны) Ђдревним богом «агреемї, воплотившимс€ в ƒионисе. Ќадел€ть эпитетом Ђдревний богї младенца, растерзанного, едва родившись на свет, выгл€дит несколько странно (даже если это сын «евса). ќпределенно, чувствуетс€ наличие какой-то лакуны. Ђƒревний богї выведен из обихода, но поскольку пам€ть о нем жива, жизнеописание «агре€ сведено к минимуму. ќднако сделано это настолько небрежно, что, как уже выше отмечено, само значение имени «агрей (Ђвеликий охотникї) повисает в воздухе, лишний раз подтвержда€ существование додионисийского древнего культа бога «агре€. ќб отождествлении ƒиониса с более древним критским божеством говорит и ¬€чеслав »ванов.
¬€чеслав »ванов сближает ƒиониса «агре€ с персонажами и древнегреческих культов:
[8] Ἀκταίων (-ωνος, -ονος) ὁ јктеон (внук адма, охотник, который был превращен јртемидой в олен€ и растерзан собственными собаками) Eur.
ἀκταίνω Ч быстро двигать, поднимать (ἀ. βάσιν Aesch. Ч быстро двигатьс€);
Ἐνυάλιος ὁ {Ἐνυώ} Ёниалий, Ђ¬оинственныйї (эпитет јре€) Hom., Hes., Soph., Eur., Arph.
Ὠµάδιος {ὠμός} ὁ ќмадий, ЂЌеумолимыйї.
ƒо нас дошло немало свидетельств отождествлени€ ƒиониса и с јидом (ЂЋовцом душї) или хтоническим «евсом (Ζεὺς χθόνιος). Ёто сближение произошло, видимо, через отождествление ƒиониса с египетским ќсирисом. ’от€ по одной из версий, культ ƒиониса происходит непосредственно от египетских мистерий, св€занных с ќсирисом. ќтсюда и расчленение «агре€ титанами, списанное с египетской истории предательства ќсириса его братом —етом, в которой —ет сначала убивает ќсириса, а потом расчлен€ет его тело на четырнадцать частей Ч мистери€, описывающа€ убывание луны в течении четырнадцати дней. ¬ течении следующих четырнадцати дней, »сида собирает части тела мужа и мумифицирует его. ‘аллос, брошенный в Ќил был съеден рыбами. » чтобы ќсирис возродилс€ в своей полноте и силе, »сида сделала фаллос из глины, покрыв его золотом. Ётот фалос впоследствии был восприн€т греками как религиозный фетиш.
[9] Ἅιδης (-ου), эп.-ион. Ἀΐδης (-ᾱο и -εο), дор. Ἀΐδας (-ᾱ) = ᾅδης ὁ √адес, јид;
αἰδοῖον τό тж. pl. половой орган Hom., Hes., Her., Arst.
»стори€ с ќсирисом заканчиваетс€ тем, что, возродившись, он передает власть своему сыну √ору. —ам же отправл€етс€ в дуат и становитс€ там владыкой подземного царства. √реки потратили не мало усилий, чтобы переформатировать образ ќсириса и создать на его основе —ераписа Ч синкретическое божество в греческом стиле, но с египетской мифологемой. „то характерно, образ —ераписа, с сид€щим р€дом трехглавым ербером, малоотличим от иконографии јида.
¬место постскриптума хотелось бы завершить, упом€нутую выше, фаллическую тему следующим интересным наблюдением. Ќаделение фаллоса свойством сосредоточени€ божественной жизненной силы (а вместе с тем и власти) имеет весьма древнюю традицию. —ледует заметить, что лишение власти ”рана его сыном роносом, так же как позднее лишение власти роноса его сыном «евсом, происходит именно через оскопление. „то, оп€ть же, отсылает нас к осирической мифологеме, в которой именно фаллос ќсириса оказываетс€ не просто отсеченным, но и безвозвратно утер€нным (съеденным рыбами). Ќе помогли и колдовские чары »сиды. ќна смогла воскресить мужа лишь на короткое врем€. ѕосле чего, передав верховную власть сыну, ќсирис вынужден был покинуть этот мир.
»з этой традиции выбиваетс€ истори€ с «евсом, в которой “ифон, покусившись на его верховную власть, вступает с «евсом в противоборство и одерживает победу. ќн опутал «евса своими ногами, подобными змеиным кольцам, перерезал серпом и выт€нул все сухожили€. «атем “ифон бросил «евса в орикийскую пещеру в иликии и поставил драконицу ƒельфину охран€ть его. «евс находилс€ в заточении, пока √ермес и Ёгипан не выкрали у “ифона сухожили€ бога и не вернули их громовержцу. ќкончанием битвы стала победа «евса, низвергнувшего “ифона и придавившего его огромной глыбой. Ќа этом месте образовалс€ вулкан Ётна, который извергает дым и плам€ из жерла вулкана, когда “ифон пытаетс€ освободитьс€ из заточени€. ¬ этой истории смущают, перерезанные серпом “ифона, сухожили€ «евса, после чего тот лишаетс€ сил (а вместе с тем и власти). ќчень похоже на переложение старой истории на новый лад.¹⁰
≈сли же исходить из версии, что «евс “ифоном был оскоплен, это объ€сн€ет мифологему орфиков о том, что на смену «евсу в мир пришел ƒионис «агрей (сын «евса и ѕерсефоны), в качестве верховного божества. ¬едь «евс был лишен власти “ифоном (через оскопление). » второй ƒионис, сын «евса и —емелы, сменил «агре€, после того, как тот был расчленен титанами на семь частей, а значит, и оскоплен (обезглавлен, лишен фаллоса, рук и ног).
____________________________
[10] —лово νεῦρα можно перевести не только как Ђсухожилиеї, но и как Ђфаллосї.
νευροκοπέω (νευρο-κοπέω) Ч подрезать поджилки, перерезкой сухожилий лишать возможности двигатьс€.
¬.√. Ѕорухович
«≈¬— ћ»Ќќ…— »…
¬ ахейской традиции, сохраненной эпосом, носс и рит выступают как адекватные пон€ти€, подобно тому как отождествл€ютс€ в нем јргос и Ёллада, —идон и ‘иники€. »менно из носса должны были проникнуть в Ёлладу критские культы. ¬ообще рит в греческой традиции выступает в качестве родины главных божеств. ѕо словам ƒиодора (V. 79), сами крит€не утверждали, что Ђпочести, воздаваемые богам, жертвоприношени€, учреждение мистерий Ч все было изобретено крит€нами, другие народы все это у них позаимствовалиї.
јхейцы, носители микенской культуры, создали общий с минойцами пантеон, поэтому прин€то говорить о минойско-микенской религии. јхейцы, веро€тно, поступили так же, как в историческую эпоху поступали греки ионийского племени, которые, сталкива€сь с религиозными представлени€ми других народов, мгновенно открывали там своих родных богов.
ульт верховного солнечного божества «евса, которому поклон€лись древние ахейцы, был отождествлен с верховным критским божеством и быстро приобрел все его черты. ¬ Ёлладе рит стал главным культовым местом «евса. ѕоэтому в св€занных с культом «евса мифах и обр€дах можно пытатьс€ открыть минойские черты, хот€ исследователь при этом сталкиваетс€ с большими трудност€ми: как заметил Ќильссон, минойска€ религи€ представл€ет собой книгу с иллюстраци€ми, но без текста. «десь целесообразно обращатьс€ к таким реликтовым формам культа, минойское происхождение которых либо засвидетельствовано, либо весьма веро€тно.
ќсобый цикл греческих мифов уже в древности был назван критским (τὰ κρητικά): он представл€ет благодатный материал дл€ исследовател€. –ассказ Ђ»лиадыї о ћиносе и »доменее, царе рита (XIII. 449) отражает мифологическую реконструкцию, которую Ёванс назвал Ђахейской легендойї. ќт нее сохранилось очень немного. ƒо нас не дошла поэма о ћиносе и –адаманте, приписывавша€с€ Ёпимениду, и Ђ ритска€ мифологи€ї, приписывавша€с€ ƒинарху. ѕоэтому дл€ реконструкции критского цикла мифов целесообразно обратитьс€ к сохранившейс€ мифографической традиции Ч особенно к началу III книги ЂЅиблиотекиї ѕсевдоаполлодора. »з него €сно видно, что в центре этого цикла находилс€ миф о ћиносе и его потомках, цар€х рита. ѕервый царь рита ( носса) ћинос был сыном «евса. Ѕожественное происхождение ћиноса может служить доводом в пользу того, что царска€ власть на минойском рите носила теократический характер.
¬ Ђќдиссееї ћинос Ч царь носса (XIX. 178), тогда как в Ђ»лиадеї он царь всего рита (XIII. 450). Ёпитет ћиноса в Ђќдиссееї Ч ὀλοόφρων, Ђзамышл€ющий зло, погибельї. Ёто €сное свидетельство о том, что ахейцы считали крит€н враждебной силой. ћифологическа€ традици€, сообщающа€ о господстве критских царей над мор€ми и близлежащими к риту островами, упоминает о походах ћиноса против јфин и ћегар (Apollod. III.15.8). ѕлатон, бывший знатоком местных аттических мифов, упоминает в Ђ«аконахї (IV. 706 B) о т€желой дани, которую жители јттики платили ћиносу. Ёто отзвук древней традиции о зависимости јттики от рита, Ч так же, как миф о “есее и ћинотавре рисует нам т€жесть этой зависимости, хот€ и в мифологической форме.
ѕродолжительность критского господства в бассейне Ёгеиды была велика. √есиод называет ћиноса Ђцарственнейшим из всех смертных царейї (Hes. Frg. 103 Rz.), и это не случайно. ¬полне естественно, поэтому, критские обр€ды и религиозные представлени€ должны были распространитьс€ по всему бассейну Ёгейского мор€. ¬ традиции ћинос выступает не только в качестве цар€, но и законодател€: каждый дев€тый год он становилс€ собеседником «евса в ƒиктейской пещере (Paus. III. 2. 4; Dion. Hal. A. R. II. 61; Diod. V. 78. 3; Strabo. XVI. 2. 38), где он получал от «евса законы, которые потом передавал люд€м.
‘орма, в которой мифы рассказывают нам о божественном происхождении ћиноса, представл€етс€ несколько странной. «евс, превратившись в быка, похитил финикийскую царевну ≈вропу, которую затем умчал на рит. ѕлодом любви «евса и ≈вропы и стал ћинос, и его брать€ —арпедон и –адамант.
ƒалее критские мифы повествуют о странной любви, которой жена ћиноса, дочь бога √елиоса ѕасифа€, воспылала к прекрасному быку, высланному из мор€ по просьбе ћиноса, желавшего таким способом доказать свои права стать царем рита. Ётого быка выслал ѕосейдон (Apollod. III.1.3), но в более древней редакции этого мифа, сохраненной Ћактанцием (Lact. Plac. in Stat. Theb. V. 431), быка выслал «евс. ќт этого быка ѕасифа€ родила ћинотавра (Ђбыка ћиносаї), чудовище с телом человека и головой быка.
Ётот миф нельз€ не поставить в св€зь с теми пам€тниками минойской культуры, которые были открыты Ёвансом в носсе. «десь прежде всего обращают на себ€ внимание фрески носского дворца, изображающие игры молодых девушек с бешено мчащимс€ быком. ¬ минойских культовых местах посто€нно встречаетс€ св€щенный символ Ч Ђрога посв€щени€ї (стилизованные рога быка). ƒве пары таких рогов открыты в небольшом св€тилище в юго-западной части носского дворца. ћежду рогами найдены отверсти€, куда вставл€лись двойные топоры, Ђлабрисыї. Ётот комплекс занимает центральное место в культовых изображени€х ћинойского рита: на расписном саркофаге из јгиа “риады мы видим женщин, несущих возли€ни€ на алтари двойного топора. ¬ ѕалекастро раскопаны остатки дома, относ€щегос€ к ѕозднеминойскому IB периоду (1480-1425 до н.э.). “ам в домашнем св€тилище открыты каменные основани€ алтарей двойного топора и небольшие Ђрога посв€щени€ї.
¬ частном доме, находившемс€ ниже юго-восточного угла носского дворца, в северо-западном и юго-восточном углах крайней южной комнаты были обнаружены черепа двух больших быков с длинными рогами. ѕеред ними найдены остатки расписных жертвенников. ак отмечает еншерпер, двойной топор и рога посв€щени€ €вл€ютс€ наиболее известными, но наименее пон€тными символами минойской религии. Ќеобыкновенна€ распространенность этих символов говорит о всеобщем характере этого культа на рите. ¬ этом культе св€щенное животное Ч минойский бык Ч должен был играть главную роль.
—транный на наш взгл€д миф о любви ѕасифаи, жены ћиноса, к быку €вл€етс€, вне вс€кого сомнени€, греческим осмыслением минойского обр€да, в котором справл€лс€ Ђсв€щенный бракї жены критского цар€-жреца с быком (животной ипостасью верховного минойского божества, Ђћинойского «евсаї). Ётим обр€дом утверждалось право детей критского цар€ наследовать царскую власть.
ѕредставлени€, согласно которым царь племени возводит свое происхождение к животному предку, могут быть классифицированы как тотемические. јфины, сохранившие унаследованные от пеласгов (древнего населени€ јттики Ч Her. VIII.4) св€зи с минойскими культами, соблюдали довольно долго аналогичный обр€д. јристотель в Ђјфинской политииї (III.5) сообщает, что жена афинского архонта-цар€ вступала в ритуальный брак с ƒионисом в Ѕуколии (храме ƒиониса, название которого произведено от слова Ђбыкї, и сам ƒионис чтилс€ иногда в образе быка). Ётот обр€д восходит к микенским временам, когда афинские цари соблюдали минойский ритуал св€щенного брака жены цар€ с быком, подтверждавшего их право на царскую власть.
Ќе случайно ритский бык, побежденный √ераклом, по€вл€етс€ затем на территории јттики (ћарафонский бык). √еракл символизирует в этом мифе дорийское завоевание, а ритский бык Ч минойско-микенское население додорического рита. Ќа острове “енедосе Ч древнейшем культовом центре греков Ч минойское божество, в образе быка, также почиталось в качестве бога ƒиониса.
¬ критских мифах «евс, в образе быка, ћинос Ч царь рита и сын его ћинотавр выступают в неразрывном единстве. ѕоэтому Ѕете пришел к вполне логичному выводу, что термин Ђћиносї €вл€етс€ божественным титулом критских царей вообще, Ђварварским именем божества некоего негреческого народаї.
»нтересно сопоставить этот вывод Ѕете с титулатурой фараона ≈гипта, о сильном вли€нии которого на культуру минойского рита говорилось ранее. ‘араон посто€нно называлс€ Ђмощный телецї (kȝ-nḫt). Ќа палетке Ќармера египетский царь изображен в виде быка, рогами разрушающего вражескую крепость. ульт быка јписа, €вленного бога ќсириса, имел общеегипетское значение, а цариц ≈гипта хоронили иногда в саркофаге, имевшем форму коровы (√еродот II. 129). “ак в древнем ≈гипте царь и верховное божество оказывались тесно св€занными со своей териоморфной ипостасью, быком.
¬озможно, что в образе ћинотавра мы сталкиваемс€ с €влением перехода териоморфной формы божества в антропоморфную стадию.
—ам же образ быка, безусловно, несЄт в себе египетское наследование, с поправкой на местные традиции. ¬ отличии от египетской религии, где в образе земли выступает мужской персонаж √еб, а в образе неба Ч небесна€ корова Ќут, народы, обитающие за пределами ≈гипта, в качестве «емли рассматривали ¬еликую богиню-мать, Ќебо же олицетвор€ло божество в образе быка. ”же на ранних изображени€х ћинотавр предстает как божество определенно космического плана. Ќередко он изображаетс€ в скрученной полукольцом позе в сочетании с солнечными или звездными знаками, так что можно его воспринимать и как мифический синоним небесного свода, и вместе с тем как некоего стража или хоз€ина небесного огн€, и, наконец, как сам этот огонь Ч солнце, луна или звезды. Ќелишним будет вспомнить, что вторым именем ћинотавра было јстерий (Ἀστέριον).¹¹
_____________________________
[11] ἀστέριος 3 звездный (περιωπή Anth.)
Ѕ” ќЋ»ќЌ
¬ернемс€ к, упом€нутому выше јристотелем, Ѕуколиону (Βουκολίων, Ѕуколий), храму, где ƒионису поклон€лись в образе быка. ѕомимо јфин, области с подобным названием были, по крайней мере, еще в јркадии (на ѕелопоннесе) и в дельте ≈гипта.¹² —лово Βουκολίων производ€т от βουκόλος, в значении Ђпастырьї. ѕриставка βου- в слове βουκόλος означает Ђбычийї.¹³ азалось бы, значит, втора€ часть слова (-κόλος) должна иметь значение Ђохранительї, и словарь ƒворецкого намекает именно на такое словообразование (βου-κόλος). ѕодобное словообразование подтверждаетс€ и в слове βουκολέω (βου-κολέω).¹⁴ Ќо проблема в том, что у слова κόλος нет такого (или похожего значени€), по крайней мере в ƒревнегреческом словаре.¹⁵ ¬полне возможно, что подобное значение слова κόλος просто не попало в словарь, тем более, что слово βουκολέω переводитс€ (при чем дословно) как Ђпитать, кормитьї. Ёто бы прекрасно объ€сн€ло и этимологию слова βουκολία (стадо) Ч Ђкорм€щийс€ крупнорогатый скотї.¹⁶ Ќо, повторюсь, эта прекрасна€ конструкци€ зависает в воздухе, в виду отсутстви€ подтверждени€ такого значени€ слова в словаре.
_____________________________
[12] Βουκολίων (-ωνος) ἡ город в јркадии Thuc.
[13] βου- {βοῦς}
1) приставка со знач. Ђбычачийї, Ђкоровийї, Ђволовийї;
2) усилит. приставка со знач. Ђгромадныйї, Ђогромныйї (напр. βουλιμία)
βοῦς ἡ бык, вол, корова.
[14] βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst., Theocr.
βουκολέω (βου-κολέω)
1) пасти ex. (βοῦς Hom.);
2) досл. питать, кормить, перен. чтить;
[15] κόλος
1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.)
2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.);
3) прерванный, незаконченный.
[16] βουκολία, ион. βουκολίη ἡ стадо крупного рогатого скота HH., Hes., Her.
ћожно попробовать этимологизировать слово βουκολέω (пасти) через κωλύω, в значении Ђмешать, преп€тствоватьї, т.е. не давать разбредатьс€ стаду. ¬ыгл€дит несколько нат€нуто, но тем не менее.
≈сли все же попытатьс€ развить тему кормлени€ скота (основна€ забота пастуха), то можно обратить внимание на слово κόρος, созвучное со второй частью слова βουκόλος. ќдно из значений слова κόρος Ч Ђсытость, пресыщениеї. ѕриставка βου- объ€сн€ет о чьей сытости идет речь, но Ђбычь€ сытостьї плохо коррелируетс€ со значением слова βουκόλος Ч Ђпастухї. ѕопытка придумать значение Ђпитающий, насыщающий быковї (βου + κόρος) приближает нас к нужному результату, но выгл€дит еще более нат€нутой, нежели первый вариант.
Ћюбопытно, что другое значение слова κόρος Ч Ђребенок, сынї Ч дает, при том же словообразовании (βου + κόρος), значение Ђбычий сынї (т.е. теленок), либо, при более богатом воображении и применительно к ƒионису, Ч Ђсын «евса в образе быкаї («агрей).
¬ эту же Ђкопилкуї хорошо заходит созвучие со словом χολάω,¹⁷ применительно к βουκολέω Ч Ђбезумствующий быкї, что хорошо коррелирует со значением имени ¬акха (Βάκχος) Ч Ђбезрассудныйї, Ђодержимыйї.¹⁸
_____________________________
[17] χολάω
1) быть безумным, сумасбродствовать; ex. (ἄνδρες χολῶντες Arph.)
2) быть в бешенстве, в €рости, гневатьс€; ex. (Diog.L.; τινι NT.).
[18] βακχεῖος, βάκχειος
1) вакхический (βότρυς Soph.; νόμος Eur.; ῥυθμός Xen.; ὄρχησις Plat.);
2) исступленный, неистовый, ликующий (Διόνυσος HH.)
¬есь этот полет фантазии к этимологии слова βουκόλος (Ђпастухї), конечно, может не иметь никакого отношени€, но, повторюсь, проблема в том, что наука не дает этимологического объ€снени€ этого слова (βουκόλος). »бо, с одной стороны:
βουκολέω (βου-κολέω)
1) пасти ex. (βοῦς Hom.);
2) досл. питать, кормить, перен. чтить;
βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst.
ј с другой стороны:
κόλος
1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.)
2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.);
3) прерванный, незаконченный.
—прашиваетс€, каким образом слово βουκόλος получило значение Ђхранитель крупного рогатого скотаї, если оно однозначно прочитываетс€ как Ђбезрогий быкї (βου-κόλος)? ¬опрос, естественно, риторический.
_______________________________
ƒ»ќЌ»— «ј√–≈…
ЂЁтимологи€ имени Διόνυσος, возможно, восходит к образу «евса Ќисейского или Ђƒи€ [с горы] Ќиса [в Ѕеотии]ї. ƒионис (Διόνυσος) Ч это изначально «евс «агрей (Ζαγρεύς Ч Ђƒикийї, Ђ«вероловї или Ђпроисход€щий из [критского] «агросаї).ї
(ј.√. „ередниченко, Ќ.ј. лышнюк, ћ.≈. Ўенцов Ђќб истоках мистериальных культовї)
1. Ёпоним Ζάγρος
сожалению ничего не удалось найти о Ђкритском «агросеї. ¬озможно, уважаемые ученые допустили ошибку в названии критского «акроса (Ζάκρος), спутав его с иранским «агросом (Ζάγρος).¹ Ќичего о другом написании критского «акроса Ч неизвестно. ƒвусмысленности в этом вопросе добавл€ет написание иранского «агроса на греческом €зыке сегодн€: Ζάγκρος,² в то врем€ как древнегреческий словарь ƒворецкого дает однозначный вариант: Ζάγρος. ¬ конце концов, могло иметь место искажение эпитета «евса, св€занного с местностью (Ζάκρος), на которой располагалс€ культовый центр, как обычно, в силу созвучи€.
______________________________
[1] Ζάκρος Ч место на восточном побережье острова рит, знаменитое найденным здесь неразграбленным храмовым дворцовым комплексом (Κάτω Ζάκρος) минойской цивилизации.
Ζάγρος ὁ «агрос (горна€ цепь между јссирией, јрменией и ћидией) Polyb.
[2] Τα όρη Ζάγκρος αποτελούν την μεγαλύτερη οροσειρά του Ιράν, Ιράκ και της νοτιοανατολικής Τουρκίας (√оры «агрос составл€ют большой горный хребет в »ране, »раке и на юго-востоке “урции).
ѕопытка перевести эпитет ƒиониса Ђ«агрейї (Ζαγρεύς) как Ђ«вероловї (или, более распространенное, Ђвеликий охотникї, от ἀγρεύς Ч Ђохотник, ловецї) Ч вызывает недоумение, ибо титаны разорвали ƒиониса «агре€ в младенческом возрасте. ” него просто не было времени, чтобы про€вить себ€ в качестве охотника. «ато другие эпитеты ƒиониса дают однозначное понимание этимологии эпитета Ζαγρεύς: Ἀγριώνιος (Ђдикий, €ростныйї); Ἀνθρωπορραίστης (Ђрастерзывающий людейї); ὠμάδιος (от ὠμός Ч Ђгрубый, дикий, жестокий, неумолимыйї).³
______________________________
[3] Ζαγρεύς (-εως) ὁ «агрей
1) эпитет ƒиониса Ђпервогої как сына «евса и ѕерсефоны, растерзанного “итанами тотчас же после его рождени€ Anth.
2) эпитет √адеса Aesch.
ζά Ч усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне;
ἄγριος
1) дикий; ex. μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτός Aesch. Ч вино из дикого винограда;
2) жестокий, свирепый, лютый, злой; ex. δρακαίνης φύσις Eur.);
3) неукротимый, необузданный, грубый; ex. ὀργή Soph.; ἔρωτες Plat.);
4) мучительный, т€желый; ex. τραύματα Eur.;
5) бурный, ужасный; ex. νύξ Her.; χεῖμα Eur.
Ἀγριώνιος (-ου) ὁ јгрионий (эпитет ƒиониса) Plut.
ἄγριον τό дикость.
«аметим, что и эта этимологи€ ничего не объ€сн€ет, а, скорее наоборот, еще более все запутывает. ћифы не сохранили сведений о «агрее, не только в плане его охотничьих заслуг, ничего не известно и о дикости и кровожадности новорожденного ƒиониса.
Ќиже отрывок из Ђƒе€ний ƒионисаї, в котором Ќонн описывает перевоплощени€ младенца в различных диких зверей. ѕредыстори€, вкратце, имеет следующий характер. «агре€ тайно зачала ѕерсефона от «евса еще до того, как √адес унес ее в свое подземное царство. «евс распор€дилс€, чтобы сыновь€ –еи Ч критские куреты (или корибанты) сторожили колыбель с младенцем в пещере на горе »да, прыга€ вокруг него и бр€ца€ оружием, как делали это раньше, прыга€ вокруг самого «евса на горе ƒикта. ќднако титаны, посланные ревнивой √ерой, вымазавшись белым гипсом,⁴ чтобы остатьс€ неузнанными, стали ждать, когда куреты заснут. ¬ полночь они выманили «агре€ с помощью детских игрушек: шишки, раковины, золотых €блок, зеркала, бабок (ἀστράγαλοι) и клока шерсти. «агрей не выказал слабости перед набросившимис€ на него титанами и, чтобы обмануть их, начал мен€ть свой облик. —начала он превратилс€ в «евса в накидке из козьих шкур, затем Ч в рона, твор€щего дождь, во льва, кон€, рогатого зме€, тигра и, наконец, в быка. ¬ этот момент титанам удалось схватить его, разорвать на части и пожрать.
Ђ—тал он тогда превращатьс€, часто мен€€ свой облик!____________________________
“о он ронид хитроумный, юный, с грозным эгидом,
“о он немощный старец рон, изливающий ливень,
“о он с ликом младенца €вл€етс€, то он предстанет
180
ёношей исступленным с первым пушком на ланитах,
“емным, что вдруг подчеркнет округлость нежную лика.
“о вдруг львом обернетс€, в €рости грозным и страшным,
Ћьвом, что с рыком могучим огромную пасть отверзает,
√ривою осененный густою, т€нет он выю
¬доль хребтовины косматой, хлещет хвостом непрестанно,
Ўкуру мелькающим быстро будто бичом раздира€.
“о вдруг прикинетс€, львиную бросив тут же личину,
— ржанием неуемным, высокогривым и диким
∆еребцом, что стремитс€ жал€щие удила
190
ѕерегрызть, их кромса€, белою пеной исходит.
“о из уст испуска€ свист€щее громко шипенье,
»звиваетс€ в кольцах змеем чешуйчаторогим,
»з глубокого зева мечет €зык копьевидный
» бросаетс€ он на испуганного “итана,
Ўею его окружа€ воротником €довитым.
“о вдруг, покинув тело ползущего кольцами гада,
“игром становитс€ с пестрою шкуройЕ “о примет он бычий
ќблик, и ревом исходит, зубы ощер€ свирепо,
» пронзает “итанов рогами, броса€сь внезапно.
200
“ак он за жизнь свою билс€, пока из ревнивой глотки
ћачехи-√еры гневом т€жкораз€щей не вырвал
¬опл€, сотр€сшего неба. —ама повелительность гласа
√рохотом поднебесным ударила в створы ќлимпа,
Ќа колени повергнув могучего звер€ Ч убийцы
“ут же в куски истерзали ножом быколикого бога.ї
(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса VI. 176-205)
[4] ∆елание титанов вымазатьс€ гипсом (чтобы остатьс€ неузнанными), видимо, Ђвозниклої по причине созвучи€ слов Τιτᾶνος (титан) и τίτανος (гипс):
Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ “итан; αἱ Τιτᾶνες и Τιτανίδες Ч титаны, дети ”рана и √еи;
τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; мелова€ пыль Luc.
2. Ёпитет Ќисейский
¬озвраща€сь к изначальной цитате по поводу этимологии имени ƒиониса, как Ђƒи€ [с горы] Ќиса [в Ѕеотии]ї, Ќиса (Νῦσα) была не только в Ѕеотии. ¬о ‘ракии был город Ќиса и гора Ќисейон (Νυσήϊον). тому же, помимо фракийской и беотийской Ќисы, √омер упоминает и другие города с таким же названием. ј √еродот дислоцирует Ќису вообще в Ёфиопии.⁵
____________________________
[5] Διός (dat. Διΐ и Δί) gen. к Ζεύς; ex. (Διὸς ἡμέρα Ч день «евса, т.е. четверг);
Νῦσα, ион. Νύση ἡ Ќиса
1) название городов в Ѕеотии, ‘ракии, аппадокии и др. Hom.
2) город в Ёфиопии Her.
“акое обилие городов затрудн€ет прив€зку Ђƒи€ Ќисейскогої к изначальному географическому объекту. ¬прочем, возможно, дело вообще не в названии горы. ћожет, изначально речь шла об Ђостровномї (νησαῖος)⁶ «евсе, например, ритском, где «евс почиталс€ в образе безбородого юноши Ч чем не прообраз ƒиониса? “ем более, что, согласно мифу, рит Ч это родина ƒиониса «агре€.
ЂЁтот бог [ƒионис], как говор€т, родилс€ от «евса и ѕерсефоны на рите. <Е> ¬ доказательство того, что бог этот родилс€ у них, крит€не говор€т, что близ рита в так называемых Ѕлизнечных заливах он создал два острова, которые называют в честь его ƒионисовыми, чего не сделал больше нигде во всем мире.ї (ƒиодор —ицилийский V. 75:4-5)____________________________
[6] νῆσος, дор. νᾶσος ἡ остров; ex. Κρήτης νῆσος Diod. Ч рит; ex. Αἰολίη νῆσος Hom. Ч Ёолов остров;
νησαῖος островной; ex. (πόλις, ὄρη Eur.; πορθμός Anth.).
¬ развитие сюжета, в качестве возможного варианта происхождени€ имени ƒиониса, пам€ту€ о «евсе в бычьем обличии, а также об эпитете «евса Ђ«агрейї (Ђдикийї), можно также, в духе народной этимологии, предложить эпитет Ђбодливыйї (от νύσσω, Ђколоть, толкатьї) Ч Διὸς νύσσος.⁷
____________________________
[7] νύσσω, атт. νύττω
1) колоть, поражать;
2) удар€ть, бить;
3) толкать, подталкивать.
3. ƒревний бог
Ђ— ними, богин€ колосьев [ƒеметра], Ѕромию богу враждебна,
гроздолюбивому ¬акху дающему силу ревну€,
»бо вино изобрел он, дарующее опь€ненье,
ƒревнего бога «агре€ миру €вил в ƒионисе!ї
(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса XXVII. 334)
¬ этой цитате интересно то, что Ќонн называет «агре€ (т.н. Ђпервогої ƒиониса, сына «евса и ѕерсефоны) Ђдревним богом «агреемї, воплотившимс€ в ƒионисе. Ќадел€ть эпитетом Ђдревний богї младенца, растерзанного, едва родившись на свет, выгл€дит несколько странно (даже если это сын «евса). ќпределенно, чувствуетс€ наличие какой-то лакуны. Ђƒревний богї выведен из обихода, но поскольку пам€ть о нем жива, жизнеописание «агре€ сведено к минимуму. ќднако сделано это настолько небрежно, что, как уже выше отмечено, само значение имени «агрей (Ђвеликий охотникї) повисает в воздухе, лишний раз подтвержда€ существование додионисийского древнего культа бога «агре€. ќб отождествлении ƒиониса с более древним критским божеством говорит и ¬€чеслав »ванов.
ЕЂдионисические оргии, своего рода оргиастические Ђбои быковї, соединенные первоначально с человеческими жертвами, впоследствии же ограничивавшиес€ растерзанием быка, имели древнейшие корни, между прочим, на рите, где божество, €вл€ющеес€ изначала с чертами ƒиониса, позднее Ч с ним отождествленное, почиталось преимущественно под символом быка.ї
(¬€чеслав »ванов. Ёллинска€ религи€ страдающего бога. IV)
¬€чеслав »ванов сближает ƒиониса «агре€ с персонажами и древнегреческих культов:
Ђѕо героической ипостаси <Е> мы узнаем его как ловчего скитальца по горным вершинам и дебр€м, окруженного сворой хтонических собак; как содружника Ќочи и вожд€ исступленных ее служительниц; как душегубца, от которого надлежит ограждатьс€ магическими апотропе€ми, вроде тех уз, какими были св€заны идолы его двойников: в ќрхомене Ч јктеона, в —парте Ч Ёниали€, на ’иосе Ч ќмади€ ƒионисаї.⁸____________________________
(»ванов ¬. ƒионис и прадионисийство I. 7)
[8] Ἀκταίων (-ωνος, -ονος) ὁ јктеон (внук адма, охотник, который был превращен јртемидой в олен€ и растерзан собственными собаками) Eur.
ἀκταίνω Ч быстро двигать, поднимать (ἀ. βάσιν Aesch. Ч быстро двигатьс€);
Ἐνυάλιος ὁ {Ἐνυώ} Ёниалий, Ђ¬оинственныйї (эпитет јре€) Hom., Hes., Soph., Eur., Arph.
Ὠµάδιος {ὠμός} ὁ ќмадий, ЂЌеумолимыйї.
ƒо нас дошло немало свидетельств отождествлени€ ƒиониса и с јидом (ЂЋовцом душї) или хтоническим «евсом (Ζεὺς χθόνιος). Ёто сближение произошло, видимо, через отождествление ƒиониса с египетским ќсирисом. ’от€ по одной из версий, культ ƒиониса происходит непосредственно от египетских мистерий, св€занных с ќсирисом. ќтсюда и расчленение «агре€ титанами, списанное с египетской истории предательства ќсириса его братом —етом, в которой —ет сначала убивает ќсириса, а потом расчлен€ет его тело на четырнадцать частей Ч мистери€, описывающа€ убывание луны в течении четырнадцати дней. ¬ течении следующих четырнадцати дней, »сида собирает части тела мужа и мумифицирует его. ‘аллос, брошенный в Ќил был съеден рыбами. » чтобы ќсирис возродилс€ в своей полноте и силе, »сида сделала фаллос из глины, покрыв его золотом. Ётот фалос впоследствии был восприн€т греками как религиозный фетиш.
ЂB качестве таинственного воспоминани€ об этих страст€х по городам воздвигают фаллосы ƒионису; как говорит √ераклит: ЂЌе твори они шествие в честь ƒиониса и не пой песнь во славу срамного уда, бессрамнейшими были бы их дела. Ќо тождествен јид (Ђ—рамнойї)⁹ с ƒионисом, одержимые коим они беснуютс€ и предаютс€ вакхованиюї, не столько от телесного опь€нени€, как € думаю, сколько от позорного посв€щени€ в непотребствої.____________________________
( лимент јлекс. ѕротрептик, 34, 5)
[9] Ἅιδης (-ου), эп.-ион. Ἀΐδης (-ᾱο и -εο), дор. Ἀΐδας (-ᾱ) = ᾅδης ὁ √адес, јид;
αἰδοῖον τό тж. pl. половой орган Hom., Hes., Her., Arst.
»стори€ с ќсирисом заканчиваетс€ тем, что, возродившись, он передает власть своему сыну √ору. —ам же отправл€етс€ в дуат и становитс€ там владыкой подземного царства. √реки потратили не мало усилий, чтобы переформатировать образ ќсириса и создать на его основе —ераписа Ч синкретическое божество в греческом стиле, но с египетской мифологемой. „то характерно, образ —ераписа, с сид€щим р€дом трехглавым ербером, малоотличим от иконографии јида.
¬место постскриптума хотелось бы завершить, упом€нутую выше, фаллическую тему следующим интересным наблюдением. Ќаделение фаллоса свойством сосредоточени€ божественной жизненной силы (а вместе с тем и власти) имеет весьма древнюю традицию. —ледует заметить, что лишение власти ”рана его сыном роносом, так же как позднее лишение власти роноса его сыном «евсом, происходит именно через оскопление. „то, оп€ть же, отсылает нас к осирической мифологеме, в которой именно фаллос ќсириса оказываетс€ не просто отсеченным, но и безвозвратно утер€нным (съеденным рыбами). Ќе помогли и колдовские чары »сиды. ќна смогла воскресить мужа лишь на короткое врем€. ѕосле чего, передав верховную власть сыну, ќсирис вынужден был покинуть этот мир.
»з этой традиции выбиваетс€ истори€ с «евсом, в которой “ифон, покусившись на его верховную власть, вступает с «евсом в противоборство и одерживает победу. ќн опутал «евса своими ногами, подобными змеиным кольцам, перерезал серпом и выт€нул все сухожили€. «атем “ифон бросил «евса в орикийскую пещеру в иликии и поставил драконицу ƒельфину охран€ть его. «евс находилс€ в заточении, пока √ермес и Ёгипан не выкрали у “ифона сухожили€ бога и не вернули их громовержцу. ќкончанием битвы стала победа «евса, низвергнувшего “ифона и придавившего его огромной глыбой. Ќа этом месте образовалс€ вулкан Ётна, который извергает дым и плам€ из жерла вулкана, когда “ифон пытаетс€ освободитьс€ из заточени€. ¬ этой истории смущают, перерезанные серпом “ифона, сухожили€ «евса, после чего тот лишаетс€ сил (а вместе с тем и власти). ќчень похоже на переложение старой истории на новый лад.¹⁰
≈сли же исходить из версии, что «евс “ифоном был оскоплен, это объ€сн€ет мифологему орфиков о том, что на смену «евсу в мир пришел ƒионис «агрей (сын «евса и ѕерсефоны), в качестве верховного божества. ¬едь «евс был лишен власти “ифоном (через оскопление). » второй ƒионис, сын «евса и —емелы, сменил «агре€, после того, как тот был расчленен титанами на семь частей, а значит, и оскоплен (обезглавлен, лишен фаллоса, рук и ног).
____________________________
[10] —лово νεῦρα можно перевести не только как Ђсухожилиеї, но и как Ђфаллосї.
νευροκοπέω (νευρο-κοπέω) Ч подрезать поджилки, перерезкой сухожилий лишать возможности двигатьс€.
¬.√. Ѕорухович
«≈¬— ћ»Ќќ…— »…
¬ ахейской традиции, сохраненной эпосом, носс и рит выступают как адекватные пон€ти€, подобно тому как отождествл€ютс€ в нем јргос и Ёллада, —идон и ‘иники€. »менно из носса должны были проникнуть в Ёлладу критские культы. ¬ообще рит в греческой традиции выступает в качестве родины главных божеств. ѕо словам ƒиодора (V. 79), сами крит€не утверждали, что Ђпочести, воздаваемые богам, жертвоприношени€, учреждение мистерий Ч все было изобретено крит€нами, другие народы все это у них позаимствовалиї.
јхейцы, носители микенской культуры, создали общий с минойцами пантеон, поэтому прин€то говорить о минойско-микенской религии. јхейцы, веро€тно, поступили так же, как в историческую эпоху поступали греки ионийского племени, которые, сталкива€сь с религиозными представлени€ми других народов, мгновенно открывали там своих родных богов.
ульт верховного солнечного божества «евса, которому поклон€лись древние ахейцы, был отождествлен с верховным критским божеством и быстро приобрел все его черты. ¬ Ёлладе рит стал главным культовым местом «евса. ѕоэтому в св€занных с культом «евса мифах и обр€дах можно пытатьс€ открыть минойские черты, хот€ исследователь при этом сталкиваетс€ с большими трудност€ми: как заметил Ќильссон, минойска€ религи€ представл€ет собой книгу с иллюстраци€ми, но без текста. «десь целесообразно обращатьс€ к таким реликтовым формам культа, минойское происхождение которых либо засвидетельствовано, либо весьма веро€тно.
ќсобый цикл греческих мифов уже в древности был назван критским (τὰ κρητικά): он представл€ет благодатный материал дл€ исследовател€. –ассказ Ђ»лиадыї о ћиносе и »доменее, царе рита (XIII. 449) отражает мифологическую реконструкцию, которую Ёванс назвал Ђахейской легендойї. ќт нее сохранилось очень немного. ƒо нас не дошла поэма о ћиносе и –адаманте, приписывавша€с€ Ёпимениду, и Ђ ритска€ мифологи€ї, приписывавша€с€ ƒинарху. ѕоэтому дл€ реконструкции критского цикла мифов целесообразно обратитьс€ к сохранившейс€ мифографической традиции Ч особенно к началу III книги ЂЅиблиотекиї ѕсевдоаполлодора. »з него €сно видно, что в центре этого цикла находилс€ миф о ћиносе и его потомках, цар€х рита. ѕервый царь рита ( носса) ћинос был сыном «евса. Ѕожественное происхождение ћиноса может служить доводом в пользу того, что царска€ власть на минойском рите носила теократический характер.
¬ Ђќдиссееї ћинос Ч царь носса (XIX. 178), тогда как в Ђ»лиадеї он царь всего рита (XIII. 450). Ёпитет ћиноса в Ђќдиссееї Ч ὀλοόφρων, Ђзамышл€ющий зло, погибельї. Ёто €сное свидетельство о том, что ахейцы считали крит€н враждебной силой. ћифологическа€ традици€, сообщающа€ о господстве критских царей над мор€ми и близлежащими к риту островами, упоминает о походах ћиноса против јфин и ћегар (Apollod. III.15.8). ѕлатон, бывший знатоком местных аттических мифов, упоминает в Ђ«аконахї (IV. 706 B) о т€желой дани, которую жители јттики платили ћиносу. Ёто отзвук древней традиции о зависимости јттики от рита, Ч так же, как миф о “есее и ћинотавре рисует нам т€жесть этой зависимости, хот€ и в мифологической форме.
ѕродолжительность критского господства в бассейне Ёгеиды была велика. √есиод называет ћиноса Ђцарственнейшим из всех смертных царейї (Hes. Frg. 103 Rz.), и это не случайно. ¬полне естественно, поэтому, критские обр€ды и религиозные представлени€ должны были распространитьс€ по всему бассейну Ёгейского мор€. ¬ традиции ћинос выступает не только в качестве цар€, но и законодател€: каждый дев€тый год он становилс€ собеседником «евса в ƒиктейской пещере (Paus. III. 2. 4; Dion. Hal. A. R. II. 61; Diod. V. 78. 3; Strabo. XVI. 2. 38), где он получал от «евса законы, которые потом передавал люд€м.
‘орма, в которой мифы рассказывают нам о божественном происхождении ћиноса, представл€етс€ несколько странной. «евс, превратившись в быка, похитил финикийскую царевну ≈вропу, которую затем умчал на рит. ѕлодом любви «евса и ≈вропы и стал ћинос, и его брать€ —арпедон и –адамант.
ƒалее критские мифы повествуют о странной любви, которой жена ћиноса, дочь бога √елиоса ѕасифа€, воспылала к прекрасному быку, высланному из мор€ по просьбе ћиноса, желавшего таким способом доказать свои права стать царем рита. Ётого быка выслал ѕосейдон (Apollod. III.1.3), но в более древней редакции этого мифа, сохраненной Ћактанцием (Lact. Plac. in Stat. Theb. V. 431), быка выслал «евс. ќт этого быка ѕасифа€ родила ћинотавра (Ђбыка ћиносаї), чудовище с телом человека и головой быка.
Ётот миф нельз€ не поставить в св€зь с теми пам€тниками минойской культуры, которые были открыты Ёвансом в носсе. «десь прежде всего обращают на себ€ внимание фрески носского дворца, изображающие игры молодых девушек с бешено мчащимс€ быком. ¬ минойских культовых местах посто€нно встречаетс€ св€щенный символ Ч Ђрога посв€щени€ї (стилизованные рога быка). ƒве пары таких рогов открыты в небольшом св€тилище в юго-западной части носского дворца. ћежду рогами найдены отверсти€, куда вставл€лись двойные топоры, Ђлабрисыї. Ётот комплекс занимает центральное место в культовых изображени€х ћинойского рита: на расписном саркофаге из јгиа “риады мы видим женщин, несущих возли€ни€ на алтари двойного топора. ¬ ѕалекастро раскопаны остатки дома, относ€щегос€ к ѕозднеминойскому IB периоду (1480-1425 до н.э.). “ам в домашнем св€тилище открыты каменные основани€ алтарей двойного топора и небольшие Ђрога посв€щени€ї.
¬ частном доме, находившемс€ ниже юго-восточного угла носского дворца, в северо-западном и юго-восточном углах крайней южной комнаты были обнаружены черепа двух больших быков с длинными рогами. ѕеред ними найдены остатки расписных жертвенников. ак отмечает еншерпер, двойной топор и рога посв€щени€ €вл€ютс€ наиболее известными, но наименее пон€тными символами минойской религии. Ќеобыкновенна€ распространенность этих символов говорит о всеобщем характере этого культа на рите. ¬ этом культе св€щенное животное Ч минойский бык Ч должен был играть главную роль.
—транный на наш взгл€д миф о любви ѕасифаи, жены ћиноса, к быку €вл€етс€, вне вс€кого сомнени€, греческим осмыслением минойского обр€да, в котором справл€лс€ Ђсв€щенный бракї жены критского цар€-жреца с быком (животной ипостасью верховного минойского божества, Ђћинойского «евсаї). Ётим обр€дом утверждалось право детей критского цар€ наследовать царскую власть.
ѕредставлени€, согласно которым царь племени возводит свое происхождение к животному предку, могут быть классифицированы как тотемические. јфины, сохранившие унаследованные от пеласгов (древнего населени€ јттики Ч Her. VIII.4) св€зи с минойскими культами, соблюдали довольно долго аналогичный обр€д. јристотель в Ђјфинской политииї (III.5) сообщает, что жена афинского архонта-цар€ вступала в ритуальный брак с ƒионисом в Ѕуколии (храме ƒиониса, название которого произведено от слова Ђбыкї, и сам ƒионис чтилс€ иногда в образе быка). Ётот обр€д восходит к микенским временам, когда афинские цари соблюдали минойский ритуал св€щенного брака жены цар€ с быком, подтверждавшего их право на царскую власть.
Ќе случайно ритский бык, побежденный √ераклом, по€вл€етс€ затем на территории јттики (ћарафонский бык). √еракл символизирует в этом мифе дорийское завоевание, а ритский бык Ч минойско-микенское население додорического рита. Ќа острове “енедосе Ч древнейшем культовом центре греков Ч минойское божество, в образе быка, также почиталось в качестве бога ƒиониса.
¬ критских мифах «евс, в образе быка, ћинос Ч царь рита и сын его ћинотавр выступают в неразрывном единстве. ѕоэтому Ѕете пришел к вполне логичному выводу, что термин Ђћиносї €вл€етс€ божественным титулом критских царей вообще, Ђварварским именем божества некоего негреческого народаї.
»нтересно сопоставить этот вывод Ѕете с титулатурой фараона ≈гипта, о сильном вли€нии которого на культуру минойского рита говорилось ранее. ‘араон посто€нно называлс€ Ђмощный телецї (kȝ-nḫt). Ќа палетке Ќармера египетский царь изображен в виде быка, рогами разрушающего вражескую крепость. ульт быка јписа, €вленного бога ќсириса, имел общеегипетское значение, а цариц ≈гипта хоронили иногда в саркофаге, имевшем форму коровы (√еродот II. 129). “ак в древнем ≈гипте царь и верховное божество оказывались тесно св€занными со своей териоморфной ипостасью, быком.
¬озможно, что в образе ћинотавра мы сталкиваемс€ с €влением перехода териоморфной формы божества в антропоморфную стадию.
—ам же образ быка, безусловно, несЄт в себе египетское наследование, с поправкой на местные традиции. ¬ отличии от египетской религии, где в образе земли выступает мужской персонаж √еб, а в образе неба Ч небесна€ корова Ќут, народы, обитающие за пределами ≈гипта, в качестве «емли рассматривали ¬еликую богиню-мать, Ќебо же олицетвор€ло божество в образе быка. ”же на ранних изображени€х ћинотавр предстает как божество определенно космического плана. Ќередко он изображаетс€ в скрученной полукольцом позе в сочетании с солнечными или звездными знаками, так что можно его воспринимать и как мифический синоним небесного свода, и вместе с тем как некоего стража или хоз€ина небесного огн€, и, наконец, как сам этот огонь Ч солнце, луна или звезды. Ќелишним будет вспомнить, что вторым именем ћинотавра было јстерий (Ἀστέριον).¹¹
_____________________________
[11] ἀστέριος 3 звездный (περιωπή Anth.)
Ѕ” ќЋ»ќЌ
ЕЂв јфинах, сохран€вших, суд€ по первым строкам Ђјфинской политииї јристотел€ (III, 5), древние св€зи с критскими жрецами, жена архонта-цар€ вступала в ритуальный брак с ƒионисом в Ѕуколионе. Ѕуколион был храмом ƒиониса, пастыр€ быков, и сам ƒионис иногда представл€лс€ греками в образе быка. –итуал этот мог быть заимствован с рита.
≈сли сблизить культ быка, по-видимому существовавший на рите, с культом быка јписа в ≈гипте, то мы увидим, что в ≈гипте бык јпис был €вленным богом ќсирисом, так же как и фараон: бык, бог и царь в египетской теократической деспотии оказывались св€занными сходным образомї.
(јполлодор. ћифологическа€ библиотека III.)
¬ернемс€ к, упом€нутому выше јристотелем, Ѕуколиону (Βουκολίων, Ѕуколий), храму, где ƒионису поклон€лись в образе быка. ѕомимо јфин, области с подобным названием были, по крайней мере, еще в јркадии (на ѕелопоннесе) и в дельте ≈гипта.¹² —лово Βουκολίων производ€т от βουκόλος, в значении Ђпастырьї. ѕриставка βου- в слове βουκόλος означает Ђбычийї.¹³ азалось бы, значит, втора€ часть слова (-κόλος) должна иметь значение Ђохранительї, и словарь ƒворецкого намекает именно на такое словообразование (βου-κόλος). ѕодобное словообразование подтверждаетс€ и в слове βουκολέω (βου-κολέω).¹⁴ Ќо проблема в том, что у слова κόλος нет такого (или похожего значени€), по крайней мере в ƒревнегреческом словаре.¹⁵ ¬полне возможно, что подобное значение слова κόλος просто не попало в словарь, тем более, что слово βουκολέω переводитс€ (при чем дословно) как Ђпитать, кормитьї. Ёто бы прекрасно объ€сн€ло и этимологию слова βουκολία (стадо) Ч Ђкорм€щийс€ крупнорогатый скотї.¹⁶ Ќо, повторюсь, эта прекрасна€ конструкци€ зависает в воздухе, в виду отсутстви€ подтверждени€ такого значени€ слова в словаре.
_____________________________
[12] Βουκολίων (-ωνος) ἡ город в јркадии Thuc.
[13] βου- {βοῦς}
1) приставка со знач. Ђбычачийї, Ђкоровийї, Ђволовийї;
2) усилит. приставка со знач. Ђгромадныйї, Ђогромныйї (напр. βουλιμία)
βοῦς ἡ бык, вол, корова.
[14] βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst., Theocr.
βουκολέω (βου-κολέω)
1) пасти ex. (βοῦς Hom.);
2) досл. питать, кормить, перен. чтить;
[15] κόλος
1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.)
2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.);
3) прерванный, незаконченный.
[16] βουκολία, ион. βουκολίη ἡ стадо крупного рогатого скота HH., Hes., Her.
ћожно попробовать этимологизировать слово βουκολέω (пасти) через κωλύω, в значении Ђмешать, преп€тствоватьї, т.е. не давать разбредатьс€ стаду. ¬ыгл€дит несколько нат€нуто, но тем не менее.
≈сли все же попытатьс€ развить тему кормлени€ скота (основна€ забота пастуха), то можно обратить внимание на слово κόρος, созвучное со второй частью слова βουκόλος. ќдно из значений слова κόρος Ч Ђсытость, пресыщениеї. ѕриставка βου- объ€сн€ет о чьей сытости идет речь, но Ђбычь€ сытостьї плохо коррелируетс€ со значением слова βουκόλος Ч Ђпастухї. ѕопытка придумать значение Ђпитающий, насыщающий быковї (βου + κόρος) приближает нас к нужному результату, но выгл€дит еще более нат€нутой, нежели первый вариант.
Ћюбопытно, что другое значение слова κόρος Ч Ђребенок, сынї Ч дает, при том же словообразовании (βου + κόρος), значение Ђбычий сынї (т.е. теленок), либо, при более богатом воображении и применительно к ƒионису, Ч Ђсын «евса в образе быкаї («агрей).
¬ эту же Ђкопилкуї хорошо заходит созвучие со словом χολάω,¹⁷ применительно к βουκολέω Ч Ђбезумствующий быкї, что хорошо коррелирует со значением имени ¬акха (Βάκχος) Ч Ђбезрассудныйї, Ђодержимыйї.¹⁸
_____________________________
[17] χολάω
1) быть безумным, сумасбродствовать; ex. (ἄνδρες χολῶντες Arph.)
2) быть в бешенстве, в €рости, гневатьс€; ex. (Diog.L.; τινι NT.).
[18] βακχεῖος, βάκχειος
1) вакхический (βότρυς Soph.; νόμος Eur.; ῥυθμός Xen.; ὄρχησις Plat.);
2) исступленный, неистовый, ликующий (Διόνυσος HH.)
¬есь этот полет фантазии к этимологии слова βουκόλος (Ђпастухї), конечно, может не иметь никакого отношени€, но, повторюсь, проблема в том, что наука не дает этимологического объ€снени€ этого слова (βουκόλος). »бо, с одной стороны:
βουκολέω (βου-κολέω)
1) пасти ex. (βοῦς Hom.);
2) досл. питать, кормить, перен. чтить;
βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst.
ј с другой стороны:
κόλος
1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.)
2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.);
3) прерванный, незаконченный.
—прашиваетс€, каким образом слово βουκόλος получило значение Ђхранитель крупного рогатого скотаї, если оно однозначно прочитываетс€ как Ђбезрогий быкї (βου-κόλος)? ¬опрос, естественно, риторический.
_______________________________
|
ћетки: ƒионис «агрей «евс Ѕык √реци€ Ётимологи€ |
ЁЋ≈¬—»Ќ— јя “–јƒ»÷»я ¬ ѕќЌ“≈ |
ƒневник |
Ќ.¬. узина
ЁЋ≈¬—»Ќ— »≈ —ј –јЋ№Ќџ≈ “–јƒ»÷»» » ”Ћ№“ ƒ»ќЌ»—ј
¬ јЌ“»„Ќџ’ √ќ—”ƒј–—“¬ј’ —≈¬≈–Ќќ√ќ ѕ–»„≈–Ќќћќ–№я
“радиции почитани€ ƒиониса были принесены греками в северопонтийский регион в готовом виде в конце VI в. до н.э. ¬ажна€ роль земледели€ в хоз€йственной жизни греческих колонистов определила широкое распространение в регионе культа богов, покровительствующих плодородию земли, произрастанию, способствующих получению богатых урожаев.
¬ √реции ƒионис играл важную роль в элевсинской религии, в рамках которой было развито представление о триаде ƒиониса, ƒеметры и оры. ¬ элевсинской традиции ƒионис выступал в хтонической ипостаси »акха¹ и был св€зан с подземным царством. ќн считалс€ Ђпредводителем таинств ƒеметрыї (Strabo. X, 3, 10; Orph. h. XLII), и церемонии в честь »акха предвар€ли элевсинские мистерии. ¬нутренние св€зи, существовавшие между ƒеметрой и ƒионисом, нашли отражение и в мифе, где »акх фигурирует в качестве сына ¬еликой богини. ƒиодор сообщает, что »акх Ч сын «евса и ƒеметры Ч был растерзан земнородными и воскрешен к жизни ƒеметрой (Diod. III, 62, 6, 8). —огласно ƒиодору, близость ƒиониса и ƒеметры проистекает вследствие того, что Ђвиноград приносит выжимаемое из его кистей вино, получа€ свой рост от земли и дожд€ї. ј воскрешение бога ƒеметрой подобно тому, как ежегодно летом земл€ восстанавливает Ђсрезанный виноград дл€ расцветани€, дающего возможность нового плодоношени€ї (Diod. III, 62, 2-8). “аким образом, ƒионис как умирающий и воскресающий бог растительности и виноградной лозы в мировоззрении греков традиционно был тесно св€зан с рождающими силами земли и ее плодородием.
_____________________________
[1] Ἴακχος ὁ »акх, культово-мистическое им€ ¬акха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. Ч нести в торжественном шествии изображение »акха).
ἴακχος ὁ
1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);
2) гимн в честь »акха (ὁ μυστικὸς ἴακχος Her.)
¬ V-IV вв. до н.э. в северопонтийских городских св€тилищах достаточно отчетливо прослеживаетс€ совместное почитание ƒиониса с элевсинскими богин€ми, которое имело место и в III в. до н.э. ¬ классическое и раннеэллинистическое врем€ почитание земледельческих богинь ƒеметры и оры приобрело особую попул€рность, что во многом было св€зано с приоритетным значением зернового хоз€йства в экономике северопричерноморских центров и развитием торговли хлебом со —редиземноморьем, прежде всего с јфинами. »менно тогда отчетливо прослеживаетс€ вли€ние на экономическое, политическое и культурное развитие греческих колоний со стороны јфин, заинтересованных в увеличении экспорта хлеба из северопонтийского региона.
¬ религиозной сфере одним из про€влений этого вли€ни€ можно рассматривать распространение элевсинского культа ƒеметры. ак отмечает ј.—. –ус€ева, дл€ јфин культ ƒеметры был своеобразным политическим инструментом, направленным на то, чтобы с помощью подвластного им Ёлевсина привлекать на свою сторону элиту многих государств и получать как можно больше хлеба и драгоценных даров, и поддерживать с ними всесторонние отношени€.
ќ св€з€х античных городов —еверного ѕричерноморь€ с элевсинским св€тилищем можно уверенно говорить с последней трети V в. до н.э. —охранилс€ декрет 418 до н.э., в котором афин€не призывали своих союзников и прочих эллинов присылать в Ёлевсин дес€тину урожа€, за€вл€€, что об этом пророчествовал ƒельфийский оракул (Syll 3. I. 83). Ќе уклон€лись от исполнени€ этого предписани€ и северопонтийские города, входившие в это врем€ в число афинских союзников. Ёто были Ќимфей, ќльви€, возможно “ира, Ќиконий. ќбычай посылать в Ёлевсин плоды первого урожа€ из разных греческих городов сохран€лс€ много столетий после распада јфинского морского союза.
Ќадо полагать, что в IV-III вв. до н.э., когда дружественные отношени€ јфин, ќльвии, Ѕоспора переживали свой наивысший расцвет, северопричерноморские греки продолжали неуклонно выполн€ть требование ƒельфийского оракула. —реди северопонтийских греков, веро€тно, находились и те, кто входил в круг живших во всех част€х греческой ойкумены эллинов, приобщенных к элевсинским мистери€м. ¬озможно, прин€вшие посв€щение получали сакральные предметы, символизирующие приобщение к тайнам элевсинской религии. ¬ этом отношении особенно показательны находки в северо-понтийских погребальных комплексах расписных сосудов с сюжетами на элевсинские темы.
Ёти сосуды, как правило, изготавливались на заказ и были предназначены дл€ ритуальных целей. ѕримечателен тот факт, что среди божественных персонажей, представленных на таких сосудах, часто присутствует ƒионис, который согласно эллинским представлени€м примыкал к кругу ¬еликих богинь. ќчевидно, распространение норм элевсинских мистерий в —еверном ѕричерноморье сыграло значительную роль в становлении обр€довой стороны попул€рных в регионе земледельческих культов ƒеметры и св€занных с ней богов и героев ƒиониса, јфродиты, √еракла.
”поминание элевсинской ипостаси ƒиониса Ч »акха встречаетс€ в керамической эпиграфике —еверного ѕричерноморь€ начина€ с VI в. до н.э. этому времени относитс€ находка на Ѕерезани фрагмента горла с венчиком расписного ионийского кратера с граффито ≤ј. ¬.ѕ. яйленко считает надпись сокращением эпиклесы ƒиониса Ч »акх. ќднако в этом отношении наиболее выразительным и информативным пам€тником эпиграфики €вл€етс€ посв€тительное граффито V в. до н.э., обнаруженное в ботросе «ападного теменоса ќльвии и содержащее упоминание элевсинской триады: ƒеметра, ѕерсефона, »акх. Ќадпись представл€ет собой уникальное посв€щение сантиппа ƒеметре, ѕерсефоне, »акху в храм Ч ƒеметрион.² Ётим самым впервые в письменных источниках зафиксировано наличие в северо-понтийском городе храма элевсинской триады, который, как и в отдельных регионах Ёллады, именовалс€ в честь главной богини. ѕри этом чрезвычайно важным €вл€етс€ начертание имени »акха в полной форме, что не оставл€ет сомнений в его трактовке.
ак посв€щени€ »акху исследовател€ми (¬.ѕ. яйленко, ».». “олстым, ≈.ј. ћолевым) интерпретируютс€ аббревиации ≤ј, ≤ ’, IX, ≤ј’, нанесенные на донцах чернолаковых киликов и канфаров, обнаруженных в сакральных комплексах ите€, ќльвии, √оргиппии. Ќаибольшее количество таких граффити (более 15) происходит из зольных св€тилищ ите€. ѕримечателен тот факт, что посв€щени€ »акху обнаружены в этом св€тилище вместе с дионисийскими вотивами: терракотами и фрагментами сосудов дл€ вина на участке, примыкавшем к фависсам, где совершались жертвоприношени€ ƒеметре и оре.
Ќаходки IV-III вв. до н.э., близкие по характеру материалам китейского зольника, обнаружены в св€тилищах Ќимфе€, ћирмеки€ и в сбросе культовых предметов в теменосе √оргиппии. —реди приношений в упом€нутых св€тилищах нар€ду со статуэтками и протомами³ ƒеметры, оры встречаютс€ изображени€ спутников ƒиониса Ч сатиров, силенов, актеров. ѕодобные находки могут свидетельствовать о том, что обр€ды в честь ƒиониса входили составной частью в церемонии, посв€щенные ƒеметре. ѕримечательным €вл€етс€ также и сочетание приношений ƒеметре и ƒионису с посв€щени€ми √ераклу, јфродите, что хорошо прослеживаетс€ по материалам сакральных комплексов ите€, ћирмеки€, ќльвии, сельских поселений ’ерсонеса и Ѕоспора. √еракл и јфродита, согласно греческим сакральным воззрени€м, воплощавшие плодородие, были близки по сути ƒеметре и считались посв€щенными в ее таинства. —акральна€ св€зь ƒиониса, ƒеметры, јфродиты и √еракла изначально была свойственна элевсинскому ритуалу и нашла свое отражение в обр€довой практике северопонтийских св€тилищ в IV-III вв. до н.э.
_____________________________
[2] Δημήτριον τό ƒеметрий, св€тилище ƒеметры Her., Plat., Plut.
[3] προτομή η бюст, скульптурное изва€ние до бедер.
–€д вотивных приношений, обнаруженных в городских сакральных комплексах, дают возможность проследить в культе ƒиониса сочетание элевсинских норм с элементами орфизма. ќрфические идеи были близки культу ƒиониса ’тони€ и составл€ли одно из направлений в почитании этого бога. ѕам€тники, интерпретируемые с точки зрени€ их принадлежности к культу орфического ƒиониса, хорошо известны в ќльвии и датируютс€ V в. до н.э. Ёто Ч кост€ные пластинки, найденные в ботросе «ападного теменоса, на одной из них им€ ƒиониса упоминаетс€ в сочетании с названием его почитателей Ч орфиков.
¬месте с тем в китейском св€тилище и сакральном комплексе западной округи ќльвии известны вотивы, которые могут ассоциироватьс€ как с культом ƒиониса ’тони€, так и с мистическими обр€дами в честь ƒеметры. Ќаиболее примечательны с этой точки зрени€ приношени€ из зольных св€тилищ ите€, представленные астрагалами и €йцевидной галькой в сочетании с посв€щени€ми »акху. яйцо символизировало способность творить жизнь, олицетвор€ло жизненную силу и несло идею возрождени€. ƒл€ орфиков €йцо служило символом той силы, котора€ давала рождение всему и было атрибутом ƒиониса. ¬ этой св€зи находки вотивов в форме €иц можно св€зывать с почитанием ƒиониса ’тони€ и сопр€женными с ним орфическими иде€ми.
јстрагалы⁴ могли выступать в качестве приношений ƒионису в ипостаси «агре€ Ч сына «евса и ѕерсефоны, центрального персонажа орфических мистерий, который в элевсинской традиции получил им€ »акха. јстрагалы, изготовленные из костей жертвенных животных, нередко выступали в качестве оберегов и использовались при гадании и прорицании. ¬месте с тем не исключено, что эти предметы использовались в мистических обр€дах культа ƒиониса «агре€, основу которых составл€л миф о смерти и возрождении бога.
_____________________________
[4] ἀστράγαλος ὁ игральные кости, игра в бабки Hom., Her., Arph., Plat., Aeschin., Arst., Plut.
Ќе исключено, что в классический и раннеэллинистический период элевсинские традиции, нар€ду с орфизмом, сыграли свою роль в развитии представлений о ƒионисе как боге-покровителе загробного мира, дарующем бессмертие. ¬заимосв€зь элевсинских и дионисийских элементов в погребально-обр€довой сфере находит отражение в комплексе находок из погребени€ жрицы ƒеметры кургана Ѕольша€ Ѕлизница. ѕередольска€ считает, что большинство статуэток объединены общим сюжетом и воплощают персонажей, воспетых в гомеровском гимне к ƒеметре.
¬озможно, эти статуэтки представл€ли собой разновидность культового инвентар€ и использовались в мистериальных действах, посв€щенных ƒеметре и св€занным с ней богам плодороди€. Cреди терракот присутствуют также изображени€ —илена, ѕаппосилена (Παπποσειληνός)⁵ с младенцем ƒионисом, комических актеров-вакхантов. роме терракот в погребени€х кургана обнаружены многочисленные ювелирные издели€ с изображени€ми сатиров и экстатических спутниц ƒиониса Ч менад.
_____________________________
[5] Παπποσειληνός (дословно, Ђстарый силенї) Ч воспитатель и посто€нный спутник ƒиониса, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пь€ным стариком.
πάππος ὁ дед (πάππος ὁ πρὸς μητρὸς ἢ πατρός Plat.).
Ќаходки в погребальном комплексе сакральных предметов и символов, свойственных как дионисийскому культу, так и культу ƒеметры, подчеркивают особую роль идей бессмерти€ и возрождени€ в почитании этих богов плодороди€ и их св€зь с загробным миром.
_______________________________
»ј ’
»м€ »акх (Ἴακχος), €кобы, финикийского происхождени€ и означает Ђгрудное дит€ї. Ќа определенном этапе развити€ Ёлевсинских мистерий, »акх становитс€ одним из главных действующих персонажей, наравне с ƒеметрой и ѕерсефоной. ќднако интерпретации разных авторов, на предмет роли »акха в этой триаде, весьма разн€тс€: то он сын ƒеметры (Diod. III 64) или ее питомец (Lucr. IV 1168), то сын ѕерсефоны и «евса, в образе «агре€ (Nonn. Dion. XXXI 66-68), то сын ƒиониса и нимфы јуры (932). »ногда »акх рассматриваетс€ как супруг ƒеметры. ѕоследний вариант (Ђсупруг ƒеметрыї) совсем плохо ув€зываетс€ со значением имени »акха Ч Ђдит€ї. ѕоэтому, кроме финикийской версии происхождени€ имени »акх (Ἴακχος), все же имеет смысл рассмотреть и другие варианты этимологии этого имени.
Ќапример, вариант происхождени€ имени Ἴακχος от греческого слова ἰαχή (ἰακχή)⁶ в значении Ђвозглас ликовани€ї, по аналогии с другим эпитетом ƒиониса: Ёлелей (Ἐλελεῦ), где ἐλελεῦ Ч Ђприветственный возгласї. ¬ этом же р€ду и эпитет ƒиониса Ч Ёвий (Εὔιος, Ђблагойї), и соответствующие вакхические возгласы ликовани€ в его честь: εὖα, εὐαί, εὐάν, εὐοῖ (от εὖ Ч благо).
роме того, другие значени€ слова ἰαχή (ἰακχή) Ч Ђшумї, Ђпениеї Ч перекликаетс€ с эпитетом ƒиониса Ч Ѕромий (Βρόμιος Ч Ђшумныйї, Ђгуд€щийї, Ђпоющийї). Ётот эпитет ƒионис получил в честь шумных мистериальных процессий с шумовым (трещетки, кимвалы, бубны) и музыкальным сопровождением, а также песн€ми и восклицани€ми, приветствующими и слав€щими ƒиониса.
_____________________________
[6] ἰαχή, иногда ἰακχή, дор. ἰαχά ἡ
1) крик, шум; ex. θεσπεσίῃ ἰαχῇ Hom. Ч с ужасным криком;
2) вопль, плач; ex. (πολύδακρυς Aesch.)
3) возглас ликовани€, радостный крик; ex. βοᾶτε ἀοιδαῖς ἰαχαῖς τε νύμφαν Eur. Ч славьте песн€ми и кликами новобрачную;
4) звучание, звуки
ἰαχέω, иногда ἰακχέω
1) (тж. ἰ. φωνῇ HH.) поднимать голос, кричать; ex. ἰαχήσατε οὐρανῷ Eur. Ч возопите к небу; ἱαχείτω γᾶ Κυκλωπία Eur. Ч пусть огласитс€ (скорбными) криками край иклопов;
2) запевать, петь ex. (ὕμνον Aesch.; ἀοιδάν Arph.);
3) причитать, оплакивать;
4) объ€вл€ть, провозглашать; ex. ἰαχήθης (v. l. ἰαχέ σέ) ἄδικος Eur. Ч ты прослыла (женщиной) бесчестной;
5) раздаватьс€, звучать; ex. ὀλολύγματα ἰαχεῖ Eur. Ч раздаютс€ клики (дев в честь јфины)
ἐλελεῦ
1) (боевой клич) Ђура! да здравствует!ї (ἐ., χώρει Arph.);
2) (возглас скорби) о горе!, увы! Aesch.;
3) (возглас ликовани€) (ἐπιφωνεῖν ταῖς σπονδαῖς ἐ. Plut.)
Βάκχος ὁ (впервые у Soph.; тж. Ἴακχος и Διόνυσος) ¬акх (сын «евса и —емелы, уроженец ‘ив, бог винограда, виноградарства, винодели€ и вина) Soph., Eur., Plut., Luc.
Λυαῖος ὁ Ћиэй, освободитель (от забот), эпитет ¬акха-ƒиониса Anacr., Plut.
Βρόμιος ὁ Ѕромий, ЂЎумныйї (эпитет ¬акха) Pind., Aesch., Eur., Arph.
Πυριγενής (πῠρῐ-γενής) 2 рожденный в огне или из огн€;
Διμήτωρ (δι-μήτωρ), -ορος adj. m имеющий двух матерей (эпитет ƒиониса) Eur., Diod.
Δίγονος (δί-γονος) ὁ дважды рождЄнный Anth.
Νυσήϊος, Νυσαῖος ὁ Ќисей, т.е. родом из Ќисы (Νῦσα).
Θυωνεύς ἡ {θύω} ‘ионей, ЂЌеистовыйї;
Ληναῖος ὁ Ћеней (бог винодели€, т.е. ¬акх-ƒионис) Diod., Anth.
Εὐάν ὁ Ёван, Ђблагойї (эпитет ¬акха, от εὖ Ч Ђдобро, благої) Eur., Plut.
Νυκτέλιος ὁ Ќиктелий (Ђночнойї), прославл€емый в ночных празднествах (эпитет ¬акха) Plut., Anth.
Liber, -eri m Ћибер, древнеиталийский бог, позднее прозвище ¬акха.
_______________________________
ЁЋ≈¬—»Ќ— »≈ —ј –јЋ№Ќџ≈ “–јƒ»÷»» » ”Ћ№“ ƒ»ќЌ»—ј
¬ јЌ“»„Ќџ’ √ќ—”ƒј–—“¬ј’ —≈¬≈–Ќќ√ќ ѕ–»„≈–Ќќћќ–№я
“радиции почитани€ ƒиониса были принесены греками в северопонтийский регион в готовом виде в конце VI в. до н.э. ¬ажна€ роль земледели€ в хоз€йственной жизни греческих колонистов определила широкое распространение в регионе культа богов, покровительствующих плодородию земли, произрастанию, способствующих получению богатых урожаев.
¬ √реции ƒионис играл важную роль в элевсинской религии, в рамках которой было развито представление о триаде ƒиониса, ƒеметры и оры. ¬ элевсинской традиции ƒионис выступал в хтонической ипостаси »акха¹ и был св€зан с подземным царством. ќн считалс€ Ђпредводителем таинств ƒеметрыї (Strabo. X, 3, 10; Orph. h. XLII), и церемонии в честь »акха предвар€ли элевсинские мистерии. ¬нутренние св€зи, существовавшие между ƒеметрой и ƒионисом, нашли отражение и в мифе, где »акх фигурирует в качестве сына ¬еликой богини. ƒиодор сообщает, что »акх Ч сын «евса и ƒеметры Ч был растерзан земнородными и воскрешен к жизни ƒеметрой (Diod. III, 62, 6, 8). —огласно ƒиодору, близость ƒиониса и ƒеметры проистекает вследствие того, что Ђвиноград приносит выжимаемое из его кистей вино, получа€ свой рост от земли и дожд€ї. ј воскрешение бога ƒеметрой подобно тому, как ежегодно летом земл€ восстанавливает Ђсрезанный виноград дл€ расцветани€, дающего возможность нового плодоношени€ї (Diod. III, 62, 2-8). “аким образом, ƒионис как умирающий и воскресающий бог растительности и виноградной лозы в мировоззрении греков традиционно был тесно св€зан с рождающими силами земли и ее плодородием.
_____________________________
[1] Ἴακχος ὁ »акх, культово-мистическое им€ ¬акха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. Ч нести в торжественном шествии изображение »акха).
ἴακχος ὁ
1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);
2) гимн в честь »акха (ὁ μυστικὸς ἴακχος Her.)
¬ V-IV вв. до н.э. в северопонтийских городских св€тилищах достаточно отчетливо прослеживаетс€ совместное почитание ƒиониса с элевсинскими богин€ми, которое имело место и в III в. до н.э. ¬ классическое и раннеэллинистическое врем€ почитание земледельческих богинь ƒеметры и оры приобрело особую попул€рность, что во многом было св€зано с приоритетным значением зернового хоз€йства в экономике северопричерноморских центров и развитием торговли хлебом со —редиземноморьем, прежде всего с јфинами. »менно тогда отчетливо прослеживаетс€ вли€ние на экономическое, политическое и культурное развитие греческих колоний со стороны јфин, заинтересованных в увеличении экспорта хлеба из северопонтийского региона.
¬ религиозной сфере одним из про€влений этого вли€ни€ можно рассматривать распространение элевсинского культа ƒеметры. ак отмечает ј.—. –ус€ева, дл€ јфин культ ƒеметры был своеобразным политическим инструментом, направленным на то, чтобы с помощью подвластного им Ёлевсина привлекать на свою сторону элиту многих государств и получать как можно больше хлеба и драгоценных даров, и поддерживать с ними всесторонние отношени€.
ќ св€з€х античных городов —еверного ѕричерноморь€ с элевсинским св€тилищем можно уверенно говорить с последней трети V в. до н.э. —охранилс€ декрет 418 до н.э., в котором афин€не призывали своих союзников и прочих эллинов присылать в Ёлевсин дес€тину урожа€, за€вл€€, что об этом пророчествовал ƒельфийский оракул (Syll 3. I. 83). Ќе уклон€лись от исполнени€ этого предписани€ и северопонтийские города, входившие в это врем€ в число афинских союзников. Ёто были Ќимфей, ќльви€, возможно “ира, Ќиконий. ќбычай посылать в Ёлевсин плоды первого урожа€ из разных греческих городов сохран€лс€ много столетий после распада јфинского морского союза.
Ќадо полагать, что в IV-III вв. до н.э., когда дружественные отношени€ јфин, ќльвии, Ѕоспора переживали свой наивысший расцвет, северопричерноморские греки продолжали неуклонно выполн€ть требование ƒельфийского оракула. —реди северопонтийских греков, веро€тно, находились и те, кто входил в круг живших во всех част€х греческой ойкумены эллинов, приобщенных к элевсинским мистери€м. ¬озможно, прин€вшие посв€щение получали сакральные предметы, символизирующие приобщение к тайнам элевсинской религии. ¬ этом отношении особенно показательны находки в северо-понтийских погребальных комплексах расписных сосудов с сюжетами на элевсинские темы.
Ёти сосуды, как правило, изготавливались на заказ и были предназначены дл€ ритуальных целей. ѕримечателен тот факт, что среди божественных персонажей, представленных на таких сосудах, часто присутствует ƒионис, который согласно эллинским представлени€м примыкал к кругу ¬еликих богинь. ќчевидно, распространение норм элевсинских мистерий в —еверном ѕричерноморье сыграло значительную роль в становлении обр€довой стороны попул€рных в регионе земледельческих культов ƒеметры и св€занных с ней богов и героев ƒиониса, јфродиты, √еракла.
”поминание элевсинской ипостаси ƒиониса Ч »акха встречаетс€ в керамической эпиграфике —еверного ѕричерноморь€ начина€ с VI в. до н.э. этому времени относитс€ находка на Ѕерезани фрагмента горла с венчиком расписного ионийского кратера с граффито ≤ј. ¬.ѕ. яйленко считает надпись сокращением эпиклесы ƒиониса Ч »акх. ќднако в этом отношении наиболее выразительным и информативным пам€тником эпиграфики €вл€етс€ посв€тительное граффито V в. до н.э., обнаруженное в ботросе «ападного теменоса ќльвии и содержащее упоминание элевсинской триады: ƒеметра, ѕерсефона, »акх. Ќадпись представл€ет собой уникальное посв€щение сантиппа ƒеметре, ѕерсефоне, »акху в храм Ч ƒеметрион.² Ётим самым впервые в письменных источниках зафиксировано наличие в северо-понтийском городе храма элевсинской триады, который, как и в отдельных регионах Ёллады, именовалс€ в честь главной богини. ѕри этом чрезвычайно важным €вл€етс€ начертание имени »акха в полной форме, что не оставл€ет сомнений в его трактовке.
ак посв€щени€ »акху исследовател€ми (¬.ѕ. яйленко, ».». “олстым, ≈.ј. ћолевым) интерпретируютс€ аббревиации ≤ј, ≤ ’, IX, ≤ј’, нанесенные на донцах чернолаковых киликов и канфаров, обнаруженных в сакральных комплексах ите€, ќльвии, √оргиппии. Ќаибольшее количество таких граффити (более 15) происходит из зольных св€тилищ ите€. ѕримечателен тот факт, что посв€щени€ »акху обнаружены в этом св€тилище вместе с дионисийскими вотивами: терракотами и фрагментами сосудов дл€ вина на участке, примыкавшем к фависсам, где совершались жертвоприношени€ ƒеметре и оре.
Ќаходки IV-III вв. до н.э., близкие по характеру материалам китейского зольника, обнаружены в св€тилищах Ќимфе€, ћирмеки€ и в сбросе культовых предметов в теменосе √оргиппии. —реди приношений в упом€нутых св€тилищах нар€ду со статуэтками и протомами³ ƒеметры, оры встречаютс€ изображени€ спутников ƒиониса Ч сатиров, силенов, актеров. ѕодобные находки могут свидетельствовать о том, что обр€ды в честь ƒиониса входили составной частью в церемонии, посв€щенные ƒеметре. ѕримечательным €вл€етс€ также и сочетание приношений ƒеметре и ƒионису с посв€щени€ми √ераклу, јфродите, что хорошо прослеживаетс€ по материалам сакральных комплексов ите€, ћирмеки€, ќльвии, сельских поселений ’ерсонеса и Ѕоспора. √еракл и јфродита, согласно греческим сакральным воззрени€м, воплощавшие плодородие, были близки по сути ƒеметре и считались посв€щенными в ее таинства. —акральна€ св€зь ƒиониса, ƒеметры, јфродиты и √еракла изначально была свойственна элевсинскому ритуалу и нашла свое отражение в обр€довой практике северопонтийских св€тилищ в IV-III вв. до н.э.
_____________________________
[2] Δημήτριον τό ƒеметрий, св€тилище ƒеметры Her., Plat., Plut.
[3] προτομή η бюст, скульптурное изва€ние до бедер.
–€д вотивных приношений, обнаруженных в городских сакральных комплексах, дают возможность проследить в культе ƒиониса сочетание элевсинских норм с элементами орфизма. ќрфические идеи были близки культу ƒиониса ’тони€ и составл€ли одно из направлений в почитании этого бога. ѕам€тники, интерпретируемые с точки зрени€ их принадлежности к культу орфического ƒиониса, хорошо известны в ќльвии и датируютс€ V в. до н.э. Ёто Ч кост€ные пластинки, найденные в ботросе «ападного теменоса, на одной из них им€ ƒиониса упоминаетс€ в сочетании с названием его почитателей Ч орфиков.
¬месте с тем в китейском св€тилище и сакральном комплексе западной округи ќльвии известны вотивы, которые могут ассоциироватьс€ как с культом ƒиониса ’тони€, так и с мистическими обр€дами в честь ƒеметры. Ќаиболее примечательны с этой точки зрени€ приношени€ из зольных св€тилищ ите€, представленные астрагалами и €йцевидной галькой в сочетании с посв€щени€ми »акху. яйцо символизировало способность творить жизнь, олицетвор€ло жизненную силу и несло идею возрождени€. ƒл€ орфиков €йцо служило символом той силы, котора€ давала рождение всему и было атрибутом ƒиониса. ¬ этой св€зи находки вотивов в форме €иц можно св€зывать с почитанием ƒиониса ’тони€ и сопр€женными с ним орфическими иде€ми.
јстрагалы⁴ могли выступать в качестве приношений ƒионису в ипостаси «агре€ Ч сына «евса и ѕерсефоны, центрального персонажа орфических мистерий, который в элевсинской традиции получил им€ »акха. јстрагалы, изготовленные из костей жертвенных животных, нередко выступали в качестве оберегов и использовались при гадании и прорицании. ¬месте с тем не исключено, что эти предметы использовались в мистических обр€дах культа ƒиониса «агре€, основу которых составл€л миф о смерти и возрождении бога.
_____________________________
[4] ἀστράγαλος ὁ игральные кости, игра в бабки Hom., Her., Arph., Plat., Aeschin., Arst., Plut.
Ќе исключено, что в классический и раннеэллинистический период элевсинские традиции, нар€ду с орфизмом, сыграли свою роль в развитии представлений о ƒионисе как боге-покровителе загробного мира, дарующем бессмертие. ¬заимосв€зь элевсинских и дионисийских элементов в погребально-обр€довой сфере находит отражение в комплексе находок из погребени€ жрицы ƒеметры кургана Ѕольша€ Ѕлизница. ѕередольска€ считает, что большинство статуэток объединены общим сюжетом и воплощают персонажей, воспетых в гомеровском гимне к ƒеметре.
¬озможно, эти статуэтки представл€ли собой разновидность культового инвентар€ и использовались в мистериальных действах, посв€щенных ƒеметре и св€занным с ней богам плодороди€. Cреди терракот присутствуют также изображени€ —илена, ѕаппосилена (Παπποσειληνός)⁵ с младенцем ƒионисом, комических актеров-вакхантов. роме терракот в погребени€х кургана обнаружены многочисленные ювелирные издели€ с изображени€ми сатиров и экстатических спутниц ƒиониса Ч менад.
_____________________________
[5] Παπποσειληνός (дословно, Ђстарый силенї) Ч воспитатель и посто€нный спутник ƒиониса, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пь€ным стариком.
πάππος ὁ дед (πάππος ὁ πρὸς μητρὸς ἢ πατρός Plat.).
Ќаходки в погребальном комплексе сакральных предметов и символов, свойственных как дионисийскому культу, так и культу ƒеметры, подчеркивают особую роль идей бессмерти€ и возрождени€ в почитании этих богов плодороди€ и их св€зь с загробным миром.
»ј ’
»м€ »акх (Ἴακχος), €кобы, финикийского происхождени€ и означает Ђгрудное дит€ї. Ќа определенном этапе развити€ Ёлевсинских мистерий, »акх становитс€ одним из главных действующих персонажей, наравне с ƒеметрой и ѕерсефоной. ќднако интерпретации разных авторов, на предмет роли »акха в этой триаде, весьма разн€тс€: то он сын ƒеметры (Diod. III 64) или ее питомец (Lucr. IV 1168), то сын ѕерсефоны и «евса, в образе «агре€ (Nonn. Dion. XXXI 66-68), то сын ƒиониса и нимфы јуры (932). »ногда »акх рассматриваетс€ как супруг ƒеметры. ѕоследний вариант (Ђсупруг ƒеметрыї) совсем плохо ув€зываетс€ со значением имени »акха Ч Ђдит€ї. ѕоэтому, кроме финикийской версии происхождени€ имени »акх (Ἴακχος), все же имеет смысл рассмотреть и другие варианты этимологии этого имени.
Ќапример, вариант происхождени€ имени Ἴακχος от греческого слова ἰαχή (ἰακχή)⁶ в значении Ђвозглас ликовани€ї, по аналогии с другим эпитетом ƒиониса: Ёлелей (Ἐλελεῦ), где ἐλελεῦ Ч Ђприветственный возгласї. ¬ этом же р€ду и эпитет ƒиониса Ч Ёвий (Εὔιος, Ђблагойї), и соответствующие вакхические возгласы ликовани€ в его честь: εὖα, εὐαί, εὐάν, εὐοῖ (от εὖ Ч благо).
роме того, другие значени€ слова ἰαχή (ἰακχή) Ч Ђшумї, Ђпениеї Ч перекликаетс€ с эпитетом ƒиониса Ч Ѕромий (Βρόμιος Ч Ђшумныйї, Ђгуд€щийї, Ђпоющийї). Ётот эпитет ƒионис получил в честь шумных мистериальных процессий с шумовым (трещетки, кимвалы, бубны) и музыкальным сопровождением, а также песн€ми и восклицани€ми, приветствующими и слав€щими ƒиониса.
_____________________________
[6] ἰαχή, иногда ἰακχή, дор. ἰαχά ἡ
1) крик, шум; ex. θεσπεσίῃ ἰαχῇ Hom. Ч с ужасным криком;
2) вопль, плач; ex. (πολύδακρυς Aesch.)
3) возглас ликовани€, радостный крик; ex. βοᾶτε ἀοιδαῖς ἰαχαῖς τε νύμφαν Eur. Ч славьте песн€ми и кликами новобрачную;
4) звучание, звуки
ἰαχέω, иногда ἰακχέω
1) (тж. ἰ. φωνῇ HH.) поднимать голос, кричать; ex. ἰαχήσατε οὐρανῷ Eur. Ч возопите к небу; ἱαχείτω γᾶ Κυκλωπία Eur. Ч пусть огласитс€ (скорбными) криками край иклопов;
2) запевать, петь ex. (ὕμνον Aesch.; ἀοιδάν Arph.);
3) причитать, оплакивать;
4) объ€вл€ть, провозглашать; ex. ἰαχήθης (v. l. ἰαχέ σέ) ἄδικος Eur. Ч ты прослыла (женщиной) бесчестной;
5) раздаватьс€, звучать; ex. ὀλολύγματα ἰαχεῖ Eur. Ч раздаютс€ клики (дев в честь јфины)
ἐλελεῦ
1) (боевой клич) Ђура! да здравствует!ї (ἐ., χώρει Arph.);
2) (возглас скорби) о горе!, увы! Aesch.;
3) (возглас ликовани€) (ἐπιφωνεῖν ταῖς σπονδαῖς ἐ. Plut.)
Ђ¬акхом теб€, и Ћиэем, и Ѕромием, бог, именуют;_______________________________________
ќгнерожденным зовут, двуматерним, дважды рожденным.
“ы же Ч Ќисей, ‘ионей, чьих кудрей не касалось железо;
“ы ж и Ћеней, насадитель хмельной лозы самородной;
“ы же »акх, и Ёван, и отец Ёлелей, и Ќиктелий.
Ќо не исчислить имен, какими эллинов роды,
Ћибер, теб€ величают.ї
(ќвидий. ћетаморфозы IV.11)
Βάκχος ὁ (впервые у Soph.; тж. Ἴακχος и Διόνυσος) ¬акх (сын «евса и —емелы, уроженец ‘ив, бог винограда, виноградарства, винодели€ и вина) Soph., Eur., Plut., Luc.
Λυαῖος ὁ Ћиэй, освободитель (от забот), эпитет ¬акха-ƒиониса Anacr., Plut.
Βρόμιος ὁ Ѕромий, ЂЎумныйї (эпитет ¬акха) Pind., Aesch., Eur., Arph.
Πυριγενής (πῠρῐ-γενής) 2 рожденный в огне или из огн€;
Διμήτωρ (δι-μήτωρ), -ορος adj. m имеющий двух матерей (эпитет ƒиониса) Eur., Diod.
Δίγονος (δί-γονος) ὁ дважды рождЄнный Anth.
Νυσήϊος, Νυσαῖος ὁ Ќисей, т.е. родом из Ќисы (Νῦσα).
Θυωνεύς ἡ {θύω} ‘ионей, ЂЌеистовыйї;
Ληναῖος ὁ Ћеней (бог винодели€, т.е. ¬акх-ƒионис) Diod., Anth.
Εὐάν ὁ Ёван, Ђблагойї (эпитет ¬акха, от εὖ Ч Ђдобро, благої) Eur., Plut.
Νυκτέλιος ὁ Ќиктелий (Ђночнойї), прославл€емый в ночных празднествах (эпитет ¬акха) Plut., Anth.
Liber, -eri m Ћибер, древнеиталийский бог, позднее прозвище ¬акха.
_______________________________
|
ћетки: ƒионис »акх √реци€ |
«≈¬— ЋјЅ–јЌƒ— »… |
ƒневник |
—.¬. ѕетров
«≈¬— ¬ќ»“≈Ћ№
Ћабранды Ч античный город в арии, исторической области в ћалой јзии. ƒревнейшие археологические находки обнаруженные на территории города Ч остатки керамики, относ€тс€ к середине VII века до н.э. —амое раннее, обнаруженное архитектурное сооружение датируетс€ VI веком до н.э. ѕо всей видимости, это фрагменты храма, располагавшегос€ здесь до постройки в IV веке до н.э. храма «евса Ћабрандского.
¬ 540-е годы до н.э. после того, как персидский царь ир II ¬еликий захватив город —арды и пленив цер€ реза, подчинил себе соседнее Ћидийское царство, земли арии попадают под власть »мперии јхеменидов.
¬о врем€ правлени€ ƒари€ I, наместник соседнего ћилета, јристагор, опаса€сь лишени€ власти за неудачную попытку овладеть островом Ќаксос, решает подн€ть восстание против центральной власти в ѕерсии. ≈му удаетс€ добитьс€ поддержки у малоазийских греческих городов, в результате чего восстание распространилось на Ёолию, арию, Ћикию и, даже, ипр. ¬ 497 году до н.э. недалеко от Ћабранд произошла битва между м€тежниками и персидскими силами, под руководством военачальника ƒавриса, з€т€ ƒари€ I. Ёто восстание не увенчалось успехом и власть персов в ћалой јзии была восстановлена.
____________________________
[1] Στράτιος 3 воинствующий, воинственный (эпитет «евса Her., јре€ Plut. и јфины Luc.)
¬ 385 году до н.э. царь јртаксеркс II назначил сатрапом арии местного правител€ √екатомна, который стал основателем династии √екатомнидов, состо€щей из его детей. »менно при √екатомнидах, последовательно правивших до прихода јлександра ћакедонского в 334 году до н.э., в Ћабрандах было построено большинство дошедших до нас строений.
√екатомн и его дети, главным образом, ћавсол (дл€ погребени€ которого был сооружен знаменитый галикарнасский мавзолей, одно из семи чудес света) и »дрей, удел€ли огромное внимание Ћабрандам. ќт ћиласа до св€тилища была проложена св€щенна€ дорога, фрагменты которой сохранились до наших дней. ѕо всей видимости, представители прав€щей династии одновременно €вл€лись и верховными жрецами св€тилища и право это было пожизненным и передавалось по наследству.
ѕосле большого пожара в IV веке св€тилище начинает приходить в упадок.
роме, упом€нутого выше √еродотом, —в€тилища «евса —трати€, в Ћабрандах поклон€лись также «евсу ќсого, в не совсем свойственном дл€ «евса про€влении.
‘еофраст, в сочинении Ђќ водахї, так же упоминает храм «евса-¬ладыки (Ζηνοποσειδῶν) в арии.² Ζηνοποσειδῶν Ч это греческое им€ божества, который в арии почиталс€ под именем ќсого (греч. Ὀσόγω, Ὀσογῶα). —амые ранние упоминани€ об этом божестве в письменных источниках относ€тс€ к IV веку до н.э. ¬ надпис€х «евс ќсого по€вл€етс€ не ранее 200г. до н.э. —охранились монеты с изображением этого божества; его атрибуты Ч трезубец, краб, орел. Ќа св€зь «евса ќсого с морской стихией указывает ѕавсаний.
____________________________
[2] Ζηνοποσειδῶν (Ζηνο-ποσειδῶν), dor. Ζᾱνοποτειδάν ὁ «евс ¬ладыка.
Ζήν, Ζηνός Ч формы написани€ имени «евса; этимологи€ имени Ποσειδῶν подробно разобрана в статье Ќевунс, Ќептун, ѕосейдон.
Ќе совсем пон€тно, почитались ли «евс ќсого и «евс —тратий как два разных божества или как единый бог в двух ипостас€х. Ќа некоторых монетах отличительные символы ќсого и —трати€ Ч соответственно, трезубец и лабрис Ч совмещались.
______________________________________________________________
 ћавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). ћиласа, ари€.
ћавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). ћиласа, ари€.
“етрадрахма (AR 14.72g).
Av: «евс ќсого с орлом и трезубцем;
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и скипетром; MA
______________________________________________________________
 —ептимий —евер (193-211). ћиласа, ари€.
—ептимий —евер (193-211). ћиласа, ари€.
Æ 25mm (5.93g).
Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; ΑΥ Κ Λ CΕΠT CΕΥΗΡΟC
Rv: внутри лаврового венка: лабрис, трезубец, ниже Ч краб; MYΛAC™ΩN
______________________________________________________________
 ‘иатира (Θυάτειρα), Ћиди€.
‘иатира (Θυάτειρα), Ћиди€.
Æ 15mm (2.59g), I в. н.э.
Av: бородата€ голова √еракла;
Rv: лабрис, отн€тый √ераклом у амазонки »пполиты; ΘYAT™IPHΩN
______________________________________________________________
 ≈вром (Εὔρωμος), ари€.
≈вром (Εὔρωμος), ари€.
Æ 17mm (3.00g), I в. до н.э.
Av: «евс Ћабрандский в тоге, с лабрисом и копьем;
Rv: лабрис; EYPΩMEΩN
______________________________________________________________
 лазомены (Κλαζομεναί), »они€.
лазомены (Κλαζομεναί), »они€.
“етрадрахма (AR 32mm, 16.79g), ок. 170-151 до н.э.
Av: голова «евса в лавровом венке;
Rv: амазонка »пполита в тунике, с копьем и лабрисом; ΔIOΣ ΣΩTHPOΣ EΠIΦANOYΣ / KΛAZO
______________________________________________________________
—лово Ђлабрисї впервые упоминаетс€ ѕлутархом в Ђ√реческих вопросахї.
____________________________
[3] Ἱππολύτη ἡ »пполита, царица амазонок, жена “есе€ Luc., Plut.
[4] Ὀμφάλη ἡ ќмфала, дочь лидийского цар€ »ардана, жена цар€ “мола; после его смерти Ч царица Ћидии Plut.
ѕо мнению современных исследователей, культ «евса в арии гораздо древнее, нежели это представл€лось ѕлутарху. Ћабрис был широко распространен в культуре догреческой минойской цивилизации. ѕри раскопках критских дворцов были обнаружены гигантские лабрисы, выше человеческого роста.
«евс Ћабрандский на рите также был весьма почитаем. √лавным местопребыванием «евса Ћабрандского считаетс€ лабиринт; ћинотавр Ч обитатель лабиринта Ч одна из ипостасей «евса ритского. ѕричем, вполне веро€тно, что культ «евса Ћабрандского в арию попал, именно, с рита, вместе с переселенцами.
” слова Ђлабиринтї нет однозначной этимологии, дежурна€ трактовка игнорирует его созвучие со словом Ђлабрисї и производит слово лабиринт (λαβύρινθος) от λαύρα (Ђулицаї, Ђпроходї) и ἐντός (Ђвнутриї).
’от€, справедливости ради, нужно отметить, что и верси€ о происхождении слова Ђлабиринтї именно и непосредственно от Ђлабрисаї Ч главного св€щенного предмета критского культа Ч так же весьма попул€рна:
Ќесмотр€ на то, что ученые до конца не определились на предмет этимологической близости слов Ђлабрисї и Ђлабиринтї, все же можно обратить внимание на вполне подход€щую семантику слова λάβρος и по отношению к быку (обитателю лабиринта), и по отношению к √ромовержцу, обладателю топора.
λάβρυς (-υος) ἡ секира, топор Plut. (слово карийско-лидийского происхождени€)
λάβρος
1) резкий, бешеный, порывистый (οὖρος Hom.; πνεῦμα Aesch.);
2) бурный, стремительный (κῦμα, ποταμός Hom.);
3) сильный, обильный (ὄμβρος Her.; καπνός Pind.);
4) бушующий (πόντος, πῦρ Eur.);
5) дикий, свирепый (ὄμμα Eur.);
6) дерзкий, злой (στόμα Soph.);
7) неистовый, м€тежный (στρατός Pind.);
8) огромный, громадный (λίθος Pind.; μάχαιρα Eur.);
9) страстный, неукротимый (ἐπιθυμία Arst.; ἔρως Anth.);
10) жадный, прожорливый (δράκοντος γένος Eur.);
11) неумеренный, безмерный.
’от€, исход€ из того, что культовые лабрисы на рите были довольно длинные, не исключено, что этимологи€ лабриса св€зана именно с длинной руко€тью (λαβή).⁵ ƒлинное древко св€зывает лабрис и с римским штандартом Ч лабарумом (labarum).
____________________________
[5] λαβή ἡ ручка, руко€ть, эфес.
«≈¬— ’–»—јќ–≈…
≈ще об одном интересном эпитете «евса, почитавшегос€ в арии, сообщает —трабон в Ђ√еографииї.
ѕоскольку —трабон говорит о Ђсв€тилище всех карийцевї, речь идет все о том же «евсе ¬оителе. Ёпитет ’рисаорей (Χρυσάορος), упом€нутый —трабоном, носили и другие греческие боги, он означает Ђнос€щий оружие сверкающее золотомї.⁶ јрес был вооружен Ђзолотым мечомї, јфина Ч Ђзолотым копьемї, јполлон и јртемида были обладател€ми Ђзолотого лука и стреламиї, эллинистический «евс обладал перуном, источником молний, который так же блистал золотом. ќтличительными атрибутами общекарийского «евса были топор и копье, видимо они и си€ли золотом в руках «евса ’рисаоре€ (Διός Χρυσαορέως). Ќа древнегреческих вазах изображени€ обоюдоострого топора, в руках «евса-громовержца, нередко сопровождаютс€ зигзагообразными лини€ми молний, что максимально сближает назначение этих двух зевсовых атрибутов Ч перуна и лабриса.
____________________________
[6] χρυσάορος (χρυσ-άορος) 2 с золотым мечом или оружием (Ἀπόλλων Hom., HH., Pind.; Δημήτηρ HH.; Ἄρτεμις Her.)
______________________________________________________________
 —тратонике€ (Στρατονίκεια), ари€.
—тратонике€ (Στρατονίκεια), ари€.
ћагистрат «опир (Ζώπυρος).
ƒрахма (AR 18mm, 3.69g), конец I в. до н.э.
Av: голова √екаты в лавровом венке, над головой полумес€ц; ZΩѕYPOΣ
Rv: «евс, со скипетром, верхом на коне; ΣTPA
______________________________________________________________
¬ римскую эпоху, на монетах —тратоникеи, «евс изображалс€ верхом на коне, со скипетром в руке. Ќеизвестно, существовала ли подобна€ культова€ стату€ «евса в —тратоникее в I-III веках, или подобный чекан Ч это дань римской традиции. Ќо гораздо больший интерес вызывают монеты, выпущенные в честь прин€ти€ √етой титула цезарь, на которых «евс Ћабрандский предстает в архаическом образе (хот€ и с отличающими его атрибутами Ч копьем и лабрисом). явл€етс€ ли этот образ реальным отображением архаической иконографии Ч также неизвестно. —амые ранние артефакты с изображением карийского «евса относ€тс€ к IV веку до н.э., т.е. времени правлени€ гекатомнидов. » иконографи€ его оставалась неизменной на прот€жении нескольких веков Ч «евс изображалс€ опирающимс€ на одну ногу в своем движении, он облачен в длинный хитон и гиматий, образующий на животе крупные горизонтальные складки; права€ рука, держаща€ топор слегка приподн€та, и как будто древком топора опираетс€ на плечо.
јрхаический (или архаизированный) образ «евса (на монетах √еты) выполнен в строгом соответствии древним канонам: стату€ задрапирована, симметрична, сто€ща€ фронтально с разведенными в стороны руками; на голове Ч модиус.
_______________________________

√ета (как цезарь 198-209). ћиласа, ари€. Æ 39mm (30.79g).
Av: бюст √еты; ѕќ C™ΠTIMIOC Γ™TAC
Rv: в тетрастильном храме архаическа€ культова€ стату€ «евса Ћабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛAC™ΩN
_______________________________

√ета (как цезарь 198-209). ћиласа, ари€. Æ 37mm (34.04g).
Av: бюст √еты; ѕќ C™ΠTIMIOC Γ™TAC KAI
Rv: в тетрастильном храме архаическа€ культова€ стату€ «евса Ћабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛAC™ΩN
_______________________________

√ета (как цезарь 198-209). ћиласа, ари€. Æ 35mm (26.68g).
Av: бюст √еты; ѕќ C™ΠTIMIOC Γ™TAC KAI
Rv: в тетрастильном храме архаическа€ культова€ стату€ «евса Ћабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛAC™ΩN
_______________________________

јдриан (117-138). ћиласа, ари€. “ридрахма (AR 30mm, 10.96g), ок. 128/9г.
Av: бюст јдриана; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем; COS III
_______________________________

јдриан (117-138). ћиласа, ари€. “ридрахма (AR 30mm, 10.49g), ок. 128/9г.
Av: бюст јдриана; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем; COS III
_______________________________

ћиласа (Μύλασα), ари€. “етрадрахма (AR 25mm, 13.46g), ок. 250-200 до н.э. ћагистрат »реней (Ειρηναίος).
Av: «евс Ћабрандский с двойным топором и скипетром;
Rv: «евс ќсого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / EIPHNAIOΣ
_______________________________

ћиласа (Μύλασα), ари€. ƒидрахма (AR 6.69g), III в. до н.э. ћагистрат ƒиодор.
Av: «евс Ћабрандский с двойным топором и скипетром;
Rv: «евс ќсого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / ΔIOΔΩPOΣ
_______________________________

√екатомн (Ἑκατόμνος), сатрап арии в 392-377 до н.э. ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 24mm, 14.78g).
Av: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем;
Rv: лев; EKATOMNΩ
_______________________________

ѕиксодар (Πιξώδαρoς), сатрап арии в 340-334 до н.э. ћиласа (Μύλασα), ари€. ƒидрахма (AR 6.71g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и скипетром; ѕIΞΩΔAPOY
_______________________________

»дрей (Ἱδριεύς), сын √екатомна, сатрап арии в 351-344 до н.э. ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 24mm, 14.72g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем; IΔPIEΩΣ
_______________________________
_
ћавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). ари€, ћала€ јзи€. ƒидрахма (AR 7.01g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандский стоит со скипетром в левой руке и двойным топором в правой; MAΥΣΣΩΛΛ[OY]
_______________________________

ћавсол (Μαύσωλος), старший сын √екатомна, сатрап арии в 377-353 до н.э. ћиласа (Μύλασα), ари€.
“етрадрахма (AR 23mm, 15.28g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем; MAYΣΣΩΛΛO
_______________________________

“енедос, ћизи€. “етрадрахма (AR 32mm, 16.27g), ок. 100-70 до н.э.
Av: двуликий образ «евса и √еры;
Rv: внутри лаврового венка Ч двойной топор, ниже виноградна€ гроздь и шапки ƒиоскуров; TENEΔIΩN
_______________________________

Ќерон (как цезарь, 50-54). ‘иатира, Ћиди€. Æ 17mm, ок. 50-54гг.
Av: бюст Ќерона; N™PΩN KΛAYΔI KAICAP C™BA
Rv: двойной топор; ΘYAT™IPHNΩN
_______________________________
«≈¬— ¬ќ»“≈Ћ№
Ћабранды Ч античный город в арии, исторической области в ћалой јзии. ƒревнейшие археологические находки обнаруженные на территории города Ч остатки керамики, относ€тс€ к середине VII века до н.э. —амое раннее, обнаруженное архитектурное сооружение датируетс€ VI веком до н.э. ѕо всей видимости, это фрагменты храма, располагавшегос€ здесь до постройки в IV веке до н.э. храма «евса Ћабрандского.
¬ 540-е годы до н.э. после того, как персидский царь ир II ¬еликий захватив город —арды и пленив цер€ реза, подчинил себе соседнее Ћидийское царство, земли арии попадают под власть »мперии јхеменидов.
¬о врем€ правлени€ ƒари€ I, наместник соседнего ћилета, јристагор, опаса€сь лишени€ власти за неудачную попытку овладеть островом Ќаксос, решает подн€ть восстание против центральной власти в ѕерсии. ≈му удаетс€ добитьс€ поддержки у малоазийских греческих городов, в результате чего восстание распространилось на Ёолию, арию, Ћикию и, даже, ипр. ¬ 497 году до н.э. недалеко от Ћабранд произошла битва между м€тежниками и персидскими силами, под руководством военачальника ƒавриса, з€т€ ƒари€ I. Ёто восстание не увенчалось успехом и власть персов в ћалой јзии была восстановлена.
Ђ∆естока€ битва персов с карийцами произошла у реки ћарси€ и длилась долго; наконец персы одолели своей численностью. ѕерсов пало 2000, а карийцев 10000. Ѕеглецы с пол€ битвы были вынуждены укрытьс€ в Ћабраинды, в св€тилище «евса —трати€,¹ в огромной св€щенной платановой роще (карийцы же, насколько известно, единственный народ, который приносит жертвы «евсу —тратию).ї
(√еродот. »стори€. нига V. “ерпсихора, 119)
____________________________
[1] Στράτιος 3 воинствующий, воинственный (эпитет «евса Her., јре€ Plut. и јфины Luc.)
¬ 385 году до н.э. царь јртаксеркс II назначил сатрапом арии местного правител€ √екатомна, который стал основателем династии √екатомнидов, состо€щей из его детей. »менно при √екатомнидах, последовательно правивших до прихода јлександра ћакедонского в 334 году до н.э., в Ћабрандах было построено большинство дошедших до нас строений.
√екатомн и его дети, главным образом, ћавсол (дл€ погребени€ которого был сооружен знаменитый галикарнасский мавзолей, одно из семи чудес света) и »дрей, удел€ли огромное внимание Ћабрандам. ќт ћиласа до св€тилища была проложена св€щенна€ дорога, фрагменты которой сохранились до наших дней. ѕо всей видимости, представители прав€щей династии одновременно €вл€лись и верховными жрецами св€тилища и право это было пожизненным и передавалось по наследству.
ѕосле большого пожара в IV веке св€тилище начинает приходить в упадок.
роме, упом€нутого выше √еродотом, —в€тилища «евса —трати€, в Ћабрандах поклон€лись также «евсу ќсого, в не совсем свойственном дл€ «евса про€влении.
Ђ” миласийцев есть два св€тилища «евса: одно Ч так называемого «евса ќсого; другое Ч «евса Ћабрандинского. ѕервое находитс€ в городе, а Ћабранды Ч селение вдали от города, на горе, вблизи прохода из јлабанд в ћиласы. ¬ Ћабрандах есть древний храм и дерев€нна€ стату€ «евса —трати€, почитаема€ окрестными жител€ми и миласийцами. ќт св€тилища до города идет мощена€ дорога длиной почти что 60 стадий, называема€ св€щенной; по ней движутс€ св€щенные праздничные процессии. ∆реческие должности всегда пожизненно занимают знатнейшие граждане. Ёти храмы принадлежат собственно городу, третий же храм Ч «евса арийского Ч €вл€етс€ общим св€тилищем всех карийцев; в нем имеют долю как брать€ лидийцы и мисийцы. –ассказывают, что в древности ћиласы были простым селением, родиной и местопребыванием карийских царей из рода √екатомна. √ород ближе всего к морю у ‘иска, который €вл€етс€ €корной сто€нкой дл€ миласийцев.ї
(—трабон. √еографи€, нига XIV. II:23)
‘еофраст, в сочинении Ђќ водахї, так же упоминает храм «евса-¬ладыки (Ζηνοποσειδῶν) в арии.² Ζηνοποσειδῶν Ч это греческое им€ божества, который в арии почиталс€ под именем ќсого (греч. Ὀσόγω, Ὀσογῶα). —амые ранние упоминани€ об этом божестве в письменных источниках относ€тс€ к IV веку до н.э. ¬ надпис€х «евс ќсого по€вл€етс€ не ранее 200г. до н.э. —охранились монеты с изображением этого божества; его атрибуты Ч трезубец, краб, орел. Ќа св€зь «евса ќсого с морской стихией указывает ѕавсаний.
Ђ„тобы преградить люд€м вход в этот храм, они не устроили никакого заграждени€ перед входом, но прот€нули только шерст€ную нить, может быть, счита€, что дл€ тех, которые тогда чтили богов и имели страх божий, будет достаточно и этого, а может быть потому, что в этой нити была кака€-либо особа€ сила. ѕо-видимому, и Ёпит, сын √иппофо€, не перескочил через эту нить и не подлез под нее, но, перерезав ее, вошел в св€тилище; тотчас же после такого нечестивого поступка он немедленно ослеп, так как волна воды ударила ему в глаза, и вскоре же его постигла кончина.
≈сть старинное сказание, что морска€ вода по€вл€етс€ в этом св€тилище. Ќечто подобное рассказывают и афин€не относительно морской воды на јкрополе, и из карийцев те, которые занимают ћиласы, рассказывают нечто такое же относительно храма своего бога, которого на своем местном €зыке они называют ќсогоа (Ὀσογῶα).ї
(ѕавсаний. ќписание Ёллады VIII. 10:3-4)
____________________________
[2] Ζηνοποσειδῶν (Ζηνο-ποσειδῶν), dor. Ζᾱνοποτειδάν ὁ «евс ¬ладыка.
Ζήν, Ζηνός Ч формы написани€ имени «евса; этимологи€ имени Ποσειδῶν подробно разобрана в статье Ќевунс, Ќептун, ѕосейдон.
Ќе совсем пон€тно, почитались ли «евс ќсого и «евс —тратий как два разных божества или как единый бог в двух ипостас€х. Ќа некоторых монетах отличительные символы ќсого и —трати€ Ч соответственно, трезубец и лабрис Ч совмещались.
______________________________________________________________
 ћавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). ћиласа, ари€.
ћавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 14.72g).
Av: «евс ќсого с орлом и трезубцем;
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и скипетром; MA
______________________________________________________________
 —ептимий —евер (193-211). ћиласа, ари€.
—ептимий —евер (193-211). ћиласа, ари€.Æ 25mm (5.93g).
Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; ΑΥ Κ Λ CΕΠT CΕΥΗΡΟC
Rv: внутри лаврового венка: лабрис, трезубец, ниже Ч краб; MYΛAC™ΩN
______________________________________________________________
 ‘иатира (Θυάτειρα), Ћиди€.
‘иатира (Θυάτειρα), Ћиди€.Æ 15mm (2.59g), I в. н.э.
Av: бородата€ голова √еракла;
Rv: лабрис, отн€тый √ераклом у амазонки »пполиты; ΘYAT™IPHΩN
______________________________________________________________
 ≈вром (Εὔρωμος), ари€.
≈вром (Εὔρωμος), ари€. Æ 17mm (3.00g), I в. до н.э.
Av: «евс Ћабрандский в тоге, с лабрисом и копьем;
Rv: лабрис; EYPΩMEΩN
______________________________________________________________
 лазомены (Κλαζομεναί), »они€.
лазомены (Κλαζομεναί), »они€.“етрадрахма (AR 32mm, 16.79g), ок. 170-151 до н.э.
Av: голова «евса в лавровом венке;
Rv: амазонка »пполита в тунике, с копьем и лабрисом; ΔIOΣ ΣΩTHPOΣ EΠIΦANOYΣ / KΛAZO
______________________________________________________________
—лово Ђлабрисї впервые упоминаетс€ ѕлутархом в Ђ√реческих вопросахї.
Ђѕочему в руке у «евса Ћабрадейского в арии не скипетр и не перун, а боевой топор?
ƒело в том, что √еракл, сразив »пполиту,³ захватил среди прочего ее вооружени€ боевой топор и подарил его ќмфале.⁴ ѕосле ќмфалы лидийские цари носили и почитали его нар€ду с другими св€щенными предметами, унаследованными от предшественников. “ак было до андавла. андавл же, ни во что его не став€, передал топор одному из товарищей; а когда √игес отложилс€ от андавла и пошел на него войной, из ћиласы в помощь √игесу пришел с войском јрселис, убил и андавла, и его товарища, и топор с остальной добычей привез в арию. » здесь, посв€ща€ статую «евсу, он вложил ему в руку боевой топор и назвал этого «евса Ћабрадейским, потому что боевой топор у лидийцев называетс€ Ђлабрисомї.ї
(ѕлутарх. ћоралии. √реческие вопросы 45)
____________________________
[3] Ἱππολύτη ἡ »пполита, царица амазонок, жена “есе€ Luc., Plut.
[4] Ὀμφάλη ἡ ќмфала, дочь лидийского цар€ »ардана, жена цар€ “мола; после его смерти Ч царица Ћидии Plut.
ѕо мнению современных исследователей, культ «евса в арии гораздо древнее, нежели это представл€лось ѕлутарху. Ћабрис был широко распространен в культуре догреческой минойской цивилизации. ѕри раскопках критских дворцов были обнаружены гигантские лабрисы, выше человеческого роста.

«евс Ћабрандский на рите также был весьма почитаем. √лавным местопребыванием «евса Ћабрандского считаетс€ лабиринт; ћинотавр Ч обитатель лабиринта Ч одна из ипостасей «евса ритского. ѕричем, вполне веро€тно, что культ «евса Ћабрандского в арию попал, именно, с рита, вместе с переселенцами.
Ђ»з множества рассказов о карийцах общеприн€тым считаетс€ тот, согласно которому карийцы были подвластны ћиносу (они назывались тогда лелегами) и жили на островах; затем, переселившись на материк, завладели большой частью побережь€ и внутренней области страны, отн€в ее у прежних владельцев, главным образом у лелегов и пеласгов.ї
(—трабон, XIV 2:27)
” слова Ђлабиринтї нет однозначной этимологии, дежурна€ трактовка игнорирует его созвучие со словом Ђлабрисї и производит слово лабиринт (λαβύρινθος) от λαύρα (Ђулицаї, Ђпроходї) и ἐντός (Ђвнутриї).
’от€, справедливости ради, нужно отметить, что и верси€ о происхождении слова Ђлабиринтї именно и непосредственно от Ђлабрисаї Ч главного св€щенного предмета критского культа Ч так же весьма попул€рна:
ЕЂдворец-св€тилище, ƒом ƒвойного топора Ч символа св€щенного обр€да, который там совершалс€. √реческое название его Ч Ћабиринт Ч образовано от слова лидийского происхождени€ лабрис. —амо слово Ћабиринт (λαβύρινθος) имеет в своем составе характерный суффикс -νθ, широко засвидетельствованный дл€ топонимов микенской эпохи (типа оринф, “иринф и т.п.). Ћингвисты склонны относить его к догреческому (Ђэгейскомуї) субстрату.ї
(Ѕорухович ¬.√. «евс ћинойский)
Ќесмотр€ на то, что ученые до конца не определились на предмет этимологической близости слов Ђлабрисї и Ђлабиринтї, все же можно обратить внимание на вполне подход€щую семантику слова λάβρος и по отношению к быку (обитателю лабиринта), и по отношению к √ромовержцу, обладателю топора.
λάβρυς (-υος) ἡ секира, топор Plut. (слово карийско-лидийского происхождени€)

λάβρος
1) резкий, бешеный, порывистый (οὖρος Hom.; πνεῦμα Aesch.);
2) бурный, стремительный (κῦμα, ποταμός Hom.);
3) сильный, обильный (ὄμβρος Her.; καπνός Pind.);
4) бушующий (πόντος, πῦρ Eur.);
5) дикий, свирепый (ὄμμα Eur.);
6) дерзкий, злой (στόμα Soph.);
7) неистовый, м€тежный (στρατός Pind.);
8) огромный, громадный (λίθος Pind.; μάχαιρα Eur.);
9) страстный, неукротимый (ἐπιθυμία Arst.; ἔρως Anth.);
10) жадный, прожорливый (δράκοντος γένος Eur.);
11) неумеренный, безмерный.
’от€, исход€ из того, что культовые лабрисы на рите были довольно длинные, не исключено, что этимологи€ лабриса св€зана именно с длинной руко€тью (λαβή).⁵ ƒлинное древко св€зывает лабрис и с римским штандартом Ч лабарумом (labarum).
____________________________
[5] λαβή ἡ ручка, руко€ть, эфес.
«≈¬— ’–»—јќ–≈…
≈ще об одном интересном эпитете «евса, почитавшегос€ в арии, сообщает —трабон в Ђ√еографииї.
Ђ„то касаетс€ —тратоникеи, то это поселение македон€н; и цари также украсили ее роскошными сооружени€ми. ¬ области стратоникейцев есть два св€тилища: знаменитое св€тилище √екаты в Ћагинах (Λάγινα), привлекающее толпы народа на ежегодные празднества; поблизости от города находитс€ храм «евса ’рисаоре€ Ч общее св€тилище всех карийцев, куда они собираютс€ дл€ жертвоприношений и совещаний об общих делах.ї (—трабон. √еографи€ XIV, 2:25)
ѕоскольку —трабон говорит о Ђсв€тилище всех карийцевї, речь идет все о том же «евсе ¬оителе. Ёпитет ’рисаорей (Χρυσάορος), упом€нутый —трабоном, носили и другие греческие боги, он означает Ђнос€щий оружие сверкающее золотомї.⁶ јрес был вооружен Ђзолотым мечомї, јфина Ч Ђзолотым копьемї, јполлон и јртемида были обладател€ми Ђзолотого лука и стреламиї, эллинистический «евс обладал перуном, источником молний, который так же блистал золотом. ќтличительными атрибутами общекарийского «евса были топор и копье, видимо они и си€ли золотом в руках «евса ’рисаоре€ (Διός Χρυσαορέως). Ќа древнегреческих вазах изображени€ обоюдоострого топора, в руках «евса-громовержца, нередко сопровождаютс€ зигзагообразными лини€ми молний, что максимально сближает назначение этих двух зевсовых атрибутов Ч перуна и лабриса.
____________________________
[6] χρυσάορος (χρυσ-άορος) 2 с золотым мечом или оружием (Ἀπόλλων Hom., HH., Pind.; Δημήτηρ HH.; Ἄρτεμις Her.)
______________________________________________________________
 —тратонике€ (Στρατονίκεια), ари€.
—тратонике€ (Στρατονίκεια), ари€.ћагистрат «опир (Ζώπυρος).
ƒрахма (AR 18mm, 3.69g), конец I в. до н.э.
Av: голова √екаты в лавровом венке, над головой полумес€ц; ZΩѕYPOΣ
Rv: «евс, со скипетром, верхом на коне; ΣTPA
______________________________________________________________
¬ римскую эпоху, на монетах —тратоникеи, «евс изображалс€ верхом на коне, со скипетром в руке. Ќеизвестно, существовала ли подобна€ культова€ стату€ «евса в —тратоникее в I-III веках, или подобный чекан Ч это дань римской традиции. Ќо гораздо больший интерес вызывают монеты, выпущенные в честь прин€ти€ √етой титула цезарь, на которых «евс Ћабрандский предстает в архаическом образе (хот€ и с отличающими его атрибутами Ч копьем и лабрисом). явл€етс€ ли этот образ реальным отображением архаической иконографии Ч также неизвестно. —амые ранние артефакты с изображением карийского «евса относ€тс€ к IV веку до н.э., т.е. времени правлени€ гекатомнидов. » иконографи€ его оставалась неизменной на прот€жении нескольких веков Ч «евс изображалс€ опирающимс€ на одну ногу в своем движении, он облачен в длинный хитон и гиматий, образующий на животе крупные горизонтальные складки; права€ рука, держаща€ топор слегка приподн€та, и как будто древком топора опираетс€ на плечо.
јрхаический (или архаизированный) образ «евса (на монетах √еты) выполнен в строгом соответствии древним канонам: стату€ задрапирована, симметрична, сто€ща€ фронтально с разведенными в стороны руками; на голове Ч модиус.
_______________________________

√ета (как цезарь 198-209). ћиласа, ари€. Æ 39mm (30.79g).
Av: бюст √еты; ѕќ C™ΠTIMIOC Γ™TAC
Rv: в тетрастильном храме архаическа€ культова€ стату€ «евса Ћабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛAC™ΩN
_______________________________

√ета (как цезарь 198-209). ћиласа, ари€. Æ 37mm (34.04g).
Av: бюст √еты; ѕќ C™ΠTIMIOC Γ™TAC KAI
Rv: в тетрастильном храме архаическа€ культова€ стату€ «евса Ћабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛAC™ΩN
_______________________________

√ета (как цезарь 198-209). ћиласа, ари€. Æ 35mm (26.68g).
Av: бюст √еты; ѕќ C™ΠTIMIOC Γ™TAC KAI
Rv: в тетрастильном храме архаическа€ культова€ стату€ «евса Ћабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛAC™ΩN
_______________________________

јдриан (117-138). ћиласа, ари€. “ридрахма (AR 30mm, 10.96g), ок. 128/9г.
Av: бюст јдриана; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем; COS III
_______________________________

јдриан (117-138). ћиласа, ари€. “ридрахма (AR 30mm, 10.49g), ок. 128/9г.
Av: бюст јдриана; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем; COS III
_______________________________

ћиласа (Μύλασα), ари€. “етрадрахма (AR 25mm, 13.46g), ок. 250-200 до н.э. ћагистрат »реней (Ειρηναίος).
Av: «евс Ћабрандский с двойным топором и скипетром;
Rv: «евс ќсого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / EIPHNAIOΣ
_______________________________

ћиласа (Μύλασα), ари€. ƒидрахма (AR 6.69g), III в. до н.э. ћагистрат ƒиодор.
Av: «евс Ћабрандский с двойным топором и скипетром;
Rv: «евс ќсого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / ΔIOΔΩPOΣ
_______________________________

√екатомн (Ἑκατόμνος), сатрап арии в 392-377 до н.э. ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 24mm, 14.78g).
Av: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем;
Rv: лев; EKATOMNΩ
_______________________________

ѕиксодар (Πιξώδαρoς), сатрап арии в 340-334 до н.э. ћиласа (Μύλασα), ари€. ƒидрахма (AR 6.71g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и скипетром; ѕIΞΩΔAPOY
_______________________________

»дрей (Ἱδριεύς), сын √екатомна, сатрап арии в 351-344 до н.э. ћиласа, ари€. “етрадрахма (AR 24mm, 14.72g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем; IΔPIEΩΣ
_______________________________
_

ћавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). ари€, ћала€ јзи€. ƒидрахма (AR 7.01g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандский стоит со скипетром в левой руке и двойным топором в правой; MAΥΣΣΩΛΛ[OY]
_______________________________

ћавсол (Μαύσωλος), старший сын √екатомна, сатрап арии в 377-353 до н.э. ћиласа (Μύλασα), ари€.
“етрадрахма (AR 23mm, 15.28g).
Av: голова јполлона в лавровом венке;
Rv: «евс Ћабрандский с двойным топором и копьем; MAYΣΣΩΛΛO
_______________________________

“енедос, ћизи€. “етрадрахма (AR 32mm, 16.27g), ок. 100-70 до н.э.
Av: двуликий образ «евса и √еры;
Rv: внутри лаврового венка Ч двойной топор, ниже виноградна€ гроздь и шапки ƒиоскуров; TENEΔIΩN
_______________________________

Ќерон (как цезарь, 50-54). ‘иатира, Ћиди€. Æ 17mm, ок. 50-54гг.
Av: бюст Ќерона; N™PΩN KΛAYΔI KAICAP C™BA
Rv: двойной топор; ΘYAT™IPHNΩN
_______________________________
|
ћетки: «евс Ћабрис Ћабиринт Ћабранды √реци€ Ќумизматика |
–≈Ћ»√»я “ј»Ќ—“¬ |
ƒневник |
«елинский ‘аддей ‘ранцевич
–≈Ћ»√»я ЁЋЋ»Ќ»«ћј. √лава II
¬ смущающей многочисленности имен и культов древнегреческого политеизма взору освоившегос€ с ней наблюдател€ представ€тс€ два довольно четко отделенных друг от друга течени€. ѕервое Ч это течение €вное, участие в котором не было обусловлено ничем, кроме разве принадлежностью чествующего к соответственной гражданской общине; сюда мы относим большинство государственных культов √реции Ч и «евса ќлимпийского, и ѕаллады јфинской, и јполлона ƒельфийского. Ќо второе Ч это течение тайное; условием участи€ в нем было посв€щение, посв€щение же налагало на того, кто был его удостоен, об€зательство Ч никому из непосв€щенных не выдавать тех св€щеннодействий, участником и свидетелем которых он сподобилс€ стать; сюда относитс€ тоже р€д культов, хот€ и значительно меньший, но особенно два: культ ƒеметры Ёлевсинской и культ ƒиониса, развитый его пророком ќрфеем Ч другими словами, элевсинские и орфические таинства.
“ам Ч «евс и его обитающа€ в вечном свете олимпийска€ семь€; здесь Ч «емл€ и мрак, полный жутких тайнЕ жутких, да, но в то же врем€ и утешительных: ведь это же мать-«емл€. ћы живем под всевид€щими очами «евса и прочих олимпийцев; но стоит нашему телу покрытьс€ могильной перстью, и мы переходим под власть иных, хтонических богов. Ёта двойственность может нас озадачить Ч и, действительно, христианство ее отвергло. Ќо в сознании эллина она коренилась твердо Ч до поры до времени.
ќт «емли ƒеметра, от «емли и ƒионис; оба€ние их учени€ заключалось именно в том, что они раскрывали перед смертным покров подземных тайн и не только удовлетвор€ли его любознательность, дава€ ему определенный ответ на мучительный вопрос, что с ним будет после смерти, но и учили его обеспечить себе лучшую участь на том свете. ¬ те отдаленные времена, когда и сами боги еще не сознавались как стражи нравственности, и услови€ этой лучшей участи были скорее сакральные, чем нравственные, т.е. скорее сводились к исполнению обр€дов посв€щени€, чем к справедливой жизни. ћорализаци€ таинств шла вровень с морализацией религии вообще; ко времени расцвета последней она также и в области таинств была совершившимс€ фактом.
ќба€ние их вследствие этого росло и росло, но все же неодинаковым образом. ѕричиной разницы было то, что элевсинские таинства были прикреплены к определенной общине, к аттическому Ёлевсину, и имели здесь свой административный центр в виде жреческой коллегии Ёвмолпидов, между тем как орфические, распростран€емые через странствующих жрецов и пророков, были рассе€ны по всей Ёлладе. Ќам теперь трудно решить вопрос, что было выгоднее. Ѕез сомнени€, орфизму легче было находить себе поклонников, не только среди простого народа, но и среди поэтов и мыслителей, с ѕиндаром и ѕлатоном во главе; но чистоту и определенность учени€ легче было сохранить при наличности центральной коллегии, руководившей действи€ми своих эмиссаров, благодар€ своему авторитету, основанному на преемственности полученного некогда от самой ƒеметры откровени€.
»ме€ свой прочный центр в Ёлевсине, религи€ ƒеметры представл€ет нам две особенности, важные дл€ ее дальнейшего развити€. ѕерва€ Ч это та легкость, с которой она могла принимать в себ€ культы других богов и в известной мере амальгамироватьс€ с ними; втора€ Ч это энерги€, с которой она, путем основани€ подворий, распростран€лась по прочему греческому миру. ѕерва€ обусловливала вторую Ч в этом состоит характерна€ черта, отличающа€ терпимый эллинский прозелитизм от нетерпимого иудейского.
ƒревнейшую, достижимую дл€ нашего знани€, ступень элевсинского культа представл€ет дл€ нас сохраненный в ћосковской рукописи √омеровский гимн ƒеметре; согласно ему, содержание св€щенной драмы будет следующее.
— разрешени€ «евса его брат јид похищает ору, дочь ƒеметры, в то врем€ как она играла с девами-океанидами на цветистом лугу. —одействовала похищению сама «емл€, произвед€ чудесный нарцисс; ора его срывает и этим отдает себ€ во власть похитител€. Ќикто не слышит ее отча€нного крика, кроме Ђнежнодушнойї √екаты и √ели€. Ќо когда она, уже увлекаема€ в глубь земли, крикнула вторично, ее услышала и мать. ќна бросилась ее искать; дев€ть дней она ее искала, не зна€ ни пищи, ни сна; на дес€тый с ней встретилась √еката и рассказала, что могла Ч что кто-то похитил ору, но кто именно, этого и она не знает. — ней вместе ƒеметра отправилась к √елию и от него, всевид€щего бога, узнала всю правду.
–азгневавшись на «евса, она отказалась от общени€ с олимпийскими богами и, обратившись в старуху, села у ƒевичьей криницы в Ёлевсине близ дворца еле€. “ам ее нашли четыре дочери еле€; им она назвалась ƒотой крит€нкой и рассказала, что она, будучи похищена морскими разбойниками, бежала от них. ќни называют ей главных вельмож города “риптолема, ƒиокла, ѕоликсена, Ёвмолпа, ƒолиха и самого еле€, и предлагают ей поступить н€ней к их матери ћетанире, чтобы вын€нчить их позднорожденного братца ƒемофонта. ƒеметра последовала за ними, но и в доме ћетаниры продолжала горевать и поститьс€, пока служанка ямба своими шутками не заставила ее улыбнутьс€. своему питомцу она прив€залась так, что пожелала сделать его бессмертным; с этой целью она ночью, тайно от родителей, держала его в огне, а днем намащала амброзией. Ќо однажды ћетанира подсмотрела ее ночные чары и вскрикнула, дума€, что чужа€ хочет извести ее сына; разгневалась богин€, дала себ€ узнать и повелела, чтобы граждане ей выстроили храм на холме своего города, а св€щеннодействи€ она укажет им сама.
≈ще год прошел, т€желый дл€ смертных, так как ƒеметра поразила бесплодием землю; тогда «евс послал за разгневанной »риду и затем всех прочих богов, но она упорно отказывалась вернутьс€ на ќлимп. ѕришлось ему покоритьс€: он отправил к јиду √ермеса с приказанием отпустить ору к матери. јид повиновалс€, но дал уход€щей отведать сладкого зерна гранатового €блока, чем лишил ее возможности совсем его покинуть. ћать с дочерью встретились на –арийской равнине, близ Ёлевсина; ора рассказала про свое похищение, называ€ поименно своих товарок-ќкеанид, но вместе с ними и обеих девственных богинь ќлимпа, ѕалладу и јртемиду. разговаривающим подошла, по поручению «евса, его и ƒеметрина мать –е€ и пригласила их на ќлимп, сказав, что по определению «евса, ора будет отныне проводить только треть года с мужем, остальные же две трети Ч с матерью. Ётот раз ƒеметра послушалась, но прежде, чем покинуть Ёлевсин, она вернула земле плодородие и, во исполнение своего обещани€, учредила в Ёлевсине свои таинства.
онча€ свой гимн, певец называет, кроме Ёлевсина, еще два других центра мистического культа ƒеметры; это Ч Ђокруженный моремї ѕарос и Ђскалистыйї јнтрон. ќ втором (в ‘ессалии) ничего не известно; о ѕаросе мы некоторые сведени€ имеем, но их здесь приводить незачем. »нтереснее то, что певец умалчивает об јфинах: видно, что те две филиали возникли до соединени€ Ёлевсина с јфинами и превращени€ старинного элевсинского культа в общеафинский.
огда же это состо€лось? ѕо легенде, еще при царе ‘есее, поколением раньше “ро€нской войны, т.е., по позднейшим вычислени€м, около 1200 до н.э.; по предположению некоторых новейших ученых, не ранее VII в. до н.э. ¬идимо, истина где-то посередине, но это не важно. ¬ажно следующее.
ѕрин€тие элевсинского культа в число афинских должно было иметь последствием, во-первых, постройку элевсинским богин€м подворь€ в јфинах; им стал ЂЁлевсинийї у подножь€ јкропол€. ¬о-вторых, обогащение обр€дности самого культа. онечно, элевсинское €дро должно было остатьс€ неприкосновенным; но ничто не мешало учредить специально дл€ афинских мистов особые церемонии в придачу к элевсинским. “ак были учреждены ћалые мистерии, весенний праздник, как подготовление к великому осеннему; но и осенний требовал увеличени€ своей обр€дности, по крайней мере, одним приращением, вызванным самой сутью дела Ч торжественным шествием посв€щенных из јфин в отсто€щий приблизительно на 20 верст Ёлевсин. ј это шествие повело к чрезвычайно важному обогащению самой элевсинской религии.
–адость, естественно охватывающа€ паломников по мере приближени€ к месту благодати, находила себе выражение в ликующих возгласах и песн€х, в так называемой ἴακχος,¹ Ђсопровождавшейї их на всем их пути от афинского до элевсинского ефиса. ќна была божественной Ч мало того: она была божеством, Ч юным, ласковым, Ђсопровождающимї богом »акхом (Ἴακχος).² » вот этот созданный религиозным чувством паломнической радости бог »акх облекаетс€ в плоть и кровь: ему тоже в јфинах строитс€ капище, Ἰακχεῖον; его кумир, несомый на руках афинских эфебов, Ђсопровождаетї процессию в Ёлевсин и там принимаетс€ кем-то Ч в самом элевсинском празднике этот не предусмотренный ƒеметрою гость участвовать не мог.
Ќо кто же был он сам, этот ласковый вождь паломников? Ч бог юный, радостный, любитель пл€сок, то и дело прерывавших торжественное шествие Ч а тут еще и созвучие: Ἴακχος, Βάκχος. —омнени€ нет: он тождествен с одним из величайших богов греческого ќлимпа, с ƒионисом-¬акхом. Ќо если так, то этот юный бог не мог оставатьс€ простым демоном частичного св€щеннодействи€, подобно какой-нибудь ямбе: он требовал себе достойного места, р€дом с четой великих богинь, как сын Ч да, как сын старшей и как брат младшей из них. Ёлевсинского культа это новшество, повтор€ю, не затронуло; но в јфинах троица, состо€ща€ из ƒеметры, оры-ѕерсефоны и »акха-ƒиониса, была признана.
_______________________________
[1] ἴακχος ὁ гимн в честь »акха Her.
[2] Ἴακχος ὁ »акх, культово-мистическое им€ ¬акха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. Ч нести в торжественном шествии изображение »акха).
ќ важности этого приобщени€ ƒиониса к Ёлевсинской чете мы можем только догадыватьс€: учение ведь было тайным. Ќо обе мистические религии были родственны между собою, обе давали ответ на вопрос о судьбе душ на том свете и учили людей обеспечивать себе Ђлучшую участьї после смерти. Ќе было бы ничего удивительного, если бы элевсинское учение о загробном мире прин€ло в себ€ некоторые дионисийские, т.е. орфические черты, и равным образом, если бы шумные дионисические оргии или строгие предписани€ Ђорфической жизниї повли€ли на элевсинскую обр€дность.
ѕоследствием возведени€ элевсинского культа в афинский были, как мы видели, во-первых, постройка афинского подворь€ в виде ЂЁлевсини€ї, во-вторых, обогащение элевсинской обр€дности учреждением ћалых мистерий и св€щенной процессии с ее »акхом-ƒионисом; третьим последствием должна была стать обща€ администраци€ таинств. ƒл€ нее Ёлевсин дал свой первенствующий со времени объединени€ род Ёвмолпидов: из него во все времена ставились как главный иерофант, так и обе Ђиерофантидыї обеих богинь. Ќо и јфины дорожили тем, чтобы быть представленными если не на первом месте, за отсутствием у них преемственности дл€ исход€щего от самой ƒеметры откровени€, то хоть на втором. ќстановились на роде ериков (т.е. глашатаев), производивших себ€ от √ермеса и дочери древнейшего афинского цар€ екропа; им была передана, не счита€ других, менее важных жречеств, втора€ по достоинству после иерофанта сакральна€ должность дадуха (δᾳδοῦχος, Ђфакелоносецї). Ѕлагодар€ этому привлечению ериков, и их родовой бог √ермес был поставлен в близкие отношени€ к элевсинским божествам; правда, в самом Ёлевсине эти отношени€ остались довольно внешними Ч нам известно только, что ему там в дни великого праздника приносили в жертву козу.
Ќо кроме рода ериков еще один аттический род был приобщен к элевсинским св€щеннодействи€м, а именно к дадухии, хот€ подробности тут представл€ютс€ спорными; это были Ћикомиды, славный род, долженствовавший со временем дать јфинам и Ёлладе великого ‘емистокла. »х родина Ч аттическое село ‘ли€ Ч была богата храмами и алтар€ми; но все другие культы затмевал культ ¬еликой Ѕогини, под которой разумели «емлю Ч мистический культ, непосредственно родственный элевсинскому культу ¬еликих Ѕогинь. ќн и был родовым культом Ћикомидов; а при его наличности их привлечение с афинской стороны также и к администрации элевсинского культа вполне естественно.
¬ последние дни героической борьбы мессенцев со спартанцами за свою независимость прорицатель ‘еокл, узнав по известным приметам, что их гибель неминуема, счел за лучшее открыть божью волю также и народному вождю јристомену. ƒело в том, что у последнего имелс€ талисман, Ђуничтожение которого навеки похоронило бы ћессению, между тем как его сохранение, согласно оракулу ѕандионова сына Ћика (родоначальника Ћикомидов, замечу между скобок), было залогом ее возрождени€ в далеком будущемї. јристомен вн€л голосу прорицател€: прокравшись на вершину »томы, родной горы мессенцев, бывшей тогда уже во власти врагов, он зарыл талисман, помолившись «евсу »томату и прочим богам, чтобы они сохранили доверенный им клад и не дозволили спартанцам уничтожить единственную надежду мессенцев на освобождение.
Ёто случилось около середины седьмого века до н.э. ¬скоре затем последний оплот мессенцев пал; наступили дл€ ее жителей три столети€ порабощени€. Ќо вот, около середины четвертого века до н.э., и звезда спартанцев померкла, к мессенцам €вилс€ освободитель в лице Ёпаминонда. Ѕыла основана нова€ столица освобожденной страны, ћессена; а вождю, которому было поручено Ёпаминондом восстановление мессенского государства Ч это был Ёпитель, родом аргосец, Ч €вилс€ во сне незнакомый муж, предложивший ему отправитьс€ на »тому и, найд€ растущие р€дом тис и мирт, разрыть землю между ними. Ёпитель повиновалс€ и принес Ёпаминонду найденную на указанном месте старинную гидрию; вскрыв ее, они нашли в ней записанный на олов€нных дощечках устав таинств ¬еликих Ѕогинь. Ёто и был талисман јристомена.
ƒревнейшей столицей ћессении до ее порабощени€ была јндани€; здесь, значит, и следовало учредить возрожденные таинства, причем можно было поставить этот оскудевший городок в такие же отношени€ к новой столице ћессене, в каких Ёлевсин находилс€ к јфинам. —амо же возобновление таинств надлежало поручить сведущему человеку Ч конечно, из жреческой коллегии элевсинского культа. “акового нашли в лице некоего ћефапа, родом Ћикомида (оп€ть, прошу заметить, Ћикомида). Ёто была интересна€ во многих отношени€х личность, насто€щий апостол мистических культов. ак Ћикомид, он был руководителем своего родного культа ¬еликой богини-«емли; но в то же врем€ он был также чем-то вроде дадуха в элевсинских таинствах. ак опытный в мистических культах богослов, он был приглашен фиванцами в эпоху Ёпаминонда руководить реформой их культа абиров в св€зи с перестройкой посв€щенного этим божествам загородного храма.
Ќесколько слов об этом культе, о котором у нас до сих пор не было речи. ќснованный некогда финикийскими пловцами на острове Ћемносе, он перекинулс€ на соседние острова и нашел со временем свой центр на —амофракии; все же, во врем€ греческой независимости эти самофракийские мистерии влачили довольно темное существование, и только после јлександра ¬еликого расцвели, зан€в место р€дом с элевсинскими и орфическими таинствами. √реци€ их чуждалась, очевидно, ввиду их семитического происхождени€, о котором свидетельствовало и им€ почитаемых в них богов (Kabirim Ч Ђ¬еликиеї боги); прин€ли их, быть может, по той же причине ‘ивы, приписывающие свое основание финикийскому выходцу адму. «десь еще в VI в. был основан храм абиров, тот самый, перестройка которого в IV в. дала повод к миссии ћефапа.
¬осточна€ неопределенность абиров, в св€зи с естественной потребностью их почитателей сблизить их с религией окружающего эллинского мира, повела к отождествлению ¬еликих богов с теми или другими образами греческого ќлимпа, причем они могли, в силу той же неопределенности, произвольно мен€ть и свое число, и свой пол. ѕервоначально их было, кажетс€, двое, Ђ абирї и его Ђсынї Ч «евс и ƒионис, значит: удобный предлог дл€ внесени€ в кабирические таинства элементов дионисиазма и орфизма. ѕод вли€нием этой мистической религии чета превращаетс€ в троицу, два брата абира убивают третьего, причем его смерть и воскресение образуют св€щенную легенду культа, параллельную легенде о смерти и воскрешении первозданного ƒиониса. Ќо в силу другой метаморфозы, первоначальна€ чета, приобщив к себе два женских божества, становитс€ четверицей; в ней узнают элевсинскую троицу Ч ƒеметру, јида, ѕерсефону Ч с прибавлением к ней родоначальника ериков, √ермеса, что указывает на афинское вли€ние. “ак, собира€ в себе лучи и дионисических, и элевсинских таинств, самофракийские станов€тс€ всеобъемлющей мистической религией, готов€сь этим к своей вселенской роли при наследниках основател€ вселенского эллинизма.
‘иванский росток этой религии и был поручен заботам элевсинского апостола, Ћикомида ћефапа. „астности его де€тельности уже от его современников были скрыты непроницаемой завесой. Ќо вот возвращаетс€ свету дн€ талисман јристомена; порабощенные до тех пор мессенцы вместе со свободой обретают вновь и свою национальную св€тыню. ѕон€тно, что об ее восстановлении забот€тс€ те же фиванцы, которые своими победами им и свободу возвратили; пон€тно, что они поручают это дело тому самому апостолу элевсинской ƒеметры, которому они уже были об€заны упор€дочением своего кабирического св€тилища Ч ћефапу. » вот ћефап отправл€етс€ в освобожденную страну: он принимает Ч будем продолжать легенду, перелива€ ее в историю Ч от аргосца Ёпител€ найденный им талисман јристомена и на основании его, а также и своего прочего св€тительского знани€ и опыта, учреждает в јндании мистический культ элевсинских богинь.
ѕоручение было из самых почетных, и гордость апостола законна. ќ своей де€тельности он сам оставил потомкам свидетельство в той надписи, которую он велел вырезать на пьедестале своей статуи, посв€щенной им в палатку Ћикомидов в јфинах:
√ермес здесь назван нар€ду с ƒеметрой и орой: это нас не удивл€ет, родовой бог афинских ериков не мог отсутствовать в культе, учрежденном афинским Ћикомидом. ќ других его особенност€х нас оповещает знаменита€, найденна€ в середине прошлого столети€ анданийска€ мистическа€ надпись, состо€ща€ из 200 без малого строк.
то ныне стал бы подходить к ней со св€щенным трепетом, наде€сь найти в ней сам талисман јристомена или уже, во вс€ком случае, изложение самой сути религии таинств, того бы постигло горькое разочарование: в ней говоритс€ исключительно о внешност€х культа и его благочинии, и при этом чаще упоминаютс€ штрафы и даже телесные наказани€ его нарушител€м; но если присмотретьс€ ближе, то и из нее можно извлечь немало дл€ нас интересного. ¬ызвана она была, прежде всего, превращением самого культа из родового в государственный, состо€вшимс€ в начале I в. до н.э. Ч до тех пор, значит, т.е. в течение двух с половиной веков, его ведал определенный род, соответствующий элевсинским Ёвмолпидам Ч быть может, род ресфонтидов, потомков древних мессенских царей. Ќо вот последний иерофант из этого рода, ћнасистрат Ч по собственному ли почину, или по желанию народа Ч отдает свой св€тительский сан в распор€жение государства, а вместе с ним и Ђковчег и книгиї Е по-видимому, те самые, в которых легенда видела талисман јристомена. Ёта передача вызвала и р€д других реформ, закрепленных в нашей надписи.
Ѕожества анданийских мистерий перечисл€ютс€ в следующем, хот€ и не очень строго соблюдаемом, пор€дке. Ќа первом месте стоит, как это и пон€тно, ƒеметра; на втором Ч √ермес, в угоду, как мы видели, јфинам и их ерикам; на третьем Ч ¬еликие боги, т.е. абиры Ч мы узнаем соглашательскую де€тельность ћефапа; на четвертом Ч јполлон арнейский,³ в ограде которого и происходил праздник Ч это дл€ нас нечто новое, но отнюдь не удивительное. јполлон арнейский (прозвище темное) был национальным богом спартанцев, иго которых лежало на ћессении в течение р€да столетий; теперь иго было разбито, но јполлон оставалс€ јполлоном, и его пришлось поставить в св€зь с возобновленным национальным культом возрожденной ћессении Ч интересный образчик греческой религиозности. Ќаконец, на п€том месте стоит богин€ о страшном имени, робко нарекаема€ в надписи описательным обозначением јгна (Ἁγνή);⁴ это, как мы знаем из других свидетельств, сама царица подземных глубин, ѕерсефона, она же и ора (Κόρη, дева). ”дивл€ет нас отсутствие ее супруга јида, неустранимого участника св€щенной драмы.
_______________________________
[3] Καρνεῖος, дор. Καρνήϊος ὁ
1) арнейский (эпитет јполлона у дорических племен ѕелопоннесса) Pind., Polyb.
2) арней (лакедемонский мес€ц, соотв. атт. Μεταγειτνιών, т.е. августу-сент€брю, в течение которого совершались дев€тидневные празднества в честь јполлона арнейского) Thuc., Eur., Plut.
[4] ἁγνεία ἡ
1) чистота, непорочность (λόγων ἔργων τε Soph.; ἱερῶν Plat.);
2) очистительный обр€д, очищение Isocr., Plut..
ак бы то ни было, но круг чествуемых божеств роковым образом расшир€етс€ при каждом новом переходе: афинский культ был шире элевсинского, анданийский стал шире афинского. ћестные особенности стираютс€ в угоду общей религии таинств, конечной цели развити€ мистического культа.
—в€щенна€ драма предполагаетс€ и здесь: упоминаетс€ Ђтеатрї, а также и Ђте, которым надлежит приспособитьс€ к представлению богиньї: нам при этом вспоминаетс€ и Ђпуть ƒеметры и орыї, о котором говоритс€ в надписи ћефапа.
«десь мы, как и везде, находимс€ в досадной зависимости от источников: св€зного изложени€ элевсинской религии нам не сохранилось, наши сведени€ о местах и обр€дах случайны и отрывочны. —в€зь с Ёлевсином иногда €сна, иногда более или менее затемнена; канва мифа сохран€етс€, но в то же врем€ его содержание прикрепл€етс€ к новому месту. “ак, таинственна€ бездна, через которую јид умчал ору в свое царство, показывалась и в аркадском ‘енее, и в аргосской Ћерне, и в других местах. ¬ иных случа€х мы вправе предположить учреждение, так сказать, на свежем месте элевсинского культа; в иных Ч его сли€ние с другим, исконным, путем отождествлени€ издревле почитаемого божества с ƒеметрой или орой. ¬ иных случа€х культ, как и в самом Ёлевсине, был мистическим; в иных мистический элемент отпал, осталс€ самый миф о похищении оры јидом и о даровании человечеству хлеба ее божественной матерью.
«десь не место собирать отдельные обломки элевсинской религии со всех частей эллинского мира Ч тем более, что эта работа уже сделана; возьмем дл€ иллюстрации по образчику с трех его концов Ч западного, южного и восточного.
—ицили€, благодар€ своему изумительному плодородию, вс€ считалась посв€щенной ƒеметре; ее культ распространен здесь повсюду, но нас удивл€ет то, что не кака€-нибудь греческа€ колони€ была его центром, а далекий от мор€ туземный город Ённа. ¬еро€тно, здесь придетс€ признать отождествление старинной местной богини с ƒеметрой; но оно могло быть только основанием перенесени€ в Ённу элевсинского мифа как последстви€ культовой ее эллинизации. ѕохищение божественной девы было локализовано именно здесь, близ Ённы, у озера ѕерга; здесь ора рвала цветы на зеленом лугу, здесь из разверзшейс€ земли по€вилс€ царь преисподней на своей колеснице, запр€женной черными кон€ми; свою добычу он умчал по поверхности земли, пока нимфа сиракузской речки ианы не преградила ему пути; разгневанный, он через ее русло проложил себе путь в преисподнюю.
огда состо€лось перенесение элевсинского мифа в —ицилию? ¬о вс€ком случае, очень давно. огда в самом начале своего республиканского быта –им вычитал в книгах кумской —ивиллы повеление дать у себ€ место культу элевсинских божеств, он заимствовал его не из Ёлевсина, а из —ицилии. » вот, в –име был воздвигнут первый греческий храм дл€ греческого культа с соблюдением греческой обр€дности Ч храм, посв€щенный Cereri Libero Liberae. ÷ерера, это ƒеметра; римска€ богин€ зреющей нивы была отождествлена с греческой даровательницей хлеба. Ћибера, Ђдочьї, это буквальный перевод имени греческой оры; но кто такое Ћибер? Ёто слово значит Ђсынї Ч сын ƒеметры, надо полагать, коль скоро Ћибера Ч ее дочь; но римл€не во все времена разумели под ним ¬акха-ƒиониса. ¬от он, значит, юный бог св€щенного шестви€ »акх, олицетворенное ликование чающих близкую благодать паломников. —ли€ние с јфинами создало и само шествие и сопровождающего его бога; а если так, то и в создании сицилийско-римской троицы придетс€ признать вли€ние јфин.
ѕрин€тие в –им этой троицы составл€ет событие скорее римской, чем греческой религиозной истории; все же на одну особенность мне хотелось бы и здесь обратить внимание. я уже имел случай указывать на демократический характер элевсинской религии Ч тот же характер, в силу которого она стала св€тыней угнетаемых —партой мессенцев. ≈го она оправдала и здесь. ќснование элевсинского храма в –име совпало с началом борьбы сословий; и вот он становитс€ религиозным центром плебеев в их двухсотлетних усили€х добитьс€ гражданского равноправи€ в общем государстве.
Ќе знаем, был ли эннейский культ мистическим; римский, во вс€ком случае, таковым не был. ћожно представить себе, что трезвый, деловой дух римл€н той эпохи не чувствовал той религиозной потребности, котора€ в √реции находила себе удовлетворение в мистицизме; во вс€ком случае, факт не подвержен сомнению. ћистическим был зато тот, о котором € имел сказать на втором месте Ч культ александрийский; о нем мы кое-что знаем, благодар€ тому случайному обсто€тельству, что нам сохранилс€ написанный аллимахом в честь его гимн. јнтичный его толкователь приписывает второму ѕтолемею, ‘иладельфу, учреждение если не самого праздника, то одного его обр€да, а именно шестви€ с кошницей, Ђв подражание јфинамї;⁵ на беду, мы о таком обр€де в јфинах ничего не знаем, но это при отрывочности наших сведений об афинской обр€дности не может служить опровержением. — другой стороны, наличность александрийского пригорода по имени Ёлевсин служит немаловажным подтверждением этой преемственности, особенно, если к этому прибавить, что автор гимна аллимах до своего призвани€ в јлександрию был учителем именно в этом Ёлевсине. ѕолучаетс€, таким образом, довольно стройный р€д совпадений, достаточно доказательный.
_______________________________
[5] ошеносицы (κανηφόροι) носили на головах корзины (κάνεον) со св€щенными дарами и бескровными жертвами дл€ јфины Ч €чмень или украшени€, т.е. предметы, характерные дл€ мистерий.
јлександрийский культ был мистическим: непосв€щенным гимн запрещает смотреть с высоты на шествие с кошницей. ≈го учреждение требовало своего апостола. —амый гимн дает нам интересное свидетельство об изменении религиозного настроени€ в сравнении с древнеэлевсинскими временами. ¬ самом деле, возьмем в вышеупом€нутом √омеровском гимне то место, где говоритс€ о посте скорб€щей ƒеметры.
— этим объективным, хот€ и небезучастным описанием сравним слова аллимаха:
Ёта чрезмерна€ участливость, доход€ща€ до сентиментализма и вместе с тем низвод€ща€ богиню с ее пьедестала на общий со всеми уровень, это усиление любви в ущерб благоговению Ч характерно именно дл€ той эпохи, котора€, будучи подготовлена развитием греческого искусства и греческой религиозности в IV в., пришла к сознанию самой себ€ после јлександра ¬еликого. ¬ этом отношении сопоставление обоих переведенных отрывков очень поучительно: оно нагл€дно нам показывает разницу между религиозным чувством древнего эллинства и религиозным чувством эллинизма.
јнтичный комментатор гимна, на которого мы сослались выше, уж очень немногословен, и было бы слишком поспешно Ч из его слов, что ѕтолемей ¬торой ввел обр€д шестви€ с кошницей, выводить заключение, что он же перенес в свою столицу и весь элевсинский культ; это перенесение, которому Ёлевсин јлександрийский об€зан своим именем, могло состо€тьс€ и раньше, при ѕтолемее I —отере.
ак бы то ни было, отметим эту наличность мистического культа ƒеметры и оры у самого порога греческого царства, возникшего в стране древних фараонов.
ќбраща€ свои взоры на восток, мы находим, можно сказать без преувеличени€, всю эллинскую ћалую јзию осв€щенной элевсинским культом, особенно, что и пон€тно, ее ионийскую часть. ѕравда, наши сведени€ тут более отрывочны, чем где-либо; часто они ограничиваютс€ изображением на монете или упоминанием какой-нибудь улики в надписи. Ќе всегда мы даже можем утверждать с уверенностью, что культ обеих богинь носил мистический характер. —ама наличность легенды о похищении оры его не доказывает; но если, например, в изике на ѕропонтиде эта ора почитаетс€ под именем —пасительницы (Σώτειρα) так же, как и в Ёлевсине и в некоторых других мистических центрах, то мы вправе думать о милостивой спасительнице душ умерших из тьмы подземного царства. ¬ —мирне, в Ёфесе, в ћикале пр€мо упоминаетс€ мистический или элевсинский культ; то же можно предположить и дл€ р€да других мест. ќсобую важность имеют тут два: изик и ѕергам. ћистический характер культа в раскопанном пергамском храме с его ƒевичьей криницей и ступен€ми дл€ смотрени€ св€щенной драмы. ћестные традиции св€зывают эти малоазийские колонии с јфинами, как с их признанной общей метрополией; филиали элевсинских мистерий были лишь религиозным показателем этой св€зи.
»так, мы видим, что старинна€ богин€ таинств прочно укрепилась в сознании греческой јнатолии; это подготовило ее сли€ние с могучей туземной богиней ( ибелой) и, как последствие этого сли€ни€, Ч одну из самых вли€тельных и живучих отраслей религии эллинизма.
_______________________________
–≈Ћ»√»я ЁЋЋ»Ќ»«ћј. √лава II
¬ смущающей многочисленности имен и культов древнегреческого политеизма взору освоившегос€ с ней наблюдател€ представ€тс€ два довольно четко отделенных друг от друга течени€. ѕервое Ч это течение €вное, участие в котором не было обусловлено ничем, кроме разве принадлежностью чествующего к соответственной гражданской общине; сюда мы относим большинство государственных культов √реции Ч и «евса ќлимпийского, и ѕаллады јфинской, и јполлона ƒельфийского. Ќо второе Ч это течение тайное; условием участи€ в нем было посв€щение, посв€щение же налагало на того, кто был его удостоен, об€зательство Ч никому из непосв€щенных не выдавать тех св€щеннодействий, участником и свидетелем которых он сподобилс€ стать; сюда относитс€ тоже р€д культов, хот€ и значительно меньший, но особенно два: культ ƒеметры Ёлевсинской и культ ƒиониса, развитый его пророком ќрфеем Ч другими словами, элевсинские и орфические таинства.
“ам Ч «евс и его обитающа€ в вечном свете олимпийска€ семь€; здесь Ч «емл€ и мрак, полный жутких тайнЕ жутких, да, но в то же врем€ и утешительных: ведь это же мать-«емл€. ћы живем под всевид€щими очами «евса и прочих олимпийцев; но стоит нашему телу покрытьс€ могильной перстью, и мы переходим под власть иных, хтонических богов. Ёта двойственность может нас озадачить Ч и, действительно, христианство ее отвергло. Ќо в сознании эллина она коренилась твердо Ч до поры до времени.
ќт «емли ƒеметра, от «емли и ƒионис; оба€ние их учени€ заключалось именно в том, что они раскрывали перед смертным покров подземных тайн и не только удовлетвор€ли его любознательность, дава€ ему определенный ответ на мучительный вопрос, что с ним будет после смерти, но и учили его обеспечить себе лучшую участь на том свете. ¬ те отдаленные времена, когда и сами боги еще не сознавались как стражи нравственности, и услови€ этой лучшей участи были скорее сакральные, чем нравственные, т.е. скорее сводились к исполнению обр€дов посв€щени€, чем к справедливой жизни. ћорализаци€ таинств шла вровень с морализацией религии вообще; ко времени расцвета последней она также и в области таинств была совершившимс€ фактом.
ќба€ние их вследствие этого росло и росло, но все же неодинаковым образом. ѕричиной разницы было то, что элевсинские таинства были прикреплены к определенной общине, к аттическому Ёлевсину, и имели здесь свой административный центр в виде жреческой коллегии Ёвмолпидов, между тем как орфические, распростран€емые через странствующих жрецов и пророков, были рассе€ны по всей Ёлладе. Ќам теперь трудно решить вопрос, что было выгоднее. Ѕез сомнени€, орфизму легче было находить себе поклонников, не только среди простого народа, но и среди поэтов и мыслителей, с ѕиндаром и ѕлатоном во главе; но чистоту и определенность учени€ легче было сохранить при наличности центральной коллегии, руководившей действи€ми своих эмиссаров, благодар€ своему авторитету, основанному на преемственности полученного некогда от самой ƒеметры откровени€.
»ме€ свой прочный центр в Ёлевсине, религи€ ƒеметры представл€ет нам две особенности, важные дл€ ее дальнейшего развити€. ѕерва€ Ч это та легкость, с которой она могла принимать в себ€ культы других богов и в известной мере амальгамироватьс€ с ними; втора€ Ч это энерги€, с которой она, путем основани€ подворий, распростран€лась по прочему греческому миру. ѕерва€ обусловливала вторую Ч в этом состоит характерна€ черта, отличающа€ терпимый эллинский прозелитизм от нетерпимого иудейского.
ƒревнейшую, достижимую дл€ нашего знани€, ступень элевсинского культа представл€ет дл€ нас сохраненный в ћосковской рукописи √омеровский гимн ƒеметре; согласно ему, содержание св€щенной драмы будет следующее.
— разрешени€ «евса его брат јид похищает ору, дочь ƒеметры, в то врем€ как она играла с девами-океанидами на цветистом лугу. —одействовала похищению сама «емл€, произвед€ чудесный нарцисс; ора его срывает и этим отдает себ€ во власть похитител€. Ќикто не слышит ее отча€нного крика, кроме Ђнежнодушнойї √екаты и √ели€. Ќо когда она, уже увлекаема€ в глубь земли, крикнула вторично, ее услышала и мать. ќна бросилась ее искать; дев€ть дней она ее искала, не зна€ ни пищи, ни сна; на дес€тый с ней встретилась √еката и рассказала, что могла Ч что кто-то похитил ору, но кто именно, этого и она не знает. — ней вместе ƒеметра отправилась к √елию и от него, всевид€щего бога, узнала всю правду.
–азгневавшись на «евса, она отказалась от общени€ с олимпийскими богами и, обратившись в старуху, села у ƒевичьей криницы в Ёлевсине близ дворца еле€. “ам ее нашли четыре дочери еле€; им она назвалась ƒотой крит€нкой и рассказала, что она, будучи похищена морскими разбойниками, бежала от них. ќни называют ей главных вельмож города “риптолема, ƒиокла, ѕоликсена, Ёвмолпа, ƒолиха и самого еле€, и предлагают ей поступить н€ней к их матери ћетанире, чтобы вын€нчить их позднорожденного братца ƒемофонта. ƒеметра последовала за ними, но и в доме ћетаниры продолжала горевать и поститьс€, пока служанка ямба своими шутками не заставила ее улыбнутьс€. своему питомцу она прив€залась так, что пожелала сделать его бессмертным; с этой целью она ночью, тайно от родителей, держала его в огне, а днем намащала амброзией. Ќо однажды ћетанира подсмотрела ее ночные чары и вскрикнула, дума€, что чужа€ хочет извести ее сына; разгневалась богин€, дала себ€ узнать и повелела, чтобы граждане ей выстроили храм на холме своего города, а св€щеннодействи€ она укажет им сама.
≈ще год прошел, т€желый дл€ смертных, так как ƒеметра поразила бесплодием землю; тогда «евс послал за разгневанной »риду и затем всех прочих богов, но она упорно отказывалась вернутьс€ на ќлимп. ѕришлось ему покоритьс€: он отправил к јиду √ермеса с приказанием отпустить ору к матери. јид повиновалс€, но дал уход€щей отведать сладкого зерна гранатового €блока, чем лишил ее возможности совсем его покинуть. ћать с дочерью встретились на –арийской равнине, близ Ёлевсина; ора рассказала про свое похищение, называ€ поименно своих товарок-ќкеанид, но вместе с ними и обеих девственных богинь ќлимпа, ѕалладу и јртемиду. разговаривающим подошла, по поручению «евса, его и ƒеметрина мать –е€ и пригласила их на ќлимп, сказав, что по определению «евса, ора будет отныне проводить только треть года с мужем, остальные же две трети Ч с матерью. Ётот раз ƒеметра послушалась, но прежде, чем покинуть Ёлевсин, она вернула земле плодородие и, во исполнение своего обещани€, учредила в Ёлевсине свои таинства.
онча€ свой гимн, певец называет, кроме Ёлевсина, еще два других центра мистического культа ƒеметры; это Ч Ђокруженный моремї ѕарос и Ђскалистыйї јнтрон. ќ втором (в ‘ессалии) ничего не известно; о ѕаросе мы некоторые сведени€ имеем, но их здесь приводить незачем. »нтереснее то, что певец умалчивает об јфинах: видно, что те две филиали возникли до соединени€ Ёлевсина с јфинами и превращени€ старинного элевсинского культа в общеафинский.
огда же это состо€лось? ѕо легенде, еще при царе ‘есее, поколением раньше “ро€нской войны, т.е., по позднейшим вычислени€м, около 1200 до н.э.; по предположению некоторых новейших ученых, не ранее VII в. до н.э. ¬идимо, истина где-то посередине, но это не важно. ¬ажно следующее.
ѕрин€тие элевсинского культа в число афинских должно было иметь последствием, во-первых, постройку элевсинским богин€м подворь€ в јфинах; им стал ЂЁлевсинийї у подножь€ јкропол€. ¬о-вторых, обогащение обр€дности самого культа. онечно, элевсинское €дро должно было остатьс€ неприкосновенным; но ничто не мешало учредить специально дл€ афинских мистов особые церемонии в придачу к элевсинским. “ак были учреждены ћалые мистерии, весенний праздник, как подготовление к великому осеннему; но и осенний требовал увеличени€ своей обр€дности, по крайней мере, одним приращением, вызванным самой сутью дела Ч торжественным шествием посв€щенных из јфин в отсто€щий приблизительно на 20 верст Ёлевсин. ј это шествие повело к чрезвычайно важному обогащению самой элевсинской религии.
–адость, естественно охватывающа€ паломников по мере приближени€ к месту благодати, находила себе выражение в ликующих возгласах и песн€х, в так называемой ἴακχος,¹ Ђсопровождавшейї их на всем их пути от афинского до элевсинского ефиса. ќна была божественной Ч мало того: она была божеством, Ч юным, ласковым, Ђсопровождающимї богом »акхом (Ἴακχος).² » вот этот созданный религиозным чувством паломнической радости бог »акх облекаетс€ в плоть и кровь: ему тоже в јфинах строитс€ капище, Ἰακχεῖον; его кумир, несомый на руках афинских эфебов, Ђсопровождаетї процессию в Ёлевсин и там принимаетс€ кем-то Ч в самом элевсинском празднике этот не предусмотренный ƒеметрою гость участвовать не мог.
Ќо кто же был он сам, этот ласковый вождь паломников? Ч бог юный, радостный, любитель пл€сок, то и дело прерывавших торжественное шествие Ч а тут еще и созвучие: Ἴακχος, Βάκχος. —омнени€ нет: он тождествен с одним из величайших богов греческого ќлимпа, с ƒионисом-¬акхом. Ќо если так, то этот юный бог не мог оставатьс€ простым демоном частичного св€щеннодействи€, подобно какой-нибудь ямбе: он требовал себе достойного места, р€дом с четой великих богинь, как сын Ч да, как сын старшей и как брат младшей из них. Ёлевсинского культа это новшество, повтор€ю, не затронуло; но в јфинах троица, состо€ща€ из ƒеметры, оры-ѕерсефоны и »акха-ƒиониса, была признана.
_______________________________
[1] ἴακχος ὁ гимн в честь »акха Her.
[2] Ἴακχος ὁ »акх, культово-мистическое им€ ¬акха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. Ч нести в торжественном шествии изображение »акха).
ќ важности этого приобщени€ ƒиониса к Ёлевсинской чете мы можем только догадыватьс€: учение ведь было тайным. Ќо обе мистические религии были родственны между собою, обе давали ответ на вопрос о судьбе душ на том свете и учили людей обеспечивать себе Ђлучшую участьї после смерти. Ќе было бы ничего удивительного, если бы элевсинское учение о загробном мире прин€ло в себ€ некоторые дионисийские, т.е. орфические черты, и равным образом, если бы шумные дионисические оргии или строгие предписани€ Ђорфической жизниї повли€ли на элевсинскую обр€дность.
ѕоследствием возведени€ элевсинского культа в афинский были, как мы видели, во-первых, постройка афинского подворь€ в виде ЂЁлевсини€ї, во-вторых, обогащение элевсинской обр€дности учреждением ћалых мистерий и св€щенной процессии с ее »акхом-ƒионисом; третьим последствием должна была стать обща€ администраци€ таинств. ƒл€ нее Ёлевсин дал свой первенствующий со времени объединени€ род Ёвмолпидов: из него во все времена ставились как главный иерофант, так и обе Ђиерофантидыї обеих богинь. Ќо и јфины дорожили тем, чтобы быть представленными если не на первом месте, за отсутствием у них преемственности дл€ исход€щего от самой ƒеметры откровени€, то хоть на втором. ќстановились на роде ериков (т.е. глашатаев), производивших себ€ от √ермеса и дочери древнейшего афинского цар€ екропа; им была передана, не счита€ других, менее важных жречеств, втора€ по достоинству после иерофанта сакральна€ должность дадуха (δᾳδοῦχος, Ђфакелоносецї). Ѕлагодар€ этому привлечению ериков, и их родовой бог √ермес был поставлен в близкие отношени€ к элевсинским божествам; правда, в самом Ёлевсине эти отношени€ остались довольно внешними Ч нам известно только, что ему там в дни великого праздника приносили в жертву козу.
Ќо кроме рода ериков еще один аттический род был приобщен к элевсинским св€щеннодействи€м, а именно к дадухии, хот€ подробности тут представл€ютс€ спорными; это были Ћикомиды, славный род, долженствовавший со временем дать јфинам и Ёлладе великого ‘емистокла. »х родина Ч аттическое село ‘ли€ Ч была богата храмами и алтар€ми; но все другие культы затмевал культ ¬еликой Ѕогини, под которой разумели «емлю Ч мистический культ, непосредственно родственный элевсинскому культу ¬еликих Ѕогинь. ќн и был родовым культом Ћикомидов; а при его наличности их привлечение с афинской стороны также и к администрации элевсинского культа вполне естественно.
¬ последние дни героической борьбы мессенцев со спартанцами за свою независимость прорицатель ‘еокл, узнав по известным приметам, что их гибель неминуема, счел за лучшее открыть божью волю также и народному вождю јристомену. ƒело в том, что у последнего имелс€ талисман, Ђуничтожение которого навеки похоронило бы ћессению, между тем как его сохранение, согласно оракулу ѕандионова сына Ћика (родоначальника Ћикомидов, замечу между скобок), было залогом ее возрождени€ в далеком будущемї. јристомен вн€л голосу прорицател€: прокравшись на вершину »томы, родной горы мессенцев, бывшей тогда уже во власти врагов, он зарыл талисман, помолившись «евсу »томату и прочим богам, чтобы они сохранили доверенный им клад и не дозволили спартанцам уничтожить единственную надежду мессенцев на освобождение.
Ёто случилось около середины седьмого века до н.э. ¬скоре затем последний оплот мессенцев пал; наступили дл€ ее жителей три столети€ порабощени€. Ќо вот, около середины четвертого века до н.э., и звезда спартанцев померкла, к мессенцам €вилс€ освободитель в лице Ёпаминонда. Ѕыла основана нова€ столица освобожденной страны, ћессена; а вождю, которому было поручено Ёпаминондом восстановление мессенского государства Ч это был Ёпитель, родом аргосец, Ч €вилс€ во сне незнакомый муж, предложивший ему отправитьс€ на »тому и, найд€ растущие р€дом тис и мирт, разрыть землю между ними. Ёпитель повиновалс€ и принес Ёпаминонду найденную на указанном месте старинную гидрию; вскрыв ее, они нашли в ней записанный на олов€нных дощечках устав таинств ¬еликих Ѕогинь. Ёто и был талисман јристомена.
ƒревнейшей столицей ћессении до ее порабощени€ была јндани€; здесь, значит, и следовало учредить возрожденные таинства, причем можно было поставить этот оскудевший городок в такие же отношени€ к новой столице ћессене, в каких Ёлевсин находилс€ к јфинам. —амо же возобновление таинств надлежало поручить сведущему человеку Ч конечно, из жреческой коллегии элевсинского культа. “акового нашли в лице некоего ћефапа, родом Ћикомида (оп€ть, прошу заметить, Ћикомида). Ёто была интересна€ во многих отношени€х личность, насто€щий апостол мистических культов. ак Ћикомид, он был руководителем своего родного культа ¬еликой богини-«емли; но в то же врем€ он был также чем-то вроде дадуха в элевсинских таинствах. ак опытный в мистических культах богослов, он был приглашен фиванцами в эпоху Ёпаминонда руководить реформой их культа абиров в св€зи с перестройкой посв€щенного этим божествам загородного храма.
Ќесколько слов об этом культе, о котором у нас до сих пор не было речи. ќснованный некогда финикийскими пловцами на острове Ћемносе, он перекинулс€ на соседние острова и нашел со временем свой центр на —амофракии; все же, во врем€ греческой независимости эти самофракийские мистерии влачили довольно темное существование, и только после јлександра ¬еликого расцвели, зан€в место р€дом с элевсинскими и орфическими таинствами. √реци€ их чуждалась, очевидно, ввиду их семитического происхождени€, о котором свидетельствовало и им€ почитаемых в них богов (Kabirim Ч Ђ¬еликиеї боги); прин€ли их, быть может, по той же причине ‘ивы, приписывающие свое основание финикийскому выходцу адму. «десь еще в VI в. был основан храм абиров, тот самый, перестройка которого в IV в. дала повод к миссии ћефапа.
¬осточна€ неопределенность абиров, в св€зи с естественной потребностью их почитателей сблизить их с религией окружающего эллинского мира, повела к отождествлению ¬еликих богов с теми или другими образами греческого ќлимпа, причем они могли, в силу той же неопределенности, произвольно мен€ть и свое число, и свой пол. ѕервоначально их было, кажетс€, двое, Ђ абирї и его Ђсынї Ч «евс и ƒионис, значит: удобный предлог дл€ внесени€ в кабирические таинства элементов дионисиазма и орфизма. ѕод вли€нием этой мистической религии чета превращаетс€ в троицу, два брата абира убивают третьего, причем его смерть и воскресение образуют св€щенную легенду культа, параллельную легенде о смерти и воскрешении первозданного ƒиониса. Ќо в силу другой метаморфозы, первоначальна€ чета, приобщив к себе два женских божества, становитс€ четверицей; в ней узнают элевсинскую троицу Ч ƒеметру, јида, ѕерсефону Ч с прибавлением к ней родоначальника ериков, √ермеса, что указывает на афинское вли€ние. “ак, собира€ в себе лучи и дионисических, и элевсинских таинств, самофракийские станов€тс€ всеобъемлющей мистической религией, готов€сь этим к своей вселенской роли при наследниках основател€ вселенского эллинизма.
‘иванский росток этой религии и был поручен заботам элевсинского апостола, Ћикомида ћефапа. „астности его де€тельности уже от его современников были скрыты непроницаемой завесой. Ќо вот возвращаетс€ свету дн€ талисман јристомена; порабощенные до тех пор мессенцы вместе со свободой обретают вновь и свою национальную св€тыню. ѕон€тно, что об ее восстановлении забот€тс€ те же фиванцы, которые своими победами им и свободу возвратили; пон€тно, что они поручают это дело тому самому апостолу элевсинской ƒеметры, которому они уже были об€заны упор€дочением своего кабирического св€тилища Ч ћефапу. » вот ћефап отправл€етс€ в освобожденную страну: он принимает Ч будем продолжать легенду, перелива€ ее в историю Ч от аргосца Ёпител€ найденный им талисман јристомена и на основании его, а также и своего прочего св€тительского знани€ и опыта, учреждает в јндании мистический культ элевсинских богинь.
ѕоручение было из самых почетных, и гордость апостола законна. ќ своей де€тельности он сам оставил потомкам свидетельство в той надписи, которую он велел вырезать на пьедестале своей статуи, посв€щенной им в палатку Ћикомидов в јфинах:
ƒом € очистил √ермеса и путь благодатной ƒеметры
— ƒщерью ее первородной, в том граде, в котором ћессена
ѕраздник св€той учредила во славу ¬еликим Ѕогин€м.
√ермес здесь назван нар€ду с ƒеметрой и орой: это нас не удивл€ет, родовой бог афинских ериков не мог отсутствовать в культе, учрежденном афинским Ћикомидом. ќ других его особенност€х нас оповещает знаменита€, найденна€ в середине прошлого столети€ анданийска€ мистическа€ надпись, состо€ща€ из 200 без малого строк.
то ныне стал бы подходить к ней со св€щенным трепетом, наде€сь найти в ней сам талисман јристомена или уже, во вс€ком случае, изложение самой сути религии таинств, того бы постигло горькое разочарование: в ней говоритс€ исключительно о внешност€х культа и его благочинии, и при этом чаще упоминаютс€ штрафы и даже телесные наказани€ его нарушител€м; но если присмотретьс€ ближе, то и из нее можно извлечь немало дл€ нас интересного. ¬ызвана она была, прежде всего, превращением самого культа из родового в государственный, состо€вшимс€ в начале I в. до н.э. Ч до тех пор, значит, т.е. в течение двух с половиной веков, его ведал определенный род, соответствующий элевсинским Ёвмолпидам Ч быть может, род ресфонтидов, потомков древних мессенских царей. Ќо вот последний иерофант из этого рода, ћнасистрат Ч по собственному ли почину, или по желанию народа Ч отдает свой св€тительский сан в распор€жение государства, а вместе с ним и Ђковчег и книгиї Е по-видимому, те самые, в которых легенда видела талисман јристомена. Ёта передача вызвала и р€д других реформ, закрепленных в нашей надписи.
Ѕожества анданийских мистерий перечисл€ютс€ в следующем, хот€ и не очень строго соблюдаемом, пор€дке. Ќа первом месте стоит, как это и пон€тно, ƒеметра; на втором Ч √ермес, в угоду, как мы видели, јфинам и их ерикам; на третьем Ч ¬еликие боги, т.е. абиры Ч мы узнаем соглашательскую де€тельность ћефапа; на четвертом Ч јполлон арнейский,³ в ограде которого и происходил праздник Ч это дл€ нас нечто новое, но отнюдь не удивительное. јполлон арнейский (прозвище темное) был национальным богом спартанцев, иго которых лежало на ћессении в течение р€да столетий; теперь иго было разбито, но јполлон оставалс€ јполлоном, и его пришлось поставить в св€зь с возобновленным национальным культом возрожденной ћессении Ч интересный образчик греческой религиозности. Ќаконец, на п€том месте стоит богин€ о страшном имени, робко нарекаема€ в надписи описательным обозначением јгна (Ἁγνή);⁴ это, как мы знаем из других свидетельств, сама царица подземных глубин, ѕерсефона, она же и ора (Κόρη, дева). ”дивл€ет нас отсутствие ее супруга јида, неустранимого участника св€щенной драмы.
_______________________________
[3] Καρνεῖος, дор. Καρνήϊος ὁ
1) арнейский (эпитет јполлона у дорических племен ѕелопоннесса) Pind., Polyb.
2) арней (лакедемонский мес€ц, соотв. атт. Μεταγειτνιών, т.е. августу-сент€брю, в течение которого совершались дев€тидневные празднества в честь јполлона арнейского) Thuc., Eur., Plut.
[4] ἁγνεία ἡ
1) чистота, непорочность (λόγων ἔργων τε Soph.; ἱερῶν Plat.);
2) очистительный обр€д, очищение Isocr., Plut..
ак бы то ни было, но круг чествуемых божеств роковым образом расшир€етс€ при каждом новом переходе: афинский культ был шире элевсинского, анданийский стал шире афинского. ћестные особенности стираютс€ в угоду общей религии таинств, конечной цели развити€ мистического культа.
—в€щенна€ драма предполагаетс€ и здесь: упоминаетс€ Ђтеатрї, а также и Ђте, которым надлежит приспособитьс€ к представлению богиньї: нам при этом вспоминаетс€ и Ђпуть ƒеметры и орыї, о котором говоритс€ в надписи ћефапа.
«десь мы, как и везде, находимс€ в досадной зависимости от источников: св€зного изложени€ элевсинской религии нам не сохранилось, наши сведени€ о местах и обр€дах случайны и отрывочны. —в€зь с Ёлевсином иногда €сна, иногда более или менее затемнена; канва мифа сохран€етс€, но в то же врем€ его содержание прикрепл€етс€ к новому месту. “ак, таинственна€ бездна, через которую јид умчал ору в свое царство, показывалась и в аркадском ‘енее, и в аргосской Ћерне, и в других местах. ¬ иных случа€х мы вправе предположить учреждение, так сказать, на свежем месте элевсинского культа; в иных Ч его сли€ние с другим, исконным, путем отождествлени€ издревле почитаемого божества с ƒеметрой или орой. ¬ иных случа€х культ, как и в самом Ёлевсине, был мистическим; в иных мистический элемент отпал, осталс€ самый миф о похищении оры јидом и о даровании человечеству хлеба ее божественной матерью.
«десь не место собирать отдельные обломки элевсинской религии со всех частей эллинского мира Ч тем более, что эта работа уже сделана; возьмем дл€ иллюстрации по образчику с трех его концов Ч западного, южного и восточного.
—ицили€, благодар€ своему изумительному плодородию, вс€ считалась посв€щенной ƒеметре; ее культ распространен здесь повсюду, но нас удивл€ет то, что не кака€-нибудь греческа€ колони€ была его центром, а далекий от мор€ туземный город Ённа. ¬еро€тно, здесь придетс€ признать отождествление старинной местной богини с ƒеметрой; но оно могло быть только основанием перенесени€ в Ённу элевсинского мифа как последстви€ культовой ее эллинизации. ѕохищение божественной девы было локализовано именно здесь, близ Ённы, у озера ѕерга; здесь ора рвала цветы на зеленом лугу, здесь из разверзшейс€ земли по€вилс€ царь преисподней на своей колеснице, запр€женной черными кон€ми; свою добычу он умчал по поверхности земли, пока нимфа сиракузской речки ианы не преградила ему пути; разгневанный, он через ее русло проложил себе путь в преисподнюю.
огда состо€лось перенесение элевсинского мифа в —ицилию? ¬о вс€ком случае, очень давно. огда в самом начале своего республиканского быта –им вычитал в книгах кумской —ивиллы повеление дать у себ€ место культу элевсинских божеств, он заимствовал его не из Ёлевсина, а из —ицилии. » вот, в –име был воздвигнут первый греческий храм дл€ греческого культа с соблюдением греческой обр€дности Ч храм, посв€щенный Cereri Libero Liberae. ÷ерера, это ƒеметра; римска€ богин€ зреющей нивы была отождествлена с греческой даровательницей хлеба. Ћибера, Ђдочьї, это буквальный перевод имени греческой оры; но кто такое Ћибер? Ёто слово значит Ђсынї Ч сын ƒеметры, надо полагать, коль скоро Ћибера Ч ее дочь; но римл€не во все времена разумели под ним ¬акха-ƒиониса. ¬от он, значит, юный бог св€щенного шестви€ »акх, олицетворенное ликование чающих близкую благодать паломников. —ли€ние с јфинами создало и само шествие и сопровождающего его бога; а если так, то и в создании сицилийско-римской троицы придетс€ признать вли€ние јфин.
ѕрин€тие в –им этой троицы составл€ет событие скорее римской, чем греческой религиозной истории; все же на одну особенность мне хотелось бы и здесь обратить внимание. я уже имел случай указывать на демократический характер элевсинской религии Ч тот же характер, в силу которого она стала св€тыней угнетаемых —партой мессенцев. ≈го она оправдала и здесь. ќснование элевсинского храма в –име совпало с началом борьбы сословий; и вот он становитс€ религиозным центром плебеев в их двухсотлетних усили€х добитьс€ гражданского равноправи€ в общем государстве.
Ќе знаем, был ли эннейский культ мистическим; римский, во вс€ком случае, таковым не был. ћожно представить себе, что трезвый, деловой дух римл€н той эпохи не чувствовал той религиозной потребности, котора€ в √реции находила себе удовлетворение в мистицизме; во вс€ком случае, факт не подвержен сомнению. ћистическим был зато тот, о котором € имел сказать на втором месте Ч культ александрийский; о нем мы кое-что знаем, благодар€ тому случайному обсто€тельству, что нам сохранилс€ написанный аллимахом в честь его гимн. јнтичный его толкователь приписывает второму ѕтолемею, ‘иладельфу, учреждение если не самого праздника, то одного его обр€да, а именно шестви€ с кошницей, Ђв подражание јфинамї;⁵ на беду, мы о таком обр€де в јфинах ничего не знаем, но это при отрывочности наших сведений об афинской обр€дности не может служить опровержением. — другой стороны, наличность александрийского пригорода по имени Ёлевсин служит немаловажным подтверждением этой преемственности, особенно, если к этому прибавить, что автор гимна аллимах до своего призвани€ в јлександрию был учителем именно в этом Ёлевсине. ѕолучаетс€, таким образом, довольно стройный р€д совпадений, достаточно доказательный.
_______________________________
[5] ошеносицы (κανηφόροι) носили на головах корзины (κάνεον) со св€щенными дарами и бескровными жертвами дл€ јфины Ч €чмень или украшени€, т.е. предметы, характерные дл€ мистерий.
јлександрийский культ был мистическим: непосв€щенным гимн запрещает смотреть с высоты на шествие с кошницей. ≈го учреждение требовало своего апостола. —амый гимн дает нам интересное свидетельство об изменении религиозного настроени€ в сравнении с древнеэлевсинскими временами. ¬ самом деле, возьмем в вышеупом€нутом √омеровском гимне то место, где говоритс€ о посте скорб€щей ƒеметры.
ƒев€ть скиталас€ дней в безутешной печали ƒеметра,
ѕуть освеща€ ночной пылающих светочей парой;
Ќе прикасалась она ни к амбросии сладкотекучей
¬ горе своем материнском, ни к нектару; тела купелью
“оже она не свежила.
— этим объективным, хот€ и небезучастным описанием сравним слова аллимаха:
ак теб€ ноги носили, ¬ладычица, к солнца закату,
черных жилищам людей, где сверкают плоды золотые?
—только не ела ты дней, не пила, не хотела умытьс€!
“рижды ведь ты перешла среброструйного брод јхело€,
—только же раз перешла остальные потоки ЁлладыЕ
» не хотела устами коснутьс€ их вод и умытьс€!
ƒруги, умолкнем о том, что на слезы ƒеметру наводит!
Ћучше расскажем, как грады в законах она воспиталаЕ
Ёта чрезмерна€ участливость, доход€ща€ до сентиментализма и вместе с тем низвод€ща€ богиню с ее пьедестала на общий со всеми уровень, это усиление любви в ущерб благоговению Ч характерно именно дл€ той эпохи, котора€, будучи подготовлена развитием греческого искусства и греческой религиозности в IV в., пришла к сознанию самой себ€ после јлександра ¬еликого. ¬ этом отношении сопоставление обоих переведенных отрывков очень поучительно: оно нагл€дно нам показывает разницу между религиозным чувством древнего эллинства и религиозным чувством эллинизма.
јнтичный комментатор гимна, на которого мы сослались выше, уж очень немногословен, и было бы слишком поспешно Ч из его слов, что ѕтолемей ¬торой ввел обр€д шестви€ с кошницей, выводить заключение, что он же перенес в свою столицу и весь элевсинский культ; это перенесение, которому Ёлевсин јлександрийский об€зан своим именем, могло состо€тьс€ и раньше, при ѕтолемее I —отере.
ак бы то ни было, отметим эту наличность мистического культа ƒеметры и оры у самого порога греческого царства, возникшего в стране древних фараонов.
ќбраща€ свои взоры на восток, мы находим, можно сказать без преувеличени€, всю эллинскую ћалую јзию осв€щенной элевсинским культом, особенно, что и пон€тно, ее ионийскую часть. ѕравда, наши сведени€ тут более отрывочны, чем где-либо; часто они ограничиваютс€ изображением на монете или упоминанием какой-нибудь улики в надписи. Ќе всегда мы даже можем утверждать с уверенностью, что культ обеих богинь носил мистический характер. —ама наличность легенды о похищении оры его не доказывает; но если, например, в изике на ѕропонтиде эта ора почитаетс€ под именем —пасительницы (Σώτειρα) так же, как и в Ёлевсине и в некоторых других мистических центрах, то мы вправе думать о милостивой спасительнице душ умерших из тьмы подземного царства. ¬ —мирне, в Ёфесе, в ћикале пр€мо упоминаетс€ мистический или элевсинский культ; то же можно предположить и дл€ р€да других мест. ќсобую важность имеют тут два: изик и ѕергам. ћистический характер культа в раскопанном пергамском храме с его ƒевичьей криницей и ступен€ми дл€ смотрени€ св€щенной драмы. ћестные традиции св€зывают эти малоазийские колонии с јфинами, как с их признанной общей метрополией; филиали элевсинских мистерий были лишь религиозным показателем этой св€зи.
»так, мы видим, что старинна€ богин€ таинств прочно укрепилась в сознании греческой јнатолии; это подготовило ее сли€ние с могучей туземной богиней ( ибелой) и, как последствие этого сли€ни€, Ч одну из самых вли€тельных и живучих отраслей религии эллинизма.
_______________________________
|
ћетки: ƒеметра ћистерии √реци€ |
√≈ ј“ј |
ƒневник |
—орита дТЁсте и ƒэвид –энкайн
√≈ ј“ј: ѕќ√–јЌ»„Ќџ≈ ќЅ–яƒџ
(ѕеревод јнны Ѕлейз)
_________________________Еее перед всеми
«евс отличил √ромовержец и славный удел даровал ей:
ѕравить судьбою земли и бесплодно-пустынного мор€.
Ѕыл ей и звездным ”раном почетный удел предоставлен,
Ѕолее всех почитают ее и бессмертные боги.
»бо и ныне, когда кто-нибудь из людей земнородных,
∆ертвы свои принос€ по закону, о милости молит,
“о призывает √екату: большую он честь получает
ќчень легко, раз молитва его прин€та благосклонно.
Ўлет и богатство богин€ ему: велика ее сила.
ƒолю имеет √еката во вс€ком почетном уделе
“ех, кто от √еи-«емли родилс€ и от Ќеба-”рана,
Ќе причинил ей насиль€ ронид и не отн€л обратно,
„то от “итанов, от прежних богов, получила богин€.
¬се сохранилось за ней, что при первом разделе на долю
¬ыпало ей из даров на земле, и на небе, и в море.
„ести не меньше она, как едина€ дочь, получает, Ч
ƒаже и больше еще: глубоко она чтима ронидом.
ѕользу богин€ большую, кому пожелает, приносит.
’очет Ч в народном собранье любого меж всех возвеличит.
≈сли на мужегубительный бой снар€жаютс€ люди,
–€дом становитс€ с теми √еката, кому пожелает
ƒать благосклонно победу и славою им€ украсить.
¬озле достойных царей на суде восседает богин€.
ќчень полезна она, и когда сост€заютс€ люди:
–€дом становитс€ с ними богин€ и помощь дает им.
ћощью и силою кто победит Ч получает награду,
–аду€сь в сердце своем, и родител€м славу приносит.
онникам также дает она помощь, когда пожелает,
“акже и тем, кто, средь синих, губительных волн промышл€€,
—танет молитьс€ √екате и шумному Ённосигею.
ќчень легко на охоте дает она много добычи,
ќчень легко, коль захочет, покажет ее Ч и отнимет.
¬месте с √ермесом на скотных дворах она множит скотину;
—тадо ль вразброску пасущихс€ коз иль коров круторогих,
—тадо ль овец густорунных, душой пожелав, она может
—амое малое сделать великим, великое ж Ч малым.
“ак-то, Ч хот€ и едина€ дочерь у матери, Ч все же
ћежду бессмертных богов почтена она вс€ческой честью.
¬верил ей «евс попеченье о дет€х, которые узр€т
ѕосле богини √екаты восход многовид€щей Ёос.
»скони юность хранит она. ¬от все уделы богини.
(√есиод. “еогони€, 411-452)
Ѕогин€ √еката входила в число важнейших божеств древнего мира. «ародившись во тьме доисторических времен, ее культ сохран€лс€ на прот€жении трех тыс€челетий. ќн пережил периоды греческой архаики, классики и эллинизма, –имскую и ¬изантийскую империю и даже Ђтемные векаї ≈вропы, ибо следы древнего поклонени€ этой богине обнаруживаютс€ даже в эпоху ¬озрождени€.
√еката была богиней рубежей, властительницей всех границ и переходных периодов в человеческой жизни. роме того, она почиталась как защитница, отвращающа€ зло и вывод€ща€ на верный путь, о чем свидетельствуют некоторые из ее многочисленных эпитетов. “ройственный облик √екаты указывает на ее власть над трем€ мирами: небом, морем и землей. ќб архаических истоках ее культа свидетельствует то, что она изображалась с головами различных животных, каждое из которых символизирует одну из граней ее разностороннего характера.
√еката ассоциировалась с посв€тительными церемони€ми р€да античных мистериальных культов Ч не только знаменитых Ёлевсинских мистерий, но и культа ƒеметры в —елинунте (—ицили€), а также мистерий, бытовавших в јргосе и на греческих островах —амофраки€ и Ёгина.
— именем √екаты св€зывалось множество эпитетов, описывавших различные роли и качества, в которых она выступала в тот или иной период. ¬от некоторые из наиболее известных ее именований:

Х ’тони€ (Ђподземна€ї),
Х ƒадофора (Ђфакелоносицаї),
Х Ёноди€ (Ђдорожна€ї),
Х лидофора (Ђключницаї),
Х уротрофа (Ђкормилица детейї),
Х ‘осфора (Ђсветоносна€ї),
Х ѕропола (Ђспутницаї),
Х ѕропиле€ (Ђпривратницаї),
Х —отейра (Ђспасительницаї),
Х “риформис (Ђтрехтела€ї),
Х “риодитис (богин€ Ђтрех дорогї).
√еката ѕропиле€ (Ђпривратницаї) была хранительницей города, отвращающа€ зло от его стен и защищающа€ его жителей. —в€тилища ей устраивали не только при входе в города и храмы других божеств, но и перед частными домами. Ќебольшое св€тилище богини, установленное перед дверью дома, называлось Ђгекатейонї.
Ѕольшой храм √екаты располагалс€ в городе Ћагина в арии (на территории современной “урции), где ежегодно проводилась церемони€ под названием ЂЎествие с ключомї (κλειδοσαγωγή). —ара јйлс ƒжонстон, автор книги Ђ√еката —отераї, предполагает, что эта процесси€ была св€зана именно с √екатой в ее роли ѕропилеи Ч хранительницы врат. роме того, само название церемонии ассоциируетс€ с эпитетом Ђ лидофораї (κλειδοφόρος), который эта богин€ носила как хранительница ключей от подземного мира, вынос€ща€ решение о том, кто из усопших заслужил блаженное посмертие на ≈лисейских пол€х. ¬ данном контексте она выступает как проводница души умершего на последнем этапе загробного странстви€. ј в посв€щенном ей орфическом гимне √еката именуетс€, ни много ни мало, Ђ лючницей ¬селеннойї (ќрфический гимн √екате, ок. I-III в. н.э.).
¬виду столь важной роли, которую она играла в культовой жизни Ћагины, можно предположить, что √еката была покровительницей этого города, подобно тому как ибела покровительствовала всей ‘ригии, а »нанна Ч некоторым из древнейших шумерских городов.
V веку до н.э. св€тилище √екаты по€вилось при вратах города ћилет, в п€тидес€ти мил€х к северу от Ћагины, где культ этой богини установилс€ примерно столетием раньше. ¬ том же V веке до н.э. √екате стали поклон€тьс€ в городе јфродисий, также располагавшемс€ неподалеку от Ћагины. –оль хранительницы врат, прочно закрепившуюс€ за этой богиней, подтверждает греко-римский историк ѕлутарх, записавший в I веке н.э. историю о том, как один полководец поставил у ворот оринфа военный трофей, а другой со смехом заметил, что это не подношение јресу, а столб √екате, Ч Ђибо столбы √екате ставились перед любыми воротами в том месте, откуда расходились дорогиї.
¬о ‘ракии культ √екаты набрал силу к V веку до н.э. ќдно из самых ранних свидетельств поклонени€ этой богине во ‘ракии обнаруживаетс€ во фрагменте пеана древнегреческого поэта ѕиндара, посв€щенного жител€м города јбдеры и датируемого приблизительно серединой V века до н.э.:
ѕоскольку из многочисленных литературных источников известно, что в том же V веке до н.э. √екате поклон€лись и в јфинах, весьма веро€тно, что культ ее очень быстро распространилс€ по всему Ёгейскому региону в конце VI Ч начале V столетий. ќтдельные упоминани€ о ней встречаютс€ в литературе и раньше Ч в Ђ“еогонииї √есиода (VIII в. до н.э.) и в гомеровом гимне Ђ ƒеметреї (VII в. до н.э.), но только в V столетии они станов€тс€ достаточно частыми и дают нам право утверждать, что теперь эта богин€ приобрела в греческой культуре весьма значительную роль.
Ќо как проследить истоки культа √екаты, зародившегос€, несомненно, задолго до первого упоминани€ ее имени в Ђ“еогонииї √есиода в VIII веке до н.э.? ‘он –удлофф в своей книге Ђ√еката в религии древних грековї высказывает предположение, что триада имен в одной из надписей, выполненных линейным письмом Ѕ и относ€щихс€ к бронзовому веку, св€заны именно с √екатой и двум€ другими богин€ми Ёлевсинского культа Ч ƒеметрой и ѕерсефоной. Ёто имена Ђ»фимеде€ї, Ђѕересваї и Ђƒиви€ї, присутствующие в перечне божественных имен на глин€ной табличке Tn316, обнаруженной в городе ѕилосе на южном побережье √реции и датируемой XIII веком до н.э. ѕервое из них, теоретически, может быть вариантом имени √екаты, поскольку та св€зана с »фигенией, упом€нутой под именем Ђ»фимедаї в гесиодовском Ђ аталоге женщинї (VIII в. до н.э.); второе предположительно происходит от того же корн€, что и им€ Ђѕерсефонаї, а третье может означать Ђсветла€ї или Ђбогата€ богин€ї и представл€ть собой эпитет ƒеметры.
≈ще одно указание на происхождение образа √екаты дает ее св€зь со львами. »зображени€ √екаты между двух львов не относ€тс€ к числу древнейших, но все же намекают на ближневосточные корни этой богини. »конографи€ »нанны, јстарты и ибелы свидетельствует, что изображени€ богинь в сопровождении двух львов Ч весьма характерна€ дл€ Ѕлижнего ¬остока особенность. ¬прочем, не следует забывать, что между двум€ большими кошками изображалась также јртемида, поэтому упом€нутые изображени€ √екаты Ч в силу своего позднего по€влени€ Ч могут быть следствием синкретического сли€ни€ √екаты с јртемидой.²
_________________________
[2] “еори€ о синкретичности јртемиды и √екаты Ч ошибочна€. √еката Ч отделивша€с€ от јртемиды ее хтоническа€ ипостась, именно поэтому их так трудно друг от друга отличить. ќбеих богинь изображали в одинаковых коротких туниках и в сопровождении псов. ќтличительным атрибутом јртемиды считаетс€ лук и колчан, хот€ и √екату также характеризуют как ночную Ђохотницуї. ћало того, Ђ√екатаї Ч один из эпитетов јртемиды, означает Ђƒалекораз€ща€ї (этот же эпитет носит ее брат јполлон).
≈щЄ один из эпитетов јртемиды Ч Ђ—ветоносна€ї (другой перевод, с греческого, этого эпитета Ч Ђ‘акелоносна€ї), и ее, в этой св€зи (как и ƒеметру), изображали с факелом, либо двум€ факелами. ’от€, по наличию факелов, обычно, атрибутируют √екату.
греческого, этого эпитета Ч Ђ‘акелоносна€ї), и ее, в этой св€зи (как и ƒеметру), изображали с факелом, либо двум€ факелами. ’от€, по наличию факелов, обычно, атрибутируют √екату.
Ἑκάτη, дор. Ἑκάτα (κᾰ) ἡ √еката
ἕκᾰτος 3 [ἑκάς] далекораз€щий (эпитет јполлона и јртемиды) Hom., Her., Aesch.
ἑκατηβόλος (ἑκᾰτη-βόλος), дор. ἑκατᾱβόλος 2 далеко мечущий.
Φωσφόρος ἡ (sc. θεά) јртемида —ветоносна€ Arph.
»зображени€ √екаты со львами встречаютс€ на фризе храма в Ћагине и на монетах; кроме того, в св€зи с этими животными богин€ упоминаетс€ в более поздний период в Ђ’алдейских оракулахї и греческих магических папирусах. ¬ Ђ’алдейских оракулахї √еката описываетс€ как Ђвладеюща€ львамиї, и от лица ее говоритс€: Ђ≈сли будешь взывать ко ћне часто, узришь все сущее в образе льваї (’алдейские оракулы 18, 147).
¬ греческих магических папирусах мы находим Ђћолитву к —елене дл€ любых заклинанийї, по содержанию похожую, скорее, на обращение к √екате. ¬ этом тексте обнаруживаетс€ фраза: ЕЂты стоишь под защитой двух львов, подн€вшихс€ на дыбыї.
ак аргумент в пользу негреческого происхождени€ √екаты приводилс€ также тот факт, что в жертву ей приносили собак: эти животные использовались дл€ подношений только иноземным богам, вошедшим в греческий пантеон (в частности, јресу).
»сследу€ археологические и литературные указани€ на истоки культа √екаты, необходимо также учитывать происхождение, приписывавшеес€ ей в разные периоды в письменных изложени€х мифов. ¬ Ђ“еогонииї √есиода родител€ми √екаты называютс€ богин€ јстери€ (Ἀστερία, Ђ«вездна€ї) и ее супруг, титан ѕерс (Πέρσης, Ђ–азрушительї):
јстери€ ассоциировалась с ночным небом Ч не только как покровительница астрологии, но и как подательница вещих снов. ¬ храме јстерии на острове ƒелос практиковалась инкубаци€ Ч обычай оставатьс€ в св€тилище на ночь, чтобы получить пророческий сон. ѕо-видимому, эту св€зь с оракулами и сновидени€ми јстери€ передала своей дочери √екате по наследству. —естрой јстерии была Ћето, родивша€ от «евса божественных близнецов јртемиду и јполлона, которым √еката приходилась, соответственно, двоюродной сестрой. ¬последствии образы √екаты и јртемиды сблизились очень тесно и даже слились воедино.
¬ гомеровом гимне Ђ ƒеметреї (VII в. до н.э.) использована та же верси€ происхождени€ √екаты, что и в Ђ“еогонииї: богин€ описываетс€ здесь как Ђѕерсеева дочерь, нежна€ духом √еката, с блест€щей пов€зкою деваї.
Ёту версию, наиболее распространенную из всех, поддерживало большинство авторов, вплоть до ѕсевдо-јполлодора, привод€щего ее в своей Ђћифологической библиотекеї (II в. н.э.), и Ћикофрона (III в. н.э.), упоминающего √екату как Ђдевственную дочь ѕерсе€, Ѕримо “риморфосї. Ёпитеты ЂЅримої (Ђгневна€ї или Ђгрозна€ї) и Ђ“риморфосї (Ђтрехтела€ї или Ђимеюща€ три обличь€ї) примен€лись к √екате часто. Ёта богин€ устойчиво ассоциировалась с числом три, играющим важную роль в ее культе и св€занных с нею магических обр€дах:
¬ схоли€х к поэме јполлони€ –одосского Ђјргонавтикаї о родител€х √екаты привод€тс€ различные мнени€. ”тверждаетс€, что в орфических гимнах она названа дочерью ƒео (ƒеметры), у ¬акхилида Ч дочерью Ќикты (Ќочи), у ћусе€ Ч дочерью «евса и јстерии, а также что ‘ерекид считает отцом √екаты јристе€.
Ёти разноречивые сведени€ в действительности св€заны между собой более тесно, чем может показатьс€ на первый взгл€д. “о обсто€тельство, что в орфических гимнах √еката именуетс€ дочерью ƒеметры, представл€етс€ вполне естественным в свете того, что гомеров гимн Ђ ƒеметреї использовалс€ в орфических мистери€х. √еката совершенно логично вводитс€ в семью богинь, занимающих центральное место среди сил подземного царства и, следовательно, играющих ключевую роль в переселении душ Ч важнейшей теме орфических мистерий.
Ќикта (Ќочь) отождествл€лась с јстерией, ибо что такое ночь, как не само звездное небо? Ќикта была одной из первозданных сил вселенной, от которых произошли боги. –оль «евса как отца √екаты также не вызывает удивлени€: во-первых, он породил и многих других богов, а во-вторых, он нар€ду с √екатой играет важнейшую роль в Ђ’алдейских оракулахї.
Ѕолее любопытна верси€, по которой отцом √екаты был јристей Ч бог, научивший людей использовать целебные травы, разводить пчел, добывать мед и варить медовуху, выращивать оливки и делать сыр. ќбычно он считаетс€ сыном јполлона и нимфы ирены, хот€ у ¬акхилида его родител€ми названы √е€ («емл€) и ”ран (Ќебо).
¬о врем€ расцвета –има, √еката часто упоминаетс€ в качестве персонажа разных мистериальных культов, как, например, на римской посв€тительной надписи IV века н.э.:
»з другой римской надписи того же периода €вствует, что с √екатой св€зывалс€ некий мистериальный культ, подобный мистери€м индо-иранского бога ћитры, фригийской богини ибелы и элевсинских божеств. «десь посв€щенной нескольких мистериальных культов именуетс€ жрица ѕаулина:
Ќаиболее тесно с √екатой св€зывались другие хтонические божества (√ермес, јид, ѕерсефона и √е€), а также «евс, –е€, ƒеметра, ћитра, ибела и солнечные боги √елиос и јполлон. »мена хтонических богов Ч √ермеса, јида, ѕерсефоны и √еи Ч также чаще прочих встречаютс€ на дефиксионах (табличках с прокл€ти€ми), а «евс и –е€ фигурируют в Ђ’алдейских оракулахї (причем «евс Ч в качестве центрального божества).
— течением времени с √екатой частично или полностью отождествились некоторые другие богини Ч такие, как Ѕримо, ƒеспони€, Ёноди€, √енетиллида, отида, ратеида и уротрофа. роме того, ее стали сближать, а нередко и отождествл€ть с такими богин€ми, как јртемида, —елена, ћена, ѕерсефона, ‘изида, Ѕендида, Ѕона ƒеа, ƒиана, Ёрешкигаль и »сида.
Ќередко √еката ассоциировалась с √ермесом, поскольку из всех представителей мужской части греческого пантеона он был наиболее тесно св€зан с иде€ми рубежа и порога. Ќа дефиксионах √ермес ’тоний часто упоминаетс€ вместе с √екатой ’тонией. —тату€ √ермеса ѕропилейского, сто€вшего, по сообщению ѕавсани€, у входа в афинский акрополь, выполн€ла ту же защитную функцию, что и изображени€ √екаты ѕропилеи. ј в св€зывающем заклинании из греческого магического папируса (PGM III. 1-164) имена двух этих божеств даже соедин€ютс€ в единое им€ √ермеката (Ἑρμεκάτη).
“акже в св€зи с √екатой в различных сюжетах фигурирует √елиос. ¬ гомеровом гимне Ђ ƒеметреї √елиос Ч единственный, кто нар€ду с √екатой слышит крик похищаемой ѕерсефоны. —ближены эти два божества и во фрагменте гимна из утраченной пьесы —офокла Ђ«ельекопыї (V век до н.э.):
ѕо числу упоминаний в греческих магических папирусах √елиос (иногда отождествл€емый с јполлоном) занимает первое место среди богов, а √еката Ч среди богинь. роме того, √елиос и √еката упоминаютс€ (хот€ и по отдельности) в различных источниках как родители волшебниц ирки и ћедеи. ѕо одной из версий, √елиос был дедом √екаты, котора€, в свою очередь, родила двух упом€нутых чародеек:
¬ Ђјргонавтикеї ћеде€ призывает √елиоса и √екату (ѕерсеиду, т.е. дочь ѕерса) в свидетели своей кл€твы:
«евс также устойчиво ассоциируетс€ с √екатой Ч еще со времен Ђ“еогонииї, где
Ќекоторые источники называют «евса ее отцом. ¬двоем же «евс и √еката составл€ют центральную пару божеств Ђ’алдейских оракуловї: √еката выступает как посредница, —отера (Ђспасительницаї), несуща€ божественное вли€ние верховного бога, «евса, во все миры и всем живым создани€м.
»ногда √еката отождествл€етс€ с матерью чудовищной —киллы Ч морской богиней ратеидой,³ а иногда и с самой —киллой. —ли€ние этих персонажей объ€сн€етс€, среди прочего, тем, что ратеида, как и √еката, носила эпитет —килакагетис (Ђѕредводительница собакї). ¬ Ђјргонавтикеї √ера, покровительница ясона, просит морскую богиню ‘етиду уберечь аргонавтов:
[3] Κραταιΐς (-ΐδος) ἡ ратаида, мать —киллы Hom.
√≈ ј“ј ¬ ЁЋ≈¬—»Ќ≈
Ёлевсин был дл€ ƒревней √реции тем же, чем впоследствии дл€ ≈вропы стал ¬атикан: неверо€тно вли€тельным и могущественным религиозным центром. ¬ Ёлевсине поддерживалс€ мистериальный культ, включавший ¬еликие и ћалые мистерии, в основе которых лежал миф о богине плодороди€ ƒеметре и ее дочери ѕерсефоне. ѕосв€щение в Ёлевсинские таинства считалось исключительно важным как с общественной, так и с духовной точки зрени€: оно не только придавало посв€щенному более высокий статус, но и, как полагали, обеспечивало счастливую загробную жизнь в подземном мире, царицей которого была ѕерсефона.
ульт √екаты Ч нар€ду с культами ƒеметры и ѕерсефоны Ч тесно переплеталс€ с Ёлевсинскими мистери€ми. ”ченый II века до н.э. јполлодор јфинский в своей Ђ’роникеї (III.XIV.7) сообщает, что после смерти афинского цар€ Ёрихтони€ на престол взошел его сын ѕандион, в царствование которого ƒеметра пришла в јттику и была гостеприимно прин€та царем Ёлевсина елеем. Ќа основании этого упоминани€ пришествие ƒеметры в Ёлевсин относили к периоду 1462-1432 до н.э.
ƒалее в той же Ђ’роникеї утверждаетс€, что первые мистерии в Ёлевсине состо€лись в правление цар€ Ёрехте€, около 1409 до н.э. “аким образом, если участие √екаты в Ёлевсинских мистери€х не €вл€етс€ позднейшей интерпол€цией, если эта богин€ присутствовала в них с самого начала, это свидетельствует о том, что в √реции она была известна уже в XV в. до н.э., за семь столетий до первого письменного упоминани€ ее имени (в Ђ“еогонииї).
—в€зь √екаты с Ёлевсинскими мистери€ми сбросить со счетов невозможно. Ќесмотр€ на все разнообразие теорий и домыслов о характере таинств и ритуалов, совершавшихс€ в ¬еликих и ћалых мистери€х, остаетс€ бесспорным одно, а именно Ч что Ёлевсин был чрезвычайно важным духовным центром. Ёлевсинские жрецы владели огромными участками земли и были неверо€тно богаты; их политическое вли€ние простиралось на весь известный эллинам мир. јрхеологические находки свидетельствуют, что св€тилище в Ёлевсине могло существовать уже около 1500 года до н.э., подтвержда€ тем самым датировку из Ђ’роникиї јполлодора.
—огласно греческому географу ѕавсанию, меньший по размерам храм, сто€вший у входа в главное св€тилище, был посв€щен јртемиде ѕропилее и морскому богу ѕосейдону. ћежду тем Ђѕропиле€ї Ч Ђѕривратницаї Ч это один из главных эпитетов √екаты, и не исключен, что в действительности храм был посв€щен не јртемиде, а √екате и ѕосейдону. “ем более что јртемида не упоминаетс€ с этим эпитетом ни в каких других источниках и не св€зана с мистери€ми ѕерсефоны и ƒеметры, составл€вшими элевсинский культ.
√еката, напротив, ассоциировалась в других источниках (например, в той же Ђ“еогонииї) с ѕосейдоном и, кроме того, в жертву ей нередко приносили рыбу. ≈ще одно свидетельство в пользу этой гипотезы обнаруживаетс€ на вазе, найденной при раскопках на месте малого элевсинского св€тилища. Ќа ней изображена бегуща€ дева с двум€ факелами в руках, которую большинство современных исследователей отождествл€ют с √екатой.
√омеров гимн Ђ ƒеметреї Ч это, по сути, канонический текст элевсинского культа: в нем излагаетс€ миф о похищении ѕерсефоны. Ќапомним читател€м этот сюжет, чтобы про€снить, какую роль сыграла в нем √еката.
јид, бог подземного мира, был одинок на своем троне. „тобы скрасить одиночество брата, «евс, владыка богов, дозволил ему похитить свою дочь ѕерсефону и вз€ть ее в жены. “огда јид замыслил ловушку дл€ юной девы, и богин€ земли √е€ вырастила по его просьбе прекрасный цветок нарцисса. —обира€ цветы на Ќисейской равнине с другими юными богин€ми, ѕерсефона заметила нарцисс, росший в стороне, и направилась к нему, отделившись от подруг. Ќо тут јид вырвалс€ из-под земли на своей колеснице, схватил ѕерсефону и умчал ее в подземное царство. ≈динственными свидетел€ми похищени€ оказались √еката, котора€ услышала из своей пещеры крик ѕерсефоны, и √елиос, бог солнца, видевший с неба все, что произошло.
ѕерсефона тщетно взывала из-под земли к своей матери, а ƒеметра столь же тщетно искала дочь по всей земле. “ак продолжалось дев€ть дней, а на дес€тый √еката предстала перед ƒеметрой, поведала, что слышала отча€нный зов ѕерсефоны, и предложила вы€снить у √елиоса им€ похитител€. √елиос рассказал все, что видел, добавил, что подлинным виновником происшедшего был сам «евс, и попыталс€ убедить ƒеметру, что владыка подземного мира Ч достойный жених дл€ ее дочери. ќднако ƒеметра осталась безутешной. ¬ горе она скиталась по земле, изменив свой облик, пока, наконец, не пришла в Ёлевсин, где была прин€та во дворце и стала кормилицей ƒемофона, сына царицы ћетаниры.
ƒеметра отказывалась от пищи и пить€, до тех пор пока служанка ямба не развеселила ее непристойными шутками. “огда ћетанира поднесла богине вина, сдобренного медом, но ƒеметра отвергла его, велев вместо вина поднести ей напиток под названием кикейон Ч смесь €чмен€ с водой и полеем (болотной м€той). Ётот напиток впоследствии стал обр€довым в Ёлевсинских таинствах.
ƒеметра вскармливала младенца-царевича амброзией и каждую ночь тайно закал€ла его в огне, чтобы сделать бессмертным. Ќо однажды царица ћетанира застала ее за этим зан€тием и в ужасе вскрикнула, из-за чего обр€д прервалс€ и продолжить его было уже невозможно. ƒеметра открыла царице свою божественную сущность и сказала, что теперь ƒемофон останетс€ смертным, как любой другой человек. «атем она велела воздвигнуть ей храм в Ёлевсине и справл€ть таинства в ее честь. огда храм был построен, ƒеметра поселилась в нем и на целый год сделала землю бесплодной: урожай не взошел, и люди т€жко страдали и умирали от голода.
”видев с ќлимпа бедстви€, постигшие человечество, «евс послал к ƒеметре свою вестницу, богиню »риду. ƒеметра не откликнулась на зов; тогда все остальные боги стали приходить к ней с дарами, умол€€ вернутьс€ на ќлимп, но ƒеметра отвечала, что не сдвинетс€ с места и не снимет бесплодие с земли, пока ей не возврат€т дочь.
«евс вынужден был отправить √ермеса в подземное царство, и тот уговорил јида отпустить ѕерсефону. Ќо перед тем, как расстатьс€ с женой, јид дал ей съесть несколько зерен граната, из-за чего ѕерсефона оказалась прив€зана к подземному миру и обречена возвращатьс€ в него снова и снова. “ем не менее, на врем€ она воссоединилась с матерью; их обеих радостно встретила √еката, приветствовавша€ ѕерсефону в мире живых и ставша€ ее проводницей в ежегодном путешествии под землю. »бо «евс объ€вил, что ѕерсефона отныне об€зана проводить треть года в царстве мертвых, со своим мужем, а две трети Ч на земле, с матерью. ѕоэтому на третью часть года земл€ вс€кий раз становитс€ бесплодной: ƒеметра вновь оплакивает разлуку с дочерью.
¬ гомеровом гимне Ђ ƒеметреї √еката заключает ѕерсефону в объ€ти€ и далее именуетс€ буквально ее Ђпредшественницейї (πρόπολος) и Ђпоследовательницейї (ὀπάων). Ёто не столько описание функций √екаты, сколько указание на ее положение: при нисхождении ѕерсефоны в подземное царство √еката шествует перед ней, а при возвращении на землю Ч позади нее, чтобы уберечь ее от любых опасностей. Ќесмотр€ на то, что на третью часть года ѕерсефона принимает на себ€ функции хтонической царицы мертвых, на прот€жении остальных двух третей она вновь становитс€ кроткой и благодатной богиней, шествующей по земле. ѕоэтому в своих путешестви€х в подземный мир и обратно она нуждаетс€ в √екате как провожатой и защитнице.
ƒеметра была тесно св€зана с √екатой не только в Ёлевсинских мистери€х: известны другие храмы ƒеметры, в которых имелось св€тилище дл€ √екаты, выступавшей как стражница таинств, Ч храмы в —елинунте (—ицили€) и на острове —амофраки€.
храмы в —елинунте (—ицили€) и на острове —амофраки€.
¬ схоли€х к Ђјргонавтикеї ƒеметра названа матерью √екаты. Ёто можно истолковать как еще одно звено сложной цепи взаимосв€зей между √екатой, ƒеметрой и »сидой. ƒеметра часто отождествл€лась с »сидой, а »сида, в свою очередь, Ч с √екатой. √еката и ƒеметра св€зывались друг с другом в контексте Ёлевсинских мистерий. ƒеметра объедин€етс€ с »сидой в Ђ»сторииї √еродота (V в. до н.э.) и во многих более поздних текстах, таких как Ђ»сторическа€ библиотекаї ƒиодора —ицилийского (I в. до н.э.) или Ђћоралииї ѕлутарха (II в. н.э.).
ƒополнительный свет на тайны Ёлевсина проливают золотые вакхические погребальные таблички, относ€щиес€ к периоду с V века до н.э. по II век н.э. ¬ текстах этих табличек Ч погребальных даров посв€щенным в орфические мистерии Ч подчеркиваютс€ и важна€ роль √екаты в Ёлевсинских таинствах, и взаимосв€занность богинь, которым поклон€лись в Ёлевсине. Ѕримо (обычный эпитет √екаты) в вакхических табличках отождествл€етс€ с двум€ другими элевсинскими богин€ми Ч ƒеметрой и ѕерсефоной.
¬ вазописи √еката изображалась сто€щей у дверей св€тилища с двум€ факелами в руках, из чего следует, что основной ее функцией в Ёлевсинских мистери€х была роль проводницы (πρόπολος). ћожно предположить, что жрицы √екаты провожали соискателей через лабиринт подземных пещер и переходов, освеща€ им путь двум€ факелами. лимент јлександрийский сообщает, что далее разыгрывалась нека€ мистическа€ драма; из его описани€ можно сделать вывод, что перед соискател€ми ритуальным образом воспроизводилс€ миф о похищении ѕерсефоны как тот изложен в гомеровом гимне Ђ ƒеметреї:
ƒругой христианский автор, африканец Ћактанций, обращенный €зычник, подтверждает предположение о важной обр€довой роли жриц-факелоносиц. ¬ своем трактате ЂЅожественные установлени€ї (IV в.), он пишет, подразумева€ ту же мистическую драму, что и лимент:
— функци€ми ƒадофоры (Δαδοφορα, Ђфакелоносицаї), освещающей путь, св€заны и такие эпитеты √екаты, как ‘осфора (Φωσφόρα, Ђсветоносна€ї) и ѕирфора (Πυρφόρα, Ђогненосна€ї). ”казание на эту же роль встречаетс€ в одной недатированной схолии, где о √екате и јполлоне говоритс€, что они Ђозар€ют дороги светом: он Ч днем, она же Ч ночьюї. ¬последствии огонь ее факелов превратилс€ в плам€ звездных сфер и Ђумныйї огонь Ђ’алдейских оракуловї.
_______________________________
___________
јвторы статьи вплотную подход€т к вопросу (но не акцентируютс€ на нем): а не было ли изначально триморфное изображение √екаты Ч скульптурной композицией трех богинь ƒеметры, ѕерсефоны и √екаты? ¬едь, древнейшие статуи √екаты имеют мономорфный характер, о чем немало свидетельств.
¬ поэме Ћукана Ђ‘арсали€ї (I в. н.э.) фессалийска€ колдунь€ Ёрихто взывает к ѕерсефоне, упомина€ при этом √екату как свою богиню-покровительницу:
¬ ѕримечани€х к поэме даетс€ вариант персонификации трех форм √екаты, как владычицы на небе, на земле и под землей: соответственно, —елена, јртемида и ѕерсефона. Ќо јртемида Ч это та же —елена, богин€ Ћуны. ѕоэтому, если рассматривать ѕерсефону как Ђтретью √екатуї, то, однозначно, две другие персонификации Ч это јртемида-√еката (Ћуна) и ƒеметра, богин€ плодороди€. ѕерва€ Ч владычица на небе, втора€ Ч на земле.
ћало того, как упоминаетс€ в статье, в схоли€х к Ђјргонавтикеї ƒеметра напр€мую названа матерью √екаты. ѕрокл, повеству€ об орфических воззрени€х, называет ƒеметру матерью и оры, и √екаты, в то же врем€ отмеча€ тождественность √екаты и јртемиды:
»сход€ из этого, просто напрашиваетс€ предположение, что изначально Ђтриморфна€ї скульптурна€ композици€ подразумевала под собой троицу женских богинь, задействованных в элевсинских мистери€х. Ёлевсин имел огромное вли€ние не только в √реции, но и далеко за ее пределами. ультовые скульптуры в виде троицы богинь, веро€тно, экспортировались в достаточно далекие от Ёлевсина области. Ќо попав в другую культуру, при отсутствии понимани€ мистериального смысла Ђтроицыї, композици€ из трех богинь, очевидно, превратилась в трехипостасную богиню. ульт јртемиды в ћалой јзии был весьма попул€рен. ѕоэтому неудивительно, что именно јртемида-√еката Ђузурпировалаї триморфность с дальнейшим развитием образа, на базе местных Ђпредставлений о прекрасномї, преимущественно, в сторону хтоничности и, где-то даже, демонизации. ¬ то врем€ как в √реции Ђв древние времена √еката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению коней, охран€ла детей и юношей, даровала победу в сост€зани€х, в суде, на войнеї (в общем, полный функционал јртемиды), и это при наличии полного отсутстви€ в древних источниках свидетельств о полиморфности √екатыЕ
имел огромное вли€ние не только в √реции, но и далеко за ее пределами. ультовые скульптуры в виде троицы богинь, веро€тно, экспортировались в достаточно далекие от Ёлевсина области. Ќо попав в другую культуру, при отсутствии понимани€ мистериального смысла Ђтроицыї, композици€ из трех богинь, очевидно, превратилась в трехипостасную богиню. ульт јртемиды в ћалой јзии был весьма попул€рен. ѕоэтому неудивительно, что именно јртемида-√еката Ђузурпировалаї триморфность с дальнейшим развитием образа, на базе местных Ђпредставлений о прекрасномї, преимущественно, в сторону хтоничности и, где-то даже, демонизации. ¬ то врем€ как в √реции Ђв древние времена √еката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению коней, охран€ла детей и юношей, даровала победу в сост€зани€х, в суде, на войнеї (в общем, полный функционал јртемиды), и это при наличии полного отсутстви€ в древних источниках свидетельств о полиморфности √екатыЕ
ћј√»„≈— ќ≈ «ј Ћ»ЌјЌ»≈
[Tr.: E.N. O'Neil]


Ђѕриди ко мне, о возлюбленна€ госпожа, трехлика€ —елена (Σελήνη). Ћюбезно услышь мои св€щенные молитвы. ”крашение ночи, юное, принос€щее свет смертным, дит€ утра, едуща€ на могучих быках. ќ, царица, управл€юща€ колесницей наравне с √елиосом, кто с тройными формами тройного из€щества радостно танцует среди звезд [отождествление с ’аритами (Χάριτες), трем€ богин€ми из€щества (χάρις) и грации]. “ы Ч правосудие и Ђнить ћойрї (μοῖρα, Ђсудьбаї), в трех лицах: лото (Κλωθώ, Ђѕр€хаї) и Ћахес (Λάχεσις, Ђ–окї), и јтропос (Ἄτροπος, ЂЌеотвратима€ї). “ы Ч “исифона (Τισιφόνη, Ђмстительница за убийствої), ћегера (Μέγαιρα, Ђограничивающа€ї), јллекто (Ἀλληκτώ, Ђнеукротима€ї), многоморфна€, ты держишь в руках своих грозные, темные факелы, ты отверзаешь все замки́. “ы смахиваешь локоны ужасных змей со своего чела. “вой голос подобен бычьему рЄву. “вое тело, ниже спины, подобно змеиному, покрыто чешуей и неразделимо. Ќочна€ пророчица, быколика€, люб€ща€ одиночество, быкоглава€, волоока€, твой голос подобен лаю псов. “ы скрываешь свои львиные голени и волчьи лодыжки. —вирепые псы любимы тобой, и они отвечают тебе тем же. Ќе счесть имен твоих: ћена (Μήνη, Ђлунаї); рассекающа€ стрелами воздух јртемида; ѕерсефона, поражающа€ олен€. ќсвещающа€ ночь —елена троеглава€ и троелика€, троеше€€ и троегласа€, богин€ трех путей, несуща€ неугасимый пылающий огонь в трех светильниках, хранительница перекрестков, управительница трем€ декадами. ѕризываю теб€, будь милостива и добра ко мне, внемли, защитница и покровительница всего мира ночью, перед кем демоны дрожат от страха и трепещут бессмертные боги. Ѕогин€, в чьей силе возвысить человека, дающа€ справедливое потомство, призываема€ многими именами, волоока€, рогата€, мать богов и людей. ѕрирода, мать всего сущего. “ы восходишь на ќлимп и нисходишь в необъ€тную бездну. Ќачало и конец Ч ты едина и одна управл€ешь всем. ¬се происходит от теб€, и к тебе все возвращаетс€. ќхранительница своих св€тилищ, ты носишь цепи ¬еликого роноса, вечные и несокрушимые, в твоих руках Ч золотой скипетр. ѕисьмена на скипетре сам ронос начертал тебе, чтобы все вещи были устойчивыми в мире, требующа€ и исполн€юща€, хоз€йка человечества, и сила, хаосом управл€юща€. ¬озрадуйс€ и внемли, призывающим теб€ разными именами. я возжигаю дл€ теб€ эти благовони€, о дит€ «евса, лучница, едина€ на небесах, богин€ гаваней, блуждающа€ по горам, богин€ перекрестков. ќ подземна€, ночна€, адска€ богин€ тьмы, безмолви€ и ужаса, ты, кто находит свою пищу среди могил, ночи, темноты, великого хаоса, невозможно укрытьс€ от теб€. “ы Ч ћойра (Mοῖρα, Ђсудьбаї) и Ёрини€ (Ἐρινύς, Ђгневна€ї), ты совершаешь правосудие и караешь. “ы держишь ÷ербера на цепи, темна€, со змеиной чешуей, змееволоса€, опо€санна€ змеей, пьюща€ кровь, принос€ща€ смерть и разрушени€, пирующа€ сердцами, вкушающа€ плоть, пожирающа€ трупы, ты, принос€ща€ печаль и горе, распростран€юща€ безумие, прими мою жертву, и исполни мою просьбу.ї
голени и волчьи лодыжки. —вирепые псы любимы тобой, и они отвечают тебе тем же. Ќе счесть имен твоих: ћена (Μήνη, Ђлунаї); рассекающа€ стрелами воздух јртемида; ѕерсефона, поражающа€ олен€. ќсвещающа€ ночь —елена троеглава€ и троелика€, троеше€€ и троегласа€, богин€ трех путей, несуща€ неугасимый пылающий огонь в трех светильниках, хранительница перекрестков, управительница трем€ декадами. ѕризываю теб€, будь милостива и добра ко мне, внемли, защитница и покровительница всего мира ночью, перед кем демоны дрожат от страха и трепещут бессмертные боги. Ѕогин€, в чьей силе возвысить человека, дающа€ справедливое потомство, призываема€ многими именами, волоока€, рогата€, мать богов и людей. ѕрирода, мать всего сущего. “ы восходишь на ќлимп и нисходишь в необъ€тную бездну. Ќачало и конец Ч ты едина и одна управл€ешь всем. ¬се происходит от теб€, и к тебе все возвращаетс€. ќхранительница своих св€тилищ, ты носишь цепи ¬еликого роноса, вечные и несокрушимые, в твоих руках Ч золотой скипетр. ѕисьмена на скипетре сам ронос начертал тебе, чтобы все вещи были устойчивыми в мире, требующа€ и исполн€юща€, хоз€йка человечества, и сила, хаосом управл€юща€. ¬озрадуйс€ и внемли, призывающим теб€ разными именами. я возжигаю дл€ теб€ эти благовони€, о дит€ «евса, лучница, едина€ на небесах, богин€ гаваней, блуждающа€ по горам, богин€ перекрестков. ќ подземна€, ночна€, адска€ богин€ тьмы, безмолви€ и ужаса, ты, кто находит свою пищу среди могил, ночи, темноты, великого хаоса, невозможно укрытьс€ от теб€. “ы Ч ћойра (Mοῖρα, Ђсудьбаї) и Ёрини€ (Ἐρινύς, Ђгневна€ї), ты совершаешь правосудие и караешь. “ы держишь ÷ербера на цепи, темна€, со змеиной чешуей, змееволоса€, опо€санна€ змеей, пьюща€ кровь, принос€ща€ смерть и разрушени€, пирующа€ сердцами, вкушающа€ плоть, пожирающа€ трупы, ты, принос€ща€ печаль и горе, распростран€юща€ безумие, прими мою жертву, и исполни мою просьбу.ї
_____________________________
ќтождествление всевозможных богинь с луной в ћалой јзии Ч €вление весьма распространенное. ”дивл€ет, однако, широкое вовлечение, в процесс синкретизации, греческих Ђтройственныхї богинь, казалось бы, далеких от лунной интерпретации. “ех же, упом€нутых в заклинании, ’арит, например. Ќе менее интересное свидетельство, по поводу отождествлени€ ћойр и √оргон с Ћуной, дает лимент јлекс, повеству€ об орфической трактовке некоторых персонификаций:
¬ этой интерпретации, лото (Ђѕр€хаї), пр€дуща€ нить, Ђнаматывает пр€жу на веретеної, в св€зи с чем, серп луны день ото дн€ растет. ѕотом приходит врем€ полной луны Ћахесис, котора€, в свою очередь, Ђпередает веретеної јтропе (Ἄτροπος, ЂЌеотвратима€ї) и та, день за днем разматывает нить, до самого новолуни€.
“акже становитс€ пон€тным, почему из трех горгон смертной была лишь ћедуза. ћедуза, в рассматриваемой трактовке, Ч это Ђстареюща€ї (убывающа€) луна. Ђ— усекновением ее головыї, наступает новолуние.
‘ј ≈ЋќЌќ—Ќџ≈ Ѕќ√»Ќ»
_______________________________

‘аустина II (145-175). –им. —естерций (Æ 29mm, 24.65g), посмертный пам€тный выпуск 175/6г.
Av: бюст ‘аустины; DIVA FAVSTINA PIA
Rv: ƒиана с длинным факелом, за плечами Ч серп луны; SIDERIBVS RECEPTA
_______________________________

‘аустина II (145-175), дочь јнтонина ѕи€ и жена ћарка јврели€.
—естерций (Æ 23.95g), посмертный пам€тный выпуск 175/6г.
Av: бюст ‘аустины II в образе ƒеметры, голова покрыта пеплосом; DIVA FAVSTINA PIA
Rv: ƒеметра с длинным факелом; AETERNITAS / S C
_______________________________

оммод (177-192). изик, ћизи€. ћонетарий Ёлий Ётеоней (T. Aelius Eteoneus).
ћедальон (Æ 43mm, 41.04g), ок. 191/2г.
Av: бюст оммода в образе √еракла, в львиной шкуре, за плечами палица, на голове лавровый венок; AY KAI Λ M AY KOMMOΔOC ANT C™B ™YC ™YT POMAIOC HPAKΛHC
Rv: ƒеметра с двум€ факелами, перед ней Ч гор€щий жертвенник; ™ΠI APX T AIΛ ETEΩNEΩY KYZIKHNΩN N™ΩK
_______________________________
_
изик, ћизи€. √омоно€ (ὁμόνοια, содружество) с Ёфесом. —тратег лавдий —евер.
Æ 34mm (24.38g). ѕсевдо-автономный чекан времЄн јнтонина ѕи€ (138-161).
Av: голова оры в венке из колосьев; KOPH CΩT™IPA / KYZIKHNΩN
Rv: две культовые статуи городов Ђпобратимовї, Ёфесска€ јртемида и ƒеметра с двум€ факелами, почитавша€с€ в изике вместе с орой; APXΩN KΛ C™BHPOC / KYZIKHNΩN N™OKOPΩN
_______________________________

изик, ћизи€. √омоно€ (ὁμόνοια, содружество) со —мирной.
ћедальон (AE 44mm, 35.96g), 161-180гг.
Av: голова оры в венке из колосьев; KOPH CΩT™IPA / KYZIKHNΩN
Rv: ƒеметра с двум€ факелами, слева Ќемесида с колесом удачи, почитаема€ в —мирне, справа ора, покровительница изика; OMONOIA KYZIKHNΩN ΣMYPNAIΩN / ™ΠI CTPANAIB KYINTOY
_______________________________

¬алериан I (P. Aurelius Licinius Valerius Valerianus, 253-260). —арды (Σάρδεις), Ћиди€.
ћедальон (Æ 46mm, 42.11g). ћонетарий ƒомиций –уф (асиарх, сын второго асиарха).
Av: бюст ¬алериана в лучевой короне; AYT K ѕ ΛIK OYAΛ™PIANOC C™;
Rv: ƒеметра, с двум€ факелами, управл€ет бигой, запр€женной двум€ крылатыми зме€ми; ™ѕI ΔOM POY‘OY ACIAPX K YIOY B ACIAPX / CAPΔIANΩN TPI N™ΩKOP
_______________________________

јполлони€, »ллири€. ћагистраты ƒейнократ (Δεινοκράτεος) и ‘илокл (Φιλόκλης).
ƒрахма (AR 19mm, 3.86g), I в. до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке; ΔEINOKPATE
Rv: три нимфы Ћампады, танцующие с факелом в руках вокруг жертвенного огн€; AѕOΛ / ΦIΛOKΛHΣ
_______________________________

јполлони€, »ллири€. ћагистраты јрхен и Ќиконор. ƒрахма (AR 19mm, 3.88g), I в. до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке; APXHN
Rv: три нимфы Ћампады, танцующие с факелом в руках вокруг жертвенного огн€; AѕOΛ / NIKANΩP
Х Ќимфы факелоносицы (λαμπαδηφόρος), спутницы √екаты, именуемые также Ћампадами (λαμπάδοι), упоминаютс€ јлкманом (спартанский лирический поэт VII в. до н.э.; Alkman, fragment 63).
_______________________________

‘еры (Φεραί), ‘ессали€. —татер (AR 11.31g), 302-286 до н.э. ћагистрат јстомедон.
Av: голова нимфы √епереи в венке из тростника; слева источник √епере€, в виде головы льва, из пасти которого вытекает вода;
Rv: Ённоди€ (Ἐννοδία, Ђдев€тидорожна€ї), с двум€ факелами в руках, скачет на лошади; слева венок; ΑΣΤΟΜΕΔΟΝ (внутри венка) / ΦΕΡΑΙOYΝ
Х Ённодию отождествл€ют с √екатой и јртемидой, т.е. это не им€, а эпитет. Ёпитет Ённоди€ также употребл€етс€ с одной Ђнї, тогда он означает просто Ђдорожна€ї, т.е. покровительствующа€ путникам. ¬еро€тно, это упрощение происходит от того, что эпитет Ђдев€тидорожна€ї был заимствован из ‘ракии, и в √реции не находил должного понимани€.
Ἐννέα ὁδοί Ч ƒев€ть ѕутей (местность в области јмфипол€, во ‘ракии) Her., Thuc.
Ἐνοδία ἡ Ёноди€, Ђѕридорожна€ї (эпитет √екаты) Eur., Luc.
ἐνόδιος (ἐν-όδιος), эп. εἰνόδιος
1) наход€щийс€ у дороги, придорожный;
2) покровительствующий дорогам, охран€ющий пути;
ex. (Ἕρμῆς Theocr.); ἡ ἐνοδία θεός Soph. или δαίμων Plat. = Ἑκάτη
_______________________________

‘еры (Φεραί), ‘ессали€. —татер (AR 11.63g), 280-270 до н.э.
Av: голова нимфы √епереи в венке из тростника;
Rv: Ённоди€, с длинным факелом в руках, скачет на лошади; слева голова льва; ΦΕΡΑΙΩΝ
_______________________________

ѕостум (Postumus, 260-269). “реверы (Treveri), √алли€. јнтониниан (BI 20mm, 3.28g), ок. 266г.
Av: бюст ѕостума в лучевой короне; IMP C POSTVMVS P F AVG
Rv: ƒиана —ветоносна€ в короткой тунике, с факелом в руках и колчаном за спиной; DIANAE LVCIFERAE
_______________________________
_
‘ессали€ (Θεσσαλία), ‘ессалийска€ Ћига. ћагистраты Ќикократ, ‘илоксенид и ѕетрей (Nikokrates, Philoxenides, Petraios).
√емистатер (AR 2.88g), ок. 45 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке; NIKOKPATEYΣ;
Rv: јртемида —ветоносна€ (Φωσφόρος) с двум€ факелами; ‘IΛOΞE / ΘΕΣΣΑΛΩΝ / ѕ≈[TPA]
_______________________________

–имска€ республика. –им, монетарий ѕублий лодий. ƒенарий (AR 3.87g), 42 до н.э.
Av: голова јполлона, в лавровом венке, слева лира;
Rv: ƒиана, с луком и колчаном за плечами, держит два длинных гор€щих факела; P. CLODIVS M. F. (Publius Clodius Marci filius).
_______________________________

ѕеринф, ‘раки€. ѕсевдо-автономный чекан. Æ 24mm (7.94g), ок. II в.
Av: бюст ƒеметры в диадеме, голова покрыта пеплосом, держит мак и колось€;
Rv: јртемида с двум€ факелами; ѕE–INΘIΩN
_______________________________

√ордиан III (238-244). –им. јурей (AV 5.00g), 241/2г.
Av: бюст √ордина III, в лавровом венке; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Rv: ƒиана —ветоносна€ с длинным факелом; DIANA LVCIFERA
_______________________________

Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). √емидрахма (AR 2.29g), ок. 216-214 до н.э. јттический стандарт, выпуск времЄн ¬торой ѕунической войны.
Av: голова јполлона в лавровом венке; слева Ч звезда;
Rv: јртемида стоит с факелом, за плечом Ч колчан, в правой руке держит стрелу; у ног Ч собака; слева Ч краб; BPETTIΩN
_______________________________

ћарк јврелий, как цезарь (139-161). јпаме€, ¬ифини€. Æ 30mm, (16.71g).
Av: бюст ћарка јврели€; M AVRELIVS CAES AVG P F;
Rv: ƒиана —ветоносна€ управл€ет бигой, запр€женной олен€ми; в руках держит два факела, за плечом Ч колчан; DIANAE LVCIF AVG / C I C A D D (Colonia Iulia Concordia Apamea Decreto Decurionum).
_______________________________

‘аустина —тарша€, жена јнтонина ѕи€. –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.61g), 147г.
Av: бюст ‘аустины; DIVA FAVSTINA
Rv: ƒеметра стоит с длинным факелом, в правой руке держит пучок колосьев; AVGVSTA
_______________________________

√ордиан III (238-244). ѕеринф, ‘раки€. ћедальон (Æ 41mm, 40.74g). √омоно€ (ὁμόνοια, содружество) с Ќикомедией.
Av: бюст √ордиана в лавровом венке; AYT K M ANT √OPΔIANOC AY√
Rv: ƒеметра, покровительница Ќикомедии, держит длинный факел; голова, украшенна€ венком из колосьев, покрыта пеплосом; против нее стоит “юхе, покровительница ѕеринфа, с –огом изобили€ в левой руке; ѕE–INΘIΩN ΔΙC ΝEΩΚΟΡΩΝ / ΝΙΚΟΜΗΔEΩΝ / OMONOIA
_______________________________

лавдий (41-54). –им. ƒупондий (Æ 27mm, 13.18g), ок. 41-50гг.
Av: бюст лавди€; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP
Rv: ƒеметра на троне с факелом и пучком колосьев; CERES / S C
_______________________________

аракалла (198-217). —ердика, ‘раки€. Æ 30mm (18.62g).
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AYT K M AYP CEYH ANTΩNEINOC
Rv: ƒеметра с длинным гор€щим факелом, который обвивает зме€; в правой руке держит патеру; р€дом стоит мистическа€ циста, из которой выползает зме€; OYΛѕIAC CEPΔIKHC
_______________________________

аракалла (211-217). —тратонике€, ари€. ћедальон (Æ 19.79g), ок. 202-211гг.
Av: бюсты аракаллы в лавровом венке и его жены ѕлавтиллы (Publia Fulvia Plautilla) в диадеме; между ними две контрмарки: голова в шлеме и Θ™ΟΥ / ΡΑ ΚΑ N Μ ΑΥΡ ΑΝ ΚΑΙ Θ™ —™Β Ν™ Τ—ΛΑΥΤΙΛ
Rv: √еката, с модиусом на голове, в левой руке Ч факел, в правой Ч патера, р€дом собака; CΤΡΑΤΟΝ™ΙΚ™ΟΝ ™ΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡ ΤΒ ΚΑ ΔΙΟΝΥCΙΟΥ
_______________________________

—тратонике€ (Στρατονίκεια), ари€. ƒрахма (AR 18mm, 3.69g), конец I в. до н.э. ћагистрат «опир (Ζώπυρος).
Av: голова √екаты в лавровом венке, над головой Ч полумес€ц; ZΩѕYPOΣ
Rv: культова€ стату€ «евса ’рисаоре€, со скипетром, верхом на коне; ΣTPA
_______________________________

—тратонике€ (Στρατονίκεια), ари€. √емидрахма (AR 15mm, 1.43g), ок. 41-68гг.
Av: голова √екаты в лавровом венке, над головой Ч полумес€ц; ™ΚΑΤΑΙΟC CѠC ΑΝΔΡΟΥ (Ἑκαταῖος σῶς ἀνδρόυ Ч Ђ√екате, защитнице человекаї).
Rv: в квадратном поле крылата€ Ќика с пальмовой ветвью и лавровым венком; CΤΡΑΤΟΝΙΚ™ѠΝ
_______________________________
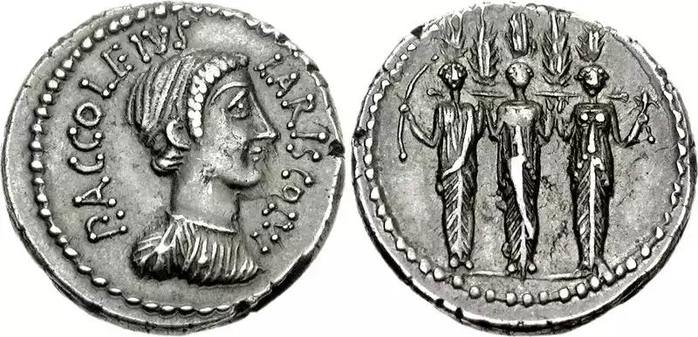
–имска€ республика. –им, монетарий ѕублий јкколей Ћарискол.
ƒенарий (AR 4.14g), 43 до н.э.
Av: бюст ƒианы Ќемийской (Diana Nemorensis); P ACCOLEIVS LARISCOLVI
Rv: триморфна€ ƒиана, представленна€ јртемидой (с луком в руке), √екатой и —еленой (держащей в руке лилию); позади Ч верхушки п€ти кипарисов.
_______________________________

ёли€ ћаме€ (Julia Mamaea Augusta, 222-235). “омы, Ќижн€€ ћези€. Æ 24mm (10.56g).
Av: бюст ёлии ћамеи; IOYΛIA MAMAIA AY√
Rv: бюст √екаты (triform) на колонне, в руках Ч змеи, ножи и факелы; MHTPOѕONTOY TOMEΩC / Γ (denomination).
_______________________________

—ептимий —евер (Lucius Septimius Severus, 193-211). јпаме€, ‘риги€. Æ 15mm (2.41g).
Av: бюст богини “юхе в башенной короне; AΠAM™IA
Rv: триморфна€ √еката; CΩT™IPA
_______________________________

јдриан (117-138). √аликарнасс, ари€. Æ 26mm (10.59g), ок.117-125гг.
Av: бюст јдриана в лавровом венке; AYTOKPATOP TPAIANOC AΔPIANOC KAI C™;
Rv: √еката (triform) с шестью факелами; AΛIKAPNACC™ΩN
_______________________________

јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, 190-180 до н.э.). √реко-бактрийское царство. “етрадрахма (AR 31mm, 16.51g).
Av: бюст јгафокла с тенией на голове;
Rv: «евс, со скипетром в левой руке, в правой руке держит статуэтку трехликой √екаты с факелами; BAΣIΛEΩΣ AΓAΘOKΛEOΥΣ
_______________________________
ќ–‘»„≈— »≈ √»ћЌџ
I. √≈ ј“≈
я придорожную славлю √екату пустых перекрестков,
—ущую в море, на суше и в небе, в шафранном нар€де,
“у, примогильную, славлю, что буйствует с душами мертвых,
“у нелюдимку ѕерсею, что ланьей гордитс€ упр€жкой,
Ѕуйную славлю царицу ночную со свитой собачьей.
Ќе опо€сана, с рыком звериным, на вид неподступна,
ќ “авропола, о ты, что ключами от целого мира
ћощно владеешь, кормилица юношей, нимфа-вождин€,
√орных жилица высот, безбрачна€ Ч € умол€ю,
¬н€в моленью, гр€ди на таинства чистые наши
— лаской к тому волопасу, что вечно душою приветен!
VIII. —≈Ћ≈Ќ≈
¬немли, богин€, царица —елена, дар€ща€ светом!
— рожками бычьими ћес€ц, брод€щий в ночи небожитель!
¬ факелах шествий ночных, о Ћуна, благозвездна€ дева,
“о ты полнеешь, то таешь, и женщина ты, и мужчина,
ќ конелюбица, о плодоносна€, матерь ты году,
√рустное ночи светило, блест€ща€, вс€ из электра,
“ы, о бессонна€, ты, о всезр€ща€, в звездном уборе,
¬ радость тебе Ч тишина и счастье благого удела,
ѕрелестью блещешь, нос€ща€ рожки, ночи украшенье,
¬ пеплосе тонком ты кружишь, всемудра€ звездна€ дева,
Ќыне, блаженна€, добра€, в свете своем благозвездном,
¬ полном си€нье €вись, хран€ неофитов, о дева!
XXIX. √»ћЌ ѕ≈–—≈‘ќЌ≈
ќ, гр€ди, ‘ерсефона, рожденна€ «евсом великим,
≈динородна€, жертвы прими благосклонно, богин€!
“ы, жизнетворна€, мудра€, ты, о супруга ѕлутона,
“ы под пут€ми земными владеешь вратами јида,
¬етка св€та€ ƒеметры, в прелестных кудр€х ѕраксидика,
“ы ≈вменид породила, подземного царства царица,
ƒева, рожденна€ «евсовым семенем неизречимым,
ћать ≈вбуле€, чей образ изменчив, грем€щего страшно,
—верстница ќр светоносна€, в блеске красы несказанной,
ќ вседержаща€ дева, плодами обильна€ щедро,
—мертным одна ты желанна, рогата€, в блеске прекрасном.
¬ешней порою на радость тебе дуновени€ с луга,
“ело св€тое твое указуют зеленые всходы,
ќсенью вновь похищаема ты дл€ брачного ложа,
“ы одна Ч и жизнь, и смерть дл€ людей многобедных,
‘ерсефона Ч всегда ты Ђнесешьї и всегда Ђубиваешьї.
¬немли, блаженна€, из-под земли урожай посыла€,
ƒай процветание в мире, здоровье с цел€щею дланью,
Ѕлагополучную жизнь, что под т€жкую старость приходит
¬ царство твое, о царица, к ѕлутону, чь€ благостна сила.
XL. ƒ≈ћ≈“–≈ ЁЋ≈¬—»Ќ— ќ…
¬немли, ƒео, богин€-всематерь, почтеннейший демон,
ёность раст€ща€, счасть€ дар€ща€ ты, о ƒеметра,
“ы надел€ешь, богин€, богатством, питаешь колось€,
ћир, всецар€ща€, любишь, трудам многохлопотным рада,
» семена ты хранишь, и зеленые всходы, и жатву,
¬ кучи ссыпаешь зерно, Ёлевсинской долины жилица.
—мертного люда кормилица, всем ты мила и желанна,
ѕахарю перва€ ты быков запр€женных вручила,
—мертным жела€ подать отрадное в жизни обилье,
“ы, сотрапезница Ѕроми€, славна€, все уточн€ешь,
‘акелоносна€, чиста€, серп тебе летний Ч отрада.
“ы, о подземна€, €вна€ всем, ты ко всем милосердна,
ƒетолюбива€, добра€ матерь, раст€ща€ юность,
“ы запр€гла колесницу Ч вс€ упр€жь ее змеевидна,
¬акховы буйные пл€ски твой трон окружают, лику€,
≈динородна€, о многоплодна€, о всецарица.
“ы, о цветочна€, чиста€, разна€ в обликах многих
Ќыне гр€ди, о блаженна€, летними полн€сь плодами,
ћир к нам веди, приведи желанное благозаконье,
—лавный достаток и с ними всему господина Ч здоровье!
_______________________________
√»ћЌ ƒ≈ћ≈“–≈. √ќћ≈–
ƒев€ть скиталас€ дней непрерывно ƒео пречестна€,⁶
— факелом в каждой руке, обход€ всю широкую землю,
» не вкусила ни разу амвросии с нектаром сладким,
ожи нетленной своей не омыла ни разу водою.
Ќо лишь дес€та€ в небе забрезжила светла€ Ёос,⁷
¬стретилась скорбной богине √еката, державша€ светоч,
¬еству€ матери, слово сказала и так взговорила:
Ђѕышнодар€ща€, добропогодна€ матерь ƒеметра!
то из небесных богов или смертных людей дерзновенно
ѕерсефонею похитил и милый твой дух опечалил?
√олос ее € слыхала, однако не видела глазом,
то Ч похититель ее. ѕо совести все говорю €їЕ
“ак говорила √еката. » ей не ответила речью
–еи прекрасноволоса€ дочь, но вперед устремилась
— факелом в каждой руке, в сопутствии девы √екаты.
<Е>
ƒева-√еката приблизилась к ним [к ƒеметре и оре] в покрывале блест€щем;
„истую дочерь ƒеметры в объ€ть€ она заключила.
— этой поры ей служанкой и спутницей стала царица.
(√омеровы гимны. ƒеметре, 47-61; 438-440)
________________________________
[6] Δηώ (-οῦς) ἡ ƒео, т.е. ƒеметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
[7] ἕως, эп.-ион. ἠώς, дор. ἀώς, эол. αὔως ἡ утренн€€ зар€.
_______________________________

изик, ћизи€. ћедальон (Æ 42mm, 37.70g), II в.
Av: голова оры в венке из колосьев; KOPH CΩT™IPA / KYZIKHNΩN
Rv: на крыше храма Ч три статуи богинь, ƒеметра Ч с двум€ факелами, и по кра€м факелоносные ора и јртемида; р€дом с храмом Ч два длинных факела, обвитые зме€ми; KYZIKHNΩN N™OKOPΩN
_______________________________

јдриан (117-138). изик, ћизи€. Æ 31mm (22.27g).
Av: бюст јдриана в лавровом венке; AYT KAI TPAI AΔPIA CEB
Rv: на крыше храма Ч статуи ƒеметры, оры и јртемиды с факелами; KYZIKHNΩN
_______________________________

изик, ћизи€. Æ 28mm (14.17g), II в.
Av: бюст изика (Κύζικος, гений и эпоним города); KYZIKOC
Rv: на крыше храма Ч статуи ƒеметры, оры и јртемиды с факелами; KYZIKHNΩN N™ΩKOPΩN
_______________________________
√≈ ј“ј: ѕќ√–јЌ»„Ќџ≈ ќЅ–яƒџ
(ѕеревод јнны Ѕлейз)
_________________________Еее перед всеми
«евс отличил √ромовержец и славный удел даровал ей:
ѕравить судьбою земли и бесплодно-пустынного мор€.
Ѕыл ей и звездным ”раном почетный удел предоставлен,
Ѕолее всех почитают ее и бессмертные боги.
»бо и ныне, когда кто-нибудь из людей земнородных,
∆ертвы свои принос€ по закону, о милости молит,
“о призывает √екату: большую он честь получает
ќчень легко, раз молитва его прин€та благосклонно.
Ўлет и богатство богин€ ему: велика ее сила.
ƒолю имеет √еката во вс€ком почетном уделе
“ех, кто от √еи-«емли родилс€ и от Ќеба-”рана,
Ќе причинил ей насиль€ ронид и не отн€л обратно,
„то от “итанов, от прежних богов, получила богин€.
¬се сохранилось за ней, что при первом разделе на долю
¬ыпало ей из даров на земле, и на небе, и в море.
„ести не меньше она, как едина€ дочь, получает, Ч
ƒаже и больше еще: глубоко она чтима ронидом.
ѕользу богин€ большую, кому пожелает, приносит.
’очет Ч в народном собранье любого меж всех возвеличит.
≈сли на мужегубительный бой снар€жаютс€ люди,
–€дом становитс€ с теми √еката, кому пожелает
ƒать благосклонно победу и славою им€ украсить.
¬озле достойных царей на суде восседает богин€.
ќчень полезна она, и когда сост€заютс€ люди:
–€дом становитс€ с ними богин€ и помощь дает им.
ћощью и силою кто победит Ч получает награду,
–аду€сь в сердце своем, и родител€м славу приносит.
онникам также дает она помощь, когда пожелает,
“акже и тем, кто, средь синих, губительных волн промышл€€,
—танет молитьс€ √екате и шумному Ённосигею.
ќчень легко на охоте дает она много добычи,
ќчень легко, коль захочет, покажет ее Ч и отнимет.
¬месте с √ермесом на скотных дворах она множит скотину;
—тадо ль вразброску пасущихс€ коз иль коров круторогих,
—тадо ль овец густорунных, душой пожелав, она может
—амое малое сделать великим, великое ж Ч малым.
“ак-то, Ч хот€ и едина€ дочерь у матери, Ч все же
ћежду бессмертных богов почтена она вс€ческой честью.
¬верил ей «евс попеченье о дет€х, которые узр€т
ѕосле богини √екаты восход многовид€щей Ёос.
»скони юность хранит она. ¬от все уделы богини.
(√есиод. “еогони€, 411-452)
Ѕогин€ √еката входила в число важнейших божеств древнего мира. «ародившись во тьме доисторических времен, ее культ сохран€лс€ на прот€жении трех тыс€челетий. ќн пережил периоды греческой архаики, классики и эллинизма, –имскую и ¬изантийскую империю и даже Ђтемные векаї ≈вропы, ибо следы древнего поклонени€ этой богине обнаруживаютс€ даже в эпоху ¬озрождени€.
√еката была богиней рубежей, властительницей всех границ и переходных периодов в человеческой жизни. роме того, она почиталась как защитница, отвращающа€ зло и вывод€ща€ на верный путь, о чем свидетельствуют некоторые из ее многочисленных эпитетов. “ройственный облик √екаты указывает на ее власть над трем€ мирами: небом, морем и землей. ќб архаических истоках ее культа свидетельствует то, что она изображалась с головами различных животных, каждое из которых символизирует одну из граней ее разностороннего характера.
√еката ассоциировалась с посв€тительными церемони€ми р€да античных мистериальных культов Ч не только знаменитых Ёлевсинских мистерий, но и культа ƒеметры в —елинунте (—ицили€), а также мистерий, бытовавших в јргосе и на греческих островах —амофраки€ и Ёгина.
— именем √екаты св€зывалось множество эпитетов, описывавших различные роли и качества, в которых она выступала в тот или иной период. ¬от некоторые из наиболее известных ее именований:

Х ’тони€ (Ђподземна€ї),
Х ƒадофора (Ђфакелоносицаї),
Х Ёноди€ (Ђдорожна€ї),
Х лидофора (Ђключницаї),
Х уротрофа (Ђкормилица детейї),
Х ‘осфора (Ђсветоносна€ї),
Х ѕропола (Ђспутницаї),
Х ѕропиле€ (Ђпривратницаї),
Х —отейра (Ђспасительницаї),
Х “риформис (Ђтрехтела€ї),
Х “риодитис (богин€ Ђтрех дорогї).
√еката ѕропиле€ (Ђпривратницаї) была хранительницей города, отвращающа€ зло от его стен и защищающа€ его жителей. —в€тилища ей устраивали не только при входе в города и храмы других божеств, но и перед частными домами. Ќебольшое св€тилище богини, установленное перед дверью дома, называлось Ђгекатейонї.
Ѕольшой храм √екаты располагалс€ в городе Ћагина в арии (на территории современной “урции), где ежегодно проводилась церемони€ под названием ЂЎествие с ключомї (κλειδοσαγωγή). —ара јйлс ƒжонстон, автор книги Ђ√еката —отераї, предполагает, что эта процесси€ была св€зана именно с √екатой в ее роли ѕропилеи Ч хранительницы врат. роме того, само название церемонии ассоциируетс€ с эпитетом Ђ лидофораї (κλειδοφόρος), который эта богин€ носила как хранительница ключей от подземного мира, вынос€ща€ решение о том, кто из усопших заслужил блаженное посмертие на ≈лисейских пол€х. ¬ данном контексте она выступает как проводница души умершего на последнем этапе загробного странстви€. ј в посв€щенном ей орфическом гимне √еката именуетс€, ни много ни мало, Ђ лючницей ¬селеннойї (ќрфический гимн √екате, ок. I-III в. н.э.).
¬виду столь важной роли, которую она играла в культовой жизни Ћагины, можно предположить, что √еката была покровительницей этого города, подобно тому как ибела покровительствовала всей ‘ригии, а »нанна Ч некоторым из древнейших шумерских городов.
V веку до н.э. св€тилище √екаты по€вилось при вратах города ћилет, в п€тидес€ти мил€х к северу от Ћагины, где культ этой богини установилс€ примерно столетием раньше. ¬ том же V веке до н.э. √екате стали поклон€тьс€ в городе јфродисий, также располагавшемс€ неподалеку от Ћагины. –оль хранительницы врат, прочно закрепившуюс€ за этой богиней, подтверждает греко-римский историк ѕлутарх, записавший в I веке н.э. историю о том, как один полководец поставил у ворот оринфа военный трофей, а другой со смехом заметил, что это не подношение јресу, а столб √екате, Ч Ђибо столбы √екате ставились перед любыми воротами в том месте, откуда расходились дорогиї.
¬о ‘ракии культ √екаты набрал силу к V веку до н.э. ќдно из самых ранних свидетельств поклонени€ этой богине во ‘ракии обнаруживаетс€ во фрагменте пеана древнегреческого поэта ѕиндара, посв€щенного жител€м города јбдеры и датируемого приблизительно серединой V века до н.э.:
¬ мес€це первый день,¹
ќн был назван обутою в красное благосклонной √екатой,
„тобы так тому и быть.
(ѕиндар, ѕеан 2. јбдеритам, III:75-78)
_________________________
[1] “радици€ св€занна€ с лунным календарем, в котором первый день приходитс€ на новолуние.
ѕоскольку из многочисленных литературных источников известно, что в том же V веке до н.э. √екате поклон€лись и в јфинах, весьма веро€тно, что культ ее очень быстро распространилс€ по всему Ёгейскому региону в конце VI Ч начале V столетий. ќтдельные упоминани€ о ней встречаютс€ в литературе и раньше Ч в Ђ“еогонииї √есиода (VIII в. до н.э.) и в гомеровом гимне Ђ ƒеметреї (VII в. до н.э.), но только в V столетии они станов€тс€ достаточно частыми и дают нам право утверждать, что теперь эта богин€ приобрела в греческой культуре весьма значительную роль.
Ќо как проследить истоки культа √екаты, зародившегос€, несомненно, задолго до первого упоминани€ ее имени в Ђ“еогонииї √есиода в VIII веке до н.э.? ‘он –удлофф в своей книге Ђ√еката в религии древних грековї высказывает предположение, что триада имен в одной из надписей, выполненных линейным письмом Ѕ и относ€щихс€ к бронзовому веку, св€заны именно с √екатой и двум€ другими богин€ми Ёлевсинского культа Ч ƒеметрой и ѕерсефоной. Ёто имена Ђ»фимеде€ї, Ђѕересваї и Ђƒиви€ї, присутствующие в перечне божественных имен на глин€ной табличке Tn316, обнаруженной в городе ѕилосе на южном побережье √реции и датируемой XIII веком до н.э. ѕервое из них, теоретически, может быть вариантом имени √екаты, поскольку та св€зана с »фигенией, упом€нутой под именем Ђ»фимедаї в гесиодовском Ђ аталоге женщинї (VIII в. до н.э.); второе предположительно происходит от того же корн€, что и им€ Ђѕерсефонаї, а третье может означать Ђсветла€ї или Ђбогата€ богин€ї и представл€ть собой эпитет ƒеметры.
≈ще одно указание на происхождение образа √екаты дает ее св€зь со львами. »зображени€ √екаты между двух львов не относ€тс€ к числу древнейших, но все же намекают на ближневосточные корни этой богини. »конографи€ »нанны, јстарты и ибелы свидетельствует, что изображени€ богинь в сопровождении двух львов Ч весьма характерна€ дл€ Ѕлижнего ¬остока особенность. ¬прочем, не следует забывать, что между двум€ большими кошками изображалась также јртемида, поэтому упом€нутые изображени€ √екаты Ч в силу своего позднего по€влени€ Ч могут быть следствием синкретического сли€ни€ √екаты с јртемидой.²
_________________________
[2] “еори€ о синкретичности јртемиды и √екаты Ч ошибочна€. √еката Ч отделивша€с€ от јртемиды ее хтоническа€ ипостась, именно поэтому их так трудно друг от друга отличить. ќбеих богинь изображали в одинаковых коротких туниках и в сопровождении псов. ќтличительным атрибутом јртемиды считаетс€ лук и колчан, хот€ и √екату также характеризуют как ночную Ђохотницуї. ћало того, Ђ√екатаї Ч один из эпитетов јртемиды, означает Ђƒалекораз€ща€ї (этот же эпитет носит ее брат јполлон).
≈щЄ один из эпитетов јртемиды Ч Ђ—ветоносна€ї (другой перевод, с
 греческого, этого эпитета Ч Ђ‘акелоносна€ї), и ее, в этой св€зи (как и ƒеметру), изображали с факелом, либо двум€ факелами. ’от€, по наличию факелов, обычно, атрибутируют √екату.
греческого, этого эпитета Ч Ђ‘акелоносна€ї), и ее, в этой св€зи (как и ƒеметру), изображали с факелом, либо двум€ факелами. ’от€, по наличию факелов, обычно, атрибутируют √екату. Ἑκάτη, дор. Ἑκάτα (κᾰ) ἡ √еката
ἕκᾰτος 3 [ἑκάς] далекораз€щий (эпитет јполлона и јртемиды) Hom., Her., Aesch.
ἑκατηβόλος (ἑκᾰτη-βόλος), дор. ἑκατᾱβόλος 2 далеко мечущий.
Φωσφόρος ἡ (sc. θεά) јртемида —ветоносна€ Arph.
»зображени€ √екаты со львами встречаютс€ на фризе храма в Ћагине и на монетах; кроме того, в св€зи с этими животными богин€ упоминаетс€ в более поздний период в Ђ’алдейских оракулахї и греческих магических папирусах. ¬ Ђ’алдейских оракулахї √еката описываетс€ как Ђвладеюща€ львамиї, и от лица ее говоритс€: Ђ≈сли будешь взывать ко ћне часто, узришь все сущее в образе льваї (’алдейские оракулы 18, 147).
¬ греческих магических папирусах мы находим Ђћолитву к —елене дл€ любых заклинанийї, по содержанию похожую, скорее, на обращение к √екате. ¬ этом тексте обнаруживаетс€ фраза: ЕЂты стоишь под защитой двух львов, подн€вшихс€ на дыбыї.
ак аргумент в пользу негреческого происхождени€ √екаты приводилс€ также тот факт, что в жертву ей приносили собак: эти животные использовались дл€ подношений только иноземным богам, вошедшим в греческий пантеон (в частности, јресу).
»сследу€ археологические и литературные указани€ на истоки культа √екаты, необходимо также учитывать происхождение, приписывавшеес€ ей в разные периоды в письменных изложени€х мифов. ¬ Ђ“еогонииї √есиода родител€ми √екаты называютс€ богин€ јстери€ (Ἀστερία, Ђ«вездна€ї) и ее супруг, титан ѕерс (Πέρσης, Ђ–азрушительї):
Ђ¬вел ее [Ђблагоименную јстериюї] некогда ѕерс во дворец свой, назвавши супругой.
Ёта, зачавши, родила √екатуїЕ
јстери€ ассоциировалась с ночным небом Ч не только как покровительница астрологии, но и как подательница вещих снов. ¬ храме јстерии на острове ƒелос практиковалась инкубаци€ Ч обычай оставатьс€ в св€тилище на ночь, чтобы получить пророческий сон. ѕо-видимому, эту св€зь с оракулами и сновидени€ми јстери€ передала своей дочери √екате по наследству. —естрой јстерии была Ћето, родивша€ от «евса божественных близнецов јртемиду и јполлона, которым √еката приходилась, соответственно, двоюродной сестрой. ¬последствии образы √екаты и јртемиды сблизились очень тесно и даже слились воедино.
¬ гомеровом гимне Ђ ƒеметреї (VII в. до н.э.) использована та же верси€ происхождени€ √екаты, что и в Ђ“еогонииї: богин€ описываетс€ здесь как Ђѕерсеева дочерь, нежна€ духом √еката, с блест€щей пов€зкою деваї.
Ёту версию, наиболее распространенную из всех, поддерживало большинство авторов, вплоть до ѕсевдо-јполлодора, привод€щего ее в своей Ђћифологической библиотекеї (II в. н.э.), и Ћикофрона (III в. н.э.), упоминающего √екату как Ђдевственную дочь ѕерсе€, Ѕримо “риморфосї. Ёпитеты ЂЅримої (Ђгневна€ї или Ђгрозна€ї) и Ђ“риморфосї (Ђтрехтела€ї или Ђимеюща€ три обличь€ї) примен€лись к √екате часто. Ёта богин€ устойчиво ассоциировалась с числом три, играющим важную роль в ее культе и св€занных с нею магических обр€дах:
Ђ» ты, часта€ гость€ на распуть€х трех дорог, властвующа€ в трех обличь€х своих над трем€ декадами и над огн€ми и псамиї. (√реческий магический папирус є IV:2528-2530)
¬ схоли€х к поэме јполлони€ –одосского Ђјргонавтикаї о родител€х √екаты привод€тс€ различные мнени€. ”тверждаетс€, что в орфических гимнах она названа дочерью ƒео (ƒеметры), у ¬акхилида Ч дочерью Ќикты (Ќочи), у ћусе€ Ч дочерью «евса и јстерии, а также что ‘ерекид считает отцом √екаты јристе€.
Ёти разноречивые сведени€ в действительности св€заны между собой более тесно, чем может показатьс€ на первый взгл€д. “о обсто€тельство, что в орфических гимнах √еката именуетс€ дочерью ƒеметры, представл€етс€ вполне естественным в свете того, что гомеров гимн Ђ ƒеметреї использовалс€ в орфических мистери€х. √еката совершенно логично вводитс€ в семью богинь, занимающих центральное место среди сил подземного царства и, следовательно, играющих ключевую роль в переселении душ Ч важнейшей теме орфических мистерий.
Ќикта (Ќочь) отождествл€лась с јстерией, ибо что такое ночь, как не само звездное небо? Ќикта была одной из первозданных сил вселенной, от которых произошли боги. –оль «евса как отца √екаты также не вызывает удивлени€: во-первых, он породил и многих других богов, а во-вторых, он нар€ду с √екатой играет важнейшую роль в Ђ’алдейских оракулахї.
Ѕолее любопытна верси€, по которой отцом √екаты был јристей Ч бог, научивший людей использовать целебные травы, разводить пчел, добывать мед и варить медовуху, выращивать оливки и делать сыр. ќбычно он считаетс€ сыном јполлона и нимфы ирены, хот€ у ¬акхилида его родител€ми названы √е€ («емл€) и ”ран (Ќебо).
¬о врем€ расцвета –има, √еката часто упоминаетс€ в качестве персонажа разных мистериальных культов, как, например, на римской посв€тительной надписи IV века н.э.:
Ђ—екстилий јгесилай Ёдесий, наимогущесвеннейший властитель <Е> отец непобедимого солнца, бога ћитры, иерофант √екаты, верховный пастырь ƒиониса, возрожденный навеки, принес в жертву быков и баранов и так посв€тил сей алтарь великим богам, матери богов и јттису.ї
(Corpus Inscriptionum Latinarum, VI.510)
»з другой римской надписи того же периода €вствует, что с √екатой св€зывалс€ некий мистериальный культ, подобный мистери€м индо-иранского бога ћитры, фригийской богини ибелы и элевсинских божеств. «десь посв€щенной нескольких мистериальных культов именуетс€ жрица ѕаулина:
Ђѕосв€щенна€ ÷ереры и Ёлевсиний, посв€щенна€ √екаты Ёгинской, тавроболиата иерофантри€.ї
(Ќадпись на надгробии ‘абии јконии ѕаулины, ок. IV в. н.э.)
Ќаиболее тесно с √екатой св€зывались другие хтонические божества (√ермес, јид, ѕерсефона и √е€), а также «евс, –е€, ƒеметра, ћитра, ибела и солнечные боги √елиос и јполлон. »мена хтонических богов Ч √ермеса, јида, ѕерсефоны и √еи Ч также чаще прочих встречаютс€ на дефиксионах (табличках с прокл€ти€ми), а «евс и –е€ фигурируют в Ђ’алдейских оракулахї (причем «евс Ч в качестве центрального божества).
— течением времени с √екатой частично или полностью отождествились некоторые другие богини Ч такие, как Ѕримо, ƒеспони€, Ёноди€, √енетиллида, отида, ратеида и уротрофа. роме того, ее стали сближать, а нередко и отождествл€ть с такими богин€ми, как јртемида, —елена, ћена, ѕерсефона, ‘изида, Ѕендида, Ѕона ƒеа, ƒиана, Ёрешкигаль и »сида.
Ќередко √еката ассоциировалась с √ермесом, поскольку из всех представителей мужской части греческого пантеона он был наиболее тесно св€зан с иде€ми рубежа и порога. Ќа дефиксионах √ермес ’тоний часто упоминаетс€ вместе с √екатой ’тонией. —тату€ √ермеса ѕропилейского, сто€вшего, по сообщению ѕавсани€, у входа в афинский акрополь, выполн€ла ту же защитную функцию, что и изображени€ √екаты ѕропилеи. ј в св€зывающем заклинании из греческого магического папируса (PGM III. 1-164) имена двух этих божеств даже соедин€ютс€ в единое им€ √ермеката (Ἑρμεκάτη).
“акже в св€зи с √екатой в различных сюжетах фигурирует √елиос. ¬ гомеровом гимне Ђ ƒеметреї √елиос Ч единственный, кто нар€ду с √екатой слышит крик похищаемой ѕерсефоны. —ближены эти два божества и во фрагменте гимна из утраченной пьесы —офокла Ђ«ельекопыї (V век до н.э.):
“ы, о √елий-владыка и пламень св€той,
ѕерекрестков царицы, √екаты, доспех!
¬едь тобой на высотах ќлимпа она
ѕотр€сает, теб€ по распуть€м несет,
”венчавши дубовой листвою главу
» плетеньем из змей €довитых.
ѕо числу упоминаний в греческих магических папирусах √елиос (иногда отождествл€емый с јполлоном) занимает первое место среди богов, а √еката Ч среди богинь. роме того, √елиос и √еката упоминаютс€ (хот€ и по отдельности) в различных источниках как родители волшебниц ирки и ћедеи. ѕо одной из версий, √елиос был дедом √екаты, котора€, в свою очередь, родила двух упом€нутых чародеек:
Ђ” √елиоса было два сына: Ёэт и ѕерс. Ёэт стал царем олхиды, а ѕерс Ч “авриды <Е> ” ѕерса была дочь √еката <Е> √еката вышла замуж за Ёэта и родила от него двух дочерей Ч ирку и ћедею, а также сына Ёгиале€ї. (ƒиодор —ицилийский, Ђ»сторическа€ библиотекаї, V.XLV.1)
¬ Ђјргонавтикеї ћеде€ призывает √елиоса и √екату (ѕерсеиду, т.е. дочь ѕерса) в свидетели своей кл€твы:
√ели€ блеск мне св€той пусть ручателем будет,
ѕусть поручатс€ за то и бдень€ ночной ѕерсеидыЕ
«евс также устойчиво ассоциируетс€ с √екатой Ч еще со времен Ђ“еогонииї, где
Еее перед всеми
«евс отличил √ромовержец и славный удел даровал ей:
ѕравить судьбою земли и бесплодно-пустынного мор€.
(√есиод Ђ“еогони€ї)
Ќекоторые источники называют «евса ее отцом. ¬двоем же «евс и √еката составл€ют центральную пару божеств Ђ’алдейских оракуловї: √еката выступает как посредница, —отера (Ђспасительницаї), несуща€ божественное вли€ние верховного бога, «евса, во все миры и всем живым создани€м.
»ногда √еката отождествл€етс€ с матерью чудовищной —киллы Ч морской богиней ратеидой,³ а иногда и с самой —киллой. —ли€ние этих персонажей объ€сн€етс€, среди прочего, тем, что ратеида, как и √еката, носила эпитет —килакагетис (Ђѕредводительница собакї). ¬ Ђјргонавтикеї √ера, покровительница ясона, просит морскую богиню ‘етиду уберечь аргонавтов:
“акже беспомощным им ты не дай ни с ’арибдой спознатьс€,_________________________
ƒабы она, их всех поглотив, с собой не умчала,
Ќи в тайники ненавистные к —килле Ч грозе величайшей
¬од јвзонийских Ч попасть, к той —килле, котора€ ‘орку
ѕорождена √екатой ночной и зоветс€ ратайей,³ Ч
ƒабы, броса€сь, она не сдавила в челюст€х страшных
Ћучших героев.
[3] Κραταιΐς (-ΐδος) ἡ ратаида, мать —киллы Hom.
√≈ ј“ј ¬ ЁЋ≈¬—»Ќ≈
Ёлевсин был дл€ ƒревней √реции тем же, чем впоследствии дл€ ≈вропы стал ¬атикан: неверо€тно вли€тельным и могущественным религиозным центром. ¬ Ёлевсине поддерживалс€ мистериальный культ, включавший ¬еликие и ћалые мистерии, в основе которых лежал миф о богине плодороди€ ƒеметре и ее дочери ѕерсефоне. ѕосв€щение в Ёлевсинские таинства считалось исключительно важным как с общественной, так и с духовной точки зрени€: оно не только придавало посв€щенному более высокий статус, но и, как полагали, обеспечивало счастливую загробную жизнь в подземном мире, царицей которого была ѕерсефона.
ульт √екаты Ч нар€ду с культами ƒеметры и ѕерсефоны Ч тесно переплеталс€ с Ёлевсинскими мистери€ми. ”ченый II века до н.э. јполлодор јфинский в своей Ђ’роникеї (III.XIV.7) сообщает, что после смерти афинского цар€ Ёрихтони€ на престол взошел его сын ѕандион, в царствование которого ƒеметра пришла в јттику и была гостеприимно прин€та царем Ёлевсина елеем. Ќа основании этого упоминани€ пришествие ƒеметры в Ёлевсин относили к периоду 1462-1432 до н.э.
ƒалее в той же Ђ’роникеї утверждаетс€, что первые мистерии в Ёлевсине состо€лись в правление цар€ Ёрехте€, около 1409 до н.э. “аким образом, если участие √екаты в Ёлевсинских мистери€х не €вл€етс€ позднейшей интерпол€цией, если эта богин€ присутствовала в них с самого начала, это свидетельствует о том, что в √реции она была известна уже в XV в. до н.э., за семь столетий до первого письменного упоминани€ ее имени (в Ђ“еогонииї).
—в€зь √екаты с Ёлевсинскими мистери€ми сбросить со счетов невозможно. Ќесмотр€ на все разнообразие теорий и домыслов о характере таинств и ритуалов, совершавшихс€ в ¬еликих и ћалых мистери€х, остаетс€ бесспорным одно, а именно Ч что Ёлевсин был чрезвычайно важным духовным центром. Ёлевсинские жрецы владели огромными участками земли и были неверо€тно богаты; их политическое вли€ние простиралось на весь известный эллинам мир. јрхеологические находки свидетельствуют, что св€тилище в Ёлевсине могло существовать уже около 1500 года до н.э., подтвержда€ тем самым датировку из Ђ’роникиї јполлодора.
—огласно греческому географу ѕавсанию, меньший по размерам храм, сто€вший у входа в главное св€тилище, был посв€щен јртемиде ѕропилее и морскому богу ѕосейдону. ћежду тем Ђѕропиле€ї Ч Ђѕривратницаї Ч это один из главных эпитетов √екаты, и не исключен, что в действительности храм был посв€щен не јртемиде, а √екате и ѕосейдону. “ем более что јртемида не упоминаетс€ с этим эпитетом ни в каких других источниках и не св€зана с мистери€ми ѕерсефоны и ƒеметры, составл€вшими элевсинский культ.
√еката, напротив, ассоциировалась в других источниках (например, в той же Ђ“еогонииї) с ѕосейдоном и, кроме того, в жертву ей нередко приносили рыбу. ≈ще одно свидетельство в пользу этой гипотезы обнаруживаетс€ на вазе, найденной при раскопках на месте малого элевсинского св€тилища. Ќа ней изображена бегуща€ дева с двум€ факелами в руках, которую большинство современных исследователей отождествл€ют с √екатой.
√омеров гимн Ђ ƒеметреї Ч это, по сути, канонический текст элевсинского культа: в нем излагаетс€ миф о похищении ѕерсефоны. Ќапомним читател€м этот сюжет, чтобы про€снить, какую роль сыграла в нем √еката.
јид, бог подземного мира, был одинок на своем троне. „тобы скрасить одиночество брата, «евс, владыка богов, дозволил ему похитить свою дочь ѕерсефону и вз€ть ее в жены. “огда јид замыслил ловушку дл€ юной девы, и богин€ земли √е€ вырастила по его просьбе прекрасный цветок нарцисса. —обира€ цветы на Ќисейской равнине с другими юными богин€ми, ѕерсефона заметила нарцисс, росший в стороне, и направилась к нему, отделившись от подруг. Ќо тут јид вырвалс€ из-под земли на своей колеснице, схватил ѕерсефону и умчал ее в подземное царство. ≈динственными свидетел€ми похищени€ оказались √еката, котора€ услышала из своей пещеры крик ѕерсефоны, и √елиос, бог солнца, видевший с неба все, что произошло.
ѕерсефона тщетно взывала из-под земли к своей матери, а ƒеметра столь же тщетно искала дочь по всей земле. “ак продолжалось дев€ть дней, а на дес€тый √еката предстала перед ƒеметрой, поведала, что слышала отча€нный зов ѕерсефоны, и предложила вы€снить у √елиоса им€ похитител€. √елиос рассказал все, что видел, добавил, что подлинным виновником происшедшего был сам «евс, и попыталс€ убедить ƒеметру, что владыка подземного мира Ч достойный жених дл€ ее дочери. ќднако ƒеметра осталась безутешной. ¬ горе она скиталась по земле, изменив свой облик, пока, наконец, не пришла в Ёлевсин, где была прин€та во дворце и стала кормилицей ƒемофона, сына царицы ћетаниры.
ƒеметра отказывалась от пищи и пить€, до тех пор пока служанка ямба не развеселила ее непристойными шутками. “огда ћетанира поднесла богине вина, сдобренного медом, но ƒеметра отвергла его, велев вместо вина поднести ей напиток под названием кикейон Ч смесь €чмен€ с водой и полеем (болотной м€той). Ётот напиток впоследствии стал обр€довым в Ёлевсинских таинствах.
ƒеметра вскармливала младенца-царевича амброзией и каждую ночь тайно закал€ла его в огне, чтобы сделать бессмертным. Ќо однажды царица ћетанира застала ее за этим зан€тием и в ужасе вскрикнула, из-за чего обр€д прервалс€ и продолжить его было уже невозможно. ƒеметра открыла царице свою божественную сущность и сказала, что теперь ƒемофон останетс€ смертным, как любой другой человек. «атем она велела воздвигнуть ей храм в Ёлевсине и справл€ть таинства в ее честь. огда храм был построен, ƒеметра поселилась в нем и на целый год сделала землю бесплодной: урожай не взошел, и люди т€жко страдали и умирали от голода.
”видев с ќлимпа бедстви€, постигшие человечество, «евс послал к ƒеметре свою вестницу, богиню »риду. ƒеметра не откликнулась на зов; тогда все остальные боги стали приходить к ней с дарами, умол€€ вернутьс€ на ќлимп, но ƒеметра отвечала, что не сдвинетс€ с места и не снимет бесплодие с земли, пока ей не возврат€т дочь.
«евс вынужден был отправить √ермеса в подземное царство, и тот уговорил јида отпустить ѕерсефону. Ќо перед тем, как расстатьс€ с женой, јид дал ей съесть несколько зерен граната, из-за чего ѕерсефона оказалась прив€зана к подземному миру и обречена возвращатьс€ в него снова и снова. “ем не менее, на врем€ она воссоединилась с матерью; их обеих радостно встретила √еката, приветствовавша€ ѕерсефону в мире живых и ставша€ ее проводницей в ежегодном путешествии под землю. »бо «евс объ€вил, что ѕерсефона отныне об€зана проводить треть года в царстве мертвых, со своим мужем, а две трети Ч на земле, с матерью. ѕоэтому на третью часть года земл€ вс€кий раз становитс€ бесплодной: ƒеметра вновь оплакивает разлуку с дочерью.
¬ гомеровом гимне Ђ ƒеметреї √еката заключает ѕерсефону в объ€ти€ и далее именуетс€ буквально ее Ђпредшественницейї (πρόπολος) и Ђпоследовательницейї (ὀπάων). Ёто не столько описание функций √екаты, сколько указание на ее положение: при нисхождении ѕерсефоны в подземное царство √еката шествует перед ней, а при возвращении на землю Ч позади нее, чтобы уберечь ее от любых опасностей. Ќесмотр€ на то, что на третью часть года ѕерсефона принимает на себ€ функции хтонической царицы мертвых, на прот€жении остальных двух третей она вновь становитс€ кроткой и благодатной богиней, шествующей по земле. ѕоэтому в своих путешестви€х в подземный мир и обратно она нуждаетс€ в √екате как провожатой и защитнице.
ƒеметра была тесно св€зана с √екатой не только в Ёлевсинских мистери€х: известны другие храмы ƒеметры, в которых имелось св€тилище дл€ √екаты, выступавшей как стражница таинств, Ч
 храмы в —елинунте (—ицили€) и на острове —амофраки€.
храмы в —елинунте (—ицили€) и на острове —амофраки€.¬ схоли€х к Ђјргонавтикеї ƒеметра названа матерью √екаты. Ёто можно истолковать как еще одно звено сложной цепи взаимосв€зей между √екатой, ƒеметрой и »сидой. ƒеметра часто отождествл€лась с »сидой, а »сида, в свою очередь, Ч с √екатой. √еката и ƒеметра св€зывались друг с другом в контексте Ёлевсинских мистерий. ƒеметра объедин€етс€ с »сидой в Ђ»сторииї √еродота (V в. до н.э.) и во многих более поздних текстах, таких как Ђ»сторическа€ библиотекаї ƒиодора —ицилийского (I в. до н.э.) или Ђћоралииї ѕлутарха (II в. н.э.).
ƒополнительный свет на тайны Ёлевсина проливают золотые вакхические погребальные таблички, относ€щиес€ к периоду с V века до н.э. по II век н.э. ¬ текстах этих табличек Ч погребальных даров посв€щенным в орфические мистерии Ч подчеркиваютс€ и важна€ роль √екаты в Ёлевсинских таинствах, и взаимосв€занность богинь, которым поклон€лись в Ёлевсине. Ѕримо (обычный эпитет √екаты) в вакхических табличках отождествл€етс€ с двум€ другими элевсинскими богин€ми Ч ƒеметрой и ѕерсефоной.
¬ вазописи √еката изображалась сто€щей у дверей св€тилища с двум€ факелами в руках, из чего следует, что основной ее функцией в Ёлевсинских мистери€х была роль проводницы (πρόπολος). ћожно предположить, что жрицы √екаты провожали соискателей через лабиринт подземных пещер и переходов, освеща€ им путь двум€ факелами. лимент јлександрийский сообщает, что далее разыгрывалась нека€ мистическа€ драма; из его описани€ можно сделать вывод, что перед соискател€ми ритуальным образом воспроизводилс€ миф о похищении ѕерсефоны как тот изложен в гомеровом гимне Ђ ƒеметреї:
Ђƒео [ƒеметра] и ора станов€тс€ действующими лицами некой мистической драмы, и Ёлевсин с его дадофорами [факелоносицами, титул √екаты] справл€ет обр€д пам€товани€ о скитани€х, похищении и скорбиї.
ƒругой христианский автор, африканец Ћактанций, обращенный €зычник, подтверждает предположение о важной обр€довой роли жриц-факелоносиц. ¬ своем трактате ЂЅожественные установлени€ї (IV в.), он пишет, подразумева€ ту же мистическую драму, что и лимент:
Ђѕрозерпину [ѕерсефону] ищут с гор€щими факелами и когда, наконец, наход€т, в завершение обр€да все вознос€т благодарени€ и машут факеламиї.
— функци€ми ƒадофоры (Δαδοφορα, Ђфакелоносицаї), освещающей путь, св€заны и такие эпитеты √екаты, как ‘осфора (Φωσφόρα, Ђсветоносна€ї) и ѕирфора (Πυρφόρα, Ђогненосна€ї). ”казание на эту же роль встречаетс€ в одной недатированной схолии, где о √екате и јполлоне говоритс€, что они Ђозар€ют дороги светом: он Ч днем, она же Ч ночьюї. ¬последствии огонь ее факелов превратилс€ в плам€ звездных сфер и Ђумныйї огонь Ђ’алдейских оракуловї.
___________
јвторы статьи вплотную подход€т к вопросу (но не акцентируютс€ на нем): а не было ли изначально триморфное изображение √екаты Ч скульптурной композицией трех богинь ƒеметры, ѕерсефоны и √екаты? ¬едь, древнейшие статуи √екаты имеют мономорфный характер, о чем немало свидетельств.
Ђ»з богов эгинеты чтут больше всего √екату и каждый год совершают таинства в честь √екаты; они говор€т, что эти таинства установил у них фракиец ќрфей. ’рам √екаты находитс€ внутри ограды. ƒерев€нное ее изображение, работы ћирона, имеет одно лицо и одно тело. ак мне кажетс€, впервые јлкамен создал √екату в виде трех соединенных друг с другом статуй; афин€не называют эту √екату Ђ’ранительницей крепостиї,⁴ она стоит у храма ЂЅескрылой Ќикиї.
(ѕавсаний. ќписании Ёллады II, 30:2)
__________________________
[4] Ἐπιπυργιδία ἡ Ёпипиргиди€, Ђ’ранительница крепостиї, эпитет √екаты в јфинах; (ἐπὶ τοῦ πύργου, Paus.).
¬ поэме Ћукана Ђ‘арсали€ї (I в. н.э.) фессалийска€ колдунь€ Ёрихто взывает к ѕерсефоне, упомина€ при этом √екату как свою богиню-покровительницу:
Е“ы, отвергша€ небо и матерь,
“ы, ѕерсефона, дл€ нас воплощение третье √екаты,⁵
„ерез которую € сношусь молчаливо с тен€ми!
(Ћукан. ‘арсали€, VI:699-701)
__________________________
[5] ѕерсефона Ч дочь богини ƒеметры, похищенна€ јидом (ѕлутоном) в преисподнюю и ставша€ ее царицей. ѕо позднейшим представлени€м, она считалась одним из воплощений богини √екаты, €вл€вшейс€ на небе —еленой (Ћуной), на земле јртемидой (ƒианой) и в подземном мире ѕерсефоной.
¬ ѕримечани€х к поэме даетс€ вариант персонификации трех форм √екаты, как владычицы на небе, на земле и под землей: соответственно, —елена, јртемида и ѕерсефона. Ќо јртемида Ч это та же —елена, богин€ Ћуны. ѕоэтому, если рассматривать ѕерсефону как Ђтретью √екатуї, то, однозначно, две другие персонификации Ч это јртемида-√еката (Ћуна) и ƒеметра, богин€ плодороди€. ѕерва€ Ч владычица на небе, втора€ Ч на земле.
ћало того, как упоминаетс€ в статье, в схоли€х к Ђјргонавтикеї ƒеметра напр€мую названа матерью √екаты. ѕрокл, повеству€ об орфических воззрени€х, называет ƒеметру матерью и оры, и √екаты, в то же врем€ отмеча€ тождественность √екаты и јртемиды:
ЕЂоткуда €сно, что и Ћето содержитс€ в ƒеметре, родившей «евсу ору и внутримирную √екату, поскольку и јртемиду ќрфей называет √екатой:
_ƒивна€ тотчас √еката, покинувши члены ребенка,
_ƒщерь лепокудрой Ћетό, взошла на ќлимпїЕ
»сход€ из этого, просто напрашиваетс€ предположение, что изначально Ђтриморфна€ї скульптурна€ композици€ подразумевала под собой троицу женских богинь, задействованных в элевсинских мистери€х. Ёлевсин
 имел огромное вли€ние не только в √реции, но и далеко за ее пределами. ультовые скульптуры в виде троицы богинь, веро€тно, экспортировались в достаточно далекие от Ёлевсина области. Ќо попав в другую культуру, при отсутствии понимани€ мистериального смысла Ђтроицыї, композици€ из трех богинь, очевидно, превратилась в трехипостасную богиню. ульт јртемиды в ћалой јзии был весьма попул€рен. ѕоэтому неудивительно, что именно јртемида-√еката Ђузурпировалаї триморфность с дальнейшим развитием образа, на базе местных Ђпредставлений о прекрасномї, преимущественно, в сторону хтоничности и, где-то даже, демонизации. ¬ то врем€ как в √реции Ђв древние времена √еката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению коней, охран€ла детей и юношей, даровала победу в сост€зани€х, в суде, на войнеї (в общем, полный функционал јртемиды), и это при наличии полного отсутстви€ в древних источниках свидетельств о полиморфности √екатыЕ
имел огромное вли€ние не только в √реции, но и далеко за ее пределами. ультовые скульптуры в виде троицы богинь, веро€тно, экспортировались в достаточно далекие от Ёлевсина области. Ќо попав в другую культуру, при отсутствии понимани€ мистериального смысла Ђтроицыї, композици€ из трех богинь, очевидно, превратилась в трехипостасную богиню. ульт јртемиды в ћалой јзии был весьма попул€рен. ѕоэтому неудивительно, что именно јртемида-√еката Ђузурпировалаї триморфность с дальнейшим развитием образа, на базе местных Ђпредставлений о прекрасномї, преимущественно, в сторону хтоничности и, где-то даже, демонизации. ¬ то врем€ как в √реции Ђв древние времена √еката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению коней, охран€ла детей и юношей, даровала победу в сост€зани€х, в суде, на войнеї (в общем, полный функционал јртемиды), и это при наличии полного отсутстви€ в древних источниках свидетельств о полиморфности √екатыЕћј√»„≈— ќ≈ «ј Ћ»ЌјЌ»≈
[Tr.: E.N. O'Neil]


Ђѕриди ко мне, о возлюбленна€ госпожа, трехлика€ —елена (Σελήνη). Ћюбезно услышь мои св€щенные молитвы. ”крашение ночи, юное, принос€щее свет смертным, дит€ утра, едуща€ на могучих быках. ќ, царица, управл€юща€ колесницей наравне с √елиосом, кто с тройными формами тройного из€щества радостно танцует среди звезд [отождествление с ’аритами (Χάριτες), трем€ богин€ми из€щества (χάρις) и грации]. “ы Ч правосудие и Ђнить ћойрї (μοῖρα, Ђсудьбаї), в трех лицах: лото (Κλωθώ, Ђѕр€хаї) и Ћахес (Λάχεσις, Ђ–окї), и јтропос (Ἄτροπος, ЂЌеотвратима€ї). “ы Ч “исифона (Τισιφόνη, Ђмстительница за убийствої), ћегера (Μέγαιρα, Ђограничивающа€ї), јллекто (Ἀλληκτώ, Ђнеукротима€ї), многоморфна€, ты держишь в руках своих грозные, темные факелы, ты отверзаешь все замки́. “ы смахиваешь локоны ужасных змей со своего чела. “вой голос подобен бычьему рЄву. “вое тело, ниже спины, подобно змеиному, покрыто чешуей и неразделимо. Ќочна€ пророчица, быколика€, люб€ща€ одиночество, быкоглава€, волоока€, твой голос подобен лаю псов. “ы скрываешь свои львиные
 голени и волчьи лодыжки. —вирепые псы любимы тобой, и они отвечают тебе тем же. Ќе счесть имен твоих: ћена (Μήνη, Ђлунаї); рассекающа€ стрелами воздух јртемида; ѕерсефона, поражающа€ олен€. ќсвещающа€ ночь —елена троеглава€ и троелика€, троеше€€ и троегласа€, богин€ трех путей, несуща€ неугасимый пылающий огонь в трех светильниках, хранительница перекрестков, управительница трем€ декадами. ѕризываю теб€, будь милостива и добра ко мне, внемли, защитница и покровительница всего мира ночью, перед кем демоны дрожат от страха и трепещут бессмертные боги. Ѕогин€, в чьей силе возвысить человека, дающа€ справедливое потомство, призываема€ многими именами, волоока€, рогата€, мать богов и людей. ѕрирода, мать всего сущего. “ы восходишь на ќлимп и нисходишь в необъ€тную бездну. Ќачало и конец Ч ты едина и одна управл€ешь всем. ¬се происходит от теб€, и к тебе все возвращаетс€. ќхранительница своих св€тилищ, ты носишь цепи ¬еликого роноса, вечные и несокрушимые, в твоих руках Ч золотой скипетр. ѕисьмена на скипетре сам ронос начертал тебе, чтобы все вещи были устойчивыми в мире, требующа€ и исполн€юща€, хоз€йка человечества, и сила, хаосом управл€юща€. ¬озрадуйс€ и внемли, призывающим теб€ разными именами. я возжигаю дл€ теб€ эти благовони€, о дит€ «евса, лучница, едина€ на небесах, богин€ гаваней, блуждающа€ по горам, богин€ перекрестков. ќ подземна€, ночна€, адска€ богин€ тьмы, безмолви€ и ужаса, ты, кто находит свою пищу среди могил, ночи, темноты, великого хаоса, невозможно укрытьс€ от теб€. “ы Ч ћойра (Mοῖρα, Ђсудьбаї) и Ёрини€ (Ἐρινύς, Ђгневна€ї), ты совершаешь правосудие и караешь. “ы держишь ÷ербера на цепи, темна€, со змеиной чешуей, змееволоса€, опо€санна€ змеей, пьюща€ кровь, принос€ща€ смерть и разрушени€, пирующа€ сердцами, вкушающа€ плоть, пожирающа€ трупы, ты, принос€ща€ печаль и горе, распростран€юща€ безумие, прими мою жертву, и исполни мою просьбу.ї
голени и волчьи лодыжки. —вирепые псы любимы тобой, и они отвечают тебе тем же. Ќе счесть имен твоих: ћена (Μήνη, Ђлунаї); рассекающа€ стрелами воздух јртемида; ѕерсефона, поражающа€ олен€. ќсвещающа€ ночь —елена троеглава€ и троелика€, троеше€€ и троегласа€, богин€ трех путей, несуща€ неугасимый пылающий огонь в трех светильниках, хранительница перекрестков, управительница трем€ декадами. ѕризываю теб€, будь милостива и добра ко мне, внемли, защитница и покровительница всего мира ночью, перед кем демоны дрожат от страха и трепещут бессмертные боги. Ѕогин€, в чьей силе возвысить человека, дающа€ справедливое потомство, призываема€ многими именами, волоока€, рогата€, мать богов и людей. ѕрирода, мать всего сущего. “ы восходишь на ќлимп и нисходишь в необъ€тную бездну. Ќачало и конец Ч ты едина и одна управл€ешь всем. ¬се происходит от теб€, и к тебе все возвращаетс€. ќхранительница своих св€тилищ, ты носишь цепи ¬еликого роноса, вечные и несокрушимые, в твоих руках Ч золотой скипетр. ѕисьмена на скипетре сам ронос начертал тебе, чтобы все вещи были устойчивыми в мире, требующа€ и исполн€юща€, хоз€йка человечества, и сила, хаосом управл€юща€. ¬озрадуйс€ и внемли, призывающим теб€ разными именами. я возжигаю дл€ теб€ эти благовони€, о дит€ «евса, лучница, едина€ на небесах, богин€ гаваней, блуждающа€ по горам, богин€ перекрестков. ќ подземна€, ночна€, адска€ богин€ тьмы, безмолви€ и ужаса, ты, кто находит свою пищу среди могил, ночи, темноты, великого хаоса, невозможно укрытьс€ от теб€. “ы Ч ћойра (Mοῖρα, Ђсудьбаї) и Ёрини€ (Ἐρινύς, Ђгневна€ї), ты совершаешь правосудие и караешь. “ы держишь ÷ербера на цепи, темна€, со змеиной чешуей, змееволоса€, опо€санна€ змеей, пьюща€ кровь, принос€ща€ смерть и разрушени€, пирующа€ сердцами, вкушающа€ плоть, пожирающа€ трупы, ты, принос€ща€ печаль и горе, распростран€юща€ безумие, прими мою жертву, и исполни мою просьбу.ї_____________________________
ќтождествление всевозможных богинь с луной в ћалой јзии Ч €вление весьма распространенное. ”дивл€ет, однако, широкое вовлечение, в процесс синкретизации, греческих Ђтройственныхї богинь, казалось бы, далеких от лунной интерпретации. “ех же, упом€нутых в заклинании, ’арит, например. Ќе менее интересное свидетельство, по поводу отождествлени€ ћойр и √оргон с Ћуной, дает лимент јлекс, повеству€ об орфической трактовке некоторых персонификаций:
Ђ¬ трактате Ђќ поэзии ќрфе€ї Ёпиген излагает идиоматические выражени€, которые встречаютс€ у ќрфе€. ѕо его словам, Ђчелноки с гнутым остовомї означают плуги, Ђткацка€ основаї Ч борозду, Ђнитьюї аллегорически называетс€ сем€, Ђслезы «евсаї означают дождь, а Ђћойрыї Ч фазы Ћуны: тридцатое число, п€тнадцатое и новолуние [первое число мес€ца]. ¬от почему ќрфей называет их Ђоблаченными в белые одеждыї, раз они доли света. «атем Ђцветочкомї у богослова называетс€ весна в силу ее природы, Ђбездельницейї Ч ночь вследствие отдыха, Ђликом √оргоныї Ч Ћуна из-за видимого на ней лица, а Ђјфродитойї Ч врем€, когда нужно се€ть.ї
( лимент јлекс. —троматы V, 49 [II, 360 St.])
¬ этой интерпретации, лото (Ђѕр€хаї), пр€дуща€ нить, Ђнаматывает пр€жу на веретеної, в св€зи с чем, серп луны день ото дн€ растет. ѕотом приходит врем€ полной луны Ћахесис, котора€, в свою очередь, Ђпередает веретеної јтропе (Ἄτροπος, ЂЌеотвратима€ї) и та, день за днем разматывает нить, до самого новолуни€.
“акже становитс€ пон€тным, почему из трех горгон смертной была лишь ћедуза. ћедуза, в рассматриваемой трактовке, Ч это Ђстареюща€ї (убывающа€) луна. Ђ— усекновением ее головыї, наступает новолуние.
‘ј ≈ЋќЌќ—Ќџ≈ Ѕќ√»Ќ»
_______________________________

‘аустина II (145-175). –им. —естерций (Æ 29mm, 24.65g), посмертный пам€тный выпуск 175/6г.
Av: бюст ‘аустины; DIVA FAVSTINA PIA
Rv: ƒиана с длинным факелом, за плечами Ч серп луны; SIDERIBVS RECEPTA
_______________________________

‘аустина II (145-175), дочь јнтонина ѕи€ и жена ћарка јврели€.
—естерций (Æ 23.95g), посмертный пам€тный выпуск 175/6г.
Av: бюст ‘аустины II в образе ƒеметры, голова покрыта пеплосом; DIVA FAVSTINA PIA
Rv: ƒеметра с длинным факелом; AETERNITAS / S C
_______________________________

оммод (177-192). изик, ћизи€. ћонетарий Ёлий Ётеоней (T. Aelius Eteoneus).
ћедальон (Æ 43mm, 41.04g), ок. 191/2г.
Av: бюст оммода в образе √еракла, в львиной шкуре, за плечами палица, на голове лавровый венок; AY KAI Λ M AY KOMMOΔOC ANT C™B ™YC ™YT POMAIOC HPAKΛHC
Rv: ƒеметра с двум€ факелами, перед ней Ч гор€щий жертвенник; ™ΠI APX T AIΛ ETEΩNEΩY KYZIKHNΩN N™ΩK
_______________________________
_

изик, ћизи€. √омоно€ (ὁμόνοια, содружество) с Ёфесом. —тратег лавдий —евер.
Æ 34mm (24.38g). ѕсевдо-автономный чекан времЄн јнтонина ѕи€ (138-161).
Av: голова оры в венке из колосьев; KOPH CΩT™IPA / KYZIKHNΩN
Rv: две культовые статуи городов Ђпобратимовї, Ёфесска€ јртемида и ƒеметра с двум€ факелами, почитавша€с€ в изике вместе с орой; APXΩN KΛ C™BHPOC / KYZIKHNΩN N™OKOPΩN
_______________________________

изик, ћизи€. √омоно€ (ὁμόνοια, содружество) со —мирной.
ћедальон (AE 44mm, 35.96g), 161-180гг.
Av: голова оры в венке из колосьев; KOPH CΩT™IPA / KYZIKHNΩN
Rv: ƒеметра с двум€ факелами, слева Ќемесида с колесом удачи, почитаема€ в —мирне, справа ора, покровительница изика; OMONOIA KYZIKHNΩN ΣMYPNAIΩN / ™ΠI CTPANAIB KYINTOY
_______________________________

¬алериан I (P. Aurelius Licinius Valerius Valerianus, 253-260). —арды (Σάρδεις), Ћиди€.
ћедальон (Æ 46mm, 42.11g). ћонетарий ƒомиций –уф (асиарх, сын второго асиарха).
Av: бюст ¬алериана в лучевой короне; AYT K ѕ ΛIK OYAΛ™PIANOC C™;
Rv: ƒеметра, с двум€ факелами, управл€ет бигой, запр€женной двум€ крылатыми зме€ми; ™ѕI ΔOM POY‘OY ACIAPX K YIOY B ACIAPX / CAPΔIANΩN TPI N™ΩKOP
_______________________________

јполлони€, »ллири€. ћагистраты ƒейнократ (Δεινοκράτεος) и ‘илокл (Φιλόκλης).
ƒрахма (AR 19mm, 3.86g), I в. до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке; ΔEINOKPATE
Rv: три нимфы Ћампады, танцующие с факелом в руках вокруг жертвенного огн€; AѕOΛ / ΦIΛOKΛHΣ
_______________________________

јполлони€, »ллири€. ћагистраты јрхен и Ќиконор. ƒрахма (AR 19mm, 3.88g), I в. до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке; APXHN
Rv: три нимфы Ћампады, танцующие с факелом в руках вокруг жертвенного огн€; AѕOΛ / NIKANΩP
Х Ќимфы факелоносицы (λαμπαδηφόρος), спутницы √екаты, именуемые также Ћампадами (λαμπάδοι), упоминаютс€ јлкманом (спартанский лирический поэт VII в. до н.э.; Alkman, fragment 63).
_______________________________

‘еры (Φεραί), ‘ессали€. —татер (AR 11.31g), 302-286 до н.э. ћагистрат јстомедон.
Av: голова нимфы √епереи в венке из тростника; слева источник √епере€, в виде головы льва, из пасти которого вытекает вода;
Rv: Ённоди€ (Ἐννοδία, Ђдев€тидорожна€ї), с двум€ факелами в руках, скачет на лошади; слева венок; ΑΣΤΟΜΕΔΟΝ (внутри венка) / ΦΕΡΑΙOYΝ
Х Ённодию отождествл€ют с √екатой и јртемидой, т.е. это не им€, а эпитет. Ёпитет Ённоди€ также употребл€етс€ с одной Ђнї, тогда он означает просто Ђдорожна€ї, т.е. покровительствующа€ путникам. ¬еро€тно, это упрощение происходит от того, что эпитет Ђдев€тидорожна€ї был заимствован из ‘ракии, и в √реции не находил должного понимани€.
Ἐννέα ὁδοί Ч ƒев€ть ѕутей (местность в области јмфипол€, во ‘ракии) Her., Thuc.
Ἐνοδία ἡ Ёноди€, Ђѕридорожна€ї (эпитет √екаты) Eur., Luc.
ἐνόδιος (ἐν-όδιος), эп. εἰνόδιος
1) наход€щийс€ у дороги, придорожный;
2) покровительствующий дорогам, охран€ющий пути;
ex. (Ἕρμῆς Theocr.); ἡ ἐνοδία θεός Soph. или δαίμων Plat. = Ἑκάτη
_______________________________

‘еры (Φεραί), ‘ессали€. —татер (AR 11.63g), 280-270 до н.э.
Av: голова нимфы √епереи в венке из тростника;
Rv: Ённоди€, с длинным факелом в руках, скачет на лошади; слева голова льва; ΦΕΡΑΙΩΝ
_______________________________

ѕостум (Postumus, 260-269). “реверы (Treveri), √алли€. јнтониниан (BI 20mm, 3.28g), ок. 266г.
Av: бюст ѕостума в лучевой короне; IMP C POSTVMVS P F AVG
Rv: ƒиана —ветоносна€ в короткой тунике, с факелом в руках и колчаном за спиной; DIANAE LVCIFERAE
_______________________________
_

‘ессали€ (Θεσσαλία), ‘ессалийска€ Ћига. ћагистраты Ќикократ, ‘илоксенид и ѕетрей (Nikokrates, Philoxenides, Petraios).
√емистатер (AR 2.88g), ок. 45 до н.э.
Av: голова јполлона в лавровом венке; NIKOKPATEYΣ;
Rv: јртемида —ветоносна€ (Φωσφόρος) с двум€ факелами; ‘IΛOΞE / ΘΕΣΣΑΛΩΝ / ѕ≈[TPA]
_______________________________

–имска€ республика. –им, монетарий ѕублий лодий. ƒенарий (AR 3.87g), 42 до н.э.
Av: голова јполлона, в лавровом венке, слева лира;
Rv: ƒиана, с луком и колчаном за плечами, держит два длинных гор€щих факела; P. CLODIVS M. F. (Publius Clodius Marci filius).
_______________________________

ѕеринф, ‘раки€. ѕсевдо-автономный чекан. Æ 24mm (7.94g), ок. II в.
Av: бюст ƒеметры в диадеме, голова покрыта пеплосом, держит мак и колось€;
Rv: јртемида с двум€ факелами; ѕE–INΘIΩN
_______________________________

√ордиан III (238-244). –им. јурей (AV 5.00g), 241/2г.
Av: бюст √ордина III, в лавровом венке; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Rv: ƒиана —ветоносна€ с длинным факелом; DIANA LVCIFERA
_______________________________

Ѕруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). √емидрахма (AR 2.29g), ок. 216-214 до н.э. јттический стандарт, выпуск времЄн ¬торой ѕунической войны.
Av: голова јполлона в лавровом венке; слева Ч звезда;
Rv: јртемида стоит с факелом, за плечом Ч колчан, в правой руке держит стрелу; у ног Ч собака; слева Ч краб; BPETTIΩN
_______________________________

ћарк јврелий, как цезарь (139-161). јпаме€, ¬ифини€. Æ 30mm, (16.71g).
Av: бюст ћарка јврели€; M AVRELIVS CAES AVG P F;
Rv: ƒиана —ветоносна€ управл€ет бигой, запр€женной олен€ми; в руках держит два факела, за плечом Ч колчан; DIANAE LVCIF AVG / C I C A D D (Colonia Iulia Concordia Apamea Decreto Decurionum).
_______________________________

‘аустина —тарша€, жена јнтонина ѕи€. –им. ƒенарий (AR 18mm, 3.61g), 147г.
Av: бюст ‘аустины; DIVA FAVSTINA
Rv: ƒеметра стоит с длинным факелом, в правой руке держит пучок колосьев; AVGVSTA
_______________________________

√ордиан III (238-244). ѕеринф, ‘раки€. ћедальон (Æ 41mm, 40.74g). √омоно€ (ὁμόνοια, содружество) с Ќикомедией.
Av: бюст √ордиана в лавровом венке; AYT K M ANT √OPΔIANOC AY√
Rv: ƒеметра, покровительница Ќикомедии, держит длинный факел; голова, украшенна€ венком из колосьев, покрыта пеплосом; против нее стоит “юхе, покровительница ѕеринфа, с –огом изобили€ в левой руке; ѕE–INΘIΩN ΔΙC ΝEΩΚΟΡΩΝ / ΝΙΚΟΜΗΔEΩΝ / OMONOIA
_______________________________

лавдий (41-54). –им. ƒупондий (Æ 27mm, 13.18g), ок. 41-50гг.
Av: бюст лавди€; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP
Rv: ƒеметра на троне с факелом и пучком колосьев; CERES / S C
_______________________________

аракалла (198-217). —ердика, ‘раки€. Æ 30mm (18.62g).
Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AYT K M AYP CEYH ANTΩNEINOC
Rv: ƒеметра с длинным гор€щим факелом, который обвивает зме€; в правой руке держит патеру; р€дом стоит мистическа€ циста, из которой выползает зме€; OYΛѕIAC CEPΔIKHC
_______________________________

аракалла (211-217). —тратонике€, ари€. ћедальон (Æ 19.79g), ок. 202-211гг.
Av: бюсты аракаллы в лавровом венке и его жены ѕлавтиллы (Publia Fulvia Plautilla) в диадеме; между ними две контрмарки: голова в шлеме и Θ™ΟΥ / ΡΑ ΚΑ N Μ ΑΥΡ ΑΝ ΚΑΙ Θ™ —™Β Ν™ Τ—ΛΑΥΤΙΛ
Rv: √еката, с модиусом на голове, в левой руке Ч факел, в правой Ч патера, р€дом собака; CΤΡΑΤΟΝ™ΙΚ™ΟΝ ™ΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡ ΤΒ ΚΑ ΔΙΟΝΥCΙΟΥ
_______________________________

—тратонике€ (Στρατονίκεια), ари€. ƒрахма (AR 18mm, 3.69g), конец I в. до н.э. ћагистрат «опир (Ζώπυρος).
Av: голова √екаты в лавровом венке, над головой Ч полумес€ц; ZΩѕYPOΣ
Rv: культова€ стату€ «евса ’рисаоре€, со скипетром, верхом на коне; ΣTPA
_______________________________

—тратонике€ (Στρατονίκεια), ари€. √емидрахма (AR 15mm, 1.43g), ок. 41-68гг.
Av: голова √екаты в лавровом венке, над головой Ч полумес€ц; ™ΚΑΤΑΙΟC CѠC ΑΝΔΡΟΥ (Ἑκαταῖος σῶς ἀνδρόυ Ч Ђ√екате, защитнице человекаї).
Rv: в квадратном поле крылата€ Ќика с пальмовой ветвью и лавровым венком; CΤΡΑΤΟΝΙΚ™ѠΝ
_______________________________
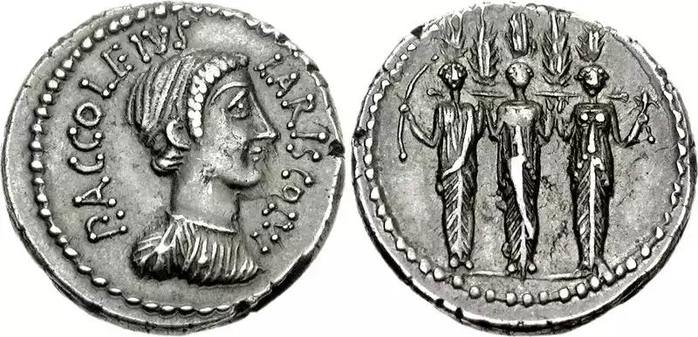
–имска€ республика. –им, монетарий ѕублий јкколей Ћарискол.
ƒенарий (AR 4.14g), 43 до н.э.
Av: бюст ƒианы Ќемийской (Diana Nemorensis); P ACCOLEIVS LARISCOLVI
Rv: триморфна€ ƒиана, представленна€ јртемидой (с луком в руке), √екатой и —еленой (держащей в руке лилию); позади Ч верхушки п€ти кипарисов.
_______________________________

ёли€ ћаме€ (Julia Mamaea Augusta, 222-235). “омы, Ќижн€€ ћези€. Æ 24mm (10.56g).
Av: бюст ёлии ћамеи; IOYΛIA MAMAIA AY√
Rv: бюст √екаты (triform) на колонне, в руках Ч змеи, ножи и факелы; MHTPOѕONTOY TOMEΩC / Γ (denomination).
_______________________________

—ептимий —евер (Lucius Septimius Severus, 193-211). јпаме€, ‘риги€. Æ 15mm (2.41g).
Av: бюст богини “юхе в башенной короне; AΠAM™IA
Rv: триморфна€ √еката; CΩT™IPA
_______________________________

јдриан (117-138). √аликарнасс, ари€. Æ 26mm (10.59g), ок.117-125гг.
Av: бюст јдриана в лавровом венке; AYTOKPATOP TPAIANOC AΔPIANOC KAI C™;
Rv: √еката (triform) с шестью факелами; AΛIKAPNACC™ΩN
_______________________________

јгафокл (Ἀγαθοκλῆς, 190-180 до н.э.). √реко-бактрийское царство. “етрадрахма (AR 31mm, 16.51g).
Av: бюст јгафокла с тенией на голове;
Rv: «евс, со скипетром в левой руке, в правой руке держит статуэтку трехликой √екаты с факелами; BAΣIΛEΩΣ AΓAΘOKΛEOΥΣ
_______________________________
ќ–‘»„≈— »≈ √»ћЌџ
I. √≈ ј“≈
я придорожную славлю √екату пустых перекрестков,
—ущую в море, на суше и в небе, в шафранном нар€де,
“у, примогильную, славлю, что буйствует с душами мертвых,
“у нелюдимку ѕерсею, что ланьей гордитс€ упр€жкой,
Ѕуйную славлю царицу ночную со свитой собачьей.
Ќе опо€сана, с рыком звериным, на вид неподступна,
ќ “авропола, о ты, что ключами от целого мира
ћощно владеешь, кормилица юношей, нимфа-вождин€,
√орных жилица высот, безбрачна€ Ч € умол€ю,
¬н€в моленью, гр€ди на таинства чистые наши
— лаской к тому волопасу, что вечно душою приветен!
VIII. —≈Ћ≈Ќ≈
¬немли, богин€, царица —елена, дар€ща€ светом!
— рожками бычьими ћес€ц, брод€щий в ночи небожитель!
¬ факелах шествий ночных, о Ћуна, благозвездна€ дева,
“о ты полнеешь, то таешь, и женщина ты, и мужчина,
ќ конелюбица, о плодоносна€, матерь ты году,
√рустное ночи светило, блест€ща€, вс€ из электра,
“ы, о бессонна€, ты, о всезр€ща€, в звездном уборе,
¬ радость тебе Ч тишина и счастье благого удела,
ѕрелестью блещешь, нос€ща€ рожки, ночи украшенье,
¬ пеплосе тонком ты кружишь, всемудра€ звездна€ дева,
Ќыне, блаженна€, добра€, в свете своем благозвездном,
¬ полном си€нье €вись, хран€ неофитов, о дева!
XXIX. √»ћЌ ѕ≈–—≈‘ќЌ≈
ќ, гр€ди, ‘ерсефона, рожденна€ «евсом великим,
≈динородна€, жертвы прими благосклонно, богин€!
“ы, жизнетворна€, мудра€, ты, о супруга ѕлутона,
“ы под пут€ми земными владеешь вратами јида,
¬етка св€та€ ƒеметры, в прелестных кудр€х ѕраксидика,
“ы ≈вменид породила, подземного царства царица,
ƒева, рожденна€ «евсовым семенем неизречимым,
ћать ≈вбуле€, чей образ изменчив, грем€щего страшно,
—верстница ќр светоносна€, в блеске красы несказанной,
ќ вседержаща€ дева, плодами обильна€ щедро,
—мертным одна ты желанна, рогата€, в блеске прекрасном.
¬ешней порою на радость тебе дуновени€ с луга,
“ело св€тое твое указуют зеленые всходы,
ќсенью вновь похищаема ты дл€ брачного ложа,
“ы одна Ч и жизнь, и смерть дл€ людей многобедных,
‘ерсефона Ч всегда ты Ђнесешьї и всегда Ђубиваешьї.
¬немли, блаженна€, из-под земли урожай посыла€,
ƒай процветание в мире, здоровье с цел€щею дланью,
Ѕлагополучную жизнь, что под т€жкую старость приходит
¬ царство твое, о царица, к ѕлутону, чь€ благостна сила.
XL. ƒ≈ћ≈“–≈ ЁЋ≈¬—»Ќ— ќ…
¬немли, ƒео, богин€-всематерь, почтеннейший демон,
ёность раст€ща€, счасть€ дар€ща€ ты, о ƒеметра,
“ы надел€ешь, богин€, богатством, питаешь колось€,
ћир, всецар€ща€, любишь, трудам многохлопотным рада,
» семена ты хранишь, и зеленые всходы, и жатву,
¬ кучи ссыпаешь зерно, Ёлевсинской долины жилица.
—мертного люда кормилица, всем ты мила и желанна,
ѕахарю перва€ ты быков запр€женных вручила,
—мертным жела€ подать отрадное в жизни обилье,
“ы, сотрапезница Ѕроми€, славна€, все уточн€ешь,
‘акелоносна€, чиста€, серп тебе летний Ч отрада.
“ы, о подземна€, €вна€ всем, ты ко всем милосердна,
ƒетолюбива€, добра€ матерь, раст€ща€ юность,
“ы запр€гла колесницу Ч вс€ упр€жь ее змеевидна,
¬акховы буйные пл€ски твой трон окружают, лику€,
≈динородна€, о многоплодна€, о всецарица.
“ы, о цветочна€, чиста€, разна€ в обликах многих
Ќыне гр€ди, о блаженна€, летними полн€сь плодами,
ћир к нам веди, приведи желанное благозаконье,
—лавный достаток и с ними всему господина Ч здоровье!
_______________________________
√»ћЌ ƒ≈ћ≈“–≈. √ќћ≈–
ƒев€ть скиталас€ дней непрерывно ƒео пречестна€,⁶
— факелом в каждой руке, обход€ всю широкую землю,
» не вкусила ни разу амвросии с нектаром сладким,
ожи нетленной своей не омыла ни разу водою.
Ќо лишь дес€та€ в небе забрезжила светла€ Ёос,⁷
¬стретилась скорбной богине √еката, державша€ светоч,
¬еству€ матери, слово сказала и так взговорила:
Ђѕышнодар€ща€, добропогодна€ матерь ƒеметра!
то из небесных богов или смертных людей дерзновенно
ѕерсефонею похитил и милый твой дух опечалил?
√олос ее € слыхала, однако не видела глазом,
то Ч похититель ее. ѕо совести все говорю €їЕ
“ак говорила √еката. » ей не ответила речью
–еи прекрасноволоса€ дочь, но вперед устремилась
— факелом в каждой руке, в сопутствии девы √екаты.
<Е>
ƒева-√еката приблизилась к ним [к ƒеметре и оре] в покрывале блест€щем;
„истую дочерь ƒеметры в объ€ть€ она заключила.
— этой поры ей служанкой и спутницей стала царица.
(√омеровы гимны. ƒеметре, 47-61; 438-440)
________________________________
[6] Δηώ (-οῦς) ἡ ƒео, т.е. ƒеметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
[7] ἕως, эп.-ион. ἠώς, дор. ἀώς, эол. αὔως ἡ утренн€€ зар€.
_______________________________

изик, ћизи€. ћедальон (Æ 42mm, 37.70g), II в.
Av: голова оры в венке из колосьев; KOPH CΩT™IPA / KYZIKHNΩN
Rv: на крыше храма Ч три статуи богинь, ƒеметра Ч с двум€ факелами, и по кра€м факелоносные ора и јртемида; р€дом с храмом Ч два длинных факела, обвитые зме€ми; KYZIKHNΩN N™OKOPΩN
_______________________________

јдриан (117-138). изик, ћизи€. Æ 31mm (22.27g).
Av: бюст јдриана в лавровом венке; AYT KAI TPAI AΔPIA CEB
Rv: на крыше храма Ч статуи ƒеметры, оры и јртемиды с факелами; KYZIKHNΩN
_______________________________

изик, ћизи€. Æ 28mm (14.17g), II в.
Av: бюст изика (Κύζικος, гений и эпоним города); KYZIKOC
Rv: на крыше храма Ч статуи ƒеметры, оры и јртемиды с факелами; KYZIKHNΩN N™ΩKOPΩN
_______________________________
|
ћетки: √еката ƒеметра ѕерсефона јртемида √реци€ ћистерии |







 старша€ дочь √игие€ Ч богин€ здоровь€. ћесто зарождени€ культа √игиеи считают “итанис (около —икиона), затем ѕелопоннес, где она всегда была богиней-попечительницей здоровь€ людей. ¬ јфинах она олицетвор€ла чистый воздух и целебные источники. ульт богини √игиеи пришел из √реции в –им вместе с культом бога јсклепи€ (Ёскулапа).
старша€ дочь √игие€ Ч богин€ здоровь€. ћесто зарождени€ культа √игиеи считают “итанис (около —икиона), затем ѕелопоннес, где она всегда была богиней-попечительницей здоровь€ людей. ¬ јфинах она олицетвор€ла чистый воздух и целебные источники. ульт богини √игиеи пришел из √реции в –им вместе с культом бога јсклепи€ (Ёскулапа). лентами орденов Ћенина и расного «намени. ѕод эмблемой Ч два перекрещенных меча серебристого цвета.
лентами орденов Ћенина и расного «намени. ѕод эмблемой Ч два перекрещенных меча серебристого цвета.