-Рубрики
- Ванюшному (122)
- вкусная еда (103)
- болеро, кардиганы, жакеты и другое крючком (95)
- ДЕТКАМ (87)
- статьи о традиционной русской культуре (84)
- шмот крючком для милой мамы (74)
- для дома моего (69)
- ирландское вязание (69)
- интересное (66)
- тунички, платья. (60)
- шапочки для малышей (58)
- шмотота- вышивка, шитьё, старинное, аутентичное (57)
- на ручки (55)
- история в миниатюрах (55)
- шальки (54)
- я мамочка (53)
- красивое одеждо спицами (52)
- узоры спицами (51)
- узоры и мотивы крючком (47)
- девочке Сонейке (46)
- если родится Вера (45)
- вязание спицами для меня (44)
- салфетки, скатерти (39)
- выкопанное. (38)
- мне нравится (37)
- Крым (36)
- вязание (36)
- вкусность (35)
- Родная Красота (34)
- современная история родного государства (34)
- славянское язычество (32)
- Война (30)
- на ножки (30)
- УХТЫ!!! (28)
- Рим, любимая Италия, Искья, Венеция, Тоскана, Помп (28)
- фетр (28)
- пледы, коврики и мелочи крючком и спицами (27)
- филокартия - (27)
- Сибирь- (25)
- археология (24)
- мозаика, декупаж, печворк, декорирование и другое (22)
- руны, рунескрипты, вязи, шлемы (22)
- неблагодарные потомки (21)
- Курск, Калуга, Рязань, Москва (20)
- скандинавия, асатру, север (20)
- когда не спится (19)
- Рукавички,перчатки,митенки ДЛЯ ПЕРЕДНИХ ЛАПОК (19)
- дерьмоништяк и разные шедевры (19)
- Старая Россия (18)
- Красивый мир (16)
- стихи (16)
- здоровье (15)
- праздники славян- наши праздники (15)
- моё, только моё (14)
- поморы,северные народы России (13)
- екатерина вторая (13)
- люди добрые (12)
- квартирный вопрос (11)
- словесность, грамотность, и просто буковки (10)
- историческая реконструкция в контексте (10)
- капища, мои места, любимый лес (10)
- ткачество на дощечках и бердо (9)
- жаккарды (8)
- Русские в Америке (8)
- поморы,северные народы России (8)
- мои статьи (8)
- резьба по дереву (4)
- проза (1)
- Театр, мой и не только (0)
-Метки
Север ажур апокрифы асатру болеро болерошка буковки вакцинация велеслав венок воспитание вышивка гамаюнщина деревья дети деткам детство дом дочушка игры имена ирландия история калаши капище кологод коломна корни красота кружево крым культура купала лён лес ломоносов мёд магия малышам нара наряд носочки обработка обучение обыденная пелена одежда олени открытки палантин педагогика перун печворк пинетки платов плед полотно посиделки праздник праздники предки прививки призраки прошлого прядение психология путешествия радогощ развитие ритуал родина предков родители рубаха рукоделие руны русалии русское русь рымник салфетка свадьба святослав славяне следочки совы суворов тапочки ткачество традиция туника фото хмель хоровод шалька шапочка шахта ык эдда эрокартия юность язык язычество
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Создан: 31.03.2011
Записей: 2425
Комментариев: 123
Написано: 2602
Записей: 2425
Комментариев: 123
Написано: 2602
По классу осанки я кончила Смольный.
Надомный, подпольный, далёкий от смертных с Лубянки.
Какие - то, видно, мамзели, меня обучали
искусству сходить с карусели- без тени печали!
Надомный, подпольный, далёкий от смертных с Лубянки.
Какие - то, видно, мамзели, меня обучали
искусству сходить с карусели- без тени печали!
ЯЗЫЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА СЛАВЯНСКИХ АРХАИЧЕСКИХ РИТУАЛОВ |
ЯЗЫЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА СЛАВЯНСКИХ АРХАИЧЕСКИХ РИТУАЛОВ
Одним из порождений языческого восприятия мироздания как извечного
кругооборота жизнь—смерть—жизнь был праславянский ритуал проводов на
«тот свет». Генетические корни его и функциональная направленность
формировались на почве представлений о соотношении земного и
«потустороннего» миров, предков с потомками, первенствующей роли
обожествленных предков в земной жизни. Формальную структуру его у
протославян определяла органическая взаимосвязанность культа предков
с аграрными культами. Выявляется она посредством
сравнительно-исторического анализа трансформированных рудиментов его
в славянской фольклорной традиции— устно-поэтической (предания,
пословицы, поговорки, загадки), вокально-хореографической (песни,
причитания, круговые танцы), обрядово-драматической (обряды, обычаи,
игрища, игры) и изобразительной (чучела, куклы, маски, приемы
оформления костюмов ряженых и ритуальных предметов — дерева, ветки,
палицы, хлыста, писанок и т. п.) с данными о нем в средневековых,
античных, древневосточных источниках и формами его у разных народов
мира.
Типологический характер ритуала проводов на «тот свет» в
значительной мере обусловлен языческими представлениями о смерти и
вечности, восприятием смерти как перехода к жизни в ином облике. В
извечном кругообороте перевоплощений от низших видов живых существ к
возвращению в свой род новорожденным младенцем формы посмертных
превращений, судьбы последующих жизней представлялись зависимыми от
родовой принадлежности, моральных устоев и жизненных принципов как
самого человека, так и его предшественников (родовых и семейных).
Устремлениями и действиями, особенно в последний период жизни,
определялось посмертное существование: как низменные намерения и
поступки вели к сниженным формам посмертных превращений, так
подвигами на благо семьи и тем более общества, в какой бы сфере
социальной жизни они ни проявлялись, достигалось приобщение к сонму
святых предков, коему ниспослана вечная жизнь при космическом мире
богов.
Сравнительно-историческое изучение ритуала проводов на «тот свет»
показывает соответствие его высшим формам культа предков. Основная
функциональная сущность заключалась в периодическом отправлении
«посланцев» в космический мир священных предков, — чтобы с помощью
их поддерживать нормальное течение жизни на Земле.
Ритуалом проводов «посланников» в значительной мере определялось
формирование структуры и знаковой символики обрядового цикла
языческих славян, как и других народов Европы, реминисценции же его
играли заметную роль в традиционной обрядности, календарной и
похоронной, наложив свой отпечаток в разных проявлениях фольклорной
традиции. Значимость воздействия ритуала проводов на «тот свет» на
календарный обрядовый комплекс явствует из проявлений рудиментов его
в основных элементах структуры славянских обрядовых циклов: в
святочно-новогоднем (сочельническое дерево—полено, состав и
оформление ритуальной трапезы, ряжение), масленичном (карнавальные
персонажи, чучела-куклы), летнем (троицкая березка, ветки, венки,
гирлянды, цветы; похороны Костромы, Германа, Ярилы, «Ярилиной
плеши», «русалки», «кукушки»; «додола» и т. п.; купальские костры),
жатвенном (последний сноп, «борода» и др.), осеннем («кузьминки» и
др.).
В исследовании обрядовых действ, оформившихся на почве трансформации
ритуала проводов на «тот свет», необходимо разграничение
историко-генетических элементов и явлений типологических. Поскольку
выявление специфических особенностей в традиции тех или иных
народностей или этнических групп возможно лишь на базе
установленного индоевропейского, праславянского слоя в славянской
народной культуре, основным предметом исследования было установление
рудиментов ритуала проводов на «тот свет» и пережиточных форм их,
образовавшихся вследствие деградации ритуальных действ и их
смещений, а не специфически славянской символики знаковой системы,
семантики фольклорных образов, сформировавшихся на основе этого
ритуала.
В славянской традиции наблюдается синтез разных пластов истории
ритуала. Красноречивым образцом являются обрядовые действа,
функционально направленные на благодетельность воздействия сил
природы при росте и созревании посевов. В рудиментах проводов
«вестников» к космическим предкам, способствующим регулированию
солнечной энергии и влаги, прослеживаются разные направления и
уровни трансформации символики, сложение различных пережиточных
форм: от знакового отправления «посланников» до символического
прощального оплакивания, перенесенного на атрибуты их ритуального
убранства. Пережиточными формами отправления «вестников» являются
бросанье в сельский водоем старухи; зарывание в землю детей или
животных; погребение в земле знаков их — Германа, «Костромы»,
«кукушки» и т. п. Еще более поздние пережиточные формы заключаются в
окроплениях водой увитых зеленью девочек («до-дола») или
символическом оплакивании специально сорванных цветов, трав и т. п.
Убедительным показателем того, что ритуал проводов на «тот свет» в
качестве элемента социального уклада мог иметь место у славян лишь в
начальный период истории их, является скудость и отрывочность
сведений о нем в средневековых письменных источниках, причем в
упоминаниях этих фигурируют лишь трансформированные и
деградировавшие формы ритуала. Еще более ярко подтверждает положение
обрядовая традиция: следы ритуала отразились в ней лишь в
драматизированной, игровой форме; они трудно уловимы под пластом
длительных и разносторонних наслоений. Сложность функционального
содержания ритуала в значительной мере определяет разные уровни
формальной структуры драматизированных игрищ, его воспроизводящих, и
устно-поэтических реминисценций. Трансформированные рудименты
ритуала проводов на «тот свет» прослеживаются под слоем сложных
переосмыслений в персонажах святочного и масленичного ряжения
(«дед», «баба», «vysoka zena», «pohreben», «za-pust»), в атрибутах
оформления их (гипертрофированная седая борода «старика»; палица,
меч, сабля; трезубец и др.), в идентичности образов карнавальных
чучел «Масленицы» «Могепу», «Смерти», «Зимы» и т. п. и форм
символизации умерщвления.
В молодежных игровых действах, связанных с майским деревом («maj»),
рудименты ритуала проводов на «тот свет» явственнее всего в обычае
подниматься на верхушку «мая». Генезис его проясняется при
сопоставлении с формой ритуала проводов на «тот свет» на Суматре,
тоже деградировавшей: стряхиванием с вершины высокого дерева
поднявшегося на нее «старика».
Особенно осложнены наслоениями разных этапов истории ритуала
проявления трансформированных форм отправления «посланников» в
обожествленный космос — замены живых «вестников» знаками и символами
их — в действах, связанных с новогодними и купальскими кострами. Как
сожжение увитого венками, гирляндами, цветами, лентами чучела,
деревца ветки, соломы означало замену «посланников» знаками и
символами, так прыжок через костер символизировал отход от обычая
отправления живых «посланников» и в этом смысле аналогичен основному
мотиву преданий о прекращении обычая преждевременного умерщвления
стариков.
Красноречивые свидетельства функциональной направленности ритуала
содержит жатвенная обрядность. Языческое миропонимание связывало
природные явления, как благоприятствующие, так и несущие катастрофу
земледельцу, с действиями богов и обожествленных предков;
отправление «вестников» насущных нужд общины к предкам —
покровителям было важнейшим ритуальным действом при жатве хлебов —•
завершении сельскохозяйственного сезона и залоге благополучия
предстоящего. Рудименты ритуала проводов на «тот свет» проявляются,
преимущественно, в действах с последним снопом или символами более
стилизованными — пучком последних колосьев в форме человеческой
головы или бороды, ржаным венком и т. п. В традиционной жатвенной
обрядности синтезированы разные трансформированные формы ритуала.
Антропоморфный облик снопа, по знаковому содержанию идентичный
антропоморфному облику «рождественского полена», троицкой березке в
бабьем наряде, суку с развилкой в стилизованном женском одеянии в
«похоронах кукушки» и т. п., наименования его типа «старый», «баба»,
«дед» — рудимент отправлявшихся к праотцам «вестников», название же
«именинник» — лаконичное обозначение отхода от этого обычая и
трансформации его в символические формы, аналогичное финалу преданий
о прекращении преждевременного умерщвления стариков с его
торжественным выведением героя из тайного укрытия и приятием как
мудрого наставника общины.
Символ торжества знаковых форм над отправлением живых «посланников»
являет собой чешская сочельническая фигурка из сушеных фруктов,
выразительнейшим образом передающая сущность трансформации
языческого обычая.
Воздействие ритуала проводов на «тот свет» на структуру похоронной
обрядности проявляется преимущественно в соотношениях с ним
похоронной тризны, в связях форм и способов погребения умерших
противоестественной смертью, в аналогиях с формами ритуала
архаических форм традиционной погребальной обрядности — на горах, в
лесах, у источников, на болоте, раздорожьи, а также в рудиментах
кремации. По всей видимости, в процессе деградации ритуала
отправления на «тот свет» формировались такие пережиточные формы как
ритуальное калечение трупов, отрубание головы «заложным» покойникам,
сожжение или погребение заживо колдунов, ведьм, а также подобные
способы казни преступников. Наиболее очевидны рудименты ритуала в
общественных собраниях при покойниках, в похоронных играх карпатских
горцев, подолян и хорватов в особенности, где прослеживаются
аналогии со святочными игрищами с покойницкими мотивами («умрун»).
Показательны элементы, отражающие восприятие покойника как реального
участника ритуальных действ в честь его. В процессе трансформации
ритуала проводов на «тот свет» эти действа, подобно многим другим
архаическим элементам похоронной обрядности, были перенесены с
отправлявшихся на «тот свет» по обычаю, на умерших. Положение
подтверждается народной лексикой: локальные названия смерти,
покойников, могил связаны как с самим обычаем отправления на «тот
свет», так и с формами ритуала (смерть — «выход»; умирать —
«опрудить»; покойник — «смертёльник», «умирашка», «умран»; могила —•
ухаб и т. п.).
Сравнительно-исторический анализ ритуала проводов на «тот свет»
приводит к заключению о том, что умерщвление «вестников» связано с
деградацией обычая. Основная сущность древнего ритуала заключалась,
до-видимому, в удалении на родину (прародину) при признаках
приближения старости.
Вопрос о первоначальных формах трансформации ритуала проводов на
«тот свет», как и генезисе его, выходит за рамки исследования: в
истории славянской культуры фигурируют трансформированные и
пережиточные формы его. Исходя из этого ритуала можно понять
сущность символики архаичнейших явлений славянской обрядности.
Положение об определяющей значимости роли ритуалов в честь
умирающего и воскресающего божества растительности в славянской
обрядности, а также и мотивов очищения, основанных на теории
Фрезера, нуждается в коррективах, как вносятся коррективы в
положение об умирающих и воскресающих богах Древнего Востока.
Результаты исследования языческого ритуала проводов на «тот свет»
ставят вопрос о соотношении его с мифологическим мотивов возвращения
под старость на родину.
Для понимания генетических корней и первоначальной сущности ритуала
особенно важны мифологические мотивы древневосточной традиции о
космических героях, по свершении столетней гуманистической миссии на
земле сжигавших себя в пламени, поднятии с дымом «на свою звезду» на
драконе, достижении в результате переправы на нем двух тысяч лет. На
их основе разъясняется не только функциональная сущность
архаичнейших ритуальных действ традиционной славянской обрядности,
но и знаковое содержание атрибутов их — трезубца, треножника и др.
Так, в чудодейственных треножниках мифических «сынов неба» кроется
разгадка ритуальных треножников («троножац», «сацаюй, в которых
разводился огонь при ритуальных действах, направленных на
прекращение губительных проливных дождей (как и треножников для
предсказаний древнегреческих пифий и т. п.).
Конструктивные результаты исследования символики, знакового
содержания славянских архаических ритуалов, семантики фольклорных
образов тормозит недостаточная изученность общеиндоевропейского,
праславянского слоя в славянской народной культуре. Лишь на базе
установленного соотношения историко-генетических и типологических
явлений в истории славянской культуры могут быть раскрыты специфично
славянские формы трансформации явлений, связанных с
древнеиндоевропейским наследием в славянской народной культуре.
Одним из порождений языческого восприятия мироздания как извечного
кругооборота жизнь—смерть—жизнь был праславянский ритуал проводов на
«тот свет». Генетические корни его и функциональная направленность
формировались на почве представлений о соотношении земного и
«потустороннего» миров, предков с потомками, первенствующей роли
обожествленных предков в земной жизни. Формальную структуру его у
протославян определяла органическая взаимосвязанность культа предков
с аграрными культами. Выявляется она посредством
сравнительно-исторического анализа трансформированных рудиментов его
в славянской фольклорной традиции— устно-поэтической (предания,
пословицы, поговорки, загадки), вокально-хореографической (песни,
причитания, круговые танцы), обрядово-драматической (обряды, обычаи,
игрища, игры) и изобразительной (чучела, куклы, маски, приемы
оформления костюмов ряженых и ритуальных предметов — дерева, ветки,
палицы, хлыста, писанок и т. п.) с данными о нем в средневековых,
античных, древневосточных источниках и формами его у разных народов
мира.
Типологический характер ритуала проводов на «тот свет» в
значительной мере обусловлен языческими представлениями о смерти и
вечности, восприятием смерти как перехода к жизни в ином облике. В
извечном кругообороте перевоплощений от низших видов живых существ к
возвращению в свой род новорожденным младенцем формы посмертных
превращений, судьбы последующих жизней представлялись зависимыми от
родовой принадлежности, моральных устоев и жизненных принципов как
самого человека, так и его предшественников (родовых и семейных).
Устремлениями и действиями, особенно в последний период жизни,
определялось посмертное существование: как низменные намерения и
поступки вели к сниженным формам посмертных превращений, так
подвигами на благо семьи и тем более общества, в какой бы сфере
социальной жизни они ни проявлялись, достигалось приобщение к сонму
святых предков, коему ниспослана вечная жизнь при космическом мире
богов.
Сравнительно-историческое изучение ритуала проводов на «тот свет»
показывает соответствие его высшим формам культа предков. Основная
функциональная сущность заключалась в периодическом отправлении
«посланцев» в космический мир священных предков, — чтобы с помощью
их поддерживать нормальное течение жизни на Земле.
Ритуалом проводов «посланников» в значительной мере определялось
формирование структуры и знаковой символики обрядового цикла
языческих славян, как и других народов Европы, реминисценции же его
играли заметную роль в традиционной обрядности, календарной и
похоронной, наложив свой отпечаток в разных проявлениях фольклорной
традиции. Значимость воздействия ритуала проводов на «тот свет» на
календарный обрядовый комплекс явствует из проявлений рудиментов его
в основных элементах структуры славянских обрядовых циклов: в
святочно-новогоднем (сочельническое дерево—полено, состав и
оформление ритуальной трапезы, ряжение), масленичном (карнавальные
персонажи, чучела-куклы), летнем (троицкая березка, ветки, венки,
гирлянды, цветы; похороны Костромы, Германа, Ярилы, «Ярилиной
плеши», «русалки», «кукушки»; «додола» и т. п.; купальские костры),
жатвенном (последний сноп, «борода» и др.), осеннем («кузьминки» и
др.).
В исследовании обрядовых действ, оформившихся на почве трансформации
ритуала проводов на «тот свет», необходимо разграничение
историко-генетических элементов и явлений типологических. Поскольку
выявление специфических особенностей в традиции тех или иных
народностей или этнических групп возможно лишь на базе
установленного индоевропейского, праславянского слоя в славянской
народной культуре, основным предметом исследования было установление
рудиментов ритуала проводов на «тот свет» и пережиточных форм их,
образовавшихся вследствие деградации ритуальных действ и их
смещений, а не специфически славянской символики знаковой системы,
семантики фольклорных образов, сформировавшихся на основе этого
ритуала.
В славянской традиции наблюдается синтез разных пластов истории
ритуала. Красноречивым образцом являются обрядовые действа,
функционально направленные на благодетельность воздействия сил
природы при росте и созревании посевов. В рудиментах проводов
«вестников» к космическим предкам, способствующим регулированию
солнечной энергии и влаги, прослеживаются разные направления и
уровни трансформации символики, сложение различных пережиточных
форм: от знакового отправления «посланников» до символического
прощального оплакивания, перенесенного на атрибуты их ритуального
убранства. Пережиточными формами отправления «вестников» являются
бросанье в сельский водоем старухи; зарывание в землю детей или
животных; погребение в земле знаков их — Германа, «Костромы»,
«кукушки» и т. п. Еще более поздние пережиточные формы заключаются в
окроплениях водой увитых зеленью девочек («до-дола») или
символическом оплакивании специально сорванных цветов, трав и т. п.
Убедительным показателем того, что ритуал проводов на «тот свет» в
качестве элемента социального уклада мог иметь место у славян лишь в
начальный период истории их, является скудость и отрывочность
сведений о нем в средневековых письменных источниках, причем в
упоминаниях этих фигурируют лишь трансформированные и
деградировавшие формы ритуала. Еще более ярко подтверждает положение
обрядовая традиция: следы ритуала отразились в ней лишь в
драматизированной, игровой форме; они трудно уловимы под пластом
длительных и разносторонних наслоений. Сложность функционального
содержания ритуала в значительной мере определяет разные уровни
формальной структуры драматизированных игрищ, его воспроизводящих, и
устно-поэтических реминисценций. Трансформированные рудименты
ритуала проводов на «тот свет» прослеживаются под слоем сложных
переосмыслений в персонажах святочного и масленичного ряжения
(«дед», «баба», «vysoka zena», «pohreben», «za-pust»), в атрибутах
оформления их (гипертрофированная седая борода «старика»; палица,
меч, сабля; трезубец и др.), в идентичности образов карнавальных
чучел «Масленицы» «Могепу», «Смерти», «Зимы» и т. п. и форм
символизации умерщвления.
В молодежных игровых действах, связанных с майским деревом («maj»),
рудименты ритуала проводов на «тот свет» явственнее всего в обычае
подниматься на верхушку «мая». Генезис его проясняется при
сопоставлении с формой ритуала проводов на «тот свет» на Суматре,
тоже деградировавшей: стряхиванием с вершины высокого дерева
поднявшегося на нее «старика».
Особенно осложнены наслоениями разных этапов истории ритуала
проявления трансформированных форм отправления «посланников» в
обожествленный космос — замены живых «вестников» знаками и символами
их — в действах, связанных с новогодними и купальскими кострами. Как
сожжение увитого венками, гирляндами, цветами, лентами чучела,
деревца ветки, соломы означало замену «посланников» знаками и
символами, так прыжок через костер символизировал отход от обычая
отправления живых «посланников» и в этом смысле аналогичен основному
мотиву преданий о прекращении обычая преждевременного умерщвления
стариков.
Красноречивые свидетельства функциональной направленности ритуала
содержит жатвенная обрядность. Языческое миропонимание связывало
природные явления, как благоприятствующие, так и несущие катастрофу
земледельцу, с действиями богов и обожествленных предков;
отправление «вестников» насущных нужд общины к предкам —
покровителям было важнейшим ритуальным действом при жатве хлебов —•
завершении сельскохозяйственного сезона и залоге благополучия
предстоящего. Рудименты ритуала проводов на «тот свет» проявляются,
преимущественно, в действах с последним снопом или символами более
стилизованными — пучком последних колосьев в форме человеческой
головы или бороды, ржаным венком и т. п. В традиционной жатвенной
обрядности синтезированы разные трансформированные формы ритуала.
Антропоморфный облик снопа, по знаковому содержанию идентичный
антропоморфному облику «рождественского полена», троицкой березке в
бабьем наряде, суку с развилкой в стилизованном женском одеянии в
«похоронах кукушки» и т. п., наименования его типа «старый», «баба»,
«дед» — рудимент отправлявшихся к праотцам «вестников», название же
«именинник» — лаконичное обозначение отхода от этого обычая и
трансформации его в символические формы, аналогичное финалу преданий
о прекращении преждевременного умерщвления стариков с его
торжественным выведением героя из тайного укрытия и приятием как
мудрого наставника общины.
Символ торжества знаковых форм над отправлением живых «посланников»
являет собой чешская сочельническая фигурка из сушеных фруктов,
выразительнейшим образом передающая сущность трансформации
языческого обычая.
Воздействие ритуала проводов на «тот свет» на структуру похоронной
обрядности проявляется преимущественно в соотношениях с ним
похоронной тризны, в связях форм и способов погребения умерших
противоестественной смертью, в аналогиях с формами ритуала
архаических форм традиционной погребальной обрядности — на горах, в
лесах, у источников, на болоте, раздорожьи, а также в рудиментах
кремации. По всей видимости, в процессе деградации ритуала
отправления на «тот свет» формировались такие пережиточные формы как
ритуальное калечение трупов, отрубание головы «заложным» покойникам,
сожжение или погребение заживо колдунов, ведьм, а также подобные
способы казни преступников. Наиболее очевидны рудименты ритуала в
общественных собраниях при покойниках, в похоронных играх карпатских
горцев, подолян и хорватов в особенности, где прослеживаются
аналогии со святочными игрищами с покойницкими мотивами («умрун»).
Показательны элементы, отражающие восприятие покойника как реального
участника ритуальных действ в честь его. В процессе трансформации
ритуала проводов на «тот свет» эти действа, подобно многим другим
архаическим элементам похоронной обрядности, были перенесены с
отправлявшихся на «тот свет» по обычаю, на умерших. Положение
подтверждается народной лексикой: локальные названия смерти,
покойников, могил связаны как с самим обычаем отправления на «тот
свет», так и с формами ритуала (смерть — «выход»; умирать —
«опрудить»; покойник — «смертёльник», «умирашка», «умран»; могила —•
ухаб и т. п.).
Сравнительно-исторический анализ ритуала проводов на «тот свет»
приводит к заключению о том, что умерщвление «вестников» связано с
деградацией обычая. Основная сущность древнего ритуала заключалась,
до-видимому, в удалении на родину (прародину) при признаках
приближения старости.
Вопрос о первоначальных формах трансформации ритуала проводов на
«тот свет», как и генезисе его, выходит за рамки исследования: в
истории славянской культуры фигурируют трансформированные и
пережиточные формы его. Исходя из этого ритуала можно понять
сущность символики архаичнейших явлений славянской обрядности.
Положение об определяющей значимости роли ритуалов в честь
умирающего и воскресающего божества растительности в славянской
обрядности, а также и мотивов очищения, основанных на теории
Фрезера, нуждается в коррективах, как вносятся коррективы в
положение об умирающих и воскресающих богах Древнего Востока.
Результаты исследования языческого ритуала проводов на «тот свет»
ставят вопрос о соотношении его с мифологическим мотивов возвращения
под старость на родину.
Для понимания генетических корней и первоначальной сущности ритуала
особенно важны мифологические мотивы древневосточной традиции о
космических героях, по свершении столетней гуманистической миссии на
земле сжигавших себя в пламени, поднятии с дымом «на свою звезду» на
драконе, достижении в результате переправы на нем двух тысяч лет. На
их основе разъясняется не только функциональная сущность
архаичнейших ритуальных действ традиционной славянской обрядности,
но и знаковое содержание атрибутов их — трезубца, треножника и др.
Так, в чудодейственных треножниках мифических «сынов неба» кроется
разгадка ритуальных треножников («троножац», «сацаюй, в которых
разводился огонь при ритуальных действах, направленных на
прекращение губительных проливных дождей (как и треножников для
предсказаний древнегреческих пифий и т. п.).
Конструктивные результаты исследования символики, знакового
содержания славянских архаических ритуалов, семантики фольклорных
образов тормозит недостаточная изученность общеиндоевропейского,
праславянского слоя в славянской народной культуре. Лишь на базе
установленного соотношения историко-генетических и типологических
явлений в истории славянской культуры могут быть раскрыты специфично
славянские формы трансформации явлений, связанных с
древнеиндоевропейским наследием в славянской народной культуре.
Серия сообщений "славянское язычество":
Часть 1 - СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Часть 2 - Храним память былых времён?
...
Часть 6 - Уряд свадебный от Велеслава
Часть 7 - дети солнца
Часть 8 - ЯЗЫЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА СЛАВЯНСКИХ АРХАИЧЕСКИХ РИТУАЛОВ
Часть 9 - про рубахи
Часть 10 - кологодие от Велеслава
...
Часть 30 - >Сорванные цветы...
Часть 31 - О писанках..
Часть 32 - Как наши предки почитали деревья
|
Метки: язычество ритуал |
дети солнца |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ КУЛЬТУРЫ. ЧАСТЬ II. ДЕТИ СОЛНЦА (1)ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Сложный многовековой путь прошло славянское и русское язычество, складывавшееся
из многих, в разное время возникавших компонентов. Несмотря на тысячелетнее
господство государственной православной церкви, языческие воззрения были
народной верой и вплоть до двадцатого века проявлялись в обрядах, хороводных
играх, песнях, сказках и народном искусстве.
Религиозная сущность обрядов-игр давно уже выветрилась, символическое звучание
орнамента забылось, волшебные (т.е. созданные волхвами-волшебниками) сказки
утратили свой мифологический смысл, но даже бессознательно повторяемые потомками
формы архаического языческого творчества представляют огромный интерес,
во-первых, как яркий компонент позднейшей (XIX-XX в.в.) крестьянской культуры,
а, во-вторых, как неоценимая сокровищница сведений о многотысячелетнем пути
познания мира нашими отдаленными предками.
Необходимо выразить надежду, что этнографы и фольклористы соберут воедино и
исследуют богатейшие фонды русского, украинского и белорусского народного
творчества.
Академик Б.А. Рыбаков, «Язычество Древней Руси»
ДЕТИ СОЛНЦА
КРАТКИЙ ОЧЕРК ВЕЛИКОЙ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Прекрасное служит опорой души народа.
Если сломать, разбить, разметать красоту,
то ломаются устои, заставляющие людей
биться и отдавать жизнь за Родину.
На изгаженном вытоптанном месте
не вырастет любви к своему народу,
своему прошлому, воинского мужества
и гражданской доблести.
Забыв о своём славном прошлом,
люди превращаются в толпу оборванцев,
жаждущих лишь набить брюхо.
Поэтому важнее всего для судьбы людей
и государства – нравственность народа,
воспитание его в достоинстве и уважении к предкам, к труду и красоте.
И. А. Ефремов
Славянская культура… Как к ней подойти? Как увидеть её черты, туманно
просвечивающие там и сям в нашей русской культуре среди чуждых ей иноземных
напластований? Как понять душу наших далёких предков – славян (ведь культура –
душа народа!)? Как вслушаться в себя, чтобы услышать голос забытых предков? Ведь
мы тоже славяне, и он должен в нас звучать. Как оживить, заставить говорить
древние обычаи – такой, например, как веселый весенний языческий праздник
масленица, во Ярило, брызгавшее масляным жаром? Как заставить себя время
которого мы едим блины, а наши предки – само солнце серьёзно слушать могучие
заклинания, которым подчинялись сами силы природы и обрывки которых ещё и теперь
пробиваются иногда в детских песенках? Как воскресить великие исторические
деяния, канувшие в Лету, следы которых сохранились в наивных сказках, собранных
в пылящихся на полках афанасьевских сборниках?
Чтобы «увидеть» культуру славян – древнее лицо нашей души – стряхнуть с него
пыль наслоений, надо обратиться к чему-то яркому, сильному, славянскому.
Посмотрим на Владимирские храмы (илл. 1-4). Кто видел их, не мог остаться
равнодушным.
Вот письмо нашей знакомой, которое мы публикуем с её разрешения:
«Какое впечатление произвели на меня Владимирские храмы? Я увидела их в первый
раз сравнительно недавно, то есть когда была человеком зрелым и уже кое-что
понимающим. Помню, летом я приехала во Владимир, прошла по городу, радуясь его
пестроте, маленьким невысоким домам, наивности, которая была во всём: и в этих
домах, и в хозяйственной озабоченности снующих по улицам людей. Такими простыми,
прямыми, действительно необходимыми были эти заботы! Я отдыхала, радовалась,
беззаботно наблюдала за окружающим, пока не дошла до собора. Здесь меня ждало
потрясение. Потрясло всё: масштаб, красота, величие – всё, что не принадлежало
этому нынешнему городу, суетящемуся вокруг. Контраст был настолько силён, что
чувство удивления перекрывало непосредственное ощущение красоты. Откуда здесь
такое? И какое оно имеет отношение ко всему окружающему? И вообще к русской
культуре, как я её знаю и ощущаю – к храму Василия Блаженного, к московским
церквам XVII века, Кремлю, расписным прялкам, копилкам и свистулькам на базарах.
Сбитая с толку, ошеломлённая мысль заметалась – как могло такое вот быть
созданным ещё в XII веке? Так что же, значит всё последующее – деградация? Да
нет, тут и единой линии, сходства не видно. Это нечто иное, принципиально и
несомненно высшее, неизмеримо высшее! А люди кругом не имеют никакого отношения
к этому гиганту, хотя они и связаны с ним – теперь я ловила на них отблески
собора, замечала влияние величественного здания, всегда находившегося у них
перед глазами. Оно было в некоторой просветлённости этого полудеревенского
городка, в гармоничности – на другом уровне, гораздо более низком, но
несомненном. Оно было в ласковой интонации женщин, особенно пожилых, в их
певучей напевности. Отблески, последние, самые последние, косые лучи заходящего
солнца.
Но кто же все-таки создал это чудо? Чем дольше я смотрела на собор, тем больше
он проникал в меня, захватывал до того, что мне уже начало казаться, что и нет
на земле ничего прекрасней. Причем прекрасное это было необыкновенно близко мне,
задевало всю душу, весь внутренний строй, было выражением самого лучшего во мне,
облекало это лучшее в гармонию, человечность, музыкальность и удивительную
цельность. Законченным совершенством были эти храмы, особенно Нерль. И, как
бывает в таких случаях, они не несли на себе следов мучительных творческих
усилий, казались органично слитыми со всем окружающим и как бы возникшими сами
по себе, как вырастает дерево. Но почему я, ленинградка, так мгновенно осознала,
увидела в этих храмах своё, самое глубинное, что до них находило себе лишь
частичные соответствия, но никогда не выражалось в такой полноте и светлой
радости? В ту пору я не любила и не знала русского народного искусства. Точнее,
проявляла к нему вежливо-любознательный интерес интеллигентного человека,
которому известно, что следует знать своё прошлое. Живых ощущений оно во мне не
рождало, своим его я не чувствовала. Его красочность, хотя и жизнерадостная,
казалась мне кричащей, варварской, резкой и не рождала радости во мне самой.
Нагромождение форм и узорчатость московской архитектуры утомляло и развеивало то
серьёзное отношение, какое приличествует церкви. Нарядные игрушки и только!
Чужое, чужое, азиатская экзотика! И, если это – русское, то не русская я.
Отчуждение и чувство непричастности в своей стране – вот и всё, что они во мне
вызывали. Внешне примелькавшееся, но внутренне непонятное и отталкивающее, как
искусство какой-нибудь Индии. Думалось, что это от того, что я ленинградка, что
я родилась и выросла в этом строгом, симметричном, распланированном городе, на
строгих, ясных и величественных ансамблях ампира. Но чудо в том, что здешнее,
владимирское было ближе, оно давало небывалое соответствие каким-то глубинам
души. Здесь была строгость конструкции, её логичность, ясность и величие, и ещё
то, чего в ампире не было – тёплая гармоничная музыкальность, звучавшая в мир,
создававшая с ним как бы тёплое единение. Словно золотые волны окутывали
всякого приближающегося к храму и вовлекали его в некое музыкальное единство с
собой, звучащее, вибрирующее. Если про ампир можно было сказать, что он нёс в
себе благородство отвлечённых линий, то здесь было благородство человечности,
возвышенной, духовной. Аристократическое благородство, не выродившееся в
утончённость, недоступную всем. Это было тоже удивительно и ново: аристократизм,
который не обособляется в своей исключительности, в своём предназначении только
для избранных. Откровением этого аристократизма была его открытость для всех,
демократичность. Его сутью было выражение того лучшего, что есть в каждом.
Меня Владимирские храмы освободили сразу же и навсегда от чувства
неполноценности, с которым я прежде ощущала свою непричастность к народному
русскому искусству, освободили от ощущения европейца, блуждающего в чужом мире.
Владимирские храмы создают ощущение, что вся их красота есть и в тебе, до неё не
надо расти, как до ампира, а надо лишь дать ей проявиться в себе, раскрыться,
расцвести».
Это чувство несоответствия Владимирских храмов всей окружающей нас
действительности при первом знакомстве с ними бывает, в самом деле, очень
острым. Внутренняя эклектичность более позднего русского искусства, особенно
основанного на европейских заимствованиях послепетровского, стала его глубокой
сущностью, стилем, более того – чертой культуры. Мы все настолько привыкли к
этому, что уже перестали замечать неестественность положения, при котором
считаем своими всяческие «Испанские песни» Рубинштейна, «Итальянские песни»
Глинки, так же как и «казанский стиль» храма Василия Блаженного вместе со всем
русским классицизмом, ампиром, барокко. Недаром в нас так крепко представление о
единой, для всех народов обязательной, общечеловеческой культуре. Мы не
представляем, что может быть по-другому. Восточное, китайское, индийское
искусство поражает нас, кроме непривычности и причудливости, не только
самобытностью, но и своим, так чуждым нам, внутренним единством, замкнутостью
рамками своей культуры, которые поверхностные люди объясняют отсталостью.
Аристократизм Владимирских храмов, их внутренняя цельность, как нам кажется,
больше всего отличают их от позднейшего русского искусства. И не то, чтобы в них
не было черт, которым нельзя было бы найти отзвук в произведениях последующих
веков. Своей бросающейся в глаза строгостью, совершенством они сходны с лучшими
творениями русского классицизма, например, произведениями Кваренги. Их весёлая
открытая жизнерадостность намного превосходит достигнутое в этом плане в русском
барокко; именно её отзвук радует нас в народной дымковской игрушке. Мягкость и
музыкальность Владимирских храмов не имеют аналогий в позднейшей русской
архитектуре и даже в музыке – в этом плане с ними могут сравниться разве что
лучшие задушевные народные песни. Благодаря своему пластическому совершенству
они воспринимаются даже не столько как архитектура, а скорее как скульптура. И в
этом плане в них улавливается что-то общее с произведениями лучших русских
скульпторов, например, Щедрина. В целом же Владимирские храмы настолько
отличаются от последующего русского искусства, настолько выпадают из общего
русла последующей русской культуры, что исследователи долго не соглашались
считать их творениями русского народа, не соглашались считать правильным самое
простое и естественное решение: храмы созданы нашими предками-славянами, жившими
во Владимире в XII веке. Появились различные теории заимствования. Искали
аналогий им на Западе – в романском искусстве, на Востоке – в искусстве Персии,
в Византии. Потребовались более чем столетние исследования, чтобы окончательно
установить самобытность Владимирских храмов и с уверенностью утверждать: они
являются произведениями культуры наших предков-славян и создали их местные
Владимирские мастера [1]. Признание этого факта делает, однако, законным вопрос,
заданный в письме: что же вся последующая наша история искусства после
Владимирских храмов – это деградация, упадок? Ведь очевидно, что в нашей
архитектуре, да и в искусстве вообще, не было создано чего-либо столь же
высокого: одновременно гармоничного, музыкального и строгого, пластичного и
образного, аристократического и человечного, столь собранно-цельного и открытого
окружающему миру, выросшего из него. Как появилось это светлое чудо? И что
представляли собой наши предки славяне, сумевшие его создать!
ИСТОРИЯ СЛАВЯН
Первым жителем этой, ещё необитаемой тогда страны, был человек по имени
Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и Колоксай
(Солнце-царь). В их царствование на Скифскую землю с неба упали золотые
предметы: плуг с ярмом, секира и чаша... Так жар пылающего золота отогнал обоих
братьев, но когда подошёл младший брат, пламя погасло, и он отнёс золото к себе
в дом. Поэтому старшие братья согласились уступить младшему всё царство.
Геродот
Бывало да живало –
жили-были старик да старушка.
У них было три сына:
первый Егорушка Залёт,
второй Миша Косолапый,
третий – Ивашка Запечник.
А. Н. Афанасьев
... жил старик в одном селе.
У крестьянина три сына:
Старший умный был детина,
Средний был и так, и сяк,
Младший вовсе был дурак.
П. П. Ершов
Начальная летопись сообщает, что вначале славяне поселились на Дунае, а потом
расселились в Прикарпатье, назвавшись по месту поселения. Кто осел в поле,
назвались полянами, а кто в лесу – древлянами. Поселившиеся среди болот
назвались дряговичами («дрягва» – болото). Далее следует перечисление довольно
многочисленных славянских племён: поляне, древляне, волыняне, бужане, дряговичи,
кривичи, радимичи, вятичи, уличи, тиверцы, север, хорваты, дулебы, словены,
сербы, поляне-ляхи, поморяне, мазовшане. Эти названия очерчивают большую область
от Балтийского до Адриатического морей на западе и до Днепра на востоке.
Несмотря на некоторую непривычность этих названий для нашего слуха, в них нет
ничего странного: мы тоже привыкли называть людей по месту их поселения:
москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки. Вот почти и всё, что сообщает о
происхождении славян Начальная летопись (не считая глухих преданий). Дальше наши
летописи повествуют не о славянах. Они посвящены деяниям русских(не славянских!)
князей – правящей варяжской верхушки русского феодального общества, сложившегося
из низшего слоя – эксплуатируемых славянских племён – и верхнего – варяжских
пришельцев. Славяне в летописи выступают в качестве тёмной необразованной массы
(«смерд» и «смердить» – однокоренные слова), живущей скотски, «звериньим
образом», сопротивляющейся установлению «просвещения» и «порядка» (летопись
глухо говорит о взрывах недовольства). Да ещё в летописи повествуется о попытках
некоторых великих князей урезонить жестокость и алчность своих меньших собратьев
по отношению к покорённому народу [2].
В. О. Ключевский [2], подводя итоги исследованиям проблемы происхождения славян,
проведённым к его времени, так описывал их историю.
Приблизительно ко II в. н. э. народные потоки прибили славян к среднему и
нижнему Дунаю. Прежде они терялись в разноплеменном населении Дакийского
царства, существовавшего тогда у северных границ Римской империи.
И только около этого времени славяне начали выделяться из сарматской массы,
обособляться как в глазах иноземцев, так и в собственных воспоминаниях. В то
время римляне называли их венедами, и Тацит ещё недоумевает, кому сроднее венеды
– германцам или кочевникам-сарматам. Наша летопись помнит, что от римлян
императора Траяна – «волохов», разрушивших Дакийское царство – тяжко пришлось
славянам, которые вынуждены были под их давлением расселиться с Дуная. Таким
образом, Ключевский относит расселение с Дуная ко II веку н.э. Первой остановкой
славян в этом расселении были Карпаты, откуда они в V–VI веках громили Византию,
переходя за Дунай. Во главе военного союза карпатских славян стояло племя
дулебов или волынян. Этим набегам и обязаны мы сообщениям о славянах в
византийских источниках. Следствием их, как пишет Ключевский, было постепенное
заселение славянами Балканского полуострова. В VI–VII веках нашествие
вытесненных тюрками из Великой степи аваров, которые покорили дулебов (и,
по-видимому, существовавший под их именем союз славянских племён), прекратило
нападения славян на Византию – и византийские сообщения о них. Последние
возобновляются уже в IX веке в связи с нападениями Руси. В VIII веке под
давлением аваров начинается расселение славян с Карпат. Их восточная ветвь
селится по Бугу и Днепру. Здесь и застаёт восточных славян Начальная летопись,
которая описывает объединение восточных славянских племён в IХ–Х веках
варяжскими завоевателями в феодальное государство – Киевскую Русь. И далее
летописи повествуют об истории этого феодального объединения до его разгрома
татарами в XIII веке.
Итак, «вглубь» историю славян исследователи доводят до II века н. э. Однако
анализ славянских языков говорит о том, что они восходят к индоевропейской
языковой общности, распад которой относится ко II тыс. до н. э. Почему же
исследователи остановились на II веке н. э.? Да потому, что о славянах нет
упоминаний в более ранних письменных источниках. Но где же тогда были славяне
более тысячи лет? Например, о них ничего не пишет Геродот – человек в высшей
степени обстоятельный, совершивший в V веке до н. э. большое путешествие в
Скифию (где позднее находит славян история) и подробно описавший все жившие там
народы. Но в том-то и дело, что Геродот о славянах пишет! Только он называет их
скифами-земледельцами, скифами-пахарями (в отличие от истинных «царских»
скифов-кочевников) в соответствии с традицией, сложившейся в Причерноморских
греческих колониях, или по месту их проживания – борисфенитами («Борисфен» –
Днепр). Перечисляя входящие в Скифскую федерацию земледельческие племена,
Геродот пишет: «Всем им в совокупности есть имя сколоты, по имени их царя.
Скифами же назвали их эллины» [3].
Союз сколотов, как показал Б. А. Рыбаков, и объединял племена, которые позднее у
византийцев получили название восточных славян, или антов. Но при таком
понимании сообщения Геродота отпадает главное препятствие к тому, чтобы
проследить историю славян далее в глубь веков: отсутствие упоминания о них в
письменных источниках. Открывается возможность отождествить праславянские
племена с изученными археологическими культурами.
Эта большая работа, подытоженная Б. А. Рыбаковым, к тому же по-новому
интерпретировавшим сообщения Начальной летописи, позволила ему следующим образом
представить историю славянских племён.
1. В середине II тыс. до н. э., в период расцвета бронзового века, когда затихло
широкое расселение индоевропейских пастухов-скотоводов, севернее Европейского
горного барьера обозначилась большая группа скотоводческо-земледельческих
племён, обнаружившая значительное единство на пространстве от Одера до Днепра
(Тшцинецко-Комаровская археологическая культура). Протяжённость земель этих
праславян с запада на восток около 1300 км, а с юга на север – 300-400 км.
2. К концу бронзового века – IX-VIII векам до н. э. – западная половина этого
обширного праславянского мира оказалась втянутой в сферу кельтской культуры
(Лужицкая археологическая культура). Восточная половина вошла в соприкосновение
и борьбу с кочевыми, иранскими по происхождению, киммерийскими племенами, от
которых они заимствовали определённые элементы материальной культуры. В это
время праславяне не только научились ковать железные орудия и оружие, освоили
хлебопашество, построили ряд крепостей на границе со степью для зашиты от
кочевников, но и создали союз племён между Днепром и Бугом, получивший название
сколотов.
3. Смена киммерийцев новыми ираноязычными кочевниками скифами в VII веке до н.
э. привела к тому, что союз сколотов вошёл в обширную Скифскую федерацию. Однако
сколоты, видимо, сохранили автономию: южная система крепостей, защищающая их от
кочевников, была обновлена и усилена. В это время произошло сильное сращивание
праславянской культуры со скифской. Славянская знать восприняла все основные
элементы всаднической скифской культуры (оружие, сбруя, звериный стиль
украшений). В славянский язык вошло много иранских слов – например, название
Бог, вместо индоевропейского Дайвас (Див). Западные же праславяне по-прежнему
оставались в составе обширной территории, общности, характеризуемой Лужицкой
археологической культурой. Таким образом, мы видим, что обособление восточных и
западных праславян произошло в глубокой древности.
4. Исчезновение Лужицкой культуры в V веке до н. э. и упадок Скифии привели к
устранению двух внешних сил, вносивших различия в восточную и западную половины
праславянского мира, в связи с чем вновь устанавливается их известное единство
(отразившееся в Зарубинецкой и Пшеворской археологических культурах).
5. Благодаря завоеваниям императора Траяна в Дакии и Причерноморье Римская
империя во II-IV веках н. э. стала соседкой славян. Обширный импорт хлеба в
империю благотворно сказался на славянских племенах, определив их общий подъём.
Однако облик восточной и западной половин славянского мира снова начал
разниться.
6. Падение Римской империи в V в. н. э., прекращение благоприятных «траяновых
веков» и смена иранских кочевников в Причерноморье тюрками – аварами – в
последний раз возродили общеславянское единство (характеризуемое
распространением во всём славянском ареале археологической культуры Пражского
типа). Далее последовало Великое переселение славян в VIII веке, распад
славянского единства и образование больших феодальных государств с новыми
центрами притяжения и консолидации.
Итак, история славян прослеживается до середины II тыс. до н. э. Всё это время
до их Великого расселения в VIII в. н. э. они занимали примерно один и тот же
регион и, несмотря на разделение на восточную и западную половины, сохраняли
определённое единство. Такая длительная история с необходимостью должна была
сопровождаться преемственностью традиций, навыков и, следовательно, образованием
древней, сложной и развитой культуры.
Когда начинаешь говорить о славянах, рискуешь натолкнуться на характерные
реакции двух типов: снисходительно-пренебрежительное одобрение («Ну что ещё Вы
скажете по этому старому вопросу?!») или явное недоброжелательство («Знаем мы
этих славянофилов, от них один шаг до чёрной сотни!»). Обе они своим
первоисточником имеют тот взгляд на историю славян, который изложен в
критическом исследовании древнерусских летописей члена Петербургской Академии
наук, знаменитого учёного немца Шлёцера на немецком языке ещё в XVIII веке. Суть
его, как пишет В. О. Ключевский, состоит в том, что до прихода варягов – до
половины IX века – на обширном пространстве Русской равнины всё было дико, пусто
и покрыто мраком; жили здесь люди, но без правления, подобно зверям и птицам,
наполнявшим их леса. В эту обширную пустыню, заселённую бедными, разбросано
жившими дикарями – славянами и финнами – начатки гражданственности впервые были
занесены пришельцами из Скандинавии, варягами. И картина нравов восточных
славян, как её нарисовал составитель Начальной летописи, вроде бы оправдывает
этот взгляд. Здесь мы читаем, что восточные славяне до принятия христианства
жили «звериньим образом, скотски», в лесах, как все звери, убивали друг друга,
ели всё нечистое, жили уединёнными, разбросанными и враждовавшими между собой
родами: «живяху каждый своим родом и на своих местах, владеюще каждый родом
своим».
Итак, по Шлёцеру нашу историю следует начинать не раньше середины IX века –
изображением тех первичных исторических процессов, какими везде начинается
человеческое общество: картиной выхода из первобытного состояния. Этот взгляд
прочно утвердился в исторической науке. Его придерживались такие знаменитые
историки, как Карамзин, Погодин, Соловьев – люди патриотические, которых трудно
заподозрить в антирусских настроениях. Мнение это стало общим местом, все мы и
сами его невольно разделяем. Поэтому Владимирские храмы и производят такое
удивительное впечатление: ведь славяне приняли христианство недавно и по сути
ещё оставались язычниками – можно сказать, только-только вышли из первобытного
состояния. И вдруг такое! В бытующих представлениях культура связывается с
просвещением, а последнее – с христианством. Вот обычное мнение об отставании
России от Запада в Средние века: «Европейцы получили христианство на 5 веков
раньше России, отсюда и наше отставание – ровно на 500 лет».
И хотя нелепость такой позиции очевидна, тем не менее лежащее в её основе
сообщение летописи о дикости славян перед принятием христианства смущает. Ведь
если так утверждали сами наши предки, то какое у нас основание сомневаться в
том, что они видели собственными глазами? Не является ли построение Б. А.
Рыбакова обыкновенной научной спекуляцией?
Но если может быть пристрастным наш современник, то ведь мог быть пристрастен и
летописец. Присмотримся к социальному составу киевского общества, к которому он
принадлежал. По утверждению В. О. Ключевского, оно было «двухслойным». Верхний
правящий слой этого общества составляли пришедшие из Европы варяги. Нижний
эксплуатируемый слой – покорённые варягами славянские племена. Идея
заимствования византийского христианства как идеологической базы организуемого
варягами феодального государства, сама идея необходимости новой (неславянской)
религии, родилась в верхнем варяжском слое и встречала, как можно судить по
взрывам недовольства, отмечаемым даже летописью, серьёзное сопротивление в
славянских низах. Христианская религия в Киевской Руси была явлением
антинародным и, следовательно, антиславянским.
Какую же позицию в этой ситуации могли занимать летописцы? Все они были
выходцами из правящей варяжской верхушки общества. Составитель Киево-Печорской
летописи Нестор был, как можно полагать, одним из иерархов Киево-Печорского
монастыря. Его другом был старший боярин Святослава Ян Вышатич, со слов
которого попал в летопись рассказ об истреблении им волхвов на Белом озере –
непримиримый враг славян и славянской культуры. Составитель первого летописного
свода Сильвестр, игумен Михайло-Выдубицкого киевского монастыря – феодал уже по
своему положению, проводник греческой культуры. Как они относились к славянам?
Естественной их задачей была дискредитация славянской культуры, подавление
самосознания и самостоятельности славян, утверждение варяжского господства.
Так что наши летописи по своей сути – не славянские, а варяжские.
Но ведь написаны они на славянском языке? Не на славянском, а на
церковно-славянском – языке письменном, официальном, приспособленном для
проповеди христианства. Кроме того, не известно, считала ли верхушка киевского
общества славянский язык родным. Принадлежавшие к ней люди были широко
образованы, говорили на нескольких языках. Владимир Мономах в своём Поучении
замечает, что отец его знал шесть языков. В XI веке на Руси свободно изъяснялись
и с приезжавшими варягами, и с византийскими греками, и с кочевавшими в
причерноморских степях половцами. Киевские князья заключали династические браки
с половиной европейских и азиатских дворов. Так что тот факт, что наши летописи
написаны по-славянски – не основание считать этот язык родным для верхушки
общества.
Напомним, что даже в прошлом – XIX – веке ситуация была аналогичной. Пушкин –
гордость нашей национальной литературы, наш классик по его собственным словам до
14 лет думал по-французски!
Причина того, что учёный немец, член Петербургской Академии наук Шлёцер и учёный
монах Киево-Печерской лавры Нестор сошлись в оценке славянской истории и
культуры, заключена в их социальной природе – их месте в антиславянском
(антинародном) эксплуататорском обществе.
Нам надо отвести ещё одно сомнение: как можно говорить о высокой древней
культуре славян, если у них до Кирилла и Мефодия, то есть до Х века н. э., не
было письменности? Ибо в нашем представлении культура намертво связана с
письмом: писали египтяне, римляне, вавилоняне, индусы, китайцы – все культурные
народы. Нет, не все! Весьма высокая культура островов Тихого океана была
бесписьменной – но при этом их учёные знали и помнили сорок поколений своих
предков! Кто из европейцев может похвастаться подобным? Для развития культуры
нужна преемственность, сохранение знаний– а она обеспечивается не только
письменностью. Будда не разрешал записывать свои проповеди. Он считал записанное
слово мёртвым, а живым – то, что хранится в памяти, в сердце. Буддийский канон
был записан только через 500 лет после смерти Будды, когда вера стала клониться
к упадку, и надо было сохранить (пусть уже не в душе, а хотя бы на бумаге) его
учение. Пятьсот лет учение Будды жило в устной передаче. А ведь никто не
усомнится, что буддизм –продукт очень высокой культуры. Так что отсутствие
письменности у славян вовсе не свидетельствует об отсутствии у них высокой
древней культуры.
Заметим, что навык устной передачи культурной традиции в отсутствие письменности
вырабатывает (как это было в Океании и как показывает изучение культур
«бесписьменных» народов) очень ёмкие обобщения, формулы-образы, которые легко
запоминаются и прочно сохраняются в памяти народа.
Подведём итоги сказанного. Вопреки утвердившемуся мнению, история славян
началась не с прихода варягов в IХ веке н. э., а прослеживается до середины II
тыс. до н. э. Уже во времена Геродота, то есть в V веке до н. э., праславяне,
входившие полноправными партнёрами в могучую Скифскую федерацию, были богатым,
хорошо организованным народом, обладавшим – имеются веские основания так считать
– древней развитой культурой. Следы этой культуры мы можем найти в сохранившихся
от дохристианского времени памятниках и, в частности, во Владимирских храмах.
СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА
Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на коньке крыльца, цветы на
постельном и нательном белье вместе с полотенцами носят не просто характер
узорочья – это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека.
С. Есенин.
Что известно о культуре восточных славян? После её систематического уничтожения,
проведённого насильственной христианизацией Руси – очень немного. Привитый при
этом взгляд на неё не как на культуру, а как на «бескультурье», варварство,
мешает оценить по достоинству даже то немногое, что от неё сохранилось. В. О.
Ключевский пишет о «скудных чертах мифологии славян, сохранённых нашими древними
и позднейшими памятниками».
Славяне поклонялись обожествлённым силам и явлениям Природы: «небу под именем
Сварога, солнцу под именем Дажбога, Хорса и Велеса, грому и молнии под именем
Перуна, богу ветров Стрибогу и другим. Дажбог и божество огня считались
сыновьями Сварога и звались Сварожичами. По Начальной летописи Перун – главное
божество киевских славян наряду с Велесом, который назывался «скотьим богом»,
покровителем стад.
На открытых местах, преимущественно на холмах, ставились изображения богов,
перед которыми совершались обряды и приносились жертвы. Так, в Киеве на холме
стоял идол Перуна, перед которым Игорь в 945 году клялся в соблюдении
заключённого с греками договора. Владимир, утвердившись в Киеве в 980 году,
поставил здесь кумиров: Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса,
Велеса, Дажбога, Стрибога и других богов, которым князь и народ приносили жертвы
и которые позднее, после крещения Руси, были сброшены в Днепр.
В.О. Ключевский пишет о культуре предков-охранителей, которые чествовались под
именем Чура. Почитание их отразилось в языке: «пращур» –прадед-родоначальник,
«чур, меня!» – «храни меня, мой прадед!», «чересчур» – выход за меру, границу (в
частности, за границу родовых владений, охранявшихся чурами). По Начальной
летописи покойника сжигали, совершив над ним тризну, а прах и кости собирали в
«малую посудину» и ставили на столбе на распутье, где скрещивались границы
родовых владений – для их охраны.
Из фольклора известно наличие в славянском пантеоне леших – духов леса, водяных
– духов водоёмов, домовых и других духов, которые были связаны с различными
природными и хозяйственными угодьями. Их было много. Вся природа была полна ими.
«В каждом лесу свой леший, в каждой речке свой водяной, в омуте – омутной, в
доме – домовой, и перевести его в другой, вновь отстроенный дом нелегко – нужен
специальный ритуал» [5]. Исследователи пишут о вошедших в христианский пантеон
славянских языческих богах, которые сохранились там в виде святых-покровителей,
в частности, о древнеславянской богине плодородия Мокоши – «Матери-Сырой-Земле»,
которая после христианизации Руси в сознании народа слилась с Богородицей и
стала «покровительницей Русской земли» [6].
В целом мы видим, что славяне поклонялись силам и явлениям Природы. Но была ли у
них стройная разработанная религиозно-философская система или только отрывочные,
путаные представления, не выходящие за рамки бытовых потребностей первобытной
шаманской магии?
Мы уже говорили, что древняя история славян должна была породить высокую и
развитую культуру. Но где памятники этой культуры? От древних египтян, например,
сохранились пирамиды и храмы, и никакого сомнения в наличии у них высокой
культуры не возникает.
А Владимирские храмы? Но ведь они – памятники христианские. Так считается.
Однако хорошо известно, что христианство очень гибко приспосабливалось к местным
культурам и включало в свой пантеон местных языческих богов. Так было и на Руси.
И местная славянская культура должна была проявиться в памятниках раннего
русского христианства. Попытаемся посмотреть на Владимирские храмы с этой точки
зрения.
Присмотримся к ситуации, сложившейся в русском каменном зодчестве в XI-ХII
веках. Оно пришло на Русь из Византии. Вот что пишет известный исследователь
древнерусской архитектуры П. Н. Максимов [6].
«Оттуда, из Византии, Русь приняла христианство по восточному обряду, а вместе с
ним и окончательно сложившийся к этому времени тип крестово‑купольного храма
трёх- или пятинефного, с хорами, одним или несколькими куполами, апсидами с
востока и притвором с запада. Перешли на Русь и обычная в Византии смешанная
кладка стен из камня, чередующаяся с кирпичными прослойками на известковом
растворе с толчёным кирпичом, и арки, своды и убранство фасадов, выполненные из
тонкого почти квадратного кирпича-плинфы. Обычные в византийской архитектуре
полуциркульные арки, цилиндрические своды, полукупола апсид, купола на высоких
световых барабанах и сферические паруса – также получили распространение на
Руси».
Наиболее полно византийские технические и эстетические нормы отразились в первых
построенных на Руси соборах – Спасском в Чернигове и Софийском в Киеве. Но даже
в этих храмах, строители которых выступают прилежными учениками византийцев,
сказывается свойственное русским невизантийское миропонимание. В более поздних
постройках, – по мере того как русские мастера овладевают техникой и перестают
ощущать себя учениками византийцев, – русское миропонимание проявляется все
явственней.
Исследователи единогласно считают, что своего высшего расцвета древнерусская
архитектура достигла во Владимирских храмах XII века. П. Н. Максимов пишет [6,
с. 80-82]:
«Творческие методы зодчих Северо-восточной Руси XII – начала XIII веков
характеризуются особым вниманием к убранству фасадов, составляющему основную
отличительную черту их произведений и играющему большую роль в создании
художественного образа, чем это было в архитектуре Поднепровья и Западной Руси.
...Типы зданий и их композиции были здесь такими же, как и в других русских
землях. ...Но всё это было развито и доведено до совершенства владимирскими
зодчими. ...Свойства местного камня, в котором можно было не только выполнить
архитектурные обломы, но и тонкую орнаментику и сюжетные изображения, позволили
сделать это, а необходимость в условиях союза князей с городами теснее связать
внешний облик храма с городом и сделать его украшением города – заставила пойти
на это».
Для нас в этом высказывании важно отметить тот факт, что Владимирские храмы, в
силу союза князей с горожанами, были украшением города и должны были отражать
вкусы горожан.
М. В. Алпатов [7]:
«Своеобразный поэтический образ природы лежит в основе владимирской резьбы по
камню XII века. Стремясь выразить своё отношение к миру более свободно и широко,
чем это дозволяла церковная иконография, Владимирские резчики создали
замечательное искусство резного камня».
Это замечание о том, что в основе резьбы лежит образ природы, понадобится нам
при анализе.
Необходимо отметить ещё одно обстоятельство: архитектура – искусство
монументальное; и её формы во все времена тесно связаны с бытующими в обществе
философскими идеями и мировоззренческими представлениями. Хорошо известно,
например, что в европейской архитектуре переход от готики к классицизму
сопровождал смену религиозного средневекового мировоззрения буржуазным
рационализмом. Крах рационалистической культуры, кончившийся первой мировой
войной, вызвал к жизни архитектурную эклектику. А распространение
конструктивизма явилось следствием наступления эры научно-технической революции.
Так что и во Владимирских храмах можно надеяться найти выражение
мировоззренческих и философских идей наших предков, живших в XII веке.
Обратимся к Дмитриевскому собору во Владимире. Он строился как личный храм
Всеволода III. Поэтому в его образе преобладают философско-мировоззренческие
аспекты, а не политические, как в главных соборных храмах Русской земли: Софии
Киевской и Успенском Владимирском соборе. Но прежде чем разбирать эти идеи, нам
надо убедиться, что они относятся именно к славянскому язычеству, а не к
византийскому христианству и не к варяжской составляющей древнерусской культуры.
Как можно в этом убедиться? Присмотримся к образу храма, прислушаемся к тому
впечатлению, которое он производит, обратим внимание на его пластическое
совершенство. Традиционные элементы, из которых он собран, сплавлены в столь
полное, гармоничное и соразмерное единство, что храм воспринимается не столько
как здание, сколько как скульптура.
Н. Н. Воронин говорит об этом так [8]:
«Зодчий как бы лепит, подобно скульптору, каждую форму, смело нарушает
геометрическую сухость очертаний их индивидуальной осмысленной «прорисовкой»,
создаёт ту неповторимую живость и органичность художественного образа, которая
под силу лишь подлинному гению».
Пропорции одноглавого, крытого по закомарам храма с тремя апсидами и трёхчастным
делением фасадов столь совершенны, что производят впечатление математической
формулы.
И ещё: вслушаемся в ритмы храма, обратим внимание на соотношение его основных
элементов. Совершенство храма говорит о том, что византийские заимствования,
которые могли оказаться в его облике, освоены и переосмыслены столь глубоко, что
зодчие выражали уже не заимствованные, а свои собственные идеи, своё собственное
миропонимание. Теперь ритмы храма – они дадут нам ключ к ответу на поставленный
вопрос. Почти кубический объём его расчленён по фасадам на три примерно равные
прясла, скруглённые поверху закомарами. Восточный фасад составляют три апсиды с
полуциркульными завершениями. Поднимающийся над храмом барабан накрыт невысоким
шлемовидным куполом.
Чьё мироощущение, мировосприятие какого народа – византийских греков, варягов
или славян – могло выражать такое простое, ясное и вместе с тем точное
соотношение элементов, такой простой, ясный и полновесный ритм?
Известно, что в мировосприятии народа большую роль играет «вмещающий ландшафт» –
оно, можно сказать, им формируется. В художественных произведениях, песнях,
сказках каждого народа звучат ритмы окружающей его природы [9]. Не вдаваясь в
теоретические тонкости, приведём пример, который поможет понять, о чём идёт речь
(хотя при этом мы и рискуем несколько уклониться от разбираемой темы). Вот перед
нами два отрывка: из полинезийской мореходной песни [10] и осетинского эпоса
«Амран» [11].
Рукоять моего рулевого весла рвётся к действию.
Имя моего рулевого весла – Кауту-Ки-Те-Ранги,
Оно ведёт меня к туманному, неясному горизонту.
Горизонту, который простирается перед нами,
Горизонту, который вечно приближается,
Горизонту, который вечно убегает,
Горизонту, который внушает сомнения,
Горизонту, который вселяет ужас.
Это горизонт с неведомой силой –
Горизонт, за который ещё никто не проникал.
Над нами нависающие небеса,
Под нами бушующее море,
Впереди – неизведанный путь.
По нему должна плыть наша ладья.
* * *
Из-за семи гор, семи перевалов
Йамон Даредзанти жену взял.
Ему трёх сыновей родив,
Она умерла.
Дичиной отец сыновей своих вскармливал.
Однажды пошёл на охоту
На Чёрную гору Йамон.
Убил семирогого лося,
Скатилась лосиная туша к пещере.
Йамон Даредзанти животному горло надрезал
И на ночь остался в пещере.
В ночи, лишь горные птицы пропели,
Увидел Йамон: светла ночь,
И светятся горные двери.
Лосиную бросивши тушу, смутился Йамон:
«Пошёл бы за светом я этим,
Но что, если зарежут меня там!
Остаться, но что расскажу своим близким о чуде?
Услышав, что я, Йамон Даредзанти,
За чудом пойти побоялся,
Никто никогда мне не даст
На кувде почётную чашу».
И без специальных исследований видна разница в ритмах. В ритме полинезийской
песни слышится могучее и мерное дыхание Великого океана, в то время как ритм
осетинского эпоса как будто повторяет нагромождение каменных глыб, столь
характерное для Кавказских гор.
Вернёмся в нашей теме. Ритм Владимирских храмов никак нельзя отнести на счёт
византийской традиции. В отличие от изучаемого, Византийское мироощущение –
рационалистически-античное, очень сухое в своей основе, что и отразилось в
византийских базиликах, сохранившихся на территории бывшей империи, например, в
Ровенне. Такие ритмы ещё прослеживаются в ранних русских храмах (например,
Черниговском Спасском соборе), но уже полностью отсутствуют во Владимирских
храмах.
Нельзя приписать изучаемые ритмы и варяжским влияниям. Мрачные, тяжёлые,
монотонно-угрюмые ритмы варяжской музыки, навеянные прибоем Северного моря,
разбивающегося с тяжёлым упорством о крутые чёрные скалы норвежских фьордов, так
удачно стилизованные Римским-Корсаковым в знаменитой «Песне варяжского гостя»,
отразились в ритмах старорусских былин, исполнением которых радовал
гостей-варягов на своих знаменитых пирах Владимир Стольнокиевский. Традиционное
исполнение их ещё в середине нашего века кое-где сохранялось на русском севере.
Ритмы их никак не ассоциируются с ритмами Владимирских храмов.
Остаются славяне. Ритмы поднепровской лесостепи – в которой, согласно Б. А.
Рыбакову, формировались восточные славяне – вполне соответствуют ритмам
Владимирских храмов. Просторный ландшафт с ясным членением главных элементов
(земля, небо, река) должен был порождать как раз подобные ритмы. Мы полагаем,
что Владимирские храмы, их облик, отражают эстетику – а, следовательно, и
мироощущение славян.
Это естественно. Византийские архитектурные заимствования должны были
переосмысливаться в соответствии со славянским мировосприятием. Внутреннее
пространство храмов, его декор более жёстко определялись христианской
догматикой, дольше сопротивлялись такому переосмыслению. Внешний же вид храмов,
видимых издалека, всё время находящихся на глазах славянского населения (в
условиях союза с ним князей), просто должен был отражать славянское
мировосприятие. Иначе его воздействие было бы отрицательным как для пропаганды
религии, так и для упомянутого союза. Византийская церковь, как известно, это
хорошо понимала и не мешала утверждению национальных форм в храмовой
архитектуре. Очень показательно в этом плане сравнение русских и армянских
храмов. Они разительно отличаются: их облик приспособлен к мироощущению своих
народов.
Таким образом, в облике Владимирских храмов зашифровано славянское
мировоззрение. Попытаемся его проанализировать. Но опять следует спросить себя,
что следует искать – стройную законченную систему взглядов или смутные
неосознанные ощущения?
О том, что этот вопрос не праздный, свидетельствует, например, следующее
высказывание М. В. Алпатова [7]:
«Искусство новое, церковное утверждало разумность миропорядка. ...перед
искусством возникала задача воссоздать в своих образах стройный миропорядок,
царящий в мире. Наоборот, древнеславянское искусство в состоянии было передать
лишь смутное ощущение единства мира, но не в силах было подчинить все элементы
стройной, разумной системе».
Мы не склонны в этом соглашаться с Алпатовым. Всё, что мы рассказали об истории
славян, подсказывает нам представление об их древней и разработанной культуре.
Более того, мы надеемся найти у славян Великую культуру, то есть полную
«пирамиду» (см. раздел 1.3), а не «смутные ощущения». Её‑то черты мы и
постараемся увидеть в облике Дмитриевского собора.
Каковы же идеи и положения этой Великой славянской культуры? Обратимся к сюжету
белокаменной резьбы, покрывающей прясла Дмитриевского собора (илл. 3).
Центральное место в ней занимают библейские цари Давид и Соломон со скрижалями
псалмов в руках. В этих псалмах славится «всё живое». А вокруг, на поле прясел,
изображено всё то, что славится в этих псалмах: различные звери, птицы,
растения, люди. Это именно всё живое. Важно, как подчёркивает тот же М. В.
Алпатов, что славятся твари, а не творец. Конкретность и образность мышления
владимирских мастеров заставила их перечислить все главные проявления жизни, в
том числе и фантастические создания, которые хотя и не встречались славянам в
жизни, но – по их представлениям – тем не менее где-то на земле существовали.
Заслуживает внимания само стремление авторов резьбы исчерпать поле жизни. Как
его интерпретировать? Мы, мыслящие более абстрактными категориями, могли бы,
по-видимому, применить здесь понятия жизнь как таковая или жизнь вообще.
Присмотримся к этой идее. Она достаточно широкая и общая, включает в себя,
объединяет огромное количество явлений. И, кроме того, обладает организующей
силой. Она вполне может служить фундаментальным принципом культуры. В
подтверждение сошлёмся на работу человека знаменитого, нобелевского лауреата А.
Швейцера «Культура и этика». В этой книге Швейцер, предлагая реформу Европейской
культуры, которая по его мнению зашла в тупик, считает нужным в основу культуры
положить именно этот принцип, назвав его принципом благоговения перед жизнью.
Итак: мы нашли, что понятие ЖИЗНЬ является фундаментальным принципом славянской
культуры.
Эта идея в её положительном организующем значении, языческая по своей сущности,
безусловно не была заимствована из христианства, считавшего мир «юдолью печали и
скорби». Живая, прелестная, полнокровная владимирская белокаменная скульптура
прославляет жизнь, а отнюдь не зовёт к уходу из мира. М. В. Алпатов пишет о
Владимирских храмах [7, с. 74]:
«... очевидно, что храм этот не способен отвратить человека от реального мира.
Наоборот, всем своим обликом он призывал человека оглянуться на окружающий мир и
порадоваться, что между делом его рук и природой нет никакого различия. …
Нерлинский храм можно назвать проявлением жизнеутверждающего начала в нашей
древней архитектуре».
Дальнейший анализ облика Владимирских храмов позволит углубить наше
представление о миропонимании славян, об их культуре. Обратимся к трёхчленному
делению фасадов храма.П. Н. Максимов пишет [6, с. 70]:
«Ритм прясел Дмитриевского собора спокоен и величав. Зодчий Дмитриевского
собора, желая создать иллюзию их равенства, разместил на всех боковых пряслах (в
том числе и на более узких восточных пряслах боковых фасадов) по шесть колонок
аркатурного пояса. Одинаковое число их должно создавать иллюзию одинаковой
ширины прясел».
Но почему их три? Почему трёхчленное деление упорно повторяется на всех фасадах
здания? Даже апсид тоже три. Случайно ли это? Думаем, что нет. Мы склонны видеть
здесь образное выражение принципа триединства. Три почти равные прясла,
объединённые в одном фасаде. Напомним композицию рублёвской Троицы, в которой
принцип этот тоже выражен путём изображения трёх «почти равных» ангелов.
Но, может быть, трёхчастное деление фасадов имеет в виду просто-напросто
христианскую символику? Это, конечно, так. Ведь храм – церковное христианское
сооружение. И его облик должен был трактоваться в соответствии с христианской
догматикой. Тем не менее, как нам представляется, ею дело не исчерпывалось.
Исследователи упорно говорят о «двоеверии» русских, когда перечисляют
многочисленные элементы славянского язычества, включённые в христианство [12].
Облик храма должен был быть «двуязычным», коль скоро в нём отразилось славянское
языческое миропредставление. Он должен был трактоваться и с точки зрения
славянской культуры. Принцип триединства, так настойчиво повторяемый на всех
фасадах храма, рассчитанного на восприятие славянами, должен был говорить им
что-то родное, что-то лежащее в основе их культуры, их миропредставления.
Отметим, что вера в Троицу или – лучше сказать – интерес к ней были широко
распространены на Руси во времена Сергия Радонежского и Андрея Рублёва – ещё
близкие к язычеству. Позднее Троица уходит из числа широко распространённых
православных сюжетов. Напомним также, что на Руси Троице сопутствовали эпитеты
«Животворная» и «Изначальная», которые трудно истолковать с позиций
христианства. В самом деле, как может быть Троица изначальной, когда один из её
элементов, Сын Божий, появился на свет 5000 лет спустя после «сотворения» мира?!
И почему Троица всего лишь животворная, если Бог сначала сотворил весь мир, а уж
потом только населил его? С точки зрения христианской догмы этот эпитет может
выглядеть умалением размаха божественной деятельности.
Постараемся истолковать принцип триединства в духе славянского миропонимания.
Обратимся снова к белокаменной резьбе Дмитриевского собора, изображающей зверей,
птиц, растения, людей, мифических тварей. Как мы уже говорили, это – всё живое,
ЖИЗНЬ. Но колыбелью жизни является земля. Из неё произрастают растения, по ней
бегают звери и ходят люди. В Библии сказано: «И изнесе Земля былие травное и
семя плодовитое по роду». Так что твердь земли хочется видеть в поверхности
прясла, на котором мастера разместили изображения разных живых тварей. Такое
прямое отождествление плоскости прясла с поверхностью земли (не такое уж
странное для народа, жившего в «поле») может показаться натяжкой. Примем,
однако, это допущение и посмотрим, какие выводы можно из него сделать.
Посмотрим на окна храма. Если плоскость прясла – земля, то проём окна,
представляющийся «углублением в землю», ассоциируется с чашей водоёма, на дне
которого находится вода. Быть может, это видимый глазом отрезок реки – до
ближайшего поворота. И уже если окно – чаша водоёма, то охватывающее плоскость
прясла сверху обрамление закомары, без сомнения, – небесный свод.
Земля – вода – небо. Славянская Троица. Но ведь это как раз то, что обеспечивает
и поддерживает жизнь. Становятся понятными эпитеты Троицы: «животворная» и
«изначальная», ибо что могло быть раньше земли, воды и неба?
Напомним, что от славянского прошлого в нашем языке осталось выражение
Мать-Сыра-Земля. У других народов есть «мать-земля», «земля-матушка». Земля как
источник жизни, прародительница всего живого присутствует в фундаменте
представлений, наверное, почти всех народов (вспомним греческую Гею). Однако
Мать-Сыра-Земля – образ достаточно специфический. Такой образ плодородия мог
возникнуть под воздействием вполне определённого ландшафта. Где-нибудь в
северных болотах вода не только не помогает, а мешает жизни. В пустыне вода
настолько драгоценна, что ассоциируется с жизнью прямо, без всяких дополнений.
Ландшафт, породивший образ «Матери – Сырой Земли», должен быть сравнительно
сухим, но не засушливым. Плодородие его, в широком смысле процветания жизни,
должно было порождаться суммой условий, в которые входило наличие воды, а также
тепла, обеспечиваемого небом. Поднепровье представляется как раз подходящим
ландшафтом: земля там щедро родит жизнь, но при обилии тепла и влаги.
Итак, Мать-Сыра-Земля даёт нам представление о двух членах славянской Троицы.
Обратимся к третьему её члену – небу. Вспомним детскую песенку, которая, по всей
вероятности, когда-то была языческим заклинанием:
Солнышко-вёдрышко,
Выгляни в окошко,
Твои детки плачут...
Значит, славяне считали себя детьми солнца (или Дажбожьими внуками, как они
названы в «Слове о полку Игореве»). Солнце – Дажбог, выглядывающий в «око неба»
или, быть может, сам являющийся этим оком, Солнце, дающее необходимое для жизни
тепло, и является третьим членом славянской Троицы, животворной и изначальной.
«Все сколоты, – писал Геродот, –
названы по имени царя-Солнца». А Б. А. Рыбаков замечает [3, с. 234]: «Русские
люди в XII веке считали себя (или свой княжеский род) потомками Дажбога,
царя-Солнца». В русских сказках он же носит имя Световика, Светозара.
Заметим: тот факт, что само солнце не изображено на «небе» закомар Владимирского
храма, не снимает нашей трактовки, ибо славяне считали солнце сыном неба.
«Солнце-царь, сын Сварогов, еже есть Дажбог, бе муж силен», – сказано в «Повести
временных лет». Быть может, прямое изображение языческого Дажбога на фасаде
христианского храма было бы слишком вызывающим. С другой стороны, в соответствии
с двуязычным обликом храма допустимо толковать в качестве Дажбога (Светозара)
шлемовидный купол храма, сияющий золочёным покрытием. Во всяком случае, можно
проследить аналогию с декором «чела» северных русских изб, где даже в наше время
можно увидеть «солнце», резной образ которого помещают на фоне «неба» – карниза
крыши, который зачастую красили голубой краской, а иногда даже украшали
золочёными звёздами. Вынос кровли крыши в избе и закомары в храме выполняют
одинаковые функции, и название «небо» (сохранившееся в народе до нашего
времени!) тут не случайно.
Итак, Мать-Сыра-Земля и Небо (Сварог) с тучами и солнцем (Дажбогом) – это, по
представлениям славян, основные силы, поддерживающие жизнь. Жизнь и Троица, её
поддерживающая, животворная и изначальная, представляются нам фундаментом
славянского миропредставления. Они составляют верхние уровни иерархии в пирамиде
славянской культуры.
Остановим своё внимание ещё на одной детали фасада Дмитриевского собора –
аркатурных поясах, которые поддерживают верхние части прясел, заполненных
«жизнью» (илл. 4). В арках, образованных колонками этих поясов, размещены
святые. Нам хочется видеть в них русских святых-заступников – бывших славянских
богов, вошедших в христианский пантеон, хотя возможно трактовать их и как только
святых, например, отцов церкви. Двуязычие облика храма позволяет как ту, так и
другую трактовку.
Известно, что в славянский пантеон входили обожествлённые силы Природы: Дажбог,
Велес, Стрибог, Перун и др. По нашей трактовке, эти святые, размещённые в
аркатурном поясе – Силы Природы – поддерживают и обслуживают главную триаду,
Троицу, отвечающую за поддержание жизни.
Наша реконструкция согласуется с современными научными представлениями о
славянском язычестве. Мы уже приводили мнение Б. А. Рыбакова о значении солнца в
славянском миропредставлении. Обратимся к двум другим составляющим Троицы –
земле и воде. Эти элементы языческого славянского культа оказались очень
стойкими и вошли в русское христианство.
Г. А. Носова пишет [5, с. 7]:
«В многочисленных христианских легендах рассказывалось о том, что иконы святых
«приплывали» по воде, были «найдены» «избранными» людьми у камня, в пещере, у
источника и т. п. ... Большинство святынь возникло на местах «обретения»
иконописных или скульптурных изображений Богородицы или Параскевы Пятницы,
образы которых в бытовом истолковании нередко отождествлялись. Они считались
целительницами и подательницами земной влаги, олицетворяли собой
«Мать-Сыру-Землю».
Существовала глубокая связь образов «женских» святых с природным комплексом,
главным образом – с землёй и водой.
...святые места, посвящённые Богородице и Параскеве, обычно были расположены у
водоёмов, колодцев, ручьёв, рядом с пещерами, горами, в которых брали начало
родники. … Исследователи выделяют в восточнославянских религиях несколько слоёв,
в которых оставили ряд рельефных отпечатков различные исторические эпохи. В
комплексе религиозных представлений и обрядов имеется древний, чрезвычайно
архаичный пласт. ... Это одухотворение всей природы земли, воды, огня, почитание
растений и животных. ... В русских народных верованиях до последнего времени
обнаруживаются культы «матери-земли», которая олицетворялась в образе женского
божества плодородия. ... Более поздний, но очень крупный пласт
восточнославянской религии восходит к периоду земледельческо-скотоводческого
хозяйства. Главные его компоненты составляли общие аграрные культы и семейное
родовое почитание предков».
Мы видим, что на стенах Владимирских храмов зашифрованы наиболее древние,
сокровенные элементы скотоводчески-земледельческого культа и более позднего
языческого пантеона складывающегося классового общества, во главе которого стоял
Перун. При этом, как мы можем судить, это миропредставление являлось очень
стройной системой.
Теперь нам уже не трудно достроить славянский миропорядок. Как отмечалось ранее,
следующий уровень славянской демонологии представляли духи местных объектов
природы: лешие, водяные, русалки и т. п., а также духи хозяйственных угодий, из
которых более других нам известны домовые. Из фольклора и летописей известно
наличие у славян магических обрядов, с помощью которых они – по их
представлениям – могли влиять на силы этих двух уровней: богов и демонов-духов.
И, наконец, на самом низшем уровне находились все реальные и вымышленные твари,
наполняющие поле жизни, составляющие конкретные проявления этой самой Великой
Жизни, в которой, не выделяясь как-либо, переплетались и объединялись все сущие
на Земле твари: растения, животные, птицы, люди.
Тут мы подходим к очень важной и интересной черте славянского миропредставления.
Начинаясь с абстрактного понятия жизни – жизни как таковой – через ряд
промежуточных уровней, каждый из которых выполняет свои функции в поддержании
жизни, оно приходит в конце концов к жизни конкретной во всем её многообразии,
то есть к реальному воплощению исходного абстрактного положения. И таким образом
возвращается опять к нему, образуя замкнутую цепь без начала и конца, то есть
круг – Круг Жизни.
Точным аналогом славянского понятия Круга Жизни является современное научное
понятие биосфера (слово «биосфера» буквально означает «сфера жизни»), так как
оно включает в себя не только животный и растительный мир, но и литосферу, а
также поток получаемой от солнца энергии. Отличие нынешнего понятия от
славянского состоит, пожалуй, в том, что славяне видели в природе силы,
целенаправленные на поддержание жизни, а мы считаем жизнь естественным
следствием сложившихся на Земле условий, вовсе не имеющих своей целью создание и
поддержание жизни. Славяне верили в разумность миропорядка, целью которого
являлось процветание жизни на Земле. Мы же видим в жизни закономерный «продукт»
эволюции материи, которая происходит вследствие действия объективных законов
Природы, а не является результатом воплощения чьей-то цели.
Понятие Круг Жизни подразумевает достаточную близость древних славян к природе.
Но разве не были близки к природе и другие народы в эпохи дикости и варварства?
Ведь это только теперь развитие цивилизации отгородило человечество от природы,
так что мы возвращаемся к ней, так сказать, по спирали – через созданные наукой
биосферные представления. Это правильно. Древние народы жили в тесном контакте с
природой и полностью от неё зависели. Однако влияние природы определяется
ландшафтом и климатом. Резкое разнообразие ландшафтов на Земле должно было
породить резко различные миропредставления. В самом деле, океан и пустыня,
тундра и тропические леса, горы и степи – каждый из этих ландшафтов порождал в
душах людей совершенно разные представления об устройстве мира. Это всё так,
однако миропредставление славян – каким оно нам рисуется – выделяется среди
других своей стройностью, последовательностью и законченностью. И, что самое
главное для нашей темы, оно носило последовательно биосферный характер, что было
достаточно редким явлением как среди философских систем древности, так и
аналогичных систем более позднего времени, вплоть до тех, которые легли в основу
современной науки. Пожалуй, в рассматриваемом плане из дошедших до нас культур
со славянской может сравниться лишь древнекитайская – с её фундаментальным
принципом всеобщей гармонии, объединяющим природу, общество и личность в
музыкально сгармонированное единство, и с её мифологией, повествующей о
рациональном переустройстве Поднебесной древними героями [13].
Нас могут обвинить в том, будто мы приписываем славянам современные научные
знания. Мы далеки от подобных намерений: мы обсуждаем их
философско-мировоззренческие идеи, а не знания, что далеко не одно и то же.
Перед славянами лежал тот же мир, что лежит и перед нами. Перефразируя протопопа
Аввакума, можно сказать, что Земля распростёрлась перед нами не больше, а перед
ними не меньше. Также и Солнце, и звёзды светили им не меньше, и нам не больше.
Почему же мы должны сомневаться в силе их разума? Известно, например, что
представления о бесконечности Вселенной и шарообразности Земли имелись уже у
древних греков, а представление о пульсирующей Вселенной – в индусской
философской мифологии, причём это не вызывает сомнений. Почему же в таком случае
представление о биосфере, о Круге Жизни не могло быть создано нашими
предками-славянами?
Образ круга, символизировавшего Круг Жизни – представление, лежавшее в основе
славянской культуры – должен был играть очень большую роль в славянской
языческой символике: буквально пронизывать славянскую культуру, сказываться и в
других мировоззренческих идеях и представлениях, уже не относящихся к жизни
непосредственно. Так ли это?
Отметим, что символ круга вместе с другими элементами славянского язычества
вошел в русское христианство и широко использовался, например, в декоре церквей.
Напомним круги на «занавесях», рисовавшихся понизу церковных росписей (в
Рождественском соборе в Суздале, в Ферапонтове монастыре и т. д.), круги на
барабане Дмитриевского собора во Владимире, в росписи Золотых ворот,
Рождественского собора в Суздале и др. Образ круга широко использовался и в
иконописи. Так, Рублёв в своей знаменитой Троице рассадил ангелов по кругу.
Большая часть фресок Ферапонтова монастыря имеет круговую композицию. Нам
представляется, что Дионисий понимал значение этого символа. Его архангелы-воины
из иконостаса Ферапонтовского собора Рождества Богородицы держат в руках круги –
а не оружие и не кресты (на других иконах они вооружены копьями или мечами,
иногда огненными)! Такое широкое употребление символа круга в русском
христианстве можно объяснить его важностью для славянского языческого
мировоззрения, вместе с которым он был адаптирован христианством при его
внедрении на Руси.
Посмотрим, можно ли найти подтверждение сказанному в других дошедших до нас
славянских древностях. Обратимся к уже упоминавшемуся декору русских изб, в
котором крыша, её внутренняя часть, символизировала небо – и так и называлась, а
перед «челом» на фоне «неба» подвешивалось резное изображение солнца.
Изображение солнца помещалось на наличниках, на воротах. Круг солнца или
полукруг восходящего солнца – постоянное их украшение, как о том пишут
исследователи [15]. Такое сопоставление жилища с миром в высшей степени
знаменательно. Оно говорит о том, что бытовая сторона жизни славян осмыслялась с
позиций философско-мировоззренческих представлений, что свидетельствует о
развитости и древности их культуры.
Всё это, как и совершенство Владимирских храмов, очень трудно понять, если
вместе с Нестором и Шлёцером полагать, что славяне только в середине IX века
начали выходить из первобытного состояния. И всё становится понятно, если вместе
с Б. А. Рыбаковым считать, что ко времени прихода варягов история славян, а
вместе с тем и их культура, насчитывали больше двух тысячелетий. И это – не
говоря о том, что ко времени распада индоевропейской общности её культура в свою
очередь имела двухтысячелетнюю историю от древнего Элама и Шумера. Об уровне
этой индоевропейской культуры мы можем судить (правда, достаточно косвенно) по
тем памятникам, которые она породила, а именно по Ведам – индийскому
религиозно-философскому памятнику, и по Авесте – аналогичному (хотя и
составленному довольно поздно) памятнику иранских племён. Эти памятники, конечно
же, не являются «прямыми родственниками» древнеславянской культуры. Однако по
ним можно составить представление, пусть весьма отдалённое, об уровне
религиозно-философских идей тех индоевропейских племён, от которых во втором
тысячелетии до новой эры отделились наши далекие предки – праславяне.
Таким образом: и исторический экскурс, и анализ убранства Владимирских храмов
показывают, что ко времени прихода варягов славянская культура была древней
высокой культурой с развитым философским подходом к миру и жизни,
характеризующимся образным восприятием мира и обобщённо-философским, а не
конкретно-бытовым типом мышления.
В соответствии с этим искусство славян не могло быть натуралистическим, не могло
строиться на непосредственном восприятии жизни и природы. Наоборот, славяне, как
и любые народы с развитой культурой (индусы, китайцы, египтяне), должны были
видеть в природе не сумму случайных конкретных явлений, а систему общих
закономерностей, стоящих за этими конкретными явлениями и их объясняющих. Именно
эти закономерности должны были составлять предмет их внимания и находить
отражение в искусстве.
Рассмотрим с этой позиции русское народное искусство, в
Сложный многовековой путь прошло славянское и русское язычество, складывавшееся
из многих, в разное время возникавших компонентов. Несмотря на тысячелетнее
господство государственной православной церкви, языческие воззрения были
народной верой и вплоть до двадцатого века проявлялись в обрядах, хороводных
играх, песнях, сказках и народном искусстве.
Религиозная сущность обрядов-игр давно уже выветрилась, символическое звучание
орнамента забылось, волшебные (т.е. созданные волхвами-волшебниками) сказки
утратили свой мифологический смысл, но даже бессознательно повторяемые потомками
формы архаического языческого творчества представляют огромный интерес,
во-первых, как яркий компонент позднейшей (XIX-XX в.в.) крестьянской культуры,
а, во-вторых, как неоценимая сокровищница сведений о многотысячелетнем пути
познания мира нашими отдаленными предками.
Необходимо выразить надежду, что этнографы и фольклористы соберут воедино и
исследуют богатейшие фонды русского, украинского и белорусского народного
творчества.
Академик Б.А. Рыбаков, «Язычество Древней Руси»
ДЕТИ СОЛНЦА
КРАТКИЙ ОЧЕРК ВЕЛИКОЙ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Прекрасное служит опорой души народа.
Если сломать, разбить, разметать красоту,
то ломаются устои, заставляющие людей
биться и отдавать жизнь за Родину.
На изгаженном вытоптанном месте
не вырастет любви к своему народу,
своему прошлому, воинского мужества
и гражданской доблести.
Забыв о своём славном прошлом,
люди превращаются в толпу оборванцев,
жаждущих лишь набить брюхо.
Поэтому важнее всего для судьбы людей
и государства – нравственность народа,
воспитание его в достоинстве и уважении к предкам, к труду и красоте.
И. А. Ефремов
Славянская культура… Как к ней подойти? Как увидеть её черты, туманно
просвечивающие там и сям в нашей русской культуре среди чуждых ей иноземных
напластований? Как понять душу наших далёких предков – славян (ведь культура –
душа народа!)? Как вслушаться в себя, чтобы услышать голос забытых предков? Ведь
мы тоже славяне, и он должен в нас звучать. Как оживить, заставить говорить
древние обычаи – такой, например, как веселый весенний языческий праздник
масленица, во Ярило, брызгавшее масляным жаром? Как заставить себя время
которого мы едим блины, а наши предки – само солнце серьёзно слушать могучие
заклинания, которым подчинялись сами силы природы и обрывки которых ещё и теперь
пробиваются иногда в детских песенках? Как воскресить великие исторические
деяния, канувшие в Лету, следы которых сохранились в наивных сказках, собранных
в пылящихся на полках афанасьевских сборниках?
Чтобы «увидеть» культуру славян – древнее лицо нашей души – стряхнуть с него
пыль наслоений, надо обратиться к чему-то яркому, сильному, славянскому.
Посмотрим на Владимирские храмы (илл. 1-4). Кто видел их, не мог остаться
равнодушным.
Вот письмо нашей знакомой, которое мы публикуем с её разрешения:
«Какое впечатление произвели на меня Владимирские храмы? Я увидела их в первый
раз сравнительно недавно, то есть когда была человеком зрелым и уже кое-что
понимающим. Помню, летом я приехала во Владимир, прошла по городу, радуясь его
пестроте, маленьким невысоким домам, наивности, которая была во всём: и в этих
домах, и в хозяйственной озабоченности снующих по улицам людей. Такими простыми,
прямыми, действительно необходимыми были эти заботы! Я отдыхала, радовалась,
беззаботно наблюдала за окружающим, пока не дошла до собора. Здесь меня ждало
потрясение. Потрясло всё: масштаб, красота, величие – всё, что не принадлежало
этому нынешнему городу, суетящемуся вокруг. Контраст был настолько силён, что
чувство удивления перекрывало непосредственное ощущение красоты. Откуда здесь
такое? И какое оно имеет отношение ко всему окружающему? И вообще к русской
культуре, как я её знаю и ощущаю – к храму Василия Блаженного, к московским
церквам XVII века, Кремлю, расписным прялкам, копилкам и свистулькам на базарах.
Сбитая с толку, ошеломлённая мысль заметалась – как могло такое вот быть
созданным ещё в XII веке? Так что же, значит всё последующее – деградация? Да
нет, тут и единой линии, сходства не видно. Это нечто иное, принципиально и
несомненно высшее, неизмеримо высшее! А люди кругом не имеют никакого отношения
к этому гиганту, хотя они и связаны с ним – теперь я ловила на них отблески
собора, замечала влияние величественного здания, всегда находившегося у них
перед глазами. Оно было в некоторой просветлённости этого полудеревенского
городка, в гармоничности – на другом уровне, гораздо более низком, но
несомненном. Оно было в ласковой интонации женщин, особенно пожилых, в их
певучей напевности. Отблески, последние, самые последние, косые лучи заходящего
солнца.
Но кто же все-таки создал это чудо? Чем дольше я смотрела на собор, тем больше
он проникал в меня, захватывал до того, что мне уже начало казаться, что и нет
на земле ничего прекрасней. Причем прекрасное это было необыкновенно близко мне,
задевало всю душу, весь внутренний строй, было выражением самого лучшего во мне,
облекало это лучшее в гармонию, человечность, музыкальность и удивительную
цельность. Законченным совершенством были эти храмы, особенно Нерль. И, как
бывает в таких случаях, они не несли на себе следов мучительных творческих
усилий, казались органично слитыми со всем окружающим и как бы возникшими сами
по себе, как вырастает дерево. Но почему я, ленинградка, так мгновенно осознала,
увидела в этих храмах своё, самое глубинное, что до них находило себе лишь
частичные соответствия, но никогда не выражалось в такой полноте и светлой
радости? В ту пору я не любила и не знала русского народного искусства. Точнее,
проявляла к нему вежливо-любознательный интерес интеллигентного человека,
которому известно, что следует знать своё прошлое. Живых ощущений оно во мне не
рождало, своим его я не чувствовала. Его красочность, хотя и жизнерадостная,
казалась мне кричащей, варварской, резкой и не рождала радости во мне самой.
Нагромождение форм и узорчатость московской архитектуры утомляло и развеивало то
серьёзное отношение, какое приличествует церкви. Нарядные игрушки и только!
Чужое, чужое, азиатская экзотика! И, если это – русское, то не русская я.
Отчуждение и чувство непричастности в своей стране – вот и всё, что они во мне
вызывали. Внешне примелькавшееся, но внутренне непонятное и отталкивающее, как
искусство какой-нибудь Индии. Думалось, что это от того, что я ленинградка, что
я родилась и выросла в этом строгом, симметричном, распланированном городе, на
строгих, ясных и величественных ансамблях ампира. Но чудо в том, что здешнее,
владимирское было ближе, оно давало небывалое соответствие каким-то глубинам
души. Здесь была строгость конструкции, её логичность, ясность и величие, и ещё
то, чего в ампире не было – тёплая гармоничная музыкальность, звучавшая в мир,
создававшая с ним как бы тёплое единение. Словно золотые волны окутывали
всякого приближающегося к храму и вовлекали его в некое музыкальное единство с
собой, звучащее, вибрирующее. Если про ампир можно было сказать, что он нёс в
себе благородство отвлечённых линий, то здесь было благородство человечности,
возвышенной, духовной. Аристократическое благородство, не выродившееся в
утончённость, недоступную всем. Это было тоже удивительно и ново: аристократизм,
который не обособляется в своей исключительности, в своём предназначении только
для избранных. Откровением этого аристократизма была его открытость для всех,
демократичность. Его сутью было выражение того лучшего, что есть в каждом.
Меня Владимирские храмы освободили сразу же и навсегда от чувства
неполноценности, с которым я прежде ощущала свою непричастность к народному
русскому искусству, освободили от ощущения европейца, блуждающего в чужом мире.
Владимирские храмы создают ощущение, что вся их красота есть и в тебе, до неё не
надо расти, как до ампира, а надо лишь дать ей проявиться в себе, раскрыться,
расцвести».
Это чувство несоответствия Владимирских храмов всей окружающей нас
действительности при первом знакомстве с ними бывает, в самом деле, очень
острым. Внутренняя эклектичность более позднего русского искусства, особенно
основанного на европейских заимствованиях послепетровского, стала его глубокой
сущностью, стилем, более того – чертой культуры. Мы все настолько привыкли к
этому, что уже перестали замечать неестественность положения, при котором
считаем своими всяческие «Испанские песни» Рубинштейна, «Итальянские песни»
Глинки, так же как и «казанский стиль» храма Василия Блаженного вместе со всем
русским классицизмом, ампиром, барокко. Недаром в нас так крепко представление о
единой, для всех народов обязательной, общечеловеческой культуре. Мы не
представляем, что может быть по-другому. Восточное, китайское, индийское
искусство поражает нас, кроме непривычности и причудливости, не только
самобытностью, но и своим, так чуждым нам, внутренним единством, замкнутостью
рамками своей культуры, которые поверхностные люди объясняют отсталостью.
Аристократизм Владимирских храмов, их внутренняя цельность, как нам кажется,
больше всего отличают их от позднейшего русского искусства. И не то, чтобы в них
не было черт, которым нельзя было бы найти отзвук в произведениях последующих
веков. Своей бросающейся в глаза строгостью, совершенством они сходны с лучшими
творениями русского классицизма, например, произведениями Кваренги. Их весёлая
открытая жизнерадостность намного превосходит достигнутое в этом плане в русском
барокко; именно её отзвук радует нас в народной дымковской игрушке. Мягкость и
музыкальность Владимирских храмов не имеют аналогий в позднейшей русской
архитектуре и даже в музыке – в этом плане с ними могут сравниться разве что
лучшие задушевные народные песни. Благодаря своему пластическому совершенству
они воспринимаются даже не столько как архитектура, а скорее как скульптура. И в
этом плане в них улавливается что-то общее с произведениями лучших русских
скульпторов, например, Щедрина. В целом же Владимирские храмы настолько
отличаются от последующего русского искусства, настолько выпадают из общего
русла последующей русской культуры, что исследователи долго не соглашались
считать их творениями русского народа, не соглашались считать правильным самое
простое и естественное решение: храмы созданы нашими предками-славянами, жившими
во Владимире в XII веке. Появились различные теории заимствования. Искали
аналогий им на Западе – в романском искусстве, на Востоке – в искусстве Персии,
в Византии. Потребовались более чем столетние исследования, чтобы окончательно
установить самобытность Владимирских храмов и с уверенностью утверждать: они
являются произведениями культуры наших предков-славян и создали их местные
Владимирские мастера [1]. Признание этого факта делает, однако, законным вопрос,
заданный в письме: что же вся последующая наша история искусства после
Владимирских храмов – это деградация, упадок? Ведь очевидно, что в нашей
архитектуре, да и в искусстве вообще, не было создано чего-либо столь же
высокого: одновременно гармоничного, музыкального и строгого, пластичного и
образного, аристократического и человечного, столь собранно-цельного и открытого
окружающему миру, выросшего из него. Как появилось это светлое чудо? И что
представляли собой наши предки славяне, сумевшие его создать!
ИСТОРИЯ СЛАВЯН
Первым жителем этой, ещё необитаемой тогда страны, был человек по имени
Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и Колоксай
(Солнце-царь). В их царствование на Скифскую землю с неба упали золотые
предметы: плуг с ярмом, секира и чаша... Так жар пылающего золота отогнал обоих
братьев, но когда подошёл младший брат, пламя погасло, и он отнёс золото к себе
в дом. Поэтому старшие братья согласились уступить младшему всё царство.
Геродот
Бывало да живало –
жили-были старик да старушка.
У них было три сына:
первый Егорушка Залёт,
второй Миша Косолапый,
третий – Ивашка Запечник.
А. Н. Афанасьев
... жил старик в одном селе.
У крестьянина три сына:
Старший умный был детина,
Средний был и так, и сяк,
Младший вовсе был дурак.
П. П. Ершов
Начальная летопись сообщает, что вначале славяне поселились на Дунае, а потом
расселились в Прикарпатье, назвавшись по месту поселения. Кто осел в поле,
назвались полянами, а кто в лесу – древлянами. Поселившиеся среди болот
назвались дряговичами («дрягва» – болото). Далее следует перечисление довольно
многочисленных славянских племён: поляне, древляне, волыняне, бужане, дряговичи,
кривичи, радимичи, вятичи, уличи, тиверцы, север, хорваты, дулебы, словены,
сербы, поляне-ляхи, поморяне, мазовшане. Эти названия очерчивают большую область
от Балтийского до Адриатического морей на западе и до Днепра на востоке.
Несмотря на некоторую непривычность этих названий для нашего слуха, в них нет
ничего странного: мы тоже привыкли называть людей по месту их поселения:
москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки. Вот почти и всё, что сообщает о
происхождении славян Начальная летопись (не считая глухих преданий). Дальше наши
летописи повествуют не о славянах. Они посвящены деяниям русских(не славянских!)
князей – правящей варяжской верхушки русского феодального общества, сложившегося
из низшего слоя – эксплуатируемых славянских племён – и верхнего – варяжских
пришельцев. Славяне в летописи выступают в качестве тёмной необразованной массы
(«смерд» и «смердить» – однокоренные слова), живущей скотски, «звериньим
образом», сопротивляющейся установлению «просвещения» и «порядка» (летопись
глухо говорит о взрывах недовольства). Да ещё в летописи повествуется о попытках
некоторых великих князей урезонить жестокость и алчность своих меньших собратьев
по отношению к покорённому народу [2].
В. О. Ключевский [2], подводя итоги исследованиям проблемы происхождения славян,
проведённым к его времени, так описывал их историю.
Приблизительно ко II в. н. э. народные потоки прибили славян к среднему и
нижнему Дунаю. Прежде они терялись в разноплеменном населении Дакийского
царства, существовавшего тогда у северных границ Римской империи.
И только около этого времени славяне начали выделяться из сарматской массы,
обособляться как в глазах иноземцев, так и в собственных воспоминаниях. В то
время римляне называли их венедами, и Тацит ещё недоумевает, кому сроднее венеды
– германцам или кочевникам-сарматам. Наша летопись помнит, что от римлян
императора Траяна – «волохов», разрушивших Дакийское царство – тяжко пришлось
славянам, которые вынуждены были под их давлением расселиться с Дуная. Таким
образом, Ключевский относит расселение с Дуная ко II веку н.э. Первой остановкой
славян в этом расселении были Карпаты, откуда они в V–VI веках громили Византию,
переходя за Дунай. Во главе военного союза карпатских славян стояло племя
дулебов или волынян. Этим набегам и обязаны мы сообщениям о славянах в
византийских источниках. Следствием их, как пишет Ключевский, было постепенное
заселение славянами Балканского полуострова. В VI–VII веках нашествие
вытесненных тюрками из Великой степи аваров, которые покорили дулебов (и,
по-видимому, существовавший под их именем союз славянских племён), прекратило
нападения славян на Византию – и византийские сообщения о них. Последние
возобновляются уже в IX веке в связи с нападениями Руси. В VIII веке под
давлением аваров начинается расселение славян с Карпат. Их восточная ветвь
селится по Бугу и Днепру. Здесь и застаёт восточных славян Начальная летопись,
которая описывает объединение восточных славянских племён в IХ–Х веках
варяжскими завоевателями в феодальное государство – Киевскую Русь. И далее
летописи повествуют об истории этого феодального объединения до его разгрома
татарами в XIII веке.
Итак, «вглубь» историю славян исследователи доводят до II века н. э. Однако
анализ славянских языков говорит о том, что они восходят к индоевропейской
языковой общности, распад которой относится ко II тыс. до н. э. Почему же
исследователи остановились на II веке н. э.? Да потому, что о славянах нет
упоминаний в более ранних письменных источниках. Но где же тогда были славяне
более тысячи лет? Например, о них ничего не пишет Геродот – человек в высшей
степени обстоятельный, совершивший в V веке до н. э. большое путешествие в
Скифию (где позднее находит славян история) и подробно описавший все жившие там
народы. Но в том-то и дело, что Геродот о славянах пишет! Только он называет их
скифами-земледельцами, скифами-пахарями (в отличие от истинных «царских»
скифов-кочевников) в соответствии с традицией, сложившейся в Причерноморских
греческих колониях, или по месту их проживания – борисфенитами («Борисфен» –
Днепр). Перечисляя входящие в Скифскую федерацию земледельческие племена,
Геродот пишет: «Всем им в совокупности есть имя сколоты, по имени их царя.
Скифами же назвали их эллины» [3].
Союз сколотов, как показал Б. А. Рыбаков, и объединял племена, которые позднее у
византийцев получили название восточных славян, или антов. Но при таком
понимании сообщения Геродота отпадает главное препятствие к тому, чтобы
проследить историю славян далее в глубь веков: отсутствие упоминания о них в
письменных источниках. Открывается возможность отождествить праславянские
племена с изученными археологическими культурами.
Эта большая работа, подытоженная Б. А. Рыбаковым, к тому же по-новому
интерпретировавшим сообщения Начальной летописи, позволила ему следующим образом
представить историю славянских племён.
1. В середине II тыс. до н. э., в период расцвета бронзового века, когда затихло
широкое расселение индоевропейских пастухов-скотоводов, севернее Европейского
горного барьера обозначилась большая группа скотоводческо-земледельческих
племён, обнаружившая значительное единство на пространстве от Одера до Днепра
(Тшцинецко-Комаровская археологическая культура). Протяжённость земель этих
праславян с запада на восток около 1300 км, а с юга на север – 300-400 км.
2. К концу бронзового века – IX-VIII векам до н. э. – западная половина этого
обширного праславянского мира оказалась втянутой в сферу кельтской культуры
(Лужицкая археологическая культура). Восточная половина вошла в соприкосновение
и борьбу с кочевыми, иранскими по происхождению, киммерийскими племенами, от
которых они заимствовали определённые элементы материальной культуры. В это
время праславяне не только научились ковать железные орудия и оружие, освоили
хлебопашество, построили ряд крепостей на границе со степью для зашиты от
кочевников, но и создали союз племён между Днепром и Бугом, получивший название
сколотов.
3. Смена киммерийцев новыми ираноязычными кочевниками скифами в VII веке до н.
э. привела к тому, что союз сколотов вошёл в обширную Скифскую федерацию. Однако
сколоты, видимо, сохранили автономию: южная система крепостей, защищающая их от
кочевников, была обновлена и усилена. В это время произошло сильное сращивание
праславянской культуры со скифской. Славянская знать восприняла все основные
элементы всаднической скифской культуры (оружие, сбруя, звериный стиль
украшений). В славянский язык вошло много иранских слов – например, название
Бог, вместо индоевропейского Дайвас (Див). Западные же праславяне по-прежнему
оставались в составе обширной территории, общности, характеризуемой Лужицкой
археологической культурой. Таким образом, мы видим, что обособление восточных и
западных праславян произошло в глубокой древности.
4. Исчезновение Лужицкой культуры в V веке до н. э. и упадок Скифии привели к
устранению двух внешних сил, вносивших различия в восточную и западную половины
праславянского мира, в связи с чем вновь устанавливается их известное единство
(отразившееся в Зарубинецкой и Пшеворской археологических культурах).
5. Благодаря завоеваниям императора Траяна в Дакии и Причерноморье Римская
империя во II-IV веках н. э. стала соседкой славян. Обширный импорт хлеба в
империю благотворно сказался на славянских племенах, определив их общий подъём.
Однако облик восточной и западной половин славянского мира снова начал
разниться.
6. Падение Римской империи в V в. н. э., прекращение благоприятных «траяновых
веков» и смена иранских кочевников в Причерноморье тюрками – аварами – в
последний раз возродили общеславянское единство (характеризуемое
распространением во всём славянском ареале археологической культуры Пражского
типа). Далее последовало Великое переселение славян в VIII веке, распад
славянского единства и образование больших феодальных государств с новыми
центрами притяжения и консолидации.
Итак, история славян прослеживается до середины II тыс. до н. э. Всё это время
до их Великого расселения в VIII в. н. э. они занимали примерно один и тот же
регион и, несмотря на разделение на восточную и западную половины, сохраняли
определённое единство. Такая длительная история с необходимостью должна была
сопровождаться преемственностью традиций, навыков и, следовательно, образованием
древней, сложной и развитой культуры.
Когда начинаешь говорить о славянах, рискуешь натолкнуться на характерные
реакции двух типов: снисходительно-пренебрежительное одобрение («Ну что ещё Вы
скажете по этому старому вопросу?!») или явное недоброжелательство («Знаем мы
этих славянофилов, от них один шаг до чёрной сотни!»). Обе они своим
первоисточником имеют тот взгляд на историю славян, который изложен в
критическом исследовании древнерусских летописей члена Петербургской Академии
наук, знаменитого учёного немца Шлёцера на немецком языке ещё в XVIII веке. Суть
его, как пишет В. О. Ключевский, состоит в том, что до прихода варягов – до
половины IX века – на обширном пространстве Русской равнины всё было дико, пусто
и покрыто мраком; жили здесь люди, но без правления, подобно зверям и птицам,
наполнявшим их леса. В эту обширную пустыню, заселённую бедными, разбросано
жившими дикарями – славянами и финнами – начатки гражданственности впервые были
занесены пришельцами из Скандинавии, варягами. И картина нравов восточных
славян, как её нарисовал составитель Начальной летописи, вроде бы оправдывает
этот взгляд. Здесь мы читаем, что восточные славяне до принятия христианства
жили «звериньим образом, скотски», в лесах, как все звери, убивали друг друга,
ели всё нечистое, жили уединёнными, разбросанными и враждовавшими между собой
родами: «живяху каждый своим родом и на своих местах, владеюще каждый родом
своим».
Итак, по Шлёцеру нашу историю следует начинать не раньше середины IX века –
изображением тех первичных исторических процессов, какими везде начинается
человеческое общество: картиной выхода из первобытного состояния. Этот взгляд
прочно утвердился в исторической науке. Его придерживались такие знаменитые
историки, как Карамзин, Погодин, Соловьев – люди патриотические, которых трудно
заподозрить в антирусских настроениях. Мнение это стало общим местом, все мы и
сами его невольно разделяем. Поэтому Владимирские храмы и производят такое
удивительное впечатление: ведь славяне приняли христианство недавно и по сути
ещё оставались язычниками – можно сказать, только-только вышли из первобытного
состояния. И вдруг такое! В бытующих представлениях культура связывается с
просвещением, а последнее – с христианством. Вот обычное мнение об отставании
России от Запада в Средние века: «Европейцы получили христианство на 5 веков
раньше России, отсюда и наше отставание – ровно на 500 лет».
И хотя нелепость такой позиции очевидна, тем не менее лежащее в её основе
сообщение летописи о дикости славян перед принятием христианства смущает. Ведь
если так утверждали сами наши предки, то какое у нас основание сомневаться в
том, что они видели собственными глазами? Не является ли построение Б. А.
Рыбакова обыкновенной научной спекуляцией?
Но если может быть пристрастным наш современник, то ведь мог быть пристрастен и
летописец. Присмотримся к социальному составу киевского общества, к которому он
принадлежал. По утверждению В. О. Ключевского, оно было «двухслойным». Верхний
правящий слой этого общества составляли пришедшие из Европы варяги. Нижний
эксплуатируемый слой – покорённые варягами славянские племена. Идея
заимствования византийского христианства как идеологической базы организуемого
варягами феодального государства, сама идея необходимости новой (неславянской)
религии, родилась в верхнем варяжском слое и встречала, как можно судить по
взрывам недовольства, отмечаемым даже летописью, серьёзное сопротивление в
славянских низах. Христианская религия в Киевской Руси была явлением
антинародным и, следовательно, антиславянским.
Какую же позицию в этой ситуации могли занимать летописцы? Все они были
выходцами из правящей варяжской верхушки общества. Составитель Киево-Печорской
летописи Нестор был, как можно полагать, одним из иерархов Киево-Печорского
монастыря. Его другом был старший боярин Святослава Ян Вышатич, со слов
которого попал в летопись рассказ об истреблении им волхвов на Белом озере –
непримиримый враг славян и славянской культуры. Составитель первого летописного
свода Сильвестр, игумен Михайло-Выдубицкого киевского монастыря – феодал уже по
своему положению, проводник греческой культуры. Как они относились к славянам?
Естественной их задачей была дискредитация славянской культуры, подавление
самосознания и самостоятельности славян, утверждение варяжского господства.
Так что наши летописи по своей сути – не славянские, а варяжские.
Но ведь написаны они на славянском языке? Не на славянском, а на
церковно-славянском – языке письменном, официальном, приспособленном для
проповеди христианства. Кроме того, не известно, считала ли верхушка киевского
общества славянский язык родным. Принадлежавшие к ней люди были широко
образованы, говорили на нескольких языках. Владимир Мономах в своём Поучении
замечает, что отец его знал шесть языков. В XI веке на Руси свободно изъяснялись
и с приезжавшими варягами, и с византийскими греками, и с кочевавшими в
причерноморских степях половцами. Киевские князья заключали династические браки
с половиной европейских и азиатских дворов. Так что тот факт, что наши летописи
написаны по-славянски – не основание считать этот язык родным для верхушки
общества.
Напомним, что даже в прошлом – XIX – веке ситуация была аналогичной. Пушкин –
гордость нашей национальной литературы, наш классик по его собственным словам до
14 лет думал по-французски!
Причина того, что учёный немец, член Петербургской Академии наук Шлёцер и учёный
монах Киево-Печерской лавры Нестор сошлись в оценке славянской истории и
культуры, заключена в их социальной природе – их месте в антиславянском
(антинародном) эксплуататорском обществе.
Нам надо отвести ещё одно сомнение: как можно говорить о высокой древней
культуре славян, если у них до Кирилла и Мефодия, то есть до Х века н. э., не
было письменности? Ибо в нашем представлении культура намертво связана с
письмом: писали египтяне, римляне, вавилоняне, индусы, китайцы – все культурные
народы. Нет, не все! Весьма высокая культура островов Тихого океана была
бесписьменной – но при этом их учёные знали и помнили сорок поколений своих
предков! Кто из европейцев может похвастаться подобным? Для развития культуры
нужна преемственность, сохранение знаний– а она обеспечивается не только
письменностью. Будда не разрешал записывать свои проповеди. Он считал записанное
слово мёртвым, а живым – то, что хранится в памяти, в сердце. Буддийский канон
был записан только через 500 лет после смерти Будды, когда вера стала клониться
к упадку, и надо было сохранить (пусть уже не в душе, а хотя бы на бумаге) его
учение. Пятьсот лет учение Будды жило в устной передаче. А ведь никто не
усомнится, что буддизм –продукт очень высокой культуры. Так что отсутствие
письменности у славян вовсе не свидетельствует об отсутствии у них высокой
древней культуры.
Заметим, что навык устной передачи культурной традиции в отсутствие письменности
вырабатывает (как это было в Океании и как показывает изучение культур
«бесписьменных» народов) очень ёмкие обобщения, формулы-образы, которые легко
запоминаются и прочно сохраняются в памяти народа.
Подведём итоги сказанного. Вопреки утвердившемуся мнению, история славян
началась не с прихода варягов в IХ веке н. э., а прослеживается до середины II
тыс. до н. э. Уже во времена Геродота, то есть в V веке до н. э., праславяне,
входившие полноправными партнёрами в могучую Скифскую федерацию, были богатым,
хорошо организованным народом, обладавшим – имеются веские основания так считать
– древней развитой культурой. Следы этой культуры мы можем найти в сохранившихся
от дохристианского времени памятниках и, в частности, во Владимирских храмах.
СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА
Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на коньке крыльца, цветы на
постельном и нательном белье вместе с полотенцами носят не просто характер
узорочья – это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека.
С. Есенин.
Что известно о культуре восточных славян? После её систематического уничтожения,
проведённого насильственной христианизацией Руси – очень немного. Привитый при
этом взгляд на неё не как на культуру, а как на «бескультурье», варварство,
мешает оценить по достоинству даже то немногое, что от неё сохранилось. В. О.
Ключевский пишет о «скудных чертах мифологии славян, сохранённых нашими древними
и позднейшими памятниками».
Славяне поклонялись обожествлённым силам и явлениям Природы: «небу под именем
Сварога, солнцу под именем Дажбога, Хорса и Велеса, грому и молнии под именем
Перуна, богу ветров Стрибогу и другим. Дажбог и божество огня считались
сыновьями Сварога и звались Сварожичами. По Начальной летописи Перун – главное
божество киевских славян наряду с Велесом, который назывался «скотьим богом»,
покровителем стад.
На открытых местах, преимущественно на холмах, ставились изображения богов,
перед которыми совершались обряды и приносились жертвы. Так, в Киеве на холме
стоял идол Перуна, перед которым Игорь в 945 году клялся в соблюдении
заключённого с греками договора. Владимир, утвердившись в Киеве в 980 году,
поставил здесь кумиров: Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса,
Велеса, Дажбога, Стрибога и других богов, которым князь и народ приносили жертвы
и которые позднее, после крещения Руси, были сброшены в Днепр.
В.О. Ключевский пишет о культуре предков-охранителей, которые чествовались под
именем Чура. Почитание их отразилось в языке: «пращур» –прадед-родоначальник,
«чур, меня!» – «храни меня, мой прадед!», «чересчур» – выход за меру, границу (в
частности, за границу родовых владений, охранявшихся чурами). По Начальной
летописи покойника сжигали, совершив над ним тризну, а прах и кости собирали в
«малую посудину» и ставили на столбе на распутье, где скрещивались границы
родовых владений – для их охраны.
Из фольклора известно наличие в славянском пантеоне леших – духов леса, водяных
– духов водоёмов, домовых и других духов, которые были связаны с различными
природными и хозяйственными угодьями. Их было много. Вся природа была полна ими.
«В каждом лесу свой леший, в каждой речке свой водяной, в омуте – омутной, в
доме – домовой, и перевести его в другой, вновь отстроенный дом нелегко – нужен
специальный ритуал» [5]. Исследователи пишут о вошедших в христианский пантеон
славянских языческих богах, которые сохранились там в виде святых-покровителей,
в частности, о древнеславянской богине плодородия Мокоши – «Матери-Сырой-Земле»,
которая после христианизации Руси в сознании народа слилась с Богородицей и
стала «покровительницей Русской земли» [6].
В целом мы видим, что славяне поклонялись силам и явлениям Природы. Но была ли у
них стройная разработанная религиозно-философская система или только отрывочные,
путаные представления, не выходящие за рамки бытовых потребностей первобытной
шаманской магии?
Мы уже говорили, что древняя история славян должна была породить высокую и
развитую культуру. Но где памятники этой культуры? От древних египтян, например,
сохранились пирамиды и храмы, и никакого сомнения в наличии у них высокой
культуры не возникает.
А Владимирские храмы? Но ведь они – памятники христианские. Так считается.
Однако хорошо известно, что христианство очень гибко приспосабливалось к местным
культурам и включало в свой пантеон местных языческих богов. Так было и на Руси.
И местная славянская культура должна была проявиться в памятниках раннего
русского христианства. Попытаемся посмотреть на Владимирские храмы с этой точки
зрения.
Присмотримся к ситуации, сложившейся в русском каменном зодчестве в XI-ХII
веках. Оно пришло на Русь из Византии. Вот что пишет известный исследователь
древнерусской архитектуры П. Н. Максимов [6].
«Оттуда, из Византии, Русь приняла христианство по восточному обряду, а вместе с
ним и окончательно сложившийся к этому времени тип крестово‑купольного храма
трёх- или пятинефного, с хорами, одним или несколькими куполами, апсидами с
востока и притвором с запада. Перешли на Русь и обычная в Византии смешанная
кладка стен из камня, чередующаяся с кирпичными прослойками на известковом
растворе с толчёным кирпичом, и арки, своды и убранство фасадов, выполненные из
тонкого почти квадратного кирпича-плинфы. Обычные в византийской архитектуре
полуциркульные арки, цилиндрические своды, полукупола апсид, купола на высоких
световых барабанах и сферические паруса – также получили распространение на
Руси».
Наиболее полно византийские технические и эстетические нормы отразились в первых
построенных на Руси соборах – Спасском в Чернигове и Софийском в Киеве. Но даже
в этих храмах, строители которых выступают прилежными учениками византийцев,
сказывается свойственное русским невизантийское миропонимание. В более поздних
постройках, – по мере того как русские мастера овладевают техникой и перестают
ощущать себя учениками византийцев, – русское миропонимание проявляется все
явственней.
Исследователи единогласно считают, что своего высшего расцвета древнерусская
архитектура достигла во Владимирских храмах XII века. П. Н. Максимов пишет [6,
с. 80-82]:
«Творческие методы зодчих Северо-восточной Руси XII – начала XIII веков
характеризуются особым вниманием к убранству фасадов, составляющему основную
отличительную черту их произведений и играющему большую роль в создании
художественного образа, чем это было в архитектуре Поднепровья и Западной Руси.
...Типы зданий и их композиции были здесь такими же, как и в других русских
землях. ...Но всё это было развито и доведено до совершенства владимирскими
зодчими. ...Свойства местного камня, в котором можно было не только выполнить
архитектурные обломы, но и тонкую орнаментику и сюжетные изображения, позволили
сделать это, а необходимость в условиях союза князей с городами теснее связать
внешний облик храма с городом и сделать его украшением города – заставила пойти
на это».
Для нас в этом высказывании важно отметить тот факт, что Владимирские храмы, в
силу союза князей с горожанами, были украшением города и должны были отражать
вкусы горожан.
М. В. Алпатов [7]:
«Своеобразный поэтический образ природы лежит в основе владимирской резьбы по
камню XII века. Стремясь выразить своё отношение к миру более свободно и широко,
чем это дозволяла церковная иконография, Владимирские резчики создали
замечательное искусство резного камня».
Это замечание о том, что в основе резьбы лежит образ природы, понадобится нам
при анализе.
Необходимо отметить ещё одно обстоятельство: архитектура – искусство
монументальное; и её формы во все времена тесно связаны с бытующими в обществе
философскими идеями и мировоззренческими представлениями. Хорошо известно,
например, что в европейской архитектуре переход от готики к классицизму
сопровождал смену религиозного средневекового мировоззрения буржуазным
рационализмом. Крах рационалистической культуры, кончившийся первой мировой
войной, вызвал к жизни архитектурную эклектику. А распространение
конструктивизма явилось следствием наступления эры научно-технической революции.
Так что и во Владимирских храмах можно надеяться найти выражение
мировоззренческих и философских идей наших предков, живших в XII веке.
Обратимся к Дмитриевскому собору во Владимире. Он строился как личный храм
Всеволода III. Поэтому в его образе преобладают философско-мировоззренческие
аспекты, а не политические, как в главных соборных храмах Русской земли: Софии
Киевской и Успенском Владимирском соборе. Но прежде чем разбирать эти идеи, нам
надо убедиться, что они относятся именно к славянскому язычеству, а не к
византийскому христианству и не к варяжской составляющей древнерусской культуры.
Как можно в этом убедиться? Присмотримся к образу храма, прислушаемся к тому
впечатлению, которое он производит, обратим внимание на его пластическое
совершенство. Традиционные элементы, из которых он собран, сплавлены в столь
полное, гармоничное и соразмерное единство, что храм воспринимается не столько
как здание, сколько как скульптура.
Н. Н. Воронин говорит об этом так [8]:
«Зодчий как бы лепит, подобно скульптору, каждую форму, смело нарушает
геометрическую сухость очертаний их индивидуальной осмысленной «прорисовкой»,
создаёт ту неповторимую живость и органичность художественного образа, которая
под силу лишь подлинному гению».
Пропорции одноглавого, крытого по закомарам храма с тремя апсидами и трёхчастным
делением фасадов столь совершенны, что производят впечатление математической
формулы.
И ещё: вслушаемся в ритмы храма, обратим внимание на соотношение его основных
элементов. Совершенство храма говорит о том, что византийские заимствования,
которые могли оказаться в его облике, освоены и переосмыслены столь глубоко, что
зодчие выражали уже не заимствованные, а свои собственные идеи, своё собственное
миропонимание. Теперь ритмы храма – они дадут нам ключ к ответу на поставленный
вопрос. Почти кубический объём его расчленён по фасадам на три примерно равные
прясла, скруглённые поверху закомарами. Восточный фасад составляют три апсиды с
полуциркульными завершениями. Поднимающийся над храмом барабан накрыт невысоким
шлемовидным куполом.
Чьё мироощущение, мировосприятие какого народа – византийских греков, варягов
или славян – могло выражать такое простое, ясное и вместе с тем точное
соотношение элементов, такой простой, ясный и полновесный ритм?
Известно, что в мировосприятии народа большую роль играет «вмещающий ландшафт» –
оно, можно сказать, им формируется. В художественных произведениях, песнях,
сказках каждого народа звучат ритмы окружающей его природы [9]. Не вдаваясь в
теоретические тонкости, приведём пример, который поможет понять, о чём идёт речь
(хотя при этом мы и рискуем несколько уклониться от разбираемой темы). Вот перед
нами два отрывка: из полинезийской мореходной песни [10] и осетинского эпоса
«Амран» [11].
Рукоять моего рулевого весла рвётся к действию.
Имя моего рулевого весла – Кауту-Ки-Те-Ранги,
Оно ведёт меня к туманному, неясному горизонту.
Горизонту, который простирается перед нами,
Горизонту, который вечно приближается,
Горизонту, который вечно убегает,
Горизонту, который внушает сомнения,
Горизонту, который вселяет ужас.
Это горизонт с неведомой силой –
Горизонт, за который ещё никто не проникал.
Над нами нависающие небеса,
Под нами бушующее море,
Впереди – неизведанный путь.
По нему должна плыть наша ладья.
* * *
Из-за семи гор, семи перевалов
Йамон Даредзанти жену взял.
Ему трёх сыновей родив,
Она умерла.
Дичиной отец сыновей своих вскармливал.
Однажды пошёл на охоту
На Чёрную гору Йамон.
Убил семирогого лося,
Скатилась лосиная туша к пещере.
Йамон Даредзанти животному горло надрезал
И на ночь остался в пещере.
В ночи, лишь горные птицы пропели,
Увидел Йамон: светла ночь,
И светятся горные двери.
Лосиную бросивши тушу, смутился Йамон:
«Пошёл бы за светом я этим,
Но что, если зарежут меня там!
Остаться, но что расскажу своим близким о чуде?
Услышав, что я, Йамон Даредзанти,
За чудом пойти побоялся,
Никто никогда мне не даст
На кувде почётную чашу».
И без специальных исследований видна разница в ритмах. В ритме полинезийской
песни слышится могучее и мерное дыхание Великого океана, в то время как ритм
осетинского эпоса как будто повторяет нагромождение каменных глыб, столь
характерное для Кавказских гор.
Вернёмся в нашей теме. Ритм Владимирских храмов никак нельзя отнести на счёт
византийской традиции. В отличие от изучаемого, Византийское мироощущение –
рационалистически-античное, очень сухое в своей основе, что и отразилось в
византийских базиликах, сохранившихся на территории бывшей империи, например, в
Ровенне. Такие ритмы ещё прослеживаются в ранних русских храмах (например,
Черниговском Спасском соборе), но уже полностью отсутствуют во Владимирских
храмах.
Нельзя приписать изучаемые ритмы и варяжским влияниям. Мрачные, тяжёлые,
монотонно-угрюмые ритмы варяжской музыки, навеянные прибоем Северного моря,
разбивающегося с тяжёлым упорством о крутые чёрные скалы норвежских фьордов, так
удачно стилизованные Римским-Корсаковым в знаменитой «Песне варяжского гостя»,
отразились в ритмах старорусских былин, исполнением которых радовал
гостей-варягов на своих знаменитых пирах Владимир Стольнокиевский. Традиционное
исполнение их ещё в середине нашего века кое-где сохранялось на русском севере.
Ритмы их никак не ассоциируются с ритмами Владимирских храмов.
Остаются славяне. Ритмы поднепровской лесостепи – в которой, согласно Б. А.
Рыбакову, формировались восточные славяне – вполне соответствуют ритмам
Владимирских храмов. Просторный ландшафт с ясным членением главных элементов
(земля, небо, река) должен был порождать как раз подобные ритмы. Мы полагаем,
что Владимирские храмы, их облик, отражают эстетику – а, следовательно, и
мироощущение славян.
Это естественно. Византийские архитектурные заимствования должны были
переосмысливаться в соответствии со славянским мировосприятием. Внутреннее
пространство храмов, его декор более жёстко определялись христианской
догматикой, дольше сопротивлялись такому переосмыслению. Внешний же вид храмов,
видимых издалека, всё время находящихся на глазах славянского населения (в
условиях союза с ним князей), просто должен был отражать славянское
мировосприятие. Иначе его воздействие было бы отрицательным как для пропаганды
религии, так и для упомянутого союза. Византийская церковь, как известно, это
хорошо понимала и не мешала утверждению национальных форм в храмовой
архитектуре. Очень показательно в этом плане сравнение русских и армянских
храмов. Они разительно отличаются: их облик приспособлен к мироощущению своих
народов.
Таким образом, в облике Владимирских храмов зашифровано славянское
мировоззрение. Попытаемся его проанализировать. Но опять следует спросить себя,
что следует искать – стройную законченную систему взглядов или смутные
неосознанные ощущения?
О том, что этот вопрос не праздный, свидетельствует, например, следующее
высказывание М. В. Алпатова [7]:
«Искусство новое, церковное утверждало разумность миропорядка. ...перед
искусством возникала задача воссоздать в своих образах стройный миропорядок,
царящий в мире. Наоборот, древнеславянское искусство в состоянии было передать
лишь смутное ощущение единства мира, но не в силах было подчинить все элементы
стройной, разумной системе».
Мы не склонны в этом соглашаться с Алпатовым. Всё, что мы рассказали об истории
славян, подсказывает нам представление об их древней и разработанной культуре.
Более того, мы надеемся найти у славян Великую культуру, то есть полную
«пирамиду» (см. раздел 1.3), а не «смутные ощущения». Её‑то черты мы и
постараемся увидеть в облике Дмитриевского собора.
Каковы же идеи и положения этой Великой славянской культуры? Обратимся к сюжету
белокаменной резьбы, покрывающей прясла Дмитриевского собора (илл. 3).
Центральное место в ней занимают библейские цари Давид и Соломон со скрижалями
псалмов в руках. В этих псалмах славится «всё живое». А вокруг, на поле прясел,
изображено всё то, что славится в этих псалмах: различные звери, птицы,
растения, люди. Это именно всё живое. Важно, как подчёркивает тот же М. В.
Алпатов, что славятся твари, а не творец. Конкретность и образность мышления
владимирских мастеров заставила их перечислить все главные проявления жизни, в
том числе и фантастические создания, которые хотя и не встречались славянам в
жизни, но – по их представлениям – тем не менее где-то на земле существовали.
Заслуживает внимания само стремление авторов резьбы исчерпать поле жизни. Как
его интерпретировать? Мы, мыслящие более абстрактными категориями, могли бы,
по-видимому, применить здесь понятия жизнь как таковая или жизнь вообще.
Присмотримся к этой идее. Она достаточно широкая и общая, включает в себя,
объединяет огромное количество явлений. И, кроме того, обладает организующей
силой. Она вполне может служить фундаментальным принципом культуры. В
подтверждение сошлёмся на работу человека знаменитого, нобелевского лауреата А.
Швейцера «Культура и этика». В этой книге Швейцер, предлагая реформу Европейской
культуры, которая по его мнению зашла в тупик, считает нужным в основу культуры
положить именно этот принцип, назвав его принципом благоговения перед жизнью.
Итак: мы нашли, что понятие ЖИЗНЬ является фундаментальным принципом славянской
культуры.
Эта идея в её положительном организующем значении, языческая по своей сущности,
безусловно не была заимствована из христианства, считавшего мир «юдолью печали и
скорби». Живая, прелестная, полнокровная владимирская белокаменная скульптура
прославляет жизнь, а отнюдь не зовёт к уходу из мира. М. В. Алпатов пишет о
Владимирских храмах [7, с. 74]:
«... очевидно, что храм этот не способен отвратить человека от реального мира.
Наоборот, всем своим обликом он призывал человека оглянуться на окружающий мир и
порадоваться, что между делом его рук и природой нет никакого различия. …
Нерлинский храм можно назвать проявлением жизнеутверждающего начала в нашей
древней архитектуре».
Дальнейший анализ облика Владимирских храмов позволит углубить наше
представление о миропонимании славян, об их культуре. Обратимся к трёхчленному
делению фасадов храма.П. Н. Максимов пишет [6, с. 70]:
«Ритм прясел Дмитриевского собора спокоен и величав. Зодчий Дмитриевского
собора, желая создать иллюзию их равенства, разместил на всех боковых пряслах (в
том числе и на более узких восточных пряслах боковых фасадов) по шесть колонок
аркатурного пояса. Одинаковое число их должно создавать иллюзию одинаковой
ширины прясел».
Но почему их три? Почему трёхчленное деление упорно повторяется на всех фасадах
здания? Даже апсид тоже три. Случайно ли это? Думаем, что нет. Мы склонны видеть
здесь образное выражение принципа триединства. Три почти равные прясла,
объединённые в одном фасаде. Напомним композицию рублёвской Троицы, в которой
принцип этот тоже выражен путём изображения трёх «почти равных» ангелов.
Но, может быть, трёхчастное деление фасадов имеет в виду просто-напросто
христианскую символику? Это, конечно, так. Ведь храм – церковное христианское
сооружение. И его облик должен был трактоваться в соответствии с христианской
догматикой. Тем не менее, как нам представляется, ею дело не исчерпывалось.
Исследователи упорно говорят о «двоеверии» русских, когда перечисляют
многочисленные элементы славянского язычества, включённые в христианство [12].
Облик храма должен был быть «двуязычным», коль скоро в нём отразилось славянское
языческое миропредставление. Он должен был трактоваться и с точки зрения
славянской культуры. Принцип триединства, так настойчиво повторяемый на всех
фасадах храма, рассчитанного на восприятие славянами, должен был говорить им
что-то родное, что-то лежащее в основе их культуры, их миропредставления.
Отметим, что вера в Троицу или – лучше сказать – интерес к ней были широко
распространены на Руси во времена Сергия Радонежского и Андрея Рублёва – ещё
близкие к язычеству. Позднее Троица уходит из числа широко распространённых
православных сюжетов. Напомним также, что на Руси Троице сопутствовали эпитеты
«Животворная» и «Изначальная», которые трудно истолковать с позиций
христианства. В самом деле, как может быть Троица изначальной, когда один из её
элементов, Сын Божий, появился на свет 5000 лет спустя после «сотворения» мира?!
И почему Троица всего лишь животворная, если Бог сначала сотворил весь мир, а уж
потом только населил его? С точки зрения христианской догмы этот эпитет может
выглядеть умалением размаха божественной деятельности.
Постараемся истолковать принцип триединства в духе славянского миропонимания.
Обратимся снова к белокаменной резьбе Дмитриевского собора, изображающей зверей,
птиц, растения, людей, мифических тварей. Как мы уже говорили, это – всё живое,
ЖИЗНЬ. Но колыбелью жизни является земля. Из неё произрастают растения, по ней
бегают звери и ходят люди. В Библии сказано: «И изнесе Земля былие травное и
семя плодовитое по роду». Так что твердь земли хочется видеть в поверхности
прясла, на котором мастера разместили изображения разных живых тварей. Такое
прямое отождествление плоскости прясла с поверхностью земли (не такое уж
странное для народа, жившего в «поле») может показаться натяжкой. Примем,
однако, это допущение и посмотрим, какие выводы можно из него сделать.
Посмотрим на окна храма. Если плоскость прясла – земля, то проём окна,
представляющийся «углублением в землю», ассоциируется с чашей водоёма, на дне
которого находится вода. Быть может, это видимый глазом отрезок реки – до
ближайшего поворота. И уже если окно – чаша водоёма, то охватывающее плоскость
прясла сверху обрамление закомары, без сомнения, – небесный свод.
Земля – вода – небо. Славянская Троица. Но ведь это как раз то, что обеспечивает
и поддерживает жизнь. Становятся понятными эпитеты Троицы: «животворная» и
«изначальная», ибо что могло быть раньше земли, воды и неба?
Напомним, что от славянского прошлого в нашем языке осталось выражение
Мать-Сыра-Земля. У других народов есть «мать-земля», «земля-матушка». Земля как
источник жизни, прародительница всего живого присутствует в фундаменте
представлений, наверное, почти всех народов (вспомним греческую Гею). Однако
Мать-Сыра-Земля – образ достаточно специфический. Такой образ плодородия мог
возникнуть под воздействием вполне определённого ландшафта. Где-нибудь в
северных болотах вода не только не помогает, а мешает жизни. В пустыне вода
настолько драгоценна, что ассоциируется с жизнью прямо, без всяких дополнений.
Ландшафт, породивший образ «Матери – Сырой Земли», должен быть сравнительно
сухим, но не засушливым. Плодородие его, в широком смысле процветания жизни,
должно было порождаться суммой условий, в которые входило наличие воды, а также
тепла, обеспечиваемого небом. Поднепровье представляется как раз подходящим
ландшафтом: земля там щедро родит жизнь, но при обилии тепла и влаги.
Итак, Мать-Сыра-Земля даёт нам представление о двух членах славянской Троицы.
Обратимся к третьему её члену – небу. Вспомним детскую песенку, которая, по всей
вероятности, когда-то была языческим заклинанием:
Солнышко-вёдрышко,
Выгляни в окошко,
Твои детки плачут...
Значит, славяне считали себя детьми солнца (или Дажбожьими внуками, как они
названы в «Слове о полку Игореве»). Солнце – Дажбог, выглядывающий в «око неба»
или, быть может, сам являющийся этим оком, Солнце, дающее необходимое для жизни
тепло, и является третьим членом славянской Троицы, животворной и изначальной.
«Все сколоты, – писал Геродот, –
названы по имени царя-Солнца». А Б. А. Рыбаков замечает [3, с. 234]: «Русские
люди в XII веке считали себя (или свой княжеский род) потомками Дажбога,
царя-Солнца». В русских сказках он же носит имя Световика, Светозара.
Заметим: тот факт, что само солнце не изображено на «небе» закомар Владимирского
храма, не снимает нашей трактовки, ибо славяне считали солнце сыном неба.
«Солнце-царь, сын Сварогов, еже есть Дажбог, бе муж силен», – сказано в «Повести
временных лет». Быть может, прямое изображение языческого Дажбога на фасаде
христианского храма было бы слишком вызывающим. С другой стороны, в соответствии
с двуязычным обликом храма допустимо толковать в качестве Дажбога (Светозара)
шлемовидный купол храма, сияющий золочёным покрытием. Во всяком случае, можно
проследить аналогию с декором «чела» северных русских изб, где даже в наше время
можно увидеть «солнце», резной образ которого помещают на фоне «неба» – карниза
крыши, который зачастую красили голубой краской, а иногда даже украшали
золочёными звёздами. Вынос кровли крыши в избе и закомары в храме выполняют
одинаковые функции, и название «небо» (сохранившееся в народе до нашего
времени!) тут не случайно.
Итак, Мать-Сыра-Земля и Небо (Сварог) с тучами и солнцем (Дажбогом) – это, по
представлениям славян, основные силы, поддерживающие жизнь. Жизнь и Троица, её
поддерживающая, животворная и изначальная, представляются нам фундаментом
славянского миропредставления. Они составляют верхние уровни иерархии в пирамиде
славянской культуры.
Остановим своё внимание ещё на одной детали фасада Дмитриевского собора –
аркатурных поясах, которые поддерживают верхние части прясел, заполненных
«жизнью» (илл. 4). В арках, образованных колонками этих поясов, размещены
святые. Нам хочется видеть в них русских святых-заступников – бывших славянских
богов, вошедших в христианский пантеон, хотя возможно трактовать их и как только
святых, например, отцов церкви. Двуязычие облика храма позволяет как ту, так и
другую трактовку.
Известно, что в славянский пантеон входили обожествлённые силы Природы: Дажбог,
Велес, Стрибог, Перун и др. По нашей трактовке, эти святые, размещённые в
аркатурном поясе – Силы Природы – поддерживают и обслуживают главную триаду,
Троицу, отвечающую за поддержание жизни.
Наша реконструкция согласуется с современными научными представлениями о
славянском язычестве. Мы уже приводили мнение Б. А. Рыбакова о значении солнца в
славянском миропредставлении. Обратимся к двум другим составляющим Троицы –
земле и воде. Эти элементы языческого славянского культа оказались очень
стойкими и вошли в русское христианство.
Г. А. Носова пишет [5, с. 7]:
«В многочисленных христианских легендах рассказывалось о том, что иконы святых
«приплывали» по воде, были «найдены» «избранными» людьми у камня, в пещере, у
источника и т. п. ... Большинство святынь возникло на местах «обретения»
иконописных или скульптурных изображений Богородицы или Параскевы Пятницы,
образы которых в бытовом истолковании нередко отождествлялись. Они считались
целительницами и подательницами земной влаги, олицетворяли собой
«Мать-Сыру-Землю».
Существовала глубокая связь образов «женских» святых с природным комплексом,
главным образом – с землёй и водой.
...святые места, посвящённые Богородице и Параскеве, обычно были расположены у
водоёмов, колодцев, ручьёв, рядом с пещерами, горами, в которых брали начало
родники. … Исследователи выделяют в восточнославянских религиях несколько слоёв,
в которых оставили ряд рельефных отпечатков различные исторические эпохи. В
комплексе религиозных представлений и обрядов имеется древний, чрезвычайно
архаичный пласт. ... Это одухотворение всей природы земли, воды, огня, почитание
растений и животных. ... В русских народных верованиях до последнего времени
обнаруживаются культы «матери-земли», которая олицетворялась в образе женского
божества плодородия. ... Более поздний, но очень крупный пласт
восточнославянской религии восходит к периоду земледельческо-скотоводческого
хозяйства. Главные его компоненты составляли общие аграрные культы и семейное
родовое почитание предков».
Мы видим, что на стенах Владимирских храмов зашифрованы наиболее древние,
сокровенные элементы скотоводчески-земледельческого культа и более позднего
языческого пантеона складывающегося классового общества, во главе которого стоял
Перун. При этом, как мы можем судить, это миропредставление являлось очень
стройной системой.
Теперь нам уже не трудно достроить славянский миропорядок. Как отмечалось ранее,
следующий уровень славянской демонологии представляли духи местных объектов
природы: лешие, водяные, русалки и т. п., а также духи хозяйственных угодий, из
которых более других нам известны домовые. Из фольклора и летописей известно
наличие у славян магических обрядов, с помощью которых они – по их
представлениям – могли влиять на силы этих двух уровней: богов и демонов-духов.
И, наконец, на самом низшем уровне находились все реальные и вымышленные твари,
наполняющие поле жизни, составляющие конкретные проявления этой самой Великой
Жизни, в которой, не выделяясь как-либо, переплетались и объединялись все сущие
на Земле твари: растения, животные, птицы, люди.
Тут мы подходим к очень важной и интересной черте славянского миропредставления.
Начинаясь с абстрактного понятия жизни – жизни как таковой – через ряд
промежуточных уровней, каждый из которых выполняет свои функции в поддержании
жизни, оно приходит в конце концов к жизни конкретной во всем её многообразии,
то есть к реальному воплощению исходного абстрактного положения. И таким образом
возвращается опять к нему, образуя замкнутую цепь без начала и конца, то есть
круг – Круг Жизни.
Точным аналогом славянского понятия Круга Жизни является современное научное
понятие биосфера (слово «биосфера» буквально означает «сфера жизни»), так как
оно включает в себя не только животный и растительный мир, но и литосферу, а
также поток получаемой от солнца энергии. Отличие нынешнего понятия от
славянского состоит, пожалуй, в том, что славяне видели в природе силы,
целенаправленные на поддержание жизни, а мы считаем жизнь естественным
следствием сложившихся на Земле условий, вовсе не имеющих своей целью создание и
поддержание жизни. Славяне верили в разумность миропорядка, целью которого
являлось процветание жизни на Земле. Мы же видим в жизни закономерный «продукт»
эволюции материи, которая происходит вследствие действия объективных законов
Природы, а не является результатом воплощения чьей-то цели.
Понятие Круг Жизни подразумевает достаточную близость древних славян к природе.
Но разве не были близки к природе и другие народы в эпохи дикости и варварства?
Ведь это только теперь развитие цивилизации отгородило человечество от природы,
так что мы возвращаемся к ней, так сказать, по спирали – через созданные наукой
биосферные представления. Это правильно. Древние народы жили в тесном контакте с
природой и полностью от неё зависели. Однако влияние природы определяется
ландшафтом и климатом. Резкое разнообразие ландшафтов на Земле должно было
породить резко различные миропредставления. В самом деле, океан и пустыня,
тундра и тропические леса, горы и степи – каждый из этих ландшафтов порождал в
душах людей совершенно разные представления об устройстве мира. Это всё так,
однако миропредставление славян – каким оно нам рисуется – выделяется среди
других своей стройностью, последовательностью и законченностью. И, что самое
главное для нашей темы, оно носило последовательно биосферный характер, что было
достаточно редким явлением как среди философских систем древности, так и
аналогичных систем более позднего времени, вплоть до тех, которые легли в основу
современной науки. Пожалуй, в рассматриваемом плане из дошедших до нас культур
со славянской может сравниться лишь древнекитайская – с её фундаментальным
принципом всеобщей гармонии, объединяющим природу, общество и личность в
музыкально сгармонированное единство, и с её мифологией, повествующей о
рациональном переустройстве Поднебесной древними героями [13].
Нас могут обвинить в том, будто мы приписываем славянам современные научные
знания. Мы далеки от подобных намерений: мы обсуждаем их
философско-мировоззренческие идеи, а не знания, что далеко не одно и то же.
Перед славянами лежал тот же мир, что лежит и перед нами. Перефразируя протопопа
Аввакума, можно сказать, что Земля распростёрлась перед нами не больше, а перед
ними не меньше. Также и Солнце, и звёзды светили им не меньше, и нам не больше.
Почему же мы должны сомневаться в силе их разума? Известно, например, что
представления о бесконечности Вселенной и шарообразности Земли имелись уже у
древних греков, а представление о пульсирующей Вселенной – в индусской
философской мифологии, причём это не вызывает сомнений. Почему же в таком случае
представление о биосфере, о Круге Жизни не могло быть создано нашими
предками-славянами?
Образ круга, символизировавшего Круг Жизни – представление, лежавшее в основе
славянской культуры – должен был играть очень большую роль в славянской
языческой символике: буквально пронизывать славянскую культуру, сказываться и в
других мировоззренческих идеях и представлениях, уже не относящихся к жизни
непосредственно. Так ли это?
Отметим, что символ круга вместе с другими элементами славянского язычества
вошел в русское христианство и широко использовался, например, в декоре церквей.
Напомним круги на «занавесях», рисовавшихся понизу церковных росписей (в
Рождественском соборе в Суздале, в Ферапонтове монастыре и т. д.), круги на
барабане Дмитриевского собора во Владимире, в росписи Золотых ворот,
Рождественского собора в Суздале и др. Образ круга широко использовался и в
иконописи. Так, Рублёв в своей знаменитой Троице рассадил ангелов по кругу.
Большая часть фресок Ферапонтова монастыря имеет круговую композицию. Нам
представляется, что Дионисий понимал значение этого символа. Его архангелы-воины
из иконостаса Ферапонтовского собора Рождества Богородицы держат в руках круги –
а не оружие и не кресты (на других иконах они вооружены копьями или мечами,
иногда огненными)! Такое широкое употребление символа круга в русском
христианстве можно объяснить его важностью для славянского языческого
мировоззрения, вместе с которым он был адаптирован христианством при его
внедрении на Руси.
Посмотрим, можно ли найти подтверждение сказанному в других дошедших до нас
славянских древностях. Обратимся к уже упоминавшемуся декору русских изб, в
котором крыша, её внутренняя часть, символизировала небо – и так и называлась, а
перед «челом» на фоне «неба» подвешивалось резное изображение солнца.
Изображение солнца помещалось на наличниках, на воротах. Круг солнца или
полукруг восходящего солнца – постоянное их украшение, как о том пишут
исследователи [15]. Такое сопоставление жилища с миром в высшей степени
знаменательно. Оно говорит о том, что бытовая сторона жизни славян осмыслялась с
позиций философско-мировоззренческих представлений, что свидетельствует о
развитости и древности их культуры.
Всё это, как и совершенство Владимирских храмов, очень трудно понять, если
вместе с Нестором и Шлёцером полагать, что славяне только в середине IX века
начали выходить из первобытного состояния. И всё становится понятно, если вместе
с Б. А. Рыбаковым считать, что ко времени прихода варягов история славян, а
вместе с тем и их культура, насчитывали больше двух тысячелетий. И это – не
говоря о том, что ко времени распада индоевропейской общности её культура в свою
очередь имела двухтысячелетнюю историю от древнего Элама и Шумера. Об уровне
этой индоевропейской культуры мы можем судить (правда, достаточно косвенно) по
тем памятникам, которые она породила, а именно по Ведам – индийскому
религиозно-философскому памятнику, и по Авесте – аналогичному (хотя и
составленному довольно поздно) памятнику иранских племён. Эти памятники, конечно
же, не являются «прямыми родственниками» древнеславянской культуры. Однако по
ним можно составить представление, пусть весьма отдалённое, об уровне
религиозно-философских идей тех индоевропейских племён, от которых во втором
тысячелетии до новой эры отделились наши далекие предки – праславяне.
Таким образом: и исторический экскурс, и анализ убранства Владимирских храмов
показывают, что ко времени прихода варягов славянская культура была древней
высокой культурой с развитым философским подходом к миру и жизни,
характеризующимся образным восприятием мира и обобщённо-философским, а не
конкретно-бытовым типом мышления.
В соответствии с этим искусство славян не могло быть натуралистическим, не могло
строиться на непосредственном восприятии жизни и природы. Наоборот, славяне, как
и любые народы с развитой культурой (индусы, китайцы, египтяне), должны были
видеть в природе не сумму случайных конкретных явлений, а систему общих
закономерностей, стоящих за этими конкретными явлениями и их объясняющих. Именно
эти закономерности должны были составлять предмет их внимания и находить
отражение в искусстве.
Рассмотрим с этой позиции русское народное искусство, в
Серия сообщений "славянское язычество":
Часть 1 - СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Часть 2 - Храним память былых времён?
...
Часть 5 - Славянский обрядовый танец
Часть 6 - Уряд свадебный от Велеслава
Часть 7 - дети солнца
Часть 8 - ЯЗЫЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА СЛАВЯНСКИХ АРХАИЧЕСКИХ РИТУАЛОВ
Часть 9 - про рубахи
...
Часть 30 - >Сорванные цветы...
Часть 31 - О писанках..
Часть 32 - Как наши предки почитали деревья
|
Метки: язычество славяне |
Уряд свадебный от Велеслава |
/ИЖЕ РЕЧЕНО ВЕЛЕСЛАВОМ - ВОЛХВОМ
РУССКО-СЛАВЯНСКОЙ РОДНОВЕРЧЕСКОЙ
ОБЩИНЫ "РОДОЛЮБИЕ" НА РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ В ЛЕТО 4592 ОТ ОСН. С.В. - ОБЩЕЙ
ПОЛЬЗЫ ДЛЯ/
Чарочка моя серебряная,
На золотом блюдечке поставленная!
Кому чару пить, кому здраву быть?
Молодым пить - на здоровье, на здоровье!
Гой! СВА! Слава!
АЗ) Поистине, свадьба - есть наиславнейшая треба Роду, творимая во черед
свой каждым из Роду Русского, из Племени Славянского, иже душою да телом во
Здраве пребывает. Поистине, славянину жену не взять - равно, что жене славянской
детей не рожать - равно, что дело Предков своих не продолжать - равно, что ко
Богам Родным хулу обращать! Обратное же творить - равно, что зерна в пашню
ронить - по Прави по Божской жить - Долг Родовой исполнять - вервь Отцов
продлевать!
БУКИ) Свадьба, наряду с рождением, введением в Род (возрастным посвящением)
и погребением, испокон веков почиталась Предками нашими важнейшим событием
Жизненного Коло человека и принадлежала к числу не внутрисемейных, но
обще-Родовых празднеств. Ибо, поистине, действо сие есть не токмо личное дело
молодых да ближайших сородичей их, но всего Рода Земного (сородичей), Рода
Небесного (Предков) да Самого Рода Все-Вышнего величайшее деяние - с-Правное
Родово единение, Воли Родовой претворение да Исто Родово прославление суть.
ВЕДИ) Свадьбы обычно играются осенью (после Святодня Рода и Рожаниц, когда
весь Урожай уже собран, но еще не настали холода), либо зимой (на Велесовых
Святках), и реже - весной (до начала сева). Одни полагают, что предпочтительнее
играть свадьбы именно осенью: до прихода Осеннего Сварожья - времени, когда
замыкается Сварга, а Светлые Боги, включая самого Сварога-Батюшку - Сковывателя
Свадеб и Ладу-Матушку - Покровительницу Семьи и Брака, уходят в Светлый Ирий до
будущей весны. Другие считают, что негоже играть свадьбы во время, когда
Солнечная Сила идет на убыль в Мире Яви Земной, и потому отдают предпочтение
поре Зимних (Велесовых) Святок, следующих сразу за Колядой - временем Рождения
Солнца Нового Кологода, когда Солнечная Сила вновь начинает возрастать. Что же
касается весны, то о сию пору (во время, когда все прошлогодние запасы уже
подходят к концу, а впереди - ждет жаркая посевная) свадьбы играются довольно
редко, хотя в деревнях до сих пор сохранился обычай чествовать молодых,
сыгравших свадьбу прошлой осенью либо зимой, на Масленицу.
ГЛАГОЛЬ) Свадьбе обычно предшествуют: сватовство, смотрины, сговор (во время
коего окончательно договариваются о размере приданного) и обручение, а также,
бывает, еще и иные какие действа, например, умыкание невесты (как правило, по
взаимному согласию). В последнем случае жених платит отцу невесты вено (выкуп).
ДОБРО) За день-другой до свадьбы печется особый обрядовый Коровай со знаками
плодородия и пирог с курятиной - курник, олицетворяющие счастливую жизнь,
достаток в Доме и прибыток в семье.
ЕСТЬ) Накануне самого свадебного действа во Дому невесты непременно
устраивается девишник, во время коего девушки-поневестицы оплакивают молодую как
"умирающую", ибо ей предстоит "умереть" девой-невестой во своем Роду - дабы
возродиться-воскреснуть (от древнеславянск. "Крес" - "Огнь") мужней женой в
мужнином Роду. При сем - расплетают молодой косу и вынимают из ее волос ленту,
именуемую "волей", коя затем отдается младшей сестре либо незамужней подруге
невесты. Затем - ведут молодую в заранее истопленную баню "смывать волю", поют:
"Ты пойдем, милая подруженька,
Ты посмой красу-то девичью,
Что свою-то волю-волюшку!.."
В качестве оберега перед молодой несут веник, убранный лентами. Перед тем, как
войти в баню, его бросают перед собой, а затем, смотря по тому, как он лег,
гадают о грядущем замужестве. После бани молодой расчесывают волосы, но в косу
уже не заплетают. Под венец молодая идет с распущенными волосами, кои лишь затем
заплетаются в две косы и убираются под головной убор, како деется всеми
замужними женщинами.
ЖИВЕТЕ) О сию же пору во Дому жениха устраивается молодешник, во время коего
молодой, в окружении своих друзей и родственников, прощается со своей холостой
жизнью.
ЗЕЛО) По окончании девишника и молодешника молодые начинают пост, который
длится до самого свадебного пира. Постясь, они обращаются к Родным Богам и
Предкам, принося им требы и испрашивая покровительства в их грядущей совместной
жизни.
ЗЕМЛЯ) Перед свадьбой молодые - подобны новорожденным младенцам, еще не
прошедшим обряда имянаречения, ибо во оные времена и те, и другие - как никогда
уязвимы и открыты всем посторонним воздействиям, как благим, так и дурным.
Многие обереги, творимые как самими молодыми, так и сородичами их, деются о сию
пору им в помощь, но, поистине, лучшими оберегами от всякой злой порчи и всякого
иного лиха-злосчастия являются чистота их Сердец и та Любовь, что соединяет их
незримыми узами…
ИЖЕ) Само свадебное действо начинается, как правило, после полудня, не
раньше. Жених с дружками отправляется к Дому невесты - кликать молодую. При сем
сам жених хранит молчание, не ест, не пьет и не сам ведет остальных за собой, но
лишь следует за ними, ведомый главным дружкой - "воеводой". Невесту к ним
выводят не сразу, но лишь по получении обрядового выкупа за нее. Все деется с
песнями, прибаутками, весельем. Над женихом непременно стараются подшутить,
например, вывести ему подменную невесту (зачастую - бородатого мужика,
укутанного в женский платок) и прочее.
И) После вывода невесты все выстраиваются в свадебный поезд и, с
соответствующими сему действу песнями, идут (едут) на капище. Перед молодыми,
охраняемыми дружками жениха (как правило - вооруженными мечами) и
девицами-поневестицами, несут на богато вышитом рушнике свадебный Коровай, а за
ними несут чаши с хмелем, зерном да златом-серебром (мелкими монетами) - для
обсыпания молодых.
КАКО) Сам обряд венчания начинается в соответствии с общим Урядом Обрядным
(см. "УРЯДНИК МАЛЫЙ" влх. Велеслава). Посему ниже приводится описание лишь
характерных особенностей свадебного обряда, и опускается пересказ общих
обрядовых положений, подробно освещаемых в "УРЯДНИКЕ…".
ЛЮДИ) После освящения места и положения зачина приносится треба, коей
испрашивается благословение Родных Богов на заключаемый союз. Треба сия
приносится не от всего Мира (Родноверческой Общины), но лишь от лица молодых,
кои накладывают на нее длани установленным образом (см. "УРЯДНИК…"). Лишь в
случае, когда треба принята, можно приступать к обряду венчания. В случае же,
если треба "прахом пошла", следует принести искупительные жертвы и кинуть
жребий, вопрошая Родных Богов о том, что деять далее. Если однозначный ответ
получить не удается, следует провести молодых через испытания. Например, молодым
предлагают пройти, не расцепив рук, босиком по горячим углям, вытащить из Огня
уголек и прочее. Проведение молодых через подобные испытания также необходимо,
когда славянин берет жену из среды инородцев либо иноверцев. В сих случаях
венчание без испрашивания благословения Свыше и предварительного испытания -
может обернуться тягчайшим оскорблением, брошенным Роду, и злейшей хулой на
Родных Богов и Предков!..
МЫСЛЕТЕ) Обряд венчания называется так потому, что молодых венчают венцами
"Князя" и "Княгини" ("Боярина" и "Боярыни"), величая тако на протяжении всего
обряда и следующего за ним свадебного пира. Во время оного обряда приносятся
требы и рекутся славления: Роду (ибо во Славу Его, Приплод Дающего, деется все
сие), Сварогу (Ковалю Небесному, Сковывателю Свадеб), Ладе (дабы
хранила-оберегала молодых в их будущей семейной жизни, даруя им Лад да Любовь),
Велесу (дабы жизнь молодых была богатой и изобильной) да Макоше (сплетающей Нити
Судеб, водящей Долю и Недолю). (Слова обращений - см., например, в "ВЕЩЕМ
СЛОВНИКЕ" влх. Велеслава.)
НАШ) Венчальная рубаха молодой именуется: "калинка", "целошница",
"долгостанец" и т.п., являясь символом чистоты невесты. (Белый цвет одежды
приличествует невесте только в первый день свадьбы.) Рубаха сия делается
цельнокройной, туникообразной и с длинными рукавами, собранными у запястий
обшлагами-воланами. Ее непременно должны украшать знаки Солнца (всевозможные
Коловраты - по вороту либо плечам) и знаки Земного Плодородия (всевозможные
ромбики - по подолу). Длинные рукава рубахи называются "плакальными" и в
распущенном виде могут достигать Земли. На голову молодой одевается венец в виде
широкого обруча, непременно с открытым верхом. По окончании обряда девичья
прическа (распущенные космы) меняется на женскую: две косы укладываются вокруг
головы и убираются под кокошник, повойник, моршень или иной головной убор,
обязательно являющийся закрытым.
ОН) Сам обряд венчания начинается с того, что молодые предстают перед
священником, проводящим обряд (волхвом либо жрецом), который поочередно
вопрошает каждого из них: по доброй ли воле тот (та) берет за себя "Княгиню"
имярек (выходит замуж за "Князя" имярек)? Любят ли молодые друг друга? Клянутся
ли хранить верность и заботиться друг о друге?.. Если вдруг оказывается, что
кто-то из молодых не имеет славянского имени, то свадьба откладывается до
прохождения оным обряда имянаречения. На протяжении всего венчального действа
поневестица и дружка держат над головами молодых "Княжьи" венцы: золотой - над
женихом ("Князем-Солнцем") и серебряный - над невестой ("Белой Княгиней").
Воздеваются сии венцы перед самым началом обряда со словами:
ДА ХРАНЯТ ТЯ БЕРЕГИНИ!
ГОЙ!
ПОКОЙ) Получив от молодых утвердительные ответы на вышеозначенные вопросы,
священник обращается ко Сварогу, прося его "сковать свадебку":
СВАРОЖЕ ВЕЛИКЕ БОЖЕ
СКУЙ НАМ СВАДЕБКУ КРЕПКО-НАКРЕПКО
ДО СЕДОЙ ГОЛОВУШКИ ДО БЕЛОЙ БОРОДУШКИ
КРЕПКО-НАКРЕПКО! КРЕПКО-НАКРЕПКО!
ГОЙ! СВА! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
СВАРОЖЕ ВЕЛИКЕ БОЖЕ ПО НЕБЕСЕ ХОДИЛ
ГВОЗДОЧКИ СОБИРАЛ СВАДЕБКУ КОВАЛ
КРЕПКО-НАКРЕПКО! КРЕПКО-НАКРЕПКО!
ГОЙ! СВА! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
Затем - просит о заступничестве и покровительстве Ладу-Матушку:
ЛАДО ВЛАДЕ ЛАДО ПРАВИ
ЛАДО ТЛЕСЕ СОПРЕДЕЛЕ
ПРОТЯНИ ВЛАДЫЧЕ ДЛАНИ
РАСТЕЩАЯ СЛАДУ ЖИВУ!
ГОЙ! СЛАВА!
Либо:
МАТИ ЛАДО МАТИ ВЛИКА
ЛАДО ВЛАДЕ МНОГОСЛАВЕ
СНИДИ ЧИСТА СВЕТОЛИКА
ЧЕСТНЫ ЛЮБЫ СОЕДИНИ!
ГОЙ! СЛАВА!
И далее:
В ЛАДЕ ВОЗРАДЕ БОЖЕСКА РАДЕ
ВО СЕРДЦЕ-КРАДЕ ТРЕБУ ВОЗДАТЕ
ОТ СЕРДЦА РЕЧЕ БОЖЕ О СРЕЧЕ
В ЛАДЕ ЕДИНЕ ВО ПРАВИ СВЯТИМЕ!
ГОЙ! СЛАВА!
И далее:
ЛАДО-МАТИ ЛАДИ НЫНЕ
СВА ВОЗЛАДИ НЕ ОСТЫНИ
СОТВОРИ ПОТВОРЫ МНОГИ
СОВЕДИ ПУТИ-ДОРОГИ
КНЯЗЯ А КНЯГИНИ ДЛАНИ СОЕДИНИ
ВЕНЦАМИ ВЕНЧАЙ ГЛАВЫ
ДА ОБЛЕКИ СЛАВОЙ!
ГОЙ! СЛАВА!
И далее:
ЛАДО-МАТИ ЛАДО ПРАВИ
СВА ВОЗЛАДИ СВА ВОСПРАВИ
СОМКНИ КОЛО ДАЖДИ ДОЛИ
ЛАДИ В ДОМЕ ЛАДИ В ПОЛЕ
ЛАДО-МАТИ ЛАДО ВЛАДЕ
ЧАДЫ РАДИ ЛЮБЫ СВЯТИ
ЛАДА ЖИВИ ЛАДИ ЛЮДИ
В ЛАДУ ЖИТИ ТАКО БУДИ!
ГОЙ! СЛАВА!
После чего - соединяет руки молодых (шуйцу жениха и десницу невесты,
ибо молодая стоит слева от своего суженого) и связывает
их рушником. При сем - речет, прося Макошь-Матушку снизойти
в Силе своей и связать воедино Нити Судеб (Покуты) молодых:
МАКОШЬ ПРЕМУДРА МАТИ ПОКУТНА
СУДЬБЫ ВЕДНИЦА ВЕРЕТЕННИЦА
НИТИ КРУЧЕНЫ СУДЬБЫ ВРУЧЕНЫ
КОЛО ВЕРЧЕНЫ С-ПРАВНО ВЕНЧАНЫ
ДОЛЕЙ ДОБРОЮ ДАРИ ВДОСТАЛИ
НЕДОЛЬ ОТВЕДИ РАССЕЙ РОССЫПЬЮ
МАТЬ ВЕЛИКАЯ МНОГОЛИКАЯ
ЗЕМЛЯ ПЛОДНАЯ РОДОМ РОДНАЯ
СВЯТИ ПОЛЮШКО ЧЕСТНЫМ ХЛЕБУШКОМ
ДАЖДИ МУДРОСТИ СВОИМ ДЕТУШКАМ
ДА СИЛ В МОГОТУ ВСЯКУ ЖИВОТУ!
ГОЙ! СЛАВА!
И далее:
МАКОШЬ-МАТИ ПРЯЖУ ПРЯДИ
ДОЛЮ ВОДИ ЖИТО РОДИ
НИТИ ВЕДИ ЖИВИ ЛЮДИ
ПРАВО СУДИ ТАКО БУДИ!
ГОЙ! СЛАВА!
Затем - обводит молодых, чьи руки остаются связанными рушником на протяжении
всего последующего действа, трижды вокруг Огня, благословляя-обсыпая их хмелем
(первое коло), зерном (второе коло) и златом-серебром - мелкими монетами (третье
коло). Содеев тако, священник принимает из рук потворников братину с питным
медом, подносит ее молодым, дабы те, взяв ее свободными руками, принесли свою
первую совместную требу Родным Богам, а затем сами испили из нее по глотку
священного напитка - Роду, Родной Земле и Предкам во славу!
РЦЫ) Сие же может деяться и по-другому. Молодые обмениваются поясами,
перепоясывая друг друга, либо - обручальными кольцами (обручение), а затем жених
покрывает невесту полой своего плаща - в знак защиты и покровительства. После
чего жрецы обводят молодых, держащихся за руки, вокруг Родового Столба - зримого
Знака Все-Сущего Все-Держителя Рода, либо вокруг Священного Дуба…
СЛОВО) По окончании обряда жрецы объявляют громогласно народу о том, что,
де, отныне "Князь" имярек и "Княгиня" имярек есть честные муж да жена - пред
Родом и сородичами своими. После чего все собравшиеся троекратно - единым
громким гласом - рекут, обращаясь ко Богам Родным да самим молодым:
СВА! СЛАВА!
ГОЙ!
(Возглас: "ГОЙ!" - являющийся, по сути, обращением к Творческой Силе Рода, к
Силе Мужской-Солнечной, Благой-Обережной, от Которой бежит вся нечисть - уместен
во время свадебных торжеств, как никогда!..)
ТВЕРДО) Затем все приглашаются проследовать к свадебному столу - на почестен
пир. Впереди всех несут свадебный Коровай, за ним идут молодые, руки коих
по-прежнему остаются связанными рушником. На протяжении всего пути их щедро
обсыпают хмелем, зерном и монетами, малой частью коих обсыпаются также и все
собравшиеся. Молодые должны дойти до стола, не размыкая рук, как бы ни старались
иные разлучить их, дергая за рукава и всячески стараясь отвлечь друг от друга.
УК) Свадебный пир, равно как и всякий честной пир вообще, начинается с
пищесвятия, творимого жрецами (см. "УРЯДНИК…"), и прославления Предков, коим на
сем пире творится честь особая: жрецы (а точнее - Вещие Девы) выносят специально
сшитые к сему случаю небольшие матерчатые куколки Дида и Бабы, олицетворяющие
Предков, и ставят (сажают) их перед молодыми на стол, творя им малую Божницу,
при сем рекут:
СТАНИ-СТАНЬ СЕЙ СТОЛ
БОГОВ СВЯТ ПРЕСТОЛ!
ГОЙ! СЛАВА!
Перед куколками располагается требная миса, в кою добрые люди кладут первый кус
от всякого яства - Богам Родным и Предкам во славу! Также молодым дарится особая
сдвоенная куколка - "неразлучники", изображающая самих молодых, крепко
держащихся за руки. (Сих куколок молодые затем хранят всю свою жизнь, почитая
оных залогом-оберегом своего семейного счастья.) Также на свадьбу принято дарить
молодым деревянный Гой в Ступке - знаки Мужской Силы и Женского Плодородия…
ФЕРТ) После пищесвятия и обращения к Предкам пускается круговая братина с
хмельным медом, принимая кою, всяк человек, за столом сидящий, речет славу и
поздравления молодым, до коих братина доходит в самую последнюю очередь. Лишь
когда братина замкнет коло, все, кроме молодых, приступают к трапезе, обилие
яств на коей предвещает новорожденной семье богатство и достаток в будущем:
ЧТО ЕСТЬ ВО ПЕЧИ ВСЕ НА СТОЛ МЕЧИ!
ГОЙ!
МЕДВЯНО ВИНО СТАНИ ВО ДОБРО!
ГОЙ!
ДАЖДИ ВЕЛЕСЕ БЛАГА А ДОЛИ
А МУДРОСТИ ДАЖДИ ВСЕГО ПРЕБОЛЕ!
ГОЙ! СЛАВА!
При сем перед молодыми ставится один прибор на двоих, дабы узы, их соединяющие,
были крепче.
ХЕР) Через некоторое время, в самый разгар праздничного веселья, молодые
поднимаются из-за стола и отправляются во чертог свой, где заранее подготовлено
их брачное ложе (оное складывается из снопов, покрытых полотном добрым, а поверх
- непременно волохатой шкурой), вокруг коего расставлены кадушки с медом,
пшеницей, рожью и прочими добрыми плодами - смотря по достатку молодых. С собой
они берут свадебный Коровай и пирог-курник (курников может быть приготовлено два
- от Дома жениха и Дома невесты). Пирог сей может быть заменен жарким из
курятины, ибо кур-петух (наряду с зайцем и козлом, чье мясо непременно входит в
состав общей свадебной стравы) издревле почитался нашими Предками за свою
великую плодовитость. Покой молодых обязуется охранять дружка жениха,
вооруженный мечем. Лишь взойдя в брачный чертог и оставшись друг с другом
наедине, молодые снимают со своих рук повязанный жрецом рушник и освобождаются
от соблюдаемого ими до сего времени поста.
ОТ) Перед тем, как проводить молодых восвояси, жрец
напутствует-благословляет их, обращаясь ко Сварогу и Ладе со словами:
ГОЙ ТЫ ДИД-СВАРОГ ПРОВЕДИ ЧЕРЕЗ ПОРОГ!
ГОЙ ТЫ ДИД-СВАРОГ ЛАДО-МАТИ ЕСТЬ ПИРОГ!
ГОЙ! СЛАВА!
Тако ж и сами молодые, прежде чем вступить во чертог свой, рекут:
УЖ ТЫ ГОЙ ЕСИ БАТЮШКА СВАРОГ
ПЕРЕВЕДИ НЫ ЧЕРЕЗ СВОЙ ПОРОГ
ЛАДА-МАТУШКА ДАЖДИ ЕСТЬ ПИРОГ
ВОВЕК СЛАВЕН БУДЬ СВАРГИ ЗЛАТ ЧЕРТОГ!
ГОЙ! СЛАВА!
Представ пред брачным ложем, молодая, в знак покорности мужу, разувает его. (В
один из сапогов жениха заранее кладется монетка, и если молодая первым снимет
именно его, то сие понимается как доброе предзнаменование, обещающее молодым
богатую и счастливую совместную жизнь…)
ЦЫ) Поутру дружка отправляется спрашивать молодого о его "здоровье". Если
оный отвечает, что он "в добром здравии", значит доброе дело, угодное Богам
Родным, свершилось - во славу их и Самого Рода - Земного, Небесного и
Все-Вышнего!..
ЧЕРВЬ) В наше время, когда люди стали торопливы в делах своих и поспешны в
суждениях, стало обычным не дожидаться следующего дня, как в Старину, когда
всякая свадьба игралась не менее трех дней, а завершать все действо в один день.
Посему молодым, удалившимся в чертог свой, приходится не мешкать до утра, но
через какое-то время возвращаться к столу, дабы вместе с гостями продолжить
свадебный пир, который завершается далеко заполнощь… (Подробнее о сем - см.,
например, "МИР СЛАВЯНСКИХ БОГОВ" Богумила Обнинского и Вадима Калужского.)
ША) Поистине, много чего еще можно рассказать о свадьбе с-Правной: какие на
ней песни поются, какие обычаи блюдутся, какие слова рекутся, какие яства
подаются. А также: как горшок у ног молодых разбивается, какое благословение при
сем читается, какая одежда молодым, а какая - гостям при сем подобает, како
действо творится, ежели жених молодую пред свадьбою умыкает. А также: сколько
жен славянину иметь возможно, с каких лет узами сими опрядаться можно, како быть
во болезни сущим, деять что вдове после смерти мужа… И много чего еще здесь не
сказано, ибо взыскующий знаний сих - все сам в Исконном Родовом Укладе жизни
Предков наших найдет, дураку же - никакая наука впрок не пойдет. Да станет
реченное нами выше - во добро всем тем, кто сие услышал! Во славу Родных Богов!
Гой!
Слава Роду!
Писано сие влх. Велеславом на Родной Земле 16 серпеня (августа) лета 4592 от
Основания Славенска Великого (лета 2001 от н.х.л.) - во славу Родных Богов!
/Просмотрено заново и исправлено собственноручно влх. Велеславом 20
березозола-месяца лета 4593 от О.С.В./
РУССКО-СЛАВЯНСКОЙ РОДНОВЕРЧЕСКОЙ
ОБЩИНЫ "РОДОЛЮБИЕ" НА РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ В ЛЕТО 4592 ОТ ОСН. С.В. - ОБЩЕЙ
ПОЛЬЗЫ ДЛЯ/
Чарочка моя серебряная,
На золотом блюдечке поставленная!
Кому чару пить, кому здраву быть?
Молодым пить - на здоровье, на здоровье!
Гой! СВА! Слава!
АЗ) Поистине, свадьба - есть наиславнейшая треба Роду, творимая во черед
свой каждым из Роду Русского, из Племени Славянского, иже душою да телом во
Здраве пребывает. Поистине, славянину жену не взять - равно, что жене славянской
детей не рожать - равно, что дело Предков своих не продолжать - равно, что ко
Богам Родным хулу обращать! Обратное же творить - равно, что зерна в пашню
ронить - по Прави по Божской жить - Долг Родовой исполнять - вервь Отцов
продлевать!
БУКИ) Свадьба, наряду с рождением, введением в Род (возрастным посвящением)
и погребением, испокон веков почиталась Предками нашими важнейшим событием
Жизненного Коло человека и принадлежала к числу не внутрисемейных, но
обще-Родовых празднеств. Ибо, поистине, действо сие есть не токмо личное дело
молодых да ближайших сородичей их, но всего Рода Земного (сородичей), Рода
Небесного (Предков) да Самого Рода Все-Вышнего величайшее деяние - с-Правное
Родово единение, Воли Родовой претворение да Исто Родово прославление суть.
ВЕДИ) Свадьбы обычно играются осенью (после Святодня Рода и Рожаниц, когда
весь Урожай уже собран, но еще не настали холода), либо зимой (на Велесовых
Святках), и реже - весной (до начала сева). Одни полагают, что предпочтительнее
играть свадьбы именно осенью: до прихода Осеннего Сварожья - времени, когда
замыкается Сварга, а Светлые Боги, включая самого Сварога-Батюшку - Сковывателя
Свадеб и Ладу-Матушку - Покровительницу Семьи и Брака, уходят в Светлый Ирий до
будущей весны. Другие считают, что негоже играть свадьбы во время, когда
Солнечная Сила идет на убыль в Мире Яви Земной, и потому отдают предпочтение
поре Зимних (Велесовых) Святок, следующих сразу за Колядой - временем Рождения
Солнца Нового Кологода, когда Солнечная Сила вновь начинает возрастать. Что же
касается весны, то о сию пору (во время, когда все прошлогодние запасы уже
подходят к концу, а впереди - ждет жаркая посевная) свадьбы играются довольно
редко, хотя в деревнях до сих пор сохранился обычай чествовать молодых,
сыгравших свадьбу прошлой осенью либо зимой, на Масленицу.
ГЛАГОЛЬ) Свадьбе обычно предшествуют: сватовство, смотрины, сговор (во время
коего окончательно договариваются о размере приданного) и обручение, а также,
бывает, еще и иные какие действа, например, умыкание невесты (как правило, по
взаимному согласию). В последнем случае жених платит отцу невесты вено (выкуп).
ДОБРО) За день-другой до свадьбы печется особый обрядовый Коровай со знаками
плодородия и пирог с курятиной - курник, олицетворяющие счастливую жизнь,
достаток в Доме и прибыток в семье.
ЕСТЬ) Накануне самого свадебного действа во Дому невесты непременно
устраивается девишник, во время коего девушки-поневестицы оплакивают молодую как
"умирающую", ибо ей предстоит "умереть" девой-невестой во своем Роду - дабы
возродиться-воскреснуть (от древнеславянск. "Крес" - "Огнь") мужней женой в
мужнином Роду. При сем - расплетают молодой косу и вынимают из ее волос ленту,
именуемую "волей", коя затем отдается младшей сестре либо незамужней подруге
невесты. Затем - ведут молодую в заранее истопленную баню "смывать волю", поют:
"Ты пойдем, милая подруженька,
Ты посмой красу-то девичью,
Что свою-то волю-волюшку!.."
В качестве оберега перед молодой несут веник, убранный лентами. Перед тем, как
войти в баню, его бросают перед собой, а затем, смотря по тому, как он лег,
гадают о грядущем замужестве. После бани молодой расчесывают волосы, но в косу
уже не заплетают. Под венец молодая идет с распущенными волосами, кои лишь затем
заплетаются в две косы и убираются под головной убор, како деется всеми
замужними женщинами.
ЖИВЕТЕ) О сию же пору во Дому жениха устраивается молодешник, во время коего
молодой, в окружении своих друзей и родственников, прощается со своей холостой
жизнью.
ЗЕЛО) По окончании девишника и молодешника молодые начинают пост, который
длится до самого свадебного пира. Постясь, они обращаются к Родным Богам и
Предкам, принося им требы и испрашивая покровительства в их грядущей совместной
жизни.
ЗЕМЛЯ) Перед свадьбой молодые - подобны новорожденным младенцам, еще не
прошедшим обряда имянаречения, ибо во оные времена и те, и другие - как никогда
уязвимы и открыты всем посторонним воздействиям, как благим, так и дурным.
Многие обереги, творимые как самими молодыми, так и сородичами их, деются о сию
пору им в помощь, но, поистине, лучшими оберегами от всякой злой порчи и всякого
иного лиха-злосчастия являются чистота их Сердец и та Любовь, что соединяет их
незримыми узами…
ИЖЕ) Само свадебное действо начинается, как правило, после полудня, не
раньше. Жених с дружками отправляется к Дому невесты - кликать молодую. При сем
сам жених хранит молчание, не ест, не пьет и не сам ведет остальных за собой, но
лишь следует за ними, ведомый главным дружкой - "воеводой". Невесту к ним
выводят не сразу, но лишь по получении обрядового выкупа за нее. Все деется с
песнями, прибаутками, весельем. Над женихом непременно стараются подшутить,
например, вывести ему подменную невесту (зачастую - бородатого мужика,
укутанного в женский платок) и прочее.
И) После вывода невесты все выстраиваются в свадебный поезд и, с
соответствующими сему действу песнями, идут (едут) на капище. Перед молодыми,
охраняемыми дружками жениха (как правило - вооруженными мечами) и
девицами-поневестицами, несут на богато вышитом рушнике свадебный Коровай, а за
ними несут чаши с хмелем, зерном да златом-серебром (мелкими монетами) - для
обсыпания молодых.
КАКО) Сам обряд венчания начинается в соответствии с общим Урядом Обрядным
(см. "УРЯДНИК МАЛЫЙ" влх. Велеслава). Посему ниже приводится описание лишь
характерных особенностей свадебного обряда, и опускается пересказ общих
обрядовых положений, подробно освещаемых в "УРЯДНИКЕ…".
ЛЮДИ) После освящения места и положения зачина приносится треба, коей
испрашивается благословение Родных Богов на заключаемый союз. Треба сия
приносится не от всего Мира (Родноверческой Общины), но лишь от лица молодых,
кои накладывают на нее длани установленным образом (см. "УРЯДНИК…"). Лишь в
случае, когда треба принята, можно приступать к обряду венчания. В случае же,
если треба "прахом пошла", следует принести искупительные жертвы и кинуть
жребий, вопрошая Родных Богов о том, что деять далее. Если однозначный ответ
получить не удается, следует провести молодых через испытания. Например, молодым
предлагают пройти, не расцепив рук, босиком по горячим углям, вытащить из Огня
уголек и прочее. Проведение молодых через подобные испытания также необходимо,
когда славянин берет жену из среды инородцев либо иноверцев. В сих случаях
венчание без испрашивания благословения Свыше и предварительного испытания -
может обернуться тягчайшим оскорблением, брошенным Роду, и злейшей хулой на
Родных Богов и Предков!..
МЫСЛЕТЕ) Обряд венчания называется так потому, что молодых венчают венцами
"Князя" и "Княгини" ("Боярина" и "Боярыни"), величая тако на протяжении всего
обряда и следующего за ним свадебного пира. Во время оного обряда приносятся
требы и рекутся славления: Роду (ибо во Славу Его, Приплод Дающего, деется все
сие), Сварогу (Ковалю Небесному, Сковывателю Свадеб), Ладе (дабы
хранила-оберегала молодых в их будущей семейной жизни, даруя им Лад да Любовь),
Велесу (дабы жизнь молодых была богатой и изобильной) да Макоше (сплетающей Нити
Судеб, водящей Долю и Недолю). (Слова обращений - см., например, в "ВЕЩЕМ
СЛОВНИКЕ" влх. Велеслава.)
НАШ) Венчальная рубаха молодой именуется: "калинка", "целошница",
"долгостанец" и т.п., являясь символом чистоты невесты. (Белый цвет одежды
приличествует невесте только в первый день свадьбы.) Рубаха сия делается
цельнокройной, туникообразной и с длинными рукавами, собранными у запястий
обшлагами-воланами. Ее непременно должны украшать знаки Солнца (всевозможные
Коловраты - по вороту либо плечам) и знаки Земного Плодородия (всевозможные
ромбики - по подолу). Длинные рукава рубахи называются "плакальными" и в
распущенном виде могут достигать Земли. На голову молодой одевается венец в виде
широкого обруча, непременно с открытым верхом. По окончании обряда девичья
прическа (распущенные космы) меняется на женскую: две косы укладываются вокруг
головы и убираются под кокошник, повойник, моршень или иной головной убор,
обязательно являющийся закрытым.
ОН) Сам обряд венчания начинается с того, что молодые предстают перед
священником, проводящим обряд (волхвом либо жрецом), который поочередно
вопрошает каждого из них: по доброй ли воле тот (та) берет за себя "Княгиню"
имярек (выходит замуж за "Князя" имярек)? Любят ли молодые друг друга? Клянутся
ли хранить верность и заботиться друг о друге?.. Если вдруг оказывается, что
кто-то из молодых не имеет славянского имени, то свадьба откладывается до
прохождения оным обряда имянаречения. На протяжении всего венчального действа
поневестица и дружка держат над головами молодых "Княжьи" венцы: золотой - над
женихом ("Князем-Солнцем") и серебряный - над невестой ("Белой Княгиней").
Воздеваются сии венцы перед самым началом обряда со словами:
ДА ХРАНЯТ ТЯ БЕРЕГИНИ!
ГОЙ!
ПОКОЙ) Получив от молодых утвердительные ответы на вышеозначенные вопросы,
священник обращается ко Сварогу, прося его "сковать свадебку":
СВАРОЖЕ ВЕЛИКЕ БОЖЕ
СКУЙ НАМ СВАДЕБКУ КРЕПКО-НАКРЕПКО
ДО СЕДОЙ ГОЛОВУШКИ ДО БЕЛОЙ БОРОДУШКИ
КРЕПКО-НАКРЕПКО! КРЕПКО-НАКРЕПКО!
ГОЙ! СВА! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
СВАРОЖЕ ВЕЛИКЕ БОЖЕ ПО НЕБЕСЕ ХОДИЛ
ГВОЗДОЧКИ СОБИРАЛ СВАДЕБКУ КОВАЛ
КРЕПКО-НАКРЕПКО! КРЕПКО-НАКРЕПКО!
ГОЙ! СВА! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
Затем - просит о заступничестве и покровительстве Ладу-Матушку:
ЛАДО ВЛАДЕ ЛАДО ПРАВИ
ЛАДО ТЛЕСЕ СОПРЕДЕЛЕ
ПРОТЯНИ ВЛАДЫЧЕ ДЛАНИ
РАСТЕЩАЯ СЛАДУ ЖИВУ!
ГОЙ! СЛАВА!
Либо:
МАТИ ЛАДО МАТИ ВЛИКА
ЛАДО ВЛАДЕ МНОГОСЛАВЕ
СНИДИ ЧИСТА СВЕТОЛИКА
ЧЕСТНЫ ЛЮБЫ СОЕДИНИ!
ГОЙ! СЛАВА!
И далее:
В ЛАДЕ ВОЗРАДЕ БОЖЕСКА РАДЕ
ВО СЕРДЦЕ-КРАДЕ ТРЕБУ ВОЗДАТЕ
ОТ СЕРДЦА РЕЧЕ БОЖЕ О СРЕЧЕ
В ЛАДЕ ЕДИНЕ ВО ПРАВИ СВЯТИМЕ!
ГОЙ! СЛАВА!
И далее:
ЛАДО-МАТИ ЛАДИ НЫНЕ
СВА ВОЗЛАДИ НЕ ОСТЫНИ
СОТВОРИ ПОТВОРЫ МНОГИ
СОВЕДИ ПУТИ-ДОРОГИ
КНЯЗЯ А КНЯГИНИ ДЛАНИ СОЕДИНИ
ВЕНЦАМИ ВЕНЧАЙ ГЛАВЫ
ДА ОБЛЕКИ СЛАВОЙ!
ГОЙ! СЛАВА!
И далее:
ЛАДО-МАТИ ЛАДО ПРАВИ
СВА ВОЗЛАДИ СВА ВОСПРАВИ
СОМКНИ КОЛО ДАЖДИ ДОЛИ
ЛАДИ В ДОМЕ ЛАДИ В ПОЛЕ
ЛАДО-МАТИ ЛАДО ВЛАДЕ
ЧАДЫ РАДИ ЛЮБЫ СВЯТИ
ЛАДА ЖИВИ ЛАДИ ЛЮДИ
В ЛАДУ ЖИТИ ТАКО БУДИ!
ГОЙ! СЛАВА!
После чего - соединяет руки молодых (шуйцу жениха и десницу невесты,
ибо молодая стоит слева от своего суженого) и связывает
их рушником. При сем - речет, прося Макошь-Матушку снизойти
в Силе своей и связать воедино Нити Судеб (Покуты) молодых:
МАКОШЬ ПРЕМУДРА МАТИ ПОКУТНА
СУДЬБЫ ВЕДНИЦА ВЕРЕТЕННИЦА
НИТИ КРУЧЕНЫ СУДЬБЫ ВРУЧЕНЫ
КОЛО ВЕРЧЕНЫ С-ПРАВНО ВЕНЧАНЫ
ДОЛЕЙ ДОБРОЮ ДАРИ ВДОСТАЛИ
НЕДОЛЬ ОТВЕДИ РАССЕЙ РОССЫПЬЮ
МАТЬ ВЕЛИКАЯ МНОГОЛИКАЯ
ЗЕМЛЯ ПЛОДНАЯ РОДОМ РОДНАЯ
СВЯТИ ПОЛЮШКО ЧЕСТНЫМ ХЛЕБУШКОМ
ДАЖДИ МУДРОСТИ СВОИМ ДЕТУШКАМ
ДА СИЛ В МОГОТУ ВСЯКУ ЖИВОТУ!
ГОЙ! СЛАВА!
И далее:
МАКОШЬ-МАТИ ПРЯЖУ ПРЯДИ
ДОЛЮ ВОДИ ЖИТО РОДИ
НИТИ ВЕДИ ЖИВИ ЛЮДИ
ПРАВО СУДИ ТАКО БУДИ!
ГОЙ! СЛАВА!
Затем - обводит молодых, чьи руки остаются связанными рушником на протяжении
всего последующего действа, трижды вокруг Огня, благословляя-обсыпая их хмелем
(первое коло), зерном (второе коло) и златом-серебром - мелкими монетами (третье
коло). Содеев тако, священник принимает из рук потворников братину с питным
медом, подносит ее молодым, дабы те, взяв ее свободными руками, принесли свою
первую совместную требу Родным Богам, а затем сами испили из нее по глотку
священного напитка - Роду, Родной Земле и Предкам во славу!
РЦЫ) Сие же может деяться и по-другому. Молодые обмениваются поясами,
перепоясывая друг друга, либо - обручальными кольцами (обручение), а затем жених
покрывает невесту полой своего плаща - в знак защиты и покровительства. После
чего жрецы обводят молодых, держащихся за руки, вокруг Родового Столба - зримого
Знака Все-Сущего Все-Держителя Рода, либо вокруг Священного Дуба…
СЛОВО) По окончании обряда жрецы объявляют громогласно народу о том, что,
де, отныне "Князь" имярек и "Княгиня" имярек есть честные муж да жена - пред
Родом и сородичами своими. После чего все собравшиеся троекратно - единым
громким гласом - рекут, обращаясь ко Богам Родным да самим молодым:
СВА! СЛАВА!
ГОЙ!
(Возглас: "ГОЙ!" - являющийся, по сути, обращением к Творческой Силе Рода, к
Силе Мужской-Солнечной, Благой-Обережной, от Которой бежит вся нечисть - уместен
во время свадебных торжеств, как никогда!..)
ТВЕРДО) Затем все приглашаются проследовать к свадебному столу - на почестен
пир. Впереди всех несут свадебный Коровай, за ним идут молодые, руки коих
по-прежнему остаются связанными рушником. На протяжении всего пути их щедро
обсыпают хмелем, зерном и монетами, малой частью коих обсыпаются также и все
собравшиеся. Молодые должны дойти до стола, не размыкая рук, как бы ни старались
иные разлучить их, дергая за рукава и всячески стараясь отвлечь друг от друга.
УК) Свадебный пир, равно как и всякий честной пир вообще, начинается с
пищесвятия, творимого жрецами (см. "УРЯДНИК…"), и прославления Предков, коим на
сем пире творится честь особая: жрецы (а точнее - Вещие Девы) выносят специально
сшитые к сему случаю небольшие матерчатые куколки Дида и Бабы, олицетворяющие
Предков, и ставят (сажают) их перед молодыми на стол, творя им малую Божницу,
при сем рекут:
СТАНИ-СТАНЬ СЕЙ СТОЛ
БОГОВ СВЯТ ПРЕСТОЛ!
ГОЙ! СЛАВА!
Перед куколками располагается требная миса, в кою добрые люди кладут первый кус
от всякого яства - Богам Родным и Предкам во славу! Также молодым дарится особая
сдвоенная куколка - "неразлучники", изображающая самих молодых, крепко
держащихся за руки. (Сих куколок молодые затем хранят всю свою жизнь, почитая
оных залогом-оберегом своего семейного счастья.) Также на свадьбу принято дарить
молодым деревянный Гой в Ступке - знаки Мужской Силы и Женского Плодородия…
ФЕРТ) После пищесвятия и обращения к Предкам пускается круговая братина с
хмельным медом, принимая кою, всяк человек, за столом сидящий, речет славу и
поздравления молодым, до коих братина доходит в самую последнюю очередь. Лишь
когда братина замкнет коло, все, кроме молодых, приступают к трапезе, обилие
яств на коей предвещает новорожденной семье богатство и достаток в будущем:
ЧТО ЕСТЬ ВО ПЕЧИ ВСЕ НА СТОЛ МЕЧИ!
ГОЙ!
МЕДВЯНО ВИНО СТАНИ ВО ДОБРО!
ГОЙ!
ДАЖДИ ВЕЛЕСЕ БЛАГА А ДОЛИ
А МУДРОСТИ ДАЖДИ ВСЕГО ПРЕБОЛЕ!
ГОЙ! СЛАВА!
При сем перед молодыми ставится один прибор на двоих, дабы узы, их соединяющие,
были крепче.
ХЕР) Через некоторое время, в самый разгар праздничного веселья, молодые
поднимаются из-за стола и отправляются во чертог свой, где заранее подготовлено
их брачное ложе (оное складывается из снопов, покрытых полотном добрым, а поверх
- непременно волохатой шкурой), вокруг коего расставлены кадушки с медом,
пшеницей, рожью и прочими добрыми плодами - смотря по достатку молодых. С собой
они берут свадебный Коровай и пирог-курник (курников может быть приготовлено два
- от Дома жениха и Дома невесты). Пирог сей может быть заменен жарким из
курятины, ибо кур-петух (наряду с зайцем и козлом, чье мясо непременно входит в
состав общей свадебной стравы) издревле почитался нашими Предками за свою
великую плодовитость. Покой молодых обязуется охранять дружка жениха,
вооруженный мечем. Лишь взойдя в брачный чертог и оставшись друг с другом
наедине, молодые снимают со своих рук повязанный жрецом рушник и освобождаются
от соблюдаемого ими до сего времени поста.
ОТ) Перед тем, как проводить молодых восвояси, жрец
напутствует-благословляет их, обращаясь ко Сварогу и Ладе со словами:
ГОЙ ТЫ ДИД-СВАРОГ ПРОВЕДИ ЧЕРЕЗ ПОРОГ!
ГОЙ ТЫ ДИД-СВАРОГ ЛАДО-МАТИ ЕСТЬ ПИРОГ!
ГОЙ! СЛАВА!
Тако ж и сами молодые, прежде чем вступить во чертог свой, рекут:
УЖ ТЫ ГОЙ ЕСИ БАТЮШКА СВАРОГ
ПЕРЕВЕДИ НЫ ЧЕРЕЗ СВОЙ ПОРОГ
ЛАДА-МАТУШКА ДАЖДИ ЕСТЬ ПИРОГ
ВОВЕК СЛАВЕН БУДЬ СВАРГИ ЗЛАТ ЧЕРТОГ!
ГОЙ! СЛАВА!
Представ пред брачным ложем, молодая, в знак покорности мужу, разувает его. (В
один из сапогов жениха заранее кладется монетка, и если молодая первым снимет
именно его, то сие понимается как доброе предзнаменование, обещающее молодым
богатую и счастливую совместную жизнь…)
ЦЫ) Поутру дружка отправляется спрашивать молодого о его "здоровье". Если
оный отвечает, что он "в добром здравии", значит доброе дело, угодное Богам
Родным, свершилось - во славу их и Самого Рода - Земного, Небесного и
Все-Вышнего!..
ЧЕРВЬ) В наше время, когда люди стали торопливы в делах своих и поспешны в
суждениях, стало обычным не дожидаться следующего дня, как в Старину, когда
всякая свадьба игралась не менее трех дней, а завершать все действо в один день.
Посему молодым, удалившимся в чертог свой, приходится не мешкать до утра, но
через какое-то время возвращаться к столу, дабы вместе с гостями продолжить
свадебный пир, который завершается далеко заполнощь… (Подробнее о сем - см.,
например, "МИР СЛАВЯНСКИХ БОГОВ" Богумила Обнинского и Вадима Калужского.)
ША) Поистине, много чего еще можно рассказать о свадьбе с-Правной: какие на
ней песни поются, какие обычаи блюдутся, какие слова рекутся, какие яства
подаются. А также: как горшок у ног молодых разбивается, какое благословение при
сем читается, какая одежда молодым, а какая - гостям при сем подобает, како
действо творится, ежели жених молодую пред свадьбою умыкает. А также: сколько
жен славянину иметь возможно, с каких лет узами сими опрядаться можно, како быть
во болезни сущим, деять что вдове после смерти мужа… И много чего еще здесь не
сказано, ибо взыскующий знаний сих - все сам в Исконном Родовом Укладе жизни
Предков наших найдет, дураку же - никакая наука впрок не пойдет. Да станет
реченное нами выше - во добро всем тем, кто сие услышал! Во славу Родных Богов!
Гой!
Слава Роду!
Писано сие влх. Велеславом на Родной Земле 16 серпеня (августа) лета 4592 от
Основания Славенска Великого (лета 2001 от н.х.л.) - во славу Родных Богов!
/Просмотрено заново и исправлено собственноручно влх. Велеславом 20
березозола-месяца лета 4593 от О.С.В./
Серия сообщений "славянское язычество":
Часть 1 - СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Часть 2 - Храним память былых времён?
...
Часть 4 - Молодёжные инициации у славян
Часть 5 - Славянский обрядовый танец
Часть 6 - Уряд свадебный от Велеслава
Часть 7 - дети солнца
Часть 8 - ЯЗЫЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА СЛАВЯНСКИХ АРХАИЧЕСКИХ РИТУАЛОВ
...
Часть 30 - >Сорванные цветы...
Часть 31 - О писанках..
Часть 32 - Как наши предки почитали деревья
|
Метки: свадьба велеслав язычество |
Процитировано 6 раз
Понравилось: 1 пользователю
Тиуновское святилище |
Тиуновское святилище
ТИУНОВСКОЕ ЯЗЫЧЕСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ
Иван НИКИТИНСКИЙ
Вологда
"Мифы и магия индоевропейцев", выпуск №9, 2000г.
Существованис на Руси двоеверия - т.е. одновременного бытова-ния традиционного
язычества и православия - в течение нескольких веков после крсш,ения сейчас ни у
кого уже не вызывает сомнений*. И все же обнаруженнос совсем недаено на
Вологодчине языческое святилище, функуионировавшее вгглотъ до последних
десятилетий XVI века, - это, нссомненно, не только важнейшсе научное откры-тие,
но и сенсаи,ия. И мы с радостъю предоставляем на странииах "Мифов и Магии" слово
первооткрывателю святилиша - волоюд-скому археологу Ивану Федоровичу
Никитинскому.
Антон Платов
Культовые камни и языческие святилища все больше привлекают внимание археологов
и специалистов в области мифологии. Привлекли они в свое время и мое внимание.
Из двух десятков известных к настоящему времени на территории Вологодской
области культовых камней и святилищ оно, пожалуй, самое интересное. Материалы
исследования тиуновского святилища опубликованы несколько лет назад". Теперь же
я рад, что в настоящем альманахе у меня появилась возможность дополнить сухое
научное описание этого памятника живым рассказом об истории его нахождения и
предложить не только трактовку мифологии, запечатленной в изображениях
святилища, но и варианты связанной с ними магии. Надеюсь, что изложенные в виде
воспоминаний сюжеты будут встречены читателем со вниманием. (См., напр., работы
академика Б.А.Рыбакова по сланянскому н русскому язычеству. o И.Ф.Никитннский
Тиуновскок святилище/Культура Русского Ссвера. Вологда, 1994)
ТИУНОВСКОЕ ЯЗЫЧЕСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ
Воспоминание первое
В поведении бабушкн есть что-то необычное, что сразу привлекает мое, ее
девятилетнего внука, внимание. Бабушка Фрося остригает ногти на руках и бросает
за ворот своей ддинной рубахи. В избе тепло и уютно. За окнами тихий
августовский ; вечер, н бабушка собирается спать. Удивленный вопрос сам слетает
у меня с языка. "Ногти пригодятся мне, когда я умру, - объясняет мне бабушка
Фрося. - Чтобы попасть на небо, надо будет карабкаться по каменной горе - не
одни ногти o обломаешь". "А зачем на небо?" - удивляюсь я еще больше. "Чтобы
попасть В рай. Для этого надо будет идти к его дверям по узкой лестнице. У кого
груз грехов больше, (тот может покачнуться и упасть в беэдну, в ад".
Эта картина окончательио поражает мое воображение, и я не осмеливаюсь
расспрашивать дальше. В красном углу нзбы темнеют на иконах лики святых. Бабушка
крестится на них, шепчет молитву и уходит в горницу спать. Хотя мне мало что
швестно о религиозной стороне жизнн взрослых, но что-то не вяжутся между собой
бабушкины ногти и христианскнй рай. В моей памяти всплывают сказанные вскользь и
с оглядкой слова родных и соседей, что бабушка Фрося - коддунья, что к ней за
помощью и заговорами приходят иногда даже из дальних кокшенгских деревень.
Повзрослев, я пожалел, что не сгал расспрашивать бабушку дальше. Каково же было
мое удивление, когда мне удалось увидеть то, о чем она говорила. Но уже как
часть более общей, полной картины. Картина эта оказалась изображенной на куполе
большого камня. На ней я увидел все устройсгво мира: солнце в зените и солнце на
закате, лестницу на небо и лестницу под эемлю, окно и дверь на небо, небесный
корабль. мировое дерево, пантеок богов с сюжетами, им сопутствующими, и
таинственные надписи... Первоначально святилище было выявлено в 1985 году по
краеведчес-кой анкете, опубликованной в районной газете, - местному населению
оно было известно как "камень с крестами".
Этот уникальный памятник находится на берегу одного из притоков р.Кокшемги возле
д.Тиуновской Тарногского района Вологодской обла-сти. В настоящее время
святилище представляет собой два крупных камня, расположенных почти в метре друг
от друга по линии запад-восток. Восточный камень - плоская плита неопределенной
формы, до 1.9 м в поперечнике. Второй - западный - камень в поперечнике
достигает 3 м, максимальная его высота - 1.36 м. Камень имеет кугюлообразный
верх н четыре скругленные стороны,ориеитированные по сторонам света.
("Земля в четыре углы, а небо круговидно", - как считали русские средневековые
географы.) На ровных участках поверхности этого камня - с четырех сторон и
сверху - и нанесены интереснейшие рисунки и надписи. В момент обнаружения
святилища камень в основной своей части был покрыт мхами и лишайниками, так что
на поверхности были видны лишь отдельные христианские кресты и детали двух
антропоморфных фигур. Остальные рисунки выявлены уже в процессе изучения
святилища в течение пескольких последующих лет. В 1990 году автором и кандидатом
исторических наук Н.Н.Скакуном были проведены трасологические исследования
рисунков и определены способы их нанесения. Результаты исследований
свидетельствуют, прежде всего, о том, что нет следов работы каменным
инструментом - в основном применялся железный резец, оставляющий процарапанный
след.
рис.2Надпись в корнях дерева на восточной стороне камня
Это древнейшая часть рисунков, связанных с язычеством, и в отношенин их возраста
можно, как минимум, утверждать, что нанесены они были не в каменном веке и,
вообще говоря, позднее эпои бронзы. Другая часть изображений вырезана при помощи
железного инструмента с твердым, хорошо закаленным лезвием. В этой технике
выполнены почти все христианские кресты, но в двух случаях техника резания
применена и в отношении языческих сюжетов. Наконец, в ударной технике выполнены
два христианских креста, появившиеся здесь в последние годы.
Кратко охарактеризуем основные изображения Тиуновского святилища. Восточная
сторона камня имеет большой сюжетный рисунок. В средней его части находится
стилизованное изображение дерева, корни которого опираются на горизонтальную
линию, а ствол (длиной около метра) венчается кроной в виде шестигранника с
крючками на четырех углах. В нижней части ствола дерева в разные стороныотходят
линии, которые можно считать корнями; чуть в стороне от них изображены четыре
знака, каждый из которых в отдельносш напоминает тамгу, но все вместе они
производят впечатление надписи (рис. 2).
Чуть южнее, рядом со стволом и кроной дерева, имеются сюжетньш рисунок и еще
одна надпись (см, рис.З). Сюжетный рисунок состоит из антропоморфной фигуры и
крупной сложной постройки, иэображенной за фигурой и несколько севернее ее, По
общему виду строение напоминает юрту или чум и венчается главоподобным верхом и
изображением христианского креста, о котором, учитывая результаты
трасологического анализа, можно однозначно еказать, что он был пририсоваы к
постройке позднее.
рис.3 Антропоморфная фигура, постройка и надпись на восточной стороне камня
Ниже и несколько южнее сюжетного изображения находится горизонтальная надпись,
выполненная кириллицей. На разных этапах исследования она читалась по-разному.
Первоначально ее прочтение было "поде ко маркуше", но в результате более
тщательного рассмотрения надписи был принят другой вариант: "деко по маркуше".
Правильность этого варианта под-тверждает и мнение историка языка, доктора
филологическнх наук Г.В.Судакова. Следует отметить, что в вологодском,
архангельском и некоторых других говорах слово "дековаться" означает совершать
колдовские или издевательские действия, а имя "Маркуша" встречается в Авесте,
где Маркуша - персонификация сил зла, холода и разрушения.
На южной стороне камня имеются два изображения, первое из которых (рис.4),
скорее всего, представляет собой корабль, причем художник постарался изобразить
и набор судна, и мачту в ее оснастке. Изображение корабля на священных камнях в
целом достаточно тради- пионно, поскольку корабль почитался в древности
средством путешествия душ умерших в мир мертвых.
рис.4 Корабль на южной стороне камня
Второе изображение на южной стороне камня (рис.5) состонт из антропоморфной
фнгуры, высокого растения (которое позднее пытались переделать в православный
крест) и кириллической надписи, наиболее вероятное прочтение которой - "кром".
Рис.5 Антропоморфная фигура и надписъ на южной стороне камня (здесъ и в
других рисунках заштри- хованы области повреждения поверхности камня)
Еще два сюжетных рисунка расположены на западной стороне камня. На первом из них
(рис.6) изображен олень или лось с антропоморфной фигурой на спине. В руках
всадник держит некие пред-меты, которые, вероятно, можно трактовать как лук и
колчан со стрелами. Второй рисунок со всею осто-рожностью можно интерпретировать
как изображение воина-всадника, попавшего в яму-ловушку, где установлено
оружие-подрезы (изображенное как тор-чащие со дна ямы колья). Под этим рисунком
по вогнутой дуге проходит четвертая надпись, вы-полненная, как и предыдущая,
кириллицей и состоящая из пяти знаков. Прочтение надписи весьма затруднено;
наиболее уверенным представляется вариант "орьям".
Рис. 6. Один из рисунков на западной стороне камня
На западной и северо-восточной сторонах камня находятся изображения лестниц ,
две из которых (западные) ведут, вероятно, под землю, а две дру-гих
(северо-восточные) - на небеса. Несколько слов следует сказать о датировке
кириллических надписей на камне. Наиболее ранней из трех следует считать
последнюю, расположенную под рисунком "воина, попавшего в яму". Академик
В.Л.Янин датирует ее кон-цом XIII-XV вв., доктор филологи-ческих наук А.А.Амосов
- второй-четвертой четвертью XV в. Надпись "кром" А.А.Амосов датирует середи-ной
XV в. Наконец, надпись "деко по маркуше" датируется В.Л.Яниным XIV-XVI вв.,
А.А.Амосовым - серединой второй половиной XV в., АА.Медынцевой - XV-XVI вв. В
целом, данные палеографии дают основания считать, что святилище существо-'" вало
в XIV-XVI веках, причем XV }- век определяется наиболее уверенно.
Часть вторая.
От Новгорода до Зауралья учеными записан не один десяток былин о Василии
Буслаеве и камне-алатыре, а Тиуновское святилище находится как раз в центре их
распространения. Ученые считают, что былины создавались в XIV-XV веках, надписи
святилища датируются тем же временем. Сюжет былин, вкратце, таков. Разудалого
новгородского молодца Василия Буслаева, странствующего со своими дружинниками по
торговым делам, неудержимо тянет взглянуть на некий камень-алатырь и потом через
него перепрыгнуть. Прыгать же надо обязательно понерек камня. Василий сначала
прыгает как все, а затем - вдоль, задевает правой ногой за камень, падает и
убивается. В былинах много неясных мест, появившихся, надо думать, за сотни лет
постепенного их забывания и искажения. Почему Василия так тянет к камню-алатырю?
Почему надо через него прыгать?
Одна из наиболее ранних былин повествует о том, чго на некоем камне сидит и
обращается к нему за помощью в рождении сына Буслав Сеславьевич - будущий отец
Василия. Явившаяся ему в этот момент "бабище матерая" предсказывает рождение
сына. Обращение к культо-вым камням за помощью (в том числе за помощью в
рождении детей) известно у многих народов мира. Так, в Минске еще в начале
нашего века женщины, мечтавшне о ребенке, садились на камень под священным
дубом. Герой осетинского эпоса Сослаи был рожден из камня после того, как на
него сел его отец, увидавший красавнцу Шатану. В Вологодской области на р. Юг в
местности Борок под святой сосной о камень с отпечатком ноги Богородицы еще в
начале шестидесятых годов беремен-ные женщины терлись животом, чтобы легче было
рожать. Если предположить, что Василий Буслаев связан с камнем-алатырем по
рождению, то становится ясно, почему он так к нему стремился - о нем он знает от
своих родителей.
Образ "бабищи матерой" также не случаен. Исторические источники доносят из
глубин сведемия о женщинах-жрицах. Скандинавские саги, повествуя о путешествиях
викингов на ссверо-восток Европы, упоминают о жрицах языческих святилищ. Главная
жрица во время ограбления викингами храма поднимает одного из них над головой и,
бросив на камень, ломает ему хребет. В восьмидесятые годы XVI века, когда
Тиуновское святилище уже прекращает функционировать, Иван Грозный собирает для
своих нужд в северных лесах шестьдесят кудесни-ков и колдуний, причем, в
основном, он имеет дело с женщинами, предсказывающими ему момент смерти.
Прыжок через камень-алатырь. так же, как и сиденье на нем, надо полагать, был
ритуальным. Исходя из ми^юлогических представлений отображенных на камне
Тиуновского святилища, можно вообразить себе ритуал, когда прыгагощий через его
купол возносится в небо, в мир богов и может донести до них свое желание.
Прыгать можно только с севера и северо-запада, поперек камня. Высота его здесь
0,7-1 м, притом движение идет вниз по склону. С юга и востока высота камня
больше метра. Старушка из деревни Тиуновской говорила мне, что ее сверстники в
возрасте 12-14 лет прыгали через камень, а девочки-сверстницы иа камень
садились. Но смысла этнх действий уже никто не помнил. Ритуал прыжков, судя по
тому, что он упоминается почти во всех былинах, был очень важным. Даже поздние
былины, несущие на себе печать влияния христианства и отправляющие Василия
путешествовать в Иерусалим, все равно упоминают о его прыжке через
камень-алатырь.
Не только ритуальные прыжки сближают камни с Тиуновского святилища и из былины о
Василии Буслаеве, есть и совпадения в их описании. Одинаков размер каменен:
"через него только топор подать". В старейших вариантах былины камень называется
"морская пучина вокругом глаза". Морской пучиной, судя по изображению корабля на
куполе Тиуновского камыя, представлялось небо, а "вокруг-глаза" - это глаза
богов, которых почитали в данном святилище. В былинах упомина-стся и о надписи
на камне-алатыре, а на Тиуновском камне их четыре. Исходя из этого, мы можем
предположить, что создателн и рассказчики былины о Василии Буслаеве опирались в
творчестве на реалии своего времени.
ТИУНОВСКОЕ ЯЗЫЧЕСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ
Иван НИКИТИНСКИЙ
Вологда
"Мифы и магия индоевропейцев", выпуск №9, 2000г.
Существованис на Руси двоеверия - т.е. одновременного бытова-ния традиционного
язычества и православия - в течение нескольких веков после крсш,ения сейчас ни у
кого уже не вызывает сомнений*. И все же обнаруженнос совсем недаено на
Вологодчине языческое святилище, функуионировавшее вгглотъ до последних
десятилетий XVI века, - это, нссомненно, не только важнейшсе научное откры-тие,
но и сенсаи,ия. И мы с радостъю предоставляем на странииах "Мифов и Магии" слово
первооткрывателю святилиша - волоюд-скому археологу Ивану Федоровичу
Никитинскому.
Антон Платов
Культовые камни и языческие святилища все больше привлекают внимание археологов
и специалистов в области мифологии. Привлекли они в свое время и мое внимание.
Из двух десятков известных к настоящему времени на территории Вологодской
области культовых камней и святилищ оно, пожалуй, самое интересное. Материалы
исследования тиуновского святилища опубликованы несколько лет назад". Теперь же
я рад, что в настоящем альманахе у меня появилась возможность дополнить сухое
научное описание этого памятника живым рассказом об истории его нахождения и
предложить не только трактовку мифологии, запечатленной в изображениях
святилища, но и варианты связанной с ними магии. Надеюсь, что изложенные в виде
воспоминаний сюжеты будут встречены читателем со вниманием. (См., напр., работы
академика Б.А.Рыбакова по сланянскому н русскому язычеству. o И.Ф.Никитннский
Тиуновскок святилище/Культура Русского Ссвера. Вологда, 1994)
ТИУНОВСКОЕ ЯЗЫЧЕСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ
Воспоминание первое
В поведении бабушкн есть что-то необычное, что сразу привлекает мое, ее
девятилетнего внука, внимание. Бабушка Фрося остригает ногти на руках и бросает
за ворот своей ддинной рубахи. В избе тепло и уютно. За окнами тихий
августовский ; вечер, н бабушка собирается спать. Удивленный вопрос сам слетает
у меня с языка. "Ногти пригодятся мне, когда я умру, - объясняет мне бабушка
Фрося. - Чтобы попасть на небо, надо будет карабкаться по каменной горе - не
одни ногти o обломаешь". "А зачем на небо?" - удивляюсь я еще больше. "Чтобы
попасть В рай. Для этого надо будет идти к его дверям по узкой лестнице. У кого
груз грехов больше, (тот может покачнуться и упасть в беэдну, в ад".
Эта картина окончательио поражает мое воображение, и я не осмеливаюсь
расспрашивать дальше. В красном углу нзбы темнеют на иконах лики святых. Бабушка
крестится на них, шепчет молитву и уходит в горницу спать. Хотя мне мало что
швестно о религиозной стороне жизнн взрослых, но что-то не вяжутся между собой
бабушкины ногти и христианскнй рай. В моей памяти всплывают сказанные вскользь и
с оглядкой слова родных и соседей, что бабушка Фрося - коддунья, что к ней за
помощью и заговорами приходят иногда даже из дальних кокшенгских деревень.
Повзрослев, я пожалел, что не сгал расспрашивать бабушку дальше. Каково же было
мое удивление, когда мне удалось увидеть то, о чем она говорила. Но уже как
часть более общей, полной картины. Картина эта оказалась изображенной на куполе
большого камня. На ней я увидел все устройсгво мира: солнце в зените и солнце на
закате, лестницу на небо и лестницу под эемлю, окно и дверь на небо, небесный
корабль. мировое дерево, пантеок богов с сюжетами, им сопутствующими, и
таинственные надписи... Первоначально святилище было выявлено в 1985 году по
краеведчес-кой анкете, опубликованной в районной газете, - местному населению
оно было известно как "камень с крестами".
Этот уникальный памятник находится на берегу одного из притоков р.Кокшемги возле
д.Тиуновской Тарногского района Вологодской обла-сти. В настоящее время
святилище представляет собой два крупных камня, расположенных почти в метре друг
от друга по линии запад-восток. Восточный камень - плоская плита неопределенной
формы, до 1.9 м в поперечнике. Второй - западный - камень в поперечнике
достигает 3 м, максимальная его высота - 1.36 м. Камень имеет кугюлообразный
верх н четыре скругленные стороны,ориеитированные по сторонам света.
("Земля в четыре углы, а небо круговидно", - как считали русские средневековые
географы.) На ровных участках поверхности этого камня - с четырех сторон и
сверху - и нанесены интереснейшие рисунки и надписи. В момент обнаружения
святилища камень в основной своей части был покрыт мхами и лишайниками, так что
на поверхности были видны лишь отдельные христианские кресты и детали двух
антропоморфных фигур. Остальные рисунки выявлены уже в процессе изучения
святилища в течение пескольких последующих лет. В 1990 году автором и кандидатом
исторических наук Н.Н.Скакуном были проведены трасологические исследования
рисунков и определены способы их нанесения. Результаты исследований
свидетельствуют, прежде всего, о том, что нет следов работы каменным
инструментом - в основном применялся железный резец, оставляющий процарапанный
след.
рис.2Надпись в корнях дерева на восточной стороне камня
Это древнейшая часть рисунков, связанных с язычеством, и в отношенин их возраста
можно, как минимум, утверждать, что нанесены они были не в каменном веке и,
вообще говоря, позднее эпои бронзы. Другая часть изображений вырезана при помощи
железного инструмента с твердым, хорошо закаленным лезвием. В этой технике
выполнены почти все христианские кресты, но в двух случаях техника резания
применена и в отношении языческих сюжетов. Наконец, в ударной технике выполнены
два христианских креста, появившиеся здесь в последние годы.
Кратко охарактеризуем основные изображения Тиуновского святилища. Восточная
сторона камня имеет большой сюжетный рисунок. В средней его части находится
стилизованное изображение дерева, корни которого опираются на горизонтальную
линию, а ствол (длиной около метра) венчается кроной в виде шестигранника с
крючками на четырех углах. В нижней части ствола дерева в разные стороныотходят
линии, которые можно считать корнями; чуть в стороне от них изображены четыре
знака, каждый из которых в отдельносш напоминает тамгу, но все вместе они
производят впечатление надписи (рис. 2).
Чуть южнее, рядом со стволом и кроной дерева, имеются сюжетньш рисунок и еще
одна надпись (см, рис.З). Сюжетный рисунок состоит из антропоморфной фигуры и
крупной сложной постройки, иэображенной за фигурой и несколько севернее ее, По
общему виду строение напоминает юрту или чум и венчается главоподобным верхом и
изображением христианского креста, о котором, учитывая результаты
трасологического анализа, можно однозначно еказать, что он был пририсоваы к
постройке позднее.
рис.3 Антропоморфная фигура, постройка и надпись на восточной стороне камня
Ниже и несколько южнее сюжетного изображения находится горизонтальная надпись,
выполненная кириллицей. На разных этапах исследования она читалась по-разному.
Первоначально ее прочтение было "поде ко маркуше", но в результате более
тщательного рассмотрения надписи был принят другой вариант: "деко по маркуше".
Правильность этого варианта под-тверждает и мнение историка языка, доктора
филологическнх наук Г.В.Судакова. Следует отметить, что в вологодском,
архангельском и некоторых других говорах слово "дековаться" означает совершать
колдовские или издевательские действия, а имя "Маркуша" встречается в Авесте,
где Маркуша - персонификация сил зла, холода и разрушения.
На южной стороне камня имеются два изображения, первое из которых (рис.4),
скорее всего, представляет собой корабль, причем художник постарался изобразить
и набор судна, и мачту в ее оснастке. Изображение корабля на священных камнях в
целом достаточно тради- пионно, поскольку корабль почитался в древности
средством путешествия душ умерших в мир мертвых.
рис.4 Корабль на южной стороне камня
Второе изображение на южной стороне камня (рис.5) состонт из антропоморфной
фнгуры, высокого растения (которое позднее пытались переделать в православный
крест) и кириллической надписи, наиболее вероятное прочтение которой - "кром".
Рис.5 Антропоморфная фигура и надписъ на южной стороне камня (здесъ и в
других рисунках заштри- хованы области повреждения поверхности камня)
Еще два сюжетных рисунка расположены на западной стороне камня. На первом из них
(рис.6) изображен олень или лось с антропоморфной фигурой на спине. В руках
всадник держит некие пред-меты, которые, вероятно, можно трактовать как лук и
колчан со стрелами. Второй рисунок со всею осто-рожностью можно интерпретировать
как изображение воина-всадника, попавшего в яму-ловушку, где установлено
оружие-подрезы (изображенное как тор-чащие со дна ямы колья). Под этим рисунком
по вогнутой дуге проходит четвертая надпись, вы-полненная, как и предыдущая,
кириллицей и состоящая из пяти знаков. Прочтение надписи весьма затруднено;
наиболее уверенным представляется вариант "орьям".
Рис. 6. Один из рисунков на западной стороне камня
На западной и северо-восточной сторонах камня находятся изображения лестниц ,
две из которых (западные) ведут, вероятно, под землю, а две дру-гих
(северо-восточные) - на небеса. Несколько слов следует сказать о датировке
кириллических надписей на камне. Наиболее ранней из трех следует считать
последнюю, расположенную под рисунком "воина, попавшего в яму". Академик
В.Л.Янин датирует ее кон-цом XIII-XV вв., доктор филологи-ческих наук А.А.Амосов
- второй-четвертой четвертью XV в. Надпись "кром" А.А.Амосов датирует середи-ной
XV в. Наконец, надпись "деко по маркуше" датируется В.Л.Яниным XIV-XVI вв.,
А.А.Амосовым - серединой второй половиной XV в., АА.Медынцевой - XV-XVI вв. В
целом, данные палеографии дают основания считать, что святилище существо-'" вало
в XIV-XVI веках, причем XV }- век определяется наиболее уверенно.
Часть вторая.
От Новгорода до Зауралья учеными записан не один десяток былин о Василии
Буслаеве и камне-алатыре, а Тиуновское святилище находится как раз в центре их
распространения. Ученые считают, что былины создавались в XIV-XV веках, надписи
святилища датируются тем же временем. Сюжет былин, вкратце, таков. Разудалого
новгородского молодца Василия Буслаева, странствующего со своими дружинниками по
торговым делам, неудержимо тянет взглянуть на некий камень-алатырь и потом через
него перепрыгнуть. Прыгать же надо обязательно понерек камня. Василий сначала
прыгает как все, а затем - вдоль, задевает правой ногой за камень, падает и
убивается. В былинах много неясных мест, появившихся, надо думать, за сотни лет
постепенного их забывания и искажения. Почему Василия так тянет к камню-алатырю?
Почему надо через него прыгать?
Одна из наиболее ранних былин повествует о том, чго на некоем камне сидит и
обращается к нему за помощью в рождении сына Буслав Сеславьевич - будущий отец
Василия. Явившаяся ему в этот момент "бабище матерая" предсказывает рождение
сына. Обращение к культо-вым камням за помощью (в том числе за помощью в
рождении детей) известно у многих народов мира. Так, в Минске еще в начале
нашего века женщины, мечтавшне о ребенке, садились на камень под священным
дубом. Герой осетинского эпоса Сослаи был рожден из камня после того, как на
него сел его отец, увидавший красавнцу Шатану. В Вологодской области на р. Юг в
местности Борок под святой сосной о камень с отпечатком ноги Богородицы еще в
начале шестидесятых годов беремен-ные женщины терлись животом, чтобы легче было
рожать. Если предположить, что Василий Буслаев связан с камнем-алатырем по
рождению, то становится ясно, почему он так к нему стремился - о нем он знает от
своих родителей.
Образ "бабищи матерой" также не случаен. Исторические источники доносят из
глубин сведемия о женщинах-жрицах. Скандинавские саги, повествуя о путешествиях
викингов на ссверо-восток Европы, упоминают о жрицах языческих святилищ. Главная
жрица во время ограбления викингами храма поднимает одного из них над головой и,
бросив на камень, ломает ему хребет. В восьмидесятые годы XVI века, когда
Тиуновское святилище уже прекращает функционировать, Иван Грозный собирает для
своих нужд в северных лесах шестьдесят кудесни-ков и колдуний, причем, в
основном, он имеет дело с женщинами, предсказывающими ему момент смерти.
Прыжок через камень-алатырь. так же, как и сиденье на нем, надо полагать, был
ритуальным. Исходя из ми^юлогических представлений отображенных на камне
Тиуновского святилища, можно вообразить себе ритуал, когда прыгагощий через его
купол возносится в небо, в мир богов и может донести до них свое желание.
Прыгать можно только с севера и северо-запада, поперек камня. Высота его здесь
0,7-1 м, притом движение идет вниз по склону. С юга и востока высота камня
больше метра. Старушка из деревни Тиуновской говорила мне, что ее сверстники в
возрасте 12-14 лет прыгали через камень, а девочки-сверстницы иа камень
садились. Но смысла этнх действий уже никто не помнил. Ритуал прыжков, судя по
тому, что он упоминается почти во всех былинах, был очень важным. Даже поздние
былины, несущие на себе печать влияния христианства и отправляющие Василия
путешествовать в Иерусалим, все равно упоминают о его прыжке через
камень-алатырь.
Не только ритуальные прыжки сближают камни с Тиуновского святилища и из былины о
Василии Буслаеве, есть и совпадения в их описании. Одинаков размер каменен:
"через него только топор подать". В старейших вариантах былины камень называется
"морская пучина вокругом глаза". Морской пучиной, судя по изображению корабля на
куполе Тиуновского камыя, представлялось небо, а "вокруг-глаза" - это глаза
богов, которых почитали в данном святилище. В былинах упомина-стся и о надписи
на камне-алатыре, а на Тиуновском камне их четыре. Исходя из этого, мы можем
предположить, что создателн и рассказчики былины о Василии Буслаеве опирались в
творчестве на реалии своего времени.
Серия сообщений "капища, мои места, любимый лес":
Часть 1 - Тиуновское святилище
Часть 2 - Магические свойства деревьев
Часть 3 - Гамаюнщина
...
Часть 8 - Сінь камень
Часть 9 - СЛАВЯНСКИЙ ХРАМ В ГРОСС-РАДЕН/Gross Raden (БОДРИЧАНЫ-ГЕРМАНИЯ)
Часть 10 - Велесов овраг в Коломенском
|
|
Славянский обрядовый танец |
Славянский обрядовый танец в светe мировых эзотерических традиций
Геннадий Адамович, Алексей Толмачев
Оригинал статьи
Культура танца несомненно является важной составляющей духовного
наследия любого народа. Славянские народы - не исключение.
Ритуальный танец во все времена играл важную роль в обрядовой
деятельности. Кроме того, танец обуславливал культуру движения и
являлся методом недирективной психофизической подготовки членов
сообщества. Не претендуя на широкое освещение темы, данная статья
ориентирована на раскрытие некоторых характерных особенностей
культуры славянского ритуального танца в свете мировой эзотерической
традиции.
При рассмотрении психофизических методов тренировки восточных славян
необходимо обратить внимание на достаточно большое количество
упоминаний в устной народной традиции о прыжках через предметы: "в
старину просто молились: через ровок скок, за матку скок, за батьку
скок", "не перепрыгнув, не говори гоп". При рассмотрении приведенных
поговорок необходимо учитывать своеобразное отношение к Богу, его
возможностям, и отношение к христианской церкви, в частности у
белорусов: "поклонись кусту, так даст он хлеба ломоть", "в лесу
живем, пню кланяемся".
В сказании о "богомолении" сопоставляются две религиозные традиции:
языческая заключавшаяся в перепрыгивании (тридцать раз в день) через
колоду со своеообразной молитвой "тебе боже, мне боже" - и
христианская - посещения церкви и принятия причастия на
"великодень". При рассмотрении двух методик оказывается, что после
первой, языческой, можно было "ходить по воде", а после посещения
церкви и принятия причастия - этот навык исчезал.
Рассматривая приведенные выше народные поговорки и предание, можно
предположить, что прыжки через пень, колоду, огонь, куст являются:
ритуалом поклонения некому языческому божеству, место прибывания
которого находится в пне или колоде, огне или кусте;
поклонением предкам, выражаемое в ритуальном охранном прыжке за
"матку и батьку";
основным в ритуале поклонения является перепрыгивание предметов,
олицетворяющих местоприбывания бога
повторение определенной фразы тебе боже, мне боже (молитвы,
заклинания), вызывающей определенные психофизические измения у
выполняющего прыжки;
ритмичность выполнения прыжков;
требование к постоянной тренировке.
В мировой практике психофизические методы проявляются, в основном, в
обрядовых действиях. В основном, это ритуальные танцы, позволяющие
раскрыть определенные психофизические возможности человека. Их
практика вполне сопоставима с сохранившейся белорусской традицией
мужского народного танца и вышеприведенной психофизической
методикой, существовавшей в традиции восточных славян. В каждой из
ниже перечисленных традиций существует, как составная часть, и
сходный прыжковый элемент.
В частности у североамериканского племени шошонов главным ритуалом
года является "Пляска Солнца". В основе ее обряд благодарения, в
котором участники благодарят Верховное Существо за прошедший год и
просят сделать счастливым и здоровым год наступающий. Подобные
ежегодные ритуалы благодарения встречаются и у многих других племен
североамериканских индейцев. Индейцы Великих Озер имели упрощенную
версию такого обряда, и она существовала у шошонов Винд Ривер, пока
не была заменена "Пляской Солнца". "Пляска Отца", как она иначе
называлась, представляла собой круговой танец, в котором мужчины и
женщины танцевали вокруг кедра, хлопая в ладоши и совершая боковые
движения. Они пели, благодарили "Отца Нашего" за его щедрость и
просили его прислать дождь и обилие пищи и помочь людям выжить. В
этом обряде кедр представлял собой Древо Мира, символ присутствия
"Отца Нашего". Интересной особенностью "Пляски Солнца" является
большая продолжительность данного обряда - трое суток, и при этом
полное воздержание от пищи и воды. После прохождения обряда многие
участники становятся способными предсказывать, а молодые люди
считаются взрослыми.
У индейских племен Центральной Америки существовал тайный обряд
"Танца Силы", исполняемый нагвалем (мужчиной-целителем) на вершине
холма. Этот обряд также именуется "Танцем Четырех Ветров", поскольку
танцор должен обрести силу всех четырех ветров, соотнесенных с
четырьмя сторонами света и символизирующих четыре первоэлемента.
Цель "Танца Силы" - обретение индивидуальной Силы (природной
психофизической субстанции) для последующего использования в целях
диагностики и целительства.
Наиболее известной в настоящее время является традиция использования
ритуального танца в йоге и тантре, системах психофизического
совершенствования Древней Индии. В этом отношении весьма
показательной является одна из древнейших практик ведического культа
Рудры - Шивы (у древних славян известного как Род). Один из эпитетов
Шивы - Натараджа, "Царь танца". В шиваитских храмах, например, в
Чидамбараме (Тамилнад), можно видеть изображение многорукого Шивы,
танцующего на одной ноге в круге огня, со вставшими дыбом спутанными
волосами, держащего в правой верхней руке барабан "дамару",
балансирующего "Огнем Разрушения" в левой верхней, одной из нижних
рук указывающего на свою ногу, легко поднявшуюся за пределы этого
мира, а другой нижней рукой ободряющего своего почитателя
миролюбивым жестом, означающим "не бойся".
Во многих случаях танец Шивы, называемый "Тандава", исполняет
человек, участник ритуала. Подражающий Натарадже танцор, йогин или
целитель, может проявлять качества Шивы или одного из Его "гневных"
проявлений, такого, как Бхайрава или Вирабхадра, и способен
исполнять экстатический танец в течение нескольких часов, исполняясь
необычайной силой. Подобная практика лежит в основе Кундалини- или
Сиддха-йоги, направленной на раскрытие потенциальных возможностей
человеческого организма. Она же широко используется как эффективный
метод в процессе подготовки воинов, например, у сикхов. Во время
танца "Тандава" часто исполняется санскритский гимн (особые мантры),
называемый "Шива Тандава Стотра", авторство которого приписывают
древнему царю духов Шри Раване, легендарному правителю Шри-Ланки.
Широко известными в последние годы стали методы медитативного танца,
практикуемые в суфизме. Это прежде всего "верчение дервишей" -
многочасовое вращение танцора вокруг собственной оси, сопровождаемое
особого рода зикрами (распевной декламацией арабских стихов
философского содержания) и статикой верхних конечностей. Кроме того
существует "Танец Четырех Шагов", включающий помимо движений
поочередно по направлению четырех сторон света (русское: "на все
четыре стороны") с возвратом в центр, также весьма интересную
технику движения рук, сопровождаемую особым дыханием. Для
активизации внутренних сил организма практикуется также "Танец
Неба", заключающийся в ритмичных прыжках вверх с поднятыми вверх
руками; при приземлении танцор сильно ударяется пятками ног о
поверхность земли, что вызывает импульс, идущий в копчик, где, как
считается, находится центр резервных сил организма. Суфийские
практики психофизического совершенствования стали известны на Западе
благодаря Георгию Гурджиеву, поэтому за рубежом их часто называют
"гурджиевскими танцами". Их оздоровительную ценность подтвердил ряд
научных исследований, проведенных в Европе и США.
Отрадно осознавать, что и традиция славянского обрядового танца в
последние несколько лет привлекает к себе внимание специалистов и
просто людей, интересующихся своими истоками. Благодаря усилиям
нескольких энтузиастов эта тема получила развитие в таких учебных
заведениях как Белорусский государственный педагогический
университет (БГПУ) им.М.Танка, Балтийская Педагогическая Академия
(РФ) и Познаньская Спортивная Академия (РП).
Литература:
1. Пословицы и поговорки, кн.2. Мн., 1976.
2. Бездонное богатство. Легенды, предания, сказы. /Сост. Гурский
А.И., Мн.,1989.
3. Толмачев А.В. Искусство магии, или Объяснение магов (Введение в
сферу абстрактной магии). Мн., 1994.
4. Religious Traditions of the World. San Francisco, 1994.
5. Вестник Балтийской педагогической Академии, С.-Пб., 1999.
Геннадий Адамович, Алексей Толмачев
Оригинал статьи
Культура танца несомненно является важной составляющей духовного
наследия любого народа. Славянские народы - не исключение.
Ритуальный танец во все времена играл важную роль в обрядовой
деятельности. Кроме того, танец обуславливал культуру движения и
являлся методом недирективной психофизической подготовки членов
сообщества. Не претендуя на широкое освещение темы, данная статья
ориентирована на раскрытие некоторых характерных особенностей
культуры славянского ритуального танца в свете мировой эзотерической
традиции.
При рассмотрении психофизических методов тренировки восточных славян
необходимо обратить внимание на достаточно большое количество
упоминаний в устной народной традиции о прыжках через предметы: "в
старину просто молились: через ровок скок, за матку скок, за батьку
скок", "не перепрыгнув, не говори гоп". При рассмотрении приведенных
поговорок необходимо учитывать своеобразное отношение к Богу, его
возможностям, и отношение к христианской церкви, в частности у
белорусов: "поклонись кусту, так даст он хлеба ломоть", "в лесу
живем, пню кланяемся".
В сказании о "богомолении" сопоставляются две религиозные традиции:
языческая заключавшаяся в перепрыгивании (тридцать раз в день) через
колоду со своеообразной молитвой "тебе боже, мне боже" - и
христианская - посещения церкви и принятия причастия на
"великодень". При рассмотрении двух методик оказывается, что после
первой, языческой, можно было "ходить по воде", а после посещения
церкви и принятия причастия - этот навык исчезал.
Рассматривая приведенные выше народные поговорки и предание, можно
предположить, что прыжки через пень, колоду, огонь, куст являются:
ритуалом поклонения некому языческому божеству, место прибывания
которого находится в пне или колоде, огне или кусте;
поклонением предкам, выражаемое в ритуальном охранном прыжке за
"матку и батьку";
основным в ритуале поклонения является перепрыгивание предметов,
олицетворяющих местоприбывания бога
повторение определенной фразы тебе боже, мне боже (молитвы,
заклинания), вызывающей определенные психофизические измения у
выполняющего прыжки;
ритмичность выполнения прыжков;
требование к постоянной тренировке.
В мировой практике психофизические методы проявляются, в основном, в
обрядовых действиях. В основном, это ритуальные танцы, позволяющие
раскрыть определенные психофизические возможности человека. Их
практика вполне сопоставима с сохранившейся белорусской традицией
мужского народного танца и вышеприведенной психофизической
методикой, существовавшей в традиции восточных славян. В каждой из
ниже перечисленных традиций существует, как составная часть, и
сходный прыжковый элемент.
В частности у североамериканского племени шошонов главным ритуалом
года является "Пляска Солнца". В основе ее обряд благодарения, в
котором участники благодарят Верховное Существо за прошедший год и
просят сделать счастливым и здоровым год наступающий. Подобные
ежегодные ритуалы благодарения встречаются и у многих других племен
североамериканских индейцев. Индейцы Великих Озер имели упрощенную
версию такого обряда, и она существовала у шошонов Винд Ривер, пока
не была заменена "Пляской Солнца". "Пляска Отца", как она иначе
называлась, представляла собой круговой танец, в котором мужчины и
женщины танцевали вокруг кедра, хлопая в ладоши и совершая боковые
движения. Они пели, благодарили "Отца Нашего" за его щедрость и
просили его прислать дождь и обилие пищи и помочь людям выжить. В
этом обряде кедр представлял собой Древо Мира, символ присутствия
"Отца Нашего". Интересной особенностью "Пляски Солнца" является
большая продолжительность данного обряда - трое суток, и при этом
полное воздержание от пищи и воды. После прохождения обряда многие
участники становятся способными предсказывать, а молодые люди
считаются взрослыми.
У индейских племен Центральной Америки существовал тайный обряд
"Танца Силы", исполняемый нагвалем (мужчиной-целителем) на вершине
холма. Этот обряд также именуется "Танцем Четырех Ветров", поскольку
танцор должен обрести силу всех четырех ветров, соотнесенных с
четырьмя сторонами света и символизирующих четыре первоэлемента.
Цель "Танца Силы" - обретение индивидуальной Силы (природной
психофизической субстанции) для последующего использования в целях
диагностики и целительства.
Наиболее известной в настоящее время является традиция использования
ритуального танца в йоге и тантре, системах психофизического
совершенствования Древней Индии. В этом отношении весьма
показательной является одна из древнейших практик ведического культа
Рудры - Шивы (у древних славян известного как Род). Один из эпитетов
Шивы - Натараджа, "Царь танца". В шиваитских храмах, например, в
Чидамбараме (Тамилнад), можно видеть изображение многорукого Шивы,
танцующего на одной ноге в круге огня, со вставшими дыбом спутанными
волосами, держащего в правой верхней руке барабан "дамару",
балансирующего "Огнем Разрушения" в левой верхней, одной из нижних
рук указывающего на свою ногу, легко поднявшуюся за пределы этого
мира, а другой нижней рукой ободряющего своего почитателя
миролюбивым жестом, означающим "не бойся".
Во многих случаях танец Шивы, называемый "Тандава", исполняет
человек, участник ритуала. Подражающий Натарадже танцор, йогин или
целитель, может проявлять качества Шивы или одного из Его "гневных"
проявлений, такого, как Бхайрава или Вирабхадра, и способен
исполнять экстатический танец в течение нескольких часов, исполняясь
необычайной силой. Подобная практика лежит в основе Кундалини- или
Сиддха-йоги, направленной на раскрытие потенциальных возможностей
человеческого организма. Она же широко используется как эффективный
метод в процессе подготовки воинов, например, у сикхов. Во время
танца "Тандава" часто исполняется санскритский гимн (особые мантры),
называемый "Шива Тандава Стотра", авторство которого приписывают
древнему царю духов Шри Раване, легендарному правителю Шри-Ланки.
Широко известными в последние годы стали методы медитативного танца,
практикуемые в суфизме. Это прежде всего "верчение дервишей" -
многочасовое вращение танцора вокруг собственной оси, сопровождаемое
особого рода зикрами (распевной декламацией арабских стихов
философского содержания) и статикой верхних конечностей. Кроме того
существует "Танец Четырех Шагов", включающий помимо движений
поочередно по направлению четырех сторон света (русское: "на все
четыре стороны") с возвратом в центр, также весьма интересную
технику движения рук, сопровождаемую особым дыханием. Для
активизации внутренних сил организма практикуется также "Танец
Неба", заключающийся в ритмичных прыжках вверх с поднятыми вверх
руками; при приземлении танцор сильно ударяется пятками ног о
поверхность земли, что вызывает импульс, идущий в копчик, где, как
считается, находится центр резервных сил организма. Суфийские
практики психофизического совершенствования стали известны на Западе
благодаря Георгию Гурджиеву, поэтому за рубежом их часто называют
"гурджиевскими танцами". Их оздоровительную ценность подтвердил ряд
научных исследований, проведенных в Европе и США.
Отрадно осознавать, что и традиция славянского обрядового танца в
последние несколько лет привлекает к себе внимание специалистов и
просто людей, интересующихся своими истоками. Благодаря усилиям
нескольких энтузиастов эта тема получила развитие в таких учебных
заведениях как Белорусский государственный педагогический
университет (БГПУ) им.М.Танка, Балтийская Педагогическая Академия
(РФ) и Познаньская Спортивная Академия (РП).
Литература:
1. Пословицы и поговорки, кн.2. Мн., 1976.
2. Бездонное богатство. Легенды, предания, сказы. /Сост. Гурский
А.И., Мн.,1989.
3. Толмачев А.В. Искусство магии, или Объяснение магов (Введение в
сферу абстрактной магии). Мн., 1994.
4. Religious Traditions of the World. San Francisco, 1994.
5. Вестник Балтийской педагогической Академии, С.-Пб., 1999.
Серия сообщений "славянское язычество":
Часть 1 - СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Часть 2 - Храним память былых времён?
Часть 3 - Красная горка (Антипасха)
Часть 4 - Молодёжные инициации у славян
Часть 5 - Славянский обрядовый танец
Часть 6 - Уряд свадебный от Велеслава
Часть 7 - дети солнца
...
Часть 30 - >Сорванные цветы...
Часть 31 - О писанках..
Часть 32 - Как наши предки почитали деревья
|
|
Молодёжные инициации у славян |
Древнеславянские молодежные союзы и обряды инициации
Древнеславянские молодежные союзы и обряды инициации
Проблема реконструкции древнеславянских юношеских инициации и связанных с
ними половозрастных объединений очень сложна. Сложность определяется
большой временной отдаленностью этих явлений от наших дней. Ведь прямых
сведений о ритуалах и молодежных объединениях, как и вообще о
соционормативной культуре и ритуальной жизни древних славян, мы
практически не имеем. Из глубины веков до нас дошли лишь их глухие
отзвуки. Собственные славянские летописи, хроники, известия античных,
византийских и восточных авторов отражают жизнь славян уже в поздний
период их догосударственной истории. К тому же полнота этого отражения
далека от желаемой.
Вместе с тем лингвисты отмечают большую развитость уходящей в глубь
тысячелетий праславянской терминологии, касающейся культурных реалии и
социальной жизни1. Поэтому реконструировать эти, как и другие явления
древнеславянской архаической культуры, ученым приходится на основании
непрямых и вдобавок весьма основательно «зашифрованных» временем данных,
которые распылены в различных сферах древнего культурного наследия.
И все же, несмотря на все трудности, исследователям удается добиться
определенных успехов в дешифровке этих свидетельств глубокой древности.
Тему древнеславянских юношеских инициации и молодежных союзов посвятил две
публикации и автор данной статьи2. Теперь задача состоит в том, чтобы по
возможности углубить и конкретизировать наши знания о древнеславянской
половозрастной организации и связанных с ней ритуалах, в том числе об
инициациях и молодежных объединениях, чему и посвящена данная статья.
В статье «Инициации древних славян (попытка реконструкции)» нами
схематично был нарисован начальный этап древнеславянской юношеской
инициации выделение инициируемых из общины и уход их в особый лагерь, где
должен был совершаться обряд. Как же конкретно проходило это событие?
Исследования этнографов свидетельствуют, что начало юношеской возрастной
инициации у народов первобытного общества3 связано с отнесением
мальчиков-подростков к особой группе ровесников (возраст членов группы
несколько колеблется). Часто при этом большую роль играют насмешки старших
носящие ритуальный характер. Для того чтобы противостоять насмешкам
главным образом со стороны уже прошедших инициацию юношей, а также
девушек, подростки приблизительно одного возраста постепенно образуют
тесно сплоченные группы. В конце концов, через несколько лет,
подготовленные общественным мнением, в котором большую роль играет
длительное ритуальное подсмеивание, они оставляют селение и уходят в
особый лагерь4.
Нечто подобное, очевидно, имело место и у древних славян. Об этом можно
судить по материалам, касающимся традиционных объединений молодежи у
украинцев, словаков, чехов, поляков, а также, в меньшей мере, у русских и
белорусов. Данные объединения являются архаическими по происхождению и
содержат много черт древней половозрастной организации5. В рамках
традиционной половозрастной градации украинцев, а также западных славян,
выделение мальчиков в особую подростковую группу начиналось с 6-8 лет.
Постепенно, взрослые мальчики составляли тесно сплоченную группу, в
которой пребывали до 14-16 летнего возраста. Дальше, пройдя обряды
посвящения, они становились членами объединения взрослых юношей. Особенно
четко оформленными такие группы подростков были на украинском Полесье, где
исследователи отмечают их большое сходство с подростковыми группами
архаических обществ6.Большую роль в сплочении подростковой группы играли,
как уже отмечалось, насмешки со стороны девушек и взрослых парней.
Последние часто не ограничивались только словами, но и переходили «к
делу»: могли забросить шапку подростка на крышу, снять с него штаны,
подвесить вниз головой и т. д. Стремление противостоять этим действиям и
стать в итоге членами взрослой молодежной компании сплачивало подростков в
единую группу.
В фольклоре частично нашло отражение выделение в древности мальчиков в
группу подростков-прединициантов. Например, из так называемых
инициационных сказок7 можно узнать об оставлении мальчиками дома в семь
лет (сказки о «семилетке» и др.). Герой одной из самых архаичных былин
Волх Всеславьевич ушел из дому «десяти годов», собирал дружину (юношеский
союз древней эпохи) «двенадцати годов» и обучал ее военным и охотничьим
«премудростям» до «пятнадцати годов»8. Ивась Коновченко — семилетний
казак-богатырь, герой украинской думы9. Она уходит своими истоками в
глубокую древность и генетически родственна былинам. В ней отразились,
согласно мнению американской исследовательницы О. Грабович, обряды
инициаций.
Лагерь инициации, как определил на материале сказок В. Я. Пропп, находился
в лесу. Это подтверждают и мифологические рассказы о волкодлаках, в
которых нашли отражение древние инициации10. Добавлю, что «чистое поле», в
котором, как и в лесу, проживают превращенные в волков, в
восточнославянском фольклоре часто выступает одним из вариантов леса11.
Женские инициации древние славяне, как показала Р. Бекер, тоже проводили в
лесу12. Проведение инициации в лесу подтверждается и данными родственных
славянам индоарийской, германской и других традиций13. Лес же, согласно
верованиям славян, традиционно приравнивался к потустороннему миру и
противопоставлялся как территория «чужая» и «неосвоенная» «своему»,
«освоенному» дому. Материалы сказок свидетельствуют, что отправляли
подростков в лагерь инициации отцы, реже — братья, дядья14. В женских
«инициационных сказках» девушек из дома также отправляли отцы15. Исходя из
фольклорно-этнографического материала, можно допустить, что определенная
символическая роль в ходе инициации отводилась реке как границе между
«этим» и «тем» светом. В сказках река представляет собой рубеж, через
который герою необходимо переправиться, чтобы попасть в иное царство.
Последнее выступает эквивалентом потустороннего мира, в котором проходят
инициационные испытания16. Это же подтверждают и лингвисты. Они отмечают,
что в древнеславянских названиях потустороннего мира и связанных с ним
явлений река также служит границей между мирами17. В качестве границы
между миром живых и миром мертвых река (вода, морс) выступает и в
свадебной, и в календарной поэзии славян.
Переход через воду в фольклоре есть символ не только перехода из одного
мира в другой, но и перемены социального статуса, в частности, перехода из
добрачного состояния в брачное. Как показывают исследования, в древнюю
эпоху у славян в ходе брачных ритуалов совершались обрядовые действия у
реки. Она служила символическим рубежом перехода молодых людей в другой
статус18. Остатком этого обряда, думается, является обрядовое «переливание
пути» свадебной процессии, возвращающейся из церкви после венчания. Оно и
поныне бытует среди украинцев на Волыни и в Подолии19. Как показывают
исследования, брачный ритуал - стадиально более поздний, по сравнению с
инициационным ритуалом, включал в себя ряд элементов последнего20. Поэтому
можно предположить, что лагерь инициации действительно находился за рекой,
которая служила символической границей между мирами.
В лесном лагере инициируемые переживали ритуальную смерть. Это главная
черта лиминальной фазы инициации. Причем имела место не только ритуальная
смерть, но и «проглатывание» инициируемых мифическим чудовищем.
Символическое пожирание чудовищем с последующим их «отрыгиванием» — часть
обрядов посвящения юношей у многих народов первобытного общества. То же
самое было характерно и для европейских народов в архаическую эпоху, в
частности, в Дунайском регионе21. Именно пребывание во чреве чудовища
давало инициируемым магические знания и власть над окружающим миром,
приобретение которых является одним из главных моментов инициации.
Материал сказок свидетельствует о «пожирании» чудовищем посвящаемых юношей
и у наших предков в древности22. В большинстве случаев в сказке героя
проглатывает Змеи, иногда он заменен чудовищным волком (Железный Волк и т.
д.).
Известия об этом ритуальном действии донесли до нас не только сказки.
Мотив проглатывания героев Змеем с их последующим «отрыгиванием»
содержится также в украинских легендах кузьмодемьяновского цикла23. Есть
сказки, в которых рассказывается и о том, как герой, будучи проглоченным и
отрыгнутым Змеем, получает необходимые знания и материальные блага24.
Можно думать, что в действительности иницианта бросали в пасть чучела
Змея-Велеса — покровителя инициации и хозяина тайных знаний25, как это
засвидетельствовано у народов первобытного общества в историческую эпоху.
Подтверждением этого может служить и обряд посвящения в объединение
косарей у поляков, которые устраивали особое сооружение из накрытых травой
кос и заставляли иницианта пролезать туда. При этом парню мазали лицо
черной краской, (символ смерти), бросали под ноги поленья, через которые
он должен был перебираться. После «появления на свет» юношу брили и
нарекали новым именем или прозвищем, как будто он действительно родился
вновь26. О «пожирании» юноши чудовищем в ходе инициации свидетельствовали
кровавые раны, полученные им при влезании во чрево чучела чудовища, что
выявил на материалах сказок В. Я. Пропп27. Что касается чучела Велеса, то
инициант, освободившись, «рождался» вновь, получая от него эзотерические
знания. С этим перекликается мотив героического эпоса о рождении оборотней
колдунов Волха Всеславьевича и сербского князя Вука от Змея, который
выступает их отцом28. В сербских мифических песнях говорится о том, как
Змей, превратившись в доброго молодца, вступал в связь с девушками и в
итоге рождались змееныши-юнаки (богатыри)29.
Можно предположить, что божество-покровитель инициации выступало в ходе
инициации и в ипостаси Железного Волка, как у некоторых родственных
славянам народов, например, у иранцев30. О волчьей ипостаси
божества-покровителя свидетельствуют и восточнославянские сказки, в
которых Волк заменяет Змея. В связи с этим следует указать, что в
мифологии индоевропейских, в том числе славянских, народов образы Змея и
Волка взаимозаменяемы31. Вспомним также сербского Змея Огненного Волка или
эпического героя - Змея Деспота Вука (т.е. Волка).
Лиминальное состояние инициантов, когда они подвергались всяческим
унижениям и испытаниям (голодание, побои, лишение сна и д.р.), отразилось
в языке. Так, лингвисты отмечают происхождение некоторых славянских
терминов (*огbъ, *otrokъ, *хоlръ) от слов, которыми ранее называли
проходивших инициацию подростков. Слово *хоlръ представляет собой
суффиксальное производное от глагола *xoliti в значении «стричь очень
коротко», т. е. указывает на ритуальные постриги посвящаемых32.
Одним из важнейших моментов древнеславянской юношеской инициации было
ритуальное перерождение посвящаемых в волков. Вместе с тем, у некоторых
славянских племен или общин, очевидно, параллельно бытовало и ритуальное
перерождение в медведей, хотя оно и было менее распространено. А образ
волка, в которого «превращался» инициант, иногда смешивался с «псом».
Известно, что среди славян были распространены мифологические рассказы о
превращение людей не только в волков, но и в собак33. В некоторых
рассказах человек превращается то в волка, то в пса. В этой связи обращает
на себя внимание тот факт, что волков называют «собаками» Волчьего
пастуха, а св. Юрия (Георгия) считают покровителем волков34. Сходные
представления бытовали и у соседей славян. Так, древние германцы именовали
двух священных волков спутников Иотана-Одина его «собаками». Румыны
называли волков «псами» св. Петра, а эстонцы — «щенками» св. Юрия. Вообще
же смешивание «собаки» и «волка» характерно для многих, в особенности для
индоевропейских, мифологических традиций35. В древности у этих народов
иницианты «перерождались» не только в волков, но и в псов, что связано,
очевидно, со спецификой инициаций у разных народов. Имело место и
смешивание образов волка и пса, как это было, к примеру, у скифов, у
которых иницианты считались и «псами», и «волками» одновременно36.
Превращение человека в собаку при инициации нашло отражение и в легендах о
собакоголовых (укр. песиголовцi). Исследователи часто объясняют
возникновение этих сюжетов влиянием апокрифической литературы, куда они, в
свою очередь, попали из произведений античных писателей37. Указанное
влияние апокрифической литературы на славянские, в частности на украинские
и русские, легенды о собакоголовых не вызывает сомнения и выражается в
определенном сходстве этих сюжетов с античными. Вместе с заимствованными
элементами в славянских легендах о собакоголовых присутствует, на наш
взгляд, и древний фольклорно-мифологический субстрат, принадлежащий
автохтонной этнической традиции. Тем более что здесь в основе и
заимствованных, и местных мотивов лежат типологически одинаковые явления.
Ведь в основу греко-римских рассказов о кинокефалах, которые,
контаминировав с сюжетами о циклонах, позже попали в христианскую
апокрифическую литературу, легли древние, связанные с инициациями,
представления о людях-псах. Представления о собакоголовых, аналогичные
славянским, известны у кельтов, а также у германцев. Причем о них
свидетельствуют не только древние мифы и легенды, но и раннесредневековые
писатели. В частности, Павел Диакон писал, что в войске союза племен
лангобардов, которые в 568 г. вторглись в Италию, были и «собакоголовые»
воины38. К этому следует добавить, что и у славян существовал культ пса39.
Кроме того, у них получили распространение сказочные мотивы, в которых
герой часто является «сыном собаки» — Сучичем, Сученком, Сукевичем и т.д.
Помимо «людей-волков» и «людей-псов» у некоторых индоевропейских народов
известны и «люди-медведи», образы которых обнаруживают связь с
архаическими ритуалами инициации. Особенно характерны эти представления
для древних германцев, у которых иницианты «перерождались» не только в
волков, но и в медведей. Это так называемые Barenhanter(«носящие медвежьи
шкуры») у немцев и Barserker («одетые в медвежьи шкуры») у скандинавов40.
Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов отмечают, что на лингвистическом
материале большая роль медведя в культовой практике и мифологии
прослеживается в основном в балто-славяно-германском регионе и
сравнительно слабо представлена у других индоевропейцев41.
Фольклорный материал подтверждает вывод указанных исследователей
относительно славян. Так, культ медведя известен у белоруссов и у
болгар42. У русских, особенно в северных районах, также бытовал культ
медведя как хозяина зверей. У русских известно поверье о том, что медведь
раньше был человеком. В некоторых местностях, например в Вологодской
губернии, верили, что колдуны превращают людей не только в волков, но и в
медведей43. У украинцев также зафиксированы легенды, хотя и относительно
немногочисленные, о прекращении человека Богом в медведя, которого Господь
хотел испугать, надев вывернутый шерстью наружу тулуп44 (аналог звериной
шкуры).
В. В. Иванов и В. И. Топоров, объясняя происхождение славянских терминов,
употребляющихся для обозначения «людей-волков» (старосл. влъкодлак, рус.
волкодлак, чеш. vilkodlak и др.), считают обычную их этимологию из
праславянских *volkъ (волк) и *dolka (шерсть) народной. Они выводят второй
компонент из славянского *dlak-, родственного Лалтийскому *tlak-, что
означает «медведь»45. Все это позволяет предположить, что у некоторых
древнеславянских племен или общин иницианты ритуально перерождались не в
волков, а в медведей.
Ритуал «превращения» человека в зверя включал надевание звериной шкуры,
особые танцы экстатического тина, а также употребление галлюциногена,
создававшего у инициируемых эффект такого перерождения. Использование
галлюциногенов во время юношеских инициации, возможно, подтверждается
применением алкоголя в инициациях исторического времени. В частности,
алкоголь применяли запорожские казаки при своих посвящениях46, а также
поляки, у которых иницианта спаивали до потери сознания47.
Кроме употребления галлюциногенов происходило, вероятно, и поедание
инициируемыми особой ритуальной пищи, как это вообще принято у многих
народов при проведении инициации. У древних германцев иницианты, которые
«превращались» в волков и медведей, ели их мясо и пили их кровь. Это, как
верили в древности, придавало посвящаемым силу, ярость и другие качестве
данных хищников48. Мифологические рассказы о волкодлаках также повествуют,
о том, что в ряде случаев «превращенные в волков» поедают печень и сердце
животных. Эти органы, в соответствии с народными верованиями, — место
средоточия жизненных сил. Возможно, об употреблении инициантами крови и
мяса волка в древности свидетельствует и тот факт, что в описанном П. В.
Шейном обряде превращении человека в волка на превращаемого капали волчью
кровь49. Среди польских охотников зафиксированы особые посвящения, в ходе
которых иницианты поедали волчью печень и им мазали лицо кровью первого
убитого ими зверя50.
Пройдя обряды превращения в волков, псов или медведей, юноши становились
членами «звериных» союзов, о которых подробно говорилось в нашей статье
«Инициации древних славян». Эти объединения, будучи типичными мужскими
молодежными союзами первобытной эпохи, свидетельствуют о существовании у
древних славян развитой половозрастной организации и дают представление об
одной из ее важных структурных частей. Автор трактовал пребывание юношей в
составе таких союзов как один из этапов инициации. Может возникнуть вопрос
правомерно ли это? Учитывая многочисленные испытания, которые проходили
юноши, их поведение, характеризуемое ярко выраженной лиминальностью, а
также наличие заключительных обрядов, знаменовавших завершение пребывания
молодых людей в статусе «зверей» за пределами социального мира и
возвращение их в мир людей, думаю, что такая трактовка допустима.
Главными занятиями членов «волчьих» и «медвежьих» союзов были разбои и
война с врагами своего племени, а также охота. Водил молодых
воинов-«зверей» в бой вождь-колдун. Реминисценцией его образа в какой-то
мере являются «родимые» волкодлаки из мифологических рассказов об
оборотнях. Такие волкодлаки делятся на колдунов, основным занятием которых
является лишь превращение людей в волков (отражение жрецов-инициирующих, о
чем смотри в указанной выше статье), и на колдунов, главное занятие
которых - разбой. С целью разбоя они сами превращаются в волков и иногда
превращают в них других.
В древних мифах индоевропейских народов вожди также выступают в образах
волков, имея способность к такому превращению51. Японский фольклорист И.
Ито, проанализировав фольклорный и языковой материал, пришел к выводу о
существовании у славян в прошлом подобных вождей-«кудесников»52.
Указанными способностями владеет в одной из древнерусских летописей и в
«Слове о полку Игореве» князь Всеслав Полоцкий. Колдунами являются
былинные 6oгатыри-оборотни Волх Всеславьевич и Вольга. В новгородском
книжном предании о Волке-чародее, которое содержит переклички между
мифологическими образами Волха и Волка, старший сын легендарного Словена
Волх был «бесоугодный чародей»53. Подобно Всеславу, Волху и Вольге в
сербской эпической традиции колдуном выступает вук Гругрович, а в юнатских
песнях - Змей Деспот Вук54.
Такие же вожди-волки, псы, медведи, владеющие колдовскими способностями
известны и у других индоевропейских народов — кельтов, германцев,
иранцев55. Колдуном, умевшим превращаться в пса и, возможно, в волка,
выступает в украинском фольклоре известный кошевой атаман запорожцев Иван
Сирко55. Само прозвище «атаман», полученное согласно запорожским обычаям,
в Сечи, имеет явную волчье-собачыо этимологию, поскольку является одним из
наиболее распространенных в Украине собачьих имен. Вообще «звериные»
имена, которые представляют собой отголосок древней традиции, были весьма
распространены в Европе, в том числе в среде феодально-служилой знати, в
период раннего средневековья и даже позднее57. А имена Волк, Волчко, Зверь
еще в XIV XV вв. принадлежали к так называемым некалендарным именам,
употреблявшимся параллельно с христианскими среди украинского и
белорусского боярства58.
1. Трубачев О. Н. Этногинез и культура древнейших славян. Лингвистические
исследования. М., 1991. С. 54 и др.
2. Балушок В. Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции)//
Этнографическое обозрение. 1993. №4, там же см. библиографию. Из работ,
появившихся позже, следует назвать: Ито И. «волкодлак» и «волчий пастух» -
два общеславянских фольклорных мотива, связанных с культом волка //
Comprative and contrastive studies in Slavic languages and literatures.
Japanese Contributions the XI-th International Congress of Slavists.
Bratislava. Aug. 31 – Sept. 7, 1993, Tokyo, 1993; Залiзняк Л. Нариси
стародавньоi iсторii Украiни. Киiв, 1994; Балушок В. Роль жiнки в
iнiцiацiях давнiх словъян // Родовiд. 1994 №9.
3. В авторском тексте был употреблен термин «народы природы». Поскольку
этот термин никогда не имел широкого хождения и к настоящему времени
безнадежно устарел, редакция журнала нашла уместным заменить его на
общепринятый термин «народы первобытного общества». – Примеч. ред.
4. Подробнее см.: Raum J. W. Die Junglingsweien der Sud-Sotho-Stamme. Der
Versuch eines Vergleichs // Wiener Volkerk undliche Mitteitungen. 1996 /
1970. Bd. XI – XII. S. 14.
5. О связи традиционных объединений молодежи славянских народов XIX –
начала XX в. с древней половозрастной организацией см.: Зибер Н. И. Еще о
братствах // Слово. 1881. №1; Вовк Хв. Студii з украiнскоi етнографii та
антропологii. Киiв, 1995. С. 228 –229; Семенов Ю. И. Происхождение брака и
семьи. М.,1974. С. 185.
6. Заглада Н. Побут селянськоi дитини. Матерiали до монографii с.
Старосiлля. Киiв, 1929. С. 30; см. также: Балушок В. Парубочi iнiцiацii в
украiнському традицiйному селi // Родовiд. 1994 №7; о западных славянах
см.: Хорватова Э. Традиционные юношеские союзы и инициационные обряды у
западных славян // Славянский и балканский фольклор. М,. 1989
7. Термин немецкой исследовательницы Р. Бекер, см.: Becker R. Die
Weibliche initiation in ostslawischen Zaubermarchen. Der Figur der
Baba-Jaga. B., 1990. S. 12f.
8. Былины/Сост., автор предисловия и вводн. текст. В. И. Калугин. М.,
1986. С 57 – 58.
9. Грабович О. Думи як символiчний код перказу культурних цiнностей //
Родовiд 1993. №5; см. также: Кирдан Б. П. Украинские народные думы (XV –
начало XVII в.). М., 1962. С. 244 – 252.
10. Об отражении в мифологических рассказах об оборотнях древнеславянских
инициаций и молдодедных союзов см. также Ито И. Указ. Раб.; Ridley R. A.
Wolf and Werewolf in Baltic and Slavic Tradition // The Journal of
Indo-European Studies. 1976/ V. 4.
11. Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие
симиотические системы. М., 1965. С. 173, 175.
12. Becker R. Op. Cit. S. 71 – 72.
13. Васильков Я. В. древнеиндийский вариант сюжета о «безобразной невесте»
и его ритуальные связи // Архаический ритуал в фольклорных и
раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 141; Савченко Ф. Парубоцькi та
дiвоцькi громади на Украiнi // Первiсне громадянство та його пережиткт на
Украiнi. 1926. Вип. 3. С. 89.
14. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 82 – 85;
народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3-х т. / Изд. Подг. Л. Г.
Бараг, Н. В. Новиков. М., 1984 – 1985. № 162, 171,176,204,206; Кулиш П.
Записки о Южной Руси. СПб., 1857. Т. 2. С. 49.
15. Becker R. Op. Cit. S. 101.
16. Пропп В. Я. Указ. Раб. С. 219; Народные русские сказки А. Н.
Афанасьева. № 134, 138, 159, 212.
17. Трубачов О. Н. Указ. Раб. С. 173 – 174.
18. Виноградова Л. Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской
календарной обрядности // Славянский и балканский фольклор. М., 1981. С.
23.
19. Стрижевский И. Свадьба в деревне // Киевская старина. 1896. № 3. С.
305; Также запись автора 1994 г. в Барском р-не Винницкой обл.
20. См.: История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины.
М., 1986. С. 380 – 381; Еремина В. И. Ритуал и фольклор. Л., 1991. С. 7.
21. Becker R. Op. Cit. S. 132 - 133.
22. Пропп В. Я. Указ. Раб. С. 219 – 242.
23. Петров В. Кузьма-Демъян в украiнському фольклорi//Етнографiчний
вiсник. 1930. Кн. 9. C. 215
24. Три золотi Слова. Закарпатськi Казки В. Короловича/Запис текстiв та
впорядкув. П. В. Лiнтура Ужгород, 1968. С. 142—143.
25. О Велесе, как покровителе инициаций и хозяине тайных знаний см.:
Ridley R. А. Ор. Cit.; Балушок В. Г. Инициации древних славян.
26. Савченко Ф. Указ. Раб. С. 83.
27. Пропп В. Я. Указ. Раб. С. 61—81. 28. cm.: Былины. С. 57; Иванов В. В.,
Топоров В. Н. Змей Огненный Волк//Мифологический словарь. М.. 1991. С.
223; Jakobson R., Szeftel V. The Vseslav Epos//Russian Epic Studies.
Philadelphia. 1949.
29. Српске народне пjесме, скупио их и на свиjеи издао Вук Стеф. Kapauuh.
Београд, 1977. Кн. 1 № 239.
30. Иванчик А. И. Воины-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю
Азию//Сов. этнография. 1988. №5. С. 42— 43.
31. Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. М.,
1965. С. 278.
32. Трубачев О. Н. Указ. Раб. С. 202—203.
33. Гнатюк В. Вибранi статтi Про народну творчiсть. Нью-Йорк, 1981. С.
195;Народнi оповiдання и казки (етнографiчнi матерiали), зiбранi В.
Кравченком. Житомир, б. Г. Т. 11. С. 52—53: Ящуржинский X. П О
превращениях в малорусских сказках//Украiнцi народнi вiрування, повiръя,
демонологiя. Киiв, 1991 С. 556; Овшан-Зiлля. Легенди та перекази
Подiлля/3iбрав та впорядкував П. Медведик. Львiв, 1992 С. 74.
34. Драгоманов М. П. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876.
№ 9. Ито И. Указ. раб. С. 127.
35. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы.
Тбилиси, 1984. Кн. II С. 599; Ито И. Указ. Раб. С. 127.
36. Иванчик А. И. Указ. Раб. С. 43—48.
37. Булашев Г. Украiнський народ у cвoix легендах, релiгiних поглядах та
вiруваннях. Киiв, 1992, С. 171-179.
38. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 119—120.
39. Tokarska J., Wasilewski J. S., Zmkystowska М. Smierc jako organizator
kultury//Etnografia polska 1982. T. XXVI. Z. 1. S. 100.
40. Worterbuch der deutschen Volkskunde/Bergrundet von O. A. Erich und R.
Beitl. Stuttgart, 1974 S. 60—61,79.
41. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Указ. Раб. С. 498.
42. Moszynski К. Kultura ludova Slowian. Т. II. Kultura duchowa. Cz. 1.
W-wa, 1967. S. 573.
43. Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и
поэзия. М., 1880. С. 272 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная
сила. Спб., 1903. С. 106.
44. Гнатюк В. Указ. Раб. С. 195; Драгоманов М. П. Указ. Раб. № 10;
Бессараба И. В. Материалы для этнографии Херсонской губернии. Пг., 1916.
С. 48.
45. Иванов В. В., Топоров В. Н. Волкодлак//Мифы народов мира. М., 1991. Т.
1. С. 242—243.
46. Балушок В. Iнiцiацii запорозьских козакiв//Слово i час. 1994. № 6;
Грабович О. Указ. Раб.
47. Tokarska J, Wasilewski J. S., Zmуstowska М. Ор. Cit. S. 96.
48. Кардини Ф. Указ. раб. С. 112.
49. Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения
Северо-Западного края СП6., 1902. Т. III. С. 253.
50. Gloger Z. Encyklopedia staropolska ilusirowana. W-wa, 1972. T. U.S.
171.
51. Cm.: Иванов В. В. Волк//Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 242.
52. Ито И. Указ. Раб.
53. Иванов В. В., Топоров В. Н. Волх//Мифологический словарь. С. 129.
54. Jakobson R., Sieftel М. Ор. Cit.
55. Иванчик А. И. Указ. Раб. С. 41.
56. Савур-могила. Легенди та перекази Нижньоi Надднiпрянщини/Упорядник i
автор примiток В. А. Чабаненко. Киiв, 1990. С. 113—117. Залiзняк. Указ.
Раб. С. 161—162.
57. Schindler М. Die Kuenringer in Sage und Legende. Wien, 1981. S. 32.
58. Яковенко Н. М. Украiнська шляхта з кiнця XVI до середини XVII ст.
(Волинь i Центральна Украина). Киiв, 1993. С. 156, 158.
автор :
Балушок В.Г.
Древнеславянские молодежные союзы и обряды инициации
Проблема реконструкции древнеславянских юношеских инициации и связанных с
ними половозрастных объединений очень сложна. Сложность определяется
большой временной отдаленностью этих явлений от наших дней. Ведь прямых
сведений о ритуалах и молодежных объединениях, как и вообще о
соционормативной культуре и ритуальной жизни древних славян, мы
практически не имеем. Из глубины веков до нас дошли лишь их глухие
отзвуки. Собственные славянские летописи, хроники, известия античных,
византийских и восточных авторов отражают жизнь славян уже в поздний
период их догосударственной истории. К тому же полнота этого отражения
далека от желаемой.
Вместе с тем лингвисты отмечают большую развитость уходящей в глубь
тысячелетий праславянской терминологии, касающейся культурных реалии и
социальной жизни1. Поэтому реконструировать эти, как и другие явления
древнеславянской архаической культуры, ученым приходится на основании
непрямых и вдобавок весьма основательно «зашифрованных» временем данных,
которые распылены в различных сферах древнего культурного наследия.
И все же, несмотря на все трудности, исследователям удается добиться
определенных успехов в дешифровке этих свидетельств глубокой древности.
Тему древнеславянских юношеских инициации и молодежных союзов посвятил две
публикации и автор данной статьи2. Теперь задача состоит в том, чтобы по
возможности углубить и конкретизировать наши знания о древнеславянской
половозрастной организации и связанных с ней ритуалах, в том числе об
инициациях и молодежных объединениях, чему и посвящена данная статья.
В статье «Инициации древних славян (попытка реконструкции)» нами
схематично был нарисован начальный этап древнеславянской юношеской
инициации выделение инициируемых из общины и уход их в особый лагерь, где
должен был совершаться обряд. Как же конкретно проходило это событие?
Исследования этнографов свидетельствуют, что начало юношеской возрастной
инициации у народов первобытного общества3 связано с отнесением
мальчиков-подростков к особой группе ровесников (возраст членов группы
несколько колеблется). Часто при этом большую роль играют насмешки старших
носящие ритуальный характер. Для того чтобы противостоять насмешкам
главным образом со стороны уже прошедших инициацию юношей, а также
девушек, подростки приблизительно одного возраста постепенно образуют
тесно сплоченные группы. В конце концов, через несколько лет,
подготовленные общественным мнением, в котором большую роль играет
длительное ритуальное подсмеивание, они оставляют селение и уходят в
особый лагерь4.
Нечто подобное, очевидно, имело место и у древних славян. Об этом можно
судить по материалам, касающимся традиционных объединений молодежи у
украинцев, словаков, чехов, поляков, а также, в меньшей мере, у русских и
белорусов. Данные объединения являются архаическими по происхождению и
содержат много черт древней половозрастной организации5. В рамках
традиционной половозрастной градации украинцев, а также западных славян,
выделение мальчиков в особую подростковую группу начиналось с 6-8 лет.
Постепенно, взрослые мальчики составляли тесно сплоченную группу, в
которой пребывали до 14-16 летнего возраста. Дальше, пройдя обряды
посвящения, они становились членами объединения взрослых юношей. Особенно
четко оформленными такие группы подростков были на украинском Полесье, где
исследователи отмечают их большое сходство с подростковыми группами
архаических обществ6.Большую роль в сплочении подростковой группы играли,
как уже отмечалось, насмешки со стороны девушек и взрослых парней.
Последние часто не ограничивались только словами, но и переходили «к
делу»: могли забросить шапку подростка на крышу, снять с него штаны,
подвесить вниз головой и т. д. Стремление противостоять этим действиям и
стать в итоге членами взрослой молодежной компании сплачивало подростков в
единую группу.
В фольклоре частично нашло отражение выделение в древности мальчиков в
группу подростков-прединициантов. Например, из так называемых
инициационных сказок7 можно узнать об оставлении мальчиками дома в семь
лет (сказки о «семилетке» и др.). Герой одной из самых архаичных былин
Волх Всеславьевич ушел из дому «десяти годов», собирал дружину (юношеский
союз древней эпохи) «двенадцати годов» и обучал ее военным и охотничьим
«премудростям» до «пятнадцати годов»8. Ивась Коновченко — семилетний
казак-богатырь, герой украинской думы9. Она уходит своими истоками в
глубокую древность и генетически родственна былинам. В ней отразились,
согласно мнению американской исследовательницы О. Грабович, обряды
инициаций.
Лагерь инициации, как определил на материале сказок В. Я. Пропп, находился
в лесу. Это подтверждают и мифологические рассказы о волкодлаках, в
которых нашли отражение древние инициации10. Добавлю, что «чистое поле», в
котором, как и в лесу, проживают превращенные в волков, в
восточнославянском фольклоре часто выступает одним из вариантов леса11.
Женские инициации древние славяне, как показала Р. Бекер, тоже проводили в
лесу12. Проведение инициации в лесу подтверждается и данными родственных
славянам индоарийской, германской и других традиций13. Лес же, согласно
верованиям славян, традиционно приравнивался к потустороннему миру и
противопоставлялся как территория «чужая» и «неосвоенная» «своему»,
«освоенному» дому. Материалы сказок свидетельствуют, что отправляли
подростков в лагерь инициации отцы, реже — братья, дядья14. В женских
«инициационных сказках» девушек из дома также отправляли отцы15. Исходя из
фольклорно-этнографического материала, можно допустить, что определенная
символическая роль в ходе инициации отводилась реке как границе между
«этим» и «тем» светом. В сказках река представляет собой рубеж, через
который герою необходимо переправиться, чтобы попасть в иное царство.
Последнее выступает эквивалентом потустороннего мира, в котором проходят
инициационные испытания16. Это же подтверждают и лингвисты. Они отмечают,
что в древнеславянских названиях потустороннего мира и связанных с ним
явлений река также служит границей между мирами17. В качестве границы
между миром живых и миром мертвых река (вода, морс) выступает и в
свадебной, и в календарной поэзии славян.
Переход через воду в фольклоре есть символ не только перехода из одного
мира в другой, но и перемены социального статуса, в частности, перехода из
добрачного состояния в брачное. Как показывают исследования, в древнюю
эпоху у славян в ходе брачных ритуалов совершались обрядовые действия у
реки. Она служила символическим рубежом перехода молодых людей в другой
статус18. Остатком этого обряда, думается, является обрядовое «переливание
пути» свадебной процессии, возвращающейся из церкви после венчания. Оно и
поныне бытует среди украинцев на Волыни и в Подолии19. Как показывают
исследования, брачный ритуал - стадиально более поздний, по сравнению с
инициационным ритуалом, включал в себя ряд элементов последнего20. Поэтому
можно предположить, что лагерь инициации действительно находился за рекой,
которая служила символической границей между мирами.
В лесном лагере инициируемые переживали ритуальную смерть. Это главная
черта лиминальной фазы инициации. Причем имела место не только ритуальная
смерть, но и «проглатывание» инициируемых мифическим чудовищем.
Символическое пожирание чудовищем с последующим их «отрыгиванием» — часть
обрядов посвящения юношей у многих народов первобытного общества. То же
самое было характерно и для европейских народов в архаическую эпоху, в
частности, в Дунайском регионе21. Именно пребывание во чреве чудовища
давало инициируемым магические знания и власть над окружающим миром,
приобретение которых является одним из главных моментов инициации.
Материал сказок свидетельствует о «пожирании» чудовищем посвящаемых юношей
и у наших предков в древности22. В большинстве случаев в сказке героя
проглатывает Змеи, иногда он заменен чудовищным волком (Железный Волк и т.
д.).
Известия об этом ритуальном действии донесли до нас не только сказки.
Мотив проглатывания героев Змеем с их последующим «отрыгиванием»
содержится также в украинских легендах кузьмодемьяновского цикла23. Есть
сказки, в которых рассказывается и о том, как герой, будучи проглоченным и
отрыгнутым Змеем, получает необходимые знания и материальные блага24.
Можно думать, что в действительности иницианта бросали в пасть чучела
Змея-Велеса — покровителя инициации и хозяина тайных знаний25, как это
засвидетельствовано у народов первобытного общества в историческую эпоху.
Подтверждением этого может служить и обряд посвящения в объединение
косарей у поляков, которые устраивали особое сооружение из накрытых травой
кос и заставляли иницианта пролезать туда. При этом парню мазали лицо
черной краской, (символ смерти), бросали под ноги поленья, через которые
он должен был перебираться. После «появления на свет» юношу брили и
нарекали новым именем или прозвищем, как будто он действительно родился
вновь26. О «пожирании» юноши чудовищем в ходе инициации свидетельствовали
кровавые раны, полученные им при влезании во чрево чучела чудовища, что
выявил на материалах сказок В. Я. Пропп27. Что касается чучела Велеса, то
инициант, освободившись, «рождался» вновь, получая от него эзотерические
знания. С этим перекликается мотив героического эпоса о рождении оборотней
колдунов Волха Всеславьевича и сербского князя Вука от Змея, который
выступает их отцом28. В сербских мифических песнях говорится о том, как
Змей, превратившись в доброго молодца, вступал в связь с девушками и в
итоге рождались змееныши-юнаки (богатыри)29.
Можно предположить, что божество-покровитель инициации выступало в ходе
инициации и в ипостаси Железного Волка, как у некоторых родственных
славянам народов, например, у иранцев30. О волчьей ипостаси
божества-покровителя свидетельствуют и восточнославянские сказки, в
которых Волк заменяет Змея. В связи с этим следует указать, что в
мифологии индоевропейских, в том числе славянских, народов образы Змея и
Волка взаимозаменяемы31. Вспомним также сербского Змея Огненного Волка или
эпического героя - Змея Деспота Вука (т.е. Волка).
Лиминальное состояние инициантов, когда они подвергались всяческим
унижениям и испытаниям (голодание, побои, лишение сна и д.р.), отразилось
в языке. Так, лингвисты отмечают происхождение некоторых славянских
терминов (*огbъ, *otrokъ, *хоlръ) от слов, которыми ранее называли
проходивших инициацию подростков. Слово *хоlръ представляет собой
суффиксальное производное от глагола *xoliti в значении «стричь очень
коротко», т. е. указывает на ритуальные постриги посвящаемых32.
Одним из важнейших моментов древнеславянской юношеской инициации было
ритуальное перерождение посвящаемых в волков. Вместе с тем, у некоторых
славянских племен или общин, очевидно, параллельно бытовало и ритуальное
перерождение в медведей, хотя оно и было менее распространено. А образ
волка, в которого «превращался» инициант, иногда смешивался с «псом».
Известно, что среди славян были распространены мифологические рассказы о
превращение людей не только в волков, но и в собак33. В некоторых
рассказах человек превращается то в волка, то в пса. В этой связи обращает
на себя внимание тот факт, что волков называют «собаками» Волчьего
пастуха, а св. Юрия (Георгия) считают покровителем волков34. Сходные
представления бытовали и у соседей славян. Так, древние германцы именовали
двух священных волков спутников Иотана-Одина его «собаками». Румыны
называли волков «псами» св. Петра, а эстонцы — «щенками» св. Юрия. Вообще
же смешивание «собаки» и «волка» характерно для многих, в особенности для
индоевропейских, мифологических традиций35. В древности у этих народов
иницианты «перерождались» не только в волков, но и в псов, что связано,
очевидно, со спецификой инициаций у разных народов. Имело место и
смешивание образов волка и пса, как это было, к примеру, у скифов, у
которых иницианты считались и «псами», и «волками» одновременно36.
Превращение человека в собаку при инициации нашло отражение и в легендах о
собакоголовых (укр. песиголовцi). Исследователи часто объясняют
возникновение этих сюжетов влиянием апокрифической литературы, куда они, в
свою очередь, попали из произведений античных писателей37. Указанное
влияние апокрифической литературы на славянские, в частности на украинские
и русские, легенды о собакоголовых не вызывает сомнения и выражается в
определенном сходстве этих сюжетов с античными. Вместе с заимствованными
элементами в славянских легендах о собакоголовых присутствует, на наш
взгляд, и древний фольклорно-мифологический субстрат, принадлежащий
автохтонной этнической традиции. Тем более что здесь в основе и
заимствованных, и местных мотивов лежат типологически одинаковые явления.
Ведь в основу греко-римских рассказов о кинокефалах, которые,
контаминировав с сюжетами о циклонах, позже попали в христианскую
апокрифическую литературу, легли древние, связанные с инициациями,
представления о людях-псах. Представления о собакоголовых, аналогичные
славянским, известны у кельтов, а также у германцев. Причем о них
свидетельствуют не только древние мифы и легенды, но и раннесредневековые
писатели. В частности, Павел Диакон писал, что в войске союза племен
лангобардов, которые в 568 г. вторглись в Италию, были и «собакоголовые»
воины38. К этому следует добавить, что и у славян существовал культ пса39.
Кроме того, у них получили распространение сказочные мотивы, в которых
герой часто является «сыном собаки» — Сучичем, Сученком, Сукевичем и т.д.
Помимо «людей-волков» и «людей-псов» у некоторых индоевропейских народов
известны и «люди-медведи», образы которых обнаруживают связь с
архаическими ритуалами инициации. Особенно характерны эти представления
для древних германцев, у которых иницианты «перерождались» не только в
волков, но и в медведей. Это так называемые Barenhanter(«носящие медвежьи
шкуры») у немцев и Barserker («одетые в медвежьи шкуры») у скандинавов40.
Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов отмечают, что на лингвистическом
материале большая роль медведя в культовой практике и мифологии
прослеживается в основном в балто-славяно-германском регионе и
сравнительно слабо представлена у других индоевропейцев41.
Фольклорный материал подтверждает вывод указанных исследователей
относительно славян. Так, культ медведя известен у белоруссов и у
болгар42. У русских, особенно в северных районах, также бытовал культ
медведя как хозяина зверей. У русских известно поверье о том, что медведь
раньше был человеком. В некоторых местностях, например в Вологодской
губернии, верили, что колдуны превращают людей не только в волков, но и в
медведей43. У украинцев также зафиксированы легенды, хотя и относительно
немногочисленные, о прекращении человека Богом в медведя, которого Господь
хотел испугать, надев вывернутый шерстью наружу тулуп44 (аналог звериной
шкуры).
В. В. Иванов и В. И. Топоров, объясняя происхождение славянских терминов,
употребляющихся для обозначения «людей-волков» (старосл. влъкодлак, рус.
волкодлак, чеш. vilkodlak и др.), считают обычную их этимологию из
праславянских *volkъ (волк) и *dolka (шерсть) народной. Они выводят второй
компонент из славянского *dlak-, родственного Лалтийскому *tlak-, что
означает «медведь»45. Все это позволяет предположить, что у некоторых
древнеславянских племен или общин иницианты ритуально перерождались не в
волков, а в медведей.
Ритуал «превращения» человека в зверя включал надевание звериной шкуры,
особые танцы экстатического тина, а также употребление галлюциногена,
создававшего у инициируемых эффект такого перерождения. Использование
галлюциногенов во время юношеских инициации, возможно, подтверждается
применением алкоголя в инициациях исторического времени. В частности,
алкоголь применяли запорожские казаки при своих посвящениях46, а также
поляки, у которых иницианта спаивали до потери сознания47.
Кроме употребления галлюциногенов происходило, вероятно, и поедание
инициируемыми особой ритуальной пищи, как это вообще принято у многих
народов при проведении инициации. У древних германцев иницианты, которые
«превращались» в волков и медведей, ели их мясо и пили их кровь. Это, как
верили в древности, придавало посвящаемым силу, ярость и другие качестве
данных хищников48. Мифологические рассказы о волкодлаках также повествуют,
о том, что в ряде случаев «превращенные в волков» поедают печень и сердце
животных. Эти органы, в соответствии с народными верованиями, — место
средоточия жизненных сил. Возможно, об употреблении инициантами крови и
мяса волка в древности свидетельствует и тот факт, что в описанном П. В.
Шейном обряде превращении человека в волка на превращаемого капали волчью
кровь49. Среди польских охотников зафиксированы особые посвящения, в ходе
которых иницианты поедали волчью печень и им мазали лицо кровью первого
убитого ими зверя50.
Пройдя обряды превращения в волков, псов или медведей, юноши становились
членами «звериных» союзов, о которых подробно говорилось в нашей статье
«Инициации древних славян». Эти объединения, будучи типичными мужскими
молодежными союзами первобытной эпохи, свидетельствуют о существовании у
древних славян развитой половозрастной организации и дают представление об
одной из ее важных структурных частей. Автор трактовал пребывание юношей в
составе таких союзов как один из этапов инициации. Может возникнуть вопрос
правомерно ли это? Учитывая многочисленные испытания, которые проходили
юноши, их поведение, характеризуемое ярко выраженной лиминальностью, а
также наличие заключительных обрядов, знаменовавших завершение пребывания
молодых людей в статусе «зверей» за пределами социального мира и
возвращение их в мир людей, думаю, что такая трактовка допустима.
Главными занятиями членов «волчьих» и «медвежьих» союзов были разбои и
война с врагами своего племени, а также охота. Водил молодых
воинов-«зверей» в бой вождь-колдун. Реминисценцией его образа в какой-то
мере являются «родимые» волкодлаки из мифологических рассказов об
оборотнях. Такие волкодлаки делятся на колдунов, основным занятием которых
является лишь превращение людей в волков (отражение жрецов-инициирующих, о
чем смотри в указанной выше статье), и на колдунов, главное занятие
которых - разбой. С целью разбоя они сами превращаются в волков и иногда
превращают в них других.
В древних мифах индоевропейских народов вожди также выступают в образах
волков, имея способность к такому превращению51. Японский фольклорист И.
Ито, проанализировав фольклорный и языковой материал, пришел к выводу о
существовании у славян в прошлом подобных вождей-«кудесников»52.
Указанными способностями владеет в одной из древнерусских летописей и в
«Слове о полку Игореве» князь Всеслав Полоцкий. Колдунами являются
былинные 6oгатыри-оборотни Волх Всеславьевич и Вольга. В новгородском
книжном предании о Волке-чародее, которое содержит переклички между
мифологическими образами Волха и Волка, старший сын легендарного Словена
Волх был «бесоугодный чародей»53. Подобно Всеславу, Волху и Вольге в
сербской эпической традиции колдуном выступает вук Гругрович, а в юнатских
песнях - Змей Деспот Вук54.
Такие же вожди-волки, псы, медведи, владеющие колдовскими способностями
известны и у других индоевропейских народов — кельтов, германцев,
иранцев55. Колдуном, умевшим превращаться в пса и, возможно, в волка,
выступает в украинском фольклоре известный кошевой атаман запорожцев Иван
Сирко55. Само прозвище «атаман», полученное согласно запорожским обычаям,
в Сечи, имеет явную волчье-собачыо этимологию, поскольку является одним из
наиболее распространенных в Украине собачьих имен. Вообще «звериные»
имена, которые представляют собой отголосок древней традиции, были весьма
распространены в Европе, в том числе в среде феодально-служилой знати, в
период раннего средневековья и даже позднее57. А имена Волк, Волчко, Зверь
еще в XIV XV вв. принадлежали к так называемым некалендарным именам,
употреблявшимся параллельно с христианскими среди украинского и
белорусского боярства58.
1. Трубачев О. Н. Этногинез и культура древнейших славян. Лингвистические
исследования. М., 1991. С. 54 и др.
2. Балушок В. Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции)//
Этнографическое обозрение. 1993. №4, там же см. библиографию. Из работ,
появившихся позже, следует назвать: Ито И. «волкодлак» и «волчий пастух» -
два общеславянских фольклорных мотива, связанных с культом волка //
Comprative and contrastive studies in Slavic languages and literatures.
Japanese Contributions the XI-th International Congress of Slavists.
Bratislava. Aug. 31 – Sept. 7, 1993, Tokyo, 1993; Залiзняк Л. Нариси
стародавньоi iсторii Украiни. Киiв, 1994; Балушок В. Роль жiнки в
iнiцiацiях давнiх словъян // Родовiд. 1994 №9.
3. В авторском тексте был употреблен термин «народы природы». Поскольку
этот термин никогда не имел широкого хождения и к настоящему времени
безнадежно устарел, редакция журнала нашла уместным заменить его на
общепринятый термин «народы первобытного общества». – Примеч. ред.
4. Подробнее см.: Raum J. W. Die Junglingsweien der Sud-Sotho-Stamme. Der
Versuch eines Vergleichs // Wiener Volkerk undliche Mitteitungen. 1996 /
1970. Bd. XI – XII. S. 14.
5. О связи традиционных объединений молодежи славянских народов XIX –
начала XX в. с древней половозрастной организацией см.: Зибер Н. И. Еще о
братствах // Слово. 1881. №1; Вовк Хв. Студii з украiнскоi етнографii та
антропологii. Киiв, 1995. С. 228 –229; Семенов Ю. И. Происхождение брака и
семьи. М.,1974. С. 185.
6. Заглада Н. Побут селянськоi дитини. Матерiали до монографii с.
Старосiлля. Киiв, 1929. С. 30; см. также: Балушок В. Парубочi iнiцiацii в
украiнському традицiйному селi // Родовiд. 1994 №7; о западных славянах
см.: Хорватова Э. Традиционные юношеские союзы и инициационные обряды у
западных славян // Славянский и балканский фольклор. М,. 1989
7. Термин немецкой исследовательницы Р. Бекер, см.: Becker R. Die
Weibliche initiation in ostslawischen Zaubermarchen. Der Figur der
Baba-Jaga. B., 1990. S. 12f.
8. Былины/Сост., автор предисловия и вводн. текст. В. И. Калугин. М.,
1986. С 57 – 58.
9. Грабович О. Думи як символiчний код перказу культурних цiнностей //
Родовiд 1993. №5; см. также: Кирдан Б. П. Украинские народные думы (XV –
начало XVII в.). М., 1962. С. 244 – 252.
10. Об отражении в мифологических рассказах об оборотнях древнеславянских
инициаций и молдодедных союзов см. также Ито И. Указ. Раб.; Ridley R. A.
Wolf and Werewolf in Baltic and Slavic Tradition // The Journal of
Indo-European Studies. 1976/ V. 4.
11. Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие
симиотические системы. М., 1965. С. 173, 175.
12. Becker R. Op. Cit. S. 71 – 72.
13. Васильков Я. В. древнеиндийский вариант сюжета о «безобразной невесте»
и его ритуальные связи // Архаический ритуал в фольклорных и
раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 141; Савченко Ф. Парубоцькi та
дiвоцькi громади на Украiнi // Первiсне громадянство та його пережиткт на
Украiнi. 1926. Вип. 3. С. 89.
14. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 82 – 85;
народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3-х т. / Изд. Подг. Л. Г.
Бараг, Н. В. Новиков. М., 1984 – 1985. № 162, 171,176,204,206; Кулиш П.
Записки о Южной Руси. СПб., 1857. Т. 2. С. 49.
15. Becker R. Op. Cit. S. 101.
16. Пропп В. Я. Указ. Раб. С. 219; Народные русские сказки А. Н.
Афанасьева. № 134, 138, 159, 212.
17. Трубачов О. Н. Указ. Раб. С. 173 – 174.
18. Виноградова Л. Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской
календарной обрядности // Славянский и балканский фольклор. М., 1981. С.
23.
19. Стрижевский И. Свадьба в деревне // Киевская старина. 1896. № 3. С.
305; Также запись автора 1994 г. в Барском р-не Винницкой обл.
20. См.: История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины.
М., 1986. С. 380 – 381; Еремина В. И. Ритуал и фольклор. Л., 1991. С. 7.
21. Becker R. Op. Cit. S. 132 - 133.
22. Пропп В. Я. Указ. Раб. С. 219 – 242.
23. Петров В. Кузьма-Демъян в украiнському фольклорi//Етнографiчний
вiсник. 1930. Кн. 9. C. 215
24. Три золотi Слова. Закарпатськi Казки В. Короловича/Запис текстiв та
впорядкув. П. В. Лiнтура Ужгород, 1968. С. 142—143.
25. О Велесе, как покровителе инициаций и хозяине тайных знаний см.:
Ridley R. А. Ор. Cit.; Балушок В. Г. Инициации древних славян.
26. Савченко Ф. Указ. Раб. С. 83.
27. Пропп В. Я. Указ. Раб. С. 61—81. 28. cm.: Былины. С. 57; Иванов В. В.,
Топоров В. Н. Змей Огненный Волк//Мифологический словарь. М.. 1991. С.
223; Jakobson R., Szeftel V. The Vseslav Epos//Russian Epic Studies.
Philadelphia. 1949.
29. Српске народне пjесме, скупио их и на свиjеи издао Вук Стеф. Kapauuh.
Београд, 1977. Кн. 1 № 239.
30. Иванчик А. И. Воины-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю
Азию//Сов. этнография. 1988. №5. С. 42— 43.
31. Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. М.,
1965. С. 278.
32. Трубачев О. Н. Указ. Раб. С. 202—203.
33. Гнатюк В. Вибранi статтi Про народну творчiсть. Нью-Йорк, 1981. С.
195;Народнi оповiдання и казки (етнографiчнi матерiали), зiбранi В.
Кравченком. Житомир, б. Г. Т. 11. С. 52—53: Ящуржинский X. П О
превращениях в малорусских сказках//Украiнцi народнi вiрування, повiръя,
демонологiя. Киiв, 1991 С. 556; Овшан-Зiлля. Легенди та перекази
Подiлля/3iбрав та впорядкував П. Медведик. Львiв, 1992 С. 74.
34. Драгоманов М. П. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876.
№ 9. Ито И. Указ. раб. С. 127.
35. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы.
Тбилиси, 1984. Кн. II С. 599; Ито И. Указ. Раб. С. 127.
36. Иванчик А. И. Указ. Раб. С. 43—48.
37. Булашев Г. Украiнський народ у cвoix легендах, релiгiних поглядах та
вiруваннях. Киiв, 1992, С. 171-179.
38. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 119—120.
39. Tokarska J., Wasilewski J. S., Zmkystowska М. Smierc jako organizator
kultury//Etnografia polska 1982. T. XXVI. Z. 1. S. 100.
40. Worterbuch der deutschen Volkskunde/Bergrundet von O. A. Erich und R.
Beitl. Stuttgart, 1974 S. 60—61,79.
41. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Указ. Раб. С. 498.
42. Moszynski К. Kultura ludova Slowian. Т. II. Kultura duchowa. Cz. 1.
W-wa, 1967. S. 573.
43. Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и
поэзия. М., 1880. С. 272 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная
сила. Спб., 1903. С. 106.
44. Гнатюк В. Указ. Раб. С. 195; Драгоманов М. П. Указ. Раб. № 10;
Бессараба И. В. Материалы для этнографии Херсонской губернии. Пг., 1916.
С. 48.
45. Иванов В. В., Топоров В. Н. Волкодлак//Мифы народов мира. М., 1991. Т.
1. С. 242—243.
46. Балушок В. Iнiцiацii запорозьских козакiв//Слово i час. 1994. № 6;
Грабович О. Указ. Раб.
47. Tokarska J, Wasilewski J. S., Zmуstowska М. Ор. Cit. S. 96.
48. Кардини Ф. Указ. раб. С. 112.
49. Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения
Северо-Западного края СП6., 1902. Т. III. С. 253.
50. Gloger Z. Encyklopedia staropolska ilusirowana. W-wa, 1972. T. U.S.
171.
51. Cm.: Иванов В. В. Волк//Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 242.
52. Ито И. Указ. Раб.
53. Иванов В. В., Топоров В. Н. Волх//Мифологический словарь. С. 129.
54. Jakobson R., Sieftel М. Ор. Cit.
55. Иванчик А. И. Указ. Раб. С. 41.
56. Савур-могила. Легенди та перекази Нижньоi Надднiпрянщини/Упорядник i
автор примiток В. А. Чабаненко. Киiв, 1990. С. 113—117. Залiзняк. Указ.
Раб. С. 161—162.
57. Schindler М. Die Kuenringer in Sage und Legende. Wien, 1981. S. 32.
58. Яковенко Н. М. Украiнська шляхта з кiнця XVI до середини XVII ст.
(Волинь i Центральна Украина). Киiв, 1993. С. 156, 158.
автор :
Балушок В.Г.
Серия сообщений "славянское язычество":
Часть 1 - СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Часть 2 - Храним память былых времён?
Часть 3 - Красная горка (Антипасха)
Часть 4 - Молодёжные инициации у славян
Часть 5 - Славянский обрядовый танец
Часть 6 - Уряд свадебный от Велеслава
...
Часть 30 - >Сорванные цветы...
Часть 31 - О писанках..
Часть 32 - Как наши предки почитали деревья
|
|
Родное гнездо |
Родное гнездо
Местность, вид, окрестность вместе со всею землею,
водою и небом называли в народе общим словом — природа.
Кому не понятно, что по красоте она разная в разных
местах? Тут раскинулись болота с чахлыми сосенками, там
вздымаются роскошные холмы, обросшие мощными соснами. В
одной стороне нет даже малой речушки, воду достают из
колодцев, а в другой река и озеро, да еще не одно, да и
еще и на разных уровнях, как в Ферапонтове. Природная
красота и эстетические природные особенности той или
другой волости наверняка влияли на обычные чувства
людей. Но никогда и нигде не зависело от них чувство
родины. Ощущение родного гнезда вместе с восторгом
младенческих, детских и отроческих впечатлений рождается
стихийно. Родная природа, как родная мать, бывает только
в единственном числе. Все чудеса и красоты мира не могут
заменить какой-нибудь невзрачный пригорок с речной
излучиной, где растет береза или верба. Пословица по
этому случаю говорит кратко: “Не по хорошему мил, а по
милу хорош”.
Еще милее становятся родные места, когда человек
приложил к ним руки, когда каждая пядь близлежащей земли
знакома на ощупь и связана с четкими бытовыми
воспоминаниями.
Родной дом, а в доме очаг и красный угол были
средоточием хозяйственной жизни, центром всего
крестьянского мира. Этот мир в материально-нравственном
смысле составлял последовательно расширяющиеся круги,
которые замыкали в себе сперва избу, потом весь дом,
потом усадьбу, поле, поскотину, наконец, гари и дальние
лесные покосы, отстоящие от деревни иногда верст на
десять-пятнадцать.
Природа начиналась сразу же за воротами. Но чем
дальше от дома, тем более независимой и дикой она
становилась. В дальних малодоступных местах самые
незаметные следы человеческого пребывания получали
особое значение: зарубка, едва проторенная тропа, просто
камень в ручье или приметное место, где человек отдыхал.
Лесная нетронутая глушь в сочетании с такими редкими
деталями, а также с различными случаями (например,
встреча с медведем) приобретали волнующую неповторимость
и вместе какую-то странную близость. Такой лес и пугал,
и успокаивал, и мучил, и ласкал, и угнетал, и бодрил.
Человеку в той же мере, как тяга к общению,
свойственно и стремление к уединению. Эти
центростремительные и центробежные силы (если говорить
языком физиков) уравновешивались в крестьянском быту
одинаковыми возможностями. Потребность как в общении,
так и в уединении проявлялась очень рано. В детстве тяга
к уединению заметна, например, в игре “в клетку”, когда
ребенок играет в маленький, но все-таки в свой дом. В
молодости необходимость уединения, особенно девического,
сказывается еще ярче. Очень заметна она и в старости, не
говоря уже о периоде супружеской жизни.
Лес давал человеку добрую возможность побыть
одному, пофилософствовать, успокоиться и поразмыслить о
своих отношениях с людьми. Такие раздумья, однако ж,
никогда не были самоцелью, они неизменно сопровождали
какое-нибудь занятие. (Самое тяжелое дело в лесу — это
раскорчевка под пашню. Самое легкое — собирание грибов и
ягод.)
Михаил Ильич Кузнецов, замечательный знаток
материально-бытовой культуры русского Севера, пишет:
“Редкий случай, когда житель Севера, проживающий в
окружении леса, не найдет возможности заменить металл
деревом. Чего нет в ельнике, в приречных ивовых и
черемуховых зарослях, он непременно находил в березовой
роще. Это для него обширная кладовая, где было все, что
ему надо: полоз, вилы, грабли, топорище, оглобля,
черенок, коромысло и любых размеров, стройная, еще не
успевшая побелеть березка. Из березовых виц плели
канаты, пачужки к сохе. Делали кольца от ювелирно малых
размеров до полуметрового диаметра. Такими перевитыми,
свернутыми в кольцо березовыми вицами связывали бревна
при сплотке перед сплавом. Кольца требовались чаще всего
и очень много...”
Лесные освоенные угодья назывались по-разному:
гари, подсека, лядина, полянка, стожье, курья. Все это
имело еще и собственные имена, порою довольно
поэтические. Дикий и дальний лесной пейзаж,
облагороженный покосом, уютным мостиком через ручей,
лавами через чистую то каменистую, то спокойно-осоковую
речку, становился таким же родным, как и все находящееся
близко от дома. Поперечная гать через болотину в дальней
дали вызывает ощущение надежности, устойчивости бытия.
Костер дров или поленница в лесу действуют успокаивающе,
если заблудишься. Мотушка ивового корья, затесь на
молодой березе, знакомый пенек или валежина — все это
крепило незримые связи человека с природой.
Но ничто так не облагораживало природу, как
строение, рубленая клеть — этот древнейший первоэлемент
зодчества и всего экономического уклада.
Лесной сеновал
После долгой ходьбы, после тряской и вязкой езды
по глухим урочищам, болотинам, сограм, суземьям вдруг
открывается чистая, выкошенная или же вся в цветах
поляна, и на поляне лесной сеновал. И сразу пропадает
усталость, исчезает утомление от долгого опасного
путешествия. Дух далеких твоих пращуров,
материализованный для тебя их неустанным трудом, сквозит
в этих едва притесанных, серебристых от времени бревнах.
Впрочем, в старину никто не замечал этого серебристого
оттенка, все было само собою разумеющимся и потому
незаметным.
Лесной сеновал впервые рубился из тех же елей,
сосен, а иногда и осин, которые росли на месте будущего
покоса. Расширяя поляны, крестьянин вырубал новые
деревья, из них при желании можно было сделать еще одну
или несколько сеновен.
Бревна клались без мха, но и без больших щелей.
Летом в жару здесь прохладно, ветер просачивается в
щели. Сеновал проветривается вместе с сеном, влага не
держится, и бревна долго не загнивают. Кровлю делали на
один скат, крыли желобом, реже дранкой. Рубили строение
и на два ската, с посомами [Рубленные из бревен фронтоны
- Ред.] .
Под кровельными желобами часто гнездились лесные
пичуги, под крышей же осы нередко прядут и клеят свое
многослойное серое гнездо, похожее на кубышку.
Вместо пола настилали обычный еловый кругляк.
Срубить сеновал могли за несколько дней два мужика.
Ворот вовсе не делали. Сено увозили зимою, когда
промерзали болота. С запахом снега, вьюги мороза мешался
и не мог смешаться запах летних цветов. Такие контрасты
встречались в крестьянской жизни сплошь да рядом Они
хорошо служили взаимосвязи времен года, подчеркивали
неповторимость трудовых, бытовых и вообще жизненных
впечатлений.
Лесная избушка
Крестьянскую жизнь на севере нашей Родины трудно
представить без леса. Хлебопашец нередко сочетал в себе
охотничье, рыбацкое, а также промысловое лесное уменье
(сбор живицы, смолокуренье, заготовка угля, ивовой и
березовой коры, ягод, грибов и т.д.). Лесной сенокос
тоже вынуждал не только ночевать, но и неделями жить в
лесу. Поэтому избушка была просто необходима. Рубил ее
не каждый крестьянин, но пользовались ею все, начиная от
бродяг и нищих, кончая купцами и урядниками, если стояла
она невдалеке от дороги, соединяющей волости.
По-видимому, избушка в лесу — это самое
примитивное, сохранившееся в своем первоначальном виде
древнейшее человеческое жилье. Квадратная клеть с одним
окном, с потолком из плотно притесанных еловых бревешек,
с плоской односкатной или не очень крутой двускатной
крышей. Потолок утеплялся мхом, прижатым слоем земли.
Дверь делали небольшую, но плотную, с деревянными из
березовых капов петлями, надетыми на деревянные же
вдолбленные в стену крюки.
Широкие нары из тесаных плах ожидали усталых
работников. В небольших избушках вместо нар устраивали
обычные лавки.
Посредине, а то и в углу чернел, приятно попахивая
теплом и гарью, таган — очаг, сложенный из крупных
камней.
Еще и теперь опытный охотник устраивает ночлег в
лесу по древнему способу: собирает камни, выстилает из
них ложе на сырой, а то и промерзшей земле и разводит на
них добротный костер. Нагретые, обметенные веником камни
до утра сохраняют тепло, на них легче коротать даже
самую долгую и холодную ночь прямо под звездами.
Перенеся этот способ в рубленую избу, человек и
создал очаг. Вначале костер просто обкладывался камнями,
затем научились выкладывать стенки, а чтобы они не
разваливались, волей-неволей приходилось их сводить
вместе. Щели в каменном своде создавали прекрасную тягу.
Чем больше была каменка, тем меньше требовалось
дров и тем теплее было в избушке. Угар исчезал вместе с
потуханием углей. Дымоход в стене закрывали и до утра
оставались наедине с теплым и смоляным запахом. Шум
ветра в морозном ночном лесу заставлял ценить тепло и
уют, вызывал благодарность к человеку, срубившему
избушку. Ночлежник спокойно засыпал с этим чувством.
Летом, в пору гнуса и комарья, дым легко выживал из
избушки эту многочисленную тварь, а остальное зависело
уже от самих себя. Не зря про хорошего плотника говорят:
“Косяки прирубает — комар носа не подточит”.
К избушке нередко пристраивали место для стоянки
лошади, иногда его просто обгораживали, а не рубили,
ставили нетолстые бревна вплотную друг к другу. Подобие
крыши устраивали из легких жердей, хвои и скалья.
Лесные избушки на берегах рек и озер дополнялись
причальными мостками и вешалами для сушки сетей.
Поскотина
Изгородь в не меньшей мере, чем постройка,
формировала окрестный вид, особенно на открытых местах и
в сочетании с водой. Изгородь в лесу называлась осеком,
в поле — огородом или пряслом, около дома — палисадом,
тыном, частоколом, забором. Осек в лесу вместе с мостом,
просекой, дорогой весьма оживляет ландшафт, дополняя
естественные горушки, ручьи, большие камни и сенокосные
чистовины.
Летом крестьяне никогда не пасли скот в полях. Для
этого в лесу выгораживали большие пространства. Осек не
позволял коровам уходить далеко, пастух по звону
колокольчиков всегда знал, в какой стороне стадо. Иногда
селяне выгораживали дополнительно по две-три небольшие
поскотины, так называемые пригороды. Проходы и проезды в
поля и поскотины осуществлялись с помощью отводов и
заворов. Стоило какому-нибудь ротозею, а то и злому
человеку не заложить завор, плохо прикрыть отвод, кони
могли тотчас уйти в лес. Бывали случаи, когда их искали
потом неделями. Еще хуже, если стадо коров ударится в
хлебное поле. Поэтому изгороди, заворы и отводы
старались содержать в полной исправности. Интересно, что
среди лошадей нередко находилась мастерица грудью
проламывать осека и даже открывать мордой защелку
отвода. И... уводить весь табун в овес. Иные коровы
также обучались такому подлому делу, и это нередко
становилось причиной не только комических, но и
трагических историй. Обвинение в намеренной потраве не
сулило ничего хорошего.
Лесной осек привлекал к себе обилием малины,
смородины и княжицы, он не позволял насмерть заблудиться
в лесу. (Даже с поля в глухие осенние вечера, когда
ничего не видно, люди выходили на ощупь по огороду.)
Ближняя поскотина после дальних покосов казалась
совсем родной, домашней. Тропы и целые дороги,
вытоптанные скотом в самых непроходимых местах, всегда
выводили к завору в прогон — сравнительно узкой полосе
между двумя изгородями, ведущей через поля до самой
деревни.
Шалаш пастуха или станок (лесная избушка в
миниатюре), сделанный в каждой поскотине, привлекал к
себе и старых и малых. Редкий человек не побарабанит в
звонкую, подвешенную на рогатках доску. Забава здесь
сочеталась с пользой: барабанить и ухать в поскотине
считалось чуть ли не долгом каждого, это отпугивало от
стада хищных зверей.
Гумно
Прогон, а чаще прямая дорога через отвод, выводил
в поле ездока, ходока, а то и бегунка, если человек не
вышел еще из детской поры.
В любую погоду, в любом возрасте приятно выйти из
лесу в родимое поле, увидеть сперва полевую сеновню,
затем гумна, а после и всю деревню: широкое скопление
домов, амбаров, бань, погребов, поленниц, рассадников,
хмельников.
Из лесу никто никогда не правился с пустыми
руками, с порожним возом. Каждый что-нибудь везет или
несет. Дрова, сено, хвоя, вершинник березовый для
метелок, колья, жерди, скалье, корье, баланы для дранки,
колоды, заготовки косьевищ, граблевищ, стужней, вязов,
заверток — сотни других крупных и мелких предметов
лежали на совести мужской половины дома. Все надо
разместить, пристроить, найти куда положить. Замочить
либо высушить.
Скука оттого, что человек не знает, чем бы ему
заняться, применительно к сельской жизни смешна и
нелепа. Разнообразие дел, благодаря своей
кратковременности переходящих в забаву и развлечение,
заметней всего в лесу. Если же говорить о полеводстве,
то разнообразия здесь ничуть не меньше.
Гумно и овин замыкают, связывают в единое целое
круглогодовой цикл полевых работ. От гумна дорога одна —
в амбар и на мельницу, но интерес и забава сопровождали
крестьянина даже здесь, на этом коротком пути. Любая
мелочь, вплоть до мешочных завязок и тележного скрипа,
имела свое значение.
Гумно — преддверие родного гнезда — в прямом и
переносном смысле овеяно горьковатой, но волнующе-доброй
дымкой, оно не уставало давать людям уроки труда и
фантазии.
Долонь в гумне, сделанная из широких гладких плах,
так ровна и плотна, что не могло потеряться ни единое
зернышко. Едва апрельское солнце начинало вытапливать с
крыши большие серебряные сосульки, как ребячья ватага
распахивала ворота, чтобы играть в бабки. К весне
взрослые почти начисто освобождали от мякины, парева и
соломы все перевалы. Гумно манило к себе зайцев и птиц,
подростки сильями и плашками ловили тех и других. В
темные осенние праздники парни увлекали к гумну, в
солому, своих суженых “сидеть”, как тогда говорилось...
Такие “сиденья” для молодых пар не всегда обходились
благополучно...
Старики после жатвы сушили по ночам овины,
развлекали молодежь сказками, забавлялись и сами, ходили
пугать друг друга.
Как это ни странно, гумно в 30-х годах взяло на
себя обязанность деревенского очага культуры. На ящики
посредине долони, где еще утром молотили цепами жито,
водружался аппарат немой кинопередвижки. К полице овина
привешивали экран, парни поочередно крутили динамо.
Желающих прокрутить две, а то и три части подряд было
достаточно, но осмеливались на этот подвиг не все. Под
стрекот аппарата, вращаемого также вручную, зрители
дружным хором читали надписи.
Амбар
Если на улице случалась детская драка и
какому-либо мальчишке приходилось спасаться бегством,
ему надо было добежать хотя бы до своей бани. На худой
конец до амбара. Пыл преследователей сразу ослабевал —
так велика и непререкаема защитная сила дома, родного
гнезда. Под его сенью преследуемый обретал уверенность в
своих силах. Преследователь терял агрессивность, как
только ступал в чужие пределы. В то же время для идущего
с добром дом был распахнут даже в темную пору.
Амбар имелся не у всех, но каждый стремился его
срубить. В амбаре хранилось главное богатство
крестьянина: хлеб, лен, кожи (сырые и выделанные), зимой
туда помещали мясные туши и мороженую рыбу — покупную и
самоловную. В некоторых амбарах лежали холсты и висела
одежда. Зерно засыпали в сусеки, льносемя хранили в
мешках и в деревянной посуде.
Кое-где амбары строили на сваях, чтобы спасти
зерно от мышей, бывали амбары с двумя этажами. Крыли
амбары двойной крышей, гонтом и тесом. Внутренние замки
и двери, обитые железом, вовсе не были редкостью.
В деревне Тимонихе в доколхозную пору имелся
общественный амбар (магазея), куда ссыпали зерно в фонд
общества крестьянской взаимопомощи. В случае стихийного
бедствия общество помогало пострадавшему. Кладовщик,
принимая и выдавая зерно, мерил его деревянной маленкой,
ровнял ее верх специальной выгнутой палочкой. При
приемке палочка ровняла зерно горбом вверх, при выдаче —
горбом вниз. Разница шла на содержание кладовщика, на
усушку, утруску и на мышей.
В колхозе зерно взвешивали на веревочных весах
подобранными по весу камнями — заменителями
металлических гирь.
В святки подростки и девушки бегали в полночь к
своим амбарам, прижимались щекой к морозной стене.
Слушали, что происходит за стенкой. Если услышишь шорох
пересыпаемого зерна — быть хорошему урожаю, а значит, и
богатству... Немного надо ума и сердца, чтобы видеть в
этом одно суеверие.
Баня
Редкая семья в деревне не имела своей бани.
Правда, на Севере встречались такие волости, где бань не
рубили совсем, например на реке Монзе, где всю жизнь
мылись в печах. Но таких мест немного.
Верхние ряды сруба и потолок бани рубили и стлали
особенно тщательно, поскольку от этого зависел жар и
вкус. В хорошей бане хорошо даже и тогда, когда нижние
венцы совсем сгнили, а пол промерзает. Помимо каменки и
двух-трехступенчатого полка, в бане стояли одна-две
лавочки. Предбанники строили без потолка, холодные.
Дом
Строительство жилья можно сравнить с писанием
икон. Искусство живописца и плотника с древних времен
питало истоки русской культуры. Нет совершенно
одинаковых икон на один и тот же сюжет, хотя в каждой из
них должно быть нечто обязательное для всех. То же с
домами. Типы жилья на русском Севере достаточно
многообразны. Для большинства домов характерны общая
крыша над жилыми и хозяйственными помещениями, наличие
зимнего и летнего жилья. Соблюдение хотя бы только
одного из этих условий заставляло строить большие,
обширные хоромы, каких не строили в других местах
Отечества.
Зимняя изба, зимовка, куда переходили жить с
первыми холодами, строилась по-разному, но если в ней
нет большой печи, либо лавок, либо полатей, то это уже
не зимовка, а что-то другое.
Все в избе, кроме печи, деревянное. Стены и
потолки от времени начинали желтеть и с годами
становились янтарно-коричневыми, если печь сложена
по-белому. В черной же, более высокой избе верхняя часть
становилась темной и глянцевитой от частого обтирания.
Лавки и полы оставались белыми или желтовато-белыми, их
драили к каждому празднику.
По чистоте пола судили о девичьем трудолюбии и
чистоплотности. Но не так-то и просто соблюдать чистоту
в зимовке, если семья велика и каждое утро надо согреть
и вынести в хлев десятка полтора ведер пойла для
скотины. Поэтому пол в избе (как лен в поле) всегда был
и женской радостью, и женской бедой.
Прежде чем мыть, пол обливали горячим щелоком,
затем шаркали голиком с дресвой, которую крошили из
банных камней. В избах, топившихся по-белому, раз в год,
на пасху, мыли стены и потолок. Печь белили разведенной
в воде золой. На окна русской избы в старые годы не
вешали занавесок. Заглянуть в избу с улицы разрешалось
кому угодно, и в этом не видели ничего дурного. Зимой
между рамами чернел древесный уголь, поглощающий влагу,
а для красоты клали рядом с ним оранжевые кисти рябины
или рассыпали горсть клюквы.
Божница и стены украшались сухими целебными,
связанными в пучки травами, по праздникам — белоснежными
платами и полотенцами. Если в доме кто-то из мужчин
занимался охотой, то на главный простенок прибивали
хвосты и растопыренные крылья глухаря либо тетерева.
Под матицей обычно висел большой бычий пузырь с
гремящими в нем горошинами, у дверей вместо вешалки
нередко приделывали лосиные рога.
Чуть ниже потолка по стенам, повторяя длину и
ширину лавок, шел полавошник, у дверей, от печи до
стены, настилались полати. Воронец — это мощный брус, на
котором держался полатный настил. Во время свадьбы или
очередного игрища над воронцом торчали детские
головенки. Опираясь на кулачки, глазели ребятишки на
происходящее. Никто не приневоливал их спать. И как
много интересного можно было узнать и увидеть, глядя
сверху, ощущая свою недосягаемость и защитный уют родной
избы!
В будние вечера, лежа на полатях, старые старики
говорили для деток сказки, засыпая на самых заветных
местах.
Ребенок будил бабушку или дедушку, но тот забывал,
на каком месте остановился, и начинал все сначала...
Зимою в избе редко не пахло то сосновой иглой, то
принесенной с мороза еловой хвоей, которой натирали
клепцы для заячьей ловли. Но особенно терпко и вкусно
пахли свежие черемуховые вицы для рыболовных снастей, а
также заготовки вязов и стужней для вязки саней и дров.
Когда же закрывали печь с пирогами либо хлебами, запах
печеного теста побеждал все остальные. Особенно приятен
он был на улице, среди мороза и снега.
Боясь угара, вся семья, кроме большухи, старалась
уйти на улицу или в другоизбу, как говорилось. Для
взрослых всегда дел хватало, дети тоже знали, чем
заняться, куда сходить и во что поиграть.
Он никогда не был тесен, этот дом!
И все же обширность летней избы, ее долгожданный
простор чуялись в течение всей зимней поры. Весенний
переход на жительство в “передок” всегда был радостным.
Но до этого выставляли зимние рамы в зимовке, меняли
валенки на сапоги, переставали до конца закрывать слегка
угарную печь и т.д.
Дедушка с бабушкой все еще спят в зимней избе, хотя
чай пьют и обедают в летней вместе со всеми. Вытрясены
постели и одеяла, проветрена, выбита, высушена на
солнышке и развешана в сеннике либо в амбаре зимняя
одежда.
Объявился первый комар, и на большом сарае, где
чиликают под высокой тесовой крышей касатки-ласточки,
устроили первый полог. Очень скоро запахнет здесь
вениками и первым сенцом.
Давно ли родной дом трещал и бухал от крещенского
холода? Теперь он шумит от теплого летнего ветра.
В доме и около
Кроме бани, хороший хозяин обязательно строил
(где-нибудь на горке) яму — небольшой сруб, крытый и
опущенный в землю.
В яме хранились брюква, морковь, репа, свекла. Лук
хранился на полатях в сухом тепле. Хождение в яму, зимой
особенно, с нетерпением поджидалось детьми.
В огороде рубили и рассадник для выращивания
капустной, брюквенной и огуречной рассады, тут же, если
не было речки, рыли колодец. В колодец во время жары
опускали в ведрах мясо, масло и молоко.
Культура изготовления пива, издревле известная на
Руси, включала в себя выращивание хмеля. Поэтому в
сложившемся хозяйстве, там, где построились, женились и
обзавелись самым необходимым, желательно было завести
хмельник. Длинные тоненькие колышки — штук
двадцать-тридцать — торчали все же не у каждого дома.
Некоторые крестьяне предпочитали хмель покупной. Для
сохранности эти колышки ежегодно после сбора урожая
выдергивали и складывали сушить, весною снова втыкали.
Что могло быть заманчивей для подростков, чем эти легкие
и удивительно прочные пики?
Поленницы березовых, еловых, ольховых дров
завершали вид подворья, вплотную примыкавшего к
соседнему. Зимой около дома обязательно торчали
перевернутые на бок дровни — основная зимняя повозка
крестьянина. Это древнее сооружение состояло из пары
гнутых (по насечке) березовых полозьев. В них
вдалбливались по четыре парных, тоже березовых, копыла.
Полоз с полозом соединялись черемуховыми вязами, которые
обхватывали каждую пару копыльев. Место сгиба у вязов
вырубали и распаривали. Копыл плотно зажимался в сгибе,
а чтобы концы вяза не разгибались, их крепили кольцом,
сплетенным из витой березовой вички (лозы). Более мощный
вяз, соединявший передние концы полозьев, составлял
головку дровней, толстые черемуховые вицы, не
позволявшие полозьям разгибаться, назывались стужнями.
Ко второму копылу каждого полоза крепился конец
березовой оглобли. Дело в том, что оглобля должна быть
подвижной, а груз на возу бывает в десятки пудов. От
прочности завертки, соединяющей конец оглобли с
дровнями, зависела не только крепость упряжки, но и
многое в крестьянском быту.
Если срубленную длинную и тонкую березку
перевивать, перекручивать, начиная с тончайшей вершинки,
получится длинный и гибкий жгут из прочных волокон. Этот
жгут, сплетенный в кольцо, и называется заверткой. У
хорошего хозяина всегда в запасе с полдюжины подобных
колечек: они висят на штыре в сарае или в сенях.
Отправляясь в дальний извоз, брали завертку-две про
запас. Известны случаи, когда женихи, приехавшие за
невестой на повозке с дурными веревочными завертками,
уезжали ни с чем.
Для того чтобы поставить новую завертку, надо
расплести кольцо и сплести его вновь, но уже на копыле
дровней. Оглоблю с зарубкой на конце вставляют в кольцо
и заворачивают ее на неполный оборот. После этого можно
смело ехать в любую дорогу с любым грузом.
На дровнях возили тяжелые, многосаженные дерева.
Чтобы комель бревна не обруснул с копыльев вязы
(вспомним выражения “откинуть вязы”, “копылья на
сторону”), под него подкладывали колодки с полукруглыми
выемками. Вершина дерева клалась на так называемые
подсанки — короткие дровни без головок с едва загнутыми,
но широкими полозьями. Подсанки на необходимую длину
соединялись с дровнями веревками крест-накрест, для чего
в полозьях подсанок имелись проушины.
На дровнях же, если положить на них кресла — три
соединенные жерди или бруска, увеличивающих ширину воза,
— возили сено, солому, осенчуг [Сухая скошенная трава,
употребляемая на подстилки вместо рубленой хвои - Ред.]
и т.д.
Самое опасное для зимнего ездока — это раскаты —
отшлифованные полозьями крутые уклоны. Возы кувыркались
на них, увлекая за собой и даже роняя некрепких лошадок.
Крепкие кони выворачивались из оглобель. Поэтому с
некоторых пор полозья дровней стали шинить — набивать на
них узкие железные полосы.
Розвальни — нечто среднее между дровнями и санями
— служили для возки негромоздкой поклажи, для будничной
и дальней езды. Бока их, образованные как бы гнутыми
креслами, переплетались веревками или же зашивались
дранками. Подобные повозки с едва заметной спинкой,
глухими бортами и передком назывались еще и пошевнями.
Выездные сани, возки, с облучком и без него,
делали с высокой спинкой, на двоих-троих седоков. Эти
спинки (задки) расписывались красным по черному, зеленым
по красному и т.д. Сани, как и дровни, можно было
сделать без единой железной детали. Но тот, кто хотел
пофорсить выездными масленичными санками, неминуемо
становился должником кузнеца.
Кошевку корешковых санок выплетали из тонких
ивовых вичек. У таких форсистых санок имелся облучок и
сиденье откидывалось, открывая место для гостинцев. В
ноги клали тулуп или овчинное одеяло. Хозяин с вожжами в
руках садился справа. При езде он “выкидывал” одну ногу
наружу отчасти для шика, отчасти на случай падения.
(Незадачливые ездоки нередко ломали ноги в отводах.)
Слева сидела жена, сестра или невеста, а иногда и дружок
либо родственник с гармонией. Сзади, на запятках, мог
ехать случайный попутчик. Очень любили подкатываться
подростки и молодые ребята, особенно если хозяин не
видит этого. Недоумевая, отчего лошадь не бежит (даже
мыло в пахах), ездовой сердится, но, оглянувшись, ничего
не замечает, так как незаконный ездок мог присесть на
запятках. Далеко все же не ехали, поскольку обратно
приходилось топать пешком.
Летняя езда плоха против зимней! В тряской
одноколой телеге даже по ровной дороге лучше правиться
шагом, чем рысью. Двуколую — на четырех колесах —
повозку трясет меньше, но пыли и грохоту от нее тоже
хватает. Кое у кого из крестьян бывали и собственные
тарантасы и дроги. Дроги — это тот же тарантас, только
на гибких длинных жердях вместо рессор. Дрожками
называли легкую о двух колесах повозку с небольшой
кошевкою на рессорах, подобие современной жокейской
коляски. Простая пара колес с колодкой на оси называлась
волоками, на них возили жердье и длинные слеги.
Но что значит повозка без упряжи?
Главной фигурой среди упряжи, конечно, является
хомут, в основе которого две деревянные дугообразные
клещевины. Вверху они намертво скреплены ремнем, но так,
чтобы оставалась возможность их раздвигать. Снизу к ним
крепили кожаный калач, вернее, полукалач. Плотно набитый
соломой, он прилегал к лошадиной груди и тоже
раздвигался при надевании хомута на голову. Тщательно
подогнанный войлок хомута прилегал к холке и плечам коня
с боков. В отверстия клещевин продергивали гужи, хомут
обивали кожей. Супонь, длинный, скрученный ремешок,
завершала все устройство. Узелок на конце не позволял
супони выдернуться при стягивании клещевин.
Хомуты были разных размеров, седелка же годилась
на любого коня. Различались седелки с одной и двумя
кобылками, на которых перемещался чересседельник —
прочный ремень, держащий на весу оглобли, а
следовательно, дугу и хомут. Седелка притягивалась к
спине лошади через брюхо подпругой. Концы дуги
соединялись с оглоблями сперва левым, потом правым
гужом. Клещевины, стянутые супонью, напрягали гужи —
конь в запряжке. Поводья оброти (узды) продергивали в
колечко дуги, в кольца удил привязывали или пристегивали
кляпышами концы вожжей.
Можно было ехать. Можно, да осторожно, если
запряжено без шлеи. Шлея — это система ремней,
пристегнутая к хомуту, она не позволяла лошади вылезать
из хомута. Если уж конь пятился, то вместе с возом.
Не зная всего этого, трудно понять смысл многих
русских пословиц. Но дело не в одних пословицах. Вокруг
коня и упряжи время создало такое мощное силовое поле,
такой эстетический ореол, что нельзя представить без них
ни прошлую жизнь, ни нынешнюю.
Повозки хранили в гумнах и в самих домах, упряжь
висела около конского стойла. Зимой хомут и седелку
заносили и в избу для просушки.
Каждому помещению были приписаны свой инвентарь и
свои предметы. Для того чтобы рассказать об устройстве и
назначении всех крестьянских орудий и бытовых предметов,
потребовалось бы многотомное описание.
В гумне положено было иметь набор метел,
изготовленных из березового вершинника, грабли, пехло и
осиновые лопаты для сгребания зерна в ворох, вилы
трехрогие березовые, чтобы подымать на сцепы горох, и
подавалку — тонкий легкий шест с отростышком на конце,
чтобы подавать снопы на овин.
В амбаре постоянно имелась метелка и несколько
совков, не говоря уже о лукошках и мешках.
В бане стояли с полдюжины шаек, имелась кочерга и
большие деревянные клещи, которыми доставали и опускали
в воду раскаленные камни.
В разных местах дома хранились соха, борона, косы,
вилы, серпы, вилашки и крюки для стаскивания с телеги
навоза, ручные жернова, ступа и пест для толчения овса и
льносемени. Пословица о толчении воды относится к другой
ступе, к лежачей, в которой толкли коромыслом половики,
мешки, подстилки. Эта ступа всегда лежала на берегу или
на льду около проруби. Неизвестно, какая ступа служила
для полетов бабы-яги. В детстве почему-то частенько
возникала такая фантазия: вот сесть бы в эту водяную
ступу да и поплыть по реке мимо всех деревень, под
мостами и облаками. Впрочем, так же хотелось иногда
залезть в сундук или спрятаться в ларь, покатать по
деревне ткацкий тюрик или помахать материнским трепалом,
похожим на сказочный меч. Но всего интереснее залезть на
вышку, по-современному на чердак, взглянуть с высоты
через окно в дальние дали. Здесь же зимою можно было
запастись мороженой рябиной либо неожиданно обнаружить
гнездо ласточки.
Двор
Дом, в котором нет скотины, можно узнать еще
издалека по многим приметам, а ступив в сени, по особому
нежилому запаху. Точнее, по отсутствию всяких запахов.
Двором называют всю заднюю половину дома,
срубленную в двух уровнях и находящуюся под общей
крышей. Внизу размещались два-три хлева, вверху поветь
(верхний сарай), перевалы для корма, сенники (чуланы) и
нужник.
Жизнь домашних животных никогда не
противопоставлялась другой, высшей, одухотворенной жизни
— человеческой. Крестьянин считал себя составной частью
природы, и домашние животные были как бы соединяющим
звеном от человека ко всей грозной и необъятной природе.
Близость к животным, к природе смягчала холод
одиночества, который томил душу человека при взгляде на
далекое мерцание Млечного Пути.
О хорошем коне, как и об умной собаке, судили так:
“Все понимает, только не говорит”. Лошадь в крестьянском
мире и пахала и возила, но она же помогала воспитанию в
человеке и нравственного чувства.
Коню обязательно давали кличку, тогда как овец
называли всегда одинаково — Серавка, барана Серко, все
куры удостаивались лишь примитивных кличек: Рябутка,
Чернутка, Краснутка. Лошадиная масть влияла, конечно, на
кличку, но ни у одного домашнего животного нет стольких
оттенков и названий по цвету, как у коня: рыжий,
соловый, мухортый, гнедой, карий, каурый, караковый,
саврасый, буланый, чубарый и т.д. Коня ковали, чистили,
скребли скребницей, выдирали щетью линялую шерсть,
подстригали гриву и хвост. Когда овод и мошка исчезали,
хвост завязывали узлом в кокову, это считалось высшим
шиком на свадьбе и масленице.
Кони подчас были настолько умны, что ребенок,
случайно попавший под брюхо, мог спокойно играть, его
даже не заденут копытом. Но бывают и упрямые, с норовом
и различными странностями. Иная бежала рысью в запряжке
до тех пор, пока хозяин не остановит, другую, наоборот,
никакими силами невозможно заставить бежать.
Для того чтобы лошадь охотно въезжала с возом по
въезду в ворота верхнего сарая, ее заводили туда сперва
налегке и кормили там овсом.
Животных любили и холили все домашние. Но мужчины,
начиная с малолетних мальчиков, больше опекали коней,
чем коров.
У коров также были свои имена.
Отношения большухи с коровой достигали такого
уровня понимания, что они часто даже “ругались”, причем
корова не уступала человеку в изощренности: толкалась
мордой, не отдавала молока и т.д. Хозяйка не оставалась
в долгу. К обоюдному удовольствию, примирение
обязательно наступало. Женщины разговаривали с коровами
как с людьми, коровы отвечали им утробным мыком,
лизанием, вздрагиванием больших мохнатых ушей.
Теленку сразу после рождения также давалось имя,
всегда имели свои клички собаки и кошки.
Общее настроение в семье, характер хозяина и
хозяйки, их взаимная любовь и уважение довольно заметно
влияли на характер и поведение домашних животных. Весьма
интересными, подчас просто необъяснимыми с точки зрения
рассудка бывали отношения детей и животных, а также
одних домашних животных с другими.
Еще лет пятьдесят назад граница между реальностью
и фантазией была едва заметна в крестьянском быту.
Традиционные древнейшие народные поверья, освежаемые
богатым воображением, совмещаясь с реальными
впечатлениями, создавали полуфантастические образы
поэтического сознания. Решительный радикализм — либо
веришь, либо не веришь — совсем не годился для такого
сознания. Народная жизнь без поэзии непредставима, но
там, где все ясно и все объяснимо, поэзия исчезает и ее
тотчас замещает потрясающе тусклый рационализм. Никто не
осмеливался сказать: “Ничего нет”. Предпочитали
уклончивое: “Кто его знает, может, есть, может, нет”.
Человек, ни во что не верящий, публично и активно
утверждающий собственный нигилизм, подвергался тонкой
общественной насмешке.
Но как же все-таки понимать этот
полуфантастический образ? Сами слишком уж
впечатлительные люди становились зачастую виновниками
его создания. Услышав ночью в лесу близкий
выразительный, какой-то стонущий крик, даже искушенный в
грамоте человек забывает про филина. Кот, забравшись на
грудь крепко спящего человека, представляется ему сквозь
сон домовым. Хитрый, изощренный в коварстве, уходящий из
любого капкана волк принимался за оборотня и т.д. и т.п.
Люди не стыдились своей фантазии. Твердо не
признающие потустороннюю силу, не разрушали образную
систему верящих, они и сами (по ночам или в лесу)
частенько, пусть и на время, становились верящими.
Домовушком ласково называли фантастического
хранителя дома. Он представлялся разным людям
по-разному. Некоторые называли его дворовушком
(попечителем скотины), другие запечным дедушком, третьи
и так и эдак, смотря по обстоятельствам.
Домовушко, как и конь и корова, был почти членом
семейства, он мог и рассердиться, и навредить, и на
время оставить дом. Считалось, что в последнем случае
несчастья сыпались одно за другим.
Присутствие домовушка на дворе определяли разными
мелочами: то он гриву у лошади заплетет, то отыщет и
подсунет на видное место давно потерянный предмет, то
вдруг не закрытые на ночь воротца оказываются не только
закрытыми, но и завязанными на веревочку.
Уходя в бурлаки либо на военную службу, словом,
надолго покидая родной дом, иные мужики выходили в
верхний сарай и голосом обращались к дворовушку. Просили
его беречь двор, не обижать скотину, пока хозяин будет в
отлучке. Добрый дворовушко в ответ шелестел вениками,
легонько попискивал или покашливал, успокаивая хозяина:
мол, иди спокойно, тут все будет благополучно...
Примерно такими же свойствами наделяла народная
фантазия баннушка, гуменнушка и овиннушка.
Василий Белов
Местность, вид, окрестность вместе со всею землею,
водою и небом называли в народе общим словом — природа.
Кому не понятно, что по красоте она разная в разных
местах? Тут раскинулись болота с чахлыми сосенками, там
вздымаются роскошные холмы, обросшие мощными соснами. В
одной стороне нет даже малой речушки, воду достают из
колодцев, а в другой река и озеро, да еще не одно, да и
еще и на разных уровнях, как в Ферапонтове. Природная
красота и эстетические природные особенности той или
другой волости наверняка влияли на обычные чувства
людей. Но никогда и нигде не зависело от них чувство
родины. Ощущение родного гнезда вместе с восторгом
младенческих, детских и отроческих впечатлений рождается
стихийно. Родная природа, как родная мать, бывает только
в единственном числе. Все чудеса и красоты мира не могут
заменить какой-нибудь невзрачный пригорок с речной
излучиной, где растет береза или верба. Пословица по
этому случаю говорит кратко: “Не по хорошему мил, а по
милу хорош”.
Еще милее становятся родные места, когда человек
приложил к ним руки, когда каждая пядь близлежащей земли
знакома на ощупь и связана с четкими бытовыми
воспоминаниями.
Родной дом, а в доме очаг и красный угол были
средоточием хозяйственной жизни, центром всего
крестьянского мира. Этот мир в материально-нравственном
смысле составлял последовательно расширяющиеся круги,
которые замыкали в себе сперва избу, потом весь дом,
потом усадьбу, поле, поскотину, наконец, гари и дальние
лесные покосы, отстоящие от деревни иногда верст на
десять-пятнадцать.
Природа начиналась сразу же за воротами. Но чем
дальше от дома, тем более независимой и дикой она
становилась. В дальних малодоступных местах самые
незаметные следы человеческого пребывания получали
особое значение: зарубка, едва проторенная тропа, просто
камень в ручье или приметное место, где человек отдыхал.
Лесная нетронутая глушь в сочетании с такими редкими
деталями, а также с различными случаями (например,
встреча с медведем) приобретали волнующую неповторимость
и вместе какую-то странную близость. Такой лес и пугал,
и успокаивал, и мучил, и ласкал, и угнетал, и бодрил.
Человеку в той же мере, как тяга к общению,
свойственно и стремление к уединению. Эти
центростремительные и центробежные силы (если говорить
языком физиков) уравновешивались в крестьянском быту
одинаковыми возможностями. Потребность как в общении,
так и в уединении проявлялась очень рано. В детстве тяга
к уединению заметна, например, в игре “в клетку”, когда
ребенок играет в маленький, но все-таки в свой дом. В
молодости необходимость уединения, особенно девического,
сказывается еще ярче. Очень заметна она и в старости, не
говоря уже о периоде супружеской жизни.
Лес давал человеку добрую возможность побыть
одному, пофилософствовать, успокоиться и поразмыслить о
своих отношениях с людьми. Такие раздумья, однако ж,
никогда не были самоцелью, они неизменно сопровождали
какое-нибудь занятие. (Самое тяжелое дело в лесу — это
раскорчевка под пашню. Самое легкое — собирание грибов и
ягод.)
Михаил Ильич Кузнецов, замечательный знаток
материально-бытовой культуры русского Севера, пишет:
“Редкий случай, когда житель Севера, проживающий в
окружении леса, не найдет возможности заменить металл
деревом. Чего нет в ельнике, в приречных ивовых и
черемуховых зарослях, он непременно находил в березовой
роще. Это для него обширная кладовая, где было все, что
ему надо: полоз, вилы, грабли, топорище, оглобля,
черенок, коромысло и любых размеров, стройная, еще не
успевшая побелеть березка. Из березовых виц плели
канаты, пачужки к сохе. Делали кольца от ювелирно малых
размеров до полуметрового диаметра. Такими перевитыми,
свернутыми в кольцо березовыми вицами связывали бревна
при сплотке перед сплавом. Кольца требовались чаще всего
и очень много...”
Лесные освоенные угодья назывались по-разному:
гари, подсека, лядина, полянка, стожье, курья. Все это
имело еще и собственные имена, порою довольно
поэтические. Дикий и дальний лесной пейзаж,
облагороженный покосом, уютным мостиком через ручей,
лавами через чистую то каменистую, то спокойно-осоковую
речку, становился таким же родным, как и все находящееся
близко от дома. Поперечная гать через болотину в дальней
дали вызывает ощущение надежности, устойчивости бытия.
Костер дров или поленница в лесу действуют успокаивающе,
если заблудишься. Мотушка ивового корья, затесь на
молодой березе, знакомый пенек или валежина — все это
крепило незримые связи человека с природой.
Но ничто так не облагораживало природу, как
строение, рубленая клеть — этот древнейший первоэлемент
зодчества и всего экономического уклада.
Лесной сеновал
После долгой ходьбы, после тряской и вязкой езды
по глухим урочищам, болотинам, сограм, суземьям вдруг
открывается чистая, выкошенная или же вся в цветах
поляна, и на поляне лесной сеновал. И сразу пропадает
усталость, исчезает утомление от долгого опасного
путешествия. Дух далеких твоих пращуров,
материализованный для тебя их неустанным трудом, сквозит
в этих едва притесанных, серебристых от времени бревнах.
Впрочем, в старину никто не замечал этого серебристого
оттенка, все было само собою разумеющимся и потому
незаметным.
Лесной сеновал впервые рубился из тех же елей,
сосен, а иногда и осин, которые росли на месте будущего
покоса. Расширяя поляны, крестьянин вырубал новые
деревья, из них при желании можно было сделать еще одну
или несколько сеновен.
Бревна клались без мха, но и без больших щелей.
Летом в жару здесь прохладно, ветер просачивается в
щели. Сеновал проветривается вместе с сеном, влага не
держится, и бревна долго не загнивают. Кровлю делали на
один скат, крыли желобом, реже дранкой. Рубили строение
и на два ската, с посомами [Рубленные из бревен фронтоны
- Ред.] .
Под кровельными желобами часто гнездились лесные
пичуги, под крышей же осы нередко прядут и клеят свое
многослойное серое гнездо, похожее на кубышку.
Вместо пола настилали обычный еловый кругляк.
Срубить сеновал могли за несколько дней два мужика.
Ворот вовсе не делали. Сено увозили зимою, когда
промерзали болота. С запахом снега, вьюги мороза мешался
и не мог смешаться запах летних цветов. Такие контрасты
встречались в крестьянской жизни сплошь да рядом Они
хорошо служили взаимосвязи времен года, подчеркивали
неповторимость трудовых, бытовых и вообще жизненных
впечатлений.
Лесная избушка
Крестьянскую жизнь на севере нашей Родины трудно
представить без леса. Хлебопашец нередко сочетал в себе
охотничье, рыбацкое, а также промысловое лесное уменье
(сбор живицы, смолокуренье, заготовка угля, ивовой и
березовой коры, ягод, грибов и т.д.). Лесной сенокос
тоже вынуждал не только ночевать, но и неделями жить в
лесу. Поэтому избушка была просто необходима. Рубил ее
не каждый крестьянин, но пользовались ею все, начиная от
бродяг и нищих, кончая купцами и урядниками, если стояла
она невдалеке от дороги, соединяющей волости.
По-видимому, избушка в лесу — это самое
примитивное, сохранившееся в своем первоначальном виде
древнейшее человеческое жилье. Квадратная клеть с одним
окном, с потолком из плотно притесанных еловых бревешек,
с плоской односкатной или не очень крутой двускатной
крышей. Потолок утеплялся мхом, прижатым слоем земли.
Дверь делали небольшую, но плотную, с деревянными из
березовых капов петлями, надетыми на деревянные же
вдолбленные в стену крюки.
Широкие нары из тесаных плах ожидали усталых
работников. В небольших избушках вместо нар устраивали
обычные лавки.
Посредине, а то и в углу чернел, приятно попахивая
теплом и гарью, таган — очаг, сложенный из крупных
камней.
Еще и теперь опытный охотник устраивает ночлег в
лесу по древнему способу: собирает камни, выстилает из
них ложе на сырой, а то и промерзшей земле и разводит на
них добротный костер. Нагретые, обметенные веником камни
до утра сохраняют тепло, на них легче коротать даже
самую долгую и холодную ночь прямо под звездами.
Перенеся этот способ в рубленую избу, человек и
создал очаг. Вначале костер просто обкладывался камнями,
затем научились выкладывать стенки, а чтобы они не
разваливались, волей-неволей приходилось их сводить
вместе. Щели в каменном своде создавали прекрасную тягу.
Чем больше была каменка, тем меньше требовалось
дров и тем теплее было в избушке. Угар исчезал вместе с
потуханием углей. Дымоход в стене закрывали и до утра
оставались наедине с теплым и смоляным запахом. Шум
ветра в морозном ночном лесу заставлял ценить тепло и
уют, вызывал благодарность к человеку, срубившему
избушку. Ночлежник спокойно засыпал с этим чувством.
Летом, в пору гнуса и комарья, дым легко выживал из
избушки эту многочисленную тварь, а остальное зависело
уже от самих себя. Не зря про хорошего плотника говорят:
“Косяки прирубает — комар носа не подточит”.
К избушке нередко пристраивали место для стоянки
лошади, иногда его просто обгораживали, а не рубили,
ставили нетолстые бревна вплотную друг к другу. Подобие
крыши устраивали из легких жердей, хвои и скалья.
Лесные избушки на берегах рек и озер дополнялись
причальными мостками и вешалами для сушки сетей.
Поскотина
Изгородь в не меньшей мере, чем постройка,
формировала окрестный вид, особенно на открытых местах и
в сочетании с водой. Изгородь в лесу называлась осеком,
в поле — огородом или пряслом, около дома — палисадом,
тыном, частоколом, забором. Осек в лесу вместе с мостом,
просекой, дорогой весьма оживляет ландшафт, дополняя
естественные горушки, ручьи, большие камни и сенокосные
чистовины.
Летом крестьяне никогда не пасли скот в полях. Для
этого в лесу выгораживали большие пространства. Осек не
позволял коровам уходить далеко, пастух по звону
колокольчиков всегда знал, в какой стороне стадо. Иногда
селяне выгораживали дополнительно по две-три небольшие
поскотины, так называемые пригороды. Проходы и проезды в
поля и поскотины осуществлялись с помощью отводов и
заворов. Стоило какому-нибудь ротозею, а то и злому
человеку не заложить завор, плохо прикрыть отвод, кони
могли тотчас уйти в лес. Бывали случаи, когда их искали
потом неделями. Еще хуже, если стадо коров ударится в
хлебное поле. Поэтому изгороди, заворы и отводы
старались содержать в полной исправности. Интересно, что
среди лошадей нередко находилась мастерица грудью
проламывать осека и даже открывать мордой защелку
отвода. И... уводить весь табун в овес. Иные коровы
также обучались такому подлому делу, и это нередко
становилось причиной не только комических, но и
трагических историй. Обвинение в намеренной потраве не
сулило ничего хорошего.
Лесной осек привлекал к себе обилием малины,
смородины и княжицы, он не позволял насмерть заблудиться
в лесу. (Даже с поля в глухие осенние вечера, когда
ничего не видно, люди выходили на ощупь по огороду.)
Ближняя поскотина после дальних покосов казалась
совсем родной, домашней. Тропы и целые дороги,
вытоптанные скотом в самых непроходимых местах, всегда
выводили к завору в прогон — сравнительно узкой полосе
между двумя изгородями, ведущей через поля до самой
деревни.
Шалаш пастуха или станок (лесная избушка в
миниатюре), сделанный в каждой поскотине, привлекал к
себе и старых и малых. Редкий человек не побарабанит в
звонкую, подвешенную на рогатках доску. Забава здесь
сочеталась с пользой: барабанить и ухать в поскотине
считалось чуть ли не долгом каждого, это отпугивало от
стада хищных зверей.
Гумно
Прогон, а чаще прямая дорога через отвод, выводил
в поле ездока, ходока, а то и бегунка, если человек не
вышел еще из детской поры.
В любую погоду, в любом возрасте приятно выйти из
лесу в родимое поле, увидеть сперва полевую сеновню,
затем гумна, а после и всю деревню: широкое скопление
домов, амбаров, бань, погребов, поленниц, рассадников,
хмельников.
Из лесу никто никогда не правился с пустыми
руками, с порожним возом. Каждый что-нибудь везет или
несет. Дрова, сено, хвоя, вершинник березовый для
метелок, колья, жерди, скалье, корье, баланы для дранки,
колоды, заготовки косьевищ, граблевищ, стужней, вязов,
заверток — сотни других крупных и мелких предметов
лежали на совести мужской половины дома. Все надо
разместить, пристроить, найти куда положить. Замочить
либо высушить.
Скука оттого, что человек не знает, чем бы ему
заняться, применительно к сельской жизни смешна и
нелепа. Разнообразие дел, благодаря своей
кратковременности переходящих в забаву и развлечение,
заметней всего в лесу. Если же говорить о полеводстве,
то разнообразия здесь ничуть не меньше.
Гумно и овин замыкают, связывают в единое целое
круглогодовой цикл полевых работ. От гумна дорога одна —
в амбар и на мельницу, но интерес и забава сопровождали
крестьянина даже здесь, на этом коротком пути. Любая
мелочь, вплоть до мешочных завязок и тележного скрипа,
имела свое значение.
Гумно — преддверие родного гнезда — в прямом и
переносном смысле овеяно горьковатой, но волнующе-доброй
дымкой, оно не уставало давать людям уроки труда и
фантазии.
Долонь в гумне, сделанная из широких гладких плах,
так ровна и плотна, что не могло потеряться ни единое
зернышко. Едва апрельское солнце начинало вытапливать с
крыши большие серебряные сосульки, как ребячья ватага
распахивала ворота, чтобы играть в бабки. К весне
взрослые почти начисто освобождали от мякины, парева и
соломы все перевалы. Гумно манило к себе зайцев и птиц,
подростки сильями и плашками ловили тех и других. В
темные осенние праздники парни увлекали к гумну, в
солому, своих суженых “сидеть”, как тогда говорилось...
Такие “сиденья” для молодых пар не всегда обходились
благополучно...
Старики после жатвы сушили по ночам овины,
развлекали молодежь сказками, забавлялись и сами, ходили
пугать друг друга.
Как это ни странно, гумно в 30-х годах взяло на
себя обязанность деревенского очага культуры. На ящики
посредине долони, где еще утром молотили цепами жито,
водружался аппарат немой кинопередвижки. К полице овина
привешивали экран, парни поочередно крутили динамо.
Желающих прокрутить две, а то и три части подряд было
достаточно, но осмеливались на этот подвиг не все. Под
стрекот аппарата, вращаемого также вручную, зрители
дружным хором читали надписи.
Амбар
Если на улице случалась детская драка и
какому-либо мальчишке приходилось спасаться бегством,
ему надо было добежать хотя бы до своей бани. На худой
конец до амбара. Пыл преследователей сразу ослабевал —
так велика и непререкаема защитная сила дома, родного
гнезда. Под его сенью преследуемый обретал уверенность в
своих силах. Преследователь терял агрессивность, как
только ступал в чужие пределы. В то же время для идущего
с добром дом был распахнут даже в темную пору.
Амбар имелся не у всех, но каждый стремился его
срубить. В амбаре хранилось главное богатство
крестьянина: хлеб, лен, кожи (сырые и выделанные), зимой
туда помещали мясные туши и мороженую рыбу — покупную и
самоловную. В некоторых амбарах лежали холсты и висела
одежда. Зерно засыпали в сусеки, льносемя хранили в
мешках и в деревянной посуде.
Кое-где амбары строили на сваях, чтобы спасти
зерно от мышей, бывали амбары с двумя этажами. Крыли
амбары двойной крышей, гонтом и тесом. Внутренние замки
и двери, обитые железом, вовсе не были редкостью.
В деревне Тимонихе в доколхозную пору имелся
общественный амбар (магазея), куда ссыпали зерно в фонд
общества крестьянской взаимопомощи. В случае стихийного
бедствия общество помогало пострадавшему. Кладовщик,
принимая и выдавая зерно, мерил его деревянной маленкой,
ровнял ее верх специальной выгнутой палочкой. При
приемке палочка ровняла зерно горбом вверх, при выдаче —
горбом вниз. Разница шла на содержание кладовщика, на
усушку, утруску и на мышей.
В колхозе зерно взвешивали на веревочных весах
подобранными по весу камнями — заменителями
металлических гирь.
В святки подростки и девушки бегали в полночь к
своим амбарам, прижимались щекой к морозной стене.
Слушали, что происходит за стенкой. Если услышишь шорох
пересыпаемого зерна — быть хорошему урожаю, а значит, и
богатству... Немного надо ума и сердца, чтобы видеть в
этом одно суеверие.
Баня
Редкая семья в деревне не имела своей бани.
Правда, на Севере встречались такие волости, где бань не
рубили совсем, например на реке Монзе, где всю жизнь
мылись в печах. Но таких мест немного.
Верхние ряды сруба и потолок бани рубили и стлали
особенно тщательно, поскольку от этого зависел жар и
вкус. В хорошей бане хорошо даже и тогда, когда нижние
венцы совсем сгнили, а пол промерзает. Помимо каменки и
двух-трехступенчатого полка, в бане стояли одна-две
лавочки. Предбанники строили без потолка, холодные.
Дом
Строительство жилья можно сравнить с писанием
икон. Искусство живописца и плотника с древних времен
питало истоки русской культуры. Нет совершенно
одинаковых икон на один и тот же сюжет, хотя в каждой из
них должно быть нечто обязательное для всех. То же с
домами. Типы жилья на русском Севере достаточно
многообразны. Для большинства домов характерны общая
крыша над жилыми и хозяйственными помещениями, наличие
зимнего и летнего жилья. Соблюдение хотя бы только
одного из этих условий заставляло строить большие,
обширные хоромы, каких не строили в других местах
Отечества.
Зимняя изба, зимовка, куда переходили жить с
первыми холодами, строилась по-разному, но если в ней
нет большой печи, либо лавок, либо полатей, то это уже
не зимовка, а что-то другое.
Все в избе, кроме печи, деревянное. Стены и
потолки от времени начинали желтеть и с годами
становились янтарно-коричневыми, если печь сложена
по-белому. В черной же, более высокой избе верхняя часть
становилась темной и глянцевитой от частого обтирания.
Лавки и полы оставались белыми или желтовато-белыми, их
драили к каждому празднику.
По чистоте пола судили о девичьем трудолюбии и
чистоплотности. Но не так-то и просто соблюдать чистоту
в зимовке, если семья велика и каждое утро надо согреть
и вынести в хлев десятка полтора ведер пойла для
скотины. Поэтому пол в избе (как лен в поле) всегда был
и женской радостью, и женской бедой.
Прежде чем мыть, пол обливали горячим щелоком,
затем шаркали голиком с дресвой, которую крошили из
банных камней. В избах, топившихся по-белому, раз в год,
на пасху, мыли стены и потолок. Печь белили разведенной
в воде золой. На окна русской избы в старые годы не
вешали занавесок. Заглянуть в избу с улицы разрешалось
кому угодно, и в этом не видели ничего дурного. Зимой
между рамами чернел древесный уголь, поглощающий влагу,
а для красоты клали рядом с ним оранжевые кисти рябины
или рассыпали горсть клюквы.
Божница и стены украшались сухими целебными,
связанными в пучки травами, по праздникам — белоснежными
платами и полотенцами. Если в доме кто-то из мужчин
занимался охотой, то на главный простенок прибивали
хвосты и растопыренные крылья глухаря либо тетерева.
Под матицей обычно висел большой бычий пузырь с
гремящими в нем горошинами, у дверей вместо вешалки
нередко приделывали лосиные рога.
Чуть ниже потолка по стенам, повторяя длину и
ширину лавок, шел полавошник, у дверей, от печи до
стены, настилались полати. Воронец — это мощный брус, на
котором держался полатный настил. Во время свадьбы или
очередного игрища над воронцом торчали детские
головенки. Опираясь на кулачки, глазели ребятишки на
происходящее. Никто не приневоливал их спать. И как
много интересного можно было узнать и увидеть, глядя
сверху, ощущая свою недосягаемость и защитный уют родной
избы!
В будние вечера, лежа на полатях, старые старики
говорили для деток сказки, засыпая на самых заветных
местах.
Ребенок будил бабушку или дедушку, но тот забывал,
на каком месте остановился, и начинал все сначала...
Зимою в избе редко не пахло то сосновой иглой, то
принесенной с мороза еловой хвоей, которой натирали
клепцы для заячьей ловли. Но особенно терпко и вкусно
пахли свежие черемуховые вицы для рыболовных снастей, а
также заготовки вязов и стужней для вязки саней и дров.
Когда же закрывали печь с пирогами либо хлебами, запах
печеного теста побеждал все остальные. Особенно приятен
он был на улице, среди мороза и снега.
Боясь угара, вся семья, кроме большухи, старалась
уйти на улицу или в другоизбу, как говорилось. Для
взрослых всегда дел хватало, дети тоже знали, чем
заняться, куда сходить и во что поиграть.
Он никогда не был тесен, этот дом!
И все же обширность летней избы, ее долгожданный
простор чуялись в течение всей зимней поры. Весенний
переход на жительство в “передок” всегда был радостным.
Но до этого выставляли зимние рамы в зимовке, меняли
валенки на сапоги, переставали до конца закрывать слегка
угарную печь и т.д.
Дедушка с бабушкой все еще спят в зимней избе, хотя
чай пьют и обедают в летней вместе со всеми. Вытрясены
постели и одеяла, проветрена, выбита, высушена на
солнышке и развешана в сеннике либо в амбаре зимняя
одежда.
Объявился первый комар, и на большом сарае, где
чиликают под высокой тесовой крышей касатки-ласточки,
устроили первый полог. Очень скоро запахнет здесь
вениками и первым сенцом.
Давно ли родной дом трещал и бухал от крещенского
холода? Теперь он шумит от теплого летнего ветра.
В доме и около
Кроме бани, хороший хозяин обязательно строил
(где-нибудь на горке) яму — небольшой сруб, крытый и
опущенный в землю.
В яме хранились брюква, морковь, репа, свекла. Лук
хранился на полатях в сухом тепле. Хождение в яму, зимой
особенно, с нетерпением поджидалось детьми.
В огороде рубили и рассадник для выращивания
капустной, брюквенной и огуречной рассады, тут же, если
не было речки, рыли колодец. В колодец во время жары
опускали в ведрах мясо, масло и молоко.
Культура изготовления пива, издревле известная на
Руси, включала в себя выращивание хмеля. Поэтому в
сложившемся хозяйстве, там, где построились, женились и
обзавелись самым необходимым, желательно было завести
хмельник. Длинные тоненькие колышки — штук
двадцать-тридцать — торчали все же не у каждого дома.
Некоторые крестьяне предпочитали хмель покупной. Для
сохранности эти колышки ежегодно после сбора урожая
выдергивали и складывали сушить, весною снова втыкали.
Что могло быть заманчивей для подростков, чем эти легкие
и удивительно прочные пики?
Поленницы березовых, еловых, ольховых дров
завершали вид подворья, вплотную примыкавшего к
соседнему. Зимой около дома обязательно торчали
перевернутые на бок дровни — основная зимняя повозка
крестьянина. Это древнее сооружение состояло из пары
гнутых (по насечке) березовых полозьев. В них
вдалбливались по четыре парных, тоже березовых, копыла.
Полоз с полозом соединялись черемуховыми вязами, которые
обхватывали каждую пару копыльев. Место сгиба у вязов
вырубали и распаривали. Копыл плотно зажимался в сгибе,
а чтобы концы вяза не разгибались, их крепили кольцом,
сплетенным из витой березовой вички (лозы). Более мощный
вяз, соединявший передние концы полозьев, составлял
головку дровней, толстые черемуховые вицы, не
позволявшие полозьям разгибаться, назывались стужнями.
Ко второму копылу каждого полоза крепился конец
березовой оглобли. Дело в том, что оглобля должна быть
подвижной, а груз на возу бывает в десятки пудов. От
прочности завертки, соединяющей конец оглобли с
дровнями, зависела не только крепость упряжки, но и
многое в крестьянском быту.
Если срубленную длинную и тонкую березку
перевивать, перекручивать, начиная с тончайшей вершинки,
получится длинный и гибкий жгут из прочных волокон. Этот
жгут, сплетенный в кольцо, и называется заверткой. У
хорошего хозяина всегда в запасе с полдюжины подобных
колечек: они висят на штыре в сарае или в сенях.
Отправляясь в дальний извоз, брали завертку-две про
запас. Известны случаи, когда женихи, приехавшие за
невестой на повозке с дурными веревочными завертками,
уезжали ни с чем.
Для того чтобы поставить новую завертку, надо
расплести кольцо и сплести его вновь, но уже на копыле
дровней. Оглоблю с зарубкой на конце вставляют в кольцо
и заворачивают ее на неполный оборот. После этого можно
смело ехать в любую дорогу с любым грузом.
На дровнях возили тяжелые, многосаженные дерева.
Чтобы комель бревна не обруснул с копыльев вязы
(вспомним выражения “откинуть вязы”, “копылья на
сторону”), под него подкладывали колодки с полукруглыми
выемками. Вершина дерева клалась на так называемые
подсанки — короткие дровни без головок с едва загнутыми,
но широкими полозьями. Подсанки на необходимую длину
соединялись с дровнями веревками крест-накрест, для чего
в полозьях подсанок имелись проушины.
На дровнях же, если положить на них кресла — три
соединенные жерди или бруска, увеличивающих ширину воза,
— возили сено, солому, осенчуг [Сухая скошенная трава,
употребляемая на подстилки вместо рубленой хвои - Ред.]
и т.д.
Самое опасное для зимнего ездока — это раскаты —
отшлифованные полозьями крутые уклоны. Возы кувыркались
на них, увлекая за собой и даже роняя некрепких лошадок.
Крепкие кони выворачивались из оглобель. Поэтому с
некоторых пор полозья дровней стали шинить — набивать на
них узкие железные полосы.
Розвальни — нечто среднее между дровнями и санями
— служили для возки негромоздкой поклажи, для будничной
и дальней езды. Бока их, образованные как бы гнутыми
креслами, переплетались веревками или же зашивались
дранками. Подобные повозки с едва заметной спинкой,
глухими бортами и передком назывались еще и пошевнями.
Выездные сани, возки, с облучком и без него,
делали с высокой спинкой, на двоих-троих седоков. Эти
спинки (задки) расписывались красным по черному, зеленым
по красному и т.д. Сани, как и дровни, можно было
сделать без единой железной детали. Но тот, кто хотел
пофорсить выездными масленичными санками, неминуемо
становился должником кузнеца.
Кошевку корешковых санок выплетали из тонких
ивовых вичек. У таких форсистых санок имелся облучок и
сиденье откидывалось, открывая место для гостинцев. В
ноги клали тулуп или овчинное одеяло. Хозяин с вожжами в
руках садился справа. При езде он “выкидывал” одну ногу
наружу отчасти для шика, отчасти на случай падения.
(Незадачливые ездоки нередко ломали ноги в отводах.)
Слева сидела жена, сестра или невеста, а иногда и дружок
либо родственник с гармонией. Сзади, на запятках, мог
ехать случайный попутчик. Очень любили подкатываться
подростки и молодые ребята, особенно если хозяин не
видит этого. Недоумевая, отчего лошадь не бежит (даже
мыло в пахах), ездовой сердится, но, оглянувшись, ничего
не замечает, так как незаконный ездок мог присесть на
запятках. Далеко все же не ехали, поскольку обратно
приходилось топать пешком.
Летняя езда плоха против зимней! В тряской
одноколой телеге даже по ровной дороге лучше правиться
шагом, чем рысью. Двуколую — на четырех колесах —
повозку трясет меньше, но пыли и грохоту от нее тоже
хватает. Кое у кого из крестьян бывали и собственные
тарантасы и дроги. Дроги — это тот же тарантас, только
на гибких длинных жердях вместо рессор. Дрожками
называли легкую о двух колесах повозку с небольшой
кошевкою на рессорах, подобие современной жокейской
коляски. Простая пара колес с колодкой на оси называлась
волоками, на них возили жердье и длинные слеги.
Но что значит повозка без упряжи?
Главной фигурой среди упряжи, конечно, является
хомут, в основе которого две деревянные дугообразные
клещевины. Вверху они намертво скреплены ремнем, но так,
чтобы оставалась возможность их раздвигать. Снизу к ним
крепили кожаный калач, вернее, полукалач. Плотно набитый
соломой, он прилегал к лошадиной груди и тоже
раздвигался при надевании хомута на голову. Тщательно
подогнанный войлок хомута прилегал к холке и плечам коня
с боков. В отверстия клещевин продергивали гужи, хомут
обивали кожей. Супонь, длинный, скрученный ремешок,
завершала все устройство. Узелок на конце не позволял
супони выдернуться при стягивании клещевин.
Хомуты были разных размеров, седелка же годилась
на любого коня. Различались седелки с одной и двумя
кобылками, на которых перемещался чересседельник —
прочный ремень, держащий на весу оглобли, а
следовательно, дугу и хомут. Седелка притягивалась к
спине лошади через брюхо подпругой. Концы дуги
соединялись с оглоблями сперва левым, потом правым
гужом. Клещевины, стянутые супонью, напрягали гужи —
конь в запряжке. Поводья оброти (узды) продергивали в
колечко дуги, в кольца удил привязывали или пристегивали
кляпышами концы вожжей.
Можно было ехать. Можно, да осторожно, если
запряжено без шлеи. Шлея — это система ремней,
пристегнутая к хомуту, она не позволяла лошади вылезать
из хомута. Если уж конь пятился, то вместе с возом.
Не зная всего этого, трудно понять смысл многих
русских пословиц. Но дело не в одних пословицах. Вокруг
коня и упряжи время создало такое мощное силовое поле,
такой эстетический ореол, что нельзя представить без них
ни прошлую жизнь, ни нынешнюю.
Повозки хранили в гумнах и в самих домах, упряжь
висела около конского стойла. Зимой хомут и седелку
заносили и в избу для просушки.
Каждому помещению были приписаны свой инвентарь и
свои предметы. Для того чтобы рассказать об устройстве и
назначении всех крестьянских орудий и бытовых предметов,
потребовалось бы многотомное описание.
В гумне положено было иметь набор метел,
изготовленных из березового вершинника, грабли, пехло и
осиновые лопаты для сгребания зерна в ворох, вилы
трехрогие березовые, чтобы подымать на сцепы горох, и
подавалку — тонкий легкий шест с отростышком на конце,
чтобы подавать снопы на овин.
В амбаре постоянно имелась метелка и несколько
совков, не говоря уже о лукошках и мешках.
В бане стояли с полдюжины шаек, имелась кочерга и
большие деревянные клещи, которыми доставали и опускали
в воду раскаленные камни.
В разных местах дома хранились соха, борона, косы,
вилы, серпы, вилашки и крюки для стаскивания с телеги
навоза, ручные жернова, ступа и пест для толчения овса и
льносемени. Пословица о толчении воды относится к другой
ступе, к лежачей, в которой толкли коромыслом половики,
мешки, подстилки. Эта ступа всегда лежала на берегу или
на льду около проруби. Неизвестно, какая ступа служила
для полетов бабы-яги. В детстве почему-то частенько
возникала такая фантазия: вот сесть бы в эту водяную
ступу да и поплыть по реке мимо всех деревень, под
мостами и облаками. Впрочем, так же хотелось иногда
залезть в сундук или спрятаться в ларь, покатать по
деревне ткацкий тюрик или помахать материнским трепалом,
похожим на сказочный меч. Но всего интереснее залезть на
вышку, по-современному на чердак, взглянуть с высоты
через окно в дальние дали. Здесь же зимою можно было
запастись мороженой рябиной либо неожиданно обнаружить
гнездо ласточки.
Двор
Дом, в котором нет скотины, можно узнать еще
издалека по многим приметам, а ступив в сени, по особому
нежилому запаху. Точнее, по отсутствию всяких запахов.
Двором называют всю заднюю половину дома,
срубленную в двух уровнях и находящуюся под общей
крышей. Внизу размещались два-три хлева, вверху поветь
(верхний сарай), перевалы для корма, сенники (чуланы) и
нужник.
Жизнь домашних животных никогда не
противопоставлялась другой, высшей, одухотворенной жизни
— человеческой. Крестьянин считал себя составной частью
природы, и домашние животные были как бы соединяющим
звеном от человека ко всей грозной и необъятной природе.
Близость к животным, к природе смягчала холод
одиночества, который томил душу человека при взгляде на
далекое мерцание Млечного Пути.
О хорошем коне, как и об умной собаке, судили так:
“Все понимает, только не говорит”. Лошадь в крестьянском
мире и пахала и возила, но она же помогала воспитанию в
человеке и нравственного чувства.
Коню обязательно давали кличку, тогда как овец
называли всегда одинаково — Серавка, барана Серко, все
куры удостаивались лишь примитивных кличек: Рябутка,
Чернутка, Краснутка. Лошадиная масть влияла, конечно, на
кличку, но ни у одного домашнего животного нет стольких
оттенков и названий по цвету, как у коня: рыжий,
соловый, мухортый, гнедой, карий, каурый, караковый,
саврасый, буланый, чубарый и т.д. Коня ковали, чистили,
скребли скребницей, выдирали щетью линялую шерсть,
подстригали гриву и хвост. Когда овод и мошка исчезали,
хвост завязывали узлом в кокову, это считалось высшим
шиком на свадьбе и масленице.
Кони подчас были настолько умны, что ребенок,
случайно попавший под брюхо, мог спокойно играть, его
даже не заденут копытом. Но бывают и упрямые, с норовом
и различными странностями. Иная бежала рысью в запряжке
до тех пор, пока хозяин не остановит, другую, наоборот,
никакими силами невозможно заставить бежать.
Для того чтобы лошадь охотно въезжала с возом по
въезду в ворота верхнего сарая, ее заводили туда сперва
налегке и кормили там овсом.
Животных любили и холили все домашние. Но мужчины,
начиная с малолетних мальчиков, больше опекали коней,
чем коров.
У коров также были свои имена.
Отношения большухи с коровой достигали такого
уровня понимания, что они часто даже “ругались”, причем
корова не уступала человеку в изощренности: толкалась
мордой, не отдавала молока и т.д. Хозяйка не оставалась
в долгу. К обоюдному удовольствию, примирение
обязательно наступало. Женщины разговаривали с коровами
как с людьми, коровы отвечали им утробным мыком,
лизанием, вздрагиванием больших мохнатых ушей.
Теленку сразу после рождения также давалось имя,
всегда имели свои клички собаки и кошки.
Общее настроение в семье, характер хозяина и
хозяйки, их взаимная любовь и уважение довольно заметно
влияли на характер и поведение домашних животных. Весьма
интересными, подчас просто необъяснимыми с точки зрения
рассудка бывали отношения детей и животных, а также
одних домашних животных с другими.
Еще лет пятьдесят назад граница между реальностью
и фантазией была едва заметна в крестьянском быту.
Традиционные древнейшие народные поверья, освежаемые
богатым воображением, совмещаясь с реальными
впечатлениями, создавали полуфантастические образы
поэтического сознания. Решительный радикализм — либо
веришь, либо не веришь — совсем не годился для такого
сознания. Народная жизнь без поэзии непредставима, но
там, где все ясно и все объяснимо, поэзия исчезает и ее
тотчас замещает потрясающе тусклый рационализм. Никто не
осмеливался сказать: “Ничего нет”. Предпочитали
уклончивое: “Кто его знает, может, есть, может, нет”.
Человек, ни во что не верящий, публично и активно
утверждающий собственный нигилизм, подвергался тонкой
общественной насмешке.
Но как же все-таки понимать этот
полуфантастический образ? Сами слишком уж
впечатлительные люди становились зачастую виновниками
его создания. Услышав ночью в лесу близкий
выразительный, какой-то стонущий крик, даже искушенный в
грамоте человек забывает про филина. Кот, забравшись на
грудь крепко спящего человека, представляется ему сквозь
сон домовым. Хитрый, изощренный в коварстве, уходящий из
любого капкана волк принимался за оборотня и т.д. и т.п.
Люди не стыдились своей фантазии. Твердо не
признающие потустороннюю силу, не разрушали образную
систему верящих, они и сами (по ночам или в лесу)
частенько, пусть и на время, становились верящими.
Домовушком ласково называли фантастического
хранителя дома. Он представлялся разным людям
по-разному. Некоторые называли его дворовушком
(попечителем скотины), другие запечным дедушком, третьи
и так и эдак, смотря по обстоятельствам.
Домовушко, как и конь и корова, был почти членом
семейства, он мог и рассердиться, и навредить, и на
время оставить дом. Считалось, что в последнем случае
несчастья сыпались одно за другим.
Присутствие домовушка на дворе определяли разными
мелочами: то он гриву у лошади заплетет, то отыщет и
подсунет на видное место давно потерянный предмет, то
вдруг не закрытые на ночь воротца оказываются не только
закрытыми, но и завязанными на веревочку.
Уходя в бурлаки либо на военную службу, словом,
надолго покидая родной дом, иные мужики выходили в
верхний сарай и голосом обращались к дворовушку. Просили
его беречь двор, не обижать скотину, пока хозяин будет в
отлучке. Добрый дворовушко в ответ шелестел вениками,
легонько попискивал или покашливал, успокаивая хозяина:
мол, иди спокойно, тут все будет благополучно...
Примерно такими же свойствами наделяла народная
фантазия баннушка, гуменнушка и овиннушка.
Василий Белов
|
Ярмарка |
Ярмарка
Общий уклад жизни крестьянина объединял и
эстетические и экономические стороны ее. Лучше сказать,
что одно без другого не существовало. Русская ярмарка —
яркий тому пример. Торговле, экономическому обмену
обязательно сопутствовал обмен, так сказать, культурный,
когда эмоциональная окраска торговых сделок становилась
порой важнее их экономического смысла. На ярмарке
материальный интерес был для многих людей одновременно и
культурно-эстетическим интересом.
Вспомним гоголевскую “Сорочинскую ярмарку”,
переполненную народным юмором, который в этом случае
равносилен народному оптимизму. У северных ярмарок та же
гоголевская суть, хотя формы совсем иные, более
сдержанные, ведь одна и та же реплика или деталь на юге
и на севере звучит совсем по-разному. Гоголевское
произведение является пока непревзойденным в описании
этого истинно народного явления да, видимо, так и
останется непревзойденным, поскольку такие ярмарки уже
давно исчезли.
Тем не менее дух ярмарочной стихии настолько
стоек, что и теперь не выветрился из народного сознания.
Многие старики к тому же помнят и ярмарочные
подробности.
Вероятно, ярмарки на Руси исчислялись не
десятками, а сотнями, они как бы пульсировали на широкой
земле, периодически вспыхивая то тут, то там. И каждая
имела свои особые свойства.. Отличались ярмарки по
времени года, преобладанием каких-либо отдельных или
родственных товаров и, конечно же, величиной, своими
размерами.
Самая маленькая ярмарка объединяла всего несколько
деревень. На ярмарке, которая чуть побольше, гармони
звучали уже по-разному, но плясать и петь еще можно было
и под чужую игру. На крупных же ярмарках, например, на
знаменитой Нижегородской, уже слышна была разноязычная
речь, а музыка не только других губерний, но и других
народов.
Торговля, следовательно, всегда сопровождалась
обменом культурными ценностями. Национальные мелодии,
орнаменты, элементы танца и костюма, жесты и, наконец,
национальный словарь одалживались и пополнялись за счет
национальных богатств других народов, ничуть не теряя
при этом основы и самобытности.
На большой ярмарке взаимное влияние испытывали не
только внутринациональные обычаи, но и обычаи разных
народов. При этом некоторые из них становились со
временем интернациональными.
Ярмарку, конечно, нельзя ставить в один ряд со
свадьбой, с этим чисто драматическим народным действом.
Действие в ярмарке как бы дробится на множество мелких
комедийных, реже трагедийных сценок. Массовость,
карнавальный характер ярмарки, ее многоцветье и
многоголосье, вернее, разноголосье, не способствуют
четкой драматизации обычая, хотя и создают для него свой
особый стиль. Впрочем, многие ярмарочные эпизоды, такие,
как заезд, устройство на жительство или ночлег,
установка ларей и лавок, первые и последние сделки,
весьма и весьма напоминали ритуальные действа.
Сход
Новгородское и Псковское вече, как будто бы
известное каждому школьнику, на самом деле мало изучено.
Оно малопонятно современному человеку. Что это такое?
Демократическое собрание? Парламент? Исполнительный и
законодательный орган феодальной республики? Ни то и ни
другое. Вече можно понять, лишь уяснив смысл русского
общинного самоуправления. Мирские сходы — практическое
выражение самоуправления. Заметим: самоуправления, а не
самоуправства. В первом случае речь идет об общих
интересах, во втором — о корыстных и личных...
Ясно, что такое явление русского быта, как сход,
несший на своих плечах главные общественные, военные,
политические и хозяйственные обязанности, имело и
собственную эстетику, согласную с общим укладом, с общим
понятием русского человека о стройности и красоте.
Необходимость схода назревала обычно постепенно,
не сразу, а когда созревала окончательно, то было
достаточно и самой малой инициативы. Люди сходились
сами, чувствуя такую необходимость. В других случаях их
собирали или десятские, или специальный звон колокола (о
пожаре или о вражеском набеге извещалось набатным боем).
Десятский проворно и немного торжественно шел
посадом и загаркивал людей на сход. Загаркивание —
первая часть этого (также полуобрядного) обычая. После
загаркивания или колокольного звона народ не спеша,
обычно принарядившись, сходился в условленном месте.
Участвовать в сходе и высказываться имели право
все поголовно, но осмеливались говорить далеко не все.
Лишь когда поднимался общий галдеж и крик, начинали
драть глотку даже ребятишки. Старики, нередко
демонстративно, уходили с такого сборища.
Впрочем, крики и шум не всегда означали одну
бестолковщину. Когда доходило до серьезного дела,
крикуны замолкали и присоединялись к общему
справедливому мнению, поскольку здравый смысл брал верх
даже на буйных и шумных сходах.
По-видимому, самый древний вид схода — это
собрание в трапезной, когда взрослые люди сходились за
общим столом и решали военные, торговые и хозяйственные
дела. Позднее этот обычай объединился с христианским
молебствием, ведь многие деревянные храмы строились с
трапезной — специальным помещением при входе в церковь.
Как это для нас ни странно, на сельском
крестьянском сходе не было ни президиумов, ни
председателей, ни секретарей. Руководил всем ходом тот
же здравый смысл, традиция, неписаное правило. Поскольку
мнение самых справедливых, умных и опытных было важнее
всех других мнений, то, само собой разумеется, к слову
таких людей прислушивались больше, хотя формально
частенько верх брали горлопаны.
Высказавшись и обсудив все подробно, сход выносил
так называемый приговор. По необходимости собирали
деньги и поручали самому почтенному и самому надежному
участнику схода исполнение какого-либо дела (например,
сходить с челобитьем). Разумеется, решение схода было
обязательным для всех.
Внешнее оформление схода сильно изменилось с
введением протокола. Если участники собрания говорили
открыто и то, что думали (слово к делу не подошьешь), то
с введением протоколирования начали говорить осторожно,
и так и сяк, иные вообще перестали высказываться.
Сила бумаги — сила бюрократизма — всегда была
враждебна общинному устройству с его открытостью и
непосредственностью, с его иногда буйными, но
отходчивыми ораторами. Бюрократизация русского схода,
его централизованное регламентирование породило тип
нового, совершенно чуждого русскому духу оратора.
Поэтому даже такому стороннику европейского регламента и
“политеса”, как Петр, пришлось издать указ, запрещающий
говорить по бумаге. “Дабы глупость оных ораторов каждому
была видна” — примерно так звучит заключительная часть
указа.
Более того, с внедрением протоколирования на сходы
вообще перестали ходить многие поборники справедливости,
люди безукоризненно честные. Горлопанам же было тем
привольней.
Очень интересно со всех точек зрения, в том числе
и с художественной, проходили колхозные собрания,
бригадные и общие, хотя сохранившиеся в архивах
протоколы мало отражают своеобразие этих сходов.
Безусловно, колхозные собрания еще и в послевоенные годы
имели отдаленные ритуальные признаки.
Обычай устраивать праздничные собрания существовал
до недавнего времени в большинстве северных колхозов.
Причем собрание, само по себе содержавшее элементы
драматизации, завершалось торжественным общим обедом,
трапезой.
Участвовали в этом обеде все поголовно, от мала до
велика. Тем, кто не мог прийти, приносили еду с
общественного стола на дом.
Гуляния
Бытовая упорядоченность народной жизни как нельзя
лучше сказывалась в молодежных гуляниях, в коих
зачастую, правда в ином смысле, участвовали дети,
пожилые и старые люди.
Гуляния можно условно разделить на зимние и
летние. Летние проходили на деревенской улице по большим
христианским праздникам.
Начиналось летнее гуляние еще до заката солнца
нестройным пением местных девчонок-подростков, криками
ребятни, играми и качелями. Со многих волостей
собиралась молодежь. Женатые и пожилые люди из других
мест участвовали только в том случае, если приезжали
сюда в гости.
Ребята из других деревень перед тем, как подойти к
улице, выстраивались в шеренгу и делали первый, довольно
“воинственный” проход с гармошкой и песнями. За ними,
тоже шеренгой и тоже с песнями, шли девушки. Пройдя
взад-вперед по улице, пришлые останавливались там, где
собралась группа хозяев. После несколько напыщенного
ритуала-приветствия начиналась пляска. Гармониста или
балалаечника усаживали на крыльцо, на бревно или на
камень. Если были комары, то девушки по очереди
“опахивали” гармониста платками, цветами или ветками.
Родственников и друзей тут же уводили по домам, в
гости, остальные продолжали гуляние. Одна за другой с
разных концов деревни шли все новые “партии”, к ночи
улицы и переулки заполняла праздничная толпа. Плясали
одновременно во многих местах, каждая “партия” пела
свое.
К концу гуляния парни подходили к давно или только
что избранным девицам и некоторое время прохаживались
парами по улице.
Затем сидели, не скрываясь, но по укромным местам,
и наконец парни провожали девушек домой.
Стеснявшиеся либо еще не начинавшие гулять парни с
песнями возвращались к себе. Только осенью, когда рано
темнело, они оставались ночевать в чужих банях, на
сеновалах или в тех домах, где гостили приятели.
Уличные гуляния продолжались и на второй день
престольного пивного праздника, правда, уже не так
многолюдно. В обычные дни или же по незначительным
праздникам гуляли без пива, не так широко и не так
долго. Нередко местом гуляния молодежь избирала красивый
пригорок над речкой, у церкви, на росстани и т.д.
Старинные хороводы взрослой молодежи в 20-х и
начале 30-х годов почти совсем исчезли; гуляние свелось
к хождению с песнями под гармонь и к беспрестанной
пляске. Плясать женатым и пожилым на улице среди
холостых перестало быть зазорным.
Зимние гуляния начинались глубокой осенью,
разумеется с соблюдением постов, и кончались весной. Они
делились на игрища и беседы.
Игрища устраивались только между постами. Девицы
по очереди отдавали свои избы под игрище, в этот день
родственники старались уйти на весь вечер к соседям.
Если домашние были уж очень строги, девица нанимала
чужую избу с обязательным условием снабдить ее
освещением и вымыть после гуляния пол.
На игрище первыми заявлялись ребятишки, подростки.
Взрослые девушки не очень-то их жаловали и старались
выжить из помещения, успевая при этом подковырнуть
местных и чужих ухажеров. Если была своя музыка, сразу
начинали пляску, если музыки не было — играли и пели.
Приход чужаков был довольно церемонным, вначале они
чопорно здоровались за руку, раздевались, складывали
шубы и шапки куда-нибудь на полати. Затем рассаживались
по лавкам. Если народу было много, парни сидели на
коленях у девиц, и вовсе не обязательно у своих.
Как только начинались пляски, открывался первый
горюн, или столбушка. Эта своеобразная полуигра пришла,
вероятно, из дальней дали времен, постепенно приобретая
черты ритуального обычая. Сохраняя высокое целомудрие,
она предоставляла молодым людям место для первых
волнений и любовных восторгов, знакомила, давала
возможность выбора как для мужской, так и для женской
стороны. Этот обычай позволял почувствовать собственную
полноценность даже самым скромным и самым застенчивым
парням и девушкам.
Столбушку заводили как бы шуткой. Двое местных —
парень и девица — усаживались где-нибудь в заднем углу,
в темной кути, за печью. Их занавешивали одеялом либо
подстилкой, за которые никто не имел права заглядывать.
Пошептавшись для виду, парень выходил и на свой вкус
(или интерес) посылал к горюну другого, который,
поговорив с девицей о том о сем, имел право пригласить
уже ту, которая ему нравится либо была нужна для тайного
разговора. Но и он, в свою очередь, должен был уйти и
прислать того, кого закажет она. Равноправие было
полнейшим, право выбора — одинаковым. Задержаться у
столбушки на весь вечер — означало выявить серьезность
намерений, основательность любовного чувства, что сразу
же всем бросалось в глаза и ко многому обязывало молодых
людей. Стоило парню и девице задержаться наедине дольше
обычного, как заводили новую столбушку.
Игра продолжалась, многочисленные участники
гуляния вовсе не желали приносить себя в жертву кому-то
двоим.
Таким образом, горюн, или столбушка давали
возможность:
1. Познакомиться с тем, с кем хочется.
2. Свидеться с любимым человеком.
3. Избавиться от партнера, если он не нравится.
4. Помочь товарищу (товарке) познакомиться или
увидеться с тем, с кем он хочет.
Во время постов собирались беседы, на которых
девицы пряли, вязали, плели, вышивали. Избу для них
отводили также по очереди либо нанимали у бобылей.
Делали складчину на керосин, а в тугие времена вместе с
прялкой несли под мышкой по березовому полену. На
беседах также пели, играли, заводили столбушки и горюны,
также приходили чужаки, но все это уже слегка
осуждалось, особенно богомольными родителями.
“На беседах девчата пряли, — пишет Василий
Вячеславович Космачев, проживающий в Петрозаводске, —
вязали и одновременно веселились, пели песни, плясали и
играли в разные игры. В нашей деревне каждый вечер было
от четырех до шести бесед. Мы, ребята, ходили по деревне
с гармошкой и пели песни. Нас тоже была не одна партия,
а подбирались они по возрастам. Заходили на эти беседы.
По окончании гулянок-бесед каждый из нас заказывал
“вытащить” себе с беседы девицу, которая нравится, чтобы
проводить домой. Кто-либо из товарищей идет в дом на
беседу, ищет нужную девушку, вытаскивает из-под нее
прялку. Потом выносит прялку и передает тому, кто
заказал. Девица выходит и смотрит, у кого ее прялка.
Дальше она решает, идти ей с этим парнем или нет. Если
парень нравился, то идет обратно, одевается и выходит,
если не нравился, то отбирает прялку и снова уходит
прясть”.
Уже знакомый читателю А.М. Кренделев говорит, что
в их местах “зимними вечерами девушки собирались на
посиделки, приносили с собой пяльцы и подушки с
плетением (прялки не носили, пряли дома). За девушками
шли и парни, правда, парни в своих деревнях не
оставались, а уходили в соседние. На посиделках девушки
плели кружева, а парни (из другой деревни) балагурили,
заигрывали с девушками, путали им коклюшки. Девушки,
работая, пели частушки, если был гармонист, то пели под
гармошку. По воскресеньям тоже собирались с плетением,
но часто пяльцы отставляли в сторону и развлекались
песнями, играми, флиртом, пляской. Зимние посиделки
нравились мне своей непринужденностью, задушевностью.
Веселая — это большое двухдневное зимнее гуляние.
Устраивалась она не каждый год и только в деревнях, где
было много молодежи. Ребята и девушки снимали у
кого-нибудь просторный сарай с хорошим полом или
свободную поветь (повить), прибирали, украшали ее, вдоль
трех стен ставили скамейки. Девушки из других деревень,
иногда и дальних, приходили в гости по приглашению
родственников или знакомых, а парни шли без приглашений,
как на гулянку. Девушки из ближних деревень, не
приглашенные в гости, приходили как зрители. Хотя
веселая проводилась обычно не в праздники,
деревня-устроитель готовилась к ней как к большому
празднику, с богатым угощением и всем прочим. Главным,
наиболее торжественным и многолюдным был первый вечер.
Часам к пяти-шести приходили девушки в одних платьях, но
обязательно с теплыми шалями (зима! помещение не
топлено). Парни приходили тоже в легкой одежде, а зимние
пальто или пиджаки оставляли в избах. Деревенские люди
зимой ходили в валенках, даже в праздники, а на веселую
одевались в сапоги, ботинки, туфли. А для тепла в дороге
надевали боты. В те годы были модными высокие фетровые
или войлочные боты, и женские и мужские. Девушки
садились на скамейки, а парни пока стояли поближе к
дверям. Основные занятия на веселой — танцы. В то время
в нашей местности исполнялся единственный танец —
“заинька” (вместо слова “танцевать” говорили: “играть в
заиньки”). Это упрощенный вид кадрили. Число фигур могло
быть любым и зависело только от желания и искусства
исполнителей. В “заиньке” ведущая роль принадлежала
кавалерам, они и состязались между собой в танцевальном
мастерстве. Танцевали в четыре пары, “крестом”. Порядок
устанавливался и поддерживался хозяевами, то есть
парнями и молодыми мужиками своей деревни (в танцах они
не участвовали). Они же определяли и последовательность
выхода кавалеров. Это было всегда трудным и щекотливым
делом. Большим почетом считалось выйти в первых парах, и
никому не хотелось быть последним. Поэтому при
установлении очередности бывали и обиды. Приглашение
девушек к танцу не отличалось от современного, а вот
после танца все было по-другому. Кавалер, проводив
девушку до скамейки, садился на ее место, а ее сажал к
себе на колени. Оба закрывались теплой шалью и ждали
следующего круга танцев. Часов в 9 девушки уходили пить
чай и переодеваться в другие платья. Переодевания были
обязательной процедурой веселых. Для этого девушки шли в
гости с большими узлами нарядов, на 4-5 перемен.
Количество и качество нарядов девушки, ее поведение
служили предметом обсуждения деревенских женщин, они
внимательно следили за всем, что происходило, кто во что
одет, кто с кем сидит и как сидит. Около полуночи был
ужин и второе переодевание. На следующий день было
дневное и короткое вечернее веселье. Парни из далеких
деревень приглашались на угощение и на ночлег хозяевами
веселой. Поэтому во многих домах оказывалось по десятку
гостей. Об уровне веселой судили по числу пар, по числу
баянов, по порядку, который поддерживали хозяева, по
веселью и по удовольствию для гостей и зрителей”.
Во многих деревнях собиралась не только большая
беседа, но и маленькая, куда приходили девочки-подростки
со своими маленькими прялками. Подражание не шло далее
этих прялок и песен.
Момент, когда девушка переходила с маленькой
беседы на большую, наверняка запоминался ей на всю
жизнь.
Праздник
Ежегодно в каждой отдельной деревне, иногда в
целой волости, отмечались всерьез два традиционных
пивных праздника. Так, в Тимонихе летом праздновалось
Успение Богоматери, зимою — Николин день.
В глубокую старину по решению прихожан изредка
варили пиво из церковных запасов ржи. Такое пиво
называлось почему-то мольба, его развозили по домам в
насадках. Нередко часть сусла, сваренного на праздник,
носили, наоборот, в церковь, святили и угощали им первых
встречных. Угощаемые пили сусло и говорили при этом:
“Празднику канун, варцу доброго здоровья”. Остаток
такого канунного сусла причитался попу или сторожу.
Праздник весьма сходен с ритуальным
драматизированным обрядом, наподобие свадьбы. Начинался
он задолго до самого праздничного дня замачиванием зерна
на солод. Весь пивной цикл — проращивание зерна,
соложение, сушка и размол солода, наконец, варка сусла и
пускание в ход с хмелем — сам по себе был ритуальным.
Следовательно, праздничное действо состояло из пивного
цикла, праздничного кануна, собственно праздника и двух
послепраздничных дней.
Предпраздничные заботы волновали и радовали не
меньше, чем сам праздник. Накануне ходили в церковь,
дома мыли полы и потолки, пекли пироги и разливали
студень, летом навешивали полога. Большое значение имели
праздничные обновы, особенно для детей и женщин. День
праздника ознаменовывался трогательной встречей родных и
близких.
Гостьба — одно из древнейших и примечательных
явлений русского быта.
Первыми шли в гости дети и старики. Издалека
ездили и на конях. К вечеру приходили мужчины и женщины.
Холостяков уводили с уличного гуляния. Всех гостей
встречали поклонами. Здоровались, а с близкими
родственниками целовались. Прежде всего хозяин каждому
давал попробовать сусла. Под вечер, не дожидаясь
запоздавших, садились за стол, мужчинам наливалось по
рюмке водки, женщинам и холостякам по стакану пива.
Смысл застолья состоял для хозяина в том, чтобы как
можно обильнее накормить гостя, а для гостя этот смысл
сводился к тому, чтобы не показаться обжорой или
пьяницей, не опозориться, не ославиться в чужой деревне.
Ритуальная часть гостьбы состояла, с одной стороны, из
потчевания, с другой — из благодарных отказов. Талант
потчевать сталкивался со скромностью и сдержанностью.
Чем больше отказывался гость, тем больше хозяин
настаивал. Соревнование — элемент доброго соперничества,
следовательно, присутствует даже тут. Но кто бы ни
победил в этом соперничестве — гость или хозяин, — в
любом случае выигрывали добродетель и честь, оставляя
людям самоуважение.
Пиво — главный напиток на празднике. Вино, как
называли водку, считали роскошью, оно было не каждому и
доступно. Но дело не только в этом.
Анфиса Ивановна рассказывает, что иные мужики
ходили в гости со своей рюмкой, не доверяя объему
хозяйской посуды. Больше всего боялись выпить лишнее и
опозориться. Хозяин вовсе не обижался на такую
предусмотрительность. Народное отношение к пьянству не
допускает двух толкований. В старинной песне,
сопровождающей жениха на свадебный пир, поется;
Поедешь. Иванушка.
На чужу сторону
По красну девицу,
Встретят тебя
На высоком двору.
На широком мосту.
Со плата, со плата.
Со шириночки
Платок возьми.
Ниже кланяйся.
Поведут тебя
За дубовы столы.
За сахарны яства
Да за ситный хлеб.
Подадут тебе
Перву чару вина.
Не пей, Иванушка,
Перву чару вина,
Вылей, Иванушка.
Коню в копыто.
Вторую чару предлагается тоже не пить, а вылить
“коню во гриву”.
Подадут тебе
Третью чару вина.
Не пей. Иванушка,
Третью чару вина.
Подай. Иванушка,
Своей госпоже.
Марье-душе.
После двух-трех отказов гость пригублял, но далее
все повторялось, и хозяин тратил немало сил. чтобы
раскачать гостей.
Потчевание. как и воздержание, возводилось в
степень искусства. хорошие потчеватели были известны во
всей округе, и, если пиво на столе кисло, а пироги
черствели, это было позором семье и хозяину.
Выработалось множество приемов угощения,
существовали традиционные приговорки, взывавшие к логике
и здравому смыслу: “выпей на вторую ногу”, “бог троицу
любит”, “изба о трех углах не бывает” и т.д.
У гостя был свой запас доводов. Отказываясь, он
говорил, например: “Как хозяин, так и гости”. Однако
пить хозяину было нельзя, во-первых, по тем же причинам,
что и гостю, во-вторых, по другим, касающимся уже
хозяйского статуса. Таким образом, рюмка с зельем
попадала как бы в заколдованный круг, разрывать который
стеснялись все, кроме пьяниц. Подпрашивание или
провоцирование хозяина на внеочередное угощение тем
более выглядело позорно.
Потчевание было постоянной обязанностью хозяина
дома. Время между рядовыми или отношением занималось
разговорами и песнями. Наконец более смелые выходили
из-за стола на круг. Пляска перемежала долгие песни,
звучавшие весь вечер. Выходили и на улицу, посмотреть,
как гуляет молодежь.
Частенько в праздничный дом без всякого
приглашения приходили смотреть, это разрешалось кому
угодно, знакомым и незнакомым, богатым и нищим. Знакомых
сажали за стол, остальных угощали — ”обносили” — пивом
или суслом, смотря по возрасту, по очереди черпая из
ендовы. Слово “обносить” имеет еще и второй, прямо
противоположный смысл, если применить его для
единственного числа. Обнесли — значит, не поднесли
именно тебе, что было величайшим оскорблением. Хозяин
строго следил, чтобы по ошибке никого не обнесли.
Главное праздничное действо завершалось глубокой
ночью обильным ужином, который начинался бараньим
студнем в крепком квасу, а заканчивался овсяным киселем
в сусле.
На второй день гости ходили к другим
родственникам, некоторые сразу отправлялись домой. Дети
же, старики и убогие могли гостить по неделе и больше.
Отгащивание приобретало свойства цепной реакции,
остановить гостьбу между домами было уже невозможно, она
длилась бесконечно. Уступая первые места новым, наиболее
близким родственникам, которые появлялись после свадеб,
дома и фамилии продолжали гоститься многие десятилетия.
Такая множественность в гостьбе, такая
многочисленность родни, близкой и дальней, прочно
связывала между собой деревни, волости и даже уезды.
Василий Белов
Общий уклад жизни крестьянина объединял и
эстетические и экономические стороны ее. Лучше сказать,
что одно без другого не существовало. Русская ярмарка —
яркий тому пример. Торговле, экономическому обмену
обязательно сопутствовал обмен, так сказать, культурный,
когда эмоциональная окраска торговых сделок становилась
порой важнее их экономического смысла. На ярмарке
материальный интерес был для многих людей одновременно и
культурно-эстетическим интересом.
Вспомним гоголевскую “Сорочинскую ярмарку”,
переполненную народным юмором, который в этом случае
равносилен народному оптимизму. У северных ярмарок та же
гоголевская суть, хотя формы совсем иные, более
сдержанные, ведь одна и та же реплика или деталь на юге
и на севере звучит совсем по-разному. Гоголевское
произведение является пока непревзойденным в описании
этого истинно народного явления да, видимо, так и
останется непревзойденным, поскольку такие ярмарки уже
давно исчезли.
Тем не менее дух ярмарочной стихии настолько
стоек, что и теперь не выветрился из народного сознания.
Многие старики к тому же помнят и ярмарочные
подробности.
Вероятно, ярмарки на Руси исчислялись не
десятками, а сотнями, они как бы пульсировали на широкой
земле, периодически вспыхивая то тут, то там. И каждая
имела свои особые свойства.. Отличались ярмарки по
времени года, преобладанием каких-либо отдельных или
родственных товаров и, конечно же, величиной, своими
размерами.
Самая маленькая ярмарка объединяла всего несколько
деревень. На ярмарке, которая чуть побольше, гармони
звучали уже по-разному, но плясать и петь еще можно было
и под чужую игру. На крупных же ярмарках, например, на
знаменитой Нижегородской, уже слышна была разноязычная
речь, а музыка не только других губерний, но и других
народов.
Торговля, следовательно, всегда сопровождалась
обменом культурными ценностями. Национальные мелодии,
орнаменты, элементы танца и костюма, жесты и, наконец,
национальный словарь одалживались и пополнялись за счет
национальных богатств других народов, ничуть не теряя
при этом основы и самобытности.
На большой ярмарке взаимное влияние испытывали не
только внутринациональные обычаи, но и обычаи разных
народов. При этом некоторые из них становились со
временем интернациональными.
Ярмарку, конечно, нельзя ставить в один ряд со
свадьбой, с этим чисто драматическим народным действом.
Действие в ярмарке как бы дробится на множество мелких
комедийных, реже трагедийных сценок. Массовость,
карнавальный характер ярмарки, ее многоцветье и
многоголосье, вернее, разноголосье, не способствуют
четкой драматизации обычая, хотя и создают для него свой
особый стиль. Впрочем, многие ярмарочные эпизоды, такие,
как заезд, устройство на жительство или ночлег,
установка ларей и лавок, первые и последние сделки,
весьма и весьма напоминали ритуальные действа.
Сход
Новгородское и Псковское вече, как будто бы
известное каждому школьнику, на самом деле мало изучено.
Оно малопонятно современному человеку. Что это такое?
Демократическое собрание? Парламент? Исполнительный и
законодательный орган феодальной республики? Ни то и ни
другое. Вече можно понять, лишь уяснив смысл русского
общинного самоуправления. Мирские сходы — практическое
выражение самоуправления. Заметим: самоуправления, а не
самоуправства. В первом случае речь идет об общих
интересах, во втором — о корыстных и личных...
Ясно, что такое явление русского быта, как сход,
несший на своих плечах главные общественные, военные,
политические и хозяйственные обязанности, имело и
собственную эстетику, согласную с общим укладом, с общим
понятием русского человека о стройности и красоте.
Необходимость схода назревала обычно постепенно,
не сразу, а когда созревала окончательно, то было
достаточно и самой малой инициативы. Люди сходились
сами, чувствуя такую необходимость. В других случаях их
собирали или десятские, или специальный звон колокола (о
пожаре или о вражеском набеге извещалось набатным боем).
Десятский проворно и немного торжественно шел
посадом и загаркивал людей на сход. Загаркивание —
первая часть этого (также полуобрядного) обычая. После
загаркивания или колокольного звона народ не спеша,
обычно принарядившись, сходился в условленном месте.
Участвовать в сходе и высказываться имели право
все поголовно, но осмеливались говорить далеко не все.
Лишь когда поднимался общий галдеж и крик, начинали
драть глотку даже ребятишки. Старики, нередко
демонстративно, уходили с такого сборища.
Впрочем, крики и шум не всегда означали одну
бестолковщину. Когда доходило до серьезного дела,
крикуны замолкали и присоединялись к общему
справедливому мнению, поскольку здравый смысл брал верх
даже на буйных и шумных сходах.
По-видимому, самый древний вид схода — это
собрание в трапезной, когда взрослые люди сходились за
общим столом и решали военные, торговые и хозяйственные
дела. Позднее этот обычай объединился с христианским
молебствием, ведь многие деревянные храмы строились с
трапезной — специальным помещением при входе в церковь.
Как это для нас ни странно, на сельском
крестьянском сходе не было ни президиумов, ни
председателей, ни секретарей. Руководил всем ходом тот
же здравый смысл, традиция, неписаное правило. Поскольку
мнение самых справедливых, умных и опытных было важнее
всех других мнений, то, само собой разумеется, к слову
таких людей прислушивались больше, хотя формально
частенько верх брали горлопаны.
Высказавшись и обсудив все подробно, сход выносил
так называемый приговор. По необходимости собирали
деньги и поручали самому почтенному и самому надежному
участнику схода исполнение какого-либо дела (например,
сходить с челобитьем). Разумеется, решение схода было
обязательным для всех.
Внешнее оформление схода сильно изменилось с
введением протокола. Если участники собрания говорили
открыто и то, что думали (слово к делу не подошьешь), то
с введением протоколирования начали говорить осторожно,
и так и сяк, иные вообще перестали высказываться.
Сила бумаги — сила бюрократизма — всегда была
враждебна общинному устройству с его открытостью и
непосредственностью, с его иногда буйными, но
отходчивыми ораторами. Бюрократизация русского схода,
его централизованное регламентирование породило тип
нового, совершенно чуждого русскому духу оратора.
Поэтому даже такому стороннику европейского регламента и
“политеса”, как Петр, пришлось издать указ, запрещающий
говорить по бумаге. “Дабы глупость оных ораторов каждому
была видна” — примерно так звучит заключительная часть
указа.
Более того, с внедрением протоколирования на сходы
вообще перестали ходить многие поборники справедливости,
люди безукоризненно честные. Горлопанам же было тем
привольней.
Очень интересно со всех точек зрения, в том числе
и с художественной, проходили колхозные собрания,
бригадные и общие, хотя сохранившиеся в архивах
протоколы мало отражают своеобразие этих сходов.
Безусловно, колхозные собрания еще и в послевоенные годы
имели отдаленные ритуальные признаки.
Обычай устраивать праздничные собрания существовал
до недавнего времени в большинстве северных колхозов.
Причем собрание, само по себе содержавшее элементы
драматизации, завершалось торжественным общим обедом,
трапезой.
Участвовали в этом обеде все поголовно, от мала до
велика. Тем, кто не мог прийти, приносили еду с
общественного стола на дом.
Гуляния
Бытовая упорядоченность народной жизни как нельзя
лучше сказывалась в молодежных гуляниях, в коих
зачастую, правда в ином смысле, участвовали дети,
пожилые и старые люди.
Гуляния можно условно разделить на зимние и
летние. Летние проходили на деревенской улице по большим
христианским праздникам.
Начиналось летнее гуляние еще до заката солнца
нестройным пением местных девчонок-подростков, криками
ребятни, играми и качелями. Со многих волостей
собиралась молодежь. Женатые и пожилые люди из других
мест участвовали только в том случае, если приезжали
сюда в гости.
Ребята из других деревень перед тем, как подойти к
улице, выстраивались в шеренгу и делали первый, довольно
“воинственный” проход с гармошкой и песнями. За ними,
тоже шеренгой и тоже с песнями, шли девушки. Пройдя
взад-вперед по улице, пришлые останавливались там, где
собралась группа хозяев. После несколько напыщенного
ритуала-приветствия начиналась пляска. Гармониста или
балалаечника усаживали на крыльцо, на бревно или на
камень. Если были комары, то девушки по очереди
“опахивали” гармониста платками, цветами или ветками.
Родственников и друзей тут же уводили по домам, в
гости, остальные продолжали гуляние. Одна за другой с
разных концов деревни шли все новые “партии”, к ночи
улицы и переулки заполняла праздничная толпа. Плясали
одновременно во многих местах, каждая “партия” пела
свое.
К концу гуляния парни подходили к давно или только
что избранным девицам и некоторое время прохаживались
парами по улице.
Затем сидели, не скрываясь, но по укромным местам,
и наконец парни провожали девушек домой.
Стеснявшиеся либо еще не начинавшие гулять парни с
песнями возвращались к себе. Только осенью, когда рано
темнело, они оставались ночевать в чужих банях, на
сеновалах или в тех домах, где гостили приятели.
Уличные гуляния продолжались и на второй день
престольного пивного праздника, правда, уже не так
многолюдно. В обычные дни или же по незначительным
праздникам гуляли без пива, не так широко и не так
долго. Нередко местом гуляния молодежь избирала красивый
пригорок над речкой, у церкви, на росстани и т.д.
Старинные хороводы взрослой молодежи в 20-х и
начале 30-х годов почти совсем исчезли; гуляние свелось
к хождению с песнями под гармонь и к беспрестанной
пляске. Плясать женатым и пожилым на улице среди
холостых перестало быть зазорным.
Зимние гуляния начинались глубокой осенью,
разумеется с соблюдением постов, и кончались весной. Они
делились на игрища и беседы.
Игрища устраивались только между постами. Девицы
по очереди отдавали свои избы под игрище, в этот день
родственники старались уйти на весь вечер к соседям.
Если домашние были уж очень строги, девица нанимала
чужую избу с обязательным условием снабдить ее
освещением и вымыть после гуляния пол.
На игрище первыми заявлялись ребятишки, подростки.
Взрослые девушки не очень-то их жаловали и старались
выжить из помещения, успевая при этом подковырнуть
местных и чужих ухажеров. Если была своя музыка, сразу
начинали пляску, если музыки не было — играли и пели.
Приход чужаков был довольно церемонным, вначале они
чопорно здоровались за руку, раздевались, складывали
шубы и шапки куда-нибудь на полати. Затем рассаживались
по лавкам. Если народу было много, парни сидели на
коленях у девиц, и вовсе не обязательно у своих.
Как только начинались пляски, открывался первый
горюн, или столбушка. Эта своеобразная полуигра пришла,
вероятно, из дальней дали времен, постепенно приобретая
черты ритуального обычая. Сохраняя высокое целомудрие,
она предоставляла молодым людям место для первых
волнений и любовных восторгов, знакомила, давала
возможность выбора как для мужской, так и для женской
стороны. Этот обычай позволял почувствовать собственную
полноценность даже самым скромным и самым застенчивым
парням и девушкам.
Столбушку заводили как бы шуткой. Двое местных —
парень и девица — усаживались где-нибудь в заднем углу,
в темной кути, за печью. Их занавешивали одеялом либо
подстилкой, за которые никто не имел права заглядывать.
Пошептавшись для виду, парень выходил и на свой вкус
(или интерес) посылал к горюну другого, который,
поговорив с девицей о том о сем, имел право пригласить
уже ту, которая ему нравится либо была нужна для тайного
разговора. Но и он, в свою очередь, должен был уйти и
прислать того, кого закажет она. Равноправие было
полнейшим, право выбора — одинаковым. Задержаться у
столбушки на весь вечер — означало выявить серьезность
намерений, основательность любовного чувства, что сразу
же всем бросалось в глаза и ко многому обязывало молодых
людей. Стоило парню и девице задержаться наедине дольше
обычного, как заводили новую столбушку.
Игра продолжалась, многочисленные участники
гуляния вовсе не желали приносить себя в жертву кому-то
двоим.
Таким образом, горюн, или столбушка давали
возможность:
1. Познакомиться с тем, с кем хочется.
2. Свидеться с любимым человеком.
3. Избавиться от партнера, если он не нравится.
4. Помочь товарищу (товарке) познакомиться или
увидеться с тем, с кем он хочет.
Во время постов собирались беседы, на которых
девицы пряли, вязали, плели, вышивали. Избу для них
отводили также по очереди либо нанимали у бобылей.
Делали складчину на керосин, а в тугие времена вместе с
прялкой несли под мышкой по березовому полену. На
беседах также пели, играли, заводили столбушки и горюны,
также приходили чужаки, но все это уже слегка
осуждалось, особенно богомольными родителями.
“На беседах девчата пряли, — пишет Василий
Вячеславович Космачев, проживающий в Петрозаводске, —
вязали и одновременно веселились, пели песни, плясали и
играли в разные игры. В нашей деревне каждый вечер было
от четырех до шести бесед. Мы, ребята, ходили по деревне
с гармошкой и пели песни. Нас тоже была не одна партия,
а подбирались они по возрастам. Заходили на эти беседы.
По окончании гулянок-бесед каждый из нас заказывал
“вытащить” себе с беседы девицу, которая нравится, чтобы
проводить домой. Кто-либо из товарищей идет в дом на
беседу, ищет нужную девушку, вытаскивает из-под нее
прялку. Потом выносит прялку и передает тому, кто
заказал. Девица выходит и смотрит, у кого ее прялка.
Дальше она решает, идти ей с этим парнем или нет. Если
парень нравился, то идет обратно, одевается и выходит,
если не нравился, то отбирает прялку и снова уходит
прясть”.
Уже знакомый читателю А.М. Кренделев говорит, что
в их местах “зимними вечерами девушки собирались на
посиделки, приносили с собой пяльцы и подушки с
плетением (прялки не носили, пряли дома). За девушками
шли и парни, правда, парни в своих деревнях не
оставались, а уходили в соседние. На посиделках девушки
плели кружева, а парни (из другой деревни) балагурили,
заигрывали с девушками, путали им коклюшки. Девушки,
работая, пели частушки, если был гармонист, то пели под
гармошку. По воскресеньям тоже собирались с плетением,
но часто пяльцы отставляли в сторону и развлекались
песнями, играми, флиртом, пляской. Зимние посиделки
нравились мне своей непринужденностью, задушевностью.
Веселая — это большое двухдневное зимнее гуляние.
Устраивалась она не каждый год и только в деревнях, где
было много молодежи. Ребята и девушки снимали у
кого-нибудь просторный сарай с хорошим полом или
свободную поветь (повить), прибирали, украшали ее, вдоль
трех стен ставили скамейки. Девушки из других деревень,
иногда и дальних, приходили в гости по приглашению
родственников или знакомых, а парни шли без приглашений,
как на гулянку. Девушки из ближних деревень, не
приглашенные в гости, приходили как зрители. Хотя
веселая проводилась обычно не в праздники,
деревня-устроитель готовилась к ней как к большому
празднику, с богатым угощением и всем прочим. Главным,
наиболее торжественным и многолюдным был первый вечер.
Часам к пяти-шести приходили девушки в одних платьях, но
обязательно с теплыми шалями (зима! помещение не
топлено). Парни приходили тоже в легкой одежде, а зимние
пальто или пиджаки оставляли в избах. Деревенские люди
зимой ходили в валенках, даже в праздники, а на веселую
одевались в сапоги, ботинки, туфли. А для тепла в дороге
надевали боты. В те годы были модными высокие фетровые
или войлочные боты, и женские и мужские. Девушки
садились на скамейки, а парни пока стояли поближе к
дверям. Основные занятия на веселой — танцы. В то время
в нашей местности исполнялся единственный танец —
“заинька” (вместо слова “танцевать” говорили: “играть в
заиньки”). Это упрощенный вид кадрили. Число фигур могло
быть любым и зависело только от желания и искусства
исполнителей. В “заиньке” ведущая роль принадлежала
кавалерам, они и состязались между собой в танцевальном
мастерстве. Танцевали в четыре пары, “крестом”. Порядок
устанавливался и поддерживался хозяевами, то есть
парнями и молодыми мужиками своей деревни (в танцах они
не участвовали). Они же определяли и последовательность
выхода кавалеров. Это было всегда трудным и щекотливым
делом. Большим почетом считалось выйти в первых парах, и
никому не хотелось быть последним. Поэтому при
установлении очередности бывали и обиды. Приглашение
девушек к танцу не отличалось от современного, а вот
после танца все было по-другому. Кавалер, проводив
девушку до скамейки, садился на ее место, а ее сажал к
себе на колени. Оба закрывались теплой шалью и ждали
следующего круга танцев. Часов в 9 девушки уходили пить
чай и переодеваться в другие платья. Переодевания были
обязательной процедурой веселых. Для этого девушки шли в
гости с большими узлами нарядов, на 4-5 перемен.
Количество и качество нарядов девушки, ее поведение
служили предметом обсуждения деревенских женщин, они
внимательно следили за всем, что происходило, кто во что
одет, кто с кем сидит и как сидит. Около полуночи был
ужин и второе переодевание. На следующий день было
дневное и короткое вечернее веселье. Парни из далеких
деревень приглашались на угощение и на ночлег хозяевами
веселой. Поэтому во многих домах оказывалось по десятку
гостей. Об уровне веселой судили по числу пар, по числу
баянов, по порядку, который поддерживали хозяева, по
веселью и по удовольствию для гостей и зрителей”.
Во многих деревнях собиралась не только большая
беседа, но и маленькая, куда приходили девочки-подростки
со своими маленькими прялками. Подражание не шло далее
этих прялок и песен.
Момент, когда девушка переходила с маленькой
беседы на большую, наверняка запоминался ей на всю
жизнь.
Праздник
Ежегодно в каждой отдельной деревне, иногда в
целой волости, отмечались всерьез два традиционных
пивных праздника. Так, в Тимонихе летом праздновалось
Успение Богоматери, зимою — Николин день.
В глубокую старину по решению прихожан изредка
варили пиво из церковных запасов ржи. Такое пиво
называлось почему-то мольба, его развозили по домам в
насадках. Нередко часть сусла, сваренного на праздник,
носили, наоборот, в церковь, святили и угощали им первых
встречных. Угощаемые пили сусло и говорили при этом:
“Празднику канун, варцу доброго здоровья”. Остаток
такого канунного сусла причитался попу или сторожу.
Праздник весьма сходен с ритуальным
драматизированным обрядом, наподобие свадьбы. Начинался
он задолго до самого праздничного дня замачиванием зерна
на солод. Весь пивной цикл — проращивание зерна,
соложение, сушка и размол солода, наконец, варка сусла и
пускание в ход с хмелем — сам по себе был ритуальным.
Следовательно, праздничное действо состояло из пивного
цикла, праздничного кануна, собственно праздника и двух
послепраздничных дней.
Предпраздничные заботы волновали и радовали не
меньше, чем сам праздник. Накануне ходили в церковь,
дома мыли полы и потолки, пекли пироги и разливали
студень, летом навешивали полога. Большое значение имели
праздничные обновы, особенно для детей и женщин. День
праздника ознаменовывался трогательной встречей родных и
близких.
Гостьба — одно из древнейших и примечательных
явлений русского быта.
Первыми шли в гости дети и старики. Издалека
ездили и на конях. К вечеру приходили мужчины и женщины.
Холостяков уводили с уличного гуляния. Всех гостей
встречали поклонами. Здоровались, а с близкими
родственниками целовались. Прежде всего хозяин каждому
давал попробовать сусла. Под вечер, не дожидаясь
запоздавших, садились за стол, мужчинам наливалось по
рюмке водки, женщинам и холостякам по стакану пива.
Смысл застолья состоял для хозяина в том, чтобы как
можно обильнее накормить гостя, а для гостя этот смысл
сводился к тому, чтобы не показаться обжорой или
пьяницей, не опозориться, не ославиться в чужой деревне.
Ритуальная часть гостьбы состояла, с одной стороны, из
потчевания, с другой — из благодарных отказов. Талант
потчевать сталкивался со скромностью и сдержанностью.
Чем больше отказывался гость, тем больше хозяин
настаивал. Соревнование — элемент доброго соперничества,
следовательно, присутствует даже тут. Но кто бы ни
победил в этом соперничестве — гость или хозяин, — в
любом случае выигрывали добродетель и честь, оставляя
людям самоуважение.
Пиво — главный напиток на празднике. Вино, как
называли водку, считали роскошью, оно было не каждому и
доступно. Но дело не только в этом.
Анфиса Ивановна рассказывает, что иные мужики
ходили в гости со своей рюмкой, не доверяя объему
хозяйской посуды. Больше всего боялись выпить лишнее и
опозориться. Хозяин вовсе не обижался на такую
предусмотрительность. Народное отношение к пьянству не
допускает двух толкований. В старинной песне,
сопровождающей жениха на свадебный пир, поется;
Поедешь. Иванушка.
На чужу сторону
По красну девицу,
Встретят тебя
На высоком двору.
На широком мосту.
Со плата, со плата.
Со шириночки
Платок возьми.
Ниже кланяйся.
Поведут тебя
За дубовы столы.
За сахарны яства
Да за ситный хлеб.
Подадут тебе
Перву чару вина.
Не пей, Иванушка,
Перву чару вина,
Вылей, Иванушка.
Коню в копыто.
Вторую чару предлагается тоже не пить, а вылить
“коню во гриву”.
Подадут тебе
Третью чару вина.
Не пей. Иванушка,
Третью чару вина.
Подай. Иванушка,
Своей госпоже.
Марье-душе.
После двух-трех отказов гость пригублял, но далее
все повторялось, и хозяин тратил немало сил. чтобы
раскачать гостей.
Потчевание. как и воздержание, возводилось в
степень искусства. хорошие потчеватели были известны во
всей округе, и, если пиво на столе кисло, а пироги
черствели, это было позором семье и хозяину.
Выработалось множество приемов угощения,
существовали традиционные приговорки, взывавшие к логике
и здравому смыслу: “выпей на вторую ногу”, “бог троицу
любит”, “изба о трех углах не бывает” и т.д.
У гостя был свой запас доводов. Отказываясь, он
говорил, например: “Как хозяин, так и гости”. Однако
пить хозяину было нельзя, во-первых, по тем же причинам,
что и гостю, во-вторых, по другим, касающимся уже
хозяйского статуса. Таким образом, рюмка с зельем
попадала как бы в заколдованный круг, разрывать который
стеснялись все, кроме пьяниц. Подпрашивание или
провоцирование хозяина на внеочередное угощение тем
более выглядело позорно.
Потчевание было постоянной обязанностью хозяина
дома. Время между рядовыми или отношением занималось
разговорами и песнями. Наконец более смелые выходили
из-за стола на круг. Пляска перемежала долгие песни,
звучавшие весь вечер. Выходили и на улицу, посмотреть,
как гуляет молодежь.
Частенько в праздничный дом без всякого
приглашения приходили смотреть, это разрешалось кому
угодно, знакомым и незнакомым, богатым и нищим. Знакомых
сажали за стол, остальных угощали — ”обносили” — пивом
или суслом, смотря по возрасту, по очереди черпая из
ендовы. Слово “обносить” имеет еще и второй, прямо
противоположный смысл, если применить его для
единственного числа. Обнесли — значит, не поднесли
именно тебе, что было величайшим оскорблением. Хозяин
строго следил, чтобы по ошибке никого не обнесли.
Главное праздничное действо завершалось глубокой
ночью обильным ужином, который начинался бараньим
студнем в крепком квасу, а заканчивался овсяным киселем
в сусле.
На второй день гости ходили к другим
родственникам, некоторые сразу отправлялись домой. Дети
же, старики и убогие могли гостить по неделе и больше.
Отгащивание приобретало свойства цепной реакции,
остановить гостьбу между домами было уже невозможно, она
длилась бесконечно. Уступая первые места новым, наиболее
близким родственникам, которые появлялись после свадеб,
дома и фамилии продолжали гоститься многие десятилетия.
Такая множественность в гостьбе, такая
многочисленность родни, близкой и дальней, прочно
связывала между собой деревни, волости и даже уезды.
Василий Белов
|
Свадьба |
Свадьба
Из семейных торжеств наибольшим богатством
народного творчества отличалась свадьба с ее
многообразной обрядностью, в которой традиции, возникшие
в разное время, слились в цельный комплекс — свой для
каждой местности, но в основных чертах сходный у всех
русских. Мы не будем говорить здесь об обрядовой стороне
свадьбы, о значении ее в личных и общественных делах как
событии, открывающем жизнь супружеской пары, семьи. Речь
пойдет лишь о вкладе свадьбы в крестьянскую праздничную
культуру.
Несмотря на семейный характер, по смысловому
содержанию свадебное празднество далеко выходило за
рамки семьи и превращалось в событие для всей деревни,
дававшее возможность проявиться талантам и развернуться
молодежному веселью.
В развитии народной культуры свадьбы существенную
роль играли постоянные и временные исполнители ролей
дружки и других свадебных «чинов»— свахи, поддружья,
«тысяцкого», «бояр». Функции дружки обычно на разных
свадьбах выполнял один и тот же крестьянин, знавший не
только весь порядок многодневного ведения свадьбы, но и
множество текстов — молитв, стихотворных обращений,
наговоров, присказок, диалогов, способный к импровизации
в разных жанрах фольклора. В деятельности дружки, как и
во всей свадьбе в целом, сливались задачи зрелищного,
игрового характера с ритуальными — предотвращением
«порчи» жениха и невесты. Так, после благословения
врачующихся родителями невесты образом и хлебом-солью
дружка «отпускал свадьбу». Он налеплял воск на волосы
людям и гривы лошадям свадебного поезда и обходил его
трижды с иконою. Воск этот дружка запасал на весь год —
от свечей, стоявших в церкви во время пасхальной
заутрени.
Талантливыми исполнителями были также поддружье
(помощник дружки) и свахи. Наряду с основной своей
функцией — сватовством, свахи выполняли целый ряд
обрядово-игровых действий: причесывание жениха и
невесты, сидящих на меху, перед отъездом свадебного
«поезда» в церковь; осыпание их хлебом, хмелем и
деньгами; они вместе с дружкой угощали гостей по
определенному этикету; приходили с дружкой и «тысяцким»
утром будить молодых и т. п. Все это требовало сверх
знания норм поведения еще и фольклорных импровизаций.
Роли «тысяцкого»— начальника «поезда» и особенно
«бояр» («барины», «поезжане»), служивших свидетелями при
венчании, были более пассивными, да и исполнялись они
чаще всего новыми лицами на каждой свадьбе. «Тысяцким»
обычно был крестный отец жениха или родственник. Тем не
менее и от них, по традиции, ожидалось знание
определенных элементов свадебного фольклора. Женская
молодежь к выполнению сложной, многообразной программы
свадебных причетов и песен готовилась заранее.
Обширные циклы свадебных песен исполнялись
девушками — подругами невесты и всеми гостями в целом на
разных этапах празднества. Даже рукобитье (сговор)
заканчивалось у крестьян угощением и пением «приличных»
(по выражению документа XVIII века) — то есть
соответствующих случаю — песен. К завершению сватовства
— просватанью — относилось множество песен разного
характера: здесь и ирония в адрес свата, и грусть
невесты с жалобою брату, и любовь жениха к невесте («я
тебя не вижу—жить и быть не могу»), и описание поведения
во время обряда («он крест по-писаному кладет, он поклон
по-ученому ведет, на все стороны кланяется»).
Затем шла предсвадебная неделя: завершение шитья
приданого в доме невесты; поездки ее прощаться с
родными; прощанье невесты на могилах с умершими
близкими; поездка невестиной родни в дом жениха —
знакомиться с его хозяйством и бытом семьи; оповещение о
свадьбе всей деревне — подруги невесты ходили по улицам;
в доме невесты — вечеринки для молодежи. Все это
сопровождалось песнями, каждый раз — своими.
Непременными были и присказки, шутки, загадки,
рифмованные диалоги.
Заканчивалась предсвадебная неделя девичником, на
котором невеста прощалась с женской родней и подругами,
получала предсвадебные подарки от гостей, расставалась с
«волей» и «красотой». Здесь уже, по мере приближения
самого венчания, усиливалось напряжение в исполнении
причитаний и песен невестою и другими девушками. В
текстах — больше монологов и диалогов, прямо относящихся
к происходящим событиям. Невеста нередко причетами
переговаривается с отцом, матерью, подругами, родными.
То же самое на пути в баню (после девичника — последняя
в отцовском доме баня для невесты) и наутро, в день
свадьбы, когда приезжают дружки и жених. В отличие от
грустного, а иногда и драматического тона причитаний
свадебные песни были эмоционально очень разнообразны. В
них и веселье, светлые образы, праздничные приемы
поэтики и спокойная интонация.
Кульминационный момент в доме невесты —
благословение родителями будущих молодых перед
венчанием. До этого в доме жениха появлялся дружка со
всеми поезжанами, и при них жених принимал благословение
от своих родителей.
Громы-то прогрянули,
Часты дождички пробрызнули,
Благословляется чадо милое
У своего родимого ботюшки,
У своей родимой матушки:
Благослови-ко, родимый батюшка!
Благослови-ко, родимая матушка!
Во путь меня, во дороженьку,
Во церковь Божию-матушку
Ко звону колокольному,—
поют девушки в доме жениха. Когда празднично
украшенный свадебный поезд подкатывал к дому невесты,
здесь их уже ждало много односельчан разных возрастов.
Местами девушки в доме прятали невесту в своем кругу,
требуя выкупа; в других местах было принято запирать или
заваливать ворота перед выездом поезда в церковь — жених
тоже должен был откупиться и т. п. А песни между тем
продолжали звучать — теперь уже о том, как звонят
колокола: «Ой, от Москвы чуть до Вологды, да чуть до
славного Питера...»
В церкви набиралось множество народа: наступал
главный момент свадьбы — венчание. Ведь в глазах всех
только церковное венчание означало вступление в брак.
Вид у жениха и невесты был поистине княжеский (в песнях
их величали князем и княгинею), особенно после того, как
священник надевал на них высокие венцы, подобные
коронам. Вот уже священник возводит их на амвон, и они
стоят у самых царских дверей, перед иконами, которыми
благословили их родители, поставленными на время
венчания на алтарный иконостас. Рядом с ними, на
клиросе, певчие поют уже «многие лета» новобрачным —
заключительную часть чина венчания. Пение,
сопровождавшее церковный чин венчания, особенности
местных распевов включали многие элементы народных
песен. С другой стороны, церковная певческая культура
оказала несомненное влияние на музыкальный свадебный
фольклор, постоянно впитывавший что-то от духовной
музыки.
Выход молодых из церкви — тоже этап свадебного
празднества, доступный всем. К свадебному поезду
присоединяются новые лица, другие стоят по пути. Целый
цикл песен относится к «встрече от венца». Но самая
большая серия свадебного фольклора — величания на
свадебном пиру, после возвращения из церкви: новобрачным
вместе и по отдельности, тясяцкому, свахе и свату,
дружке, священнику (если он принимал участие в пире),
гостьям-девушкам, гостям-парням, женатым гостям, вдове —
словом, каждому.
О развитии народной свадебной лирики
свидетельствуют сборники песен, изданные уже в XVIII
веке. В составленном И. И. Дмитриевым «Карманном
песеннике», в третьей части, включавшей народные песни,
свадебные были выделены особо. В XIX веке фольклористы
собрали в крестьянской среде богатейший пласт русской
свадебной лирики, которая пополняется находками вплоть
до наших дней. Для того чтобы читатель мог вполне
оценить это наше богатство, адресую его к интереснейшему
тому — «Лирика русской свадьбы», вышедшему в Ленинграде
в 1973 году.
Здесь же не откажу себе в удовольствии привести
лишь одну из песен, которыми величали новобрачных.
Записана она от двадцатилетней девушки в деревне Сура
Сурского района Архангельской области. Исполнялась на
свадьбе, разумеется, хором. Имена новобрачных в песне —
конкретные, данных жениха и невесты, как и имя отца
невесты и название волости жениха.
Славен город, славен город
Да на возгорье, да на возгорье!
Звон-от был, звон-от был
У Николы колоколы, у Николы колоколы!
Славна была, славна была
У Александра дочерь, у Александра дочерь,
Славна росла, славна росла
У Тимофеича большая, у Тимофеича большая.
Сватались на Марьи, сватались на Марьи
Трое сватовья, трое сватовья,
Трое сватовья, трое сватовья,
Трое большое, трое большое.
Первое сватовье, первое сватовье
Да из Новогорода, да из Новогорода.
Другое сватовье, другое сватовье
Да из славной Москвы, да из славной Москвы,
Третье сватовье, третье сватовье
Да из славной волости, да из славной волости,
Из славной волости, из славной волости,
С волости со Слуды, с волости со Слуды.
Олексий-от молод князь, Олексий-от молод князь,
Молод князь-от Потапьевич, молод князь-от
Потапьевич.
Ездил в город Олексий-от молод князь,
Ездил в новый, повыездил, ездил в новый, повыездил.
Красных девок повысмотрел, красных девок
повысмотрел,
Сужену Марью повыприглядел, сужену
Марью повыприглядел,
Разума-обычая, разума-обычая повыведал, повыведал,
Сам он говорит — только выславился.
У добрых отцей, у добрых отцей
Сыновья были добры, сыновья были добры,
У хороших матерей, у хороших матерей
Дочери хороши, дочери хороши.
Сын-от Олексей, сын-от Олексей
Потапьевич, Потапьевич,
Дочерь-то Марья, дочерь-то Марья
Александровна, Александровна,
Она тонехонька, она тонехонька,
Личушком она белехонька, личушком она белехонька.
Она белехонька, она белехонька,
Белехонька да румянехонька, белехонька да
румянехонька.
Ясны очи ясней сокола, ясны очи ясней сокола,
Черны брови черней соболя.
Ягодницы как маков цвет, маков цвет,
Походка у ней все повинная, все повинная,
Разговоры у ней лебединые!
(Лирика; Русск. нар. свад. обряд, 106—231; Балашов;
Булгаков, 1240—1246; Маслова, 8—84).
М.М.Громыко
Из семейных торжеств наибольшим богатством
народного творчества отличалась свадьба с ее
многообразной обрядностью, в которой традиции, возникшие
в разное время, слились в цельный комплекс — свой для
каждой местности, но в основных чертах сходный у всех
русских. Мы не будем говорить здесь об обрядовой стороне
свадьбы, о значении ее в личных и общественных делах как
событии, открывающем жизнь супружеской пары, семьи. Речь
пойдет лишь о вкладе свадьбы в крестьянскую праздничную
культуру.
Несмотря на семейный характер, по смысловому
содержанию свадебное празднество далеко выходило за
рамки семьи и превращалось в событие для всей деревни,
дававшее возможность проявиться талантам и развернуться
молодежному веселью.
В развитии народной культуры свадьбы существенную
роль играли постоянные и временные исполнители ролей
дружки и других свадебных «чинов»— свахи, поддружья,
«тысяцкого», «бояр». Функции дружки обычно на разных
свадьбах выполнял один и тот же крестьянин, знавший не
только весь порядок многодневного ведения свадьбы, но и
множество текстов — молитв, стихотворных обращений,
наговоров, присказок, диалогов, способный к импровизации
в разных жанрах фольклора. В деятельности дружки, как и
во всей свадьбе в целом, сливались задачи зрелищного,
игрового характера с ритуальными — предотвращением
«порчи» жениха и невесты. Так, после благословения
врачующихся родителями невесты образом и хлебом-солью
дружка «отпускал свадьбу». Он налеплял воск на волосы
людям и гривы лошадям свадебного поезда и обходил его
трижды с иконою. Воск этот дружка запасал на весь год —
от свечей, стоявших в церкви во время пасхальной
заутрени.
Талантливыми исполнителями были также поддружье
(помощник дружки) и свахи. Наряду с основной своей
функцией — сватовством, свахи выполняли целый ряд
обрядово-игровых действий: причесывание жениха и
невесты, сидящих на меху, перед отъездом свадебного
«поезда» в церковь; осыпание их хлебом, хмелем и
деньгами; они вместе с дружкой угощали гостей по
определенному этикету; приходили с дружкой и «тысяцким»
утром будить молодых и т. п. Все это требовало сверх
знания норм поведения еще и фольклорных импровизаций.
Роли «тысяцкого»— начальника «поезда» и особенно
«бояр» («барины», «поезжане»), служивших свидетелями при
венчании, были более пассивными, да и исполнялись они
чаще всего новыми лицами на каждой свадьбе. «Тысяцким»
обычно был крестный отец жениха или родственник. Тем не
менее и от них, по традиции, ожидалось знание
определенных элементов свадебного фольклора. Женская
молодежь к выполнению сложной, многообразной программы
свадебных причетов и песен готовилась заранее.
Обширные циклы свадебных песен исполнялись
девушками — подругами невесты и всеми гостями в целом на
разных этапах празднества. Даже рукобитье (сговор)
заканчивалось у крестьян угощением и пением «приличных»
(по выражению документа XVIII века) — то есть
соответствующих случаю — песен. К завершению сватовства
— просватанью — относилось множество песен разного
характера: здесь и ирония в адрес свата, и грусть
невесты с жалобою брату, и любовь жениха к невесте («я
тебя не вижу—жить и быть не могу»), и описание поведения
во время обряда («он крест по-писаному кладет, он поклон
по-ученому ведет, на все стороны кланяется»).
Затем шла предсвадебная неделя: завершение шитья
приданого в доме невесты; поездки ее прощаться с
родными; прощанье невесты на могилах с умершими
близкими; поездка невестиной родни в дом жениха —
знакомиться с его хозяйством и бытом семьи; оповещение о
свадьбе всей деревне — подруги невесты ходили по улицам;
в доме невесты — вечеринки для молодежи. Все это
сопровождалось песнями, каждый раз — своими.
Непременными были и присказки, шутки, загадки,
рифмованные диалоги.
Заканчивалась предсвадебная неделя девичником, на
котором невеста прощалась с женской родней и подругами,
получала предсвадебные подарки от гостей, расставалась с
«волей» и «красотой». Здесь уже, по мере приближения
самого венчания, усиливалось напряжение в исполнении
причитаний и песен невестою и другими девушками. В
текстах — больше монологов и диалогов, прямо относящихся
к происходящим событиям. Невеста нередко причетами
переговаривается с отцом, матерью, подругами, родными.
То же самое на пути в баню (после девичника — последняя
в отцовском доме баня для невесты) и наутро, в день
свадьбы, когда приезжают дружки и жених. В отличие от
грустного, а иногда и драматического тона причитаний
свадебные песни были эмоционально очень разнообразны. В
них и веселье, светлые образы, праздничные приемы
поэтики и спокойная интонация.
Кульминационный момент в доме невесты —
благословение родителями будущих молодых перед
венчанием. До этого в доме жениха появлялся дружка со
всеми поезжанами, и при них жених принимал благословение
от своих родителей.
Громы-то прогрянули,
Часты дождички пробрызнули,
Благословляется чадо милое
У своего родимого ботюшки,
У своей родимой матушки:
Благослови-ко, родимый батюшка!
Благослови-ко, родимая матушка!
Во путь меня, во дороженьку,
Во церковь Божию-матушку
Ко звону колокольному,—
поют девушки в доме жениха. Когда празднично
украшенный свадебный поезд подкатывал к дому невесты,
здесь их уже ждало много односельчан разных возрастов.
Местами девушки в доме прятали невесту в своем кругу,
требуя выкупа; в других местах было принято запирать или
заваливать ворота перед выездом поезда в церковь — жених
тоже должен был откупиться и т. п. А песни между тем
продолжали звучать — теперь уже о том, как звонят
колокола: «Ой, от Москвы чуть до Вологды, да чуть до
славного Питера...»
В церкви набиралось множество народа: наступал
главный момент свадьбы — венчание. Ведь в глазах всех
только церковное венчание означало вступление в брак.
Вид у жениха и невесты был поистине княжеский (в песнях
их величали князем и княгинею), особенно после того, как
священник надевал на них высокие венцы, подобные
коронам. Вот уже священник возводит их на амвон, и они
стоят у самых царских дверей, перед иконами, которыми
благословили их родители, поставленными на время
венчания на алтарный иконостас. Рядом с ними, на
клиросе, певчие поют уже «многие лета» новобрачным —
заключительную часть чина венчания. Пение,
сопровождавшее церковный чин венчания, особенности
местных распевов включали многие элементы народных
песен. С другой стороны, церковная певческая культура
оказала несомненное влияние на музыкальный свадебный
фольклор, постоянно впитывавший что-то от духовной
музыки.
Выход молодых из церкви — тоже этап свадебного
празднества, доступный всем. К свадебному поезду
присоединяются новые лица, другие стоят по пути. Целый
цикл песен относится к «встрече от венца». Но самая
большая серия свадебного фольклора — величания на
свадебном пиру, после возвращения из церкви: новобрачным
вместе и по отдельности, тясяцкому, свахе и свату,
дружке, священнику (если он принимал участие в пире),
гостьям-девушкам, гостям-парням, женатым гостям, вдове —
словом, каждому.
О развитии народной свадебной лирики
свидетельствуют сборники песен, изданные уже в XVIII
веке. В составленном И. И. Дмитриевым «Карманном
песеннике», в третьей части, включавшей народные песни,
свадебные были выделены особо. В XIX веке фольклористы
собрали в крестьянской среде богатейший пласт русской
свадебной лирики, которая пополняется находками вплоть
до наших дней. Для того чтобы читатель мог вполне
оценить это наше богатство, адресую его к интереснейшему
тому — «Лирика русской свадьбы», вышедшему в Ленинграде
в 1973 году.
Здесь же не откажу себе в удовольствии привести
лишь одну из песен, которыми величали новобрачных.
Записана она от двадцатилетней девушки в деревне Сура
Сурского района Архангельской области. Исполнялась на
свадьбе, разумеется, хором. Имена новобрачных в песне —
конкретные, данных жениха и невесты, как и имя отца
невесты и название волости жениха.
Славен город, славен город
Да на возгорье, да на возгорье!
Звон-от был, звон-от был
У Николы колоколы, у Николы колоколы!
Славна была, славна была
У Александра дочерь, у Александра дочерь,
Славна росла, славна росла
У Тимофеича большая, у Тимофеича большая.
Сватались на Марьи, сватались на Марьи
Трое сватовья, трое сватовья,
Трое сватовья, трое сватовья,
Трое большое, трое большое.
Первое сватовье, первое сватовье
Да из Новогорода, да из Новогорода.
Другое сватовье, другое сватовье
Да из славной Москвы, да из славной Москвы,
Третье сватовье, третье сватовье
Да из славной волости, да из славной волости,
Из славной волости, из славной волости,
С волости со Слуды, с волости со Слуды.
Олексий-от молод князь, Олексий-от молод князь,
Молод князь-от Потапьевич, молод князь-от
Потапьевич.
Ездил в город Олексий-от молод князь,
Ездил в новый, повыездил, ездил в новый, повыездил.
Красных девок повысмотрел, красных девок
повысмотрел,
Сужену Марью повыприглядел, сужену
Марью повыприглядел,
Разума-обычая, разума-обычая повыведал, повыведал,
Сам он говорит — только выславился.
У добрых отцей, у добрых отцей
Сыновья были добры, сыновья были добры,
У хороших матерей, у хороших матерей
Дочери хороши, дочери хороши.
Сын-от Олексей, сын-от Олексей
Потапьевич, Потапьевич,
Дочерь-то Марья, дочерь-то Марья
Александровна, Александровна,
Она тонехонька, она тонехонька,
Личушком она белехонька, личушком она белехонька.
Она белехонька, она белехонька,
Белехонька да румянехонька, белехонька да
румянехонька.
Ясны очи ясней сокола, ясны очи ясней сокола,
Черны брови черней соболя.
Ягодницы как маков цвет, маков цвет,
Походка у ней все повинная, все повинная,
Разговоры у ней лебединые!
(Лирика; Русск. нар. свад. обряд, 106—231; Балашов;
Булгаков, 1240—1246; Маслова, 8—84).
М.М.Громыко
Метки: свадьба |
Промысел |
Остановленные мгновения
Кто из нас, особенно в детстве или в юности, не
ужасался и не впадал в уныние при виде удручающе
необъятного костра дров, которые надо вначале испилить,
а потом исколоть и сложить в поленницы? Или широкого
поля, которое надо вспахать одному? Или дюжины толстущих
куделей, которые надо перепрясть к празднику? Сердце
замирало от того, как много предстоит сделать. Но, как и
всегда, находится утешающая или ободряющая пословица.
Хотя бы такая: “Глаза страшатся, а руки делают”.
Припомнит ее, скажет вовремя кто-нибудь из старших —
глядь, уж и не так страшно начинать работу, которой
конца не видно. Вот вам и материальная сила слова.
“Почин дороже дела”, — вспоминается другая, не менее
важная пословица, затем: “Было бы начало, а конец будет”
и т.д. Если же взялся что-то делать, то можно и
посмотреть на то, сколько сделано, увидеть, как
потихонечку прибывает и прибывает. И вдруг с удивлением
заметишь, что и еще не сделанное убыло, хоть ненамного,
но стало меньше! Глядь-поглядь, половина сделана, а
вторая тоже имеет свою половину. Глаза страшатся, а руки
делают...
Но эта пословица верна не только в смысле объема,
количества работы, но и в смысле качества ее, то есть
относительно умения, мастерства, творчества и — не
побоимся сказать — искусства. У молодого, начинающего
глаза страшатся, другой же, и не совсем молодой, тоже
боится, хотя, может быть, имеет к делу природный талант.
Но как же узнаешь, имеется ли талант, ежели не
приступишь к делу?
В искусстве для начинающего необходим риск, в
известной мере — безрассудство! Наверное, только так и
происходит первоначальное выявление одаренных людей.
Нужна смелость, дерзновенный порыв, чтобы понять,
способен ли ты вообще на что-то. Попробовать, начать,
осмелиться! А там, по ходу работы, появляется
вдохновение, и работник, если в него природа вложила
талант, сразу или же постепенно становится художником.
Конечно, не стоит пробовать без конца, всю жизнь,
превращая настойчивость в тупое упрямство.
Особенностью северного крестьянского трудового
кодекса было то, что все пробовали делать все, а среди
этих многих и рождались подлинные мастера.
Мастерство же — та почва, на которой вырастали
художники.
Но и для человека, уже поверившего в себя,
убедившегося в своих возможностях, каждый раз, перед тем
как что-то свершить, нужен был сердечный риск,
оправданный и ежесекундно контролируемый умом, нужна
была смелость, уравновешенная осторожной
неторопливостью.
Только тогда являлось к нему вдохновение, и
драгоценные мгновения останавливались, отливались и
застывали в совершенных формах искусства.
Неправда, что эти мгновения, этот высокий восторг
и вдохновение возможны лишь в отдельных, определенных
видах труда и профессиональной деятельности!
Они — эти мгновения — возможны в любом деле, если
душа человека созвучна именно этому делу (Осип
Александрович Самсонов из колхоза “Родина” доит коров,
случает их с быком, помогает им растелиться, огребает
навоз так же самозабвенно, как его сосед Александр
Степанович Цветков рубит угол, кантует бревно и
прирубает косяк).
Искусство может жить в любом труде. Другое дело,
что, например, у пахаря, у животновода оно не
материализуется, не воплощается в предметы искусства.
Может быть, среда животноводов и пахарей (иначе
крестьянская) потому-то и выделяла мастеров и
художников, создававших предметы искусства.
Крестьянские мастера и художники испокон веку были
безымянны. Они создавали свои произведения вначале для
удовлетворения лишь эстетических потребностей.
Художественный промысел рождался на границе между
эстетической и экономической потребностью человека,
когда мастера начинали создавать предметы искусства не
для себя и не в подарок друзьям и близким, а по заказу и
на продажу.
Художественный промысел...
В самом сочетании слов таится противоречие:
промысел подразумевает массовость, серийность, то есть
одинаковость, а художество — это всегда образ, никогда
не повторяющийся и непохожий на какой-либо другой. И что
бы мы ни придумывали для спасения художественности в
промысле, он всегда будет стремиться к ее размыванию, а
сама она будет вечно сопротивляться промыслу.
Образ умирает в многочисленности одинаковых
предметов, но ведь это не значит, что предметы при их
множественности нельзя создавать разными. По-видимому,
пока существует хоть маленькая разница между предметами,
промысел можно называть художественным...
Для художественного промысла характерна
традиционная технология и традиционная образная система
при обязательной художественной индивидуальности
мастера. Мастер-поденщик, похожий как две капли воды на
своего соседа по столу или верстаку, человек,
равнодушный к творчеству, усвоивший традиционные приемы
и образы, но стремящийся к количеству, — такой человек
(его уже и мастером-то нельзя назвать) толкает
художественный промысел к вырождению и гибели. При
машинном производстве художественная индивидуальность
исчезает, растворяясь в массовости и ширпотребе. На фоне
всего этого кажется почти чудом существование
художественных промыслов, превозмогающих “валовую”
психологию. Бухгалтеры и экономисты пытаются планировать
красоту и эстетику, самоуверенно вмешиваются не в свое
дело. Для их “валовой” психологии зачастую не существует
ничего, кроме чистогана, а также буквы (вернее, цифры)
плана.
Разве не удивительна выживаемость красоты в
подобных условиях? Вот некоторые северные промыслы, все
еще не желающие уступать натиску валовой безликости и
давлению эстетической тупости.
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ
Покойная Наталья Самсонова (мать уже упомянутого
дояра Осипа Александровича) плела превосходные
высокохудожественные косынки, иначе — женские кружевные
платки. Когда-то редкая девица не мечтала иметь такую
косынку. Но поскольку бесплодные мечты у северного
крестьянина были не в чести, редкая девица не стремилась
и выучиться плести. Не дожидаясь счастливых
случайностей, девушки еще с детства постигали мастерство
плетения. Они сами себе создавали свою красоту. Если же
косынка доставалась в наследство от матери или бабушки,
свою можно было выплести и продать, а на деньги купить
кованые серебряные сережки, дюжину веретен, а может, еще
и пару хороших гребенок.
Талант мастерицы сплетал воедино экономическую
основу, достаток крестьянской семьи с утком праздничной
красоты. Так было не только за кроснами, за куфтырем, но
и всюду, где таился и разгорался огонек творчества.
Талант обязательно проявлял себя и во многом другом,
например в фольклоре. Наталья Самсонова во время
плетения рассказывала сказки, на ходу выдумывая новые
приключения. Еще лучше она пела на праздниках...
Кружево, сплетенное для себя или в подарок, не
предполагало денежной выгоды, его создательницы не
кидали куфтырь как сумасшедшие с боку на бок, не спешили
в погоню за количеством. Красота никогда не была сестрой
торопливости.
ЧЕРНЕНИЕ ПО СЕРЕБРУ
Устюг Великий, как и Новгород, несколько столетий
был средоточием русской культуры, торговли и
промышленности. Устюжане могли делать все: и воевать, и
торговать, и хлебопашничать... Многие из них дошли до
Аляски и Калифорнии и там обосновались, другие исходили
всю Сибирь, торговали с Индией, Китаем и прочими
странами.
Но те, что не любили путешествовать и жили дома,
тоже не сидели сложа руки. В Устюге знали практически
все промыслы, процветавшие на Руси и в средневековой
Европе.
Человеку с божьей искрой в душе доступны все виды
художественных промыслов, но нельзя же было заниматься
понемногу всем и ничем взаправду. Выбирали обычно
наследственный промысел, укрепляя и совершенствуя
традицию либо пренебрегая ею. В обоих случаях мастер или
художник мог до конца проявить себя как личность. Но во
втором случае промысел быстро хирел, исчезали мастерство
и профессиональная тяга к прекрасному. Было достаточно
всего одного поколения, чтобы несуществующий предел
высокой красоты и некий эстетический “потолок”
занижались до крайности. Тогда-то и исчезала
художественная, эстетическая основа промысла — главное
условие его массовости, известности, а следовательно, и
экономической выживаемости. Промысел погибал. На
подступах к XX веку и в его начале устюженскую чернь по
серебру постигла бы та же участь, если бы иссякли
терпеливость и энергия нескольких энтузиастов. Мы должны
быть благодарны городу Устюгу за сохранение
великолепного искусства. Суть его в том, что художник
вначале гравирует серебряное изделие, затем заполняет
гравировку специальным составом — чернью.
Эта “татуировка”, если можно так выразиться,
навечно фиксируется высокой температурой, то есть
обычным огнем.
Великоустюгский завод “Северная чернь” выпускает
добрую продукцию, пользующуюся высоким спросом дома и за
границей. Это и понуждает наших экономистов всеми путями
увеличивать вал, поощрять однообразие. Опасность для
художества таится и в поточности производства. Если
раньше художник все от начала до конца делал сам (никому
не доверяя даже своего инструмента, не только изделия),
то теперь изделия касается множество разных, иной раз и
равнодушных рук. Выжить художеству в таких условиях
неимоверно трудно.
И все же оно выживает.
ШЕМОГОДСКАЯ РЕЗЬБА ПО БЕРЕСТЕ
Только народному гению свойственны безунывность,
умение проявить себя в любых, казалось бы, совсем
неподходящих условиях. Несомненно, что талантливый
холмогорский косторез, очутившись волею судьбы
где-нибудь в степи, не ждал от кого-то моржовых клыков,
а находил что-то другое. Например, глину. Земля всегда
что-нибудь держала про запас для художника. Так же
гончарный мастер не считал себя вправе бездействовать,
если глины в земле нет, а кругом березовые да еловые
заросли.
Береста, вероятно, самое древнее и самое
распространенное северное сырье, использовавшееся
всевозможными мастерами. Из нее изготовлялись обувь,
игрушки, святочные маски (личины), посуда и утварь.
Береста имеет по структуре и цвету двусторонние
свойства, легко добывается и хорошо поддается обработке.
Она декоративна сама по себе. Легкость, прочность и
доступность сделали ее любимым, поистине народным
материалом.
Берестяные резные туеса, солонки, окантовка для
корзин делались на Севере повсеместно, а вот настоящий
художественный промысел, основанный на резьбе по
бересте, создали опять же устюжана, или устюжцы
(неизвестно, как лучше). Промысел прославился под именем
“шемогодской резьбы”. Он существует и в наше время.
РЕЗЬБА ПО КОСТИ
Холмогорские косторезы не имеют таких просторных
цехов, как устюгские мастера серебряных дел, ставшие
ныне рабочим классом. Но суть промысла от этого не
меняется.
...Меняется она от коренных перемен, таких,
например, как замена моржовой кости коровьей.
Материал всегда диктовал, вернее, подсказывал
художнику, как ему быть, каким запастись инструментом и
с чего начинать. Что же подсказывал художнику безмолвный
монолит моржового клыка? Наверное, надо быть художником
самому, чтобы это узнать. Прежде чем приступить к
работе, художник ходил в баню, постился, очищался от
всего мелкого и прилипчивого. Он тщательно готовил себя
к внутреннему душевному взлету.
Только в таком состоянии к человеку приходило то
особое, совершенно неожиданное озарение, когда под
руками само по себе рождается произведение искусства.
Даже коровья кость, распиленная и обработанная,
вызывает в душе желание сделать из нее что-то. При
шлифовке поверхность приобретает своеобразие, выявляет
себя, становится молочно-матовой. Душа мастера как бы
сама стремится к резцу. И тогда преступным кощунством
было бы отбросить этот резец!
Душа человеческая, через посредничество рук,
которым облегчают дело всевозможные инструменты, вдыхает
жизнь, то есть красоту, в дремлющий, но всегда готовый
ожить брус гранита, дерева или моржового клыка. Не надо
трогать художника в такие минуты! Пусть он закончит
сперва дело, ему предназначенное.
Василий Белов
Кто из нас, особенно в детстве или в юности, не
ужасался и не впадал в уныние при виде удручающе
необъятного костра дров, которые надо вначале испилить,
а потом исколоть и сложить в поленницы? Или широкого
поля, которое надо вспахать одному? Или дюжины толстущих
куделей, которые надо перепрясть к празднику? Сердце
замирало от того, как много предстоит сделать. Но, как и
всегда, находится утешающая или ободряющая пословица.
Хотя бы такая: “Глаза страшатся, а руки делают”.
Припомнит ее, скажет вовремя кто-нибудь из старших —
глядь, уж и не так страшно начинать работу, которой
конца не видно. Вот вам и материальная сила слова.
“Почин дороже дела”, — вспоминается другая, не менее
важная пословица, затем: “Было бы начало, а конец будет”
и т.д. Если же взялся что-то делать, то можно и
посмотреть на то, сколько сделано, увидеть, как
потихонечку прибывает и прибывает. И вдруг с удивлением
заметишь, что и еще не сделанное убыло, хоть ненамного,
но стало меньше! Глядь-поглядь, половина сделана, а
вторая тоже имеет свою половину. Глаза страшатся, а руки
делают...
Но эта пословица верна не только в смысле объема,
количества работы, но и в смысле качества ее, то есть
относительно умения, мастерства, творчества и — не
побоимся сказать — искусства. У молодого, начинающего
глаза страшатся, другой же, и не совсем молодой, тоже
боится, хотя, может быть, имеет к делу природный талант.
Но как же узнаешь, имеется ли талант, ежели не
приступишь к делу?
В искусстве для начинающего необходим риск, в
известной мере — безрассудство! Наверное, только так и
происходит первоначальное выявление одаренных людей.
Нужна смелость, дерзновенный порыв, чтобы понять,
способен ли ты вообще на что-то. Попробовать, начать,
осмелиться! А там, по ходу работы, появляется
вдохновение, и работник, если в него природа вложила
талант, сразу или же постепенно становится художником.
Конечно, не стоит пробовать без конца, всю жизнь,
превращая настойчивость в тупое упрямство.
Особенностью северного крестьянского трудового
кодекса было то, что все пробовали делать все, а среди
этих многих и рождались подлинные мастера.
Мастерство же — та почва, на которой вырастали
художники.
Но и для человека, уже поверившего в себя,
убедившегося в своих возможностях, каждый раз, перед тем
как что-то свершить, нужен был сердечный риск,
оправданный и ежесекундно контролируемый умом, нужна
была смелость, уравновешенная осторожной
неторопливостью.
Только тогда являлось к нему вдохновение, и
драгоценные мгновения останавливались, отливались и
застывали в совершенных формах искусства.
Неправда, что эти мгновения, этот высокий восторг
и вдохновение возможны лишь в отдельных, определенных
видах труда и профессиональной деятельности!
Они — эти мгновения — возможны в любом деле, если
душа человека созвучна именно этому делу (Осип
Александрович Самсонов из колхоза “Родина” доит коров,
случает их с быком, помогает им растелиться, огребает
навоз так же самозабвенно, как его сосед Александр
Степанович Цветков рубит угол, кантует бревно и
прирубает косяк).
Искусство может жить в любом труде. Другое дело,
что, например, у пахаря, у животновода оно не
материализуется, не воплощается в предметы искусства.
Может быть, среда животноводов и пахарей (иначе
крестьянская) потому-то и выделяла мастеров и
художников, создававших предметы искусства.
Крестьянские мастера и художники испокон веку были
безымянны. Они создавали свои произведения вначале для
удовлетворения лишь эстетических потребностей.
Художественный промысел рождался на границе между
эстетической и экономической потребностью человека,
когда мастера начинали создавать предметы искусства не
для себя и не в подарок друзьям и близким, а по заказу и
на продажу.
Художественный промысел...
В самом сочетании слов таится противоречие:
промысел подразумевает массовость, серийность, то есть
одинаковость, а художество — это всегда образ, никогда
не повторяющийся и непохожий на какой-либо другой. И что
бы мы ни придумывали для спасения художественности в
промысле, он всегда будет стремиться к ее размыванию, а
сама она будет вечно сопротивляться промыслу.
Образ умирает в многочисленности одинаковых
предметов, но ведь это не значит, что предметы при их
множественности нельзя создавать разными. По-видимому,
пока существует хоть маленькая разница между предметами,
промысел можно называть художественным...
Для художественного промысла характерна
традиционная технология и традиционная образная система
при обязательной художественной индивидуальности
мастера. Мастер-поденщик, похожий как две капли воды на
своего соседа по столу или верстаку, человек,
равнодушный к творчеству, усвоивший традиционные приемы
и образы, но стремящийся к количеству, — такой человек
(его уже и мастером-то нельзя назвать) толкает
художественный промысел к вырождению и гибели. При
машинном производстве художественная индивидуальность
исчезает, растворяясь в массовости и ширпотребе. На фоне
всего этого кажется почти чудом существование
художественных промыслов, превозмогающих “валовую”
психологию. Бухгалтеры и экономисты пытаются планировать
красоту и эстетику, самоуверенно вмешиваются не в свое
дело. Для их “валовой” психологии зачастую не существует
ничего, кроме чистогана, а также буквы (вернее, цифры)
плана.
Разве не удивительна выживаемость красоты в
подобных условиях? Вот некоторые северные промыслы, все
еще не желающие уступать натиску валовой безликости и
давлению эстетической тупости.
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ
Покойная Наталья Самсонова (мать уже упомянутого
дояра Осипа Александровича) плела превосходные
высокохудожественные косынки, иначе — женские кружевные
платки. Когда-то редкая девица не мечтала иметь такую
косынку. Но поскольку бесплодные мечты у северного
крестьянина были не в чести, редкая девица не стремилась
и выучиться плести. Не дожидаясь счастливых
случайностей, девушки еще с детства постигали мастерство
плетения. Они сами себе создавали свою красоту. Если же
косынка доставалась в наследство от матери или бабушки,
свою можно было выплести и продать, а на деньги купить
кованые серебряные сережки, дюжину веретен, а может, еще
и пару хороших гребенок.
Талант мастерицы сплетал воедино экономическую
основу, достаток крестьянской семьи с утком праздничной
красоты. Так было не только за кроснами, за куфтырем, но
и всюду, где таился и разгорался огонек творчества.
Талант обязательно проявлял себя и во многом другом,
например в фольклоре. Наталья Самсонова во время
плетения рассказывала сказки, на ходу выдумывая новые
приключения. Еще лучше она пела на праздниках...
Кружево, сплетенное для себя или в подарок, не
предполагало денежной выгоды, его создательницы не
кидали куфтырь как сумасшедшие с боку на бок, не спешили
в погоню за количеством. Красота никогда не была сестрой
торопливости.
ЧЕРНЕНИЕ ПО СЕРЕБРУ
Устюг Великий, как и Новгород, несколько столетий
был средоточием русской культуры, торговли и
промышленности. Устюжане могли делать все: и воевать, и
торговать, и хлебопашничать... Многие из них дошли до
Аляски и Калифорнии и там обосновались, другие исходили
всю Сибирь, торговали с Индией, Китаем и прочими
странами.
Но те, что не любили путешествовать и жили дома,
тоже не сидели сложа руки. В Устюге знали практически
все промыслы, процветавшие на Руси и в средневековой
Европе.
Человеку с божьей искрой в душе доступны все виды
художественных промыслов, но нельзя же было заниматься
понемногу всем и ничем взаправду. Выбирали обычно
наследственный промысел, укрепляя и совершенствуя
традицию либо пренебрегая ею. В обоих случаях мастер или
художник мог до конца проявить себя как личность. Но во
втором случае промысел быстро хирел, исчезали мастерство
и профессиональная тяга к прекрасному. Было достаточно
всего одного поколения, чтобы несуществующий предел
высокой красоты и некий эстетический “потолок”
занижались до крайности. Тогда-то и исчезала
художественная, эстетическая основа промысла — главное
условие его массовости, известности, а следовательно, и
экономической выживаемости. Промысел погибал. На
подступах к XX веку и в его начале устюженскую чернь по
серебру постигла бы та же участь, если бы иссякли
терпеливость и энергия нескольких энтузиастов. Мы должны
быть благодарны городу Устюгу за сохранение
великолепного искусства. Суть его в том, что художник
вначале гравирует серебряное изделие, затем заполняет
гравировку специальным составом — чернью.
Эта “татуировка”, если можно так выразиться,
навечно фиксируется высокой температурой, то есть
обычным огнем.
Великоустюгский завод “Северная чернь” выпускает
добрую продукцию, пользующуюся высоким спросом дома и за
границей. Это и понуждает наших экономистов всеми путями
увеличивать вал, поощрять однообразие. Опасность для
художества таится и в поточности производства. Если
раньше художник все от начала до конца делал сам (никому
не доверяя даже своего инструмента, не только изделия),
то теперь изделия касается множество разных, иной раз и
равнодушных рук. Выжить художеству в таких условиях
неимоверно трудно.
И все же оно выживает.
ШЕМОГОДСКАЯ РЕЗЬБА ПО БЕРЕСТЕ
Только народному гению свойственны безунывность,
умение проявить себя в любых, казалось бы, совсем
неподходящих условиях. Несомненно, что талантливый
холмогорский косторез, очутившись волею судьбы
где-нибудь в степи, не ждал от кого-то моржовых клыков,
а находил что-то другое. Например, глину. Земля всегда
что-нибудь держала про запас для художника. Так же
гончарный мастер не считал себя вправе бездействовать,
если глины в земле нет, а кругом березовые да еловые
заросли.
Береста, вероятно, самое древнее и самое
распространенное северное сырье, использовавшееся
всевозможными мастерами. Из нее изготовлялись обувь,
игрушки, святочные маски (личины), посуда и утварь.
Береста имеет по структуре и цвету двусторонние
свойства, легко добывается и хорошо поддается обработке.
Она декоративна сама по себе. Легкость, прочность и
доступность сделали ее любимым, поистине народным
материалом.
Берестяные резные туеса, солонки, окантовка для
корзин делались на Севере повсеместно, а вот настоящий
художественный промысел, основанный на резьбе по
бересте, создали опять же устюжана, или устюжцы
(неизвестно, как лучше). Промысел прославился под именем
“шемогодской резьбы”. Он существует и в наше время.
РЕЗЬБА ПО КОСТИ
Холмогорские косторезы не имеют таких просторных
цехов, как устюгские мастера серебряных дел, ставшие
ныне рабочим классом. Но суть промысла от этого не
меняется.
...Меняется она от коренных перемен, таких,
например, как замена моржовой кости коровьей.
Материал всегда диктовал, вернее, подсказывал
художнику, как ему быть, каким запастись инструментом и
с чего начинать. Что же подсказывал художнику безмолвный
монолит моржового клыка? Наверное, надо быть художником
самому, чтобы это узнать. Прежде чем приступить к
работе, художник ходил в баню, постился, очищался от
всего мелкого и прилипчивого. Он тщательно готовил себя
к внутреннему душевному взлету.
Только в таком состоянии к человеку приходило то
особое, совершенно неожиданное озарение, когда под
руками само по себе рождается произведение искусства.
Даже коровья кость, распиленная и обработанная,
вызывает в душе желание сделать из нее что-то. При
шлифовке поверхность приобретает своеобразие, выявляет
себя, становится молочно-матовой. Душа мастера как бы
сама стремится к резцу. И тогда преступным кощунством
было бы отбросить этот резец!
Душа человеческая, через посредничество рук,
которым облегчают дело всевозможные инструменты, вдыхает
жизнь, то есть красоту, в дремлющий, но всегда готовый
ожить брус гранита, дерева или моржового клыка. Не надо
трогать художника в такие минуты! Пусть он закончит
сперва дело, ему предназначенное.
Василий Белов
|
Незримые лавинки |
Незримые лавинки
Образ реки в народной поэзии так стоек, что с
отмиранием одного жанра тотчас же поселяется в новом,
рожденном тем или другим временем. Как и всякий иной,
этот образ неподвластен анализу, разбору, объяснению.
Впрочем, анализируй его сколько хочешь, разбирай по
косточкам и объясняй сколько угодно — он не будет этому
сопротивляться. Но и никогда не раскроется до конца,
всегда оставит за собой право жить, не поддастся
препарированию, удивляя своего потрошителя новыми
безднами необъяснимого.
Он умрет тотчас после того, как станет понятным и
объясненным, но, к счастью, такого не случится, потому
что его нельзя до конца объяснить и понять рациональным
коллективным умом. Образ жив, пока жива человеческая
индивидуальность. Он, образ, страдает, когда его
воспринимают или воспроизводят одинаково двое. А когда к
этим двоим бездумно подключается еще и третий,
художественному образу становится явно не по себе. От
нетворческого и частого повторения он исчезает, оставляя
вместо себя штамп.
Но какая же там одинаковость восприятия, если в
народе есть мужчины и женщины, девушки и ребята, дети и
старики, красивые и не очень, больные и здоровые,
преуспевающие и терпящие лишения, ленивые, сильные и
т.д. Если в природе все время происходят изменения: то
тепло, то холод, то дождик, то снег, а жизнь
стремительна, и вчерашний день так непохож на
сегодняшний, и годы никогда не повторяют друг дружку.
Река течет. Она то мерцает на солнышке, то
пузырится на дождике, то покрывается льдом и заносится
снегом, то разливается, то ворочает льдинами.
Рыбы нерестятся на месте предстоящих покосов, а
там, где сегодня скрипит коростель, еще недавно завывала
метель.
Что-то родное, вечно меняющееся, беспечно и
непрямо текущее, обновляющееся каждый момент и никогда
не кончающееся, связующее ныне живущих с уже умершими и
еще не рожденными, мерещится и слышится в токе воды.
Слышится всем. Но каждый воспринимает образ текущей воды
по-своему.
Образ дороги не менее полнокровен в народной
поэзии.
А нельзя ли условиться и хотя бы ненадолго
представить эмоциональное начало речкой, а рациональное
— дорогой? Ведь и впрямь: одна создана самою природой,
течет испокон, а другая сотворена людьми для жизни
насущной.
Человеку все время необходимо было идти (хотя бы и
за грибами), нужно было ехать (например, за сеном), и он
вытаптывал тропу, ладил дорогу. Нередко дорога эта
бежала по пути с речною водой...
Дорога стремилась быть короче и легче, да к тому
же тот берег почему-то всегда казался красивей и суше.
Не раз и не два ошибалась дорога, удлиняя свой путь,
казалось бы, совсем неуместными переправами! Но от этих
ошибок нередко душа человеческая выигрывала нечто более
нужное и неожиданное.
Незримые лавы ложились как раз на пересечениях
материального и духовного, обязательного и желаемого,
красивого и необходимого. Чтобы это понять, достаточно
вспомнить, что большинство предметов народного искусства
были необходимы в жизни как предметы быта или же как
орудия труда.
Вот некоторые из них: разные женские трепала,
керамическая и деревянная посуда, ковши и солоницы в
виде птиц, розетки на деревянных блоках кросен, кованые
светцы, литые и гнутые подсвечники и т.д. и т.п.
Естественный крюк (вырубленная с корнем ель),
поддерживающий деревянный лоток на крыше, несколькими
ударами топора плотник превращал в изящную курицу; всего
два-три стежка иглой придавали элегантность рукаву
женской одежды. Стоило гончару изменить положение
пальцев, как глиняный сосуд приобретал выразительный
перехват, удлинялся или раздвигался вширь.
Неуловима, ускользающе неопределенна граница между
обычным ручным трудом и трудом творческим. Мастеру и
самому порой непонятно: как, почему, когда обычный комок
глины превратился в красивый сосуд. Но во всех народных
промыслах есть этот неуловимый переход от обязательного,
общепринятого труда к труду творческому,
индивидуальному.
Художественный образ необъясним до конца, он
разрушается или отодвигается куда-то в сторону от нас
при наших попытках разъять его на части. Точно так же
необъясним и характер перехода от труда обычного к
творческому.
По-видимому, однообразие, или тяжесть, или
монотонность труда толкают работающего к искусству,
заставляют разнообразить не только сами изделия, но и
способы их изготовления. Кроме того, для северного
народного быта всегда было характерно соревнование,
причем соревнование не по количеству, а по качеству.
Хочется выйти на праздник всех наряднее, всех “баще” —
изволь прясть и ткать не только много, но и тонко,
ровно, то есть красиво; хочешь прослыть добрым женихом —
руби дом не только прочно, но и стройно, не жалей сил на
резьбу и причелины. Получается, что красота в труде, как
и красота в плодах его, — это не только разнообразие (не
может быть “серийного” образа), но еще и
самоутверждение, отстаивание своего “я”, иначе говоря,
формирование личности.
Умение, мастерство и, наконец, искусство живут в
пределах любого труда. И конечно же, лишь в связи с
трудом и при его условии можно говорить о трех этих
понятиях.
Художника, равного по своей художественной силе
Дионисию, с достаточной долей условности можно
представить вершиной могучей и необъятной пирамиды, в
основании которой покоится общенародная, постоянно и
ровно удовлетворяемая тяга к созидающему труду,
зависимая лишь от физического существования самого
народа.
Итак, все начинается с неудержимого и
необъяснимого желания трудиться... Уже само это желание
делает человека, этническую группу, а то и целый народ
предрасположенными к творчеству и потому
жизнеспособными. Такому народу не грозит гибель от
внутреннего разложения. Творческое начало обусловлено
желанием трудиться, жаждой деятельности.
В жизни северного русского крестьянина труд был
самым главным условием нравственного равноправия.
Желание трудиться приравнивалось к умению. Так поощряюще
щедра, так благородна и проста была народная молва, что
неленивого тотчас, как бы загодя, называли умельцем. И
ему ничего не оставалось делать, как побыстрее им
становиться. Но быть умельцем — это еще не значит быть
мастером. И художником (в нашем современном понимании).
Умельцами должны были быть все поголовно. Стремление к
высшему в труде не угасало, хоть каждый делал то, что
было ему по силам и природным способностям. И то и
другое было разным у всех людей. Почти все умельцы
становились подмастерьями, но только часть из них —
мастерами.
Легенда о “секретах”, которые мастера якобы
тщательно хранили от посторонних, придумана ленивыми
либо бездарными для оправдания себя. Никогда русские
мастера и умельцы, если они подлинные мастера и умельцы,
не держали втуне свое умение! Другое дело, что далеко не
каждому давалось это умение, а мастер был строг и
ревнив. Он позволял прикасаться к делу лишь человеку,
истинно заинтересованному этим делом, терпеливому и не
балаболке. И если уж говорить честно, то вовсе не
своекорыстие двигало мастером, когда он замыкал уста.
По древнему поверью (вспомним Н.В. Гоголя), клады
легче даются чистым рукам. Секрет мастерства — это
своеобразный клад, доступный бессребренику, честному и
бескорыстному работнику. Но ведь многие люди судят о
других по себе! Стяжателю всегда кажется, что мастер
трудится так тщательно и упорно из-за денег, а не из-за
любви к искусству. Бездарному и ленивому и вовсе не
понятно, почему человек может не часами и даже не днями,
а неделями трудиться над каким-нибудь малым лукошком. У
него не хватает терпения понять даже смысл самого
терпения, и вот он оскорбляет мастера подозрением в
скаредности и в нежелании поделиться секретом
мастерства. Незащищенность мастера (художника)
усугублялась еще и тем, что за красивые или добротно
сделанные вещи люди и платят больше. Разумеется, мастер
не отказывался от денег: у него и семья и дети. Само
искусство тоже требовало иногда немалых средств: надо
купить краски, добротное дерево, кость и т.д. Но смешно
думать, что мастером или художником движет своекорыстие!
Парадокс заключается в том, что чем меньше художник или
мастер думает о деньгах, тем лучше, а следовательно, и
ценнее он производит изделия и тем больше бывает у него
и... денег. Конечно, бывали и такие художники и мастера,
которые намеренно начинали этим пользоваться. Но талант
быстро покидал таковых.
Секрет любого мастерства и художества простой. Это
терпение, трудолюбие и превосходное знание традиции. А
если ко всему этому природа добавит еще и талант,
индивидуальную способность, мы неминуемо столкнемся с
незаурядным художественным явлением.
Стихия всеобщего труда пестовала миллионы
умельцев, а в их среде прорастала и жила широко
разветвленная грибница мастерства. Это она рождала,
может быть, за целое столетие всего с десяток
художников, а в том десятке и объявлялся вдруг олонецкий
плотник Нестерко...
Искусство делало труд легче, но вдохновение не
приходит к ленивому. Мастерство сокращает время,
затрачиваемое на труд, без мастерства не бывает
искусства. Далеко не все способны стать мастерами. Но
стремились к этому многие, может быть, каждый, поскольку
никому не хотелось быть хуже других! Поэтому массовое
мастерство, еще не ставшее индивидуальным (то есть
искусством), наверное, можно представить зависимым от
традиции. Знание традиционного, отточенного веками
мастерства обязательно было для каждого народного
художника, потому что перескочить через бездну
накопленного народом было нельзя. Потому и ценились в
ученике прежде всего тщательность, прилежание, терпение.
Необходимо было научиться вначале делать то, что умеют
все. Только после этого начинали учиться
профессиональным приемам и навыкам. Юным иконописцам
положено сперва тереть краски, а сапожникам — мочить и
мять кожу. Только после долгой подготовки ученику
разрешалось брать в руки кисть или мастерок. Умение
делать традиционное, массовое, еще не художественное, а
обычное — такое умение готовило мастера из обычного
подмастерья. Мастер же, если он был наделен природным
талантом и если десятки обстоятельств складывались
благоприятно, очень скоро становился художником,
творцом, созидающим красоту. Такой человек весь как бы
растворялся в своем художестве, ему не нужны были
известность и слава. В мирской известности он ощущал
даже нечто постыдное и мешающее его художеству. Само по
себе творчество, а также сознание того, что искусство
останется жить и будет радовать людей, наполняло жизнь
художника высоким и радостным смыслом.
Василий Белов
Образ реки в народной поэзии так стоек, что с
отмиранием одного жанра тотчас же поселяется в новом,
рожденном тем или другим временем. Как и всякий иной,
этот образ неподвластен анализу, разбору, объяснению.
Впрочем, анализируй его сколько хочешь, разбирай по
косточкам и объясняй сколько угодно — он не будет этому
сопротивляться. Но и никогда не раскроется до конца,
всегда оставит за собой право жить, не поддастся
препарированию, удивляя своего потрошителя новыми
безднами необъяснимого.
Он умрет тотчас после того, как станет понятным и
объясненным, но, к счастью, такого не случится, потому
что его нельзя до конца объяснить и понять рациональным
коллективным умом. Образ жив, пока жива человеческая
индивидуальность. Он, образ, страдает, когда его
воспринимают или воспроизводят одинаково двое. А когда к
этим двоим бездумно подключается еще и третий,
художественному образу становится явно не по себе. От
нетворческого и частого повторения он исчезает, оставляя
вместо себя штамп.
Но какая же там одинаковость восприятия, если в
народе есть мужчины и женщины, девушки и ребята, дети и
старики, красивые и не очень, больные и здоровые,
преуспевающие и терпящие лишения, ленивые, сильные и
т.д. Если в природе все время происходят изменения: то
тепло, то холод, то дождик, то снег, а жизнь
стремительна, и вчерашний день так непохож на
сегодняшний, и годы никогда не повторяют друг дружку.
Река течет. Она то мерцает на солнышке, то
пузырится на дождике, то покрывается льдом и заносится
снегом, то разливается, то ворочает льдинами.
Рыбы нерестятся на месте предстоящих покосов, а
там, где сегодня скрипит коростель, еще недавно завывала
метель.
Что-то родное, вечно меняющееся, беспечно и
непрямо текущее, обновляющееся каждый момент и никогда
не кончающееся, связующее ныне живущих с уже умершими и
еще не рожденными, мерещится и слышится в токе воды.
Слышится всем. Но каждый воспринимает образ текущей воды
по-своему.
Образ дороги не менее полнокровен в народной
поэзии.
А нельзя ли условиться и хотя бы ненадолго
представить эмоциональное начало речкой, а рациональное
— дорогой? Ведь и впрямь: одна создана самою природой,
течет испокон, а другая сотворена людьми для жизни
насущной.
Человеку все время необходимо было идти (хотя бы и
за грибами), нужно было ехать (например, за сеном), и он
вытаптывал тропу, ладил дорогу. Нередко дорога эта
бежала по пути с речною водой...
Дорога стремилась быть короче и легче, да к тому
же тот берег почему-то всегда казался красивей и суше.
Не раз и не два ошибалась дорога, удлиняя свой путь,
казалось бы, совсем неуместными переправами! Но от этих
ошибок нередко душа человеческая выигрывала нечто более
нужное и неожиданное.
Незримые лавы ложились как раз на пересечениях
материального и духовного, обязательного и желаемого,
красивого и необходимого. Чтобы это понять, достаточно
вспомнить, что большинство предметов народного искусства
были необходимы в жизни как предметы быта или же как
орудия труда.
Вот некоторые из них: разные женские трепала,
керамическая и деревянная посуда, ковши и солоницы в
виде птиц, розетки на деревянных блоках кросен, кованые
светцы, литые и гнутые подсвечники и т.д. и т.п.
Естественный крюк (вырубленная с корнем ель),
поддерживающий деревянный лоток на крыше, несколькими
ударами топора плотник превращал в изящную курицу; всего
два-три стежка иглой придавали элегантность рукаву
женской одежды. Стоило гончару изменить положение
пальцев, как глиняный сосуд приобретал выразительный
перехват, удлинялся или раздвигался вширь.
Неуловима, ускользающе неопределенна граница между
обычным ручным трудом и трудом творческим. Мастеру и
самому порой непонятно: как, почему, когда обычный комок
глины превратился в красивый сосуд. Но во всех народных
промыслах есть этот неуловимый переход от обязательного,
общепринятого труда к труду творческому,
индивидуальному.
Художественный образ необъясним до конца, он
разрушается или отодвигается куда-то в сторону от нас
при наших попытках разъять его на части. Точно так же
необъясним и характер перехода от труда обычного к
творческому.
По-видимому, однообразие, или тяжесть, или
монотонность труда толкают работающего к искусству,
заставляют разнообразить не только сами изделия, но и
способы их изготовления. Кроме того, для северного
народного быта всегда было характерно соревнование,
причем соревнование не по количеству, а по качеству.
Хочется выйти на праздник всех наряднее, всех “баще” —
изволь прясть и ткать не только много, но и тонко,
ровно, то есть красиво; хочешь прослыть добрым женихом —
руби дом не только прочно, но и стройно, не жалей сил на
резьбу и причелины. Получается, что красота в труде, как
и красота в плодах его, — это не только разнообразие (не
может быть “серийного” образа), но еще и
самоутверждение, отстаивание своего “я”, иначе говоря,
формирование личности.
Умение, мастерство и, наконец, искусство живут в
пределах любого труда. И конечно же, лишь в связи с
трудом и при его условии можно говорить о трех этих
понятиях.
Художника, равного по своей художественной силе
Дионисию, с достаточной долей условности можно
представить вершиной могучей и необъятной пирамиды, в
основании которой покоится общенародная, постоянно и
ровно удовлетворяемая тяга к созидающему труду,
зависимая лишь от физического существования самого
народа.
Итак, все начинается с неудержимого и
необъяснимого желания трудиться... Уже само это желание
делает человека, этническую группу, а то и целый народ
предрасположенными к творчеству и потому
жизнеспособными. Такому народу не грозит гибель от
внутреннего разложения. Творческое начало обусловлено
желанием трудиться, жаждой деятельности.
В жизни северного русского крестьянина труд был
самым главным условием нравственного равноправия.
Желание трудиться приравнивалось к умению. Так поощряюще
щедра, так благородна и проста была народная молва, что
неленивого тотчас, как бы загодя, называли умельцем. И
ему ничего не оставалось делать, как побыстрее им
становиться. Но быть умельцем — это еще не значит быть
мастером. И художником (в нашем современном понимании).
Умельцами должны были быть все поголовно. Стремление к
высшему в труде не угасало, хоть каждый делал то, что
было ему по силам и природным способностям. И то и
другое было разным у всех людей. Почти все умельцы
становились подмастерьями, но только часть из них —
мастерами.
Легенда о “секретах”, которые мастера якобы
тщательно хранили от посторонних, придумана ленивыми
либо бездарными для оправдания себя. Никогда русские
мастера и умельцы, если они подлинные мастера и умельцы,
не держали втуне свое умение! Другое дело, что далеко не
каждому давалось это умение, а мастер был строг и
ревнив. Он позволял прикасаться к делу лишь человеку,
истинно заинтересованному этим делом, терпеливому и не
балаболке. И если уж говорить честно, то вовсе не
своекорыстие двигало мастером, когда он замыкал уста.
По древнему поверью (вспомним Н.В. Гоголя), клады
легче даются чистым рукам. Секрет мастерства — это
своеобразный клад, доступный бессребренику, честному и
бескорыстному работнику. Но ведь многие люди судят о
других по себе! Стяжателю всегда кажется, что мастер
трудится так тщательно и упорно из-за денег, а не из-за
любви к искусству. Бездарному и ленивому и вовсе не
понятно, почему человек может не часами и даже не днями,
а неделями трудиться над каким-нибудь малым лукошком. У
него не хватает терпения понять даже смысл самого
терпения, и вот он оскорбляет мастера подозрением в
скаредности и в нежелании поделиться секретом
мастерства. Незащищенность мастера (художника)
усугублялась еще и тем, что за красивые или добротно
сделанные вещи люди и платят больше. Разумеется, мастер
не отказывался от денег: у него и семья и дети. Само
искусство тоже требовало иногда немалых средств: надо
купить краски, добротное дерево, кость и т.д. Но смешно
думать, что мастером или художником движет своекорыстие!
Парадокс заключается в том, что чем меньше художник или
мастер думает о деньгах, тем лучше, а следовательно, и
ценнее он производит изделия и тем больше бывает у него
и... денег. Конечно, бывали и такие художники и мастера,
которые намеренно начинали этим пользоваться. Но талант
быстро покидал таковых.
Секрет любого мастерства и художества простой. Это
терпение, трудолюбие и превосходное знание традиции. А
если ко всему этому природа добавит еще и талант,
индивидуальную способность, мы неминуемо столкнемся с
незаурядным художественным явлением.
Стихия всеобщего труда пестовала миллионы
умельцев, а в их среде прорастала и жила широко
разветвленная грибница мастерства. Это она рождала,
может быть, за целое столетие всего с десяток
художников, а в том десятке и объявлялся вдруг олонецкий
плотник Нестерко...
Искусство делало труд легче, но вдохновение не
приходит к ленивому. Мастерство сокращает время,
затрачиваемое на труд, без мастерства не бывает
искусства. Далеко не все способны стать мастерами. Но
стремились к этому многие, может быть, каждый, поскольку
никому не хотелось быть хуже других! Поэтому массовое
мастерство, еще не ставшее индивидуальным (то есть
искусством), наверное, можно представить зависимым от
традиции. Знание традиционного, отточенного веками
мастерства обязательно было для каждого народного
художника, потому что перескочить через бездну
накопленного народом было нельзя. Потому и ценились в
ученике прежде всего тщательность, прилежание, терпение.
Необходимо было научиться вначале делать то, что умеют
все. Только после этого начинали учиться
профессиональным приемам и навыкам. Юным иконописцам
положено сперва тереть краски, а сапожникам — мочить и
мять кожу. Только после долгой подготовки ученику
разрешалось брать в руки кисть или мастерок. Умение
делать традиционное, массовое, еще не художественное, а
обычное — такое умение готовило мастера из обычного
подмастерья. Мастер же, если он был наделен природным
талантом и если десятки обстоятельств складывались
благоприятно, очень скоро становился художником,
творцом, созидающим красоту. Такой человек весь как бы
растворялся в своем художестве, ему не нужны были
известность и слава. В мирской известности он ощущал
даже нечто постыдное и мешающее его художеству. Само по
себе творчество, а также сознание того, что искусство
останется жить и будет радовать людей, наполняло жизнь
художника высоким и радостным смыслом.
Василий Белов
|
Юность. |
Жизненный круг. Юность. Пора возмужания
Юность
“Старших-то слушались, — рассказывает Анфиса
Ивановна, “Зерцало” никогда не читавшая, — бывало, не
спросясь, в чужую деревню гулять не уйдешь. Скажешь:
“Ведь охота сходить”. Мать, а то бабушка и ответят:
“Охотку-то с хлебом съешь!” Либо: “Всяк бы девушку знал,
да не всяк видал!” А пойдешь куда на люди, так
наказывают: “Рот-то на опашке поменьше держи”. Не
хохочи, значит”.
Стыд — одна из главных нравственных категорий,
если говорить о народном понимании нравственности.
Понятие это стоит в одном ряду с честью и совестью, о
которых у Александра Яшина сказано так:
В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь...
Существовала как природная стыдливость (не будем
путать ее с застенчивостью), так и благоприобретенная. В
любом возрасте, начиная с самого раннего, стыдливость
украшала человеческую личность, помогала выстоять под
напором соблазнов. Особенно нужна она была в пору
физического созревания. Похоть спокойно обуздывалась
обычным стыдом, оставляя в нравственной чистоте даже
духовно неокрепшего юношу. И для этого народу не нужны
были особые, напечатанные в типографии правила, подобные
“Зерцалу”.
Солидные внушения перемежаются в этой книге такими
советами: “И сия есть немалая гнусность, когда кто часто
сморкает, яко бы в трубу трубит...” “Непристойно на
свадьбе в сапогах и острогах [При шпорах - Ред.] быть и
тако танцевать, для того, что тем одежду дерут у
женского полу и великий звон причиняют острогами, к тому
ж муж не так поспешен в сапогах, нежели без сапогов”.
Ясно, что книга не крестьянского происхождения,
поскольку крестьяне “острогов” не носили и на свадьбах
плясали, а не танцевали. Еще больше изобличает
происхождение “Зерцала” такой совет: “Младые отроки
должны всегда между собою говорить иностранными языки,
дабы тем навыкнуть могли, а особливо, когда им что
тайное говорить случается, чтобы слуги и служанки
дознаться не могли и чтобы можно их от других незнающих
болванов распознать...”
Вот, оказывается, для чего нужны были иностранные
языки высокородным пижонам, плодившимся под покровом
петровских реформ. Владение “политесом” и иностранными
языками окончательно отделило высшие классы от народа.
(Это не значит, конечно что судить о дворянской культуре
надо лишь по фонвизинским митрофанушкам.)
Отрочество перерастало в юность в течение
нескольких лет. За это время крестьянский юноша
окончательно развивался физически, постигал все виды
традиционного полевого, лесного и домашнего труда. Лишь
профессиональное мастерство (плотничанье, кузнечное
дело, а у женщин “льняное” искусство) требовало
последующего освоения. Иные осваивали это мастерство всю
жизнь, да так и не могли до конца научиться. Но вредило
ли им и всем окружающим такое стремление? Если парень не
научится строить шатровые храмы, то избу-то рубить
обязательно выучится. Если девица не научится ткать “в
девятерник”, то простой-то холст будет ткать
обязательно, и т.д.
Юность полна свежих сил и созидательной жажды, и,
если в доме, в деревне, в стране все идет своим чередом,
она прекрасна сама по себе, все в ней счастливо и
гармонично. В таких условиях девушка или парень успевает
и ходить на беседы, и трудиться. Но даже и в худших
условиях хозяйственные обязанности и возрастные
потребности редко противоречили друг другу. Наоборот,
они взаимно дополнялись. К примеру, совместная работа
парней и девиц никогда не была для молодежи в тягость.
Даже невзгоды лесозаготовок, начавшихся с конца 20-х
годов и продолжавшихся около тридцати лет, переживались
сравнительно легко благодаря этому обстоятельству.
Сенокос, хождение к осеку, весенний сев, извоз,
многочисленные помочи давали молодежи прекрасную
возможность знакомства и общения, что, в свою очередь,
заметно влияло на качество и количество сделанного.
Кому хочется прослыть ленивым, или неряхой, или
неучем? Ведь каждый в молодости мечтает о том, что его
кто-то полюбит, думает о женитьбе, замужестве, стремится
не опозориться перед родными и всеми другими людьми.
Труд и гуляние словно бы взаимно укрощались, одно
не позволяло другому переходить в уродливые формы.
Нельзя гулять всю ночь до утра, если надо встать еще до
восхода и идти в поскотину за лошадью, но нельзя и
пахать дотемна, поскольку вечером снова гуляние у
церкви. Правда, бывало и так, что невыспавшиеся
холостяки шли в лес и, нарочно не найдя лошадей,
заваливались спать в пастуший шалаш. Но у таких паренина
в этот день оставалась непаханой, а это грозило и более
серьезными последствиями, чем та, о которой говорилось в
девичьей частушке:
Задушевная, невесело
Гулять осмеянной.
У любого ягодиночки
Загон несеяной.
Небалованным невестам тоже приходилось рано
вставать, особенно летом. “Утром меня маменька будит, а
я сплю-ю тороплюсь. Родители редко дудели в одну дуду.
Если отец был строг, то мать обязательно оберегала дочь
от слишком тяжелой работы. И наоборот. Если же оба
родителя оказывались не в меру трудолюбивыми, то защита
находилась в лице деда, к тому же и старшие братья
всегда как-то незаметно оберегали сестер. Строгость в
семье уравновешивалась добротой и юмором.
Большинство знакомств происходило еще в детстве и
отрочестве, главным образом в гостях, ведь в гости
ходили и к самым дальним родственникам. Как говорится,
седьмая вода на девятом киселе, а все равно знают друг
друга и ходят верст за пятнадцать-двадцать. Практически
большая или маленькая родня имелась если не в каждой
деревне, то в каждой волости. Если же в дальней деревне
не было родни, многие заводили подруг или побратимов.
Коллективные хождения гулять на праздники еще более
расширяли возможности знакомств. Сходить на гуляние за
10-15 километров летом ничего не стоило, если позволяла
погода. Возвращались в ту же ночь, гости же — через
день-два, смотря по хозяйственным обстоятельствам.
В отношениях парней и девушек вовсе не
существовало какого-то патриархального педантизма, мол,
если гуляешь с кем-то, так и гуляй до женитьбы. Совсем
нет. С самого отрочества знакомства и увлечения
менялись, молодые люди как бы “притирались” друг к
другу, искали себе пару по душе и по характеру. Это не
исключало, конечно, и случаев первой и последней любви.
Свидетельством духовной свободы, душевной раскованности
в отношениях молодежи являются тысячи (если не миллионы)
любовных песен и частушек, в которых женская сторона
отнюдь не выглядит пассивной и зависимой. Измены,
любови, отбои и перебои так и сыплются в этих часто
импровизированных и всегда искренних частушках. Родители
и старшие не были строги к поведению молодых людей, но
лишь до свадьбы.
Молодожены лишались этой свободы, этой легкости
новых знакомств навсегда и бесповоротно. Начиналась
совершенно другая жизнь. Поэтому свадьбу можно назвать
резкой и вполне определенной границей между юностью и
возмужанием.
Но и до свадьбы свобода и легкость новых
знакомств, увлечений, “любовей” отнюдь не означали
сексуальной свободы и легкомысленности поведения. Можно
ходить гулять, знакомиться, но... Девичья честь прежде
всего. Существовали вполне четкие границы дозволенного,
и переступались они весьма редко. Обе стороны, и мужская
и женская, старались соблюдать целомудрие.
Как легко впасть в грубейшую ошибку, если судить
об общенародной нравственности и эстетике по отдельным
примерам! Приведем всего лишь два: пьяный, вошедший в
раж гуляка, отпустив тормоза, начинает петь в пляске
скабрезные частушки, и зрители одобрительно и, что всего
удивительнее, искренне ахают.
Зато потом никто не будет относиться к нему
всерьез...
Новейшие чудеса вроде цирка и ярмарочных
аттракционов с женщинами-невидимками каждый в
отдельности воспринимают с наивным, почти детским
одобряющим восторгом.
Но общее, так сказать, глобальное народное
отношение к этому все-таки оказывалось почему-то
определенно насмешливым.
А к некоторым вопросам нравственности общественное
мнение было жестоким, неуступчивым, беспощадным. Худая
девичья слава катилась очень далеко, ее не держали ни
леса, ни болота. Грех, свершенный до свадьбы, был ничем
не смываем. Зато после рождения внебрачного ребенка
девице как бы прощали ее ошибку, человечность брала верх
над моральным принципом. Мать или бабушка согрешившей на
любые нападки отвечали примерно такой пословицей: “Чей
бы бычок ни скакал, а телятко наше”.
Ошибочно мнение, что необходимость целомудрия
распространялась лишь на женскую половину. Парень, до
свадьбы имевший физическую близость с женщиной, тоже
считался испорченным, ему вредила подмоченная репутация,
и его называли уже не парнем, а мужиком.
Конечно, каждый из двоих, посягнувших на
целомудрие, рассчитывал на сохранение тайны, особенно
девушка. Тайны, однако ж, не получалось. Инициатива в
грехе исходила обычно от парня, и сама по себе она
зависела от его нравственного уровня, который, в свою
очередь, зависел от нравственного уровня в его семье
(деревне, волости, обществе). Но в безнравственной семье
не учат жалеть других и держать данное кому-то слово. В
душе такого ухаря обычно вскипала жажда похвастать, и
тайны как не бывало. Дурная девичья слава действовала и
на самого виновника, его обвиняли не меньше. Ко всему
прочему чувства его к девице, если они и были, быстро
исчезали, он перекидывался на другой “объект” и в конце
концов женился кое-как, не по-хорошему. Девушка, будучи
опозоренной, тоже с трудом находила себе жениха. Уж тут
не до любви, попался бы какой-нибудь. Даже парень из
хорошей семьи, но с клеймом греха, терял звание
славутника, и гордые девицы брезговали такими. Подлинный
драматизм любовных отношений испытывало большинство
физически и нравственно здоровых людей, ведь и
счастливая любовь не исключает этого драматизма.
Красота отношений между молодыми людьми питалась
иной раз, казалось бы, такими взаимно исключающимися
свойствами, уживающимися в одном человеке, как бойкость
и целомудрие, озорство и стыдливость. Любить означало то
же самое, что жалеть, любовь бывала “горячая” и
“холодная”. О брачных отношениях, их высокой поэтизации
ярко свидетельствует такая народная песня:
Ты воспой, воспой,
Жавороночек.
Ты воспой весной
На проталинке.
Ты подай голос
Через темный лес,
Через темный лес,
Через бор сырой
В Москву каменку,
В крепость крепкую!
Тут сидел, сидел
Добрый молодец,
Он не год сидел
И не два года.
Он сидел, сидел
Ровно девять лет.
На десятый год
Стал письмо писать.
Стал письмо писать
К отцу с матерью.
Отец с матерью
Отказалися:
“Что у нас в роду
Воров не было”.
Он еще писал
Молодой жене.
Молода жена
Порасплакалась...
Но женитьба и замужество — это не только
духовно-нравственная, но и хозяйственно-экономическая
необходимость. Юные годы проходили под знаком ожидания и
подготовки к этому главному событию жизни. Оно стояло в
одном ряду с рождением и смертью.
Слишком поздняя или слишком ранняя свадьба
представлялась людям несчастьем. Большая разница в годах
жениха и невесты также исключала полнокровность и
красоту отношений. Неравные и повторные браки в
крестьянской среде считались не только несчастливыми, но
и невыгодными с хозяйственно-экономической точки зрения.
Такие браки безжалостно высмеивались народной молвой.
Красота и противоестественность исключали друг друга.
Встречалось часто не возрастное, а имущественное
неравенство. Но и оно не могло всерьез повлиять на
нравственно-бытовой комплекс, который складывался
веками.
Жалость (а по-нынешнему любовь) пересиливала все
остальное.
Пора возмужания
Жизнь в старческих воспоминаниях неизменно
делилась на две половины: до свадьбы и после свадьбы.
И впрямь, еще не стихли песни и не зачерствели
свадебные пироги, как весь уклад, весь быт человека
резко менялся.
В какую же сторону? Такой вопрос прозвучал бы
наивно и неуместно. Если хорошенько разобраться, то он
даже оскорбителен для зрелого нравственного чувства.
Категории “плохо” и “хорошо” отступают в таких случаях
на задний план. Замужество и женитьба не развлечение
(хотя и оно тоже) и не личная прихоть, а естественная
жизненная необходимость, связанная с новой
ответственностью перед миром, с новыми, еще не
испытанными радостями. Это так же неотвратимо, как,
например, восход солнца, как наступление осени и т.д.
Здесь для человека не существовало свободы выбора. Лишь
физическое уродство и душевная болезнь освобождали от
нравственной обязанности вступать в брак.
Но ведь и нравственная обязанность не
воспринималась как обязанность, если человек нравственно
нормален. Она может быть обязанностью лишь для
безнравственного человека. Только хотя бы поэтому для
фиксирования истинно народной нравственности не
требовалось никаких письменных кодексов вроде
упомянутого “Зерцала” или же “Цветника”, где собраны
правила иноческого поведения.
Закончен наконец драматизированный, длившийся
несколько недель свадебный обряд. Настает пора
возмужания, пора зрелости — самый большой по времени
период человеческой жизни.
Послесвадебное время не только самое интересное, но
и самое опасное для новой семьи. Выражения “сглазить”
или “испортить” считаются в образованном мире
принадлежностью суеверия. Но дело тут не в “черной
магии”. Первые нити еще не окрепших супружеских связей
легче всего оборвать одним недобрым словом или злым,
пренебрежительным взглядом.
Психологическое вживание невесты в мир теперь уже
не чужой семьи проходило не всегда быстро и гладко.
Привычки, особенности, порядки хоть и основаны на общей
традиции, но разны во всех семьях, во всех домах. У
одних, например, пекут рогульки тоненькие, у других
любят толстые, в этом доме дрова пилят одной длины, а в
том — другой, потому что печи разные сбиты, а печи
разные, потому что мастера неодинаковы, и т.д. Молодой
женщине, привыкшей к девичьей свободе, к родительской
заботе и ласке, нелегко вступать в новую жизнь в новой
семье. Об этом в народе слагали несчетные песни:
Ты зайдешь черту невозвратную,
Из черты назад не возвратишься,
В девичий наряд не нарядишься.
Не цветут цветы после осени,
Не растет трава зимой по снегу,
Не бывать молодо в красных девицах.
Трагическая необходимость смены жизненных
периодов, звучащая в песнях, нередко принимается за
доказательство ужасного семейного положения русской
женщины, ее неравноправия и забитости. Легенда об этом
неравноправии развеивается от легкого прикосновения к
фольклорным и литературным памятникам.
Ты не думай, дорогой,
Одна-то не остануся,
Не тебе, так твоему
Товарищу достануся, —
публично и во всеуслышание поет девушка на гулянье,
если суженый начинал заноситься.
О неудавшемся браке пелось такими словами
Какова ни была, да замуж вышла
За таково за детину да за невежу.
Не умеет вор-невежа со мной жити,
Он в пир пойдет, невежа, не простится.
А к воротам идет, невежа, кричит-вопит:
“Отпирай, жена, широки ворота!”
Уж как я, млада-младешенька, догадалась,
Потихошеньку с постелюшки вставала,
На босу ногу башмачки надевала,
Я покрепче воротички запирала:
“Уж ты спи-ночуй, невежа, да за воротами,
Тебе мягка постель да снежки белы,
Тебе крутое изголовье да подворотня,
Тебе тепло одеяло да ветры буйны,
Тебе цветная занавеска часты звезды,
Тебе крепкие караулы да волки серы”.
В том и соль, что в народе никому и в голову не
приходило противопоставлять женщину мужчине, семью главе
семейства, детей родителям и т.д.
Ни былинная Авдотья-рязаночка, ни историческая
Марфа-посадница, ни обе Алены (некрасовская и
лермонтовская) не похожи на забитых, неравноправных или
приниженных. Историк Костомаров, говоря о “Русской
правде” (первый известный науке свод русских законов),
пишет: “Замужняя женщина пользовалась одинаковыми
юридическими правами с мужчиной. За убийство или
оскорбление, нанесенное ей, платилась одинаковая вира”.
Грамотность или неграмотность человека в Древней
Руси также не зависела от половой принадлежности.
“Княжна Черниговская Евфросиния, дочь Михаила
Всеволодовича, завела в Суздале училище для девиц, где
учили грамоте, письму и церковному пению”, — говорит тот
же Костомаров, основываясь на летописных свидетельствах.
Равноправие, а иногда и превосходство женщины в
семье были обусловлены экономическими и нравственными
потребностями русского народного быта. Какой смысл для
главы семейства бить жену или держать в страхе всех
домочадцев? Только испорченный, глупый, без царя в
голове мужичонка допускал такие действия. И если
природная глупость хоть и с усмешкой, но все же
прощалась, то благоприобретенная глупость (самодурство)
беспощадно высмеивалась. Худая слава семейного самодура,
подобно славе девичьего бесчестия, тоже бежала далеко
“впереди саней”.
Авторитет главы семейства держался не на страхе, а
на совести членов семьи. Для поддержания такого
авторитета нужно было уважение, а не страх. Такое
уважение заслуживалось только личным примером:
трудолюбием, справедливостью, добротой,
последовательностью. Если вспомним еще о кровном
родстве, родительской и детской любви, то станет ясно,
почему “боялись” младшие старших. “Боязнь” эта даже у
детей исходила не от страха физической расправы или
вообще наказания, а от стыда, от муки совести. В хорошей
семье один осуждающий отцовский взгляд заставлял
домочадцев трепетать, тогда как в другой розги, ремень
или просто кулаки воспринимались вполне равнодушно.
Больше того, там, где господствовала грубая физическая
сила и страх физической боли, там процветали обман,
тайная насмешка над старшими и другие пороки.
Главенство от отца к старшему сыну переходило не
сразу, а по мере старения отца и накопления у сына
хозяйственного опыта. Оно как бы понемногу
соскальзывает, переливается от поколения к поколению,
ведь номинально главой семейства считается дед, отец
отца, но всем, в том числе и деду, ясно, что он уже не
глава. По традиции на семейных советах деду принадлежит
еще первое слово, но оно уже скорей совещательное, чем
решающее, и он не видит в этом обиды. Отец хозяина и сын
наглядно как бы разделяют суть старшинства: одному
предоставлена форма главенства, другому содержание. И
все это понемногу сдвигается.
То же самое происходит на женской “половине” дома.
Молодая хозяйка с годами становилась главной “у печи”, а
значит, и большухой. Это происходило естественно,
поскольку свекровь старела и таскать ведра скотине,
месить хлебы сама уже не всегда и могла. А раз ты хлеб
месишь, то и ключ от мучного ларя у тебя, если ты корову
доишь, то и молоко разливать, и масло пахтать, и взаймы
давать приходится не свекрови, а тебе. У кого лучше
пироги получаются, у того и старшинство. Золовкам
оставаться надолго в девках противоестественно. Выходит,
что женитьба младших сыновей тоже становилась
необходимой хотя бы из-за одной тесноты в доме. Но разве
одна теснота формировала эту необходимость?
Еще до женитьбы второго сына отец, дед и старший
сын начинали думать о постройке для него дома, но очень
редко окончание строительства совпадало с этой
женитьбой. Какое-то время два женатых брата жили со
своими семьями под отцовской, вернее, дедовской крышей.
Женские неурядицы, обычные в таких случаях,
подторапливали строительство. Собрав помочи (иногда
двой-трой), отец с сыновьями быстро достраивали дом для
младшего. Так же происходило и при женитьбе третьего и
четвертого сыновей, если, конечно, война или
какая-нибудь иная передряга со всем своим нахальством не
врывалась в народную жизнь.
Супружеская верность служила основанием и
супружеской любви, и всему семейному благополучию.
Жены в крестьянских семействах плакали, когда
мужья ревновали, ревность означала недоверие. Считалось,
что если не верит, то и не жалеет, не любит.
Оттого и плакали, что не любит, а не потому, что
ревнует.
Василий Белов
Юность
“Старших-то слушались, — рассказывает Анфиса
Ивановна, “Зерцало” никогда не читавшая, — бывало, не
спросясь, в чужую деревню гулять не уйдешь. Скажешь:
“Ведь охота сходить”. Мать, а то бабушка и ответят:
“Охотку-то с хлебом съешь!” Либо: “Всяк бы девушку знал,
да не всяк видал!” А пойдешь куда на люди, так
наказывают: “Рот-то на опашке поменьше держи”. Не
хохочи, значит”.
Стыд — одна из главных нравственных категорий,
если говорить о народном понимании нравственности.
Понятие это стоит в одном ряду с честью и совестью, о
которых у Александра Яшина сказано так:
В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь...
Существовала как природная стыдливость (не будем
путать ее с застенчивостью), так и благоприобретенная. В
любом возрасте, начиная с самого раннего, стыдливость
украшала человеческую личность, помогала выстоять под
напором соблазнов. Особенно нужна она была в пору
физического созревания. Похоть спокойно обуздывалась
обычным стыдом, оставляя в нравственной чистоте даже
духовно неокрепшего юношу. И для этого народу не нужны
были особые, напечатанные в типографии правила, подобные
“Зерцалу”.
Солидные внушения перемежаются в этой книге такими
советами: “И сия есть немалая гнусность, когда кто часто
сморкает, яко бы в трубу трубит...” “Непристойно на
свадьбе в сапогах и острогах [При шпорах - Ред.] быть и
тако танцевать, для того, что тем одежду дерут у
женского полу и великий звон причиняют острогами, к тому
ж муж не так поспешен в сапогах, нежели без сапогов”.
Ясно, что книга не крестьянского происхождения,
поскольку крестьяне “острогов” не носили и на свадьбах
плясали, а не танцевали. Еще больше изобличает
происхождение “Зерцала” такой совет: “Младые отроки
должны всегда между собою говорить иностранными языки,
дабы тем навыкнуть могли, а особливо, когда им что
тайное говорить случается, чтобы слуги и служанки
дознаться не могли и чтобы можно их от других незнающих
болванов распознать...”
Вот, оказывается, для чего нужны были иностранные
языки высокородным пижонам, плодившимся под покровом
петровских реформ. Владение “политесом” и иностранными
языками окончательно отделило высшие классы от народа.
(Это не значит, конечно что судить о дворянской культуре
надо лишь по фонвизинским митрофанушкам.)
Отрочество перерастало в юность в течение
нескольких лет. За это время крестьянский юноша
окончательно развивался физически, постигал все виды
традиционного полевого, лесного и домашнего труда. Лишь
профессиональное мастерство (плотничанье, кузнечное
дело, а у женщин “льняное” искусство) требовало
последующего освоения. Иные осваивали это мастерство всю
жизнь, да так и не могли до конца научиться. Но вредило
ли им и всем окружающим такое стремление? Если парень не
научится строить шатровые храмы, то избу-то рубить
обязательно выучится. Если девица не научится ткать “в
девятерник”, то простой-то холст будет ткать
обязательно, и т.д.
Юность полна свежих сил и созидательной жажды, и,
если в доме, в деревне, в стране все идет своим чередом,
она прекрасна сама по себе, все в ней счастливо и
гармонично. В таких условиях девушка или парень успевает
и ходить на беседы, и трудиться. Но даже и в худших
условиях хозяйственные обязанности и возрастные
потребности редко противоречили друг другу. Наоборот,
они взаимно дополнялись. К примеру, совместная работа
парней и девиц никогда не была для молодежи в тягость.
Даже невзгоды лесозаготовок, начавшихся с конца 20-х
годов и продолжавшихся около тридцати лет, переживались
сравнительно легко благодаря этому обстоятельству.
Сенокос, хождение к осеку, весенний сев, извоз,
многочисленные помочи давали молодежи прекрасную
возможность знакомства и общения, что, в свою очередь,
заметно влияло на качество и количество сделанного.
Кому хочется прослыть ленивым, или неряхой, или
неучем? Ведь каждый в молодости мечтает о том, что его
кто-то полюбит, думает о женитьбе, замужестве, стремится
не опозориться перед родными и всеми другими людьми.
Труд и гуляние словно бы взаимно укрощались, одно
не позволяло другому переходить в уродливые формы.
Нельзя гулять всю ночь до утра, если надо встать еще до
восхода и идти в поскотину за лошадью, но нельзя и
пахать дотемна, поскольку вечером снова гуляние у
церкви. Правда, бывало и так, что невыспавшиеся
холостяки шли в лес и, нарочно не найдя лошадей,
заваливались спать в пастуший шалаш. Но у таких паренина
в этот день оставалась непаханой, а это грозило и более
серьезными последствиями, чем та, о которой говорилось в
девичьей частушке:
Задушевная, невесело
Гулять осмеянной.
У любого ягодиночки
Загон несеяной.
Небалованным невестам тоже приходилось рано
вставать, особенно летом. “Утром меня маменька будит, а
я сплю-ю тороплюсь. Родители редко дудели в одну дуду.
Если отец был строг, то мать обязательно оберегала дочь
от слишком тяжелой работы. И наоборот. Если же оба
родителя оказывались не в меру трудолюбивыми, то защита
находилась в лице деда, к тому же и старшие братья
всегда как-то незаметно оберегали сестер. Строгость в
семье уравновешивалась добротой и юмором.
Большинство знакомств происходило еще в детстве и
отрочестве, главным образом в гостях, ведь в гости
ходили и к самым дальним родственникам. Как говорится,
седьмая вода на девятом киселе, а все равно знают друг
друга и ходят верст за пятнадцать-двадцать. Практически
большая или маленькая родня имелась если не в каждой
деревне, то в каждой волости. Если же в дальней деревне
не было родни, многие заводили подруг или побратимов.
Коллективные хождения гулять на праздники еще более
расширяли возможности знакомств. Сходить на гуляние за
10-15 километров летом ничего не стоило, если позволяла
погода. Возвращались в ту же ночь, гости же — через
день-два, смотря по хозяйственным обстоятельствам.
В отношениях парней и девушек вовсе не
существовало какого-то патриархального педантизма, мол,
если гуляешь с кем-то, так и гуляй до женитьбы. Совсем
нет. С самого отрочества знакомства и увлечения
менялись, молодые люди как бы “притирались” друг к
другу, искали себе пару по душе и по характеру. Это не
исключало, конечно, и случаев первой и последней любви.
Свидетельством духовной свободы, душевной раскованности
в отношениях молодежи являются тысячи (если не миллионы)
любовных песен и частушек, в которых женская сторона
отнюдь не выглядит пассивной и зависимой. Измены,
любови, отбои и перебои так и сыплются в этих часто
импровизированных и всегда искренних частушках. Родители
и старшие не были строги к поведению молодых людей, но
лишь до свадьбы.
Молодожены лишались этой свободы, этой легкости
новых знакомств навсегда и бесповоротно. Начиналась
совершенно другая жизнь. Поэтому свадьбу можно назвать
резкой и вполне определенной границей между юностью и
возмужанием.
Но и до свадьбы свобода и легкость новых
знакомств, увлечений, “любовей” отнюдь не означали
сексуальной свободы и легкомысленности поведения. Можно
ходить гулять, знакомиться, но... Девичья честь прежде
всего. Существовали вполне четкие границы дозволенного,
и переступались они весьма редко. Обе стороны, и мужская
и женская, старались соблюдать целомудрие.
Как легко впасть в грубейшую ошибку, если судить
об общенародной нравственности и эстетике по отдельным
примерам! Приведем всего лишь два: пьяный, вошедший в
раж гуляка, отпустив тормоза, начинает петь в пляске
скабрезные частушки, и зрители одобрительно и, что всего
удивительнее, искренне ахают.
Зато потом никто не будет относиться к нему
всерьез...
Новейшие чудеса вроде цирка и ярмарочных
аттракционов с женщинами-невидимками каждый в
отдельности воспринимают с наивным, почти детским
одобряющим восторгом.
Но общее, так сказать, глобальное народное
отношение к этому все-таки оказывалось почему-то
определенно насмешливым.
А к некоторым вопросам нравственности общественное
мнение было жестоким, неуступчивым, беспощадным. Худая
девичья слава катилась очень далеко, ее не держали ни
леса, ни болота. Грех, свершенный до свадьбы, был ничем
не смываем. Зато после рождения внебрачного ребенка
девице как бы прощали ее ошибку, человечность брала верх
над моральным принципом. Мать или бабушка согрешившей на
любые нападки отвечали примерно такой пословицей: “Чей
бы бычок ни скакал, а телятко наше”.
Ошибочно мнение, что необходимость целомудрия
распространялась лишь на женскую половину. Парень, до
свадьбы имевший физическую близость с женщиной, тоже
считался испорченным, ему вредила подмоченная репутация,
и его называли уже не парнем, а мужиком.
Конечно, каждый из двоих, посягнувших на
целомудрие, рассчитывал на сохранение тайны, особенно
девушка. Тайны, однако ж, не получалось. Инициатива в
грехе исходила обычно от парня, и сама по себе она
зависела от его нравственного уровня, который, в свою
очередь, зависел от нравственного уровня в его семье
(деревне, волости, обществе). Но в безнравственной семье
не учат жалеть других и держать данное кому-то слово. В
душе такого ухаря обычно вскипала жажда похвастать, и
тайны как не бывало. Дурная девичья слава действовала и
на самого виновника, его обвиняли не меньше. Ко всему
прочему чувства его к девице, если они и были, быстро
исчезали, он перекидывался на другой “объект” и в конце
концов женился кое-как, не по-хорошему. Девушка, будучи
опозоренной, тоже с трудом находила себе жениха. Уж тут
не до любви, попался бы какой-нибудь. Даже парень из
хорошей семьи, но с клеймом греха, терял звание
славутника, и гордые девицы брезговали такими. Подлинный
драматизм любовных отношений испытывало большинство
физически и нравственно здоровых людей, ведь и
счастливая любовь не исключает этого драматизма.
Красота отношений между молодыми людьми питалась
иной раз, казалось бы, такими взаимно исключающимися
свойствами, уживающимися в одном человеке, как бойкость
и целомудрие, озорство и стыдливость. Любить означало то
же самое, что жалеть, любовь бывала “горячая” и
“холодная”. О брачных отношениях, их высокой поэтизации
ярко свидетельствует такая народная песня:
Ты воспой, воспой,
Жавороночек.
Ты воспой весной
На проталинке.
Ты подай голос
Через темный лес,
Через темный лес,
Через бор сырой
В Москву каменку,
В крепость крепкую!
Тут сидел, сидел
Добрый молодец,
Он не год сидел
И не два года.
Он сидел, сидел
Ровно девять лет.
На десятый год
Стал письмо писать.
Стал письмо писать
К отцу с матерью.
Отец с матерью
Отказалися:
“Что у нас в роду
Воров не было”.
Он еще писал
Молодой жене.
Молода жена
Порасплакалась...
Но женитьба и замужество — это не только
духовно-нравственная, но и хозяйственно-экономическая
необходимость. Юные годы проходили под знаком ожидания и
подготовки к этому главному событию жизни. Оно стояло в
одном ряду с рождением и смертью.
Слишком поздняя или слишком ранняя свадьба
представлялась людям несчастьем. Большая разница в годах
жениха и невесты также исключала полнокровность и
красоту отношений. Неравные и повторные браки в
крестьянской среде считались не только несчастливыми, но
и невыгодными с хозяйственно-экономической точки зрения.
Такие браки безжалостно высмеивались народной молвой.
Красота и противоестественность исключали друг друга.
Встречалось часто не возрастное, а имущественное
неравенство. Но и оно не могло всерьез повлиять на
нравственно-бытовой комплекс, который складывался
веками.
Жалость (а по-нынешнему любовь) пересиливала все
остальное.
Пора возмужания
Жизнь в старческих воспоминаниях неизменно
делилась на две половины: до свадьбы и после свадьбы.
И впрямь, еще не стихли песни и не зачерствели
свадебные пироги, как весь уклад, весь быт человека
резко менялся.
В какую же сторону? Такой вопрос прозвучал бы
наивно и неуместно. Если хорошенько разобраться, то он
даже оскорбителен для зрелого нравственного чувства.
Категории “плохо” и “хорошо” отступают в таких случаях
на задний план. Замужество и женитьба не развлечение
(хотя и оно тоже) и не личная прихоть, а естественная
жизненная необходимость, связанная с новой
ответственностью перед миром, с новыми, еще не
испытанными радостями. Это так же неотвратимо, как,
например, восход солнца, как наступление осени и т.д.
Здесь для человека не существовало свободы выбора. Лишь
физическое уродство и душевная болезнь освобождали от
нравственной обязанности вступать в брак.
Но ведь и нравственная обязанность не
воспринималась как обязанность, если человек нравственно
нормален. Она может быть обязанностью лишь для
безнравственного человека. Только хотя бы поэтому для
фиксирования истинно народной нравственности не
требовалось никаких письменных кодексов вроде
упомянутого “Зерцала” или же “Цветника”, где собраны
правила иноческого поведения.
Закончен наконец драматизированный, длившийся
несколько недель свадебный обряд. Настает пора
возмужания, пора зрелости — самый большой по времени
период человеческой жизни.
Послесвадебное время не только самое интересное, но
и самое опасное для новой семьи. Выражения “сглазить”
или “испортить” считаются в образованном мире
принадлежностью суеверия. Но дело тут не в “черной
магии”. Первые нити еще не окрепших супружеских связей
легче всего оборвать одним недобрым словом или злым,
пренебрежительным взглядом.
Психологическое вживание невесты в мир теперь уже
не чужой семьи проходило не всегда быстро и гладко.
Привычки, особенности, порядки хоть и основаны на общей
традиции, но разны во всех семьях, во всех домах. У
одних, например, пекут рогульки тоненькие, у других
любят толстые, в этом доме дрова пилят одной длины, а в
том — другой, потому что печи разные сбиты, а печи
разные, потому что мастера неодинаковы, и т.д. Молодой
женщине, привыкшей к девичьей свободе, к родительской
заботе и ласке, нелегко вступать в новую жизнь в новой
семье. Об этом в народе слагали несчетные песни:
Ты зайдешь черту невозвратную,
Из черты назад не возвратишься,
В девичий наряд не нарядишься.
Не цветут цветы после осени,
Не растет трава зимой по снегу,
Не бывать молодо в красных девицах.
Трагическая необходимость смены жизненных
периодов, звучащая в песнях, нередко принимается за
доказательство ужасного семейного положения русской
женщины, ее неравноправия и забитости. Легенда об этом
неравноправии развеивается от легкого прикосновения к
фольклорным и литературным памятникам.
Ты не думай, дорогой,
Одна-то не остануся,
Не тебе, так твоему
Товарищу достануся, —
публично и во всеуслышание поет девушка на гулянье,
если суженый начинал заноситься.
О неудавшемся браке пелось такими словами
Какова ни была, да замуж вышла
За таково за детину да за невежу.
Не умеет вор-невежа со мной жити,
Он в пир пойдет, невежа, не простится.
А к воротам идет, невежа, кричит-вопит:
“Отпирай, жена, широки ворота!”
Уж как я, млада-младешенька, догадалась,
Потихошеньку с постелюшки вставала,
На босу ногу башмачки надевала,
Я покрепче воротички запирала:
“Уж ты спи-ночуй, невежа, да за воротами,
Тебе мягка постель да снежки белы,
Тебе крутое изголовье да подворотня,
Тебе тепло одеяло да ветры буйны,
Тебе цветная занавеска часты звезды,
Тебе крепкие караулы да волки серы”.
В том и соль, что в народе никому и в голову не
приходило противопоставлять женщину мужчине, семью главе
семейства, детей родителям и т.д.
Ни былинная Авдотья-рязаночка, ни историческая
Марфа-посадница, ни обе Алены (некрасовская и
лермонтовская) не похожи на забитых, неравноправных или
приниженных. Историк Костомаров, говоря о “Русской
правде” (первый известный науке свод русских законов),
пишет: “Замужняя женщина пользовалась одинаковыми
юридическими правами с мужчиной. За убийство или
оскорбление, нанесенное ей, платилась одинаковая вира”.
Грамотность или неграмотность человека в Древней
Руси также не зависела от половой принадлежности.
“Княжна Черниговская Евфросиния, дочь Михаила
Всеволодовича, завела в Суздале училище для девиц, где
учили грамоте, письму и церковному пению”, — говорит тот
же Костомаров, основываясь на летописных свидетельствах.
Равноправие, а иногда и превосходство женщины в
семье были обусловлены экономическими и нравственными
потребностями русского народного быта. Какой смысл для
главы семейства бить жену или держать в страхе всех
домочадцев? Только испорченный, глупый, без царя в
голове мужичонка допускал такие действия. И если
природная глупость хоть и с усмешкой, но все же
прощалась, то благоприобретенная глупость (самодурство)
беспощадно высмеивалась. Худая слава семейного самодура,
подобно славе девичьего бесчестия, тоже бежала далеко
“впереди саней”.
Авторитет главы семейства держался не на страхе, а
на совести членов семьи. Для поддержания такого
авторитета нужно было уважение, а не страх. Такое
уважение заслуживалось только личным примером:
трудолюбием, справедливостью, добротой,
последовательностью. Если вспомним еще о кровном
родстве, родительской и детской любви, то станет ясно,
почему “боялись” младшие старших. “Боязнь” эта даже у
детей исходила не от страха физической расправы или
вообще наказания, а от стыда, от муки совести. В хорошей
семье один осуждающий отцовский взгляд заставлял
домочадцев трепетать, тогда как в другой розги, ремень
или просто кулаки воспринимались вполне равнодушно.
Больше того, там, где господствовала грубая физическая
сила и страх физической боли, там процветали обман,
тайная насмешка над старшими и другие пороки.
Главенство от отца к старшему сыну переходило не
сразу, а по мере старения отца и накопления у сына
хозяйственного опыта. Оно как бы понемногу
соскальзывает, переливается от поколения к поколению,
ведь номинально главой семейства считается дед, отец
отца, но всем, в том числе и деду, ясно, что он уже не
глава. По традиции на семейных советах деду принадлежит
еще первое слово, но оно уже скорей совещательное, чем
решающее, и он не видит в этом обиды. Отец хозяина и сын
наглядно как бы разделяют суть старшинства: одному
предоставлена форма главенства, другому содержание. И
все это понемногу сдвигается.
То же самое происходит на женской “половине” дома.
Молодая хозяйка с годами становилась главной “у печи”, а
значит, и большухой. Это происходило естественно,
поскольку свекровь старела и таскать ведра скотине,
месить хлебы сама уже не всегда и могла. А раз ты хлеб
месишь, то и ключ от мучного ларя у тебя, если ты корову
доишь, то и молоко разливать, и масло пахтать, и взаймы
давать приходится не свекрови, а тебе. У кого лучше
пироги получаются, у того и старшинство. Золовкам
оставаться надолго в девках противоестественно. Выходит,
что женитьба младших сыновей тоже становилась
необходимой хотя бы из-за одной тесноты в доме. Но разве
одна теснота формировала эту необходимость?
Еще до женитьбы второго сына отец, дед и старший
сын начинали думать о постройке для него дома, но очень
редко окончание строительства совпадало с этой
женитьбой. Какое-то время два женатых брата жили со
своими семьями под отцовской, вернее, дедовской крышей.
Женские неурядицы, обычные в таких случаях,
подторапливали строительство. Собрав помочи (иногда
двой-трой), отец с сыновьями быстро достраивали дом для
младшего. Так же происходило и при женитьбе третьего и
четвертого сыновей, если, конечно, война или
какая-нибудь иная передряга со всем своим нахальством не
врывалась в народную жизнь.
Супружеская верность служила основанием и
супружеской любви, и всему семейному благополучию.
Жены в крестьянских семействах плакали, когда
мужья ревновали, ревность означала недоверие. Считалось,
что если не верит, то и не жалеет, не любит.
Оттого и плакали, что не любит, а не потому, что
ревнует.
Василий Белов
Метки: юность |
Жизненный круг.Преклонные годы. |
Жизненный круг. Преклонные годы. Старость
Преклонные годы
И опять между порой расцвета всех сил человеческих и порою преклонных лет не существует резкой границы... Плавно, постепенно, совсем незаметно человек приближается к своей старости.
Время движется с разной скоростью во все семь периодов жизни. Годы зрелости самые многочисленные, но они пролетают стремительней, чем годы, например, детства или старости. Как, чем это объяснить? Неизвестно... “Жизнь не по молодости, смерть не по старости”, — говорит пословица, не вполне понятная современному человеку.
Многое можно сказать, расшифровывая эту пословицу. Например, то, что нельзя считать молодость периодом, монопольно владеющим счастьем и радостью. Если, конечно, не принимать за счастье нечто застывшее, не меняющееся в течение всей жизни. В народном понимании сущность радости различная в разные периоды жизни.
Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной,
писал Н.А. Некрасов о детстве. Но можно ли испытать такое же счастье, съезжая с горки, скажем, в том возрасте, когда Саша или Маша
Пройдет — словно солнцем осветит!
Посмотрит — рублем подарит!
А в пору преклонных лет ни одной крестьянке не придет в голову ходить в рожь и всерьез ожидать от судьбы
... ситцу штуку целую,
ленту алую для кос,
поясок, рубаху белую
подпоясать в сенокос.
Всего этого она желает уже не себе, а своей дочери, и счастье дочери для нее — счастье собственное. Значит ли это, что счастье дочери полнокровней материнского? Вопрос опять же неправомерный. Сравнивать счастье в молодости со счастьем в старости нельзя, оно совсем разное и по форме, и по содержанию. То же самое можно сказать и о любви, вернее, о “жалости”. Дитя жалеет свою мать и других близких. Отрок вдруг начинает жалеть уже чужого человека иного пола. Наконец, жалость эта переходит в ни с чем не сравнимое чувство любви, неудержимого влечения, в нечто возвышенно-трагическое. Сложность и драматизм этого момента заключаются в жестоком противоречии между духовным и физическим, высокой романтикой и приземленной реальностью. Это противоречие разрешалось долгим, почти ритуальным досвадебным периодом и самим свадебным обрядом.
Любовь (жалость) после свадьбы естественным образом перерождалась, становилась качественно иной, менее уязвимой и более основательной. С непостижимой небесной высоты романтическое чувство как бы срывалось вниз, падало на жесткую землю, но брачное ложе, предусмотрительно припасенное жизнью, смягчало этот удар.
Рождение детей почти всегда окончательно рассеивало возвышенно-романтическую дымку. Жалость (любовь) супругов друг к другу становилась грубее, но и глубже, она скреплялась общей ответственностью за судьбу детей и общей любовью к ним. Иногда, правда, и после рождения детей супруги сохраняли какие-то по-юношески возвышенные отношения, что не осуждалось, но и не очень-то поощрялось общественным мнением.
Семья без детей — не семья.
Жизнь без детей — не жизнь.
Если через год после свадьбы в избе все еще не скрипит очеп и не качается драночная зыбка, изба считается несчастливой. Свадьбу в таких обстоятельствах вспоминают с некой горечью, а то стараются поскорее забыть о ней. Бездетность — величайшее несчастье, влекущее за собой приниженность женщины, фальшивые отношения, грубость мужчины, супружескую неверность и т.д. и т.п. Бездетность расстраивает весь жизненный лад и сбивает с ритма, одна неестественность порождает другую, и понемногу в доме воцаряется зло. Тем не менее бездетные семьи разрушались отнюдь не всегда. Супруги, чтя святость брачных отношений, либо брали детей “в примы” (сирот или от дальних многодетных родственников), либо мужественно несли “свой крест”, привыкая к тяжкой и одинокой доле.
В нормальной крестьянской семье все дети рождались по преимуществу в первые десять-пятнадцать лет брачной жизни. Погодками назывались рождаемые через год. Таким образом, даже в многодетной семье, где было десять-двенадцать детей, при рождении последнего первый или самый старший еще не выходил из отрочества. Это было важно, так как беременность при взрослом, все понимающем сыне или дочери была не очень-то и уместна. И хотя напрямую никто не осуждал родителей за рождение неожиданного “заскребыша”, супруги — с возмужанием своего первенца и взрослением старших — уже не стремились к брачному ложу... К ним как бы понемногу возвращалось юношеское целомудрие.
Преклонный возраст знаменовало не только это. Даже песни, которые пелись в пору возмужания и зрелости, сменялись другими, более подходящими по смыслу и форме. Если же в гостях, выйдя на круг, мать при взрослом сыне споет о “ягодиночке” или “изменушке”, никто не воспримет это всерьез.
Само поведение человека меняется вместе со взрослением детей, хотя до физического старения еще весьма далеко. Еще девичий румянец во время праздничного застолья разливается по материнскому лицу, но, глядя на дочь-невесту, невозможно плясать по-старому. Отцу, которому едва исполнилось сорок, еще хочется всерьез побороться или поиграть в бабки, но делать это всерьез он никогда не будет, поскольку это всерьез делают уже его сыновья. Прикрывшись несерьезностью, защитив себя видимостью шутки, и в преклонном возрасте еще можно сходить на игрище, поудить окуней, купить жене ярмарочных леденцов. Но семейное положение уже подвигает тебя на другие дела и припасает иные, непохожие развлечения. Любовь (жалость) к жене или к мужу понемногу утрачивает то, что было уместно или необходимо в молодости, но приобретает нечто новое, неожиданное для обоих супругов: нежность, привязанность, боязнь друг за друга. Все это тщательно упрятывается под внешней грубоватостью и показным равнодушием. Супруги даже слегка поругиваются, и постороннему не всегда понятна суть их истинных отношений. Только самые болтливые и простоватые выкладывали в разговорах всю семейную подноготную. Они частенько пробирали свою “половину”, но это было в общем-то безобидно. Самоирония и шутка выручали людей в таком возрасте, защищая их семейные дела от неосторожных влияний. “Спим-то вместе, а деньги поврозь”, — с серьезным видом говорит иной муж про свои отношения с женой. Разумеется, все обстоит как раз наоборот.
Старость
Физические и психические нагрузки так же постепенно снижались в старости, как постепенно нарастали они в детстве и юности. Это не означало экономической, хозяйственной бесполезности стариков. Богатый нравственный и трудовой опыт делал их равноправными в семье и в обществе. Если ты уже не можешь пахать, то рассевать никто не сможет лучше тебя.
Если раньше рубил бревна в обхват, то теперь в лесу для тебя дела еще больше. Тесать хвою, драть корье и бересту мужчине, находящемуся в полной силе, было просто неприлично.
Если бабушка уже не может ткать холст, то во время снованья ее то и дело зовут на выручку.
Без стариков вообще нельзя было обойтись многодетной семье.
Если по каким-то причинам в семье не было ни бабушки, ни деда, приглашали жить чужую одинокую или убогую старушку, и она нянчила ребятишек.
Старик в нормальной семье не чувствовал себя обузой, не страдал и от скуки. Всегда у него имелось дело, он нужен был каждому по отдельности и всем вместе. Внуку, лежа на печи, расскажет сказку, ведь рассказывать или напевать не менее интересно, чем слушать. Другому внуку слепит тютьку из глины, девочке-подростку выточит веретенце, большухе насадит ухват, принесет лапок на помело, а то сплетет ступни, невестке смастерит шкатулку, вырежет всем по липовой ложке и т.д. Немного надо труда, чтобы порадовать каждого!
Глубокий старик и дитя одинаково беззащитны, одинаково ранимы. Нечуткому, недушевному человеку, привыкшему к морально-нравственному авторитету родителей, к их высокой требовательности, душевной и физической чистоплотности, непонятно, отчего это бабушка пересолила капусту, а дед, всегда такой тщательный, аккуратный, вдруг позабыл закрыть колодец или облил рубаху. Удерживался от укоризны или упрека в таких случаях лишь высоконравственный человек. И как раз в такие моменты крепла его ответственность за семью, за ее силу и благополучие, а вовсе не тогда, когда он вспахал загон или срубил новый дом. Конечно же, отношение к детям и старикам всегда зависело от нравственного уровня всего общества. Вероятно, по этому отношению можно почти безошибочно определить, куда идет тот или иной народ и что ожидает его в ближайшем будущем.
Другим нравственным и, более того, философским принципом, по которому можно судить о народе, является отношение к смерти. Смерть представлялась русскому крестьянину естественным, как рождение, но торжественным и грозным (а для многих верующих еще и радостным) событием, избавляющим от телесных страданий, связанных со старческой дряхлостью, и от нравственных мучений, вызванных невозможностью продолжать трудиться.
Старики, до конца исчерпавшие свои физические силы, не теряли сил духовных; одни призывали смерть, другие терпеливо ждали ее. Но как говорится в пословице: “Без смерти не умрешь”. Самоубийство считалось позором, преступлением перед собой и другими людьми.
У северного русского крестьянина смерть не вызывала ни ужаса, ни отчаяния, тайна ее была равносильна тайне рождения. Смерть, поскольку ты уже родился, была так же необходима, как и жизнь. Естественная и закономерная последовательность в смене возрастных особенностей приводила к философско-религиозному и душевному равновесию, к спокойному восприятию конца собственного пути... Именно последовательность, постепенность. Старики нешумно и с некоторой торжественностью, еще будучи в здравом уме и силе, готовили себя к смерти. Но встретить ее спокойно мог только тот, кто достойно жил, стремился не делать зла и кто не был одиноким, имел родных.
По народному пониманию, чем больше грехов, тем трудней умирать.
Совсем безгрешных людей, разумеется, не было, и каждый человек чувствовал величину, степень собственного греха, своих преступлений перед людьми и окружающим миром. Муки совести соответствовали величине этого греха, поэтому религиозный обряд причащения и предсмертное покаяние облегчали страдания умирающего.
Многие люди в глубокой старости выглядят внешне как молодые. Молодое, почти юношеское выражение лица — признак доброты, отсутствия на душе зла. Долголетие в известной мере зависит от доброты, здоровье тоже. Злоба порождает болезни, во всяком случае, так думали наши предки. С нашей точки зрения это наивно. Но наивность — отнюдь не всегда глупость или отсутствие высокой внутренней культуры.
Жизнь человеческая находится между двумя великими тайнами: тайной нашего появления и тайной исчезновения. Рождение и смерть ограждают нас от ужаса бесконечности. И то и другое связано с краткими физическими страданиями. Ребенку так же трудно во время родов, как и матери, но первая боль, как и первая брань, лучше последней. Смертный же труд человек встречает, будучи подготовленным жизнью, умеющим преодолевать физические страдания. Поэтому, несмотря на все многообразие отношения к смерти (“сколько людей, столько смертей”), существовало все же народное отношение к ней — спокойное и мудрое. Считалось, что небытие после смерти то же, что и небытие до рождения, что земная жизнь дана человеку как бы в награду и дополнение к чему-то главному, что заслонялось от него двумя упомянутыми тайнами.
Стройностью и своевременностью всего, что необходимо и что неминуемо свершалось между рождением и смертью, обусловлены все особенности народной эстетики.
Василий Белов
Преклонные годы
И опять между порой расцвета всех сил человеческих и порою преклонных лет не существует резкой границы... Плавно, постепенно, совсем незаметно человек приближается к своей старости.
Время движется с разной скоростью во все семь периодов жизни. Годы зрелости самые многочисленные, но они пролетают стремительней, чем годы, например, детства или старости. Как, чем это объяснить? Неизвестно... “Жизнь не по молодости, смерть не по старости”, — говорит пословица, не вполне понятная современному человеку.
Многое можно сказать, расшифровывая эту пословицу. Например, то, что нельзя считать молодость периодом, монопольно владеющим счастьем и радостью. Если, конечно, не принимать за счастье нечто застывшее, не меняющееся в течение всей жизни. В народном понимании сущность радости различная в разные периоды жизни.
Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной,
писал Н.А. Некрасов о детстве. Но можно ли испытать такое же счастье, съезжая с горки, скажем, в том возрасте, когда Саша или Маша
Пройдет — словно солнцем осветит!
Посмотрит — рублем подарит!
А в пору преклонных лет ни одной крестьянке не придет в голову ходить в рожь и всерьез ожидать от судьбы
... ситцу штуку целую,
ленту алую для кос,
поясок, рубаху белую
подпоясать в сенокос.
Всего этого она желает уже не себе, а своей дочери, и счастье дочери для нее — счастье собственное. Значит ли это, что счастье дочери полнокровней материнского? Вопрос опять же неправомерный. Сравнивать счастье в молодости со счастьем в старости нельзя, оно совсем разное и по форме, и по содержанию. То же самое можно сказать и о любви, вернее, о “жалости”. Дитя жалеет свою мать и других близких. Отрок вдруг начинает жалеть уже чужого человека иного пола. Наконец, жалость эта переходит в ни с чем не сравнимое чувство любви, неудержимого влечения, в нечто возвышенно-трагическое. Сложность и драматизм этого момента заключаются в жестоком противоречии между духовным и физическим, высокой романтикой и приземленной реальностью. Это противоречие разрешалось долгим, почти ритуальным досвадебным периодом и самим свадебным обрядом.
Любовь (жалость) после свадьбы естественным образом перерождалась, становилась качественно иной, менее уязвимой и более основательной. С непостижимой небесной высоты романтическое чувство как бы срывалось вниз, падало на жесткую землю, но брачное ложе, предусмотрительно припасенное жизнью, смягчало этот удар.
Рождение детей почти всегда окончательно рассеивало возвышенно-романтическую дымку. Жалость (любовь) супругов друг к другу становилась грубее, но и глубже, она скреплялась общей ответственностью за судьбу детей и общей любовью к ним. Иногда, правда, и после рождения детей супруги сохраняли какие-то по-юношески возвышенные отношения, что не осуждалось, но и не очень-то поощрялось общественным мнением.
Семья без детей — не семья.
Жизнь без детей — не жизнь.
Если через год после свадьбы в избе все еще не скрипит очеп и не качается драночная зыбка, изба считается несчастливой. Свадьбу в таких обстоятельствах вспоминают с некой горечью, а то стараются поскорее забыть о ней. Бездетность — величайшее несчастье, влекущее за собой приниженность женщины, фальшивые отношения, грубость мужчины, супружескую неверность и т.д. и т.п. Бездетность расстраивает весь жизненный лад и сбивает с ритма, одна неестественность порождает другую, и понемногу в доме воцаряется зло. Тем не менее бездетные семьи разрушались отнюдь не всегда. Супруги, чтя святость брачных отношений, либо брали детей “в примы” (сирот или от дальних многодетных родственников), либо мужественно несли “свой крест”, привыкая к тяжкой и одинокой доле.
В нормальной крестьянской семье все дети рождались по преимуществу в первые десять-пятнадцать лет брачной жизни. Погодками назывались рождаемые через год. Таким образом, даже в многодетной семье, где было десять-двенадцать детей, при рождении последнего первый или самый старший еще не выходил из отрочества. Это было важно, так как беременность при взрослом, все понимающем сыне или дочери была не очень-то и уместна. И хотя напрямую никто не осуждал родителей за рождение неожиданного “заскребыша”, супруги — с возмужанием своего первенца и взрослением старших — уже не стремились к брачному ложу... К ним как бы понемногу возвращалось юношеское целомудрие.
Преклонный возраст знаменовало не только это. Даже песни, которые пелись в пору возмужания и зрелости, сменялись другими, более подходящими по смыслу и форме. Если же в гостях, выйдя на круг, мать при взрослом сыне споет о “ягодиночке” или “изменушке”, никто не воспримет это всерьез.
Само поведение человека меняется вместе со взрослением детей, хотя до физического старения еще весьма далеко. Еще девичий румянец во время праздничного застолья разливается по материнскому лицу, но, глядя на дочь-невесту, невозможно плясать по-старому. Отцу, которому едва исполнилось сорок, еще хочется всерьез побороться или поиграть в бабки, но делать это всерьез он никогда не будет, поскольку это всерьез делают уже его сыновья. Прикрывшись несерьезностью, защитив себя видимостью шутки, и в преклонном возрасте еще можно сходить на игрище, поудить окуней, купить жене ярмарочных леденцов. Но семейное положение уже подвигает тебя на другие дела и припасает иные, непохожие развлечения. Любовь (жалость) к жене или к мужу понемногу утрачивает то, что было уместно или необходимо в молодости, но приобретает нечто новое, неожиданное для обоих супругов: нежность, привязанность, боязнь друг за друга. Все это тщательно упрятывается под внешней грубоватостью и показным равнодушием. Супруги даже слегка поругиваются, и постороннему не всегда понятна суть их истинных отношений. Только самые болтливые и простоватые выкладывали в разговорах всю семейную подноготную. Они частенько пробирали свою “половину”, но это было в общем-то безобидно. Самоирония и шутка выручали людей в таком возрасте, защищая их семейные дела от неосторожных влияний. “Спим-то вместе, а деньги поврозь”, — с серьезным видом говорит иной муж про свои отношения с женой. Разумеется, все обстоит как раз наоборот.
Старость
Физические и психические нагрузки так же постепенно снижались в старости, как постепенно нарастали они в детстве и юности. Это не означало экономической, хозяйственной бесполезности стариков. Богатый нравственный и трудовой опыт делал их равноправными в семье и в обществе. Если ты уже не можешь пахать, то рассевать никто не сможет лучше тебя.
Если раньше рубил бревна в обхват, то теперь в лесу для тебя дела еще больше. Тесать хвою, драть корье и бересту мужчине, находящемуся в полной силе, было просто неприлично.
Если бабушка уже не может ткать холст, то во время снованья ее то и дело зовут на выручку.
Без стариков вообще нельзя было обойтись многодетной семье.
Если по каким-то причинам в семье не было ни бабушки, ни деда, приглашали жить чужую одинокую или убогую старушку, и она нянчила ребятишек.
Старик в нормальной семье не чувствовал себя обузой, не страдал и от скуки. Всегда у него имелось дело, он нужен был каждому по отдельности и всем вместе. Внуку, лежа на печи, расскажет сказку, ведь рассказывать или напевать не менее интересно, чем слушать. Другому внуку слепит тютьку из глины, девочке-подростку выточит веретенце, большухе насадит ухват, принесет лапок на помело, а то сплетет ступни, невестке смастерит шкатулку, вырежет всем по липовой ложке и т.д. Немного надо труда, чтобы порадовать каждого!
Глубокий старик и дитя одинаково беззащитны, одинаково ранимы. Нечуткому, недушевному человеку, привыкшему к морально-нравственному авторитету родителей, к их высокой требовательности, душевной и физической чистоплотности, непонятно, отчего это бабушка пересолила капусту, а дед, всегда такой тщательный, аккуратный, вдруг позабыл закрыть колодец или облил рубаху. Удерживался от укоризны или упрека в таких случаях лишь высоконравственный человек. И как раз в такие моменты крепла его ответственность за семью, за ее силу и благополучие, а вовсе не тогда, когда он вспахал загон или срубил новый дом. Конечно же, отношение к детям и старикам всегда зависело от нравственного уровня всего общества. Вероятно, по этому отношению можно почти безошибочно определить, куда идет тот или иной народ и что ожидает его в ближайшем будущем.
Другим нравственным и, более того, философским принципом, по которому можно судить о народе, является отношение к смерти. Смерть представлялась русскому крестьянину естественным, как рождение, но торжественным и грозным (а для многих верующих еще и радостным) событием, избавляющим от телесных страданий, связанных со старческой дряхлостью, и от нравственных мучений, вызванных невозможностью продолжать трудиться.
Старики, до конца исчерпавшие свои физические силы, не теряли сил духовных; одни призывали смерть, другие терпеливо ждали ее. Но как говорится в пословице: “Без смерти не умрешь”. Самоубийство считалось позором, преступлением перед собой и другими людьми.
У северного русского крестьянина смерть не вызывала ни ужаса, ни отчаяния, тайна ее была равносильна тайне рождения. Смерть, поскольку ты уже родился, была так же необходима, как и жизнь. Естественная и закономерная последовательность в смене возрастных особенностей приводила к философско-религиозному и душевному равновесию, к спокойному восприятию конца собственного пути... Именно последовательность, постепенность. Старики нешумно и с некоторой торжественностью, еще будучи в здравом уме и силе, готовили себя к смерти. Но встретить ее спокойно мог только тот, кто достойно жил, стремился не делать зла и кто не был одиноким, имел родных.
По народному пониманию, чем больше грехов, тем трудней умирать.
Совсем безгрешных людей, разумеется, не было, и каждый человек чувствовал величину, степень собственного греха, своих преступлений перед людьми и окружающим миром. Муки совести соответствовали величине этого греха, поэтому религиозный обряд причащения и предсмертное покаяние облегчали страдания умирающего.
Многие люди в глубокой старости выглядят внешне как молодые. Молодое, почти юношеское выражение лица — признак доброты, отсутствия на душе зла. Долголетие в известной мере зависит от доброты, здоровье тоже. Злоба порождает болезни, во всяком случае, так думали наши предки. С нашей точки зрения это наивно. Но наивность — отнюдь не всегда глупость или отсутствие высокой внутренней культуры.
Жизнь человеческая находится между двумя великими тайнами: тайной нашего появления и тайной исчезновения. Рождение и смерть ограждают нас от ужаса бесконечности. И то и другое связано с краткими физическими страданиями. Ребенку так же трудно во время родов, как и матери, но первая боль, как и первая брань, лучше последней. Смертный же труд человек встречает, будучи подготовленным жизнью, умеющим преодолевать физические страдания. Поэтому, несмотря на все многообразие отношения к смерти (“сколько людей, столько смертей”), существовало все же народное отношение к ней — спокойное и мудрое. Считалось, что небытие после смерти то же, что и небытие до рождения, что земная жизнь дана человеку как бы в награду и дополнение к чему-то главному, что заслонялось от него двумя упомянутыми тайнами.
Стройностью и своевременностью всего, что необходимо и что неминуемо свершалось между рождением и смертью, обусловлены все особенности народной эстетики.
Василий Белов
|
Младенчество |
Жизненный круг. Младенчество
Ритм — основа не только труда. Он необходим
человеку и во всей его остальной деятельности. И не
одному человеку, а всей его семье, всей деревне, всей
волости и всему крестьянству.
Лад и строй, как и не русские по происхождению
слова “такт” и “тембр”, принадлежат миру музыки. Но
“такт” в современном русском языке употребляется в более
широком бытовом смысле и служит для характеристики
хорошего поведения*.
О “ладе” и “строе” и говорить не приходится.
Достаточно вспомнить гнезда слов, связанных с этими
словами.
Гармония, как духовная и физическая по отдельности,
так и вообще — это жизнь, полнокровность жизни,
ритмичность. Сбивка с ритма — это болезнь, неустройство,
разлад, беспорядок.
Смерть — это вообще остановка, хаос, нелепость,
прекращение гармонического звучания, распадение и
беспорядочное смешение звуков.
Ритмичная жизнь, как и музыкальное звучание, не
подразумевает однообразия. Наоборот, ритм высвобождает
время и духовные силы каждого человека в отдельности или
этнического сообщества, он помогает прозвучать
индивидуальности и организует ее, словно мелодию в
музыке. Ритм закрепляет в человеке творческое начало, он
обязательное, хотя и не единственное условие творчества.
Ритмичность была одной из самых удивительных
принадлежностей северного народного быта. Самый тяжелый
мускульный труд становился посильным, менее
утомительным, ежели он обретал мерность. Не зря же
многие трудовые процессы сопровождались песней. Вспомним
общеизвестную бурлацкую “Эй, ухнем” или никитинское:
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое...
Гребцы в лодках, преодолевая ветер и волны, пели;
солдаты на марше пели; косцы на лугу пели. Пели даже
закованные в кандалы каторжане... Ритм помогал быстрее
осваивать трудовые секреты, приобретать навыки, а порой,
пусть и на время, освобождал человека даже от
собственных физических недостатков. Например,
женщина-заика, не способная в обычное время связать и
двух слов, петь могла часами, причем сильно, легко и
свободно.
Ритмичным был не только дневной, суточный цикл, но
и вся неделя. А сезонные сельхозработы, праздники и
посты делали ритмичным и весь год.
Лишь дальние многодневные поездки “под извоз”
сбивали суточный ритм крестьянской жизни. В прошлом веке
и в начале нынешнего эти поездки (на ярмарку, по
гужповинности, на станцию, на лесозаготовки и т.д.) не
были частыми. Они, несмотря на тяжесть и дорожную
неустроенность, воспринимались вначале как вынужденное
нарушение обыденности. С ростом российской
промышленности в сельскую экономику все больше начало
внедряться отходничество, поездки стали чаще и
обременительней, что приводило к нарушению не только
суточной, но и годовой ритмичности.
Человек менял свои возрастные особенности незаметно
для самого себя, последовательно, постепенно (вспомним,
что и слово “степенно”, иначе несуетливо, с
достоинством, того же корня). Младенчество, детство,
отрочество, юность, молодость, пора возмужания,
зрелость, старость и дряхлость сменяли друг друга так же
естественно, как в природе меняются, например, времена
года. Между этими состояниями не было ни резких границ,
ни взаимной вражды, у каждого из них имелись свои
прелести и достоинства. Если в детскую пору младенческие
привычки еще допускались и были терпимы, то в юности они
считались уже неестественными и поэтому высмеивались.
То, что положено было детству, еще не отсекалось
окончательно в юности, но в молодости подвергалось
легкой издевке, а в пору возмужания считалось уже совсем
неприличным. Например, в младенчестве человек еще не
может вырезать свистульку из весеннего тальникового
прутика. У него не хватит для этого ни сил, ни умения
(не говоря уже о том, что старшие никогда не доверят ему
отточенного ножа). В детстве он ворохами делает эти
самые свистульки, в юности уже стесняется их делать,
хотя, может быть, и хочется, а в молодости у него
достаточно других, более сложных и полезных развлечений.
Можно лишь сократить или удлинить какое-либо возрастное
состояние, но ни перескочить через него, ни выбросить из
жизни невозможно.
Такая постепенность подразумевала обязательную
новизну и многообразие жизненных впечатлений. Ведь ничто
в жизни уже нельзя было повторить: ни первый
младенческий крик, ни первый нырок в окуневый омут.
Возможность стать рекрутом или женихом не представляется
человеку дважды, а если и представляется, то исчезает
новизна и очарование, очарование любого, даже такого
печального события, как разлука с родиной, связанная с
уходом в солдаты. Вдовец, вынужденный жениться во второй
раз, стеснялся делать свадьбу. У женщин было отнюдь не в
чести второе замужество. Общественное мнение, весьма
снисходительное к физическому или другому недостатку,
становилось совершенно беспощадным к недостатку
нравственному. Не потому ли дурной человек хотел стать
не хуже других (по крайней мере, не хвастался тем, что
он дурной), средний стремился быть хорошим, а хороший
считал, что ему тоже не мешало бы стать лучше?
Ритмичность, сопровождавшая человека на всем его
жизненном пути, объясняет многие “странности”
крестьянского быта. Считалось, к примеру, вполне
нормальным, хотя и не очень почтенным то, что дитя и
старик из зажиточного хозяйства вдруг пошли с корзиной
по миру (значит, в хозяйстве неожиданно пала лошадь, или
сгорело гумно, или вымокла рожь). Но никто даже и
представить себе не смог бы такую картину: не дитя и не
старик, а сам хозяин потерпевшего двора в разгар
сенокоса пошел бы с корзиной по миру. В северных
деревнях еще не так давно считалось позорным праздновать
в будние дни. Женщинам и холостым парням разрешалось
пить только сусло и пиво, а тех мужчин, которые
напивались и начинали “шалить”, под руки выводили “из
помещения”. Старики и старухи имели право нюхать табак.
Но трудно сказать, что ждало подростка или молодого
мужчину, осмелившегося бы завести свою табакерку.
Всему было свое время и свой срок.
Разрыв в цепи естественных и потому необходимых в
своей последовательности житейских событий или же
перестановка их во времени лихорадили всю человеческую
судьбу. Так, слишком ранняя женитьба могла вызвать в
мужчине своеобразный комплекс “недогула” (гулять, по
тогдашней терминологии, вовсе не значило шуметь,
бражничать и распоясываться. Гулять означало быть
холостым, свободным от семейных и воинских забот). Этот
“недогул” позднее мог сказаться далеко не лучшим
способом, иные начинали наверстывать его, будучи
семьянинами. Так же точно и слишком затянувшийся
холостяцкий период не шел на пользу, он выбивал из
нормальной жизненной колеи, развращал, избаловывал.
Степень тяжести физических работ (как, впрочем, и
психологических нагрузок) нарастала в крестьянском быту
незаметно, последовательно, что закаливало человека, но
не надрывало. Так же последовательно нарастала и мера
ответственности перед сверстником, перед братом или
сестрой, перед родителями, перед всей семьей, деревней,
волостью, перед государством и, наконец, перед всем
белым светом.
В этом была основа воспитания. Ведь тот, кто
обманул сверстника в детской игре, легко может обмануть
отца и мать, а обманувшему отца и мать после нескольких
повторений ничего не стоит пренебречь мнением и всей
деревни, и всех людей. Отсюда прямая дорога к эгоизму и
отщепенству. Человек понемногу начинает злиться уже на
всех, противопоставляя себя всему миру.
Противопоставление же оправдывает в глазах эгоиста или
эгоистической группы и антиобщественные поступки,
обычные преступления.
Младенчество
Женщина не то чтобы стеснялась беременности. Но она
становилась сдержанней, многое, очень многое уходило для
нее в эту пору куда-то в сторону. Не стоило без нужды
лезть людям на глаза. Считалось, что чем меньше о ней
люди знали, тем меньше и пересудов, а чем меньше
пересудов, тем лучше для матери и ребенка. Ведь слово
или взгляд недоброго человека могут ранить душу, отсюда
и выражение “сглазить”, и вера в порчу. Тем не менее
женщины чуть ли не до последнего дня ходили в поле,
обряжали скотину (еще неизвестно, что полезнее при
беременности: сидеть два месяца дома или работать в
поле). Близкие оберегали женщину от тяжелых работ. И все
же дети нередко рождались прямо в поле, под суслоном, на
ниве, в сенокосном сарае.
Чаще всего роженица, чувствуя приближение родов,
пряталась поукромней, скрывалась в другую избу, за печь
или на печь, в баню, а иногда и в хлев и посылала за
повитухой. Мужчины и дети не должны были присутствовать
при родах*.
Ребенка принимала бабушка: свекровь или мать
роженицы. Она беспардонно шлепала младенца по крохотной
красной попке, вызывая крик.
Кричит, значит, живой.
Пуп завязывали прочной холщовой ниткой.
Молитвы, приговорки, различные приметы сопровождали
рождение младенца. Частенько, если баня к этому моменту
почему-либо не истоплена, бабушка залезала в большую
печь. Водою, согретой в самоваре, она мыла ребенка в
жаркой печи, подостлав под себя ржаную солому. Затем
ребенка плотно пеленали и лишь после всего этого
подносили к материнской груди и укладывали в зыбку.
Скрип зыбки и очепа сопровождал колыбельные песни
матери, бабушки, а иногда и деда. Уже через несколько
недель иной ребенок начинал подпевать своей няньке.
Засыпая после еды или рева, он в такт качанью и бабкиной
песенке гудел себе в нос:
— Ао-ао-ао.
Молоко наливали в бараний рожок с надетым на него
специально обработанным соском от коровьего вымени,
пеленали длинной холщовой лентой. Пеленание успокаивало
дитя, не давало ему возиться и “лягаться”, не позволяло
ребенку мешать самому себе.
Легкая зыбка, сплетенная из сосновых дранок,
подвешивалась на черемуховых дужках к очепу. Очеп — это
гибкая жердь, прикрепленная к потолочной матице. На
хорошем очепе зыбка колебалась довольно сильно, она
плавно выметывалась на сажень от пола. Может быть, такое
качание от самого дня рождения с последующим качанием на
качелях вырабатывало особую закалку: моряки, выходцы из
крестьян, весьма редко подвержены были морской болезни.
Зыбка служила человеку самой первой, самой маленькой
ограничительной сферой, вскоре сфера эта расширялась до
величины избы, и вдруг однажды мир открывался младенцу
во всей своей широте и величии. Деревенская улица
уходила далеко в зеленое летнее или белое зимнее поле.
Небо, дома, деревья, люди, животные, снега и травы, вода
и солнце и сами по себе никогда не были одинаковыми, а
их разнообразные сочетания сменялись ежечасно, иногда и
ежеминутно.
А сколько захватывающей, великой и разнообразной
радости в одном, самом необходимом существе — в родной
матери! Как богатеет окружающий мир с ее краткими
появлениями, как бесконечно прекрасно, спокойно и
счастливо чувствует себя крохотное существо в такие
минуты!
Отец редко берет ребенка на руки, он почти всегда
суров с виду и вызывает страх. Но тем памятнее его
мимолетная ласковая улыбка. А что же такое бабушка,
зыбку качающая, песни поющая, куделю прядущая, всюду
сущая? Почти все чувства: страх, радость, неприязнь,
стыд, нежность — возникают уже в младенчестве и обычно в
общении с бабушкой, которая “водится”, качает люльку,
ухаживает за младенцем. Она же первая приучает к
порядку, дает житейские навыки, знакомит с восторгом
игры и с тем, что мир состоит не из одних только
радостей.
Первая простейшая игра, например, ладушки либо игра
с пальчиками. “Поплевав” младенцу в ладошку, старуха
начинала мешать “кашу” жестким своим пальцем:
Сорока кашу варила,
Детей скликала.
Подте, детки, кашу ись.
Этому на ложке, —
старуха трясла мизинчик, —
Этому на поварешке, —
начинала “кормить” безымянный пальчик, —
Этому вершок.
Этому весь горшок!
Персональное обращение к каждому из пальчиков
вызывало нарастание интереса и у дитя, и у самой
рассказчицы. Когда речь доходила до последнего
(большого) пальчика, старуха теребила его,
приговаривала:
А ты, пальчик-мальчик,
В гумешко не ходишь,
Горошку не молотишь.
Тебе нет ничего!
Все это быстро, с нарастанием темпа, заканчивалось
легкими тычками в детскую ручку:
Тут ключ (запястье),
Тут ключ (локоток),
Тут ключ... (предплечье) и т.д.
А тут све-е-ежая ключевая водичка!
Бабушка щекотала у ребенка под мышкой, и внук или
внучка заходились в счастливом, восторженном смехе.
Другая игра-припевка тоже обладала своеобразным сюжетом,
причем не лишенным взрослого лукавства.
Ладушки, ладушки,
Где были? — У бабушки.
Что пили-или? — Кашку варили.
Кашка сладенька,
Бабушка добренька,
Дедушка недобр.
Поваренкой в лоб.
Конец прибаутки с легким шуточным щелчком в лоб
вызывал почему-то (особенно после частого повторения)
детское волнение, смех и восторг.
Таких игр-прибауток существовало десятки, и они
инстинктивно усложнялись взрослыми. По мере того как
ребенок развивался и рос, игры для мальчиков и для
девочек все больше и больше разъединялись,
разграничивались.
Припевки, убаюкивания, колыбельные и другие
песенки, прибаутки, скороговорки старались оживить
именем младенца, связать с достоинствами и недостатками
формирующегося детского характера, а также с
определенными условиями в доме, в семье и в природе.
Дети качались в зыбке, пока не вставали на свои
ноги. Если же до этой поры появлялся новый ребенок, их
клали “валетом”. В таких случаях все усложнялось,
особенно для няньки и матери... Бывало и так, что дядя
рождался после племянника, претендуя на место в
колыбели. Тогда до отделения молодой семьи в избе
скрипели две одинаковые зыбки.
Кое-где на русском Северо-Западе в честь рождения
ребенка, особенно первенца, отец или дед сажал дерево:
липу, рябину, чаще березу. Если в палисаде у дома места
уже не было, сажали у бани или где-нибудь в огороде. Эта
береза росла вместе с тем, в честь кого была принесена
из лесу и посажена на родимом подворье. Ее так и
называли: Сашина (или Танина) береза. Отныне человек и
дерево как бы опекали друг друга, храня тайну
взаимности.
Василий Белов
Ритм — основа не только труда. Он необходим
человеку и во всей его остальной деятельности. И не
одному человеку, а всей его семье, всей деревне, всей
волости и всему крестьянству.
Лад и строй, как и не русские по происхождению
слова “такт” и “тембр”, принадлежат миру музыки. Но
“такт” в современном русском языке употребляется в более
широком бытовом смысле и служит для характеристики
хорошего поведения*.
О “ладе” и “строе” и говорить не приходится.
Достаточно вспомнить гнезда слов, связанных с этими
словами.
Гармония, как духовная и физическая по отдельности,
так и вообще — это жизнь, полнокровность жизни,
ритмичность. Сбивка с ритма — это болезнь, неустройство,
разлад, беспорядок.
Смерть — это вообще остановка, хаос, нелепость,
прекращение гармонического звучания, распадение и
беспорядочное смешение звуков.
Ритмичная жизнь, как и музыкальное звучание, не
подразумевает однообразия. Наоборот, ритм высвобождает
время и духовные силы каждого человека в отдельности или
этнического сообщества, он помогает прозвучать
индивидуальности и организует ее, словно мелодию в
музыке. Ритм закрепляет в человеке творческое начало, он
обязательное, хотя и не единственное условие творчества.
Ритмичность была одной из самых удивительных
принадлежностей северного народного быта. Самый тяжелый
мускульный труд становился посильным, менее
утомительным, ежели он обретал мерность. Не зря же
многие трудовые процессы сопровождались песней. Вспомним
общеизвестную бурлацкую “Эй, ухнем” или никитинское:
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое...
Гребцы в лодках, преодолевая ветер и волны, пели;
солдаты на марше пели; косцы на лугу пели. Пели даже
закованные в кандалы каторжане... Ритм помогал быстрее
осваивать трудовые секреты, приобретать навыки, а порой,
пусть и на время, освобождал человека даже от
собственных физических недостатков. Например,
женщина-заика, не способная в обычное время связать и
двух слов, петь могла часами, причем сильно, легко и
свободно.
Ритмичным был не только дневной, суточный цикл, но
и вся неделя. А сезонные сельхозработы, праздники и
посты делали ритмичным и весь год.
Лишь дальние многодневные поездки “под извоз”
сбивали суточный ритм крестьянской жизни. В прошлом веке
и в начале нынешнего эти поездки (на ярмарку, по
гужповинности, на станцию, на лесозаготовки и т.д.) не
были частыми. Они, несмотря на тяжесть и дорожную
неустроенность, воспринимались вначале как вынужденное
нарушение обыденности. С ростом российской
промышленности в сельскую экономику все больше начало
внедряться отходничество, поездки стали чаще и
обременительней, что приводило к нарушению не только
суточной, но и годовой ритмичности.
Человек менял свои возрастные особенности незаметно
для самого себя, последовательно, постепенно (вспомним,
что и слово “степенно”, иначе несуетливо, с
достоинством, того же корня). Младенчество, детство,
отрочество, юность, молодость, пора возмужания,
зрелость, старость и дряхлость сменяли друг друга так же
естественно, как в природе меняются, например, времена
года. Между этими состояниями не было ни резких границ,
ни взаимной вражды, у каждого из них имелись свои
прелести и достоинства. Если в детскую пору младенческие
привычки еще допускались и были терпимы, то в юности они
считались уже неестественными и поэтому высмеивались.
То, что положено было детству, еще не отсекалось
окончательно в юности, но в молодости подвергалось
легкой издевке, а в пору возмужания считалось уже совсем
неприличным. Например, в младенчестве человек еще не
может вырезать свистульку из весеннего тальникового
прутика. У него не хватит для этого ни сил, ни умения
(не говоря уже о том, что старшие никогда не доверят ему
отточенного ножа). В детстве он ворохами делает эти
самые свистульки, в юности уже стесняется их делать,
хотя, может быть, и хочется, а в молодости у него
достаточно других, более сложных и полезных развлечений.
Можно лишь сократить или удлинить какое-либо возрастное
состояние, но ни перескочить через него, ни выбросить из
жизни невозможно.
Такая постепенность подразумевала обязательную
новизну и многообразие жизненных впечатлений. Ведь ничто
в жизни уже нельзя было повторить: ни первый
младенческий крик, ни первый нырок в окуневый омут.
Возможность стать рекрутом или женихом не представляется
человеку дважды, а если и представляется, то исчезает
новизна и очарование, очарование любого, даже такого
печального события, как разлука с родиной, связанная с
уходом в солдаты. Вдовец, вынужденный жениться во второй
раз, стеснялся делать свадьбу. У женщин было отнюдь не в
чести второе замужество. Общественное мнение, весьма
снисходительное к физическому или другому недостатку,
становилось совершенно беспощадным к недостатку
нравственному. Не потому ли дурной человек хотел стать
не хуже других (по крайней мере, не хвастался тем, что
он дурной), средний стремился быть хорошим, а хороший
считал, что ему тоже не мешало бы стать лучше?
Ритмичность, сопровождавшая человека на всем его
жизненном пути, объясняет многие “странности”
крестьянского быта. Считалось, к примеру, вполне
нормальным, хотя и не очень почтенным то, что дитя и
старик из зажиточного хозяйства вдруг пошли с корзиной
по миру (значит, в хозяйстве неожиданно пала лошадь, или
сгорело гумно, или вымокла рожь). Но никто даже и
представить себе не смог бы такую картину: не дитя и не
старик, а сам хозяин потерпевшего двора в разгар
сенокоса пошел бы с корзиной по миру. В северных
деревнях еще не так давно считалось позорным праздновать
в будние дни. Женщинам и холостым парням разрешалось
пить только сусло и пиво, а тех мужчин, которые
напивались и начинали “шалить”, под руки выводили “из
помещения”. Старики и старухи имели право нюхать табак.
Но трудно сказать, что ждало подростка или молодого
мужчину, осмелившегося бы завести свою табакерку.
Всему было свое время и свой срок.
Разрыв в цепи естественных и потому необходимых в
своей последовательности житейских событий или же
перестановка их во времени лихорадили всю человеческую
судьбу. Так, слишком ранняя женитьба могла вызвать в
мужчине своеобразный комплекс “недогула” (гулять, по
тогдашней терминологии, вовсе не значило шуметь,
бражничать и распоясываться. Гулять означало быть
холостым, свободным от семейных и воинских забот). Этот
“недогул” позднее мог сказаться далеко не лучшим
способом, иные начинали наверстывать его, будучи
семьянинами. Так же точно и слишком затянувшийся
холостяцкий период не шел на пользу, он выбивал из
нормальной жизненной колеи, развращал, избаловывал.
Степень тяжести физических работ (как, впрочем, и
психологических нагрузок) нарастала в крестьянском быту
незаметно, последовательно, что закаливало человека, но
не надрывало. Так же последовательно нарастала и мера
ответственности перед сверстником, перед братом или
сестрой, перед родителями, перед всей семьей, деревней,
волостью, перед государством и, наконец, перед всем
белым светом.
В этом была основа воспитания. Ведь тот, кто
обманул сверстника в детской игре, легко может обмануть
отца и мать, а обманувшему отца и мать после нескольких
повторений ничего не стоит пренебречь мнением и всей
деревни, и всех людей. Отсюда прямая дорога к эгоизму и
отщепенству. Человек понемногу начинает злиться уже на
всех, противопоставляя себя всему миру.
Противопоставление же оправдывает в глазах эгоиста или
эгоистической группы и антиобщественные поступки,
обычные преступления.
Младенчество
Женщина не то чтобы стеснялась беременности. Но она
становилась сдержанней, многое, очень многое уходило для
нее в эту пору куда-то в сторону. Не стоило без нужды
лезть людям на глаза. Считалось, что чем меньше о ней
люди знали, тем меньше и пересудов, а чем меньше
пересудов, тем лучше для матери и ребенка. Ведь слово
или взгляд недоброго человека могут ранить душу, отсюда
и выражение “сглазить”, и вера в порчу. Тем не менее
женщины чуть ли не до последнего дня ходили в поле,
обряжали скотину (еще неизвестно, что полезнее при
беременности: сидеть два месяца дома или работать в
поле). Близкие оберегали женщину от тяжелых работ. И все
же дети нередко рождались прямо в поле, под суслоном, на
ниве, в сенокосном сарае.
Чаще всего роженица, чувствуя приближение родов,
пряталась поукромней, скрывалась в другую избу, за печь
или на печь, в баню, а иногда и в хлев и посылала за
повитухой. Мужчины и дети не должны были присутствовать
при родах*.
Ребенка принимала бабушка: свекровь или мать
роженицы. Она беспардонно шлепала младенца по крохотной
красной попке, вызывая крик.
Кричит, значит, живой.
Пуп завязывали прочной холщовой ниткой.
Молитвы, приговорки, различные приметы сопровождали
рождение младенца. Частенько, если баня к этому моменту
почему-либо не истоплена, бабушка залезала в большую
печь. Водою, согретой в самоваре, она мыла ребенка в
жаркой печи, подостлав под себя ржаную солому. Затем
ребенка плотно пеленали и лишь после всего этого
подносили к материнской груди и укладывали в зыбку.
Скрип зыбки и очепа сопровождал колыбельные песни
матери, бабушки, а иногда и деда. Уже через несколько
недель иной ребенок начинал подпевать своей няньке.
Засыпая после еды или рева, он в такт качанью и бабкиной
песенке гудел себе в нос:
— Ао-ао-ао.
Молоко наливали в бараний рожок с надетым на него
специально обработанным соском от коровьего вымени,
пеленали длинной холщовой лентой. Пеленание успокаивало
дитя, не давало ему возиться и “лягаться”, не позволяло
ребенку мешать самому себе.
Легкая зыбка, сплетенная из сосновых дранок,
подвешивалась на черемуховых дужках к очепу. Очеп — это
гибкая жердь, прикрепленная к потолочной матице. На
хорошем очепе зыбка колебалась довольно сильно, она
плавно выметывалась на сажень от пола. Может быть, такое
качание от самого дня рождения с последующим качанием на
качелях вырабатывало особую закалку: моряки, выходцы из
крестьян, весьма редко подвержены были морской болезни.
Зыбка служила человеку самой первой, самой маленькой
ограничительной сферой, вскоре сфера эта расширялась до
величины избы, и вдруг однажды мир открывался младенцу
во всей своей широте и величии. Деревенская улица
уходила далеко в зеленое летнее или белое зимнее поле.
Небо, дома, деревья, люди, животные, снега и травы, вода
и солнце и сами по себе никогда не были одинаковыми, а
их разнообразные сочетания сменялись ежечасно, иногда и
ежеминутно.
А сколько захватывающей, великой и разнообразной
радости в одном, самом необходимом существе — в родной
матери! Как богатеет окружающий мир с ее краткими
появлениями, как бесконечно прекрасно, спокойно и
счастливо чувствует себя крохотное существо в такие
минуты!
Отец редко берет ребенка на руки, он почти всегда
суров с виду и вызывает страх. Но тем памятнее его
мимолетная ласковая улыбка. А что же такое бабушка,
зыбку качающая, песни поющая, куделю прядущая, всюду
сущая? Почти все чувства: страх, радость, неприязнь,
стыд, нежность — возникают уже в младенчестве и обычно в
общении с бабушкой, которая “водится”, качает люльку,
ухаживает за младенцем. Она же первая приучает к
порядку, дает житейские навыки, знакомит с восторгом
игры и с тем, что мир состоит не из одних только
радостей.
Первая простейшая игра, например, ладушки либо игра
с пальчиками. “Поплевав” младенцу в ладошку, старуха
начинала мешать “кашу” жестким своим пальцем:
Сорока кашу варила,
Детей скликала.
Подте, детки, кашу ись.
Этому на ложке, —
старуха трясла мизинчик, —
Этому на поварешке, —
начинала “кормить” безымянный пальчик, —
Этому вершок.
Этому весь горшок!
Персональное обращение к каждому из пальчиков
вызывало нарастание интереса и у дитя, и у самой
рассказчицы. Когда речь доходила до последнего
(большого) пальчика, старуха теребила его,
приговаривала:
А ты, пальчик-мальчик,
В гумешко не ходишь,
Горошку не молотишь.
Тебе нет ничего!
Все это быстро, с нарастанием темпа, заканчивалось
легкими тычками в детскую ручку:
Тут ключ (запястье),
Тут ключ (локоток),
Тут ключ... (предплечье) и т.д.
А тут све-е-ежая ключевая водичка!
Бабушка щекотала у ребенка под мышкой, и внук или
внучка заходились в счастливом, восторженном смехе.
Другая игра-припевка тоже обладала своеобразным сюжетом,
причем не лишенным взрослого лукавства.
Ладушки, ладушки,
Где были? — У бабушки.
Что пили-или? — Кашку варили.
Кашка сладенька,
Бабушка добренька,
Дедушка недобр.
Поваренкой в лоб.
Конец прибаутки с легким шуточным щелчком в лоб
вызывал почему-то (особенно после частого повторения)
детское волнение, смех и восторг.
Таких игр-прибауток существовало десятки, и они
инстинктивно усложнялись взрослыми. По мере того как
ребенок развивался и рос, игры для мальчиков и для
девочек все больше и больше разъединялись,
разграничивались.
Припевки, убаюкивания, колыбельные и другие
песенки, прибаутки, скороговорки старались оживить
именем младенца, связать с достоинствами и недостатками
формирующегося детского характера, а также с
определенными условиями в доме, в семье и в природе.
Дети качались в зыбке, пока не вставали на свои
ноги. Если же до этой поры появлялся новый ребенок, их
клали “валетом”. В таких случаях все усложнялось,
особенно для няньки и матери... Бывало и так, что дядя
рождался после племянника, претендуя на место в
колыбели. Тогда до отделения молодой семьи в избе
скрипели две одинаковые зыбки.
Кое-где на русском Северо-Западе в честь рождения
ребенка, особенно первенца, отец или дед сажал дерево:
липу, рябину, чаще березу. Если в палисаде у дома места
уже не было, сажали у бани или где-нибудь в огороде. Эта
береза росла вместе с тем, в честь кого была принесена
из лесу и посажена на родимом подворье. Ее так и
называли: Сашина (или Танина) береза. Отныне человек и
дерево как бы опекали друг друга, храня тайну
взаимности.
Василий Белов
Метки: дети |
Жизненный круг. Детство, отрочество. |
Жизненный круг. Детство. Отрочество
Детство
Писатели и философы называют детство самой
счастливой порой в человеческой жизни. Увлекаясь таким
утверждением, нельзя не подумать, что в жизни неминуема
пора несчастливая, например старость.
Народное мировоззрение не позволяет говорить об
этом с подобной определенностью. Было бы грубой ошибкой
судить о народных взглядах на жизнь с точки зрения
такого сознания, по которому и впрямь человек счастлив
лишь в пору детства, то есть до тех пор, пока не знает о
смерти. У русского крестьянина не существовало
противопоставления одного жизненного периода другому.
Жизнь для него была единое целое. Такое единство
основано, как видно, не на статичности, а на постоянном
неотвратимом обновлении.
Граница между детством и младенчеством неясна,
неопределенна, как неясна она при смене, например, ночи
и утра, весны и лета, ручья и речки. И все же, несмотря
на эту неопределенность, они существуют отдельно: и
ночь, и утро, и ручей, и речка.
По-видимому, лучше всего считать началом детства
то время, когда человек начинает помнить самого себя. Но
опять же когда это начинается? Запахи, звуки, игра света
запоминаются с младенчества. (Есть люди, всерьез
утверждающие, что они помнят, как родились.)
По крестьянским понятиям, ты уже не младенец, если
отсажен от материнской груди. Но иные “младенцы” просили
“тити” до пятилетнего возраста. Кормление прерывалось с
перспективой появления другого ребенка. Может быть,
отсаживание от материнской груди — это первое серьезное
жизненное испытание. Разве не трагедия для маленького
человечка, если он, полный ожидания и доверия к матери,
прильнул однажды к соску, намазанному горчицей?
Завершением младенчества считалось и то время,
когда ребенок выучивался ходить и когда у него
появлялась первая верхняя одежда и обувь.
Способность игнорировать неприятное и ужасное
(например, смерть), вероятно, главный признак детской
поры. Но это не значит, что обиды детства забывались
быстрее. И злое и доброе детская душа впитывает
одинаково жадно, дурные и хорошие впечатления
запоминались одинаково ярко на всю жизнь. Но зло и добро
не менялись местами в крестьянском мировосприятии,
подобно желтку и белку в яйце, они никогда не
смешивались друг с другом. Атмосфера добра вокруг дитяти
считалась обязательной. Она вовсе не означала
изнеженности и потакания. Ровное, доброе отношение
взрослого к ребенку не противоречило требовательности и
строгости, которые возрастали постепенно. Как уже
говорилось, степень ответственности перед окружающим
миром, физические нагрузки в труде и в играх зависели от
возраста, они возрастали медленно, незаметно, но
неуклонно не только с каждым годом, но и с каждым, может
быть, днем.
Прямолинейное и волевое насаждение хороших
привычек вызывало в детском сердце горечь, отпор и
сопротивление. Если мальчишку за руку волокут в поле, он
подчинится. Но что толку от такого подчинения? В хорошей
семье ничего не заставляют делать, ребенку самому
хочется делать. Взрослые лишь мудро оберегают его от
непосильного. Обычная детская жажда подражания действует
в воспитании трудовых навыков неизмеримо благотворнее,
чем принуждение. Личный пример жизненного поведения
взрослого (деда, отца, брата) неотступно стоял перед
детским внутренним оком, не поэтому ли в хороших семьях
редко, чрезвычайно редко вырастали дурные люди? Семья
еще в детстве прививала невосприимчивость ко всякого
рода нравственным вывертам.
Мир детства расширялся стремительно и ежедневно.
Человек покидал обжитую, знакомую до последнего сучка
зыбку, и вся изба становилась его знакомым объемным
миром. На печи, за печью, под печью, в кути, за шкафом,
под столом и под лавками — все изучено и все узнано. Не
пускают лишь в сундуки, в шкаф и к божнице. Летом
предстоят новые открытия. Весь дом становится сферой
знакомого, родного, привычного. Изба (летняя и зимняя),
сенники, светлица, вышка (чердак), поветь, хлевы, подвал
и всевозможные закутки. Затем и вся улица, и вся
деревня. Поле и лес, река и мельница, куда ездил с дедом
молоть муку... Первая ночь за пределами дома, наконец,
первый поход в гости, в другую деревню — все, все это
впервые.
В детстве, как и в прочие периоды жизни, ни одна
весна или осень не были похожи на предыдущие. Ведь для
каждого года детской жизни предназначено что-то новое.
Если в прошлом году разрешалось булькаться только на
мелком местечке, то нынче можно уже купаться и учиться
плавать где поглубже. Тысячи подобных изменений,
новшеств, усложняющихся навыков, игр, обычаев испытывал
на себе в пору детства каждый, запоминал их и, конечно
же, знакомил с ними потом своих детей.
Детские воспоминания всегда определенны и образны,
но каждому из людей запоминалось что-то больше, что-то
меньше. Если взять весну, то, наверно, почти всем
запоминались ощущения, связанные с такими занятиями,
Выставление внутренних рам — в избе сразу
становилось светлее и свежее, улица как бы заглядывала
прямо в дом.
Установка скворешни вместе с отцом, дедом или
старшим братом.
Пропускание воды (устройство запруды, канавы,
игрушечной мельницы).
Опускание лодки на воду.
Смазка сапог дегтем и просушка их на солнышке.
Собирание муравьев и гонка муравьиного спирта.
Подрубка берез (сбор и питье березового сока).
Поиск первых грибов-подснежников.
Ходьба за щавелем.
Первые игры на улице.
Первое ужение и т.д. и т.п.
Летом на детей обрушивалось так много всего, что
иные терялись, от восторга не знали, куда ринуться, и не
успевали испытать все, что положено испытать летом. Игры
чередовались с посильным трудом или сливались с ним,
полезное с приятным срасталось незаметно и прочно.
Элемент игры в трудовом акте, впервые испытанный в
детстве, во многих видах обязательного труда сохранялся
если не на всю жизнь, то очень надолго. Все эти шалаши
на покосе, лесные избушки, ловля рыбы, костры с печением
картошки, рыжиков, маслят, окуней, езда на конях — все
это переходило в последующие возрасты с изрядной долей
игры, детского развлечения.
Некая неуловимая грань при переходе одного
состояния в иное, порой противоположное, больше всего и
волнует в детстве. Дети — самые тонкие ценители таких
неуловимо-реальных состояний. Но и взрослым известно,
что самая вкусная картошка чуть-чуть похрустывающая, на
грани сырого и испеченного. Холодная похлебка на квасу
вдруг приобретает особую прелесть, когда в нее накрошат
чего-то горячего. Ребенок испытывает странное
удовольствие, опуская снег в кипящую воду. Полотенце,
принесенное с мороза в теплую избу, пахнет как-то
особенно, банная чернота и ослепительная заря в окошке
создают необычное настроение. Доли секунды перед прыжком
через препятствие, момент, когда качели еще двигаются
вверх, но вот-вот начнется обратное движение, миг перед
охотничьим выстрелом, перед падением в воду или в солому
— все это рождает непонятный восторг счастья и жизненной
полноты. А треск и прогибание молодого осеннего льда под
коньками, когда все проезжают раз за разом и никто не
проваливается в холодную глубину омута! А предчувствие
того, что недвижимый поплавок сейчас, вот как раз сейчас
исчезнет с водной поверхности! Это мгновение, пожалуй,
самое чудесное в уженье рыбы. А разве не самая чудесная,
не самая волнующая любовь на грани детства и юности, в
эту краткую и тоже неуловимую пору?
Осенью во время уборки особенно приятно играть в
прятки между суслонами и среди стогов, подкатываться на
лошадях, делать норы в больших соломенных скирдах,
топить овинную теплинку, лазить на черемуху, грызть
репу, жевать горох... А первый лед на реке, как и первый
снег, открывает сотни новых впечатлений и детских
возможностей.
Зима воспитывает человека ничуть не хуже лета.
Резкая красочная разница между снегом и летней травой,
между домом и улицей, контрастное многообразие
впечатлений особенно ощутимы в детстве. Как приятно,
намерзшись на речке или навалявшись в снегу, забраться
на печь к дедушке и, не дослушав его сказку, уснуть! И
зареветь, если прослушал что-то интересное. И радостно
успокоиться после отцовской или материнской ласки.
Температурный контраст, посильный для детского
тела, повторяющийся и возрастающий, всегда был основой
физической закалки, ничего не стоило для пятилетнего
малыша на минуту выскочить из жаркой бани на снег. Но от
контрастов психологических детей в хороших семьях
старались оберегать. Нежная заботливость необязательно
проявлялась открыто, но она проявлялась везде. Вот
некоторые примеры.
Когда бьют печь, кто-нибудь да слепит для ребенка
птичку из глины, если режут барана или бычка, то
непременно разомнут и надуют пузырь, опуская в него
несколько горошин (засохший пузырь превращался в детский
бубен). Если отец плотничает, то обязательно наколет
детских чурбачков. Когда варят студень, то мальчишкам
отдают козонки (бабки), а девочкам лодыжки, охотник
каждый раз отдает ребенку пушистый белый заячий хвост,
который подвязывают на ниточку. Когда варят пиво, то
дети гурьбой ходят глодать камушки. В конце лета для
детей отводят специальную гороховую полосу. Возвращаясь
из леса, каждый старается принести ребятишкам гостинец
от лисы, зайца или медведя. Подкатить ребенка на санях
либо на телеге считалось необязательным, но желательным.
Для детей специально плели маленькие корзинки, лукошки,
делали маленькие грабельки, коски и т.д.
В еде, помимо общих кушаний, существовали детские
лакомства, распределяемые по возрасту и по заслугам. К
числу таких домашних, а не покупных лакомств можно
отнести яблоки, кости (во время варки студня), ягодницу
(давленая черника или земляника в молоке), пенку с
топленого (жареного, как говорили) молока. Когда варят у
огня овсяный кисель, то поджаристую вкусную пену
наворачивают на мутовку и эту мутовку поочередно дают
детям. Печеная картошка, лук, репа, морковь, ягоды,
березовый сок, горох — все это было доступно детям, как
говорилось, по закону. Но по закону не всегда было
интересно. Поэтому среди классических детских шалостей
воровство овощей и яблок стояло на первом месте. Другим,
но более тяжким грехом было разорение птичьих гнезд —
этим занимались редкие и отпетые.
Запретным считалось глядеть, как едят или
чаевничают в чужом доме (таких детей называли вислятью,
вислятками). Впрочем, дать гостинца со своего стола
чужому ребенку считалось вполне нормальным.
Большое место занимали в детской душе домашние
животные: конь, корова, теленок, собака, кошка, петух.
Все, кроме петуха, имели разные клички, свой характер,
свои хорошие, с точки зрения человека, или дурные
свойства, в которых дети великолепно разбирались. Иногда
взрослые закрепляли за ребенком отдельных животных,
поручали их, так сказать, персональной опеке.
Отрочество
Чем же отличается детство от отрочества? Очень
многим, хотя опять же между ними, как и между другими
возрастами, нет четкого разделения: все изменения
происходят плавно, особенности той и другой поры
переплетаются и врастают друг в друга. Условно границей
детства и отрочества можно назвать время, когда человек
начинает проявлять осмысленный интерес к
противоположному полу.
Однажды, истопив очередную баню, мать, бабушка или
сестра собирают мальчишку мыться, а он вдруг начинает
капризничать, упираться и выкидывать “фокусы”.
— Ну ты теперь с отцом мыться пойдешь! — спокойно
говорит бабка. И... все сразу становится на свои места.
Сестре, а иногда и матери невдомек, в чем тут дело,
почему брат или сын начал бурчать что-то под нос и
толкаться локтями.
Общая нравственная атмосфера вовсе не требовала
какого-то специального полового воспитания. Она щадила
неокрепшее самолюбие подростка, поощряла стыдливость и
целомудрие. Наблюдая жизнь домашних животных, человек
уже в детстве понемногу познавал основы физиологии.
Деревенским детям не надо было объяснять, как и почему
появляется ребенок, что делают ночью жених и невеста и
т.д. Об этом не говорилось вообще, потому что все это
само собой разумелось, и говорить об этом не нужно,
неприлично, не принято. Такая стыдливость из отрочества
переходила в юность, нередко сохранялась и на всю жизнь.
Она придавала романтическую устойчивость чувствам, а с
помощью этого упорядочивала не только половые, но и
общественные отношения.
В отрочестве приходит к человеку первое и чаще
всего не последнее увлечение, первое чувство со всем его
психологическим многоцветьем. До этого мальчик или
девочка как бы “репетируют” свою первую настоящую
влюбленность предыдущим увлечением взрослым “объектом”
противоположного пола. И если над таким несерьезным
увлечением подсмеиваются, вышучивают обоих, то первую
подлинную любовь родственники как бы щадят и стараются
не замечать, к тому же иной подросток не хуже взрослого
умел хранить свою жгучую тайну. Тайна эта нередко
раскрывалась лишь в юности, когда чувство узаконивалось
общественным мнением.
Обстоятельства, связанные с первой любовью,
объясняют все особенности поведения в этом возрасте.
Если раньше, в детскую пору, человек был открытым, то
теперь он стал замкнутым, откровенность с родными и
близкими сменилась молчанием, а иногда и грубостью.
Улица так же незаметно преображается. В детские
годы мальчики и девочки играли в общие игры, все вместе,
в отрочестве они частенько играют отдельно и задирают
друг друга.
Становление мальчишеского характера во многом
зависело от подростковых игр. Отношения в этих играх
были до предела определенны, взрослым они казались
иногда просто жестокими. Если в семье еще и для
подростка допускалось снисхождение, нежность, то в
отношениях между сверстниками-мальчишками (особенно в
играх) царил спартанский дух. Никаких скидок на возраст,
на физические особенности не существовало. Нередко,
испытывая свою физическую выносливость или будучи
спровоцирован, подросток вступал в игру
неподготовленным. Его “гоняли” без всякой жалости весь
вечер и, если он не отыгрывался, переносили игру на
следующий день. Трудно даже представить состояние
неотыгравшегося мальчишки, но еще больше страдал бы он,
если бы сверстники пожалели его, простили, оставили
неотыгравшимся. (Речь идет только о спортивных,
физических, а не об умственных играх.) Взрослые скрепя
сердце старались не вмешиваться. Дело было совершенно
принципиальное: необходимо выкрутиться, победить, и
победить именно самому, без посторонней помощи.
Одна такая победа еще в отрочестве превращала
мальчика в мужчину.
Игры девочек не имели подобной направленности, они
отличались спокойными, лирическими взаимоотношениями
играющих.
Жизнь подростка еще допускала свободные занятия
играми. Но они уже вытеснялись более серьезными
занятиями, не исключающими, впрочем, и элементов игры.
Во-первых, подросток все больше и больше втягивался в
трудовые процессы, во-вторых, игры все больше заменялись
развлечениями, свойственными уже юности.
Подростки обоего пола могли уже косить травы,
боронить, теребить, возить и околачивать лен, рубить
хвою, драть корье и т.д. Конечно же, все это под
незримым руководством и тщательным наблюдением взрослых.
Соревнование, иначе трудовое, игровое и прочее
соперничество, особенно характерно для отроческой поры.
Подростка приходилось осаживать, ведь ему хочется
научиться пахать раньше ровесника, чтобы все девки,
большие и маленькие, увидели это. Хочется нарубить дров
больше, чем у соседа, чтобы никто не назвал его
маленьким или ленивым, хочется наловить рыбы для
материнских пирогов, насобирать ягод, чтобы угостить
младших, и т.д. Удивительное сочетание детских
привилегий и взрослых обязанностей замечается в этот
период жизни! Но как бы ни хороши были привилегии
детства, их уже стыдились, а если и пользовались, то с
оглядкой. Так, дома, в семье, среди своих младших
братьев еще можно похныкать и поклянчить у матери
кусочек полакомей. Но если в избе оказался сверстник из
другого дома, вообще кто-то чужой, быть “маленьким”
становилось стыдно. Следовательно, для отрочества уже
существовал неписаный кодекс поведения.
Мальчик в этом возрасте должен был уметь
(стремился, во всяком случае) сделать топорище, вязать
верши, запрягать лошадь, рубить хвою, драть корье, пасти
скот, удить рыбу. Он уже стеснялся плакать, прекрасно
знал, что лежачего не бьют и двое на одного не нападают,
что если побился об заклад, то слово надо держать, и
т.д. Девочки годам к двенадцати много и хорошо пряли,
учились плести, ткать, шить, помогали на покосе, умели
замесить хлебы и пироги, хотя им этого и не доверяли,
как мальчишкам не доверяли, например, точить топор,
резать петуха или барана, ездить без взрослых на
мельницу.
Подростки имели право приглашать в гости своих
родственных или дружеских ровесников, сами, бывая в
гостях, сидели за столом наравне со взрослыми, но пить
им разрешалось только сусло.
На молодежных гуляньях они во всем подражали более
старшим, “гуляющим” уже взаправду.
Для выхода лишней энергии и как бы для
удовлетворения потребности в баловстве и удали
существовала нарочитая пора года святки. В эту пору
общественное мнение не то чтобы поощряло, но было
снисходительным к подростковым шалостям.
Набаловавшись за святочную неделю, изволь целый
год жить степенно, по-человечески. А год — великое дело.
Поэтому привыкать к святочным шалостям просто не
успевали, приближалась иная пора жизни.
Непорядочная девица со всяким смеется и
разговаривает,
бегает по причинным местам и улицам, разиня пазухи,
садится к другим молодцам и мужчинам, толкает
локтями,
а смирно не сидит, но поет блудные песни, веселится
и напивается пьяна.
Скачет по столам и скамьям, дает себя по всем углам
таскать
и волочить, яко стерва. Ибо где нет стыда, там и
смирение не является.
О сем вопрошая, говорит избранная Люкреция по
правде:
ежели которая девица потеряет стыд и честь,
то что у ней остатца может?
Юности честное зерцало
Василий Белов
Детство
Писатели и философы называют детство самой
счастливой порой в человеческой жизни. Увлекаясь таким
утверждением, нельзя не подумать, что в жизни неминуема
пора несчастливая, например старость.
Народное мировоззрение не позволяет говорить об
этом с подобной определенностью. Было бы грубой ошибкой
судить о народных взглядах на жизнь с точки зрения
такого сознания, по которому и впрямь человек счастлив
лишь в пору детства, то есть до тех пор, пока не знает о
смерти. У русского крестьянина не существовало
противопоставления одного жизненного периода другому.
Жизнь для него была единое целое. Такое единство
основано, как видно, не на статичности, а на постоянном
неотвратимом обновлении.
Граница между детством и младенчеством неясна,
неопределенна, как неясна она при смене, например, ночи
и утра, весны и лета, ручья и речки. И все же, несмотря
на эту неопределенность, они существуют отдельно: и
ночь, и утро, и ручей, и речка.
По-видимому, лучше всего считать началом детства
то время, когда человек начинает помнить самого себя. Но
опять же когда это начинается? Запахи, звуки, игра света
запоминаются с младенчества. (Есть люди, всерьез
утверждающие, что они помнят, как родились.)
По крестьянским понятиям, ты уже не младенец, если
отсажен от материнской груди. Но иные “младенцы” просили
“тити” до пятилетнего возраста. Кормление прерывалось с
перспективой появления другого ребенка. Может быть,
отсаживание от материнской груди — это первое серьезное
жизненное испытание. Разве не трагедия для маленького
человечка, если он, полный ожидания и доверия к матери,
прильнул однажды к соску, намазанному горчицей?
Завершением младенчества считалось и то время,
когда ребенок выучивался ходить и когда у него
появлялась первая верхняя одежда и обувь.
Способность игнорировать неприятное и ужасное
(например, смерть), вероятно, главный признак детской
поры. Но это не значит, что обиды детства забывались
быстрее. И злое и доброе детская душа впитывает
одинаково жадно, дурные и хорошие впечатления
запоминались одинаково ярко на всю жизнь. Но зло и добро
не менялись местами в крестьянском мировосприятии,
подобно желтку и белку в яйце, они никогда не
смешивались друг с другом. Атмосфера добра вокруг дитяти
считалась обязательной. Она вовсе не означала
изнеженности и потакания. Ровное, доброе отношение
взрослого к ребенку не противоречило требовательности и
строгости, которые возрастали постепенно. Как уже
говорилось, степень ответственности перед окружающим
миром, физические нагрузки в труде и в играх зависели от
возраста, они возрастали медленно, незаметно, но
неуклонно не только с каждым годом, но и с каждым, может
быть, днем.
Прямолинейное и волевое насаждение хороших
привычек вызывало в детском сердце горечь, отпор и
сопротивление. Если мальчишку за руку волокут в поле, он
подчинится. Но что толку от такого подчинения? В хорошей
семье ничего не заставляют делать, ребенку самому
хочется делать. Взрослые лишь мудро оберегают его от
непосильного. Обычная детская жажда подражания действует
в воспитании трудовых навыков неизмеримо благотворнее,
чем принуждение. Личный пример жизненного поведения
взрослого (деда, отца, брата) неотступно стоял перед
детским внутренним оком, не поэтому ли в хороших семьях
редко, чрезвычайно редко вырастали дурные люди? Семья
еще в детстве прививала невосприимчивость ко всякого
рода нравственным вывертам.
Мир детства расширялся стремительно и ежедневно.
Человек покидал обжитую, знакомую до последнего сучка
зыбку, и вся изба становилась его знакомым объемным
миром. На печи, за печью, под печью, в кути, за шкафом,
под столом и под лавками — все изучено и все узнано. Не
пускают лишь в сундуки, в шкаф и к божнице. Летом
предстоят новые открытия. Весь дом становится сферой
знакомого, родного, привычного. Изба (летняя и зимняя),
сенники, светлица, вышка (чердак), поветь, хлевы, подвал
и всевозможные закутки. Затем и вся улица, и вся
деревня. Поле и лес, река и мельница, куда ездил с дедом
молоть муку... Первая ночь за пределами дома, наконец,
первый поход в гости, в другую деревню — все, все это
впервые.
В детстве, как и в прочие периоды жизни, ни одна
весна или осень не были похожи на предыдущие. Ведь для
каждого года детской жизни предназначено что-то новое.
Если в прошлом году разрешалось булькаться только на
мелком местечке, то нынче можно уже купаться и учиться
плавать где поглубже. Тысячи подобных изменений,
новшеств, усложняющихся навыков, игр, обычаев испытывал
на себе в пору детства каждый, запоминал их и, конечно
же, знакомил с ними потом своих детей.
Детские воспоминания всегда определенны и образны,
но каждому из людей запоминалось что-то больше, что-то
меньше. Если взять весну, то, наверно, почти всем
запоминались ощущения, связанные с такими занятиями,
Выставление внутренних рам — в избе сразу
становилось светлее и свежее, улица как бы заглядывала
прямо в дом.
Установка скворешни вместе с отцом, дедом или
старшим братом.
Пропускание воды (устройство запруды, канавы,
игрушечной мельницы).
Опускание лодки на воду.
Смазка сапог дегтем и просушка их на солнышке.
Собирание муравьев и гонка муравьиного спирта.
Подрубка берез (сбор и питье березового сока).
Поиск первых грибов-подснежников.
Ходьба за щавелем.
Первые игры на улице.
Первое ужение и т.д. и т.п.
Летом на детей обрушивалось так много всего, что
иные терялись, от восторга не знали, куда ринуться, и не
успевали испытать все, что положено испытать летом. Игры
чередовались с посильным трудом или сливались с ним,
полезное с приятным срасталось незаметно и прочно.
Элемент игры в трудовом акте, впервые испытанный в
детстве, во многих видах обязательного труда сохранялся
если не на всю жизнь, то очень надолго. Все эти шалаши
на покосе, лесные избушки, ловля рыбы, костры с печением
картошки, рыжиков, маслят, окуней, езда на конях — все
это переходило в последующие возрасты с изрядной долей
игры, детского развлечения.
Некая неуловимая грань при переходе одного
состояния в иное, порой противоположное, больше всего и
волнует в детстве. Дети — самые тонкие ценители таких
неуловимо-реальных состояний. Но и взрослым известно,
что самая вкусная картошка чуть-чуть похрустывающая, на
грани сырого и испеченного. Холодная похлебка на квасу
вдруг приобретает особую прелесть, когда в нее накрошат
чего-то горячего. Ребенок испытывает странное
удовольствие, опуская снег в кипящую воду. Полотенце,
принесенное с мороза в теплую избу, пахнет как-то
особенно, банная чернота и ослепительная заря в окошке
создают необычное настроение. Доли секунды перед прыжком
через препятствие, момент, когда качели еще двигаются
вверх, но вот-вот начнется обратное движение, миг перед
охотничьим выстрелом, перед падением в воду или в солому
— все это рождает непонятный восторг счастья и жизненной
полноты. А треск и прогибание молодого осеннего льда под
коньками, когда все проезжают раз за разом и никто не
проваливается в холодную глубину омута! А предчувствие
того, что недвижимый поплавок сейчас, вот как раз сейчас
исчезнет с водной поверхности! Это мгновение, пожалуй,
самое чудесное в уженье рыбы. А разве не самая чудесная,
не самая волнующая любовь на грани детства и юности, в
эту краткую и тоже неуловимую пору?
Осенью во время уборки особенно приятно играть в
прятки между суслонами и среди стогов, подкатываться на
лошадях, делать норы в больших соломенных скирдах,
топить овинную теплинку, лазить на черемуху, грызть
репу, жевать горох... А первый лед на реке, как и первый
снег, открывает сотни новых впечатлений и детских
возможностей.
Зима воспитывает человека ничуть не хуже лета.
Резкая красочная разница между снегом и летней травой,
между домом и улицей, контрастное многообразие
впечатлений особенно ощутимы в детстве. Как приятно,
намерзшись на речке или навалявшись в снегу, забраться
на печь к дедушке и, не дослушав его сказку, уснуть! И
зареветь, если прослушал что-то интересное. И радостно
успокоиться после отцовской или материнской ласки.
Температурный контраст, посильный для детского
тела, повторяющийся и возрастающий, всегда был основой
физической закалки, ничего не стоило для пятилетнего
малыша на минуту выскочить из жаркой бани на снег. Но от
контрастов психологических детей в хороших семьях
старались оберегать. Нежная заботливость необязательно
проявлялась открыто, но она проявлялась везде. Вот
некоторые примеры.
Когда бьют печь, кто-нибудь да слепит для ребенка
птичку из глины, если режут барана или бычка, то
непременно разомнут и надуют пузырь, опуская в него
несколько горошин (засохший пузырь превращался в детский
бубен). Если отец плотничает, то обязательно наколет
детских чурбачков. Когда варят студень, то мальчишкам
отдают козонки (бабки), а девочкам лодыжки, охотник
каждый раз отдает ребенку пушистый белый заячий хвост,
который подвязывают на ниточку. Когда варят пиво, то
дети гурьбой ходят глодать камушки. В конце лета для
детей отводят специальную гороховую полосу. Возвращаясь
из леса, каждый старается принести ребятишкам гостинец
от лисы, зайца или медведя. Подкатить ребенка на санях
либо на телеге считалось необязательным, но желательным.
Для детей специально плели маленькие корзинки, лукошки,
делали маленькие грабельки, коски и т.д.
В еде, помимо общих кушаний, существовали детские
лакомства, распределяемые по возрасту и по заслугам. К
числу таких домашних, а не покупных лакомств можно
отнести яблоки, кости (во время варки студня), ягодницу
(давленая черника или земляника в молоке), пенку с
топленого (жареного, как говорили) молока. Когда варят у
огня овсяный кисель, то поджаристую вкусную пену
наворачивают на мутовку и эту мутовку поочередно дают
детям. Печеная картошка, лук, репа, морковь, ягоды,
березовый сок, горох — все это было доступно детям, как
говорилось, по закону. Но по закону не всегда было
интересно. Поэтому среди классических детских шалостей
воровство овощей и яблок стояло на первом месте. Другим,
но более тяжким грехом было разорение птичьих гнезд —
этим занимались редкие и отпетые.
Запретным считалось глядеть, как едят или
чаевничают в чужом доме (таких детей называли вислятью,
вислятками). Впрочем, дать гостинца со своего стола
чужому ребенку считалось вполне нормальным.
Большое место занимали в детской душе домашние
животные: конь, корова, теленок, собака, кошка, петух.
Все, кроме петуха, имели разные клички, свой характер,
свои хорошие, с точки зрения человека, или дурные
свойства, в которых дети великолепно разбирались. Иногда
взрослые закрепляли за ребенком отдельных животных,
поручали их, так сказать, персональной опеке.
Отрочество
Чем же отличается детство от отрочества? Очень
многим, хотя опять же между ними, как и между другими
возрастами, нет четкого разделения: все изменения
происходят плавно, особенности той и другой поры
переплетаются и врастают друг в друга. Условно границей
детства и отрочества можно назвать время, когда человек
начинает проявлять осмысленный интерес к
противоположному полу.
Однажды, истопив очередную баню, мать, бабушка или
сестра собирают мальчишку мыться, а он вдруг начинает
капризничать, упираться и выкидывать “фокусы”.
— Ну ты теперь с отцом мыться пойдешь! — спокойно
говорит бабка. И... все сразу становится на свои места.
Сестре, а иногда и матери невдомек, в чем тут дело,
почему брат или сын начал бурчать что-то под нос и
толкаться локтями.
Общая нравственная атмосфера вовсе не требовала
какого-то специального полового воспитания. Она щадила
неокрепшее самолюбие подростка, поощряла стыдливость и
целомудрие. Наблюдая жизнь домашних животных, человек
уже в детстве понемногу познавал основы физиологии.
Деревенским детям не надо было объяснять, как и почему
появляется ребенок, что делают ночью жених и невеста и
т.д. Об этом не говорилось вообще, потому что все это
само собой разумелось, и говорить об этом не нужно,
неприлично, не принято. Такая стыдливость из отрочества
переходила в юность, нередко сохранялась и на всю жизнь.
Она придавала романтическую устойчивость чувствам, а с
помощью этого упорядочивала не только половые, но и
общественные отношения.
В отрочестве приходит к человеку первое и чаще
всего не последнее увлечение, первое чувство со всем его
психологическим многоцветьем. До этого мальчик или
девочка как бы “репетируют” свою первую настоящую
влюбленность предыдущим увлечением взрослым “объектом”
противоположного пола. И если над таким несерьезным
увлечением подсмеиваются, вышучивают обоих, то первую
подлинную любовь родственники как бы щадят и стараются
не замечать, к тому же иной подросток не хуже взрослого
умел хранить свою жгучую тайну. Тайна эта нередко
раскрывалась лишь в юности, когда чувство узаконивалось
общественным мнением.
Обстоятельства, связанные с первой любовью,
объясняют все особенности поведения в этом возрасте.
Если раньше, в детскую пору, человек был открытым, то
теперь он стал замкнутым, откровенность с родными и
близкими сменилась молчанием, а иногда и грубостью.
Улица так же незаметно преображается. В детские
годы мальчики и девочки играли в общие игры, все вместе,
в отрочестве они частенько играют отдельно и задирают
друг друга.
Становление мальчишеского характера во многом
зависело от подростковых игр. Отношения в этих играх
были до предела определенны, взрослым они казались
иногда просто жестокими. Если в семье еще и для
подростка допускалось снисхождение, нежность, то в
отношениях между сверстниками-мальчишками (особенно в
играх) царил спартанский дух. Никаких скидок на возраст,
на физические особенности не существовало. Нередко,
испытывая свою физическую выносливость или будучи
спровоцирован, подросток вступал в игру
неподготовленным. Его “гоняли” без всякой жалости весь
вечер и, если он не отыгрывался, переносили игру на
следующий день. Трудно даже представить состояние
неотыгравшегося мальчишки, но еще больше страдал бы он,
если бы сверстники пожалели его, простили, оставили
неотыгравшимся. (Речь идет только о спортивных,
физических, а не об умственных играх.) Взрослые скрепя
сердце старались не вмешиваться. Дело было совершенно
принципиальное: необходимо выкрутиться, победить, и
победить именно самому, без посторонней помощи.
Одна такая победа еще в отрочестве превращала
мальчика в мужчину.
Игры девочек не имели подобной направленности, они
отличались спокойными, лирическими взаимоотношениями
играющих.
Жизнь подростка еще допускала свободные занятия
играми. Но они уже вытеснялись более серьезными
занятиями, не исключающими, впрочем, и элементов игры.
Во-первых, подросток все больше и больше втягивался в
трудовые процессы, во-вторых, игры все больше заменялись
развлечениями, свойственными уже юности.
Подростки обоего пола могли уже косить травы,
боронить, теребить, возить и околачивать лен, рубить
хвою, драть корье и т.д. Конечно же, все это под
незримым руководством и тщательным наблюдением взрослых.
Соревнование, иначе трудовое, игровое и прочее
соперничество, особенно характерно для отроческой поры.
Подростка приходилось осаживать, ведь ему хочется
научиться пахать раньше ровесника, чтобы все девки,
большие и маленькие, увидели это. Хочется нарубить дров
больше, чем у соседа, чтобы никто не назвал его
маленьким или ленивым, хочется наловить рыбы для
материнских пирогов, насобирать ягод, чтобы угостить
младших, и т.д. Удивительное сочетание детских
привилегий и взрослых обязанностей замечается в этот
период жизни! Но как бы ни хороши были привилегии
детства, их уже стыдились, а если и пользовались, то с
оглядкой. Так, дома, в семье, среди своих младших
братьев еще можно похныкать и поклянчить у матери
кусочек полакомей. Но если в избе оказался сверстник из
другого дома, вообще кто-то чужой, быть “маленьким”
становилось стыдно. Следовательно, для отрочества уже
существовал неписаный кодекс поведения.
Мальчик в этом возрасте должен был уметь
(стремился, во всяком случае) сделать топорище, вязать
верши, запрягать лошадь, рубить хвою, драть корье, пасти
скот, удить рыбу. Он уже стеснялся плакать, прекрасно
знал, что лежачего не бьют и двое на одного не нападают,
что если побился об заклад, то слово надо держать, и
т.д. Девочки годам к двенадцати много и хорошо пряли,
учились плести, ткать, шить, помогали на покосе, умели
замесить хлебы и пироги, хотя им этого и не доверяли,
как мальчишкам не доверяли, например, точить топор,
резать петуха или барана, ездить без взрослых на
мельницу.
Подростки имели право приглашать в гости своих
родственных или дружеских ровесников, сами, бывая в
гостях, сидели за столом наравне со взрослыми, но пить
им разрешалось только сусло.
На молодежных гуляньях они во всем подражали более
старшим, “гуляющим” уже взаправду.
Для выхода лишней энергии и как бы для
удовлетворения потребности в баловстве и удали
существовала нарочитая пора года святки. В эту пору
общественное мнение не то чтобы поощряло, но было
снисходительным к подростковым шалостям.
Набаловавшись за святочную неделю, изволь целый
год жить степенно, по-человечески. А год — великое дело.
Поэтому привыкать к святочным шалостям просто не
успевали, приближалась иная пора жизни.
Непорядочная девица со всяким смеется и
разговаривает,
бегает по причинным местам и улицам, разиня пазухи,
садится к другим молодцам и мужчинам, толкает
локтями,
а смирно не сидит, но поет блудные песни, веселится
и напивается пьяна.
Скачет по столам и скамьям, дает себя по всем углам
таскать
и волочить, яко стерва. Ибо где нет стыда, там и
смирение не является.
О сем вопрошая, говорит избранная Люкреция по
правде:
ежели которая девица потеряет стыд и честь,
то что у ней остатца может?
Юности честное зерцало
Василий Белов
Метки: детство традиция культура |
Традиционный славянский орнамент |
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

Метки: орнамент вышивка рукоделие язычество красота предки одежда славяне |
Процитировано 1 раз
одежда |
Одежда
А если так, то что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Н. Заболоцкий
“Наг поле перейдет, а голоден ни с места”, —
говорит пословица. У Владимира Ивановича Даля та же
пословица написана наоборот и утверждает, что поле
перейти легче голодному, чем неодетому.
Два на первый взгляд противоположных варианта
пословицы отнюдь друг дружке не мешают, просто они
отражают две стороны одной и той же медали. Нигде, как в
одежде, так прочно и так наглядно не слились воедино два
человеческих начала: духовное и материальное. Об этом
говорит и бесчисленный ряд слов, так или иначе связанных
с понятием одежды. Одежду в народе и до сих пор называют
“оболочкой”, одевание — “оболоканием” (в современном
болгарском языке “облекло” означает также одежду).
Оболакиваться, оболокаться — значит одеваться. В
терминах этих звучит нечто зыбкое, легкое, временное,
напоминающее преходящую красоту небесного облака.
(Заметим, кстати, что зимняя северная погода в облачные
дни теплее, чем в безоблачные.)
Народное отношение к одежде всегда подразумевало
некоторую усмешку, легкое пренебрежение, выражаемые
такими словами, как “барахло”, “хламида”, “трунье”,
“виски”, “рухлядь”, “тряпки”. Но все это лишь
маскировало, служило внешней оболочкой вполне серьезной
и вечной заботы о том, во что одеться, как защитить себя
от холода и дождя, не выделяясь при этом как
щегольством, так и убогостью, что одинаково считалось
безобразием.
В этом и заключалась цельность народного отношения
к одежде, сказывающегося в простоте, в чувстве меры, в
экономической доступности, в красочности и многообразии.
Такая цельность была постепенно разрушена
нахальством сословных и прочих влияний, обусловленных
модой.
Беззащитность национального народного обычая перед
модой очевидна, и началась она не теперь. Вот что еще в
1790 году писал один из русских журналов хотя бы о
пуговицах:
“В продолжение десяти лет последовавшие перемены
на пуговицы были почти бесчисленны. Сколько мы можем
припомнить о сих переменах, то по порядку начавши со
введенных в употребление вместо пуговиц так называемых
оливок с кисточками разного виду, последовали бочоночки
стальные, крохотныя стальные пуговки звездочкой, потом
появились блестками шитыя по материи пуговицы; после
сего настали пуговицы с медным ободочком в средине с
шишечкою же медною, а прочная окружность оных была
сделана наподобие фарфора. По сем явились маленькие
медные пуговки шипиком, а напоследок пуговицы шелковыя и
гарусныя такого же вида. Чрез несколько времени вступили
в службу щегольского света разного роду медныя пуговицы
средственной величины, которые однакож в последствии так
возросли, что сделались в добрую бляху, и уповательно,
что со временем поравнялись бы величиною своею со
столовою тарелкою, или бы с печной вьюшкою, если бы
употребительность оных не заменилась пуговицами с
портретами, коньками и пуговицами осьмиугольными и с
загнутыми оболочками. По блаженной памяти оных пуговиц
вскружили голову щегольского света дорогие пуговицы за
стеклами, суконныя пуговицы, шелковыя разных видов и по
сем суконныя пуговицы с серебряным ободочком, по причине
дешевости своей в столице поживши не более года и не
могши из оной далее распространиться, как на триста
верст, испустили дух свой”.
Крестьянину всеми способами внушалось чувство
неполноценности. Сословная спесь, чуждая народному духу,
никогда не дремала, а щегольство всегда рядилось в
“передовые” самые броские одежды. И все-таки пижонство
блеском своих пуговиц не могло ослепить внутреннее око
народного самосознания, красота и практичность народной
одежды еще долго сохранялись на Севере. И только когда
национальные традиции в одежде стали считать признаком
косности и отсталости, началось ничем не обузданное
челобитье моде. Мода же, как известно, штука весьма
капризная, непостоянная, не признающая никаких резонов.
Эстетика крестьянской одежды на русском Севере
полностью зависела от национальных традиций, которые
вместе с национальным характером складывались под
влиянием климатических, экономических и прочих условий.
Народному отношению к одежде была свойственна
прежде всего удивительная бережливость.
Повсеместно отмечался сильнейший контраст между
рабочей и повседневной одеждой (не говоря уж о разнице
между будничной и праздничной) как по чистоте, так и по
добротности. Чем безалабернее, чем бесхозяйственней и
безответственней было целое семейство или отдельный
человек, тем меньше чувствовался и этот контраст.
Опытный и нечестный спорщик тут же назвал бы все
это скопидомством, стремлением к накопительству. Но чему
же тут удивляться? И надо ли вообще удивляться, когда
крестьянин бережно поднимает с пола хлебную корочку, за
полкилометра возвращается обратно, в лес, чтобы взять
забытые там рукавицы? Ведь все действительно начинается
с рукавиц. Вспомним, какой сложный путь проходит
холщовая однорядка, прежде чем попасть за плотницкий
пояс. Человека с младенчества приучали к бережливости.
Замазать грязью новые, впервые в жизни надетые штаны,
потерять шапку или прожечь дыру у костра было настоящим
несчастьем. Рубахи на груди рвали одни пьяные дураки.
Костюм-тройку в крестьянской семье носило два, а иногда
и три поколения мужчин, женскую шерстяную пару также
донашивали дочь, а иногда и внучка. Платок, купленный на
ярмарке, переходил от матери к дочке, а если дочери нет,
то к ближайшей родственнице. (Перед смертью старуха
дарила свое именье, а перед преждевременной смертью
женщина делала подробный наказ, кому и что передать.)
Купленную одежду берегли особенно. Холщовая,
домотканая одежда тоже давалась непросто, но она была
прочней и доступней, поэтому ее необязательно было
передавать из поколения в поколение, она, как хлеб на
столе, была первой необходимостью.
Летний мужской рабочий наряд выглядел очень
просто, но это не та простота, которая хуже воровства.
Лаконизм и отсутствие лишних деталей у холщовых портов и
рубахи дошли до 20-30-х годов нашего века из глубокой
славянской древности. Физический труд и постоянное
общение человека с природой не позволяли внедряться в
крестьянскую повседневную одежду ничему лишнему, ничему
вычурному. Лишь скромная лаконичная вышивка по вороту и
рукавам допускалась в таком наряде. Порты имели только
опушку (гашник) да две-три пуговицы, сделанные из
межпозвонковых бараньих кружков. Иногда порты красили
луковой кожурой, кубовой или синей краской, но чаще они
были вовсе не крашеными.
В жаркую пору крестьянин ничего не надевал поверх
исподнего, не подпоясывался, лапти носил на босу ногу.
Лапти и берестяные ступни нельзя считать признаком одной
лишь бедности, это была превосходная рабочая обувь.
Легкость и дешевизна уравновешивали их сравнительно
быструю изнашиваемость. Сапогам, вообще кожаной обуви
берестяная отнюдь не мешала, а была добрым подспорьем.
Еще и в 30-х годах можно было увидеть такую картину:
люди идут в гости в лаптях, неся сапоги перекинутыми
через плечо, и лишь у деревни переобуваются.
В межсезонье крестьянин надевал армяк либо кафтан,
в ненастье поверх армяка можно было натянуть балахон,
для тепла носили еще башлык. Шапка, сшитая из меха, а то
и валяная, подобно валенкам, дополняла мужицкий гардероб
осенью и весной. Зимой же почти все носили шубы и
полушубки. В дорогу обязательно прихватывали тулуп,
который имелся не в каждом доме, и его нередко брали
взаймы для поездки.
Вообще шубная, то есть овчинная, одежда была
широко распространена. Из овчины шили не только шубы,
тулупы, рукавицы, шапки, но и одеяла. В большом ходу
были мужские и женские овчинные жилеты, или душегреи с
вересковыми палочками вместо пуговиц. Встречались и
мужские шубные штаны, которые были незаменимы в жестокий
мороз, особенно в дороге. (Но еще более они были нужны в
святки, ведь ряжеными любили ходить все, кроме самых
набожных, даже и немолодые. Вывороченные наизнанку,
такие штаны и жилет моментально преображали человека.)
Кушак либо ремень — обязательная принадлежность мужской
рабочей одежды.
Праздничный наряд взрослого мужчины состоял из
яркой, нередко кумачовой вышитой рубахи с тканым поясом,
новых, промазанных дегтем сапог и суконных, хотя и
домотканых штанов. С развитием отходничества праздничная
одежда крестьянина сравнялась с одеждой городского
мещанина и мастерового. Большое влияние на нее всегда
оказывала военная и прочая форма. Картузы, фуражки,
бескозырки, гимнастерки, ремни разрушали народные
традиции не меньше, чем зарубежные или сословные
влияния. Таким способом едва не внедрились в
крестьянский быт штаны печально знаменитого французского
генерала Галифе, китель с глухим воротом.
Нельзя сказать, что в чуждом для него быте
крестьянин брал одно лишь дурное. В одежде очень многое
перенималось и хорошего, что не мешало общему
традиционному складу. Нельзя утверждать также, что
модернистским веяниям народная эстетика обязана только
внешней среде. Тяга к обновлению, неприятие стандарта,
однообразия исходили и из самих недр народной жизни.
Другое дело, что не всегда они контролировались здоровым
народным вкусом, особенно во времена общего
нравственного и экономического упадка. Но даже и в такие
периоды, когда, как говорится, “не до жиру, быть бы
живу”, даже и в этих условиях крестьянская мода не
принимала уродливых форм. Только после того, как время
окончательно разрушило тысячелетний
нравственно-экономический уклад, на поредевшие северные
деревни, на изреженные посады развязно пошла мода за
модой. Тягаться с городской, фабрично-мещанской одеждой
народному костюму было весьма трудно. Приказчику с
лакированным козырьком, с брелоками, с широким, вроде
подпруги поясом, такому франту, щедро одаривающему
молодух конфетами, нельзя было не завидовать. Да и
эсеровский уполномоченный в бриджах поражал деревенских
красавиц не только запахом папирос “Дукат”. А
деревенскому парню всегда ли удавалось отстоять самого
себя? Ему волей-неволей приходилось копить на картуз...
Впрочем, картуз быстренько сдал позиции и остался
в стариковском владении. Так называемое кепи, а попросту
кепка, явилось ему на смену. Холостяки носили кепку с
бантом, с брошкой, иногда с полевым цветком. Во время
войны пошла мода вместо картона вставлять в кепку
согнутые гибкие дранки, затем в ход пошли решета. Кепка
после этого приобрела форму колеса, и в праздничных
свалках она иногда катилась далеко вдоль по деревне...
Примерно в ту же пору началось загибание сапог —
даже девушки ходили в сапогах с вывернутыми наизнанку
голенищами.
Образцы народного женского костюма еще сохранились
кое-где по Печоре и по Мезени, а также в
северо-восточной части Вологодской области. В этих
местах некоторые его элементы перешли к современной как
праздничной, так и к повседневной женской одежде. Но
только некоторые. Наиболее устойчивые из них — это
декоративность. Во многих местах на Севере женщины, да и
не только они, по-прежнему любят яркие, контрастные по
цвету одежды. Но традиционные украшения собственного
изготовления (кружево, строчи и т.д.) плохо уживаются с
изделиями фабричной выработки. Эта несовместимость
тотчас проявляется в безвкусице. Смешение двух стилей не
создает нового стиля. Для существования традиции
необходим какой-то постоянный минимум ее составляющих. С
занижением этого минимума исчезает сама суть, содержание
традиции, после чего следует ее перерождение и полное
исчезновение.
Плохо это или хорошо — разговор особый. Но именно
это произошло с русским северным женским костюмом. Чтобы
убедиться в этом, надо представить женский крестьянский
наряд начала нашего века.
Основу его составляли рубаха и сарафан. Нельзя
забывать, что всю одежду, кроме верхней, которую шили
специально швецы, женщина изготовляла себе сама, как
сама плела, вышивала, ткала и вязала. Поэтому, имея
чутье на соразмерность и красоту, будучи лично
заинтересованной, она нередко создавала себе
одностильный, высокохудожественный и, конечно же,
индивидуальный наряд. Женщина с меньшим художественным
чутьем (независимо от достатка) заводила себе менее
выразительный, хотя и непохожий на другие наряд, а
лишенные вкуса девушки и женщины неминуемо подражали
двум первым. Традиция и складывалась как раз из
подобного подражания, поэтому ее можно назвать
выражением общественного эстетического чутья,
своеобразным закрепителем высокого вкуса, хорошего тона,
доброго мастерства и т.д.
Традиция не позволяла делать хуже обычного,
повседневного, она подстраховывала, служила допускаемым
пределом, ниже которого, не нарушив ее, не опустишься.
Поэтому ее можно было лишь совершенствовать. Все прочее,
в какие бы слова ни рядилось, служило и служит ее
уничтожению, хаосу, той эстетической мгле, в которой с
такой многозначительностью мерцают блуждающие огни.
Ясно, что благодаря традиции девушка, выкраивая
себе рубаху, не могла произвольно ни укоротить, ни
удлинить ее, шить слишком широкую ей тоже было ни к чему
(лишняя тяжесть и лишняя трата холста), как ни к чему и
слишком узкую. Но она могла вышить ворот, рукав сделать
сборчатым, а по подолу пустить строчи и кружева. Это
было не только в согласии с многовековой традицией, но и
в согласии с прихотливостью и фантазией. Так традиция,
охраняя от безобразного, раскрепощала творческое начало.
Рубахи назывались исподками, шились с глухим
воротом и широкими рукавами. С появлением ситца начали
шить ворогушки, у которых ситцевая верхняя часть
пришивалась к холщовому стану. В жаркую пору на поле
трудились в одних рубахах.
Русские деревенские женщины на Севере вплоть до
тридцатых годов не знали, что такое рейтузы и лифчики.
Это может показаться нелепым, если учитывать то, что
снег держится здесь шесть месяцев в году. Но, во-первых,
женщины за бревнами в лес не ездили и по сугробам с
топорами не лазали, это делали мужчины. Во-вторых,
принцип колокола в одежде не позволял мерзнуть в самые
сильные морозы. Для такой одежды характерна почти до пят
длина и постепенное сужение кверху. Так шили сарафаны,
шубы на борах, в русской военной шинели тоже использован
этот принцип. Под “колоколом” тепло держится на уровне
щиколоток, граница холода приходилась как раз на
голенища валяной обуви. Естественно, такой туалет
вырабатывал в девушке, а затем и в женщине бережливое
отношение к движениям, дисциплинировал поведение.
Приходилось подумать, прежде чем куда-то шагнуть или
прыгнуть. Это обстоятельство сказывалось в выработке
особой женской походки, проявлялось в сдержанной и
полной достоинства женской пляске.
Поверх рубахи женщина надевала шерстяной сарафан,
его верхний край был выше груди и держался на проймах.
По талии он обхватывался тканым поясом, носили его и без
пояса, особенно в теплое время. Юбка отличалась от
сарафана тем, что держалась не на проймах, а на поясе,
для нее ткали особую узорную, выборную, часто шерстяную
ткань. Шили сарафаны, юбки и казачки довольно
разнообразно, с морхами, с воланами и т.д. Юбка и
казачок, составлявшие пару, появились, вероятно, из
мещанской или купеческой среды, оттуда же пришел и сак —
верхняя одежда, заменившая шубу. Сак, сшитый на фантах,
назывался троешовком.
Одежда для девушки, да и для парня много значила,
из-за нее не спали ночами, зарабатывали деньги,
подряжались в работу. Многие стеснялись ходить на
гулянья до тех пор, пока не заведут женскую пару или
мужскую тройку. Полупальто для парней (его называли и
верхним пиджаком) и сак для девушки тоже серьезное дело.
Не зря в числе других пелась и такая частушка:
Зародились некрасивы,
Небогато и живем,
На веселую гуляночку
В туфаечках идем.
Как видим, одежда стоит в одном логическом ряду с
внешней красотой. В другой частушке сквозит мысль об
общественной неполноценности неодетого человека, его
уязвимости относительно недоброй молвы.
Говорят, одежи нету —
Вешала да вешала,
Юбка в клетку, юбка в клеш,
Еще какого лешева.
Традиционное отношение к одежде еще ощущается в
этой незамысловатой песенке, ведь после гуляния или
хождения к церкви одежду всегда развешивали, сушили и
убирали в чулан. Новые веяния, однако, звучат сильнее:
девушки, носившие юбки клеш, были уже бойчее, не
стеснялись частушек не только с “лешим”, но и с более
сильными выражениями.
Барачный смешанный быт еще в двадцатых годах
научил девушек носить шапки и ватные брюки. Работа в
лесу на лошадях обучила мужским словам и манерам. И все
же, отправляясь на всю зиму на лесозаготовки, многие
девушки брали с собой хотя бы небольшой праздничный
наряд. В зимние вечера в бараке кто спал, кто варил, а
кто и плясал под гармонь.
Чем неустойчивей быт, тем меньше разница между
будничной и праздничной одеждой. Жизнь молодежи на
лесозаготовках, война, послевоенное лихолетье, кочевая
вербовочная неустроенность свели на нет резкую и вполне
определенную границу между выходным одеянием и
будничным. Когда-то в неряшливом, грязном или оборванном
виде плясали только дурачки, пьяные забулдыги и
скоморохи, и тут была определенная направленность на
потеху и зубоскальство. Во времена лихолетья такие
выходы на круг, вначале как бы шуточные, становились
нормальным явлением, над пьяными плясунами перестали
смеяться. Скабрезная частушка в устах женщины, одетой в
штаны и ватник, звучит менее отвратительно, чем в устах
чисто и модно одетой женщины. Больше того, празднично
одетой женщине, может быть, вообще не захочется
паясничать...
Женская обувь в старину не отличалась
многообразием, одни и те же сапоги девушки носили и в
поле, и на гулянье. Особо искусные сапожники шили для
них башмаки или камаши. В семьях, где мужчины ходили на
заработки, у жен или сестер в конце прошлого века начали
появляться полусапожки — изящная фабричная обувь.
Платок и плетеная кружевная косынка, несмотря ни на
что, так и остались основным женским головным убором, ни
нэповские шляпки, ни береты тридцатых годов не смогли их
вытеснить.
Богатой и представительной считалась в
дореволюционной деревне крестьянка, имеющая муфту
(такую, в которой держит свои руки “Неизвестная”
Крамского). Полусапожки, пара, косынка, кашемировка
считались обязательным дополнением к приданому
полноценной невесты.
Едва ребенок начинал ползать, а затем и ходить
вдоль лавки, мать, сестра или бабушка шили ему одежду,
предпочтительно не из нового, а из старого, мягкого и
обношенного. Форма детской одежки целиком зависела от
прихоти мастерицы. Но чаще всего детская одежда и обувь
повторяли взрослую. Ребенок, одетый по-взрослому с
точностью до мельчайших деталей, вроде бы должен
вызывать чувство комического умиления. Но в том-то и
дело, что в крестьянской семье никогда не фамильярничали
с детьми. Оберегая от непосильного труда и постепенно
наращивая физические и нравственные тяжести,
родственники были с детьми серьезны и недвусмысленны.
Одинаковая со взрослыми одежда, одинаковые предметы
(например, маленький топорик, маленькая лопатка,
маленькая тележка) делали ребенка как бы
непосредственным и равноправным участником повседневной
крестьянской жизни. Чувство собственного достоинства и
серьезное отношение к миру закладывались именно таким
образом и в раннем детстве, но это отнюдь не мешало
детской беззаботности и непосредственности. Для детской
же фантазии в таких условиях открываются добавочные
возможности.
Одетый как взрослый, ребенок и жить старается как
взрослый. Преодолевая чувство зависти к более старшему,
получившему обнову, он гасит в своем сердечке искру
эгоизма. И конечно же, учится радоваться подарку,
привыкая к бережному любовному отношению к одежде. В
больших семьях обновы вообще были не очень часты. Одежда
(реже обувь) переходила от старшего к младшему.
Донашивание любой одежды считалось в крестьянской семье
просто необходимым. То, что было не очень нужным,
обязательно отдавали нищим. Выбрасывать считалось
грехом, как и покупать лишнее.
Василий Белов
1.

2.

3.

4.

5.
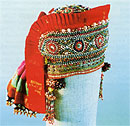
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

А если так, то что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Н. Заболоцкий
“Наг поле перейдет, а голоден ни с места”, —
говорит пословица. У Владимира Ивановича Даля та же
пословица написана наоборот и утверждает, что поле
перейти легче голодному, чем неодетому.
Два на первый взгляд противоположных варианта
пословицы отнюдь друг дружке не мешают, просто они
отражают две стороны одной и той же медали. Нигде, как в
одежде, так прочно и так наглядно не слились воедино два
человеческих начала: духовное и материальное. Об этом
говорит и бесчисленный ряд слов, так или иначе связанных
с понятием одежды. Одежду в народе и до сих пор называют
“оболочкой”, одевание — “оболоканием” (в современном
болгарском языке “облекло” означает также одежду).
Оболакиваться, оболокаться — значит одеваться. В
терминах этих звучит нечто зыбкое, легкое, временное,
напоминающее преходящую красоту небесного облака.
(Заметим, кстати, что зимняя северная погода в облачные
дни теплее, чем в безоблачные.)
Народное отношение к одежде всегда подразумевало
некоторую усмешку, легкое пренебрежение, выражаемые
такими словами, как “барахло”, “хламида”, “трунье”,
“виски”, “рухлядь”, “тряпки”. Но все это лишь
маскировало, служило внешней оболочкой вполне серьезной
и вечной заботы о том, во что одеться, как защитить себя
от холода и дождя, не выделяясь при этом как
щегольством, так и убогостью, что одинаково считалось
безобразием.
В этом и заключалась цельность народного отношения
к одежде, сказывающегося в простоте, в чувстве меры, в
экономической доступности, в красочности и многообразии.
Такая цельность была постепенно разрушена
нахальством сословных и прочих влияний, обусловленных
модой.
Беззащитность национального народного обычая перед
модой очевидна, и началась она не теперь. Вот что еще в
1790 году писал один из русских журналов хотя бы о
пуговицах:
“В продолжение десяти лет последовавшие перемены
на пуговицы были почти бесчисленны. Сколько мы можем
припомнить о сих переменах, то по порядку начавши со
введенных в употребление вместо пуговиц так называемых
оливок с кисточками разного виду, последовали бочоночки
стальные, крохотныя стальные пуговки звездочкой, потом
появились блестками шитыя по материи пуговицы; после
сего настали пуговицы с медным ободочком в средине с
шишечкою же медною, а прочная окружность оных была
сделана наподобие фарфора. По сем явились маленькие
медные пуговки шипиком, а напоследок пуговицы шелковыя и
гарусныя такого же вида. Чрез несколько времени вступили
в службу щегольского света разного роду медныя пуговицы
средственной величины, которые однакож в последствии так
возросли, что сделались в добрую бляху, и уповательно,
что со временем поравнялись бы величиною своею со
столовою тарелкою, или бы с печной вьюшкою, если бы
употребительность оных не заменилась пуговицами с
портретами, коньками и пуговицами осьмиугольными и с
загнутыми оболочками. По блаженной памяти оных пуговиц
вскружили голову щегольского света дорогие пуговицы за
стеклами, суконныя пуговицы, шелковыя разных видов и по
сем суконныя пуговицы с серебряным ободочком, по причине
дешевости своей в столице поживши не более года и не
могши из оной далее распространиться, как на триста
верст, испустили дух свой”.
Крестьянину всеми способами внушалось чувство
неполноценности. Сословная спесь, чуждая народному духу,
никогда не дремала, а щегольство всегда рядилось в
“передовые” самые броские одежды. И все-таки пижонство
блеском своих пуговиц не могло ослепить внутреннее око
народного самосознания, красота и практичность народной
одежды еще долго сохранялись на Севере. И только когда
национальные традиции в одежде стали считать признаком
косности и отсталости, началось ничем не обузданное
челобитье моде. Мода же, как известно, штука весьма
капризная, непостоянная, не признающая никаких резонов.
Эстетика крестьянской одежды на русском Севере
полностью зависела от национальных традиций, которые
вместе с национальным характером складывались под
влиянием климатических, экономических и прочих условий.
Народному отношению к одежде была свойственна
прежде всего удивительная бережливость.
Повсеместно отмечался сильнейший контраст между
рабочей и повседневной одеждой (не говоря уж о разнице
между будничной и праздничной) как по чистоте, так и по
добротности. Чем безалабернее, чем бесхозяйственней и
безответственней было целое семейство или отдельный
человек, тем меньше чувствовался и этот контраст.
Опытный и нечестный спорщик тут же назвал бы все
это скопидомством, стремлением к накопительству. Но чему
же тут удивляться? И надо ли вообще удивляться, когда
крестьянин бережно поднимает с пола хлебную корочку, за
полкилометра возвращается обратно, в лес, чтобы взять
забытые там рукавицы? Ведь все действительно начинается
с рукавиц. Вспомним, какой сложный путь проходит
холщовая однорядка, прежде чем попасть за плотницкий
пояс. Человека с младенчества приучали к бережливости.
Замазать грязью новые, впервые в жизни надетые штаны,
потерять шапку или прожечь дыру у костра было настоящим
несчастьем. Рубахи на груди рвали одни пьяные дураки.
Костюм-тройку в крестьянской семье носило два, а иногда
и три поколения мужчин, женскую шерстяную пару также
донашивали дочь, а иногда и внучка. Платок, купленный на
ярмарке, переходил от матери к дочке, а если дочери нет,
то к ближайшей родственнице. (Перед смертью старуха
дарила свое именье, а перед преждевременной смертью
женщина делала подробный наказ, кому и что передать.)
Купленную одежду берегли особенно. Холщовая,
домотканая одежда тоже давалась непросто, но она была
прочней и доступней, поэтому ее необязательно было
передавать из поколения в поколение, она, как хлеб на
столе, была первой необходимостью.
Летний мужской рабочий наряд выглядел очень
просто, но это не та простота, которая хуже воровства.
Лаконизм и отсутствие лишних деталей у холщовых портов и
рубахи дошли до 20-30-х годов нашего века из глубокой
славянской древности. Физический труд и постоянное
общение человека с природой не позволяли внедряться в
крестьянскую повседневную одежду ничему лишнему, ничему
вычурному. Лишь скромная лаконичная вышивка по вороту и
рукавам допускалась в таком наряде. Порты имели только
опушку (гашник) да две-три пуговицы, сделанные из
межпозвонковых бараньих кружков. Иногда порты красили
луковой кожурой, кубовой или синей краской, но чаще они
были вовсе не крашеными.
В жаркую пору крестьянин ничего не надевал поверх
исподнего, не подпоясывался, лапти носил на босу ногу.
Лапти и берестяные ступни нельзя считать признаком одной
лишь бедности, это была превосходная рабочая обувь.
Легкость и дешевизна уравновешивали их сравнительно
быструю изнашиваемость. Сапогам, вообще кожаной обуви
берестяная отнюдь не мешала, а была добрым подспорьем.
Еще и в 30-х годах можно было увидеть такую картину:
люди идут в гости в лаптях, неся сапоги перекинутыми
через плечо, и лишь у деревни переобуваются.
В межсезонье крестьянин надевал армяк либо кафтан,
в ненастье поверх армяка можно было натянуть балахон,
для тепла носили еще башлык. Шапка, сшитая из меха, а то
и валяная, подобно валенкам, дополняла мужицкий гардероб
осенью и весной. Зимой же почти все носили шубы и
полушубки. В дорогу обязательно прихватывали тулуп,
который имелся не в каждом доме, и его нередко брали
взаймы для поездки.
Вообще шубная, то есть овчинная, одежда была
широко распространена. Из овчины шили не только шубы,
тулупы, рукавицы, шапки, но и одеяла. В большом ходу
были мужские и женские овчинные жилеты, или душегреи с
вересковыми палочками вместо пуговиц. Встречались и
мужские шубные штаны, которые были незаменимы в жестокий
мороз, особенно в дороге. (Но еще более они были нужны в
святки, ведь ряжеными любили ходить все, кроме самых
набожных, даже и немолодые. Вывороченные наизнанку,
такие штаны и жилет моментально преображали человека.)
Кушак либо ремень — обязательная принадлежность мужской
рабочей одежды.
Праздничный наряд взрослого мужчины состоял из
яркой, нередко кумачовой вышитой рубахи с тканым поясом,
новых, промазанных дегтем сапог и суконных, хотя и
домотканых штанов. С развитием отходничества праздничная
одежда крестьянина сравнялась с одеждой городского
мещанина и мастерового. Большое влияние на нее всегда
оказывала военная и прочая форма. Картузы, фуражки,
бескозырки, гимнастерки, ремни разрушали народные
традиции не меньше, чем зарубежные или сословные
влияния. Таким способом едва не внедрились в
крестьянский быт штаны печально знаменитого французского
генерала Галифе, китель с глухим воротом.
Нельзя сказать, что в чуждом для него быте
крестьянин брал одно лишь дурное. В одежде очень многое
перенималось и хорошего, что не мешало общему
традиционному складу. Нельзя утверждать также, что
модернистским веяниям народная эстетика обязана только
внешней среде. Тяга к обновлению, неприятие стандарта,
однообразия исходили и из самих недр народной жизни.
Другое дело, что не всегда они контролировались здоровым
народным вкусом, особенно во времена общего
нравственного и экономического упадка. Но даже и в такие
периоды, когда, как говорится, “не до жиру, быть бы
живу”, даже и в этих условиях крестьянская мода не
принимала уродливых форм. Только после того, как время
окончательно разрушило тысячелетний
нравственно-экономический уклад, на поредевшие северные
деревни, на изреженные посады развязно пошла мода за
модой. Тягаться с городской, фабрично-мещанской одеждой
народному костюму было весьма трудно. Приказчику с
лакированным козырьком, с брелоками, с широким, вроде
подпруги поясом, такому франту, щедро одаривающему
молодух конфетами, нельзя было не завидовать. Да и
эсеровский уполномоченный в бриджах поражал деревенских
красавиц не только запахом папирос “Дукат”. А
деревенскому парню всегда ли удавалось отстоять самого
себя? Ему волей-неволей приходилось копить на картуз...
Впрочем, картуз быстренько сдал позиции и остался
в стариковском владении. Так называемое кепи, а попросту
кепка, явилось ему на смену. Холостяки носили кепку с
бантом, с брошкой, иногда с полевым цветком. Во время
войны пошла мода вместо картона вставлять в кепку
согнутые гибкие дранки, затем в ход пошли решета. Кепка
после этого приобрела форму колеса, и в праздничных
свалках она иногда катилась далеко вдоль по деревне...
Примерно в ту же пору началось загибание сапог —
даже девушки ходили в сапогах с вывернутыми наизнанку
голенищами.
Образцы народного женского костюма еще сохранились
кое-где по Печоре и по Мезени, а также в
северо-восточной части Вологодской области. В этих
местах некоторые его элементы перешли к современной как
праздничной, так и к повседневной женской одежде. Но
только некоторые. Наиболее устойчивые из них — это
декоративность. Во многих местах на Севере женщины, да и
не только они, по-прежнему любят яркие, контрастные по
цвету одежды. Но традиционные украшения собственного
изготовления (кружево, строчи и т.д.) плохо уживаются с
изделиями фабричной выработки. Эта несовместимость
тотчас проявляется в безвкусице. Смешение двух стилей не
создает нового стиля. Для существования традиции
необходим какой-то постоянный минимум ее составляющих. С
занижением этого минимума исчезает сама суть, содержание
традиции, после чего следует ее перерождение и полное
исчезновение.
Плохо это или хорошо — разговор особый. Но именно
это произошло с русским северным женским костюмом. Чтобы
убедиться в этом, надо представить женский крестьянский
наряд начала нашего века.
Основу его составляли рубаха и сарафан. Нельзя
забывать, что всю одежду, кроме верхней, которую шили
специально швецы, женщина изготовляла себе сама, как
сама плела, вышивала, ткала и вязала. Поэтому, имея
чутье на соразмерность и красоту, будучи лично
заинтересованной, она нередко создавала себе
одностильный, высокохудожественный и, конечно же,
индивидуальный наряд. Женщина с меньшим художественным
чутьем (независимо от достатка) заводила себе менее
выразительный, хотя и непохожий на другие наряд, а
лишенные вкуса девушки и женщины неминуемо подражали
двум первым. Традиция и складывалась как раз из
подобного подражания, поэтому ее можно назвать
выражением общественного эстетического чутья,
своеобразным закрепителем высокого вкуса, хорошего тона,
доброго мастерства и т.д.
Традиция не позволяла делать хуже обычного,
повседневного, она подстраховывала, служила допускаемым
пределом, ниже которого, не нарушив ее, не опустишься.
Поэтому ее можно было лишь совершенствовать. Все прочее,
в какие бы слова ни рядилось, служило и служит ее
уничтожению, хаосу, той эстетической мгле, в которой с
такой многозначительностью мерцают блуждающие огни.
Ясно, что благодаря традиции девушка, выкраивая
себе рубаху, не могла произвольно ни укоротить, ни
удлинить ее, шить слишком широкую ей тоже было ни к чему
(лишняя тяжесть и лишняя трата холста), как ни к чему и
слишком узкую. Но она могла вышить ворот, рукав сделать
сборчатым, а по подолу пустить строчи и кружева. Это
было не только в согласии с многовековой традицией, но и
в согласии с прихотливостью и фантазией. Так традиция,
охраняя от безобразного, раскрепощала творческое начало.
Рубахи назывались исподками, шились с глухим
воротом и широкими рукавами. С появлением ситца начали
шить ворогушки, у которых ситцевая верхняя часть
пришивалась к холщовому стану. В жаркую пору на поле
трудились в одних рубахах.
Русские деревенские женщины на Севере вплоть до
тридцатых годов не знали, что такое рейтузы и лифчики.
Это может показаться нелепым, если учитывать то, что
снег держится здесь шесть месяцев в году. Но, во-первых,
женщины за бревнами в лес не ездили и по сугробам с
топорами не лазали, это делали мужчины. Во-вторых,
принцип колокола в одежде не позволял мерзнуть в самые
сильные морозы. Для такой одежды характерна почти до пят
длина и постепенное сужение кверху. Так шили сарафаны,
шубы на борах, в русской военной шинели тоже использован
этот принцип. Под “колоколом” тепло держится на уровне
щиколоток, граница холода приходилась как раз на
голенища валяной обуви. Естественно, такой туалет
вырабатывал в девушке, а затем и в женщине бережливое
отношение к движениям, дисциплинировал поведение.
Приходилось подумать, прежде чем куда-то шагнуть или
прыгнуть. Это обстоятельство сказывалось в выработке
особой женской походки, проявлялось в сдержанной и
полной достоинства женской пляске.
Поверх рубахи женщина надевала шерстяной сарафан,
его верхний край был выше груди и держался на проймах.
По талии он обхватывался тканым поясом, носили его и без
пояса, особенно в теплое время. Юбка отличалась от
сарафана тем, что держалась не на проймах, а на поясе,
для нее ткали особую узорную, выборную, часто шерстяную
ткань. Шили сарафаны, юбки и казачки довольно
разнообразно, с морхами, с воланами и т.д. Юбка и
казачок, составлявшие пару, появились, вероятно, из
мещанской или купеческой среды, оттуда же пришел и сак —
верхняя одежда, заменившая шубу. Сак, сшитый на фантах,
назывался троешовком.
Одежда для девушки, да и для парня много значила,
из-за нее не спали ночами, зарабатывали деньги,
подряжались в работу. Многие стеснялись ходить на
гулянья до тех пор, пока не заведут женскую пару или
мужскую тройку. Полупальто для парней (его называли и
верхним пиджаком) и сак для девушки тоже серьезное дело.
Не зря в числе других пелась и такая частушка:
Зародились некрасивы,
Небогато и живем,
На веселую гуляночку
В туфаечках идем.
Как видим, одежда стоит в одном логическом ряду с
внешней красотой. В другой частушке сквозит мысль об
общественной неполноценности неодетого человека, его
уязвимости относительно недоброй молвы.
Говорят, одежи нету —
Вешала да вешала,
Юбка в клетку, юбка в клеш,
Еще какого лешева.
Традиционное отношение к одежде еще ощущается в
этой незамысловатой песенке, ведь после гуляния или
хождения к церкви одежду всегда развешивали, сушили и
убирали в чулан. Новые веяния, однако, звучат сильнее:
девушки, носившие юбки клеш, были уже бойчее, не
стеснялись частушек не только с “лешим”, но и с более
сильными выражениями.
Барачный смешанный быт еще в двадцатых годах
научил девушек носить шапки и ватные брюки. Работа в
лесу на лошадях обучила мужским словам и манерам. И все
же, отправляясь на всю зиму на лесозаготовки, многие
девушки брали с собой хотя бы небольшой праздничный
наряд. В зимние вечера в бараке кто спал, кто варил, а
кто и плясал под гармонь.
Чем неустойчивей быт, тем меньше разница между
будничной и праздничной одеждой. Жизнь молодежи на
лесозаготовках, война, послевоенное лихолетье, кочевая
вербовочная неустроенность свели на нет резкую и вполне
определенную границу между выходным одеянием и
будничным. Когда-то в неряшливом, грязном или оборванном
виде плясали только дурачки, пьяные забулдыги и
скоморохи, и тут была определенная направленность на
потеху и зубоскальство. Во времена лихолетья такие
выходы на круг, вначале как бы шуточные, становились
нормальным явлением, над пьяными плясунами перестали
смеяться. Скабрезная частушка в устах женщины, одетой в
штаны и ватник, звучит менее отвратительно, чем в устах
чисто и модно одетой женщины. Больше того, празднично
одетой женщине, может быть, вообще не захочется
паясничать...
Женская обувь в старину не отличалась
многообразием, одни и те же сапоги девушки носили и в
поле, и на гулянье. Особо искусные сапожники шили для
них башмаки или камаши. В семьях, где мужчины ходили на
заработки, у жен или сестер в конце прошлого века начали
появляться полусапожки — изящная фабричная обувь.
Платок и плетеная кружевная косынка, несмотря ни на
что, так и остались основным женским головным убором, ни
нэповские шляпки, ни береты тридцатых годов не смогли их
вытеснить.
Богатой и представительной считалась в
дореволюционной деревне крестьянка, имеющая муфту
(такую, в которой держит свои руки “Неизвестная”
Крамского). Полусапожки, пара, косынка, кашемировка
считались обязательным дополнением к приданому
полноценной невесты.
Едва ребенок начинал ползать, а затем и ходить
вдоль лавки, мать, сестра или бабушка шили ему одежду,
предпочтительно не из нового, а из старого, мягкого и
обношенного. Форма детской одежки целиком зависела от
прихоти мастерицы. Но чаще всего детская одежда и обувь
повторяли взрослую. Ребенок, одетый по-взрослому с
точностью до мельчайших деталей, вроде бы должен
вызывать чувство комического умиления. Но в том-то и
дело, что в крестьянской семье никогда не фамильярничали
с детьми. Оберегая от непосильного труда и постепенно
наращивая физические и нравственные тяжести,
родственники были с детьми серьезны и недвусмысленны.
Одинаковая со взрослыми одежда, одинаковые предметы
(например, маленький топорик, маленькая лопатка,
маленькая тележка) делали ребенка как бы
непосредственным и равноправным участником повседневной
крестьянской жизни. Чувство собственного достоинства и
серьезное отношение к миру закладывались именно таким
образом и в раннем детстве, но это отнюдь не мешало
детской беззаботности и непосредственности. Для детской
же фантазии в таких условиях открываются добавочные
возможности.
Одетый как взрослый, ребенок и жить старается как
взрослый. Преодолевая чувство зависти к более старшему,
получившему обнову, он гасит в своем сердечке искру
эгоизма. И конечно же, учится радоваться подарку,
привыкая к бережному любовному отношению к одежде. В
больших семьях обновы вообще были не очень часты. Одежда
(реже обувь) переходила от старшего к младшему.
Донашивание любой одежды считалось в крестьянской семье
просто необходимым. То, что было не очень нужным,
обязательно отдавали нищим. Выбрасывать считалось
грехом, как и покупать лишнее.
Василий Белов
1.

2.

3.

4.

5.
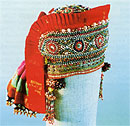
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Метки: одежда наряд традиция |
Процитировано 1 раз
изба крестьянская |
Изба крестьянская
Изба самая распространенная постройка потому,
как избы строили все крестьяне.
На первый взгляд изба - самая обыкновенная
постройка. Крестьянин, строя свое жилище, старался
сделать его прочным, теплым, удобным для жизни. Однако в
устройстве избы нельзя не увидеть свойственную русскому
народу потребность в красоте. Поэтому избы - это не
только памятники быта, но произведения архитектуры,
искусства. Но век избы недолог: отапливаемое жилище
редко может простоять более 100 лет. Жилые постройки
быстро ветшают, в них активнее идет процесс гниения
древесины, поэтому в основном самые старые избы
относятся к XIX веку. Но в связи с традиционностью
устройства жилищ избы XIX века дают некоторое
представления о более древних приемах строительства. И
во внешнем облике, и в интерьерах изб зачастую
сохраняются черты, свойственные постройкам XV - XVII
столетий и более ранних времен. Избу и другие
крестьянские постройки крестьянин обычно рубил сам или
нанимал опытных плотников. Собираясь строиться
крестьянин крестьянин рубил деревья поздней осенью или
ранней весной: к этому времени жизнь в дереве замирает,
последнее годичное кольцо приобретает твердую, наружную
оболочку, что предохраняет древесину от разрушения.
Прямо в лесу или возле деревни ставили сруб,
приготовленный вчерне - без окон и дверей который
разделялся на три части для просушки. А ранней весной
его перевозили в деревню и собирали. Эта работа
производилась обычно "помочью" ("толокой"). "Помочь"-
однодневная общественная бесплатная работа в пользу
одной крестьянской семьи. На строительство собиралась
вся деревня и даже округа. Об этом очень древнем обычае
говорится в старинной пословице: "Кто на помочь звал,
тот и сам иди". Для всей "помочи" крестьянин должен был
устроить угощение. В "Витославлицы" перевезены четыре
избы "мстинской" зоны.
Они относятся к типу жилищ, который был
сформирован в давние времена и широко распространен в
XIX веке во многих местах бывшей Новгородской губернии.
Подобные постройки можно встретить в деревнях,
расположенных от среднего до нижнего течения реки Меты,
в Приильменье, на территории Крестецкого и Валдайского
районов. Избы "мстинского" типа высокие, как бы
двухэтажные.
Первый этаж - подызбица, или подклет (подклеть),
низкий и холодный, был, как правило, нежилым. Здесь
обычно хранили квашеную капусту, соленые грибы, мед и
другие съестные припасы, а также имущество и различную
утварь. У каждого помещения - отдельный вход. Дома на
высоких подклетах строились в древние времена. В старину
селения располагались по рекам и озерам, которые во
время паводков выходили из берегов. Жилая часть
находилась наверху - подальше от сырости и снежных
сугробов. В новгородских берестяных грамотах не раз
упоминается подклеть. "Поклон от Семена к невестке моей.
Если не вспомнишь сама, то имей в виду, что солод у тебя
ржаной есть, лежит в подклети..." "Поклон от Сидорамк
Григорию. Что в подклети оленина, выдай сторожу в
церковь". Интересная архитектурная особенность изб
"мстинского" типа - галерея, по-местному "прикролек".
Она как бы подчеркивает деление дома на два этажа.
Назначение галереи - защита нижней части сруба от дождя.
В прикролеке на скамье можно было посидеть в сырую
погоду и в жаркий полдень, в ненастье высушить белье,
сохранить сухими дрова. Галереи были распространенным
элементом в древнерусском зодчестве. В деревнях
Новгородской области доныне можно увидеть дома,
опоясанные галереями. Конструкция крыши сохранила
архаические черты. В слеги врублены "курицы", или
"кокши", - крюки, сделанные чаще из молодых елей с
обработанным корневищем. На курицы уложены потоки -
водотечники. На потоки опирается тес, который
накладывается на слеги. Тесовая кровля прижимается к
верхней коньковой слеге тяжелым долбленым бревном -
охлупнем, венчающим кровлю. Комель охлупня -
естественное утолщение у корневища дерева - часто
обрабатывался в виде самых разных фигур. Нередко
деревенские мастера придавали ему форму конской головы.
Обычай венчать крышу фигурой коня относится еще к
языческому периоду. Конь - верный спутник
крестьянина-земледельца. У славян-язычников он был
символом светозарного солнца, счастья, богатства. Силуэт
кровли завершается деревянной трубой - "дымником". Для
выхода дыма в нем сделана орнаментальная прорезь, а
сверху он покрыт двухскатной крышей. Крыши, сделанные
"по старине", очень живописны, а главное, прочны - они
выдерживали любые ураганы. Изба Туницкого перевезена в
музей из деревни Пырищи Крестецкого района в 1975 году.
Точное время ее постройки установить не удалось, но по
ряду признаков избу можно датировать 70-90-ми годами XIX
века. Ей присущи характерные особенности жилых строений
"мстинской" зоны - высокий подклет, галерея,
двухъярусный двор и так называемый передок ("каретник").
В этом доме все компактно и цельно, все приспособлено
для ведения хозяйства. Двухэтажный двор, размеры
которого намного больше жилого помещения, прирублен к
жилью. Срубы - под одной кровлей: и в дождь, и в стужу,
не выходя на улицу, можно было обслужить ("обрядить")
скот, выполнить другие работы. Конек крыши находится не
над серединой постройки, а проходит по оси жилой части
дома. Поэтому скаты кровли неодинаковы: один длинный, а
другой короткий. Длинный скат пролегает над пристройкой,
где расположен передок. Лестница ведет в сени, откуда
хорошо виден хозяйственный двор. Он устроен на двух
массивных столбах, поддерживающих коньковую слегу крыши,
а по боковой линии установлены такие же столбы, но
меньшей высоты. Первый этаж с двумя хлевами отведен под
скотный двор. Во дворе - сельскохозяйственные орудия:
сохи, бороны, лопаты и пр. Наверху - просторный сарай,
где хранились сено, солома, а также всевозможные орудия
и предметы домашнего хозяйства. В летнее время там
стояли кровати под пологом. В душную ночь это было
лучшее место для сна. В сенях находятся ведра,
коромысла, кадки, бочки, а также приспособления для
стирки белья в речках и озерах - вальки, палицы, или
кичиги. В шкафчике из лучины хранились молочные
продукты: благодаря естественной вентиляции молоко в них
долго не скисало. Переступив высокий порог, окажемся
внутри жилья. Обстановка избы отвечает образу жизни
крестьянской семьи. Здесь все предельно скромно, строго
и целесообразно. Большая печь топилась "по-черному".
Кроме нее, все оборудование избы состоит из встроенной в
сруб мебели. Вдоль трех стен тянутся лавки, опирающиеся
на широкие дощатые ножки - подставки. Над лавками под
потолком устроены полки - полавочники. Они защищали низ
стен и лавки от сажи. Над низкими дверьми - тесовые
полати, на которых обычно спали дети. Место около печи -
"бабий кут" - отделено невысокой дощатой заборкой. Все
основные элементы жилища-полати, лавки, полки -
существовали на Руси с давних времен. Старинные описи и
Писцовые книги упоминают о них в XVI-XVII веках.
Археологические раскопки показали, что в домах древнего
Новгорода встроенная мебель была уже в Х - XI веках.
Стены - из гладко обтесанных бревен. Углы же до конца не
стесаны, а оставлены круглыми, чтобы зимой не
промерзали. Про круглые углы в народе сложена загадка:
"На улице рогато, а в избе гладко". Действительно,
снаружи углы рублены "в обло с остатком" - "рогатые",
внутри тщательно обработанные - гладкие. Пол и потолок
настланы из пластин: на потолке горбылями вверх, на полу
горбылями вниз. Поперек избы проходит массивная балка -
"матица", служащая опорой для потолочин. В избе каждое
место имело определенное назначение. На лавке у входа
работал и отдыхал хозяин, напротив входа - красная,
парадная лавка, между ними - лавка для прях. На полках
хозяин хранил инструмент, а хозяйка - пряжу, веретена,
иглы и пр. На ночь дети забирались на полати, взрослые
же располагались на лавках, на полу, старики - на печи.
Постели убирали на полати после того, как протопят печь
и веником обметут с них сажу. В красном углу под
божницей - место для обеденного стола. Удлиненная,
сделанная из хорошо обструганных и подогнанных досок
крышка стола - столешница - покоится на массивных
точеных ножках, которые установлены на полозья. Полозья
позволяли легко передвигать стол по избе. Его ставили к
печи, когда пекли хлеб, перемещали во время мытья пола и
стен. На лавке, где пряли женщины, стоят массивные
прялки. Деревенские мастера делали их из части дерева с
корневищем, украшали резьбой. Местные названия прялок из
корня - "копанки", "керенки", "корневухи". Дом Туницкого
относится к типу/изб, которые назывались в народе
"пряхами". Здесь пёчь - налево, а лавки, сидя на которых
"к свету" удобно прясть, - направо. Если этот порядок
нарушайся, избу называли "непряхой". В старину в каждой
крестьянской семье были коробейку-лубяные сундучки с
закругленными углами. В них хранили семейные/ценности,
одежду, приданое. ("Дочку в колыбельку, приданое в
коробейку"). На гибкой жерди - очепе - висит лубяная
колыбелька (зыбка) под домотканым пологом. Обычно
крестьянка, качая зыбку за петлю ногой, выполняла
какую-либо работу, пряла, шила, вышивала. Про такую
зыбку на очепе в народе сложена загадка: "Без рук, без
ног, а кланяется". Ближе к окну помещали ткацкий стан,
или "кросна". Без этого несложного, но очень мудрого
приспособления была немыслима жизнь крестьянской семьи:
ведь все от мала до велика носили домотканую одежду.
Обычно ткацкий стан входил в приданое невесты. Вечером
избы освещались лучиной, которая вставлялась в светец,
установленный на деревянное основание. Печь на рубленом
деревянном помосте ("опечке") выходит устьем к окну. На
выступающей ее части - шестке - теснятся горшки для
каши, щей и другой нехитрой крестьянской пищи. Рядом с
печкой устроен шкафчик для посуды. На длинных полках
вдоль стен - кринки для молока, глиняные и деревянные
миски, солонки и т. д. Очень рано оживала крестьянская
изба. Прежде всех вставала "домаха", или "большуха",-
жена хозяина, если была еще не стара, или одна из
невесток. Она затопляла печь, открывала настежь дверь и
дымарь (отверстие для выхода дыма). Дым и холод
поднимали всех. Малых ребят сажали греться на шесток.
Едкий дым наполнял всю избу, полз кверху, висел под
потолком выше человеческого роста. Но вот печь
протоплена, закрыты дверь и дымарь - ив избе тепло. Все
как в древней русской пословице, известной с XIII века:
"Дымные горести не терпев, тепла не видали". "Черные"
печи ставили в деревнях до XIX века. С 1860-х годов
появились печи "белые", в основном же новгородские
деревни перешли на топку "по-белому" с 80-х годов
прошлого столетия, но и в начале XX века в Новгородской
губернии еще встречались курные бедняцкие избы. Черные
печи были дешевы, на топку их уходило мало дров, а
прокопченные бревна домов меньше подвергались гниению.
Этим и объясняется долговечность курных жилищ. Дым,
копоть, холод во время топки печи доставляли обитателям
дома много неприятностей. Земские врачи отмечали в
Новгородской губернии болезни глаз и легких у жителей
"черных" изб. В стужу в крестьянской избе зачастую
помещали домашнюю живность - телят, ягнят, поросят.
Зимой в подпечье сажали кур. В избе в свободное от
полевых работ время крестьяне занимались различными
ремеслами - плели лапти, лукошки, мяли кожи, шили
сапоги, сбрую и т. д. Неплодородной была новгородская
земля. Своего хлеба крестьянской семье зачастую хватало
только до половины зимы, и его покупали на деньги,
вырученные от продажи различных изделий. Особенно в
новгородском лесном краю была распространена обработка
дерева ("Лесная сторона не только одного волка, а и
мужичка накормит"). Древоделы гнули дуги, вырезали ложки
и миски, делали сани, телеги и т. п. Бондари из еловой и
дубовой клепки изготовляли ведра, кадки, шайки и другие
изделия. В старину бондарным ремеслом занимались многие
жители деревни Пырищи. В 1978 году из деревни Пырищи
Крестецкого района перевезена изба Царевой. Это самый
старый дом среди тех, которые уже находятся в музее.
Вероятно, изба рублена в первой половине XIX века.
Постройка несколько раз капитально перебиралась. поэтому
ее первоначальные формы угадывались с трудом. Однако при
разборке дома были выявлены многие элементы, например
волоковое окно, лавки и другие. Реставрация этой избы
откроет еще одну интересную страницу жилого зодчества.
Изба Шкиперева перевезена из старинной деревни Частова
Новгородского района, расположенной в живописной
местности на левом берегу реки Меты. Этот дом выделялся
маленькими размерами и ветхостью... Большая часть нижних
венцов сгнила, избушка утратила подклеть, осела и
покосилась. Дверь в подызбицу вросла в землю. Была
переделана кровля, не стало прикролека, исчез двор. Но,
несмотря на утраты и искажения, изба сохранила черты
традиционной народной архитектуры- самцовую, с большим
выносом вперед кровлю, нарядный, прекрасно сохранившийся
балкон, остатки большого двора, следы галереи. Эту избу
зафиксировал в 1963 году архитектор А. А. Шалькович, в
1974-м обследовал Л. Е. Красноречьев. По рассказу
крестьянина из деревни Частова, последнего владельца
этого дома Павла Антоновича Шкипареве, он был построен
при его деде, Василии Егоровиче Шкипареве. На основе
этого, а также по архитектурным формам и конструкциям
время строительства этой избы можно отнести к 80-м годам
XIX века. Старожилы помнят, что прежде таких домов в
Частове было несколько. В музей памятник перевезли летом
1975 года. После реставрации постройке возвращен
первоначальный облик. По своей
архитектурно-композиционной планировке эта изба близка к
дому Туницкого. Такое же высокое строение на подклети,
только вход в нижнее помещение расположен не спереди, а
слева. Двор, но меньших размеров (соответствует
маленькому жилищу), также устроен на столбах и примыкает
сзади к жилью. Кровля старинной конструкции. Курное,
тесное, темное жилище трудно было украсить, и поэтому
талант, художественный вкус крестьянина выражался в
убранстве фасада дома. Пример тому-изба Шкипарева. Ее
украшают нарядный балкончик с фигурными перилами
("балясинами"), ажурные причелины и полотенца. Фрагменты
причелин были обнаружены при разборке дома, они
послужили образцами для изготовления новых. Балкончик
опирается на выпуски четырех верхних бревен сруба.
Галерея, опоясывающая постройку с двух сторон, и высокое
крылечко с крутыми ступенями придают избе уютный,
гостеприимный вид. Жилое помещение небольшое - всего 5,5
Х 5,5 м. Убранство его традиционно и, несмотря на
простоту и скромность, по-своему красиво и благородно.
По хорошо сохранившимся следам воссоздана встроенная
мебель: полати, лавки, полки-полавочки. Обжитой вид
придают избе первоначальные дощатая заборка и посудные
полки. Как и в любой избе, главное место в ней отведено
печи. В руках искусного мастера она получила пластичные
формы. Ее массивное тело ритмично членят выемки-печурки.
Неотъемлемая часть интерьера - обеденный стол. Он, по
словам П. А. Шкипарева, всегда стоял в этой избе.
Возможно, стол - ровесник постройки. Столешница сделана
из двух широких, тщательно обструганных досок, которые
пригнаны друг к другу так плотно, что трудно найти стык
между ними. У стола - грузное подстолье с выдвижным
ящиком и точеные ножки, связанные по низу рамой. По
мнению специалистов, такие столы, сделанные деревенскими
мастерами, схожи по форме с известными петровскими
столами XVII -XVIII веков. В избе представлена
интересная коллекция берестяных изделий. Они стоят на
своих привычных местах. Издавна в народе известна
пословица: "Кабы не липа да береста, так мужик бы
рассыпался". Она говорит о большой популярности в народе
этих материалов. Кошели, туеса, корзины, лапти и многие
другие изделия использовались в быту любой крестьянской
семьи. Одна из самых массовых археологических находок в
Новгороде - остатки берестяных сосудов, причем форма и
техника изготовления предметов из бересты, обнаруженных
в археологических слоях, близка, а иногда полностью
совпадает с теми, которые мастера делали в XIX - первой
половине XX века. На кухне находятся два туеса - это
берестяная посуда цилиндрической формы, сделанная из
цельного куска коры березы, с деревянным донышком и
крышкой. В туесах носили молоко, квас, соленья. Двойной
слой бересты - хорошая термоизоляция, поэтому в туесах
жидкости долго оставались холодными, а молоко дольше не
скисало. В Новгородской губернии наиболее было развито
плетение из полос коры березы. На выставке представлены
разнообразные изделия, выполненные в технике прямого и
косого плетения, - лукошки, хлебницы, солонки, ложечник
(небольшой плетеный короб, где хранятся ложки). В памяти
народа живы имена многих новгородских мастеров плетения
первой половины XX века. Среди них А. А. Андреев из
деревни Окатово Новгородского района (1880 года
рождения), М. Н. Девяткин из деревни Никулино
Любытинского района, И. Е. Кучеров из деревни Сутоки
Окуловского района (1891 года рождения) и многие другие.
Отец последнего владельца этой избы Антон Васильевич
Шкипарев славился в деревне как мастер плетения из
березового и липового лыка. В сенях хранится берестяное
лукошко его работы. Особый интерес представляют
берестяные вещи крестьянина Андриана Антиповича Антипова
из деревни Смолино Любытинского района. Его изделия
отличаются выдумкой и изобретательностью. Он плел из
бересты футляры для книг и очков, сумки и даже плащи,
оплетал ею самые разнообразные предметы-чайник, посох,
свирели и пр. В кухне можно увидеть глиняную посуду в
"одежде" из бересты - экономные хозяева не выбрасывали
треснувшие горшки, корчаги, миски, а оплетали их для
прочности полосами березовой коры. Этот обычай, по
данным археологических раскопок, пришел из глубокой
древности. В сенях и на сеннике размещены разнообразные
предметы крестьянского быта. На стене висят кошели -
заплечные короба с крышками и лямками. В них ходили на
покос и жатву, в лес за ягодами и грибами, в кошелях
носили хлеб, рыбу и прочие продукты. А в лукошках -
плетеных берестяных кузовах - чего только не держали -
муку, зерно, льняное семя, лук, яйца... Сыпучие продукты
хранили также в бутыле-образных плетеных сосудах. Севня
- лукошко с петлей из лыка - была в каждой крестьянской
избе. Ее использовали для ручного посева зерна и
льняного семени. В каждом хозяйстве были и берестяные
лопаточники - футляры для деревянных лопаток или
каменных брусков для заточки кос. Хотя все изделия из
бересты имели практическое назначение, народные мастера
выявляли естественную красоту материала, использовали
богатую цветовую гамму березовой коры, находили
интересные формы, часто украшали изделия орнаментом.
Кроме изделий из бересты на выставке представлены
предметы крестьянского быта, плетенные из елового и
можжевелового корня: солонки, корзина-"коренка", сосуды
самой различной формы, вместимости и назначения.
Интересные экспонаты - куриные гнезда, сплетенные из
жгутов соломы. Искусство плетения бытовых изделий из
бересты и корня просуществовало в Новгородской области
до 30-х, а в некоторых местах - до 50-х годов XX
столетия. Изготовление плетеных предметов резко пошло на
убыль в связи с широким проникновением в деревню
промышленных товаров. Сейчас на Новгородчине трудно
найти мастера, который помнил бы секреты этого ремесла.
Изба Екимовой из деревни Рышево - первая жилая
постройка, перевезенная в музей в 1969 году. Деревня
Рышево расположена в Новгородском районе, на левом
берегу реки Меты, в нижнем ее течении. Это типичный дом
"мстинского" типа со всеми его признаками - высокой
подызбицей, балконом, каретником, галереей. Вероятно, он
срублен во второй половине XIX века. Изба привлекает
богатым декоративным убранством. Фронтон оживляется
нарядным балконом, фигурный балясник которого вставлен в
брусья, покрытые сплошной резьбой. Балкон здесь
выполняет декоративную роль, хотя в более древних избах
он имел и практическое значение. Главное убранство избы
- окна с богато украшенными наличниками. Верх их
выполнен в виде двух завитков - волют. Этот элемент
каменного зодчества стиля барокко крестьянские мастера
заимствовали из архитектуры Петербурга, куда они нередко
уходили на заработки. Барочные элементы не создают
ощущения инородности, они органично включаются в
традиционный наряд рубленой избы. С двух сторон дом
опоясывает галерея, крыша которой установлена на резных
столбиках. Как обычно, в прикролеке устроены скамьи для
отдыха. Справа от крыльца, со стороны улицы, - въезд во
двор. Устройству ворот деревенский мастер придавал
большое значение. Ворота во двор в рышевской избе
обработаны в виде арки. С правой стороны дома между
избой и каретником-крылечко, покрытое односкатной крышей
на резных столбиках. Через калитку в красивом арочном
проеме можно пройти на лестницу, а затем через сени в
избу. Рышевская изба - "белая". Большая русская печь с
дымоходом сохранила многие черты своей курной
предшественницы. Она покоится на брусчатом опечке,
устроенном на полу, и поддерживается двумя столбами,
находящимися в подклети. Печь обогревала избу, служила
для приготовления пищи, сохраняла ее горячей. На ней
сушили продукты, мокрую одежду, обувь, а в
печурках-носки и рукавицы. Печь, как и баня, была
испытанным средством от простуды и других болезней.
Интерьер "белой" избы светлее и наряднее, чем "черной",
но основные его детали такие же, как и в курном жилище.
Мебель по традиции встроена в сруб, все те же полати,
лавки. А вот полка проходит только вдоль одной боковой
стены и служит в "белой" избе лишь для хранения разной
домашней утвари. "Белая" изба более красочна. Посудный
шкаф расписан цветочными мотивами. По обычаю в красном
углу под божницей, украшенной вышитым полотенцем, стоял
обеденный стол. Он традиционной формы. Широкая дубовая
столешница не окрашена, остальные детали стола красного
и темно-зеленого цветов, подстолье расписано фигурками
зверей и птиц. Особой гордостью хозяек были точеные,
резные и расписные прялки, которые обычно ставили на
видное место: они служили не только орудием труда, но и
украшением жилища. В XIX веке во многих местах
Новгородской губернии были распространены
прялки-"золоченки". Их образцы представлены в этой избе.
Обычно с нарядными прялками крестьянские девушки ходили
на "посидки", или "посиделки", - веселые сельские
сборища. О том, как славились прялки-"золоченки" среди
молодежи, пелось в задорной частушке: . "Белая" изба
убрана предметами домашнего ткачества. Полати и лежанку
закрывают цветные занавеси из льняной клетчатины. На
окнах - занавески из домотканой кисеи, подоконники
украшает милая крестьянскому сердцу герань. Особенно
тщательно убиралась изба к праздникам: женщины мыли с
песком и скоблили добела большими ножами - "косарями" -
потолок, стены, лавки, полки, полати. Русский крестьянин
не белил и не оклеивал стены - не прятал природную
красоту дерева. Хозяйственный двор рышевской избы -
двухэтажный. Вверху-сенник, внизу-два хлева для скота и
место для земледельческих орудий. Там находятся соха,
борона, деревянные вилы и т, д. Сейчас на втором этаже,
на месте сенника размещена выставка "Орудия обработки
льна". С давних пор на новгородской земле лен - одна из
главных сельскохозяйственных культур. Процесс его
обработки был трудоемким и выполнялся исключительно
женщинами. Для этого использовались ручные, довольно
примитивные приспособления; обычно их изготовляли сами
крестьяне. А более сложные, например самопряхи, покупали
на базарах или заказывали мастерам. Созревший лен
вручную дергали (теребили), сушили и обмолачивали
вальками и цепами. Чтобы удалить вещества, склеивающие
волокна, обмолоченные льняные стебли в сентябре -
октябре расстилали на две-три недели на лугу или
вымачивали в болотах, низинах, ямах, а потом сушили в
ригах. Высушенный лен мяли на льномялках, чтобы
отколотить кострику (твердую основу) от волокон. На
выставке можно увидеть щелевую мялку, сделанную из
дерева с корнем, - корневку. Массивный корень здесь
служил опорой ("ногами"). Момент работы на мялке передан
в загадке: "Из года в год беззубая баба кости грызет".
Потом лен освобождали от кострики специальными
деревянными лопаточками с короткой ручкой и удлиненной
рабочей частью-трепалами. Чтобы расправить волокна в
одном направлении, их чесали деревянными гребнями,
металлической "щетью" или свиной щетиной, а иногда
использовали даже шкуру ежа - получалась шелковистая, с
мягким блеском кудель. С ноября лен пряли ручным
способом с помощью прялок и веретен. Реже в Новгородской
губернии использовались самопряхи. Искусство прядения,
требовавшее проворства и большого терпения, крестьянские
девочки постигали с шести-семилетнего возраста, тогда же
им дарили прялки. Напряденные нити перематывались с
веретен на мотовилах в мотки, которые затем белили или
красили. Подготовка основы-продольных нитей ткани-для
ткацкого стана производилась с помощью воробы, а с
воробы ее перематывали на лубки, или вьюшки. Для утка -
поперечных нитей ткани - пряжу сучили на деревянные или
берестяные трубочки - цевки, используя скально (от слова
"екать"-свивать). Весной ткацкий стан обычно вносили в
избу и ткали белый холст и разную цветную домотканину. С
утра до вечера мелькали проворные руки мастериц, быстро
двигая челнок с нитью утка. Обычно ткачеством занимались
в девичестве. До замужества девушка должна была напрясть
и наткать себе приданое к свадьбе да еще на подарки
родне. Возле рышевской избы - колодец с журавлем.
Его срубили по старинному образцу зимой 1971 года.
Глубина колодца-6,5 м. Деревянным ведром из него можно
зачерпнуть вкусной воды. Рядом с избой из деревни Рышево
находится амбар, рубленный, вероятно, в конце XIX века.
В деревне Хвощник Боровичского района, откуда его
привезли в июле 1978 года, он стоял так, чтобы хозяин
мог видеть его из окон дома. Так же амбар расположили и
в музее. Это - небольшой сруб, крытый на два ската.
Кровля имеет слеговую конструкцию. Небольшой навес крыши
над стеной, где прорублена дверь, покоится на помочах.
Амбар служил складским помещением, поэтому не имеет
окон. В закромах (сусеках, засеках) стен хранилось
главное крестьянское добро - зерно и мука.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Изба самая распространенная постройка потому,
как избы строили все крестьяне.
На первый взгляд изба - самая обыкновенная
постройка. Крестьянин, строя свое жилище, старался
сделать его прочным, теплым, удобным для жизни. Однако в
устройстве избы нельзя не увидеть свойственную русскому
народу потребность в красоте. Поэтому избы - это не
только памятники быта, но произведения архитектуры,
искусства. Но век избы недолог: отапливаемое жилище
редко может простоять более 100 лет. Жилые постройки
быстро ветшают, в них активнее идет процесс гниения
древесины, поэтому в основном самые старые избы
относятся к XIX веку. Но в связи с традиционностью
устройства жилищ избы XIX века дают некоторое
представления о более древних приемах строительства. И
во внешнем облике, и в интерьерах изб зачастую
сохраняются черты, свойственные постройкам XV - XVII
столетий и более ранних времен. Избу и другие
крестьянские постройки крестьянин обычно рубил сам или
нанимал опытных плотников. Собираясь строиться
крестьянин крестьянин рубил деревья поздней осенью или
ранней весной: к этому времени жизнь в дереве замирает,
последнее годичное кольцо приобретает твердую, наружную
оболочку, что предохраняет древесину от разрушения.
Прямо в лесу или возле деревни ставили сруб,
приготовленный вчерне - без окон и дверей который
разделялся на три части для просушки. А ранней весной
его перевозили в деревню и собирали. Эта работа
производилась обычно "помочью" ("толокой"). "Помочь"-
однодневная общественная бесплатная работа в пользу
одной крестьянской семьи. На строительство собиралась
вся деревня и даже округа. Об этом очень древнем обычае
говорится в старинной пословице: "Кто на помочь звал,
тот и сам иди". Для всей "помочи" крестьянин должен был
устроить угощение. В "Витославлицы" перевезены четыре
избы "мстинской" зоны.
Они относятся к типу жилищ, который был
сформирован в давние времена и широко распространен в
XIX веке во многих местах бывшей Новгородской губернии.
Подобные постройки можно встретить в деревнях,
расположенных от среднего до нижнего течения реки Меты,
в Приильменье, на территории Крестецкого и Валдайского
районов. Избы "мстинского" типа высокие, как бы
двухэтажные.
Первый этаж - подызбица, или подклет (подклеть),
низкий и холодный, был, как правило, нежилым. Здесь
обычно хранили квашеную капусту, соленые грибы, мед и
другие съестные припасы, а также имущество и различную
утварь. У каждого помещения - отдельный вход. Дома на
высоких подклетах строились в древние времена. В старину
селения располагались по рекам и озерам, которые во
время паводков выходили из берегов. Жилая часть
находилась наверху - подальше от сырости и снежных
сугробов. В новгородских берестяных грамотах не раз
упоминается подклеть. "Поклон от Семена к невестке моей.
Если не вспомнишь сама, то имей в виду, что солод у тебя
ржаной есть, лежит в подклети..." "Поклон от Сидорамк
Григорию. Что в подклети оленина, выдай сторожу в
церковь". Интересная архитектурная особенность изб
"мстинского" типа - галерея, по-местному "прикролек".
Она как бы подчеркивает деление дома на два этажа.
Назначение галереи - защита нижней части сруба от дождя.
В прикролеке на скамье можно было посидеть в сырую
погоду и в жаркий полдень, в ненастье высушить белье,
сохранить сухими дрова. Галереи были распространенным
элементом в древнерусском зодчестве. В деревнях
Новгородской области доныне можно увидеть дома,
опоясанные галереями. Конструкция крыши сохранила
архаические черты. В слеги врублены "курицы", или
"кокши", - крюки, сделанные чаще из молодых елей с
обработанным корневищем. На курицы уложены потоки -
водотечники. На потоки опирается тес, который
накладывается на слеги. Тесовая кровля прижимается к
верхней коньковой слеге тяжелым долбленым бревном -
охлупнем, венчающим кровлю. Комель охлупня -
естественное утолщение у корневища дерева - часто
обрабатывался в виде самых разных фигур. Нередко
деревенские мастера придавали ему форму конской головы.
Обычай венчать крышу фигурой коня относится еще к
языческому периоду. Конь - верный спутник
крестьянина-земледельца. У славян-язычников он был
символом светозарного солнца, счастья, богатства. Силуэт
кровли завершается деревянной трубой - "дымником". Для
выхода дыма в нем сделана орнаментальная прорезь, а
сверху он покрыт двухскатной крышей. Крыши, сделанные
"по старине", очень живописны, а главное, прочны - они
выдерживали любые ураганы. Изба Туницкого перевезена в
музей из деревни Пырищи Крестецкого района в 1975 году.
Точное время ее постройки установить не удалось, но по
ряду признаков избу можно датировать 70-90-ми годами XIX
века. Ей присущи характерные особенности жилых строений
"мстинской" зоны - высокий подклет, галерея,
двухъярусный двор и так называемый передок ("каретник").
В этом доме все компактно и цельно, все приспособлено
для ведения хозяйства. Двухэтажный двор, размеры
которого намного больше жилого помещения, прирублен к
жилью. Срубы - под одной кровлей: и в дождь, и в стужу,
не выходя на улицу, можно было обслужить ("обрядить")
скот, выполнить другие работы. Конек крыши находится не
над серединой постройки, а проходит по оси жилой части
дома. Поэтому скаты кровли неодинаковы: один длинный, а
другой короткий. Длинный скат пролегает над пристройкой,
где расположен передок. Лестница ведет в сени, откуда
хорошо виден хозяйственный двор. Он устроен на двух
массивных столбах, поддерживающих коньковую слегу крыши,
а по боковой линии установлены такие же столбы, но
меньшей высоты. Первый этаж с двумя хлевами отведен под
скотный двор. Во дворе - сельскохозяйственные орудия:
сохи, бороны, лопаты и пр. Наверху - просторный сарай,
где хранились сено, солома, а также всевозможные орудия
и предметы домашнего хозяйства. В летнее время там
стояли кровати под пологом. В душную ночь это было
лучшее место для сна. В сенях находятся ведра,
коромысла, кадки, бочки, а также приспособления для
стирки белья в речках и озерах - вальки, палицы, или
кичиги. В шкафчике из лучины хранились молочные
продукты: благодаря естественной вентиляции молоко в них
долго не скисало. Переступив высокий порог, окажемся
внутри жилья. Обстановка избы отвечает образу жизни
крестьянской семьи. Здесь все предельно скромно, строго
и целесообразно. Большая печь топилась "по-черному".
Кроме нее, все оборудование избы состоит из встроенной в
сруб мебели. Вдоль трех стен тянутся лавки, опирающиеся
на широкие дощатые ножки - подставки. Над лавками под
потолком устроены полки - полавочники. Они защищали низ
стен и лавки от сажи. Над низкими дверьми - тесовые
полати, на которых обычно спали дети. Место около печи -
"бабий кут" - отделено невысокой дощатой заборкой. Все
основные элементы жилища-полати, лавки, полки -
существовали на Руси с давних времен. Старинные описи и
Писцовые книги упоминают о них в XVI-XVII веках.
Археологические раскопки показали, что в домах древнего
Новгорода встроенная мебель была уже в Х - XI веках.
Стены - из гладко обтесанных бревен. Углы же до конца не
стесаны, а оставлены круглыми, чтобы зимой не
промерзали. Про круглые углы в народе сложена загадка:
"На улице рогато, а в избе гладко". Действительно,
снаружи углы рублены "в обло с остатком" - "рогатые",
внутри тщательно обработанные - гладкие. Пол и потолок
настланы из пластин: на потолке горбылями вверх, на полу
горбылями вниз. Поперек избы проходит массивная балка -
"матица", служащая опорой для потолочин. В избе каждое
место имело определенное назначение. На лавке у входа
работал и отдыхал хозяин, напротив входа - красная,
парадная лавка, между ними - лавка для прях. На полках
хозяин хранил инструмент, а хозяйка - пряжу, веретена,
иглы и пр. На ночь дети забирались на полати, взрослые
же располагались на лавках, на полу, старики - на печи.
Постели убирали на полати после того, как протопят печь
и веником обметут с них сажу. В красном углу под
божницей - место для обеденного стола. Удлиненная,
сделанная из хорошо обструганных и подогнанных досок
крышка стола - столешница - покоится на массивных
точеных ножках, которые установлены на полозья. Полозья
позволяли легко передвигать стол по избе. Его ставили к
печи, когда пекли хлеб, перемещали во время мытья пола и
стен. На лавке, где пряли женщины, стоят массивные
прялки. Деревенские мастера делали их из части дерева с
корневищем, украшали резьбой. Местные названия прялок из
корня - "копанки", "керенки", "корневухи". Дом Туницкого
относится к типу/изб, которые назывались в народе
"пряхами". Здесь пёчь - налево, а лавки, сидя на которых
"к свету" удобно прясть, - направо. Если этот порядок
нарушайся, избу называли "непряхой". В старину в каждой
крестьянской семье были коробейку-лубяные сундучки с
закругленными углами. В них хранили семейные/ценности,
одежду, приданое. ("Дочку в колыбельку, приданое в
коробейку"). На гибкой жерди - очепе - висит лубяная
колыбелька (зыбка) под домотканым пологом. Обычно
крестьянка, качая зыбку за петлю ногой, выполняла
какую-либо работу, пряла, шила, вышивала. Про такую
зыбку на очепе в народе сложена загадка: "Без рук, без
ног, а кланяется". Ближе к окну помещали ткацкий стан,
или "кросна". Без этого несложного, но очень мудрого
приспособления была немыслима жизнь крестьянской семьи:
ведь все от мала до велика носили домотканую одежду.
Обычно ткацкий стан входил в приданое невесты. Вечером
избы освещались лучиной, которая вставлялась в светец,
установленный на деревянное основание. Печь на рубленом
деревянном помосте ("опечке") выходит устьем к окну. На
выступающей ее части - шестке - теснятся горшки для
каши, щей и другой нехитрой крестьянской пищи. Рядом с
печкой устроен шкафчик для посуды. На длинных полках
вдоль стен - кринки для молока, глиняные и деревянные
миски, солонки и т. д. Очень рано оживала крестьянская
изба. Прежде всех вставала "домаха", или "большуха",-
жена хозяина, если была еще не стара, или одна из
невесток. Она затопляла печь, открывала настежь дверь и
дымарь (отверстие для выхода дыма). Дым и холод
поднимали всех. Малых ребят сажали греться на шесток.
Едкий дым наполнял всю избу, полз кверху, висел под
потолком выше человеческого роста. Но вот печь
протоплена, закрыты дверь и дымарь - ив избе тепло. Все
как в древней русской пословице, известной с XIII века:
"Дымные горести не терпев, тепла не видали". "Черные"
печи ставили в деревнях до XIX века. С 1860-х годов
появились печи "белые", в основном же новгородские
деревни перешли на топку "по-белому" с 80-х годов
прошлого столетия, но и в начале XX века в Новгородской
губернии еще встречались курные бедняцкие избы. Черные
печи были дешевы, на топку их уходило мало дров, а
прокопченные бревна домов меньше подвергались гниению.
Этим и объясняется долговечность курных жилищ. Дым,
копоть, холод во время топки печи доставляли обитателям
дома много неприятностей. Земские врачи отмечали в
Новгородской губернии болезни глаз и легких у жителей
"черных" изб. В стужу в крестьянской избе зачастую
помещали домашнюю живность - телят, ягнят, поросят.
Зимой в подпечье сажали кур. В избе в свободное от
полевых работ время крестьяне занимались различными
ремеслами - плели лапти, лукошки, мяли кожи, шили
сапоги, сбрую и т. д. Неплодородной была новгородская
земля. Своего хлеба крестьянской семье зачастую хватало
только до половины зимы, и его покупали на деньги,
вырученные от продажи различных изделий. Особенно в
новгородском лесном краю была распространена обработка
дерева ("Лесная сторона не только одного волка, а и
мужичка накормит"). Древоделы гнули дуги, вырезали ложки
и миски, делали сани, телеги и т. п. Бондари из еловой и
дубовой клепки изготовляли ведра, кадки, шайки и другие
изделия. В старину бондарным ремеслом занимались многие
жители деревни Пырищи. В 1978 году из деревни Пырищи
Крестецкого района перевезена изба Царевой. Это самый
старый дом среди тех, которые уже находятся в музее.
Вероятно, изба рублена в первой половине XIX века.
Постройка несколько раз капитально перебиралась. поэтому
ее первоначальные формы угадывались с трудом. Однако при
разборке дома были выявлены многие элементы, например
волоковое окно, лавки и другие. Реставрация этой избы
откроет еще одну интересную страницу жилого зодчества.
Изба Шкиперева перевезена из старинной деревни Частова
Новгородского района, расположенной в живописной
местности на левом берегу реки Меты. Этот дом выделялся
маленькими размерами и ветхостью... Большая часть нижних
венцов сгнила, избушка утратила подклеть, осела и
покосилась. Дверь в подызбицу вросла в землю. Была
переделана кровля, не стало прикролека, исчез двор. Но,
несмотря на утраты и искажения, изба сохранила черты
традиционной народной архитектуры- самцовую, с большим
выносом вперед кровлю, нарядный, прекрасно сохранившийся
балкон, остатки большого двора, следы галереи. Эту избу
зафиксировал в 1963 году архитектор А. А. Шалькович, в
1974-м обследовал Л. Е. Красноречьев. По рассказу
крестьянина из деревни Частова, последнего владельца
этого дома Павла Антоновича Шкипареве, он был построен
при его деде, Василии Егоровиче Шкипареве. На основе
этого, а также по архитектурным формам и конструкциям
время строительства этой избы можно отнести к 80-м годам
XIX века. Старожилы помнят, что прежде таких домов в
Частове было несколько. В музей памятник перевезли летом
1975 года. После реставрации постройке возвращен
первоначальный облик. По своей
архитектурно-композиционной планировке эта изба близка к
дому Туницкого. Такое же высокое строение на подклети,
только вход в нижнее помещение расположен не спереди, а
слева. Двор, но меньших размеров (соответствует
маленькому жилищу), также устроен на столбах и примыкает
сзади к жилью. Кровля старинной конструкции. Курное,
тесное, темное жилище трудно было украсить, и поэтому
талант, художественный вкус крестьянина выражался в
убранстве фасада дома. Пример тому-изба Шкипарева. Ее
украшают нарядный балкончик с фигурными перилами
("балясинами"), ажурные причелины и полотенца. Фрагменты
причелин были обнаружены при разборке дома, они
послужили образцами для изготовления новых. Балкончик
опирается на выпуски четырех верхних бревен сруба.
Галерея, опоясывающая постройку с двух сторон, и высокое
крылечко с крутыми ступенями придают избе уютный,
гостеприимный вид. Жилое помещение небольшое - всего 5,5
Х 5,5 м. Убранство его традиционно и, несмотря на
простоту и скромность, по-своему красиво и благородно.
По хорошо сохранившимся следам воссоздана встроенная
мебель: полати, лавки, полки-полавочки. Обжитой вид
придают избе первоначальные дощатая заборка и посудные
полки. Как и в любой избе, главное место в ней отведено
печи. В руках искусного мастера она получила пластичные
формы. Ее массивное тело ритмично членят выемки-печурки.
Неотъемлемая часть интерьера - обеденный стол. Он, по
словам П. А. Шкипарева, всегда стоял в этой избе.
Возможно, стол - ровесник постройки. Столешница сделана
из двух широких, тщательно обструганных досок, которые
пригнаны друг к другу так плотно, что трудно найти стык
между ними. У стола - грузное подстолье с выдвижным
ящиком и точеные ножки, связанные по низу рамой. По
мнению специалистов, такие столы, сделанные деревенскими
мастерами, схожи по форме с известными петровскими
столами XVII -XVIII веков. В избе представлена
интересная коллекция берестяных изделий. Они стоят на
своих привычных местах. Издавна в народе известна
пословица: "Кабы не липа да береста, так мужик бы
рассыпался". Она говорит о большой популярности в народе
этих материалов. Кошели, туеса, корзины, лапти и многие
другие изделия использовались в быту любой крестьянской
семьи. Одна из самых массовых археологических находок в
Новгороде - остатки берестяных сосудов, причем форма и
техника изготовления предметов из бересты, обнаруженных
в археологических слоях, близка, а иногда полностью
совпадает с теми, которые мастера делали в XIX - первой
половине XX века. На кухне находятся два туеса - это
берестяная посуда цилиндрической формы, сделанная из
цельного куска коры березы, с деревянным донышком и
крышкой. В туесах носили молоко, квас, соленья. Двойной
слой бересты - хорошая термоизоляция, поэтому в туесах
жидкости долго оставались холодными, а молоко дольше не
скисало. В Новгородской губернии наиболее было развито
плетение из полос коры березы. На выставке представлены
разнообразные изделия, выполненные в технике прямого и
косого плетения, - лукошки, хлебницы, солонки, ложечник
(небольшой плетеный короб, где хранятся ложки). В памяти
народа живы имена многих новгородских мастеров плетения
первой половины XX века. Среди них А. А. Андреев из
деревни Окатово Новгородского района (1880 года
рождения), М. Н. Девяткин из деревни Никулино
Любытинского района, И. Е. Кучеров из деревни Сутоки
Окуловского района (1891 года рождения) и многие другие.
Отец последнего владельца этой избы Антон Васильевич
Шкипарев славился в деревне как мастер плетения из
березового и липового лыка. В сенях хранится берестяное
лукошко его работы. Особый интерес представляют
берестяные вещи крестьянина Андриана Антиповича Антипова
из деревни Смолино Любытинского района. Его изделия
отличаются выдумкой и изобретательностью. Он плел из
бересты футляры для книг и очков, сумки и даже плащи,
оплетал ею самые разнообразные предметы-чайник, посох,
свирели и пр. В кухне можно увидеть глиняную посуду в
"одежде" из бересты - экономные хозяева не выбрасывали
треснувшие горшки, корчаги, миски, а оплетали их для
прочности полосами березовой коры. Этот обычай, по
данным археологических раскопок, пришел из глубокой
древности. В сенях и на сеннике размещены разнообразные
предметы крестьянского быта. На стене висят кошели -
заплечные короба с крышками и лямками. В них ходили на
покос и жатву, в лес за ягодами и грибами, в кошелях
носили хлеб, рыбу и прочие продукты. А в лукошках -
плетеных берестяных кузовах - чего только не держали -
муку, зерно, льняное семя, лук, яйца... Сыпучие продукты
хранили также в бутыле-образных плетеных сосудах. Севня
- лукошко с петлей из лыка - была в каждой крестьянской
избе. Ее использовали для ручного посева зерна и
льняного семени. В каждом хозяйстве были и берестяные
лопаточники - футляры для деревянных лопаток или
каменных брусков для заточки кос. Хотя все изделия из
бересты имели практическое назначение, народные мастера
выявляли естественную красоту материала, использовали
богатую цветовую гамму березовой коры, находили
интересные формы, часто украшали изделия орнаментом.
Кроме изделий из бересты на выставке представлены
предметы крестьянского быта, плетенные из елового и
можжевелового корня: солонки, корзина-"коренка", сосуды
самой различной формы, вместимости и назначения.
Интересные экспонаты - куриные гнезда, сплетенные из
жгутов соломы. Искусство плетения бытовых изделий из
бересты и корня просуществовало в Новгородской области
до 30-х, а в некоторых местах - до 50-х годов XX
столетия. Изготовление плетеных предметов резко пошло на
убыль в связи с широким проникновением в деревню
промышленных товаров. Сейчас на Новгородчине трудно
найти мастера, который помнил бы секреты этого ремесла.
Изба Екимовой из деревни Рышево - первая жилая
постройка, перевезенная в музей в 1969 году. Деревня
Рышево расположена в Новгородском районе, на левом
берегу реки Меты, в нижнем ее течении. Это типичный дом
"мстинского" типа со всеми его признаками - высокой
подызбицей, балконом, каретником, галереей. Вероятно, он
срублен во второй половине XIX века. Изба привлекает
богатым декоративным убранством. Фронтон оживляется
нарядным балконом, фигурный балясник которого вставлен в
брусья, покрытые сплошной резьбой. Балкон здесь
выполняет декоративную роль, хотя в более древних избах
он имел и практическое значение. Главное убранство избы
- окна с богато украшенными наличниками. Верх их
выполнен в виде двух завитков - волют. Этот элемент
каменного зодчества стиля барокко крестьянские мастера
заимствовали из архитектуры Петербурга, куда они нередко
уходили на заработки. Барочные элементы не создают
ощущения инородности, они органично включаются в
традиционный наряд рубленой избы. С двух сторон дом
опоясывает галерея, крыша которой установлена на резных
столбиках. Как обычно, в прикролеке устроены скамьи для
отдыха. Справа от крыльца, со стороны улицы, - въезд во
двор. Устройству ворот деревенский мастер придавал
большое значение. Ворота во двор в рышевской избе
обработаны в виде арки. С правой стороны дома между
избой и каретником-крылечко, покрытое односкатной крышей
на резных столбиках. Через калитку в красивом арочном
проеме можно пройти на лестницу, а затем через сени в
избу. Рышевская изба - "белая". Большая русская печь с
дымоходом сохранила многие черты своей курной
предшественницы. Она покоится на брусчатом опечке,
устроенном на полу, и поддерживается двумя столбами,
находящимися в подклети. Печь обогревала избу, служила
для приготовления пищи, сохраняла ее горячей. На ней
сушили продукты, мокрую одежду, обувь, а в
печурках-носки и рукавицы. Печь, как и баня, была
испытанным средством от простуды и других болезней.
Интерьер "белой" избы светлее и наряднее, чем "черной",
но основные его детали такие же, как и в курном жилище.
Мебель по традиции встроена в сруб, все те же полати,
лавки. А вот полка проходит только вдоль одной боковой
стены и служит в "белой" избе лишь для хранения разной
домашней утвари. "Белая" изба более красочна. Посудный
шкаф расписан цветочными мотивами. По обычаю в красном
углу под божницей, украшенной вышитым полотенцем, стоял
обеденный стол. Он традиционной формы. Широкая дубовая
столешница не окрашена, остальные детали стола красного
и темно-зеленого цветов, подстолье расписано фигурками
зверей и птиц. Особой гордостью хозяек были точеные,
резные и расписные прялки, которые обычно ставили на
видное место: они служили не только орудием труда, но и
украшением жилища. В XIX веке во многих местах
Новгородской губернии были распространены
прялки-"золоченки". Их образцы представлены в этой избе.
Обычно с нарядными прялками крестьянские девушки ходили
на "посидки", или "посиделки", - веселые сельские
сборища. О том, как славились прялки-"золоченки" среди
молодежи, пелось в задорной частушке: . "Белая" изба
убрана предметами домашнего ткачества. Полати и лежанку
закрывают цветные занавеси из льняной клетчатины. На
окнах - занавески из домотканой кисеи, подоконники
украшает милая крестьянскому сердцу герань. Особенно
тщательно убиралась изба к праздникам: женщины мыли с
песком и скоблили добела большими ножами - "косарями" -
потолок, стены, лавки, полки, полати. Русский крестьянин
не белил и не оклеивал стены - не прятал природную
красоту дерева. Хозяйственный двор рышевской избы -
двухэтажный. Вверху-сенник, внизу-два хлева для скота и
место для земледельческих орудий. Там находятся соха,
борона, деревянные вилы и т, д. Сейчас на втором этаже,
на месте сенника размещена выставка "Орудия обработки
льна". С давних пор на новгородской земле лен - одна из
главных сельскохозяйственных культур. Процесс его
обработки был трудоемким и выполнялся исключительно
женщинами. Для этого использовались ручные, довольно
примитивные приспособления; обычно их изготовляли сами
крестьяне. А более сложные, например самопряхи, покупали
на базарах или заказывали мастерам. Созревший лен
вручную дергали (теребили), сушили и обмолачивали
вальками и цепами. Чтобы удалить вещества, склеивающие
волокна, обмолоченные льняные стебли в сентябре -
октябре расстилали на две-три недели на лугу или
вымачивали в болотах, низинах, ямах, а потом сушили в
ригах. Высушенный лен мяли на льномялках, чтобы
отколотить кострику (твердую основу) от волокон. На
выставке можно увидеть щелевую мялку, сделанную из
дерева с корнем, - корневку. Массивный корень здесь
служил опорой ("ногами"). Момент работы на мялке передан
в загадке: "Из года в год беззубая баба кости грызет".
Потом лен освобождали от кострики специальными
деревянными лопаточками с короткой ручкой и удлиненной
рабочей частью-трепалами. Чтобы расправить волокна в
одном направлении, их чесали деревянными гребнями,
металлической "щетью" или свиной щетиной, а иногда
использовали даже шкуру ежа - получалась шелковистая, с
мягким блеском кудель. С ноября лен пряли ручным
способом с помощью прялок и веретен. Реже в Новгородской
губернии использовались самопряхи. Искусство прядения,
требовавшее проворства и большого терпения, крестьянские
девочки постигали с шести-семилетнего возраста, тогда же
им дарили прялки. Напряденные нити перематывались с
веретен на мотовилах в мотки, которые затем белили или
красили. Подготовка основы-продольных нитей ткани-для
ткацкого стана производилась с помощью воробы, а с
воробы ее перематывали на лубки, или вьюшки. Для утка -
поперечных нитей ткани - пряжу сучили на деревянные или
берестяные трубочки - цевки, используя скально (от слова
"екать"-свивать). Весной ткацкий стан обычно вносили в
избу и ткали белый холст и разную цветную домотканину. С
утра до вечера мелькали проворные руки мастериц, быстро
двигая челнок с нитью утка. Обычно ткачеством занимались
в девичестве. До замужества девушка должна была напрясть
и наткать себе приданое к свадьбе да еще на подарки
родне. Возле рышевской избы - колодец с журавлем.
Его срубили по старинному образцу зимой 1971 года.
Глубина колодца-6,5 м. Деревянным ведром из него можно
зачерпнуть вкусной воды. Рядом с избой из деревни Рышево
находится амбар, рубленный, вероятно, в конце XIX века.
В деревне Хвощник Боровичского района, откуда его
привезли в июле 1978 года, он стоял так, чтобы хозяин
мог видеть его из окон дома. Так же амбар расположили и
в музее. Это - небольшой сруб, крытый на два ската.
Кровля имеет слеговую конструкцию. Небольшой навес крыши
над стеной, где прорублена дверь, покоится на помочах.
Амбар служил складским помещением, поэтому не имеет
окон. В закромах (сусеках, засеках) стен хранилось
главное крестьянское добро - зерно и мука.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

|
Процитировано 1 раз
лён |
Спутник женской судьбы
Полеводством и животноводством занимались все по
мере своих сил: мужчины и женщины, дети и старики. Все,
что касалось рубки и вывозки леса, а также
строительства, словно бы на откуп отдавалось взрослым
мужчинам. Были, конечно, случаи, когда с топором на угол
садилась женщина, но это считалось ненормальным, что и
отражено в пословице: “Бабьи города недолго стоят”.
С лесом накрепко связано и устройство
многообразного крестьянского инвентаря: как полевого,
так и домашнего. Вся посуда, вся утварь вплоть до
детских игрушек создавалась мужскими руками.
Другое дело — лен.
ЛЕН
“Лен” такое же краткое слово, как и “лес”, оно так
же объемно и так же неисчерпаемо. Разница лишь та, что
лес — это стихия мужская, а лен — женская. И та и другая
служат почвой для народного искусства, и та и другая
метят многих людей золотым тавром художественного
творчества. И только в широкой среде таких людей
рождаются художники высоты и силы Дионисия или плотника
Нестерка, закинувшего свой топор в голубое Онего...
Конечно же, крестьянское хозяйство, многообразное
в своей цельности и единое в своей многослойности, было
живым организмом, весьма гармоничным в своем даже и не
очень идеальном воплощении. Взаимосвязь всех элементов
этого хозяйства была настолько прочна и необходима, что
одно не могло существовать без другого, другое без
третьего или что-нибудь одно без всего остального, а
остальное без этого одного. Коров, например, во многих
местах держали не столько для молока, сколько для
навоза, чтобы удобрять землю. Земля, в свою очередь,
давала не только хлеб, но и корм скоту. Но там, где есть
скот, есть и еда и обувь, а есть обувь, можно ехать и в
лес, чтобы рубить дом, в том числе и хлев для коровы, а
будет корова, будет и молоко и навоз.
Круг замкнут.
Вся хозяйственная жизнь состояла из подобных
взаимодействующих и взаимосвязанных кругов.
Такое положение требовало не пустого
механического, а вдумчивого отношения к работе. Циклы
хлебопашеского и животноводческого труда покоились на
вековой традиции и неумолимости смены времен года. Но
это вовсе не значит, что крестьянский труд не требовал к
себе творческого отношения, что пахарю и пастуху не
нужен талант, что вдохновение и радость созидания
относительно крестьянина — звуки пустые. Наоборот:
вековая традиция только помогала человеку быстрее
(обычно в течение детства и отрочества) освоить наиболее
рациональные приемы тяжелого труда, высвобождала время и
силы, расчищала путь к индивидуально-творческому вначале
позыву, а затем и действию.
Но мастерство отдельного пахаря или косца, даже
переданное по наследству сыну или внуку, как бы не
получало своего предметного воплощения. Ведь зерно в
амбаре или скотина в хлеву не только не удивят далеких
потомков, но даже и не доживут до них... Нет, для души,
для памяти нужно было построить дом с резьбою, либо храм
на горе, либо сплести такое кружево, от которого дух
захватит и загорятся глаза у далекой праправнучки.
Потому что не хлебом единым жив человек.
Лен — это на протяжении многих столетий спутник
женской судьбы. Женская радость и женское горе, начиная
с холщовых младенческих подстилок, через девичьи платы и
кончая саваном — белой холстиной, покрывающей человека
на смертном ложе.
Лен сеют в теплую, но еще чуть влажную землю,
стремясь сделать это пораньше. Вот и угадай когда! Надо
быть крестьянином, чтобы изловить как раз этот
единственный на весь год момент. День раньше или день
позже — уже выходило не то.
После посева мужские руки редко касаются льна.
Весь долгий и сложный льняной цикл подвластен одним
женщинам. Надо успевать делать со льном все то, что
положено, независимо от других работ и семейных забот,
иначе опозоришься на всю округу. Дело поставлено так,
что девочка в самых ранних летах проходит около льняной
полосы с особым почтением. Во многих семьях девочки уже
в возрасте восьми-десяти лет начинали готовить себе
приданое и свадебные дары, для которых делали или
заказывали особый сундук либо коробью. Туда и
складывались до самой свадьбы за многие годы вытканные
холсты, строчи, сплетенные на досуге кружева.
Потому и волнуют девичью душу льняные полосы:
Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленький,
Не крушись ты, мой миленький.
В этой хороводно-игровой старинной песне
воспевался весь путь от льняного крохотного темного
семечка до белоснежного кружевного узора. Но как долог и
труден он, этот путь! И как похож он вообще на жизненный
путь человека, какая мощная языческая символика звучит в
каждой замкнуто-обособленной ступени льняного цикла!
Ритмичный, точный, выверенный веками, этот цикл
положительно подчинен небесному кругу, свершаемому
вечным и щедрым солнцем. Человек должен успевать за
неумолимой, надежной в своем постоянстве сменой времен
года: ведь природа не ждет, она меняется не только по
временам года, но и каждую неделю, ежедневно и даже
ежечасно. Она все время разная!
Едва светло-зеленые в елочку стебельки пробьются
на свет, как приходит конец весне, грозившей холодом
этим крохотным живым существам. Лето, впрочем, тоже на
Севере не каждый раз ласково: того и гляди ознобит
ночным неожиданным инеем либо спечет жаром быстро
ссыхающуюся землю.
В первые теплые дни лезет из земли всякая мразь:
молочай, хвощ, сурепка и сотни других сорняков. Они
почему-то сидят в земле так плотно, так глубоко пускают
корни, что не каждый и выдернешь. В такую пору женщины и
девушки находят как-то свободный день, кличут малых
ребят, берут большие корзины и идут в поле полоть лен.
Каждый убогий, оставленный на полосе росток молочника
или другого какого-либо сорняка вырастет через
пять-шесть недель в отвратительно-неприступный,
надменный, ядовито-зеленый, махрово цветущий куст,
который лишь с помощью лопаты можно удалить с полосы.
Оттого и спешат наколотые до крови женские, девичьи и
детские руки. Ничего, авось в бане все отмоется, а потом
заживет.
Зато как хороша прополотая полоса: молодой лен,
примятый ногами, имеет свойство выпрямляться после
первого дождика. Растет не по дням — по часам: поговорка
имеет не переносный, а прямой смысл.
Лето входит в свою главную силу. В поле, в лесу и
дома столько работы, что лишь поворачивайся. Как раз в
это время появляется льняная блоха, она стесняться не
будет, сожрет начисто неокрепшие, нежные стебли.
Лен обсыпают от блохи печной золой.
В это же время не мешает подкормить удобрением
льняные участки, но раньше крестьяне не знали никаких
удобрений, кроме навоза, навозной жижи, куриного помета
и печной золы.
Когда лен цветет, словно бы опускается на поле
сквозящая синь северных летних небес. Несказанно красив
лен в белые ночи. До колхозов мало кто замечал эту
сквозную синь, участки были маленькими. В артельном же
хозяйстве, особенно после введения севооборотов,
образовались целые льняные поля, вот здесь-то и
заговорила эта синь цветущего льна. Одни лишь краски
Дионисия могут выразить это ощущение от странного
сочетания бледно-зеленого с бледно-синим, как бы
проникающим куда-то в глубину цветом.
Но одно дело глядеть, другое — теребить.
Полеводством и животноводством занимались все по
мере своих сил: мужчины и женщины, дети и старики. Все,
что касалось рубки и вывозки леса, а также
строительства, словно бы на откуп отдавалось взрослым
мужчинам. Были, конечно, случаи, когда с топором на угол
садилась женщина, но это считалось ненормальным, что и
отражено в пословице: “Бабьи города недолго стоят”.
С лесом накрепко связано и устройство
многообразного крестьянского инвентаря: как полевого,
так и домашнего. Вся посуда, вся утварь вплоть до
детских игрушек создавалась мужскими руками.
Другое дело — лен.
ЛЕН
“Лен” такое же краткое слово, как и “лес”, оно так
же объемно и так же неисчерпаемо. Разница лишь та, что
лес — это стихия мужская, а лен — женская. И та и другая
служат почвой для народного искусства, и та и другая
метят многих людей золотым тавром художественного
творчества. И только в широкой среде таких людей
рождаются художники высоты и силы Дионисия или плотника
Нестерка, закинувшего свой топор в голубое Онего...
Конечно же, крестьянское хозяйство, многообразное
в своей цельности и единое в своей многослойности, было
живым организмом, весьма гармоничным в своем даже и не
очень идеальном воплощении. Взаимосвязь всех элементов
этого хозяйства была настолько прочна и необходима, что
одно не могло существовать без другого, другое без
третьего или что-нибудь одно без всего остального, а
остальное без этого одного. Коров, например, во многих
местах держали не столько для молока, сколько для
навоза, чтобы удобрять землю. Земля, в свою очередь,
давала не только хлеб, но и корм скоту. Но там, где есть
скот, есть и еда и обувь, а есть обувь, можно ехать и в
лес, чтобы рубить дом, в том числе и хлев для коровы, а
будет корова, будет и молоко и навоз.
Круг замкнут.
Вся хозяйственная жизнь состояла из подобных
взаимодействующих и взаимосвязанных кругов.
Такое положение требовало не пустого
механического, а вдумчивого отношения к работе. Циклы
хлебопашеского и животноводческого труда покоились на
вековой традиции и неумолимости смены времен года. Но
это вовсе не значит, что крестьянский труд не требовал к
себе творческого отношения, что пахарю и пастуху не
нужен талант, что вдохновение и радость созидания
относительно крестьянина — звуки пустые. Наоборот:
вековая традиция только помогала человеку быстрее
(обычно в течение детства и отрочества) освоить наиболее
рациональные приемы тяжелого труда, высвобождала время и
силы, расчищала путь к индивидуально-творческому вначале
позыву, а затем и действию.
Но мастерство отдельного пахаря или косца, даже
переданное по наследству сыну или внуку, как бы не
получало своего предметного воплощения. Ведь зерно в
амбаре или скотина в хлеву не только не удивят далеких
потомков, но даже и не доживут до них... Нет, для души,
для памяти нужно было построить дом с резьбою, либо храм
на горе, либо сплести такое кружево, от которого дух
захватит и загорятся глаза у далекой праправнучки.
Потому что не хлебом единым жив человек.
Лен — это на протяжении многих столетий спутник
женской судьбы. Женская радость и женское горе, начиная
с холщовых младенческих подстилок, через девичьи платы и
кончая саваном — белой холстиной, покрывающей человека
на смертном ложе.
Лен сеют в теплую, но еще чуть влажную землю,
стремясь сделать это пораньше. Вот и угадай когда! Надо
быть крестьянином, чтобы изловить как раз этот
единственный на весь год момент. День раньше или день
позже — уже выходило не то.
После посева мужские руки редко касаются льна.
Весь долгий и сложный льняной цикл подвластен одним
женщинам. Надо успевать делать со льном все то, что
положено, независимо от других работ и семейных забот,
иначе опозоришься на всю округу. Дело поставлено так,
что девочка в самых ранних летах проходит около льняной
полосы с особым почтением. Во многих семьях девочки уже
в возрасте восьми-десяти лет начинали готовить себе
приданое и свадебные дары, для которых делали или
заказывали особый сундук либо коробью. Туда и
складывались до самой свадьбы за многие годы вытканные
холсты, строчи, сплетенные на досуге кружева.
Потому и волнуют девичью душу льняные полосы:
Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленький,
Не крушись ты, мой миленький.
В этой хороводно-игровой старинной песне
воспевался весь путь от льняного крохотного темного
семечка до белоснежного кружевного узора. Но как долог и
труден он, этот путь! И как похож он вообще на жизненный
путь человека, какая мощная языческая символика звучит в
каждой замкнуто-обособленной ступени льняного цикла!
Ритмичный, точный, выверенный веками, этот цикл
положительно подчинен небесному кругу, свершаемому
вечным и щедрым солнцем. Человек должен успевать за
неумолимой, надежной в своем постоянстве сменой времен
года: ведь природа не ждет, она меняется не только по
временам года, но и каждую неделю, ежедневно и даже
ежечасно. Она все время разная!
Едва светло-зеленые в елочку стебельки пробьются
на свет, как приходит конец весне, грозившей холодом
этим крохотным живым существам. Лето, впрочем, тоже на
Севере не каждый раз ласково: того и гляди ознобит
ночным неожиданным инеем либо спечет жаром быстро
ссыхающуюся землю.
В первые теплые дни лезет из земли всякая мразь:
молочай, хвощ, сурепка и сотни других сорняков. Они
почему-то сидят в земле так плотно, так глубоко пускают
корни, что не каждый и выдернешь. В такую пору женщины и
девушки находят как-то свободный день, кличут малых
ребят, берут большие корзины и идут в поле полоть лен.
Каждый убогий, оставленный на полосе росток молочника
или другого какого-либо сорняка вырастет через
пять-шесть недель в отвратительно-неприступный,
надменный, ядовито-зеленый, махрово цветущий куст,
который лишь с помощью лопаты можно удалить с полосы.
Оттого и спешат наколотые до крови женские, девичьи и
детские руки. Ничего, авось в бане все отмоется, а потом
заживет.
Зато как хороша прополотая полоса: молодой лен,
примятый ногами, имеет свойство выпрямляться после
первого дождика. Растет не по дням — по часам: поговорка
имеет не переносный, а прямой смысл.
Лето входит в свою главную силу. В поле, в лесу и
дома столько работы, что лишь поворачивайся. Как раз в
это время появляется льняная блоха, она стесняться не
будет, сожрет начисто неокрепшие, нежные стебли.
Лен обсыпают от блохи печной золой.
В это же время не мешает подкормить удобрением
льняные участки, но раньше крестьяне не знали никаких
удобрений, кроме навоза, навозной жижи, куриного помета
и печной золы.
Когда лен цветет, словно бы опускается на поле
сквозящая синь северных летних небес. Несказанно красив
лен в белые ночи. До колхозов мало кто замечал эту
сквозную синь, участки были маленькими. В артельном же
хозяйстве, особенно после введения севооборотов,
образовались целые льняные поля, вот здесь-то и
заговорила эта синь цветущего льна. Одни лишь краски
Дионисия могут выразить это ощущение от странного
сочетания бледно-зеленого с бледно-синим, как бы
проникающим куда-то в глубину цветом.
Но одно дело глядеть, другое — теребить.
|
рукодельницы |
Рукодельницы
Анфиса Ивановна рассказывает: “А мы частушку пели:
Ни о чем заботы нет.
Только о куделе,
Супостаточка моя
Опрядет скорее.
Бывало, ткешь, ткешь целый-то день. Уж так
надоест. А тут нищенки ходят, собирают кусочки.
Агнеюшка, моя подружка, посылает мне записку с
нищенкой: “Фиса, плачу горькою слезой, кросна кажутся
козой”.
Выткать вручную стену холста за день и впрямь не
шутка. Для каждой нити утка надо сделать два удара
бердом, да еще с силой нажать на подножку нитченки.
Волей-неволей начнешь петь или придумывать частушки...
Но была и другая возможность устранить
монотонность труда. Никому не заказано сделать основу не
в два, а в три, четыре, шесть или даже восемь чапков,
чтобы ткать узорную ткань. Можно было разнообразить не
только основу, но и уток: по цвету, по материалу.
Многовековая культура ткацкого дела позволяла
разнообразить и сами способы тканья. Вот основные из
них.
В рядно ткали холст для подстилок, мешков,
постелей и т.д. Это был уже не простой холст, у которого
одинаковы правая и левая стороны. Для тканья в рядно
нужно не два чапка (нитченки), а три или четыре. В три
чапка нити основы делали последовательно три зева, холст
получался не только прочнее, но и красивее, с едва
заметным косым рубчиком. Ткань приобретала совершенно
иную, более сложную структуру. Пряжа из коровьей,
овечьей или козьей шерсти шла на уток ткани, из которой
шили зимнюю верхнюю, по преимуществу праздничную одежду.
В канифас ткали уже в шесть нитченок и шесть
подножек. Узор готовой ткани составляли две чередующиеся
полосы, одна с косой ниткой, другая с прямой.
Узорница — ткань, образованная из восьмипарной
основы. Восемь последовательно сменяемых зевов, восемь
подножек, а рук и ног всего по две... Чтобы не
запутаться в подножках, нажимать там, где требуется,
надо иметь опыт, чувство ритма и соразмерности. Стену
узорницы мастерица ткала иногда целую зиму. Узор
составлялся из одинаковых клеток, как бы заполненных
косыми линиями, образующими ромбики. Платы из такой
ткани, отороченные яркими строчами и беленым кружевом,
были на редкость в почете у будущих родственников
невесты.
Строчи — самая сложная художественная ткань.
Способ тканья использует выборочное исключение основных
нитей из процесса тканья. При помощи тонкой планочки
определенные нити основы в определенных местах
поднимаются, создавая довольно богатый геометрический
узор. Уток может быть контрастным по цвету с основой. Но
особенно высокой художественной выразительности
добивалась мастерица, когда брала нить для утка чуть
светлее или чуть темнее основы. Кремовый оттенок узора
придавал строчам удивительное своеобразие. Рисунок ткани
полностью зависел от фантазии, умения и времени, которым
располагала ткачиха. Строчи пришивали к концам свадебных
платов, полотенец, к подолам женских рубашек.
Кушаки и пояски ткались по тому же принципу, что и
холсты, но как бы в миниатюре. Основа делалась
двухчапочная и узенькая (ширина ее зависела от
задуманного кушака или пояса). Узоры этих поясов
неисчислимы, в них ясно выражены и цветовой ритм, и
графический. Вероятно, при тканье подобных изделий
используются и элементы плетения. Материалом служит как
шерстяная, так и льняная крашеная пряжа.
Продольница, или ткань для продольных сарафанов,
ткалась на специальных кроснах, которые в два раза шире
обычных. Ширина основы становилась длиной сарафана.
Сарафаны эти, как и ткань, — один из многочисленных
примеров взаимовлияния, взаимообогащения и неразрывной
родственной связи национальных культур. Так, многие
молодые и не совсем молодые эстонки в наше время носят
одежду, полностью совпадающую с русской продольницей.
Народному самосознанию были совершенно чужды
ревность или самолюбие при подобных заимствованиях.
Шерстяная пряжа красилась в разные цвета и
неширокими полосками ткалась на широкой и прочной
холщовой основе. Для того чтобы преобладала уточная
шерстяная нить, основные нити пропускались по одной в
зуб, а не по две, как обычно. Мастерица умела так
чередовать цвета и подбирать ширину цветовых полос, что
ткань начинала играть, превращаясь в рукотворную радугу.
Вместе с таким превращением незаметно происходило
другое, еще более важное: серые будни тканья становились
праздничными.
Половики, или дорожки, характеризуют вырождение и
исчезновение высокой ткацкой культуры. Основная
технология тканья сохранена, но вместо уточной шерсти
здесь используют разноцветные тканевые полоски и
веревочки. Художественная индивидуальность мастерицы
едва-едва проступает при подобном тканье, хотя изделие
зачастую поражает декоративной броскостью.
При богатстве и ритмичности цветовых сочетаний в
половиках уже трудно обнаружить графическую четкость и
гармонию: причиной тому, по-видимому, упрощенность
тканья и вульгарность уточного материала.
ШИТЬЕ
В тридцатые предвоенные годы в некоторых северных
деревнях распространился девичий обычай задолго до
свадьбы дарить платки своим ухажерам. Вышитые кисеты и
рубашки дарили обычно уже мужьям. Неудачливые или
нелюбимые кавалеры добывали эти платки силой,
“выхватывали”. В частушках того времени отразилась даже
эта маленькая деталь народного быта:
Дорогого моего
Ломало да коверькало,
Его ломало за платок,
Коверькало за зерькало.
Конечно, частушка шуточная. Но и по ней одной
можно судить о быстро меняющихся нравах: барачная жизнь
на лесозаготовках делала девушку по грубости и ухваткам
похожей на парня. Да и не очень-то просто выкроить время
для вышивания, когда есть план рубки и вывозки, а
рукавицы и валенки то и дело рвутся, а лошадь скинула
или расковалась, а из деревни не шлют ежу [Еду - Ред.] и
в бараке стоит дым коромыслом: смешались мужчины и
женщины, старое и молодое.
И все же многие девицы находили время и вышить
платочек, и спеть настоящую частушку.
Пение и рукоделие издревле дополняли друг друга в
женском быту. Сосланная в Горицкий монастырь Ксения
Годунова славилась своим рукодельем и песнями, которые
сама составляла и пела. В то время на Руси песенной
культуре сопутствовал расцвет искусства лицевого шитья,
о чем и сохранились многочисленные материальные
свидетельства.
Существовало несколько способов шитья, основной из
них — шитье гладью, то есть параллельным стежком.
Использовалась для этого как шелковая, так и льняная
нить. По канве вышивали простым, чаще двойным крестом,
позднее канву заменили клеточки вафельной ткани. При
вышивке “по тамбору” использовался округлый
петлеобразный стежок, “курочкины лапки” вытягивались в
линию уголковым геометрическим стежком. Наконец, шитье
“в пяльцах” делалось после того, как из вышиваемой ткани
были удалены уточные нити.
Вышивались обычно ворота и рукава мужских и
женских рубах, полотенца, платки, кофты, кисеты,
головные уборы. Особое место занимало шитье золотом.
Очень красива вышивка красным по черному, белому и
темно-синему фону, а также зеленым по красному и
розовому. Впрочем, все зависело от художественного чутья
вышивальщицы.
ВЯЗАНИЕ
Умение вязать, разумеется, входило в неписаный
женский кодекс, но оно было не таким популярным на
Севере, как другие виды рукоделья. Из коровьей и овечьей
шерсти на спицах вязались носки, колпаки, рукавицы,
перчатки, шарфы и безрукавки.
Крючком из ниток вязалось белое или черное
кружево: подзоры, нарукавники, наподольницы, скатерти,
накидушки и т.д. Такое кружево часто сочеталось со
строчами и выборкой.
ПЛЕТЕНИЕ
Кружево, созданное способом вязки, можно
распустить и нитки вновь намотать на клубок, чего
никогда не сделаешь с плетеным изделием. Плетение как бы
сочетает в себе элементы вязки и тканья.
Но если при тканье используются всего две нити
(основная и уточная), а при вязке — одна нить, то при
плетении — множество. Каждая наматывается на отдельную
палочку — коклюшку.
Плетея переплетает группы нитей, перекидывает их
друг через друга, разделяет на новые группы, закрепляет
сплетенное булавкой. Но булавки втыкаются в строго
определенных местах по бумажному сколку, заранее
предполагающему кружевной рисунок. Коклюшки, булавки,
сколок, да набитый соломой куфтырь, да подставка для
него — вот и весь инвентарь кружевницы.
Она брякает коклюшками на первый взгляд
беспорядочно, поворачивает куфтырь то одним боком, то
другим. Нити пересекаются, сплетаются, лепятся и ползут
то туда, то сюда.
И вдруг вся эта беспорядочность исчезает,
рождается кружево. Душа человеческая воплощается в
созданные руками белые, черные, комбинированные узоры.
Сквозь плавную графику северных русских кружев до сих
пор струится живительное тепло народного творчества.
Василий Белов
Анфиса Ивановна рассказывает: “А мы частушку пели:
Ни о чем заботы нет.
Только о куделе,
Супостаточка моя
Опрядет скорее.
Бывало, ткешь, ткешь целый-то день. Уж так
надоест. А тут нищенки ходят, собирают кусочки.
Агнеюшка, моя подружка, посылает мне записку с
нищенкой: “Фиса, плачу горькою слезой, кросна кажутся
козой”.
Выткать вручную стену холста за день и впрямь не
шутка. Для каждой нити утка надо сделать два удара
бердом, да еще с силой нажать на подножку нитченки.
Волей-неволей начнешь петь или придумывать частушки...
Но была и другая возможность устранить
монотонность труда. Никому не заказано сделать основу не
в два, а в три, четыре, шесть или даже восемь чапков,
чтобы ткать узорную ткань. Можно было разнообразить не
только основу, но и уток: по цвету, по материалу.
Многовековая культура ткацкого дела позволяла
разнообразить и сами способы тканья. Вот основные из
них.
В рядно ткали холст для подстилок, мешков,
постелей и т.д. Это был уже не простой холст, у которого
одинаковы правая и левая стороны. Для тканья в рядно
нужно не два чапка (нитченки), а три или четыре. В три
чапка нити основы делали последовательно три зева, холст
получался не только прочнее, но и красивее, с едва
заметным косым рубчиком. Ткань приобретала совершенно
иную, более сложную структуру. Пряжа из коровьей,
овечьей или козьей шерсти шла на уток ткани, из которой
шили зимнюю верхнюю, по преимуществу праздничную одежду.
В канифас ткали уже в шесть нитченок и шесть
подножек. Узор готовой ткани составляли две чередующиеся
полосы, одна с косой ниткой, другая с прямой.
Узорница — ткань, образованная из восьмипарной
основы. Восемь последовательно сменяемых зевов, восемь
подножек, а рук и ног всего по две... Чтобы не
запутаться в подножках, нажимать там, где требуется,
надо иметь опыт, чувство ритма и соразмерности. Стену
узорницы мастерица ткала иногда целую зиму. Узор
составлялся из одинаковых клеток, как бы заполненных
косыми линиями, образующими ромбики. Платы из такой
ткани, отороченные яркими строчами и беленым кружевом,
были на редкость в почете у будущих родственников
невесты.
Строчи — самая сложная художественная ткань.
Способ тканья использует выборочное исключение основных
нитей из процесса тканья. При помощи тонкой планочки
определенные нити основы в определенных местах
поднимаются, создавая довольно богатый геометрический
узор. Уток может быть контрастным по цвету с основой. Но
особенно высокой художественной выразительности
добивалась мастерица, когда брала нить для утка чуть
светлее или чуть темнее основы. Кремовый оттенок узора
придавал строчам удивительное своеобразие. Рисунок ткани
полностью зависел от фантазии, умения и времени, которым
располагала ткачиха. Строчи пришивали к концам свадебных
платов, полотенец, к подолам женских рубашек.
Кушаки и пояски ткались по тому же принципу, что и
холсты, но как бы в миниатюре. Основа делалась
двухчапочная и узенькая (ширина ее зависела от
задуманного кушака или пояса). Узоры этих поясов
неисчислимы, в них ясно выражены и цветовой ритм, и
графический. Вероятно, при тканье подобных изделий
используются и элементы плетения. Материалом служит как
шерстяная, так и льняная крашеная пряжа.
Продольница, или ткань для продольных сарафанов,
ткалась на специальных кроснах, которые в два раза шире
обычных. Ширина основы становилась длиной сарафана.
Сарафаны эти, как и ткань, — один из многочисленных
примеров взаимовлияния, взаимообогащения и неразрывной
родственной связи национальных культур. Так, многие
молодые и не совсем молодые эстонки в наше время носят
одежду, полностью совпадающую с русской продольницей.
Народному самосознанию были совершенно чужды
ревность или самолюбие при подобных заимствованиях.
Шерстяная пряжа красилась в разные цвета и
неширокими полосками ткалась на широкой и прочной
холщовой основе. Для того чтобы преобладала уточная
шерстяная нить, основные нити пропускались по одной в
зуб, а не по две, как обычно. Мастерица умела так
чередовать цвета и подбирать ширину цветовых полос, что
ткань начинала играть, превращаясь в рукотворную радугу.
Вместе с таким превращением незаметно происходило
другое, еще более важное: серые будни тканья становились
праздничными.
Половики, или дорожки, характеризуют вырождение и
исчезновение высокой ткацкой культуры. Основная
технология тканья сохранена, но вместо уточной шерсти
здесь используют разноцветные тканевые полоски и
веревочки. Художественная индивидуальность мастерицы
едва-едва проступает при подобном тканье, хотя изделие
зачастую поражает декоративной броскостью.
При богатстве и ритмичности цветовых сочетаний в
половиках уже трудно обнаружить графическую четкость и
гармонию: причиной тому, по-видимому, упрощенность
тканья и вульгарность уточного материала.
ШИТЬЕ
В тридцатые предвоенные годы в некоторых северных
деревнях распространился девичий обычай задолго до
свадьбы дарить платки своим ухажерам. Вышитые кисеты и
рубашки дарили обычно уже мужьям. Неудачливые или
нелюбимые кавалеры добывали эти платки силой,
“выхватывали”. В частушках того времени отразилась даже
эта маленькая деталь народного быта:
Дорогого моего
Ломало да коверькало,
Его ломало за платок,
Коверькало за зерькало.
Конечно, частушка шуточная. Но и по ней одной
можно судить о быстро меняющихся нравах: барачная жизнь
на лесозаготовках делала девушку по грубости и ухваткам
похожей на парня. Да и не очень-то просто выкроить время
для вышивания, когда есть план рубки и вывозки, а
рукавицы и валенки то и дело рвутся, а лошадь скинула
или расковалась, а из деревни не шлют ежу [Еду - Ред.] и
в бараке стоит дым коромыслом: смешались мужчины и
женщины, старое и молодое.
И все же многие девицы находили время и вышить
платочек, и спеть настоящую частушку.
Пение и рукоделие издревле дополняли друг друга в
женском быту. Сосланная в Горицкий монастырь Ксения
Годунова славилась своим рукодельем и песнями, которые
сама составляла и пела. В то время на Руси песенной
культуре сопутствовал расцвет искусства лицевого шитья,
о чем и сохранились многочисленные материальные
свидетельства.
Существовало несколько способов шитья, основной из
них — шитье гладью, то есть параллельным стежком.
Использовалась для этого как шелковая, так и льняная
нить. По канве вышивали простым, чаще двойным крестом,
позднее канву заменили клеточки вафельной ткани. При
вышивке “по тамбору” использовался округлый
петлеобразный стежок, “курочкины лапки” вытягивались в
линию уголковым геометрическим стежком. Наконец, шитье
“в пяльцах” делалось после того, как из вышиваемой ткани
были удалены уточные нити.
Вышивались обычно ворота и рукава мужских и
женских рубах, полотенца, платки, кофты, кисеты,
головные уборы. Особое место занимало шитье золотом.
Очень красива вышивка красным по черному, белому и
темно-синему фону, а также зеленым по красному и
розовому. Впрочем, все зависело от художественного чутья
вышивальщицы.
ВЯЗАНИЕ
Умение вязать, разумеется, входило в неписаный
женский кодекс, но оно было не таким популярным на
Севере, как другие виды рукоделья. Из коровьей и овечьей
шерсти на спицах вязались носки, колпаки, рукавицы,
перчатки, шарфы и безрукавки.
Крючком из ниток вязалось белое или черное
кружево: подзоры, нарукавники, наподольницы, скатерти,
накидушки и т.д. Такое кружево часто сочеталось со
строчами и выборкой.
ПЛЕТЕНИЕ
Кружево, созданное способом вязки, можно
распустить и нитки вновь намотать на клубок, чего
никогда не сделаешь с плетеным изделием. Плетение как бы
сочетает в себе элементы вязки и тканья.
Но если при тканье используются всего две нити
(основная и уточная), а при вязке — одна нить, то при
плетении — множество. Каждая наматывается на отдельную
палочку — коклюшку.
Плетея переплетает группы нитей, перекидывает их
друг через друга, разделяет на новые группы, закрепляет
сплетенное булавкой. Но булавки втыкаются в строго
определенных местах по бумажному сколку, заранее
предполагающему кружевной рисунок. Коклюшки, булавки,
сколок, да набитый соломой куфтырь, да подставка для
него — вот и весь инвентарь кружевницы.
Она брякает коклюшками на первый взгляд
беспорядочно, поворачивает куфтырь то одним боком, то
другим. Нити пересекаются, сплетаются, лепятся и ползут
то туда, то сюда.
И вдруг вся эта беспорядочность исчезает,
рождается кружево. Душа человеческая воплощается в
созданные руками белые, черные, комбинированные узоры.
Сквозь плавную графику северных русских кружев до сих
пор струится живительное тепло народного творчества.
Василий Белов
|






