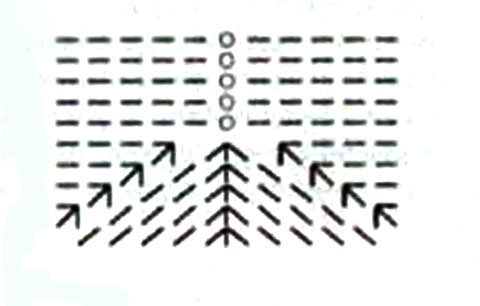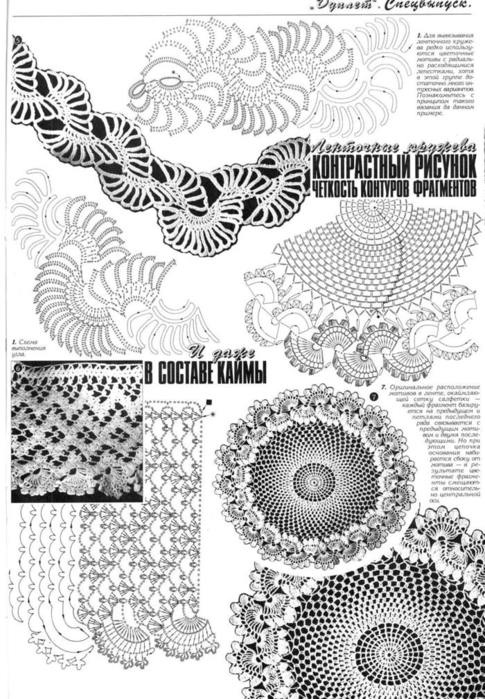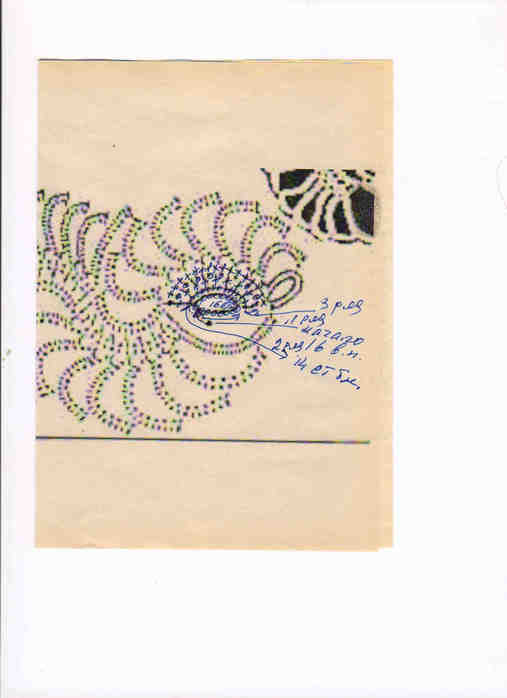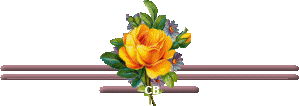Некоторые из этих страхов оказались надуманными. Девальвации, например, так и не случилось, зато депутат Анатолий Аксаков за разговоры о ней лишился места в Национальном банковском совете. Многие из них будут не менее сильны в наступающем году: страх девальвации, скорее всего, останется в 2009 году, а вот страх потери работы и квартиры в результате невозможности платить по кредиту будет не менее, а может быть и более сильным в 2010 году.
Бизнесмены и политики ожидают второй серьёзной волны увольнений в наступающем году, с потерей работы граждане потеряют возможность платить по кредиту. В 2010 году у многих заканчивается срок реструктуризации ипотечного кредита, а как платить – так и неизвестно. По официальным данным АРИЖК лишь единицы обратившихся за реструктуризацией смогли восстановить платёжеспособность. Свои страхи были у банкиров, участников финансовых рынков, строителей, торговцев.
Slon.ru выбрал 13 главных пугающих ожиданий, которые желательно бы оставить в уходящем году. Особо чувствительным рекомендуется распечатать и сжечь.
1. Вторая волна, новый Lehman Brothers и глобальный обвал
О второй волне кризиса начали говорить сразу же, как немного схлынула первая. Весной 2009 года чуть ли не все российские чиновники поспешили заявить о грядущих проблемах в финансовой системе, вызванных, прежде всего, кризисом неплатежей. Тон задал министр финансов Алексей Кудрин, который на расширенной коллегии Минэкономразвития в марте сказал, что все улучшения – временные, рост фондовых индексов и цен на нефть не должен расслаблять, а новая волна кризиса будет вызвана неспособностью компаний реального сектора отвечать по долгам.
Волну ждали осенью, на которую приходился пик платежей компаний и банков по кредитам, в том числе иностранным. Проблем обещали добавить и кредиты, которые банки со скрипом выдавали населению и компаниям в первой половине 2009 года (в том числе под нажимом правительства). Об этом говорил, например, глава РСПП Александр Шохин, предупреждая, что осенью российские банки столкнутся с невозвратом кредитов. Осень прошла, второй волны не случилось, Dubai World не стал новым Lehman Brothers, новый коллапс «перенесли» на первую половину 2010 года.
2. Революция начнётся с моногородов, а жителям будет нечего есть
Моногорода, которые ещё называют разросшимися рабочими слободками, – детище индустриализации 1930-50-х годов. Жизнь в этих порой немаленьких поселениях полностью зависит от одного предприятия. С началом кризиса и падением производства жители моногородов, а таковых в России 460, остались практически без средств к существованию. Во многих назревали социальные протесты. В Пикалеве премьер Путин погасил их, показательно выпоров Олега Дерипаску. Это было эффектно, но до каждого такого города премьеру было не добраться.
В ноябре Минрегион представил федеральную целевую программу по поддержке моногородов. В бюджете-2010 на неё выделено 20 млрд. рублей из антикризисного фонда и инвестфонда. Однако минимальная сумма, которая необходима на спасение моногородов, – около 300 млрд. рублей: это – на компенсацию дефицита бюджетов и снижение социальных расходов со стороны бизнеса. Между тем, вице-премьер Александр Жуков преподнёс жителям моногородов «новогодний подарок», сказав, что в 2010 году в таких городах останется безработными около 90 000 человек. Жителям по-настоящему страшно, несмотря на разрабатывающиеся программы переселения.
3. Девальвация
Если нефть будет ниже $30, придётся девальвировать рубль ещё раз. Так говорили чиновники, но в народной молве связку разорвали и истолковали по-своему. Нефти по $30 наши люди не боятся, потому что связать стоимость нефти и толщину родного кошелька многие могут, но очень немногие хотят – пронесёт как-нибудь, в правительстве что-нибудь придумают. Или в администрации президента, если в правительстве не смогут. Да неважно, где придумают, лучше не забивать голову. А вот слово «девальвация» граждан пугает всерьёз.
Некоторые политики поддерживали в народе этот страх. Депутат Анатолий Аксаков, например, выложил в своём блоге рассуждения о полезности девальвации рубля для отечественной экономики. За слишком длинный язык и «призывы к девальвации» Аксакова исключили из Национального банковского совета. Девальвации так и не случилось, к концу года страхи окончательно улеглись, и граждане перестали закупаться валютой впрок. Зато те, кто перевёл сбережения в иностранную валюту, особенно в доллары, стали бояться девальвации американской валюты. Она продолжается, консенсус-прогноз аналитиков ведущих банков – 28 рублей за доллар к концу 2010 года.
4. Свиной грипп
Если бы главный санврач страны Геннадий Онищенко не пугал население свиным гриппом, может, оно бы и не поддалось панике и не стало бы тоннами закупать «Арбидол», а в метро спускаться исключительно в медицинской маске. До сих пор ни одна болезнь не заставляла жителей России ходить по улице в масках. Основания для соблюдения мер предосторожности, тем не менее, были: испанка, унёсшая от 25 млн. до 70 млн. жизней в начале прошлого века, тоже вызывалась вирусом, именуемым H1N1.
11 июня 2009 года ВОЗ объявила о пандемии гриппа – первой пандемии за последние 40 лет. В прессе то и дело появлялись сообщения о смерти от свиного гриппа, точнее, от вызываемой им пневмонии. Между тем, согласно данным Гарвардской медицинской школы, смертность от «свиного гриппа» составляет 0,007% от числа заболевших. Показатель смертности от обычного сезонного гриппа и то выше.
5. Мировой кризис не закончится никогда
Главный страх начала 2009 года: центробанкам мира не хватит денег для того, чтобы загасить «пожар» кризиса. Эксперты гадали: с кризисом удалось справиться, или это просто небольшая передышка перед новым, и, возможно, последним боем? В феврале директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, например, заявил, что деньги на борьбу с кризисом у фонда закончатся уже через полгода.
Тем не менее, с сентября 2008 по сентябрь 2009 года центробанки мира потратили «на кризис» около $10 трлн., российский «вклад» в общее дело составил около $350 млрд. Паники по поводу нехватки средств вроде бы не наблюдается, но многие государства боролись с кризисом в долг. Долг этот уже угрожает стабильности мировой экономической системы – совокупный его размер в основных промышленно-развитых странах в ближайшие годы приблизится к 100% их ВВП.
В России главная проблема – корпоративные долги, в основном иностранным кредиторам. Сейчас их объем составляет около $450 млрд. По прогнозу банка UBS в 2010 году он вырастет до $500 млрд., из которых около трети нужно будет погасить в том же 2010 году. А тут ещё МВФ все настойчивее призывает помогать беднейшим странам. На что, спрашивается?
6. ВЭБ обрушит рынок
«Внешэкономбанк», купивший бумаги российских эмитентов в целях поддержки фондового рынка осенью 2008 года на 175 млрд. рублей, весь год оставался жупелом российских спекулянтов. «А что будет, если он решит продать?», «Он же обрушит рынок!», «ВЭБ-продавец – это ужас и кошмар».
Так думали некоторые неискушённые в делах госкорпорации участники рынка. ВЭБ всегда говорил: если мы выйдем из бумаг, вы этого не заметите. Так и случилось. Несколько месяцев банк «сливал» бумаги понемногу, а в декабре его глава Владимир Дмитриев сообщил, что ВЭБ вернул Минфину депозит, который был размещён специально в целях поддержки фондового рынка. А значит, Банк развития продал-таки значительную часть бумаг. Первая реакция среди трейдеров и спекулянтов была: «Так ВЭБ – больше не продавец!»
7. Призрак дефицита и транспортный налог
Своими действиями сплочённый депутатский корпус способен вызвать кошмары не только у участников отдельных рынков, но и у самых широких слоёв населения. И Госдума не даёт стране забыть, что она это может. Автовладельцам уходящий год запомнится принятием закона о резком повышении транспортного налога. Страх перед последствиями привёл к серии акций протеста, и Дума пошла на попятную, передав право повышать или не повышать налог регионам. Кто кого больше напугал, непонятно — государство автомобилистов, попытавшись обложить их повышенной данью, или автомобилисты государство, продемонстрировав слаженность в протестах.
В новейшей истории общественные движения лишь дважды добивались своего, и это были обманутые дольщики и автовладельцы.
А вот одобренный на уровне Совета Федерации закон о госрегулировании торговли не вызвал массовых протестов, хотя и может коснуться всех потребителей. Закон, призванный ограничить рост цен, скорее всего, приведёт к сужению ассортимента на магазинных полках, пугают ритейлеры. Гражданам пока не очень страшно, в отличии от владельцев торговых сетей.
8. Безработица: Уволят – не уволят?
Весь год россияне гадали, удастся ли сохранить работу. Найти новое место сокращённому было сложно по двум причинам. Во-первых, уменьшилось число вакансий. Во-вторых, редкие работодатели, готовые брать новых сотрудников, с недоверием относились к уволенным. Распространённым стало мнение «ценных – не сокращают».
Особенно остро проблема стояла в первом квартале 2009 года, когда в результате массовых сокращений в конце 2008-го портал Superjob зафиксировал 24-кратное превышение количества опубликованных резюме над количеством вакансий. В спокойной ситуации резюме всего в 3-4 раза больше, чем вакансий. К лету – осени с работой стало немного полегче, но страх остался. И не без оснований. Крупный бизнес ожидает новой волны безработицы в первом квартале 2010 года, когда компании начнут резать «спящие ставки»: сокращать людей, которые находились в административных отпусках или работали не полный рабочий день.
9. Цены на недвижимость упадут / цены на недвижимость не упадут
Падения цен на недвижимость боялись ипотечные заёмщики – вдруг банк заставит досрочно гасить кредит из-за падения стоимости залога? – и представители строительного рынка, у которых тоже обострились бы проблемы с кредиторами. Последние, впрочем, больше боялись отсутствия спроса, тем более что ипотека неожиданно стала недоступной для тех, кто раньше мог взять кредит.
Опасались не снижения на 20%, которое в итоге случилось (и которое, впрочем, пережили далеко не все), а падения в два раза. Это бы означало полный крах рынка. Остальные граждане, не отягощённые кредитами и не работающие в строительном секторе, боялись, что цены, напротив, не упадут. Некоторые, отличающиеся особо авантюрным складом характера, на самой заре кризиса даже продавали квартиры в надежде купить что-то получше и подешевле. Для этой немногочисленной категории граждан страх «а вдруг все-таки не упадут» превратился в настоящий кошмар.
10. Отзовут лицензию, посадят за разговоры
Представители некоторых регуляторов, например, ЦБ, способны наводить ужас на рынок одним только свирепым тоном выступлений. Летом первый зампред Банка России Алексей Улюкаев пригрозил банкам, предлагающим завышенные ставки по депозитам, отлучением от фондирования в ЦБ. Ставки тут же начали падать. Банки всегда боялись ЦБ, а уж в этом году особенно – по кризисным временам лицензии у большинства «на волоске», и хорошо ещё отделаться тем или иным предписанием. Определённый вес благодаря правовым новациям в этом году набрала и ФСФР. Инсайдеров, аналитиков и журналистов не по-детски испугали подготовленные службой поправки в Уголовный кодекс. По ним можно схлопотать до семи лет лишения свободы за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг.
Законопроект об инсайде, скорее всего, будет окончательно принят уже в первом квартале. Другие регуляторы тоже недаром ели хлеб. Росавиация заставила поволноваться авиаперевозчиков, отозвав несколько сертификатов эксплуатантов. Из-за неудовлетворительного финансового положения и долгов перед Пенсионным фондом большинство из них получили предупреждения. Дело пахнет керосином, который многим авиакомпаниям нынче отказываются отгружать без предоплаты.
11. Чем платить по кредиту?
Пожалуй, главный страх обывателя в прошлом году. «Если я потеряю работу, как я смогу расплачиваться с долгами? Если мне понизят зарплату, мне не хватит на ежемесячный платёж и на жизнь». Эти вопросы заполняли умы сограждан, измученных ипотекой и перегруженных потребкредитами. Ещё один страх: если я не смогу платить, придут приставы – и все заберут, а меня выселят на улицу. Чтобы не пугать особо впечатлительных граждан, государство даже создало Агентство по реструктуризации ипотечных кредитов, однако к его услугам прибегла лишь очень незначительная часть заёмщиков. Многие договорились напрямую с банками, которые соглашались выдать "короткий" кредит на неотложные нужды, чтобы клиент мог расплачиваться по ипотеке, пока не кончатся тяжёлые времена.
12. А как же бонус?
Начавшись с протестов против миллионных премиальных западных банкиров, антибонусная кампания докатилась и до России. Первым делом президент потребовал скромности от глав госкомпаний, и частный сектор тут же замер в страхе. Впрочем, и прибылей из которых можно было бы платить крупные бонусы, не было почти ни у кого.
К концу года ситуация начала выправляться и некоторые российские компании начали объявлять о готовности выплатить бонусы за 2009 год. Но самое странное, американские банкиры – из-за которых всё началось, и которые были главным объектом атаки, – тоже получили премии! Руководители американских ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac получат по итогам года в сумме около $12 млн. Это хоть и меньше прошлогодних выплат на 40%, но все же не так плохо. Правда, в Великобритании и Франции на бонусы банкиров за 2009 год, в котором банки получили беспрецедентную господдержку, введён 50-процентный налог.
13. Где моя машина?
Сохранение работы и дохода не гарантировало уверенности в завтрашнем дне. Не пострадавшие от сокращений штатов и зарплат граждане, да еще и решившие купить новый автомобиль в кризисный год, вызывали зависть окружающих. Но сами были немало напуганы банкротством дилеров. Как правило, дилер берет предоплату, а потом выкупает ПТС у своего поставщика. Далеко не у всех оказывались средства на выкуп ПТС, и оплатившие автомобиль граждане оказывались и без денег, и без новенького авто. Страх оказаться в такой ситуации преследовал обеспеченные слои населения, и это была не паранойя. Некоторые, например, клиенты петербургского «Фаст моторс», челябинского «Машинного двора» и новосибирского «Транзит-Сервиса» своих машин так и не увидели.
29 декабря 2009 г