-ћетки
јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны собаки современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж
-ћузыка
- “эм √ринхилл - ≈щЄ раз о нищих и безумцах
- —лушали: 2341 омментарии: 1
- Ћора ѕровансаль - √имн Ёлберет
- —лушали: 2828 омментарии: 1
- Ёпидеми€ - –оманс о слезе
- —лушали: 2723 омментарии: 2
- —ветлана —урганова - ¬есна
- —лушали: 9360 омментарии: 2
- янка ƒ€гилева - Ќюркина песн€
- —лушали: 1382 омментарии: 0
-ѕодписка по e-mail
-ѕоиск по дневнику
-–убрики
- ќ времени о жизни о себе (1521)
- ћысли (106)
- —тЄб (78)
- —тихи (68)
- ƒепрессн€к (29)
- Ѕесконечное приключение (25)
- —татьи (18)
- ѕроза (9)
- ‘илиал цитатника: не_моЄ творчество (7)
- “есты (2)
- ѕесни (2)
-‘отоальбом

- ћать сыра ѕрирода
- 15:57 20.03.2011
- ‘отографий: 92

- ѕриколы
- 15:54 20.03.2011
- ‘отографий: 36

- ћо€ собака и другие звери
- 15:49 20.03.2011
- ‘отографий: 138
-»нтересы
-ѕосто€нные читатели
-_¬ершитель BarSya DartWeider Weidel „ертополошенка Adanedell Adept665 Alarun BuffoG Buggy Crying_in_the_night Curious_Joe DemonSDA Eldaneuro FechTovalchica HeDoM_AzurA Kross Lora_Natalia Oskol Paradoxish Rayerven S_ivanov Scaldir Stimerium Stormblest Strellock en101 fatamor kondar presviteros svetovid train_in_my_vein xSync zapletatell ЅџЋ№ Ѕель_¬ульф ¬еликий_—киф ¬любленный_¬ампир ƒо_¬андейкер «адумчивый_Jack ай_Ћешер ЋЄна_из_Ќайлисса Ћик_и_’имер ћертвый_ветер ѕјЅ –усский_ƒонбасс —≈ƒ№ћќ≈_Ќ≈Ѕќ “Ємный_¬олк “ареич “игра_2006
-—ообщества
-—татистика
«аписи с меткой рецензии
(и еще 13066 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки практика прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж
ѕосмотрела "я не –аппапорт" |
ƒневник |
«аснуть на рассвете, проснутьс€ поздним утром, когда с работы вернулс€ папа. ќчередной зимний день в пастельных тонах снова прошЄл в медитативном созерцании, ностальгии и философии. ѕока в гр€зно-палевом небе раствор€лс€ шарик солнца, окрашива€ его золотистым оттенком, € так толком и не заставила себ€ ничего сделать. „ертовски недовольна собой, ибо окончательно обленилась и не хочу ничем заниматьс€ Ц даже отдыхать Ц до самого вечера. я, конечно, зимой и летом всегда пребываю в эдакой сп€чке в отличие от более эмоциональных и контрастных осени и весны, но не настолько же, поэтому надо бы мобилизоватьс€, начать составл€ть дл€ себ€ график, как на предыдущих каникулах, чтобы потом не было мучительно больно и далее по тексту. ƒа-да, а ещЄ надо поступить в институт, выучить €понский и научитьс€ рисовать, мечты-мечты-где-ваша-гадость. огда сгустились сумерки, € вывалилась на свет Ѕожий; снег искрилс€ под ногами мелким битым стеклом и сыпалс€ с неба пригоршн€ми блЄсток, держалс€ добрый предрождественский мороз. я дождалась автобуса, доехала до метро, на метро Ц до јрбатской, пошагала по Ќикитскому и “верскому бульварам до театра на ћалой Ѕронной, подошла рановато, погрелась в холле, как впустили Ц вошла и подошла к сувенирам. ƒело было в толстом стекл€нном коте, которого € видела только в театрах и который, чем больше € его видела, тем больше мне нравилс€, хоть у мен€ уже и есть один стекл€нный кот из театра; когда € последний раз была в ћа€ковке, там всех этих котов уже раскупили, а сегодн€ на Ѕронной € приобрела последнего Ц видимо, пользуютс€ попул€рностью. «атем € купила программку и свежую газету, подн€лась к партеру, почитала до первого звонка, а с первым звонком прошла в зал и начала своЄ кочевье по крайним местам передних р€дов, естественно не жела€ знать своЄ законное место где-нибудь в глубине бельэтажа. ќднако мен€ сгон€ли и сгон€ли, количество свободных мест сокращалось и сокращалось, причЄм билеты у людей были в том числе и на откидушки, так что всЄ, что мне в конце концов оставалось к третьему звонку, - это караулить место, на котором кака€-то девушка держала свою сумочку, увер€€, что должен подойти еЄ спутник. я наде€лась, что когда свет погас€т, его полюбому уже не пуст€т в зал и € смогу посидеть там хот€ бы до антракта, однако администраторша, не в пример своим коллегам из других театров дружелюбна€, доверительно сообщила мне, что если у человека достаточно денег, он имеет право сидеть в одиночку на двух местах и пос€гать на кресло, зан€тое сумочкой, € не могу. ѕришлось отползать на свободную откидушку одного из задних р€дов партера Ц что тоже было хорошо, даже не понадобилс€ бинокль, а полный аншлаг (много€русный зал забилс€ битком) объ€сн€лс€ тем, что показывали Ђя не –аппапортї - премьеру года аж 2008го, зато расхваленную прессой всех мастей. ѕосмотрела и € Ц в преддверии завтрашнего визита на премьеру сезона текущего.
ѕьеса американца Ёрба √арднера, покинувшего сей грешный мир семь лет назад, идеально подходит дл€ того, чтобы вывести на сцену старую гвардию: еЄ главным геро€м Ц по 80 с копейками лет. Ќат (Ћев ƒуров) совмещает в себе черты барона ћюнхгаузена и ƒон ихота Ц жить не может без врань€ и попыток восстановить справедливость, за что и регул€рно огребает. ѕользу€сь своими недюжинными актЄрскими способност€ми и неуЄмной фантазией, он то прикидываетс€ адвокатом, чтобы спасти от увольнени€ своего друга ћиджа (ћартынюк), то сочин€ет себе внебрачную дочь из »зраил€, чтобы пуститьс€ в бега от своей бизнесменши-дочери (≈катерина ƒурова), пытающейс€ оградить его от плачевно заканчивающихс€ подвигов. ј когда нека€ художница задолжала бравому овбою, снабжающему еЄ кокаином, Ќат пытаетс€ еЄ крышевать уже вместе с вт€нутым им в авантюру ћиджем Ц но игра в мафиози, состр€панна€ по мотивам киношаблонов, проваливаетс€, и в больнице на сей раз оказываетс€ последний. ¬ финале все наивные старани€ старичков-бунтарей Ђразбиваютс€ о чугунную жопу реальностиї©, и они умирают и сами не замечают этого, продолжа€ один Ц без умолку сочин€ть, другой Ц безуспешно оградить себ€ от потока болтовни. ¬торостепенные же персонажи продолжают жить, и хорошие, конечно же, - жить хорошо, а плохие Ц плохо. ћораль остаЄтс€ не€сной, как и то, при чЄм здесь какой-то –аппапорт, которого так любит поминать Ќат: ¬икипеди€ знает только двоих –аппапортов, русского кинорежиссЄра и его сына-архитектора, но вр€д ли кого-то из них имел в виду √арднер. —пектакль за€влен как комеди€, однако и ничего особо смешного в нЄм не оказалось Ц скорее, всЄ достаточно грустно. ≈щЄ одна недавно виденна€ мною истори€ из жизни неунывающих пенсионеров Ц Ђ“опол€ и ветерї - кажетс€ мне и на несколько пор€дков более смешной, и на столько же более философской и цепл€ющей. ¬идимо, публика приходит только Ђна ƒуроваї, чей негромкий голос вр€д ли долетает до галЄрки, или, как и €, из любопытства. „то ж, интерес удовлетворЄн, вывод Ц постановка дл€ разового ознакомлени€ вполне смотрибельна, за два часа не успевает наскучить.
я вышла со спектакл€, пережила давку в гардеробе, вывалилась на мороз, добежала обратно до метро, доехала до дома. » даже заставила себ€ начать не со страдани€ ерундой, а с рецензии, ибо на ерунду у мен€, как-никак, вс€ ночь впереди. ј сейчас € эстетствую Ц заедаю кофе мандаринами и шоколадом и слушаю «имовье «верей, “очку –осы, —обак ачалова, ћонгол Ўуудан и »вана айфа Ц замечательных реб€т, о существовании которых мало кто знает из нынешних поколений. ≈щЄ одно Ђнадої, в плюс к более отдалЄнным из начала сего поста: надо бы вспомнить о том, что врем€ от времени € пишу стихи, а последнее такое врем€ было довольно-таки давно. ѕосему попробую совершить очередную попытку родить что-нибудь рифмованное, а с вами прощаюсь до завтрашней рецензии по очередному возвращению из театра)

ѕьеса американца Ёрба √арднера, покинувшего сей грешный мир семь лет назад, идеально подходит дл€ того, чтобы вывести на сцену старую гвардию: еЄ главным геро€м Ц по 80 с копейками лет. Ќат (Ћев ƒуров) совмещает в себе черты барона ћюнхгаузена и ƒон ихота Ц жить не может без врань€ и попыток восстановить справедливость, за что и регул€рно огребает. ѕользу€сь своими недюжинными актЄрскими способност€ми и неуЄмной фантазией, он то прикидываетс€ адвокатом, чтобы спасти от увольнени€ своего друга ћиджа (ћартынюк), то сочин€ет себе внебрачную дочь из »зраил€, чтобы пуститьс€ в бега от своей бизнесменши-дочери (≈катерина ƒурова), пытающейс€ оградить его от плачевно заканчивающихс€ подвигов. ј когда нека€ художница задолжала бравому овбою, снабжающему еЄ кокаином, Ќат пытаетс€ еЄ крышевать уже вместе с вт€нутым им в авантюру ћиджем Ц но игра в мафиози, состр€панна€ по мотивам киношаблонов, проваливаетс€, и в больнице на сей раз оказываетс€ последний. ¬ финале все наивные старани€ старичков-бунтарей Ђразбиваютс€ о чугунную жопу реальностиї©, и они умирают и сами не замечают этого, продолжа€ один Ц без умолку сочин€ть, другой Ц безуспешно оградить себ€ от потока болтовни. ¬торостепенные же персонажи продолжают жить, и хорошие, конечно же, - жить хорошо, а плохие Ц плохо. ћораль остаЄтс€ не€сной, как и то, при чЄм здесь какой-то –аппапорт, которого так любит поминать Ќат: ¬икипеди€ знает только двоих –аппапортов, русского кинорежиссЄра и его сына-архитектора, но вр€д ли кого-то из них имел в виду √арднер. —пектакль за€влен как комеди€, однако и ничего особо смешного в нЄм не оказалось Ц скорее, всЄ достаточно грустно. ≈щЄ одна недавно виденна€ мною истори€ из жизни неунывающих пенсионеров Ц Ђ“опол€ и ветерї - кажетс€ мне и на несколько пор€дков более смешной, и на столько же более философской и цепл€ющей. ¬идимо, публика приходит только Ђна ƒуроваї, чей негромкий голос вр€д ли долетает до галЄрки, или, как и €, из любопытства. „то ж, интерес удовлетворЄн, вывод Ц постановка дл€ разового ознакомлени€ вполне смотрибельна, за два часа не успевает наскучить.
я вышла со спектакл€, пережила давку в гардеробе, вывалилась на мороз, добежала обратно до метро, доехала до дома. » даже заставила себ€ начать не со страдани€ ерундой, а с рецензии, ибо на ерунду у мен€, как-никак, вс€ ночь впереди. ј сейчас € эстетствую Ц заедаю кофе мандаринами и шоколадом и слушаю «имовье «верей, “очку –осы, —обак ачалова, ћонгол Ўуудан и »вана айфа Ц замечательных реб€т, о существовании которых мало кто знает из нынешних поколений. ≈щЄ одно Ђнадої, в плюс к более отдалЄнным из начала сего поста: надо бы вспомнить о том, что врем€ от времени € пишу стихи, а последнее такое врем€ было довольно-таки давно. ѕосему попробую совершить очередную попытку родить что-нибудь рифмованное, а с вами прощаюсь до завтрашней рецензии по очередному возвращению из театра)

ћетки: рецензии театры театр спектакли театр на малой бронной € не раппапорт € не раппопорт € - не раппапорт € - не раппопорт |
ѕосмотрела "Ѕерег женщин" |
ƒневник |

¬черашним вечером от нефиг делать зачем-то посмотрев по телеку краем глаза первый ќбитаемый ќстров, € рано Ц в половине первого Ц ушла спать. » всЄ бы ничего, если бы среди ночи € не проснулась, удивившись тому, что светло как днЄм от луны и снега, и затем долго, очень долго не могла заснуть, проворочалась, наверное, несколько часов, чувству€, как одновременно и помираю с голода, и в носу по€вл€етс€ запах крови от переутомлени€. Ќаконец, € отрубилась и среди множества маловразумительных снов увидела один, среди последних, запомнившийс€ и довольно-таки странный: на каком-то поле битвы € дралась на ножах с каким-то д€дькой в костюме века эдак XVIII, но почему-то €рко-розового цвета. Ќасколько € успела разгл€деть, он был вполне симпатичным, с длинными волосами и эспаньолкой; мы столкнулись в стороне от гущи бо€, было непон€тно, кто на кого первый наскочил, и убивать его у мен€ не было желани€, но € быстро пон€ла Ц либо € его, либо он мен€. ќн успел ранить мен€ в правое плечо, но € зацепила его уже несколько раз и, в конце концов, добила ударом в грудь и проснулась; случаи, когда € убиваю во сне, Ц единичные, и вс€кий раз остаЄтс€ непри€тный осадок. ¬от и теперь € проснулась невыспавша€с€, разбита€ аж в половине первого, немного пострадала ерундой, пон€ла, что ничего общественно полезного сделать не смогу, и уползла дремать на диван в компании собака. “ак € и провал€лась до темноты; вал€тьс€ было хорошо, однако, подн€вшись, € вынуждена была объективно признать своЄ состо€ние как крайне паршивое Ц видимо, крепчающий мороз поспособствовал низкому атмосферному давлению: € беспрестанно зевала, ибо мне не хватало воздуха, когда пыталась на чЄм-то сосредоточитьс€ Ц начинала кружитьс€ голова. ќднако самовнушение Ц страшна€ сила, и, взбодрившись, € вечерком вывалилась на улицу, поймала маршрутку на светофоре, доехала до метро, с книжкой добралась на подземке до —моленки и сунулась в тамошнюю театральную кассу Ц справитьс€ насчЄт билетов на вторую декаду феврал€. ассиром оказалс€ вполне адекватный и общительный парень, и билеты были легко и быстро закуплены на вполне удобоваримую сумму, после чего € пошагала по јрбату Ц до театра ¬ахтангова и, поскольку времени было ещЄ минут 15 и внутрь не пускали, Ц мимо, до следующего перекрЄстка и обратно. ¬ошла €, уже не чувству€ подбородка, носа и пальцев, быстро отогрелась, купила программку и подн€лась на второй этаж, где располагались партер с амфитеатром (мой законный балкон был аж на четвЄртом, если верить администраторше). ¬ холле сто€ла высока€ Єлка, у которой все фотографировались, и играл живой оркестр, а € устроилась подальше от сквоз€щего окна, почитала до первого звонка и вошла в зал. ќн заполн€лс€ довольно активно, а перемещению между р€дами мешали перегораживающие узкие проходы приставные стуль€ и откидушки, посему € не стала пос€гать на передние р€ды партера, хоть там и заманчиво сверкали свободные места, а прин€лась кочевать по средним. Ќесколько раз мен€ согнали, но € наконец осталась таки в середине седьмого р€да при заполнившемс€ почти под зав€зку зале Ц достаточно близко, чтобы без бинокл€ наслаждатьс€ зрелищем.
ЂЅерег женщинї - не совсем спектакль. Ёто Ц хореографическа€ композици€ всего на полтора часа, объединивша€ почти всех актЄров труппы, без единого слова. ѕока мужчины убивают друг друга в войнах, женщины неприка€нно странствуют и собираютс€ в портовом ресторанчике, ожида€ парохода. ћолодые и пожилые, слабые и сильные, утончЄнно-лиричные и трагично-решительные Ц все они вспоминают, конечно же, своих мужчин. ажда€ любовна€ истори€ рассказана танцем под песни ћарлен ƒитрих Ц на немецком, французском, английском, ивритеЕ ћожно не понимать текста, но чувствовать, как удивительно подход€т они к различным ситуаци€м Ц флирту, ревности, расставанию, разрыву, нежности, страсти, скорби. ѕечальные воспоминани€ смен€ютс€ радостными, перетекают друг в друга, и хочетс€ смотреть и слушать ещЄ и ещЄ. ¬ паузах Ц пароходные гудки, вой сирен воздушной тревоги, ритмична€ чеканка шага бесконечных солдатских эшелонов, проход€щих мимо: раз. два. раз-два-три. ћало, слишком мало мне показалось этой прекрасной зарисовки! Ќо и в том, что состо€лось, произошло, Ц мощный источник осмысленного эстетического удовольстви€, чудо безупречной лЄгкости и непринуждЄнности, рождЄнное отточенным мастерством. ¬еликолепны исполнители ролей, умудрившиес€ одной лишь пластикой передать большее, чем личность, характер Ц целую судьбу. ¬еликолепна сценографи€ Ц что ни мизансцена, то идеальна€ симметри€, никто никого не заслон€ет, никому не мешает, не сбиваетс€ в бесформенное п€тно формальной массовки. ¬еликолепно оформление Ц наклонное зеркало, создающее дополнительную плоскость дл€ создани€ изысканных живых картин, лопасти вентил€торов, похожих на пропеллеры, груды чемоданов, не позвол€ющие забыть о временности, ненадЄжности пристанища. », конечно, великолепна ћарлен, которую узнаЄшь во всех Ц вместе и по отдельности Ц героин€х. »тог Ц качественный, стильный театральный артхаус, редка€ на подмостках, зато красива€ птица.
—пектакль неожиданно закончилс€, и € снова оказалась на промЄрзшем до костей јрбате, пошагала до јрбатской, поехала домой. —нова повезло с маршруткой, так что даже не пришлось тащитьс€ до дома пешком, хот€ за бортом мелькала совершенно неверо€тна€ луна - огромна€, словно приблизивша€с€ к земле на рассто€ние, раза в три меньшее прежнего. ¬ечер € начала, уже по традиции, со всего того, что не успела сделать днЄм, оставив рецензию на заполночь, но вот готова и она, и мне не помешало бы уйти спать, пока не рассвело. ѕрощаюсь с вами до завтрашней театральной рецензии)
ћетки: рецензии театры театр спектакли театр имени вахтангова театр вахтангова берег женщин |
ѕосмотрела "ћаленькую колдунью"^^ |
ƒневник |
— грехом пополам подн€вшись по будильнику, € успела только позавтракать, как пора было уже выпинывать себ€ из дому на мороз. ¬ полусонном состо€нии € доехала на автобусе до метро, на метро Ц до ёго-западной, дошла до театра, встала в холле Ц внутрь ещЄ не пускали, € умудрилась рано прибыть Ц в окружении мелюзги. »бо, как известно, на два часа дн€ идут детские спектакли Ц как, например, Ђ—обакиї, посмотренные мною в свой день рождени€, или Ђћаленька€ колдунь€ї, которую € смотрела сегодн€, утеша€сь тем, что все прочие вышедшие из нежного возраста поклонники ёго-запада еЄ уже посмотрели и не по разу. ¬от и сегодн€ не € единственна€ возвышалась над толпой младшеклассников Ц виднелись знакомые лица, мелькающие практически на всех спектакл€х. огда двери театра, наконец, открылись, €, приобрет€ программку, при наличии доброго получаса свободного времени отправилась в буфет выпить чашку кофе, закусив шоколадкой, которую € с собой не вз€ла, посему еЄ пришлось покупать. ёго-западный кофе был, как и в прошлый раз, отменно €дрЄным, торкал даже на запах, ускор€л кровь с первого глотка и поддерживал в соответствующем состо€нии практически до вечера. Ќо не забегаю вперЄд Ц управившись с трапезой ко второму звонку, € вошла в зал, устроилась на своЄм месте с краю последнего, шестого р€да, дождалась, пока после третьего звонка не расс€детс€ вс€ публика, под зав€зку забивша€ зал. ƒалее последовал час с небольшим при€тного врем€провождени€ Ц чертовски мало, господа!
¬ отличие от Ђ—обакї, Ђћа ої - спектакль действительно детский, на основе повести ѕройслера, по которой был сн€т общеизвестный одноимЄнный мультик. —южет тривиален, предсказуем и пр€молинейно-дидактивен: 150-летн€€ (дл€ перевода на человеческий хронометраж делим возраст на дес€ть) колдунь€ по наущению говор€щего ворона наносит добро и причин€ет радость Ц омолаживает пенсионеров, перевоспитывает злого лесника, выводит из лесной чащи заблудившегос€ пацана “омаса по прозвищу (не сме€тьс€!) Ђ∆Єлтый помпонї. ќстальным ведьмам, твор€щим вс€ческие пакости, во главе с тЄтушкой нашей героини такое поведение не по нраву, и они тихо копают под диссидентку, капа€ на неЄ начальству и стрем€сь лишить еЄ магических сил. ≈стественно, всЄ получаетс€ по принципу Ђне рой другому €муї, и в одной отдельно вз€той школе волшебства (не ’огвартсе) воцар€ютс€ дружба, любовь и прочие большие и светлые чувства. ќднако что ни персонаж Ц то залюбуешьс€: ћако играет —аркисова, исполн€вша€ в Ђ—обакахї роль щенка, и что там, что здесь смотрит в зал такими полными вселенской скорби глазами, что сразу хочетс€ обн€ть, погладить по головке и заверить, что с ней об€зательно кто-нибудь будет дружить. Ўахет в роли тЄтки остодурии €рок, оба€телен и самодостаточен, как в любой из своих женских ролей (трансвеститы не свист€т! © ≈вгений), его игра похожа на блистательную импровизацию, если не €вл€етс€ частично таковой. ћатошин достаточно харизматичен, чтобы в эпизодической роли лесника √юнтера всем запомнитьс€ и дет€м понравитьс€ Ц правда, подобрев, его герой €вно многое потер€л. »з —анникова получилс€ уморительный ворон јбракадабр с чЄрным ирокезом и потр€сающе выразительной мимикой. Ќо самым жирным плюсом действа мне показалс€ ведьминский шабаш с футбольными кричалками и т€жЄлыми риффами Ц настолько зажигательный, что к нему хотелось немедленно присоединитьс€. ¬ общем, в качестве новогодней Єлки дл€ всей семьи Ђ олдунь€ї с еЄ ворохом позитива подходит как нельз€ лучше Ц с таким обилием песен и танцев этот спектакль вполне т€нет на музыкальный.
ѕосле поклона детей пустили поводить на сцене хороводы с актЄрами, затем спровадили к родител€м. я же пошагала от театра до метро, покачалась в вагоне до ћолодЄги, пешком дошла до дома, долго ленилась, страда€ ерундой, но только сейчас, вечером, мобилизовалась и написала сей краткий пост. «автра мен€ снова ждЄт театр, теперь уже Ђвзрослыйї, посему прощаюсь до завтрашнего и более позднего времени)

¬ отличие от Ђ—обакї, Ђћа ої - спектакль действительно детский, на основе повести ѕройслера, по которой был сн€т общеизвестный одноимЄнный мультик. —южет тривиален, предсказуем и пр€молинейно-дидактивен: 150-летн€€ (дл€ перевода на человеческий хронометраж делим возраст на дес€ть) колдунь€ по наущению говор€щего ворона наносит добро и причин€ет радость Ц омолаживает пенсионеров, перевоспитывает злого лесника, выводит из лесной чащи заблудившегос€ пацана “омаса по прозвищу (не сме€тьс€!) Ђ∆Єлтый помпонї. ќстальным ведьмам, твор€щим вс€ческие пакости, во главе с тЄтушкой нашей героини такое поведение не по нраву, и они тихо копают под диссидентку, капа€ на неЄ начальству и стрем€сь лишить еЄ магических сил. ≈стественно, всЄ получаетс€ по принципу Ђне рой другому €муї, и в одной отдельно вз€той школе волшебства (не ’огвартсе) воцар€ютс€ дружба, любовь и прочие большие и светлые чувства. ќднако что ни персонаж Ц то залюбуешьс€: ћако играет —аркисова, исполн€вша€ в Ђ—обакахї роль щенка, и что там, что здесь смотрит в зал такими полными вселенской скорби глазами, что сразу хочетс€ обн€ть, погладить по головке и заверить, что с ней об€зательно кто-нибудь будет дружить. Ўахет в роли тЄтки остодурии €рок, оба€телен и самодостаточен, как в любой из своих женских ролей (
ѕосле поклона детей пустили поводить на сцене хороводы с актЄрами, затем спровадили к родител€м. я же пошагала от театра до метро, покачалась в вагоне до ћолодЄги, пешком дошла до дома, долго ленилась, страда€ ерундой, но только сейчас, вечером, мобилизовалась и написала сей краткий пост. «автра мен€ снова ждЄт театр, теперь уже Ђвзрослыйї, посему прощаюсь до завтрашнего и более позднего времени)

ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли маленька€ колдунь€ мако рецензии |
ѕосмотрела "Ўерлока ’олмса". ’вастаюсь подарком |
ƒневник |
’вастаюсь. 01.01.10 я праздновала до четвЄртого часу ночи, собак облаивал от души грем€щие за окном фейерверки, уход€ на кухню, чтобы никто на него не шикал, мама с бабушкой потихоньку сворачивали трапезу. ѕотом, так и не посадив батарейки плеера, но замучив уши наушниками, € уползла спать, снова снилась кака€-то мерзость (пить надо меньше), в районе одиннадцати разбудил пришедший с работы папа, подарил увесистую металлическую фигурку какого-то восточного мудреца и за€вил, что это Ѕудда. я показала ему своего дерев€нного Ѕудду, значительно более упитанного и позитивного, и с помощью яндекса вы€снила, что подаренный Ц скорее всего, онфуций. ѕропалив афишу яндекса и выбрав кинотеатр и сеанс, то бишь ћатрицу и половину четвЄртого, € после обеда вышла из дому и пешком отправилась до метро. ѕогода была потр€сающа€ Ц мороз и солнце, слеп€щий снег, безлюдие и тишина, брошенные свернувшимис€ Єлочными базарами груды нераспроданных ЄлокЕ ” мен€ был ещЄ целый час, и € продолжила идти Ц по надземному переходу через –ублЄвское шоссе в рылатское, вдоль дороги до поворота на ќсенний бульвар, по покрытому гололЄдом бульвару до кинотеатра. «а 20 минут до начала сеанса купив билет, влетевший мне в 300 рублей, € вышла пропалить зоомаг, по€вившийс€ по соседству, но он был закрыт, и €, вернувшись, вскоре была впущена в один из маленьких залов. ќсев на своЄм уютном местечке в середине четвЄртого р€да, € долго ждала, пока заполнитс€ практически полностью зал, потом долго смотрела рекламу, мысленно определ€€, что буду смотреть в кино в ближайшие мес€цы (не знаю только пока, идти на Ђ нигу »ла€ї или нет, при том что € в своЄ врем€ так и не посмотрела Ђя Ц легендаї), а потомЕ началс€ ЂЎерлок ’олмсї.
—импат€га ƒауни-младший снова спасает ни много ни мало, а весь мир, только на сей раз Ц не в красно-золотой броне, а в щЄгольском костюме лондонского денди. ќднако “они —тарк, вынужденный таскать на себе груду металла за неимением сверхспособностей, обзавидовалс€ бы при встрече с таким Ўерлоком ’олмсом: самый попул€рный сыщик всех времЄн и народов в интерпретации √а€ –ичи превратилс€ в супергеро€, у которого помимо дедукции непомерно развиты ещЄ и скорость реакций, зрение и нюх. тому же, в отличие от классического персонажа онан ƒойл€, новый ’олмс, не из книги, а из комиксов, Ц отнюдь не окутанный флЄром таинственности джентльмен, распутывающий сложные дела, не встава€ с кресла, а тот ещЄ моветон, поддерживающий себ€ в форме при помощи участи€ в драках подпольного тотализатора и с лЄгкостью наход€щий общий €зык с уголовниками. ¬атсон ему под стать Ц пока компаньон работает мозгами и кулаками, доктор метко стрел€ет и к тому же трогательно заботитс€ о товарище: вытаскивает из депрессии, вызванной отсутствием работы, бросаетс€ на помощь, проща€ старани€ ’олмса по расстройству его помолвки, и спасает от гибели, риску€ собственной жизнью. ¬оистину идеальна€ пара: во всЄм друг друга дополн€ют, не бросают в беде, понимают с полусловаЕ в течение всего фильма € всЄ ждала, когда же они наконец поцелуютс€, подтвердив общеизвестный факт из официальной биографии Ўерлока о том, что женщинами он не интересовалс€, но этого так и не произошло. „то до главного злоде€, то этот пресловутый лорд Ѕлэкмор Ц не менее колоритна€ фигура: сатанист и чЄрный маг, мечтающий, само собой, о власти над человечеством и стрем€щийс€ к этой власти, естественно, посредством серии ритуальных убийств, св€занных с символами и географиейЕ да-да, привет Ђјнгелам и демонамї и прочим произведени€м ƒэна Ѕрауна. ¬идимо, снимать детектив без приставки Ђмистическийї нынче не комильфо Ц но, конечно же, в финале все загадочные €влени€ получат рациональное объ€снение, кроме одного: почему главзлоде€ повсюду сопровождает чЄрный ворон?.. ¬ общем, получилось отнюдь не интеллектуальное, зато зрелищное кино со стремительным экшном, полным избитыми Ђострымиї моментами, красивыми спецэффектами, претендующей на эпичность графикой (один недостроенный “ауэрский мост чего стоит), короткими диалогами, исполн€ющими преимущественно юмористическую функцию, и намЄком на продолжение: уже вполне канонический вражина, профессор ћориарти, стырил кусок стимпанкового вида машины, ни разу не по€вившись в кадре. артинка Ц а-л€ Gotham city, драки в замедленном времени а-л€ ЂЅольшой кушї и Ђ арты, деньги, два стволаї, музычка Ц не тер€юща€с€ фоном, а бодра€ и запоминающа€с€. —мотреть в качестве отдыха и развлечени€ Ц вполне рекомендуетс€.
ƒо родной ћолодЄги € уже доехала на метро, но до дома под фонар€ми пилила дворами пешком, ибо красиво. «автра мне Ц в первый раз в новом году в театр. ѕричЄм днЄм^^

Ќе кадр, а истори€! Ўерлок ревнует и боитс€ остатьс€ один, ¬атсон сначала дуетс€, но потом всЄ понимает.)
—импат€га ƒауни-младший снова спасает ни много ни мало, а весь мир, только на сей раз Ц не в красно-золотой броне, а в щЄгольском костюме лондонского денди. ќднако “они —тарк, вынужденный таскать на себе груду металла за неимением сверхспособностей, обзавидовалс€ бы при встрече с таким Ўерлоком ’олмсом: самый попул€рный сыщик всех времЄн и народов в интерпретации √а€ –ичи превратилс€ в супергеро€, у которого помимо дедукции непомерно развиты ещЄ и скорость реакций, зрение и нюх. тому же, в отличие от классического персонажа онан ƒойл€, новый ’олмс, не из книги, а из комиксов, Ц отнюдь не окутанный флЄром таинственности джентльмен, распутывающий сложные дела, не встава€ с кресла, а тот ещЄ моветон, поддерживающий себ€ в форме при помощи участи€ в драках подпольного тотализатора и с лЄгкостью наход€щий общий €зык с уголовниками. ¬атсон ему под стать Ц пока компаньон работает мозгами и кулаками, доктор метко стрел€ет и к тому же трогательно заботитс€ о товарище: вытаскивает из депрессии, вызванной отсутствием работы, бросаетс€ на помощь, проща€ старани€ ’олмса по расстройству его помолвки, и спасает от гибели, риску€ собственной жизнью. ¬оистину идеальна€ пара: во всЄм друг друга дополн€ют, не бросают в беде, понимают с полусловаЕ в течение всего фильма € всЄ ждала, когда же они наконец поцелуютс€, подтвердив общеизвестный факт из официальной биографии Ўерлока о том, что женщинами он не интересовалс€, но этого так и не произошло. „то до главного злоде€, то этот пресловутый лорд Ѕлэкмор Ц не менее колоритна€ фигура: сатанист и чЄрный маг, мечтающий, само собой, о власти над человечеством и стрем€щийс€ к этой власти, естественно, посредством серии ритуальных убийств, св€занных с символами и географиейЕ да-да, привет Ђјнгелам и демонамї и прочим произведени€м ƒэна Ѕрауна. ¬идимо, снимать детектив без приставки Ђмистическийї нынче не комильфо Ц но, конечно же, в финале все загадочные €влени€ получат рациональное объ€снение, кроме одного: почему главзлоде€ повсюду сопровождает чЄрный ворон?.. ¬ общем, получилось отнюдь не интеллектуальное, зато зрелищное кино со стремительным экшном, полным избитыми Ђострымиї моментами, красивыми спецэффектами, претендующей на эпичность графикой (один недостроенный “ауэрский мост чего стоит), короткими диалогами, исполн€ющими преимущественно юмористическую функцию, и намЄком на продолжение: уже вполне канонический вражина, профессор ћориарти, стырил кусок стимпанкового вида машины, ни разу не по€вившись в кадре. артинка Ц а-л€ Gotham city, драки в замедленном времени а-л€ ЂЅольшой кушї и Ђ арты, деньги, два стволаї, музычка Ц не тер€юща€с€ фоном, а бодра€ и запоминающа€с€. —мотреть в качестве отдыха и развлечени€ Ц вполне рекомендуетс€.
ƒо родной ћолодЄги € уже доехала на метро, но до дома под фонар€ми пилила дворами пешком, ибо красиво. «автра мне Ц в первый раз в новом году в театр. ѕричЄм днЄм^^

Ќе кадр, а истори€! Ўерлок ревнует и боитс€ остатьс€ один, ¬атсон сначала дуетс€, но потом всЄ понимает.)
ћетки: фильмы рецензии кино новый год подарки шерлок холмс jim beam |
ѕосмотрела "—мешные деньги" |
ƒневник |
»так, как € уже писала, сегодн€ после обеда, еле успев дописать рецензию на спектакль вчерашний, € отправилась на спектакль сегодн€шний Ц то бишь по хруст€щему снежку пошагала до автобусной остановки, дождалась автобуса с покрывшимис€ лед€ным слоем стЄклами, доползла на нЄм до метро и спустилась в подземку. ƒавешний топографический кретинизм отпустил мен€ ещЄ не полностью Ц € по привычке выскочила на ѕлощади революции, недоумЄнно уставилась на указатели переходов, на которых ничего нужного не значилось, но вскоре вспомнила, каким маршрутом стоит ехать, и доехала ещЄ одну остановку до урской. ƒалее с двум€ пересадками € добралась до –ижской и первым делом сунулась в тамошнюю театральную кассу Ц обеспечивать себ€ любимую билетами на две первые субботы феврал€. —правившись с этой задачей более чем удовлетворительно, € спустилась в подземный переход, где было не протолкнутьс€ от кишащих людей, продающих и покупающих праздничный ширпотреб Ц как и прилавки в магазинах, столики барыг буквально брали штурмом. » в этой толчее € умудрилась угл€деть на одном из крайних симпатичное существо Ц керамического тигра с обт€нутым пушистой полосатой Ђшкуройї телом, хвостом из проволоки-ЂЄршикаї и усами из лески. –ешив, что не комильфо праздновать без символа года (хоть символ и не рыжий и м€гкий, а белый и металлический), € быстренько приобрела красафца за 70 рублей и подн€лась из перехода, направл€€сь к ближайшему автобусу. «абравшись туда, € протр€слась в компании раздражЄнных пассажиров до кинотеатра √авана, высадилась и пошагала до —атирикона, причЄм пришагать умудрилась уже минут за 15 до назначенного начала спектакл€. ќднако € успела и купить программку, и умилитьс€ спокойному как игрушка йоркширу, восседающему на колен€х дамы, торговавшей книжками, дисками и прочим фанмерчем, а когда вошла в зал, как раз прозвенел второй звонок, и € решила не засиживатьс€ на своЄм законном месте и отправилась в партер. — места, которое € зан€ла в середине р€да эдак третьего-четвЄртого, мен€ так и не согнали, только подвинули ближе к центру, а спектакль, как всегда, минут на дес€ть задержали, ибо, видимо, не € одна неожиданно долго добиралась по заснеженному городу. —мотреть же € пришла Ђ—мешные деньгиї - комедию по –эю уни, уже знакомого мне по Ђ—лишком женатому таксистуї в постановке ёго-запада.
Ѕолее удачного спектакл€, чтобы отдохнуть от серьЄзных вещей и зар€дитьс€ позитивным настроением перед праздником, выбрать € не могла: два часа без антракта беспрерывного ржача (прилагаютс€ сгибание пополам, стук ладонью по колену, вытирание слЄз и пота, кашель от нехватки воздуха и восторженные аплодисменты) Ц это вам не фунт изюму. уни выстраивает сюжет по беспроигрышной схеме, работавшей и в Ђ“аксистеї: изобретательный главный герой, попада€ в сложную ситуацию, пытаетс€ выпутатьс€ из неЄ с помощью обмана и по мере стремительного развити€ событий вынужден вт€гивать в свою игру всех окружающих. аждому достаЄтс€ по нескольку ролей, что приводит к нескончаемым неожиданност€м Ц естественно, комичным. Ќевозможно даже пересказать сюжет, не превратившись при этом в подлого спойлера Ц только подразнить потенциальных будущих зрителей зав€зкой: в руки простого офисного служащего случайно попадает чужой чемодан с баснословной денежной суммой, и он решает немедленно рвануть с женой в Ѕарселону навсегда, но в вызванное им такси въезжает машина друзей семьи, приглашЄнных на празднование дн€ рождени€ нашего счастливчика, а в дом по очереди стучатс€ двое полицейских по разным, не св€занным с деньгами поводамЕ ак всегда, британский юмор уни, который так и хочетс€ растаскать на цитаты, умудр€етс€ быть пошлым без грубости и, как всегда, сильно зависит от мастерства исполнителей. ј актЄрский состав в —атириконе подобралс€ на славу Ц все выкладываютс€ искренне, с удовольствием и с полной самоотдачей, неповторимые интонации, мимика и пластика каждого не позвол€ют ни одной шутке пройти незамеченной, и что ни персонаж Ц то €рка€, запоминающа€с€, самодостаточна€, а главное Ц естественна€, Ђжива€ї личность. » эта музыкальна€ тема из Ђ арменї - до чего же она уместна своей с первых нот узнаваемой очаровательной патетикой! »тог: занавес уже опустилс€, а улыбка не сходит с уставшего от смеха лица ещЄ очень долго. ј значит Ц стоит смотреть, ведь действительно качественна€ комеди€ Ц очень больша€ редкость.
Ќо Ц хорошего понемножку. «акончилс€ мой последний спектакль в 2009 году. я вышла из театра, влезла в маршрутку и поехала сто€ Ц согнувшись в три погибели, ибо маршрутка старого образца, жЄлта€ снаружи и тесна€ внутри, с низким потолком. ƒержалась за подозрительно похрустывающую ручку двери люка запасного выхода в крыше, думала Ц оторву еЄ при отклонении назад или открою люк и вылечу через него при отклонении вперЄд, но обошлось Ц ехали снова долго, в объезд пробок по вс€ким закоулкам, однако приехали благополучно. ј там и подземка доставила мен€ до родной ћолодЄги, € дошла до дома пешком, начала было писать рецензию, но мама с бабушкой зате€ли нар€жать у мен€ в комнате Єлку, которую €, будь мо€ вол€, оставила бы в еЄ первозданной красоте. »значальное обещание ограничитьс€ несколькими шариками вылилось в то, что несчастное дерево завешали, как каждый год, так, что его теперь практически не видно, а поскольку мо€ родн€ во врем€ творческого процесса переговаривалась, € сделала паузу, побродила по ƒј, послушала музыку, почитала чужие стихи, пофлудила в аське, а по окончании декоративной работы вернулась к посту. — трудом, но вспомнила, что хотела написать до перерыва; с трудом, но дот€нула рецензию до достойного объЄма, ибо сложно писать, когда и ругать нечего, и никакой глубокой философии не наблюдаетс€ Ц сплошное развлечение. Ќу да хватит о моих критиканских будн€х Ц не веритс€, но завтра Ќовый год и следующа€ мо€ рецензи€ будет уже в 2010-м. «ато, скорее всего, сразу первого числа! ѕрощаюсь, а то уже глаза от монитора устали, да и спать охота. ¬сем доброй ночи и утра!)

Ѕолее удачного спектакл€, чтобы отдохнуть от серьЄзных вещей и зар€дитьс€ позитивным настроением перед праздником, выбрать € не могла: два часа без антракта беспрерывного ржача (прилагаютс€ сгибание пополам, стук ладонью по колену, вытирание слЄз и пота, кашель от нехватки воздуха и восторженные аплодисменты) Ц это вам не фунт изюму. уни выстраивает сюжет по беспроигрышной схеме, работавшей и в Ђ“аксистеї: изобретательный главный герой, попада€ в сложную ситуацию, пытаетс€ выпутатьс€ из неЄ с помощью обмана и по мере стремительного развити€ событий вынужден вт€гивать в свою игру всех окружающих. аждому достаЄтс€ по нескольку ролей, что приводит к нескончаемым неожиданност€м Ц естественно, комичным. Ќевозможно даже пересказать сюжет, не превратившись при этом в подлого спойлера Ц только подразнить потенциальных будущих зрителей зав€зкой: в руки простого офисного служащего случайно попадает чужой чемодан с баснословной денежной суммой, и он решает немедленно рвануть с женой в Ѕарселону навсегда, но в вызванное им такси въезжает машина друзей семьи, приглашЄнных на празднование дн€ рождени€ нашего счастливчика, а в дом по очереди стучатс€ двое полицейских по разным, не св€занным с деньгами поводамЕ ак всегда, британский юмор уни, который так и хочетс€ растаскать на цитаты, умудр€етс€ быть пошлым без грубости и, как всегда, сильно зависит от мастерства исполнителей. ј актЄрский состав в —атириконе подобралс€ на славу Ц все выкладываютс€ искренне, с удовольствием и с полной самоотдачей, неповторимые интонации, мимика и пластика каждого не позвол€ют ни одной шутке пройти незамеченной, и что ни персонаж Ц то €рка€, запоминающа€с€, самодостаточна€, а главное Ц естественна€, Ђжива€ї личность. » эта музыкальна€ тема из Ђ арменї - до чего же она уместна своей с первых нот узнаваемой очаровательной патетикой! »тог: занавес уже опустилс€, а улыбка не сходит с уставшего от смеха лица ещЄ очень долго. ј значит Ц стоит смотреть, ведь действительно качественна€ комеди€ Ц очень больша€ редкость.
Ќо Ц хорошего понемножку. «акончилс€ мой последний спектакль в 2009 году. я вышла из театра, влезла в маршрутку и поехала сто€ Ц согнувшись в три погибели, ибо маршрутка старого образца, жЄлта€ снаружи и тесна€ внутри, с низким потолком. ƒержалась за подозрительно похрустывающую ручку двери люка запасного выхода в крыше, думала Ц оторву еЄ при отклонении назад или открою люк и вылечу через него при отклонении вперЄд, но обошлось Ц ехали снова долго, в объезд пробок по вс€ким закоулкам, однако приехали благополучно. ј там и подземка доставила мен€ до родной ћолодЄги, € дошла до дома пешком, начала было писать рецензию, но мама с бабушкой зате€ли нар€жать у мен€ в комнате Єлку, которую €, будь мо€ вол€, оставила бы в еЄ первозданной красоте. »значальное обещание ограничитьс€ несколькими шариками вылилось в то, что несчастное дерево завешали, как каждый год, так, что его теперь практически не видно, а поскольку мо€ родн€ во врем€ творческого процесса переговаривалась, € сделала паузу, побродила по ƒј, послушала музыку, почитала чужие стихи, пофлудила в аське, а по окончании декоративной работы вернулась к посту. — трудом, но вспомнила, что хотела написать до перерыва; с трудом, но дот€нула рецензию до достойного объЄма, ибо сложно писать, когда и ругать нечего, и никакой глубокой философии не наблюдаетс€ Ц сплошное развлечение. Ќу да хватит о моих критиканских будн€х Ц не веритс€, но завтра Ќовый год и следующа€ мо€ рецензи€ будет уже в 2010-м. «ато, скорее всего, сразу первого числа! ѕрощаюсь, а то уже глаза от монитора устали, да и спать охота. ¬сем доброй ночи и утра!)

ћетки: театр театры театр сатирикон театр "сатирикон" сатирикон спектакли рецензии смешные деньги |
ѕосмотрела "Ўаткое равновесие" (типа вчерашний пост) |
ƒневник |

» вот, таща в сумке плюшевого медвед€ и игрушечную машинку, а на ладони подкидыва€ рогатого колобка, € покинула гостеприимный ≈вропарк и по ‘илЄвской ветке, менее многолюдной, ибо назрел уже час пик, доехала от иевской до јрбатской. ƒо театра ћа€ковского € дошла рано, дверей ещЄ не открывали; утренн€€ пурга за врем€ моего шоппинга улеглась, но снег продолжал порошить, и макушка ƒжаза была влажной и прохладной. Ќо вот, наконец, впустили в холл, где € была не далее как позавчера, и € приобрела программку, подн€лась к партеру и привычно уселась читать до первого звонка. —перва, пам€ту€ непри€тный опыт предыдущей попытки пренебречь своим законным местом в бельэтаже, € планировала звонка до второго-третьего незаметно просидеть в амфитеатре, однако стоило мне войти в зал, как уровень наглости повысилс€, к тому же было заметно, что амфитеатр заполн€етс€ плотнее, нежели партер. » € отправилась на край одного из передних р€дов, кажетс€, третьего или четвЄртого, и на сей раз мне повезло Ц мен€ не только не согнали оттуда, но € к тому же смогла после наступлени€ темноты подвинутьс€ поближе к середине на другое незан€тое место. ¬прочем, в антракте опоздавшие на первое отделение мен€ согнали, и € приготовилась было просидеть второе отделение на откидушке Ц однако мне повезло ещЄ больше: на первом р€ду, в самом центре, оказалось свободное место Ц видимо, в антракте кто-то ушЄл, и € зан€ла его и со своим 50-рублЄвым билетом благополучно просидела там. ј смотрела € свою вторую постановку по ќлби, после Ђ“рЄх высоких женщинї на Ѕронной, Ц ЂЎаткое равновесиеї.
¬ семье у “оби (‘илиппов) всЄ не слава Ѕогу: жена јгнес (—имонова), символ непоколебимо уверенного в своей непогрешимости деспотизма, уверена, что все хот€т еЄ убить, но при этом сама мечтает избавитьс€ от всех родных и близких, чтобы никто не мешал еЄ спокойной старости; сестра жены лэр (ѕрокофьева), символ декадентски-утончЄнного self-destruction, Ц пь€ница, взаимно ненавидит јгнес и влюблена, возможно взаимно, в еЄ мужа; дочь ƒжули€ ( айдановска€), символ почти юношеского максимализма, возвращаетс€ домой после четвЄртого развода. “оби живЄт как на пороховой бочке, стара€сь не тер€ть самообладани€, пыта€сь предотвратить все назревающие конфликты и поддерживать все враждующие стороны сразу. ј тут ещЄ одна проблема: друзь€ семьи √арри («апорожский) и Ёдна (»ванилова) в панике бегут из собственного дома и ищут убежища под крышей у “оби и его с трудом сосуществующих друг с другом домочадцев. ¬ психологии это называетс€ экофобией Ц беспричинной бо€знью своего дома, пребывани€ в нЄм. ќднако гости, оправившись от страха, начинают прекрасно чувствовать себ€ в этой банке с тарантулами и быстро вытесн€ют владельцев жилища, зан€тых собственными проблемами, с положени€ хоз€ев, начина€ распор€жатьс€ ими с помощью вышедшей из песочниц провокации: Ђ≈сли ты мне другЕї Ќапр€жение нарастает, холодна€ война между трем€ женщинами, ждущими прин€ти€ решений от “оби, переходит в стадию открытой грызни, и скелеты выбрасываютс€ из шкафов при посторонних глазах. ќчевидно, что присутствие Ђдрузейї угнетает всех: и јгнес, которую предрассудки о гостеприимстве вынуждают быть лицемерно вежливой и услужливой, и лэр, котора€ скрывает свой трагизм под маской эпатажной бой-бабы с бутылкой, сигаретой и аккордеоном, и ƒжули€, котора€ больше всех страдает от грубого вторжени€ в своЄ личное пространство. Ќо “оби на прин€тие решений оказываетс€ неспособным: он настолько привык к роли миротворца, что выбор между родными и чужими дл€ него неочевиденЕ и только узнав, что на его месте √арри и Ёдна выгнали бы друзей за порог, он выходит из себ€. Ќепон€тно только, чего больше в его финальном эмоциональном взрыве Ц возмущени€ неблагодарностью или горечи от того, что он всЄ же не смог сделать так, чтобы всем было хорошо. » непон€тно, он ли стал причиной ухода √арри и Ёдны, или же они сами решили уйти прежде, чем “оби под давлением дам согласилс€ поговорить с гост€ми. ћораль сей басни жестока, но неоспорима: когда к дому приход€т двое заражЄнных чумой, дверь открывать нельз€, иначе вымрет весь дом. Ќе менее заразна и опасна и истери€. Ќужно отрывать от себ€ пи€вок, даже если они высасывают твою кровь с любовью и вполне логичными апелл€ци€ми на моральные законы о бескорыстности, долге и прочих неоднозначных пон€ти€х. ѕодхватила ли уже семь€ “оби смертельную болезнь, или же еЄ сплотила Ђборьба с оккупациейї - тоже вопрос: финал открыт, осталс€ за кадром. аждый зритель решает сам дл€ себ€, стоит ли поддерживать шаткое равновесие, или надо позволить чувствам и правде вырватьс€ наружу, разрушить карточный домик внешнего, мнимого благополучи€ и начать строить новую, насто€щую крепость на его обломках? ƒа, очень много Ђилиї - ведь јрцибашев, хоть и обозначил жанр постановки как Ђлюбовь и ошибкиї, заострил внимание публики именно на Ђошибкахї - и лично мне главной ошибкой героев видитс€ ещЄ одна бо€знь, аглиофоби€ Ц бо€знь боли. Ѕольно отрывать пи€вок, больно обнажать правду, срыва€ покровы лжи, но и то, и другое не даЄт ослабеть и похоронить себ€ заживо. ѕоэтому € Ц оптимистичный зритель, уверенный, что испытание вирусом, попавшим в еЄ ослабленный организм, но вытесненным оттуда, стало дл€ семьи “оби, јгнес, ƒжулии и лэр очищением, катарсисом, усилившим еЄ иммунитет дл€ дальнейшей Ц мирной Ц жизни. Ќедаром уход€щих √арри и Ёдну провожают искренним, весЄлым смехом облегчени€, без груза обид: враги, отдалившиес€ на допустимую дистанцию, вновь превращаютс€ в друзей. “акое же облегчение, слуша€ под занавес сыгранного ћоцарта, испытала и € после спектакл€, довольно-таки т€жело, в психологическом плане, смотревшегос€. Ќо при этом очень при€тно было видеть сильную, живую игру актЄров, достойно справл€ющихс€ с философским текстом экзистенциалиста ќлби. ѕостановку в общем и целом хочетс€ сравнить со сложным рисунком или гармонично дисгармоничной симфонией, где каждый воплощЄнный на сцене персонаж Ц лини€ или парти€. “ак грамотно, качественно, добротно приготовленную, но очень жирную пищу дл€ ума могу порекомендовать только тем гурманам, кто сумеет еЄ переварить (сама до сих пор маюсь).
—пектакль закончилс€, € вышла из театра и пошагала к метро, доехала до родной ћолодЄги и до дома тоже дошла пешком, ибо гул€ть в снежную погоду Ц зан€тие чертовски при€тное. ак вы уже можете судить, на три больших поста подр€д мен€ так и не хватило Ц в половине п€того утра начало вырубать мен€, потом ворд, и, сочт€ его глюки знаком, € уползла спать до обеда и сию рецензию написала уже на следующий день после просмотра. ј сейчас € уже убегаю на очередной спектакль)
ћетки: рецензии театры театр спектакли театр ма€ковского театр имени ма€ковского шаткое равновесие неустойчивое равновесие |
ѕосмотрела "Ќью-…орк, € люблю теб€" |
ƒневник |
я таки совершила подвиг и таки встала сегодн€ по будильнику несмотр€ на поздний (то бишь скорее ранний) давешний отход ко сну Ц причЄм встала на удивление выспавшейс€ и бодрой. ћне предсто€ли кино, театр и покупка подарков на гр€дущий Ќовый год себе любимой, а соответственно, не было смысла возвращатьс€ домой в промежутках, и €, позавтракав, собралась в марш-бросок продолжительностью на весь день. ѕричЄм кино мне предсто€ло на незнакомой территории Ц Ќовокузнецкой, и хоть и было от метро до кинотеатра каких-то метров триста, €, зна€ свой топографический кретинизм, перерисовала кусок карты с сайта на клочок бумаги и, засунув его в кошелЄк, пораньше вышла из дому. Ќа улице зима наконец-то вытеснила оттепель Ц снег шЄл с ночи, успел всЄ засыпать, в том числе коварно спр€тавшийс€ под ним гололЄд на асфальте, и продолжал сыпать густо, почти метельно, так что даже темно становилось от всЄ окутавшей белизны. ќднако быстрому передвижению общественного транспорта это не способствовало, и в ожидании маршрутки € убила сэкономленное врем€, и когда € с пересадкой доехала на метро до Ќовокузнецкой, у мен€ оставалось от силы полчаса на поиски. ѕурга усилилась, из какого-то магазинчика доносилось ЂTombe la neigeї, расчищающие дороги дворники не унывали: Ђћнога снега Ц многа деньгаї, а €, беспрестанно лов€ вкусные снежинки на €зык, прин€лась плутать в трЄх соснах со своим самопальным добираловом в ладони. ћне всего-то и нужно было, что Ѕольшой ќвчинниковский переулок, и сперва € отправилась его искать по правую сторону от метро, но там его не было. я спросила дорогу, мен€ послали в противоположную сторону, € вышла на дорогу и прошла немного по ней, но и там никакими торговыми центрами и не пахло, пришлось вернутьс€, снова спрашивать, мен€ послали по левую сторону от метроЕ —тоит ли добавл€ть, что и там € ничего не нашла, причЄм мне стали попадатьс€ люди, подсказать мне не могущие, к тому же одна девушка с распечатанной картой сама спросила у мен€ дорогу куда-то, и € видела парн€, который тоже что-то искал по бумажке!.. ј врем€ шло, кто-то снова куда-то мен€ направил, € снова вышла на какую-то дорогуЕ и, хвала ћагистрам, нашла сначала Ѕольшой ќвчинниковский, а там и искомый “÷ Ђјркади€ї - по пр€мой до него было от метро минут п€ть ходу. ¬валившись и худо-бедно отр€хнувшись, € подн€лась на тот этаж, где расположилс€ киноцентр Ђѕ€ть звЄздї, вз€ла билет на ЂЌью-…орк, € люблю теб€ї за 150 рублей, и у мен€ даже ещЄ осталось немало времени посидеть в холле и почитать хал€вный киножурнальчик Ђ–оланї. » вот мен€ впустили в небольшой зал, € зан€ла своЄ удобное место по центру неподалЄку от экрана и Ц услышали на небесах мои молитвы Ц фильм стали показывать с субтитрами, на которые € очень скоро перестала обращать внимание (таки английский Ц не французский, многолетн€€ практика сделала своЄ чЄрное дело).
ѕродолжа€ славную традицию, некогда запущенную первым альманахом Ђѕариж, € люблю теб€ї, продюсерска€ команда усовершенствовала концепцию своего путеводител€ Ц теперь истории, сн€тые разными режиссЄрами, не чередуютс€, чЄтко обознача€ кажда€ своЄ начало, а плавно перетекают одна в другую, персонажи переход€т из сюжета в сюжет, и сюжеты основные перемежаютс€ вставными, эпизодическими. Ќо главное, что им снова удалось передать дух города Ц в отличие от романтичного, немного сказочного ѕарижа Ќью-…орк получилс€ более реалистичным, зато и более непредсказуемым. ” доброй половины из двенадцати мини-фильмов Ц удивительный финал: Ќью-…орк предупреждает, что никогда нельз€ знать заранее, чем закончитс€ то или иное начинание. Ќапример, стащить бумажник у важного господина, или согласитьс€ сопровождать на бал дочь аптекар€, или решить встретитьс€ с человеком, с которым когда-то случайно провЄл всего одну ночь, или разлитьс€ соловьЄм перед прикурившей у теб€ незнакомкой, обеща€ верх наслаждени€ в постели, или получить странное задание от босса Ц прочитать всего ƒостоевского, или собратьс€ свести счЄты с жизнью в скромной гостиницеЕ аждый из них Ц словно дуэль, в которой выигрывает более изобретательный, находчивый, хитроумный и остроумный, дуэль комична€ или трагична€, но неизменно эстетична€ и даже лирична€. ƒа, вы уже можете догадатьс€, что в сравнении с ѕарижем этот Ќью-…орк получилс€ более чувственным, более сексуальным, но нашлись в нЄм и трогательные персонажи Ц например, представители ортодоксальных религий, торгующие бриллиантами, художник, рисующий на салфетке продавщицу-кита€нку из чайного магазинчика, танцор, гул€ющий с ребЄнком, девушка, фотографирующа€ людей в ресторанах, пожила€ пара, 63 года проживша€ вместе, и пара средних лет, устроивша€ Ђпервое свиданиеїЕ ќстаЄтс€ только пожалеть, что два фильма в прокатную версию не вошли (если верить слухам Ц «в€гинцев с Ѕродским и …оханссон с чЄрно-белыми хот-догами). »бо, может, Ђѕарижї и был многограннее (как-никак, 20 новелл против 11-ти, маститые режиссЄры против малоизвестных) и артхауснее (экшна меньше, атмосферности больше), однако и ЂЌью-…оркї заставил влюбитьс€ в своего главного геро€ Ц Ѕольшое яблоко, а значит Ц цель достигнута и кино посмотреть стоит.
ќднако хорошего Ц понемножку, полтора с лишним часа пролетели быстро, и € покинула зал, а там и кинотеатр. —ориентировалась не сразу и ломанулась сперва в противоположную от метро сторону, но догадалась спросить дорогу и в итоге добратьс€ до Ќовокузнецкой благополучно. ¬переди мен€ ждал более чем при€тный шоппинг, но это уже совсем другой пост)

ѕродолжа€ славную традицию, некогда запущенную первым альманахом Ђѕариж, € люблю теб€ї, продюсерска€ команда усовершенствовала концепцию своего путеводител€ Ц теперь истории, сн€тые разными режиссЄрами, не чередуютс€, чЄтко обознача€ кажда€ своЄ начало, а плавно перетекают одна в другую, персонажи переход€т из сюжета в сюжет, и сюжеты основные перемежаютс€ вставными, эпизодическими. Ќо главное, что им снова удалось передать дух города Ц в отличие от романтичного, немного сказочного ѕарижа Ќью-…орк получилс€ более реалистичным, зато и более непредсказуемым. ” доброй половины из двенадцати мини-фильмов Ц удивительный финал: Ќью-…орк предупреждает, что никогда нельз€ знать заранее, чем закончитс€ то или иное начинание. Ќапример, стащить бумажник у важного господина, или согласитьс€ сопровождать на бал дочь аптекар€, или решить встретитьс€ с человеком, с которым когда-то случайно провЄл всего одну ночь, или разлитьс€ соловьЄм перед прикурившей у теб€ незнакомкой, обеща€ верх наслаждени€ в постели, или получить странное задание от босса Ц прочитать всего ƒостоевского, или собратьс€ свести счЄты с жизнью в скромной гостиницеЕ аждый из них Ц словно дуэль, в которой выигрывает более изобретательный, находчивый, хитроумный и остроумный, дуэль комична€ или трагична€, но неизменно эстетична€ и даже лирична€. ƒа, вы уже можете догадатьс€, что в сравнении с ѕарижем этот Ќью-…орк получилс€ более чувственным, более сексуальным, но нашлись в нЄм и трогательные персонажи Ц например, представители ортодоксальных религий, торгующие бриллиантами, художник, рисующий на салфетке продавщицу-кита€нку из чайного магазинчика, танцор, гул€ющий с ребЄнком, девушка, фотографирующа€ людей в ресторанах, пожила€ пара, 63 года проживша€ вместе, и пара средних лет, устроивша€ Ђпервое свиданиеїЕ ќстаЄтс€ только пожалеть, что два фильма в прокатную версию не вошли (если верить слухам Ц «в€гинцев с Ѕродским и …оханссон с чЄрно-белыми хот-догами). »бо, может, Ђѕарижї и был многограннее (как-никак, 20 новелл против 11-ти, маститые режиссЄры против малоизвестных) и артхауснее (экшна меньше, атмосферности больше), однако и ЂЌью-…оркї заставил влюбитьс€ в своего главного геро€ Ц Ѕольшое яблоко, а значит Ц цель достигнута и кино посмотреть стоит.
ќднако хорошего Ц понемножку, полтора с лишним часа пролетели быстро, и € покинула зал, а там и кинотеатр. —ориентировалась не сразу и ломанулась сперва в противоположную от метро сторону, но догадалась спросить дорогу и в итоге добратьс€ до Ќовокузнецкой благополучно. ¬переди мен€ ждал более чем при€тный шоппинг, но это уже совсем другой пост)

ћетки: кино фильмы рецензии Ќью-…орк € люблю теб€ нью-йорк € люблю теб€ new york i love you new york i love you |
ѕосмотрела "–омео и ƒжульетту" в театре ѕушкина |
ƒневник |
ћен€ откровенно задолбало сн€щеес€ мне вс€кое дерьмо, как в пр€мом, так и в переносном смысле, и коротание ночей до рассвета с музыкой, стихами, флудом, чЄрт знает чем ещЄ ничуть в этом не помогает. онкретно этой ночью € полазила по сайтам театров и по уже имеющимс€ репертуарам на февраль составила список покупок, легла в районе четырЄх, проснулась снова к обеду, скоротала день до вечера и в темень, воцарившуюс€ из-за практически абсолютного исчезновени€ снега под натиском оттепели, вышла из дому и направилась к автобусной остановке. ¬скоре € уже доехала до јрбатской, врем€ позвол€ло, посему € приостановилась у театральной кассы и, несмотр€ на то, что там сидела не мо€ знакома€ кассирша, а еЄ толста€ сменщица, с которой € уже имела плачевный опыт неудачных переговоров, решила рискнуть. ќднако стоило ей, как и в прошлый раз, бодро сообщить мне, что дешЄвые билеты в —“» уже все раскупили и остались только по 800, как € уступила очередь сто€вшей за мной девушке и ушла, ибо уже знала, что даже если € подойду через неделю, мо€ знакома€ отыщет мне билеты в —“» по 200 рублей. ѕуть же мой сегодн€ лежал по Ќикитскому и “верскому бульварам, по несусветному гололЄду, в театр имени ѕушкина на мою вторую, после ё«, Ђ–омео и ƒжульеттуї - и уже в холле € подивилась обилию детей, от подростков до самых маленьких, собранных целыми группами. ¬идимо, тот, кто привЄл мелюзгу, которой впору ходить на Єлку в Ћужники, счЄл Ўекспира невинным сказочником, а Ђ–омео и ƒжульеттуї - нетленкой вроде Ђўелкунчикаї. Ќа входе мен€, с моим билетом не то в бельэтаж, не то на балкон развернули и отправили к администратору, дабы тот выписал мне место поближе, и, отсто€в очередь, € получила на билете заветную приписку от руки. упив программку, € до первого звонка проплутала по этажам театра, обнаружив такие уголки, в которых прежде не бывала, но затем таки нашла вход в зал и вы€снила, что моЄ новое место от щедрот администрации расположено в одном из последних р€дов амфитеатра, зато с краю, так что со вторым звонком мне было удобно отправитьс€ в партер и устроитьс€ в середине третьего у прохода. Ѕлагодар€ тому, что дети предпочли зан€ть верхние €русы, подальше от сцены, партер был полупуст, и мен€ никто не согнал с моей весьма удачной позиции Ц откуда и начинаю свой Ђрепортажї.
¬скоре после начала спектакль начал казатьс€ мне поставленным не профессиональными режиссЄром и актЄрской труппой, а учащимис€ старших классов и учител€ми какой-нибудь спортивной школы: участники действа только и делали, что карабкались и подт€гивались на декораци€х, похожих на шаткие турникеты собственного производства, рискующих вот-вот подломитьс€ или обвалитьс€. » чего только стоит хореографический номер, исполн€емый в чЄрных гимнастических трико, обозначающий эротическую сцену Ц первую и последнюю брачную ночь –омео и ƒжульетты! ќт него сме€лись даже самые юные зрители, что уж говорить о тех, кто догадывалс€ или знал, что вс€ эта беготн€, ужимки и прыжки заменилb нашим геро€м сексЕ в общем, первый приз в номинации Ђабсурд годаї - в худшем смысле этого слова. ј ещЄ на сцене стравливали игрушечных петухов, пинали футбольный м€ч, игриво хлопали друг друга по задницам какой-то веткой и другими подручными предметами, брызгались водой из клизмы, имитиру€ мочеиспускание, перемещали полупрозрачные доски и кубы и натыкались на них, и совершали прочие бессмысленные действи€. ћаскарад у апулетти превратили в детсадовский утренник с катанием красных обручей и качанием на качел€х, а поединки на шпагах Ц в рукопашные, где летальные исходы произошли от использовани€ “ибальтом ножа, а –омео Ц подвернувшейс€ под руку арматурины (причЄм и дл€ маскарада, и дл€ драк врубали музычку повеселее). “акие вольности удивительно видеть от худрука театра озака, зато дл€ наших старшеклассников-спортсменов, далЄких от литературы, они вполне уместны Ц посему дл€ сохранени€ душевного здоровь€ продолжаем придерживатьс€ мифа о них. остюмы же они, надо полагать, наскребли по собственным шкафам, руководству€сь принципом Ђчего не жалкої, или по ближайшим комиссионкам, и в итоге в Ђ¬еронеї воцарилось смешение всех отечественных эпох Ц тут вам и платьице с бантом по моде сороковых, и курортные пиджаки в духе восьмидес€тых, и джинсы да топики двухсотых, и нар€ды гастарбайтеров Ц на ком футболка и бандана, а на ком восточный халат да тюбетейка. “еатральным можно было назвать только костюм кн€з€ Ёскала, вот только был это белый мундир, словно сн€тый с плеча киношного адмирала олчака. „то до ролей, то их тоже будто бы исполн€ли сами же вышеупом€нутые ученики и учител€ Ц неразборчиво таратор€ свои реплики, размахива€ руками, не вдава€сь в психологию своих персонажей и тем самым дела€ историю бесхитростной и наивной без единой капли подлинной романтики и трагизма. “акой придурковатый –омео с восторженной улыбочкой и пафосными речами Ц страшный сон шекспиромана, и глаз мой худо-бедно отдыхал только на монахе Ћоренцо, который единственный был обр€жен в р€су и вЄл себ€ соответственно своему сценическому сану (даже крестил двум€ пальцами, как положено католику, а не трем€, как мать ƒжульетты). ¬прочем, € и не стремилась расслышать текст Ц в спектакле использовали дотоле мне неизвестный перевод некой (или некоего?) ќсии —орока, достаточно вольно и более чем топорно пересказавший Ђ–омео и ƒжульеттуї на современном русском €зыке (видимо, классические переводы авторы постановки сочли непон€тными взыскательной публике). ¬ плане музыкального оформлени€ тоже слушать было нечего Ц программка обещала „айковского и ƒжона ейджа, однако по моим ушам били только удары в гонг по окончании каждой мизансцены да повтор€ющиес€ примитивные мотивчики, в которых угадывалась кака€-то смутно знакома€ допотопна€ попса. ¬виду всего перечисленного € на прот€жении всех трЄх часов спектакл€ не уставала удивл€тьс€ всЄ новым и новым нелепост€м, но финал переплюнул всех и вс€: Ђтрупыї –омео и ƒжульетты свалили друг на друга как дрова и прикрыли белой простынкой, из-под которой торчали две пары ног в том недвусмысленном положении, в котором ноги обычно торчат из стога жаркой летней ночью... менее эстетичное зрелище сложно себе представить. –азмышл€ть о высоком при виде сего убожества нереально чисто физически Ц спектакль рекомендуетс€ только желающим посме€тьс€ над маразматичностью происход€щей художественной самоде€тельности, обладающим достаточно крепкими нервами, чтобы от кощунственного обращени€ с детищем —трэдфордского барда не сбежать в антракте или того раньше.
Ѕред завершЄн Ц € спешу обратно к метро, чтобы не успеть замЄрзнуть, еду домой. ≈сли завтра удастс€ встать по будильнику, мне помимо театра предстоит ещЄ и ЂЌью-…орк, € люблю теб€ї на далЄкой Ќовокузнецкой, ибо сей фильм осталс€ только там, только на половину второго и только завтра и послезавтра, а посмотреть надо. » вообще очень много что надо, а мне то лень, то не успеваю. ¬сем доброй ночи!)

¬скоре после начала спектакль начал казатьс€ мне поставленным не профессиональными режиссЄром и актЄрской труппой, а учащимис€ старших классов и учител€ми какой-нибудь спортивной школы: участники действа только и делали, что карабкались и подт€гивались на декораци€х, похожих на шаткие турникеты собственного производства, рискующих вот-вот подломитьс€ или обвалитьс€. » чего только стоит хореографический номер, исполн€емый в чЄрных гимнастических трико, обозначающий эротическую сцену Ц первую и последнюю брачную ночь –омео и ƒжульетты! ќт него сме€лись даже самые юные зрители, что уж говорить о тех, кто догадывалс€ или знал, что вс€ эта беготн€, ужимки и прыжки заменилb нашим геро€м сексЕ в общем, первый приз в номинации Ђабсурд годаї - в худшем смысле этого слова. ј ещЄ на сцене стравливали игрушечных петухов, пинали футбольный м€ч, игриво хлопали друг друга по задницам какой-то веткой и другими подручными предметами, брызгались водой из клизмы, имитиру€ мочеиспускание, перемещали полупрозрачные доски и кубы и натыкались на них, и совершали прочие бессмысленные действи€. ћаскарад у апулетти превратили в детсадовский утренник с катанием красных обручей и качанием на качел€х, а поединки на шпагах Ц в рукопашные, где летальные исходы произошли от использовани€ “ибальтом ножа, а –омео Ц подвернувшейс€ под руку арматурины (причЄм и дл€ маскарада, и дл€ драк врубали музычку повеселее). “акие вольности удивительно видеть от худрука театра озака, зато дл€ наших старшеклассников-спортсменов, далЄких от литературы, они вполне уместны Ц посему дл€ сохранени€ душевного здоровь€ продолжаем придерживатьс€ мифа о них. остюмы же они, надо полагать, наскребли по собственным шкафам, руководству€сь принципом Ђчего не жалкої, или по ближайшим комиссионкам, и в итоге в Ђ¬еронеї воцарилось смешение всех отечественных эпох Ц тут вам и платьице с бантом по моде сороковых, и курортные пиджаки в духе восьмидес€тых, и джинсы да топики двухсотых, и нар€ды гастарбайтеров Ц на ком футболка и бандана, а на ком восточный халат да тюбетейка. “еатральным можно было назвать только костюм кн€з€ Ёскала, вот только был это белый мундир, словно сн€тый с плеча киношного адмирала олчака. „то до ролей, то их тоже будто бы исполн€ли сами же вышеупом€нутые ученики и учител€ Ц неразборчиво таратор€ свои реплики, размахива€ руками, не вдава€сь в психологию своих персонажей и тем самым дела€ историю бесхитростной и наивной без единой капли подлинной романтики и трагизма. “акой придурковатый –омео с восторженной улыбочкой и пафосными речами Ц страшный сон шекспиромана, и глаз мой худо-бедно отдыхал только на монахе Ћоренцо, который единственный был обр€жен в р€су и вЄл себ€ соответственно своему сценическому сану (даже крестил двум€ пальцами, как положено католику, а не трем€, как мать ƒжульетты). ¬прочем, € и не стремилась расслышать текст Ц в спектакле использовали дотоле мне неизвестный перевод некой (или некоего?) ќсии —орока, достаточно вольно и более чем топорно пересказавший Ђ–омео и ƒжульеттуї на современном русском €зыке (видимо, классические переводы авторы постановки сочли непон€тными взыскательной публике). ¬ плане музыкального оформлени€ тоже слушать было нечего Ц программка обещала „айковского и ƒжона ейджа, однако по моим ушам били только удары в гонг по окончании каждой мизансцены да повтор€ющиес€ примитивные мотивчики, в которых угадывалась кака€-то смутно знакома€ допотопна€ попса. ¬виду всего перечисленного € на прот€жении всех трЄх часов спектакл€ не уставала удивл€тьс€ всЄ новым и новым нелепост€м, но финал переплюнул всех и вс€: Ђтрупыї –омео и ƒжульетты свалили друг на друга как дрова и прикрыли белой простынкой, из-под которой торчали две пары ног в том недвусмысленном положении, в котором ноги обычно торчат из стога жаркой летней ночью... менее эстетичное зрелище сложно себе представить. –азмышл€ть о высоком при виде сего убожества нереально чисто физически Ц спектакль рекомендуетс€ только желающим посме€тьс€ над маразматичностью происход€щей художественной самоде€тельности, обладающим достаточно крепкими нервами, чтобы от кощунственного обращени€ с детищем —трэдфордского барда не сбежать в антракте или того раньше.
Ѕред завершЄн Ц € спешу обратно к метро, чтобы не успеть замЄрзнуть, еду домой. ≈сли завтра удастс€ встать по будильнику, мне помимо театра предстоит ещЄ и ЂЌью-…орк, € люблю теб€ї на далЄкой Ќовокузнецкой, ибо сей фильм осталс€ только там, только на половину второго и только завтра и послезавтра, а посмотреть надо. » вообще очень много что надо, а мне то лень, то не успеваю. ¬сем доброй ночи!)

ћетки: театр театры театр пушкина театр имени пушкина спектакли рецензии ромео и джульетта ромэо и джульетта |
ѕосмотрела "Ѕанкет" |
ƒневник |
—ны ѕосле обеда пришло врем€ ехать в театр Ц на сей раз до јрбатской, в ћа€ковку, на ЂЅанкетї. ѕриехала рано, пома€чила у пахнущего мандаринами и громко врубившего музыку буфета, купила программку, подн€лась к партеру и устроилась долго и упорно читать книжку до первого звонка; после него же, пройд€ в зал, где играл вполне мною любимый французский шансон, € начала свои долгие мытарства по свободным местам первой полудюжины р€дов, ибо мой законный билет был куда-то в бельэтаж. Ќо сгон€ли мен€ отовсюду, пока свободных мест не осталось, и под конец на мен€ ещЄ и наорал нервный мужик-администратор, за€вивший, что из-за мен€ не может начать спектакль и чтобы € шла в амфитеатр. ¬ амфитеатр € не пошла, однако вынуждена была удовольствоватьс€ одним из последних р€дов партера, Ц к счастью, небольшого, так что бинокль мне не понадобилс€, Ц ибо в зале был аншлаг несмотр€ на то, что спектакль идЄт с 2003 года. Ётот аншлаг мен€ насторожил, и небеспочвенно Ц любимцы публики всегда далеки от искусстваЕ
ƒействие происходит, конечно же, в многострадальном ѕариже, хот€ автор пьесы Ц американец Ќил Ђ ороль Ѕродве€ї —аймон. “ри разведЄнные супружеские пары, не зна€ о других приглашЄнных, собрались на банкет, организованный от имени адвоката, который их разводил. Ётим именем воспользовалась одна из бывших жЄн, решивша€ оригинальным способом вернуть мужа и себе, и ещЄ двум совершенно незнакомым ей дамам. ¬сю первую половину спектакл€ пары по очереди тактично оставл€лись остальными наедине друг с другом и вы€сн€ли отношени€, из чего мы узнали, что в одной муж ревновал жену к еЄ литературному успеху, коим он не обладал, друга€ разводилась аж дважды, и после каждого развода муж преследовал жену повсюду, но не разговаривал с ней, а в третьей, виновнице торжества, похоже, супруги просто-напросто загнали друг друга на сексуальном фронте, а после развода муж стал считать жену покойницей. ≈стественно, все женщины как одна выказывают к бывшим мужь€м ничем не убиваемую гор€чую любовь, а мужиков становитс€ искренне жаль Ц в конце концов, они ни разу не виноваты в том, что их чувства остыли, и уж точно не об€заны возобновл€ть брачную жизнь только потому, что их экс-половинки того возжелали. —кучно становитс€ очень быстро, однако с финалом приватных разборок, не приведших к положительным результатам, всЄ ещЄ только начинаетс€: упЄрта€ организаторша банкета запирает своих дорогих гостей в трапезном зале и нав€зывает Ђигруї в публичную исповедальню. Ћюбой нормальный человек в такой ситуации послал бы полоумную мадам подальше и вызвал бы полицию, однако наши герои принимают услови€ и, подобно участникам реалити-шоу, начинают увлечЄнно копатьс€ в гр€зном белье друг друга. —перва каждый из шести жертв реконструкции отвечал на вопрос: Ђ„то самое ужасное сделал(а) вам супруг(а) за врем€ брачной жизни?ї, затем Ц на такой же вопрос про Ђсамое хорошееї, но и на этом ничего не закончилось Ц после Ђигрыї хоз€йка предложила Ђбывшимї сесть наконец за стол и поесть, согласились они, конечно, не сразу и не вдруг, но спектакль таки дотащилс€ до хэппи-энда Ц здравой логике вопреки и на радость публике, провожавшей оваци€ми каждый монолог, пары торжественно воссоединились. Ёта истори€, ничего общего с реальной жизнью не имеюща€, вызвала у мен€ только один вопрос: сколько бездарных бракоразводных Ђкомедийї о взаимоотношени€х бизнесменов и бизнесвуменов бальзаковского возраста € уже неча€нно посмотрела и сколько ещЄ посмотрю? ¬едь наде€лась € на нечто действительно смешное, что позволило бы отдохнуть от серьЄзных вещей, ибо, увидев в списке актЄров фамилию —пиваковского, вспомнила ЂЋюбовь глазами сыщикаї - качественную романтическую комедию с ним в главной роли. ¬прочем, стоит отдать ему должное Ц если бы его не было на ЂЅанкетеї, € заснула бы на первых дес€ти минутах, а так его комментарии врем€ от времени отвлекали мен€ от созерцани€ потолка и позвол€ли усмехнутьс€ не над остроумием непосредственно шутки, а над его неподражаемыми интонаци€ми и жестами. ј было от чего засыпать Ц действи€ фактически не было, не счита€ по€влений в зале, исчезновений из него и перемещений по нему, сюжет, если его можно так назвать, предугадывалс€ с первых минут, актЄрска€ игра как такова€ сводилась к представлению плоских фигур, и скучно было настолько, что 1.45 продолжительности спектакл€ показались по меньшей мере четырьм€ часами. ”тешает, помимо того, что мой билет стоил 50 рублей, только то, что попул€рность подобных спектаклей Ђкормитї большие театры, которые неизбежно сошли бы с дистанции на обочину, если бы не потакали общественному вкусу.
Ќо вот си€ т€гомотина благополучно закончилась, € вернулась домой, где папа уже установил в моей комнате на месте кресла красивую ладную Єлку, хвойно пахнущую, отчего до мен€ наконец дошло, что Ќовый год постепенно входит в свои права Ц хоть на дворе и +2, полки продуктовых магазинов уже опустели, люди на €рмарках сметают дурацкие полотенца с тиграми, халаты, наволочки дл€ подарков родне, а вечерами уже гремит и сверкает в небе пиротехника. «автра мне снова в театр, а сегодн€ прощаюсь)

ƒействие происходит, конечно же, в многострадальном ѕариже, хот€ автор пьесы Ц американец Ќил Ђ ороль Ѕродве€ї —аймон. “ри разведЄнные супружеские пары, не зна€ о других приглашЄнных, собрались на банкет, организованный от имени адвоката, который их разводил. Ётим именем воспользовалась одна из бывших жЄн, решивша€ оригинальным способом вернуть мужа и себе, и ещЄ двум совершенно незнакомым ей дамам. ¬сю первую половину спектакл€ пары по очереди тактично оставл€лись остальными наедине друг с другом и вы€сн€ли отношени€, из чего мы узнали, что в одной муж ревновал жену к еЄ литературному успеху, коим он не обладал, друга€ разводилась аж дважды, и после каждого развода муж преследовал жену повсюду, но не разговаривал с ней, а в третьей, виновнице торжества, похоже, супруги просто-напросто загнали друг друга на сексуальном фронте, а после развода муж стал считать жену покойницей. ≈стественно, все женщины как одна выказывают к бывшим мужь€м ничем не убиваемую гор€чую любовь, а мужиков становитс€ искренне жаль Ц в конце концов, они ни разу не виноваты в том, что их чувства остыли, и уж точно не об€заны возобновл€ть брачную жизнь только потому, что их экс-половинки того возжелали. —кучно становитс€ очень быстро, однако с финалом приватных разборок, не приведших к положительным результатам, всЄ ещЄ только начинаетс€: упЄрта€ организаторша банкета запирает своих дорогих гостей в трапезном зале и нав€зывает Ђигруї в публичную исповедальню. Ћюбой нормальный человек в такой ситуации послал бы полоумную мадам подальше и вызвал бы полицию, однако наши герои принимают услови€ и, подобно участникам реалити-шоу, начинают увлечЄнно копатьс€ в гр€зном белье друг друга. —перва каждый из шести жертв реконструкции отвечал на вопрос: Ђ„то самое ужасное сделал(а) вам супруг(а) за врем€ брачной жизни?ї, затем Ц на такой же вопрос про Ђсамое хорошееї, но и на этом ничего не закончилось Ц после Ђигрыї хоз€йка предложила Ђбывшимї сесть наконец за стол и поесть, согласились они, конечно, не сразу и не вдруг, но спектакль таки дотащилс€ до хэппи-энда Ц здравой логике вопреки и на радость публике, провожавшей оваци€ми каждый монолог, пары торжественно воссоединились. Ёта истори€, ничего общего с реальной жизнью не имеюща€, вызвала у мен€ только один вопрос: сколько бездарных бракоразводных Ђкомедийї о взаимоотношени€х бизнесменов и бизнесвуменов бальзаковского возраста € уже неча€нно посмотрела и сколько ещЄ посмотрю? ¬едь наде€лась € на нечто действительно смешное, что позволило бы отдохнуть от серьЄзных вещей, ибо, увидев в списке актЄров фамилию —пиваковского, вспомнила ЂЋюбовь глазами сыщикаї - качественную романтическую комедию с ним в главной роли. ¬прочем, стоит отдать ему должное Ц если бы его не было на ЂЅанкетеї, € заснула бы на первых дес€ти минутах, а так его комментарии врем€ от времени отвлекали мен€ от созерцани€ потолка и позвол€ли усмехнутьс€ не над остроумием непосредственно шутки, а над его неподражаемыми интонаци€ми и жестами. ј было от чего засыпать Ц действи€ фактически не было, не счита€ по€влений в зале, исчезновений из него и перемещений по нему, сюжет, если его можно так назвать, предугадывалс€ с первых минут, актЄрска€ игра как такова€ сводилась к представлению плоских фигур, и скучно было настолько, что 1.45 продолжительности спектакл€ показались по меньшей мере четырьм€ часами. ”тешает, помимо того, что мой билет стоил 50 рублей, только то, что попул€рность подобных спектаклей Ђкормитї большие театры, которые неизбежно сошли бы с дистанции на обочину, если бы не потакали общественному вкусу.
Ќо вот си€ т€гомотина благополучно закончилась, € вернулась домой, где папа уже установил в моей комнате на месте кресла красивую ладную Єлку, хвойно пахнущую, отчего до мен€ наконец дошло, что Ќовый год постепенно входит в свои права Ц хоть на дворе и +2, полки продуктовых магазинов уже опустели, люди на €рмарках сметают дурацкие полотенца с тиграми, халаты, наволочки дл€ подарков родне, а вечерами уже гремит и сверкает в небе пиротехника. «автра мне снова в театр, а сегодн€ прощаюсь)

ћетки: театр театры театр ма€ковского театр имени ма€ковского спектакли рецензии банкет сны осознанные сновидени€ |
ѕосмотрела "ћур, сын ÷ветаевой" |
ƒневник |

ƒа, спать почти до двух дн€ при том, что снитс€ дерьмо какое-то, в высшей степени глупо, но, видимо, мой организм упр€мо пытаетс€ выспатьс€ за всю долгую и муторную вторую или кака€ она там четверть. я воврем€ заметила, что на моЄм сегодн€шнем билете значитс€ шесть часов, а не семь, однако закопалась дома, ибо позднее пробуждение неизбежно оборачиваетс€ спешкой во всех делах, потом долго ждала маршрутки на остановке. Ќа улице Ц суща€ осень, кругом вода: снег тает, да ещЄ и с неба бодро льЄтс€ мелка€ прохладна€ морось, и по-осеннему сонливо от погодного перепада. Ќесмотр€ на то, что сперва € по времени начинала опаздывать, €, доехав до урской, умудрилась за 15 минут до первого звонка добежать до театра √огол€ и в недоумении притормозить в двер€х: в приукрашенном к Ќовому году холле настолько пусто, словно спектакль уже началс€. Ќо даже в зал ещЄ не пускали, и € успела приобрести программку, свежую газету ƒј и свежий журнал “еатрал; но вот лестницу на второй этаж гостеприимно открыли, и € отправилась на ћалую сцену. Ќемного € поторчала на своЄм законном восьмьдес€т-каком-то месте, потом, заметив, что уже начали пересаживатьс€ предприимчивые старушки с пригласительными, нагло отправилась куда-то на второй или третий р€д поближе к краю. ќттуда мен€ со временем согнали, потом дважды Ц с первого р€да, и пришлось отползать назад, лишь немногим ближе к сцене от изначальной точки, однако учитыва€ небольшие габариты зала жаловатьс€ было не на что Ц там отовсюду видно и слышно более чем хорошо. «адержали спектакль надолго, и народ всЄ валил и валил Ц видимо, не загл€нув, в отличие от мен€, в билеты и дума€, что он должен был начатьс€ в семь; наконец, зал почти полностью заполнилс€, и состо€лась премьера нового спектакл€ Ц Ђћур, сын ÷ветаевойї.
ќн так хотел быть просто √еоргием Ёфроном Ц художником или писателем, но всегда был ћуром Ц сыном ÷ветаевой. Ёто родство стало причиной, пр€мой или косвенной, всех непри€тностей и всех удач, происходивших в его жизни. » даже, не будь он сыном ÷ветаевой, о нЄм бы наверн€ка не поставили этого спектакл€ Ц мало ли было и других парней с похожими судьбами? ј прослеживаетс€ его судьба достаточно хорошо Ц он вЄл дневник, состо€л в переписке, упоминалс€ в письмах и воспоминани€х окружавших его людейЕ —пектакль и начинаетс€ с того, что всю эту бумажную рухл€дь начинают со скуки перебирать трое незнакомцев, случайно опрокинувших ничейный чемодан, на, надо полагать, вокзале, с которым ÷ветаева сравнивала жизнь. —перва они читают с бумажек, запинаютс€, иронизируют Ц живо напомнило мой недавний просмотр ЂЅитвы жизниї у ∆еновача, но вскоре перевоплощаютс€ в самого ћура, единого в трЄх лицах, рассуждающего и спор€щего сам с собой. ƒействи€ в спектакле практически нет, и, чтобы зритель ненароком не заснул, его оглушают взрывами, музыкой, падающими предметами, паровозными и пароходными гудками. ¬место действи€ Ц рассказ от первого лица: ћура привезли из ‘ранции в —оветский —оюз в 14-летнем возрасте, и событи€ закружили его в гибельном водовороте Ц скитани€ по квартирам знакомых с громоздким багажом, арест и тюремные мытарства отца и сестры јриадны, ћосква и юношеские амбиции, первые бомбардировки войны, эвакуаци€ в “атарию и самоубийство матери, “ашкент и голод, мобилизаци€ и гибель на фронтеЕ в 19 лет. јктЄры Ц √алахов, ѕросалов и Ћебедь Ц играют своего общего геро€ на совесть, с полной эмоциональной выкладкой, сопереживают всему тому, о чЄм говор€т, и им Ц веришь. » дождь на сцене льЄтс€ насто€щий, и вообще, автобиографи€ Ц жанр на подмостках редкий, если не сказать Ц уникальный. Ќо при всей душевности исполнени€ постановка не цепл€ет, не заставл€ет надолго задумыватьс€ Ц как документальный фильм, передающий исключительно знани€, но не дух времени и авторское отношение к теме. Ѕыть может, сей литературный эксперимент ещЄ претерпит изменени€ со временем, но пока что на прот€жении всех двух с половиной часов, не счита€ антракта, € мучительно пыталась вычленить из хронологического потока какой-нибудь смысл и не могла Ц слишком уж чужда мне русска€ эмиграци€, чтобы соглашатьс€ с ÷ветаевой в том, что услови€ жизни в –оссии были невыносимыми, и с ћуром Ц в том, что ÷ветаева выбрала единственно верный выход, покончив с собой. ƒа Ц ЂЌе с теми €, кто бросил землюї©Е ’от€ в финале нека€ мораль всей истории всЄ же прозвучала, оп€ть-таки цветаевской цитатой: Ђћальчиков надо баловать, им, может, на войну идтиї. — этим не могу не согласитьс€Е
—пектакль подошЄл к концу, на поклон вышли худрук театра —ергей яшин и создательница спектакл€ ќльга учкина. јплодисменты, очередь в гардеробЕ и вот € уже иду обратно к метро по «емл€ному валу, еду домой, дома пью кофе с мандаринами и воюю с белым листом ворда. –ецензи€ долго не хотела писатьс€, € упорно отвлекалась от неЄ, зависа€ на страничках любимых фотографов, но вот, наконец, пора и честь знать Ц завтра (в идеале) рано разбудит возвращением с работы папа, и надо будет сподобить его сходить за Єлкой (не съездить, ибо в этом году Єлочный базар расположилс€ едва ли не под окнами) и установить еЄ (а нар€жать мне ой как влом, но, видимо, хоть полдюжины игрушек повесить мен€ всЄ же застав€т). «асим прощаюсь Ц до завтрашней рецензии, ибо и завтра мне в театр тоже)
P.S. на фото - ÷ветаева с сыном. ¬се отмечали, что в детстве он был очень толстым... а вырос худощавым холодным симпат€гой. Ќо в »нтернете хороших кадров не нашлось - шукайте по биографи€м, господа...
ћетки: рецензии театры театр мур спектакли театр имени гогол€ театр гогол€ мур сын цветаевой мур - сын цветаевой сын цветаевой |
ѕосмотрела "“опол€ и ветер" |
ƒневник |
Ѕлагодар€ Ќашему в ушах € давеча отрубилась уже только, надо полагать, часу в четвЄртом и благополучно продрыхла с перерывами до обеда. »з дому € снова вышла пораньше, с заходом на почту дошла до метро погрузившимис€ в сумерки дворами; чЄртово потепление всЄ сильнее разводит на дорогах сл€коть, вместе с ней по€вилс€ промозглый ветер, при вс€ком удобном случае подхватывающий с горизонтальных поверхностей колючее обледенелое снежное крошево и кидающий в морду. —пустившись в подземку, € умудрилась на автопилоте сесть в вагон не на ту сторону и пон€ть это только тогда, когда поезд уже отчаливал от рылатского вместо привычной унцевской Ц пришлось проезжать долгий перегон до —трогино и уже оттуда ехать до урской. — двум€ пересадками € добралась до –ижской, выбралась на поверхность, и топографический кретинизм настиг мен€ вторично Ц € сунулась в подземный переход, мне показалось, что он не тот, € из него вышла, убедилась, что он единственный, и вернулась в него. ќн вывел мен€ к автобусной остановке, где уже сто€л автобус, куда €, убедившись, что он идЄт до кинотеатра √авана, и влезла; от кинотеатра же € знакомой дорогой (хот€ сомнени€ возникали и на ней) дотопала до театра —атирикон Ц два мес€ца € там не была и успела соскучитьс€. Ќа входе, как всегда, потребовали сдать в гардероб Ђрюкзачокї (сиречь торбу), продали программку; вскоре прозвучал первый звонок, € вошла в зал, нашла своЄ место с краю 11-го р€да и устроилась там, но ненадолго: среди публики €вственно звучало, что свободных мест будет много и можно садитьс€ куда угодно. ѕосему € устроилась в середине относительно сцены и с краю относительно прохода в р€ду эдак шестом, двига€сь ближе к центру по мере по€влени€ законных обладателей мест, покуда мен€ не согнали вовсе; третий звонок уже был, зал был уже практически весь заполнен, но всЄ ждали кого-то. я села на крайнее место первого р€да, и мне долго и упорно действовала на нервы болтовн€ за спиной Ц стайка девушек сначала гор€чо обсуждала ƒом2, затем италь€нскую сумочку и перекинулась наконец на мужские имена, которые подошли бы к отчеству Ќиколаевич. „ую, скоро Ќиколаи, ¬ладимиры, —ергеи и ≈вгении безвозвратно уйдут в прошлое, будут вокруг сплошные ƒемь€ны, јмвросии, »пполиты, јристархи да јртемииЕ Ќо вот началс€ задержанный на 15 минут спектакль Ц премьера сезона, Ђ“опол€ и ветерї.
¬ богадельне дл€ ветеранов ѕервой ћировой, где неторопливый ритм существовани€ разнообраз€т только дни рождени€ и похороны, каждый день встречаютс€ на террасе –ене (јверин), передвигающийс€ на протезе, и ‘ернан (—и€твинда), у которого регул€рно случаютс€ припадки из-за застр€вшего в черепе осколка снар€да. их компании присоедин€етс€ новичок √устав (—уханов), который практически не выходит из своей комнаты и испытывает €вные трудности с тем, чтобы просто заставить себ€ выйти за пределы территории богадельни. Ќо именно он совершает подвиг, достойный всех прочих, совершЄнных им на пол€х сражений: увлекает товарищей замыслом побега на далЄкий холм, где ветер качает верхушки тополей. ќн бросает им обвинение, словно позаимствованное из монологов ћакмерфи: Ђ¬ы покончили с собой ещЄ 25 лет назад Ц когда оказались здесьї, и так же готов хоть на собственной спине тащить их прочь от шаркающих развалин с кружками тЄплого молока. Ётой гордой птице (недаром же лЄтчик!) всегда суждено лететь во главе клина, рассека€ воздух грудью, чтобы меньше уставали следующие за ним. » вот наши старички, ещЄ недавно развлекавшие друг друга только воспоминани€ми, хвастовством, подколами, фантази€ми да спорами, принимаютс€ разрабатывать маршрут по карте, запасатьс€ оде€лами и учитьс€ зав€зывать на верЄвке альпинистские узлы. ƒа, поверить в то, что им удастс€ осуществить задуманное, Ц столь же нелепо, сколь и относитьс€ к бронзовой собаке как к живойЕ но люд€м, привыкшим к преодолению нечеловеческих трудностей, эти трудности, эти, пусть и несбыточные, цели необходимы как воздух. ј потому Ц Ђчесть безумцу, который навеет человечеству сон золотойї! ѕолучилс€ спектакль смешной и грустный одновременно, но неизменно очень лиричный и трогательный, а главное Ц преисполненный таким жизнелюбивым духом, что увидишь не в каждом молодом, сильном человеке. ќсновна€ заслуга в том, что постановка цепл€ет живостью и искренностью, принадлежит актЄрскому трио Ц всем исполнител€м великовозрастных ролей нет и сорока, но перевоплощаютс€ они настолько мастерски, что напрочь об этом забываешь и уже ничему не удивл€ешьс€ Ц только любуешьс€ €ркими, колоритными типажами, так живо напомнившими оба€тельных чудаков из комедии дель арте, имевшей место быть в сатириконовском же Ђ—инем чудовищеї. √устав Ц осанистый двор€нин с парадной чеканкой шага и жестами человека, привыкшего отдавать распор€жени€; ‘ернан, которому €вно т€жело, но он не жалуетс€, а иронизирует над собой и стараетс€ сгладить все назревающие конфликты; –ене, которому не до тополей, потому что на прогулке мимо школы дл€ девочек можно увидеть прекрасную ЂрозуїЕ ќднако периодически звучащие в общей пам€ти героев взрывы войны, покалечившей их, разрушившей их мечты и надежды, не дают Ђ“опол€мї превратитьс€ в лЄгкое, развлекательное зрелище. ѕосле них выходишь не с улыбкой и желанием обсудить с окружающими услышанные шутки, а погруженным в продолжительное серьЄзное молчание обдумывани€ философии, неожиданно обнаружившейс€ в тривиальной сентиментальной пьесе современного попул€рного драматурга —иблейраса. ј философи€, наверное, в том, что, как у гор€чо любимого мною Ћорки, Ђтопол€ уход€т, но нам оставл€ют ветерї. ”ход€т бунтари всех мастей, будь то благородные рыцари или хулиганы, а нам остаЄтс€ дух непобедимого стремлени€ к неизвестност€м, к приключени€м Ц к свободе.
ƒва часа без антракта Ц и после настолько кратких аплодисментов, что многие замерли в недоумении: Ђи это всЄ?ї, € вывалилась из зала, затем Ц из театра. “о останавлива€сь, то страгива€сь с места, напротив порога ма€чила маршрутка, € подумала-подумала, приглашает ли она мен€ тем самым влезть в салон или нет, но когда наконец вз€лась за ручку двери и пот€нула на себ€, она рванула в противоположную сторону, чуть не сбив мен€ с ног. „уть поодаль приближалс€ микроавтобус Ц его дверца была гостеприимно распахнута, и € заскочила в него на ходу, хоть после этого он ещЄ не раз останавливалс€ и водитель надсадно орал, что следует до станции –ижска€, ибо на борту автобуса значились станции совсем другие (видимо, казЄнный транспорт мужик вз€л после окончани€ рабочего дн€ дл€ развозу в пользу сугубо своего кармана). Ћюди входили, видели, что свободных мест уже нет, и выходили, но водитель всЄ орал, и стоило первым пассажирам разместитьс€ сто€, как остальные смело повалили следовать их примеру; дверца закрылась, только когда автобус был набит театралами под зав€зку, как банка шпротами. ≈хали мы долго, покружив по всему району в попытках объехать пробки, но достигли таки –ижской, и € поехала домой Ц отсыпатьс€ сегодн€, идти в уже другой театр и писать об этом завтра. язычников поздравл€ю с ол€дой и прощаюсь со всеми Ц спокойной ночи)

¬ богадельне дл€ ветеранов ѕервой ћировой, где неторопливый ритм существовани€ разнообраз€т только дни рождени€ и похороны, каждый день встречаютс€ на террасе –ене (јверин), передвигающийс€ на протезе, и ‘ернан (—и€твинда), у которого регул€рно случаютс€ припадки из-за застр€вшего в черепе осколка снар€да. их компании присоедин€етс€ новичок √устав (—уханов), который практически не выходит из своей комнаты и испытывает €вные трудности с тем, чтобы просто заставить себ€ выйти за пределы территории богадельни. Ќо именно он совершает подвиг, достойный всех прочих, совершЄнных им на пол€х сражений: увлекает товарищей замыслом побега на далЄкий холм, где ветер качает верхушки тополей. ќн бросает им обвинение, словно позаимствованное из монологов ћакмерфи: Ђ¬ы покончили с собой ещЄ 25 лет назад Ц когда оказались здесьї, и так же готов хоть на собственной спине тащить их прочь от шаркающих развалин с кружками тЄплого молока. Ётой гордой птице (недаром же лЄтчик!) всегда суждено лететь во главе клина, рассека€ воздух грудью, чтобы меньше уставали следующие за ним. » вот наши старички, ещЄ недавно развлекавшие друг друга только воспоминани€ми, хвастовством, подколами, фантази€ми да спорами, принимаютс€ разрабатывать маршрут по карте, запасатьс€ оде€лами и учитьс€ зав€зывать на верЄвке альпинистские узлы. ƒа, поверить в то, что им удастс€ осуществить задуманное, Ц столь же нелепо, сколь и относитьс€ к бронзовой собаке как к живойЕ но люд€м, привыкшим к преодолению нечеловеческих трудностей, эти трудности, эти, пусть и несбыточные, цели необходимы как воздух. ј потому Ц Ђчесть безумцу, который навеет человечеству сон золотойї! ѕолучилс€ спектакль смешной и грустный одновременно, но неизменно очень лиричный и трогательный, а главное Ц преисполненный таким жизнелюбивым духом, что увидишь не в каждом молодом, сильном человеке. ќсновна€ заслуга в том, что постановка цепл€ет живостью и искренностью, принадлежит актЄрскому трио Ц всем исполнител€м великовозрастных ролей нет и сорока, но перевоплощаютс€ они настолько мастерски, что напрочь об этом забываешь и уже ничему не удивл€ешьс€ Ц только любуешьс€ €ркими, колоритными типажами, так живо напомнившими оба€тельных чудаков из комедии дель арте, имевшей место быть в сатириконовском же Ђ—инем чудовищеї. √устав Ц осанистый двор€нин с парадной чеканкой шага и жестами человека, привыкшего отдавать распор€жени€; ‘ернан, которому €вно т€жело, но он не жалуетс€, а иронизирует над собой и стараетс€ сгладить все назревающие конфликты; –ене, которому не до тополей, потому что на прогулке мимо школы дл€ девочек можно увидеть прекрасную ЂрозуїЕ ќднако периодически звучащие в общей пам€ти героев взрывы войны, покалечившей их, разрушившей их мечты и надежды, не дают Ђ“опол€мї превратитьс€ в лЄгкое, развлекательное зрелище. ѕосле них выходишь не с улыбкой и желанием обсудить с окружающими услышанные шутки, а погруженным в продолжительное серьЄзное молчание обдумывани€ философии, неожиданно обнаружившейс€ в тривиальной сентиментальной пьесе современного попул€рного драматурга —иблейраса. ј философи€, наверное, в том, что, как у гор€чо любимого мною Ћорки, Ђтопол€ уход€т, но нам оставл€ют ветерї. ”ход€т бунтари всех мастей, будь то благородные рыцари или хулиганы, а нам остаЄтс€ дух непобедимого стремлени€ к неизвестност€м, к приключени€м Ц к свободе.
ƒва часа без антракта Ц и после настолько кратких аплодисментов, что многие замерли в недоумении: Ђи это всЄ?ї, € вывалилась из зала, затем Ц из театра. “о останавлива€сь, то страгива€сь с места, напротив порога ма€чила маршрутка, € подумала-подумала, приглашает ли она мен€ тем самым влезть в салон или нет, но когда наконец вз€лась за ручку двери и пот€нула на себ€, она рванула в противоположную сторону, чуть не сбив мен€ с ног. „уть поодаль приближалс€ микроавтобус Ц его дверца была гостеприимно распахнута, и € заскочила в него на ходу, хоть после этого он ещЄ не раз останавливалс€ и водитель надсадно орал, что следует до станции –ижска€, ибо на борту автобуса значились станции совсем другие (видимо, казЄнный транспорт мужик вз€л после окончани€ рабочего дн€ дл€ развозу в пользу сугубо своего кармана). Ћюди входили, видели, что свободных мест уже нет, и выходили, но водитель всЄ орал, и стоило первым пассажирам разместитьс€ сто€, как остальные смело повалили следовать их примеру; дверца закрылась, только когда автобус был набит театралами под зав€зку, как банка шпротами. ≈хали мы долго, покружив по всему району в попытках объехать пробки, но достигли таки –ижской, и € поехала домой Ц отсыпатьс€ сегодн€, идти в уже другой театр и писать об этом завтра. язычников поздравл€ю с ол€дой и прощаюсь со всеми Ц спокойной ночи)

ћетки: театр театры театр сатирикон театр "сатирикон" сатирикон спектакли рецензии топол€ и ветер ветер в топол€х ветер шумит в топол€х |
ѕосмотрела "Ѕитву жизни" |
ƒневник |
ќпосл€ давешнего бдени€ до половины третьего мне снилось много вс€кого разного, и по пробуждении € помнила всЄ отлично и прин€лась перебирать в пам€ти, но пока лениво вал€лась и периодически проваливалась в дремоту, позабывала всЄ нахрен. «аставив себ€, наконец, подн€тьс€, € думала, что уже заполдень, однако было только дес€ть, и у мен€ впереди был весь день, чтобы страдать ерундой, ностальгически копатьс€ во вс€ком старье, слушать музыку и предаватьс€ размышлени€м. ¬ышла из дому € пораньше, сперва на автопилоте дошла до автобусной остановки, потом вспомнила, что вообще-то собиралась пройтись до метро пешком, и пошла дальше вдоль дорог, дабы не возвращатьс€ к дворам. Ќа метро € доехала до “аганки, дошагала по сл€коти Ц вернейшему признаку потеплени€ Ц до —тудии театрального искусства, причЄм так рано, что в театр ещЄ даже не пускали. я немного подождала в тепле холла на подоконнике, потом вошла, сцапала хал€вную программку и узрела на столах хал€вные зелЄные €блоки Ц как в прошлый раз, и, как в прошлый раз, € решила с этим €блоком, хруст€щим и сочным, выпить кофе. ћне задали тупой вопрос: эспрессо или американо; € выбрала второе и получила чашку с бежевой пенкой настолько некрепкого кофе, что он легко пилс€ бы даже без закуски и абсолютно не ускорил моего сердцебиени€, хот€ горечь на гландах оставил. ј по всему этажу крышесносно пахло корицей, которой щедро посыпали пенку тамошнего капучино (одну чашку €, как эстетствующий кофеман, даже сфотографировала вместе с непременным €блоком)Е я как раз успела выпить и поесть до первого звонка и подн€лась в зал, посидела немного на своЄм законном дальнем месте, но вскоре отправилась покор€ть передние р€ды партера, отступа€ по мере по€влени€ владельцев билетов на эти места. ¬ итоге € осталась с краю р€да эдак шестого, то бишь на вполне удобной дл€ просмотра позиции, а смотрела € в католическое –ождество (о том, что сей славный праздник именно сегодн€, € узнала уже только по возвращении домой) одну из рождественских историй ƒиккенса Ц ЂЅитву жизниї.
Ќа сцену выход€т актЄры, с аппетитом закусыва€ €блоками. ќни репетируют пьесу, перелистыва€ страницы текста с карандашами в пальцах и неуверенно зачитыва€ свои ещЄ не выученные роли. «апинаютс€, путаютс€, опаздывают иногда, внос€ забавные нотки в серьЄзный классический текстЕ » вроде бы иде€ не нова Ц нечто подобное € видела и у ‘оменко в Ђ¬ойне и ћиреї, однако атмосфера сплочЄнного коллектива, свойственна€ всем спектакл€м питомцев ∆еновача, здесь особенно остро чувствуетс€ и особенно подкупает своим оба€нием. Ќастолько, что хочетс€ немедленно к ним присоединитьс€, уютно устроитьс€ в старом викторианском кресле перед насто€щим камином, в котором насто€щий огонь танцует на полень€х и на котором насто€щие зажжЄнные свечи копт€т зеркало и белую стену, похрустеть €блоком, подекламировать пафосные монологи. ¬едь это, кажетс€, так просто, что смог бы любойЕ но вот Ц второе действие, к которому наши актЄры подошли уже €вно более подготовленными. ќни уже не читают по бумажке, и об этих бумажках тут же забываешь, начина€ видеть не исполнителей ролей, а их персонажей Ц неожиданно живых, непривычно живых, ибо мы так часто смотрим на героев сказок ƒиккенса как на символы, маски, персонифицированные человеческие качества. “е, кто с наименьшим прилежанием относилс€ к прочтению текста в первом действии, во втором играют наиболее эмоционально, искренне и натурально Ц и такое блест€щее превращение в свою очередь превращает статичное, как прочие постановки —“», вполне могущие сойти за радиоспектакли, действие в увлекательное зрелище. «рителю словно приоткрывают двери на театральную кухню, позвол€ют прикоснутьс€ к процессу режиссЄрского и актЄрского творчества, и это маленькое чудо цепл€ет больше, нежели сюжет диккенсовской притчи, почти библейский, с соответствующей моралью о человеколюбии и добродетели. ƒвойной хэппи-энд: в доме, построенном на поле битвы, счастливо воссоедин€етс€ семь€, союз сильных духом, жертвенно преданных друг другу людей; на театральных подмостках выходит на поклон союз талантливых личностей, пон€вших и почувствовавших этих людей, переживавших вместе с ними их непростые судьбы. “олько так Ц без сантиментов и дидактики, не забыва€ о грани между Ђвеком нынешнимї и Ђвеком минувшимї, - и можно, и нужно представл€ть зрителю бронтозавров мировой литературы. “огда и уходишь со спектакл€ с эстетическим наслаждением от лЄгкости сценического быти€ и лиричной живой музыки, с самыми тЄплыми и позитивными эмоци€ми, со спокойной уверенностью в том, что в этом мире не всЄ так хреново, как может показатьс€ на первый взгл€д.
ѕосле 2.45 спектакл€ € отсто€ла традиционно длиннющую очередь в гардероб, одновременно с молодыми музыкантами женовачовской труппы вышла в вечер, пошагала обратно к метро. Ќа сегодн€шнюю ночь € давала себе установку вспомнить про черновик дл€ стихов, но сейчас понимаю, что никаких сил уже нет, поэтому буду отсыпатьс€, а завтра у мен€ снова театр, конечно же, поэтому надолго не прощаюсь)

Ќа сцену выход€т актЄры, с аппетитом закусыва€ €блоками. ќни репетируют пьесу, перелистыва€ страницы текста с карандашами в пальцах и неуверенно зачитыва€ свои ещЄ не выученные роли. «апинаютс€, путаютс€, опаздывают иногда, внос€ забавные нотки в серьЄзный классический текстЕ » вроде бы иде€ не нова Ц нечто подобное € видела и у ‘оменко в Ђ¬ойне и ћиреї, однако атмосфера сплочЄнного коллектива, свойственна€ всем спектакл€м питомцев ∆еновача, здесь особенно остро чувствуетс€ и особенно подкупает своим оба€нием. Ќастолько, что хочетс€ немедленно к ним присоединитьс€, уютно устроитьс€ в старом викторианском кресле перед насто€щим камином, в котором насто€щий огонь танцует на полень€х и на котором насто€щие зажжЄнные свечи копт€т зеркало и белую стену, похрустеть €блоком, подекламировать пафосные монологи. ¬едь это, кажетс€, так просто, что смог бы любойЕ но вот Ц второе действие, к которому наши актЄры подошли уже €вно более подготовленными. ќни уже не читают по бумажке, и об этих бумажках тут же забываешь, начина€ видеть не исполнителей ролей, а их персонажей Ц неожиданно живых, непривычно живых, ибо мы так часто смотрим на героев сказок ƒиккенса как на символы, маски, персонифицированные человеческие качества. “е, кто с наименьшим прилежанием относилс€ к прочтению текста в первом действии, во втором играют наиболее эмоционально, искренне и натурально Ц и такое блест€щее превращение в свою очередь превращает статичное, как прочие постановки —“», вполне могущие сойти за радиоспектакли, действие в увлекательное зрелище. «рителю словно приоткрывают двери на театральную кухню, позвол€ют прикоснутьс€ к процессу режиссЄрского и актЄрского творчества, и это маленькое чудо цепл€ет больше, нежели сюжет диккенсовской притчи, почти библейский, с соответствующей моралью о человеколюбии и добродетели. ƒвойной хэппи-энд: в доме, построенном на поле битвы, счастливо воссоедин€етс€ семь€, союз сильных духом, жертвенно преданных друг другу людей; на театральных подмостках выходит на поклон союз талантливых личностей, пон€вших и почувствовавших этих людей, переживавших вместе с ними их непростые судьбы. “олько так Ц без сантиментов и дидактики, не забыва€ о грани между Ђвеком нынешнимї и Ђвеком минувшимї, - и можно, и нужно представл€ть зрителю бронтозавров мировой литературы. “огда и уходишь со спектакл€ с эстетическим наслаждением от лЄгкости сценического быти€ и лиричной живой музыки, с самыми тЄплыми и позитивными эмоци€ми, со спокойной уверенностью в том, что в этом мире не всЄ так хреново, как может показатьс€ на первый взгл€д.
ѕосле 2.45 спектакл€ € отсто€ла традиционно длиннющую очередь в гардероб, одновременно с молодыми музыкантами женовачовской труппы вышла в вечер, пошагала обратно к метро. Ќа сегодн€шнюю ночь € давала себе установку вспомнить про черновик дл€ стихов, но сейчас понимаю, что никаких сил уже нет, поэтому буду отсыпатьс€, а завтра у мен€ снова театр, конечно же, поэтому надолго не прощаюсь)

ћетки: театр театры студи€ театрального искусства сти спектакли рецензии битва жизни |
ѕосмотрела "јватара" |
ƒневник |
21.12.09 —нег валил всю ночь и к утру похоронил многие дорожки во дворах, сравн€в их с давно засыпанными газонами. я съездила в школу только на последнюю пару, на литературу, благополучно пропустив контрольную по зарубежной истории. Ќа самую длинную ночь в году обещали звездопад, но сколько €, выключив в комнате всЄ светоиспускающее, ни ломала глаза, прижавшись лбом к заиндевевшему стеклу, падающих звЄзд не увидела Ц зато статичных было пруд пруди, и мес€ц был красивый.
22.12.09 я молодец Ц € сдала зачЄт по литературе и написала контрольную по социологии, на чЄм сессию можно было считать закрытой.)
23.12.09 —о вчерашнего вечера € решила пробить информатику и завела будильник к третьему уроку, но он сдох, и вместо него мен€ разбудил звонок от классной руководительницы, срочно требовавшей принести ей заполненное за€вление на сдачу ≈√Ё. ”спела € уже только на четвЄртый, то бишь на второй английский, предварительно занес€ вышеназванное за€вление Ц как позже вы€снилось, Ђсрочностьї позволила большинству остальных сдать свои за€влени€ только в конце учебного дн€, а некоторым Ц не сдать вовсе. «ато англичанка зан€ла мен€ какой-то письменной работой, благодар€ которой € в итоге получила п€ть, а не четыре, за полугодие. Ќа алгебру € шла с уверенностью, что задолжала вторую контрольную, однако оказалось, что она у мен€ каким-то макаром уже написана на тро€к, а в долгах продолжает с далЄкой осени неприка€нно висеть перва€, дважды написанна€ на два. ¬ который уж раз повторив, что в третий раз писать на два одну и ту же работу нерационально, € писать ничего не стала и благополучно вышла на каникулы, ибо четверг Ц последний лицейский день Ц обещает стать днЄм пересдач дл€ не сдавших историю и литературу. “акже со вчерашнего вечера € решила сходить в Ѕрест на јватара на четыре часа Ц сразу после школы, но только сегодн€ в метро вспомнила, что в Ѕресте мне формат 3D вр€д ли предостав€т. ѕришлось идти на шесть в ’удожественный, заломивший 350 рублей за билет. ѕрибыв на јрбатскую за час до сеанса, €, купив билет, прошлась по јрбату до зоомага и обратно, дабы купить собаку еды, а когда вернулась в кинотеатр, в Ѕольшой зал уже гостеприимно распахнули двери. ћесто у мен€ было комфортное, посему на нЄм € и осталась, протерев выданной влажной салфеткой и нап€лив казЄнные стереоочки.
In future there is only war... есть планета с тривиальным названием ѕандора, где все живые существа, включа€ разумных гуманоидов, сосуществуют в идеальной гармонии, поддерживаемой на некоем ментально-энергетическом уровне. ≈стественно, что в этот рай приходит агрессор в лице гон€ющегос€ за богатствами человечества, но среди homo sapiensТов естественно оказываетс€ ничем не примечательный морпех-инвалид, в котором богин€ все€ ѕандора признаЄт мессию. ¬ шкуре аборигена проника€сь духом своей новой родины, избранный, естественно, в конце концов мочит зарвавшихс€ хуманов и спасает ѕандору от гибели. —южет предсказуем от первого кадра до последнего Ц все возможные клише, свойственные героическим блокбастерам, в Ђјватареї наличествуют, что вызывает одно дежа вю за другим Ц и даже сцена финальной битвы персонифицированных добра и зла беззастенчиво слизана с Ђ–айона є9ї - первой ласточки в антиксенофобском жанре Ђплохой человек и хорошие инопланет€неї, котора€, да полет€т в мен€ тапочки, понравилась мне больше, нежели Ђјватарї. ќднако последний берЄт не социальным пафосом: в этой красивой бескровной сказке с хорошим концом (да, это ни разу не научна€ фантастика, скорее уж Ђ’роники Ќарнииї, прибавившие в масштабе) главное Ц компьютерна€ графика. ѕроще говор€, это одна сплошна€ графика Ц чертовски реалистично выписанный мир фосфоресцирующих джунглей и пар€щих островов с уникальной фауной, аки у ћи€дзаки, столкнувшийс€ с не менее впечатл€ющей техникой, и шумные спецэффекты, к которым сие столкновение привело Ц не одним же BBC (вспоминались Ђѕрогулки с динозаврамиї) да ѕитеру ƒжексону (вспоминалс€ Ђ инг онгї) собственные полноценные вселенные создавать! –адующа€ глаз картинка, достаточно эпична€ дл€ того, чтобы врем€ от времени вдоль хребта пробегались мурашки от глобального размаха, захватывающего экшна и эффекта присутстви€, вместе вз€тых, и к этой картинке Ц достойна€ музыка, немного трогательных моментов (почему-то не цепл€ющих Ц видимо, слишком Ђмульт€шної смотр€тс€ синекожие пардусоморфные красавцы, чтобы € могла им сопереживать, как насто€щим актЄрам) и немного улыбающего юмора. Ќо мне этого мало, чтобы записать сие феерическое зрелище в свои личные шедевры, хот€ €, конечно, понимаю, что дл€ многих родившихс€ не в том теле, а то и не в той реальности заодно (эльфов, фуррей, драконов и проча€) Ђјватарї стал откровением, этакой воплощЄнной мечтой, да и дл€ кинематографа это Ц однозначно эволюционный шаг вперЄд. » понимаю, что от создател€ Ђ“итаникаї, Ђ“ерминаторовї и Ђ„ужихї глубокой философии ждать не следовало Ц сии кинокартины тоже вошли в историю техническим новаторством, но в плане моральных ценностей тоже просты как валенок. ∆елающим получить эстетическое удовольствие и поклонникам ведических культур (ибо даже у мен€, отнюдь не специалиста, возникали ассоциации с оными) самый-дорогой-фильм рекомендуетс€, предпочитающим форму содержанию Ц необходим к просмотру. ј € Ц быть может, сейчас € кого-то обижу, посему заранее прошу извинить Ц предпочитаю содержание форме и, видимо, именно поэтому просиживаю выходные вечера в театре, а не за гаманьем в World of Warcraft (при всей к нему симпатии). ’от€Е € не исключаю и того, что эмерон на гребне успеха создаст из Ђјватараї трилогию, если не эпопею, наТви станут культовыми персонажами, как джедаи, а € с удовольствием буду пересматривать их похождени€ при каждом удобном случае.
ѕочти трЄхчасова€ экскурси€ на ѕандору закончилась, € приехала домой. ¬переди у мен€ Ц две недели почти сплошного театра, в которых придЄтс€ находить врем€ и дл€ кино. ѕрощаюсь до завтрашней рецензии :)

22.12.09 я молодец Ц € сдала зачЄт по литературе и написала контрольную по социологии, на чЄм сессию можно было считать закрытой.)
23.12.09 —о вчерашнего вечера € решила пробить информатику и завела будильник к третьему уроку, но он сдох, и вместо него мен€ разбудил звонок от классной руководительницы, срочно требовавшей принести ей заполненное за€вление на сдачу ≈√Ё. ”спела € уже только на четвЄртый, то бишь на второй английский, предварительно занес€ вышеназванное за€вление Ц как позже вы€снилось, Ђсрочностьї позволила большинству остальных сдать свои за€влени€ только в конце учебного дн€, а некоторым Ц не сдать вовсе. «ато англичанка зан€ла мен€ какой-то письменной работой, благодар€ которой € в итоге получила п€ть, а не четыре, за полугодие. Ќа алгебру € шла с уверенностью, что задолжала вторую контрольную, однако оказалось, что она у мен€ каким-то макаром уже написана на тро€к, а в долгах продолжает с далЄкой осени неприка€нно висеть перва€, дважды написанна€ на два. ¬ который уж раз повторив, что в третий раз писать на два одну и ту же работу нерационально, € писать ничего не стала и благополучно вышла на каникулы, ибо четверг Ц последний лицейский день Ц обещает стать днЄм пересдач дл€ не сдавших историю и литературу. “акже со вчерашнего вечера € решила сходить в Ѕрест на јватара на четыре часа Ц сразу после школы, но только сегодн€ в метро вспомнила, что в Ѕресте мне формат 3D вр€д ли предостав€т. ѕришлось идти на шесть в ’удожественный, заломивший 350 рублей за билет. ѕрибыв на јрбатскую за час до сеанса, €, купив билет, прошлась по јрбату до зоомага и обратно, дабы купить собаку еды, а когда вернулась в кинотеатр, в Ѕольшой зал уже гостеприимно распахнули двери. ћесто у мен€ было комфортное, посему на нЄм € и осталась, протерев выданной влажной салфеткой и нап€лив казЄнные стереоочки.
In future there is only war... есть планета с тривиальным названием ѕандора, где все живые существа, включа€ разумных гуманоидов, сосуществуют в идеальной гармонии, поддерживаемой на некоем ментально-энергетическом уровне. ≈стественно, что в этот рай приходит агрессор в лице гон€ющегос€ за богатствами человечества, но среди homo sapiensТов естественно оказываетс€ ничем не примечательный морпех-инвалид, в котором богин€ все€ ѕандора признаЄт мессию. ¬ шкуре аборигена проника€сь духом своей новой родины, избранный, естественно, в конце концов мочит зарвавшихс€ хуманов и спасает ѕандору от гибели. —южет предсказуем от первого кадра до последнего Ц все возможные клише, свойственные героическим блокбастерам, в Ђјватареї наличествуют, что вызывает одно дежа вю за другим Ц и даже сцена финальной битвы персонифицированных добра и зла беззастенчиво слизана с Ђ–айона є9ї - первой ласточки в антиксенофобском жанре Ђплохой человек и хорошие инопланет€неї, котора€, да полет€т в мен€ тапочки, понравилась мне больше, нежели Ђјватарї. ќднако последний берЄт не социальным пафосом: в этой красивой бескровной сказке с хорошим концом (да, это ни разу не научна€ фантастика, скорее уж Ђ’роники Ќарнииї, прибавившие в масштабе) главное Ц компьютерна€ графика. ѕроще говор€, это одна сплошна€ графика Ц чертовски реалистично выписанный мир фосфоресцирующих джунглей и пар€щих островов с уникальной фауной, аки у ћи€дзаки, столкнувшийс€ с не менее впечатл€ющей техникой, и шумные спецэффекты, к которым сие столкновение привело Ц не одним же BBC (вспоминались Ђѕрогулки с динозаврамиї) да ѕитеру ƒжексону (вспоминалс€ Ђ инг онгї) собственные полноценные вселенные создавать! –адующа€ глаз картинка, достаточно эпична€ дл€ того, чтобы врем€ от времени вдоль хребта пробегались мурашки от глобального размаха, захватывающего экшна и эффекта присутстви€, вместе вз€тых, и к этой картинке Ц достойна€ музыка, немного трогательных моментов (почему-то не цепл€ющих Ц видимо, слишком Ђмульт€шної смотр€тс€ синекожие пардусоморфные красавцы, чтобы € могла им сопереживать, как насто€щим актЄрам) и немного улыбающего юмора. Ќо мне этого мало, чтобы записать сие феерическое зрелище в свои личные шедевры, хот€ €, конечно, понимаю, что дл€ многих родившихс€ не в том теле, а то и не в той реальности заодно (эльфов, фуррей, драконов и проча€) Ђјватарї стал откровением, этакой воплощЄнной мечтой, да и дл€ кинематографа это Ц однозначно эволюционный шаг вперЄд. » понимаю, что от создател€ Ђ“итаникаї, Ђ“ерминаторовї и Ђ„ужихї глубокой философии ждать не следовало Ц сии кинокартины тоже вошли в историю техническим новаторством, но в плане моральных ценностей тоже просты как валенок. ∆елающим получить эстетическое удовольствие и поклонникам ведических культур (ибо даже у мен€, отнюдь не специалиста, возникали ассоциации с оными) самый-дорогой-фильм рекомендуетс€, предпочитающим форму содержанию Ц необходим к просмотру. ј € Ц быть может, сейчас € кого-то обижу, посему заранее прошу извинить Ц предпочитаю содержание форме и, видимо, именно поэтому просиживаю выходные вечера в театре, а не за гаманьем в World of Warcraft (при всей к нему симпатии). ’от€Е € не исключаю и того, что эмерон на гребне успеха создаст из Ђјватараї трилогию, если не эпопею, наТви станут культовыми персонажами, как джедаи, а € с удовольствием буду пересматривать их похождени€ при каждом удобном случае.
ѕочти трЄхчасова€ экскурси€ на ѕандору закончилась, € приехала домой. ¬переди у мен€ Ц две недели почти сплошного театра, в которых придЄтс€ находить врем€ и дл€ кино. ѕрощаюсь до завтрашней рецензии :)

ћетки: кино фильмы рецензии аватар avatar школа сесси€ |
ѕосмотрела "ѕариж, € люблю теб€" |
ƒневник |
∆естоко, конечно, в воскресенье вставать по будильнику, но ничего не поделаешь Ц встала как миленька€ и поехала к двенадцати в киноцентр на раснопресненской смотреть Ђѕариж, € люблю теб€ї. ¬з€ла билет за 120, встала в очередь на вход Ц шмонали у металлодетекторов по-серьЄзному, заставили вытащить из карманов фотоаппарат, телефон и кошелЄк, досмотрели торбу с фл€гой, книжкой и зачем-то по привычке вз€той сменкой. я подн€лась на второй этаж, не устава€ удивл€тьс€ пафосности сего заведени€, хоть и была в нЄм прежде, кажетс€, дважды Ц на –ататуе и ’энкоке; до начала сеанса оставалось полчаса, и € развалилась на блест€щем диване, п€л€сь в монитор с беззвучно смен€ющими друг друга трейлерами-анонсами Ц при€тно порадовало, что в феврале нас ожидает фильм о ƒориане √рее. Ќо вот зал открылс€ Ц теоретически маленький, но по сравнению с ћалым залом ’удожественного тамошний экран оказалс€ больше, а € сидела очень близко Ц в середине третьего р€да; но поскольку зал заполнилс€ почти полностью, пересесть подальше мне не удалось, и вскоре € привыкла и к приближенной картинке, и к мощному звуку. ѕоскольку впереди мен€ никого не было, просмотру сопутствовало уютное ощущение, будто € в зале одна.
ƒвадцать два замечательных режиссЄра (“ыквер, ¬ан —ент, рэйвен и оэны в числе оных и как всегда на высоте) признались в любви к ѕарижу в восемнадцати п€тиминутных истори€х Ц и получилась на редкость цельна€, стабильно качественна€ и аппетитна€ артхаусна€ картина, каждую мельчайшую подробность которой хочетс€ разгл€дывать и разгл€дывать. ≈сли верить маэстро Ц а им нельз€ не верить, Ц в этом городе можно встретить свою судьбу на парковке ћонмартра, на набережной —ены и в художественной мастерской квартала ћаре, главное Ц еЄ не упустить. ћожно столкнутьс€ с насто€щим чудом: встретить ќскара ”айльда возле его зацелованного пам€тника или ковбо€ из детской мечты, проводника между этим и тем светом, на ночных улицах. ћожно быть не обычным человеком, а мимом, превращающим воображаемое в реальное, или чЄрно-белым вампиром, словно сошедшим с плЄнки старых Ђготичныхї хорроров. ћожно полюбить женщину, мужчину, чужого ребЄнка, родителей, умирающую жену, впервые или заново, счастливо или безнадЄжно, взаправду или понарошку, получить за любовь по морде, а то и умереть Ц и можно полюбить ѕариж. — его растиражированными достопримечательност€ми и дорогими ресторанами, историческим центром и окраинными трущобами, с его неграми, азиатами, мусульманами, ге€ми, евре€ми, шлюхами, наркоторговцами, туристами, слепыми, столь разными и столь похожими между собой Ц полюбить таким, какой он есть, во всЄм и во всех. ѕолюбить ѕариж и пон€ть, что и он любит теб€ Ц как полюбила и пон€ла героин€ последнего эпизода этого прекрасного путеводител€ по этому прекрасному городу. аждый найдЄт в нЄм главу на свой вкус: грустную или смешную, лиричную или романтичную, жестокую или жизнеутверждающую, трогательную или чувственную Ц вот только некрасивой главы там нет, эстетикой пронизан каждый кадр. Ћюбоватьс€, удивл€тьс€, задумыватьс€ и пытатьс€ представить, какой полнометражный фильм мог бы вырасти Ц или не вырасти Ц из той или иной микроновеллы, советую всем, особенно тем киноманам, кому не хватает подлинного искусства среди засиль€ среди сугубо развлекательных, зрелищных проектов, став€щих во главу угла спецэффект и экшн, а не эмоции и чувства актЄров, атмосферность и вкус. „то до мен€ Ц мне хочетс€ когда-нибудь посмотреть это кино ещЄ раз, а на более ближнее будущее Ц заценить ещЄ и альманах, посв€щЄнный Ќью-…орку (а обещают ещЄ Ўанхай и »ерусалимЕ)
ѕосле просмотра €, перелистыва€ в пам€ти увиденное, захотела прогул€тьс€ и доехала до —моленки, вышла и пошла по јрбату. –езвые трактора разгребали его от снега, вырисовыва€ извилистые тропинки, чернеющие скользким асфальтом, а снег всЄ подсыпалс€, и было холодно. я заскочила гретьс€ в Costa Coffee, была разноголосо поприветствована всем коллективом, заценила ассортимент либо несъедобных, либо слишком дорогих закусок и поинтересовалась, правда ли у них, как мне говорили, имеетс€ капучино на соевом молоке. ассир подтвердил справедливость информации, и € потребовала большую порцию Ц заказ вызвал нетактичный смех компании барриста, €вно впервые столкнувшихс€ с клиентом-веганом, но был исполнен. я взгромоздилась на высокий стул за высоким столиком напротив прилавка, пр€мо под значком, запрещающим в верхнем зале курение, и засиделась, п€л€сь на копошащихс€ за прилавком пацанов, аж часа на два Ц как-никак, кофе без закуски пьЄтс€ т€желовато, пусть и такое м€гкое. ∆аль только, ни соломинки, ни ложечки мне не дали, посему густой, воздушной, нежно-сладкой пенкой мне практически не удалось насладитьс€, ибо она бисквитной подушкой болталась по центру, а отпивала €, естественно, с краЄв. “ак эта подушка и осталась на дне стакана, ибо последние глотки € допивать не стала Ц они имели вкус картона и безбожно остыли. ѕокинув, наконец, осту, € дошла до јрбатской, приехала домой и теперь спрашиваю у своих лени и совести, к которому уроку мне завтра приходить в школу, если вообще приходить. » прощаюсь с вами до следующего поста)
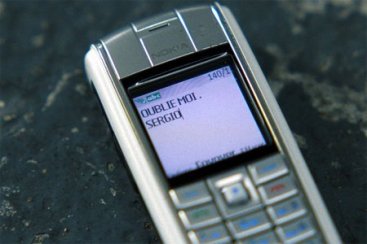
P.S. забыла сообщить, что мен€ с недавних пор благодар€ трансл€ции можно читать ещЄ и с дайри, а со вчерашнего дн€ - ещЄ и с ∆∆ (ссылки в эпиграфе). ¬сЄ дл€ вашего удобства :)
ƒвадцать два замечательных режиссЄра (“ыквер, ¬ан —ент, рэйвен и оэны в числе оных и как всегда на высоте) признались в любви к ѕарижу в восемнадцати п€тиминутных истори€х Ц и получилась на редкость цельна€, стабильно качественна€ и аппетитна€ артхаусна€ картина, каждую мельчайшую подробность которой хочетс€ разгл€дывать и разгл€дывать. ≈сли верить маэстро Ц а им нельз€ не верить, Ц в этом городе можно встретить свою судьбу на парковке ћонмартра, на набережной —ены и в художественной мастерской квартала ћаре, главное Ц еЄ не упустить. ћожно столкнутьс€ с насто€щим чудом: встретить ќскара ”айльда возле его зацелованного пам€тника или ковбо€ из детской мечты, проводника между этим и тем светом, на ночных улицах. ћожно быть не обычным человеком, а мимом, превращающим воображаемое в реальное, или чЄрно-белым вампиром, словно сошедшим с плЄнки старых Ђготичныхї хорроров. ћожно полюбить женщину, мужчину, чужого ребЄнка, родителей, умирающую жену, впервые или заново, счастливо или безнадЄжно, взаправду или понарошку, получить за любовь по морде, а то и умереть Ц и можно полюбить ѕариж. — его растиражированными достопримечательност€ми и дорогими ресторанами, историческим центром и окраинными трущобами, с его неграми, азиатами, мусульманами, ге€ми, евре€ми, шлюхами, наркоторговцами, туристами, слепыми, столь разными и столь похожими между собой Ц полюбить таким, какой он есть, во всЄм и во всех. ѕолюбить ѕариж и пон€ть, что и он любит теб€ Ц как полюбила и пон€ла героин€ последнего эпизода этого прекрасного путеводител€ по этому прекрасному городу. аждый найдЄт в нЄм главу на свой вкус: грустную или смешную, лиричную или романтичную, жестокую или жизнеутверждающую, трогательную или чувственную Ц вот только некрасивой главы там нет, эстетикой пронизан каждый кадр. Ћюбоватьс€, удивл€тьс€, задумыватьс€ и пытатьс€ представить, какой полнометражный фильм мог бы вырасти Ц или не вырасти Ц из той или иной микроновеллы, советую всем, особенно тем киноманам, кому не хватает подлинного искусства среди засиль€ среди сугубо развлекательных, зрелищных проектов, став€щих во главу угла спецэффект и экшн, а не эмоции и чувства актЄров, атмосферность и вкус. „то до мен€ Ц мне хочетс€ когда-нибудь посмотреть это кино ещЄ раз, а на более ближнее будущее Ц заценить ещЄ и альманах, посв€щЄнный Ќью-…орку (а обещают ещЄ Ўанхай и »ерусалимЕ)
ѕосле просмотра €, перелистыва€ в пам€ти увиденное, захотела прогул€тьс€ и доехала до —моленки, вышла и пошла по јрбату. –езвые трактора разгребали его от снега, вырисовыва€ извилистые тропинки, чернеющие скользким асфальтом, а снег всЄ подсыпалс€, и было холодно. я заскочила гретьс€ в Costa Coffee, была разноголосо поприветствована всем коллективом, заценила ассортимент либо несъедобных, либо слишком дорогих закусок и поинтересовалась, правда ли у них, как мне говорили, имеетс€ капучино на соевом молоке. ассир подтвердил справедливость информации, и € потребовала большую порцию Ц заказ вызвал нетактичный смех компании барриста, €вно впервые столкнувшихс€ с клиентом-веганом, но был исполнен. я взгромоздилась на высокий стул за высоким столиком напротив прилавка, пр€мо под значком, запрещающим в верхнем зале курение, и засиделась, п€л€сь на копошащихс€ за прилавком пацанов, аж часа на два Ц как-никак, кофе без закуски пьЄтс€ т€желовато, пусть и такое м€гкое. ∆аль только, ни соломинки, ни ложечки мне не дали, посему густой, воздушной, нежно-сладкой пенкой мне практически не удалось насладитьс€, ибо она бисквитной подушкой болталась по центру, а отпивала €, естественно, с краЄв. “ак эта подушка и осталась на дне стакана, ибо последние глотки € допивать не стала Ц они имели вкус картона и безбожно остыли. ѕокинув, наконец, осту, € дошла до јрбатской, приехала домой и теперь спрашиваю у своих лени и совести, к которому уроку мне завтра приходить в школу, если вообще приходить. » прощаюсь с вами до следующего поста)
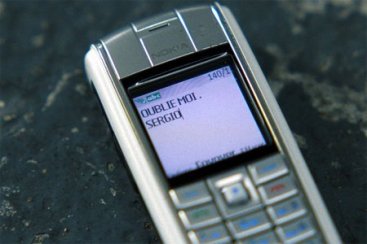
P.S. забыла сообщить, что мен€ с недавних пор благодар€ трансл€ции можно читать ещЄ и с дайри, а со вчерашнего дн€ - ещЄ и с ∆∆ (ссылки в эпиграфе). ¬сЄ дл€ вашего удобства :)
ћетки: фильмы рецензии кино париж € люблю теб€ јрбат paris je t'aime париж € люблю теб€ коста кофе costa coffee |
ѕосмотрела "—амоубийцу" |
ƒневник |
ќстаток п€тничного вечера € провела в приступе мазохистского трудоголизма, конспектиру€ пропущенные за мес€ц темы по шизике из учебника в тетрадь. Ѕез зазрени€ совести проспав ќЅ∆, € на непосредственно физику и €вилась, причЄм с небольшим опозданием Ц когда все парты были уже зан€ты и мне благополучно осталась сама€ что ни на есть камчатка. “руды праведные даром не прошли Ц за два урока € написала две проверочных по двум законспектированным темам, то бишь беспалевно перекатала с тетради на листочки. ѕосле очередного познавательного урока зарубежной литературы € приехала домой, успела чуток пострадать ерундой и вечером вывалилась под самые насто€щие звЄзды Ц сто лет их не видала Ц на не менее €рко искр€щийс€ снег. ѕуть лежал, конечно же, на старый добрый ёго-запад Ц на сей раз на Ђ—амоубийцуї, о котором € теперь, не откладыва€ в долгий €щик, и начну писать.
омеди€ настолько чЄрна€, что граничит с трагедией Ц дл€ Ѕел€ковича жанр, как € уже убедилась, привычный. ѕьеса Ёрдмана Ђ—амоубийцаї в этом жанре Ц классика, еЄ сравнивают с Ђ–евизоромї по степени напичканности социально-политическими остротамиЕ вот только Ќэповские реалии устарели, а межчеловеческие проблемы остались Ц их и попытаемс€ вычленить из контекста. онтекст таков: жалкий человечишка ѕодсекальников сидит на шее у жены и тЄщи, после очередной ссоры на пустом месте из случайно обронЄнного слова возникает опасение, что он застрелитс€, а попытки отговорить его от этого им незапланированного действи€ привод€т к пр€мо противоположным результатам Ц он действительно решает застрелитьс€. Ќо он так и передумал бы, если бы бытовуха не приобрела гротескно-глобальный размах: представители интеллигенции, творчества, предпринимательства, религии и экзальтированного слабого пола решают использовать смерть ѕодкосельникова в своих цел€х. ¬дохновлЄнный тем, что умрЄт не просто так, а за идею и станет героем, наш потенциальный покойник соглашаетс€ подписатьс€ под составленной Ђврагами народаї предсмертной записке, ему закатывают торжественные проводы, пышные похороныЕ Ќо в последний момент он отказываетс€ умирать, чем вызывает всеобщее возмущение. ћораль сей басни, должно быть, такова: личность никому не нужна, нужен послушный скот, годный на заклание во им€ светлого будущего Ц та же тема была в Ђ”жине с бабуиномї. » пусть ѕодсекальникову, несмотр€ на его метани€ между Ђбыть или не бытьї и финальный бунт против своры людоедов, не сочувствуешь, и пусть сюжет раст€нут и обрывочен, а авторска€ позици€ нечЄтка Ц это недостатки драматургии, но не режиссуры. —работан спектакль добротно, под бойкие цыганские напевы и пл€ски, создающие отча€нную атмосферу необратимого крушени€ и искажени€ чего-то, Ђгибельного восторгаї над пропастью. јктЄрска€ игра как всегда великолепна в каждом персонаже Ц огромное удовольствие смотреть на неЄ, она делает симпатичными даже мучителей ѕодсекальникова, толкающих ностальгически-патриотические речи с оборотами вроде Ђзаломить седого бобраї (ну не красота ли?), и в первую очередь ради неЄ € всем советую посмотреть Ђ—амоубийцуї. Ќу, и ради того, чтобы посме€тьс€, пощекотать нервы, окунутьс€ в рассвет эпохи Ђскованных одной цепьюї и задуматьс€ о чЄм-нибудь.
Ќо вот трЄхчасовое действо окончено, € добираюсь до родной ћолодЄги, папа подвозит мен€ до дома. ¬сенощных посиделок не выйдет Ц завтра мне рано вставать, ибо € твЄрдо решила посмотреть ЂParis, je tТaimeї, а он осталс€ только в одном кинотеатре только на одно врем€. ƒо следующей рецензии, господа)

омеди€ настолько чЄрна€, что граничит с трагедией Ц дл€ Ѕел€ковича жанр, как € уже убедилась, привычный. ѕьеса Ёрдмана Ђ—амоубийцаї в этом жанре Ц классика, еЄ сравнивают с Ђ–евизоромї по степени напичканности социально-политическими остротамиЕ вот только Ќэповские реалии устарели, а межчеловеческие проблемы остались Ц их и попытаемс€ вычленить из контекста. онтекст таков: жалкий человечишка ѕодсекальников сидит на шее у жены и тЄщи, после очередной ссоры на пустом месте из случайно обронЄнного слова возникает опасение, что он застрелитс€, а попытки отговорить его от этого им незапланированного действи€ привод€т к пр€мо противоположным результатам Ц он действительно решает застрелитьс€. Ќо он так и передумал бы, если бы бытовуха не приобрела гротескно-глобальный размах: представители интеллигенции, творчества, предпринимательства, религии и экзальтированного слабого пола решают использовать смерть ѕодкосельникова в своих цел€х. ¬дохновлЄнный тем, что умрЄт не просто так, а за идею и станет героем, наш потенциальный покойник соглашаетс€ подписатьс€ под составленной Ђврагами народаї предсмертной записке, ему закатывают торжественные проводы, пышные похороныЕ Ќо в последний момент он отказываетс€ умирать, чем вызывает всеобщее возмущение. ћораль сей басни, должно быть, такова: личность никому не нужна, нужен послушный скот, годный на заклание во им€ светлого будущего Ц та же тема была в Ђ”жине с бабуиномї. » пусть ѕодсекальникову, несмотр€ на его метани€ между Ђбыть или не бытьї и финальный бунт против своры людоедов, не сочувствуешь, и пусть сюжет раст€нут и обрывочен, а авторска€ позици€ нечЄтка Ц это недостатки драматургии, но не режиссуры. —работан спектакль добротно, под бойкие цыганские напевы и пл€ски, создающие отча€нную атмосферу необратимого крушени€ и искажени€ чего-то, Ђгибельного восторгаї над пропастью. јктЄрска€ игра как всегда великолепна в каждом персонаже Ц огромное удовольствие смотреть на неЄ, она делает симпатичными даже мучителей ѕодсекальникова, толкающих ностальгически-патриотические речи с оборотами вроде Ђзаломить седого бобраї (ну не красота ли?), и в первую очередь ради неЄ € всем советую посмотреть Ђ—амоубийцуї. Ќу, и ради того, чтобы посме€тьс€, пощекотать нервы, окунутьс€ в рассвет эпохи Ђскованных одной цепьюї и задуматьс€ о чЄм-нибудь.
Ќо вот трЄхчасовое действо окончено, € добираюсь до родной ћолодЄги, папа подвозит мен€ до дома. ¬сенощных посиделок не выйдет Ц завтра мне рано вставать, ибо € твЄрдо решила посмотреть ЂParis, je tТaimeї, а он осталс€ только в одном кинотеатре только на одно врем€. ƒо следующей рецензии, господа)

«десь можно играть про себ€ на трубе,
Ќо как ни играй - всЄ играешь отбой,
» если есть те, кто приходит к тебе,
Ќайдутс€ и те, кто придЄт за тобой
© ормильцев
Ќо как ни играй - всЄ играешь отбой,
» если есть те, кто приходит к тебе,
Ќайдутс€ и те, кто придЄт за тобой
© ормильцев
ћетки: рецензии театры театр самоубийца спектакли театр на юго-западе |
ѕосмотрела "¬иват, јнна!" |
ƒневник |
’оть и запинала себ€ спать € себ€ давеча к рассвету, уже в районе одиннадцати утра € сегодн€ проснулась и стала думать, как скоротать день. ѕо морозу да с насморком долго не прогул€ешь, пришлось интересоватьс€ поподробнее репертуаром ’удожественного кинотеатра, и в итоге выбор остановилс€ на прошлогоднем историческом отечественном кине Ђ¬иват, јнна!ї. — утра пострадав ерундой и даже уроками, после обеда € поехала на јрбатскую к четырЄм, слегка закопалась, поэтому опоздала и, приобрет€ билет за 130, вломилась в Ѕольшой зал уже на открывающих титрах. ѕопытка подсветить себе фотоаппаратом ни к чему не привела, и € тупо продвигалась в темноте вперЄд по проходу, пока не упЄрлась колен€ми в спинку свободного кресла. — грехом пополам перебравшись на его сиденье, € так там, с краю, и осталась, начав вникать в происход€щее на экране.
расафцы —умароков Ц лучезарный блондин Ц и орф Ц мрачноватый брюнет - норов€т прихлопнуть друг друга при вс€ком удобном случае: как-никак, оказались по две разные стороны баррикад. ќдна сторона, ¬ерховный “айный совет во главе с кн€зь€ми ƒолгоруким и √олицыным, представител€ми древнейших двор€нских фамилий, удерживает императрицу јнну »оанновну взаперти и диктует ей свои услови€, заставив подписать небезызвестные Ђкондицииї, ограничивающие еЄ полномочи€ до декоративной функции. ƒруга€, представленна€ ќстерманом, покровителем немцев в частности и иностранцев в целом, и его баб-бригадой родственниц императрицы и ей сочувствующих, готова в лепЄшку разбитьс€, лишь бы освободить јнну от кабалы и возвести еЄ на престол с безграничными правами на власть в лучших традици€х абсолютизма. ѕервые опираютс€ на украинские полки, вторые Ц на ѕреображенскую гвардию, верную прис€ге императорской династии. —ама же виновница конфронтации, пожила€ простушка, править не умеет и не хочет Ц знай покор€етс€ складывающимс€ вокруг неЄ обсто€тельствам, жела€ лишь одного: чтобы р€дом был еЄ любовник Ц брутальный конюх Ѕирон, которому злые ¬ерховники хот€т отт€пать самое дорогое, а затем повесить его (Ѕирона, а не дорогое) на площади заместо колокола. «накомые с историей –оссии уже знают, что победу одержат сторонники императорской династии, положив столько титанических усилий лишь ради того, чтобы обречь страну на эпоху Ђбироновщиныї - тирании жестокого неотЄсанного мужлана. Ќезнакомым с оной может быть интересна эта седьма€ картина из серии Ђ“айн дворцовых переворотовї как попытка художественного изложени€ подлинного исторического материала Ц изложени€ пусть несколько зат€нутого и слегка скучноватого, зато с симпатичным актЄрским составом из сплошь знакомых лиц. артинка радует эффектной замедленной съЄмкой, но вот компьютерна€ графика, как всегда, подкачала, да и желаемого глобального, эпичного размаха, без которого историческое кино тер€ет очень и очень многое, в кадре не было Ц помещени€ и пейзажи повтор€ютс€ от сцены к сцене, впечатл€ющей массовки не наскребли. Ќо что особенно коробит Ц так это то, что без банальнейшей лавстори отечественные режиссЄры сн€ть фильм решительно не могут, в каком бы жанре он ни был. ¬от и здесь —умарокова свели с курл€ндским спецагентом ћадлен, заведующей голубиной почтой и передачей записок в просфорах и прочих неожиданных местах. ¬ промежутках между погон€ми и стычками наш главный герой встречаетс€ со своей пассией под воврем€ включающийс€ саундтрек јлсу и целуетс€ с ней (с кем с ней? Ц и с ћадлен, и с јлсу одновременно, ибо втора€ играла первую) в режиме замедленного времени. ћораль сей басни остаЄтс€ крайне размытой, но это и немудрено Ц руководители противосто€щих лагерей одинаково жаждут власти любой ценой, а исполнители их замыслов одинаково позвол€ют себ€ использовать, не замеча€, к чему приводит их пламенна€ идейность, сочувствовать в итоге некому. Ќо по сравнению с приснопам€тным Ђ¬озвращением мушкетЄровї такое видение придворных пертурбаций смотритс€ естественней, логичней и интересней Ц так что от нечего делать сходить на Ђјннуї и поддержать отечественного производител€ вполне можно.
ѕосле фильма € не смогла отказать себе в удовольствии пройтись по јрбату до —моленки, затем приехала домойЕ а там Ц »нтернет не работает и до админа удалось дозвонитьс€ только что. «автра начинаетс€ нова€ учебна€ недел€, желаю всем и себе еЄ пережить)

расафцы —умароков Ц лучезарный блондин Ц и орф Ц мрачноватый брюнет - норов€т прихлопнуть друг друга при вс€ком удобном случае: как-никак, оказались по две разные стороны баррикад. ќдна сторона, ¬ерховный “айный совет во главе с кн€зь€ми ƒолгоруким и √олицыным, представител€ми древнейших двор€нских фамилий, удерживает императрицу јнну »оанновну взаперти и диктует ей свои услови€, заставив подписать небезызвестные Ђкондицииї, ограничивающие еЄ полномочи€ до декоративной функции. ƒруга€, представленна€ ќстерманом, покровителем немцев в частности и иностранцев в целом, и его баб-бригадой родственниц императрицы и ей сочувствующих, готова в лепЄшку разбитьс€, лишь бы освободить јнну от кабалы и возвести еЄ на престол с безграничными правами на власть в лучших традици€х абсолютизма. ѕервые опираютс€ на украинские полки, вторые Ц на ѕреображенскую гвардию, верную прис€ге императорской династии. —ама же виновница конфронтации, пожила€ простушка, править не умеет и не хочет Ц знай покор€етс€ складывающимс€ вокруг неЄ обсто€тельствам, жела€ лишь одного: чтобы р€дом был еЄ любовник Ц брутальный конюх Ѕирон, которому злые ¬ерховники хот€т отт€пать самое дорогое, а затем повесить его (Ѕирона, а не дорогое) на площади заместо колокола. «накомые с историей –оссии уже знают, что победу одержат сторонники императорской династии, положив столько титанических усилий лишь ради того, чтобы обречь страну на эпоху Ђбироновщиныї - тирании жестокого неотЄсанного мужлана. Ќезнакомым с оной может быть интересна эта седьма€ картина из серии Ђ“айн дворцовых переворотовї как попытка художественного изложени€ подлинного исторического материала Ц изложени€ пусть несколько зат€нутого и слегка скучноватого, зато с симпатичным актЄрским составом из сплошь знакомых лиц. артинка радует эффектной замедленной съЄмкой, но вот компьютерна€ графика, как всегда, подкачала, да и желаемого глобального, эпичного размаха, без которого историческое кино тер€ет очень и очень многое, в кадре не было Ц помещени€ и пейзажи повтор€ютс€ от сцены к сцене, впечатл€ющей массовки не наскребли. Ќо что особенно коробит Ц так это то, что без банальнейшей лавстори отечественные режиссЄры сн€ть фильм решительно не могут, в каком бы жанре он ни был. ¬от и здесь —умарокова свели с курл€ндским спецагентом ћадлен, заведующей голубиной почтой и передачей записок в просфорах и прочих неожиданных местах. ¬ промежутках между погон€ми и стычками наш главный герой встречаетс€ со своей пассией под воврем€ включающийс€ саундтрек јлсу и целуетс€ с ней (с кем с ней? Ц и с ћадлен, и с јлсу одновременно, ибо втора€ играла первую) в режиме замедленного времени. ћораль сей басни остаЄтс€ крайне размытой, но это и немудрено Ц руководители противосто€щих лагерей одинаково жаждут власти любой ценой, а исполнители их замыслов одинаково позвол€ют себ€ использовать, не замеча€, к чему приводит их пламенна€ идейность, сочувствовать в итоге некому. Ќо по сравнению с приснопам€тным Ђ¬озвращением мушкетЄровї такое видение придворных пертурбаций смотритс€ естественней, логичней и интересней Ц так что от нечего делать сходить на Ђјннуї и поддержать отечественного производител€ вполне можно.
ѕосле фильма € не смогла отказать себе в удовольствии пройтись по јрбату до —моленки, затем приехала домойЕ а там Ц »нтернет не работает и до админа удалось дозвонитьс€ только что. «автра начинаетс€ нова€ учебна€ недел€, желаю всем и себе еЄ пережить)

ћетки: фильмы рецензии кино виват анна виват анна! виват анна иоанновна! тайны дворцовых переворотов виват анна иоанновна |
ѕосмотрела "«ойкину квартиру" во ћ’ј“е |
ƒневник |

¬ ночь на сегодн€шний день снилс€ мне бред Ц св€занный, как со мной часто в последнее врем€ бывает, с метро. я откуда-то возвращалась с мамой и, подн€вшись на эскалаторе с платформы в холл станции, увидела слепую старуху, без провожатых, даже без трости, мечущуюс€ по одному небольшому участку туда-сюда. ќна €вно заблудилась, пыталась схватитьс€ руками за проход€щих мимо, что-то лепетала; никто не обращал на неЄ внимани€, а €, хоть и знала, что мо€ мама всегда резко против моих контактов со вс€кого рода нищими и вообще незнакомцами, подошла и спросила, куда ей нужно. ќна не то назвала мне адрес, который € записала на бумажке, не то просто дала мне бумажку, будучи ещЄ и немой, - € не помню точно, главное то, что € увидела, что это место очень далеко отсюда, до него надо долго ехать на метро. я не могла себе позволить развернутьс€ и куда-то поехать, а про милицию почему-то не вспомнила, поэтому просто сунула бумажку в карман и пошла за мамой, утеша€ себ€ тем, что старушке кто-нибудь непременно поможет и без мен€. «атем действие перенеслось в вечер того же, видимо, дн€, € шла до метро пешком с кем-то из бывших одношкольников Ц не то с ѕаровозом, не то с остиком Ц и в разговоре пом€нула эту старушку, спросив, не будет ли мой спутник против, если € еЄ провожу, будь она по-прежнему на станции. “от охотно согласилс€ мне содействовать, но, учитыва€ позднее врем€, мы условились провожать только до нужной станции метро, а в незнакомые дворы и тем паче подъезды не лезть, ибо с помощью таких старушек преступники иногда лов€т жертв Ђна живцаї. ќднако € была практически уверена в том, что старушку мы уже не застанем, и крайне удивилась, увидев еЄ всЄ на том же п€тачке площади, словно не прошло и получаса. ј дальше случилось нечто совсем уж нелогичное Ц не то на почве этого удивлени€, не то на почве размышлений о возможной подставе € не подошла к старушке, а быстро проскочила мимо и сбежала по лестнице вниз на платформу. ¬скоре € проснулась с несколько непри€тным чувством Ц в реале € бы не позволила себе такую подл€нку и осуществила бы задуманное при наличии возможности, а во сне как будто что дЄрнуло вопреки здравому смыслу. ¬ школу € сегодн€ в кои-то веки сходила на ќЅ∆ (нас там поначалу было три человека, и препод снова нЄс свой любимый бред про космическую энергию, которую мы должны впитывать ночью во сне, иначе рано умрЄм) и физику (не была там со своего дн€ рождени€, должна физичке уже две контрольных, а не знаю решительно нихрена), а »ќ за компанию с большинством пробила. ¬ечером же € снова вывалилась из дома и поехала до „еховской, где мне предсто€ло найти давно не посещаемый мною ћ’ј“ √орького. —перва € по привычке зарулила на “верскую, но быстро пон€ла, что движусь куда-то не туда, вернулась к подземному переходу, спустилась в его лабиринты и с грехом пополам вышла на “верской бульвар, на котором ломали за заборчиком старый дом Ц с торца заборчика не было, и можно было подойти к углу и сфотографировать развалины с карабкающимс€ по ним экскаватором. ƒошла € до театра как раз к тому моменту, как начали впускать, купила программку, подн€лась к партеру, уселась почитать до первого звонка, а с оным вошла в зал, наплевав, естественно, на своЄ законное место где-то на галЄрке балкона. ¬ результате нескольких перемещений € оказалась на первое отделение не много не мало, а в первом р€ду партера, но в антракте мен€ согнали, и второе действие € просидела подальше, но всЄ равно достаточно близко, чтобы бинокль мне не понадобилс€. ј смотрела € свою вторую Ц после Ёрмитажа -
я, конечно, ни разу не сомневалась в том, что интерпретаци€ Ёрмитажа вне конкуренции: академические театры слав€тс€ любовью к точному следованию букве классика, так что спектакль раскатали на три с лишним размеренных, не захватывающих часа, и патриархальной строгостью нравов, благодар€ чему бордель советской эпохи на сцене так и не был показан Ц на факт его существовани€ лишь мучительно намекали. Ќо всЄ же € наде€лась на большее, нежели увидела Ц как-никак, актЄрский состав ћ’ј“а раньше мен€ ещЄ не разочаровывал, но на сей раз порадоватьс€ ему мне не удалось. ћожно чисто по-человечески пон€ть примадонну ƒоронину, не желающую уступать роли молодому поколению Ц но по Ѕулгакову «ойке 35, а в спектакле мы видим бабу «ою более чем в два раза старше. Ѕудучи замечательной, органичной барыней в ЂЋесуї, ƒоронина на энергичную, предприимчивую даму не похожа ни разу Ц слишком валь€жна, вульгарна, невозмутимо-спокойна, слишком хорошо устроилась, чтобы можно было поверить, что она готова на любой риск ради бегства за границу от безденежь€ и унижений. „то до графа ќболь€нинова ( лементьев), то он откровенно ужасен Ц с первых секунд своего по€влени€ ввЄл мен€ в недоумЄнный ступор своей резкой непохожестью на живого человека: так безэмоционально выговаривать свои реплики может только запрограммированный робот, которому плевать, что вообще происходит вокруг него и насколько эти реплики уместны в той или иной ситуации. –азве можно сравнивать этот дуэт с эрмитажевским Ц где «ойка (Ѕелоусова) издЄргана и измучена, но не тер€ет своего достоинства и не опускает руки, а граф (–оманов) так блест€ще аристократичен и благороден? ј здесь и √усь-–емонтный, превращЄнный в √усь-’рустального (√оробец), отнюдь не влюблЄн, и второстепенные персонажи, в отличие от эрмитажевских, не запоминаютс€, и массовка никака€ вообще Ц только несколько определ€емых как Ђгостиї персонажей промелькнуло, но смутно. ’удо-бедно €рко смотритс€ разве что јметистов (√абриэл€н), но переигрывает, беспрестанно раздражающе хрюка€, отчего его присутствие на сцене и кажетс€ наиболее заметным, однако персонаж остаЄтс€ в своей €ркости карикатурным, шаблонным, плоским. Ќо что посмешило даже больше, чем традиционные дл€ ћ’ј“а продолжительные паузы посреди действи€, во врем€ которых занавес опускаетс€ и зрители в темноте ждут, пока смен€т декорации, так это финал, дописанный авторами постановки за Ѕулгакова: бац Ц и граф неожиданно оказываетс€ предателем, бац Ц и откуда ни возьмись по€вл€етс€ инфернальной тенью в чЄрном Ђмифическое лицої и так же исчезает, решительно ничего в сюжет не привнес€, бац Ц иЕ зазвучало церковное песнопение. » под этот саундтрек все задержанные в злополучной квартире в белых сорочках медленно, по одному, поднимаютс€ по лесенке на возвышение и встают там в р€д спиной к зрител€м, лицом к расцвеченному звЄздами заднику. Ќа прот€жении всей этой странной сцены € напр€жЄнно ждала команды Ђпли!ї и залпа по этому неприка€нному строю, но выстрелов так и не прозвучало, а мне осталось только гадать, о чЄм хотели сказать публике постановщики такой пафосной концовкой: то, что-де шантажисты и грабители, шлюхи и наркоманы Ц суть св€тые великомученики советского периода? —даЄтс€ мне, что вр€д ли к таким выводам планировал привести читател€ сам Ѕулгаков, Ђповинныйї в симпатии только к старой интеллигенции. ј именно этого-то Ђинтеллигентскогої духа в спектакле и нетЕ ѕоэтому Ц на Ђ«ойкину квартируї идите в Ёрмитаж, господа, ибо там это Ц шедевр.
» вот € снова дома, и с завтрашним днЄм € здорово ступила Ц поторопилась сходить на ЂѕохоронитеЕї вчера, полага€, будто завтра смогу уже посмотреть Ђјватараї, а он, как вы€снилось, пойдЄт только с 17-го. ¬идимо, придЄтс€ просто погул€ть, благо погода потр€сающа€ Ц мороз и солнце, хоть у мен€ и насморк. ¬сем доброй ночи!)
ћетки: театр театры мхат мхат горького мхат имени горького спектакли рецензии зойкина квартира сны осознанные сновидени€ |
ѕосмотрела "ѕохороните мен€ за плинтусом" + новое сообщество |
ƒневник |

ѕосле отхода ко сну после театра и рецензии почти в п€ть утра € умудрилась встать в районе одиннадцати и в которое уж воскресенье подр€д обломитьс€ с кино Ц в ’удожественном Ђѕохороните мен€ за плинтусомї не показывали, смотреть его в других кинотеатрах в дневное врем€ выходного было бы разорением, и € отложила это меропри€тие на более удобное врем€. —ей кинотеатр мог предложить мне только фестиваль современной отечественной документалки, и €, не копа€сь в репертуаре, решила подъехать и, может быть, что-нибудь посмотреть, а потом погул€ть. ќднако не успела € добратьс€ до јрбатской, как пон€ла Ц сидеть перед экраном € хочу в последнюю очередь, а хочу врубить в ушах Ќаше и брести куда глаза гл€д€т, выхолажива€ музыкой мысли из мозгов. ѕогодка не особо располагала Ц холодный ветер по-прежнему возил по асфальту пригоршни пенопластоподобного снежка, неощутимо подсыпающегос€ с неба, пробирал до костей, покусывал за подбородок ст€гивающим кожу морозом. Ќо € пошагала к Ѕиблиотеке, миновав переход, вышла в јлександровский, убедилась, что там по-прежнему торгуют сосисками, а не крендел€ми, которые можно было бы скармливать голуб€м и воробь€м, и двинулась к »сторическому музею. —ограждане толпились у дверей ћак‘ака напротив ¬ечного огн€, у которого мЄрз караул Ц только во врем€ его смены внимание публики перекинетс€ от жратвы в ту сторону. “орговые р€ды обзавелись добротными стенами и крышами, у метро ќхотный р€д кучковалась полдюжина коммунистов, в любую, видимо, погоду собирающуюс€ на “еатральной площади. ѕройд€ еЄ, € спустилась в переход Ћуб€нки и там Ц что € в прошлую субботу писала об охлаждении своего духа коллекционировани€? Ц возьми да и обзаведись 30-рублЄвым керамическим щенком-овчарЄнком, больно уж кавайным, чтобы за такую цену оставатьс€ не моим. огда € вышла, следовало бы зайти в Ѕиблио √лобус, где € давно собиралась купить одну книжку по истории, но мне настолько не хотелось лезть в толпу, что € пошла дальше, мимо јлегриса до „ѕ, где перед пам€тником √рибоедову проходил митинг в поддержку ѕушкинской площади, над коей нависла угроза уничтожени€ московскими власт€ми. ћеропри€тие было, очевидно, санкционировано Ц ментов и ќћќЌа, охран€ющих все подступы к бульвару, было очевидно раз в п€ть больше, чем митингующих, мимо было не прошмыгнуть, и € не пошла по бульвару, а пошла вдоль, до пересечени€ с ѕокровкой. ќттуда бы направо Ц и до итай-города, но ехать с двум€ пересадками не хотелось, а если быть совсем честной Ц хотелось ещЄ погул€ть, и € свернула налево, пошагала до самого конца улицы, где ностальгически посто€ла перед витринами театра на ѕокровке. » уже оттуда по «емл€ному валу € дошла до урской и без пересадок приехала домой, закупившись по пути едой Ц в том числе открыв дл€ себ€ вареники с картошкой и грибами (невкусно, но съедобно) и постные Ћаврские пр€ники (объедение). ¬ ночь на понедельник мне снились сношающиес€ салатовые волнистые попугайчики и джунгарские хом€чки Ц в каком-то зоомагазине, в своих клетках Ц Ђа наутро выпал снегї©. Ќасто€щий снег, белый и пушистый, много снега, из-за которого € вообще не заметила прошедшего дн€ Ц всЄ сознание было забито только наступившей, как всегда неожиданно, насто€щей зимой. ¬о вторник мы сползались в школу к дев€ти и писали уже второй пробный ≈√Ё по алгебре; в прошлый раз € не смогла воспользоватьс€ своей линейкой со шпорами и поэтому с вечера переписала с неЄ все формулы на бумажку, притырила эту бумажку в кармане, а она не понадобилась Ц линейка на сей раз была при мне. ќсилив дес€ток заданий из Ѕ, не осилив ещЄ два и даже не став мучитьс€ над —, € третьей сдала работу и, проигнорировав оставшиес€ лицейские пары, поехала домой, вечером побродила по району с Ќашим в ушах. ¬ четверг мы с јсей снова пробили последнюю пару русского (это уже становитс€ традицией), а вечером днЄм € таки открыла новое сообщество Coffee Fetish, где и буду рада видеть всех заинтересованных в фото и арте, посв€щЄнном кофе. ѕ€тничный же, сегодн€шний, вечер и стал тем самым удобным временем, когда € подъехала в рылатское, в кинотеатр ћатрица, вз€ла билет аж за 250 и оставшеес€ до начала сеанса в шесть сорок врем€ провела в тамошнем книжном за листанием уже когда-то прочитанных, в том числе и с »нтернета, произведений. «накомый, по-своему симпатичный антураж Ц запах попкорна, небольшой зал с небольшим количеством народу позади, удобные кресла, мощный звукЕ а всЄ остальное пойдЄт в рецензию.
¬с€к бестселлер рано или поздно получит свою экранизацию, которой непременно будет недоволен его автор. јвтора можно пон€ть Ц он хочет, чтобы его детище претворили в кинематографический шедевр. я, простой зритель, не настолько требовательна и при всЄм своЄм уважении к замечательной повести —анаева разочарованной не вышла. ƒа, перенести на экран душераздирающий дневник дев€тилетнего мальчишки полностью было бы невозможно, и авторы фильма ужали сюжет, насколько вообще можно говорить о сюжете, до одного дн€, практически в real-life режиме. Ѕыть может, менее вещественный €зык артхауса лучше бы подошЄл дл€ этого высказывани€, чем попытка создать хоть раст€нутый, да экшн, но важно другое: атмосферу книги перенести в фильм удалось. Ѕеспросветный мрак там, беспросветный мрак здесь Ц а чтобы докопатьс€ до своего личного смысла, нужно читать. — актЄрами если и не в €блочко попали, то и уж точно не в молоко Ц ребЄнок играет с убедительностью детской искренности, Ђстара€ гварди€ї пытаетс€ выложитьс€ со всем присущим мастерством, но выкладываетс€ не до конца, сдерживает себ€, не име€ привычки балансировать на грани актЄрского нерва. ≈динственным ЂпролЄтомї показалась Ўукшина Ц да, она просто умница, и материнска€ любовь в еЄ исполнении ещЄ не раз пробьЄт на слезу немалое количество зрительниц, но еЄ героин€ получилась слишком сильной, слишком упр€мой и де€тельной, не такой, какой должна быть безвольна€, придавленна€ материнским авторитетом дочь, терпевша€ сложившиес€ обсто€тельства до последнего. „итаетс€ т€жело Ц и смотритс€ т€жело, плюс прибавл€етс€ ощущение, будто подсмотрел в замочную скважину за всем этим адом, твор€щимс€ в интеллигентном обеспеченном семействе, загрузилс€ по самые уши, а сделать с ним ничего не смог. ќщущение не то чтобы вины Ц скорее той бесполезности, когда за себ€ посто€ть можешь, а за других нет, потому что кто-то там наверху решил, что так надо. Ќо ещЄ т€желее от беспрестанного смеха в зале, от встречаемых в »нтернете за€влений, что-де книжка Ђѕохороните мен€ за плинтусомї - ржачна€ чернушна€ комеди€, а фильм получилс€ больно скучнымЕ да, у —анаева нарочито наивный Ђдетскийї €зык, но лично мне от него становилось более жутко читать, чем если бы этот €зык был сухим и точным, как милицейска€ сводка: как-никак, Ђдетскийї €зык органично смотритс€ в каких-нибудь Ђƒенискиных рассказахї, а в описании невыносимого детства в когт€х тронутой старухи он вступает с содержанием в резкий диссонанс. я уж молчу о том, что нашлись и те, дл€ кого данное кино стало всего лишь очередным поводом за€вить: Ђ ак же € ненавижу совок!ї, при том что 90% за€вл€ющих никогда не жили в ———–, либо пообсуждать сходства и различи€ между персонажами и их предполагаемыми прототипами из числа родственников —анаева (читай Ц поворошить чужое гр€зное бельЄ). то не собираетс€ веселитьс€ и Ђактуализироватьї - тому добро пожаловать на просмотр, без эмоций не уйдЄте.
”шла Ц не без оных Ц и €, завтра мне после мес€ца отсутстви€ на уроках физики, возможно, придЄтс€ писать по ней контру, а вечером идти в театр. ƒо новой рецензии)
ћетки: кино фильмы рецензии похороните мен€ за плинтусом сообщества кофе прогулки |
ѕосмотрела "¬аршавскую мелодию" |
ƒневник |
—егодн€ декабред отбо€рилс€ от жаждущей насто€щей зимы публики слабоватым морозцем и жалким подобием снега. —уховатые на ощупь крупинки €вно техногенного происхождени€ после ночи остались лежать кое-где в укромных местах, ничего толком собой не прикрыва€, к тому же совсем по-осеннему продолжал дуть промозглый ветер. ƒотопав до дома после школы, € едва успела пострадать ерундой за обедом, как пора было вываливатьс€ в суровую действительность оп€ть и ехать до јрбатской. ¬ тамошней театральной кассе на сей раз была мо€ знакома€ кассирша, и мне благополучно удалось при еЄ содействии докупить билеты на остававшиес€ свободными дни €нварских каникул и на 24 декабр€, с которого, как вы€снилось недавно, и начнЄтс€ у нас новогодний отдых. —умма, как всегда, была потрачена вполне скромна€ Ц дешЄвые билеты нашлись без проблем, тогда как неделю назад у другой кассирши всЄ было либо уже раскуплено, либо осталось только дорогое; и, как всегда, моЄ долгое зависание перед кассой благополучно отпугнуло пытавшихс€ выстроитьс€ за мной в очередь людей. ¬сЄ-таки эта знакома€ кассирша Ц чудо, надо будет об€зательно поздравить еЄ с новым годом и потом с чем-нибудь ещЄ по мере течени€ времени. — конвертом билетов € отвалила от кассы в направлении Ќикитского бульвара, который привЄл мен€ в театр на ћалой Ѕронной, по которому € успела соскучитьс€ и который выдал в текущем сезоне уже две премьеры, на одну из которых € сегодн€ и шла (да простит мне читатель обилие одинаковых местоимений). упив программку и свежий Ђ“еатралї, € по традиции не стала интересоватьс€ напечатанными на своЄм билете словами и цифрами и с первым звонком вошла в зал, скромно устраива€сь на одном из крайних мест в середине партера. ¬скоре мен€ оттуда согнали, вежливо предложив пустующую ещЄ откидушку, но затем зан€ли и еЄ, и в итоге € оказалась на краю довольно-таки дальнего, хоть ещЄ и не требующего применени€ бинокл€, р€да: зал оказалс€ забитым под зав€зку, в ложах светились визуально знакомые представители прессы, в проходах ма€чили телеоператоры. ак-никак, с первого прогона прошло чуть больше неделиЕ ј называлась виновница аншлага Ђ¬аршавской мелодиейї.
ƒелайте со мной что хотите, а € не люблю € истории, в которых люди встречаютс€, затем расстаютс€ на дес€тилети€, создают при этом семьи с другими людьми, но продолжают при этом любить друг друга и не предпринимать никаких попыток к счастливому воссоединению. ѕьеса «орина Ц как раз из таких: русский парень ¬иктор (—трахов) и пол€чка √ел€ (ѕересильд) в этом произведении маютс€ такими встречами и расставани€ми всю жизнь, и пусть на сцене по-насто€щему целуютс€, пытаютс€ танцевать и красиво поют польский романс Ц мне всЄ равно очень быстро становитс€ скучно. ƒействи€ как такого фактически нет, а разговоры ведутс€ ни о чЄм и решительно не запоминаютс€, и хочетс€ сказать: ЂЌе верю!ї каждому слову, каждому жесту Ц актЄры ещЄ очевидно неуверенно чувствуют себ€ в предложенных образах. √ел€ похожа на девушку из 47-го года в самую последнюю очередь Ц чеканно выкрикива€ слова, мер€€ сцену широкими шагами, она напоминает то капризную старую деву, то умудрЄнную опытом женщину-вамп, но уж никак не юную непосредственность. ¬иктор переигрывает в инфантилизм, отчего временами смотритс€ откровенным дурачком, но точно не мужественным солдатом-орденоносцем. ƒуха времени на сцене не создаЄтс€ в принципе Ц дуэт существует в пространстве, более близком к современности, нежели к послевоенной эпохе, в котором лишь изредка просверкивает нечто ностальгически-советское. ќно не выдерживает никакого сравнени€ с, например, Ђ—оловьиной ночьюї ÷ј“–ы, погружающей в антураж ¬еликой ќтечественной с первых Ђкадровї, да и не только по части исторической достоверности Ц в Ђ¬аршавской мелодииї ноль лирики, ноль романтики, ноль очаровани€ первой юношеской любви, ноль ангста от столкновени€ с жизненными обсто€тельствами, одна банальна€ бытовуха и немного юмора. ’очетс€ закрыть от неЄ глаза и просто слушать потр€сающую музыку Ўопена, которой озвучили спектакль Ц под эту музыку герои преимущественно раздеваютс€ и одеваютс€, не до стриптиза, естественно, а в обозначение Ђприходаї и Ђуходаї в очередной бессмысленный эпизод. ѕомимо звука, не подкачало и декоративное оформление: снежные-нежные блЄстки из-под потолка, трепещущие струны вместо задника и взлЄт стаи виолончелей всех размеров Ц это чертовски эстетично. ќднако, к сожалению, ни звукор€д, ни его визуальное сопровождение не €вл€ютс€ достаточными основани€ми дл€ просмотра невразумительной, безбожно зат€нутой на два с половиной часа мыльной оперы, какие бы овации сто€ ей ни устроили по окончании.
ѕоев в антракте шоколадку и после спектакл€ отсто€в длинную очередь в гардероб, € вывалилась обратно на бульвар, дошагала до метро и в вагоне выспалась за всю продолжительность действа. ќт родной ћолодЄги до дома € добралась пешком, рецензию - со всеми отвлекающими факторами, конечно же, - благополучно осилила, теперь надо бы лечь спать. ¬сем доброго утра)

ƒелайте со мной что хотите, а € не люблю € истории, в которых люди встречаютс€, затем расстаютс€ на дес€тилети€, создают при этом семьи с другими людьми, но продолжают при этом любить друг друга и не предпринимать никаких попыток к счастливому воссоединению. ѕьеса «орина Ц как раз из таких: русский парень ¬иктор (—трахов) и пол€чка √ел€ (ѕересильд) в этом произведении маютс€ такими встречами и расставани€ми всю жизнь, и пусть на сцене по-насто€щему целуютс€, пытаютс€ танцевать и красиво поют польский романс Ц мне всЄ равно очень быстро становитс€ скучно. ƒействи€ как такого фактически нет, а разговоры ведутс€ ни о чЄм и решительно не запоминаютс€, и хочетс€ сказать: ЂЌе верю!ї каждому слову, каждому жесту Ц актЄры ещЄ очевидно неуверенно чувствуют себ€ в предложенных образах. √ел€ похожа на девушку из 47-го года в самую последнюю очередь Ц чеканно выкрикива€ слова, мер€€ сцену широкими шагами, она напоминает то капризную старую деву, то умудрЄнную опытом женщину-вамп, но уж никак не юную непосредственность. ¬иктор переигрывает в инфантилизм, отчего временами смотритс€ откровенным дурачком, но точно не мужественным солдатом-орденоносцем. ƒуха времени на сцене не создаЄтс€ в принципе Ц дуэт существует в пространстве, более близком к современности, нежели к послевоенной эпохе, в котором лишь изредка просверкивает нечто ностальгически-советское. ќно не выдерживает никакого сравнени€ с, например, Ђ—оловьиной ночьюї ÷ј“–ы, погружающей в антураж ¬еликой ќтечественной с первых Ђкадровї, да и не только по части исторической достоверности Ц в Ђ¬аршавской мелодииї ноль лирики, ноль романтики, ноль очаровани€ первой юношеской любви, ноль ангста от столкновени€ с жизненными обсто€тельствами, одна банальна€ бытовуха и немного юмора. ’очетс€ закрыть от неЄ глаза и просто слушать потр€сающую музыку Ўопена, которой озвучили спектакль Ц под эту музыку герои преимущественно раздеваютс€ и одеваютс€, не до стриптиза, естественно, а в обозначение Ђприходаї и Ђуходаї в очередной бессмысленный эпизод. ѕомимо звука, не подкачало и декоративное оформление: снежные-нежные блЄстки из-под потолка, трепещущие струны вместо задника и взлЄт стаи виолончелей всех размеров Ц это чертовски эстетично. ќднако, к сожалению, ни звукор€д, ни его визуальное сопровождение не €вл€ютс€ достаточными основани€ми дл€ просмотра невразумительной, безбожно зат€нутой на два с половиной часа мыльной оперы, какие бы овации сто€ ей ни устроили по окончании.
ѕоев в антракте шоколадку и после спектакл€ отсто€в длинную очередь в гардероб, € вывалилась обратно на бульвар, дошагала до метро и в вагоне выспалась за всю продолжительность действа. ќт родной ћолодЄги до дома € добралась пешком, рецензию - со всеми отвлекающими факторами, конечно же, - благополучно осилила, теперь надо бы лечь спать. ¬сем доброго утра)

ћетки: театр театры театр на малой бронной спектакли варшавска€ мелоди€ рецензии |
ѕосмотрела "÷ар€ Ёдипа" |
ƒневник |
—егодн€ вот уже вторую субботу как € за€вилась в школу к дев€ти Ц на сей раз ради окружной олимпиады по литературе; в холле мен€ встретили собрать€ по защите чести школы, ∆изнь ѕобедовна ¬ита ¬икторовна и завуч, которую прикололи мои перчатки без пальцев. ∆дали, пока все не соберутс€; вскоре пришла јн€, и, когда вы€снилось, что ни она, ни € с ¬алей вчера по поводу олимпиады не св€зывались, јн€ начала ¬але названивать на мобильный из опасений, что информаци€ до неЄ так и не дошла. ¬ал€ не отвечала, и ¬ита позвонила нашей классной, разбудила и заставила позвонить ¬але на домашний, но и тот молчал, и мы решили выдвигатьс€ без неЄ. ¬алю в компании Ќасти и пришедшего в гости ћакса мы удачно встретили в метро и после еЄ колебаний, с ними пойти или с нами, утащили еЄ с собой. ¬ита повезла нас от ÷ветного до “реть€ковской через жопу, с трем€ пересадками, и там мы вышли снова на ќрдынку, только с конца, противоположного тому, на который мы выходили в прошлый раз с ропоткинской. ЌеподалЄку от ¬сехскорб€щенской церкви оказалась очередна€ пафосна€ современна€ школа с большим двором со скамейками, большими холлами с креслами и пальмами на каждом этаже и неизбежным большим аквариумом на первом Ц именно там нас и ждали, а именно Ц на четвЄртом этаже в немноголюдном кабинете с видом на крыши. Ќам достаточно быстро раздали распечатки с задани€ми Ц как обычно, одно на анализ стихов (Ђ оньї ѕушкина и Ђ оньї языкова), другое на анализ прозы (Ђ“анькаї Ѕунина); бор€сь со сном, € несколько раз перечитала тексты, начала писать про Ђ онейї, когда многие уже заканчивали, а когда добралась до Ѕунина, проснулась окончательно, и Ђќстапа понеслої - всЄ-таки € его очень люблю, и его произведени€ в духе Ђјнтоновских €блокї всегда были одним из моих коньков (простите за тавтологию в предложении). ќтстрел€вшись со всей писаниной за два часа из предлагаемых шести, € попрощалась со своими, сдала работу и под перезвон замоскворецких храмов и скорую прохладную морось потопала обратно к метро, откуда доехала до дома. “ам Ц как обычно, пострадать ерундой, пообедать, затем снова вывалитьс€ на свет, точнее, полумрак Ѕожий, и пора в путь-дорогу: на маршрутке до метро, на метро до ёго-западной, худо-бедно выспавшись в пути, неспешным шагом до любимого театра. ¬ театре Ц купить программку, посидеть до второго звонка в буфете с книжкой, завалитьс€ в зал дл€ удовольстви€ два часа лицезреть Ђ÷ар€ Ёдипаї - премьеру лета 2007 года.
—ие хрестоматийное произведение —офокла Ц не только находка дл€ ‘рейда, но и одна из наиболее т€жЄлых трагедий в античной драматургии. ѕомимо трЄх неизменных составл€ющих любой классической древнегреческой пьесы Ц убийств, секса, злого рока Ц в Ђ÷аре Ёдипеї можно найти ещЄ и мотив свободного нравственного выбора. ѕо воле богов Ёдип расплачиваетс€ за осознанный грех своего отца Ћа€ Ц похищение из любовных побуждений чужого сына Ц своими неосознанными преступлени€ми: убийством отца и брачной св€зью с матерью. Ќи небесна€, ни людска€ кара не настигает его после осуществлени€ прокл€ти€, которому некогда был предан Ћай: непреднамеренное не наказуемо. ќднако Ёдип не оправдывает себ€, не слагает ответственности, а наказывает себ€ сам с жестокостью, достойной вс€кого €зыческого громовержца: обрекает на слепоту и скитани€ вдали от –одины в попытках искупить свою вину, которую сам же считает неискупимой. Ёто ещЄ не библейска€ притча Ц но уже и не типичный миф, герои которого обычно предпочитают приносить в жертву справедливости других, а не самих себ€. —равнить с Ёдипом можно разве что ѕромете€: оба с гордостью и уверенностью в своей правоте несут свой крест, не помышл€€ о мести, не разочаровыва€сь в роде человеческом. “о, насколько страшно постепенное осознание Ёдипом всего им соде€нного и насколько страшна его казнь над собой, в спектакле видно отлично Ц Ёдип Ѕакалова всЄ врем€ пребывает на грани, на надрыве и через гнев, подозрительность, ужас, отча€ние приближаетс€ к катарсису, превратившему его из деспотичного правител€ в неупокоенного пророка, похожего на старого мор€ка из поэмы ольриджа. ƒл€ создани€ атмосферы погибающих ‘ив, в которых мечетс€ истерзанный пророчествами царь, никаких дополнительных декораций и костюмов не нужно Ц достаточно одних эмоциональных ударов, почти физически ощутимых даже с последнего р€да, почти вжимающих зрител€ в кресло своей пр€молинейной мощью и безжалостно неприкрытой, достоверной искренностью. Ёти удары усиливаютс€ громкими столкновени€ми героев с металлическими перегородками Ц они со всего размаху натыкаютс€ на них, когда слепота поражает душу, тогда как слепой провидец “иресий, а позже Ц и слепой Ёдип, будучи зр€чи духовно, двигаютс€ вдоль стен аккуратно и тихо. Ќо зачем вкладывать персты публики в окровавленные глазницы? „ему может научить современного человека беспримерный подвиг раска€ни€? ќтвет не находитс€ Ц видимо, такие вещи став€тс€ из любви к искусству и смотр€тс€ благодар€ тем же чувствам: потр€сающа€ актЄрска€ игра, потр€сающий текст, потр€сающие музыка и освещение Ц а что ещЄ нужно? ачественные постановки Ц лучший способ познани€ драматургии, и покуда € советую познакомитьс€ с —офоклом через призму режиссЄрского воспри€ти€ Ѕел€ковича.
—пектакль закончилс€, € выползла из театра, дошла до метро, приехала домой, ввиду всех отвлекающих факторов начала писать рецензию только в час ночи и к двум часам уже почти закончила еЄЕ как вдруг, стоило мне напечатать строки об ослеплении Ёдипа, как бац! Ц и € сама оказалась в кромешной темноте: в доме на считанные минуты вырубили свет. »х хватило на то, чтобы убить добрую страницу печатного текста, которую € ничтоже сумн€шес€ не позаботилась сохранить заранее Ц пришлось строчить всЄ заново, и вот Ц € прощаюсь с вами только на рассвете. ¬прочем, завтра у мен€ есть шанс выспатьс€)

—ие хрестоматийное произведение —офокла Ц не только находка дл€ ‘рейда, но и одна из наиболее т€жЄлых трагедий в античной драматургии. ѕомимо трЄх неизменных составл€ющих любой классической древнегреческой пьесы Ц убийств, секса, злого рока Ц в Ђ÷аре Ёдипеї можно найти ещЄ и мотив свободного нравственного выбора. ѕо воле богов Ёдип расплачиваетс€ за осознанный грех своего отца Ћа€ Ц похищение из любовных побуждений чужого сына Ц своими неосознанными преступлени€ми: убийством отца и брачной св€зью с матерью. Ќи небесна€, ни людска€ кара не настигает его после осуществлени€ прокл€ти€, которому некогда был предан Ћай: непреднамеренное не наказуемо. ќднако Ёдип не оправдывает себ€, не слагает ответственности, а наказывает себ€ сам с жестокостью, достойной вс€кого €зыческого громовержца: обрекает на слепоту и скитани€ вдали от –одины в попытках искупить свою вину, которую сам же считает неискупимой. Ёто ещЄ не библейска€ притча Ц но уже и не типичный миф, герои которого обычно предпочитают приносить в жертву справедливости других, а не самих себ€. —равнить с Ёдипом можно разве что ѕромете€: оба с гордостью и уверенностью в своей правоте несут свой крест, не помышл€€ о мести, не разочаровыва€сь в роде человеческом. “о, насколько страшно постепенное осознание Ёдипом всего им соде€нного и насколько страшна его казнь над собой, в спектакле видно отлично Ц Ёдип Ѕакалова всЄ врем€ пребывает на грани, на надрыве и через гнев, подозрительность, ужас, отча€ние приближаетс€ к катарсису, превратившему его из деспотичного правител€ в неупокоенного пророка, похожего на старого мор€ка из поэмы ольриджа. ƒл€ создани€ атмосферы погибающих ‘ив, в которых мечетс€ истерзанный пророчествами царь, никаких дополнительных декораций и костюмов не нужно Ц достаточно одних эмоциональных ударов, почти физически ощутимых даже с последнего р€да, почти вжимающих зрител€ в кресло своей пр€молинейной мощью и безжалостно неприкрытой, достоверной искренностью. Ёти удары усиливаютс€ громкими столкновени€ми героев с металлическими перегородками Ц они со всего размаху натыкаютс€ на них, когда слепота поражает душу, тогда как слепой провидец “иресий, а позже Ц и слепой Ёдип, будучи зр€чи духовно, двигаютс€ вдоль стен аккуратно и тихо. Ќо зачем вкладывать персты публики в окровавленные глазницы? „ему может научить современного человека беспримерный подвиг раска€ни€? ќтвет не находитс€ Ц видимо, такие вещи став€тс€ из любви к искусству и смотр€тс€ благодар€ тем же чувствам: потр€сающа€ актЄрска€ игра, потр€сающий текст, потр€сающие музыка и освещение Ц а что ещЄ нужно? ачественные постановки Ц лучший способ познани€ драматургии, и покуда € советую познакомитьс€ с —офоклом через призму режиссЄрского воспри€ти€ Ѕел€ковича.
—пектакль закончилс€, € выползла из театра, дошла до метро, приехала домой, ввиду всех отвлекающих факторов начала писать рецензию только в час ночи и к двум часам уже почти закончила еЄЕ как вдруг, стоило мне напечатать строки об ослеплении Ёдипа, как бац! Ц и € сама оказалась в кромешной темноте: в доме на считанные минуты вырубили свет. »х хватило на то, чтобы убить добрую страницу печатного текста, которую € ничтоже сумн€шес€ не позаботилась сохранить заранее Ц пришлось строчить всЄ заново, и вот Ц € прощаюсь с вами только на рассвете. ¬прочем, завтра у мен€ есть шанс выспатьс€)

ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли царь эдип рецензии олимпиады олимпиада по литературе окружна€ олимпиада по литературе |









