-ћетки
јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны собаки современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж
-ћузыка
- “эм √ринхилл - ≈щЄ раз о нищих и безумцах
- —лушали: 2341 омментарии: 1
- Ћора ѕровансаль - √имн Ёлберет
- —лушали: 2828 омментарии: 1
- Ёпидеми€ - –оманс о слезе
- —лушали: 2723 омментарии: 2
- —ветлана —урганова - ¬есна
- —лушали: 9360 омментарии: 2
- янка ƒ€гилева - Ќюркина песн€
- —лушали: 1382 омментарии: 0
-ѕодписка по e-mail
-ѕоиск по дневнику
-–убрики
- ќ времени о жизни о себе (1521)
- ћысли (106)
- —тЄб (78)
- —тихи (68)
- ƒепрессн€к (29)
- Ѕесконечное приключение (25)
- —татьи (18)
- ѕроза (9)
- ‘илиал цитатника: не_моЄ творчество (7)
- “есты (2)
- ѕесни (2)
-‘отоальбом

- ћать сыра ѕрирода
- 15:57 20.03.2011
- ‘отографий: 92

- ѕриколы
- 15:54 20.03.2011
- ‘отографий: 36

- ћо€ собака и другие звери
- 15:49 20.03.2011
- ‘отографий: 138
-»нтересы
-ѕосто€нные читатели
-_¬ершитель BarSya DartWeider Weidel „ертополошенка Adanedell Adept665 Alarun BuffoG Buggy Crying_in_the_night Curious_Joe DemonSDA Eldaneuro FechTovalchica HeDoM_AzurA Kross Lora_Natalia Oskol Paradoxish Rayerven S_ivanov Scaldir Stimerium Stormblest Strellock en101 fatamor kondar presviteros svetovid train_in_my_vein xSync zapletatell ЅџЋ№ Ѕель_¬ульф ¬еликий_—киф ¬любленный_¬ампир ƒо_¬андейкер «адумчивый_Jack ай_Ћешер ЋЄна_из_Ќайлисса Ћик_и_’имер ћертвый_ветер ѕјЅ –усский_ƒонбасс —≈ƒ№ћќ≈_Ќ≈Ѕќ “Ємный_¬олк “ареич “игра_2006
-—ообщества
-—татистика
«аписи с меткой рецензии
(и еще 13065 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки практика прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж
ѕосмотрела "Ётих свободных бабочек" |
ƒневник |
ѕрид€ сегодн€ домой с олимпиады, € узнала, что у мен€ все заболели и тащить с собой в театр решительно некого. ѕришлось вылезти в почти заброшенную аську и кинуть клич Ц и откликнулась »рина ( ќб¬о–о∆и“еЋьЌая), единственное ещЄ пишущее мне существо из бывших коллег (при том, что € была уволена почти два года назад, а она ушла и того раньше, и с тех пор мы так ещЄ прежде и не виделись, при том, что она обитает в Ѕалашихе и ей сначала ехать до ўЄлковской, а потом оттуда на метро добрый час до ёго-западной Ц подвиг, короче). ќна даже не уточнила у мен€, в какой театр и на какой спектакль какой продолжительности мы идЄм Ц мы быстро договорились о месте и времени встречи, и € исчезла из онлайна страдать ерундой, дабы постаратьс€ всЄ успеть до своего послеобеденного выхода. ¬ышла € воврем€, не так уж долго ждала маршрутки, метропоезда везли мен€ без остановок, однако € всЄ равно умудрилась опоздать на дес€ть минут, проскочив мимо »рины, добежать до центра платформы, обозреть еЄ вперЄд и, обернувшись назад, приметить »рину направл€ющейс€ ко мне; она особо не изменилась, только выросла с мен€ и, поди, к моему возрасту и перерастЄт мен€. Ќо времени ещЄ было навалом, и мы рано дошли до театра, там € приобрела программку и отправилась показывать »рине единственную достопримечательность Ц буфет, где мы и зан€ли один из столиков до второго звонка. ¬ репертуаре на декабрь, сто€вшем на столике, € запалила новый спектакль, который пропустила, просматрива€ в репертуаре на сайте только субботы Ц Ђ—ентенциюї (о премьере в новост€х на главной странице ничего не было и нет, однако раз вещь по€вилась Ц надо будет в €нваре заценить). —о вторым звонком мы устроились на моих любимых крайних местах п€того р€да, зал дисциплинированно заполнилс€, и начались трЄхчасовые ЂЁти свободные бабочкиї.
ќб¬о–о∆и“еЋьЌая), единственное ещЄ пишущее мне существо из бывших коллег (при том, что € была уволена почти два года назад, а она ушла и того раньше, и с тех пор мы так ещЄ прежде и не виделись, при том, что она обитает в Ѕалашихе и ей сначала ехать до ўЄлковской, а потом оттуда на метро добрый час до ёго-западной Ц подвиг, короче). ќна даже не уточнила у мен€, в какой театр и на какой спектакль какой продолжительности мы идЄм Ц мы быстро договорились о месте и времени встречи, и € исчезла из онлайна страдать ерундой, дабы постаратьс€ всЄ успеть до своего послеобеденного выхода. ¬ышла € воврем€, не так уж долго ждала маршрутки, метропоезда везли мен€ без остановок, однако € всЄ равно умудрилась опоздать на дес€ть минут, проскочив мимо »рины, добежать до центра платформы, обозреть еЄ вперЄд и, обернувшись назад, приметить »рину направл€ющейс€ ко мне; она особо не изменилась, только выросла с мен€ и, поди, к моему возрасту и перерастЄт мен€. Ќо времени ещЄ было навалом, и мы рано дошли до театра, там € приобрела программку и отправилась показывать »рине единственную достопримечательность Ц буфет, где мы и зан€ли один из столиков до второго звонка. ¬ репертуаре на декабрь, сто€вшем на столике, € запалила новый спектакль, который пропустила, просматрива€ в репертуаре на сайте только субботы Ц Ђ—ентенциюї (о премьере в новост€х на главной странице ничего не было и нет, однако раз вещь по€вилась Ц надо будет в €нваре заценить). —о вторым звонком мы устроились на моих любимых крайних местах п€того р€да, зал дисциплинированно заполнилс€, и начались трЄхчасовые ЂЁти свободные бабочкиї.
» снова формулировка Ђлирическа€ комеди€ї сначала заставила мен€ ожидать чего-то лЄгкого и несерьЄзного, а потом обернулась вещью вполне осмысленной, хоть и романтической. “аковы уж талантливые режиссЄры: самый банальный материал преподадут так, что напр€жение не будет ослабевать ни на секунду Ц вот как сейчас, например. ¬ пьесе √ерша мы имеем юного слепого музыканта и певца ƒона, стрем€щегос€ к самосто€тельности, и его гиперопекающую мать, пишущую о нЄм книжки как о малолетнем супергерое, с одной стороны, с другой же стороны Ц амбициозную и коммуникабельную начинающую актрису ƒжил и еЄ бывшего мужа (6 дней семейной жизни в 16-летнем возрасте), продюсера –альфа. “о, как всЄ начнЄтс€, продолжитс€ и закончитс€, предугадать элементарно Ц более избитую схему дл€ написани€ драматургического произведени€ найти было бы непросто. Ќо Ѕел€кович помещает историю поиска и обретени€ свободы в лабиринт решЄток, такой же, какой выстраиваетс€ на сцене дл€ Ђ омнаты ƒжованниї - и это сразу наталкивает на ассоциации: да, там был подвал, здесь Ц чердак, там всЄ закончилось плохо, здесь Ц хорошо, но бабочки остались прежними. ЂЌенавижу бабочек за их красотуї - говаривал один небезызвестный персонаж, и когда видишь, как бабочка-ƒжованни, как бабочка-ƒональд лет€т к огню, зажЄгшемус€ при виде их благодар€ их прит€гательности, хочетс€ с ним согласитьс€. ¬сЄ же есть нечто общее в этих двух персонажах, и пусть ƒон словно нарочно открещиваетс€ от этого сравнени€, дважды напомина€, что он Ђне голубойї: оба сочетают в себе в удивительно гармоничной пропорции силу воли и беззащитность перед ударами судьбы. »грает ƒона замечательный актЄр и просто симпатичный парень ƒраченин Ц и пусть иногда в его пластике проскальзывает что-то ћатошинское (ещЄ одно, уже чисто сценическое, сходство с ƒжованни, сыгранным ћатошиным), очевидно, что у него есть свой стиль, и стиль это потр€сающе экспрессивен и убедителен, потому и герой получилс€ самодостаточным, €рким, живым, вызывающим сочувствие. „то до оформлени€, то решЄтки в очередной раз подтвердили: ничего лучше дл€ сюжетов, в которых рамки и ограничени€ в человеческом сознании превращаютс€ во внешние преграды между людьми, в качестве декораций не подобрать. —квозь эти преграды сложно не только пробитьс€ Ц сквозь них сложно даже просто увидеть, кто на самом деле стоит по ту сторону, и тогда, когда ты не можешь видеть, и особенно тогда, когда ты видеть не хочешь. Ђ«р€че одно лишь сердцеї - это уже слова одного прирученного Ћиса, и чтобы избавитьс€ от любых сомнений насчЄт правдивости этого утверждени€, сходите на Ђ—вободных бабочекї, посмотрите эту красивую и интересную вещь. ¬ ней поют и Ц ах! Ц декламируют ”олта ”итменаЕ)
¬ антракте мы снова посидели в буфете, разделив по-братски мою неизменную шоколадку, а по окончании спектакл€ и аплодисментов в темпе пробрались к гардеробу, выбрались из театра и пошагали обратно к метро, увиденное практически не обсуждали. ƒоехали до Ѕиблиотеки и перешли на јрбатскую вместе, затем разъехались по разным концам ветки; от родной ћолодЄги до дома мен€ довЄз папа, теперь €, ни на что практически не отвлека€сь, умудрилась закончить пост не к рассвету, а всего лишь к половине второго и теперь даже не знаю, чем и зан€тьс€ (да, надо пинать себ€ дописывать стихи, может, и пну). «автра надеюсь оказатьс€ в кино, посему до скорого всем)

» снова формулировка Ђлирическа€ комеди€ї сначала заставила мен€ ожидать чего-то лЄгкого и несерьЄзного, а потом обернулась вещью вполне осмысленной, хоть и романтической. “аковы уж талантливые режиссЄры: самый банальный материал преподадут так, что напр€жение не будет ослабевать ни на секунду Ц вот как сейчас, например. ¬ пьесе √ерша мы имеем юного слепого музыканта и певца ƒона, стрем€щегос€ к самосто€тельности, и его гиперопекающую мать, пишущую о нЄм книжки как о малолетнем супергерое, с одной стороны, с другой же стороны Ц амбициозную и коммуникабельную начинающую актрису ƒжил и еЄ бывшего мужа (6 дней семейной жизни в 16-летнем возрасте), продюсера –альфа. “о, как всЄ начнЄтс€, продолжитс€ и закончитс€, предугадать элементарно Ц более избитую схему дл€ написани€ драматургического произведени€ найти было бы непросто. Ќо Ѕел€кович помещает историю поиска и обретени€ свободы в лабиринт решЄток, такой же, какой выстраиваетс€ на сцене дл€ Ђ омнаты ƒжованниї - и это сразу наталкивает на ассоциации: да, там был подвал, здесь Ц чердак, там всЄ закончилось плохо, здесь Ц хорошо, но бабочки остались прежними. ЂЌенавижу бабочек за их красотуї - говаривал один небезызвестный персонаж, и когда видишь, как бабочка-ƒжованни, как бабочка-ƒональд лет€т к огню, зажЄгшемус€ при виде их благодар€ их прит€гательности, хочетс€ с ним согласитьс€. ¬сЄ же есть нечто общее в этих двух персонажах, и пусть ƒон словно нарочно открещиваетс€ от этого сравнени€, дважды напомина€, что он Ђне голубойї: оба сочетают в себе в удивительно гармоничной пропорции силу воли и беззащитность перед ударами судьбы. »грает ƒона замечательный актЄр и просто симпатичный парень ƒраченин Ц и пусть иногда в его пластике проскальзывает что-то ћатошинское (ещЄ одно, уже чисто сценическое, сходство с ƒжованни, сыгранным ћатошиным), очевидно, что у него есть свой стиль, и стиль это потр€сающе экспрессивен и убедителен, потому и герой получилс€ самодостаточным, €рким, живым, вызывающим сочувствие. „то до оформлени€, то решЄтки в очередной раз подтвердили: ничего лучше дл€ сюжетов, в которых рамки и ограничени€ в человеческом сознании превращаютс€ во внешние преграды между людьми, в качестве декораций не подобрать. —квозь эти преграды сложно не только пробитьс€ Ц сквозь них сложно даже просто увидеть, кто на самом деле стоит по ту сторону, и тогда, когда ты не можешь видеть, и особенно тогда, когда ты видеть не хочешь. Ђ«р€че одно лишь сердцеї - это уже слова одного прирученного Ћиса, и чтобы избавитьс€ от любых сомнений насчЄт правдивости этого утверждени€, сходите на Ђ—вободных бабочекї, посмотрите эту красивую и интересную вещь. ¬ ней поют и Ц ах! Ц декламируют ”олта ”итменаЕ)
¬ антракте мы снова посидели в буфете, разделив по-братски мою неизменную шоколадку, а по окончании спектакл€ и аплодисментов в темпе пробрались к гардеробу, выбрались из театра и пошагали обратно к метро, увиденное практически не обсуждали. ƒоехали до Ѕиблиотеки и перешли на јрбатскую вместе, затем разъехались по разным концам ветки; от родной ћолодЄги до дома мен€ довЄз папа, теперь €, ни на что практически не отвлека€сь, умудрилась закончить пост не к рассвету, а всего лишь к половине второго и теперь даже не знаю, чем и зан€тьс€ (да, надо пинать себ€ дописывать стихи, может, и пну). «автра надеюсь оказатьс€ в кино, посему до скорого всем)

ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли эти свободные бабочки рецензии |
ѕосмотрела "ќтголоски прошлого" |
ƒневник |
ƒо
¬ јкадемии ’удожеств ћадрида по€вл€етс€ несуразный 18-летний паренЄк с рюшечками на манжетах Ц каталонец —альвадор ƒали. “ам местна€ тусовка юных революционеров от искусства, бред€щих дадаизмом и анархизмом, знакомит его с 23-летним поэтом Ц андалузцем ‘едерико √арсией Ћоркой. ƒальнейшее скрываетс€ от любопытных между строчками переписки, в воспоминани€х окружающих, в поздних откровени€х ƒали, которому, как известно, не стоит верить всегда и во всЄм, и, конечно же, в стихах и картинах, оставшихс€ от, пожалуй, самых загадочных любовников минувшего века. я наде€лась на качественный и грамотный романтический байопик Ц получила скучноватую, зат€нутую, щедро политую розовыми сопл€ми с сахаром мелодраму дл€ девочек младшего школьного возраста, фетиширующих на бойзлав, только под конец выдавшую нечто похожее на смотрибельный ангст. ѕри просмотре посто€нно возникает ощущение, что всЄ это € где-то уже видела Ц автор наивно пользуетс€ самыми избитыми и прозрачными способами расставить эмоциональные акценты на прот€жении бесхитростного сюжета: вот две головы высовываютс€ из соседних окон и смущаютс€, встретившись взгл€дами Ц это вступление. ¬от они р€дом прислон€ютс€ к стене в глухом переулке, куда свернули, вместе убега€ от рассерженных жандармов Ц так нам окончательно дают пон€ть, что Ђчто-то будетї. ¬от они смотр€т друг на друга над водой —редиземного мор€ при свете полной луны Ц это катарсис. ј вот они навсегда застыли на фотографии, ностальгически сто€щей на тумбочке у кровати Ц это конец. Ќо повтор€ет этот фильм не только своих многочисленных предшественников, но и самого себ€ Ц не пройдЄт и половины его двухчасового хронометража, как уже р€бит в глазах от посто€нно открывающихс€ дверей, посто€нных поцелуев, за которыми ничего не следует (одна попытка, точнее, была, но невразумительна€ донельз€, а гораздо более натуралистичное и продолжительное изображение секса ‘едерико и ћагдалины убивает наповал всю потенциальную эротическую атмосферу своей вызывающей пр€молинейностью), посто€нных пальцев на клавишах фортепиано, посто€нных обнимашек с родственникамиЕ ƒобавьте к этой до обиды скупой палитре одни и те же декорации в одних и тех же ракурсах (маленька€ комната и столик в баре Ц чередовать и разбавить один раз пл€жем, один раз Ц апартаментами в отеле), топорно нарисованный вид ћадрида, плоский, как театральный задник, вопиюще современные костюмы, не впечатлившую актЄрскую игру и Ц в чЄм Ђзаслугаї уже русского прокатчика Ц крадущий часть выразительности перевод, и, казалось бы, тратить на этот фильм врем€ не стоит даже отча€нным поклонникам ƒали и Ћорки вроде мен€. ¬едь ничего привлекательного в их образы фильм не привнЄс, даже, на мой взгл€д, наоборот: мне не понравилось, что первого выставили трусом, сбежавшим от испугавшей его реальности на свой личный ќлимп, а второго Ц борцом за свободу, не сумевшим поборотьс€ за собственное счастье. я в принципе не люблю дав€щие на жалость истории о люд€х, оказавшихс€ слишком слабохарактерными, чтобы противосто€ть неблагопри€тным обсто€тельствам (наиболее попул€рное из которых Ц общественное мнение, см. шл€геры от Ђ–омео и ƒжульеттыї до Ђ√орбатой горыї), а когда таковыми выставл€ют не абы кого, а гениев Ц так тем паче. ƒа, ƒали был самовлюблЄнным эгоистом, готовым многое и многих возвести на алтарь своей славы, и Ћорка стал одной из таких жертв Ц но думать, что хоть кто-то из них унижалс€ перед другим после прерывани€ отношений, кажетс€ мне кощунственно оскорбительным. » что же, вынести в вердикт цитату одного из персонажей фильма: Ђ—ентиментальное говної - и признать, что такую длинную рецензию € накатала совершенно впустую? ќднако, нет: кака€-то еле уловима€ нотка в Ђќтголоскахї чем-то цепл€ет, намека€ за то, что забыть этот фильм окончательно и бесповоротно мне, возможно, не удастс€. ћожет, дело в финальном выстреле фашиствующей черни, под которым белой птицей упал в траву родного юга бесстрашный 38-милетний поэт, ставшем дл€ мен€ созвучием к выстрелу, прозвучавшему вчерашним вечером? ѕожалуй, что так, но не только Ц ещЄ и в знакомых и, как ни крути, прекрасных строчках из писем и стихов. » будет здорово, если после просмотра кому-нибудь да захочетс€ их прочитать, как мне Ц перечитать, ведь только пропустив их через себ€, можно почувствовать себ€ Ђдиким, окровавленнымЕ живымї.

ѕосле
¬ јкадемии ’удожеств ћадрида по€вл€етс€ несуразный 18-летний паренЄк с рюшечками на манжетах Ц каталонец —альвадор ƒали. “ам местна€ тусовка юных революционеров от искусства, бред€щих дадаизмом и анархизмом, знакомит его с 23-летним поэтом Ц андалузцем ‘едерико √арсией Ћоркой. ƒальнейшее скрываетс€ от любопытных между строчками переписки, в воспоминани€х окружающих, в поздних откровени€х ƒали, которому, как известно, не стоит верить всегда и во всЄм, и, конечно же, в стихах и картинах, оставшихс€ от, пожалуй, самых загадочных любовников минувшего века. я наде€лась на качественный и грамотный романтический байопик Ц получила скучноватую, зат€нутую, щедро политую розовыми сопл€ми с сахаром мелодраму дл€ девочек младшего школьного возраста, фетиширующих на бойзлав, только под конец выдавшую нечто похожее на смотрибельный ангст. ѕри просмотре посто€нно возникает ощущение, что всЄ это € где-то уже видела Ц автор наивно пользуетс€ самыми избитыми и прозрачными способами расставить эмоциональные акценты на прот€жении бесхитростного сюжета: вот две головы высовываютс€ из соседних окон и смущаютс€, встретившись взгл€дами Ц это вступление. ¬от они р€дом прислон€ютс€ к стене в глухом переулке, куда свернули, вместе убега€ от рассерженных жандармов Ц так нам окончательно дают пон€ть, что Ђчто-то будетї. ¬от они смотр€т друг на друга над водой —редиземного мор€ при свете полной луны Ц это катарсис. ј вот они навсегда застыли на фотографии, ностальгически сто€щей на тумбочке у кровати Ц это конец. Ќо повтор€ет этот фильм не только своих многочисленных предшественников, но и самого себ€ Ц не пройдЄт и половины его двухчасового хронометража, как уже р€бит в глазах от посто€нно открывающихс€ дверей, посто€нных поцелуев, за которыми ничего не следует (одна попытка, точнее, была, но невразумительна€ донельз€, а гораздо более натуралистичное и продолжительное изображение секса ‘едерико и ћагдалины убивает наповал всю потенциальную эротическую атмосферу своей вызывающей пр€молинейностью), посто€нных пальцев на клавишах фортепиано, посто€нных обнимашек с родственникамиЕ ƒобавьте к этой до обиды скупой палитре одни и те же декорации в одних и тех же ракурсах (маленька€ комната и столик в баре Ц чередовать и разбавить один раз пл€жем, один раз Ц апартаментами в отеле), топорно нарисованный вид ћадрида, плоский, как театральный задник, вопиюще современные костюмы, не впечатлившую актЄрскую игру и Ц в чЄм Ђзаслугаї уже русского прокатчика Ц крадущий часть выразительности перевод, и, казалось бы, тратить на этот фильм врем€ не стоит даже отча€нным поклонникам ƒали и Ћорки вроде мен€. ¬едь ничего привлекательного в их образы фильм не привнЄс, даже, на мой взгл€д, наоборот: мне не понравилось, что первого выставили трусом, сбежавшим от испугавшей его реальности на свой личный ќлимп, а второго Ц борцом за свободу, не сумевшим поборотьс€ за собственное счастье. я в принципе не люблю дав€щие на жалость истории о люд€х, оказавшихс€ слишком слабохарактерными, чтобы противосто€ть неблагопри€тным обсто€тельствам (наиболее попул€рное из которых Ц общественное мнение, см. шл€геры от Ђ–омео и ƒжульеттыї до Ђ√орбатой горыї), а когда таковыми выставл€ют не абы кого, а гениев Ц так тем паче. ƒа, ƒали был самовлюблЄнным эгоистом, готовым многое и многих возвести на алтарь своей славы, и Ћорка стал одной из таких жертв Ц но думать, что хоть кто-то из них унижалс€ перед другим после прерывани€ отношений, кажетс€ мне кощунственно оскорбительным. » что же, вынести в вердикт цитату одного из персонажей фильма: Ђ—ентиментальное говної - и признать, что такую длинную рецензию € накатала совершенно впустую? ќднако, нет: кака€-то еле уловима€ нотка в Ђќтголоскахї чем-то цепл€ет, намека€ за то, что забыть этот фильм окончательно и бесповоротно мне, возможно, не удастс€. ћожет, дело в финальном выстреле фашиствующей черни, под которым белой птицей упал в траву родного юга бесстрашный 38-милетний поэт, ставшем дл€ мен€ созвучием к выстрелу, прозвучавшему вчерашним вечером? ѕожалуй, что так, но не только Ц ещЄ и в знакомых и, как ни крути, прекрасных строчках из писем и стихов. » будет здорово, если после просмотра кому-нибудь да захочетс€ их прочитать, как мне Ц перечитать, ведь только пропустив их через себ€, можно почувствовать себ€ Ђдиким, окровавленнымЕ живымї.

ћетки: фильмы рецензии кино отголоски прошлого little ashes |
ѕосмотрела " рошку ÷ахеса" (типа вчерашний пост)) |
ƒневник |

ѕосле здорового сна от половины шестого утра до второго часа дн€ (приснилась, помимо прочего, симпатична€ вещь: как в палатке на €рмарке перед Ѕрестом одна продавщица брала высокий пластиковый стакан, наполненный крупными кофейными зЄрнами, и просто опускала в него нечто вроде миксера Ц и получалс€ ароматный кофе) € проснулась к обеду, с грехом пополам успела немного пострадать ерундой и вывалилась вечерком под свет фонарей, тщетно пытающихс€ разогнать сухой неподвижный туман, похожий на дым от невидимого костра, т€жело повисший в сто€чем воздухе. я снова слегка закопалась, но вместо того, чтобы начать опаздывать, оп€ть выиграла немного времени благодар€ быстро подошедшей маршрутке и достаточно рано доехала на метро до ћа€ковской, чтобы сунутьс€ в тамошнюю театральную кассу и наконец-то обзавестись давно запланированным билетом в —атирикон на предновогоднее 30-е декабр€. ќставались ещЄ добрые полчаса, за которые € успела дойти до театра ћоссовета, по которому успела соскучитьс€ (точнее, по хорошим его спектакл€м, а летний сезон не особо баловал мен€ таковыми), сдать в гардероб всЄ временно ненужное в хоз€йстве и приобрести программку. Ќа этом мен€ и застал первый звонок, и €, не особо интересу€сь значащимис€ на моЄм билете цифрами после слов Ђложа амфитеатраї, отправилась пр€миком в партер, где скромно притулилась на краю у прохода в одном из р€дов в пределах первого дес€тка. ¬торой не заставил себ€ ждать, но моему перемещению мешала бабка-церберша, пытавша€с€ согнать какую-то блондинку с т€гучим прибалтийским акцентом с приставного стула, на который больше никто не претендовал. Ѕлондинка долго не сдавалась, но бабка, сколько ни отвлекалась, чтобы показать кому-нибудь его место или продать кому-нибудь программку, вс€кий раз упЄрто возвращалась к ней, и та, наконец, встала и ушла Ц но не своЄ место, на чЄм настаивала бабка, а на свободное в середине четвЄртого р€да. Ќо бабка успокоилась, переключившись на других пос€гающих на стуль€, и когда мен€ вежливо попросили с зан€того мною места, € смогла за еЄ спиной присоединитьс€ к блондинке, благо в том р€ду были ещЄ свободные места. ќднако ей не повезло Ц еЄ согнали, а € осталась Ц как обычно, при забитом народом зале с бельэтажем и двум€ €русами балкона Ц на все последующие два часа без антракта спектакл€ Ђ рошка ÷ахесї.
ѕостановка за€влена как буффонада, и все элементы таковой честно присутствуют: гротескные костюмы от гранжа до дель арте, песни, танцы, актЄрские перевоплощени€, юморЕ расиво, стильно, со вкусом, смешно Ц там, где и хот€т посмешить. Ќо почему-то все эти цирковые элементы кажутс€ пиром во врем€ чумы: удачно видоизменив некоторые сюжетные перипетии оригинального произведени€, создательница постановки вольно или невольно €рко подчеркнула то, что в самой социальной и потому всегда актуальной из своих фантастических повестей серьЄзный и печальный волшебник √офман, возможно, лучше прочих сумел предсказать сущность “ретьего рейха. ћожет, конечно, это просто мои личные загоны (а-л€ Ђя не фантазирую Ц € просто шизофреникї), однако даже и без этих ассоциаций просмотр спектакл€ оставл€ет значительно более т€гостные впечатлени€, нежели просто прочтение пьесы Ц в хорошем смысле этого слова. Ќа нЄм видишь, что когда с трибуны, захлЄбыва€сь слюной, обещает всем пива и сосисок, а заодно истреблени€ всех неполноценных, моральный урод с белокурыми локонами и интеллектом низшего примата, Ц это страшно. » что когда нища€ мать таскает своего ребЄнка-инвалида, толком не умеющего говорить, на верЄвке по €рмаркам, собира€ гроши себе и ему на пропитание, Ц это тоже страшно. ј особенно страшно Ц когда всплывает вопрос: что лучше? и ответа не находитс€: хэппи-энд бывает только в сказках, а жизнь заведомо несправедлива Ц Ђкак ни крутиї©. ƒаже извечный гофмановский резонЄр Ц отча€нно влюблЄнный меланхоличный студент-поэт, неподвластный злым чарам кумира толпы, Ц здесь слишком эгоистичен (Ђ’оть ты ему и мать, € всЄ равно его убьюї), так что невозможно поверить в то, что, свергнув старого кумира и став новым, он не поддастс€ тем же искушени€м и сам не превратитс€ в того дракона, которого уничтожил. ÷ентральные образы Ц собственно ÷ахеса (ƒерев€нко) и его матери (Ўубина) Ц получились до жути убедительными, и не только потому, что первый полспектакл€ проползал на колен€х в неудобном амплуа карлика: они играют на таком эмоциональном накале, если не сказать Ц надрыве, что кажетс€ Ц ещЄ немного, и заискрит без вс€кой пиротехники. Ётот ÷ахес Ц искренне ненавидит весь род человеческий, и у него есть на то вполне веские причины. Ёта фрау Ћиза Ц с акцентом и лексиконом неграмотной украинской посел€нки Ц подлинно трогательна и в своЄм недоумении, за что Ѕог послал ей такое наказание, и в своей непреодолимой материнской любви. ќт спектакл€ ждали политической сатиры на современность, пон€тной и злой, а неожиданно получили психологический трагифарс Ц поэтому, видимо, официальна€ критика и постаралась втоптать его в гр€зь. Ќасколько оправданно Ц судить не только мне, но и вам, поскольку € всем рекомендую моссоветского Ђ рошку ÷ахесаї по возможности посмотреть.
ѕосле спектакл€ € дотопала обратно до метро, доехала до родной ћолодЄги, нашла на остановке маршрутку, села в неЄ, подумала несколько секунд и вышла, отправившись до дома пешком вдоль дорог. “уман был такой же, как и утром, только подбиралс€ всЄ ближе со всех сторон и всЄ ниже опускалс€ сверху, дела€ картинку нечЄткой уже на рассто€нии полутора дес€тков метров, так что возникали непри€тные ощущени€ как от внезапно сильно ухудшившегос€ зрени€ и некоторой нехватки воздуха. азалось, что ещЄ немного, и туман сомкнЄт кольцо вплотную и в нЄм можно будет задохнутьс€, захлебнутьс€, как бела€ лошадь в представлении одного небезызвестного Єжика. ƒома же написание рецензии пор€дочно раст€нулось Ц ввиду многочисленных отвлекающих факторов у мен€ никак не получалось настроитьс€ на серьЄзный лад, и наконец, в районе трЄх часов ночи сделав вид, что легла спать, а на самом деле вернувшись за монитор, € вскоре пон€ла, что в принципе забыла про этот пост, и решила отложить его до следующего дн€. Ћегла спать € снова в половине шестого, встала снова во втором часу (снилось оп€ть много вс€кой вс€чины, зато проводили мен€ сны красивой панорамой ночного города с высоты этажа эдак двенадцатого, и в окнах отражались золотые сполохи, словно от неслышимого фейерверка, и звучал всеобъемлющий, как гром, колокольный звон множества невидимых церквей), дописала пост, и теперь мне предстоит провести подкравшийс€ незаметно последний день каникул. ¬ целом, они т€нулись дл€ мен€ долго, показались едва ли не целым мес€цем, но именно последние деньки, часы и минуты всегда имеют подлое обыкновение пролетать слишком быстро. ѕоэтому прощаюсь Ц скорее всего, уже до следующих выходных, дорогие мои)
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли крошка цахес крошка цахес по прозванию циннобер рецензии сны |
ѕосмотрела "Ћеокадию и дес€ть бесстыдных сцен" |
ƒневник |
¬ ночь со среды на четверг € как в воду гл€дела, уполз€ спать чуть раньше обычного Ц в районе третьего или четвЄртого часу ночи: рано утром, когда ещЄ было темно, мен€ разбудила приехавша€ к бабушке скора€, долго возивша€с€ под лай и подвывани€ запертого в соседней комнате собака. ѕотом не давали толком заснуть частые телефонные звонки, и € проворочалась до второго часа дн€, пока мен€ не разбудила мама; маме тоже было хреново, и она ушла оклЄмыватьс€, оставив мен€ страдать ерундой в счастливом неведении. ќклемалась она часам к четырЄм с копейками и обрадовала за€влением, что театр у мен€ на этот день обламываетс€, ибо вскоре скора€ должна будет вернутьс€ Ц чтобы забрать какую-то пресловутую трубку от дыхательного аппарата, похожую на стакан ерундовину, которую врачи умудрились у нас забыть, и, возможно, увезти бабушку в больницу (этой перспективой мо€ родн€ пугает себ€ до тр€сучки вс€кий раз, когда вызывает скорую, но она крайне редко осуществл€етс€). Ќа вечер у мен€ был запланирован спектакль Ђѕриродный экстримї в Ћуны Ц заведомо развлекательное зрелище, считающеес€ наиболее известной ѕрохановской Ђпорнухойї, выбранное исключительно из желани€ что-нибудь развЄрнуто поругать, так что € не огорчилась срыву сего меропри€ти€, философски решив, что при желании выбратьс€ второй попыткой всегда смогу Ц но всЄ равно было мучительно больно за бесцельно потраченные сто рублей. » особливо обидно было то, что ожидаема€ скора€ так и не приехала Ц врачи только позвонили часов эдак в дес€ть-одиннадцать, когда € могла бы уже благополучно вернутьс€ из театра, и сообщили, что умудрились ещЄ где-то проебать весь дыхательный аппарат целиком (по описанию Ц штука с фен размером) и теперь их за это убьют. ¬ итоге весь день и практически всю ночь Ц до п€ти утра Ц € провела в четырЄх стенах, Ц впрочем, провела вполне продуктивно (даже Ђ√амлетаї дописала наконец, как вы можете видеть в предыдущем посте), хоть и моЄ самочувствие в этот четверг было не самым лучшим: до самого наступлени€ темноты периодически накатывала сонливость. ѕроспала € снова до полудн€, с трудом подн€вшись по маминой побудке, зато приснилась симпатична€ хрень Ц как будто все автодороги напрочь заросли гигантским чертополохом и вместо общественного транспорта мне приходилось добиратьс€ от дома до метро и обратно на вертолЄте, лицезре€ сие безобразие с высоты. » вдруг однажды весь этот чертополох разом зацвЄл своими м€гкими лиловыми кисточками, вылупившимис€ из тЄмно-зелЄных колючих соцветий, и это было чертовски красивое зрелище Ц уход€щих в обе стороны до самого горизонта лиловых рек цветущего гигантского чертополоха. —коротав день, как обычно, и слегка закопавшись, € вывалилась под морось в послеобеденный вечер, догнала маршрутку и благодар€ оной не опоздала, а воврем€ прибыла на „еховскую в вагоне метро, в котором посто€нно на продолжительные отрезки времени вырубалс€ свет (круто всЄ-таки ехать в темноте!). ќттуда € снова двинулась к театру Ёрмитаж, где позавчерашн€€ эпидеми€ уже благополучно закончилась Ц то бишь хал€вных масок на входе зрител€м уже не выдавали; прибыла € не так рано, как в прошлый раз, и толпы было меньше, поэтому € спокойно дождалась первого звонка на каком-то подвернувшемс€ в уголке коридора стуле (м€чи убрали, но кресла так и не вернули) и с оным ввалилась в зал. ћне влом было пробиратьс€ к своему законному месту в середине двенадцатого р€да, и € присела на его краешек, но мен€ оттуда согнали Ц однако как раз уже прозвучал второй звонок, и € отправилась прощупывать свободные кресла в первых р€дах партера, где, пару-тройку раз обломившись, к третьему звонку нашла себе уютное местечко в середине третьего р€да, у самого прохода Ц лучшего и не пожелаешь. ѕоследующие два часа сорок минут радовали мен€ спектаклем под названием ЂЋеокади€ и дес€ть бесстыдных сценї.
јвстрийского драматурга јртура Ўницлера в порнографии обвин€ли неоднократно и вполне обоснованно. ¬от и в поставленной Ћевитиным пьесе Ђ’ороводї действие (но не смысл!) ограничиваетс€ сексом: проститутка Ћеокади€ бесплатно дала солдату. ѕотом солдату сделала минет в тЄмном парке горнична€. ѕотом горничную соблазнил еЄ хоз€ин, молодой человек. ѕотом с этим молодым человеком изменила своему мужу нека€ дама. ѕотом муж этой дамы выполнил с ней свой супружеский долг. ѕотом этот муж заманил в гостиничный номер юное Ђпрелестное созданиеї. ѕотом Ђсозданиеї, не будь дурой, зашло ещЄ и в гости к поэту, который вроде бы вовсе и не поэт. ѕотом всЄ тот же поэт переспал с актрисой. ѕотом си€ актриса фактически изнасиловала благородного пожилого графа. », наконец, граф, напившись, оказалс€ всЄ у той же Ћеокадии, круг замкнулс€, дела€ возможной трогательную встречу высшего с низшим, философа-аристократа с не заморачивающейс€ мысл€ми о тонких матери€х обладательницей красивых имени и глаз Ц встречу, заведомо обречЄнную на расставаниеЕ или же нет? » ни в одном из этих дес€ти эпизодов нет, вопреки их содержанию, ни грамма пошлости Ц каждый начинаетс€ смешно и заканчиваетс€ немного грустно, потому что кажетс€: из двоих признающихс€ в любви один всегда лицемерит, другой же действительно наивно надеетс€ на присутствие этого загадочного чувства. ѕрисутствует ли оно на самом деле или нет, а если да, то где Ц решать зрителю, каждому дл€ себ€ по-своему: на редкость интеллигентное исполнение донельз€ пикантных на первый взгл€д ситуаций позвол€ет трактовать происход€щее как в самом циничном, так и в самом романтичном ключе. «а это спасибо в первую очередь замечательным актЄрам, создавшим не просто дес€ть хрестоматийных типажей, но дес€ть €рких, живых характеров, создающих дес€ть разных, контрастирующих настроений, дес€ть поводов узнать себ€ или кого-то из своих знакомых и задуматьс€ о простоте и сложности отношений человеческих. ¬ целом спектакль Ц всЄ-таки не дл€ снобов (ибо без здорового эротизма в таком жанре никуда), зато на удивление эстетичный: пусть декорации ограничиваютс€ р€дом металлических коек, а музыка Ц закадровым напеванием беззаботного мотивчика, множество еле уловимых мелочей рисуют общую картину штрихами чистого цвета в лучших традици€х импрессионизма, к которому и относ€т творчество Ўницлера: колышущиес€ ткани, огоньки сигарет и свечей, разлетающа€с€ по углам одеждаЕ ороче говор€, смотреть стоит. ‘рилав фарева, господа.
ѕосле спектакл€ € пошагала обратно до метро, по пути пообщавшись наконец-то с живущим при местном храме пушистым чЄрным кошаком с белым п€тном на груди и жЄлтыми глазами Ц € почти каждый раз его вижу, проход€ мимо, но он впервые пошЄл на контакт, позволив себ€ приласкать. ќт родной ћолодЄги до дома мен€ довЄз папа, а домаЕ как видите по времени окончани€ поста, дел нашлось немало. ѕосему Ц доброго утра вам и мне, до завтрашней свежей рецензии)

јвстрийского драматурга јртура Ўницлера в порнографии обвин€ли неоднократно и вполне обоснованно. ¬от и в поставленной Ћевитиным пьесе Ђ’ороводї действие (но не смысл!) ограничиваетс€ сексом: проститутка Ћеокади€ бесплатно дала солдату. ѕотом солдату сделала минет в тЄмном парке горнична€. ѕотом горничную соблазнил еЄ хоз€ин, молодой человек. ѕотом с этим молодым человеком изменила своему мужу нека€ дама. ѕотом муж этой дамы выполнил с ней свой супружеский долг. ѕотом этот муж заманил в гостиничный номер юное Ђпрелестное созданиеї. ѕотом Ђсозданиеї, не будь дурой, зашло ещЄ и в гости к поэту, который вроде бы вовсе и не поэт. ѕотом всЄ тот же поэт переспал с актрисой. ѕотом си€ актриса фактически изнасиловала благородного пожилого графа. », наконец, граф, напившись, оказалс€ всЄ у той же Ћеокадии, круг замкнулс€, дела€ возможной трогательную встречу высшего с низшим, философа-аристократа с не заморачивающейс€ мысл€ми о тонких матери€х обладательницей красивых имени и глаз Ц встречу, заведомо обречЄнную на расставаниеЕ или же нет? » ни в одном из этих дес€ти эпизодов нет, вопреки их содержанию, ни грамма пошлости Ц каждый начинаетс€ смешно и заканчиваетс€ немного грустно, потому что кажетс€: из двоих признающихс€ в любви один всегда лицемерит, другой же действительно наивно надеетс€ на присутствие этого загадочного чувства. ѕрисутствует ли оно на самом деле или нет, а если да, то где Ц решать зрителю, каждому дл€ себ€ по-своему: на редкость интеллигентное исполнение донельз€ пикантных на первый взгл€д ситуаций позвол€ет трактовать происход€щее как в самом циничном, так и в самом романтичном ключе. «а это спасибо в первую очередь замечательным актЄрам, создавшим не просто дес€ть хрестоматийных типажей, но дес€ть €рких, живых характеров, создающих дес€ть разных, контрастирующих настроений, дес€ть поводов узнать себ€ или кого-то из своих знакомых и задуматьс€ о простоте и сложности отношений человеческих. ¬ целом спектакль Ц всЄ-таки не дл€ снобов (ибо без здорового эротизма в таком жанре никуда), зато на удивление эстетичный: пусть декорации ограничиваютс€ р€дом металлических коек, а музыка Ц закадровым напеванием беззаботного мотивчика, множество еле уловимых мелочей рисуют общую картину штрихами чистого цвета в лучших традици€х импрессионизма, к которому и относ€т творчество Ўницлера: колышущиес€ ткани, огоньки сигарет и свечей, разлетающа€с€ по углам одеждаЕ ороче говор€, смотреть стоит. ‘рилав фарева, господа.
ѕосле спектакл€ € пошагала обратно до метро, по пути пообщавшись наконец-то с живущим при местном храме пушистым чЄрным кошаком с белым п€тном на груди и жЄлтыми глазами Ц € почти каждый раз его вижу, проход€ мимо, но он впервые пошЄл на контакт, позволив себ€ приласкать. ќт родной ћолодЄги до дома мен€ довЄз папа, а домаЕ как видите по времени окончани€ поста, дел нашлось немало. ѕосему Ц доброго утра вам и мне, до завтрашней свежей рецензии)

|
ѕосмотрела "’армс! „армс! Ўардам! или Ўколу клоунов" |
ƒневник |
¬ ночь со вчера на сегодн€ € незаметно засиделась за монитором до шести утра, была запалена вставшей по будильнику мамой, немного потолкалась с ней на кухне и вернулась к себе спать, отрубившись раньше, чем мен€ мог бы разбудить уход папы на работу. ѕроспала € снова заполдень, завтрак плавно перетЄк в обед, обед кончилс€ к наступлению сумерек, и вот уже надо было торопитьс€ собиратьс€ и выпинывать себ€ в промозглую действительность, дожидатьс€ маршрутки, ехать до метро и на метро, чита€ книжку и счита€ на встречных люд€х маски (сегодн€ насчитала уже без малого полсотни!). ѕуть лежал до „еховской, оттуда Ц до сада Ёрмитаж, где уже исчезли палатки с хэндмейд-сувенирнЄй, а площадку с детскими аттракционами заменил каток, живописно освещЄнный искусственными деревцами по кра€м с лиловыми цветами-лампочками. Ќа входе в одноимЄнный театр, в коем € сегодн€ и проводила вечер, зрител€м предлагали хал€вные маски, и все его работники также были в них; в коридорах сидеть было не на чем, ибо привычные кресла заменили на надувные серебр€ные м€чи, которые по громкой св€зи в бесконечно прокручивающейс€ записи просили игнорировать, и слон€ющиес€ туда-сюда люди, в большинстве своЄм нацепившие вышеописанную хал€ву, врем€ от времени пинали их от стены к стене. я устроилась в уголке, тихо звере€ от этой остоебенившей записи, пока не дождалась первого звонка и не ввалилась в зал, где нашла своЄ законное место где-то в середине двенадцатого р€да и убедилась, что на крайний случай и оно вполне недурно. ¬скоре последовал второй звонок, за ним и третий, поток народу несколько поубавилс€, и € перебежала в середину третьего р€да, была согнана законным обладателем места, повторила попытку в том же районе, также бесплодно, и наконец осталась во втором р€ду, в районе левого крыла партера. ¬ первом антракте по€вились опоздавшие, попросившие мен€ оттуда, зато некоторые отсидевшие первое отделение благоразумно послушались очередного объ€влени€, насто€тельно рекомендовавшего всем серьЄзным люд€м покинуть помещение, и на последующие два отделени€ € переместилась на освободившеес€ место в том же р€ду, но с правого крыла. ƒа-да, за два с половиной часа отделений было три Ц руководству€сь аудиосообщени€ми, надо полагать, что дл€ всех, дл€ легкомысленных и дл€ самых легкомысленных, и €, как без цар€ в голове человек, оставалась до последнего, посему уступаю место пафосному €зыку рецензии.
’армс, „армс, Ўардам Ц всЄ это псевдонимы одного небезызвестного поэта и писател€, также успевшего побывать и ƒанданом, и Ўустерлингом, и много кем ещЄ. Ђ’армс! „армс! Ўардам! »ли Ўкола клоуновї - шоу по мотивам его словесных игр, которое сложно назвать спектаклем в привычном смысле этого слова: не действие развиваетс€ на сцене, но под живой оркестр с минимальными декораци€ми материализуютс€ анекдотичные истории и сценки, детские стишки и песенки. Ќаивно и трогательно? ƒа. Ќелепо и глупо? Ќет! —перва на кривл€ни€ взрослых людей смотришь с логичным недоумением, но постепенно вт€гиваешьс€ в атмосферу самозабвенного беззаботного дуракавал€ни€ Ц не то действительно от действи€ к действию юмор становитс€ смешнее, не то искренность исполнени€ подкупает и заражает, но в любом случае чем дальше происход€щее отодвигалось от начала к финалу, тем сильнее € над ним угорала. ¬торой вариант кажетс€ мне более точным, ибо актЄры Ц молодцы: их пластика, мимика, жесты, интонации представл€ют собой зрелище настолько увлекательное и симпатичное, что никаких дополнительных спецэффектов и не требуетс€. ѕолучилс€, таким образом, не только и не столько опыт театра абсурда, сколько капустник дл€ тех, кто ЂЁрмитажї с его труппой знает и любит Ц из той же оперы, что и Ђ им-тангої. ѕосле Ђ“ангої выходишь, напева€ ЂЌе надо, € умол€ю вас, не надої, после Ђ’армсаї - ЂЋет€т по небу шарики, лет€т и шелест€тї, и снова всЄ и вс€ вокруг кажетс€ каким-то по-детски вкусным Ц и понимаешь, что именно поддержанием аппетита к жизни привлекают к себе эскапады режиссЄра Ћевитина, с точки зрени€ трезвого рассудка и логики не выдерживающего никакой критики. ѕоэтому, господа, Ц ловите момент, тот самый, в который ничего не происходит, не упускайте шанса зар€дитьс€ положительными и тЄплыми эмоци€ми, в наше врем€ это Ц больша€ редкость.
Ќо вот цирк уехал, поиграв напоследок с публикой теми самыми м€чами, € покинула театр, потопала обратно к метро, поехала домой. ѕовезло с маршруткой, дождавшейс€ мен€ на остановке и тут же после этого стартовавшей, так что € была за родным компом даже раньше ожидаемого и вот Ц даже раньше утренней зари заканчиваю пост. «автра Ц снова театр и снова рецензи€, до которой € с вами и прощаюсь)

’армс, „армс, Ўардам Ц всЄ это псевдонимы одного небезызвестного поэта и писател€, также успевшего побывать и ƒанданом, и Ўустерлингом, и много кем ещЄ. Ђ’армс! „армс! Ўардам! »ли Ўкола клоуновї - шоу по мотивам его словесных игр, которое сложно назвать спектаклем в привычном смысле этого слова: не действие развиваетс€ на сцене, но под живой оркестр с минимальными декораци€ми материализуютс€ анекдотичные истории и сценки, детские стишки и песенки. Ќаивно и трогательно? ƒа. Ќелепо и глупо? Ќет! —перва на кривл€ни€ взрослых людей смотришь с логичным недоумением, но постепенно вт€гиваешьс€ в атмосферу самозабвенного беззаботного дуракавал€ни€ Ц не то действительно от действи€ к действию юмор становитс€ смешнее, не то искренность исполнени€ подкупает и заражает, но в любом случае чем дальше происход€щее отодвигалось от начала к финалу, тем сильнее € над ним угорала. ¬торой вариант кажетс€ мне более точным, ибо актЄры Ц молодцы: их пластика, мимика, жесты, интонации представл€ют собой зрелище настолько увлекательное и симпатичное, что никаких дополнительных спецэффектов и не требуетс€. ѕолучилс€, таким образом, не только и не столько опыт театра абсурда, сколько капустник дл€ тех, кто ЂЁрмитажї с его труппой знает и любит Ц из той же оперы, что и Ђ им-тангої. ѕосле Ђ“ангої выходишь, напева€ ЂЌе надо, € умол€ю вас, не надої, после Ђ’армсаї - ЂЋет€т по небу шарики, лет€т и шелест€тї, и снова всЄ и вс€ вокруг кажетс€ каким-то по-детски вкусным Ц и понимаешь, что именно поддержанием аппетита к жизни привлекают к себе эскапады режиссЄра Ћевитина, с точки зрени€ трезвого рассудка и логики не выдерживающего никакой критики. ѕоэтому, господа, Ц ловите момент, тот самый, в который ничего не происходит, не упускайте шанса зар€дитьс€ положительными и тЄплыми эмоци€ми, в наше врем€ это Ц больша€ редкость.
Ќо вот цирк уехал, поиграв напоследок с публикой теми самыми м€чами, € покинула театр, потопала обратно к метро, поехала домой. ѕовезло с маршруткой, дождавшейс€ мен€ на остановке и тут же после этого стартовавшей, так что € была за родным компом даже раньше ожидаемого и вот Ц даже раньше утренней зари заканчиваю пост. «автра Ц снова театр и снова рецензи€, до которой € с вами и прощаюсь)

ћетки: театр театры театр эрмитаж эрмитаж спектакли хармс! чармс! шардам! или школа клоунов хармс! чармс! шардам! школа клоунов рецензии |
ѕосмотрела "ѕортрет" в театре √огол€ |
ƒневник |
ƒавеча снова под утро уйд€ спать, € сегодн€ с немалым трудом и не без помощи пришедшей будить мен€ мамы проснулась заполдень Ц впрочем, этот день вполне т€нул на Ђутро туманное, утро седоеї, да к тому же дождливое. —коротав остаток первой половины дн€ за ерундой и музыкой, € после обеда пораньше вышла из дому, дабы снова ехать на маршрутке до метро, а на метро до урской Ц пораньше, потому что в день, когда € закупалась билетами на обломившуюс€ дополнительную неделю каникул, € неча€нно на радост€х вз€ла билет в ѕушкинку на субботу, на которую у мен€ уже раньше был вз€т билет в ћоссовета (или наоборот Ц не суть). Ќужно было его сбыть, а барыга из мен€ оказалась хренова€ Ц € просто предлагала этот злосчастный билет каждому вход€щему в театр √огол€, до которого € дошла за полчаса до спектакл€, но не нашла в себе таланта после отказа или игнорировани€ бросатьс€ под ноги, уговаривать, расписывать достоинства спектакл€ и торговатьс€, как это обычно делают в моЄм положении. —начала € сто€ла на улице, но там было холодновато, и € вошла в холл, нагло устроившись возле кассы, где заметила, как один пенсионер, отказавшийс€ сперва от моего билета, сказав, что покупает льготные, начал возмущатьс€ перед кассой, что раньше льготные были по п€тьдес€т, а теперь по сто. ћой продаваемый билет был тоже за сто, но мне, во-первых, стало жаль деда, а во-вторых, уж больно хотелось сбыть этот билет поскорее, а других шансов € не видела, и посему € предложила его деду за п€тьдес€т, и он после краткого вы€снени€ деталей согласилс€. — чувством немалого облегчени€ (и при€тное сделать человеку Ц при€тно, и потер€ть полсотни вместо целой Ц при€тно тоже) € вошла в театр, приобрела программку и с первым звонком вошла в зал, где снова, как и летом, были за ненадобностью задЄрнуты занавесом амфитеатр и бельэтаж. я сперва устроилась на своей законной откидушке р€да четвЄртого или п€того, со вторым звонком попыталась пересесть в середину третьего р€да (первый и второй были слишком близко к высокой сцене), но была согнана и вернулась, а с третьим устроилась на краю третьего р€да, где и просидела первое действие. ¬ антракте € заметила, что место в середине, на которое € пос€гала, оказалось снова свободно, Ц не то его обладатель пересел поближе, не то был в числе сбежавших со спектакл€, что в театре √огол€ €вл€етс€ странной массовой тенденцией, Ц и благополучно зан€ла его на второе действие. —мотрела же € сегодн€ премьеру Ц Ђѕортретї.
»стори€ художника „арткова, промен€вшего непризнанный талант на высокооплачиваемое и почитаемое ремесло по искушению таинственного портрета ростовщика с кладом, интересна сама по себе, однако создатели постановки решили превратить еЄ в Ђапофеоз √огол€ї, оплет€ сетью заимствований из других произведений классика. » кажетс€, что страшный сон „арткова, населЄнный существами в зооморфных масках, продолжаетс€ чередой нелепых обрывков: вот он зашЄл к портному ѕетровичу (ЂЎинельї), вот увлЄкс€ ѕрекрасной незнакомкой (ЂЌевский проспектї), вот столкнулс€ с майором овалЄвым (ЂЌосї), вот Ц с јкакием јкакиевичем, почему-то Ц статным молодым парнем, а не сморчком-чиновником. ј јделаида »вановна так и вовсе превратилась из счастливой колоды »харЄва (Ђ»грокиї) в домохоз€йку, у которой на квартирах живут практически все герои √огол€, даже капитан опейкин. ѕриправьте это ассорти узнаваемыми отдельными фразами и целыми сценами из Ђ¬ечеров на ’утореї, Ђ∆енитьбыї, Ђ–евизораї - и винегрет получитс€ окончательно несъедобным. ƒа и сервирован, то бишь сыгран, он нер€шливо, неубедительно, с бестолковыми метани€ми массовки, бесчисленными повторами одного и того же, скучными монологами, смен€ющимис€ Ц видимо, чтобы разбудить засыпающего зрител€ Ц взрывами чрезмерно громкой музыки Ўнитке, а больша€ репродукци€ портрета богообразного старца ну никак не может казатьс€ зловещей, сколько еЄ ни двигай и не рон€й. ћельтешат и другие картины и их фрагменты Ц то Ѕрюллов, то ¬енецианов, а то и вовсе Ђявление ’риста народуї во весь задник, но по€влению в спектакле ни вкуса, ни смысла это не способствует Ц вместо обещанного Ђдь€вольского карнавалаї получилс€ по-детски наивный утренник-маскарад, заигрывающий со зрителем избитыми прозрачными до нав€зчивости символами в надежде, что он √огол€ не читал или позабыл. ¬ывод: два часа глотать пыль от хлопающихс€ об сцену холстов и смотреть на актЄров, бесспорно талантливых, но на эпизодических карикатурных рол€х неубедительных, Ц пуста€ трата времени, в театре √огол€ есть спектакли и получше.
ѕосле спектакл€ € дотопала обратно до урской, доехала до родной ћолодЄги, оттуда папа подвЄз мен€ до дома. ак вы сами можете посудить, мне было на что отвлекатьс€ от трудов праведных до сего момента включительно Ц пост заканчиваю к утру и прощаюсь с вами ненадолго, а именно Ц до традиционной завтрашней рецензии)

»стори€ художника „арткова, промен€вшего непризнанный талант на высокооплачиваемое и почитаемое ремесло по искушению таинственного портрета ростовщика с кладом, интересна сама по себе, однако создатели постановки решили превратить еЄ в Ђапофеоз √огол€ї, оплет€ сетью заимствований из других произведений классика. » кажетс€, что страшный сон „арткова, населЄнный существами в зооморфных масках, продолжаетс€ чередой нелепых обрывков: вот он зашЄл к портному ѕетровичу (ЂЎинельї), вот увлЄкс€ ѕрекрасной незнакомкой (ЂЌевский проспектї), вот столкнулс€ с майором овалЄвым (ЂЌосї), вот Ц с јкакием јкакиевичем, почему-то Ц статным молодым парнем, а не сморчком-чиновником. ј јделаида »вановна так и вовсе превратилась из счастливой колоды »харЄва (Ђ»грокиї) в домохоз€йку, у которой на квартирах живут практически все герои √огол€, даже капитан опейкин. ѕриправьте это ассорти узнаваемыми отдельными фразами и целыми сценами из Ђ¬ечеров на ’утореї, Ђ∆енитьбыї, Ђ–евизораї - и винегрет получитс€ окончательно несъедобным. ƒа и сервирован, то бишь сыгран, он нер€шливо, неубедительно, с бестолковыми метани€ми массовки, бесчисленными повторами одного и того же, скучными монологами, смен€ющимис€ Ц видимо, чтобы разбудить засыпающего зрител€ Ц взрывами чрезмерно громкой музыки Ўнитке, а больша€ репродукци€ портрета богообразного старца ну никак не может казатьс€ зловещей, сколько еЄ ни двигай и не рон€й. ћельтешат и другие картины и их фрагменты Ц то Ѕрюллов, то ¬енецианов, а то и вовсе Ђявление ’риста народуї во весь задник, но по€влению в спектакле ни вкуса, ни смысла это не способствует Ц вместо обещанного Ђдь€вольского карнавалаї получилс€ по-детски наивный утренник-маскарад, заигрывающий со зрителем избитыми прозрачными до нав€зчивости символами в надежде, что он √огол€ не читал или позабыл. ¬ывод: два часа глотать пыль от хлопающихс€ об сцену холстов и смотреть на актЄров, бесспорно талантливых, но на эпизодических карикатурных рол€х неубедительных, Ц пуста€ трата времени, в театре √огол€ есть спектакли и получше.
ѕосле спектакл€ € дотопала обратно до урской, доехала до родной ћолодЄги, оттуда папа подвЄз мен€ до дома. ак вы сами можете посудить, мне было на что отвлекатьс€ от трудов праведных до сего момента включительно Ц пост заканчиваю к утру и прощаюсь с вами ненадолго, а именно Ц до традиционной завтрашней рецензии)

ћетки: театр театры театр гогол€ театр имени гогол€ спектакли портрет рецензии |
ѕосмотрела "÷ар€" |
ƒневник |
ƒавеча нехот€ уполз€ спать далеко заполночь, € сегодн€ была благополучно разбужена вернувшимс€ с работы папой и отползла коротать врем€ до вечера на свою территорию, ибо на полуденный сеанс Ђ÷ар€ї в ’удожественном уже не успевала, а афиша яндекса обещала следующий на половину шестого. ѕострадав ерундой и послушав музыку, € после обеда вышла из дому пораньше, дабы наверн€ка остались билеты, упустила и маршрутку, и автобус, да и пошагала от остановки до метро пешком вдоль дорог. ѕодземка довезла мен€ до јрбатской, € неторопливо дотопала до кинотеатра, вошла в холл, воззрилась на расписание сеансов над кассойЕ никакой половины шестого там не было, только почти дес€ть часов Ц ждать столько времени было бы бессмысленно, равно как и пытать счасть€ в ќкт€бре, где с мен€ содрали бы больше, чем за любой спектакль. Ќо и обламыватьс€ также было не в моих правилах, и € вспомнила про ѕушкинский кинотеатр, отрекомендованный мне как демократичный в ценах, который был ближе всего Ц вернулась в метро, перешла на Ѕоровицкую, доехала до „еховской, слегка заблудилась в лабиринтах –ейха, сначала по привычке перейд€ на ѕушкинскую, а затем уже подн€вшись на поверхность. ѕушкинский предложил мне сеанс на 19.30 за 200 рублей Ц где коротать почти два часа, € также пон€ти€ не имела и посему понаде€лась на старый добрый Ѕрест и, вернувшись тем же маршрутом на јрбатскую, поехала обратно до родной ћолодЄги и рванула в свой местечковый кинотеатр. ≈стественно, по закону подлости, на сеанс на приблизительно шесть часов € опоздала благодар€ своему крюку на ѕушкинскую, а если бы сразу вернулась домой, успела бы Ц следующий же сеанс обещалс€ мне только в 19.50 за 250 рублей, так что лучше было бы, раз уж € заезжала на ѕушкинскую, так там и остатьс€. ќднако истори€, как известно, сослагательного направлени€ не терпит, и €, подумав: ЂЁто всЄ от лукавогої, развернулась на 180 градусов, спустилась в метро в четвЄртый раз и поехала до рылатского, где умудрилась удачно спросить дорогу на платформе и выйти из лабиринта подземных переходов точнЄхонько к кинотеатру Ђћатрицаї - не менее дорогому, нежели ќкт€брь, но было уже не до хорошего. Ќо она издевательски продемонстрировала мне всЄ тот же бездарно упущенный сеанс на примерно шесть и следующий пообещала только в восемь, так что из двух зол € выбрала меньшее Ц решила вернутьс€ в ЂЅрестї и вернулась, потратившись на билет и задавшись вопросом, где скоротать возникшее свободное врем€: не мотатьс€ же до дома и обратно! », поскольку есть таки хотелось, € спустилась в супермаркет Ђ“рамплинаї, отоварилась шоколадкой и RichТевским фруктовым миксом, подн€лась на третий этаж, зан€тый вс€ческими кафешками и ресторанами, обнаружила и обошла по€вившийс€ там двухэтажный этномагазин ЂЅелые облакаї (в отличие от аналогичного на ѕокровке Ц без отдела с едой, к сожалению) и нагло устроилась уминать купленное за один из боковых столиков фастфудной зоны. ¬рем€ полетело с завидной быстротой, € едва успела доесть, когда пора было возвращатьс€ в кинотеатр и после небольшого ожидани€ устраиватьс€ где душе угодно в зале, где помимо мен€ оказалось ещЄ человека четыре-шесть Ц суд€ по посто€нным смешкам и жизнерадостному хрусту попкорна, по чистой случайности. — самой рекламы картинка на экране была нечЄткой, слегка расплывчатой, но до конца фильма еЄ так и не поправили Ц впрочем, впечатлений это не испортило.
ќтлично помню день, когда пару лет назад € посмотрела Ђќстровї, сильного культурного шока не испытала, но тем не менее не смогла св€зать и двух слов по поводу увиденного, оставила на лучшие времена, когда собралась бы с мысл€ми, да так и не стала лезть с любительским рылом в калашный р€д. “ак же и теперь с новым детищем несомненно гениальных Ћунгина и ћамонова, с Ђ÷арЄмї - сложно сказать, да ещЄ и обоснованно, что именно в нЄм цепл€ет, а что проходит мимо. ћожно, конечно, стандартно расписать достоинства исторического антуража, воспроизведЄнного с максимальной точностью (точность фактов не идеальна, но не буду к ним прив€зыватьс€), да блест€щей актЄрской игры Ц талантливой, искренней и самобытной (т€жело, правда, смотреть на янковского, которого мы уже потер€ли), да качественной операторской работы, да величественной музыки. Ќо ведь и дураку €сно, что дело не в этом, не ради красивой картинки и динамичного экшна снимаютс€ подобные фильмы. » не ради просвещени€: всем известна Ц кому из учебников, кому из житий Ц истори€ митрополита ‘илиппа, служившего в ту смутную эпоху, когда безумный √розный царь неустанно отмаливал во влас€нице свои грехи, однако не переставал руками опричнины заливать страну кровавыми реками. » уж точно не ради государственной пропаганды и подн€ти€ пресловутого национального духа: картина самодержави€ ещЄ никогда, пожалуй, в отечественном кинематографе не была настолько пугающей и омерзительной. ј ради чего Ц вот вопрос, ведь с исторической точки зрени€ ‘илипп €вл€етс€ весьма неоднозначной фигурой, которую с одинаковым успехом можно как обвин€ть в пассивности и попустительстве опричному режиму, так и восхвал€ть за открытый протест царской жестокости. ≈го душеспасительные беседы с »ваном IV, укоризненные увещевани€ и умывани€ рук в отказе от участи€ в судах и расправах не сократили число жертв тирана Ц но и если бы митрополит был несдержан в выражени€х не в день своего низложени€, за которым последовали ссылка и убийство, а в день своего прибыти€ из —оловков в ћоскву, оно тоже не сократилось бы. «начит, достоинства нашего геро€ в ином Ц и, хоть и не получаетс€ у мен€ видеть положительный пример дл€ подражани€ в терпении и смирении (как говоритс€, и рада бы в рай Ц да грехи не пускают, герой Ђќстроваї с его антидогматическим и антиклерикальным саботажем был мне как-то пон€тней и симпатичней, к тому же он не только собственную душу спасает, но и о других заботитс€) и тем паче в напрашивании на грубость (Ђ—уди мен€! Ц ј не хочу!ї), за свою могучую силу воли и духа ‘илипп вполне достоин вс€ческого уважени€. » вопреки перенасыщенности картины неприкрытыми символами (бесноватый шут vs блаженна€ девочка, к примеру) в частности и гуманистическим пафосом (за показательно пролитую кровь, впрочем, спасибо, хот€ можно было и побольше) в целом, Ђ÷ар€ї смотреть стоит Ц как очередную крупицу личного мнени€ подлинного художника среди засиль€ шаблонного конформизма. » € не задумываюсь о том, насколько € с этим мнением согласна или не согласна Ц в любом случае, образ митрополита ‘илиппа на пор€док светлее олчака и ему подобных кумиров дн€.
ѕо окончании фильма € удачно догнала автобус и вскоре была уже дома, дабы неторопливо, со всеми сопутствующими отвлекающими факторами, домучить сей пост. «автра и далее по списку каникул€рных дней мне снова светит театр, посему прощаюсь до завтрашней свежей рецензии)

ќтлично помню день, когда пару лет назад € посмотрела Ђќстровї, сильного культурного шока не испытала, но тем не менее не смогла св€зать и двух слов по поводу увиденного, оставила на лучшие времена, когда собралась бы с мысл€ми, да так и не стала лезть с любительским рылом в калашный р€д. “ак же и теперь с новым детищем несомненно гениальных Ћунгина и ћамонова, с Ђ÷арЄмї - сложно сказать, да ещЄ и обоснованно, что именно в нЄм цепл€ет, а что проходит мимо. ћожно, конечно, стандартно расписать достоинства исторического антуража, воспроизведЄнного с максимальной точностью (точность фактов не идеальна, но не буду к ним прив€зыватьс€), да блест€щей актЄрской игры Ц талантливой, искренней и самобытной (т€жело, правда, смотреть на янковского, которого мы уже потер€ли), да качественной операторской работы, да величественной музыки. Ќо ведь и дураку €сно, что дело не в этом, не ради красивой картинки и динамичного экшна снимаютс€ подобные фильмы. » не ради просвещени€: всем известна Ц кому из учебников, кому из житий Ц истори€ митрополита ‘илиппа, служившего в ту смутную эпоху, когда безумный √розный царь неустанно отмаливал во влас€нице свои грехи, однако не переставал руками опричнины заливать страну кровавыми реками. » уж точно не ради государственной пропаганды и подн€ти€ пресловутого национального духа: картина самодержави€ ещЄ никогда, пожалуй, в отечественном кинематографе не была настолько пугающей и омерзительной. ј ради чего Ц вот вопрос, ведь с исторической точки зрени€ ‘илипп €вл€етс€ весьма неоднозначной фигурой, которую с одинаковым успехом можно как обвин€ть в пассивности и попустительстве опричному режиму, так и восхвал€ть за открытый протест царской жестокости. ≈го душеспасительные беседы с »ваном IV, укоризненные увещевани€ и умывани€ рук в отказе от участи€ в судах и расправах не сократили число жертв тирана Ц но и если бы митрополит был несдержан в выражени€х не в день своего низложени€, за которым последовали ссылка и убийство, а в день своего прибыти€ из —оловков в ћоскву, оно тоже не сократилось бы. «начит, достоинства нашего геро€ в ином Ц и, хоть и не получаетс€ у мен€ видеть положительный пример дл€ подражани€ в терпении и смирении (как говоритс€, и рада бы в рай Ц да грехи не пускают, герой Ђќстроваї с его антидогматическим и антиклерикальным саботажем был мне как-то пон€тней и симпатичней, к тому же он не только собственную душу спасает, но и о других заботитс€) и тем паче в напрашивании на грубость (Ђ—уди мен€! Ц ј не хочу!ї), за свою могучую силу воли и духа ‘илипп вполне достоин вс€ческого уважени€. » вопреки перенасыщенности картины неприкрытыми символами (бесноватый шут vs блаженна€ девочка, к примеру) в частности и гуманистическим пафосом (за показательно пролитую кровь, впрочем, спасибо, хот€ можно было и побольше) в целом, Ђ÷ар€ї смотреть стоит Ц как очередную крупицу личного мнени€ подлинного художника среди засиль€ шаблонного конформизма. » € не задумываюсь о том, насколько € с этим мнением согласна или не согласна Ц в любом случае, образ митрополита ‘илиппа на пор€док светлее олчака и ему подобных кумиров дн€.
ѕо окончании фильма € удачно догнала автобус и вскоре была уже дома, дабы неторопливо, со всеми сопутствующими отвлекающими факторами, домучить сей пост. «автра и далее по списку каникул€рных дней мне снова светит театр, посему прощаюсь до завтрашней свежей рецензии)

ћетки: кино фильмы рецензии царь |
ѕосмотрела "ќднажды в алифорнии" |
ƒневник |

Ёксперимент с отходом ко сну раньше рассвета провалилс€ Ц € всЄ равно проспала до полудн€, зато хот€ бы увидела некое подобие сна и даже немного запомнила, чего со мной давно не случалось, а ведь грешно нарушать традицию и пренебрегать этой стороной жизни. ј запомнилось, во-первых, как мы с мамой спешно уезжали с дачи в направлении ћосквы на автомобиле, причЄм она была за рулЄм, а € р€дом, и было темно, как ночью, от обложивших небо от горизонта до горизонта массивных чернильных туч, неестественно низких и густых. јпокалиптичность пейзажа дополнил крупный ворон, пролетевший нам навстречу с гор€щим факелом в клюве Ц единственным €рким п€тном среди мрака, нарушаемого только багр€ными сполохами среди туч. ¬о врем€ одного из таких сполохов € угл€дела высоко в небе тЄмный силуэт совсем уж большой крылатой твари Ц надо полагать, дракона, но € не успела рассмотреть его как следует. ¬о-вторых, запомнилось, что мы с мамой за€вились к какой-то толстой и улыбчивой негрит€нке-туземке в относительно просторную плетЄную хижину с низким потолком, чем-то заваленную и заставленную так, что непосредственно люд€м в этом жилище оставалось немного места; мама поздоровалась с ней, видимо, на еЄ родном €зыке, € повторила, хот€ сейчас этого слова не вспомню. Ќегрит€нка развернула мен€ к себе спиной, отрезала немного волос и, кажетс€, ещЄ посмотрела на мою ладонь, но в итоге вн€тно сказала по-русски, что € скоро умру, и больше ничего € толком не запомнила Ц вот такой позитив мне, в общем, снитс€ (по сонникам, ворон и факел тоже к смерти). ƒнЄм пострадав ерундой и меланхолично послушав Ѕелую гвардию и что-то ещЄ, € после обеда вышла в сумерки, где со вчерашнего дн€ продолжало с перерывами непри€тно моросить, догнала автобус, доехала до метро, добралась до урской. Ќесложно догадатьс€, что путь мой после этого лежал по «емл€ному валу и далее до театра √огол€, где на шесть вечера в ћалом зале волею собственного вчерашнего выбора билетов мне предсто€ло смотреть спектакль Ђќднажды в алифорнииї. ѕришла рано, Ц похоже, театр √огол€ по непон€тным причинам остаЄтс€ единственным, куда € по старой привычке рано прихожу, Ц купила программку, посидела в еЄ компании, затем немногочисленную публику пригласили на второй этаж, и она зан€ла от силы половину крошечного партера. я посидела немного на своЄм законном месте где-то в последнем р€ду и немного сбоку, затем, при наличии множества свободных мест впереди, пересела в середину второго р€да у прохода, так что ничто не загораживало мне сценического пространства; к концу спектакл€, шедшего без антракта, зрителей стало ещЄ меньше Ц немало их ушло во врем€ пауз.
√ерои пьесы Ђ»стинный западї - два родных брата: успешный голливудский сценарист из Ћос-јнджелеса ќстин и вор Ћи, три мес€ца проживший посреди пустыни. ќни Ц как две стороны самого автора, —эма Ўепарда: он Ц прославленный драматург, сценарист, киноактЄр, публичный человек, и он же Ц убеждЄнный одиночка-мизантроп, разуверившийс€ в люд€х циничный наблюдатель. »м придЄтс€ не только ужитьс€ под одной крышей, но и реализовать свои потаЄнные амбиции и мечты: одному надоело быть перекати-полем и хочетс€ богатой стабильной жизни, а к тому же Ц творчески реализоватьс€ и спасти нищего спившегос€ отца, другому надоело сидеть в четырЄх стенах и хочетс€ побыть свободным как ветер брод€гой со всей сопутствующей романтикой. » они превзойдут друг друга, помен€вшись ремЄслами: вчерашний нарушитель закона сможет не только сочинить примитивный вестерн, но и заключить сверхвыгодную сделку, а вчерашний добропор€дочный гражданин Ц не только украсть тостер, но иЕубить. Ўепард жесток, открыва€ нам Ђзагадочную американскую душуї: он препарирует череп, чтобы наиболее нагл€дно показать всех тараканов, ползающих в головах его героев, готовых шагать по чьим угодно трупам ради достижени€ своих целей. Ќадежду на установление братских чувств, которую читатель или зритель с трудом выстраивает на прот€жении всей пьесы, он безжалостно разрушает, как карточный домик: нет никаких сантиментов, никакого довери€, только голый эгоистичный расчЄт и закон джунглей: либо ты, либо теб€. ItТs not a scene, itТs a goddamn arms race ©. ќднако Ћи всЄ же не настолько безнадЄжен, в нЄм есть симпатичные черты характерного дл€ штатов 80-х геро€-бунтар€, геро€-трикстера, неприспособленного к рамкам и условност€м Ц недаром именно он становитс€ жертвой: при всЄм своЄм подчЄркнутом индивидуализме, он не поддаЄтс€ повальному эскапизму прочих членов своей семьи и со страстной порывистостью неврастеника безуспешно т€нетс€ к чему-то светлому Ц он готов рыдать над судьбой ковбо€ из фильма, потер€вшего любимую лошадь, разыскивать по телефону девушку из далЄкого города и идти с матерью на выставку ѕикассо. “о, что всегда дикого хищника не приласкают, а затрав€т, Ц не его вина, как и не его вина в том, что его идеалы независимой гордой жизни его брат исказил и извратил. »грает его замечательный актЄр јлександр ћезенцев Ц эмоциональный и многогранный, непредсказуемый и убедительный, создающий живой и €ркий образ, которому невозможно не сочувствовать несмотр€ ни на что. “аким же сложным и неоднозначным, лишЄнным чЄтко определ€емой морали и границ между чЄрным и белым, получилс€ и сам спектакль, напомнивший мне Ђ¬ораї Ёдуардо де ‘илиппо в постановке ƒжигархан€на Ц каждый, кто не откажет себе в удовольствии вдуматьс€ в сюжетные и психологические перипетии, выносит своЄ собственное, уникальное мнение об этих вещах, вр€д ли оптимистичное, зато однозначно полезное дл€ формировани€ мировоззрений. ¬озможно, что от Ђ алифорнииї мен€ пропрЄт со временем, как это было и с Ђ¬оромї, а пока мне просто нужно еЄ переварить Ц и посоветовать всем тоже попробовать.
ѕосле спектакл€ € пошагала в обратный путь, доехала до родной ћолодЄги, взгромоздилась в маршрутку и вскоре была дома, чтобы неспеша приступить к сему посту и прочим попутным отвлекающим мелочам. √реет душу факт, что закончилась только одна недел€ каникул из двух Ц а кажетс€ теперь, что она т€нулась целый мес€ц, никак не меньше. «автра ждите мен€ с рецензией на Ђ÷ар€ї, ибо другого свободного от театра дн€ мне уже до субботы не выпадет, засим прощаюсь, дабы снова лечь пораньше, на сей раз прибега€ к помощи будильника.
ћетки: театр театры театр гогол€ театр имени гогол€ спектакли однажды в калифорнии однажды в калифорнии (истинный запад) истинный запад насто€щий запад рецензии сны |
ѕосмотрела "–азвод по-женски" |
ƒневник |

ƒавеча, то бишь уже нынче, комп был мною выключен за дес€ть минут до звонка отцовского будильника, который € благополучно и услышала, не успев устроитьс€ как следует под оде€лом. —перва € собралась переждать все сопутствующую его отъезду на работу возню, котора€ обычно будит мен€ в обычные дни, но стоило мне перевернутьс€ на бок, как мен€ отрубило быстро и качественно, и снова до полудн€. «а окном та€л снег, € постепенно просыпалась, страдала ерундой, слушала музыку, за завтраком вскоре пришЄл обед, а после обеда сумерки, в которые € вывалилась пораньше на свет Ѕожий и пошагала по оставшейс€ от ста€вшего снега сл€коти до автобусной остановки. ћаршрутка довезла мен€ до метро, метро Ц до јрбатской, а там € сунулась в любимую театральную кассу со знакомой продавщицей дл€ оптовой докупки билетов на гр€дущую вторую неделю осенних каникул и на оставшиес€ свободными дни декабр€. –азвернув списки покупок, € при помощи продавщицы прин€лась составл€ть максимально удачные сочетани€ своих финансов, времени и предпочтений, у мен€ за спиной то и дело выстраивалась небольша€ очередь, потом люд€м надоедало ждать и они уходили, а с продавщицей мы обмен€лись наконец именами и телефонами, чтобы она могла сообщать мне о по€влении в продажу, например, билетов на откидушки в Ћенком. ¬ итоге в туго набитом билетами конверте, перешедшим в мою собственность, оказались билеты в √огол€, ћа€ковку, Ёрмитаж, Ћуну, ѕушкинку, ћ’ј“, а свободным пока осталось только 30-е декабр€ (31-е € таки оставила дл€ приготовлений к Ќг). “еперь надо было топать в театр ћа€ковского, некогда избранный мною таким же методом комбинировани€ дл€ сегодн€шнего визита, покупать программку, подниматьс€ к партеру, любопытствовать сувенирамиЕ √де находитс€ моЄ законное место, € даже не стала смотреть, пам€ту€ только, что оно где-то в бельэтаже, а с первым звонком сразу вошла в зал и скромно устроилась на откидушке р€да этак п€того-шестого, прин€вшись изучать программку и накупленные билеты. —огнала мен€ бабка-надзирательница, за€вивша€, что € мозолю глаза администрации, котора€ на сегодн€ никому не выписывала откидных мест (нехила€ логика Ц они все свободны, поэтому занимать их нельз€), и € пересела на обычное кресло с противоположного кра€ прохода в том же р€ду, но оттуда мен€ уже попросили обладатели этих мест. “огда € переместилась в середину первого р€да, где оставалось больше всего свободных мест, да так там и осталась при том, что весь зал с небольшим партером, бельэтажем и двум€ €русами балкона забилс€ практически под зав€зкуЕ а теперь зацените степень наглости: билет у мен€ был по рекордно низкой цене Ц 50 рублей, столько же стоит программка, раньше € брала хот€ бы рублей за сто. — таким соотношением цены и качества воистину можно посмотреть всЄ, что угодно.
Ѕлагодар€ своей небезосновательной уверенности в том, что в постановке јрцибашева все спектакли хороши, € и пришла сегодн€ на Ђ–азвод по-женскиї, наде€сь на качественную комедию Ц и обломилась. Ќо ни в коем случае не виню замечательного режиссЄра: видимо, иметь в репертуаре хоть одну вещь, отвечающую запросам общественного большинства, Ц негласный закон крупных театров, с которым приходитс€ миритьс€ как с неизбежным злом. ѕьеса, лЄгша€ в основу сегодн€шней вещи из числа таковых, называетс€ просто ЂThe womenї (ЂЅабыї, грубо говор€) и написана в прошлом веке некой лер Ѕут Ћюс Ц автором модных обзоров в Vogue и светской хроники в Vanity Fair, прославившейс€ своими репортажами и драматургией настолько, что получила место в онгрессе, поработала послом —Ўј в »талии и была награждена ѕрезидентской медалью —вободы. ѕереименовали этих ЂЅабї в Ђ–азвод по-женскиї создатели постановки не зр€: бракоразводные процессы Ц сама€ распространЄнна€ тема любимых публикой спектаклей-шл€геров, и этот не стал исключением, добросовестно вставив новые имена в старый как мир шаблон жанра. ” главной героини ћэри имеетс€ полный набор стереотипных радостей жизни: дом с прислугой, ненавид€щие друг друга подруги-сплетницы, муж с любовницей, умудрЄнна€ житейским опытом мать и люб€ща€ дочь. ак только адюльтер супруга всплывает на поверхность силами сарафанного радио, закономерно происходит тот самый развод, и соперница окольцовывает освобождЄнную от семьи жертву Ц казалось бы, на этом можно ставить точку, но ведь каждый шл€гер Ц это сказка, а в сказке должны быть чЄткое разделение на плохих и хороших, хэппи-энд и очевидна€ проста€ мораль. ѕоэтому ћэри, естественно, продолжает любить своего бывшего мужа, а любовница, естественно, его не любит, а только пользуетс€ его денежными средствами и втихар€ измен€ет с чужим мужем Ц а значит, в конечном итоге справедливость торжествует и блудный супруг, так и не по€вившийс€ на сцене (равно как и прочие упоминавшиес€ мужчины), возвращаетс€ к своей первой жене. ѕричЄм торжество справедливости подготавливаетс€ интригами, заговорами и обманами, которым пришлось научитьс€ ћэри за пару лет, и эти новые навыки гор€чо приветствуютс€ остальными героин€ми и непосредственно автором пьесы: закон светской жизни оказалс€ суров, как на зоне Ц опусти другого и станешь козырем, или теб€ опуст€т и ты станешь лохом (дл€ дополнительной информации см. рецензию на Ђ¬ечер с бабуиномї). –азоблачЄнную вторую жену виновника торжества опускают с отменным цинизмом: мало того, что мужа увели (что ещЄ логично Ц нефиг было самой его уводить), так ещЄ и прилюдно оскорбили, лишили блондинистого парика и натравили жену еЄ любовника, гор€щую энтузиазмом выцарапать глаза загнанной дл€ неЄ жертве. “ака€ Ђсправедливостьї, сильно пахнуща€ деловым расчЄтом, лицемерием, завистью и предательствами, при всех своих старани€х не может вызвать во мне никаких позитивных и оптимистичных мыслей, равно как об участницах этой истории € могу выразитьс€ только вольным цитированием реплики одной из второстепенных героинь: Ђћне не жалко женщин, которые считают, что им должны приносить завтрак в постельї. ќднако пипл хавает Ђмелодраматическое шоуї с аппетитом, встреча€ бурными аплодисментами героиню, одновременно кур€щую и корм€щую младенца, и охотно сме€сь над шутками вроде Ђ√овор€т, все блондинки фригидны. Ц Ёто пропаганда брюнетокї. «рителей не смущает ни нарочита€ карикатурность всех героинь, кроме главной, ни еЄ, главной, неубедительность, ни банальность музыкального оформлени€ с пением под фанеру, ни возведени€ костюмов из ранга выразительного средства в ранг немалой составл€ющей успеха зрелища, дл€ которого сами актрисы служат средством, дефилиру€ в часто смен€ющихс€ ал€поватых нар€дах. —пасибо хоть на том, что декорации не резали глаз убожеством, как это часто бывает в подобных спектакл€х, и что действие не зат€нули настолько, чтобы € начала засыпать (хот€, может, дело в моей дислокации в первом р€ду, а будь € подальше, мне наверн€ка быстро стало бы скучно). ¬ывод: не ходите, дети, в јфрику гул€ть Ц в театре ћа€ковского есть и другие спектакли, значительно симпатичнее этого.
ѕо окончании почти трЄхчасового (включа€ антракт и аплодисменты) спектакл€ мир встретил мен€ холодным, по-летнему крупным и спорым дождЄм, сопровождающимс€ к тому же по-осеннему промозглым ветром. ќт вчерашнего снега не осталось и следа, зато налились такие лужи, что передвигатьс€ по городу предпочтительнее было бы на резиновой лодке. “еперь € дома, в тепле и сытости, с намерени€ми в кои-то веки уйти спать раньше, чем из-за горизонта покажутс€ первые лучи рассвета, а завтра, хвала (тоже Ц в кои-то веки) московскому правительству, у мен€ снова театр, а отнюдь не подготовка к учебному понедельнику (понедельник, благополучно неучебный, € оставила дл€ Ђ÷ар€ї). «асим прощаюсь до завтрашней рецензии)
ћетки: театр театры театр ма€ковского театр имени ма€ковского спектакли рецензии развод по-женски женщины the women |
ѕосмотрела "»гроков" |
ƒневник |

ƒавешнее составление театрального Ђсписка покупокї на подфартившую вторую неделю каникул раст€нулось до утра, после чего логически последовал здоровый ничем не нарушаемый сон до обеда, а затем, на той же волне энтузиазма, - пополнение аналогичного списка на декабрь. ј поскольку си€ процедура сопровождалась абсолютно бессмысленным ностальгическим перечитыванием какого-то старь€, на все остальные мои традиционные дела интернетные времени у мен€ уже не осталось Ц как-то подозрительно быстро подкатилось оно к вечеру. «ато порадовала погода Ц взамен уже почти ста€вшему старому снегу начал падать новый, крупный и живописный, достаточно густо, чтобы на рассто€нии казатьс€ сып€щимс€ потоком блЄсток, волн€щимс€ под светом фонар€. ¬ отличие от старого, едва припорошившего всЄ вокруг, он насыпалс€ вполне удовлетворительным слоем, и когда € вышла из дома в своЄ привычное врем€, во дворе этот слой был ещЄ нетронут, а ведь какое это всЄ-таки удовольствие Ц ступать по кипельной, гладкой, хруст€щей сахарной поверхности!.. ѕока € сто€ла на остановке, снег успел основательно мен€ засыпать, облепить шарф, частично засыпатьс€ за шиворот почему-то только с левой стороны, так что пришлось отр€хиватьс€, прежде чем взгромоздитьс€ в долго добиравшуюс€ маршрутку и поехать до метро. ћетро довезло мен€ до “аганской, и успевша€ напрочь позабыть дорогу € двинулась наугад, помн€ точно только то, что нужно перейти пару трасс в направлении собственно “аганки; после этого едва € сделала несколько шагов за угол, как обнаружила себ€ на улице —олженицына, котора€ также показалась мне частью маршрута. –ешив не рисковать с переулками, которыми € добиралась в прошлый раз, € тупо двинулась по пр€мой, пока не упЄрлась в роскошный храм, на который не обращала тогда внимани€ при том, что, скорее всего, проходила неподалЄку; конечно, сумерки и снегопад немало повли€ли на воспри€тие, но его зрелище € нашла чертовски красивым и п€лилась, пока кто-то не спросил у мен€ дорогу. —похватившись, € потопала дальше, и вслед за —олженицынской последовала не менее знакомо звучаща€ дл€ мен€ —таниславска€, а там Ц и заветный поворот во двор с берЄзками —тудии театрального искусства ∆еновача, чьи двери уже во второй раз открылись передо мной. ¬нутри пахло €блоками и кофе: €блоки многие ели Ц их, соблазнительно зелЄные, хруст€щие и ароматные, выложили в стекл€нных вазах на хал€ву, а кофе многие пили Ц его продавали в буфете, и € тоже не смогла не поддатьс€ искушению и встала в очередь. ƒлинный общий стол был уже весь зан€т, и € примостилась за столом поменьше в боковой нише, что на четыре персоны, и прин€лась за свою кофейную чашку, широкую и неглубокую, и за €блоко (кофе закусывают сигаретой, закусывают шоколадомЕ оказываетс€, €блоком тоже можно). офе в —“» оказалс€ не таким убойно крепким, как на ёго-западе, а понежней, но всЄ равно насыщенным и оригинальным на вкус Ц выража€сь поэтически, у этого кофе тоже была сво€ индивидуальность, и вполне интересна€. ќн пилс€ легко, и справилась € с ним быстро, а €блоко догрызла уже после первого звонка и подн€лась в партер, где сперва зан€ла своЄ место где-то в середине р€да 16-го или около того, а со вторым звонком перебежала на край второго р€да и так там и осталась никем не согнанна€, хоть зал и заполнилс€ без видимых пробелов. ак говоритс€ Ц лучшего и желать грешно.
Ќачну с недалЄких воспоминаний Ц перва€ посмотренна€ мною у ∆еновача постановка, Ђ“ри годаї, была замкнута на статичном пространстве много€русных коек, на которых лежали, сидели, сто€ли. ¬ сегодн€шних Ђ»грокахї ему аналогично пространство чЄрных столов и стульев с подсвечниками, а герои не только сид€т и сто€т, но и пьют и играют в карты. ѕоследнее в пьесе Ц во главе угла, но несмотр€ на щедрость, с которой распаковываютс€ одна за другой колоды и взлетают в воздух, рассыпа€сь по сцене, ворохи карт, несмотр€ на подлинный скрип мела понтЄра по зелЄному сукну столешницы, в этих играх не хватало захватывающего, опь€н€ющего азарта. «ато в главном герое, »харЄве (Ўибаршин), азарта было не занимать, так что любо-дорого было погл€деть вблизи: лихорадочный блеск бегающих глаз, маниакальна€ улыбка, хлестаковское хвастовство своим €кобы хладнокровиемЕ „ертовски интересный образ Ц искушЄнный мошенник, превратившийс€ из-за самоуверенности в простодушную жертву, заведомо обречЄнный проиграть более трезво оценивающим жизнь хищникам Ц проиграть от усерди€, как говаривал персонаж ещЄ одного недавно посмотренного мною спектакл€, также обыгрывающего помимо всего прочего символизм карточной игры, Ц Ђбабуинї ѕЄтр. ’ороши и другие актЄры Ц €ркие, живые, убедительные, особенно ”тешительный (¬ертков, уже радовавший мен€ в Ђ“рЄх годахї) Ц главный хищник, тонкий психолог и образцовый циник. ј оформлена истори€ неравного противосто€ни€ этих типажей со вкусом к лаконичности Ц в плюс к простоте декораций, освещение построено на контрасте свет-тьма, музыка ограничена насвистываемым игроками мотивчиком, таким смутно знакомым, но не угадывающимс€. » можно бесконечно видеть в одинаковых безукоризненных чЄрных костюмах игроков и слуг намЄки на наших современников, акул большого бизнеса из закрытых элитарных клубов-кланов, пожирающих беспечных пловцов-одиночек в своЄм тЄплом и ласковом море Ц качественно прочтЄнна€ классика остаЄтс€ качественно прочтЄнной классикой, несомненно талантлива€ молодЄжь остаЄтс€ талантливой молодЄжью. ак и в Ђ√одахї, мне упорно кажетс€, что ещЄ не обросших усами-бородами питомцам ∆еновача лучше было бы играть своих сверстников, а не умудрЄнных исчисл€ющимс€ многими дес€тилети€ми опытом мужчин, и тогда, быть может, удастс€ добавить к простому прочтению классики что-нибудь новое, своЄ. Ќо вот, после двухчасового смеха легкомысленной публики над гоголевской иронией, бюст великого мистификатора (как же не хватало его Ђфирменнойї чертовщинки этим заигравшимс€ игрокам!) повернулс€ к своим геро€м спиной, а поверженный »харЄв судорожно вцепл€етс€ в ножки игорного стола, как некогда Ћаптев Ц в пруть€ спинки кровати. ќднако, в отличие от Ћаптева, он не отча€лс€ и, возможно, даже не разочаровалс€ Ц просто обиделс€ на друзей, оказавшихс€ подлецами, на себ€, позволившего себ€ обмануть, на Ц с детским максимализмом Ц весь несправедливый свет. я тоже не разочаровалась: всЄ же стоит смотреть, получать эстетическое удовольствие, особенно тем, кто пьесы не читал или не помнит.
—пектакль закончилс€, и € в качестве сувенира подн€ла с пола одну из карт, упавших рубашкой кверху Ц оказалась бубнова€ дама. ќдна-единственна€ длиннюща€ очередь в гардероб через весь первый этаж и обратный путь по улицам, уже частично выскребанным дворниками до голого асфальта, частично засл€котевшим в знак завтрашнего потеплени€. Ќа метро до родной ћолодЄги Ц и оттуда на машине с мамой и папой в ћетро, закупатьс€ провиантом Ц не только неизменными нз тхины и хумуса, но и новой Ц с €годными джемами на пектине Ц арахисовой пастой, и соевыми шоколадными молоком и йогуртами от Alpro, которых € с весны не видала. Ѕлагодар€ привычке родителей надолго зависать в каждом отделе мы не успели отоваритьс€ до двенадцати, начала перерыва, но, благо, не все кассы простаивали по часу Ц они возобновл€ли работу по очереди от правого кра€ к левому, а нам повезло оказатьс€ ближе к первому. — трем€ сумками еды и средней величины арбузом (мо€ иде€ Ц сто лет не ела) мы покинули ћетро заполночь, конкретно € Ц с головной болью от переизбытка бытового общени€ (ну что вз€ть с начинающего мизантропа?) и тошнотой от голода (но до начала работы над рецензией € есть не начинала Ц с четырЄх дн€ до четырЄх утра без еды, не счита€ €блока и кофе, нехреново, да?). ƒома же мен€ с нетерпением подстерегала ста€ отвлекающих факторов, благодар€ которым € заканчиваю сей пост уже на рассвете и, тороп€сь отойти в царство ћорфе€, прощаюсь до завтрашней свежей рецензии)
ћетки: театр театры студи€ театрального искусства сти спектакли рецензии игроки |
ѕосмотрела "–евизора" на ёго-западе |
ƒневник |
ƒни и ночи каникул продолжают течь до неприличи€ быстро, вот и сегодн€ в который уж раз € коротала врем€ с музыкой от пробуждени€ до вечера, который неизменно обещал мне театр, и в который уж раз обламывалась в своЄм намерении выйти пораньше и пройтись от дома до метро пешком, ибо после обеда к бабушке приезжала скора€ и € едва не опоздала с выходом. ѕовезло с автобусом, быстро подошедшим к остановке, дабы доставить мен€ до метро, на котором € в третий и в последний за каникулы раз отправилась до ёго-западной. ƒошла до театра €, тем не менее, впритык, но успела до первого звонка купить программку; на сей раз моЄ место было не с краю п€того, по традиции текущего учебного года, р€да, а в середине шестого, по традиции учебного года прошлого. ѕредсто€ли два с половиной часа в полумраке уютной галЄрки, антракт с шоколадкой и, конечно же, кое-какие впечатлени€.
ак и в случае с недавней Ђ∆енитьбойї, сегодн€шнего Ђ–евизораї на ёго-западе поневоле сравниваешь с Ђ–евизоромї на ѕокровке, которого € в своЄ врем€ волею замены посмотрела ажник дважды. ѕриходитс€ признать, что на удачные режиссЄрские находки в интерпретации хрестоматийного гоголевского сюжета јрцибашев оказалс€ щедрее Ѕел€ковича: в случае с первым мне чаще доводилось сме€тьс€, тогда как сегодн€ сме€лись только присутствовавшие в зале дети среднего школьного возраста, очевидно, не читавшие самого произведени€, так чтобы все шутки классика, мною пам€тные наизусть, звучали дл€ них в новинку. ¬прочем, актЄрского оба€ни€ не занимать ни той, ни другой постановке, и ’лестаков-Ѕулдаков с ’лестаковым-Ћеушиным вполне сто€т друг друга, очаровыва€ с первого взгл€да пластикой, мимикой и интонаци€ми. Ќо если первый был действительно простодушным вралЄм, по пь€ни несущим хвастливую околесицу, то второй кажетс€ талантливым актЄром, намеренно эпатирующим публику убедительным исполнением возложенной на него роли. “ак же кардинально разн€тс€ и городничие: —ухинин с ѕокровки представил по-своему мудрого и благородного провинциального служаку старой закалки, не подозревавшего подвоха и растоптанного оным, а јфанасьев с ёго Ц хитрого и расчЄтливого чиновника нового времени (под стать его вчерашнему персонажу Ц бандиту ѕетру), который единственный сразу раскусил самозванца и, не стрем€сь разве€ть иллюзии окружающих, с интересом наблюдает за происход€щим, подыгрывает, ждЄт неизбежного разоблачени€. ќстальные герои и там, и там по достоинствам и недостаткам примерно равны, и там, и там радуют жизнеутверждающие музыкальные мотивы (сегодн€ даже ЂЅоже, цар€ храниї исполнили), и там, и там не провисает энергичный экшн, и там, и там нашлось место если не лирическим, то хот€ бы минорно-трогательным ноткам (на ёго островками уюта среди коррупционного разгула неожиданно стали ƒобчинский и Ѕобчинский). ¬ общем и целом, хоть Ђ–евизорї и не вошЄл дл€ мен€ в число образцовых спектаклей ёго-запада, нельз€ не похвалить в очередной раз ту лЄгкость и живость, которую приобретают, казалось бы, заезженные программные комедии в руках мастеров, официальной критикой упоминаемые редко и с пренебрежительными характеристиками вроде Ђпериферииї, Ђобочиныї, Ђподвалаї столичного театрального мира. ¬ывод: √огол€, и не только его, смотрим в первую очередь на ёго-западе и на ѕокровке, господа.
ѕосле спектакл€, что логично, мне оставалось только дотопать обратно до метро, доехать до родной ћолодЄги, откуда мен€ до дома подбросил папа, и настрочить сию рецензию практически без лишних проволочек. », под занавес, апдейт: новостна€ лента ой как давно не приносила настолько отрадной информации, как сегодн€: каникулы из-за всеобщей паники по поводу свин€чьего гриппа (по п€тнадцати человек в масках насчитываю каждый день, шутки ли?) продлевают ещЄ на недельку, чем € и намереваюсь воспользоватьс€ как насто€щий мань€к Ц немедленно отправл€юсь составл€ть Ђсписок покупокї по театральным репертуарам на но€брь. онечно, к насто€щему времени на многие спектакли уже наверн€ка успели раскупить дешЄвые билеты, так что вр€д ли мне удастс€ забить каждый день, как в случае с неделей ещЄ не окончившейс€, но есть ведь ещЄ кино, выставки и прочие культурные меропри€ти€, кишащие заразными людьми. ѕосему Ц радоватьс€ вам тут или плакать, спорный вопрос, конечно, Ц ежедневность моих кратких отчЄтов продлеваетс€ ещЄ на недельку тоже. ”ра, товарищи, ура. ‘еникс цуко щаслев, хот€ какой русский человек хал€ве не порадуетс€?.. *это был риторический вопрос, и вообще € уже начинаю внаглую флудить и посему лучше затыкаюсь*

ак и в случае с недавней Ђ∆енитьбойї, сегодн€шнего Ђ–евизораї на ёго-западе поневоле сравниваешь с Ђ–евизоромї на ѕокровке, которого € в своЄ врем€ волею замены посмотрела ажник дважды. ѕриходитс€ признать, что на удачные режиссЄрские находки в интерпретации хрестоматийного гоголевского сюжета јрцибашев оказалс€ щедрее Ѕел€ковича: в случае с первым мне чаще доводилось сме€тьс€, тогда как сегодн€ сме€лись только присутствовавшие в зале дети среднего школьного возраста, очевидно, не читавшие самого произведени€, так чтобы все шутки классика, мною пам€тные наизусть, звучали дл€ них в новинку. ¬прочем, актЄрского оба€ни€ не занимать ни той, ни другой постановке, и ’лестаков-Ѕулдаков с ’лестаковым-Ћеушиным вполне сто€т друг друга, очаровыва€ с первого взгл€да пластикой, мимикой и интонаци€ми. Ќо если первый был действительно простодушным вралЄм, по пь€ни несущим хвастливую околесицу, то второй кажетс€ талантливым актЄром, намеренно эпатирующим публику убедительным исполнением возложенной на него роли. “ак же кардинально разн€тс€ и городничие: —ухинин с ѕокровки представил по-своему мудрого и благородного провинциального служаку старой закалки, не подозревавшего подвоха и растоптанного оным, а јфанасьев с ёго Ц хитрого и расчЄтливого чиновника нового времени (под стать его вчерашнему персонажу Ц бандиту ѕетру), который единственный сразу раскусил самозванца и, не стрем€сь разве€ть иллюзии окружающих, с интересом наблюдает за происход€щим, подыгрывает, ждЄт неизбежного разоблачени€. ќстальные герои и там, и там по достоинствам и недостаткам примерно равны, и там, и там радуют жизнеутверждающие музыкальные мотивы (сегодн€ даже ЂЅоже, цар€ храниї исполнили), и там, и там не провисает энергичный экшн, и там, и там нашлось место если не лирическим, то хот€ бы минорно-трогательным ноткам (на ёго островками уюта среди коррупционного разгула неожиданно стали ƒобчинский и Ѕобчинский). ¬ общем и целом, хоть Ђ–евизорї и не вошЄл дл€ мен€ в число образцовых спектаклей ёго-запада, нельз€ не похвалить в очередной раз ту лЄгкость и живость, которую приобретают, казалось бы, заезженные программные комедии в руках мастеров, официальной критикой упоминаемые редко и с пренебрежительными характеристиками вроде Ђпериферииї, Ђобочиныї, Ђподвалаї столичного театрального мира. ¬ывод: √огол€, и не только его, смотрим в первую очередь на ёго-западе и на ѕокровке, господа.
ѕосле спектакл€, что логично, мне оставалось только дотопать обратно до метро, доехать до родной ћолодЄги, откуда мен€ до дома подбросил папа, и настрочить сию рецензию практически без лишних проволочек. », под занавес, апдейт: новостна€ лента ой как давно не приносила настолько отрадной информации, как сегодн€: каникулы из-за всеобщей паники по поводу свин€чьего гриппа (по п€тнадцати человек в масках насчитываю каждый день, шутки ли?) продлевают ещЄ на недельку, чем € и намереваюсь воспользоватьс€ как насто€щий мань€к Ц немедленно отправл€юсь составл€ть Ђсписок покупокї по театральным репертуарам на но€брь. онечно, к насто€щему времени на многие спектакли уже наверн€ка успели раскупить дешЄвые билеты, так что вр€д ли мне удастс€ забить каждый день, как в случае с неделей ещЄ не окончившейс€, но есть ведь ещЄ кино, выставки и прочие культурные меропри€ти€, кишащие заразными людьми. ѕосему Ц радоватьс€ вам тут или плакать, спорный вопрос, конечно, Ц ежедневность моих кратких отчЄтов продлеваетс€ ещЄ на недельку тоже. ”ра, товарищи, ура. ‘еникс цуко щаслев, хот€ какой русский человек хал€ве не порадуетс€?.. *это был риторический вопрос, и вообще € уже начинаю внаглую флудить и посему лучше затыкаюсь*

ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли ревизор рецензии |
ѕосмотрела "¬ечер с бабуином" |
ƒневник |
ћинувша€ ночь по традиции закончилась под самый рассвет, но раньше предыдущей, поэтому спала € потом не до обеда, хоть и тоже в лучших традици€х совы. —легка пЄрло весь день и прЄт до сих пор Ц видимо, такой образ жизни всЄ-таки немного действует на нервы; впрочем, внешне это никак не про€вл€лось, € по-прежнему страдала ерундой, не выключа€ музыки ни на секунду, регул€рно хвата€сь за блокнот и неторопливо попива€ изумительный ромашковый чай с корицей. ј после обеда мен€ снова понесло с торбой за плечами в промозглую действительность, где старый снег уже почти везде ста€л, а нового ещЄ не нападало, по давешнему маршруту Ц не оп€ть, а снова Ц на маршрутке до метро и на метро до старого доброго ёго. «авалившись в любимый театр, € по традиции приобрела программку, изучила еЄ в холле, с первым звонком зан€ла своЄ место с краю п€того р€да и дождалась, пока многочисленных желающих не рассад€т по всем возможным горизонтальным поверхност€м. ¬переди было не много не мало, а почти три часа сплошного удовольстви€ с антрактом Ц а по продолжительным спектакл€м и шоколадкам в антрактах € уже успела соскучитьс€.
Ћетом прошлого года на ёго-западе состо€лась премьера по современной и, как современным и полагаетс€, злободневной пьесе ћакса антора под названием Ђ¬ечер с бабуиномї. —оциально-политическа€ тема дл€ Ѕел€ковича не то чтобы в новинку, Ц вспоминаетс€ и Ђ алигулаї, и, отчасти, притчевый Ђƒраконї, - но тем не менее при€тно было видеть, что сей блест€щий режиссЄр справилс€ с канторовской разоблачительной антиутопией на отлично. —южет замечателен в своей прозрачности и простоте: богатый бандит с императорским именем ѕЄтр (јфанасьев) страдает манией величи€, фетишизмом на антиквариат и дефицитом общени€ и поэтому устраивает добровольно-принудительную игру в Ђочкої с Ђкрышуемойї им творческой интеллигенцией в подлинных костюмах XVIII века и жутковато бледном, с п€тнами рум€нца, гриме. ¬сЄ Ђпо пон€ти€мї: раз денег нет Ц на кон став€тс€ человеческие жизни, но закончитс€ всЄ, конечно же, неожиданно Ц недаром так настойчиво хоз€ин предлагает гост€м Ђимпровизироватьї. ќднако дело не в из€щной ситуации: в аристократически-блатном кругу ведутс€ разговоры о Ц ни много ни мало Ц становлении новой цивилизации, воплощением которой, по примеру Ћюдовика XIV (Ђ√осударство Ц это €!ї), искренне считает себ€ ѕЄтр, вдохновенно культивирующий Ђобщественное благої по принципу ЂчЄрные бегают, а белые играют в шахматыї. Ётот теневой диктатор и его поклонники с трогательной убеждЄнностью став€т себ€ выше Ђаборигеновї, которые Ђдолжны по жизниї спонсировать строительство бандитократии (что есть ничто иное, как демократи€, подлинна€ сущность которой в пьесе раскрываетс€ чертовски живописно) по причинам неспособности к сопротивлению пресловутому праву сильного. », казалось бы, логика на их стороне: ведь, действительно, именно бандиты определ€ют ход истории, устанавлива€ свою власть над готовой подчин€тьс€ человеческой массойЕ Ќо автор нагл€дно демонстрирует, что насто€щие варвары Ц это сами поборники философии Ђвсе равны, но некоторые равнееї (это € уже ќруэлла зацитировала, если кто не в курсе), а отнюдь не Ђаборигеныї: риторика во славу гипотетического бабуина, первым сожравшего более слабого сородича и тем самым положившего начало эволюции человека разумного, заканчиваетс€ вполне реальным ритуальным пожиранием деликатесов из плоти Ђлохаї и прочими, менее фантастичными, но не менее страшными унижени€ми. Ётот гротескный пасквиль можно было испортить напрочь нагнетанием мрачной обстановки, ненужными параллел€ми с узнаваемыми лицами эпохи дев€ностых-двухтыс€чных, дешЄвым морализаторством и Ѕог знает чем ещЄ, но у Ѕел€ковича получилась отменна€ трагикомеди€, удерживающа€ должное напр€жение и воврем€ разбавл€юща€ его аппетитным чЄрным юмором, эстетично оформленна€ и радующа€ потр€сающе эмоциональной актЄрской игрой. ƒл€ мен€ эта истори€ €вилась очередным подтверждением одной из моих любимых теорий Ц о заведомой деструктивности прогресса, неизбежно ведущего человечество к самоубийству, и косвенно Ц ещЄ одной, о тождественности специфизма шовинизму; об этом € могу писать многими страницами, но сейчас о другом. ƒл€ других эта истори€ может стать качественным и доходчивым пинком под то самое место, которое более других достойно стать символом потребленческого (чтобы не сказать непечатнее) общества Ц а такие пинки нужны всегда, посему и советую читающим сию строку ЂЅабуинаї если не посмотреть, то хот€ бы прочитать: вдруг по€витс€ на €зыке привкус человечины?..
—пектакль закончилс€, довольна€ и слегка всЄ-таки загруженна€ € отсто€ла очередь в гардероб, попрощалась с ёго ненадолго Ц до завтра, точнее, уже до сегодн€ Ц и потопала обратно до метро, доехала до родной ћолодЄги и пешком вдоль дорог добралась до дома. ѕост, как видите, зан€л у мен€ вкупе со всеми побочными отвлекающими моментами столько же времени, сколько иногда занимает вс€ мо€ ночна€ посиделка за монитором в целом, но сегодн€ бдение ещЄ продолжитс€, а с вами прощаюсь до следующей рецензии)

Ћетом прошлого года на ёго-западе состо€лась премьера по современной и, как современным и полагаетс€, злободневной пьесе ћакса антора под названием Ђ¬ечер с бабуиномї. —оциально-политическа€ тема дл€ Ѕел€ковича не то чтобы в новинку, Ц вспоминаетс€ и Ђ алигулаї, и, отчасти, притчевый Ђƒраконї, - но тем не менее при€тно было видеть, что сей блест€щий режиссЄр справилс€ с канторовской разоблачительной антиутопией на отлично. —южет замечателен в своей прозрачности и простоте: богатый бандит с императорским именем ѕЄтр (јфанасьев) страдает манией величи€, фетишизмом на антиквариат и дефицитом общени€ и поэтому устраивает добровольно-принудительную игру в Ђочкої с Ђкрышуемойї им творческой интеллигенцией в подлинных костюмах XVIII века и жутковато бледном, с п€тнами рум€нца, гриме. ¬сЄ Ђпо пон€ти€мї: раз денег нет Ц на кон став€тс€ человеческие жизни, но закончитс€ всЄ, конечно же, неожиданно Ц недаром так настойчиво хоз€ин предлагает гост€м Ђимпровизироватьї. ќднако дело не в из€щной ситуации: в аристократически-блатном кругу ведутс€ разговоры о Ц ни много ни мало Ц становлении новой цивилизации, воплощением которой, по примеру Ћюдовика XIV (Ђ√осударство Ц это €!ї), искренне считает себ€ ѕЄтр, вдохновенно культивирующий Ђобщественное благої по принципу ЂчЄрные бегают, а белые играют в шахматыї. Ётот теневой диктатор и его поклонники с трогательной убеждЄнностью став€т себ€ выше Ђаборигеновї, которые Ђдолжны по жизниї спонсировать строительство бандитократии (что есть ничто иное, как демократи€, подлинна€ сущность которой в пьесе раскрываетс€ чертовски живописно) по причинам неспособности к сопротивлению пресловутому праву сильного. », казалось бы, логика на их стороне: ведь, действительно, именно бандиты определ€ют ход истории, устанавлива€ свою власть над готовой подчин€тьс€ человеческой массойЕ Ќо автор нагл€дно демонстрирует, что насто€щие варвары Ц это сами поборники философии Ђвсе равны, но некоторые равнееї (это € уже ќруэлла зацитировала, если кто не в курсе), а отнюдь не Ђаборигеныї: риторика во славу гипотетического бабуина, первым сожравшего более слабого сородича и тем самым положившего начало эволюции человека разумного, заканчиваетс€ вполне реальным ритуальным пожиранием деликатесов из плоти Ђлохаї и прочими, менее фантастичными, но не менее страшными унижени€ми. Ётот гротескный пасквиль можно было испортить напрочь нагнетанием мрачной обстановки, ненужными параллел€ми с узнаваемыми лицами эпохи дев€ностых-двухтыс€чных, дешЄвым морализаторством и Ѕог знает чем ещЄ, но у Ѕел€ковича получилась отменна€ трагикомеди€, удерживающа€ должное напр€жение и воврем€ разбавл€юща€ его аппетитным чЄрным юмором, эстетично оформленна€ и радующа€ потр€сающе эмоциональной актЄрской игрой. ƒл€ мен€ эта истори€ €вилась очередным подтверждением одной из моих любимых теорий Ц о заведомой деструктивности прогресса, неизбежно ведущего человечество к самоубийству, и косвенно Ц ещЄ одной, о тождественности специфизма шовинизму; об этом € могу писать многими страницами, но сейчас о другом. ƒл€ других эта истори€ может стать качественным и доходчивым пинком под то самое место, которое более других достойно стать символом потребленческого (чтобы не сказать непечатнее) общества Ц а такие пинки нужны всегда, посему и советую читающим сию строку ЂЅабуинаї если не посмотреть, то хот€ бы прочитать: вдруг по€витс€ на €зыке привкус человечины?..
—пектакль закончилс€, довольна€ и слегка всЄ-таки загруженна€ € отсто€ла очередь в гардероб, попрощалась с ёго ненадолго Ц до завтра, точнее, уже до сегодн€ Ц и потопала обратно до метро, доехала до родной ћолодЄги и пешком вдоль дорог добралась до дома. ѕост, как видите, зан€л у мен€ вкупе со всеми побочными отвлекающими моментами столько же времени, сколько иногда занимает вс€ мо€ ночна€ посиделка за монитором в целом, но сегодн€ бдение ещЄ продолжитс€, а с вами прощаюсь до следующей рецензии)

ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли вечер с бабуином рецензии |
ѕосмотрела "ѕарашютиста" |
ƒневник |
¬ы когда-нибудь видели вокруг луны Ц на пор€дочном от неЄ рассто€нии кра€ми Ц золотого кольца? я увидела его сегодн€ ночью, в очередной раз подн€в глаза от монитора в окно, за которым луна, ещЄ кругла€ и пульсирующе-€рка€, медленно спускалась с зенита на уровень моего этажа. Ёто кольцо было объЄмным, светлее и прозрачнее по кра€м, темнее и плотнее в середине, внутри него луна плавала в центре молочно-белЄсого круга собственного света, а само оно не светилось, и вокруг него было обычное тЄмное небо с облаками посветлей. ќно €вно не имело отношени€ к луне, не было ею порождено, а существовало само себе и представл€ло из себ€ одно из самых красивых зрелищ, когда-либо виденных мною во сне и на€ву, так что больше оторвать от него глаз не представл€лось никакой возможности, а мурашки то и дело пробегали по всему телу. ќднако постепенно под луной скопилось большое густо-чернильное п€тно, шевел€щеес€ и видоизмен€ющеес€, и начало снизу наплывать на кольцо и пожирать его. «акрыв его, оно окружило луну и стало медленно сжимать хватку, и луна всЄ блЄкла и блЄкла, пока в п€ть утра не исчезла вовсе за п€тном, которое зат€нуло уже всЄ обозримое небо сплошной беспрогл€дной темнотой. я легла спать, немедленно отрубилась и проснулась только к полудню, вполне выспавшись, остаток дн€ до обеда скоротала за вс€кой ерундой и при этом умудрилась закопатьс€ и не осуществить первоначального замысла выйти пораньше и прогул€тьс€ до метро пешком. ƒоехав до метро, € отправилась до ёго-западной Ц открывать в любимом театре трЄхдневный марафон очередным спектаклем под названием Ђѕарашютистї; прибыла, как обычно, не поздно и не рано, приобрела программку, посидела в еЄ компании в коридоре, с первым звонком вошла в зал и со своего крайнего места в п€том р€ду прин€лась наблюдать за заполнением зала. » вот свободных кресел и ступенек не осталось, и всего на полтора часа долгожданное действо началось.
аким обычно бывает последнее желание перед —мертью? «акурить, выпить, поцеловать женуЕ а парашютист Ћацис (—анников) попросил у своей —мерти (Ѕорисова) жизнь, и та машинально оставила его на белом свете Ђна хал€вуї. Ќо ошибку нужно исправл€ть, и —мерть выходит на охоту за сорвавшейс€ добычей Ц ничего личного, просто чтобы на работе уважали. ќднако —мерть Ц не мифический монстр, а всего лишь женщина, и именно за развитием еЄ чувств к жизнелюбивому Ђклиентуї следит зритель замечательной чернушной комедии —елина. Ѕудет отменно смешно, будет по-насто€щему грустно, а главное Ц будет чертовски красиво: все спектакли ёго-запада эстетичны до максимума, но использование театра теней и заимствование кинематографических выразительных средств в этой €ркой зарисовке получились настолько удачными режиссЄрскими находками, что хочетс€ любоватьс€ снова и снова. — кажущейс€ поразительной лЄгкостью, всего лишь с помощью массовки, редко выход€щей из-за подсвеченных экранов, да ширм и вентил€торов создаЄтс€ атмосфера то свободного падени€ в воздушном пространстве, то погружЄнного в сумерки города, то залитого солнцем морского побережь€ Ц и неистребимого циничного оптимизма заодно. –адующее слух музыкальное оформление, как всегда безупречна€ актЄрска€ игра (в трио к вышеупом€нутым Ц √орбунов-ћатошин, ещЄ один харизматичный персонаж замечательного актЄра, да поразительно точные и оба€тельные Ђнародные типажиї), энергичный экшн без провисани€ Ц тоже из числа бесчисленных достоинств этой короткой, но столь при€тной по смыслу и интересной по оформлению постановки. ’очетс€ ещЄ. —мотреть Ц об€зательно: качественный юмор и актуальна€ житейска€ философи€ редко сочетаютс€ в такой аппетитной пропорции.
ѕо окончании спектакл€ € неторопливо пошагала обратно к метро, доехала до родной ћолодЄги, машинально дошла почти до самой остановки, забыв, что изначально собиралась оп€ть-таки пройтись до дома пешком, и оп€ть-таки забила, приехав на маршрутке. “еперь у мен€ впереди очередна€ ночь, полностью или частично посв€щЄнна€ дуракавал€нию, у вас Ц завтрашн€€ свежа€ рецензи€, засим не вижу смысла долее никого задерживать)

аким обычно бывает последнее желание перед —мертью? «акурить, выпить, поцеловать женуЕ а парашютист Ћацис (—анников) попросил у своей —мерти (Ѕорисова) жизнь, и та машинально оставила его на белом свете Ђна хал€вуї. Ќо ошибку нужно исправл€ть, и —мерть выходит на охоту за сорвавшейс€ добычей Ц ничего личного, просто чтобы на работе уважали. ќднако —мерть Ц не мифический монстр, а всего лишь женщина, и именно за развитием еЄ чувств к жизнелюбивому Ђклиентуї следит зритель замечательной чернушной комедии —елина. Ѕудет отменно смешно, будет по-насто€щему грустно, а главное Ц будет чертовски красиво: все спектакли ёго-запада эстетичны до максимума, но использование театра теней и заимствование кинематографических выразительных средств в этой €ркой зарисовке получились настолько удачными режиссЄрскими находками, что хочетс€ любоватьс€ снова и снова. — кажущейс€ поразительной лЄгкостью, всего лишь с помощью массовки, редко выход€щей из-за подсвеченных экранов, да ширм и вентил€торов создаЄтс€ атмосфера то свободного падени€ в воздушном пространстве, то погружЄнного в сумерки города, то залитого солнцем морского побережь€ Ц и неистребимого циничного оптимизма заодно. –адующее слух музыкальное оформление, как всегда безупречна€ актЄрска€ игра (в трио к вышеупом€нутым Ц √орбунов-ћатошин, ещЄ один харизматичный персонаж замечательного актЄра, да поразительно точные и оба€тельные Ђнародные типажиї), энергичный экшн без провисани€ Ц тоже из числа бесчисленных достоинств этой короткой, но столь при€тной по смыслу и интересной по оформлению постановки. ’очетс€ ещЄ. —мотреть Ц об€зательно: качественный юмор и актуальна€ житейска€ философи€ редко сочетаютс€ в такой аппетитной пропорции.
ѕо окончании спектакл€ € неторопливо пошагала обратно к метро, доехала до родной ћолодЄги, машинально дошла почти до самой остановки, забыв, что изначально собиралась оп€ть-таки пройтись до дома пешком, и оп€ть-таки забила, приехав на маршрутке. “еперь у мен€ впереди очередна€ ночь, полностью или частично посв€щЄнна€ дуракавал€нию, у вас Ц завтрашн€€ свежа€ рецензи€, засим не вижу смысла долее никого задерживать)

ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли парашютист рецензии луна |
ѕосмотрела "«елЄную птичку" |
ƒневник |

¬ минувшую ночь € преспокойно прободрствовала до половины п€того утра без вс€ких желаний на поспать, хоть и утром, то бишь уже практически днЄм, мне и стоило немалых усилий воли подн€ть с кровати уже давно проснувшуюс€ себ€. онечно же, € ничего не написала Ц загад не бывает богат Ц хот€ много всего переслушала и перечитала в попытках приманить вдохновение. ѕерва€ половина дн€ тоже прошла под музыку и без особых общественно полезных свершений, а после обеда по традиционной схеме € собралась, нацепила таки безвкусную стерильную пов€зку (бандана давеча, как вы€снилось, слегка покрасила мне нос и после этого во врем€ стирки ещЄ долго исходила чЄрной краской, так что лучше еЄ своим дыханием не домучивать) и пошагала к автобусной остановке, откуда на маршрутке добралась до метро. Ќа сей раз путь лежал до „еховской, где € подн€лась на поверхность на бульваре, дотопала до поворота на “верскую и встала перед выбором направлени€ Ц влево или вправо, по этой стороне дороги или по противоположной мне полагалось идти в театр ёного зрител€, € не помнила напрочь. Ќичтоже сумн€шес€ € избрала самый близкий путь Ц тупо завернуть за угол и двинутьс€ вперЄд и вперЄд, наде€сь, что где-то там мен€ ждЄт заветный ћамоновский переулок, но дес€тки метров проходили, а переулка всЄ не было. “огда в мен€ закрались сомнени€, € начала спрашивать дорогу и, к счастью, нарвалась на тЄтку, пославшую мен€ в противоположном направлении. ¬ернувшись к перекрЄстку, € спустилась в подземный переход, согласно своему излюбленному методу ориентировани€ в пространстве пошла по нему до конца, а именно Ц до другого выхода из метро, и вспомнила наконец, в какую сторону оттуда надо идти дальше. ¬ыйд€ на нужную сторону “верской, € благополучно дошла до искомого ћамоновского, воврем€ прибыла во ћ“ё« и, продемонстрировав на входе свой билет куда-то высоко и далеко, получила предложение обратитьс€ к администратору и обмен€ть его на пригласительный на место в партер по причине плохой заполненности зала. ¬озблагодарив эпидемию гриппа, всЄ-таки заставившую, видимо, некоторую часть населени€ отказатьс€ от культурной жизни (да и количество людей в масках вокруг возрастает в геометрической прогрессии день ото дн€, так что это уже напоминает всенародный флэшмоб), € так и поступила Ц мне выписали пригласительный, и € прошла в холл, провон€вший туалетом и шумный от обили€ приведЄнных на спектакль групп детей. упив программку и обозрев сувениры, € подн€лась на второй этаж, пома€чила немного там и после первого же звонка зан€ла своЄ новообретЄнное место где-то р€ду в восьмом, вскоре передвинулась поближе к серЄдке, а там и вовсе, вид€, что в заполненном преимущественно детьми зале полно свободных мест, устроилась в середине третьего р€да и там осталась.
Ѕез вс€кого на то умысла с моей стороны € за короткий срок осуществила своЄ первое знакомство с двум€ театрами Ц сначала —атириконом, а сегодн€ ћ“ё«ом Ц спектакл€ми по арло √оцци: Ђ—иним чудовищемї и Ђ«елЄной птичкойї соответственно. —равнени€ напрашиваютс€ сами собой Ц и странное дело: Ђ„удовищеї, от комедии дель арте отошедшее в цирковые степи, умудрилось сохранить дух венецианского карнавала, а Ђѕтичкаї со всеми полагающимис€ масками и обильно пересыпанна€ псевдоиталь€нской речью показалась внепространственной и вневременной. » это скорее плохо, нежели хорошо Ц с гротескной вычурностью костюмов резко контрастируют пустота вместо декораций, безыскусность реквизита, отсутствие спецэффектов, обидна€ банальность светового и музыкального оформлени€. ¬тора€ странность Ц Ђ„удовищеї было во многих эпизодах отменно забавным, однако сохранило весь наличествующий в произведении смысл, тогда как Ђѕтичкаї на удачные шутки поскупилась, а всю философию, лирику и драматизм упростила до пафоса и морализаторства. Ѕыть может, дело в актЄрской игре Ц чувствуетс€ мастерство актЄров к перевоплощению, но чрезмерно детский настрой постановки вынуждает их переигрывать, превраща€ живых персонажей в типизированных клоунов с новогодней Єлки. ¬ызывают недоумение и попытки пропеть отдельные части текста, особенно финальна€ песн€ под фанеру, и выбор женщины, а не мужчины на роль корол€ Ц «елЄной птички, влюблЄнного в одну из главных героинь, Ѕарбарину (вр€д ли это обуславливаетс€ тем, что в конечном итоге из них получилась вполне эстетично смотр€ща€с€ пара), и Ц при общей детскости Ц промельк нижепо€сного юмора, и мозол€щие взгл€д слуги просцениума в чЄрном. Ќо спасибо на том, что заскучать не пришлось Ц € увидела лЄгкую, обречЄнную на всеобщий хэппи-энд сказку дл€ аудитории младшего школьного возраста, не провисающую в сюжете, но и не вызывающую €рких эмоций и впечатлений (несколько примир€ет с этим только не по-гоцциевски трогательный, семейственно-уютный финал со всеобщим сн€тием масок Ц человеческие лица, как-никак, симпатичнее будут). —оветую как при€тное зрелище дл€ разового просмотра в цел€х отдыха от более серьЄзных вещей.
—пектакль закончилс€ спуст€ примерно два с половиной часа, порадовав мен€ антрактом, в котором € смогла наконец съесть шоколадку. ѕо его окончании € дотопала обратно до перехода, вошла из него на территорию –ейха и, добравшись до „еховской, поехала до родной ћолодЄги, откуда папа снова доставил мен€ домой. » вот Ц пост в рамках совмещени€ при€тного с полезным дописан, остальное при€тное остаЄтс€ на ночь, следующее полезное можете ждать уже завтра примерно в то же врем€, после моего очередного каникульного визита в театр. ƒоброй ночи всем)
ћетки: театр театры театр юного зрител€ московский театр юного зрител€ тюз мтюз спектакли рецензии зелена€ птичка зелЄна€ птичка |
ѕосмотрела "∆енитьбу" на ёго-западе |
ƒневник |
ƒавеча мен€ начало вырубать ещЄ до полуночи, посему € уползла спать сразу же, как только дописала рецензию, не задержива€сь долее ни на минуту. ¬ыспавшись, € первую половину сегодн€шнего дн€ скоротала с музыкой, чужими и собственными стихами, флудом и прочими разновидност€ми блаженного бездель€, пока не заметила по окончании обеда, что пора уже снар€жатьс€ в путь-дорогу. Ѕандана продолжила выполн€ть функции стерильной маски Ц мама только радуетс€, что она мне идЄт, а мен€ радует, как в общественных местах люди громко обсуждают мен€ при мне, словно пов€зка закрывает мне не только рот и нос, но и уши. Ќа маршрутке добравшись до метро, а на метро Ц до ёго-западной, € первым делом направилась к тому самому киоску, где с лета искушал мен€ один из выпусков журнала Ђјвтолегенды ———–ї с моделью чЄрной „айки Ц теперь у мен€ была часть подаренной мне на др суммы, и €, не запомнив цену, сунула тыс€чу, вз€ла сдачу и заграбастала под мышку заветную упаковку и пошагала под снегопадом к театру. Ќа ё« уже было многолюдно, и не успела € купить программку и помыть руки в надежде на антракт с возможностью съесть шоколадку, как в зал начали пускать, и € устроилась на ставшем привычным месте на краю п€того р€да, успев напугать какую-то девушку, поинтересовавшуюс€, не грипп ли часом у мен€; € ответила отрицательно, хот€ был соблазн сказать Ђдаї и остатьс€ на р€ду в одиночестве. Ќо вот многочисленные зрители расселись, и без вс€ких антрактов началась Ђ∆енитьбаї - та сама€, гоголевска€, но и в не меньшей степени ёго-западна€.
√лавна€ Ђзаманухаї спектакл€ Ц конечно же, то, что актрис в нЄм нет, одни актЄры: возвод€ здесь в абсолют общеизвестную ёго-западную Ђбрутальностьї и иронизиру€ над ней, режиссЄр обе женские роли, сваху и непосредственно невесту, отдал мужчинам. Ќо отнюдь не на этой хохме строитс€ юмор комедии Ц переигрывать и скатыватьс€ в вульгарность они не собираютс€ и потому смотр€тс€ настолько естественно и органично, словно именно так всЄ должно было быть. —меЄшьс€ не над этим, смеЄшьс€ над всеми козыр€ми труппы Ц пластикой и жестами, мимикой и интонаци€ми, так что нет никакой необходимости переиначивать оригинальный гоголевский текст Ц каждый эпизод и кажда€ реплика по-насто€щему смешны вне зависимости от того, сколько раз ты их уже читал и слышал. ѕолучилось фонтанирующее удачными находками и пестр€щее чертовски симпатичными персонажами весЄлое и праздничное зрелище под узнаваемые мотивы, не стрем€щеес€, в отличие от Ђ∆енитьбыї, некогда виденной мною на ѕокровке, к хронологическому национальному колориту, лирике и философии. Ёто просто комеди€ Ц зато, что сейчас редкость, комеди€ качественна€, по-насто€щему зар€жающа€ позитивными эмоци€ми. ƒа и ради одного только дуэта ћатошин ( очкарЄв) Ц Ћеушин (ѕодколесин) стоит еЄ смотреть Ц эта парочка, как всегда, великолепно сочетаетс€, дополн€€ и оттен€€ друг друга. ¬сЄ хорошо Ц только, во-первых, мало и хочетс€ ещЄ, а во-вторых Ц хвалить всегда сложнее, чем ругать, так что сами лучше всЄ увидите.

ѕосле спектакл€, несмотр€ на то, что поржала € как следует, роскошные крупные снежинки, плавно опускающиес€ откуда-то с начавшей убывать луны (—амхейн выпал в этом году на полнолуние Ц гражданки девственницы, если таковые присутствуют, не пыталс€ ли кто вызвать ƒикую ќхоту?), снова настроили мен€ на лирический лад. ѕодремав в метро, € доехала до родной ћолодЄги, пополнила запасы продовольстви€ (услышали боги мои молитвы Ц в “рамплине пакеты теперь платные, может, люди больше не будут набирать их по нескольку штук без особой надобности), и там мен€ встретил папа и довЄз до дома. ƒома € распаковала свою покупку - первый материальный (в смысле, что спектакли не считаютс€) мой подарок себе на др; „айка оказалась без подставки, с крут€щимис€ колЄсами, как обычна€ машинка, но главное, что красива€. —ейчас, с грехом пополам добив коротенький маловразумительный пост ввиду отвлекающих факторов, € собираюсь провести эту ночь более продуктивно, нежели предыдущую Ц дл€ этого у мен€ есть Ќаше радио и много мандаринов Ц так что завтра утром, возможно, выложу законченный стих. ј даже если и нет Ц вечером aka ночью вас снова будет ждать рецензи€)

√лавна€ Ђзаманухаї спектакл€ Ц конечно же, то, что актрис в нЄм нет, одни актЄры: возвод€ здесь в абсолют общеизвестную ёго-западную Ђбрутальностьї и иронизиру€ над ней, режиссЄр обе женские роли, сваху и непосредственно невесту, отдал мужчинам. Ќо отнюдь не на этой хохме строитс€ юмор комедии Ц переигрывать и скатыватьс€ в вульгарность они не собираютс€ и потому смотр€тс€ настолько естественно и органично, словно именно так всЄ должно было быть. —меЄшьс€ не над этим, смеЄшьс€ над всеми козыр€ми труппы Ц пластикой и жестами, мимикой и интонаци€ми, так что нет никакой необходимости переиначивать оригинальный гоголевский текст Ц каждый эпизод и кажда€ реплика по-насто€щему смешны вне зависимости от того, сколько раз ты их уже читал и слышал. ѕолучилось фонтанирующее удачными находками и пестр€щее чертовски симпатичными персонажами весЄлое и праздничное зрелище под узнаваемые мотивы, не стрем€щеес€, в отличие от Ђ∆енитьбыї, некогда виденной мною на ѕокровке, к хронологическому национальному колориту, лирике и философии. Ёто просто комеди€ Ц зато, что сейчас редкость, комеди€ качественна€, по-насто€щему зар€жающа€ позитивными эмоци€ми. ƒа и ради одного только дуэта ћатошин ( очкарЄв) Ц Ћеушин (ѕодколесин) стоит еЄ смотреть Ц эта парочка, как всегда, великолепно сочетаетс€, дополн€€ и оттен€€ друг друга. ¬сЄ хорошо Ц только, во-первых, мало и хочетс€ ещЄ, а во-вторых Ц хвалить всегда сложнее, чем ругать, так что сами лучше всЄ увидите.

ѕосле спектакл€, несмотр€ на то, что поржала € как следует, роскошные крупные снежинки, плавно опускающиес€ откуда-то с начавшей убывать луны (—амхейн выпал в этом году на полнолуние Ц гражданки девственницы, если таковые присутствуют, не пыталс€ ли кто вызвать ƒикую ќхоту?), снова настроили мен€ на лирический лад. ѕодремав в метро, € доехала до родной ћолодЄги, пополнила запасы продовольстви€ (услышали боги мои молитвы Ц в “рамплине пакеты теперь платные, может, люди больше не будут набирать их по нескольку штук без особой надобности), и там мен€ встретил папа и довЄз до дома. ƒома € распаковала свою покупку - первый материальный (в смысле, что спектакли не считаютс€) мой подарок себе на др; „айка оказалась без подставки, с крут€щимис€ колЄсами, как обычна€ машинка, но главное, что красива€. —ейчас, с грехом пополам добив коротенький маловразумительный пост ввиду отвлекающих факторов, € собираюсь провести эту ночь более продуктивно, нежели предыдущую Ц дл€ этого у мен€ есть Ќаше радио и много мандаринов Ц так что завтра утром, возможно, выложу законченный стих. ј даже если и нет Ц вечером aka ночью вас снова будет ждать рецензи€)

ћетки: рецензии театры театр спектакли женитьба театр на юго-западе машинки миниатюры чайка |
ѕосмотрела "‘едру" |
ƒневник |
¬ ночь на понедельник € уползла спать только в районе половины п€того, поскольку будильник был заведЄн на достаточно гуманное врем€ Ц в школу € ехала исключительно на последнюю третью-четвЄртую пару, писать школьную олимпиаду по литературе. огда € нашла кабинет, меропри€тие уже было в самом разгаре; мне выдали распечатки с заданием, тетрадка на сей раз была у мен€ с собой, и € включилась в работу. «адание просило проанализировать поэтический или прозаический кусок, но дан нам был только последний в лице рассказа Ўукшина, по которому € накатала короткое злое эссе Ц вр€д ли то, что от мен€ требовалось, но на большее мен€ не хватило. ¬ечером того же дн€ € вычитала на сайте ёго-запада Ц Ђсегодн€ началась продажа билетовї. ќбычно они пишут Ђзавтраї, а на сей раз € была застигнута врасплох, ехать за билетами маме пришлось во вторник, и на декабрь был куплен только один билет Ц на —амоубийцу, а на ¬стречу с песней ничего дешЄвого уже не оставалось. ¬о вторник в лицее с прошедшим др мен€ поздравила јсЄна, подарив как Ђчеловеку с твЄрдой религиозной и гражданской позициейї (спорное определение, конечно) весьма неожиданную книжку Ц составленный ”лицкой сборник историй о волонтЄрах, помогающих больным дет€м Ц преимущественно св€щенниках, ибо корни описываемого волонтЄрства наход€тс€ в небезызвестной добровольческой группе о. ћен€ (вечером книжка, как опиум дл€ народа, была конфискована роднЄй, надеюсь снова когда-нибудь еЄ увидеть, ибо интересно ж). ƒо конца лицейских пар мы с јсей не досидели Ц у неЄ спонтанно возникло желание пробить последнюю пару социологии, € охотно присоединилась (мы вроде за весь текущий учебный год ещЄ ни разу прежде социологию не пробивали), и сначала стаскались в монастырскую трапезную забрать мои сапоги в пакете, которые € там забыла во врем€ обеденного перерыва, а потом минут на 15 дали кругал€ по окрестност€м. —реда не была ничем особо примечательна, не счита€ того, что в ночь на четверг € вырубила комп только в пафосное врем€ 3.33, зато начала писать новый стих (да, тот, что про ћаленького принца, временно отложен). Ќочь на п€тницу порадовала первым снегом Ц сначала € любовалась луной, котора€ изредка просвечивала среди быстро несущихс€ облаков, как будто тлела в клуб€щемс€ дыму, то разгора€сь €рче, то постепенно затуха€. » вдруг, в очередной раз подн€в глаза на окно, € увидела колышущийс€ белый покров, накрывший улицу внизу и оседающий белизной на траве и листь€х, почти полностью уже голых деревь€х, асфальте, автомобил€х. ќблака остановились, и луна си€ла золотой монетой точно напротив окна, и лишь изредка мимо неЄ проносились какие-то чЄрные лоскуть€. — переменной густотой снег шЄл, пока € не ушла спать примерно на час раньше, чем прошлой ночью; вчера в школу € сходила только на алгебру и школьную олимпиаду по инглишу, о которой нас заранее не предупреждали, а французского не было по причине сокращЄнного дн€ Ц последнего перед каникулами. »значально € хотела п€тничным вечером сходить в кино, но никаких подход€щих сеансов в подход€щие кинотеатры на подход€щие фильмы афиша мне не предложила, и € забила и профлудила почти до четырЄх утра сегодн€шнего дн€ в своЄ удовольствие. —нег же порошил и вчера днЄм, и сегодн€, подтаива€ в промежутках, причЄм сегодн€ он уже был по-зимнему крупным, густым и красивым, и очень при€тно под него было слушать Ќаше, писать черновики и пытатьс€ жонглировать €блоками. ѕосле обеда пора было вскоре уходить; мама насто€ла на пов€зке против гриппа, и €, дабы не нап€ливать скучную медицинскую, вспомнила, что у мен€ с прошлого дн€ рождени€ лежит подаренна€ ƒенисом чЄрна€ бандана в красные значки анархии и белые надписи, глас€щие, что она, родима€, Ц мать пор€дка. Ёта бандана, ещЄ ни разу прежде не надета€, то бишь практически стерильна€, и закрыла моЄ лицо по самую середину переносицы, а оказавшиес€ в карманах извлечЄнного из шкафа пальто пролежавшие там с прошлого же сезона старые беспальцовки с дырищей во всю левую ладонь да верный алисовский шарф дополнили образ существа, собирающегос€ не в театр, а на несанкционированный митинг (вы думаете, € в театре бандану сн€ла? ј вот и нет, не дл€ того зав€зывала Ц сн€ла только, вернувшись домой). ѕуга€ некоторых встречных, € отправилась на маршрутке до метро, а на метро до јрбатской, откуда пошагала по бульварам до театра имени ѕушкина; дошагала рано и минут дес€ть изображала почЄтный караул перед входом в забитый людьми предбанник с кассой, пока в театр не начали пускать. ћимо какого-то деда, громко проворчавшего мне в спину, что Ђбольные должны сидеть домаї, € влилась в холл с потоком народа, приобрела программку и свежий номер журнала Ђ“еатралї, забила на своЄ место где-то в ложе не то бельэтажа, не то балкона (читай Ц в жопе мира) и устроилась поближе ко входу в партер. Ќачал заполн€тьс€ он медленно, однако же верно Ц спектакль задерживали уже минут на дес€ть, а народ всЄ т€нулс€ и т€нулс€, и при моих попытках зан€ть свободное местечко в пределах первых шести р€дов мен€ сгон€ли раз п€ть, пока, наконец, € не оказалась где-то чуть дальше запланированного и с самого кра€ у стены, однако всЄ равно достаточно близко, чтобы бинокль не был нужен. —мотреть же и слышать из почти битком забившегос€ кашл€ющего зала предсто€ло премьеру, сделанную совместно с французским театром Le Phenix в рамках „еховского международного театрального фестивал€.
”бедитьс€, что в античной мифологии есть множество трагедий не хуже шекспировских, можно, лишь прочитав незаконченную трилогию ÷ветаевой, в частности Ц поставленную в ѕушкинке и сыгранную сегодн€ Ђ‘едруї. “радиционные элементы Ц наследственные прокл€ти€, интриги мстительных богов, запретна€ любовь Ц облечены в чЄткие рваные ритмы, в псевдоустаревшие вычурные эпитеты. ’отелось, после символистской Ђ÷арицы “амарыї, увидеть на сцене антураж или ƒревней √реции, или —еребр€ного века, а лучше Ц и того и другого, а вместо этого, в лучших традици€х современного европейского театра, € получила груду досок да неизбежный видеозадник. —ложный текст молодЄжью читаетс€ натужной скороговоркой, не порадовала даже исполнительница главной роли Ц де-юре французска€ актриса “ать€на —тепанченко, частенько переигрывавша€, казавша€с€ то чрезмерно вульгарной, то слишком экзальтированной. ” еЄ партнЄра-»пполита, јлексе€ ‘рандетти, наблюдалась друга€ крайность Ц обидна€, при при€тной внешности, скованность и дерев€нность. «ато неожиданно при€тно было видеть Ђветерановї - кормилицу-¬еру јлентову, “езе€-јндре€ «аводюка и —лугу-јндре€ “ерехина: декламируют мастерски, играют с душой, задава€ эмоциональный тон всему спектаклю и напрочь затмева€ всех остальных живой и искренней подачей персонажей. Ќо сильного отклика спектакль не находит всЄ равно Ц слушать и иногда смотреть при€тно, однако сочувстви€ ни к ‘едре, полюбившей своего пасынка и отвергнутого им, ни к »пполиту, предводителю охотников јртемиды и гордому женоненавистнику, павшему жертвой клеветы, не возникает, и сочувствием к геро€м второстепенным это не искупаетс€. Ќеужели и вправду цветаевска€ пьеса, согласно еЄ собственным заверени€м, создана не дл€ сцены Ц со всеми своими длинными монологами, минимумом событий, неразвивающимис€ характерами?.. ’очетс€ верить, что нет Ц ведь такие притчи, как Ђ÷арь Ёдипї и Ђјнтигонаї, вполне сценичны. ѕоэтому Ц смотрим, что уже есть, и надеемс€ на то, что ещЄ будет сделано на поприще освоени€ русским театром наследи€ поэтического символизма.
ѕосле спектакл€ € тем же маршрутом дотопала обратно до метро; на подступах к јрбату было уже вполне заметно, что народ праздновал и празднует ’эллоуин. ј ныне, уже добравшись на метро и маршрутке до дома и закончив пост при всех отвлекающих факторах, € поздравл€ю всех с этим симпатичным праздником Ц —амайном aka днЄм ¬сех —в€тых и тороплюсь уползти баиньки, ибо хочетс€. Ќа этом можно считать осенние каникулы торжественно открытыми Ц теперь до самого их конца у мен€ будет театр каждый Ѕожий вечер, плюс про кино забывать не следует, посему прощаюсь до завтра)

”бедитьс€, что в античной мифологии есть множество трагедий не хуже шекспировских, можно, лишь прочитав незаконченную трилогию ÷ветаевой, в частности Ц поставленную в ѕушкинке и сыгранную сегодн€ Ђ‘едруї. “радиционные элементы Ц наследственные прокл€ти€, интриги мстительных богов, запретна€ любовь Ц облечены в чЄткие рваные ритмы, в псевдоустаревшие вычурные эпитеты. ’отелось, после символистской Ђ÷арицы “амарыї, увидеть на сцене антураж или ƒревней √реции, или —еребр€ного века, а лучше Ц и того и другого, а вместо этого, в лучших традици€х современного европейского театра, € получила груду досок да неизбежный видеозадник. —ложный текст молодЄжью читаетс€ натужной скороговоркой, не порадовала даже исполнительница главной роли Ц де-юре французска€ актриса “ать€на —тепанченко, частенько переигрывавша€, казавша€с€ то чрезмерно вульгарной, то слишком экзальтированной. ” еЄ партнЄра-»пполита, јлексе€ ‘рандетти, наблюдалась друга€ крайность Ц обидна€, при при€тной внешности, скованность и дерев€нность. «ато неожиданно при€тно было видеть Ђветерановї - кормилицу-¬еру јлентову, “езе€-јндре€ «аводюка и —лугу-јндре€ “ерехина: декламируют мастерски, играют с душой, задава€ эмоциональный тон всему спектаклю и напрочь затмева€ всех остальных живой и искренней подачей персонажей. Ќо сильного отклика спектакль не находит всЄ равно Ц слушать и иногда смотреть при€тно, однако сочувстви€ ни к ‘едре, полюбившей своего пасынка и отвергнутого им, ни к »пполиту, предводителю охотников јртемиды и гордому женоненавистнику, павшему жертвой клеветы, не возникает, и сочувствием к геро€м второстепенным это не искупаетс€. Ќеужели и вправду цветаевска€ пьеса, согласно еЄ собственным заверени€м, создана не дл€ сцены Ц со всеми своими длинными монологами, минимумом событий, неразвивающимис€ характерами?.. ’очетс€ верить, что нет Ц ведь такие притчи, как Ђ÷арь Ёдипї и Ђјнтигонаї, вполне сценичны. ѕоэтому Ц смотрим, что уже есть, и надеемс€ на то, что ещЄ будет сделано на поприще освоени€ русским театром наследи€ поэтического символизма.
ѕосле спектакл€ € тем же маршрутом дотопала обратно до метро; на подступах к јрбату было уже вполне заметно, что народ праздновал и празднует ’эллоуин. ј ныне, уже добравшись на метро и маршрутке до дома и закончив пост при всех отвлекающих факторах, € поздравл€ю всех с этим симпатичным праздником Ц —амайном aka днЄм ¬сех —в€тых и тороплюсь уползти баиньки, ибо хочетс€. Ќа этом можно считать осенние каникулы торжественно открытыми Ц теперь до самого их конца у мен€ будет театр каждый Ѕожий вечер, плюс про кино забывать не следует, посему прощаюсь до завтра)

ћетки: театр театры театр пушкина театр имени пушкина спектакли рецензии федра театр le phenix театр феникс снег |
ѕосмотрела "—инее „удовище" |
ƒневник |
¬черашнее моЄ бдение перед монитором преспокойно продолжалось до половины шестого утра, причЄм без каких бы то ни было общественно полезных зан€тий и даже практически без музыки, ибо только под финал €, чтобы не заснуть, врубила “анк€на в ушах. ѕроснулась € вроде не поздно, но вставать было адски влом, казалось Ц так бы и провал€лась до самого вечера, так что выпинала € себ€ из-под оде€ла уже в районе полудн€. ѕострадав ерундой под Ќаше, снова так и не заставив себ€ осуществить ничего нужного, после обеда € начала постепенно собиратьс€ в путь-дорогу Ц и тут надо рассказать предысторию этого третьего подарка на мой прошедший день рождени€, поскольку на сей раз € решила не колотьс€ до последнего. ј заключаетс€ она в том, что как-то раз на минувшей неделе мне позвонила ћарус€ и предложила в воскресенье, то бишь сегодн€, сходить с ней нахал€ву в театр Ц слышно еЄ было крайне плохо, и мне показалось, что на расавицу и „удовище. я подумала, что, скорее всего, мне не разрешат пойти, потому что в понедельник мне в школу, однако в честь праздника мне разрешили; позже вы€снилось, что € не расслышала и что поход ожидаетс€ не на вышеупом€нутый небезызвестный мюзикл, а в —атирикон на —инее „удовище, и что моей маме тоже крайне приспичило присоединитьс€ Ц не потому, что ей так хотелось посмотреть спектакль, а скорее потому, что она не могла не вз€ть пример с остальных родительниц, которые были на предыдущем нашем с ћарусей культпоходе со своими дочерьми. ћаниакальное желание соответствовать общественному пор€дку вещей стоило ей заказанного по телефону билету на спектакль аж за 500 рублей Ц мен€ чуть жаба не придушила, хоть деньги и не мои, да и от маминой компании € по возможности никогда не откажусь; ещЄ позже вы€снилось, что прежней компании не будет, а будут только собственно ћарус€ и мы, но было уже поздно пить боржоми. ѕоскольку нам с ћарусей надо было получать пригласительные, а моей маме Ц выкупать билет за час до спектакл€, решено было встретитьс€ в половине шестого, а поскольку в —атириконе прежде была только €, руководствоватьс€ € собиралась тем же добираловом, что и тогда. онечно же, мы с мамой немного закопались дома, долго поджидали маршрутку на остановке и в итоге опоздали к месту встречи, платформе станции –ижской, минут на 7-10, и ћарус€ уже пребывала там на одной из не сразу заметных скамеечек. ѕри встрече мне было возвращено ћетро 2034 в подклеенном виде, ибо у ћаруси, видимо, и так разваливавша€с€ книжка попыталась развалитьс€ окончательно, и была вручена классна€ Ђоткрыткаї - мой Ђпотретї в качестве геро€ —аус ѕарка, составленный на специальном сайте и распечатанный: жизнерадостное существо с каштановыми волосами, красной футболке в чЄрный горошек (принтер сделал еЄ розовой), вис€щими на шее ожерельем с какими-то клыками и фотоаппаратом, в шипастых браслетах и с бутылкой в одной лапе, а друга€ лапа изображала букву V. Ђоткрыткеї прилагалс€ подарок Ц в небольшой сумочке покоились потр€сающе ароматные дерев€нные чЄтки, замечательный дерев€нный браслет и дерев€нна€ же заколка дл€ волос с лакированным цветочком, временно неактуальна€, равно как и хвост у моего сауспарковского альтер эго, ввиду моей новой короткой стрижки, о которой ћарус€ не была осведомлена. ѕодхватив всЄ это богатство, € потащила своих спутников на поверхность, где благополучно сориентировалась на местности и дотопала до подземного перехода, перешла по нему на противоположную сторону дороги и добралась до автобусной остановки, выужива€ из кошелька бумажку с выписанными номерами нужного общественного транспорта. ѕодход€щих маршруток или автобусов поблизости не оказалось, зато на нас вышло ещЄ несколько человек, держащих путь в —атирикон; эти славные люди и выступили инициаторами того, что мы бросились к первому подъехавшему троллейбусу, вы€снили, что он, хоть и не значитс€ в моЄм списке, следует до кинотеатра √авана, и уселись в него. ѕо приезду € снова, что удивительно, вспомнила маршрут, и мы, обогнав других €вно направл€ющихс€ в театр, по какой-то там по счЄту улице ћарьиной рощи дошли до пам€тной стройки, коридор сбоку от которой был сегодн€, осенним вечером, особенно антуражен своей темнотой и который вывел нас к —атирикону. ¬ театр ещЄ не пускали, но первым делом нам нужна была администраци€, и тут уже свои телефонные переговоры припомнила мо€ мама и повела нас за угол, по направлению к ћалой сцене, пока мы не обнаружили вход в кассу, где попутно располагалось окошко администрации, к которому т€нулась длинна€ очередь. ¬ы€снилось, что нам с ћарусей как раз туда, а моей маме Ц дальше, и мы временно расстались; очередь подошла быстро, ћарус€ сунула в окошко своЄ рекомендательное письмо в виде нескольких слов на клочке бумаги, и нам выписали пригласительный на двоих без мест, а стоило нам снова выйти на свет Ѕожий, как мо€ мама как раз вырулила из-за угла со своим билетом. ћожно было за€вл€тьс€ в театр, сдавать манатки в гардероб, покупать аж за 70 рублей программку и по разным углам Ц мама в районе буфета, мы с ћарусей напротив входа в зал Ц ещЄ добрые полчаса дожидатьс€ первого звонка. ¬ болтовне о том Ц о сЄм врем€ пролетело незаметно, звонок прозвучал неожиданно, и когда мы с ћарусей с потоком публики вошли в зал, приставные стуль€ сбоку от р€дов по одну сторону прохода, предназначенные дл€ приглашЄнных вроде нас, были уже все зан€ты, и € предложила устроитьс€ с краю шестого р€да, отрекомендованного мне ћарусей как самый незанимаемый. —о вторым звонком € ничтоже сумн€шес€ подбила ћарусю на попытку перемещени€ поближе к сцене и к серЄдке, мы устроились р€ду в четвЄртом, нас согнали, мы пересели оп€ть, это повторилось ещЄ раза два, и наконец свободные места остались только с дальнего от сцены кра€ седьмого р€да Ц но и оттуда сцена была видна замечательно.
азалось бы, пьеса XVIII века, написанна€ арло √оцци, автором Ђ“равиатыї, дл€ представлений дель арте на венецианских карнавалах должна быть проста и предсказуема, как лубочна€ картинка. Ќо в —атириконе из гротескной истории с Ђэкзотическимиї китайцами, грузинами и неграми, с прокл€ти€ми, перевоплощени€ми и подвигами выжали все возможные средства выразительности, превратив сцену в цирковую арену, а актЄрскую игру Ц в торжество пантомимы, акробатики и клоунады. ѕредельна€ эмоциональность исполнени€ ролей заставл€ет пафос реплик не резать слух, а способствовать созданию то ироничной, то лирической, то драматичной атмосферы, а неожиданные режиссЄрские находки делают юмор по-насто€щему смешным Ц и вот перед нами уже подлинна€ трагикомеди€-фарс, красива€ легенда, а не поучительна€ сказка об образцовых любви и верности, преодолевающих любые испытани€ судьбы. ‘инальный штрих в антураж тайны, опасности и страсти вносит оформление Ц €ркие костюмы, громкий фон€щий шквал звука, режущие глаз вспышки света, клубы сценического дыма, отсветы от бликующей поверхности воды и, конечно же, впечатл€ющие спецэффекты Ц чего стоит одно только оглушительное по€вление огромной многоголовой гидры с мордами-камерами на подвижных ше€х, от которого подпрыгнуло пол-зала, и пиротехника с фейерверками и конфетти под занавес! ќдно удовольствие наблюдать за актЄрами, которых всЄ это щедрое шоу не затмевает, а только подчЄркивает: самоотдача, искренность, энергичность Ц всЄ при них. ѕотр€сающе пластичен —инее чудовище Ц “аэр (Ћомкин), предельно пронзительна ƒардане (—пивак), загл€дение Ц харизматичнейший дед ѕанталоне (ќсипов), в чьЄм невербальном пересказе все событи€ приобретают чертовски аппетитный пикантный привкус. ¬ывод: сюжет недостаточно серьЄзен, чтобы цепл€ть сильно и надолго, зато качественное, эстетичное зрелище оставл€ет исключительно при€тное и позитивное ощущение праздника Ц а праздник, особенно со смыслом, в нашей жизни необходим. ≈щЄ чуть-чуть

азалось бы, пьеса XVIII века, написанна€ арло √оцци, автором Ђ“равиатыї, дл€ представлений дель арте на венецианских карнавалах должна быть проста и предсказуема, как лубочна€ картинка. Ќо в —атириконе из гротескной истории с Ђэкзотическимиї китайцами, грузинами и неграми, с прокл€ти€ми, перевоплощени€ми и подвигами выжали все возможные средства выразительности, превратив сцену в цирковую арену, а актЄрскую игру Ц в торжество пантомимы, акробатики и клоунады. ѕредельна€ эмоциональность исполнени€ ролей заставл€ет пафос реплик не резать слух, а способствовать созданию то ироничной, то лирической, то драматичной атмосферы, а неожиданные режиссЄрские находки делают юмор по-насто€щему смешным Ц и вот перед нами уже подлинна€ трагикомеди€-фарс, красива€ легенда, а не поучительна€ сказка об образцовых любви и верности, преодолевающих любые испытани€ судьбы. ‘инальный штрих в антураж тайны, опасности и страсти вносит оформление Ц €ркие костюмы, громкий фон€щий шквал звука, режущие глаз вспышки света, клубы сценического дыма, отсветы от бликующей поверхности воды и, конечно же, впечатл€ющие спецэффекты Ц чего стоит одно только оглушительное по€вление огромной многоголовой гидры с мордами-камерами на подвижных ше€х, от которого подпрыгнуло пол-зала, и пиротехника с фейерверками и конфетти под занавес! ќдно удовольствие наблюдать за актЄрами, которых всЄ это щедрое шоу не затмевает, а только подчЄркивает: самоотдача, искренность, энергичность Ц всЄ при них. ѕотр€сающе пластичен —инее чудовище Ц “аэр (Ћомкин), предельно пронзительна ƒардане (—пивак), загл€дение Ц харизматичнейший дед ѕанталоне (ќсипов), в чьЄм невербальном пересказе все событи€ приобретают чертовски аппетитный пикантный привкус. ¬ывод: сюжет недостаточно серьЄзен, чтобы цепл€ть сильно и надолго, зато качественное, эстетичное зрелище оставл€ет исключительно при€тное и позитивное ощущение праздника Ц а праздник, особенно со смыслом, в нашей жизни необходим. ≈щЄ чуть-чуть

ћетки: рецензии день рождени€ театры театр сатирикон встречи спектакли синее чудовище театр сатирикон театр "сатирикон" |
ѕосмотрела "÷арицу “амару" |
ƒневник |
Ќепривычно было выходить из театра не в тЄмный вечер, а в пасмурный день, и не было смысла ехать домой Ц дорога до дома и от дома зан€ла бы всЄ свободное врем€ между двум€ визитами в театр, € не успела бы дома даже поесть. ¬прочем, если бы € реально хотела есть, € бы лучше побаловала себ€ посещением јвокадо, до которого было ближе, чем до дома, но € была сыта пищей духовной и не стала рисковать Ц в конце концов, в ресторане никогда не знаешь, как скоро теб€ обслужат, и есть опасность слишком задержатьс€ и опоздать. ѕосему € решила, что така€ отлична€ погода Ц перманентно морос€щий дождик, то ослабевающий до еле заметной вод€ной пыли, то чуть усиливающийс€, Ц скорее располагает к прогулке, нежели к сидению в помещении, и отказала себе даже в изначальных планах на заход в какую-нибудь кофейню Ц € вне графика пила кофе не далее чем вчера, и делать это так часто уже попахивало бы злоупотреблением. ¬ итоге от ёго-западной € доехала до Ѕиблиотеки, там подн€лась на поверхность, дошла до јрбатской и оттуда неспешно двинулась по јрбату до —моленки, затем обратно, стара€сь поймать как можно больше кайфа от осенней атмосферы, но это убило ещЄ не всЄ оставшеес€ врем€, и € переместилась на ѕоварскую и то же самое проделала и с ней. «атем € озадачилась вопросом, как проникнуть непосредственно в театр дирекции проекта Ђќткрыта€ сценаї при ÷ƒј Ц прежде € была только в офисе администрации, когда непосредственно и выкупала свой пригласительный. ѕод аркой, куда указывала стрелочка, был обнаружен план местности, по которому нихрена не было пон€тно, и € углубилась во двор самосто€тельно; в полумраке вырисовалс€ огороженный забором, заросший деревь€ми, полускрытый плющом и залитый дождЄм уголок, при приближении оказавшийс€ жутковатым местом хранени€ нескольких посеревших и выщербленных от сырости и времени бюстов девушек и юношей Ц видимо, каких-нибудь пионеров-героев. ѕройд€ мимо этого уголка по узкой дорожке, засыпанной палыми листь€ми, € обнаружила только скромную дверь музе€ американского искусства, впервые при этом узнав о его существовании, и отправилась в другую сторону Ц вокруг дома, но туда, откуда выходила, не пришла, ибо упЄрлась в тупик, где был служебный вход, а обычного входа не было. я вернулась обратно, на ѕоварскую, убедилась, что попутчиков мне не светит, что € начинаю замерзать на усилившемс€ ветру и всЄ-таки хотеть есть, и снова пошагала в арку Ц вторично изучать планЕ естественно, вход оказалс€ в арке пр€мо напротив этого плана, за спиной того, кто на этот план смотрел, а относилс€ план, видимо, к служебному входу. — некоторыми сомнени€ми открыв дверь, € спустилась по скрипучей дерев€нной лестнице в маленькую прихожую, справа от которой какие-то парни развешивали какие-то фотографии, окончательно пон€ла, что действительно пришла по адресу, предъ€вила пригласительный, приобрела программку и свежий выпуск газеты ƒј (ƒом јктЄра) и прошла в холл слева от прихожей. “ам € немного почитала, а когда открыли буфет, переместилась туда поедать собственные шоколадку и фруктовый микс, благодар€ предвкушению отта€ла от погодной меланхолии и за п€ть минут до теоретического начала спектакл€ выползла обратно в холл, прогул€тьс€ мимо собравшейс€ публики и ещЄ немного посидеть с газеткой; там мною были узнаны форумчанки germiona и Ivanna, как вы€снилось позже (хот€ € в этом и не сомневалась), мен€ они узнали тоже, но вопреки моим ожидани€м, ко мне не стали подкрадыватьс€ сзади и 17 раз т€гать за ухи, а мне тоже не хотелось встревать в беседу Ц € вообще не мастак нав€зыватьс€ со знакомством. Ќо вот прозвенел первый и последний звонок в лице колокольчика в руке администраторши, и немногочисленный народ пот€нулс€ в зал, где было всего четыре коротких р€да дерев€нных лавочек; моЄ место было во втором р€ду, но заполнилс€ этот крошечный партер настолько неравномерно, что вскоре € переместилась на первый р€дышком с, надо полагать, мамой »ванны. “ак € уже второй день рождени€ подр€д оказалась на первом р€ду на скамейке Ц только в прошлый раз это был спектакль Ђ—камейкаї на ѕокровке, а теперь это был действительно предмет мебели. ћой второй и последний на сегодн€ подарок, Ђ÷арица “амараї, началс€.
Ётой небольшой, на час с небольшим, постановке отлично подходит еЄ определение Ц Ђтеатральна€ фантази€ї. Ћермонтовска€ царица “амара, лермонтовский же ƒемон и гумилЄвский ёный маг встретились в одной вневременной и внепространственной притче о выборе между вечным покоем и вечной молодостью, обречЄнной на бесконечный поиск истины и красоты Ц двум€ сторонами одной романтической медали. ”словны декорации, словно составленные из обломков световых инсталл€ций, но отблески свечей, плавающих в чаше с водой, и каллиграфические тени, уход€щие в перспективу, создают удивительную €зыческо-мистическую атмосферу. —вободные костюмы только подчЄркивают прекрасную пластичность всех актЄров, и, конечно же, особенное удовольствие доставило смотреть на мудрого и печального ƒемона-ћатошина, ради которого, собственно, € и пришла на ќткрытую сцену (надеюсь, он не слишком возгордитс€, если прочитает^^) Ц даже несколько нелепый грим его ничуть не испортил. Ќе отстают и горда€ “амара-„ерн€вска€, и влюблЄнный ѕоэт-ѕодлесный, и загадочный ѕаж-ѕрохоров. ѕод высоким потолком староарбатского дома, расписанным в стиле модерн, создающим потр€сающую вибрирующую в воздухе акустику не хуже сводов храма, звучит то завораживающий голос √орного духа Ц —тародубцева, то при€тна€ музыка, то всезаполн€ющий шум дожд€ и грома, от которого начинает казатьс€, будто и впр€мь запахло озоновой свежестью. ƒекламируютс€ мои любимые стихи вышеупом€нутых поэтов с такой очаровательной лЄгкостью, что не остаЄтс€ никаких сомнений в том, что человеку гораздо естественней разговаривать стихами, нежели прозой. —южетна€ сторона становитс€ уже совершенно неважна Ц гола€ лирика, гола€ эстетика и ничего более, даже слова афористичны настолько, что перестают выражать эмоции и превращаютс€ в такие же художественные средства выразительности, как свет и музыка. я не могу сказать о том, чтобы эта чувственна€ и грустна€ сказка сильно мен€ зацепила, но еЄ определЄнно чертовски при€тно смотреть Ц особенно, пожалуй, таким поклонникам символизма —еребр€ного века вроде мен€, не хватает только репродукций ¬рубел€ в качестве задника дл€ полного счасть€. » ещЄ одна лично мо€ ассоциаци€ Ц с фраевской Ђтоской о несбывшемс€їЕ ¬ общем, смотреть стоит Ц как качественную, с душой сделанную и вдохновл€ющую вещь.
ѕосле спектакл€ пришлось возвращатьс€ в мокрую и холодную реальность, топать по небольшому отрезку ѕоварской до јрбатской, ехать до родной ћолодЄги и влезать в тЄплый и прокуренный салон Ц папа отвЄз мен€ домой и там подбросил мне в заветный конвертик ещЄ пор€дочное количество дерев€нных. ј стало быть, можно будет при следующем визите на ёго-запад не отказать себе в оставшемс€ в тамошнем киоске прессы номере журнала о советских автомобил€х, к которому прилагаетс€ ещЄ летом мне пригл€нувша€с€ моделька чЄрной „айки. ј сейчас € Ц не веритс€, но закончила пост, хоть и отвлекаюсь на всЄ подр€д всЄ больше и больше по мере написани€. «автра Ц да-да, € псих, можете не напоминать мне об этом лишний раз Ц у мен€ снова театр, посему до завтрашней рецензии и прощаюсь.)

Ётой небольшой, на час с небольшим, постановке отлично подходит еЄ определение Ц Ђтеатральна€ фантази€ї. Ћермонтовска€ царица “амара, лермонтовский же ƒемон и гумилЄвский ёный маг встретились в одной вневременной и внепространственной притче о выборе между вечным покоем и вечной молодостью, обречЄнной на бесконечный поиск истины и красоты Ц двум€ сторонами одной романтической медали. ”словны декорации, словно составленные из обломков световых инсталл€ций, но отблески свечей, плавающих в чаше с водой, и каллиграфические тени, уход€щие в перспективу, создают удивительную €зыческо-мистическую атмосферу. —вободные костюмы только подчЄркивают прекрасную пластичность всех актЄров, и, конечно же, особенное удовольствие доставило смотреть на мудрого и печального ƒемона-ћатошина, ради которого, собственно, € и пришла на ќткрытую сцену (надеюсь, он не слишком возгордитс€, если прочитает^^) Ц даже несколько нелепый грим его ничуть не испортил. Ќе отстают и горда€ “амара-„ерн€вска€, и влюблЄнный ѕоэт-ѕодлесный, и загадочный ѕаж-ѕрохоров. ѕод высоким потолком староарбатского дома, расписанным в стиле модерн, создающим потр€сающую вибрирующую в воздухе акустику не хуже сводов храма, звучит то завораживающий голос √орного духа Ц —тародубцева, то при€тна€ музыка, то всезаполн€ющий шум дожд€ и грома, от которого начинает казатьс€, будто и впр€мь запахло озоновой свежестью. ƒекламируютс€ мои любимые стихи вышеупом€нутых поэтов с такой очаровательной лЄгкостью, что не остаЄтс€ никаких сомнений в том, что человеку гораздо естественней разговаривать стихами, нежели прозой. —южетна€ сторона становитс€ уже совершенно неважна Ц гола€ лирика, гола€ эстетика и ничего более, даже слова афористичны настолько, что перестают выражать эмоции и превращаютс€ в такие же художественные средства выразительности, как свет и музыка. я не могу сказать о том, чтобы эта чувственна€ и грустна€ сказка сильно мен€ зацепила, но еЄ определЄнно чертовски при€тно смотреть Ц особенно, пожалуй, таким поклонникам символизма —еребр€ного века вроде мен€, не хватает только репродукций ¬рубел€ в качестве задника дл€ полного счасть€. » ещЄ одна лично мо€ ассоциаци€ Ц с фраевской Ђтоской о несбывшемс€їЕ ¬ общем, смотреть стоит Ц как качественную, с душой сделанную и вдохновл€ющую вещь.
ѕосле спектакл€ пришлось возвращатьс€ в мокрую и холодную реальность, топать по небольшому отрезку ѕоварской до јрбатской, ехать до родной ћолодЄги и влезать в тЄплый и прокуренный салон Ц папа отвЄз мен€ домой и там подбросил мне в заветный конвертик ещЄ пор€дочное количество дерев€нных. ј стало быть, можно будет при следующем визите на ёго-запад не отказать себе в оставшемс€ в тамошнем киоске прессы номере журнала о советских автомобил€х, к которому прилагаетс€ ещЄ летом мне пригл€нувша€с€ моделька чЄрной „айки. ј сейчас € Ц не веритс€, но закончила пост, хоть и отвлекаюсь на всЄ подр€д всЄ больше и больше по мере написани€. «автра Ц да-да, € псих, можете не напоминать мне об этом лишний раз Ц у мен€ снова театр, посему до завтрашней рецензии и прощаюсь.)

ѕосмотрела "—обак" |
ƒневник |
ƒавеча пораньше уполз€ спать, € рано утром инстинктивно проснулась с привычным чувством необходимости и нежелани€ одновременно тащитьс€ в школу, потом вспомнила, что у мен€ типа праздник, и ещЄ пару часов проспала и пару провал€лась. ¬став в районе дев€ти-дес€ти, € тем самым разбудила маму, ко€ и вручила мне на 17-летие конверт с деньгами и декоративную куклу на верЄвочке вроде из тех, которые люб€т продавать в театрах Ц пЄстрого арлекина с прот€нутой между руками снизкой бусин (мама увер€ла, что это прыгалки, мне же больше нравитс€ думать, что это кандалы). —ущество симпатичное, хоть и не заставившее мен€ отказатьс€ от мысли всЄ-таки купить когда-нибудь такого же ѕьеро и сделать из него свой персональный театральный оберег (в которые € не верю, но люблю из эстетических соображений); сумма достаточна€, чтобы удовлетворить свою давнюю ломку по Loveless и купить сие аниме в лицензии, вот только попробуй его найди без необходимости заказывать в »нтернете (но € найду Ц только дл€ этого надо будет вз€ть под мышку ”шастую и рвануть в јниме-рай). ѕострадав ерундой, € после завтрака вышла на свет Ѕожий, запихав в торбу сменку и забив оставшеес€ свободное место едой, да и отправилась на маршрутке до метро (быстро подъехав, она спасла мен€ от возможности опоздать, ибо дома € закопалась), а на метро Ц до родной ёго-западной. ¬первые € топала в театр на дневной, на два часа, спектакль, теоретически Ц детский, ну да под предлогом праздновани€ дн€ рождени€ мне ещЄ и не такое можно, притопала пораньше, с облегчением увидела, что € не единственный человек старше 12 лет, пришедший в это врем€ в театр, купила программку и засела в буфете еЄ изучать. — первым звонком € сн€лась с места и переместилась в зал, на своЄ уютное местечко с краю (а относительно сцены Ц вполне в середине) п€того р€да, перейд€ в стадию нетерпеливого ожидани€ заполнени€ зала и начала своего первого на сегодн€шний день подарка.
явно не дл€ детей написал когда-то —ергиенко повесть Ђƒо свидани€, овраг!ї, в которой €вственно прослеживаетс€ аналоги€ с горьковской пьесой ЂЌа днеї, вот только вместо людей Ц бездомные собаки с разными характерами, по разным причинам оказавшиес€ в стае, нашедшей прибежище в овраге. Ќо эти собаки тоже будут до последнего верить в человеческую справедливость, в Ђсобачью дверцуї, за которой Ц собачий рай (это уже напомнило Ђƒверь в летої „ижа и аниме WolfТs Rain), в клинику, где могут вернуть утер€нный голос и сделать новую дерев€нную лапу, в то, что сбудетс€ молитва Ћуне в день ¬еликой песни, произнесЄнна€ щенком, и в прочие чудеса, и эти чудеса тоже не сбудутс€. ќни тоже будут вспоминать прошлое, декламировать стихи, ссоритьс€ и влюбл€тьс€, и неизбежное безжалостное крушение их надежд тоже будет пронзительным до предательской щекотки за глазными €блоками Ц ничуть не меньше, чем у √орького. јдаптаци€ всей этой трагедии под юного зрител€ выразилась на ёго-западе исключительно в увеличении количества шуток, в остальном же нервы публики жалеть никто не собираетс€ Ц вздрагиваешь при неожиданном крике немой ∆ужу под звуки беспечного диско 80-х, напр€жЄнно следишь за метанием героев под огн€ми фар живодЄрской облавыЕ Ќепон€тно, почему такой взрослый спектакль идЄт на детское врем€ Ц может быть, чтобы напомнить подрастающему поколению о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ќо дети скучают, зато родители соп€т носами, прослезившись Ц а значит, постановка попала в цель, пусть даже и не в намеченную. »наче и быть не могло Ц любой спектакль ёго-запада срежиссирован, сыгран и оформлен шедеврально, и дл€ мен€ он сегодн€ стал долгожданной встречей с давно не виденными актЄрами, обычно мелькающими на второстепенных рол€х, а в Ђ—обакахї оказавшихс€ на переднем плане и во всей красе продемонстрировавших свои талант и мастерство (не счита€ ƒымонт, неверо€тно трогательной в роли ∆ужу, и «адохина, по которому € особенно соскучилась, потр€сающе сыгравшего харизматичного вожака „Єрного). —пектакль не длитс€ и двух часов, но поводов к размышлени€м даЄт на многие дни вперЄд Ц так что насто€тельно всем рекомендую не стесн€тьс€ детского времени и сходить на Ђ—обакї, которые более чем сто€т внимани€.
Ќа этом € заканчиваю пост, но не отчЄт о сегодн€шнем дне Ц насколько некоторые могут помнить, сегодн€ визитов в театр у мен€ было два, а стало быть Ц подождите ещЄ немного, и втора€ рецензи€ подоспеет за первой.)
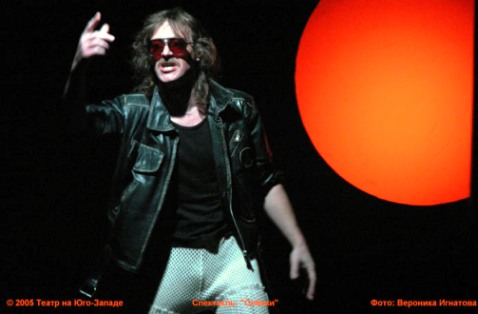
явно не дл€ детей написал когда-то —ергиенко повесть Ђƒо свидани€, овраг!ї, в которой €вственно прослеживаетс€ аналоги€ с горьковской пьесой ЂЌа днеї, вот только вместо людей Ц бездомные собаки с разными характерами, по разным причинам оказавшиес€ в стае, нашедшей прибежище в овраге. Ќо эти собаки тоже будут до последнего верить в человеческую справедливость, в Ђсобачью дверцуї, за которой Ц собачий рай (это уже напомнило Ђƒверь в летої „ижа и аниме WolfТs Rain), в клинику, где могут вернуть утер€нный голос и сделать новую дерев€нную лапу, в то, что сбудетс€ молитва Ћуне в день ¬еликой песни, произнесЄнна€ щенком, и в прочие чудеса, и эти чудеса тоже не сбудутс€. ќни тоже будут вспоминать прошлое, декламировать стихи, ссоритьс€ и влюбл€тьс€, и неизбежное безжалостное крушение их надежд тоже будет пронзительным до предательской щекотки за глазными €блоками Ц ничуть не меньше, чем у √орького. јдаптаци€ всей этой трагедии под юного зрител€ выразилась на ёго-западе исключительно в увеличении количества шуток, в остальном же нервы публики жалеть никто не собираетс€ Ц вздрагиваешь при неожиданном крике немой ∆ужу под звуки беспечного диско 80-х, напр€жЄнно следишь за метанием героев под огн€ми фар живодЄрской облавыЕ Ќепон€тно, почему такой взрослый спектакль идЄт на детское врем€ Ц может быть, чтобы напомнить подрастающему поколению о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ќо дети скучают, зато родители соп€т носами, прослезившись Ц а значит, постановка попала в цель, пусть даже и не в намеченную. »наче и быть не могло Ц любой спектакль ёго-запада срежиссирован, сыгран и оформлен шедеврально, и дл€ мен€ он сегодн€ стал долгожданной встречей с давно не виденными актЄрами, обычно мелькающими на второстепенных рол€х, а в Ђ—обакахї оказавшихс€ на переднем плане и во всей красе продемонстрировавших свои талант и мастерство (не счита€ ƒымонт, неверо€тно трогательной в роли ∆ужу, и «адохина, по которому € особенно соскучилась, потр€сающе сыгравшего харизматичного вожака „Єрного). —пектакль не длитс€ и двух часов, но поводов к размышлени€м даЄт на многие дни вперЄд Ц так что насто€тельно всем рекомендую не стесн€тьс€ детского времени и сходить на Ђ—обакї, которые более чем сто€т внимани€.
Ќа этом € заканчиваю пост, но не отчЄт о сегодн€шнем дне Ц насколько некоторые могут помнить, сегодн€ визитов в театр у мен€ было два, а стало быть Ц подождите ещЄ немного, и втора€ рецензи€ подоспеет за первой.)
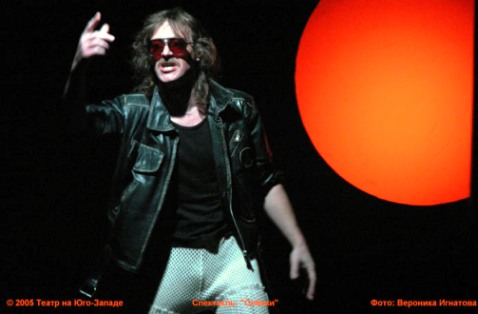
ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли собаки до свидани€ овраг рецензии день рождени€ |
ѕосмотрела "’атико", да и вообще хороший день) |
ƒневник |
„то было до „то до сегодн€шнего дн€, что его вообще можно смело назвать днЄм удовольствий Ц в школе € присутствовала только на алгебре, а англичанка наша на второй паре не по€вилась, и мы в успевшем уменьшитьс€ составе первую половину пары провели в кабинете одной из математичек, страда€ вс€к своей фигнЄй Ц мы с јсЄной, в частности, слушали италь€нских €зычников, поющих на греческом €зыке под бо€нистый эпик хэви. «атем из кабинета нас попросили, все быстро куда-то делись, а мои попытки уломать јсю свалить стабильно оканчивались провалом Ц в итоге мы прин€лись хаотично метатьс€ по этажам школы в попытке найти учител€, согласного нас приютить, и в итоге пришли к нашей классной, у которой был урок. ќна была немало удивлена нас видеть, сказав, что мы Ђдавно бы уже в офе ’аосе сиделиї, и это окончательно убедило мен€ в том, что валить не только можно, но и нужно (а точнее, не только нужно, но и можно, но неважно); јсЄна таки осталась ради написани€ контры по алгебре, € же твЄрдо решила больше не возвращатьс€ ни на французский, ни на вторую попытку переписать ту же контру (всЄ равно не получилось бы), а составить мне компанию в офе ’аосе (эту идею € высказала јсе ещЄ раньше нашей классной и оставл€ть еЄ была уже не намерена) легко уговорила встреченных мною в коридоре Ќастю, ћашу, ¬алю и ƒашу. — заходом в киоск дл€ покупки ћаше (то бишь всем, ибо ћаша ведь щедрый ребЄнок) красных ћальборо мы завалились в ближайший ’, дошли до самого дальнего зала самого нижнего этажа, где никого не было и был при€тный полумрак, и расположились в уголке на большом и удобном низком диване перед низким же столиком. Ќа сей раз у мен€ были деньги на 250 грамм кофе без сахара и молока, и всЄ последующее врем€ пары французского, на которую изначально ещЄ кто-то собиралс€ идти, наша честна€ компани€ пила кофе, курила, трепалась, листала хал€вный журнал ЂЅлогoffї, прислушивалась к ненав€зчивой попсе из динамиков, прожигала дырочки в салфетках и Ц в лице мен€ Ц фотографировала всЄ происход€щее. офе там был не таким крепким, как в минувшую субботу на ёго-западе, но вкусным, хоть € и сожгла им кончик €зыка, не жела€ долго ждать, пока он остынет, но всЄ равно не успела допить его до конца, когда мнением большинства решено было попросить счЄт, расплатитьс€, собратьс€ и покинуть уютное заведение. Ќа спуске по эскалатору ћаша поинтересовалась, кто съездит с ней в ≈вропарк за костюмом на ’эллоуин Ц она собиралась нар€жатьс€ Ѕо€рским, и ей нужны были мушкетЄрский плащ, шл€па и усы (€ предложила ещЄ использовать «енитовскую розу); вызвались мы с Ќастей, и наша троица поехала до иевской и с ћашей в качестве —усанина начала подниматьс€ по эскалаторам торгового центра. ћагазин Ђ арнавалї, на который € раньше не обращала ни малейшего внимани€, оказалс€ на том же последнем этаже, где € всегда бываю в ≈вропарке, вот только ничего интересного в этом магазине не оказалось Ц только ненатуральные костюмы из дешЄвой лосн€щейс€ ткани, маски и парики, крыль€ и шапки с рогами, бутафорские плЄтки и прочий ширпотреб. ћы побродили, всЄ основательно пересмотрели, ћаша ничего нужного не нашла и получила от мен€ совет палить магазины театрального реквизита, где продаютс€ хорошие костюмы и грим, и устное добиралово до одного такого подвального магазинчика, где € сто лет не была, расположенного в —пасопесковском переулке јрбата. “уда они с Ќастей и поехали, а €, подумав, что если отправлюсь с ними, проезжу до самого вечера, решила ехать домой Ц но не на метро, а, пользу€сь случаем, на любимой сороковой маршрутке по Ѕутусовскому проспекту, благо в такую погоду он был весьма живописен Ц всЄ высокое и далЄкое скрывалось в низком тумане, непрогл€дно-белом и влажном, как молоко. ƒома € пообедала и определилась со своими конкретными планами на вечер Ц обломилась с практически везде уже прошедшей Ћуной 2112, слишком поздно мне посоветованной, зато выбрала сеанс на шесть в неизменном ’удожественном кинотеатре на ’атико и после обеда снова вывалилась на свет Ѕожий. Ќа јрбатскую € доехала рано, вз€ла билет за 190 дерев€нных в Ѕольшой зал и отправилась по јрбату до зоомага Ц купить пожрать родной собаке Ц и обратно, к началу сеанса, дабы устроитьс€ в середине шестого р€да на своЄм законном удобном месте и предатьс€ лицезрению.
–еальную историю пса ’атико слышали многие, поэтому интриги фильм заведомо лишЄн Ц он позиционируетс€ как своеобразный байопик этого €понского символа любви и верности. ¬от только городок под названием —ибу€ заменили на некий абстрактный уголок штатов или ≈вропы, а профессора ”эно Ц на лирического геро€ стареющего –ичарда √ира, который переносит на найденного им на вокзале щенка породы акита-ину с счастливым иероглифом Ђхатиї (восемь) на ошейнике (на самом деле пЄс был подарен своему хоз€ину его другом и получил такое им€ потому, что был его восьмой собакой) свою любовь к по непон€тным причинам погибшему сыну (сыновь€ гибнут у каждого второго голливудского персонажа, остаЄтс€ только удивл€тьс€ такой печальной статистике). ‘ильм показывает, как в тот пам€тный день, когда гордый потомок самурайских собак впервые снизошЄл до того, что принЄс хоз€ину м€чик, профессор умер у себ€ на работе, после чего ’атико ещЄ дев€ть лет продолжал приходить на вокзал в надежде на его возвращение. „удо, как ему и положено, происходит под –ождество Ц пЄс и его хоз€ин снова встречаютс€ после смерти первого: антураж ни разу не восточный, зато типично восточна€ философи€, согласно которой уход из жизни тех, кто любит друг друга, €вл€етс€ поводом дл€ радости, ведь только в одном мире они смогут быть счастливы. ак человек, не страдающий сантиментами, € не была зацеплена этим фильмом, но не могу не похвалить его как качественно сделанную вещь, трогательную, лЄгкую и при€тную, с несмешным, но таким домашним юмором и таким же домашним минором в духе классических семейных фильмов о собаках (вспомните первого ЂЅетховенаї, например), да к тому же с таким кавайным псом, в чьи глаза Ц и чьими глазами Ц определЄнно стоит немного посмотреть.
ѕо окончании сеанса € прошлась до —моленки по јрбату и приехала домой, а завтра мен€ в школе уже не будет по вполне уважительной причине - мне исполн€етс€ 17 лет, и некогда при покупке билетов, если кто-то помнит, € сочла это подход€щим поводом дл€ того, чтобы в этот день дважды побывать в театре (да, с мен€ завтра две рецензии, надеюсь осилить). ѕосему прощаюсь ненадолго)

–еальную историю пса ’атико слышали многие, поэтому интриги фильм заведомо лишЄн Ц он позиционируетс€ как своеобразный байопик этого €понского символа любви и верности. ¬от только городок под названием —ибу€ заменили на некий абстрактный уголок штатов или ≈вропы, а профессора ”эно Ц на лирического геро€ стареющего –ичарда √ира, который переносит на найденного им на вокзале щенка породы акита-ину с счастливым иероглифом Ђхатиї (восемь) на ошейнике (на самом деле пЄс был подарен своему хоз€ину его другом и получил такое им€ потому, что был его восьмой собакой) свою любовь к по непон€тным причинам погибшему сыну (сыновь€ гибнут у каждого второго голливудского персонажа, остаЄтс€ только удивл€тьс€ такой печальной статистике). ‘ильм показывает, как в тот пам€тный день, когда гордый потомок самурайских собак впервые снизошЄл до того, что принЄс хоз€ину м€чик, профессор умер у себ€ на работе, после чего ’атико ещЄ дев€ть лет продолжал приходить на вокзал в надежде на его возвращение. „удо, как ему и положено, происходит под –ождество Ц пЄс и его хоз€ин снова встречаютс€ после смерти первого: антураж ни разу не восточный, зато типично восточна€ философи€, согласно которой уход из жизни тех, кто любит друг друга, €вл€етс€ поводом дл€ радости, ведь только в одном мире они смогут быть счастливы. ак человек, не страдающий сантиментами, € не была зацеплена этим фильмом, но не могу не похвалить его как качественно сделанную вещь, трогательную, лЄгкую и при€тную, с несмешным, но таким домашним юмором и таким же домашним минором в духе классических семейных фильмов о собаках (вспомните первого ЂЅетховенаї, например), да к тому же с таким кавайным псом, в чьи глаза Ц и чьими глазами Ц определЄнно стоит немного посмотреть.
ѕо окончании сеанса € прошлась до —моленки по јрбату и приехала домой, а завтра мен€ в школе уже не будет по вполне уважительной причине - мне исполн€етс€ 17 лет, и некогда при покупке билетов, если кто-то помнит, € сочла это подход€щим поводом дл€ того, чтобы в этот день дважды побывать в театре (да, с мен€ завтра две рецензии, надеюсь осилить). ѕосему прощаюсь ненадолго)

ћетки: фильмы рецензии кино дождь встречи кофе хаус хатико хатико: самый верный друг хатико. самый верный друг |









