-Метки
-Рубрики
- Цитаты (620)
- Чтения из Книги Согласия (104)
- Статьи (101)
- Картинки (67)
- Oremus (50)
- Laudamus (49)
- Проповеди (48)
- NB (37)
- Практика (37)
- Библеистика (10)
- Изучение Библии (10)
- История (5)
- Видео (0)
-Подписка по e-mail
-Поиск по дневнику
-Статистика
Мартин Лютер о твердой вере |
Метки: лютер вера |
Мартин Лютер о том, в каких церквях есть Таинство Причастия |
|
Метки: лютер причастие таинства |
Понравилось: 1 пользователю
Ленски об исполнении воли Божьей |
|
Метки: ленски воля Божья монергия добрые дела благодать |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Лютер о призвании |
|
Метки: лютер призвания толкование библии |
Проповедь о том, что детей не следует забирать из школы (1530) |

|
Метки: лютер призвание |
Бог Сын и герменевтика: краткий экскурс в историю Реформации |
Метки: скэйр лютер бугенхаген экзегетика толкование библии история лютеранства |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Мэтью Харрисон о закрытом Причастии |
|
Метки: харрисон причастие закрытое причастие конфессиональное лютеранство |
Понравилось: 1 пользователю
Ричард Ленски об отречении себя и несении креста |
|
Метки: Ленски освящение обращение сокрушение крест следование за Христом отречение от себя экзегеза толкование библии |
Брайан Вольфмюллер о том, что такое богослужение |
|
Метки: вольфмюллер богослужение |
Лютер о трех копьях диавола |
Диавол обрушивается на Христа с тремя копьями. Одним он оспаривает то, что Христос истинно Бог. Другим, что Он истинно Человек, а третьим он стремится оспорить то, что Христос совершил нам во спасение.
Мартин Лютер, WA 50, 269, 1-3
|
Метки: лютер ереси |
Типикон против Google, или Пара слов о православном серфинге |
|
Метки: consensus patrum евхаристический пост предание |
Унижение святынь |
Метки: реликвии иконы иконопочитание иконоборчество яцык |
Лютер об утешении креста |
 Родители Иисуса потеряли Его — пройдя дневной путь, они стали искать Его среди родственников и знакомых, но не нашли. Они вернулись в Иерусалим, и после трехдневных поисков Он был найден ими в храме. Здесь Бог показал, как нам найти утешение и крепость во всех наших скорбях, и в особенности в этих великих испытаниях, и как нам найти Христа Господа, — а именно, взыскав Его в храме. Иисус сказал Своим родителям: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»
Родители Иисуса потеряли Его — пройдя дневной путь, они стали искать Его среди родственников и знакомых, но не нашли. Они вернулись в Иерусалим, и после трехдневных поисков Он был найден ими в храме. Здесь Бог показал, как нам найти утешение и крепость во всех наших скорбях, и в особенности в этих великих испытаниях, и как нам найти Христа Господа, — а именно, взыскав Его в храме. Иисус сказал Своим родителям: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»
Особое внимание здесь следует обратить на слова Луки: «Но они не поняли сказанных Им слов». Этими словами Он положил конец пустословию тех, кто слишком превозносит и восхваляет Деву Марию, утверждая, будто она знала все и была непогрешима. Ибо здесь вы видите, как Господь попускает ей тщетно долгое время искать своего ребенка, пока через три дня она не находит Его в храме. Кроме того, Иисус, похоже, упрекает ее, говоря: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Она не поняла смысл Его слов. Следовательно, все пустословие, о котором мы упомянули выше, есть не что иное, как ложь, и Дева Мария не нуждается в подобном вымышленном и лживом восхвалении. Бог многое скрыл от нее и провел ее через много скорбей, чтобы она сохранила смирение и не почитала себя выше других.
Однако утешение, о котором я говорил, заключается в том, что Христа можно найти лишь в храме, то есть в доме Божьем. Но что есть дом Божий? Разве это не весь тварный мир? Да, действительно, Бог вездесущ, однако Он особенным образом, более чем где-либо еще, присутствует в Священных Писаниях, в Слове Своем. Следовательно, отсюда мы узнаем, что никто не может полагать, будто какое-либо утешение можно найти в чем-либо ином, кроме Слова Божьего; вы найдете Сына только в храме. Взгляните же на мать Иисуса, которая еще не понимает этого и не знает, что искать Его нужно в храме. Когда она искала Его среди родных и знакомых, а не в правильном месте, она Его не нашла.
Метки: лютер sola scriptura |
Лёэ о ектеньях |
Для равнодушных ектенья — нечто тягомотное и формальное. Если ее поют души, в которых нет Христа, это, конечно же, просто оболочка, безжизненная форма. Но когда ее используют искренние христиане, в ней есть сила, дух и жизнь.
— Вильгельм Лёэ
Метки: литургия лёэ |
«Учить, радовать и приводить в движение сердце». «Застольные речи» Мартина Лютера |
 «Застольные речи» выдающегося реформатора Мартина Лютера оцениваются в западноевропейской исторической и теологической литературе неоднозначно. В советской историографии они почти не упоминались. Впрочем, и постсоветская историография не уделяет им того внимания, которое они заслуживают. Цель нашей статьи заключается в том, чтобы проследить историю создания и публикаций «Застольных речей», дать общую характеристику их содержания и оценить их значение как исторического источника.
«Застольные речи» выдающегося реформатора Мартина Лютера оцениваются в западноевропейской исторической и теологической литературе неоднозначно. В советской историографии они почти не упоминались. Впрочем, и постсоветская историография не уделяет им того внимания, которое они заслуживают. Цель нашей статьи заключается в том, чтобы проследить историю создания и публикаций «Застольных речей», дать общую характеристику их содержания и оценить их значение как исторического источника.
«Застольные речи» не были бы произнесены и опубликованы, если бы Лютер 13 июня 1525 г. не обручился с бывшей монахиней цистерианского ордена Екатериной фон Бора. Этот брак стал возможен потому, что реформационное движение 1521-1524 гг. в Виттенберге положило начало массовому бегству монахов и монахинь из монастырей во многих землях Германии.
Виттенбергский августинский монастырь, монахом которого был Лютер, постепенно приходил в запустение. В 1525 г. его покинули последние насельники: приор Эберхард Брисгер и управляющий монастырским имуществом Бруно Бауэр. Курфюрст Саксонский Иоганн Постоянный подарил здание монастыря Лютеру. Оно и стало жилищем семьи Лютеров. Через несколько лет бывший монастырь напоминал муравейник или пчелиный улей. В нем жили около 40 человек. В число его обитателей прежде всего входили супруги Лютеры, их дети, многочисленные родственники, учителя детей и слуги. В нем находили временный приют беглые монахи и монахини и преследуемые властями священники, а также теологи, которые стремились послушать лекции в Виттенбергском университете. В гостях у знаменитого реформатора часто бывали его коллеги, заезжие ученые, княжеские чиновники, бюргеры.
Кроме того, в соответствии с университетскими обычаями того времени, в домах профессоров, в том числе и в доме Лютера, за умеренную плату проживали и столовались студенты. Всем хозяйством в семье Лютера ведала его супруга Екатерина, которая оказалась способной домоправительницей.
Обитатели дома и гости собирались за обеденным столом в предвечернее время. Автор жизнеописания Лютера в 17 проповедях Иоганн Маттезий в 12-й проповеди своего труда1 живо изобразил обстановку, в которой проходили эти обеды. Иногда бывало так, что за обеденным столом Лютер, погруженный в глубокие раздумья либо отягощенный многими заботами, не произносил ни слова. В такие дни обед проходил в полном молчании, как в монастырской трапезной. Но чаще реформатор, усевшись за стол, обращался к присутствующим с вопросом: «Что слышно нового?» Это первое приглашение к разговору почти всегда оставалось безответным. Тогда Лютер подбадривал собравшихся за столом: «Так что же нового у нас, прелаты?» После этих слов разговор начинали старшие из присутствующих, а затем к нему подключались и все остальные. Иногда тему разговора предлагал сам хозяин дома.
Монологи Лютера временами были довольно продолжительными. Разумеется, в такие моменты собравшиеся за столом с неослабевающим вниманием следили за ходом мыслей своего кумира. Таким образом, застольные речи Лютера — это не публичные, заранее подготовленные выступления на какую-то определенную тему и даже не те спичи, которые произносились участниками вегетарианских застолий в репинских «Пенатах», а высказывания по самым разным темам, которые спонтанно возникали в ходе разговоров. Примечательно, что в собрании Антона Лаутербаха эти материалы озаглавлены следующим образом: «Беседы, размышления, наблюдения, утешения, суждения, изречения, ответы, шутки господина доктора Мартина Лютера, а [также его] благочестивые воспоминания, которые были услышаны за столом во время трапез и во время поездок и точно воспроизведены».2
В отличие от бесед Гете с Эккерманом застольные речи Лютера произносились отнюдь не для того, чтобы их записывали и публиковали. Но в любом своем выступлении Лютер придерживался правила, которое он сформулировал в своих ранних лекциях о Псалмах: «Троякого ожидают от оратора: его речь должна учить, радовать и приводить в движение сердце».3 И поэтому вполне естественно некоторые из собеседников Лютера, стремясь сохранить в памяти те или иные его высказывания, стали записывать их.
Начало ведения записей
Помощник Лютера Вейт Дитрих, который в 1527-1534 гг. жил в его доме, утверждал, что он начал вести записи застольных бесед в 1529 г. Известный исследователь Гельмар Юнгханс предполагает, что с этого же или даже более раннего времени застольные беседы записывал священник из Цвиккау Конрад Кордатус.4 Но точно установленным фактом считается то, что Конрад Кордатус стал регулярно, а не от случая к случаю вести записи застольных бесед в доме Лютера, начиная с 1531 г. Вскоре его примеру стали следовать и некоторые другие участники трапез. Такие записи велись до 1546 г., т. е. на протяжении последних 15 лет жизни Лютера.
Наиболее известными из тех собеседников реформатора, которые записывали содержание застольных разговоров, кроме Вейта Дитриха и Конрада Кордатуса, были Иоганн Шлагинхауфен, Николай Медлер, Антон Лаутербах, Иероним Веллер, Иоганн Маттезий, Каспар Хайденрайх, Иероним Безольд, Георг Рéрер, Иоганн Аурифабер.
Разумеется, тех, кто делал записи, в первую очередь интересовали высказывания самого Лютера. Остальные участники бесед представали в этих заметках как статисты, которые от случая к случаю задавали вопросы и вставляли свои реплики.
Лютер обладал редчайшим качеством — полным отсутствием авторского честолюбия. При этом он исходил из того, что все в земном мире тленно. «Останется единственно слово Божие, — утверждал он в лекции о книге Исайи. — А все, сущее сверх и кроме слова Божьего, прейдет подобно тому, как увядает цветок в поле».5 Безо всякой ложной скромности Лютер считал себя лишь возвестителем, проповедником слова Божьего. «Единственно Библия, — писал он. — является истинным господином и мастером, превосходящим все сочинения и учения на земле».6
Поэтому представляется несколько странным, что реформатор снисходительно отнесся к записыванию застольных бесед. Возможно, при этом он руководствовался теми соображениями, которые были изложены им в сочинении «К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы». «О, как много поучительных историй и изречений, которые относятся к прошлому и настоящему немецких земель и о которых мы почти ничего не знаем, следовало бы обнародовать! — восклицал в нем Лютер. — Но это затрудняется тем, что не находится никого, кто описал бы это… Потому-то о нас, немцах, ничего не знают в других странах, вследствие чего во всем мире нас называют немецкими тварями, которые ни на что неспособны, кроме войны, обжорства и пьянства».7
Но Екатерина фон Бора придерживалась другого мнения относительно записывания высказываний своего знаменитого супруга. Однажды она возмутилась: «Господин доктор, не учите их безвозмездно. Они сразу же все записывают!» Лютер «успокоил» ее. «Я, — сказал он. — 30 лет учил и проповедовал бесплатно. Почему же сейчас я, старый и дряхлый, должен начинать торговать этим?».8
Первым редактором «Застольных речей» был Антон Лаутербах, который упорядочил по отдельным темам не только свои записи, а и записи своих предшественников. При этом он многократно перерабатывал тексты. Следующим редактором рассматриваемых источников стал Иоганн Аурифабер (Гольдшмидт), который в 1545-1546 гг. был ближайшим помощником Лютера и почти неотлучно находился при нем. Иоганн Аурифабер собрал все доступные ему записи лютеровских застольных бесед, сгруппировал высказывания реформатора по 80 темам и перевел латиноязычные тексты на немецкий язык. Так же, как и его предшественник, он при редактировании, стремясь сделать воспроизводимые материалы более доступными для массового читателя, вносил в них собственные добавления. За это его не раз вполне справедливо критиковали исследователи.9
Но не следует забывать о том, что Иоганн Аурифабер был страстным собирателем и издателем рукописного наследия Лютера. Начало этому было положено в 1546 г., когда Иоганн Аурифабер опубликовал последние четыре проповеди Лютера. Затем, вместе с Георгом Рéрером (до его смерти в 1557 г.) и Иоганном Штольцем, он осуществлял Йенское издание сочинений реформатора в 12 томах (1555-1558 гг.). Но оно осталось незавершенным. Неутомимому Иоганну Аурифаберу удалось в качестве дополнения к нему опубликовать в 1564-1565 гг. в Эйслебене два тома немецкоязычных сочинений и проповедей Лютера 1516-1538 гг., а в 1565 г. — второй том его латиноязычных писем (до 1528 г.).
Публикации «Застольных речей»
В 1566 г. он опубликовал сборник под названием «Застольные речи и беседы доктора М. Лютера» / Tischreden und Colloquia Dr. М. Lutheri/. Этой публикации были предпосланы слова Христа, которые были адресованы Его ученикам после насыщения 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбками: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» (Ин.6:12).10 Эта публикация Иоганна Аурифабера пользовалась большой популярностью и выдержала более 20 изданий.11 На протяжении почти трех с половиной столетий читатели имели возможность знакомиться с «Застольными речами» Лютера лишь в редакции Иоганна Аурифабера.
Новая редакция «Застольных речей», предпринятая директором лейпцигского архива Эрнстом Крокером, была осуществлена лишь в 1912- 1921 гг. для критического Веймарского собрания сочинений Лютера (издается с 1883 г., не закончено до настоящего времени). В шести внушительных томах (ин-фолио) этого издания было опубликовано 7075 «Застольных речей». При их классификации Эрнст Крокер вполне обоснованно отказался от тематического принципа, который лежал в основе издания Иоганна Аурифабера, и упорядочил материалы в соответствии с персоналиями и хронологией, т. е. с тем, кто и в какие годы записывал «Застольные речи», и с тем, кто собирал и редактировал их.
Так, например, под номерами 1-656 значатся «Застольные речи», записанные Вейтом Дитрихом, под номерами 657-684 — Николаем Медлером и т. д. Всего в «Веймариане» числится 28 таких источников. Последними, под номерами 6508-7075 в этом издании помещены «Застольные речи» из собрания Иоганна Аурифабера.
Эрнст Крокер выделял три главных «семьи» записей «Застольных речей». Первая, старейшая из них, включает в себя записи, которые велись в 1529-1533 гг. Ко второй, «средней семье», Эрнст Крокер относил записи 1534-1539 гг. И, наконец, к третьей, «младшей семье», издатель отнес записи, которые велись в 1540-1546 гг.
В литературе не раз высказывалось мнение о необходимости осторожного, осмотрительного подхода к «Застольным речам» как к историческому источнику. И действительно, мы не должны забывать о том, что некоторые записи и собрания «Застольных речей», которые легли в основу их публикаций, не сохранились.
Точность передачи сказанного
Нужно также учитывать то, что застольные беседы велись на двух языках: немецком и латинском. Но в записи иногда немецкая речь передавалась на латыни, а латинская — на немецком. Далее, поскольку стенографии как упорядоченной системы скорописи во времена Лютера еще не было, записи застольных бесед не могли быть дословными. Кроме того, на воссоздании содержания обсуждавшихся за столом тем неизбежно сказывались особенности восприятия тех, кто их записывал. Кто-то отвлекался во время беседы, кому-то не совсем был понятен смысл тех или иных высказываний, иногда то, что одному казалось важным, другим не учитывалось. Конечно же, добиться абсолютной полноты и точности воспроизведения застольных речей не удавалось никому.
Наконец, при редактировании заметок в текст часто вносились произвольные изменения и дополнения. Сам Лютер записи застольных бесед не читал и не редактировал. Но вместе с тем следует отметить, что записи застольных бесед вели не поверхностно рассуждающие обо всем на свете салонные шаркуны, а всесторонне образованные люди, которые либо были, либо после того, как они покинули дом Лютера, стали пасторами, суперинтендентами, университетскими преподавателями.
Некоторые из них, особенно Георг Рéрер, Вейт Дитрих и Каспар Круцигер, готовили сочинения, проповеди, лекции «позднего» Лютера к печати. Уже упоминавшийся нами Конрад Кордатус утверждал, что застольные речи Лютера следует оценивать выше, чем пророчества оракула Аполлона.12 Конечно, в этом утверждении есть доля преувеличения. Но вместе с тем нам представляется несомненным то, что «Застольные речи» — поистине неисчерпаемый источник и для биографов Лютера, и для историков Реформации, и для исследователей повседневной жизни и менталитета немецкого общества XVI в. Многие внешние события жизни Лютера, его духовный мир, напряженную идейно-политическую борьбу сторонников и противников Реформации, наконец, весь строй жизни людей той эпохи невозможно представить во всей полноте без запечатленных в «Застольных речах» этюдов, фрагментов и штрихов.
Воспоминания и свидетельства Лютера
Интерес биографов выдающегося реформатора вызывают прежде всего его воспоминания о родителях, детских и школьных годах, учебе в университете, вступлении в монастырь и жизни в нем, кратковременном пребывании в Риме, начале преподавательской деятельности в Виттенбергском университете. Безусловно, при оценке этих воспоминаний следует учитывать то, что «старый» Лютер был не совсем в ладах с хронологией и не всегда точно датировал то или иное событие.
Нужно также считаться с такой особенностью людей пожилого возраста: одни из них всячески идеализируют свое прошлое, другие же, напротив, всячески подчеркивают трудности и испытания, которые выпали на их долю в молодости. Если оценивать под этим углом зрения воспоминания Лютера, то следует отметить, что он относился ко второму разряду мемуаристов преклонных лет.
Но сколь бы ни были важны воспоминания Лютера о внешних вехах его ранней биографии, исследователей гораздо больше интересует его духовное развитие, которое увенчалось учением об оправдании верой. Содержащиеся в «Застольных речах» свидетельства Лютера о восприятии им в молодые годы сочинений Августина, Аристотеля, Петра Ломбардского, Пьера д’Альи, Габриэля Биля, Вильяма Оккама, мистиков позволяют в определенной степени удовлетворить этот интерес.
В «Застольных речах» также содержатся материалы, свидетельствующие о мучительной борьбе Лютера за духовное совершенство ради обретения Небесного спасения. «Застольные речи» позволяют понять, что так называемые «искушения» («Anfechtungen») Лютеpa были не только «укусами совести» и «теснением духа», а и сосредоточенным, скрупулезным исследованием мыслей, дел и чувств, посредством чего достигалось понимание и знание.
Мы не должны забывать о том, что основные источники, которые позволяют судить о духовном развитии Лютера до І5І7 г., т. е. до его выступления с «95 тезисами», были открыты только в последней трети XIX — начале XX вв. (в 1874 г. — лютеровские лекции о Псалмах, относящиеся к 1513-1515 гг.; в 1899 г. — лекции 1515-1516 гг. о Послании к римлянам; в 1918 г. — конспект лекций 1516-1517 гг. о Послании к галатам; в 1929 г. — конспект лекций 1517-1518 гг. о Послании к евреям).
До этого времени суждения исследователей о духовных исканиях «юного» Лютера базировались главным образом на «Застольных речах». Да и в наши дни в спорах о т. наз. лютеровском «озарении в башне» («Turmerlebnis»), «реформаторском прорыве» («reformatorischen Durchbruch»), «реформаторском повороте» («reformatorischen Wende») исследователи постоянно ссылаются на «Застольные речи».
Заключение
Таким образом, при освещении биографии Лютера до 1517 г. «Застольные речи» являются одними из немногих, а в некоторых случаях — единственными источниками, которыми располагают исследователи. В то же время для характеристики истории Реформации и реформаторской деятельности Лютера в распоряжении исследователей имеется поистине необозримый массив повествовательных и документальных источников.
Поэтому в таких случаях «Застольные речи» могут привлекаться как вспомогательные источники. Но при этом нужно постоянно держать в поле зрения то, что ожесточенная идейная борьба, разгоревшаяся в ходе Реформации, обусловила крайнюю тенденциозность оценок и характеристик своих противников и в католическом лагере, и в стане приверженцев Реформации, что не могло не отразиться на соответствующих материалах «Застольных речей».
Эта тенденциозность прослеживается и в оценке Лютером римских пап, папской курии, римско-католических епископов и теологов и в характеристике им тех реформаторов, которые разошлись с ним в понимании задач, целей и методов осуществления Реформации — Карлштадта, Мюнцера, Цвингли, Эколомпада, Агриколы.
Откровенной враждебностью проникнуты отзывы Лютера о Крестьянской войне и анабаптистах («крестителях»). Но у нас нет оснований для утверждения о сознательном искажении учения Лютера теми, кто редактировал и готовил «Застольные речи» к изданию. Наоборот! Если Филипп Меланхтон и его единомышленники (филипписты) после неудачной для протестантов Шмалькальденской войны 1546-1547 гг. допускали возможность компромисса с Римско-католической церковью, то гнезиолютеране, к которым относились Иоганн Аурифабер и Георг Рéрер, боролись против малейших отступлений от идей Лютера.
Одной из главных задач авторов средневековых жизнеописаний было моральное наставление читателей с помощью примеров (зачастую выдуманных) добродетельной жизни изображаемых правителей, полководцев, религиозных деятелей. В «Застольных речах» нет даже намека на такую установку. Лютер представлен в них не в помпезном облачении непогрешимого «пророка Божьего», а в своем повседневном одеянии — как человек, которому свойственны заблуждения, искушения и падения. И это, помимо всего прочего, позволяет судить о мировосприятии, страхах, надеждах, радостях и печалях людей переходной эпохи, в душах которых боролось то, что возникало, и то, что неминуемо должно было исчезнуть.
Наконец, следует отметить несомненные литературные достоинства «Застольных речей». Они — та часть лютеровского наследия, которая вплоть до наших дней продолжает «учить, радовать и приводить в движение сердце».
Примечания
- Mathesius Johann. D. Martin Luthers Leben іn siebzehn Predigten/ Hrsg. von Lic. Dr. Georg Buchwald. — Leipzig, (o. J.).
- Цит. по: Dienst Karl. Martin Luther als Tischredner // Luther, 1999. — H. 3. — S. 146.
- WA— Bd. 4. — S. 284.
- Junghans Helmar. Luther in Wittenberg // Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. — Bd. 1. — Göttingen, 1983. — S. 18.
- WA— Bd. 25. —S. 254.
- WA— Bd. 7. —S. 317.
- Лютер Мартин. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы // Мартин Лютер. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520-1526 гг. / Пер. с немецкого, историко-биографический очерк и комментарии Ю. А. Голубкина. — Харьков, 1992. — С. 177.
- WA TR. — Nr. 2068.
- Cм.: Fausel. Heinrich. Vorwort // Heinrich Fausel. D. Martin Luther. Leben und Werk: 1483 bis 1521. — Gütersloh, 1983. — S. 6.
- См.: Aland Kurt. Einführung // Luther Deutsch. — Bd. 9: Die Tischreden. —Göttingen, 1983. — S. 753.
- Junghans Helmar. Aurifaber, Johannes // TRE. — Bd. IV. — Berlin-New York, 1979. — S. 753.
- WA TR. — Nr. 2068.
Ю. А. Голубкин
Источник: dspace.univer.kharkov.ua
Метки: лютер застольные беседы история лютеранства |
Зассе о привычке видеть в экуменизме «действие Святого Духа» |
 Речь идет… о той фривольности, с которой мы в сегодняшнем мире говорим о переживании Святого Духа. Корни этого уходят в английский энтузиазм XVII века, а также в пиетизм и методизм XVIII столетия. Когда на Берлинском Кирхентаге 1853 года участники приняли бесконечно далекую от истины декларацию, в которой заявили о своей верности Аугсбургскому Исповеданию «сердцем и устами», но при этом оговорились, будто единство их исповедания ничуть не умаляется тем, что лютеране, реформаты и представители унионистских церквей по-разному понимают X Артикул, это объединение евангелической Германии было многими воспринято как великое дело Святого Духа. Стало уже почти привычным во время больших церковных и экуменических конгрессов видеть и торжественно провозглашать веяние Святого Духа. Когда мы поем великие гимны на разных языках, мы как бы переживаем новую Пятидесятницу. Нам следует принять во внимание психологию толпы, которая проявляется во время таких больших собраний — особенно в то время, когда мирские методы управления толпой и влияние современной прессы проникают в церковь.
Речь идет… о той фривольности, с которой мы в сегодняшнем мире говорим о переживании Святого Духа. Корни этого уходят в английский энтузиазм XVII века, а также в пиетизм и методизм XVIII столетия. Когда на Берлинском Кирхентаге 1853 года участники приняли бесконечно далекую от истины декларацию, в которой заявили о своей верности Аугсбургскому Исповеданию «сердцем и устами», но при этом оговорились, будто единство их исповедания ничуть не умаляется тем, что лютеране, реформаты и представители унионистских церквей по-разному понимают X Артикул, это объединение евангелической Германии было многими воспринято как великое дело Святого Духа. Стало уже почти привычным во время больших церковных и экуменических конгрессов видеть и торжественно провозглашать веяние Святого Духа. Когда мы поем великие гимны на разных языках, мы как бы переживаем новую Пятидесятницу. Нам следует принять во внимание психологию толпы, которая проявляется во время таких больших собраний — особенно в то время, когда мирские методы управления толпой и влияние современной прессы проникают в церковь.
— Hermann Sasse. On the Doctrine of the Holy Spirit
|
Метки: зассе экуменизм единство церкви |
Лютер об установлении светской власти |
 Когда Каин убил брата своего Авеля, Бог настолько высоко почитал кровь человеческую, что пообещал воздать семикратно всякому, кто убьет Каина. Он не позволил бы предать человекоубийцу смерти даже путем должной законной процедуры; и Адам, сурово наказав своего сына за грех изгнанием, все же не осмелился вынести ему смертный приговор. Однако здесь Иегова устанавливает новый закон, требующий, чтобы убийца был предан смерти человеком, — закон беспрецедентный, ибо до сих пор Бог оставлял право вершить суд лишь за Собой. Увидев же, что мир становится хуже и хуже, Он, наконец, обрушил на развращенный мир наказание посредством потопа. Однако здесь Бог наделяет частью Своих полномочий человека, даруя ему власть над жизнью и смертью, дабы он таким образом мог быть мстителем за пролитую кровь. Всякого, отнимающего жизнь человека без должного основания, Бог подвергает не только Собственному суду, но и мечу человеческому. Но даже если Бог использует человека как Свое орудие наказания, Мстителем по-прежнему остается Он Сам. Поэтому, если бы не божественная заповедь, предать смерти убийцу сегодня было бы столь же беззаконно, как и до потопа. Таков источник всех гражданских законов и законов государственных. Если Бог наделяет человека властью над жизнью и смертью, без сомнения, Он также наделяет его властью в вопросах менее важных — властью над имением, семьей, женой, детьми, слугами и полями. Угодно Богу, чтобы все это было подвластно определенным людям, которые должны наказывать виновных. Нам должно хорошо помнить, что между властью Бога и властью людей есть разница: Бог имеет власть покарать нас смертью в тех случаях, когда мир не может нас даже в чем-либо обвинить, когда в глазах мира мы невиновны. Мы рождены в грехе; мы все виноваты перед Богом. Человек не вправе карать смертью, если вина не очевидна, а преступление не доказано. По этой причине были созданы суды и учрежден определенный метод судопроизводства с той целью, чтобы перед вынесением смертного приговора преступление было расследовано и доказано. Внемлите же этим словам. Они доказывают, что гражданские власти есть Божье установление и имеют власть не только в вопросах жизни и смерти, но им подсудны и дела, на жизнь не влияющие. Судьям надлежит наказывать непослушание детей, воровство, прелюбодеяние, лжесвидетельство — все грехи, запрещенные второй скрижалью. Дающий людям власть над человеческой жизнью одновременно дает им право вершить правосудие в менее значимых делах. О важности этого текста и необходимости относиться к нему со всяческим вниманием говорит тот факт, что в нем повествуется о том, как Бог учредил светские власти, вручив им меч как знак власти, чтобы умерить похоти и не позволить гневу и прочим грехам выйти за все границы. Если бы Бог не дал человеку такую власть, какой жизнью, спрашиваю вас, мы бы сейчас жили. Он предвидел, что порок будет процветать и впредь и назначил это внешнее лекарство, чтобы предотвратить бесконечное распространение похоти. Тем самым Бог как бы ограждает жизнь и имение изгородью и стеной.
Когда Каин убил брата своего Авеля, Бог настолько высоко почитал кровь человеческую, что пообещал воздать семикратно всякому, кто убьет Каина. Он не позволил бы предать человекоубийцу смерти даже путем должной законной процедуры; и Адам, сурово наказав своего сына за грех изгнанием, все же не осмелился вынести ему смертный приговор. Однако здесь Иегова устанавливает новый закон, требующий, чтобы убийца был предан смерти человеком, — закон беспрецедентный, ибо до сих пор Бог оставлял право вершить суд лишь за Собой. Увидев же, что мир становится хуже и хуже, Он, наконец, обрушил на развращенный мир наказание посредством потопа. Однако здесь Бог наделяет частью Своих полномочий человека, даруя ему власть над жизнью и смертью, дабы он таким образом мог быть мстителем за пролитую кровь. Всякого, отнимающего жизнь человека без должного основания, Бог подвергает не только Собственному суду, но и мечу человеческому. Но даже если Бог использует человека как Свое орудие наказания, Мстителем по-прежнему остается Он Сам. Поэтому, если бы не божественная заповедь, предать смерти убийцу сегодня было бы столь же беззаконно, как и до потопа. Таков источник всех гражданских законов и законов государственных. Если Бог наделяет человека властью над жизнью и смертью, без сомнения, Он также наделяет его властью в вопросах менее важных — властью над имением, семьей, женой, детьми, слугами и полями. Угодно Богу, чтобы все это было подвластно определенным людям, которые должны наказывать виновных. Нам должно хорошо помнить, что между властью Бога и властью людей есть разница: Бог имеет власть покарать нас смертью в тех случаях, когда мир не может нас даже в чем-либо обвинить, когда в глазах мира мы невиновны. Мы рождены в грехе; мы все виноваты перед Богом. Человек не вправе карать смертью, если вина не очевидна, а преступление не доказано. По этой причине были созданы суды и учрежден определенный метод судопроизводства с той целью, чтобы перед вынесением смертного приговора преступление было расследовано и доказано. Внемлите же этим словам. Они доказывают, что гражданские власти есть Божье установление и имеют власть не только в вопросах жизни и смерти, но им подсудны и дела, на жизнь не влияющие. Судьям надлежит наказывать непослушание детей, воровство, прелюбодеяние, лжесвидетельство — все грехи, запрещенные второй скрижалью. Дающий людям власть над человеческой жизнью одновременно дает им право вершить правосудие в менее значимых делах. О важности этого текста и необходимости относиться к нему со всяческим вниманием говорит тот факт, что в нем повествуется о том, как Бог учредил светские власти, вручив им меч как знак власти, чтобы умерить похоти и не позволить гневу и прочим грехам выйти за все границы. Если бы Бог не дал человеку такую власть, какой жизнью, спрашиваю вас, мы бы сейчас жили. Он предвидел, что порок будет процветать и впредь и назначил это внешнее лекарство, чтобы предотвратить бесконечное распространение похоти. Тем самым Бог как бы ограждает жизнь и имение изгородью и стеной.
— Мартин Лютер. Лекции на Книгу Бытия 9:32-37
Метки: лютер толкование библии светская власть святость жизни смертная казнь |
Зассе об исповедующей церкви |

Метки: зассе исповедующая церковь конфессиональное лютеранство аугсбургское исповедание |
Зассе о переменах в отношении к греху |
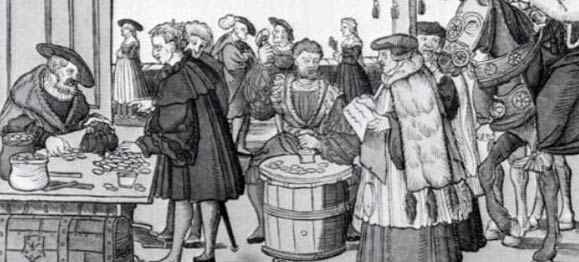
Метки: грех искупление индульгенции зассе |
В день представления Аугсбургского Исповедания |
Ранее в тот день, когда Аугсбургское исповедание было представлено императору, маркграф Георг Бранденбургский и другие исповедники отказались принять участие в мессе Corpus Christi и процессии. Георг объяснил свое решение так: "В своем отказе мы опираемся на ясное Слово Божье, уклониться от которого мы не можем, ибо души наши связаны им. Мы отказываемся не из нежелания повиноваться Его Императорскому Величеству, но из страха согрешить, противясь Божьему Слову. Во всех делах человеческих мы готовы служить Его Величеству своим имением, жизнью и кровью и доказать тем самым, что мы верны вассальной клятве. Но в делах божественных у нас есть другой, высший Господин и Король, Которому мы обязаны повиноваться ради спасения своих бедных душ. Его Величество властвует над нашими телами, но не над нашими душами. Да, прежде чем я отрекусь от своего Бога и Его Евангелия, я преклоню колени перед Вашим Императорским Величеством и позволю отсечь себе голову!"
|
Метки: закрытое причастие история лютеранства конфессиональное лютеранство аугсбургское исповедание |












