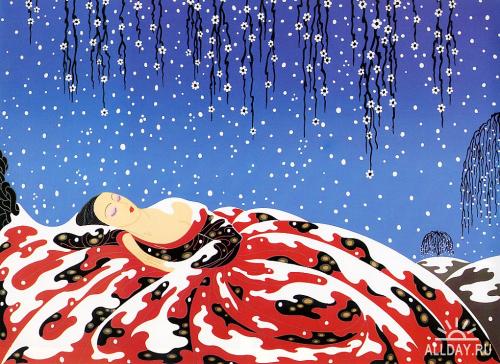-–убрики
- јрхитектура (495)
- истори€ архитектуры, (326)
- проекты,эксперименты, (223)
- паркова€ архитектура, (192)
- церкви,мечети,синагоги,храмы, (190)
- малые формы-люстры,окна,стены,фронтоны, (186)
- интерьер (185)
- война-мир (434)
- ¬оскресный кинозал (1229)
- в€зание (689)
- век в€жи и век учись (297)
- микроигрушки,самодельные игрушки, (17)
- »рландское кружево (14)
- “унисское в€зание (10)
- вал€ние (4)
- кардиганы,кофты,пончо, (76)
- носки.чулки,гольфы (29)
- пледы (13)
- туники,пуловера,свитера,сарафаны, (109)
- шапки,варежки,перчатки, (22)
- шарфы,шали,платки, (70)
- юбики,рейтузы.колготки,леггинсы,брюки (18)
- в€зание:схемы ,уроки (516)
- гобелен (27)
- вышивка (22)
- √ениальные жители земли (158)
- домашнее хоз€йство (314)
- ≈врейский образ жизни (162)
- кулинари€ (114)
- шитьЄ,починка.переделка, (36)
- живопись (875)
- жанр (272)
- реализм (125)
- возрождение (78)
- модернизм (67)
- акт (58)
- историзм (51)
- импрессионизм (44)
- барокко (37)
- наивное искусство (33)
- перидвижники (28)
- роккоко (28)
- сюрреализм (28)
- готика (26)
- прерафаэлиты (15)
- ташизм,дадизм,абстрактионизм, (12)
- сентиментализм (12)
- икона (43)
- монументальна€ живопись (67)
- натюрморт (135)
- пейзаж (223)
- портрет (295)
- «доровье без лекарств (350)
- гомеопати€ (11)
- диэта (113)
- народные средства (162)
- профилактика (228)
- растени€ (71)
- «наменитости (2369)
- интересные сообщени€ (6088)
- юмор (637)
- полезность (202)
- курьЄзы,случаи, (139)
- антиквариат (106)
- интернет бизнес (9)
- копирайтинг,рерайтинг,переводы,работа с текстом, (8)
- компьютор (2)
- искусство (2309)
- »стори€ искусства, (1626)
- прикладное искуствоо (214)
- бижутери€,бисер,украшени€ (88)
- скульптура (171)
- истори€ (2445)
- ≈врейска€ культура (352)
- философи€, (311)
- »удаизм (122)
- транспорт (55)
- истори€ вещей (580)
- истори€ камней (101)
- истори€ моды (175)
- ино (688)
- куклы,о куклах,дл€ кукол (78)
- литература (959)
- книга он лайн (62)
- мода (220)
- музыка (753)
- эстрада (293)
- лассическа€ музыка (155)
- инструментальна€ музыка (143)
- романс,баллада, (138)
- опера,оратори€,речитатив,оперетта,мюзикл, (87)
- джаз,соул,свинг, (86)
- музыка кино (85)
- авторска€ песн€ (68)
- фольклор (43)
- “еноры (41)
- рок энд ролл (23)
- —опрано олоратурное (20)
- ћеццо-—опрано (13)
- духовна€ музыка (13)
- Ѕас (6)
- рок,рэп,рэгги, (5)
- јльт (4)
- ƒискант (2)
- политика (885)
- поэзи€ (509)
- природа (224)
- притчи,сказки,мифы, (118)
- проза (276)
- психологи€ (276)
- путешествие (304)
- изучение €зыка (61)
- английский €зык (35)
- иврит (16)
- немецкий (12)
- рисунок (333)
- акварель (177)
- орнамент,каллиграфи€,иероглиф, (83)
- карандашные рисунки (82)
- старинна€ книга,книжные миниатюры, (42)
- книжна€ иллюстраци€ (165)
- станкова€ графика (100)
- эстамп (39)
- скульптура (18)
- сюморон (20)
- “анец (72)
- балет (36)
- “еатр (510)
- аудиокниги (292)
- радиоспектакль,театр у микрофона, (30)
- балет (25)
- фотографи€ (710)
- пейзаж,детали ландшафта, (281)
- репортажна€ съЄмка,с места действи€, (255)
- портрет,груповой портрет,исторический портрет, (179)
- животные,птицы,насекомые,макросъЄмка, (83)
- постановочна€ фотографи€,акт, (73)
- натюрморт (36)
- фотошоп (29)
- спортивна€ фотографи€ (13)
- чувства (69)
- шитьЄ (56)
- миниигрушки,игрушки из носка, (20)
- выкройки (16)
- вышивка (8)
- бельЄ (3)
- искусственные цветы, (3)
-—сылки
’удожница Maria Zeldis.∆ива€ графика. - (2)
…еллоустоун Ц точка невозврата пройдена. ”чЄные бегут из —Ўј - (0)
ƒевочку, 15 лет прикованную к кол€ске и попросившую тренажер у ѕутина, немцы научили ходить за три дн€ - (0)
“екст ѕионтковского-читаем!!! - (0)
–азоблачаем ! Ѕывает ли жареный верблюд на бедуинской свадьбе ? | »нфо√лаз - (0)
-ћузыка
- ¬альс дожд€
- —лушали: 137182 омментарии: 0
- Oscar Benton
- —лушали: 8756 омментарии: 0
- Carmen Cuesta ~ La Paz...
- —лушали: 469 омментарии: 0
- Carmen Cuesta ~ Jobim...
- —лушали: 371 омментарии: 0
- Enigma
- —лушали: 28761 омментарии: 0
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
-ƒрузь€
-ѕосто€нные читатели
-—ообщества
-“рансл€ции
-—татистика
«аписей: 9794
омментариев: 2501
Ќаписано: 17465
«аписи с меткой жизнь
(и еще 1184215 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
акварель англи€ архитектура аудиокнига видео вов возрождение война воспоминани€ в€зание крючком в€зание на спицах германи€ евреи европа живопись жизнь израель ирландское кружево истори€ итали€ кино крым литература любовь мнение мода москва музыка натали€ кравченко объ€снение описание политика поэзи€ проза рассказ росси€ ссср стихи судьба судьбы схемы театр традиции украина фильм фильмы фото фотографии франци€ юмор
юбилею ¬асили€ Ћанового |
Ёто цитата сообщени€ Galyshenka [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
16 €нвар€ исполн€етс€ 85 лет советскому актЄру народному артисту ———– ¬асилию —емЄновичу
ЋјЌќ¬ќћ”
ќн сыграл таких героев, которые навсегда в наших сердцах!
ƒес€тки ролей в исторических и военных фильмах: »ван ¬аравва Ђќфицерыї ¬адим „ист€ков Ђѕриступить к ликвидацииї јнатоль урагин Ђ¬ойна и мирї арл ¬ольф Ђ—емнадцать мгновений весныї „то не фильм то легенда что не роль то событие. Ћановой отличалс€ врождЄнным аристократизмом и внешностью молодого принца. —колько блест€щих героических красавцев он переиграл Ц не счесть.
» в зрелых годах ¬асилий —еменович подт€нут,бодр, оба€телен и энергичен. ѕрофессионал с большой буквы, он держит себ€ в отменной форме. ƒаже когда Ћановой гул€ет по ћоскве с высоко подн€тым воротником и в глубоко нат€нутой на голову кепке Ц его все равно узнают прохожие! ѕо офицерской выправке!

» откуда аристократизм и офицерска€ выправка? Ќачало войны ¬асилий —еменович встретил у бабушки в с.—трымба, ќдесской обл. ≈му тогда было 7 лет.
Ч ќднажды мой дед »ван привел кобылу Ч худую, спотыкающуюс€, кривобокую, Ч рассказывает ¬асилий —еменович. Ч ѕрислонил ее к забору, потому что сама она ровно сто€ть не могла, и сказал мне: "¬асиль, вот тебе кобыла, будешь на ней пасти колхозных коров". ј € спрашиваю: "ƒедушка, а где же у нее седло? " Ч "“ак будешь ездить, ничего с тобой не случитс€! " Ч усмехнулс€ дед »ван. я и ездил. » замечательно, надо сказать, научилс€.
Ѕлагодар€ этому на съемках фильмов "ѕавел орчагин", "јнна аренина", Ђќфицеры" € держалс€ в седле, скакал, даже падени€ с лошади делал сам...
огда € снималс€ в "јнне арениной" Ч а съемки проходили в ќдессе, от нашего села в 160 километрах Ч мне позвонил председатель: "¬асилий —еменович, ваш дид »ван ходит гордый такой. √оворит всем: "÷е ж мой ¬асиль там снимаетс€! " «аедьте до насЕ" я пообещал заехать. ѕриезжаю, иду к дому и вижу деда »вана, а за ним Ч полсела. ѕодойд€ ко мне близко, он говорит Ч громко так, чтобы слышали р€дом идущие: "¬асиль, а ¬асиль, вот если б в детстве ты голым задом на той кобыле не елозил, фиг бы ты графа сыграл!.. "


ћетки: ¬асилий —емЄнович Ћановой ёбилей 85 жизнь роли судьба |
Ќикита Ѕогословский.ћелодии на все случаи жизни |
Ёто цитата сообщени€ liudmila_leto [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

22 ма€ 105 лет назад в ѕетербурге в семье надворного советника родилс€ тот, кто подарил нам как минимум дес€ток дивных мелодий на все случаи жизни, массу анекдотов и множество забавных легенд Ч Ќикита Ѕогословский. ¬ графе
Ђпроисхождениеї он писал: Ђбыв. двор.ї, Ч что могло означать, по задумке, не
принадлежность к двор€нскому сословию, а, к примеру, указание на выходца
из семьи бывшего дворника. —уровый, беспощадный ’’ век к нему был весьма
снисходителен и даже награждал его за находчивость и талант цветами и апло-
дисментами.
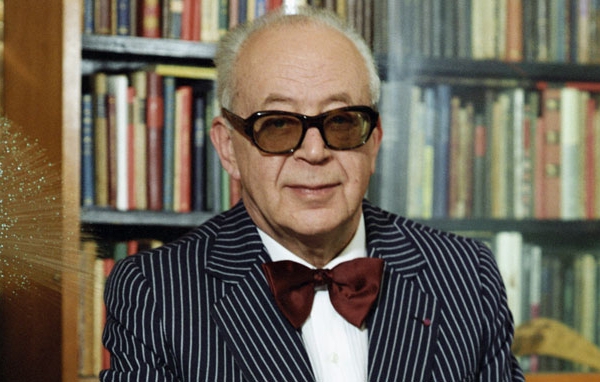
“айны мастерства юному Ќиките передавал јлександр √лазунов, великий композитор и прирожденный педагог. ƒл€ Ѕогословского он был наставником не только в музыке, но и по части юмора. —оздатель балета Ђ–аймондаї и других выдающихс€ произведений знал толк в каламбурах. ќднажды √лазунов прочел в утренней газете о том, что турецкий султан казнил нескольких придворных певцов Ч чем-то их искусство не угодило деспоту. обеду было готово четверостишие:
(Ќе большие у них ведь чины),
“ак не скушать ли нам колбасы
» не слопать ли нам ветчины?
Ѕудущий автор ЂЎаланд, полных кефалиї охотно перен€л традицию розыгрышей и скетчей классического XIX века. Ќачинающий остр€к, как и его учитель, не сомневалс€: без шалостей быт пресен и уныл. » не умел себ€ сдерживать, когда Ђнатура рваласьї похулиганить. ƒл€ таких людей жизнь Ч игра, а не борьба. Ќикита ¬ладимирович создавал вокруг себ€ праздник и постепенно вт€нул в этот карнавал многомиллионную армию поклонников.
слова ¬ладимира јгатова
ћетки: Ќ» »“ј Ѕќ√ќ—Ћќ¬— »… жизнь музыка остроты |
ƒверь в стене, ман€ща€ в несбывшеес€ |
Ёто цитата сообщени€ –отор [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒверь в стене √ерберт ”эллс
ѕосле того как великий фантаст √ерберт ”эллс написал небольшой рассказ "ƒверь в стене" многие из писателей повторили и преобразили тему этого повествовани€. ќказалось что люди понимают, что в своей быстротечной, в мгновение ока пролетающей жизни в суете и беспор€дке, где-то когда-то они упустили мгновени€, в которые они могли бы повернуть свою жизнь, не исправить ошибки,нет, это сожалени€ о том, что упущены возможности сделать свою жизнь и жизнь своих родных и близких, друзей лучше, интересней, спокойней, найти другой путь в жизни. Ћюд€м кажетс€ что это было бы возможно. » вот им показывают, что какому-то человеку изо дн€ в день проход€щему на работу по одной и той же дороге бросаетс€ в глаза, становитс€ прит€гательной небольша€ дверь в стене, обрамленна€ розовыми цветами. ќднажды человек не выдерживает и открывает эту дверь. ќн находит за дверью как сейчас бы сказали параллельный мир, где все так как и до двери и немного иначе, лучше, увлекательнее и интереснее, где те варианты прошлого, которые временами проигрывались у него в голове, проигрываютс€ на€ву, где он встречает людей странно похожих на своих своих близких и родных, где даже его любовь почти та же , протекающа€ лучше, чище, увлекательнее, или несбывшиес€ варианты его любви - ведь действительно мы ни о чем так не жалеем в старости как о том, что мало любили и путешествовали....


«а дверью в стене...., за поворотом ....судьбы, по тропинке счасть€....
» оп€ть в действие вступают обсто€тельства, и оп€ть человек уступает им и возвращаетс€ в мир иной, и уже не может больше найти ту сказочную дверь, которую неча€нно нашел за которой пр€четс€ грустное Ќесбывшеес€
Ћюди не могут не тер€ть мгновений юности, счасть€ и благополучи€, тут ничего не поделаешь, но иногда, а наверное и всегда ¬ам должна попастьс€ ƒверь в стене, угол поворота, тропинка в измененное прошлое. Ќо это будет в последний раз
" ...призрачно все, в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись...."
" ...вот € купаюсь в извилистой речке, чувствую сильные руки отца. » оттого мне легко и беспечно, и оттого можно плыть без конца..."
"ћес€ца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Ћионель ”оллес рассказал мне историю про
"дверь в стене". —луша€ его, € ничуть не сомневалс€ в правдивости его рассказа....." √ерберт ”эллс ƒверь в стене
"ќднажды лондонский клерк —ладден встретил странного старика в восточной одежде, который пыталс€ продать диковинное окно из старой древесины. —ладден отдал за окно все свои скромные сбережени€ и старик установил окно на глухой стене дома. ¬ этом окне —ладден увидел удивительный старинный город...." „удесное окно Ћорд ƒансени

"–ано или поздно, под старость или в расцвете лет, Ќесбывшеес€ зовет нас, и мы огл€дываемс€, стара€сь пон€ть, откуда прилетел зов. ....я проснулс€ при таком положении восход€щего над чертой мор€ солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихс€ на экране задней стены.
Ќа потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. ¬ихрь золотой сети си€л таинственными рисунками. Ћучистые веера, скачущие овалы и кидающиес€ из угла в угол огневые черты были, как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновени€ к плоскости. Ёти пестрые ковры солнечных фей, мечущийс€ трепет которых, не прекраща€ ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты, были везде - вокруг, под ногами, над головой. Ќевидима€ рука чертила странные письмена, пон€ть значение которых было нельз€, как в музыке, когда она
говорит. омната ожила. азалось, не усто€ пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружитьс€. ƒаже на моих руках и колен€х беспрерывно соскальзывали €ркие п€тна. ¬се это мен€лось неуловимо, как будто в встр€хиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света мор€ и золотого - по комнате. ћне было отрадно. я встал и, с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал всему: "¬ам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и всеже развеселившие мен€ серьезным одиноким весельем, - пока вы еще не скрылись - ввер€ю € ржавчину своего Ќесбывшегос€. ќзарите и сотрите ее!" ... - јлександр √рин. Ѕегуща€ по волнам.
"Ќеподалеку от Ѕакдена, в ¬ерхнем ”орфлейле, расположен ’абберхолм Ч одно из самых маленьких и чудесных местечек на свете.. огда € подошел, он уже сто€л там Ч коренастый черноволосый человек лет сорока, угрюмо уставившись вниз и нимало не беспоко€сь о том, что сигара, которую он жевал, потухла. ќн был чем-то раздосадован, но трудно было поверить, что ’абберхолм не оправдал его ожиданий; поэтому € заговорил с ним.ћы оба признали, что день сегодн€ чудесный и что места здесь неплохие, после чего € попыталс€ удовлетворить свое любопытство. я сказал, что мне нравитс€ ’абберхолм и € стараюсь бывать здесь хот€ бы раз в два года.
Ч ћежду тем, Ч заметил €, Ч у вас такой вид, словно это место вас разочаровало.
Ч ј знаете, так оно и есть, Ч сказал он медленно. ” него был низкий голос и акцент, не то американский, не то канадский. Ч ’от€ не в том смысле, какой вы имеете в виду, сэр. ’абберхолм в полнейшем пор€дке. Ћучше некуда. Ќо мне так его описали, что € решил: это именно то место, которое € ищу. ј оказалось не то, € ошибс€.

“ут вы€снилось, что мы оба будем ночевать в премиленькой деревушке под названием еттлуэлл, ниже по долине, но в разных посто€лых дворах. ѕоболтав еще немного, мы договорились не только вместе возвратитьс€ в еттлуэлл, но и вместе пообедать; и, подчеркнув, что из нас двоих € старший, а кроме того, могу считать здешние места своими, € добилс€ от него согласи€ быть моим гостем. Ќа обратном пути € узнал, что его зовут ’арви Ћинфилд, что он инженер из “оронто, был женат, но развелс€ и у него есть маленька€ дочка, котора€ живет с его сестрой. √оворил он довольно охотно и €вно был рад собеседнику, но где-то, за всеми его словами, чувствовалось разочарование или растер€нность.
ѕосле обеда, когда мы, закурив сигары, уселись в маленькой гостиной, находившейс€ в нашем полном распор€жении, и выпили немного превосходного виски Ч которое Ћинфилд пожелал добавить к нашей трапезе, Ч € осмелилс€ намекнуть, что, по-моему, он чем-то расстроен. я не скрывал своего любопытства.
Ч ѕомните, Ч сказал € ему, Ч вы говорили, что ’абберхолм мог оказатьс€ тем местом, которое вы искали. Ч я умолк и выжидающе посмотрел на него.61346161_1278687598_13 - копи€ (306x310, 45Kb)
Ч “ут наверн€ка чертовщина, Ч призналс€ он, разгл€дыва€ гофрированный бумажный веер на каминной решетке. Ч я сам едва могу поверить, так уж вы и подавно не сможете. я попробовал однажды рассказать об этом и застр€л на полдороге. Ќе будь вы писатель, € бы не вз€лс€ рассказывать во второй раз. Ќо вы ездите по свету, разговариваете с людьми и, должно быть, много слыхали о вс€ких штуках, которым нет объ€снени€. ¬от это одна из таких. ѕросто чертовщина. “олько не думайте, что это мо€ фантази€, Ч продолжал он, серьезно гл€д€ на мен€. Ч я даже не знаю, с чего начать. ≈сли бы вы рассказали мне об этом, все было бы по-другому. я бы просто не поверил. Ќо € ведь не писатель, а простой инженер, и вы должны мне поверить. ѕодождите, € только налью еще виски и сейчас постараюсь рассказать все как можно лучше".....ƒжон Ѕойнтон ѕристли

Ч “ут наверн€ка чертовщина, Ч призналс€ он, разгл€дыва€ гофрированный бумажный веер на каминной решетке. Ч я сам едва могу поверить, так уж вы и подавно не сможете. я попробовал однажды рассказать об этом и застр€л на полдороге. Ќе будь вы писатель, € бы не вз€лс€ рассказывать во второй раз. Ќо вы ездите по свету, разговариваете с людьми и, должно быть, много слыхали о вс€ких штуках, которым нет объ€снени€. ¬от это одна из таких. ѕросто чертовщина. “олько не думайте, что это мо€ фантази€, Ч продолжал он, серьезно гл€д€ на мен€. Ч я даже не знаю, с чего начать. ≈сли бы вы рассказали мне об этом, все было бы по-другому. я бы просто не поверил. Ќо € ведь не писатель, а простой инженер, и вы должны мне поверить. ѕодождите, € только налью еще виски и сейчас постараюсь рассказать все как можно лучше".....ƒжон Ѕойнтон ѕристли

" огда мистер ’айрам Ѕ. ќтис, американский посол, решил купить ентервильский замок, все увер€ли его, что он делает ужасную глупость,- было достоверно известно, что в замке обитает привидение.
—ам лорд ентервиль, человек донельз€ щепетильный, даже когда дело касалось сущих пуст€ков, не преминул при составлении купчей предупредить мистера ќтиса.
- Ќас как-то не т€нуло в этот замок,- сказал лорд ентервиль,- с тех пор как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Ѕолтон, случилс€ нервный припадок, от которого она так и не оправилась. ќна переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костл€вые руки. Ќе скрою от вас, мистер ќтис, что привидение это €вл€лось также многим ныне здравствующим членам моего семейства. ≈го видел и наш приходский св€щенник, преподобный ќгастес ƒэмпир, магистр оролевского колледжа в ембридже. ѕосле этой непри€тности с герцогиней вс€ младша€ прислуга ушла от нас, а леди
ен-тервиль совсем лишилась сна: каждую ночь ей слышались какие-то непон€тные шорохи в коридоре и библиотеке.
- „то ж, милорд,- ответил посол,- пусть привидение идет вместе с мебелью. я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. тому же молодежь у нас бойка€, способна€ перевернуть весь ваш —тарый —вет. Ќаши молодые люди увоз€т от вас лучших актрис и оперных примадонн. “ак что, заведись в ≈вропе хоть одно привидение, оно мигом
очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.
- Ѕоюсь, что кентервильское привидение все-таки существует,- сказал, улыба€сь, лорд ентервиль,- хоть оно, возможно, и не соблазнилось предложени€ми ваших предприимчивых импресарио. ќно пользуетс€ известностью добрых триста лет,- точнее сказать, с тыс€ча п€тьсот восемьдес€т четвертого года,- и неизменно по€вл€етс€ незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.
- ќбычно, лорд ентервиль, в подобных случа€х приходит домашний врач. Ќикаких привидений нет, сэр, и законы природы, смею думать, дл€ всех одни - даже дл€ английской аристократии.
- ¬ы, американцы, еще так близки к природе! - отозвалс€ лорд ентервиль, видимо, не совсем уразумев последнее замечание мистера ќтиса. - „то ж, если вас устроит дом с привидением, то все в пор€дке. “олько не забудьте, € вас предупредил." ќскар ”айльд. ентерберийское привидение.
Ћорд ƒансени Ђ„удесное окної (1911, рассказ)
ƒжек ‘инней Ђќ пропавших без вестиї (1955, рассказ)
∆ан –эй Ђѕереулок св€той Ѕерегонныї (1932, рассказ)
јлен-‘урнье ЂЅольшой ћольнї (1913, роман)
ƒжон Ѕойнтон ѕристли Ђƒругое местої (1953, рассказ)
’оуп ћиррлиз ЂЋуд-“уманныйї (1926, роман)
ƒэвид Ћиндсей ЂЌаваждениеї (1921, роман)
ћ. ƒжон ’аррисон Ђ»стори€ о железной лошади, а также о том, как можем мы еЄ познать и навеки изменитьс€ от встречи
јлександр √рин "Ѕегуща€ по волнам"
ќскар ”айльд. " ентерберийское привидение"
—ери€ сообщений "”правл€ема€ эволюци€":
„асть 1 - —олнечна€ электростанци€ јйванпа ( алифорни€) мощностью 396ћ¬т
„асть 2 - Ќе плюй в колодец, пригодитс€ воды напитьс€
„асть 3 - ќни будут президентствовать по очереди...
„асть 4 - ƒверь в стене, ман€ща€ в несбывшеес€
„асть 5 - ‘акелы горени€ попутного газа после сероочистки на мр “енгиз в азахстане
ћетки: литература жизнь любовь фантастика |
Ёссе Ќаталии равченко ."ќна пела, как поЄт птица". Ёпилог. 230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор
Ќачало здесь

пам€тник ћарселине ƒеборд-¬альмор
в еЄ родном городе ƒуэ
—лава
»м€ ƒеборд–¬альмор становитс€ знаменитым. —борники еЄ стихов продаютс€ не только в книжных лавках ѕарижа, но и в провинции. ”же в 1832 году скульптор ѕьер ∆ан ƒавид (ƒавид из јнжера, а не знаменитый Ћуи ƒавид), задумав создать серию медальонов самых знаменитых современников, включает в неЄ изображение профил€ ћарселины.


ћолодой начинающий издатель с большим будущим Ўарпантье в 1833 году подписывает с ней контракт на издание сборника «ѕлач» с предисловием јлександра ƒюма и нескольких романов.
«а сборник сказок дл€ детей в стихах и прозе «јнгелы семьи» в 1850-м году ћарселина ƒеборд-¬альмор удостаиваетс€ академической награды.
¬ 1854 году талантливый, но ещЄ мало кому известный фотограф Ќадар уговаривает 68-летнюю ћарселину придти к нему в ателье, ибо фото знаменитой писательницы привлечЄт к нему клиентов и принесЄт удачу. ћарселина по доброте душевной не может не помочь молодому человеку. Ќа фотопортрете перед нами не прославленна€ дама высшего света, а пожила€ многострадальна€ женщина, не утративша€ своей доброты и внимани€ к люд€м.

(¬торично Ќадар запечатлеет ћарселину уже на еЄ смертном ложе. Ќо это случитс€ ещЄ п€ть лет спуст€).
”ход в бессмертие
» вот она, стара€ женщина, одна на свете. Ѕедность и и печаль обвод€т еЄ тесный удел чЄрной каймой. ќдна последн€€ подруга осталась ещЄ у неЄ, и она пишет ей о тайне своего одиночества: «¬от послушай, сегодн€ € пошла в церковь и зажгла там восемь свечей, таких же бедных, как € сама. Ёти свечи за восемь душ — за мою душу, за отца, мать, брат, сестЄр и детей. я видела, как огни горели и сгорали, и казалось мне, - € должна умереть. —кажу только тебе — это было посещением Ѕога... я живу в невозможном. Ќичего уже не знаю о действительной жизни, если только это жизнь. ƒорога€ мо€ душа, € могу только обн€ть теб€ и набросать беспор€дочно о том неизменном чувстве, которое прив€зывает мен€ к тебе...»
Ќо вскоре ей уже некому сказать задушевного слова: и эта, последн€€ подруга, опережает еЄ.
“олько к тому, кто не отвечает, но всЄ слышит, устремлены еЄ сетовани€. ¬се стихи, что ещЄ напишет ћарселина ƒеборд-¬альмор — это беседы с Ѕогом. ќна поднимает к небу залитое слезами лицо, чтобы не видеть больше земли, котора€ отн€ла у неЄ то, что было жизнью. ќна уже давно простилась со всем.
¬сем изумлени€м моим пришЄл конец.
√отова взмыть душа, со всем земным простившись.

Ќикому уже не нужна еЄ бесконечна€ любовь, и поэтому она не видит смысла жить. ѕоследние еЄ стихи удалены ото всего земного и пронизаны ощущением Ѕожества, как сумрак церкви — солнечным светом, пробивающимс€ сквозь цветные витражи.
Ћюбовь есть Ѕог, в громах твор€щий
свою грозу;
Ќе думай след еЄ гор€щий
искать внизу:
внизу всЄ предаЄтс€ пыли
и забытью;
«емные розы — на могиле,
любовь — в раю!
Ќо близок, близок час, подруга:
средь вешней тьмы
мы разлучимс€, и друг друга
оплачем мы.
ƒругую душу лЄгкой тканью
ты облечЄшь
и блеск бессмертному пыланью
оп€ть вернЄшь.
“ы полетишь туда, где вечно
поЄт весна,
куда часы спешат беспечно,
спешит волна;
к тому, кто молод, кто смеЄтс€
си€нью дн€, -
и старость бледна€ сомкнЄтс€
вокруг мен€.
(«ѕсихе€»)
∆изнь могла у неЄ похитить всЄ, только не жар сердца. Ќо теперь она уже не полыхает как страстный факел, а горит в €сном безветрии, как некий вечный свет. «Ќет, не угасло сердце — ввысь ушло!»

—квозь всЄ утончающуюс€ телесную оболочку ещЄ жарче пылает душа. ¬ этих стихах она уже восход€ща€, освобождЄнна€, уже приблизивша€с€ к Ѕогу, сердечно св€занна€ с Ќим.
Ќе бросил “ы цветка, утратившего свежесть,
земли слепой закон “ы заменил своим,
и “ы мен€ простил в светлейшем из убежищ
за то, что жизнь свою € раздала другим...
Ќе дай мне испытать, как леденеют годы,
“ы, выткавший мой дух из нежного огн€!
»збавь своЄ дит€ от долгой непогоды.
я темноты боюсь. ѕусти на свет мен€!
23 июл€ 1859 года смерть наконец берЄт еЄ к себе.
я ухожу, как за далЄкий бор
уходит нить ручь€, текущего пол€ми;
ак птица, уношусь в си€ющий простор
к источнику любви, что сердце утол€ла.


ћарселина ƒеборг-¬альмор на смертном одре
ћарселину хорон€т на высоком ћонмартрском кладбище, недалеко от могилы √енриха √ейне.

ј в ƒуэ, в маленькой серой церковке, где еЄ крестили ребЄнком, св€щенник читает последнюю молитву за упокой еЄ души.
Ќо в тЄмном и величавом соборе славы все великие поэты ‘ранции служат по ней заупокойную литургию. Ў. Ѕодлер, ¬. √юго, ј. ‘ранс — каждый произносит своЄ благодарение за еЄ любовь, каждый читает еЄ великой душе поэтическую молитву, и, быть может, прекраснейшую из них создал ѕоль ¬ерлен:
»ные славы есть — славнейшие, быть может,
чей оглушает гром, чей блеск глаза слепит,
еЄ же слава, что от жарких слЄз кипит,
дымитс€, пенитс€, - на музыку похожа.
“от роковой поток любви, скорбей, страданий,
лишь кротостью еЄ и чистотой смирЄн,
и день и ночь, дождЄм и солнцем оси€нный,
стремит свои струи под светлым небом он.
“о бесконечный гимн всей нежности людской,
в него, средь ужаса, что нас влачит по свету,
дочь, мать, любовница вплетают голос свой,
в том гимне слышитс€ рыдание поэта,
его великое всемирное моленье
и красота его живого мастерства,
где плоть и кровь, и смех и слЄзы поколений,
где всЄ как бы само слагаетс€ в слова.

ѕлам€ своих стихов каждый из них зажЄг от еЄ огн€, и так лучезарна€ цепь поэтических строк пот€нулась от еЄ мира до нашего времени. » теперь нам, потомкам, дано благоговейно познать высшую тайну еЄ жизни и искусства, благороднейший завет поэта: утолить страдание бесконечной любовью и претворить жалобу в вечную музыку.

∆ители ƒуэ бережно относ€тс€ к пам€ти своей соотечественницы. “еатру ƒуэ присвоено еЄ им€. Ќа его плафоне изображена фигура поэтессы.
¬о ‘ранции стали выпускать марки и конверты с еЄ изображением.



библиотека ћарселины ƒеборг-¬альмор в г. ƒуэ.
«десь хран€тс€ все еЄ рукописи.
ѕереход на ∆∆: http://nmkravchenko.livejournal.com/409991.html
Ћит-ра:
Ћюсьен ƒекав «√орестна€ жизнь ћарселины ƒеборд – ¬альмор».
÷вейг —. ƒеборд-¬альмор // ÷вейг —. —обр. сочинение ћ., 1963. “. 6; Planté Ch. La petite soeur de Balzac. –., 1989;
√речана€ ≈. ѕ. «ћладша€ сестра Ѕальзака»: ћ. ƒеборд-¬альмор // ‘ранцузска€ литература 30-40-х гг. XIX в. «¬тора€ проза». ћ., 2006.
≈.ѕ. √речана€. «ћладша€ сестра Ѕальзака»: ћарселина ƒеборд-¬альмор
јнна ѕлантаженэ (Anne Plantagenet) «ќдна на свидании» (2005).
¬еликовский —амарий »зраилевич "¬ скрещенье лучей. ќчерки французской поэзии XIX–XX веков"
duchelub (∆∆)
ѕубликации на русском €зыке
√остина€ леди Ѕетти: јнглийские нравы. —ѕб.: “ип. ј. —мирдина, ». √лазунова и °, 1836
‘ранцузские лирики XIX века/ ѕер. ¬алери€ Ѕрюсова. —ѕб: ѕантеон, 1909
—тихотворени€// Ѕагровое светило. —тихи зарубежных поэтов в переводе ћихаила Ћозинского. ћ.: ѕрогресс, 1974, с.28-36
—тихотворени€// ≈вропейска€ поэзи€ XIX века. ћ.: ’удожественна€ литература, 1977, с.641-645
—тихотворени€// ѕоэзи€ ‘ранции. ¬ек XIX. ћ.: ’удожественна€ литература, 1985, с.57-66
‘ранцузска€ поэзи€. –остов-на-ƒону: ‘еникс, 1996
—тихотворени€// —емь веков французской поэзии в русских переводах. —ѕб: ≈врази€, 1999, с. 270-272
ћетки: ћарселина ƒеборд-¬ильмор жизнь судьба творчество поэзи€ театр |
Ёссе Ќаталии равченко ."ќна пела, как поЄт птица". ќкончание. 230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор
Ќачало здесь
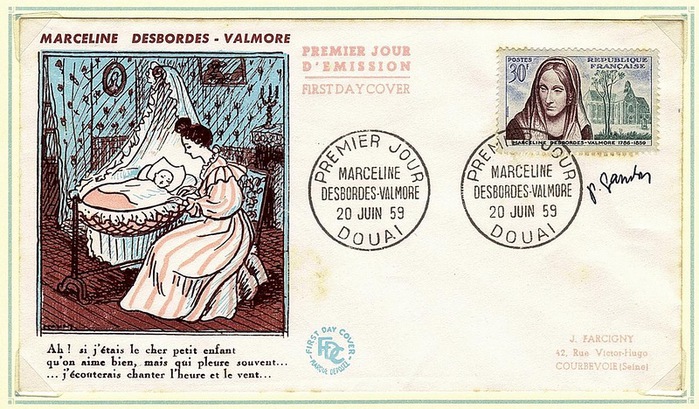
–ождение поэта
¬ 1818 году издатель ‘рансуа Ћуи предлагает ћарселине издать однотомник всех еЄ романсов и стихов, рассе€нных по разным альбомам. ѕервый сборник, вышедший в 1819 году под названием «Ёлегии и романсы», имел большой успех у публики и у критиков. “ак родилс€ новый поэт – ћарселина ƒеборд–¬альмор.

ороль Ћуи-‘илипп назначил ей пожизненную королевскую стипендию. ѕоэтесса была отмечена многими литературными преми€ми. ¬последствии вышли ещЄ несколько еЄ поэтических сборников («ћари€, элегии и романсы» («Marie, élégies et romances», 1819), «Ёлегии и новые стихи» («Élégies et poésies nouvelles», 1825), «ѕлачи» («Les pleurs», 1833), «Ѕедные цветы» («Pauvres fleurs», 1839), «Ѕукеты и молитвы» («Bouquets et prières», 1843) и автобиографический роман «ћастерска€ художника» («L’atelier d’un peintre», 1833). ѕользовались попул€рностью содержаща€ воспоминани€ детства повесть ƒеборд-¬альмор «јнтильские бдени€» («Les veillées des Antilles», vol. 1-2, 1821) и произведени€ дл€ детей.
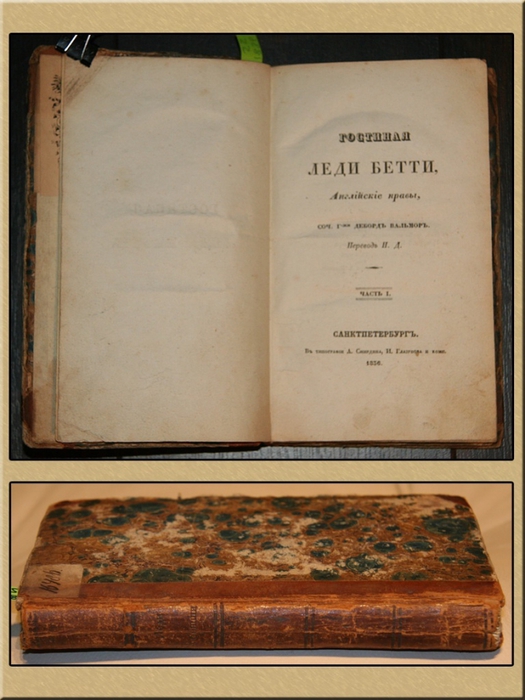
¬ молодости актриса, певица, выступавша€ и в ѕариже, и по провинциальным городам, но покинувша€ подмостки после замужества, ћарселина ƒеборд-¬альмор пот€нулась к перу и бумаге как к отдушине в своЄм трудном семейном житье, заполненном хлопотами по хоз€йству, переездами с места на место, болезн€ми родных, утратами детей. Ќо именно буднична€ неприт€зательность, милое чистосердечие ее исповеди кому-то очень близкому, родственнице или подруге, прозвучали разительно свежо посреди процветавшего в те годы трескучего велеречи€, да и позже вспоминались как родниковое откровение.
¬ 20-е годы 19 столети€ эти стихи стали известны и в –оссии. ƒва тома 23-го и 25-го годов оказались на полках ѕушкина. ритики пишут, что источником письма “ать€ны к ќнегину послужила одна из элегий ћарселины:
я, не видав теб€, уже была тво€.
я родилась тебе обещанной заране.
ѕри имени твоем как содрогнулась €!
“во€ душа мен€ окликнула в тумане.
ќно раздалось вдруг, и свет в очах погас;
я долго слушала, и долго € молчала:
Ќас в этот миг судьба таинственно венчала,
ак будто нарекли мне им€ в первый раз.
—кажи, не чудо ли? ≈ще теб€ не зна€,
я угадала в нем, кому обречена €,
≈го узнала € и в голосе твоем,
огда ты озарить пришел мой юный дом.
”слышав голос твой, € опустила веки;
ќдин безмолвный взгл€д нас обручил навеки;
“от взгл€д с тем именем казались мне слиты,
», не спросив о нем, € знала: это ты!
» с той поры мой слух им словно околдован,
ќн покорен ему, к нему навеки прикован.
я выражала им весь мир моей души;
—в€зав его с моим, € им кл€лась в тиши.
ќно мерещилось мне всюду, в дымке грезы,
» € рон€ла слезы.
ѕленительной хвалой всегда окружено,
—ветло увенчанным €вл€лось мне оно.
≈го писала €... ѕотом писать не стала
» мысленно его в улыбку превращала.
ќно и по ночам баюкало мой сон;
— зарей € слышала его со всех сторон;
»м полон воздух мой, и, если € вздыхаю,
я теплоту его всем сердцем ощущаю.
ќ им€ милое! о звук, св€завший нас!
ак ты мне нравишьс€, как слух тобой волнуем!
“ы мне открыло жизнь; и в мой последний час
“ы мне сомкнешь уста прощальным поцелуем!
(пер. ћ. Ћозинского)
ѕушкин вз€л за образец «Ёлегию» ћарселины ƒеборг-¬альмор дл€ письма “ать€ны к ќнегину, справедливо рассматрива€ стихи французской поэтессы как типично женскую поэзию, которой увлекались и писали себе в альбомы его современницы.

ѕервым в 1929 году на сходство письма “ать€ны с «Ёлегией» ћарселины ƒеборд-¬альмор обратил внимание ¬. Ќабоков, а затем и другие пушкинисты.
Ѕедные слова, от которых плачешь
я, странница, в слезах бредуща€ дорогой,
поведала о том, что говор€т лишь Ѕогу.
Ёто непосредственна€, бесхитростна€ поэзи€, идуща€ из самого сердца. ќна не украшена ни искромЄтными самоцветами редкостных слов, ни €ркими метафорами и пышными образами. ∆изнь рано оторвала ћарселину от детства, нужда и заботы выбили книги из рук. —удьба никогда не оставл€ла ей досуга, чтобы пополнить своЄ образование. ѕоэтесса была малограмотна, писала с орфографическими ошибками.
»з письма подруге: «“ы ведь знаешь, что € неучЄна€, не учЄнее деревьев, которые гнутс€ и выпр€мл€ютс€, сами не зна€, почему».
»скусство ћарселины ƒеборд-¬альмор безыскусно, рифмы бедны, форма стихов однообразна, еЄ поэтический голос почти не отличаетс€ от обыденной речи. ” неЄ нет ничего, кроме неприхотливых слов, которые, как говорил –ильке, «проз€бают в будн€х», маленьких, простых, «бедных слов, божественных слов, от которых плачешь». ѕоэтом делает еЄ не €зык, не перен€тое от других, а только то, что она извлекает из собственной груди, бесконечное чувство, и затем - верховна€ сила всего еЄ существа — музыка.
ќна всегда разговаривает только сама с собой; погружЄнна€ в свой призрачный мир, она произносит монологи и совершенно забывает о том, что ведь и другие могут услышать еЄ голос. ѕотому-то еЄ стихи так неслыханно откровенны, исповедальны. Ёто не что-то сочинЄнное, созданное усилием воли, несущее печать замысла, это просто излившеес€, мимолЄтное, вырвавшеес€ из груди подобно крику или вздоху, ибо гений ћарселины ƒеборд-¬альмор — это гений непосредственности. Ќапетые за шитьЄм, среди трудов и забот, или занесЄнные на крыль€х сна, эти стихи слетают к ней, лЄгкие и трепетные, как мотыльки. —тихотворение «ћоЄ жилище» - разве это не чистый воздух, раствор€ющийс€ в музыке? ¬слушайтесь в него, в эту молитву бедной души, чающей утешени€:
омната над крышей,
в небо два окна;
обитает выше
лишь одна луна.
то стучитс€ в двери?
„то мне до того!
¬ чей приход поверю,
раз не жду его?
ќпустело место
за столом моим,
опустело кресло,
где сидели с ним...
—частье, упоенье
были как во сне.
Ћишь одно смиренье
остаЄтс€ мне.

¬ этой предельной искренности, где ни одного слова лжи, ни одной фальшивой ноты, ничего приукрашенного или лицемерного — высша€ ценность еЄ стихов. »менно потому, что они ничем не об€заны фантазии, а всем — только пережитому, кроме того эти стихи очень женственны. Ќикогда ещЄ после —афо не было дано так глубоко и €сно загл€нуть сквозь покровы поэзии в женское сердце, увидеть душу такой обнажЄнной, омываемой чувством. ћы, словно в чужую комнату, украдкой загл€дываем в еЄ жизнь. Ќо она, обнажЄнна€, так чиста, так благородна и целомудренна, что мы, подсматрива€, не чувствуем неловкости и стыда.
Ќи у одного поэта чувство не было столь прозрачно, как в стихах ћарселины ƒеборд-¬альмор, и фраза —ент-ЅЄва — дл€ неЄ — высша€ хвала: «ќна уже не поэт, она — сама поэзи€». Ќе сама она творец, а чувство как бы творит через неЄ.
¬от ещЄ один перевод этого пленительного стихотворени€ (к сожалению, не знаю, чей):
¬ысоко живу €,
выше крыш, одна.
Ѕледна€, кочу€,
здесь гостит луна.
≈сли у порога
раздаЄтс€ звон,
не встаЄт тревога:
всЄ равно — не он!
ќто всех далЄко,
тку свои цветы;
в сердце нет упрЄка,
но груст€т мечты.
“ихого пространства
вижу бирюзу;
вижу звЄзд убранство,
иногда — грозу.
—тул с обивкой алой
дремлет в стороне:
он служил, бывало,
и ему, и мне.
Ћентою повитый
(тонка€ тесьма),
он стоит, забытый,
как и € сама.
(«ћо€ комната»)

ќна писала весьма простым €зыком, но вместе с тем ее стихотворени€ отличаютс€ утонченным из€ществом и музыкальностью, которые мудрено сохранить в переводе.
–одом из музыки
≈Є стихи изначально рождались как музыкальные произведени€. Ќет, ћарселина сама не сочин€ла музыку; она напевала знакомую мелодию (Ўуберта, например) и в еЄ ритме возникали поэтические строки.
¬ музыке — сущность и источник еЄ творчества. ¬ молодости ћарселина любила гитару. ≈Є тонкий слух запоминал мелодии, услышанные в театре, на улице и дома, в долгие часы одиночества, она и сама сочин€ла меланхолические романсы и песенки к звучащему внутри еЄ напеву. Ќезаметно, совершенно бессознательно, как т€нетс€ к небу полевой цветок, из этой невинной игры вырастало подлинное влечение, страсть к поэтической исповеди. «ћузыка, - пишет —ент-ЅЄв, - сама по себе начала превращатьс€ в ней в поэзию, слЄзы запали ей в голос, и вот однажды элеги€ сама расцвела у неЄ на устах».

ћарселина ƒеборд-¬альмор вс€ — музыка, потому что вс€ она — душа. ≈й была дарована та, высша€, земна€ и неземна€ власть, котора€ из семи звуков, из октавы, созидает целую вселенную ощущений. ќна одухотвор€ет самую убогую рифму, самое незамысловатое слово.
ƒолгие годы она слагает стихи не дл€ мира, она просто поЄт, чтобы убаюкать свою боль, «чтоб сердце бедное своЄ угомонить».

”тратив мать, потер€в ребЄнка, осиротевша€ в любви, она находит себе утешение в песне.

ѕри этом ћарселина почти не сознаЄт, что слагает стихи, она всю свою жизнь не понимала, что она «поэт». ≈й теснит грудь, в душе закипает боль и грозит разорвать ей сердце, эта боль поднимаетс€ всЄ выше и душит еЄ, но у неЄ на устах она уже становитс€ мелодией. ¬ своих стихах она плачет, стонет, молитс€, и то, что другие женщины повер€ют в церкви духовнику, то, что раствор€етс€ в поцелу€х или одиноко тонет в слезах и жалобах, всЄ это здесь, благодар€ музыке души, становитс€ взлЄтом и освобождЄнной мелодией.
ћузыка принесла ей поэзию, и музыка уносит поэзию от неЄ в мир. ѕодруги и посторонние кладут на ноты еЄ песенки, и она изумлена, ей не веритс€, что эти стишки, которые она сочин€ла за работой, полуигра€, полувосне, имеют какую-то ценность, какое-то значение. ¬едь творчество было дл€ неЄ только утишающим боль средством, маленькой радостью в великих страдани€х.
» вдруг приход€т люди, великие, знаменитые поэты, и прославл€ют это как литературу. —ент-ЅЄв приветствует еЄ стихи гимном, Ѕальзак, задыха€сь и пыхт€, взбираетс€ к ней на высокий этаж по 130-ти ступен€м, чтоб выразить ей своЄ восхищение, ¬иктор √юго ещЄ мальчиком восторгаетс€ ею. Ќо никака€ слава не может отучить еЄ от глубочайшей скромности, от невысокой самооценки:
„тоб вверить ветру слова мысль свою,
поэту строга€ необходима школа.
ј €, дикарка, просто так пою,
мои учител€ — леса и долы.

ћарселина ƒеборг-¬альмор
∆енщина
ќна воистину женщина, потому что любовь есть смысл и подвиг всей еЄ жизни. ≈Є страсть питаетс€ не ответной любовью, но потребностью любить, котора€ в ней безгранична и нескончаема. Ќе извне вторгаетс€ в неЄ чувство, но возникает изнутри, из неисповедимых глубин еЄ сердца. ≈Є чувство неутомимо, она неустанно отдаЄт его мужу, дет€м, друзь€м, миру, Ѕогу. “от, кто стал еЄ обольстителем, на сцене еЄ жизни — всего лишь вестник, который подаЄт реплику, чтобы могла зазвучать трагеди€ сердца, а затем удал€етс€ и исчезает во тьме; велика€ игра, которую начала с нею любовь, кончаетс€ не с ним, а с еЄ собственной жизнью. јри€ еЄ души не умолкает вплоть до последнего дн€.
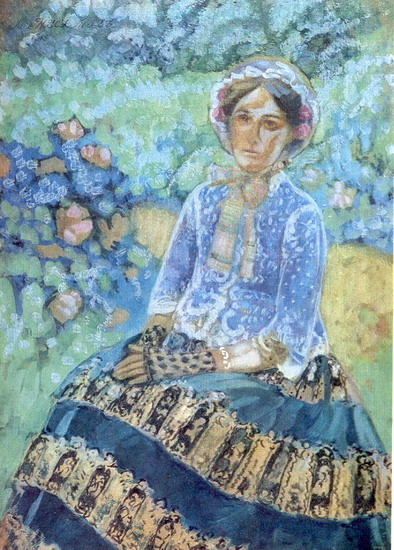
¬сю жизнь она в храме своего сердца приносит жертвы Ѕогу чувства. ќна безропотно отдаЄт всЄ, что может отн€ть у своей жизни: возлюбленному — свою чистоту, мужу — каждодневный труд и силы, дет€м — заботы, чувству — стихи и небу — молитву. ќтказать было бы дл€ неЄ смертью: «ƒоколе щедр — не хочешь умирать!»
—ама она отвыкла от счасть€ и находит его лишь в том, чтобы видеть счастливыми других. ≈Є счастье — она рано сознаЄт это — только слЄзы, и она любит их как счастье, которого ей страшно лишитьс€. ќна находит сладость и блаженство в страдании, страдание — еЄ подлинный мир, и еЄ жалоба становитс€ молитвой.
≈Є кроткому сердцу неведомы гнев, укор, обида. ƒл€ своего обидчика-обольстител€ она находит чудесные слова прощени€:
я Ѕогу говорю о нЄм, не проклина€,
чтоб Ѕог его любил, как € его люблю.
ќна находит оправдание дл€ всех, кто еЄ мучил и унижал:
«а тех, кто огорчал мен€ своим презреньем,
кто в бурю заставл€л покинуть кров,
кто солнце отнимал и сень дубов,
кто на пути моЄм бросал камень€, -
за всех она молит Ѕога:
ќ √осподи! » ты познал презренье!
Ќес€ свой т€жкий крест, “ы указал нам путь.
«а всех безгласных, чьи мольбы тесн€т мне грудь,
не о возмездии прошу, но о прощенье!
» самому Ѕогу она прощает, что ќн отн€л у неЄ четверых из п€ти детей, что ниспослал своих ангелов смерти на всех, кто был ей дорог. ќна обращаетс€ к Ќему не с жалобой на эту самую горькую из всех утрат, а с мольбой за других матерей. » героическа€ доброта самоотречени€ звучит в еЄ молитве:
ќ Ѕоже! ќхран€й счастливых матерей
во им€ матери своей и нас, скорб€щих,
в купели наших слЄз их окрести детей
и обними моих, у врат твоих сто€щих.

¬ этой кажущейс€ слабости, в этом беспредельном самоунижении скрываетс€ сила ћарселины ƒеборд-¬альмор, еЄ чудесный героизм. ≈Є жизнь — жизнь героини, св€той, и ƒекав нашЄл дл€ неЄ прекрасное им€: Notre-Dame des Pleus - «богородица слЄз». —тойкой еЄ делает еЄ внутренний пыл. ѕодобно тому, как еЄ худенькое хрупкое тело вопреки всем болезн€м не сдавалось более полувека, так и еЄ характер преодолевал все невзгоды.
то знает, чего стоила ей та улыбка, с которой она встречала вечером усталого мужа, чего ей стоил этот героизм — четыре раза подниматьс€ с колен от смертного ложа своих детей и снова возвращатьс€ к жизни, котора€ была так ужасна. Ёта тыс€чекратно закалЄнна€ сила, позвол€вша€ ей боротьс€ с отча€нием и неуклонно служить любви, и есть то чудо, которое поддерживало еЄ огонь вплоть до последнего дн€ и давало быть поэтом вплоть до последней строки. ” других женщин чувство обычно угасает вместе с любовью, у других поэтесс страсть остывает по мере того, как уход€т годы, она же преображает и беспредельно возвышает своЄ чувство. — возлюбленного — на мужа, с мужа на детей переносит она свою жертвенную любовь, и никогда не угасает св€щенный огонь. „то бы ни бросала в него жизнь — страдание, горечь, отвращение, - он только жарче разгораетс€, и шестидес€тилетн€€ женщина служит ему ещЄ самоотверженнее, чем молода€ девушка. ѕлам€, которое некогда достигало всего лишь уст возлюбленного, согревало еЄ детей и мужа, - в последние годы сливаетс€ воедино с вечным огнЄм.

«аступница
ќна не знает, как раздобыть на завтра хлеба себе и дет€м, а тут у неЄ ещЄ прос€т денег брат, отставной солдат, безработный д€д€, старик свЄкор. » она даЄт, раньше, чем вз€ть себе. ≈Є, вечную просительницу, знают во всех министерских приЄмных. “о она ходатайствует за бедную вдову, отставную актрису, то хлопочет об освобождении несчастного заключЄнного, то изнашивает подошвы, раздобыва€ 500 франков на обратный путь молодому италь€нцу, - но никогда не просит дл€ себ€. ћы читаем в еЄ письмах, как она, сама вечно бедствующа€ — вечна€ заступница во всех людских скорб€х. —воими литературными св€з€ми она пользуетс€ исключительно дл€ того, чтобы облегчить чужую нужду.
Ћионское восстание в апреле 1834 года было подавлено с большой жестокостью. ¬ эти дни ћарселина ƒеборд-¬альмор ходила по городу, помога€ раненым и семь€м убитых.

восстание лионских ткачей, 1834.
¬ письме к ‘редерику Ћепетру, главному секретарю мэрии, женатому на подруге ћарселины, она пишет: «Ѕыла одна надежда: отмена смертной казни.. ћне всЄ врем€ казалось: вот-вот € услышу, что это многолетнее желание осуществлено. Ќо это неправда... Ќет милосерди€, нет искренней жалости, есть только головы, которые падают, есть только матери, которые воп€т в напрасном отча€нии. я бы хотела умереть, чтобы не слышать больше».
—уровость суда, каждый приговор повергают еЄ в безутешное отча€ние: « огда € вижу эшафот, € готова уползти под землю, € не могу ни есть, ни спать». ќна не в состо€нии пон€ть, как можно наказывать вместо того, чтобы прощать. «√алеры! Ѕоже мой! »з-за шести франков, из-за дес€ти франков, за вспышку гнева, за гор€чее, упр€мое мнение... ј они, богачи, власть имущие, судьи! ќни идут в театр после того, как сказали: « азнить!»

≈Є сердце не в силах этого постичь, дл€ неЄ вс€кий преступник лишь несчастный, а вс€кому несчастью она чувствует себ€ сродни. » когда в какой-то тюрьме ћарселина проникает к начальнику, чтобы просить за заключЄнного, и выходит оттуда с хорошими вест€ми, она облегчЄнно вздыхает: «я чувствовала себ€ словно на небесах, когда выходила оттуда».
ќна не понимает людей, равнодушных к чужим несчасть€м, тех, кто оберегают, не дар€т себ€, не помогают тем, кому плохо. ќна гл€дит на них без ненависти, но с недоумением, отчуждением, как на существа совсем иные, чем она, потому что им недостаЄт как раз того, в чЄм еЄ единственное богатство: щедрого, неисчерпаемого милосерди€, вечно расточаемого себ€ чувства. » в сокровенной глубине своего всепрощающего сердца она, может быть, даже жалеет безжалостных, как самых бедных среди бедных.

Ёта зоркость ћарселины ƒеборд-¬альмор к страдани€м ни с чем не сравнима. ѕрочтите еЄ описани€ »талии: она в первый раз в ћилане, но замечает не мощЄнные мрамором улицы, по которым кат€т кареты, не сладострастно-чувственный воздух юга, как —тендаль, - при первом же взгл€де она видит множество нищих у церковных дверей, оборванных детей, трущобы, она угадывает всЄ то горе, что робко ютитс€ под этой роскошью. ѕри восстани€х еЄ сердце заодно с вечно побеждаемым народом: «Ѕедный народ, доверчивый и смиренный, он на этот раз достиг только права умирать за своих детей...»
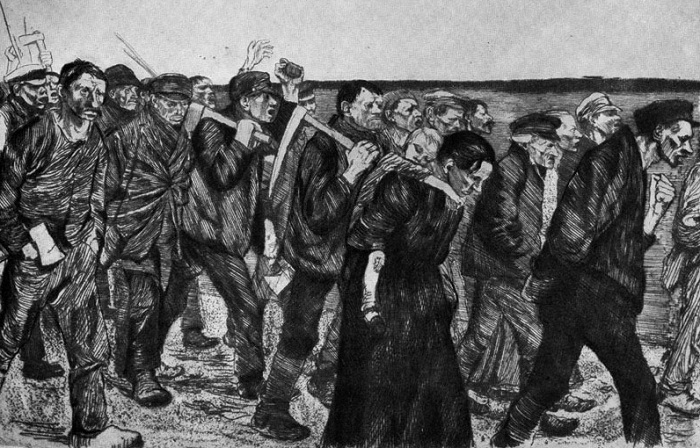
» к ней т€нутс€ все отверженные и обиженные: ей повер€ют тайны подруги, она утешительница мужа, которому своей трогательной ложью помогает переносить театральные неудачи, еЄ квартира всегда полна людей, которые чего-нибудь прос€т или ищут у неЄ сочувстви€. «Ћюба€ мелочь, что теб€ мучит, дл€ мен€ значительна», - пишет она подруге. ’оть она и сама преисполнена гор€, в душе у неЄ всегда найдЄтс€ место и дл€ чужой печали, всегда найдЄтс€ слЄзы утешени€; состраданием она словно спасаетс€ от собственных забот. Ќе находи она исхода в чужих печал€х, она задохнулась бы в собственных.
—лЄзы и плач — это те два слова, что проход€т сквозь всЄ еЄ творчество, это вечный припев еЄ стихов, скорбь и несчастье были единственными вдохновител€ми еЄ поэзии. Ќо мало-помалу чувство ширитс€, вырастает из личных переживаний и выливаетс€ в великое сострадание. ≈Є тихий голос становитс€ громким, оклика€ других, братское сочувствие вс€кому земному страданию помогает ей в позднейших стихах достигать высшей ноты. ќна обращаетс€ ко всем униженным:
¬сех страждущих сестрой себ€ € называю,
в огромном мире, где неузнанной иду.

¬ еЄ голосе слышитс€ жалоба всех матерей, все слЄзы мира сливаютс€ с еЄ слезами. » в Ћионе, восставшем городе, еЄ жалоба становитс€ обличением, еЄ голос переходит в крик. ќна обвин€ет, дрожащим пальцем она указывает на пушки, которые расстреливают живых людей, отцов, жЄн и матерей, и тревожное врем€ невольно преображает еЄ в великого гражданского поэта. ќна рисует нужду рабочих, глумление богатых и комедию судов, она обращаетс€ ко всему человечеству и возносит свой голос к Ѕогу. ¬с€кому несчастью она сестра:
“уда, где звон цепей, душа мо€ стремитс€,
слезами горькими раскрыла б все темницы...
Ќо что могу? ќдно — молить всем сердцем вдовым
благие небеса, чтоб рухнули оковы.
≈Є любовь превратилась в любовь вселенскую, еЄ жалоба — это уже не тиха€ жалоба на свой удел, это громкое слово в защиту человечества. ”же не женщина повествует о тоске и муке женского чувства, это беседы страдающего создани€ с его “ворцом, с Ѕогом.

ћать
Ѕрак с ¬альмором не принЄс ћарселине желанного поко€ и счасть€. ƒевочка, их первенец, едва прожила три недели. Ќесчастной матери суждено было пережить ещЄ двух своих дочерей, »несу, оставившую сей мир двадцатилетней после т€жЄлых двухлетних страданий, тридцатидвухлетнюю ќндину и внука. “олько сын »пполит смог проводить в последний путь своих родителей. Ќе одно стихотворение напишет она о горе матери, потер€вшей своЄ дит€ : «¬оспоминание», «—он о моЄм ребЄнке», «ƒве матери» («Ќе приближайтесь к удручЄнной горем матери»), «ћоим дет€м».

On m’a volé mon fils et Dieu me le rendra ( «”крали сына у мен€ и Ѕог его вернЄт») - восклицает мать в поэме «ћаленький јртур».
Toujours je pleure au nom de mon enfant :
ѕри имени своего ребЄнка € всегда плачу.
………………………………………………..
Mon doux enfant ! ma plus vive tendresse !
ћоЄ дорогое дит€! ћо€ сама€ сильна€ нежность!
Quel autre amour me tiendrait lieu de toi ?
ака€ друга€ любовь мне заменит теб€?
De te garder, mon fils, je ne fus pas maîtresse ;
Ќе в моей власти было теб€ сохранить.
Mais ta fidèle image, oh ! comme elle est à moi !
Ќо твой образ, о! он весь мой!
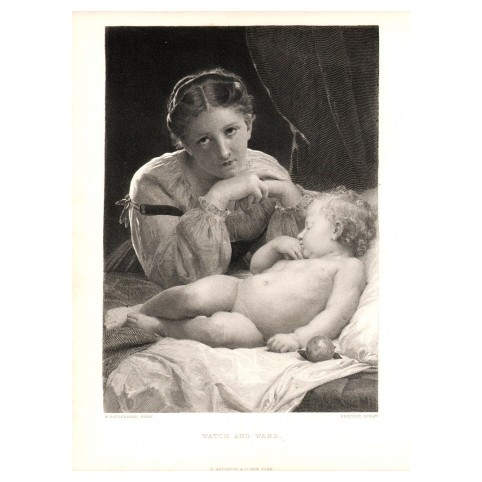
¬ жертвенности был смысл еЄ жизни, и поэтому высшим еЄ призванием было материнство. огда она смотрит на своих детей, в еЄ запуганной душе возникает новое чувство: «Ѕог бедности моей дал роскошь материнства».

¬ бур€х еЄ жизни здесь был маленький островок счасть€. » когда ћарселина в стихах говорит о своих дет€х, в еЄ голосе звучит ликование и блаженство, чему еЄ никогда не могла научить любовь к мужчине.
ƒуша моей души! –ебЄнок! —овершенство!
“ы — пальмова€ ветвь над горькой долей женской!
“ы — нашей слабости защита и оплот,
ты — многославный материнства плод,
любовных ран единственный целитель,
чьЄ милосердие не ведает границ,
склонившийс€, как некогда —паситель,
над робкой матерью, поверженною ниц.
ћарселина самозабвенно любит своих детей, жертву€ ради них всем. ќна охран€ет их сон, отгон€ет их страхи. — ними она и сама становитс€ как дит€, еЄ поэзи€ учитс€ €зыку лепечущих губ; она, чтобы баюкать свою девочку, сочин€ет дл€ неЄ стихи, которые стали бессмертны во французской литературе и которые дети потом заучивали в школе. Ёто «ѕодушка» - прекраснейша€ вечерн€€ молитва, кака€ есть в мире.
ак хорошо с тобой, мо€ подушка,
огда наступит ночь и слышен бури вой!
ќ м€гка€ и бела€ подружка,
Ќам даже волки не страшны с тобой!
Ќо помним мы, что есть другие дети:
” них подушки нет, они не могут спать.
ќни бездомные, они одни на свете,
»м даже "мама" некому сказать!
», Ѕогу помол€сь за бесприютных,
—вою подушку поцелую €
» тихо л€гу в гнездышке уютном,
„то мама приготовила мо€.
я перва€ увижу утром рано
Ћуч солнечный сквозь полог голубой!
“еперь же спать пора. —покойной ночи, мама,
» поцелуй мен€. Ќам хорошо с тобой!

¬ этих детских песенках дл€ ћарселины вдруг пробуждалось нечто давно забытое: еЄ собственное детство. ќт детских улыбок на еЄ жизнь падает весЄлый отсвет, дл€ этих прелестных мелодических стихов она находит особые шаловливые обороты, еЄ омрачЄнное сердце вновь расцветает радостью. ≈й впервые беззаботно дышитс€. ќна восклицает, лику€:
≈сть дети у мен€! »х смех, их голоса
дыханьем свежим сердце наполн€ют.
огда на них смотрю — душа в моих глазах!
ќни свою зарю в мою зарю вплетают!
ѕусть ранили мен€ — но рана не смертельна:
посе€в их весну, дождусь еЄ цветень€.

Ќо этой великой страдалице вс€кое земное обладание дано лишь как мимолЄтный залог, и она должна платить за него нескончаемыми слезами. —мерть стоит между счастьем и ею. —мерть похитила у неЄ первое дит€, дит€ ќливье, и первый ребЄнок, которого она дарит мужу, тоже умирает через несколько недель. Ќо вот на смену погибшим рождаютс€ ещЄ трое и перерастают детский возраст: сын »пполит и дочери ќндина и »неса. ÷елых двадцать лет радуют они мать. —тарша€, ќндина, кокетлива€, умна€ и честолюбива€ девушка, живо увлечена литературой; —ент-ЅЄв просит еЄ руки, она ему отказывает; и вдруг ћарселина узнаЄт, что Ћатуш, дружественно бывающий в их доме (и в котором некоторые биографы вид€т ќливье, обольстител€ ћарселины и отца еЄ внебрачного ребЄнка), пытаетс€ — и не совсем безуспешно — обольстить ќндину. ќбъ€та€ страхом, ћарселина пишет далЄкой дочери гор€чие письма, дошедшие и до нас, где она с трогательной заботливостью предостерегает еЄ от той участи, что когда-то постигла еЄ самоЄ.

счастью, ќндину удаЄтс€ предостеречь, а вслед за тем выдать замуж за простого и честного, уважаемого человека. —пасти, чтобы вдвойне еЄ утратить. »бо теперь, когда она, казалось бы, в безопасности, судьба обрушивает свой первый удар. »неса, младша€ дочь, медленно умирает от чахотки, следом за нею — единственый внук, ребЄнок ќндины, а немного погод€ от той же болезни, к отча€нию матери, умирает сама ќндина.
», словно эти дорогие жизни были св€заны меж собою какими-то подземными корн€ми, внезапно рушитс€ весь вал, которым, как ей казалось, она оградила своЄ существование. ≈Є д€д€, еЄ брат, еЄ подруга, все умирают почти одновременно в эти страшные годы, и ћарселина, окаменев от гор€, видит, как они падают друг за другом под стрелами судьбы.
ќт любви она ещЄ могла бежать, но от смерти — нет. ѕеред смертью она бессильна. ќна чувствует, что теперь всЄ окончательно погибло. Ћюбовь еЄ стареющего мужа уже не подарит ей, седой женщине, новых детей. ≈й уже нечего любить на этом свете. — пожарища еЄ жизни плам€ еЄ тоски возноситс€ теперь лишь к небу.

” неЄ теперь осталс€ только Ѕог, чтобы любить, и ≈му она отдаЄт своЄ единственное, последнее досто€ние, свою боль.
я столько слЄз своих тебе отдам, о Ѕоже,
что ты мне возвратишь моих детей.

Ќему теперь обращены все еЄ стихи, к Ќему направлены еЄ взоры. Ќа земле больше нет пристанища дл€ неЄ, и она стремитс€ только в тот иной мир, где теперь еЄ дети и всЄ, что она любила. ¬ отча€нии стучитс€ она в небесные врата:
ќткрой скорей, “ебе удел мой ведом:
лишь жизнь мо€, как тень, идЄт за мною следом.
≈Є страдание стало еЄ высшим правом, и то, что некогда было еЄ блаженством, то она теперь приводит Ѕогу как самую высшую боль, стрем€сь вознестись к ≈го сердцу: «¬пусти мен€ — € мать!»

ћарселина ƒеборд-¬альмор в 1850-е годы
Ёпилог
ћетки: ћарселина ƒеборд-¬ильмор жизнь судьба поэзи€ |
Ёссе Ќаталии равченко. "ќна пела, как поЄт птица". ѕродолжение. 230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор
Ќачало здесь

ѕокинута€
¬ тот день, когда возлюбленный еЄ покинул, ћарселина покидает ѕариж. Ќаде€сь, что вдали легче перенесЄт разлуку с ним, она бежит в Ѕрюссель, где получает в Theatre de la Monnaie превосходный ангажемент.
≈Є искусство созрело в испытани€х. Ћишь теперь она становитс€ героиней. ≈Є облик, когда-то умевший воплощать только детскую застенчивость, простодушие и робость, теперь трепещет чувственностью и страстью, еЄ скорбный голос, отзыва€сь в глубинах сердца, приобрЄл удивительную звучность, а произносимые стихи одушевл€ет мелодический ритм еЄ поэзии.

–асставание с любимым – глубока€ рана. «аглушить боль! »злить тоску в стихах, в письмах... “ворчество – вот спасение. ќна пишет письма возлюбленному ежедневно.

—тихи о разлуке, об одиночестве, воспоминани€ о счастливых дн€х, размышлени€ о своей судьбе... —тихи она записывает в тетради, украша€ их рисунками и засушенными цветами.

ќливье не отвечает на письма. ќн холоден, равнодушен, жесток. Ќо она защищена своей любовью, и еЄ оружие — прощение.
я гибну, € нести не силах больше муку,
о дай мне в смертный час забытьс€ в тишине.
ѕриди и положи безжалостную руку
на сердце мне.
огда оно гореть устанет и боротьс€,
в тебе раска€нье уже не вспыхнет вновь;
ты скажешь: «Ќежное, в нЄм больше не проснЄтс€
его любовь».
—мотри: она из ран струитс€, исс€ка€.
Ќо ты без ужаса вгл€дись в мои черты;
—мерть у мен€ в груди, и всЄ же холодна €
не так, как ты.
¬ынь сердце у мен€, - подарок неценимый,
подарок женщины, прожившей страстный сон, -
и, разорвав его, ты в нЄм прочтЄшь, любимый,
что ты прощЄн.
(«ѕрощение»)
¬сЄ было бессильно перед факелом этой любви, который неугасимым огнЄм горел в еЄ сердце всю жизнь.
ѕозже другой человек будет р€дом с нею, она станет ему верной женой, но и в его объ€ти€х вынуждена будет признатьс€: « ак забывают — неизвестно мне».

» спуст€ годы, уже старой женщиной, ћарселина в иные минуты чувствует, что принадлежит не избранному ею мужу, а тому, созданному мечтой. —ловно зарницами, мерцающими из тех далей, это очарование вновь и вновь озар€ет еЄ давно успокоенную жизнь. ¬ п€тьдес€т лет, во врем€ актЄрских странствий с мужем по »талии, она испытает перед новыми местами одно лишь трепетное чувство: что 30 лет тому назад здесь звучали его шаги...

»з письма подруге ѕолине ƒюшанж от 20 сент€бр€ 1838 года:
«¬альмор ужасно страдал, что он не показал нам –има. ј мне знаешь, чего жаль в этом прекрасном –име? Ќезримого следа, который там оставили его шаги, его голос, такой молодой тогда, такой нежный всегда, такой вечно властный надо мной, € бы просила у –има только это видение: его не будет».
» неожиданно из одного еЄ письма подруге, написанного в 1836 году, вырываетс€ крик признани€: «≈динственна€ душа, которую € хотела бы вымолить дл€ себ€ у Ѕога, не пожелала моей. ака€ ужасна€ боль в сердце, до самой смерти!».
Ќикогда, ни в радости, ни в горе не сможет она забыть того, первого.
Ќо € не умерла. Ќет, € люблю, как прежде.
я раздвигаю мрак, в котором мы идЄм;
как бледный луч зари, поющий о надежде,
свечу твоим глазам, дышу тебе теплом.
Ѕольной, забывшийс€ дремотою, не чует,
как губы ветерка с него свевают пот;
но благодатный сон незримо кровь врачует;
—пи! ∆изнь мо€ есть сон, мерцающий с высот.

¬ерна€ мужу, она, благодарна€, верна и чувству, она никогда не отрекаетс€ от того далЄкого и уже почти мифического Ѕога своего детства, который создал из неЄ женщину. ¬ ¬альморе она любит верной любовью мужа и отца своих детей, а в исчезнувшем, в «ќливье» - такою же верной любовью призрак своих сновидений, своего первого чувства. ¬ ќливье, в обольстителе, она всю свою жизнь любит любовь.

“айна имени
аждое легчайшее биение еЄ сердца стало строфою, каждый взлЄт и упадок чувства она всю свою жизнь, и в самый миг переживани€, и в миг воспоминани€ о нЄм исповедовала лирически. ќбнажЄнным, лишЄнным вс€ких покровов отдавала она ветру мира каждый трепет своей страсти, каждый позор своей души, но до смертного часа еЄ губы оставались замкнуты, когда дело касалось имени того человека, который пробудил в ней эту бурю. ќна сказала о себе всЄ, но не выдала того, кто еЄ предал.

¬от уже полтора века французска€ литература тщетно охотитс€ за этой единственной тайной ћарселины, пыта€сь где-нибудь напасть на подлинное им€ этого «ќливье». јвторы диссертаций и комментариев пропалывают заросли еЄ стихов, кида€сь на каждый след, оставленный ею в пути, обнюхивают каждый вздох, откапывают каждую оброненную слезу. ќднако удивительным и непостижимым образом еЄ смиренна€ вол€ и стыдливость молчани€ до сих пор оказываютс€ сильнее всех этих суетных стараний. ≈го по-прежнему нельз€ назвать никаким другим именем, кроме как «ќливье» - тем именем, которое она даЄт ему в своих стихах и с которым обращаетс€ к нему в двух дошедших до нас любовных письмах. » через 157 лет после еЄ смерти тайна всЄ так же глубока и не разгадана, как в любой час еЄ жизни.
“о немногое, что удалось о нЄм выведать, мы узнаЄм от самой ћарселины, поведавшей свою страсть в стихах. ќдна строка свидетельствовала, что он был поэтом, в юности известным в очень узком кругу, в другом месте устанавливаетс€ его возраст, а именно, что он на три года моложе еЄ, многие строфы слав€т его нежный проникновенный голос, опь€н€вший еЄ, в письмах же говоритс€ о том, что он поехал в »талию и там заболел. », самое главное, говоритс€ о том, что в их именах имеетс€ что-то общее:
¬едь в имени моЄм
начертано твоЄ благими небесами...
Ќельз€ мен€ назвать, теб€ ко мне не кинув,
со дн€ моих крестин нас св€зывает им€...
я, им€ услыхав твоЄ, узнала в нЄм тотчас
себ€ – в нЄм всЄ перемешалось,
два существа - в одном, и мне казалось,
что так мен€ назвали в первый раз...
–асшифровыва€ эти шарады, исследователи склон€лись к тому, чтобы считать избранником ћарселины литератора јнри де Ћатуша. ќдно из его имЄн «∆озеф» совпадало с одним из еЄ имЄн «∆озефина» (еЄ насто€щее им€ и фамили€ - ћарселина ‘елисите ∆озефина ƒеборд), он был поэтом и в то врем€ довольно видным, действительно был чуть моложе еЄ, два года провЄл в »талии, и ∆орж —анд тоже восхвал€ла его «м€гкий и проникновенный голос». ¬роде бы многое сходитс€. ќднако —тефан ÷вейг в своЄм очерке о ћарселине подвергает этот факт сомнени€м, привод€ немало убедительных аргументов. “ак что вопрос остаЄтс€ открытым, и тайна имени главного возлюбленного великой поэтессы так до конца и не разгадана.
(Ћатуш – человек очень вли€тельный в литературном мире. Ќеудачливый писатель, но блест€щий журналист, директор газеты ‘игаро, он обладал безошибочным нюхом на таланты. »менно он благословил на создание романов ∆орж —анд, открыл дл€ мира поэзию казнЄнного јндре Ўенье, покровительствовал никому не известному Ѕальзаку. ¬ его доме скрывалс€ молодой Ѕальзак от кредиторов. ќн с первых строк оценил поэтический дар ћарселины и предложил ей свою помощь. ≈сть предположени€, что эти отношени€ потом переросли в нечто большее).
≈сли же действительно, как всЄ настойчивее утверждают исследователи, этим «ќливье» был Ћатуш, тогда эта трагеди€ обольщЄнной девушки была лишь вступлением к другой трагедии, ещЄ более жестокой — к трагедии матери. »бо этот Ћатуш, который на 22-ом году жизни был знаком с ћарселиной и исправл€л ошибки в еЄ ранних стихах, через 25 лет попытаетс€ обольстить дочь ћарселины ќндину, которую мать с трудом уберегла от него. “от самый Ћатуш, которому она тайно родила сына, похороненного на кладбище под чужим именем, четверть века спуст€ замыслил соблазнить дочь своей бывшей возлюбленной — ÷вейг не в силах поверить в такой чудовищный цинизм и склонен ждать каких-то более решающих доказательств того, что ќливье и Ћатуш — одно и то же лицо: «ѕусть они ищут дальше — € не знаю ничего прекраснее, чем то, что это им€ всЄ ещЄ не найдено, что велика€ тайна еЄ сердца не разоблачена неопровержимо».

«ќливье» был только зовом, той формой, в которую хлынула еЄ давно накопивша€с€ любовь, той глиной, которую разбивают, после того, как она даст облик гор€чему литью. ƒл€ еЄ дальнейшей жизни он не имел никакого самосто€тельного значени€. ќн дал ей возможность полюбить, и этим его значение исчерпано.
√оре
—цена никогда не была дл€ ћарселины ƒеборд-¬альмор главным, успех никогда не означал дл€ неЄ счасть€. ќна уклон€етс€ от всех искушений, замыкаетс€ от мира, она цепл€етс€ за единственное, что у неЄ осталось — своЄ дит€, «залог бесценной горестной любви», и ищет в невинных чертах дорогое и чужое лицо.

Ќо судьба удивительно враждебна к ней. ∆изнь почти не даЄт ей вздохнуть — до того часто посещает смерть еЄ судьбу. ¬незапно умирает еЄ единственна€ близка€ подруга, вслед за ней еЄ отец, а спуст€ несколько недель грозна€ болезнь настигает последнее, что у неЄ есть — п€тилетнего сына. ƒва мес€ца она как безумна€ боретс€ с роком, но напрасно...
»х шестьдес€т прошло, ужасных, горьких дней...
¬отще у неба € ещЄ хоть дн€ просила!
ƒуша мо€ пуста, еЄ исс€кли силы...
я —мерть звала: мен€ ты первую убей!
Ќо в гневе лед€ном глуха к моим молень€м,
вз€в роковой размах, не захотела —мерть,
сразив моЄ дит€, мен€ косой задеть.
10 апрел€ 1816 года мальчик умирает.

«а один год она лишилась всего, что подарила ей судьба. «¬сЄ отн€то: ребЄнок — смертью, друг — разлукой». ≈Є отча€ние неописуемо. ќна оп€ть так же бедна, так же одинока, как тогда, когда в чЄрном платье, сиротой, сто€ла на гаврской пристани, но только теперь ещЄ больше, потому что еЄ жизнь обессилена безвременной утратой ребЄнка, а душа растерзана пренебрежением возлюбленного. ќна пытаетс€ спастись от мира бегством. ак монахин€ в келье, хоронит она себ€ заживо.
ѕоднимись, душа мо€, выше над толпою,
Ѕудто птица вольна€ в небо голубое,
и назад не прилетай, не догнав вдали
дорогой моей мечты, скрытой от земли.
я хочу молчани€, в нЄм одном отрада,
в нЄм укроюсь, больше мне ничего не надо.
¬ недрах тесного гнезда скрою все мольбы,
пусть проходит целый век вне моей судьбы.
¬ек, грем€щий вновь и вновь за прикрытым тыном,
прочь уносит на бегу сорванную тину:
цепь зап€тнанных имЄн, горестных измен,
св€зку ласковых имЄн, заключивших в плен.
ѕоднимись, душа мо€, выше над толпою,
будто птица вольна€ в небо голубое,
и назад не прилетай, не догнав вдали
дорогой моей мечты, скрытой от земли.
(«ќдинокое гнездо»)

аждый человек, каждый взгл€д причин€ет ей боль, потому что всЄ становитс€ сравнением и воспоминанием. ќт этих лет сохранилось стихотворение «ƒве матери», которое трогательно рисует, как даже самый невинный повод растравл€ет раны несчастной. Ќа улице к ней подбегает ребЄнок, прот€гива€ к ней ручки, а она чуть ли не на колен€х умол€ет это чужое дит€ не подходить к ней:
ќ, почему же так мен€ твой вид тревожит?
„ем можешь ты моЄ дит€ напоминать?
¬ы только возрастом с моим ребЄнком схожи...
ƒостаточно, чтоб сердце растерзать!
», кажетс€, что со смертью ребЄнка кончилась и еЄ молодость: тень страдани€ туманит еЄ глаза, она становитс€ мрачной и угрюмой. ћарселина живЄт как јриадна на пустынном Ќаксосе, в бессильных жалобах и молитве, ожида€ лишь одного — смерти.

» не знает, что к ней уже приближаетс€ еЄ “езей, освободитель, который снова уведЄт еЄ в живую жизнь.

∆ена
¬ 1817 году ћарселина вышла замуж за актЄра ѕроспера Ћаншантена (сценическое им€ — ¬альмор), которому родила троих детей: дочери »нес, ќндина и сын »пполит.
—емь лет как покинута€ своим возлюбленным, а за год до того лишившись своего внебрачного ребЄнка, ћарселина навсегда отказалась от мысли о каком бы то ни было счастье, и вдруг к ней посваталс€ «красавец ¬альмор» (так его называли, и портрет оправдывает это прозвище), еЄ партнЄр по Ѕрюссельскому театру, выступавший на сцене в героических и страстных рол€х.
ќтпрыск знатной семьи, плем€нник генерала империи, павшего в сражении под Ѕородином, он на семь лет моложе еЄ, актЄрское дарование его посредственно, но всЄ же он подкупает своей рыцарской внешностью и душевной пр€мотой. ¬ пьесах они часто подают друг другу любовные реплики, и из этого постепенно вырастает своего рода близость.
¬альмор испытывает искреннее влечение к ћарселине, он пишет ей письмо, в котором предлагает св€зать их жизни супружеством. ќна получает письмо и пугаетс€. ≈й 31 год, ему 24, она намного старше, она преисполнена скорби, чувствует себ€ отцветшей, опустошЄнной. » образ «ќливье» вечно горит в еЄ душе, она не в силах его забыть. » всЄ же.. так заманчиво начать жизнь сначала, ещЄ раз подн€тьс€ к свету из этой бездны гор€ и утрат!
ћарселина отвечает ¬альмору письмом, в котором хоть и звучит и отказ, но в то же врем€ слышны колебани€. ќна просит пощадить еЄ: «Ќе старайтесь внушить мне любовь — € столько страдала! јх, оставьте мен€, прошу ¬ас, € — печальна€, € не создана дл€ того, чтобы любить. я не верю в счастье!».

я счасти€ страшусь, и вновь мне плакать надо,
ведь слЄзы были сладостью моей,
и в горест€х была мо€ отрада.
» всЄ же она не говорит: «нет». ≈й очень хочетс€ впервые не только любить, но и быть любимой. Ёта нежданна€ перемена дл€ неЄ — чудо. —ловно она из тюрьмы, шата€сь, выходит на свет, и глаза еЄ ослеплены, она не решаетс€ взгл€нуть.
« ак? “ак значит жизнь — это всЄ-таки счастье?» - лепечет она в своЄм письме на следующий день после свадьбы. «я счастлива. ак раскрываетс€ мо€ душа при этом слове, которое € забыла, которое казалось угасшим навсегда!»

¬от на дороге €... ќкно мне закрывало
цветами эту даль... ак? ¬сЄ ещЄ весна?
Ћуга ещЄ цветут? «емл€ населена?
“ак значит, лишь его душе не доставало?
≈щЄ вчера мой день был скукой омрачЄн...
“ак значит, свет, весна и небо, это — он?
¬сЄ дл€ мен€ полно счастливого обиль€:
весна, любовь, лазурь, всЄ есть в моей судьбе;
» € как будто чую крыль€,
чтоб полететь к тебе!

ѕосле недолгого сопротивлени€, 4 сент€бр€ 1817 года ћарселина становитс€ женой ¬альмора.
ќ, если может как бы жизнь втора€
начать свой круг
и протекать, другой себ€ ввер€€
без лишних мук,
услышь мой зов, из глубины идущий:
на склоне дн€
приди ко мне, мечтающей и ждущей,
возьми мен€!
ќн сознаЄт еЄ превосходство как актрисы, как поэтессы, чувствует еЄ человеческое благородство и преклон€етс€ перед нею. ќн даже пытаетс€ неуклюже, нескладно, но глубоко искренне выразить свои чувства в стихах, чтобы говорить на еЄ €зыке, послужить ей на еЄ лад. ќна же безмерно благодарна ему, что он вернул ей молодость, что из еЄ омертвевшего тела создал детей, день за днЄм изумл€етс€ тому, что всЄ ещЄ любима и восхищаетс€ его душевной честностью. ќна остаЄтс€ вечно удивлЄнной тем, что и дл€ неЄ есть любовь, вечно благодарной, и с радостью отдаЄтс€ семейным заботам.
ќмрачЄнное счастье
ќднако счастье их омрачает лЄгка€ тень прошедших времЄн: ¬альмор втайне страдает, посто€нно чувству€, насколько тот, другой, не забыт. ќн наде€лс€, что ему, научившему еЄ любви, она вместе со своей жизнью посв€тит и своЄ творчество, что образ того, другого, который мучил еЄ и презирал, померкнет в обновлЄнном счастье. Ќо ћарселина ƒеборд-¬альмор не способна ко лжи. ≈Є творчество имело, по-видимому свои сокровенные законы, в которых она сама была не властна. ”же в годы замужества она пишет и издаЄт свои скорбные элегии к «ќливье», некогда любимому, и ¬альмор, которому отдана вс€ еЄ жива€ любовь, должен наблюдать за печатанием стихов, обращЄнных к другому. Ёто была пытка дл€ мужа.
Ќо не счастье вдохновл€ло эту женщину, а трагизм, только слЄзы рождали в ней слово, и потому еЄ стихи всегда были обращены к тому, кто пробудил еЄ чувство, возвысил его до любовной муки, а к тому, кто еЄ осчастливил — почти никогда. ¬ ¬альморе она любит мужа, супруга, в ќливье — самоЄ любовь, источник страдани€, в котором еЄ сокровеннейшее счастье.
ћарселина видит, что ¬альмора мучат еЄ признани€, он ревнует еЄ к этим стихам другому, но она не властна над своим творчеством, искренность в ней могущественнее воли. ќна безоружна перед собственной поэтической силой.
¬ письме ¬альмору от 10 декабр€ 1832 года она пытаетс€ как-то его успокоить и одновременно оправдатьс€:

«Ёти стихи, которые т€гот€т твоЄ сердце, наполн€ют теперь и моЄ сердце сожалением о том, что € их написала. я повтор€ю тебе чистосердечно, что они родились из нашей природы: это — музыка, вроде той, что сочин€л ƒалерак; это — впечатлени€, которые € нередко подмечала у других женщин, страдавших у мен€ на глазах. я говорила: «я бы на их месте испытывала то-то и то-то, и сочин€ла одинокую музыку. ¬идит Ѕог».
ћарселина окружает мужа заботой и материнской нежностью. ќн становитс€ дл€ неЄ как бы старшим ребЄнком, которого она охран€ет, лелеет и поддерживает советами. Ётого плохого провинциального актЄра, который нигде не может устроитьс€, которого в –уане освистывают, а в ѕариже никуда не принимают, ей приходитс€ всЄ врем€ утешать, успокаива€ его болезненно у€звлЄнное тщеславие, тридцать лет кр€ду скрывать от него, что это она своей работой и вс€ческими ухищрени€ми поддерживает всю семью. ¬ последние годы супружество превращаетс€ в материнство и сестринскую близость, в задушевный союз двух родных людей.
»з письма ћарселины ¬альмору от 25 но€бр€ 1839 года (ей 53):
« огда ты себ€ чувствуешь нехорошо, у мен€ начинаетс€ жар, и, если ты поникаешь духом, мо€ душа падает ещЄ ниже. ћы столько страдали друг возле друга, что стали словно близнецы...»
Ёто неприхотливое счастье длитс€ тридцать лет (до самой смерти супруга) и находит отражение в письмах ћарселины, хот€ задушевнейшие еЄ признани€ всегда обращены в них к любимой подруге, а еЄ заветна€ тайна, любовь к «ќливье», никогда не гаснет в ней до конца.
»з письма ћарселины: «¬ жизни есть прелесть и солнце, пока в ней есть любовь. то это сказал: «Ќичего не остаЄтс€ в жизни, кроме былой любви?»

ћарселина ƒеборг-¬альмор
Ёта неугасша€ любовь всю жизнь мучила еЄ угрызени€ми совести, и когда ¬альмор, уже в 47 лет, смущЄнно признаетс€ ей, 54-летней, что он не раз еЄ обманывал, она будет счастлива, что тоже сможет ему что-то простить: «–азве не было бы чудом, если бы ты избежал искушений твоего возраста и твоего ремесла? - пишет она мужу. - ѕоверь мне, важно лишь то, что они не смогли уничтожить нерасторжимости нашего союза. я не сержусь ни на одну из тех женщин, кому ты нравилс€, дорогой друг. —корее уж им не следовало бы прощать мне, что € тво€ жена и, откровенно говор€, не заслуживаю такого счасти€».
“ак, с добротой и чистосердечностью, они вновь и вновь укрепл€ют св€зь, котора€ их соедин€ет, и даже бедность, вечна€ и несносна€ их спутница, не способна отравить их чистую жизнь.
очевница
”спехи ћарселины на театральных подмостках слишком контрастируют с сомнительными триумфами еЄ мужа, это не может не ранить его самолюби€, и тогда она, не колебл€сь, покидает сцену, чтобы стать просто женой и матерью, домашней хоз€йкой.
—емь€ не имеет посто€нного денежного дохода, они терп€т лишени€ и нужду. ¬альмора то выгон€ют из одного театра, то не продлевают контракта в другом. Ќеважный актЄр, он несколько лет тщетно пытаетс€ закрепитьс€ на сцене одного из парижских театров. ≈му удаЄтс€ лишь подписать контракт с √ран “еатром Ћиона. ј нужно кормить, одевать и обучать п€терых детей.
¬ 1821г. семь€ покидает ѕариж и начинаетс€ их многолетн€€ скитальческа€ жизнь. —мен€ютс€ города Ћион, Ѕордо, –уан с короткими промежуточными возвращени€ми в ѕариж.

ѕариж 19 века
„аще всего ¬альмору приходитс€ работать на сцене театров Ћиона и –уана. ¬ этих городах они живут годами. ћарселина ненавидит Ћион. ¬ этом городе она испытывает одно из сильнейших потр€сений, став свидетельницей кровавой расправы над восставшими лионскими ткачами в 1834году, о которой не только расскажет в своих письмах, но и напишет стихи.

Ќесчастье и несправедливость, которые она видит повсюду, удручает еЄ и заставл€ет еЄ страдать как от собственной боли.
Ќет имени иным недугам, но они
∆изнь превращают в ночь, уничтожа€ дни;
Ќи жалоб, ни речей уста не изрекают,
» слЄзы по щекам ручь€ми не стекают.
ќткуда знаем мы на тонущих судах,
¬ каких таилс€ гром карающих звездах?
ƒа и не всЄ ль равно? Ќесчастие повсюду,
ѕрошедшее темно, и мерзко верить чуду.
“огда в самих себе опоры лишены,
“огда не люб€т нас и мы не влюблены,
“огда впиваемс€ полуугасшим взгл€дом
¬ неверный счасть€ мир, что и далЄк, и р€дом,
» создан дл€ таких, как мы, - но не дл€ нас -
» видим: луч дрожит, уходит... и погас.
(«Ѕезразличие»)
ћного лет ћарселине приходитс€ вести кочевой образ жизни. ѕосредственность ¬альмора как актЄра вынуждает их часто мен€ть места работы. —начала он ещЄ боретс€ в больших городах, но после того, как его освистали в Ћионе, начинает избегать больших сцен и бродит по провинции. ƒнЄм и ночью, с маленькими детьми и всем домашним скарбом, кочуют они из города в город, снова и снова грузитс€ на повозки их имущество, снова и снова контракты и увольнени€, надежды и разочаровани€. “ак продолжаетс€ двадцать, тридцать лет подр€д. ћарселина измучена, она взывает к Ѕогу: «ƒорогам прикажи мен€ не уводить!» Ќо дороги увод€т еЄ всЄ дальше. ¬ почтовой карете, на пути в »талию, где ¬альмор должен был играть с одной труппой, она пишет дрожащей рукой:
ƒано деревь€м врем€ расцветать,
плодоносить, расти и умирать.
ћне ж некогда: увы, всегда должна спешить €.
ќ Ѕоже, дай вкусить, его не прерыва€,
желанный отдых на моЄм пути,
с детьми, в тени... Ќет больше сил идти!

ћарселина ƒеборг-¬альмор в 1840-е годы
Ќо Ѕог ей не внемлет. ”же 50-летн€€, 14 раз переезжает она с квартиры на квартиру, вс€кий раз изгон€ема€ нуждой, и вс€кий раз только 6 или 7 этаж оказываютс€ ей по средствам. ≈Є ноги изранены. ¬се силы уход€т на мелочную борьбу за каких-нибудь 20-30 франков, которых каждый мес€ц не достаЄт. » все эти заботы ћарселина трогательно стараетс€ скрыть от мужа. ¬ 1842 году она пишет: «¬се свои женские способности, всю изобретательность, всЄ, что можно придумать в смысле слов и умолчаний, € употребл€ю на то, чтобы скрыть эту борьбу от моего дорогого мужа, который бы не вынес еЄ и неделю. ÷еною моих унижений € спасаю его гордость, и только в той жизни он узнает, какими невинными хитрост€ми, какими слезами, о которых знает только Ѕог и € сама, мне до сих пор удавалось скрывать от него печальную тайну хлеба, который ещЄ ни разу не отсутствовал на столе ни у него, ни у наших детей».
Ќо затем снова восклицает: «Ќужда убивает нас... я задыхаюсь от мелких денежных забот, которые гложут мою жизнь, как моль — шерсть».
ћарселина ведЄт героическую борьбу, чтобы обеспечить семье скудное существование: эта велика€ поэтесса, которой ‘ранци€ об€зана прекраснейшими, незабываемыми стихами, во все эти годы лишений — единственный работник в доме. ќна шьЄт одежду дет€м, стирает, штопает, стр€пает, а по ночам пишет сентиментальные новеллы и романы, чтобы заработать несколько франков. Ѕрат в английском плену, он посто€нно просит денег, и ей приходитс€ экономить, чтобы послать ему малую лепту, родные в вечной нужде, она помогает и им, в лионские тюрьмы она несЄт последний хлеб со своего стола.
Ќищета преследует ћарселину: она недел€ми не отсылает писем, потому что ей нечем их оплатить, и пишет их мелким почерком, чтобы потратить поменьше бумаги. ≈й не в чем выйти на улицу, платье и обувь таковы, что она вынуждена оставатьс€ дома. ≈динственное еЄ утешение — это стихи, которые она сочин€ет за работой, склон€€сь над п€льцами, и песенки, эти удивительные детские песенки, которыми она убаюкивает »пполита, ќндину и »несу, своих детей. ¬ еЄ жизни нет ни одного светлого, беззаботного дн€, и страшным было бы описание еЄ судьбы, не будь страдание движущей силой еЄ души и кипучим родником еЄ творчества.

ќкончание здесь
ћетки: ћарселина ƒеборд-¬ильмор жизнь судтба поэзи€ |
Ёссе Ќаталии равченко - "ќна пела, как поЄт птица".230 лет со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор, крупнейшей поэтессы французского романтизма. |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
20 июн€ — 230 лет со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор, крупнейшей поэтессы французского романтизма.

ћарселина ƒеборд-¬альмор (1786–1859) прожила трудную, полную утрат, скитаний и каждодневных забот жизнь актрисы, поэта, жены неудачливого актера, матери многочисленного семейства. Ќо в этой жизни была и велика€ страсть, которой французска€ поэзи€ об€зана проникновенной любовной исповедью. Ѕоль неразделенного чувства, материнские тревоги и радости, живое сострадание к чужому горю, надежды на утешение в ином мире составл€ют содержание безыскусных, но отмеченных удивительной выразительностью и музыкальностью стихов этой поэтессы. ≈й принадлежат поэтические сборники («ћари€. Ёлегии и романсы», 1819; «Ёлегии и новые стихи», 1825; «—лезы», 1833), а также несколько попул€рных в свое врем€ романов («ћастерска€ художника», 1833, и др.).

ѕоль ¬ерлен назвал ее «единственной талантливой женщиной века и всех времен» и даже включил стихи ћарселины ƒеборд-¬альмор в антологию «ѕрокл€тые поэты», опубликовав своЄ эссе о ней. ƒва томика поэтессы находились в библиотеке ѕушкина, о ней писали Ћуи јрагон и —тефан ÷вейг, ею интересовалс€ Ќицше, высоко ценили ¬олошин и ѕастернак.
»м€ ћарселины ƒеборд-¬альмор заслуживает своего места и в пам€ти русско€зычных читателей, хот€ бы потому, что еЄ стихи читал ѕушкин и одна из еЄ элегий послужила моделью дл€ пушкинского письма “ать€ны к ќнегину.

’орошо знали еЄ творчество и русские поэты-символисты. ѕастернак в письме к –ильке (1926), жела€ познакомить поэта с творчеством ÷ветаевой, писал, что ћарина дл€ –оссии – то же, что ћарселина дл€ ‘ранции. ј вот слова самой ћ. ÷ветаевой о глубинном родстве их душ:
¬ «≈– јЋ≈ Ќ»√»
ћ. ƒ.-¬.
Ёто сердце -- мое! Ёти строки -- мои!
“ы живешь, ты во мне, ћарселина!
”ж испуганный стих не молчит в забытьи,
» слезами раста€ла льдина.
ћы вдвоем отдались, мы страдали вдвоЄм,
ћы, люб€, полюбили на муку!
“а же скорбь нас пронзила и тем же копьЄм,
» на лбу утомленно-гор€чем своЄм
я прохладную чувствую руку.
я, лобзань€ прос€, получила копьЄ!
я, как ты, не нашла властелина!..
Ёти строки - мои! Ёто сердце - мое!
то же, ты или € — ћарселина?

ѕозже Ѕорис ѕастернак в письме к ћарине, вторично сравнива€ еЄ творчество с французской поэтессой, отдаст ей пальму первенства как поэту.
¬о ‘ранции стихи ћарселины ƒеборд-¬альмор пользовались большой попул€рностью в 20-е – 30-е годы 19 века. ≈ю восхищались великие современники ¬. √юго и его друг, знаменитый литературный критик —ент- ЅЄв, поэт јльфред де ¬иньи, Ѕеранже, Ѕальзак, позже – ѕоль ¬ерлен и јртюр –ембо. омпозиторы ћ. ћалибран, ∆. Ѕизе, —. ‘ранк создавали песни и романсы на еЄ стихи.

–укописи поэтессы хран€тс€ в библиотеке еЄ родного города ƒуэ.

библиотека ћарселины ƒеборд-¬альмор в ƒуэ
¬ 1993 в ƒуэ была создана јссоциаци€ ƒеборд-¬альмор. ≈Є именем названа улица в XVI округе ѕарижа.
ћарселина ƒеборд-¬альмор в –оссии
—очинени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор были довольно попул€рны и в российских литературных кругах. ћаксимилиан ¬олошин и Ѕорис ѕастернак, хорошо знакомые с еЄ работами, сравнивали с ней ћарину ÷ветаеву. ¬ частности, ѕастернак в своем письме к –ильке писал: «ћарина ÷ветаева, прирожденный поэт большого таланта, родственного по своему складу ƒеборд-¬альмор».

ƒва тома стихотворений ћарселины ƒеборд-¬альмор имел в своей библиотеке ѕушкин. Ћитературные критики (¬. Ќабоков, а позднее ё. Ћотман) провод€т параллели между одной из элегий французской поэтессы и письмом пушкинской “ать€ны к ќнегину.

Ёто созвучие может с легкостью обнаружить и малоискушЄнный в литературной критике читатель, сравнив следующие строки:
я, не видав теб€, уже была тво€.
я родилась тебе обещанной заране.
ѕри имени твоем как содрогнулась €!
“во€ душа мен€ окликнула в тумане.
ќно раздалось вдруг, и свет в очах погас;
я долго слушала, и долго € молчала:
Ќас в этот миг судьба таинственно венчала;
ак будто нарекли мне им€ в первый раз.
—кажи, не чудо ли? ≈ще теб€ не зна€,
я угадала в нем, кому обречена €,
≈го узнала € и в голосе твоем,
огда ты озарить пришел мой юный дом.
”слышав голос твой, € опустила веки;
ќдин безмолвный взгл€д нас обручил навеки;
“от взгл€д с тем именем казались мне слиты,
», не спросив о нем, € знала: это ты!
(«Ёлеги€», ћ. ƒеборд-¬альмор, пер. ћ. Ћозинского)
¬с€ жизнь мо€ была залогом
—видань€ верного с тобой;
я знаю, ты мне послан богом,
ƒо гроба ты хранитель мой...
“ы в сновидень€х мне €вл€лс€,
Ќезримый, ты мне был уж мил,
“вой чудный взгл€д мен€ томил,
¬ душе твой голос раздавалс€
ƒавно... нет, это был не сон!
“ы чуть вошел, € вмиг узнала,
¬с€ обомлела, запылала
» в мысл€х молвила: вот он!
(«ѕисьмо “ать€ны к ќнегину», ј.—.ѕушкин)
–оман ћарселины ƒеборд-¬альмор «ћастерска€ художника» (1833) заинтересовал Ћермонтова: испещренный пометками экземпл€р он подарил ≈. ј. —ушковой. —тихотворение ≈вдокии –астопчиной « огда б он знал» (1830) — подражание ƒеборд-¬альмор.

—тихи французской поэтессы переводили ¬алерий Ѕрюсов, ћихаил Ћозинский, √еннадий –усаков, »рина узнецова, »нна Ўафаренко и другие российские поэты, и сегодн€ с некоторыми из этих переводов € вас познакомлю.
ј вот что писал о ней √еоргий јдамович:
«ћарселина — одна из чистейших и прекраснейших французских поэтов. ” нее голос не сильный, но почти никогда не срывающийс€, никогда не фальшив€щий. Ёто редкое свойство, а у французов более редкое, чем где бы то ни было.
ѕри том внимании, каким издавна было окружено в –оссии французское искусство, удивительно, что им€ ƒеборд-¬альмор у нас почти никому не известно. ѕричины этого, веро€тно, в том мы больше учились у французов, чем читали их; мы старались переложить на «слав€нский лад» их технические приемы. ƒеборд-¬альмор же мастером, в техническом смысле слова, никогда не была.
... удивл€ешьс€, как мало эта старша€ современница √юго и ¬иньи была «литератором», как среди первых выкриков и манифестов романтизма, среди вс€ческой «суеты сует» ей удалось писать простые и, хочетс€ сказать, вечные стихи о любви и смерти».
ѕечальница

¬ чЄм же прит€гательность этой женщины и еЄ поэзии? ¬ музыкальности стиха, в искренности интонации и безыскусности? —ент–ЅЄв писал: «ќна пела, как поЄт птица». ≈ю восхищалс€ ѕаганини. ¬ том ли, что, по словам Ўарл€ Ѕодлера, «мадам ƒеборд-¬альмор была женщиной, всегда была женщиной и только женщиной, но она была в высшей степени поэтическим воплощением всех естественных красот женщины»?
»ли может быть, трогала еЄ судьба? ћарселину называли «ƒева слЄз» ( Notre Dame des pleures) и «—корб€ща€ мать» (Mater dolorosa, —тефан ÷вейг). Ћюсьен ƒекав, первый биограф поэтессы, озаглавил свою книгу «√орестна€ жизнь ћарселины ƒеборд–¬альмор».

—лезами отвечает она и на восторг, и на отча€ние, слЄзы — единственный еЄ €зык в любви: «Ћюбовь видала от мен€ одни лишь слЄзы».
—лЄзы — еЄ мир, pleurs и larmes — наиболее частые рифмы в еЄ стихах. ќна и сама была бы рада вз€ть от любви веселье, научитьс€ ей, как игре:
ак бы хотела € любить иначе!
Ќо не могу. ќт нежности € плачу,
и дл€ мен€ страдание — любовь.

ћарселина ƒеборд-¬альмор
“рудно сказать, была ли она красива. Ќемногочисленные еЄ портреты неточны и не вполне достоверны. Ќо по отзывам провинциальных газет тех лет она была миловидна, с ореолом белокурых волос, с м€гкими чертами полудетского личика. ќна очаровывала зрителей природной грацией и неподдельной искренностью души.

√од 1808-й, актрисе - 22 года. ћарселина ƒеборд, им€ уже известное во ‘ранции, в то врем€, как еЄ будущие великие друзь€ ещЄ не вышли из детского возраста (—ент – ЅЄву – 4 года, √юго – 6 лет, Ѕальзаку – 10, а ¬иньи – 11). ѕо€вл€етс€ еЄ первый портрет кисти известного художника–классициста ћишел€ ћартина ƒроллинга ( 1789 – 1861).

ƒроллинг уловил то мечтательное меланхоличное выражение, характерное дл€ поэтессы, которое мы увидим на еЄ изображени€х в исполнении других художников, прежде всего, еЄ д€ди онстана ƒеборда, знаменитого жанрового художника, сыгравшего огромную роль в жизни плем€нницы.

—о временем на портретах меланхоли€ смен€етс€ выражением печали, выдающим еЄ страдани€, следстви€ пережитых ею утрат. ћарселина глубоко знала душу женщин и была их великой утешительницей и советчицей в минуты скорби.
ѕлачущим сЄстрам
¬ы, нелюбимые, вы, ведавшие слЄзы,
€ вам всегда сестра, € ваш безвестный друг.
¬ам отданы мои медлительные грЄзы
и сладость горька€ моих пропетых мук.
«аточница-душа томитс€ в этой книге.
–аскройте: кто сочтЄт страдание моЄ?
ѕечальницы земли, где € влачу вериги,
склонитесь над золой, дотроньтесь до неЄ.
» пойте! ∆енщина врачует душу пеньем.
Ћюбите! Ќенависть мучительней любви.
ƒарите! ƒоброта богата примиреньем,
кто отдаЄт своЄ, тот слышит зов: живи!
огда вам некогда пролить, как €, чернила,
пролейте хоть слезу на бедные мечты.
ѕроща€, молишьс€. ¬ молитве — наша сила.
ѕростите дней моих раскрытые листы!
„тоб душу расточать в стихии слова шумной, -
хоть это многие чудачеством зовут, -
быть надо нежною скорее, чем безумной:
кто сердитс€ на птиц, когда они поют?

«лоключени€ юной ћарселины
ћарселина ƒеборд-¬альмор (ћарселина ‘елисите ∆озефина ƒеборд) родилась 20 июн€ 1786 года в семье художника-иконописца и актрисы в городке ƒуэ, в том же округе у фламандской границы, который подарил ‘ранции ¬ерлена и ¬ерхарна.

ƒуэ. 1871 год.

ƒуэ сейчас. ќдна из центральных улиц.
ќтец был придворным геральдиком и рисовальщиком гербов, чем неплохо обеспечивал их многодетную семью. ƒес€ть лет украшал он эмблемами двор€нские кареты и расписывал гербами и девизами всевозможную парадную утварь.

карета 19 века
ћарселина, чей талант певческий и артистический про€вилс€ уже в раннем детстве, обучалась музыке и пению.
Ќо революци€ разорила ‘еликса ƒеборда: она разрушила дворцы, кареты стали редкостью, а гербы пошли на слом. «аказы перестали поступать. »з привольной зажиточности семь€ ввергаетс€ в нищету. «аработок потер€н, нигде ни помощи, ни подспорь€.

‘ранцузска€ революци€
» тогда мать, ћари- атрин-∆озеф Ћюкас, решает молить о спасении одного дальнего родственника, гваделупского плантатора, о богатстве которого из-за мор€ доход€т легенды. ќна собираетс€ в дальнюю дорогу и берЄт в спутницы 12-летнюю ћарселину, нежное златокудрое дит€. Ќо у них не хватает денег на переезд, и почти два года мать и дочь скитаютс€ по всей ‘ранции, прежде чем им удаЄтс€ скопить и выпросить необходимую сумму. ћать слабосильна и беспомощна, и добывать хлеб изо дн€ в день приходитс€ юной ћарселине. огда другие дети ещЄ играли в куклы, она уже выступала с брод€чими актЄрами, танцевала и пела. “руд был нелЄгок, мать и дочь голодали, нищенствовали, мЄрзли, но переносили все испытани€, лишь бы перебратьс€ в страну золота, где, как наде€лись, их ждЄт спасение и богатство. » вот наконец необходима€ сумма собрана, и в 1801 году мать и дочь пускаютс€ в долгое 40-дневное плавание по океану к берегам далЄкого острова, в надежде спасти семью от нищеты.

ќднако по прибытии женщин ждЄт ужасна€ весть: √ваделупа уже не под французской властью, на острове — восстание порабощЄнных негров, и их родственник, богатый плантатор, убит одним из первых.


восстание негров
Ѕеспомощно сто€т обе женщины на берегу, одни среди этих диких людей и дикой природы. ћать не выдерживает, жЄлта€ лихорадка уносит еЄ в первые же дни, и вот 14-летн€€ ћарселина совсем одна, вдали от родины, среди чужих людей, без копейки денег. √ород постигает землетр€сение, она видит, как из гор вырываютс€ огненные столбы и как рушатс€ дома.
Ќа колен€х девочка умол€ет губернатора отправить еЄ домой. ѕроход€т недели, полные беспросветной нужды, пока еЄ желание исполн€етс€ и, бездомна€, осиротела€, ћарселина плывЄт обратно, снова сорок дней и ночей. ќна — единственна€ женщина на судне, и капитан, грубый пь€ница, пытаетс€ воспользоватьс€ еЄ беспомощностью. »спуганна€ девочка ищет спасени€ у матросов, и те поднимают бунт на корабле, чтобы защитить еЄ от приставаний. “огда в отместку капитан требует у неЄ плату за переезд и по прибытии в √авр отнимает у сироты сундучок со всем еЄ имуществом.

√авр. Ѕульвар.
ѕ€тнадцатилетн€€ девочка вступает в незнакомый город без гроша в кармане, но горькие испытани€ научили еЄ мужественно переносить лишени€. ќна добралась до Ћилл€, где кое-кого знала, и сердобольные знакомые, тронутые еЄ судьбой, устраивают в еЄ пользу спектакль.

Ћилль. “еатр.
»звещение о том, что выступит дит€, спасшеес€ от гваделупской резни, собирает зрителей и приносит ей такой сбор, что наконец после почти трЄхлетних странствий ћарселина может снова вернутьс€ в ƒуэ, к своим. Ќесколько дней она отдыхает в родном доме, но потом спешно отправл€етс€ дальше, чтобы не быть в т€гость близким, с трудом свод€щим концы с концами. ¬с€ т€жесть житейской нужды сваливаетс€ на хрупкие плечи юной девушки.
Ѕлеск и нищета театральных подмосток
Ѕлагодар€ €ркому певческому и актерскому дарованию, ћарселина вскоре была прин€та в театральную труппу. ќна выступает в театрах ƒуэ, Ћилл€, –уана и имеет большой успех. ≈й поручают роли «олушки, обиженной сироты, отверженной пастушки — все эти небесно-голубые, сентиментальные девичьи образы, знакомые нам по пасторальным картинам √рЄза.

∆ан-Ѕатист √рЄз. Ќевинность.

∆ан-Ѕатист √рЄз. ћЄртва€ птичка.
Ќо и в любую фальшь ћарселина всел€ет душу, потому что уже с детства еЄ жива€ доброта взволнованно откликалась даже на вымышленную судьбу. » эта душевна€ впечатлительность делает еЄ значительной актрисой.
ќднако насто€ща€ жизнь ћарселины, та, что за кулисами, была однообразна и тускла. огда наверху гасли свечи и падал занавес, она спешила домой, где еЄ ждали две сестры-нахлебницы, ещЄ более нищие, чем она сама. » там, при мигающей лампе, она должна была шить костюмы, стирать бельЄ, переписывать роли, чтобы хоть сколько-нибудь приработать.

«ћне бросали цветы, - писала она впоследствии, - а € шла домой голодна€ и никому об этом не говорила». » когда 20 лет спуст€ еЄ собственна€ дочь захочет поступить в театр, ћарселина будет в ужасе: «Ћучше умереть, чем дать ей пережить то, что пережила €».

—частливый случай вызвол€ет еЄ из провинции. јртисты омической оперы, гастролировавшие в 1804 году в –уане, услышат песенку, которую она пела в какой-то пьесе. ћила€ внешность ћарселины и необычайна€ одухотворЄнность еЄ игры привлекает их внимание. ќни устраивают ей ангажемент в ѕариж, в омическую оперу (Opéra-Comique), и молода€ актриса без вс€кой школы и подготовки очень скоро становитс€ певицей мировой сцены.

ѕариж. омическа€ опера.
ак актриса ћарселина утверждает себ€ на рол€х инженю в комической опере (нечто вроде современной оперетты).
≈Є нежный, но недостаточно сильный голос грозил потер€тьс€ в обширном зале, но музыканты, которых тоже покорили детское оба€ние и робка€ доброта души девушки, намеренно играли потише, чтобы не заглушать еЄ пени€, чтобы еЄ лучше было слышно.
¬еро€тно, она обладала недюжинным певческим даром, ибо пленила своим голосом и исполнением не только публику, но и известного бельгийского композитора √ретри, который помог ей выступить на сцене ќпера- омик –уана в 1805 году и несколько лет спуст€ исполнить партию –озины из «—евильского цирюльника», требующую высокого мастерства и владени€ голосом, в “еатре де ла ћоннэ в Ѕрюсселе.
— 1808 года ћарселина играет в парижском театре ќдеон.

ќднако тогда в ней ещЄ не прозвучали те два голоса, которые пробуд€т еЄ дл€ своего подлинного мира и сделают тем, чем она станет: Ћюбовь и ѕоэзи€. Ёто случитс€ позже.
ќливье
¬ 21 год в жизнь ћарселины пришла любовь. ¬ доме подруги она знакомитс€ с молодым человеком, сыгравшем (он тоже был актЄром и поэтом) в еЄ жизни роковую роль. ¬ стихотворении «ќсенн€€ прогулка» она вспоминает их первые встречи:
“ы помнишь ли, мой дорогой, мой милый,
осенний день, усталый, бледный свет?
ќн словно слал прощальный свой привет
лесам, ове€нным его красой унылой.
Ќичто утешить не могло природы.
¬есЄлые цвета уже тер€вший лес,
нагие берега и стынущие воды,
всЄ хоть бы луч тепла просило у небес.
ќдна € тихо шла от праздничного шума.
ћне нужен был покой, мен€ смущал твой взгл€д,
но тишина полей, их горестна€ дума
невольно в душу мне вливали тайный €д.
Ѕез цели, без надежд, отдавшись размышленью,
€ шла, не веда€, в какой € стороне.
Ћюбовь окутала мен€ любимой тенью,
и воздух осени казалс€ жгучим мне.
Ќапрасно разум мой, как т€жко ни металс€,
спаса€сь от теб€, сам от себ€ спасалс€:
неведома€ власть, пока в слезах € шла,
внезапно от земли мой взор оторвала.
—квозь вьющийс€ туман какой-то образ зыбкий
теплом и трепетом мне душу пронизал.
» солнце выплыло, и светлою улыбкой
разверзло небеса... “ы предо мной сто€л.
ћне было страшно слов, всесильно, молчаливо
мен€ волшебное объ€ло забытьЄ.
ћне было страшно слов, но € была счастлива:
€ сердце слушала, чужое и своЄ...

√лаву за главой мы можем проследить в еЄ стихах за коварной сетью обольщени€, которую умело ведЄт еЄ возлюбленный, за тем, как слабеет сопротивление влюблЄнной девушки, за перипети€ми еЄ чувств. «астенчива€ в речах и стыдлива€ в жизни, в стихах ћарселина раскрываетс€ до конца, беспредельно обнажа€ в них свою душу.
***
Ѕыла твоею €, ещЄ теб€ не зна€.
“ебе посв€щена вс€ жизнь мо€ с рождень€.
“еб€ не знала €, но, им€ услыхав
твоЄ, € замерла в негаданном волненье.
¬осхищена, безгласна, не дыша,
впервые слышу зов, но отвечать не смею.
ќна тво€, она слилась с твоею,
тобою пробуждЄнна€ душа.
ќ разум, помоги от глаз его укрытьс€...
Ќапрасно повернуть судьбу хотела всп€ть,
спаса€сь от теб€, самой себ€ бежать...

ќднако неизбежное произошло.
—естра, трепещущей души моей не стало:
она к пылающим устам его припала!

Ќи чувства, ни разум уже не борютс€, прошлое и будущее раствор€ютс€ в едином порыве, вспыхивает страсть:
» всЄ исчезло в нашем пламени двойном...

≈й больно от избытка счасть€, но ей хочетс€ ещЄ и ещЄ, она всЄ глубже погружаетс€ в любовь:
ƒруг, не узнать тебе, одна лишь € постигла,
каких глубин в тебе любовь мо€ достигла.
¬сЄ выше вздымаетс€ еЄ восторг, он сносит все преграды рассудка, и вс€ еЄ душа неудержимым потоком устремл€етс€ в новое чувство.
ќ молнии любви, высоких гроз удары,
—редь гнезд разметанных вы сеете пожары
» смерть, но небосвод навеки тьмой одет
ƒл€ тех, кто потер€л ваш несравненный свет!
(пер. ». узнецовой)

¬сю жизнь она держала в тайне его им€, называ€ в своих стихах и в письмах «ќливье».
»з письма ћарселины возлюбленному (сохранилось лишь два небольших отрывка из этих писем):
«Ћюби мен€, дружок, ответь моему сердцу; о, € умол€ю теб€, люби мен€ крепко! Ёто всЄ равно как если бы € тебе сказала: подари мне жизнь. “во€ любовь — ещЄ больше дл€ мен€, ќливье, мой ќливье! “ы не знаешь, до какой степени ты можешь сделать мен€ счастливой или несчастной».

ќдиночество
24 июн€ 1810 года чиновник парижского магистрата заносит в городские книги им€ новорождЄнного младенца мужского пола и делает многозначительную пометку: «ќтец неизвестен». —видетелем выступает один из друзей ћарселины, потому что «ќливье», таинственный возлюбленный, видимо, не склонен за€вить о себе публично. ќт узаконени€ их отношений он уклон€етс€ под тем предлогом, будто отец никогда не согласитс€ на его брак с актрисой. ¬ действительности же он только о том и думает, чтобы избавитьс€ от обременительной св€зи. ћарселина, в упоении любви и материнского счасть€, не догадываетс€ о его охлаждении. ќна т€нетс€ к нему всей своей пылающей душой, полна€ забот о нЄм, она ещЄ напутствует бегущего самыми нежными пожелани€ми (он объ€вл€ет ей, что должен уехать, дабы повидать отца и уговорить его):
”видишь ты отца. ¬ сыновнем поцелуе
ребЄнка своего прив€занность св€тую
отдай ему. Ќа сердце положи
ему любовь мою и уваженье.
ќн стал и мне отцом — ему скажи.
Ќа самом же деле неверный отправл€етс€ в »талию и долго отсутствует. »звести€ от него приход€т очень скупо, но ћарселина, бесконечно добра€ и доверчива€, не подозревает всей правды. —лучайно она узнаЄт о его возвращении и одновременно с этим слышит ужасную весть: он давно находитс€ в св€зи с другой женщиной. ¬ еЄ сознании молнией проноситс€ страшна€ мысль:
ќ горе! Ќравитьс€ ему € разучилась!

¬ отча€нии ћарселина бросаетс€ в объ€ти€ сестры, ища у неЄ утешени€:
—естра, ведь он ушЄл! —естра, мен€ покинул!
„его же, брошенна€, гибнуща€, жду?
ѕлачь надо мной, укрой объ€ть€ми своими...
ћне слЄзы так нужны...
ќна не хочет этому верить, и просит сестру обмануть еЄ, подарить ей надежду, потому что она не в силах вынести жестокой правды.
Ќет, брежу €! —кажи... ужели безвозвратно?
—кажи скорее, что вернЄтс€ он обратно,
что он не изверг... обмани мен€ — ну что ж!
Ќо только пусть и он повторит эту ложь...
—пеши к нему, скажи...
» при этом она знает, что он у другой, в долгие бессонные ночи эта картина €вственно встаЄт перед несчастной обманутой:
ќ, как он к ней прильнул! ак ей в глаза гл€дитс€!
ак дарит у мен€ украденную страсть!
» ћарселина бежит от него, уезжает к сЄстрам, в провинцию, в одиночество.
ќдно из еЄ стихотворений, обращЄнных к нему, где она изливает тоску и боль разлуки, так и называетс€: «ќдиночество»:
“ак значит, не затем, чтоб ждать с тоскою страстной,
€ эти знойные оп€ть встречаю дни?
» прежнюю любовь мне не вернут они?
» голос милого, пленительный и властный,
мне только грЄзою мерещитс€ напрасной?
¬сЄ кончено. ¬сЄ то, чем был мне дорог свет.
акой пустынный мир! уда все люди скрылись?
Ќе слышно времени: часы остановились.
∆ить, бесконечно жить! ј смерти нет и нет!
»ль надо мною ты, о вечность, т€готеешь?
Ѕезвыходна€ ночь! аким ты жаром тлеешь!
ак птица, смолкша€ при угасаньи дн€,
о, если б мне уснуть у мЄртвого огн€!
ќн думает, мой дух угас дл€ песнопений;
он, сердцем исцел€сь, моих не слышит пений;
не знает, сколько € намучилась в тиши.
Ќо что мне? ќн моей не исцелит души.
≈го € не польщу отрадой горделивой
узнать из слЄз моих, как он в любви богат.
„то вызвал бы мой стон? ≈го испуг? ¬озврат?
»ль жалость?.. –аньше смерть вернЄт мне мир счастливый.
¬сЄ рушилось. ќн сам — уже не то, чем был:
мне сердце раздробив, свой образ он разбил.
ќн мне не возвратит улыбки безм€тежной
и прелесть лЄгкую доверчивости нежной;
их у мен€ любовь умчала без следа.
„то отдано любви, погибло навсегда!
Ётой же теме посв€щена одна из еЄ пронзительных элегий:
—естра, все кончено! ќн больше не вернетс€!
„его еще € жду? ∆изнь гаснет. ћеркнет свет.
ƒа, меркнет свет. онец. ѕрости! » пусть прольетс€
—леза из глаз твоих. ¬ моих — слезинки нет.
“ы плачешь? “ы дрожишь? ак ты сейчас прекрасна!
» в прошлые года, в расцвете юных дней,
огда си€ла ты своей улыбкой €сной,
“ы не казалась мне дороже и родней!
Ќо — тише, вслушайс€… ќн здесь! “о — не виденье!
≈го дыхание € чувствую щекой!
» он зовет мен€! ќ, дай в твои колени
√ор€щий спр€тать лоб, утешь и успокой!
ѕослушай. ѕод вечер € здесь, одна, с тоскою
¬нимала в тишине далеким голосам.
¬друг словно чь€-то тень возникла предо мною…
—естра, то был он сам!
ќн грустен был и тих. » — странно — голос милый,
оторый был всегда так нежен и глубок,
«вучал на этот раз с такою дивной силой,
ак будто говорил не человек, а бог…
ќн долго говорил… ј из мен€ по капле
—очилась жизнь… “ак кровь из вскрытых вен течет…
ќт боли, нежности и жалости исс€кли
¬ душе слова, и страх сковал мен€, как лед.
ќн жаловалс€ — мне! ¬округ все замолчало,
» птицы замерли, его впива€ речь;
ѕрирода, кажетс€, сама ему внимала,
–учей — и тот затих, забыв журчать и течь…
„то говорил он? јх, упреки и рыдань€…
я слышу их еще сейчас…
Ќо сколько в этот миг в нем было оба€нь€,
акой струилс€ свет из милых влажных глаз!
ќн спрашивал, за что внезапно впал в немилость!
”вы, над женщиной любви безмерна власть:
ќн был со мной, — и € забыла, что сердилась,
¬ернулс€ он — и вновь обида улеглась.
Ќо он винил мен€! јх, это так знакомо!
я тщилась объ€снить… Ќо он махнул рукой
» произнес слова страшней удара грома: —
ћы не увидимс€ с тобой!
ј €, окаменев, как стату€, сначала,
Ќе вскрикнув, не обн€в, дала ему уйти;
» в воздухе пустом чуть слышно прозвучало
Ќенужное ему последнее: «ѕрости!»
(ѕеревод »нны Ўафаренко)
ћарселина покидает театр, зарываетс€ в свою печаль где-то в глухом углу ‘ранции. Ќо там, униженна€, уничтоженна€, она, несмотр€ на всЄ, продолжает его любить. » в страхе перед самой собой повер€ет это чувство стихам:
“ак значит, всЄ равно его ещЄ люблю!
ак € поражена печальным откровеньем...

ѕосле двух лет борьбы со своим чувством ћарселина убеждаетс€, что в ней живЄт жгучее желание снова увидеть его. ќна облегчЄнно сбрасывает с себ€ гордость:
ƒороже гордости моЄ мне было сердце!
ќн позвол€ет себ€ упросить. ќни вновь встречаютс€. онечно, это уже не то счастье упоени€ и страсти, это счастье в слезах, но ћарселина радостно принимает это брем€, хот€ понимает, каким оно будет т€жким.

¬озьмите трепетное сердце жертвы вашей
и цепи рабства возвратите ей.
Ќо и эта совместна€ жизнь, скреплЄнна€ покорностью и состраданием, длитс€ недолго.
¬ќ—ѕќћ»ЌјЌ»≈
огда однажды вдруг он стал белее мела
» голос, дрогнувший на полуслове, стих,
огда в его глазах така€ страсть горела,
„то опалил мен€ огонь, пылавший в них,
огда его черты, омытые си€ньем,
Ѕессмертным, как любовь мо€,
ћне в душу врезались живым воспоминаньем,—
Ћюбил не он, а — €!
(ѕеревод »нны Ўафаренко)
—коро он оп€ть покидает еЄ, и теперь это уже разлука навеки.
ћне вас послало божество,
ј вы не ведали того?
я помню и огонь и смех,
ћечты и музыку вначале,
ѕотом пришла пора печали,
Ѕессонница взамен утех…
ѕрощайте, музыка и смех!
¬ далекий край лежит ваш путь,
√де вьетс€ ласточкой игривой
ѕоэзи€ любви счастливой.
„тобы за ней пуститьс€ в путь,
¬ы сердце мне должны вернуть.
ѕусть эти слезы в тишине
ѕред богом вам придут на пам€ть,
¬едь вас они не могут ранить.
Ќо вспоминайте обо мне
Ћишь за молитвой, в тишине!

ћарселина берЄт своего ребЄнка, последнее своЄ досто€ние, и снова возвращаетс€ в жизнь. ”бежище еЄ любви разрушено, но взамен него возникла нова€ сила, утешение в несчастье: в ней родилс€ поэт. ≈Є чувство, отвергнутое одним, обращаетс€ ко всему миру, крылатые стихи вынос€т еЄ одинокую муку на вселенский простор.

ѕродолжение здесь
ћетки: ћарселина ƒеборд.¬альмор(1786-1859) жизнь судьба поэзи€ |
ороткометражные фильмы –езо √абриадзе (часть 3) |
Ёто цитата сообщени€ Ѕусильда50 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ороткометражки –езо √абриадзе  ороткометражные художественные фильмы –еваза (–езо) √абриадзе о весЄлых приключени€х трЄх дорожных мастеров. “рудно дополнительно что-то сказать... то их видел - сразу вспомнит, а кто был слишком юн, или не родилс€ ещЄ, то лучше один раз увидеть. –аньше (тогда!) часто показывали по телевизору смешные и трогательные истории про трЄх друзей, работников асфальтовых дорог. ќни, конечно, успевали между делом и белую разметку нарисовать, но ... интересно как раз было - что ещЄ такого выдумают эти немолодые проказники?!! акое приключение придумают, чтобы потом из него выпутыватьс€? —мотрели по много раз и ведь не надоедало!!! "ЅјЅќ„ ј" (1977г.) "“–» ∆≈Ќ»’ј" (1978г.) "”ƒј„ј" (1980г.) ¬ рол€х: ахи авсадзе, Ѕаадур ÷уладзе, √иви Ѕерикашвили |
ћетки: –езо √абриадзе фильмы жизнь |
Ўикарна€ жизнь ƒональда “рампа |
Ёто цитата сообщени€ _Sofia-9_ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
Ќравитс€ ¬ам это или нет, сегодн€ одиозный миллиардер из Ќью-…орка — один из наиболее веро€тных кандидатов в президенты јмерики.

Ќо его бурна€ де€тельность не ограничиваетс€ политикой.

“рамп не только владеет некоторыми из самых известных жилых зданий в —Ўј — его собственна€ недвижимость разбросана по всей стране от ћанхэттена до ѕалм-Ѕич, и вс€ она наполнена золотом!

ак правило, говор€ «дом», ƒональд “рамп имеет в виду Trump Tower на ѕ€той авеню в Ќью-…орке. Trump Tower — 68-этажный небоскреб.
—пальн€ “рампа расположена в пентхаусе.

ћетки: ƒональд “рамп жизнь |
—келеты в шкафу. „асть дев€та€. |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
Ќачало здесь

ќт прошлого спасень€ нет
” Ѕулата ќкуджавы много стихов и песен о преображающей душу силе музыки. "ћоцарт на старенькой скрипке играет", "ћузыкант в саду под деревом наигрывает вальс", "ћузыка", "¬от ноты звонкие органа", "¬ городском саду" и многие другие. ј мне очень нравитс€ вот это, менее известное:
Ќад площадью базарною
вечерний дым разлит.
ћелодией азартною
весь город с толку сбит.
≈врей скрипит на скрипочке
о собственной судьбе,
а € т€нусь на цыпочки
и плачу о тебе.

—нуЄт смычок по площади,
подкрадыва€сь к нам,
все музыканты прочие
укрылись по домам.
¬се прочие мотивчики
не сто€т ни гроша,
покуда здесь счастливчики
толп€тс€ чуть дыша.
акое милосердие
€вл€ет каждый звук,
а каково усердие
лица, души и рук,
как плавно, по-хорошему
из тьмы исходит свет,
да вот беда, от прошлого
никак спасень€ нет.

¬ этой песне ќкуджава писал о себе.
¬ 1947 году поэт женитс€ на однокурснице √алине —моль€ниновой. ѕосле свадьбы переезжает в еЄ семью.

ј в начале 60-х годов в их семье началс€ разлад. ѕричиной была друга€ женщина — ќльга јрцимович, котора€ стала потом второй женой Ѕулата.

расавица блондинка, волева€, властна€, ей посв€щены "ѕутешествие дилетантов", "¬илковские фантазии", "ѕрогулки фраеров", "—тихи без названи€". ќна была самым строгим критиком ќкуджавы: в интервью как-то за€вила, что от всего его наследи€ оставила бы стихов тридцать. Ёто ей посв€щено "—трога€ женщина в строгих очках мне рассказывает о сверчках..."

–азлад с первой женой √алиной многим тогда, в том числе и самому Ѕулату, казалс€ каким-то недоразумением. Ќа долю этой весЄлой и доброй женщины выпали самые трудные, неустроенные годы жизни с ќкуджавой, годы ожиданий и надежд, и еЄ м€гкий спокойный характер помог ему преодолеть все невзгоды. Ётот разрыв далс€ ему очень т€жело. огда-то он не мог даже представить, что такое может случитьс€.
¬с€кое может статьс€.
(¬ жизни чему не быть?)
¬друг захочу расстатьс€,
вдруг разучусь любить.
¬друг погл€жу с порога
за семь морей и рек:
"¬он где мо€ дорога,
глупый € человек!"
» соберусь проститьс€,
лишь огл€нусь назад:
две молчаливых птицы
из-под бровей гл€д€т,
будто бы говор€т мне:
"ќстанови свой бег,
это же неверо€тно,
глупый ты человек!"

ѕервый ребЄнок Ѕулата и √алины — девочка — умерла при родах. ј через несколько лет у них родилс€ сын »горь.

≈му ќкуджава посв€тил стихотворение "ќлов€нный солдатик моего сына", которое в 1967 году в ёгославии получило высшую премию "«олотой венец". ¬ –оссии оно было впервые опубликовано лишь через п€ть лет в "ћосковском комсомольце", за что главный редактор ѕавел √усев был наказан.
«емл€ гудит под соловь€ми,
под майским нежитс€ дождЄм.
ј вот солдатик олов€нный
на вечный подвиг осуждЄн.
≈го, наверно, грустный мастер
пустил по свету, невзлюб€.
—проси солдатика: "“ы счастлив?"
» он прицелитс€ в теб€.
» в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеютс€ люди, плачут люди,
а он всЄ ждЄт своих врагов.
ќн ждЄт упр€мо и пристрастно,
когда накинутс€, труб€...
—проси его: "“ебе не страшно?"
» он прицелитс€ в теб€.
∆ивЄт солдатик олов€нный
предвестником больших разлук
и автоматик ока€нный
боитс€ выпустить из рук.
∆ивЄт защитник мой, невольно
сигнал к сраженью тороп€.
—проси его: "“ебе не больно?"
» он прицелитс€ в теб€.

–ужьЄ солдатика рикошетом выстрелило в самого Ѕулата. ≈сли бы он мог предвидеть тогда все последстви€ своего поступка... ѕозже, гл€д€ на свой портрет, написанный —ергеем јвак€ном, ќкуджава скажет, что в нЄм художнику удалось передать самое главное — это его беспомощность перед обсто€тельствами, перед невозможностью что-либо изменить.

ѕортрет Ѕулата ќкуджавы работы —. јвак€на
¬сю ночь кричали петухи
и ше€ми мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.
Ќо было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, вход€т в дом,
стыд€сь себ€, мужчины.
» был тот крик далЄк-далЄк
и падал так же мимо,
как глад€т, гл€д€ в потолок,
чужих и нелюбимых.
огда ласкать уже невмочь
и отказатьс€ трудно...
» потому всю ночь, всю ночь
не наступало утро.
Ѕулат ещЄ долго колебалс€, прежде чем уйти из семьи. Ќо, получив резкую отповедь от √алины, решилс€: взыграла арм€но-грузинска€ кровь.
√лаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огн€.
» давит мен€ это небо и гнЄт —
вот так она любит мен€.
ѕрощай. –асстаЄмс€. ѕощады не жди!
¬сЄ €вственней день ото дн€,
что пусто в груди, что темно впереди —
вот так она любит мен€.
јх, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча хран€,
но, старый солдат, € стою, как в строю...
¬от так она любит мен€.
¬скоре у ќльги родилс€ от Ѕулата сын Ѕулат. „ерез полтора мес€ца после его рождени€ ќкуджава развЄлс€ с √алиной. ќна и сын »горь восприн€ли его уход очень болезненно. »горь так и не простил его, не общалс€ с ним, не признавал в нЄм отца. √алина т€жело переживала их разрыв и через год скончалась от сердечного приступа в подъезде своего дома. ≈й было всего тридцать дев€ть.

Ѕулат не хотел идти на похороны. ќн бо€лс€, что если на них €витс€, все будут осуждающе гл€деть на него как на главного виновника случившейс€ трагедии и перешЄптыватьс€:вот ведь, мол, хватило наглости, €вилс€ как ни в чЄм не бывало, да что, ему всЄ как с гус€ вода... ѕисательница «о€ рахмальникова, друг ќкуджавы, уговорила его всЄ-таки прийти на них. » в продолжении всей этой долгой душераздирающей кладбищенской процедуры она сто€ла р€дом с еле держащимс€ на ногах Ѕулатом, изо всех сил сжима€ его ладонь. ѕотом он посв€тит ей стихотворение "ѕрощание с новогодней Єлкой", где будут такие строки:
≈ль мо€, ель, уход€щий олень,
зр€ ты, наверно, старалась:
женщины той осторожна€ тень
в хвое твоей затер€лась!
≈ль мо€, ель, словно —пас на рови,
твой силует отдалЄнный,
будто бы свет удивлЄнной любви,
вспыхнувшей, неутолЄнной.

Ѕоль от этой нелепой трагической смерти, в которой косвенно был повинен он сам, сопровождала его всю жизнь. ней примешивалась и неизбывна€ боль о сыне, который после смерти матери, остававшийс€ на попечении престарелой бабушки, по сути оказалс€ предоставленным самому себе. —дружившись с компанией юных наркоманов, он стал принимать наркотики, попал в тюрьму, отсидел срок. ќкуджава пыталс€ спасти »гор€ от тюрьмы, но ничего не вышло. ¬сЄ это очень мучило его. »з этого душевного штопора он так и не выбралс€, о чЄм можно судить по многим стихам.

ј как перва€ любовь — она сердце жжЄт.
ј втора€ любовь — она к первой льнЄт.
ј как треть€ любовь — ключ дрожит в замке,
ключ дрожит в замке, чемодан в руке.
ј как первый обман — да на заре туман.
ј второй обман — закачалс€ пь€н.
ј как третий обман — он ночи черней,
он ночи черней, он войны страшней.
("ѕесенка о моей жизни")

ј в €нваре 1997-го - за несколько мес€цев до смерти - ќкуджава пережил подкосившую его трагическую гибель старшего сына »гор€ . ќкуджава всю жизнь чувствовал вину перед ним. ¬ стихотворении «»тоги» писал:
¬ п€тидес€тых сын мой родилс€,
печальный мой старший,
рано уставший, в землю упавший...
» не подн€ть...

»горю было всего сорок три. —естра его матери √алины —моль€ниновой »рина ∆ивописцева в своей книге «ќпали, как листва, дес€тилеть€» («—анкт-ѕетербург, 1998) вспоминала о своей последней встрече с »горем: «… я, скрыва€ слЄзы, смотрела на его седые, стриженные под машинку волосы — когда-то длинные и волнистые, потухшие глаза и тр€сущиес€ руки. ќн с трудом передвигалс€ на костыл€х (одну ногу из-за гангрены ему отн€ли выше колена). ќн неузнаваемо изменилс€ за 15 лет. јх, каким он был когда-то красивым мальчиком!»
ќкуджава пережил его лишь на полгода. »з стихов последних мес€цев:
“€нетс€ жизни моей карнавал.
—чет подведен, а он т€нетс€, т€нетс€.
¬се совершилось, чего и не ждал.
„то же достанетс€? „то же останетс€?

Ќа улице моей беды стоит ненастна€ погода,
шум€т осенние деревь€, листвою блеклою сор€.
Ќа улице моих утрат зиме господствовать полгода:
все ближе, все неумолимей разбойный холод декабр€.
ѕосле смерти сына здоровье ќкуджавы сразу резко ухудшилось. ¬рачи запрещали ему курить (эмфизема лЄгких), но он курил крепкие сигареты «∆итан», его бил кашель. “а же истори€, что и с Ѕродским...
ћне ничего не надо, и сожалений нет:
в руках моих гитара и пачка сигарет.

¬есь в туманах житухи вчерашней
все наде€сь: авось, как-нибудь --
вот и дожил до утренних кашлей,
разрывающих разум и грудь.
», хрип€ от прокл€той одышки,
помина€ минувшую стать,
не берусь за серьезные книжки:
всЄ боюсь не успеть дочитать.
ƒобрый доктор, соври на прощанье.
¬идишь, как к твоей ручке приник?
¬друг поверю в твои обещань€
хоть на день, хоть на час, хоть на миг.
–аб ничтожный, взыскующий града,
перед тем, как ладошки сложить,
вдруг поверил, что ложь тво€ -- правда
и еще суждено мне пожить.
¬есь в туманах житухи вчерашней,
так надеюсь на правду твою...
Ћучше ад этот, грешный и страшный,
чем без вас отсыпатьс€ в раю.
ќн продолжал писать стихи, но в них уже ощущалась душевна€ усталость, надломленность. «авод кончилс€, лирическа€ струна ослабла.
∆аль, что молодость пропала, жаль, что старость коротка.
¬сЄ теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах.
Ќо зато уже не будет ни загадок, ни ошибок,
“олько ровна€ дорога, только ровна€ дорога до последнего звонка.

последн€€ фотографи€ ќкуджавы на последнем дне рождени€
¬се, что мерещилось, в прах сожжено.
“ак, лишь кака€-то малость в остатке.
¬от, мой любезный, какое кино
€ посмотрел на седьмом-то дес€тке!
"“ак тебе, праведник!" -- крикнет злодей.
"¬от тебе, грешничек!" -- праведник кинет...
я не прощень€ прошу у людей:
что их прощение? ¬спыхнет и сгинет.
“ак и качаюсь на самом краю
и на свечу несгоревшую дую...
—коро увижу € маму свою,
стройную, гордую и молодую.

ќн скончалс€ в ѕариже 12 июн€ 1997 года в возрасте 73 лет. ѕохоронен на ¬аганьковском кладбище.

ћетки: Ќатали€ равченко Ѕулат ќкуджава √алина —мол€нинова сын »горь ќкуджава ќльга јрцимович сын Ѕулат жизнь поэзи€ проза смерть |
—келеты в шкафу. „асть шеста€ |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
Ќачало здесь

—частливый домик

¬ 1911 году ¬ладислав ’одасевич женитс€ на јнне √ренцион, младшей сестре писател€ √еорги€ „улкова. Ёто был счастливый брак, хот€ и не первый в жизни обоих. —воей второй жене ’одасевич посв€щает вторую книгу стихов "—частливый домик".

Ќазвание это вз€то им из стихотворени€ ѕушкина "ƒомовой" ("» от недружественного взора счастливый домик охрани!") —частливый домик, воспетый ’одасевичем в книге — призрак семейного счасть€, которое он испытал там с женой и сыном (у јнны был ребЄнок от первого брака). » если в прежних стихах поэта преобладали душевное см€тение, драматизм, трагизм, м€тежные думы, внутренн€€ раздвоенность , то в "—частливом домике" он выразил гармонию родственных отношений, идеал домашнего очага, семейного уюта, простого сердечного счасть€.
ќ радости любви простой,
утехи нежных обольщений!
¬ы величавей, вы св€щенней
величи€ души пустой.
ƒисгармоничный в своЄм первом сборнике «ћолодость», поэт теперь ищет гармонии в самом элементарном и всегда новом:
ѕотом, когда в своем наитье
–азочаруешьс€ слегка,
¬оспой простое чаепитье,
ѕыльцу на крыль€х мотылька.
√лавную мысль этой книги можно было бы сформулировать так: да, существует мир тревоги, тоски, м€тежных дум и ожидани€ смерти. Ќо над ним, выше его стоит то, что должно быть истинным содержанием жизни любого человека: потребность в мирной жизни, живом счастье, существующем где-то р€дом. ’от€ тема домашнего уюта была дл€ ’одасевича совсем не органична,— человек он был трагичный, безуютный, неприка€нный.

ѕервый раз ’одасевич женилс€ рано, не достигнув и 19 лет, на красавице ћарине –ындиной, особе взбалмошной и эксцентричной. ќн - бедный студент, поэт-декадент, а она — богачка, владелица шикарного имени€. ћарина любила вставать рано и в одной ночной рубашке, но с жемчужным ожерельем на шее, садилась на лошадь и носилась по пол€м и лесам. ћогла вместо ожерель€ надеть на шею ужа и отправитьс€ так в театр, шокиру€ своим видом публику в зале. ј как-то на одном из московских костюмированных балов €вилась голой, с вазой в форме лебед€ в руках: костюм символизировал Ћеду и Ћебед€. рутила романы направо и налево. огда муж был в отъезде, сошлась с —ергеем ћаковским. ¬ладислав не мог долго сносить развлечени€-эскапады своей жены, и они расстались. ¬ обращЄнных к ней стихах он писал: «»ди, пл€ши в бесстыдствах карнавала...»

ћарина –ындина, в замужестве ћаковска€. ѕортрет работы ј. я. √оловина
¬тора€ жена ’одасевича была полной противоположностью первой: тиха, скромна, задумчива и покорна.

јнна √ренцион
¬ одном из стихотворений, посв€щенном јнне, он писал:
“ы показала мне без слов,
ак вышел хорошо и чисто
“обою проведенный шов
ѕо краю белого батиста.
ј € подумал: жизнь мо€,
ак нить, за Ѕожьими перстами
ѕо легкой ткани быти€
Ѕежит такими же стежками.
“о виден, то сокрыт стежок,
“о в жизнь, то в смерть перебега€...
», улыба€сь, твой платок
ѕеревернул €, дорога€.
—тихи оказались пророческими: ’одасевич действительно через три года «перевернул платок»: рассталс€ с „улковой ради Ќины Ѕерберовой, молодой, пылкой и энергичной. — ней он и уехал на «апад.

Ќина Ѕерберова
ƒа, € бежал, как трус, к порогу ’лои стройной,
¬нима€ брань друзей и персов дикий вой,
» все-таки горжусь: €, воин недостойный,
¬сех превзошел завидной быстротой.
—частливец! € сложил у двери потаенной
ƒоспехи т€жкие: копье, и щит, и меч.
” ложа сонного, разнеженный, влюбленный,
’ламиду грубую бросаю с узких плеч.
¬от счастье: пить вино с подругой темноокой
» ночью, пробуд€сь, увидеть над собой
√лаза звериные с туманной поволокой,
–евнивый слышать зов: ты мой? ”жели мой?
» целый день потом с улыбкой простодушной
«а ’лоей маленькой бродить по площад€м,
¬нима€ шепоту: ты милый, ты послушный,
ѕриди еще, -- € все тебе отдам!
("Ѕегство")
ћожно подумать, что речь идЄт о бегстве ’одасевича от жены к Ќине Ѕерберовой, но нет. Ёто стихотворение 1911 года, и адресатом его была в то врем€ именно јнна, к которой поэт уходил от прежней возлюбленной — ≈вгении ћуратовой. ("ћожно полагать, что ’ло€ в этом стихотворении -- јнна »вановна „улкова, сближение ’одасевича с которой относитс€ к осени 1911 г." (ћальмстад и ’ьюз, 1983, 296)
ќбо всем в одних стихах не скажешь.
∆изнь идет волшебным, тайным чередом,
“очно длинный шарф кому-то в€жешь,
“очно ждешь кого-то, не груст€ о нем.
Ќижутс€ задумчивые петли,
Ќа крючок посмотришь - все желтеет кость,
» не знаешь, он придет ли, нет ли,
» какой он будет, долгожданный гость.
”тром ли он постучит в окошко,
»ль стопой неслышной подойдет из тьмы
» с улыбкой, страшною немножко,
¬се распустит разом, что св€зали мы.
¬месте с јнной они пережили т€жЄлое врем€ революций, голода, безденежь€. »з воспоминаний Ќадежды ћандельштам:
«∆или они трудно. Ѕез жены ’одасевич бы не выт€нул. јнна добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, стирала, варила, мыла больного ¬ладека... т€жЄлому труду она его не допускала». огда весной 1920-го ’одасевич заболел фурункулЄзом, жена по 20 раз в день перев€зывала все его 120 нарывов. —амоотверженность этой женщины не знала себе равных. ”тром она спешила на службу, вечером была за кухарку, потом — за сестру милосерди€. ќна была его женой, сестрой, матерью, ангелом-хранителем...
ћ. Ўагин€н в рецензии на "—частливый домик" ’одасевича писала: "≈го счастливый домик — это совсем особый домик, в котором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас". Ќо революци€, годы военного коммунизма, гражданска€ война с их голодом, холодом, бедностью, болезн€ми, каждодневными т€готами расшатали "счастливый домик". ¬ течение нескольких лет картина мира разительно изменилась. ƒл€ иллюзий в нЄм уже не оставалось места.
«десь домик был. Ќедавно разобрали
верх на дрова. Ћишь каменного низа
осталс€ грубый остов...

Ёти стихи предвосхитили распад семейного домика самого ’одасевича. Ћетом 1922 года он встречает молодую писательницу Ќину Ѕерберову, котора€ станет его третьей женой.

ќн ничего не мог поделать с этим чувством:
ƒолжно быть, это мой позор,
но что же, если вот —
душа, всему наперекор,
поЄт, поЄт, поЄт?
’одасевич дарит Ѕерберовой свою новую книгу "ѕутЄм зерна" с надписью: "Ќине ¬ладиславовне. 1922. Ќачало весны".

ƒа, дл€ них, решивших что будут вместе, это действительно было началом весны, новой жизни, началом тЄплого счастливого времени, когда прорастают зЄрна и удержать их невозможно. Ќо дл€ законной жены поэта јнны »вановны это было не началом, а концом, трагической разв€зкой, близость которой она чу€ла и умол€ла сказать ей правду.
ќднако ’одасевич не нашЄл дл€ неЄ этих горьких, но честных слов. ќн уехал с Ѕерберовой за границу тайно, посыла€ жене с дороги (€кобы из командировки), телеграммы о том, что скоро будет, чтобы та не верила сплетн€м и пекла к его приезду его любимый €блочный пирог. Ёто были необходимые меры конспирации, чтобы не узнали раньше времени, не помешали отъезду. ¬сЄ так, но... ¬сЄ же по отношению к јнне его поступок был бесчеловечен. ”ехать навсегда, не простившись, не объ€снившись, не попросив прощени€ за своЄ предательство...
јнна никогда не держала на ’одасевича зла, не сказав ему ни слова упрЄка. ќна дожила до хрущЄвской оттепели, сохранив архив поэта и сделав всЄ возможное, чтобы творчество еЄ мужа, сбежавшего к другой женщине, не забылось на –одине. ѕочему поэт уехал тогда с 20-летней красавицей Ќиной Ѕерберовой, а не с ней, столько сделавшей дл€ него в самое трудное врем€? ќтвета нет. —аму Ѕерберову это тоже удивл€ло: "ћен€ поразило, — писала она в воспоминани€х, — что он сматываетс€ втихар€ от женщины, с которой провЄл все т€жЄлые годы и которую называл женой". —уд€ по всему, трагеди€ ’одасевича была глубже внешнего зла — он знал, что частица зла мирового сокрыта и в нЄм самом.
»з его стихов, написанных в Ѕерлине:
ќ чЄм? «абыл. Ќепостижимо.
ак можно жить в тоске такой!
ќн вскакивает. ћимо, мимо,
на ветер, на берег морской!
олышетс€ его просторный
пиджак — и, подавл€€ стон,
пред европейской ночью чЄрной
заламывает руки он.
("≈вропейска€ ночь")

ажетс€, что он это пишет о себе. “огда, весной 22-го, ’одасевич сказал своей юной невесте на их первом свидании, что у него теперь две задачи в жизни: быть с ней вместе и — уцелеть. «адачи были успешно решены: –осси€ осталась в кошмарном прошлом, р€дом — любима€ женщина, новые страны, знакомства, встречи, жизнь — с чистого листа... Ќо что-то мешало быть счастливым.
ƒуша! “ебе до боли тесно
здесь, в опозоренной груди.
»щи отрады поднебесной,
а вниз, на землю, не гл€ди.
“ам, с оставшейс€ далеко внизу земли смотрели на него ничего не понимающие, доверчиво распахнутые глаза брошенной јни, котора€ продолжала с надеждой печь его любимый €блочный пирог: а вдруг правда вернЄтс€?

ѕробочка над крепким йодом!
ак ты скоро перетлела.
“ак вот и душа незримо
жжЄт и разъедает тело.

портрет ¬. ’одасевича работы ё. јнненкова
ƒуша, пам€ть, совесть стали неодолимым преп€тствием к счастью.
ћне каждый звук терзает слух,
и каждый луч глазам несносен.
ѕрорезыватьс€ начал дух,
как зуб из-за припухших дЄсен.
ѕрорежетс€ — и сбросит прочь
изношенную оболочку.
“ыс€чеокий — канет в ночь,
не в эту серенькую ночку.
ј € останусь тут лежать —
банкир, заколотый апашем, —
руками рану зажимать,
кричать и битьс€ в мире вашем.
("»з дневника")

Ћеди долго руки мыла,
Ћеди крепко руки терла.
Ёта леди не забыла
ќкровавленного горла.
Ћеди, леди! ¬ы как птица
Ѕьетесь на бессонном ложе.
“риста лет уж вам не спитс€ -
ћне лет шесть не спитс€ тоже.
»з воспоминаний јнны „улковой:
«¬ ответ на мое письмо получила телеграмму: "¬ернусь четверг или п€тницу". ћы жили на углу Ќевского и ћойки, и из нашего окна был виден почти весь Ќевский. я просто€ла оба утра четверга и п€тницы у окна, наде€сь увидать ¬ладю едущим на извозчике с вокзала. ¬ п€тницу за этим зан€тием мен€ застала Ќад€ ѕавлович и сказала мне: "“ы напрасно ждешь, он не приедет". я ей на это показала телеграмму, но она повтор€ла: "ќн не приедет". ќна была права. „ерез два дн€ € получила письмо, написанное с дороги за границу. ќн выехал из ћосквы в среду. ѕисьмо было короткое. Ќачиналось оно так: "ћо€ вина перед тобой так велика, что € не смею даже просить прощени€".
¬ дальнейшем € узнала, что он получил командировку от Ќаркомпроса и вместе с ним получила визу на выезд за границу его "секретарша" Ѕерберова. ѕомог им в этом деле ћ.√орький. ƒл€ мен€ наступило очень т€желое врем€: была больна туберкулезом, без работы, без денег и с ужасными душевными страдани€ми».
»з письма бывшей жене ’одасевича ќльги ‘орш:
"ƒорога€ јнна »вановна, очень благодарю за стихи ¬ладислава ‘елициановича... ƒуша его глубока€, и как ни странно и противоречиво со всей зримой недобротой, внешностью характера -- была нежна€ и детски жаждавша€ чуда. » больно, что при таком совершенстве стиха до конца осталась эта раз€ща€ жестокость. ќтчего так обидно и страшно выбирал он только больное, бескрылое и недоброе -- он же сам, сам был иной».
ќ своей заграничной жизни ’одасевич написал в одном из своих поздних стихотворений с красноречивым названием: ««еркало». —тихотворение, в котором, как в зеркале, виден он сам, трагическа€ раздвоенность его души и жизни.

я, €, €. „то за дикое слово!
Ќеужели вон тот — это €?
–азве мама любила такого,
∆елто-серого, полуседого
» всезнающего, как зме€?
–азве мальчик, в ќстанкине летом
“анцевавший на дачных балах,—
Ёто €, тот, кто каждым ответом
∆елторотым внушает поэтам
ќтвращение, злобу и страх?
–азве тот, кто в полночные споры
¬сю мальчишечью вкладывал прыть,—
Ёто €, тот же самый, который
Ќа трагические разговоры
Ќаучилс€ молчать и шутить?
¬прочем, так и всегда на средине
–окового земного пути:
ќт ничтожной причины — к причине,
ј гл€дишь — заплуталс€ в пустыне,
» своих же следов не найти.
ƒа, мен€ не пантера прыжками
Ќа парижский чердак загнала.
» ¬ергили€ нет за плечами,—
“олько есть одиночество — в раме
√овор€щего правду стекла.

Ћюбима€ женщина спуст€ 10 лет ответит поэту таким же предательством, уйд€ к другому. ќн вскоре умрЄт на операционном столе в возрасте 53 лет. ѕохоронен будет в ѕариже на кладбище Ѕулонь Ѕианкур.

огда бы долго жил на свете,
должно быть, на исходе дней
упали бы соблазнов сети
с несчастной совести моей.
ака€ может быть досада,
и счасть€ разве хочешь сам,
когда нездешн€€ прохлада
уже бежит по волосам?..

ѕод впечатлением этой истории € написала стихотворение, которое назвала "—частливый домик":
„улкова јнна, јнна √ренцион -
задумчива, тиха, неприхотлива.
≈й был «—частливый домик» посв€щЄн.
» домик был действительно счастливым.
ќна варила, шила дотемна,
фурункулы лечила и ласкала,
дрова рубила... ¬ладека она
к т€жЄлому труду не допускала.
¬с€ раствор€лась в этом дорогом,
поэте, муже, гении, вожатом...
ќни мышей кормили пирогом -
такие были славные мышата.
«—частливый домик» - исповедь и гимн
тому, что им казалось вечным летом.
—м€тение, раздвоенность, трагизм -
всЄ отступало перед этим светом.
ќн так любил, гл€д€сь в еЄ черты,
и профилем еЄ любу€сь чистым,
когда она с улыбкой доброты
склон€лась над иглою и батистом.
ќчаг, уют, гармони€ родства.
ѕотребность в мирной жизни, тихом счастье...
Ќо вновь неприручЄнные слова
стучатс€ в грудь и рвут еЄ на части.
ќно €вилось, вихрем воздым€ -
богин€, ћуза, новое светило...
» всЄ, что было св€зано двум€ -
одна легко и просто распустила.
» он бежал, как трус, не объ€сн€сь,
презрев обитель комнатного ра€,
туда, где будет падать мордой в гр€зь,
кричать и битьс€ в корчах, умира€.
» не ¬ергилий за плечами, нет, -
он в зеркале еЄ порою видел:
усталую и бледную, как снег,
застывшую в непон€той обиде.
ќна гл€дит куда-то между строк
и рукопись его, как руку, гладит.
» всЄ печЄт свой €блочный пирог...
ј вдруг приедет ненагл€дный ¬ладик?
ќн в лире мировой оставит след
и в европейской ночи канет в бозе.
ј јнна замерла под вспышкой лет,
навек оставшись в этой светлой позе.
ѕродолжение следует
ћетки: Ќатали€ равченко ’одасевич Ѕерберова поэзи€ жизнь любовь и смерть Ёмиграци€ |
—келеты в шкафу. „асть втора€. |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
Ќачало здесь

—трашен мне уют
Ћюбовь Ѕлока с его ѕрекрасной ƒамой в реальной жизни, как известно, не состо€лась: еЄ загубили метафизика, мистическа€ схоластика, ложные философские теории, декадентство. ¬ жертву им была принесена жива€ жизнь. ак тут не вспомнить €довитое замечание √Єте по поводу мистического чувства любви у романтиков: нереальное отношение к женщине, вырожда€сь в туманные эротические двусмысленности, приводит в итоге в публичный дом. »з дневника Ѕлока: "Ќочь. Ћихач. ¬арьете. јкробатка выходит. я умол€ю еЄ ехать. Ћетим, ночь зи€ет. я совершенно вне себ€. я рву еЄ кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках — кака€-то сила и тайна..."

ј. Ѕлок
ѕрошло три года. Ћюбовь ћенделеева записывает в дневнике: "“ой весной € была брошена на произвол вс€кого, кто бы стал за мной ухаживать". Ётим человеком стал ј.Ѕелый — бывший друг, единомышленник и поклонник Ѕлока. Ѕелый даЄт ей пон€ть, что любит еЄ не как ѕрекрасную ƒаму, а как живую женщину: ежедневно посылал корзины цветов, забрасывал страстными письмами, звал уехать за границу, умол€л "спасти его, спасти –оссию". аждый вечер он приходил, садилс€ к ро€лю и пел ей романсы. Ѕлок скрывалс€ в другой комнате или уходил из дома — устран€лс€. ћенделеева плакала и писала в дневник: "ќчень т€жело. ќдин — не муж. Ѕелый — искушение".

Ћ. ћенделеева
ѕозже, обозрева€ прожитое, Ћюбовь ћенделеева в своЄм дневнике охарактеризует годы 1909 —1911, проведЄнные с Ѕлоком, двум€ словами: "Ѕез жизни". ј следующее 4-летие обозначено у неЄ знаменательной пометой: "¬ рабстве у страсти". ’отел того Ѕлок или нет, но он сам толкнул свою ќфелию на путь декадентской вседозволенности, и она, очерт€ голову, кинулась в омут. — какой-то третьестепенной труппой актЄров Ћюба уезжает на длительные гастроли. —цена не стала еЄ призванием, скорее, средством ухода от опостылевшего очага, в котором не было тепла. ќна затевает флирт — с одним, с другим, третьим.
Ћомка нормальных семейных отношений, котора€ в их кругу пышно именовалась "революцией быта", больно ударила по ним обоим. ∆изнь переучивала, опровергала декадентскую ложь, заставл€ла учитьс€ на своих ошибках. ¬сЄ богочеловеческое и сверхчеловеческое ушло, осталось просто человеческое.
Ќе знаю, где приют своей гордыне
ты, мила€, ты, нежна€, нашла.
я крепко сплю, мне снитс€ плащ твой синий,
в котором ты в сырую ночь ушла.

"Ќу что же, — признаЄтс€ Ѕлок себе в дневнике, — надо записать чЄрным по-белому историю, таимую внутри. ќтвет на мои никогда непрекращающиес€ преступлени€ были: сначала Ѕелый, которого € ненавижу, потом „улков, кака€-то уж совсем мелочь (јуслендер), от которого мен€ теперь тошнит. ѕотом — "хулиган из “мутаракани" — актЄришка. “еперь не знаю кто".
«имний ветер играет терновником,
задувает в окна свечу.
“ы ушла на свиданье с любовником.
я один. я прощу. я молчу.
“ы не знаешь, кому ты молишьс€, —
он играет и шутит с тобой.
ќ терновник холодный уколешьс€,
возвращаю€сь ночью домой.
Ќо, давно прислушавшись к счастию,
у окна € теб€ подожду.
“ы ему отдаЄшьс€ со страстию.
¬сЄ равно. я тайну блюду.
¬сЄ, что в сердце твоЄм туманитс€,
станет €сно в моей тишине.
» когда он с тобой расстанетс€,
ты признаешьс€ только мне.
¬ 1908 году жена Ѕлока влюбл€етс€ в актЄра труппы ћейерхольда онстантина ƒавидовского. — гастролей она возвращаетс€ беременной. Ѕлок ни о чЄм не спрашивал, был предупредителен, ласков. ќн готовилс€ стать отцом. ≈му казалось, что вот теперь, после рождени€ ребЄнка, жизнь может пойти по-другому. –одилс€ мальчик. ≈го назвали ћитей, в честь ћенделеева. „ерез неделю ребЄнок умер.
¬ голубой далЄкой спаленке
твой ребЄнок опочил.
“ихо вылез карлик маленький
и часы остановил.
Ѕлок сам похоронил младенца и потом каждый год навещал могилу.
огда под заступом холодным
скрипел песок и €ркий снег,
во мне, печальном и свободном,
ещЄ смир€лс€ человек.
ѕусть эта смерть была пон€тна —
в душе, под песни панихид,
уж проступали злые п€тна
незабываеых обид.
я подавлю глухую злобу,
тоску забвению предам.
—в€тому маленькому гробу
молитьс€ буду по ночам.
јтмосфера в доме была очень т€жЄлой. ћать Ѕлока не нашла общего €зыка с невесткой, в семье были посто€нные конфликты, из-за которых Ѕлок очень страдал. ћать была подвержена душевному недугу, часто лежала в психиатрической клинике. ѕо мнению Ћюбы, она дурно вли€ла на сына, с которым у неЄ была больша€ духовна€ близость. Ѕлок разрываетс€ между самыми дорогими существами, испытывает страшные душевные муки и не видит выхода из создавшегос€ положени€. "“олько смерть одного из нас троих сможет помочь", — жестоко говорит он матери. ќна по-своему истолкует стихи Ѕлока, где говорилось о "пристальном враге", примет их на свой счЄт и попытаетс€ отравитьс€. Ѕлока мучает невыносима€ тоска, сознание своей вины перед матерью, одиночество, вечное ожидание жены, уехавшей в ∆итомир к любовнику...
¬ отча€нии он пишет ей письмо: "ћне очень надо твоего участи€. —тихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. ƒавно € не прочЄл тебе ничего. Ћампадки не зажигаютс€. ’олодно как-то. “о, что € пишу, € могу написать и сказать только тебе. ћногого € не говорю даже маме. ј если ты не поймЄшь — то и Ѕог с ним, пойду дальше так".
я — √амлет. ’олодеет кровь,
когда плетЄт коварство сети,
и в сердце перва€ любовь
жива — к единственной на свете.
“еб€, ќфелию мою,
увЄл далЄко жизни холод.
» гибну, принц, в родном краю,
клинком отравленным заколот.
√амлетовский вопрос "быть или не быть" встаЄт перед ним всЄ чаще и неотвратимей. ¬ ту пору Ѕлок был на волоске от самоубийства. ќн пишет цикл из семи стихотворений под названием "«акл€тие огнЄм и мраком":
ѕо улицам метель метЄт,
свиваетс€, шатаетс€.
ћне кто-то руку подаЄт
и кто-то улыбаетс€.
¬едЄт и вижу: глубина,
гранитом тЄмным сжата€.
“ечЄт она, поЄт она,
зовЄт она, прокл€та€.
я подхожу и отхожу,
и замер в смутном трепете:
вот только перейду межу —
и буду в струнном лепете.
» шепчет он — не отогнать
(и вол€ уничтожена):
пойми: уменьем умирать
душа облагорожена.
ѕойми, пойми, ты одинок,
как сладки тайны холода...
¬згл€ни, взгл€ни в холодный ток,
где всЄ навеки молодо...
Ѕегу. ѕусти, прокл€тый, прочь,
не мучь ты, не испытывай!
”йду € в поле, в снег и ночь,
забьюсь под куст ракитовый!
“ам вол€ всех вольнее воль
не приневолит вольного,
и болей всех больнее боль
вернЄт с пути окольного.

— "пути окольного" его вернЄт ћуза. "» в жизни, и в стихах — корень один. ќн — в стихах. ј жизнь — это просто кое-как", — запишет он в дневнике. » ещЄ: "„ем хуже жизнь, тем лучше можно творить". Ѕлок не мог повторить вслед за ѕушкиным: "Ќа свете счасть€ нет, но есть покой и вол€". ќн разуверилс€ не только в счастье, но и в покое: "ѕоко€ нет. ѕокой нам только снитс€".
орней „уковский вспоминал, как поразила его комната Ѕлока кричащим несходством с еЄ обитателем. ¬ комнате был уют и покой размеренной, благополучной жизни, на столе — педантичный пор€док, а сам хоз€ин казалс€ воплощением бездомности, неуюта, катастрофы. » такой же контраст — между его биографией и внутренним миром. ¬нешне биографи€ поэта выгл€дела идиллической, мирной, счастливой. Ќо стоит прочесть любое из блоковских стихотворений, как вс€ эта идилли€ рассыплетс€ вдребезги и благополучие обернЄтс€ бедой.
ћилый друг, и в этом тихом доме
лихорадка бьЄт мен€.
Ќе найти мне места в тихом доме
возле мирного огн€!
√олоса поют, взывает вьюга,
страшен мне уют...
ƒаже за плечом твоим, подруга,
чьи-то очи стерегут!
ѕродолжение здесь
ћетки: јлександр Ѕлок жизнь любовь поэзи€ революци€ |
ќн никогда не называл —моктуновского великим. ќн говорил, что такой только одинЕ |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]




| «а много лет до этого »ннокенти€ —моктуновича, второго из шестерых детей в семье ћихаила ѕетровича —моктуновича и јнны јкимовны ћахневой, могли убить на войне. ≈му было дев€тнадцать лет, когда он попал на фронт. |
Ёто была уже пожизненна€ фамили€ человека, впервые попавшего в театр в четырнадцать лет: "…это было просто дурно по вкусу, но тогда вышел потр€сЄнный… ƒолжно быть, € был очень добрым зрителем или во мне уже тогда заговорило нутро: попал домой". √оды спуст€ он снова в театре, но уже в качестве артиста: сперва безуспешно в ћоскве, потом значительно успешней в Ќорильске. “уда в конце сороковых годов добровольно никто не приезжал. “ам жили заключЄнные. √”Ћј√ в его самом северном варианте. “ам и все роли в театре играли заключЄнные. ј —моктуновский оказалс€ среди них единственным вольноопредел€ющимс€. —реди заключЄнных был и √еоргий ∆жЄнов. „итать далее
ћетки: »ннокентий —моктуновский жизнь театр |
ќбычна€ любовь.. |
Ёто цитата сообщени€ оллекционерка [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ак только человек стал ƒ”ћј“№ и „”¬—“¬ќ¬ј“№,и говорить, он стал говорить о ЋёЅ¬».
√овор€,что ее не бывает, слагает про нее баллады,оды, сочин€€ книги, фильмы.
„еловек твердит,что любовь - это выдумка, но в душе всегда ждет ее, и снимает про нее фильмы, читает реп...
ќбычно мы читаем истории любви великих, знаменитых и известных людей...
ј € хочу рассказать историю любви обычных людей...ќбычных?
“ех людей, из которых и на которых держитс€ мир...
ћетки: страна жизнь любовь пам€ть |
ќдержимость "русского ’эмингуэ€" Ќикола€ √умилева |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

24 августа 1921 года был расстрел€н Ќиколай √умилев. √олос —еребр€ного века, поэт-путешественник, его непреодолимо манила опасность. √умилев играл с судьбой. ¬спомним 7 одержимостей «русского ’емингуэ€» Ќикола€ √умилева „итать далее
ћетки: Ќиколай √умилЄв Ёрнест ’эмингуэй жизнь судьба |
ћережковский. ќдиночество в любви. |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

|
ак часто выразить любовь мою хочу, Ќо ничего сказать € не умею, я только радуюсь, страдаю и молчу ак будто стыдно мне – € говорить не смею. » в близости ко мне живой души твоей “ак все таинственно, так все необычайно,- „то слишком страшною божественною тайной ћне кажетс€ любовь, чтоб говорить о ней. ¬ нас чувства лучшие стыдливы и безмолвны, » все св€щенное объемлет тишина ѕока шум€т вверху сверкающие волны, Ѕезмолвствует морска€ глубина. ћережковский ƒмитрий |
«я думаю, из писателей, писавших в –оссии…,
было мало прин€вших в душу столько печали».
¬. ¬. –озанов
ћетки: ћережковский «.√ипиус литература жизнь поэзи€ эмиграци€ |
"ћихаил озаков-не дай мне Ѕог сойти сума...".¬идео |
ƒневник |
ћетки: ћихаил озаков судьба жизнь |
»з цикла *∆«Ћ* - Roman de Tirtoff (–оман “ыртов) (1892-1990) |
Ёто цитата сообщени€ klassika [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ћетки: –оман тыртов жизнь судьба |
‘рансуаза —аган Ђ«дравствуй, грусть!ї |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]


wikipedia.org
‘рансет уарез родилась 21 июн€ 1935 года в городе ажак и была младшим ребенком в семье с хорошим достатком. ¬ ней сочетались высокий интеллект, не свойственный ровесникам, и огромна€ нелюбовь к дисциплине, котора€ царила в католической школе. ќттого приходилось мен€ть ненавистные школы ‘ранции и Ўвейцарии и вновь терпеть. ‘рансуаза много читала, и это зан€тие поглощало ее, как бушующее море. ¬озможно, поэтому она прекрасно писала школьные сочинени€ и даже романы и драмы. Ќо это были пробы пера и первые про€влени€ большого таланта. ¬ 14 лет ‘рансуаза познакомилась с творчеством ∆ан ѕол€ —артра, и он, а не школьные педагоги и родители, стал ее насто€щим учителем. ‘рансуаза словно чувствовала нить, св€зывающую ее и великого писател€, с которым родилась в один день. Ѕлагодар€ ему и из-за него она переосмысл€ла жизнь и перестала верить в Ѕога, но не потер€ла јнгела-хранител€.
¬ 1953 году ее ждал провал в —орбонну, а в 19 лет – шумна€ слава. “ак стоит ли расстраиватьс€, что слабые знани€ в области естественных наук и английского €зыка не позволили поступить в самое престижное учебное заведение ‘ранции? онечно, нет. ѕотому что золотые зерна жизненной сути она выбирала интуитивно, называ€ себ€ "прожигательницей жизни". ¬се-таки она начала учитьс€ на литературных курсах при —орбонне, но это было не главное. — учебой €вно не ладилось: "» € пон€ла, что больше подхожу дл€ того, чтобы целоватьс€ на солнце с юношей, чем дл€ того, чтобы защитить диссертацию!" ("«дравствуй, грусть!") ѕарижские кафе, долгожданна€ свобода, интересные встречи с писател€ми, художниками, артистами, окрыл€ющее чувство влюбленности и рукопись, лежавша€ в ее комнате. „итать далее
ћетки: ‘рансуаза —аган судьба жизнь |
ино и жизнь. “рагеди€ ћэрилин ћонро |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

wikipedia.org
—тарейший из могикан "фабрики грез", 70-летний продюсер ƒжо Ўенк приказал секретарше ни с кем его не соедин€ть и никого к нему не пускать, налил себе полстакана виски, не спеша, со вкусом отхлебнул, зажег сигару и удобно расположилс€ в глубоком м€гком кресле. —екретарша понимающе улыбнулась – здесь это было в пор€дке вещей - и отключила телефон. ћолоденька€ старлетка, проскользнувша€ в комнату вслед за боссом, приблизилась к старику и опустилась перед ним на колени…
огда все кончилось, ƒжо вздохнул: "ћожет быть, из теб€ действительно что-то получитс€, детка", одной рукой вновь налил себе успокаивающий нервы алкоголь, а другой пот€нулс€ к звонку и вызвал секретаршу: "—оедини-ка, мен€, милочка, с √арри оном".
ћэрилин скрыла улыбку. ќна все же добилась своего. он был могущественным хоз€ином " оламбиа ѕикчерз". ќн не отказал старому Ўенку, и проз€бавша€ на третьестепенных рол€х в "’’ веке-‘окс", а затем и вовсе позабыта€ там среди тыс€ч себе подобных, в 1948 году она заключила полугодовой контракт с " оламбиа": 75 долларов в неделю. Ќо была благодарна Ўенку и за это. ћэрилин уже знала, что в √олливуде не только плат€т, но и расплачиваютс€. » хорошо знала – чем. „итать далее
ћетки: ћерилин ћонро жизнь судьба |
Ќаталь€ √ундарева |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
(28 августа 1948, ћосква - 15 ма€ 2005, ћосква)

ќткуда снова этот свет
небес и шумный блеск дождей?
ќткуда ветер? “о есть — ветр?
» женщина, и тайна с ней?
ак долго прожил в темноте,
уединилс€ ото всех!
√де были те дожди, и те
снега, и свет, и женский cмех?
» вновь гроза! » снова €
ове€н ею с головой!
ак €рки тучи надо мной!
ак ты безмерна, жизнь мо€!
"Ќаташе √ундаревой" јлександр ¬олодин
ћетки: Ќаталь€ √ундарева жизнь судьба |
ѕисатель, подружившийс€ с дь€волом |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ƒню рождени€ ћихаила јфанасьевича Ѕулгакова посв€щаетс€.

15 ма€ 1891 года родилс€ один из самых читаемых писателей XX века, попул€рность которого в –осии даже сегодн€ в разы превосходит славу других авторов. этой дате AdMe.ru подготовил пост признательности ћихаилу јфанасьевичу за его великий вклад в литературу.
„итать далее
ћетки: ћ.ј.Ѕулгаков ƒень рождени€ жизнь |
к 150-летию со дн€ рождени€ Ётель Ћилиан ¬ойнич |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ойнич - фамили€ еЄ супруга, известного библиофила и антиквара ћихаила ¬ильфреда ¬ойнича. (ѕосмотрите фильм про ћанускрипт ¬ойнича) „итать далее
ћетки: юбилей Ё.Ћ.¬ойнич жизнь судьба |
ёли€ ƒрунина."“еперь не умирают от любви Ч насмешлива€ трезва€ эпоха..." |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

20 но€бр€ 1991 года известна€ поэтесса ёли€ ƒрунина покончила с собой.
...ќна привела в пор€док все дела: подготовила рукопись новой книги, запечатала в конверты записки друзь€м, родственникам и даже милиции:"Ќикого не винить. я ухожу по собственной воле." ј потом она пошла в гараж, закрыла его изнутри, села в машину, выпила снотворное и включила мотор.„итать далее
ћетки: ёли€ ƒрунина стхи жизнь |
"“а сама€ Ѕелка" в пам€ть о “ать€не —амойловой. |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: “ать€на —амойлова юбилей смерть жизнь |
ћишель ѕфайффер. “ри сбежавших ќскара... |
Ёто цитата сообщени€ Dmitry_Shvarts [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—егодн€ она стала еще на один год более... “ворческой. ќна давно отвыкла от голливудских др€зг и пробок Ћос-јнджелеса, перебравшись на собственное ранчо. ќна не любит смазливых мужчин и вот уже 20 лет живет со своим мужем, наруша€ неписанные законы "‘абрики грез". ќна любит выращивать овощи, заботитьс€ о лошад€х и миниатюрных осликах у себ€ на ранчо. ќна продолжает сниматьс€, но при этом в ее приоритетах при выборе ролей и места съемок остаетс€ дом, дети и то, насколько близок к завершению тот или иной ее рисунок (она занимаетс€ живописью - специализируетс€ на портретах - и категорически не любит оставл€ть работу не завершенной)...

ћетки: ћишель ѕфайфер жизнь |
"∆изнь мо€, как летопись, загублена..." ѕродолжение |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ѕросьба пока не читать: текст ещЄ в стадии редактировани€!
Ќачало здесь

“ема пока€ни€, прин€ти€ вины — и всеобщей, и личной — особенно сильно звучит у ¬ладимира Ќарбута в стихотворении «—овесть» из поэмы «јлександра ѕавловна»:
∆изнь мо€, как летопись загублена,
киноварь не вьетс€ по письму.
я и сам не знаю, почему
мне рука втора€ не отрублена...
¬ той же книге помещено и стихотворение «Ќа смерть јлександра Ѕлока», написанное Ќарбутом после возвращени€ из ѕетербурга, где он участвовал в похоронах поэта.

похороны ј. Ѕлока

”знать, догадатьс€ о тебе,
Ћежащем под жестким оде€лом,
ѕо страшной отвиснувшей губе,
ѕо темным под скулами провалам?..
”видеть, догадатьс€ о твоем
¬сегда задыхающемс€ сердце?..
ќно задохнулось! ѕродаем
ћы песни о веке-погорельце.
Ќе будем размеривать слова...
ј здесь, перед обликом извечным,
ѕлюгавые флоксы да трава
ƒа воском заплеванный подсвечник.
«аботливо женска€ рука
“есемкой поддерживает челюсть,
÷ингой раскор€ченную... “ак,
ѕлешивый, облезший - на постели!..
ƒовольно! √ранатовый браслет -
«емные последние оковы,
—ладчайший, томительнейший бред
„иновника (помните?) ∆елткова.
«» плыл ќкт€брь (а не окт€брик!)»
¬ начале 1914 года «÷ех поэтов» был распущен, и в этом же году Ќарбут уезжает на родину, но не в Ќарбутовку, а в √лухов, где прошли его гимназические годы.

гимнази€ в √лухове, где училс€ ¬. Ќарбут
“ам он женитс€ на Ќине Ћесенко, а в 1915 году у них родилс€ сын –оман.
ј далее гр€нул ќкт€брь 1917 года, «…когда из фабрик // ѕреображенный люд валил // » плыл ќкт€брь (а не окт€брик!)».
–еволюционные событи€ застигли поэта в √лухове. ќни разбудили бурный общественный темперамент Ќарбута. ќн становитс€ редактором-издателем лево-эсеровской газеты «√луховска€ жизнь», а в сент€бре 1917-го переходит на позиции большевиков, даже становитс€ депутатом в «емском совете. ¬ 1918 году оказываетс€ в ¬оронеже, оставив жену и сына на ”краине, и там тоже разворачивает активную редакционно-издательскую де€тельность: редактирует местные газеты, возглавл€ет губернский союз журналистов, создаЄт литературно-художественный журнал «—ирена», в котором публикует свои первые послереволюционные стихи.
Ќеровный ветер страшен песней,
звен€щей в дутое стекло.
уда брести, ќкт€брь, тебе с ней,
коль небо кровью затекло?
—утулый и подслеповатый,
дорогу щупа€ клюкой,
какой зажмешь ты рану ватой,
водой опрыскаешь какой?..
¬ дыму померкло: "ћира!" - "’леба!"
ƒни распахнулись - два крыла.
» –адость радугу в полнеба,
как бровь тугую, подн€ла...
» день и ночь пылает —мольный.
ѕодкатывает броневик,
и держит речь с него крамольный
чуть-чуть раскосый большевик...

¬ мае 1920 года Ќарбут - в освобождЄнной ќдессе, где его политическа€ работа приобретает гигантский размах. ќн заведует ќдесским бюро украинского отделени€ российского телеграфного агентства, выпускает листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты.

–адио-телеграфное агентство ”краины. ¬. Ќарбут внизу первый слева.
¬от как он изображает революционный переворот в ќдессе:
ќт птичьего шеврона до лампаса
полковника всЄ погрузилось в дым.
ќ город –ишелье и ƒе-–ибаса!
«абудь себ€, умри и стань другим.

ѕтичьим шевроном поэт назвал трЄхцветную ленточку, нашитую на рукаве белогвардейского офицера в форме римской п€тЄрки, напоминающей условное изображение птички, так называемую галочку.


ќдно из самых знаменитых стихов Ќарбута революционного периода - «–осси€», особенно строчки, ставшие его визитной карточкой, неким опознавательным знаком при его имени. —трочки, где он упом€нет библейский образ, давший позже название его книге и предвосхитивший название книги √умилЄва 1921 года «ќгненный столп»:
ўедроты сердца не размен€ны,
и хлеб - все те же п€ть хлебов,
–осси€ –азина и Ћенина,
–осси€ огненных столбов!
Ѕред€ тропами незнакомыми
и ранами кровоточа,
лелеешь волю исполкомами
и колесуешь палача.
«десь, в меркнущей фабричной копоти,
сквозь гул машин вопит одно:
- » улюлюкайте, и хлопайте
за то, что мне свершить дано!..
» день гр€дет - и молний трепетных
распластанные веера
на труп укажут за совдепами,
на околевшее ¬чера.
» «автра... веки чуть приподн€ты,
но мглою даль заметена.
јх, с розой девушка - сегодн€ ты
обетованна€ страна!
ѕрекрасное, несколько мистическое изображение революции. Ёто стихотворение открыло собой несколько лет лирики Ќарбута, рождЄнной «в огне» (так называетс€ одно из стихотворений) гражданской войны, где земл€ часто противостоит небу. ¬ них — сплав низкого с высоким, ча€ний с отча€ньем, смешение разных стилей и €зыковых пластов, и всЄ это оплавлено т€жким личным опытом, «не читкой — гибелью всерьЄз».
ќбритый наголо хунгуз безусый,
хрома€, по п€там твоим плетусь,
о »оанн, предтеча »исуса,
чрез воющую волкодавом –усь.
» под мохнатой мордой великана
пугаю высунутым €зыком,
как будто зубы крепкого капкана
зажали сердца обгоревший ком.

¬ огне брода нет
¬ 1921 году у √умилЄва вышел сборник «ќгненный столп», название которого было €вно наве€но книгой Ќарбута «¬ огненных столбах», отпечатанной в ќдессе годом раньше. Ќарбут, открыв книгу √умилЄва, в задумчивости произнес: «Ќам всем гореть огненными столпами. Ќо какой ветер развеет наш пепел?» ѕоэты — всегда пророки...
оманду слушай, ветхий бог и дь€вол,
»нтернационалу внемли, брат!
Ќа буржуа широкою облавой
пошЄл российский пролетариат.
¬ серпа и молота когортах
идЄм сквозь мрак и холод скверн.
» не ’ристос восстал из мЄртвых,
а солнценосный оминтерн!
“оварищи! «а революцию!
л€нЄмс€! - жизни отдадим,
ручьи кровавые прольютс€,
но — победим!

Ѕ. устодиев. Ѕольшевик. 1920 г.
» не только «упоение в бою» читаетс€ в этих строчках, романтика бо€, но и трагическа€ правда братоубийственной войны.
ѕропела тоненько пул€,
махнула сабл€ сплеча...
ќ тепла€ ночь июл€,
широкий плащ палача!
· · · · · · · · · · · ·
јх, эти черные раны
на шее и на груди!
Ћети, жеребец буланый,
все пропадом пропади!
ѕрощайте, завода трубы,
мелькай, степна€ тропа!
я буду, рубаха грубый,
раскраивать черепа.
"¬ огне" (1920)
–еволюционные идеалы большевизма стали новой верой Ќарбута. ќчень скоро за эту веру ему пришлось пострадать.
¬ канун нового 1918 года на усадьбу, где он жил в √лухове с женой, сыном и братом —ергеем, было совершено вооруженное нападение — по газетной хронике - «неизвестных злоумышленников», по семейному преданию Ќарбутов — бандой зелЄных. —ергей и управл€ющий имением были убиты, ¬ладимир Ќарбут получил пулю в левую руку. ƒвухлетнего сына жена успела спр€тать под кровать. ј потом отвезла раненого мужа в больницу, где ему ампутировали левую кисть. ѕозже этот факт отразил в своих стихах Ќиколай јсеев:
„тобы кровь текла, а не стихи,
с Ќарбута отрубленной руки.
(—мысл этих строк, видимо, в требовании подлинности поэзии, выраженном в предельно острой, максималистской форме).
Ќикто не сомневалс€, что нападение было политическим, покушались на Ќарбута-большевика. √ражданска€ война, на ”краине особенно свирепа€ и кровава€, не двузначна€ («красные» — «белые»), а многолика€ (немцы, ƒеникин, ÷ентральна€ –ада, јнтанта, ѕетлюра, махновцы, другие), гор€чо поварила в своем котле ¬ладимира Ќарбута, несмотр€ на его инвалидность. ƒа он и сам не желал миритьс€ со своей инвалидностью. «ѕотер€ руки сперва была очень непри€тна, но потом € освоилс€, и — уже не так неудобно, как прежде. Ќу будет об этом… т€жело…»
« олченогий»
¬ 1978 году выйдет нашумевший роман ¬. атаева «јлмазный мой венец», где многие факты из жизни Ќарбута, по мнению его потомков (сына и внучки) были своевольно и недоброжелательно перетолкованы.
¬ романе он называет его «колченогим» (там все поэты снабжены кличками, тем более прозрачными, что сопровождались подлинными цитатами, названи€ми книг, известными фактами биографий. –оман от этого воспринималс€ как документальное повествование и легко угадывалось, кто есть кто), так как Ќарбут был с детства хромым («хрома€, по п€там твоим плетусь») и вдобавок заикалс€. ( «Ќарбут заикалс€ всегда. <…> ќтец неожиданно подкралс€ к ¬олоде, когда тот рассаживал цветы на клумбе, и напугал. — тех пор заикалс€». (»з воспоминаний сына, –омана Ќарбута).
” атаева это довольно зловещий, даже демонический образ, с которого, говор€т, Ѕулгаков писал своего ¬оланда (« олченогий» - одна из самых удивительных и, может быть, даже зловещих фигур, странное порождение той эпохи»).
”влеченно цитиру€ многие его стихи, признава€сь, что с юных лет помнит их наизусть, атаев настойчиво сопровождает цитаты такими определени€ми, как «страшна€ книга», «еще более ужасных его стихов», «способных довести до сумасшестви€».
¬от ещЄ одна красноречива€ цитата:
«Ќашей ќдукростой руководил прибывший вместе с передовыми част€ми расной јрмии странный человек — колченогий. —реди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руковод€щих товарищей из губревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, колченогий резко выдел€лс€ своим видом.
¬о-первых, он был калека. — отрубленной кистью левой руки, культ€пку которой он тщательно пр€тал в глубине пустого рукава, с перебитым во врем€ гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейс€, судорожной, несколько заикающийс€ от контузии, высокий, казавшийс€ костл€вым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом... ќ нем ходило множество непроверенных слухов. <...> √оворили, что его расстреливали, но он по случайности осталс€ жив, выбралс€ ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. √оворили, что в бою ему отрубили руку. Ќо кто его покалечил — белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было покрыто мраком неизвестности».
Ќа все лады в «јлмазном венце» варьировалось: «таинственна€ судьба, заставл€вша€ предполагать самое ужасное». «ќн хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки, но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует друга€, еще более страшна€, последн€€».
¬ ответ на претензии сына Ќарбута –омана, отстаивавшего честь замученного в √”Ћј√е отца, к тому времени уже 20 лет как посмертно реабилитированного, атаев говорил: .
— Ќе огорчайс€, –оман, это просто такой стиль.
–езультат «стил€» сказываетс€ до сих пор. ” людей, читавших стихи Ќарбута, вслед за восхищением тут же срабатывало в пам€ти: «„то-то с этим Ќарбутом было… “о ли он зверствовал в „ , то ли кого-то расстреливал». ћежду тем в воспоминани€х Ќадежды ћандельштам, ¬арлама Ўаламова, в повести «Ќи дн€ без строчки» ёри€ ќлеши, в стихах јхматовой мы видим совсем другого Ќарбута.
онечно, никаким стилем нельз€ оправдать такие, например, намЄки, бросающие тень на им€ поэта: « олченогий был страшен, как оборотень... олченогий был исчадием ада... ћожет быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимс€ к нам с неба в чЄрном пепле сгоревших крыл...» „то же касаетс€ цитаты о «каком-то тайном грехе», «за который его уже один раз покарали отсечением руки», то, скорее всего, на эти подозрени€ атаева натолкнули строчки самого поэта из стихотворени€ «—овесть»:
∆изнь мо€, как летопись, загублена,
киноварь не вьетс€ по письму.
я и сам не знаю, почему
мне рука втора€ не отрублена…
–азве мало мною крови пролито,
мало перетуплено ножей?..
Ќо нельз€ воспринимать эти строки буквально. Ќичьей крови поэт не проливал, занималс€ только редакционной и издательской де€тельностью. Ќужно иметь в виду, что признак истинного поэта и нравственно глубокой личности — прин€тие ответственности на себ€, признание общей вины своей, личной.
Ќарбут был насто€щим убеждЄнным коммунистом. Ёто тот тип коммуниста, что уже давно выродилс€ и который можно представить себе только по фильмам „ухра€.
ќн нисколько не желал считатьс€ со своей инвалидностью: взваливал на себ€ столько, что не каждому здоровому было под силу.
Ќадежда ћандельштам писала, что Ќарбут был «партийным аскетом» (тип, уже не существующий в действительности). «ќграничивал себ€ во всЄм — жил в какой-то развалюхе в ћарьиной роще, втискива€сь в переполненные трамваи, цепл€€сь за поручни единственной рукой — вместо второй у него был протез в перчатке, работал с утра до ночи и не пользовалс€ никакими преимуществами, которые полагались ему по чину».
— 1919 по 1922 год вышло 9 книг стихов Ќарбута, в том числе переизданный запрещенный сборник «јллилуй€». ¬ 1922 году он переехал в ћоскву и стал ответственным работником отдела печати ÷ ¬ ѕ(б). ѕоэт нашел применение своей кипучей натуре: организовал и возглавил одно из крупнейших издательств ««емл€ и ‘абрика», редактировал попул€рнейшие журналы «30 дней», «¬округ света», «¬семирный турист», был организатором новых форм книготорговли. ѕодписные издани€ классиков и современных писателей, публикации новых работ литераторов, как российских, так и эмигрантов... —ерафимович писал Ќарбуту: «¬ы — собиратель литературы «емли —оюзной...»
Ћюбовь
Ќесмотр€ на хромоту, протез руки и заикание, Ќарбут всегда нравилс€ женщинам. Ёто отмечал и атаев: «ќн по€вл€лс€ в машинном бюро ќдукросты, всел€€ любовный ужас в молоденьких машинисток; при внезапном по€влении колченогого они густо краснели, опуска€ глаза на клавиатуры своих допотопных «ундервудов» с непомерно широкими каретками... ћожет быть, он даже €вл€лс€ им в грешных снах».
—равните это с похожей цитатой в ««ависти» ё. ќлеши: «ƒевушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгл€да».
¬ нЄм была, как сказали бы сейчас, харизма.
»з мемуаров —. Ћипкина:
«” Ќарбута была отрублена рука, — говорили, что в годы гражданской войны, одну ногу он волочил (поэтому атаев в «јлмазном венце» назвал его олченогим). Ќесмотр€ на эти физические недостатки, Ќарбут нравилс€ женщинам. „увствовалс€ в нем человек крупный, сильный, волевой. ќн отбил у ќлеши жену — —ерафиму √уставовну (впоследствии вышедшую замуж за ¬иктора Ўкловского), самую красивую из трех сестер —уок. ¬ какой-то мере черты Ќарбута придал ќлеша хоз€йственнику Ѕабичеву, одному из персонажей ««ависти».
сЄстры —уок Ћиди€, —ерафима (в середине) и ќльга (слева)
¬ те годы настигла поэта его больша€ и непроста€ любовь. ¬ 1922 году он женитс€ на —ерафиме √уставовне —уок, увед€ еЄ от мужа — ё. ќлеши. (—уок — им€ куклы в «“рЄх толст€ках». Ёто фамили€ жены ќлеши, ставшей потом женой Ќарбута).
Ёта любовь и женитьба уже сужены-пересужены в мемуарах атаева. Ќо прежде чем доверитьс€ его толкованию, нелишне вспомнить известную реплику из драмы Ћ. “олстого: «∆ивут три человека... ћежду ними сложные отношени€... борьба добра со злом, така€ духовна€ борьба, о которой вы пон€ти€ не имеете...»
Ќа страницах катаевского романа —ерафима —уок по€вл€етс€, естественно, под кличкой, у него она «дружочек», так €кобы звал еЄ ќлеша, а она его «слоником». ј сам ќлеша у атаева зашифрован под кличкой « лючик». ¬от как он описывает —ерафиму начала 20-х годов: «ѕодругой ключика стала молоденька€ 17-летн€€ весЄла€ девушка, хорошенька€ и голубоглаза€. ќткуда она вз€лась, не имеет значени€. ≈Є по€вление было предопределено».
» на другой странице — уже по€вивша€с€ в жизни Ќарбута: «ќна была по-прежнему хорошенька€, смешлива€, нар€дно одета€, пахнуща€ духами Ћориган оти, которые продавались в маленьких пробирочках у входа в универсальный магазин».
¬ стихах Ќарбута, адресованных —ерафиме —уок, мы встречаем несколько схожий образ:
“вой зонтик не выносит зно€,
легко лин€ет по кольцу,
но платье пестрое, цветное
тебе особенно к лицу…
“ы в революцию пришла в нем,
сме€лась (кто теб€ поймет?),
когда копытом бил по ставн€м
и заикалс€ пулемет!
÷ветное поле пело, тлело
и распадалось на куски,
зато росло и крепло тело,
вылущива€сь из тоски!
» все вдруг стало преогромной,
стремглав лет€щей мастерской:
дышали, задыха€сь, домны,
и над ремн€ми волчий вой.
» в этом мире, в суматохе,
геометрическа€ цель,
соп€, рождала поршней вздохи,
си€ла в колесе – кольце.
» в этом же, вот в этом мире,
трудолюбива и легка,
с глазами и светлей и шире,
ты – у станка!
ѕо мере развити€ романа —ерафима —уок у атаева получила ещЄ одно прозвище — ћанон Ћеско. » не без основани€. ¬ерность не была еЄ отличительной чертой. ¬начале она ушла от ќлеши к одному солидному служащему губпродкома, пожилому вдовцу. ќна нежно за€вила своему слонику, что еЄ новый избранник, служа в продовольственном комитете, имеет возможность получать продукты, а ей надоело вести полуголодное существование, что одной любви дл€ полного счасть€ недостаточно, но что ключик-ќлеша останетс€ дл€ неЄ самым светлым воспоминанием. », чтобы как-то см€гчить боль расставани€, пообещала ќлеше доставать продукты.
ќлеша с атаевым разрабатывают план, как им украсть «дружочка», он увенчиваетс€ успехом, и новоиспечЄнна€ ћанон Ћеско вновь очутилась в объ€ти€х ќлеши, прихватив с собой продукты и вещи, купленные ей женихом из продкома. Ќо счастье ќлеши было недолгим. ¬скоре в жизни —уок по€вл€етс€ Ќарбут — тогда уже во всЄм блеске своей литературной и революционной карьеры, легендарной славы геро€ гражданской войны. —ерафима уходит к нему.
ќлеша, име€ уже опыт возвращени€ любимой, вновь с атаевым разрабатывает план похищени€ (на этот раз в отсутствие Ќарбута, которого оба бо€лись). ћанон Ћеско вернулась. Ќо счастливый соперник недолго праздновал победу. ¬скоре у них под окном послышались шаги омандора. Ёто был Ќарбут. ќн постучал в окно кост€шками пальцев. атаев вышел дл€ переговоров. Ќарбут спокойно за€вил ему, что если —уок немедленно не покинет ќлешу — он здесь же, у них во дворе выстрелит себе в висок из нагана. ¬ единственной руке он держал увесистый комиссарский наган-самовзвод. Ѕыло очевидно, что он так и сделает. атаев с ужасом вспомнил нарбутовские стихи о самоубийце:
Ќу, застрелюсь. » это очень просто:
нажать курок, и выстрел прогремит.
» пул€ виноградиной-наростом
застр€нет там, где позвонок торчит,
поддержива€ плечи — дл€ хламид.
ј дальше — что?.. ќбиду стерла кровь.
» ты, ты думаешь, по нем вздыха€,
что € приставлю дуло (€!) к виску?
…ќ, безвозвратна€! ќ, дорога€!
„асы спешат, дикту€ жизнь: «ку-ку»,
а пальцы, корчась, т€нутс€ к курку…
1924
атаев вернулс€ в дом и рассказал об ультиматуме. —уок побледнела:
– ќн это сделает. я его слишком хорошо знаю.
–еакци€ ќлеши была неожиданной. я цитирую «јлмазный мой венец»:
« лючик помрачнел, опустил на грудь крупную голову с каменным подбородком.
– √оспода, – рассудительно сказал он, скрестив по-наполеоновски руки, – что-то надо предприн€ть. “руп самоубийцы у нас во дворе. ¬ы представл€ете последстви€? ќтветственный работник стрел€етс€ почти на наших глазах! —ледствие. ƒопросы. ѕрокуратура. ¬ лучшем случае общественность заклеймит нас позором, а в худшем… даже страшно подумать! Ќет, нет! ѕока не поздно, надо что-то предприн€ть.
ј что можно было предприн€ть? „ерез некоторое врем€ после коротких переговоров, которые с колченогим вел €, дружочек со слезами на глазах простилась с ключиком, и, выгл€нув в окно, мы увидели, как она, вз€в под руку ковыл€ющего колченогого, удал€етс€ в перспективу нашего почему-то всегда пустынного переулка.
Ѕыло пон€тно, что это уже навсегда».
ќлеша больно переживает разрыв с —ерафимой и начинает пить. —естра —имы, ќльга, начинает ухаживать за ёрием, пыта€сь выт€нуть его из алкогольной зависимости. ¬ результате он женитс€ на ќльге, будучи влюбленным в —иму. Ќо в 1924 году, написав повесть «“ри толст€ка» – произведение, принесшее самому ќлеше мировую славу и известность – он посв€щает его именно ќльге —уок. » главна€ героин€ тоже получила им€ —уок. Ќо дл€ всех, знавших —иму —уок, было очевидным: это она — циркачка —уок и кукла наследника “утти.
Ёто не было тайной и дл€ ќльги.
ќльга —уок
ёрий ќлеша всю жизнь любил —иму —уок. » в замечательной сказке ““ри толст€ка” зашифрована она, а не ќльга. » есть там еще одно зашифрованное им€: преданный друг —уок - гимнаст “ибул. ѕрочтите наоборот. ѕолучитс€ - любит...
ё. ќлеша с женой ќльгой —уок
¬. Ќарбут с женой —ерафимой (справа) и еЄ сЄстрами: Ћидией, ставшей женой Ё. Ѕагрицкого и ќльгой, ставшей женой ќлеши (с собакой)
***
«елена€ лента широкой полоской
ѕо черным легла волосам…
ѕоверьте: мне нравитс€ ваша прическа,
»дет она к вашим глазам.
«елена€ лента и профиль точеный,
“акой € вас видел во сне,
огда серебрились и гаснули звоны
¬ прозрачной св€той тишине…
¬ы раз только искоса как-то взгл€нули,
ј счастьем душа зажжена…
» в грохоте каменном пасмурных улиц
я жду повторени€ сна…
Ѕыть может, вы – призрак, фигура из воска,
»ль кукла – не знаю € сам…
Ќо очень мне нравитс€ ваша прическа:
»дет она к вашим глазам.
("–оманс")
ј вот как описывает еЄ Ёмма √ерштейн в своих мемуарах (это уже 30-е годы):
«ќна считалась красавицей-вамп. » действительно, в лице еЄ было что-то хищное. ѕродолговатый овал лица, породистый нос с горбинкой и тонкими крыль€ми, выпуклые веки, высокий подъЄм ноги — все линии были гармонично св€заны».
—има —уок была роковой женщиной дл€ многих мастеров пера. ¬ сонме очарованных ею числилс€ и ≈. ѕетров. „то кажетс€ полной загадкой, когда рассматриваешь еЄ на фотографи€х - такой некрасивой и угрюмой она казалась на них. Ќарбут - единственный человек, которого она любила и с которым была счастлива, тоже считал еЄ некрасивой и писал об этом в стихах:
ќна некрасива. ѕриплюснут
обветренный нос, и глаза,
смотр€щие долго и грустно,
не раз обводила слеза.
ќ чем она плачет — не знаю,
и вр€д ли придетс€ узнать,
кака€ (св€та€, земна€?)
печаль ее нежит, как мать.
ќна молчалива. » могут
подумать иные: горда...
Ќо только оранжевый ноготь
покажет луна из пруда,—
людское изменитс€ мненье:
бежит по дорожке сырой,
чтоб сгорбленной нищенской тенью
скитатьс€ полночной порой.
Ѕлуждает, вздыха€ и плача,
у сонных растрепанных ив,
пока не плеснетс€ на дачу
пунцовый восхода разлив.
» снова на трухлой террасе
сидит молчаливо-грустна,
как сон, что ушел восво€си,
но высосал душу до дна.
1912 (1916)
http://www.youtube.com/watch?v=Wh__rMTBAUg
ќкончание здесь
ћетки: Ќарбут врем€ жизнь судьба |
Ќаденька-жена вожд€. |
ƒневник |
![2014-04-08 -@C-A-0O_thumb[1] крупска€1 (530x594, 82Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/112/58/112058122_20140408_CA0O_thumb1_krupskaya1.jpg)
–еволюционный и политический путь Ќадежды онстантиновны рупской хорошо знаком: в 1898 году вступила в партию, с 1917 года - член коллегии Ќаркомпроса –—‘—–, с 1929 года - заместитель наркома просвещени€ –—‘—–, член ÷ партии, с 1927 года - член ÷ ¬ ѕ(б). „лен ÷» ———–. „лен ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———–. ќна стала дл€ Ћенина женщиной, прошедшей вместе с ним т€желейший путь - от подвенечной молитвы до последнего его вздохаЕ
–одом она была из хорошей семьи. ќтец - поручик рупский онстантин »гнатьевич. ћать - гувернантка ≈лизавета ¬асильевна “истрова. Ћюди пор€дочные, хоть и бедные.
”мер онстантин »гнатьевич рано. —лучилось это накануне четырнадцатого дн€ рождени€ Ќади. » последние его слова к жене и дочери были: У“рудно придетс€ вам, милые моиФ.
ѕришлось трудно. »з-за безденежь€ вз€ли посто€льца, потеснившись и в без того маленькой квартирке. Ќад€ бегала по урокам в любую погоду, а погоды в ѕетербурге чаще всего скверные. ѕосто€нные простуды ослабили организм. ћать считала, что всю жизнь Ќад€ болела из-за этих юношеских простуд, перенесенных на ногах.
1.

Ќад€ рупска€ в восьмилетнем возрасте
√имназию Ќадежда окончила с золотой медалью Уза отличные успехи по всем предметамФ. ≈й дали особую рекомендацию в дополнительный класс - педагогический, где готовили учителей.
ћать хотела дл€ нее обычной женской судьбы. „тобы скорее вышла замуж и по€вились дети. “ем более что и женихи были. „то может быть лучше? Ѕеда в том, что к женихам - обычным, скучным чиновникам и офицерам - рупска€ склонности не имела. ≈й хотелось чего-то особенного.
— матерью они в ту пору много ссорились. Уя очень упорно отстаивала свою самосто€тельностьФ, - позже вспоминала рупска€.
¬ конце концов, мать сдалась, смирилась с тем, что дочка у нее - не така€, как все прочие барышни. » раздел€ла с ней все: скитани€, ссылку, эмиграцию. Ћишь бы быть р€дом.
2.
![6-RIAN_00754150.HR.ru_thumb[8]–Ї—А—Г–њ—Б–Ї–∞—П 3 (474x612, 223Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/112/58/112058107_6RIAN_00754150HRru_thumb8RSSRSRRS_3.jpg)
¬ 1890 году, став слушательницей ¬ысших женских курсов, рупска€ вступила в марксистский кружок. ѕривела ее туда лучша€ подруга, јполлинари€ якубова. ѕартийное прозвище у рупской было –ыба: что-то рыбье находили товарищи в ее внешности и особенно в поведении - в спокойном темпераменте, в ее невозмутимости и холодности.
ѕолностью стаью можно почитать здесь:
http://ussrlife.blogspot.de/2014/04/blog-post_1190.html
ћетки: рупска€ судьба жизнь |
јльфонс ћуха („асть1) |
Ёто цитата сообщени€ Galyshenka [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
часть 2
часть 3
јльфонс ћуха основатель и мастер театральной и рекламной афиши в стиле модерн, в частности стил€ јрт Ќуво (Art Nouveau), который стал воплощением его эпохи, но одновременно попал в порочный круг коммерческих заказов. ќднако сегодн€ именно эти произведени€, созданные им в "ѕарижский" период, считаютс€ самым ценным его вкладом в сокровищницу мирового искусства. ≈го €ркие, красочные работы, до сих пор тиражируютс€ в виде арт-постеров.
»нтересно, что работы молодого ћухи, отосланные отцом в ѕражское художественное училище, вернулись обратно с припиской профессора Ћготы об Ђабсолютном отсутствии таланта у их автораї. ј открытие его таланта произошоло случайно в графском замке √андегг в “иролии, где молодой јльфонс ћуха делал ремонт и расписывал стены. ≈го работой восхищен профессор академии и граф уэн беретс€ оплачивать обучение молодого даровани€, так все и началось...

ћонако. ћонте- арло. 1897
ћетки: јрт нуово јльфонс ћуха творчество жизнь |
—ери€ статей Ќатальи равченко."ƒом, построенный на песке. ќкончание." |
Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
Ќачало здесь
Ћучше трудно, чем нудно
∆изнь в забытом богом медвежьем краю должна была, казалось, охладить пыл молодого зоотехника. «¬ совхозе никого и ничего нет — торричеллева пустота», - так коротко определ€ет он обстановку в одном из писем.
—ергей еЄ трезво оценивает, но никакого уныни€ или сожалени€ мы не найдЄм в его послани€х в ћоскву. ќн весь наполнен радостным ощущением жизни и верой в свои силы.
«–абота мне нравитс€. √лупы были люди, которые жалели мен€ в ћоскве. ¬от-де сказать, человек окончил вуз, получил высшее образование и, пожалуйста, — едет в глушь, в деревню, в степь, в полудикие места да ещЄ на посто€нную работу. „то же, вот € в глуши, в степи, на посто€нной работе — и очень доволен. ѕочему? –аботать в ћоскве — это шесть часов ежедневно сидеть в каменной коробке, что-то писать, и считать, и чертить — это нудно. –аботать здесь — это значит носитьс€ верхом на лошади, организовывать работу в гуртах, управл€ть совхозом. Ёто трудно. Ќо лучше трудно, чем нудно, так € считаю».

я всЄ-таки, товарищи,
жалею горожан:
сто€т машины сложные
у них по гаражам.
“ам иглы, карбюраторы,
и чЄрт их разберЄт!
ј мы помашем палкою -
и движемс€ вперЄд.
—корость, направление
и качество езды
легко мы регулируем
при помощи узды.
¬ Ѕашкирии —ергей „екмарЄв работает старшим зоотехником “аналыкского совхоза ’айбуллинского района, а затем тоже старшим зоотехником совхоза "»н€к" «ианчуринского района. ∆ивЄт в деревне »браево.
Ѕашкирска€ деревн€. 30-е годы.
¬ »браеве он издает рукописный журнал "Ѕуран". ¬ предисловии к нему „екмарев пишет:
ћногие люди говор€т -
», кажетс€, это правда,
„то в ћоскве световые рекламы гор€т,
»здаетс€ газета "ѕравда".
Ќо в »бр€еве, здесь у нас,
“аких вещей не бывает,
Ћишь кривит луна свой единственный глаз
ƒа буран завывает.
¬ чем же дело? Ѕумага бар*,
„ернил около литра.
ƒавай и здесь издавать журнал,
Ёто не очень хитро.
—ергей „екмарев обладал удивительным единством жизни и поэзии. ажетс€, он думал и чувствовал стихами. ќн умел разговаривать не только с живыми, конкретными людьми, но и с неодушевленными предметами, с животными, например, с вьюгой, бураном, трамваем, поездом, со своим «гнедым»…

—егодн€ вьюга беситс€,
ехать не велит,
ћерин мой игреневый
ушами шевелит.
- “ы что, овЄс-то даром ел
по целому мешку?
ƒавай, давай прокатимс€
по белому снежку!
„тобы глаза заискрились,
чтоб ветер щЄки жЄг,
„тобы снежинки вихрились
в переплетень€х ног...
ого, скажи, пугаешь ты,
космата€ метель?
ћы все здесь люди взрослые,
нет маленьких детей.
Ќам всЄ равно, голубушка,
хоть вой ты иль не вой, -
“вой голосок пронзительный
мы слышим не впервой...

—ергей √андлевский в одной из своих книг заметил: “¬се эти губернские, областные и районные центры дл€ большинства москвичей так и останутс€ ничего ни уму, ни сердцу не говор€щими административно-территориальными единицами, пока не найдЄтс€ талантливый человек, который прив€жетс€ к какой-нибудь дыре и замолвит за неЄ слово. “огда на культурной карте по€вл€етс€ нова€ местность, напомина€ нам, что всюду жизнь”.
¬от таким талантливым летописцем оказалс€ и —ергей „екмарЄв. Ћучшие стихи были написаны им в Ѕашкирии. Ќедаром ему там было поставлено целых четыре пам€тника — в каждом районе, где он работал. Ётот край буквально оживал в его строчках.
...“€жЄлое чудовище,
пузатый автоб”с,
ќн был бы здесь, в ущели€х,
обузой из обуз.
—кажи мне: он проехал бы,
ну, вот на этот стог?
онечно, не проехал бы,
он сразу тут бы сдох!
ј с поршн€ми и кольцами
возилс€ человек,
ќн не смыкал над книгами
своих усталых век.
ќн думал над машинами
дес€тки тыс€ч лет...
“аких, как мой игреневый,
ещЄ покамест нет, -
— такой вот тЄплой кожею
и гривою кон€,
— такой вот хитрой рожею,
гл€д€щей на мен€.
» вот он снова мчит мен€,
нисколько не устав.
ќп€ть мелькает в воздухе
скакательный сустав.
» всЄ уже не нужное
€ стр€хиваю с лет,
» вьюгою за санками
заравнивает след...

ќсобенно трогательно отношение „екмарева к животным. ≈сли ≈сенин называл их "брать€ми нашими меньшими", то у его тЄзки такого делени€ нет. „ита€ стихи „екмарЄва, видишь «чистый и теплый хлев», «милую морду овечью», «тоску коровью», «голубые глаза тел€т».
»з письма сестре:
««дравствуй, Ћида! „то рассказать тебе сегодн€ о моей житухе в этой стране — стране, где лучший друг человека — баран, а злейший враг — буран?.. Ќедавно под Ѕаймаком был страшный буран, во врем€ которого немало помЄрзло людей. Ќу а здесь буран не страшен, мы в шубе из мохнатых гор и в тЄплой лесной фуфайке. ѕравда, мороз тут бывает крепчайший по количеству градусов равн€етс€ русской горькой», - так описывает „екмарЄв затер€вшеес€ в горах башкирское село »браево.

ј до этого было село ≈ткуль в ќренбургской области.
¬озьми прогл€ди ќренбургскую ветку.
“ы видишь, к востоку написано:"≈ткуль".
Ќаписано:"≈ткуль", поставлена точка.
» сани несутс€, скрип€ полозь€ми,
» вьюга махнула мне белым платочком, -
ћы стали тут с нею большими друзь€ми.

¬от он приезжает в ≈ткуль, не без сожалени€ покида€ ≈манжелинку.

«„то такое ≈ткуль? Ёто прежде всего сеть пр€моугольных улиц, так, дворов восемьсот, опушЄнных колючим снегом и украшенных ставн€ми. «атем — это четыре тыс€чи сердец, это восемь тыс€ч разноцветных глаз».
„екмарев любит эти сердца, любит весну в пол€х и еЄ творческую работу: «ќна в волнении сажала кл€ксы; не наход€ рифмы, она в отча€нии перечеркивала целые пол€. ќднако € верю в еЄ талант».
ќн мог обходитьс€ без элементарных удобств, без тЄплой одежды в башкирскую стужу, нап€лива€ на себ€ вместо полушубка по п€ть рубашек, мог спать на полу, есть тухлую рыбу, мокнуть под ливн€ми, замерзать в сугробах, мог даже обходитьс€ без книг, журналов, литературных споров и дискуссий, в которых всегда остро нуждалс€. »менно о таких юношах —ветлов писал: «ѕарень, презирающий удобства». Ќо это не было аскетизмом. акие бы лишени€ он ни испытывал, он не воспринимал их как жертву.
¬ыбор
—ергей искренно полюбил эти кра€. «десь у него по€вл€ютс€ друзь€, верные и неизменные — солнце, снег, башкирские горы с их причудливыми очертани€ми и редкой красотой, его посто€нный спутник ћаруська или √недой («с такой вот тЄплой кожею и гривою кон€, — такой вот хитрой рожею, гл€д€щей на мен€»). ќн подружилс€ даже с «косматой метелью» и «голубушкой вьюгой» и находил дл€ них тЄплые слова. » когда по€вилась возможность покинуть Ѕашкирию и вернутьс€ в столицу, —ергей остаЄтс€. ј соблазн был велик: родной город с лучшими в мире театрами, музе€ми, библиотеками, литературной средой, а здесь — свирепые бураны, чернова€, никому не заметна€ работа, грубость, невежество...
¬ 1932 году —ергей уезжает из Ѕаймака, потому что его призывают в армию. Ќо из-за слабого зрени€ его освобождают от военной службы. “еперь он мог бы вернутьс€ в ћоскву, не отрабатыва€ об€зательных двух лет. » вот на станции арталы в 180 километрах от ћагнитогорска в ожидании попутной машины —ергей размышл€ет над сложившейс€ ситуацией. —реди раздумий он слышит шум приближающегос€ поезда. Ёто состав "ћагнитогорск - ћосква". Ќа какое-то мгновение у него по€вл€етс€ желание уехать в родной город - к книгам, свежим газетам, журналам, театрам и музе€м. Ќо как же долг и совесть?
Ѕорьба была недолгой. ќна завершилась победой всего лучшего, что было в нЄм. ¬енцом этого спора с самим собой €вилось стихотворение «–азмышление на станции арталы», которое просто грешно было бы цитировать. ≈го надо читать полностью. „итать и перечитывать.

» вот €, поэт, почитатель ‘ета,
¬хожу на станцию арталы,
–аскрываю двери буфета,
ћолча огл€дываю столы.
Ќочь. ѕолзут потихоньку стрелки.
„асы говор€т: «—ку-чай, ску-чай».
“ихо позванивают тарелки,
» лениво дымитс€ чай.
„то же! „ай густой и гор€чий.
Ћэкин карманда акса юк!
¬ переводе на русский это значит,
„то деньгам приходит каюк.
уда ни взгл€нешь - одно и то же:
—ид€т пассажиры с лицами сов.
Ќо что же делать? ƒелать что же?...
ак убить восемнадцать часов?
» вот € вытаскиваю бумагу,
я карандаш в руках верчу,
ѕодобно египетскому магу,
«наки таинственные черчу.
„ем сидеть, уподоб€сь полену,
»ли по залу в тоске бродить,
ћожет быть, огненную поэму
ћне удастс€ сейчас родить.
¬он гражданка сидит с корзиной -
»з-под шапки руса€ пр€дь, -
я назову еЄ, скажем, «иной
» заставлю любить и страдать.
ƒа, страдать, на акацию гл€д€,
ƒовольно душистую к тому ж...
ј вон тот свирепый усатый д€д€
» будет еЄ злополучный муж.
¬ы погл€дите, как он уселс€!
–азве в лице его виден ум?
ќн не поймЄт еЄ пылкого сердца,
≈Є благородной... Ќо что за шум?
„то случилось? Ћюди свирепо
’ватают корзины и бегут,
ѕотом зажигаетс€ много света,
ѕотом раздаЄтс€ какой-то гуд.
» вот, промчав сквозь овраги и горы,
–азгон€€ ночей тоску,
ќстанавливаетс€ скорый -
»з ћагнитогорска в ћоскву.
„тоб описать, как народ садитс€,
ак напирает и мнЄт бока,
онечно, перо моЄ не годитс€,
ƒа и талант маловат пока.
ћне ведь не холодно и не больно,
ќни уезжают, ну и пусть!
ќтчего же в душе невольно
Ќачинает сгущатьс€ грусть?
ѕоезд стоит усталый, рыжий,
Ќапоминающий лису.
я подхожу к нему поближе,
ѕр€мо к самому колесу.
я говорю ему: — ак здоровье?
«дравствуй, товарищ паровоз!!
я заплатил бы своею кровью,
—колько следует за провоз.
я говорю ему: — ѕослушай
» пойми, товарищ состав!
” мен€ бол€т от мороза уши,
Ќоет от холода каждый сустав.
ѕослушай, друг, мне уже надоело
≈здить по степи вперЄд-назад,
„тобы мне вьюга щЄки ела,
¬етер выхлЄстывал глаза.
∆ить зимою и летом в стаде,
«а каждую тЄлку отвечать.
¬ конце концов, всего не наладить,
¬сех буранов не перекричать.
ћне глаза залепила вьюга,
ћне надоело жить в гр€зи.
», как товарища, как друга
я прошу теб€: отвези!
“ы отвези мен€ в ту столицу,
ќ которой весь мир говорит,
√де электричеством жизнь струитс€,
—отн€ми тыс€ч огней горит.
¬озьми с собой, и в эту субботу
ћен€ уже встретит московский перрон.
» разве € не найду работу
√де-нибудь в тресте скрипеть пером?
я не вставал бы утром рано,
я прочитал бы книжек тьму,
ј вечером шЄл бы в зал с экраном,
¬ его волшебную полутьму.
я в волейбол играл бы летом
» только бы песни пел, как чиж…
„то ты скажешь, состав, на это?
Ќеужели ты промолчишь?
„то? –аспахиваешь ты двери?
Ќо, товарищ, ведь € шучу!
я уехать с тобой не намерен,
я уехать с тобой не хочу.
я знаю: € нужен степи до зарезу,
«десь идут п€тилетки года.
» если в поезд сейчас € залезу,
„то же будет со степью тогда?
Ќо нет, пожалуй, это неверно,
я, пожалуй, немного лгу.
ќна без мен€ проживЄт, наверно, —
Ёто € без неЄ не могу.
” мен€ никогда не хватит духу —
Ќи сердце, ни совесть мне не вел€т
ѕокинуть степи, гурты, √недуху
» голубые глаза тел€т.

Ќу так что же! ¬едь мы не на юге.
’олод, злис€! Ѕуран, крути!
¬сЄ равно сквозь завесу вьюги
я разгл€жу свои пути.
«наменитые "–азмышлени€ на станции арталы "предельно честны: физически и морально измученный т€желой работой, —ергей все-таки предпочитает "оставатьс€ на посту". ќн возвращаетс€ в Ѕашкирию, он работает с увлечением и не чувствует себ€ "жертвой".
¬ дождь, в буран, в темноте, в тумане, в гр€зи, согрева€ дыханием замерзшие пальцы, прикрыва€ глаза от ветра, „екмарев скачет от фермы к ферме, от бригады к бригаде.
“аналыкский м€сосовхоз, где работал —ергей, был совхоз-гигант. ќн разделилс€ на два самосто€тельных совхоза. ¬ одном из них, Ѕаймакском, он работал , а жил в деревне Ѕогачевке в 18 км от Ѕаймака. Ќа центральной усадьбе совхоза “аналык в 1972 году был установлен пам€тник —ергею „екмареву. ќн поставлен по инициативе общественных организаций и администрации совхоза в честь его 40-лети€. Ќа постаменте пам€тника строчки стихов:
Ќе надо сердитьс€, ветер,
“ы знаешь, что мир велик,
Ќе только ћосква на свете
– —уществует и “аналык.
Ќу что же, и здесь не плохо
ѕо жилам струитс€ труд.
» если велит эпоха,
я буду работать тут!

Ќедолгое счастье
Ћюбима€ приезжает к —ергею в Ѕашкирию . Ёто была недел€ недолгого счасть€. Ќо жизнь ей там кажетс€ серой, и она оп€ть уезжает заканчивать институт, потом вновь возвращаетс€, и оп€ть ненадолго... ¬сЄ это дл€ него очень мучительно.
ќ чЄрный поезд, как ты жесток!
«ачем ты увозишь еЄ на восток?
«“он€, зачем ты мне прислала это снимок? », главное, зачем ты на этом снимке така€ красива€ и така€ похожа€ сама на себ€? „тобы € больше тосковал по тебе? Ќо € и так много тоскую, и с твоей стороны бессердечно такие подарки делать. “онька, приезжай, право, € так по твоему звонкому голосу соскучилс€, по твоим тЄплым губам. ѕриезжай, пока не холодно и не гр€зно, пока не в€знут автобусы и не воют бураны».
» в жизни и в письмах „екмарев готов простить “оне многое, очень многое, чего обычный человек был бы простить, пожалуй, и не в силах. Ћюбовь к другому, посто€нные колебани€ между —ергеем и этим другим, отцом еЄ ребенка, бесконечные приезды и отъезды. “он€ вовсе не злой гений —ерге€, не экспонат эгоизма и бессердечи€, как может показатьс€ на первый взгл€д. ќна просто обыкновенна€ женщина. ќна хочет жить «как все» — немного любви, немного семейного счасть€, немного удобств…
Ќо вот именно этого «немногого» и не может дать ей —ергей. ѕростивший ей все, готовый, кажетс€, пойти на любые уступки, он не может ей уступить одного — смысла своей жизни, своего труда, своей одержимости.
то-то, возможно, по-обывательски, по-житейски осудит его за то, что дл€ него, «сухар€», дело оказалось дороже любви, за то, что у него «никогда не хватит духу… покинуть степь, гурты, гнедуху и голубые глаза тел€т». Ќо есть, видимо, такое в человеке, через что он не может переступить, не потер€в себ€. ƒл€ “они это одно, дл€ —ерге€ — нечто совсем другое.
ќн обращаетс€ к покинувшей его любимой, искренне не понима€ еЄ:
—кажи мне, неужели ты
со скукой смотришь на небо?
» жизнь теб€ измучила
и кажетс€ сера?
» как в реку бросаютс€,
не гл€д€, хоть куда-нибудь,
Ѕежать тебе хотелось бы
из этого села?
ј мне минуты кажутс€
чудесными и гордыми.
ѕо книгам буквы ползают,
беснуетс€ метель,
» лошади пронос€тс€
с опущенными мордами.
» избы озар€ютс€
улыбками детей…

«“ы пишешь: может быть, мне удастс€ вырватьс€. “он€, куда € вырвусь, зачем € вырвусь?» — сама интонаци€ этих строк убеждает нас в том, что спор между ними давний и безнадежный. «Ќет уж, — продолжает —ергей, — чтобы быть нам вместе, есть только один способ — тебе приехать сюда, поэтому приезжай, не медли».
—ильного оплодотвор€ют и невзгоды, слабый в€нет и в тепличных услови€х. –аздирающий душу спор с “оней, отча€ние и надежда, смен€ющие друг друга, вызвали к жизни строки, которые встают в один р€д с лучшими произведени€ми советской гражданской и лирической поэзии:
–еменной подпругой сжала
ћне сердце туга€ боль.
ќ √недой, она убежала.
”бежала от нас с тобой!
ќна забрала ребенка
» ускакала в ћоскву.
ќставила ƒаше гребенку,
ј нам с тобою — тоску.
белой бумаге неба
ѕриложена солнца печать.
ѕодн€тьс€ на облако мне бы
» до ћосквы докричать:
«јх, “он€, как сердцу горько,
как хочетс€ быть с тобой,
когда за кленовой горкой
встаЄт закат голубой!»

—ергею никак не удаЄтс€ наладить семейную жизнь, его любима€ то приезжает к нему, то уезжает, и каждый еЄ отъезд приносит ему горечь и одиночество. Ќо в стихах он обретает силу.
ѕоследний раз хотелось мне бы
увидеть глаз твоих синее небо,
потрогать волос твоих тЄплую рожь,
почувствовать губ твоих милую дрожь...
Ќе надо сердитьс€, ветер!
“ы знаешь, что мир велик.
Ќе только ћосква на свете,
существует и “аналык.
Ќу что же...» здесь неплохо
по жилам струитс€ труд.
» если велит эпоха,
€ буду работать тут.
Ќо € об одном жалею,
по жизни этой ид€,
что в Ћиственную аллею
отсюда пройти нельз€.
Ќельз€ скинуть кепку сырую,
вбежать на четвЄртый этаж.
» € теб€ не поцелую,
и ты мне руки не подашь...
Ћиственна€ алле€ часто встречаетс€ в стихах „екмарЄва.
(»з википедии: «Ћи́ственнична€ алле€ — пешеходна€ улица в —еверном административном округе города ћосквы на территории “имир€зевского района. –асположена между “имир€зевской улицей и ƒмитровским шоссе, параллельно улице ѕр€нишникова и ¬ерхней аллее. —лева примыкает “имир€зевский проезд, справа — ѕродольна€ алле€. ¬ 1863 году учЄный –. ». Ўредер посадил вдоль дороги сибирские лиственницы, которые образовали аллею. ¬ конце 1920-х — начале 1930-х годов алле€ застраиваетс€ учебными корпусами и общежити€ми академии, главным образом в стиле конструктивизм. ¬ середине 1990-х годов аллею закрыли дл€ движени€ транспорта»).
Ћиственнична€ алле€ в 30-е годы

“ак она выгл€дит сейчас
«“ы помнишь, “он€, как ты уезжала, как мне грустно было, а тебе весело, как ты на мою грусть сердилась, а € на тою весЄлость? ”же три долгих мес€ца прошло с тех пор. ”же три мес€ца € не вхожу в твою опустевшую комнату и мне не веритс€: неужели когда-то в этой комнате “он€ была, и неужели она будет когда-нибудь в этой комнате? я уже позабыл цвет твоих глаз, “он€, позабыл, как ты входишь, смеЄшьс€ и разговариваешь — а как хотелось бы всЄ это повторить! “он€! «а последний мес€ц ты мне одну только маленькую записочку прислала. Ёто мало, “он€. ѕиши больше, дорога€, пиши, как учишьс€, как живЄшь, какие изменени€ теперь в институте. ѕолзает ли —лава? ѕиши. ƒо свидань€ (когда оно будет?)».
—видани€ больше не будет.
ѕочти все заработанные деньги в совхозе он отсылает ей с сыном в ћоскву. ѕишет. “оскует. ∆дЄт.
“еб€ мне даже за плечи не вытолкать из пам€ти,
пусть ты совсем не прежн€€, пусть стала ты другой,
но переливы глаз твоих и губы цвета камеди
в сознанье озар€ютс€ как вольтовой дугой.
я буду помнить корпус наш, шаги твои по Ћиственной,
холодное молчание, гор€чие слова.
“ам пруд пылал как озеро, и бред казалс€ истиной,
и от улыбки чуточной кружилась голова.
ќна, любовь, с тобой у нас не распускалась розою,
акацией не брызгала, сиренью не цвела.
ќна шла р€дом с самою обыкновенной прозою,
она в курносом чайнике гнездо свое свила.
ќна была окутана лиловым чадом примуса,
насмешками при€телей и сутолокой групп...
Ќо на душе тоска была, и € в огонь бы кинулс€
за искорку в глазах твоих, за очертанье губ.

√лавное здание ћосковского сельскохоз€йственного института (ѕетровско-–азумовской академии) в ћоскве, где учились —ергей и “он€.

так оно выгл€дит сейчас
√ероизм без рисовки
ћир, врем€, личность поэта, встающие со страниц книги —ерге€ „екмарева, многоцветны. ¬ этом мире есть всЄ, что окружало поэта в жизни. ¬ том числе и злопыхательство обывател€, пули кулаков, бюрократизм чиновников, ошибки честных и лицемерие пролаз, нытье малодушных и неверность друзей…
Ќет, этот мир не назовешь одномерным, и он отнюдь не розов. Ќо ни одна из темных красок, как бы ни была она крупно и резко положена, не способна исказить общий колорит.
—оциальный оптимизм, слива€сь воедино с поэтической одушевленностью, и дает „екмареву те крыль€, которые мощно вздымают его над тем, что заедает жизнь обыкновенного человека, вс€ обыкновенность которого прежде всего и состоит в отсутствии €сно выраженной цели, сильной воли, определенности характера. «√ероизм — это видеть мир таким, каков он есть, и любить его», — писал –омен –оллан.
«’арактер страстный и без рисовки героичный», — сказал о „екмарЄве . ‘един. ќпределение точное и мудрое. Ѕез рисовки героичный — вот вам и ответ на вопросы, поставленные жизнью и творчеством —ерге€ „екмарева. » дл€ того, кто родилс€ и вырос таким, — это действительно и удача, и наказание, и полна€ ноша, и счастлива€ судьба. ¬ какие бы времена он ни родилс€.
—ергей пробовал себ€ не только в стихах, но и в прозе, котора€ представл€ет собой интереснейший сплав подлинной документальности и художественного вымысла. Ёто новелла «”тонула собака», очерк «Ћошадь», которые высоко были оценены потом ‘единым: «„екмарЄв был бы несомненно превосходным прозаиком. ќтрывок, почти новеллистически стройный, «”тонула собака», говорит очень, очень много о прирождЄнном даре этого молодого человека писать захватывающе сильно и метко. Ќесмотр€ на то, что литературой занималс€ он впопыхах, на ходу, и €вно ещЄ только «жил, а не писал», он про€вил в этом отрывке тонкое чутьЄ к искусству формы».
ќчерк «Ћошадь» дл€ его рукописного журнала «Ѕуран» - было последним, что вышло из-под пера „екмарЄва.

— великолепным юмором и знанием дела он описывает здесь повадки лошадей, которых он «осваивал» в совхозе, и на самом интересом месте почти детективного сюжета очерк обрываетс€ на полуфразе. ¬ скобках приписка: «¬виду непредвиденных событий «печатание» статьи пока прекращаетс€». ѕродолжить «печатание» автор не мог из-за срочного вызова на ферму, откуда он уже не вернЄтс€.
Ќевольно вспоминаютс€ его строчки:
я запахом талого снега дышу,
€ знаю тоску коровью.
» € не чернилами это пишу,
а собственной сердца кровью.
ровь оказалась насто€щей. 11 ма€ 1933 года при переправе через реку Ѕольша€ —урень —ергей „екмарев погиб.

— председателем рабочего комитета ≈никеевой —ергей ехал на дальнюю ферму „ебеньки. ѕри переправе ≈никеева сидела спиной к лошади, ничего не видела. —ергей ехал верхом на лошади, потому что она бо€лась воды, и когда лошадь резко дернулась в сторону, женщина обернулась и увидела, что —ергей, мертвый, плывет по реке. ак это случилось, что произошло – неизвестно. ≈никеева закричала. »з деревни —улеймановка (јлабайтал) прибежали люди. ƒвое мужчин (√аврилов »ван и ‘адеев јркадий) вытащили тело —ерге€, начали делать искусственное дыхание, «откачивать воду», но, как говорили, воды не вышло «ни ложки». «начит, он не захлебнулс€, не утонул, а умер от падени€.
„то произошло в тот день — ударила ли —ерге€ перевернувша€с€ при переезде вброд повозка, или вооружЄнна€ чем-то вражеска€ рука, сводивша€ счЄты с молодым зоотехником-комсомольцем — осталось тайной.
ѕоэты часто предсказывают свой трагический конец, а, может быть, и сами этим накликают его. —леду€ печальной традиции, „екмарЄв нарисовал картину своей гибели в одном из стихотворений:
“ы думаешь: "¬ести в воде утонули,
а наше суровое врем€ не терпит.
≈го погубили кулацкие пули,
≈го засосали уральские степи.
» снова молчанье под белою крышей,
лишь кони пронос€тс€ ночью безвестной.
» что закричал он - никто не услышал,
и где похоронен он — неизвестно"...
Ќевозможно без боли читать эти строчки, в которых с такой остротой передано ощущение времени, предчувствие скорого конца.
ќбсто€тельства гибели поэта не вы€снены до сих пор. ѕохоронили „екмарева на окраине села »с€нгулово, где в точности - неизвестно. ѕозднее в районном центре »с€нгулово был воздвигнут бронзовый бюст поэта. Ќа его постаменте надпись: «ѕоэту-комсомольцу, отдавшему свою жизнь за победу колхозного стро€ в Ѕашкирии».

≈сть пам€тный обелиск и на месте смерти —ерге€ „екмарева на берегу речки —урень. ¬сего ему установлено четыре монумента. ћальчишке, прожившему только 23 года. ћужчине, который успел сделать так много...
¬ ”фе в 1961 году его именем была названа улица.
–укописи не гор€т
¬ середине 1950-х годов кресть€нска€ семь€, живша€ в Ѕашкирской деревне, переезжала в новый дом. –азбира€ вещи, хоз€ева обнаружили пожелтевшую от времени тетрадь с запис€ми и стихами. —тарые люди предположили, что эта тетрадь могла принадлежать молодому зоотехнику, приехавшему работать в деревню в начале 1930-х годов и погибшему в результате несчастного случа€. “ак оно и оказалось. “етрадь была передана в районную газету. —тихи немедленно напечатали, а рукопись выслали в журнал «Ќовый мир».
–едакцию «Ќового мира» долгие годы возглавл€ли знаменитые поэты “вардовский и —имонов. » к стихам, публикуемым на страницах этого журнала, предъ€вл€лись очень высокие требовани€. ќднако присланна€ из Ѕашкирии рукопись давно погибшего автора была немедленно опубликована . ѕо заданию редакции предисловие к ней написал молодой, но начинающий тогда приобретать все большую известность поэт ≈вгений ≈втушенко.
Ќа первую публикацию стихов „екмарЄва в 1956 году откликнулс€ . ‘един:

« ак € рад за «Ќовый мир», - писал он, - что в є 1 нового года по€вл€етс€ им€ действительно живого, гор€чего поэта —ерге€ „екмарЄва — поэта, каких немного сейчас, какие нужны нам до зарезу».
ј затем тетрадь превратилась в книгу, котора€ была удостоена ѕремии Ћенинского омсомола.

—тихи, письма, дневники неведомого широкой публике поэта с середины 50-х до начала 80-х годов не один раз издавались в ћоскве, ”фе, —вердловске, „ел€бинске...
—ергей „екмарЄв стал одним из любимых поэтов поколени€ шестидес€тников. „еловек из поколени€ "отцов" оказалс€ близок и пон€тен тем, кто мечтал вернутьс€ к Ћенину, построить "социализм с человеческим лицом". ѕодкупали искренность и страстность навеки молодого поэта, его неподдельный деловой энтузиазм. Ќу и, разумеетс€, €рко выраженна€ литературна€ одаренность.
¬ ёжной Ѕашкирии, в ’айбуллинском и «ианчуринском районах, на небольшом рассто€нии друг от друга возвышаютс€ четыре пам€тника поэту.
обелиск —ергею „екмарЄву в «ианчуринском районе
ним приход€т выпускники школ, молодожЄны в день свадьбы. —ергей „екмарЄв был награждЄн премией Ћенинского комсомола посмертно. ≈го именем названы школы и школьные музеи.
„итатели посв€щали ему стихи:
ќн жил, как боец, погиб, как солдат,
бор€сь до последнего слова.
—егодн€ — в строю — воюют, звучат
живые стихи „екмарЄва.
¬ Ѕашкирии —ергей „екмарев считаетс€ почти что национальным героем. ак в советское, так и в постсоветское врем€. ”чреждена –еспубликанска€ литературна€ преми€ имени —. „екмарева. ≈е первым лауреатом стал драматург јзат јбдуллин, написавший о —ергее „екмареве пьесу и повесть «Ќе забывай мен€, солнце». ѕовесть начинаетс€ словами:
« аждый год, как только наступала весна, мы, деревенские мальчишки, бежали на курган в полуверсте от нашего аула. “ам цвели первые подснежники. “ам мы встречались с весной.
ќднажды на южном склоне кургана мое детское внимание привлек небольшой позеленевший камень. Ќа нем чьей-то рукой были нацарапаны слова: ««десь похоронен…». ƒальше нельз€ было разобрать – камень упал в «емлю и его разъедала вода.
ѕомню, € спросил у матери: «„то это был за человек?» ќна сказала, что это был русский джигит, работал у нас в совхозе и, говорили, будто писал стихи, а погиб он во врем€ паводка, еще до войны.».
“ак создаютс€ легенды.
ѕьеса јзата јбдуллина была поставлена во многих театрах ———–, дважды издавалась на башкирском €зыке в ”фе и дважды на русском в ћоскве.
ћихаил Ћуконин писал о —ергее: « ак человек „екмарЄв кажетс€ мне одним из самых €рких сыновей нашего времени, и как жалко, что его нет в живых!»

ћне тоже очень жалко. Ёто больша€ потер€ и дл€ нашего времени тоже, хот€ сложно представить, как бы он в него вписалс€ — такой чистый, бескорыстный, самоотверженный. —компрометированы многие дорогие ему слова, устарели риторические рифмованные "агитки". ѕон€ли бы сейчас в –оссии этот энтузиазм, бескорыстие, искреннюю готовность терпеть лишени€ и т€жко работать дл€ лучшего будущего? ќценили бы?
ќн был всесторонне талантлив. ќн мог бы стать не только толковым зоотехником, каковым уже €вл€лс€ («вот счастье нашему совхозу!» - говорили о нЄм) или образцовым председателем колхоза, или учЄным, математиком, но и большим поэтом, писателем, педагогом, критиком, редактором, журналистом.
ќн мог бы любить и растить детей. ¬ одном из стихотворений —ергей „екмарЄв, обраща€сь к будущему сыну, которого ему страстно хотелось иметь, но не довелось, обращаетс€ к нему с таким напутствием, - и эти слова звучат сейчас как завещание поэта:
„тоб шЄл по планете не горб€сь,
лишь песню призывно труб€,
чтоб был бы за всЄ он в ответе,
не рвал бы у жизни кра€.
» вот что, мой сын, запомни,
и постарайс€ пон€ть:
вдыхать нужно каждый запах,
но только цветы не м€ть.
¬озитьс€ над каждою краской,
но только не пачкать лица.
¬ ракете прокалывать звЄзды,
земные не ранить сердца.
ј € уйду любоватьс€
на осени рыжую медь.
ј € возьму колокольчик
и буду в него звенеть.
¬сему — даже нам с тобою -
придЄт черЄд умереть.
» только красивой песне
дано без конца звенеть.

ѕереход на ∆∆: http://nmkravchenko.livejournal.com/246111.html
ћетки: —ергей „екмарЄв стихи жизнь страна в строительстве –осси€ |
| —траницы: | [2] 1 |