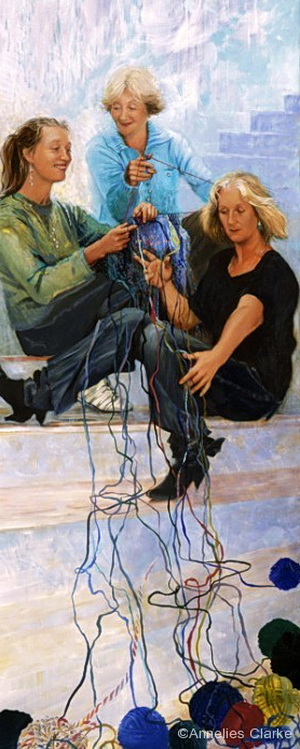Когда любимый несколькими поколениями людей актер Юрий Никулин в фильме "Бриллиантовая рука" говорит милиционеру: "С войны не держал боевого оружия" - это чистая правда, а не просто "по сценарию". Сержант Никулин прошел всю Великую Отечественную в артиллерии ПВО, награжден медалями "За оборону Ленинграда" и "За боевые заслуги". О своей войне он подробно рассказал в книге "Почти серьезно"
Почти семь лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. О моей действительной службе в армии, о двух войнах, которые пришлось пережить. В армии я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни. Ну а военная "карьера" моя за семь долгих лет — от рядового до старшего сержанта.
Смешное и трагическое — две сестры, сопровождающие нас по жизни. Вспоминая все веселое и все грустное, что было в эти трудные годы — второго больше, но первое дольше сохраняется в памяти, — я и постараюсь рассказать о минувших событиях так, как тогда их воспринимал…

18 ноября 1939 года в 23.00, как гласила повестка из военкомата, мне предписывалось быть на призывном пункте...
Ночью нас привезли в Ленинград. Когда нам сообщили, что будем служить под Ленинградом, все дружно закричали "ура". Тут же, охлаждая наш пыл, нам объяснили:
— На границе с Финляндией напряженная обстановка, город на военном положении.
Сначала шли по Невскому. Кругом тишина, лишь изредка проезжали машины с тусклыми синими фарами. Мы еще не знали, что город готовится к войне. И все нам казалось романтичным: затемненный город, мы идем по его прямым, красивым улицам. Но романтика быстро кончилась: от лямок тяжеленного рюкзака заболели плечи, — и часть пути я буквально волок его за собой.
Романтика быстро кончилась...
Учебные тревоги и раньше проводились довольно часто. А тут тревога какая-то особенная, нервная. Собрали нас в помещении столовой, и политрук батареи сообщил, что Финляндия нарушила нашу границу и среди пограничников есть убитые и раненые. Потом выступил красноармеец Черноморцев — он всегда выступал на собраниях — и сказал, что молодежи у нас много, а комсомольцев мало.
Я тут же написал заявление: "Хочу идти в бой комсомольцем".
Через два часа заполыхало небо, загремела канонада: это началась артподготовка. В сторону границы полетели наши бомбардировщики и истребители...

Я скучал по дому. Часто писал. Писал о том, как осваивал солдатскую науку, которой обучал нас старшина.
Оказывается, из-за портянок, которые надо наматывать в несколько слоев, обувь полагается брать на размер больше. И хотя многое из премудростей солдатской науки я освоил, все-таки однажды сильно обморозил ноги.
Нам поручили протянуть линию связи от батареи до наблюдательного пункта. На мою долю выпал участок в два километра. И вот иду один на лыжах по льду Финского залива, за спиной тяжелые катушки с телефонным кабелем. Не прошло и получаса, как почувствовал страшную усталость. Поставил катушки на лед, посидел немного и пошел дальше. А идти становилось все трудней.
Лыжи прилипают к снегу. Я уж катушки на лыжи положил, а сам двигался по колено в снегу, толкая палками свое сооружение. Вымотался вконец. Снова присел отдохнуть, да так и заснул. Мороз больше тридцати градусов, а я спал как ни в чем не бывало. Хорошо, мимо проезжали на аэросанях пограничники. Когда они меня разбудили и я встал, ноги показались мне деревянными, чужими. Привезли меня на батарею.
— Да у тебя, Никулин, обморожение, — сказал после осмотра санинструктор.
Отлежался в землянке. Опухоль постепенно прошла. Исчезла краснота, но после этого ноги стали быстро замерзать даже при небольшом морозе.
Как только началась война, нам ежедневно выдавали по сто граммов водки в день. Попробовал я как-то выпить, стало противно. К водке полагалось пятьдесят граммов сала, которое я любил, и поэтому порцию водки охотно менял на сало. Лишь 18 декабря 1939 года выпил положенные мне фронтовые сто граммов: в этот день мне исполнилось восемнадцать лет. Прошел ровно месяц со дня призыва в армию...

Наша батарея продолжала стоять под Сестрорецком, охраняя воздушные подступы к Ленинграду, а почти рядом с нами шли тяжелые бои по прорыву обороны противника — линии Маннергейма.
В конце февраля — начале марта 1940 года наши войска прорвали долговременную финскую оборону, и 12 марта военные действия с Финляндией закончились…
Нашу часть оставили под Сестрорецком.
Жизнь на батарее проходила довольно весело. Некоторые мои сослуживцы взяли из дома музыкальные инструменты: кто мандолину, кто гармошку, была и гитара. Часто заводили патефон и слушали заигранные до хрипа пластинки — Лидии Руслановой, Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина… Когда все собирались у патефона, то дело доходило чуть ли не до драки: одни — в основном ребята из села — требовали в сотый раз Русланову, а нам, горожанам, больше нравился Козин. А на соседней батарее где-то достали целых пять пластинок Леонида Утесова. Мы соседям завидовали.
Позже появились пластинки Клавдии Шульженко. Все с наслаждением слушали ее песню "Мама". Мне казалось, что эта песня про мою маму.
Так и проходили наши солдатские будни: учения, политинформации, боевая подготовка...

В конце апреля 1941 года я, как и многие мои друзья, призванные вместе со мной в армию, начал готовиться к демобилизации. Один из батарейных умельцев сделал мне за пятнадцать рублей чемоданчик из фанеры. Я выкрасил его снаружи черной краской, а внутреннюю сторону крышки украсил групповой фотографией футболистов московской команды "Динамо".
Динамовцев я боготворил. Еще учась в седьмом классе, я ходил на футбол вместе со школьным приятелем, который у знакомого фотографа достал служебный пропуск на стадион "Динамо". И когда мимо нас проходили динамовцы (а мы стояли в тоннеле, по которому проходят игроки на поле), я незаметно, с замирающим сердцем, дотрагивался до каждого игрока.
В этом же чемоданчике лежали и книги. Среди них Ярослав Гашек, "Похождения бравого солдата Швейка" (одна из моих самых любимых), ее мне прислали родители ко дню рождения, "Цемент" же Гладкова я кому-то дал почитать, и мне его так и не вернули, как и "Бродяги Севера" Кервуда...

В ночь на 22 июня на наблюдательном пункте нарушилась связь с командованием дивизиона. По инструкции мы были обязаны немедленно выйти на линию связи искать место повреждения. Два человека тут же пошли к Белоострову и до двух ночи занимались проверкой. Они вернулись около пяти утра и сказали, что наша линия в порядке. Следовательно, авария случилась за рекой на другом участке.
Наступило утро. Мы спокойно позавтракали. По случаю воскресенья с Боруновым, взяв трехлитровый бидон, пошли на станцию покупать для всех пива. Подходим к станции, а нас останавливает пожилой мужчина и спрашивает:
— Товарищи военные, правду говорят, что война началась?
— От вас первого слышим, — спокойно отвечаем мы. — Никакой войны нет. Видите-за пивом идем. Какая уж тут война! — сказали мы и улыбнулись.
Прошли еще немного. Нас снова остановили:
— Что, верно война началась?
— Да откуда вы взяли? — забеспокоились мы.
Что такое? Все говорят о войне, а мы спокойно идем за пивом. На станции увидели людей с растерянными лицами, стоявших около столба с громкоговорителем. Они слушали выступление Молотова.
Как только до нас дошло, что началась война, мы побежали на наблюдательный пункт...

Именно в эту ночь с 22 на 23 июня 1941 года гитлеровские самолеты минировали Финский залив. На рассвете мы увидели "Юнкерсов-88", идущих на бреющем полете со стороны Финляндии...
С вышки нашего наблюдательного пункта видны гладь залива, Кронштадт, форты и выступающая в море коса, на которой стоит наша шестая батарея.
"Юнкерсы" идут прямо на батарею. Вспышка. Еще не слышно залпа пушек, но мы понимаем: наша батарея первой в полку открыла огонь.
Так 115-й зенитно-артиллерийский полк вступил в войну. С первым боевым залпом мы поняли, что война действительно началась...
С тревогой следили мы за сводками Совинформбюро. Враг приближался к Ленинграду. Мы несли службу на своем наблюдательном пункте. Однажды на рассвете мы увидели, как по шоссе шли отступающие части нашей пехоты. Оказывается, сдали Выборг.
Все деревья вдоль шоссе увешаны противогазами. Солдаты оставили при себе только противогазные сумки, приспособив их для табака и продуктов. Вереницы измотанных, запыленных людей молча шли по направлению к Ленинграду. Мы все ждали команду сняться с НП, и, когда нам сообщили с командного пункта, что противник уже близко, нам сказали:
— Ждите распоряжений, а пока держитесь до последнего патрона!
А у нас на пятерых три допотопные бельгийские винтовки и к ним сорок патронов.
До последнего патрона нам держаться не пришлось. Ночью за нами прислали старшину Уличука, которого все мы ласково называли Улич. Мы обрадовались, увидев его двухметровую фигуру. Он приехал за нами в тот момент, когда трассирующие пули проносились над головами и кругом рвались мины.
Возвращались на батарею на полуторке. Кругом все горело. С болью мы смотрели на пылающие дома.
У Сестрорецка уже стояли ополченцы из рабочих — ленинградцев.
Уличук привез нас на батарею, и мы обрадовались, увидя своих. Через несколько дней мне присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения разведки...

Я видел Ленинград во время блокады. Трамваи застыли. Дома покрыты снегом с наледью. Стены все в потеках. В городе не работали канализация и водопровод. Всюду огромные сугробы.
Между ними маленькие тропинки. По ним медленно, инстинктивно экономя движения, ходят люди. Все согнуты, сгорблены, многие от голода шатаются. Некоторые с трудом тащат санки с водой, дровами. Порой на санках везли трупы, завернутые в простыни.
Часто трупы лежали прямо на улицах, и это никого не удивляло.
Бредет человек по улице, вдруг останавливается и… падает — умер.
От холода и голода все казались маленькими, высохшими. Конечно, в Ленинграде было страшнее, чем у нас на передовой. Город бомбили и обстреливали. Нельзя забыть трамвай с людьми, разбитый прямым попаданием немецкого снаряда.
А как горели после бомбежки продовольственные склады имени Бадаева — там хранились сахар, шоколад, кофе… Все вокруг после пожара стало черным. Потом многие приходили на место пожара, вырубали лед, растапливали его и пили. Говорили, что это многих спасло, потому что во льду остались питательные вещества.
В Ленинград мы добрались пешком. За продуктами для батареи ходили с санками. Все продукты на сто двадцать человек (получали сразу на три дня) умещались на небольших санках. Пятеро вооруженных солдат охраняли продукты в пути.
Я знаю, что в январе 1942 года в отдельные дни умирало от голода по пять — шесть тысяч ленинградцев...

Весной 1943 года я заболел воспалением легких и был отправлен в ленинградский госпиталь. Через две недели выписался и пошел на Фонтанку, 90, где находился пересыльный пункт. Я просился в свою часть, но, сколько ни убеждал, ни уговаривал, получил назначение в 71-й отдельный дивизион, который стоял за Колпином, в районе Красного Бора. В новую часть я так и не прибыл, потому что меня задержали в тыловых частях, примерно в десяти — пятнадцати километрах от дивизиона.
И тут произошло неожиданное. Вышел я подышать свежим воздухом и услышал, как летит снаряд… А больше ничего не слышал и не помнил — очнулся, контуженный, в санчасти, откуда меня снова отправили в госпиталь, уже в другой.
После лечения контузии меня направили в Колпино в 72-й отдельный зенитный дивизион. Появился я среди разведчиков первой батареи при усах (мне казалось, что они придают моему лицу мужественный вид, в лохматой шапке, в комсоставских брюках, в обмотках с ботинками — такую одежду получил в госпитале при выписке.
Меня сразу назначили командиром отделения разведки. В подчинении находились четыре разведчика, с которыми у меня быстро наладились хорошие отношения. Я им пел песни, рассказывал по ночам разные истории. Тогда же начал учиться играть на гитаре... Летом 1943 года я стал старший сержантом, помощником командира взвода...
В 1944 году началось наше наступление на Ленинградском фронте. С огромной радостью мы слушали Левитана, читающего по радио приказы Верховного Главнокомандующего.
Навсегда вошло в мою жизнь 14 января 1944 года — великое наступление, в результате которого наши войска сняли блокаду и отбросили фашистов от Ленинграда. Была продолжительная артиллерийская подготовка. Двадцать градусов мороза, но снег весь сплавился и покрылся черной копотью. Многие деревья стояли с расщепленными стволами. Когда артподготовка закончилась, пехота пошла в наступление...
Утром небо слегка прояснилось, и над нами два раза пролетела вражеская "рама" — специальный самолет — разведчик. Через два часа по нашей позиции немцы открыли сильный огонь из дальнобойных орудий. Разрывов я не слышал, потому что крепко спал.
— Выносите Никулина! — закричал командир взвода управления.
Меня с трудом выволокли из блиндажа (мне потом говорили, что я рычал, отбрыкивался, заявляя, что хочу спать и пусть себе стреляют) и привели в чувство. Только мы отбежали немного от блиндажа, как увидели, что он взлетел на воздух: в него угодил снаряд. Так мне еще раз повезло...

Не могу сказать, что я отношусь к храбрым людям. Нет, мне бывало страшно. Все дело в том, как этот страх проявляется. С одними случались истерики — они плакали, кричали, убегали. Другие переносили внешне все спокойно.
Начинается обстрел. Ты слышишь орудийный выстрел, потом приближается звук летящего снаряда. Сразу возникают неприятные ощущения. В те секунды, пока снаряд летит, приближаясь, ты про себя говоришь: "Ну вот, это все, это мой снаряд". Со временем это чувство притупляется. Уж слишком часты повторения.
Но первого убитого при мне человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд, и заряжающему осколком срезало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идет из котелка, а верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто.
Смерть на войне, казалось бы, не должна потрясать. Но каждый раз это потрясало. Я видел поля, на которых лежали рядами убитые люди: как шли они в атаку, так и скосил их всех пулемет. Я видел тела, разорванные снарядами и бомбами, но самое обидное — нелепая смерть, когда убивает шальная пуля, случайно попавший осколок...
Ночью 14 июля 1944 года под Псковом мы заняли очередную позицию, с тем чтобы с утра поддержать разведку боем соседней дивизии. Лил дождь. Командир отделения сержант связи Ефим Лейбович со своим отделением протянул связь от батареи до наблюдательного пункта на передовой. Мы же во главе с нашим командиром взвода подготовили данные для ведения огня.
Казалось, все идет хорошо. Но только я залез в землянку немного поспать, как меня вызвал комбат Шубников. Оказывается, связь с наблюдательным пунктом прервалась, и Шубников приказал немедленно устранить повреждение.
С трудом расталкиваю заснувших связистов Рудакова и Шлямина. Поскольку Лейбовича вызвали на командный пункт дивизиона, возглавлять группу пришлось мне.
Глухая темень. Ноги разъезжаются по глине. Через каждые сто метров прозваниваем линию. А тут начался обстрел, и пришлось почти ползти. Наконец обнаружили повреждение. Долго искали в темноте отброшенный взрывом второй конец провода. Шлямин быстро срастил концы, можно возвращаться. Недалеко от батареи приказал Рудакову прозвонить линию. Тут выяснилось, что связь нарушена снова.
Шли назад опять под обстрелом… Так повторялось трижды. Когда, совершенно обессиленные, возвращались на батарею, услышали зловещий свист снаряда. Ничком упали на землю. Разрыв, другой, третий… Несколько минут не могли поднять головы. Наконец утихло. Поднялся и вижу, как неподалеку из траншеи выбирается Шлямин. Рудакова нигде нет. Громко стали звать — напрасно.
В тусклых рассветных сумерках заметили неподвижное тело возле небольшого камня. Подбежали к товарищу, перевернули к себе лицом.
— Саша! Саша! Что с тобой?
Рудаков открыл глаза, сонно и растерянно заморгал:
— Ничего, товарищ сержант… Заснул я под "музыку"…
До чего же люди уставали и как они привыкли к постоянной близости смертельной опасности!..

Летом 1944 года мы остановились в городе Изборске. Под этим городом мы с группой разведчиков чуть не погибли. А получилось так. Ефим Лейбович, я и еще трое наших разведчиков ехали на полуторке. В машине — катушки с кабелем для связи и остальное наше боевое имущество. Немцы, как нам сказали, отсюда драпанули, и мы спокойно ехали по дороге. Правда, мы видели, что по обочинам лежат люди и усиленно машут нам руками. Мы на них не обратили особого внимания. Въехали в одну деревню, остановились в центре и тут поняли: в деревне-то стоят немцы.
Винтовки наши лежат под катушками. Чтобы их достать, нужно разгружать всю машину. Конечно, такое могли себе позволить только беспечные солдаты, какими мы и оказались. И мы видим, что немцы с автоматами бегут к нашей машине. Мы мигом спрыгнули с кузова и бегом в рожь.
Что нас спасло? Наверное, немцы тоже что-то не поняли: не могли же они допустить, что среди русских нашлось несколько идиотов, которые заехали к ним в деревню без оружия. Может быть, издали они приняли нас за своих, потому что один немец долго стоял на краю поля и все время кричал в нашу сторону:
— Ганс, Ганс!..
Лежим мы во ржи, а я, стараясь подавить дыхание, невольно рассматривая каких-то ползающих букашек, думаю: "Ах, как глупо я сейчас погибну…"
Но немцы вскоре ушли. Мы выждали некоторое время, вышли из ржаного поля, сели в машину, предварительно достав винтовки, и поехали обратно.
Почему наша машина не привлекла немцев, почему они не оставили засады — понять не могу. Наверное, оттого, что у них тогда была паника. Они все время отступали.
Нашли мы свою батарею, и комбат Шубников, увидя нас живыми, обрадовался.
— Я думал, вы все погибли, — сказал он. — Вас послали в деревню по ошибке, перепутали…
Так мне еще раз повезло.
А ведь неподалеку от нас во ржи лежали убитые наши ребята, пехотинцы. Мы потом, когда вернулись вместе с батареей, захоронили их. И только у двоих или троих нашли зашитые в брюки медальоны.
Николай Гусев называл их "мертвой коробочкой". Медальон был из пластмассы и завинчивался, чтобы внутрь не проникла вода. Такую коробочку выдали и мне. В ней лежал свернутый в трубочку кусок пергамента с надписью: "Никулин Ю. В. Год рождения 1921. Место жительства: Москва, Токмаков переулок, д. 15, кв. 1, группа крови 2-я".
Коробочки выдавали каждому. И часто только по ним и определяли личность убитого. Неприятно это чувствовать, что всегда у тебя медальон "мертвая коробочка". Вспомнишь, и сразу как-то тоскливо становится...

Наступила весна 1945 года. Нас погрузили на платформы и направили в Курляндию. Уже освободили от фашистов Польшу и часть Чехословакии. Шли бои на подступах к Берлину. Но большая группировка немецких войск, прижатая к морю, оставалась в Прибалтике.
Третьего мая мы заняли огневую позицию в районе населенного пункта с романтическим названием Джуксте. Восьмого мая нам сообщили, что утром начнется общее наступление наших войск по всему фронту.
Казалось бы, ночь перед боем должна быть тревожной, но мы спали как убитые, потому что весь день строили, копали.
В нашей землянке лежали вповалку семь человек. Утром мы почувствовали какие-то удары и толчки. Открыли глаза и видим: по нашим телам, пригнувшись, бегает разведчик Володя Бороздинов с криком "А-ааа, а-аа!". Мы смотрели на него и думали — уж не свихнулся ли он?
Оказывается, Бороздинов кричал "ура!". Он первым узнал от дежурного телефониста о том, что подписан акт о капитуляции фашистских войск. Так пришла победа.
У всех проснувшихся был одновременно радостный и растерянный вид. Никто не знал, как и чем выразить счастье.
В воздух стреляли из автоматов, пистолетов, винтовок. Пускали ракеты. Все небо искрилось от трассирующих пуль.
Хотелось выпить. Но ни водки, ни спирта никто нигде достать не смог.
Недалеко от нас стоял полуразвалившийся сарай. Поджечь его! Многим это решение пришло одновременно… Мы подожгли сарай и прыгали вокруг него как сумасшедшие. Прыгали, возбужденные от радости…
В журнале боевых действий появилась запись:
"Объявлено окончание военных действий.
День Победы!
Войска противника капитулировали.
Вечером по случаю окончания военных действий произведен салют из четырех орудий — восемь залпов.
Расход — 32 снаряда.
9 мая 1945 года".

Победа! Кончилась война, а мы живы! Это великое счастье — наша победа! Война позади, а мы живы! Живы!!!
На другой день мы увидели, как по шоссе шагали, сдаваясь в плен, немцы. Те немцы, наступление на которых готовилось. Впереди шли офицеры, за ними человек пятнадцать играли немецкий марш на губных гармошках. Огромной выглядела эта колонна. Кто-то сказал, что за полдня немцев прошло более тридцати тысяч. Вид у всех жалкий. Мы разглядывали их с любопытством.

Вскоре наш дивизион окончательно приступил к мирной жизни. И 11 июня 1945 года в нашем боевом журнале появилась запись. Последняя запись в журнале боевых действий первой батареи 72-го отдельного Пушкинского дивизиона: "Закончено полное оборудование лагеря в районе станции Ливберзе.
Приступили к регулярным занятиям по расписанию.
Получено указание о прекращении ведения боевого журнала.
Командир батареи капитан Шубников".

И наступило мирное время. Всем нам казалось очень странным наше состояние. Мы отвыкли от тишины. Больше всего я ожидал писем из дома. Интересно, думал я, а как победу встретили отец и мать?
Вскоре от отца пришло большое письмо со всеми подробностями. Отец писал, как они слушали правительственное сообщение о победе, как проходило гулянье на улицах, как обнимались незнакомые люди, как все целовали военных…
Всю ночь отец с матерью гуляли, хотели пройти на Красную площадь, но там собралось столько народу, что они не сумели протиснуться. С каким волнением я читал это письмо — так хотелось домой. Домой!..
 Использованы главы из книги Юрия Владимировича Никулина "Почти серьёзно..." — М.: Вагриус; 1998 http://dubikvit.livejournal.com/202745.html
Использованы главы из книги Юрия Владимировича Никулина "Почти серьёзно..." — М.: Вагриус; 1998 http://dubikvit.livejournal.com/202745.html