-Метки
sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер
-Поиск по дневнику
-Постоянные читатели
Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый
-Статистика
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА СЕТА (IV) |
Карлова Ксения Федоровна
ОБРАЗ БОГА СЕТА В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА
КАТАСТРОФА, КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА МААТ
Нарушение порядка маат враждебными божествами, которыми в «Книге отражения зла» являются Сет (Stš) и Апоп (ˁȝpp), может привести к апокалиптической катастрофе. Этот же мотив был выражен и в «Книге победы над Сетом», однако в рассматриваемом ритуале несчастья, которые могут постигнуть Египет, перечисляются прямо и являются частью мифологемы, в рамках которой Сет совершает преступления (Urk.VI.123-129). Эта мифологема связывает воедино концепцию возрождения Осириса и представление о мироустройстве, где все зависит от повторяемости солнечного цикла. Речь идет о нарушении нормальных природных процессов, которым подвластны и боги. Это нарушение космического порядка — маат, влечет за собой поворот к первобытному хаосу, к исефет. Цель ритуала «Книги отражения зла» заключается в том, чтобы обеспечить космическое равновесие и непрерывное функционирование природных циклов, таких как ежедневный восход солнца, сезонный разлив Нила и поддержание неба и земли на своих местах. Так, приближаясь к ахет, Сет угрожает появлению солнца, поскольку ахет — это зона, где солнце, в образе Хорахти (Ḥrw ȝḥty), появляется после ночного путешествия.
Далее, в тексте говорится, что солнечный диск (itn) в области Mr n ḫȝwy («Озеро двух ножей») не должен исчезнуть или потемнеть. Mr n ḫȝwy известно как место битвы Ра и Апопа, которая описывается в тексте «Книги отражения зла»: «Прогнал я Апопа в мгновение его, совершил я плевок в (змея) Nik, (который) он проглотил, направил я ладью-Mskt (при) хорошем ветре к песчаным берегам Mr n ḫȝwy» (Urk.VI.97.8-10: sḥm.n.i ˁȝpp m ȝt.f di.i bš Nik ˁm.n.f smȝˁ.n.i Mskt mȝˁw nfry ḥr pȝ ṯswt Mr n ḫȝwy). «Озеро ножей» как объект инобытия выступает в заупокойной литературе, начиная с периода Нового царства, в качестве мифологического и земного региона, а также может являться водным путем, по которому совершает свое движение солнце.
Вслед за исчезновением солнца описывается угроза исчезновения луны и иссушение Нила. Обмеление реки вызовет, в свою очередь, изменение структуры вод моря:
По-видимому, обычные воды, с которыми связывалось плодородие почвы, могут быть отравлены или выпиты злобным божеством.
В этом контексте интересно отметить замечание Плутарха, пишущего о связи Тифона (Сета) с морем. Плутарх замечает, что Тифоном называют море, ветер и мрак (DIO.45.369A), а морская соль является «пеной Тифона» (DIO.32.363E). Можно предположить, что пересыхающие воды моря относились к Сету, поскольку в отличие от вод, связанных с Осирисом, они не могли обеспечивать почвенное плодородие. Ассоциация таких вод с Сетом должна быть связана с его качествами бога хаоса и беспорядка, о чем также сообщается у Плутарха (DIO.55.373D):
Все эти катастрофы могут ввергнуть мир с состояние хаоса, когда все окажется сокрыто в водах Нуна. Согласно представлениям египтян, упорядоченный мир всегда окружен хаосом и мраком, которые при нарушении исполнения соответствующих ритуалов могут поглотить мир. В тексте говорится:
Здесь может подразумеваться регресс Вселенной к состоянию до времени творения, когда необходимо было начать создавать мир заново. Нун — это первородная субстанция и бесконечная материя, представляющаяся в качестве воды, существовавшая до сотворения Вселенной богом-демиургом Атумом, который был сокрыт в нем до начала времен.
В основе воззрений египтян о сотворенном мире лежало представление о движении солнца по небу и его цикличности, что обеспечивало устроение Вселенной. Эта цикличность гарантировала упорядоченность и нерушимость космоса, а также непрерывное возрождение и возобновление. В центре египетской картины мироздания находилась земля (tȝ), а солнце пересекало космическое пространство в двух ладьях — манджет (mˁnḏt, дневная ладья) и месектет (msḳtt, ночная ладья). Части мира, не входящие в солнечный путь, характеризовались как мировой океан — Нун. Основным ориентиром являлась меридиональная ось «север — юг» и «юг — север», по которой определялись границы мироздания, что соответствовало представлениям о биполярном устройстве Египта:
Уже в «Текстах пирамид» говорится, что путь, по которому движется солнце — ḫȝ-канал, имеет южную и северную стороны: …«на сторону эту южную ḫȝ-канала …на сторону ту северную ḫȝ-канала» (Pyr.1376c, 1377c: …m pn gs rs n mr n ḫȝ …m pf gs mḥt n mr n ḫȝ). Иногда они еще обозначаются как два берега — idbwy (Pyr.1345c, 2172c). В связи с этим прослеживается определенная связь с моделью земного устройства Египта, который может обозначаться также как idbwy — «два берега». Представление о севере и юге связывалось с понятием о двух небесах, которые могли являться северными и южными небесами соответственно:
Такое представление могло быть связано непосредственно с делением египетской земли на две части. В «Текстах пирамид» есть прямое указание на это: …«пришли к Тети два неба, пришли к Тети две земли»… (Pyr.541c: …šm n Tty ptwy i n Tty tȝwy…). О деструктивной роли Сета в этой возможной катастрофе говорится в папирусе Бремнер-Ринд: «Опустил он небо к земле» (pBM 10188. col. 5.7: hȝb.f nnt r zȝṯw). Разделение неба и земли является основой мифологической картины мира египтян, поскольку именно оно положило начало существованию мира таким, какой он есть. Их совмещение или соединение означает неминуемый возврат к первобытному хаосу, когда не существовало ни неба, ни земли.
Эти эсхатологические представления были актуальны в ритуалах, которые были призваны отразить угрозу нападения врагов, болезни или смерти. Так, в Лейденском папирусе времени Нового царства, в изречении о рождении Исиды перечисляются космические катастрофы, которые могут произойти в том случае, если ее рождение не состоится:
В папирусе Честер-Битти VII времени Нового царства картина бедствий схожа с описанными в «Книге отражения зла»:
Как видно, эта апокалиптическая картина схожа с той, которая рисуется в «Книге отражения зла», однако отличие заключается в том, что ритуал вышеприведенного папируса направлен не против Сета, а против скорпионов, что характерно для частной магической практики Нового царства, а образ Сета в качестве обобщенного врага становится актуален только к эпохе Позднего периода.
Аналогичные идеи встречаются в текстах греко-римского времени и также связываются непосредственно с убийством Осириса Сетом (pLouvre 3079.col.111.97-102). В папирусах Солт и Жюмильяк описывается нарушение космического и природного равновесия из-за убийства Осириса, которое обозначается как «зло великое» (ḳn ˁȝ, ḳn wr (pSalt 825. XIV.9)) или «несчастье», «разрушение» (bȝg/gb (pJumilhac XI.1)). Термины, которые употребляются в папирусах позднего и греко-римского периода в связи с убийством Осириса, характеризуют это событие именно как вселенскую катастрофу. Важность ритуала возрождения Осириса и проведения осирических праздников заключается в том, что они обеспечивают космическое равновесие и поддерживают все природные циклы. Это, в свою очередь, обеспечивает жизнедеятельность и благосостояние всей страны. Само наступление тьмы вызвано смертью бога, потому что враг Осириса — Сет — связывается с темнотой. Вместе с тем сам Осирис является светоносным богом, а связь осирического мифа с плаванием солнечной барки в контексте ритуала «Книги отражения зла» подразумевает также недопущение торжества Апопа и противников солнечного бога, которые могут повергнуть мир во мрак. Страх перед возвращением мира к хаосу небытия был свойственен египтянам на протяжении всей их истории, но с течением времени это опасение стало одной из ярких характеристик позднеегипетской религии.
ОБРАЗ СЕТА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ ПОЗДНЕГО ВРЕМЕНИ
Особенность восприятия времени египтянами, как и многими другими народами древности, заключалась в том, что время для них было цикличным. Египетское государство в своем развитии проходило через ряд т.н. «малых» временных циклов, каждый из которых характеризовался соотношением в мире порядка маат и его противоположности — исефет. Поддержание в стране маат напрямую зависело от царя Египта, обладавшего способностью ее постижения.
В том случае, когда царская власть ослабевала или начинался династический кризис, маат истощалась, а ее восстановление в полном объеме становилось возможным тогда, когда к власти приходил царь-ритуалист, способный с помощью ритуалов восстановить маат и далее поддерживать ее в полном объеме. С этой точки зрения египетская история пережила несколько периодов смутных времен, из которых хронологически первым и, пожалуй, наиболее значительным, если судить об этом по остроте исторической памяти в египетской традиции, оказалось смутное время I Переходного периода, наступление которого стало возможным после уклонения царей от маат в период Древнего царства.
Следствием этого стало наступление времени политических, социальных и природных бедствий. Катастрофы I Переходного периода нашли свое отражение в важнейших художественных текстах первой половины II тыс. до н.э., прежде всего таких как «Пророчество Неферти» (pErm. 1116B) и «Речение Ипувера» (pLeiden I. 344 recto), которые объединяет общая тема описания бедствий, переживаемых египетским обществом.
В «Пророчестве Неферти» причина этих бедствий может быть обозначена имплицитно, в самой мизансцене этого произведения: согласно ему, мудрец Неферти произносит прорицание, содержащее яркое описание природных и социальных катаклизмов в Египте и последующего прихода к власти царя Амени (очевидно, основателя ΧΙΙ династии Аменемхета Ι) перед царем IV династии Снофру. По мнению И.А. Ладынина, то, что это пророчество адресовано Снофру — исторически предшественнику строителей великих пирамид — может указывать на связь между их пренебрежением своим долгом поддержания маат, угадывающимся в других описаниях их времени, и последующими бедствиями Египта в I Переходный период.
В «Речении Ипувера» прямо говорится об ответственности за катастрофическое положение страны самого царя, владеющего средствами к постижению и претворению в жизнь маат, но пренебрегающего этим.
В обоих произведениях — в «Пророчестве Неферти» и в «Речении Ипувера», много места отведено описанию социальных неурядиц, однако упоминаются также и религиозные аспекты происходящих бедствий. Так, в «Пророчестве Неферти» эта тема сопряжена с мотивом природной катастрофы: страна оказалась полностью уничтожена, и в результате даже солнечный диск (itn) оказался скрыт за тучами и больше не светит (pErm. 1116B recto. 24-25). Это описание природной катастрофы, ставшей итогом страшных времен. Но в тексте говорится и о религиозной катастрофе, когда солнце (rˁ), сотворившее людей, отходит от них и ослабевает, светя с меньшей силой (pErm. 1116B recto. 51-54). Согласно Я.Ассману, это «ослабление» солнца является следствием утраты царями и людьми благословения и силы богов. С этим согласуется замечание О.Д. Берлева, принятое А.Е. Демидчиком, о том, что некоторые цари VIII династии не включали в свои имена компонент, соответствующий имени солнечного бога Ра, а вельможи в своих автобиографических памятниках не называли по имени царей, которым они служили. Причиной этого могло быть представление о некоем ослаблении или повреждении сакральной природы этих царей, с чем были связаны трудности в ритуальном взаимодействии с богами и бедствия страны; соответственно, возникали основания для того, чтобы избегать употребления применительно к этим царям имен, в которых утверждалась бы не обнаруживающаяся на практике их связь с солнцем. Внешнеполитические бедствия, последовавшие за ослаблением царской власти, также нашли свое отражение в обоих текстах: в Дельту Нила вторглись азиаты, и начались связанные с этим бедствия (pErm. 1116B recto. 29, 33; pLeiden I. 344 recto. 4.5-4.8): как в «Речении Ипувера», так и в «Пророчестве Неферти» проникновение иноземцев в Египет оказывается симптомом упадка миропорядка.
В ситуации наступления в I Переходный период полосы бедствий перед египтянами не могла не встать проблема теодицеи — объяснения истоков происходящего в мире зла в соотнесении с представлением о благости правящего миром верховного солнечного бога. В «Речении Ипувера» истоками зла достаточно отчетливо признается забвение норм маат как сакральным царем, так и несовершенными людьми, а также утрата в связи с этим возможности нормального взаимодействия с верховным божеством.
Новое звучание эта проблема должна была получить в Поздний период, когда нестабильность внутренней жизни Египта дополнялась внешнеполитической опасностью, порождавшей угрозу утраты страной независимости. Так, в IV в. до н.э. персы предприняли в общей сложности четыре попытки отвоевания Египта, из которых три пришлись на период правления XXX династии. Осмысление и понимание того, почему эти события стали возможны, по-видимому, стали одной из важнейших задач общественно-религиозной мысли этого периода.
Очевидно, что непосредственно в эпоху формирования «Книги победы над Сетом», при царях ХХХ династии, отнести проблемы страны за счет каких бы то ни было оплошностей царей в ритуальной сфере или дефицита их сакральности было нежелательно. Предложить такое объяснение в рамках официальной царской идеологии значило подорвать статус самих царей, которые, как показывает концепция скульптурных групп «соколов-Нектанебов», напротив, шли на определенные манипуляции, чтобы показать, что сакральность прочно и имманентно им присуща. Как уже отмечалось, понятия маат и исефет в «Книге победы над Сетом» представлены более антагонистически и, во всяком случае, более персонифицировано, чем в религиозных текстах III-II тыс. до н.э. Сет по своим качествам и приписанным ему действиям, а также по четко проговоренному в рамках его эпитетов статусу оказывается не просто антагонистом маат — он «владыка исефет», что подразумевает возложение на него полной ответственности за наличие всего зла в мироздании. Такое решение проблемы теодицеи в рассматриваемый период не только должно было быть наиболее приемлемым с точки зрения египетского жречества, но и было подготовлено всеми предшествующими этапами развития египетской религии, которая к середине I тыс. до н.э. подошла к дуалистическому осмыслению мира с резким противопоставлением светлого и темного начал в мире. По-видимому, образ Сета, в том виде, в каком он сформировался на позднем этапе развития египетской религии, довольно точно описан Плутархом в его трактате «Об Исиде и Осирисе». Он сопоставляет качества Осириса и Сета, отмечая, что в противоположность благому принципу, воплощающемуся в Осирисе, Сет действует как сила разрушительная в области природы (DIO.45.369A; 59.375B) и в духовной сфере (DIO.27.361D). В своей интерпретации Сета-Тифона Плутарх соединяет духовные и материальные аспекты его природы, которые вполне согласуются с обликом Сета, представленным в рассмотренных ритуалах: «Тифон же в пределах души — все бурное, титаническое, неразумное и непостоянное, а в материальной части — смертное, вредоносное, возбудительное и связанное с неупорядоченными сроками, нарушением пропорций» (DIO.49.371B-C).
П.Клемм предложил очень интересную интерпретацию причины демонизации Сета: по его мнению, наделение Сета качествами анти-бога стало возможным в результате изменений, произошедших в египетском религиозном сознании в эпоху Амарны, когда в наиболее широкой форме развернулась эксплицитная теология и развился теологический дискурс. В Поздний период поиски истоков зла в мире, воплощенных в некоем едином и, по законам архаического сознания, персонифицируемом начале, стали следствием переживаемых государством политических катастроф, вызванных упадком царской власти.
Однако предпосылки к этому нельзя сводить только к упадку царской власти: независимо от своего политического могущества и от того, сколь патерналистские цели она ставила перед собой, царская власть была бессильна радикально изменить ситуацию в обществе Египта I тыс. до н.э., ставшего в гораздо большей степени, чем раньше, ареной конкурентной борьбы всевозможных частных и корпоративных интересов и в целом выработавшего достаточно пессимистическое (особенно в сравнении с прежними эпохами) мировоззрение. Данный пессимизм проявляется, в частности, в уверенности в том, что люди подвержены всевозможным соблазнам и мирятся со злом, когда оно приносит им выгоду; однако свести истоки зла в мире исключительно к несовершенству человеческого общества при общем для архаики позитивном отношении к земному миру и его ценностям было бы маловозможно. Не случайно в «Речении Ипувера», которое, как уже говорилось, возводило истоки зла в мире как к несовершенству людей, так и к персональной ответственности царя, первый мотив присутствует скорее на уровне общего представления, в то время как второй предлагает прямое объяснение текущего бедственного положения страны.
В ситуации I тыс. до н.э. именно Сет объявлялся источником зла для всего существующего, что было логичным итогом развития его образа в контексте мифа об Осирисе, поскольку убив Осириса, Сет привнес в мир преступление и зло.
Как отмечает Я.Ассман, Осирис — великий бог, который есть нечто большее, чем просто «мертвый отец» и «супруг», поскольку он — мифологический персонаж, «в котором заупокойные ритуалы обрели свой мифический прообраз». Поэтому не вызывает удивления то, какое значение приобрели ритуалы, связанные с Осирисом. Также и Сет — тоже великий бог, который также нечто большее, чем просто бог, являющийся персонификацией причины смерти. Если ранее, в религиозной традиции до Позднего периода любой кризис завершался торжеством принципа маат, то теперь Сет выступает как антагонист маат, который не подвластен единому для всех богов закону мироздания и способен его поколебать. По этой причине определяющим вектором развития религии Позднего периода стала боязнь несоблюдения ритуалов и предписаний, которые были необходимы для функционирования маат.
Не случайно, что в Поздний период приобретают актуальность представления о возможной эсхатологической катастрофе, которая может постигнуть мир в том случае, если ритуалы и предписания не будут исполняться в необходимом объеме. Теперь эти воззрения в гораздо более значительной степени, чем раньше, связаны с представлением о том, что весь мир, находящийся за пределами Египта, враждебен и опасен по причине того, что там нет маат. Поэтому Сет воплощает в себе не только всю чужеземную и враждебную силу, но и хаос пограничья между Египтом и областями инобытия, каковым представляются чужеземные страны, или, иными словами, он начинает представлять опасность в двойном аспекте — не только как враг порядка в египетском обществе, но и как враждебное существо инобытийного мира, способное поколебать основы мироздания. Ранее такие функции страшного космического врага, как известно, приписывались только Апопу, нападающему на солнечную барку.
Интересно, что в птолемеевское время вновь становится актуальной схема описания бедствий страны, примененная в «Пророчестве Неферти». В т.н. «Оракуле горшечника» (P2 II.55) — тексте грекоязычном, но соответствующем египетской традиции по специфике своего содержания и используемым в нем категориям, пророчество о судьбе Египта произносится неким горшечником в присутствии царя Аменофиса. Горшечник предсказывает, что в Египте наступят тяжкие времена тифонцев (т.е. последователей Сета), когда в стране будут бушевать природные и социальные катаклизмы. Описание грядущих бедствий относится к македонскому времени, которое создателям текста видится периодом хаоса и смуты. Эпоха тифонцев в Египте кончится тогда, когда вновь появится настоящий царь, родившийся от солнечного бога и, соответственно, наделенный сакральной легитимностью.
Карлова К.Ф. Образ бога Сета в древнеегипетской религии Позднего периода.
___________________________
ОБРАЗ БОГА СЕТА В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА
КАТАСТРОФА, КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА МААТ
Нарушение порядка маат враждебными божествами, которыми в «Книге отражения зла» являются Сет (Stš) и Апоп (ˁȝpp), может привести к апокалиптической катастрофе. Этот же мотив был выражен и в «Книге победы над Сетом», однако в рассматриваемом ритуале несчастья, которые могут постигнуть Египет, перечисляются прямо и являются частью мифологемы, в рамках которой Сет совершает преступления (Urk.VI.123-129). Эта мифологема связывает воедино концепцию возрождения Осириса и представление о мироустройстве, где все зависит от повторяемости солнечного цикла. Речь идет о нарушении нормальных природных процессов, которым подвластны и боги. Это нарушение космического порядка — маат, влечет за собой поворот к первобытному хаосу, к исефет. Цель ритуала «Книги отражения зла» заключается в том, чтобы обеспечить космическое равновесие и непрерывное функционирование природных циклов, таких как ежедневный восход солнца, сезонный разлив Нила и поддержание неба и земли на своих местах. Так, приближаясь к ахет, Сет угрожает появлению солнца, поскольку ахет — это зона, где солнце, в образе Хорахти (Ḥrw ȝḥty), появляется после ночного путешествия.
Далее, в тексте говорится, что солнечный диск (itn) в области Mr n ḫȝwy («Озеро двух ножей») не должен исчезнуть или потемнеть. Mr n ḫȝwy известно как место битвы Ра и Апопа, которая описывается в тексте «Книги отражения зла»: «Прогнал я Апопа в мгновение его, совершил я плевок в (змея) Nik, (который) он проглотил, направил я ладью-Mskt (при) хорошем ветре к песчаным берегам Mr n ḫȝwy» (Urk.VI.97.8-10: sḥm.n.i ˁȝpp m ȝt.f di.i bš Nik ˁm.n.f smȝˁ.n.i Mskt mȝˁw nfry ḥr pȝ ṯswt Mr n ḫȝwy). «Озеро ножей» как объект инобытия выступает в заупокойной литературе, начиная с периода Нового царства, в качестве мифологического и земного региона, а также может являться водным путем, по которому совершает свое движение солнце.
Вслед за исчезновением солнца описывается угроза исчезновения луны и иссушение Нила. Обмеление реки вызовет, в свою очередь, изменение структуры вод моря:
«Да не будет море сладким, [Не будет это море сладким,] и да не будет поглощено то, что в воде его [и не будет выпито то, что в нем.]»
(Urk. VI.125.21-127.2: imi bnr.tw Wȝḏ-wr [bw iry pȝ ym hnn] sẖb.kȝ tw imy mw.f [mtww swr n-im.f]).
По-видимому, обычные воды, с которыми связывалось плодородие почвы, могут быть отравлены или выпиты злобным божеством.
В этом контексте интересно отметить замечание Плутарха, пишущего о связи Тифона (Сета) с морем. Плутарх замечает, что Тифоном называют море, ветер и мрак (DIO.45.369A), а морская соль является «пеной Тифона» (DIO.32.363E). Можно предположить, что пересыхающие воды моря относились к Сету, поскольку в отличие от вод, связанных с Осирисом, они не могли обеспечивать почвенное плодородие. Ассоциация таких вод с Сетом должна быть связана с его качествами бога хаоса и беспорядка, о чем также сообщается у Плутарха (DIO.55.373D):
…«она (т.е. сила Сета) в нашем мире вялая и ослабленная, смешивается и соединяется со всякой бурной и изменчивой стихией и является творцом трясений и толчков на земле, засухи и дурных ветров в воздухе, а также громов и молний. Эта сила заражает мором воды и ветры»….
Все эти катастрофы могут ввергнуть мир с состояние хаоса, когда все окажется сокрыто в водах Нуна. Согласно представлениям египтян, упорядоченный мир всегда окружен хаосом и мраком, которые при нарушении исполнения соответствующих ритуалов могут поглотить мир. В тексте говорится:
«Да не выйдет пламя из Нуна. [Не выйдет пламя из воды этой.] Сожжет пламя (другое) пламя. [Сожжет пламя (другое) пламя.]»
(Urk.VI.123. 19-22: imi pri ḫt m ḥr-ib Nwn [bw iri wn stȝ pri m pȝ ḥr-ib n pȝ mw] hwt nzrt m nzrt [mtw ẖt ḏȝf ẖt]).
Здесь может подразумеваться регресс Вселенной к состоянию до времени творения, когда необходимо было начать создавать мир заново. Нун — это первородная субстанция и бесконечная материя, представляющаяся в качестве воды, существовавшая до сотворения Вселенной богом-демиургом Атумом, который был сокрыт в нем до начала времен.
В основе воззрений египтян о сотворенном мире лежало представление о движении солнца по небу и его цикличности, что обеспечивало устроение Вселенной. Эта цикличность гарантировала упорядоченность и нерушимость космоса, а также непрерывное возрождение и возобновление. В центре египетской картины мироздания находилась земля (tȝ), а солнце пересекало космическое пространство в двух ладьях — манджет (mˁnḏt, дневная ладья) и месектет (msḳtt, ночная ладья). Части мира, не входящие в солнечный путь, характеризовались как мировой океан — Нун. Основным ориентиром являлась меридиональная ось «север — юг» и «юг — север», по которой определялись границы мироздания, что соответствовало представлениям о биполярном устройстве Египта:
«Да не будет узнано плавание солнечного диска на север и на юг [Да не будет узнано плавание солнца на север и на юг,] и множество путей (при) пересечении небесного свода. [те пути, которые (при) пересечении неба.]»
(Urk.VI.125.1-4: imi rḫ.tw ḫdi ḫnti n itn [bw iri rḫ nȝ ḫdi ḫnti pȝ šw] ˁšȝwt wȝwt m ḏˁi ḥrt [pȝ nty nȝ-ˁšȝw nȝy.f wȝwt r ḏˁi tȝ pt]).
Уже в «Текстах пирамид» говорится, что путь, по которому движется солнце — ḫȝ-канал, имеет южную и северную стороны: …«на сторону эту южную ḫȝ-канала …на сторону ту северную ḫȝ-канала» (Pyr.1376c, 1377c: …m pn gs rs n mr n ḫȝ …m pf gs mḥt n mr n ḫȝ). Иногда они еще обозначаются как два берега — idbwy (Pyr.1345c, 2172c). В связи с этим прослеживается определенная связь с моделью земного устройства Египта, который может обозначаться также как idbwy — «два берега». Представление о севере и юге связывалось с понятием о двух небесах, которые могли являться северными и южными небесами соответственно:
«Да не склонятся одновременно два неба, [не склонятся одновременно южное и северное небо,] и да не объединится небо с землей. [и небо упадет вниз на поверхность земли.]»
(Urk.VI.125.5-8: imi sḳd pty m sp wˁ [bw iry tȝ pt rsy irm tȝ pt mḥtt mšˁ n wˁ sp] smȝ pt r tȝ [mtw tȝ pt hȝi r pȝ iwtn]).
Такое представление могло быть связано непосредственно с делением египетской земли на две части. В «Текстах пирамид» есть прямое указание на это: …«пришли к Тети два неба, пришли к Тети две земли»… (Pyr.541c: …šm n Tty ptwy i n Tty tȝwy…). О деструктивной роли Сета в этой возможной катастрофе говорится в папирусе Бремнер-Ринд: «Опустил он небо к земле» (pBM 10188. col. 5.7: hȝb.f nnt r zȝṯw). Разделение неба и земли является основой мифологической картины мира египтян, поскольку именно оно положило начало существованию мира таким, какой он есть. Их совмещение или соединение означает неминуемый возврат к первобытному хаосу, когда не существовало ни неба, ни земли.
Эти эсхатологические представления были актуальны в ритуалах, которые были призваны отразить угрозу нападения врагов, болезни или смерти. Так, в Лейденском папирусе времени Нового царства, в изречении о рождении Исиды перечисляются космические катастрофы, которые могут произойти в том случае, если ее рождение не состоится:
«Не будет больше неба, не будет больше земли, не будет больше эпагомен, не будет больше жертв для богов, владык Гелиополя! Возникнет крик в южном небе, возникнет хаос в северном небе, крики скорби внутри капеллы! Солнце не взойдет, Нил не потечет, когда должен он будет прийти ко времени своему!»
(pLeiden I 348 verso.11.5-11.7: ḫr nn wnw pt ḫr nn wnw tȝ ḫr nn wnw hrw ḥriw rnpt ḫr nn wnw wdnw n nṯrw nbw Ἰwnw ḫpr bgȝ m pt rsi (r) (ḫ)pr ẖnnw m pt mḥtt ˁnw m-ẖnw kȝr nn wbn Šw nn ḥwi Ḥˁpi bsy.f r tr.f).
В папирусе Честер-Битти VII времени Нового царства картина бедствий схожа с описанными в «Книге отражения зла»:
…«небо закрытое, земля во тьме. Ра! Эннеада! Приди и посмотри, отрава, идет она, обволакивает она, течение ее подобно Нилу! (Да) засияет свет, (да) воссияет солнечный диск! Будут проводиться деяния ритуальные в храме, который в Гелиополе!»
(pBM EA 10687 recto. 7.7-8.1: …tȝ pt hȝb.ti tȝ m kkw n Rˁ tȝ psḏt min mȝȝ ṯn tȝ mtwt ii.ti ˁfn.ti ḥwi n.s mi Ḥˁpi ḥr iḏbw wbn šw psḏ itn ir.tw ḥnwt m ḥwt-nṯr nty m Ἰwnw).
Как видно, эта апокалиптическая картина схожа с той, которая рисуется в «Книге отражения зла», однако отличие заключается в том, что ритуал вышеприведенного папируса направлен не против Сета, а против скорпионов, что характерно для частной магической практики Нового царства, а образ Сета в качестве обобщенного врага становится актуален только к эпохе Позднего периода.
Аналогичные идеи встречаются в текстах греко-римского времени и также связываются непосредственно с убийством Осириса Сетом (pLouvre 3079.col.111.97-102). В папирусах Солт и Жюмильяк описывается нарушение космического и природного равновесия из-за убийства Осириса, которое обозначается как «зло великое» (ḳn ˁȝ, ḳn wr (pSalt 825. XIV.9)) или «несчастье», «разрушение» (bȝg/gb (pJumilhac XI.1)). Термины, которые употребляются в папирусах позднего и греко-римского периода в связи с убийством Осириса, характеризуют это событие именно как вселенскую катастрофу. Важность ритуала возрождения Осириса и проведения осирических праздников заключается в том, что они обеспечивают космическое равновесие и поддерживают все природные циклы. Это, в свою очередь, обеспечивает жизнедеятельность и благосостояние всей страны. Само наступление тьмы вызвано смертью бога, потому что враг Осириса — Сет — связывается с темнотой. Вместе с тем сам Осирис является светоносным богом, а связь осирического мифа с плаванием солнечной барки в контексте ритуала «Книги отражения зла» подразумевает также недопущение торжества Апопа и противников солнечного бога, которые могут повергнуть мир во мрак. Страх перед возвращением мира к хаосу небытия был свойственен египтянам на протяжении всей их истории, но с течением времени это опасение стало одной из ярких характеристик позднеегипетской религии.
ОБРАЗ СЕТА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ ПОЗДНЕГО ВРЕМЕНИ
Особенность восприятия времени египтянами, как и многими другими народами древности, заключалась в том, что время для них было цикличным. Египетское государство в своем развитии проходило через ряд т.н. «малых» временных циклов, каждый из которых характеризовался соотношением в мире порядка маат и его противоположности — исефет. Поддержание в стране маат напрямую зависело от царя Египта, обладавшего способностью ее постижения.
В том случае, когда царская власть ослабевала или начинался династический кризис, маат истощалась, а ее восстановление в полном объеме становилось возможным тогда, когда к власти приходил царь-ритуалист, способный с помощью ритуалов восстановить маат и далее поддерживать ее в полном объеме. С этой точки зрения египетская история пережила несколько периодов смутных времен, из которых хронологически первым и, пожалуй, наиболее значительным, если судить об этом по остроте исторической памяти в египетской традиции, оказалось смутное время I Переходного периода, наступление которого стало возможным после уклонения царей от маат в период Древнего царства.
Следствием этого стало наступление времени политических, социальных и природных бедствий. Катастрофы I Переходного периода нашли свое отражение в важнейших художественных текстах первой половины II тыс. до н.э., прежде всего таких как «Пророчество Неферти» (pErm. 1116B) и «Речение Ипувера» (pLeiden I. 344 recto), которые объединяет общая тема описания бедствий, переживаемых египетским обществом.
В «Пророчестве Неферти» причина этих бедствий может быть обозначена имплицитно, в самой мизансцене этого произведения: согласно ему, мудрец Неферти произносит прорицание, содержащее яркое описание природных и социальных катаклизмов в Египте и последующего прихода к власти царя Амени (очевидно, основателя ΧΙΙ династии Аменемхета Ι) перед царем IV династии Снофру. По мнению И.А. Ладынина, то, что это пророчество адресовано Снофру — исторически предшественнику строителей великих пирамид — может указывать на связь между их пренебрежением своим долгом поддержания маат, угадывающимся в других описаниях их времени, и последующими бедствиями Египта в I Переходный период.
В «Речении Ипувера» прямо говорится об ответственности за катастрофическое положение страны самого царя, владеющего средствами к постижению и претворению в жизнь маат, но пренебрегающего этим.
В обоих произведениях — в «Пророчестве Неферти» и в «Речении Ипувера», много места отведено описанию социальных неурядиц, однако упоминаются также и религиозные аспекты происходящих бедствий. Так, в «Пророчестве Неферти» эта тема сопряжена с мотивом природной катастрофы: страна оказалась полностью уничтожена, и в результате даже солнечный диск (itn) оказался скрыт за тучами и больше не светит (pErm. 1116B recto. 24-25). Это описание природной катастрофы, ставшей итогом страшных времен. Но в тексте говорится и о религиозной катастрофе, когда солнце (rˁ), сотворившее людей, отходит от них и ослабевает, светя с меньшей силой (pErm. 1116B recto. 51-54). Согласно Я.Ассману, это «ослабление» солнца является следствием утраты царями и людьми благословения и силы богов. С этим согласуется замечание О.Д. Берлева, принятое А.Е. Демидчиком, о том, что некоторые цари VIII династии не включали в свои имена компонент, соответствующий имени солнечного бога Ра, а вельможи в своих автобиографических памятниках не называли по имени царей, которым они служили. Причиной этого могло быть представление о некоем ослаблении или повреждении сакральной природы этих царей, с чем были связаны трудности в ритуальном взаимодействии с богами и бедствия страны; соответственно, возникали основания для того, чтобы избегать употребления применительно к этим царям имен, в которых утверждалась бы не обнаруживающаяся на практике их связь с солнцем. Внешнеполитические бедствия, последовавшие за ослаблением царской власти, также нашли свое отражение в обоих текстах: в Дельту Нила вторглись азиаты, и начались связанные с этим бедствия (pErm. 1116B recto. 29, 33; pLeiden I. 344 recto. 4.5-4.8): как в «Речении Ипувера», так и в «Пророчестве Неферти» проникновение иноземцев в Египет оказывается симптомом упадка миропорядка.
В ситуации наступления в I Переходный период полосы бедствий перед египтянами не могла не встать проблема теодицеи — объяснения истоков происходящего в мире зла в соотнесении с представлением о благости правящего миром верховного солнечного бога. В «Речении Ипувера» истоками зла достаточно отчетливо признается забвение норм маат как сакральным царем, так и несовершенными людьми, а также утрата в связи с этим возможности нормального взаимодействия с верховным божеством.
Новое звучание эта проблема должна была получить в Поздний период, когда нестабильность внутренней жизни Египта дополнялась внешнеполитической опасностью, порождавшей угрозу утраты страной независимости. Так, в IV в. до н.э. персы предприняли в общей сложности четыре попытки отвоевания Египта, из которых три пришлись на период правления XXX династии. Осмысление и понимание того, почему эти события стали возможны, по-видимому, стали одной из важнейших задач общественно-религиозной мысли этого периода.
Очевидно, что непосредственно в эпоху формирования «Книги победы над Сетом», при царях ХХХ династии, отнести проблемы страны за счет каких бы то ни было оплошностей царей в ритуальной сфере или дефицита их сакральности было нежелательно. Предложить такое объяснение в рамках официальной царской идеологии значило подорвать статус самих царей, которые, как показывает концепция скульптурных групп «соколов-Нектанебов», напротив, шли на определенные манипуляции, чтобы показать, что сакральность прочно и имманентно им присуща. Как уже отмечалось, понятия маат и исефет в «Книге победы над Сетом» представлены более антагонистически и, во всяком случае, более персонифицировано, чем в религиозных текстах III-II тыс. до н.э. Сет по своим качествам и приписанным ему действиям, а также по четко проговоренному в рамках его эпитетов статусу оказывается не просто антагонистом маат — он «владыка исефет», что подразумевает возложение на него полной ответственности за наличие всего зла в мироздании. Такое решение проблемы теодицеи в рассматриваемый период не только должно было быть наиболее приемлемым с точки зрения египетского жречества, но и было подготовлено всеми предшествующими этапами развития египетской религии, которая к середине I тыс. до н.э. подошла к дуалистическому осмыслению мира с резким противопоставлением светлого и темного начал в мире. По-видимому, образ Сета, в том виде, в каком он сформировался на позднем этапе развития египетской религии, довольно точно описан Плутархом в его трактате «Об Исиде и Осирисе». Он сопоставляет качества Осириса и Сета, отмечая, что в противоположность благому принципу, воплощающемуся в Осирисе, Сет действует как сила разрушительная в области природы (DIO.45.369A; 59.375B) и в духовной сфере (DIO.27.361D). В своей интерпретации Сета-Тифона Плутарх соединяет духовные и материальные аспекты его природы, которые вполне согласуются с обликом Сета, представленным в рассмотренных ритуалах: «Тифон же в пределах души — все бурное, титаническое, неразумное и непостоянное, а в материальной части — смертное, вредоносное, возбудительное и связанное с неупорядоченными сроками, нарушением пропорций» (DIO.49.371B-C).
П.Клемм предложил очень интересную интерпретацию причины демонизации Сета: по его мнению, наделение Сета качествами анти-бога стало возможным в результате изменений, произошедших в египетском религиозном сознании в эпоху Амарны, когда в наиболее широкой форме развернулась эксплицитная теология и развился теологический дискурс. В Поздний период поиски истоков зла в мире, воплощенных в некоем едином и, по законам архаического сознания, персонифицируемом начале, стали следствием переживаемых государством политических катастроф, вызванных упадком царской власти.
Однако предпосылки к этому нельзя сводить только к упадку царской власти: независимо от своего политического могущества и от того, сколь патерналистские цели она ставила перед собой, царская власть была бессильна радикально изменить ситуацию в обществе Египта I тыс. до н.э., ставшего в гораздо большей степени, чем раньше, ареной конкурентной борьбы всевозможных частных и корпоративных интересов и в целом выработавшего достаточно пессимистическое (особенно в сравнении с прежними эпохами) мировоззрение. Данный пессимизм проявляется, в частности, в уверенности в том, что люди подвержены всевозможным соблазнам и мирятся со злом, когда оно приносит им выгоду; однако свести истоки зла в мире исключительно к несовершенству человеческого общества при общем для архаики позитивном отношении к земному миру и его ценностям было бы маловозможно. Не случайно в «Речении Ипувера», которое, как уже говорилось, возводило истоки зла в мире как к несовершенству людей, так и к персональной ответственности царя, первый мотив присутствует скорее на уровне общего представления, в то время как второй предлагает прямое объяснение текущего бедственного положения страны.
В ситуации I тыс. до н.э. именно Сет объявлялся источником зла для всего существующего, что было логичным итогом развития его образа в контексте мифа об Осирисе, поскольку убив Осириса, Сет привнес в мир преступление и зло.
Как отмечает Я.Ассман, Осирис — великий бог, который есть нечто большее, чем просто «мертвый отец» и «супруг», поскольку он — мифологический персонаж, «в котором заупокойные ритуалы обрели свой мифический прообраз». Поэтому не вызывает удивления то, какое значение приобрели ритуалы, связанные с Осирисом. Также и Сет — тоже великий бог, который также нечто большее, чем просто бог, являющийся персонификацией причины смерти. Если ранее, в религиозной традиции до Позднего периода любой кризис завершался торжеством принципа маат, то теперь Сет выступает как антагонист маат, который не подвластен единому для всех богов закону мироздания и способен его поколебать. По этой причине определяющим вектором развития религии Позднего периода стала боязнь несоблюдения ритуалов и предписаний, которые были необходимы для функционирования маат.
Не случайно, что в Поздний период приобретают актуальность представления о возможной эсхатологической катастрофе, которая может постигнуть мир в том случае, если ритуалы и предписания не будут исполняться в необходимом объеме. Теперь эти воззрения в гораздо более значительной степени, чем раньше, связаны с представлением о том, что весь мир, находящийся за пределами Египта, враждебен и опасен по причине того, что там нет маат. Поэтому Сет воплощает в себе не только всю чужеземную и враждебную силу, но и хаос пограничья между Египтом и областями инобытия, каковым представляются чужеземные страны, или, иными словами, он начинает представлять опасность в двойном аспекте — не только как враг порядка в египетском обществе, но и как враждебное существо инобытийного мира, способное поколебать основы мироздания. Ранее такие функции страшного космического врага, как известно, приписывались только Апопу, нападающему на солнечную барку.
Интересно, что в птолемеевское время вновь становится актуальной схема описания бедствий страны, примененная в «Пророчестве Неферти». В т.н. «Оракуле горшечника» (P2 II.55) — тексте грекоязычном, но соответствующем египетской традиции по специфике своего содержания и используемым в нем категориям, пророчество о судьбе Египта произносится неким горшечником в присутствии царя Аменофиса. Горшечник предсказывает, что в Египте наступят тяжкие времена тифонцев (т.е. последователей Сета), когда в стране будут бушевать природные и социальные катаклизмы. Описание грядущих бедствий относится к македонскому времени, которое создателям текста видится периодом хаоса и смуты. Эпоха тифонцев в Египте кончится тогда, когда вновь появится настоящий царь, родившийся от солнечного бога и, соответственно, наделенный сакральной легитимностью.
Карлова К.Ф. Образ бога Сета в древнеегипетской религии Позднего периода.
___________________________
|
Метки: Сет Египет |
КУЛЬТ СЕТА В ОАЗИСАХ |
Карлова Ксения Федоровна
ОБРАЗ БОГА СЕТА В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА
Формирование образа Сета в Поздний период определялось локальными особенностями территории страны. В то время как внутри Египта образ Сета был полностью демонизирован и его культ перестал развиваться, в оазисах Западной пустыни Дахла (Dzdz) и Харга (Knmt) он продолжал свое развитие, претерпевая определенную трансформацию. Ее черты прослеживаются, начиная еще с III Переходного периода, на протяжении которого главным центром почитания Сета являлся город Мут (Мут эль-Хараб; др.-греч. Μώθις) — столица оазиса Дахла с периода Нового царства.
Из Дахлы происходит первый памятник, свидетельствующий о наличии культа Сета в оазисах — небольшой фрагмент керамики из города Балат (эйн-Асил), являвшемся столицей Дахлы в период Древнего царства. На нем сохранилось частичное изображение головы Сета, однако остальная часть, где было изображено туловище, полностью утрачена. Фрагмент был найден в резиденции наместника Пепи II в Дахле, однако его точная датировка крайне затруднена ввиду плохой сохранности памятника и схематичности изображения Сета. Фрагмент может датироваться от конца периода Древнего царства вплоть до II Переходного периода, но не позднее. По ряду признаков можно говорить о том, что это не был значительный, с точки зрения создателей, памятник, однако он свидетельствует о том, что связь Сета с оазисами достаточно древняя.
В Мут эль-Хараб находился посвященный Сету храм, который, возможно, являлся важнейшим культовым местом этого оазиса. Как можно установить по фрагментам храмовых рельефов Тутмоса III, Хоремхеба и династии Рамессидов, а также по другим материальным свидетельствам, храм существовал уже в период Нового царства. В III Переходный период храм продолжал функционировать и был дополнен новыми декоративными элементами. Что касается культа Сета, то имеются свидетельства, доказывающие попытки вычеркивания имени Сета путем замены на имена других богов уже в Поздний период.
Из Мут эль-Хараб происходит достаточно много памятников, отражающих развитие культа Сета. Самым ранним и значительным является стела с гимном в честь Сета, датирующаяся временем XIX или XX династии. К сожалению, стела очень сильно повреждена, и текст гимна сохранился фрагментарно. Однако даже по небольшим фрагментам можно заключить, что гимн очень интересен и, судя по всему, не имеет параллелей в других памятниках. К.Хоуп и О.Капер, исходя из чтения отдельных слов, таких как itn (солнечный диск), izft (исефет), štw (черепаха), предполагают, что содержание текста имеет какой-то религиозный сюжет. Сет наделяется эпитетами zȝ Nwt — «сын Нут», nṯr ˁȝ — «бог великий», nb pt — «владыка неба», которые, как будет показано далее, являются его характерными эпитетами в период Нового царства.
К времени XXI династии относится статуя богини, посвященная первому жрецу (ḥm nṯr tpy) Сета, Па-не-бастету (Pȝ-n-Bȝstt). Сет наделяется эпитетами Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt — «Сет, великий силой, сын Нут». Другая статуя времени XXII династии принадлежит жрецу (wˁb) Сета, Па-не-сутеха (Pȝ-n-Swtḫ). Здесь эпитет Сета Swtḫ nb ˁnḫt — «Сет, владыка ˁnḫt». Это единственный памятник, где Сет упоминается как владыка ˁnḫt. Локализация этого места точно не определена, однако, вероятно, оно располагалось неподалеку от Мут эль-Хараб, в районе города эль-Каср.
К памятникам, отражающим высокую степень почитания Сета в оазисе Дахла, относятся две иератические стелы: т.н. «Большая стела из Дахлы» времени правления фараона Шешонка III и т.н. «Малая стела из Дахлы» времени правления фараона Пианхи. «Большая стела из Дахлы» является наиболее крупным памятником оазиса Дахла, связанным с Сетом. Она содержит сообщение оракула Сета во время праздника 25-го дня 4-го месяца зимнего сезона года 5 Шешонка. Сет наделяется эпитетами: Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt pȝy nṯr ˁȝ — «Сет, великий силой, сын Нут, этот бог великий».
Особенный интерес представляет «Малая стела из Дахлы», которая содержит сообщение оракула Сета, датированное 10-м днем 3-го месяца ахет года 24 Пианхи (очевидно, напатского царя, владевшего Египтом в 730-е гг. до н.э.). Эпитеты Сета аналогичны эпитетам других памятников: Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt — «Сет, великий силой, сын Нут». Но здесь, в отличие от вышеперечисленных памятников, имя Сета выписывается без детерминатива «Сетова» животного. В верхнем регистре стелы помещено изображение Сета с головой сокола и с уреем на лбу. Над головой Сета изображен солнечный диск, в руках он держит скипетр-wȝs. Слева от Сета стоит божество, которое невозможно идентифицировать из-за повреждений стелы. Справа от Сета стоит даритель, подносящий Сету цветы и благоуханную воду. Текст стелы сообщает, что некто Та-биа (Tȝ-biȝ), сын Паи (Pȝy), состоящий на служебной должности, совершает ежедневные подношения пяти хлебов в честь своего отца. Это подношение от его имени выполняет жрец, сын Анх-хор (ˁnḫ-Ḥrw). Но содержание интересно, прежде всего, тем, что отражает почитание двух богов — не только Сета, но и Амона-Ра. По-видимому, при XXV династии Амон и Сет являлись основными богами в Мут эль-Хараб.
Характерно, что это не первый памятник, где Сет и Амон (или Амон-Ра) оказываются связаны. В храме Сета в Омбосе времени Нового царства, частично реконструированном при Рамсесе III, жрец Усер-хат (Wsr-ḥȝˁ-t) добавил дверную перемычку, на которой изображены Амон и Сет, сидящие спинами друг к другу, причем Сет изображен в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта. Над ними помещено изображение крылатого солнечного диска, а под ними — изображение переплетенных нильских растений. Надпись с левой стороны: «[…] в Карнаке для ка этого, жреца Сета, Усер-хата, праведного голосом»… ([…] m Ipt n kȝ pn ḥm nṯr n Stḫ Wsr-ḥȝt mȝˁ ḫrw…). Надпись с правой стороны: «Сет Омбосский, владыка Верхнего Египта, бог великий, владыка неба, чадо прекрасное Ра. Дает восхваление ка твоему, Сет великий силой»… (Stḫ nbwty nb Smȝw nṯr ˁȝ nb pt sfy nfr Rˁ rdi iȝw n kȝ.k Stḫ ˁȝ pḥty…). Таким образом, связь Сета с Амоном объясняется их статусом государственных богов в период Нового царства. В оазисах эта связь сохраняла актуальность вплоть до греко-римского периода.
Другой памятник, где сообщается о наличии культа Амона-Ра и Сета в оазисе Харга, происходит предположительно из Фив. Это кубическая статуя, датирующаяся временем от Позднего периода до раннептолемеевского периода. Владелец статуи — Па-ди-имен-неб-несут-тауи (Pȝ-di-Ἰmn-nb-nswt-tȝwy), который, в числе прочего, являлся жрецом Амона-Ра Южного (ḥm(-nṯr) Ἰmn-Rˁ nsw-nṯrw) и Сета — жрец Сета в южных оазисах (ḥm-nṯr n Swtḫ n wḥȝt-rsyt) и жрец жезла Сета (ḥm-nṯr n p(ȝ) mdw n Swtḫ) в южном оазисе. Примечательно, что владелец статуи относился к фиванскому жречеству, как об этом сообщают надписи на статуе, и занимался административными вопросами в качестве писца Амона (sš Ἰmn), писца казны (sš pr-ḥḏ) и царского счетного писца в южном оазисе, в Хибисе (wḥȝt-rsyt Hb), т.е. в оазисе Харга. Как отмечает Д.Клотц, наличие таких титулов у одного лица подтверждает существование тесных экономических связей между Фивами и оазисом Харга, которые были засвидетельствованы в период от XXX династии до раннептолемеевского времени. Владелец статуи руководил хозяйственной деятельностью в оазисах, служа в качестве храмового писца Амона в Карнаке, и в то же время являлся жрецом Сета. Это свидетельствует о том, что культ Сета в оазисах имел официальный статус, в отличие от того процесса по вымещению его культа, который происходил в государстве.
Однако определенная трансформация культа Сета все же происходит, и это выражается, в первую очередь, в изменениях его иконографии, поскольку изображение на «Малой стеле из Дахлы» не совсем типично — помимо того, что Сет изображается с головой сокола, над ним помещен солнечный диск, что указывает на связь Сета с солнечным культом. Эта связь не является случайной и получает особенное развитие в период Нового царства. Ближайшей иконографической аналогией является антропоморфное изображение Сета с солнечным диском на голове, помещенное на колонне, относящейся к гелиопольскому храму времени правления Мернептаха, фараона XIX династии.
Фараон подносит Сету две вазы-nw. Сет держит в руках хопеш и скипетр-wȝb, его эпитет — владыка XIX нома Wȝbwy. Территориально город Wȝbwy расположен на западном берегу Нила и как бы обращен в сторону Западной пустыни, что может быть связано с развитием культа Сета в оазисах Западной пустыни. Главная особенность этого изображения Сета, как и в случае со стелой из Дахлы − помещение солнечного диска на его голове. Такая связь Сета с солнцем может объясняться особенностями развития его образа в период, предшествовавший эпохе Нового царства.
СОЛЯРНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА СЕТА
Исходно, солярный аспект Сета восходит к чертам, приобретенным им при царе II династии Перибсене. Следующее появление знака солнечного диска в соположении с изображением животного Сета относится уже к Среднему царству, но используется в качестве личного имени. На заупокойной стеле жреца Сенби (Snbwy), происходящей из Мемфиса, изображен его сын, который носит имя Ра-Сет (Rˁ-Stẖ). На заупокойной стеле из частной гробницы Себек-анха (Sbk-ˁnḫ), находящейся в Абидосе, изображен мужчина, держащий два кувшина. Рядом с ним указано его личное имя — ˁfty Stẖ-Rˁ («пивовар Сет-Ра»). То, что имя Сет-Ра или Ра-Сет может являться личным именем, должно говорить о достаточной степени укорененности представлений о связи Сета с Ра. Не факт, что использование этой формы имени идет напрямую от времени Перибсена, однако оно определенно должно быть связано с наличием культа Сета в Гелиополе, поскольку свидетельства об этом имеются.
На сохранившихся рельефах храма Джосера в Гелиополе Сет упоминается дважды — как Stẖ и как Stẖ nbwty (Омбосский). Непосредственно от периода Среднего царства известен скарабей принца Ни-маат-ра (Ny-mȝˁt-Rˁ), на котором помещена следующая надпись: «Князь Гелиополя, Ни-маат-ра, в храме Сета» (ḥȝty-ˁ n Ἰwnw Ny-mȝˁt-Rˁ m ḥwt-ˁȝt Stẖ). Другое упоминание о храме Сета в Гелиополе относится к периоду Нового царства. В надписи на кубической статуе Хапи-ха (Ḥˁpy-ḫˁ) говорится: …«для ка, посвященного в тайны Гелиополя, надзирателя дома Ра, писца жертвенного стола, владыки обеих земель, жреца Хапи-ха, сына Неб-хотепа в доме Сета в (?) Гелиополе» (…n ḳȝ n snṯr ḥry sštȝ n Ἰwnw imy-r pr Rˁ-sš wdḥw n nb tȝyw ḥm-nṯr Ḥˁpy-ḫˁ zȝ Nbw ḥtp n pr Stẖ m (?) Ἰwnw). Приведенные выше свидетельства позволяют говорить о наличии культа Сета в Гелиополе, где, как уже отмечалось, культ Сета мог быть учрежден уже при Джосере.
В период Нового царства связь Сета с Ра получает дальнейшее развитие. На стеле фараона Аменхотепа II, найденной в Мит-Рахине, недалеко от Мемфиса, «Сетово» животное изображено с солнечным диском. Надпись следующая: «Воистину, владыка бури подобен соколу божественному»… (ist ḥḳȝ nšny mi bik nṯr…). Появление знака солнца в слове nšny, детерминативом которого является «Сетово» животное, очень необычно и, по-видимому, не имеет аналогий. Кроме того, Сет здесь называется соколом, что также свидетельствует о его принадлежности к небесным божествам, благодаря связи с царской властью. «Сокол божественный» — это стандартный эпитет божеств солнечного круга, прежде, всего, Хора, а также царя (LGG 767 ff).
Вопрос о связи между образами Сета и Амона-Ра также может быть поставлен в контексте проблемы солярного аспекта образа Сета. Иероглифический знак, изображающий животное Сета, в соположении с солнечным диском дважды встречается в надписях храма в Танисе. Строителем храма является Рамсес II, почитавший Сета. Однако, вероятно, уже в Позднее время, при Осорконе II, иероглифический знак Сета стремились заменить знаком Амоном-Ра в облике барана. В текстах надписей говорится о боге Амоне-Ра, но не вызывает сомнения, что первоначально оформление колонн было связано с образом Сета: на колонне 8 этого храма изображено «Сетово» животное. В обоих случаях над головой Сета помещен солнечный диск. По-видимому, изначальный для этих памятников образ Сета был в дальнейшем заменен на образ Амона-Ра, и такая манипуляция не единична.
На голову медной статуи Сета из Новой Карлсбергской глиптотеки Копенгагена помещены бараньи рога. Сама статуя датируется концом Нового царства, однако, как показал анализ, проведенный Д.Шорш и М.Виписки, бараньи рога были добавлены позднее, предположительно во время III Переходного периода. У статуи были демонтированы уши Сета, а на их место приставлена двойная корона Египта, на которую крепились бараньи рога. В обоих случаях — в иероглифической надписи и в оформлении статуи — замена Сета Амоном в образе барана или попытка придать ему черты его образа, связаны с негативным восприятием Сета в позднее время.
Таким образом, возвышение Сета в эпоху Нового царства сменилось его негативизацией на протяжении III Переходного периода и Позднего времени. Это отразилось в частичной трансформации его образа, начавшейся в оазисах с периода XXV династии. Помимо того, что на «Малой стеле из Дахлы» Сет изображается с головой сокола, его имя, как упоминалось выше, с этого периода выписывается без детерминатива «Сетова» животного, которое присутствовало в написании имени Сета на более ранних памятниках, происходящих из оазисов. В основе этого могут лежать две причины, которые и обуславливали развитие образа Сета в Поздний период. С одной стороны, происходила негативизация образа Сета, что вызывало изменение его статуса и приводило к запрету на изображение «Сетова» животного и к попыткам избежать прямого написания имени Сета. Так, на победной стеле Пианхи Сет упоминается в положительной коннотации, но не прямо, а как сын Нут. Употребление эпитета zȝ Nwt не является случайным, а связано с его применением к Сету в период Нового царства: …«сын Нут, дает он тебе руки свои» (Urk.III.24.79: …zȝ Nwt di.f n.k ˁy.k).
С другой стороны, актуализировалось представление о Сете как об одном из двух богов, имеющим, наряду с Хором, соколиную природу. Представление это, как было показано ранее, очень древнее и восходит еще к раннединастическому времени, а позднее находит свое выражение в появлении бога Немти. В Поздний период, когда образ Сета дискредитировался по мере возрастания значения осирического мифа, возврат к такому образу Сета избавлял его от негативизации.
Окончательная трансформация Сета в сокологолового бога на памятниках из оазисов происходит при XXVII династии. На рельефе из храма Хибиса в оазисе Харга, времени правления Дария I, изображен сокологоловый Сет в двойной короне, в килте šndyt и с двумя крыльями, пронзающий копьем Апопа. Надпись, сопровождающая изображение, следующая: «Произнесение слов Сутехом, великим силой, богом великим, находящимся в Хибисе. Сделал он даяние жизни подобно Ра, навечно» (ḏd mdw n Swtḫ ˁȝ pḥty nṯr ˁȝ ḥr-ib Ḥbt ir.n.f di ˁnḫ mi Rˁ ḏd).
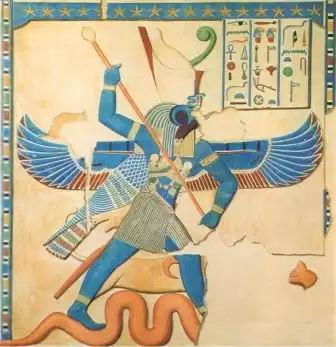

Крылатый Сет с головой сокола, в сопровождении льва, побеждающий Апопа.
Фрагмент (и его прорисовка) из храма Дария I в Хибисе, в оазисе Харга.
С началом Позднего периода в оазисах Сет изображается с соколиной головой. Его культ по-прежнему сохраняет свое значение, но при этом «Сетово» животное оказывается окончательно вытесненным из оформления памятников, поскольку образ Сета демонизируется и связывается с угрозой царской власти Египта. Вместе с тем, в представлениях о Сете в оазисах определяющей становится его роль защитника солнечного бога от змея. Об этом же свидетельствует развитие его культа в оазисах и в греко-римский период.
В оазисе Дахла, в храме Дейр эль-Хаггара римского времени периода правления императоров Веспасиана (69-79гг.) и Тита (79-81гг.) в сценах ритуального характера помещены два изображения Сета с головой сокола. Первое изображение, находящееся в святилище храма, представляет сокологолового Сета, увенчанного бараньими рогами, на которых помещена двойная корона с солнечным диском и двумя уреями. Примечательна надпись, сопровождающая изображение: «Сутех […владыка] оазисов, тот, кто низвергает Апопа» (Swt[ḫ …] wḥȝt sḫr ˁpp (Swt[ḫ …] wḥȝt sḫr ˁpp).
Второе изображение из пронаоса храма практически идентично вышеописанному, за исключением того, что на короне Сета помещается один урей. Надпись следующая: «Сутех, великий силой, бог великий, владыка оазисов» (Swtḫ ˁȝ pḥty nṯr ˁȝ nb wḥȝt). В обоих случаях Сета сопровождает его супруга Нефтида, которая изображается с коровьими рогами и солнечным диском между ними, что позволяет отметить ее сходство с иконографией Исиды. В изображении из пронаоса голову Нефтиды венчает также корона шути в форме двух перьев — атрибут бога Амона. Таким образом, Сет и Нефтида определенно оказываются связаны с Амоном, а развитие образа Сета в оазисах в греко-римское время тяготеет к синкретизации с Амоном в рамках их статуса владык оазисов.
Возможность такой синкретизации была вызвана двумя причинами. С одной стороны, Амон, наряду с Сетом, является очень значимым божеством в оазисах — в Сиве и Бахарии он почитался как верховный бог, в Дахле, наряду с Сетом, являлся одним из верховных богов, а храм в Хибисе, как уже упоминалось, был посвящен непосредственно ему. С другой стороны, как было показано выше, в период Нового царства Сет и Амон являлись покровителями царской власти, а в образе Сета на первый план выходят солярные черты, что существенно сближает его с Амоном. Даже после периода Нового царства, когда образ Сета начинает демонизироваться, попытки заменить Сета в надписях Амоном или переделать его статую в статую Амона-Ра не являются случайными, а объясняются той схожестью черт, которую оба бога приобрели в период Нового царства.
Вместе с тем, вышеперечисленные аспекты образа Сета, которые выдвигаются на первый план в его культе в оазисах в I тыс. до н.э., в принципе характерны для него на всем протяжении истории древнеегипетской религии.
КРЫЛАТЫЙ СЕТ, ПОБЕЖДАЮЩИЙ АПОПА
В древнеегипетской религии и мифологии топос о повержении врага в образе змея, являющегося противником солнечного бога, играет важную роль. Извечная битва, повторяющаяся с каждым новым появлением солнца — это сражение, в котором Ра борется со змеем Апопом, воплощающим все зло мирового порядка. Эта битва солнца упоминается в различных гимнах, посвященных солнечному богу, а также в книгах, описывающих его путешествие. Непосредственными защитниками солнечного бога могут выступать различные божества, однако особую роль в этом мифологическим сюжете играет бог Сет, выступающий в качестве защитника Ра и сражающийся со змеем Апопом. На виньетке папируса Эр-Убен времени XXI династии Сет стоит на корме солнечной барки и пронзает копьем Апопа. Ипостась Сета как противника Апопа мало изучена, однако, она имеет не меньшее значение в интерпретации его образа, чем роль в качестве противника Хора или убийцы Осириса. Посредством мифологемы об убийстве змея реализуются или раскрываются черты Сета, позволяющие говорить о нем как о боге солярного или небесного круга.
С ролью Сета как охранителя солнечного бога тесно связано представление о нем как о крылатом божестве, которому присущи функции защиты от врага и борьбы с силами хаоса. Впервые о Сете, как о крылатом боге упоминают Тексты пирамид: «Произнесение слов: дано око Хора на крыло брата его, Сета» (Pyr.1742a: ḏd mdw di irt Ḥrw ḥr ḏnḥ in sn.f Stš). В данном случае Сет выступает как бог-сокол и исполняет функцию бога-защитника, переправляющего атрибут поддержания космического порядка, — Око Хора. Крылатый Сет близок с солнечным богом, о чем может свидетельствовать его связь с Ра посредством урея: «Пепи — урей, приходящий от Сета, схватывающий и приносимый» (Pyr.1459b: Ppy pw iˁrt prt m Stš iṯyt inwt); «Это змея эта, приходящая от Ра, урей этот, приходящий от Сета» (Pyr. 2047d: ḏt pw nn prt m Rˁ iˁrt nn prt m Stš). Урей, воплощающий огненную силу солнечного бога, был призван охранять умершего царя во время путешествия по загробному миру и поддерживать его жизнь там. Наличие солнечного атрибута у Сета могло означать непосредственную связь этого бога с солнцем и с царем. Кроме того, появление Сета с крыльями и уреем в «Текстах пирамид» связано с его восприятием как бога, парного Хору, и в этом качестве обретающего наряду с ним царские атрибуты.
О Сете как о непосредственном противнике змея Апопа и защитнике солнечного бога впервые сообщают «Тексты саркофагов»: в одном из заклинаний речь идет об укрощении Сетом змея, обратившегося против Ра:
Кроме того, Сет предстает в этом источнике в качестве того, кто изгоняет Апопа: «изгоняет великий силой Апопа» (CT.VII. 332g, 517b: ḏr ˁȝ pḥty ˁpp). Характерно, что Сет, изгоняющий Апопа, наделяется эпитетом ˁȝ pḥty — «великий силой», который становится одним из его традиционных обозначений. Как это будет видно далее, он характеризует Сета как бога-защитника, повергающего врага.
То, что роль Сета как крылатого бога и защитника солнца, формировалась в рамках его тесной связи с царским культом, подтверждается появлением и массовым тиражированием этого образа при Рамессидах, когда Сет являлся официальным богом царской власти. Именно с эпохи Нового царства образ крылатого Сета фиксируется иконографически. Cамую массовую и репрезентативную группу памятников, фиксирующих этот сюжет, составляют скарабеи, скарабеоиды, амулеты и печати времени Рамессидов. На таких памятниках могут изображаться Сет и божества азиатского происхождения: Баал, Решеп, Астарта. Бог, чаще всего крылатый, одет в конический головной убор, его лицо вытянуто, а на лбу помещен урей или два рога. В одном случае божество пронзает копьем змея, в другом может изображаться с двумя уреями или стоящим на спине животного. Главной проблемой при рассмотрении этих памятников является идентификация изображенного бога, поскольку на памятниках отсутствуют надписи, и идентифицировать божество можно только по иконографическим признакам или по сюжету.
Наиболее показательным является изображение Сета на скарабее из брюссельского Королевского музея искусств и истории, где изображен крылатый Сет с головой своего животного, что позволяет говорить достаточно уверенно о его идентификации. Он одет в ханаанейский килт, что свидетельствует об азиатском влиянии. Левой рукой он держит за голову змея, а правой пронзает его тело. Над фигурой Сета помещен его характерный эпитет mry Rˁ — «избранный Ра». Аргументом в пользу идентификации этого бога как Сета может служить скарабей из Лейпцигского музея, на котором изображен Сет, пронзающий копьем змея, с головой своего животного, но без крыльев. Здесь также помещен эпитет Сета mry Rˁ. Таким образом, оба рассмотренных изображения, египетские по происхождению, практически идентичны друг другу. К такому же типу относятся изображения на скарабее из коллекции М.Кассирера, на рамессидском скарабее из Телль-эль-Фара (Палестина) с изображением солнечного диска над головой бога и на двух скарабеях из берлинского египетского музея. Различаются только небольшие детали: стоящий бог в коническом головном уборе и в азиатском килте пронзает копьем змея. На двух скарабеях встречаются изображения солнца: на одном — солнечного диска, на другом — солнечного диска с лучами.
По поводу идентификации изображенного бога на памятниках этого типа в литературе нет однозначной трактовки. Исследователи, рассматривающие эти памятники, выдвигают разные версии. М.Кассирер считает, что на памятниках изображен бог Решеп. Но А.Р. Шульман справедливо отмечает, что изображений Решепа в крылатом виде или пронзающего копьем змея не засвидетельствовано. И.Корнелиус и О.Кил определяют этого бога как Баала-Сета, другие исследователи — просто как Сета.
Имя «Баал-Сет» или «Сет-Баал» является искусственной конструкцией, не встречающейся в памятниках, но принятой для обозначения этого образа бога у некоторых исследователей. Семитский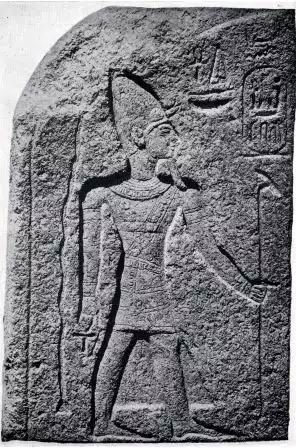 бог Баал появился в Египте, по-видимому, еще в гиксосское время и получил особенную популярность как бог, покровительствующий царской власти, что также может объяснять его тесную связь с Сетом. Вероятно, начиная еще с гиксосского времени, египтяне стали воспринимать Баала как проявление Сета. Баал, важнейший семитский бог, почитаемый гиксосами, был отождествлен ими с Сетом, покровителем царской власти, и именно в это время культ Сета приобретает чрезвычайную популярность на северо-востоке Дельты и в некоторых районах Азии.
бог Баал появился в Египте, по-видимому, еще в гиксосское время и получил особенную популярность как бог, покровительствующий царской власти, что также может объяснять его тесную связь с Сетом. Вероятно, начиная еще с гиксосского времени, египтяне стали воспринимать Баала как проявление Сета. Баал, важнейший семитский бог, почитаемый гиксосами, был отождествлен ими с Сетом, покровителем царской власти, и именно в это время культ Сета приобретает чрезвычайную популярность на северо-востоке Дельты и в некоторых районах Азии.
В описании битвы при Кадеше Сет и Баал являются богами-покровителями Рамсеса II. Сет с иконографическими атрибутами Баала становится династическим богом Рамессидов, о чем свидетельствует «Стела 400-го года» (JdE 60539), где Сет представлен в образе Баала. В верхней части стелы изображен Сет в азиатском одеянии и в коническом головном уборе Баала, на котором помещены два рога с солнечным диском между ними, что характерно для изображения Баала. За Сетом изображен Рамсес II, а за ним — визирь Сети в позе поклонения. На стеле имя Сета выписано идеограммой его титульного животного, но, по-видимому, наиболее верным прочтением его имени в контексте данного памятника будет Сетх или Сутех, по аналогии с рельефом времени фараона Мернептаха, где Сет, также изображенный в образе Баала, выписывается как Сутех (Swtḫ).
Стела фиксирует особый способ летоисчисления, начавшийся в гиксосский период в связи с установлением культа Сета. Сама дата 400-летия дает отсчет культовой эре, связанной с утверждением в Аварисе почитания Сета (Сетха / Сутеха) в его локальной нижнеегипетской форме или принявшего азиатский облик. Причем возвышение культа Сета (а конкретнее — Сутеха в локальной форме) в Дельте Египта произошло еще до прихода гиксосов, при Нехси, который правил в Дельте после фараонов XIII династии незадолго до начала гиксосского периода.
Нехси, став царем, сделал Сета покровителем Авариса, о чем может свидетельствовать его надпись в Телль Мокдаме. Тем самым, Аварис приобрел новое религиозное и политическое значение, что было важно для Нехси в связи с укреплением своей власти. Ввиду этого, выбор им Сета в качестве бога-покровителя не кажется странным, поскольку с древнейших времен Сет являлся покровителем царской власти. Эта ипостась Сета могла приобретать большую значимость в условиях борьбы конкурирующих правителей за политическую власть на определенных этапах египетской истории.
По-видимому, между Нехси и представителями XIX династии существовала определенная связь. От времени правления Нехси в Танисе был найден его обелиск вместе с обелисками Рамессидов. Это может указывать на почитание Нехси фараонами XIX династии, которые, по трактовке Дж. ван Сэтерса, отсчитывали эру Сета на «Стеле 400-го года» от начала правления Нехси в Аварисе. Г.те Вельде также считает, что в этом памятнике Сети I отмечает не столько установление правления Сета в период владычества гиксосов, сколько традицию почитания Сета еще до прихода гиксосов.
Оставляя в стороне вопрос о начале отсчета эры Сета отметим, что такая точка зрения не кажется неправомерной, если вспомнить предположение о том, что XIX династия могла быть связана с гиксосскими правителями или теми азиатами, которые остались в Египте после изгнания гиксосов и египтизировались. Тогда вопрос тождества Сета и Баала и их необычайной популярности в рамессидскую эпоху необходимо решать именно в связи с характерным для них вниманием к гиксосской традиции. Египетская форма имени Баал — bˁr, может выписываться с детерминативом животного Сета (LGG II. 778) и из всех имен азиатских богов только его имя выписывается с таким детерминативом. К.Зиви-Кош полагает, что поскольку в некоторых случаях изображение «Сетова» животного может использоваться как идеограмма для написания имени Баала, это позволяет говорить о чтении имени Баала как Баала-Сета.
О тесной связи Баала и Сета можно судить по многочисленным текстовым и иконографическим источникам. Объяснение этой связи вполне очевидно ввиду схожих функций Баала и Сета как богов грома и борцов с силами хаоса. Баал как бог бури и грома впервые изображается на стеле из Угарита, датирующейся ок. 1700-1400 до н.э. Традиция почитания богов-громовержцев в западносемитской мифологии имеет долгую историю и на первоначальных этапах своего развития культ Баала был тесно переплетен с культом западносемитского бога Хадада. В угаритских текстах отображена мифологема борьбы Баала как бога громовержца и защитника космического миропорядка с морским богом-разрушителем Ямой.
Качества Баала как бога бури являются одними из определяющих в его образе в ходе этой борьбы. Образ Сета как бога грома формируется уже в «Текстах пирамид» (Pyr. 261a, 1150c) и в «Текстах саркофагов» (CT III.138b, 143b; VI.167e, 253m, 254p, 3061; VII.250c, 263b, 332f,h, 517a,c), но наиболее актуальным становится именно в эпоху Нового царства, о чем свидетельствует наличие детерминатива «Сетова» животного у категорий слов, обозначающих непогоду.
Мифологема о борьбе Сета со змеем Апопом и его роль защитника космического порядка должны были сблизить Сета с образом Баала по мере проникновения культов азиатских божеств на территорию Египта. В иконографической традиции Нового царства Сет принял на себя определенные черты, которые могли быть характерны для Баала или Баал мог ассоциироваться с Сетом. Особое внимание стоит обратить на то, в какой форме выражается почитание Сета на «Стеле 400-го года»:
Прежде всего, особенное значение имеет качество Сета как древнейшего божества царской власти, что позволяет придать ему царский титул. Другие упоминаемые здесь эпитеты Сета характеризуют его как небесного бога-защитника: zȝ Nwt — «сын Нут» и ˁȝ pḥty — «великий силой» подчеркивают его природу божества, порожденного солнечным богом. То, что в стеле делается акцент на аспекте образа Сета как защитника солнечной барки, не может быть случайным. Эта позитивная роль Сета имела решающее значение в обосновании почитания его культа, как это можно было видеть на примере вышеприведенных памятников. Исходя из всего вышеперечисленного правомерно говорить, скорее, о влиянии Сета на образ Баала в его египетской рецепции, чем наоборот.
Мифологический контекст памятников подтверждает, что изображается Сет в своей обычной роли победителя Апопа, но в рамках изобразительной традиции переднеазиатского искусства и с определенными азиатскими атрибутами, такими как конический головной убор, ханаанейский килт и два рога на лбу. Изображение солнечного диска на некоторых скарабеях позволяет восстановить полный мифологический сюжет: солнечный диск, как символ Ра, змей Апоп — главный враг солнечного божества и Сет, уничтожающий врага солнца. Его связь с солнечным культом подчеркивается здесь наличием солнечного диска и двух крыльев.
На палетке времени правления Рамсеса II на передней стороне изображен Амон-Ра в образе бараноголового сфинкса, а на обратной — антропоморфное изображение крылатого бога, поражающего копьем змея. На нем надет конический головной убор и килт šndit, одной рукой он хватает за шею змея, другой пронзает его копьем. К сожалению, место, где написано имя бога, разрушено, но, с большой долей уверенности, изображенного бога можно идентифицировать как Сета.
От эпохи Нового царства дошел фрагмент стелы из Карлсбергской Глиптотеки времени XIX династии (inv.AEIN 726). Здесь Сет изображен с головой быка, телом человека и двумя крыльями, стоящий на корме солнечной барки и пронзающий копьем змея. Так же, как и на многих памятниках, Сет одет в азиатский килт. Над изображением помещена надпись: «Сет, бык Омбосский» (Stẖ kȝ nbwty). Упоминание о Сете как о быке Омбоса встречается только на этой стеле, однако известно употребление этого эпитета по отношению к Рамсесу II, повергающему врагов: «Величество его позади них (т.е. врагов) подобно быку Омбосскому» (KRI II. 151. 19: iw ḥm.f m-sȝ.sn mi kȝ nbwty). Несомненно, что царь здесь ассоциируется именно с Сетом и примечательно то, что ассоциация эта выражается через принадлежность Сета к Омбосу как покровителя царской власти.
азиатский килт. Над изображением помещена надпись: «Сет, бык Омбосский» (Stẖ kȝ nbwty). Упоминание о Сете как о быке Омбоса встречается только на этой стеле, однако известно употребление этого эпитета по отношению к Рамсесу II, повергающему врагов: «Величество его позади них (т.е. врагов) подобно быку Омбосскому» (KRI II. 151. 19: iw ḥm.f m-sȝ.sn mi kȝ nbwty). Несомненно, что царь здесь ассоциируется именно с Сетом и примечательно то, что ассоциация эта выражается через принадлежность Сета к Омбосу как покровителя царской власти.
Что касается ассоциации Сета с быком, то она вписывается в египетскую традицию. В XVII главе «Книги мертвых» о Сете говорится: «Это Сет. По-другому сказать: Великий дикий бык» (BD. XVII. 115: Swty pw ki ḏd smȝ wr). В Лейденском папирусе фигурирует «бык темноты, бык быков, сын Нут» (p Leyden recto. X. 28-29: kȝ kkw kȝ kȝw zȝ Nwt).
Без сомнения, в этом быке можно узнать Сета поскольку, как уже упоминалось выше, эпитет zȝ Nwt является его традиционным эпитетом. Что касается надписи стелы, то ближайшей аналогией здесь будет надпись на стеле из Лейденского музея с похожим сюжетом. Сет в антропоморфной форме пронзает копьем Апопа в облике змея с человеческой головой. В верхней части стелы помещено изображение солнечного диска, c двумя уреями, и луны. Надпись следующая: «Омбосский, бог великий» (nbwty nṯr ˁȝ).
Ж.Лейбович считает изображение быка на стеле не египетским, но критским по происхождению по аналогии с изображениями быка из кносского дворца и на критских монетах, однако, на наш взгляд, оснований для такой трактовки нет. Скорее нужно говорить о том, что египетская традиция оказывается связанной с ближневосточной иконографической традицией. Ближайшей аналогией является изображение на скарабее из Ибицы, где стоящее божество с головой быка, идентифицирующееся как Баал, повергает врага с телом человека и хвостом змея. Одной рукой бог замахивается булавой, другой — держит врага за волосы. Он одет в платье с длинными рукавами и длинной юбкой, на голове — корона с пучком. Изображение головы быка идентично изображению на карлсбергской стеле. Изображенного бога идентифицируют как Баала, но в традиционной сиро-палестинской иконографии Баал в образе быка не изображался. Его возможным бычьим атрибутом были два рога с солнечным диском.
С другой стороны, уже в финикийской иконографии появляются изображения божеств в образе быка, и такими примерами, помимо скарабея из Ибицы, могут быть другие, достаточно многочисленные финикийские скарабеи, где предположительно изображен Баал или Мелькарт в образе быка, сидящим на троне или на сфинксе. Что касается изображения врага, то получеловек-полузмея в данном случае больше походит на древнеегипетского змея, атакуемого Сетом, чем на финикийского тритона. Но нужно отметить также, что идентичное изображение встречается на другом финикийском скарабее, только здесь вместо бога с головой быка изображен антропоморфный бог, также идентифицируемый как Баал. Враг показан точно так же, как и на рассматриваемом скарабее. Применительно к карлсбергской стеле О.Кил и К.Улинер отмечают вероятный синкретизм Баала и Сета, отмечая общие черты мифологического сюжета в семитской и египетской традициях. Змей как источник хаоса и мятежных вод в сиро-палестинской традиции и в виде Апопа в египетской традиции получает статус главного врага и противника на памятниках такого рода. Таким образом, можно заключить, что на карслбергской стеле иконография Сета совмещает в себе и египетский и переднеазиатский мотивы, но в рамках египетской мифологической традиции.
Как свидетельствуют вышеприведенные источники, мифологема повержения Апопа Сетом достигла своего расцвета в эпоху Рамессидов. Однако то существенное влияние, которое оказала переднеазиатская традиция, позволяет говорить о том, что избрание Сета в качестве победителя Апопа может быть связано с представлением о нем как боге, чей культ в рамессидское время занял центральное место ввиду расширения внешних контактов египтян с переднеазиатскими народами и распространения культов переднеазиатских богов.
С рассмотренными выше памятниками сюжетно близки изображения крылатого божества, стоящего между двумя уреями. Это антропоморфное божество, изображенное фронтально, в коническом головном уборе с двумя крыльями, простирающимися над двумя уреями, которые стоят по правую и левую сторону от него. На некоторых памятниках встречается изображение солнечного диска. Все изображения типологически схожи и относятся к эпохе Нового царства.
В связи с этим необходимо упомянуть о памятниках, где изображение Сета трактуется вполне определенно. На рамессидских скарабеях из Риккеха и Телль эль-Фара изображен Сет между двумя уреями. На скарабее из Мединет-Абу времени правления фараона Сетнахта¹ Сет изображен профильно вместе с богиней Уаджет, над ними помещен солнечный диск, а на идентичных изображениях Сет изображен с одним крылом, которое он простирает над уреем и с двумя крыльями и с эпитетом mry Rˁ.
________________________
[1] Stẖ-nḫt mrr-Jmn — «Победоносный Сет, любимый Амоном» (личное имя Сетнахта).
Резюмируя рассмотренные выше сюжеты, важно отметить, что массовое появление памятников с изображениями крылатых божеств может быть вызвано их защитной функцией. Крылья являются типичным атрибутом многих сиро-палестинских божеств, в особенности связанных с бурей и громом. При этом сюжет повержения змея является очевидно чисто египетским по происхождению, о чем свидетельствуют «Тексты пирамид» и «Тексты саркофагов». Взаимопроникновение традиций актуализировало роль бога-защитника, выступающего символом могущества и силы, который проявился в образе Сета с некоторыми аспектами Баала.
Таким образом, ипостась Сета как крылатого бога-змееборца актуализируется в эпоху Нового царства и получает широкое распространение в связи с официальным утверждением Сета в качестве бога правящей династии. Значимость сюжета о повержении Сетом Апопа обусловила дальнейшее почитание культа Сета в ипостаси бога-защитника в оазисах. С уверенностью можно сказать, что вышеописанные черты образа Сета приобрели первостепенное значение в рамках развития его культа в оазисах после его вымещения из официальной царской идеологии. Примечательно, что эта традиция почитания Сета сохранилась вплоть до римского времени.
В маммиси храма бога Туту времени II в. н.э. в Исмант эль-Хараб (античный Келлис), в южной части свода есть изображение крылатого бога с соколиной головой, двойной короной и солнечным диском, помещенным на ней. Божество стоит на постаменте и пронзает копьем змея, находящегося под его ногами. Но изображение не подписано и поэтому нет полной уверенности в том, что здесь изображен именно Сет. О.Капер предположительно определяет изображение этого бога как Сета, но отмечает, что может подразумеваться и другой бог, в том числе и Туту. Но насколько известно, изображений подобного рода применительно к Туту не засвидетельствовано.
Другой бог, чей культ был распространен в оазисах и чьей основной функцией была защита от врагов — это Амон-Нахт (LGG I.319).² Он также может изображаться крылатым и с соколиной головой, пронзающим копьем врага, но принципиальное отличие заключается в том, что он всегда пронзает не змея, а человека. Связь Сета и Амона-Нахта через эту иконографическую модель очень важна, поскольку она показывает специфику развития культов богов в оазисах. Амон-Нахт принадлежит к числу локальных божеств Западной пустыни, чье изображение фиксируется впервые в римское время в храме эйн-Бирбеха. Здесь среди прочих помещено изображение Амона-Нахта, типологически близкое изображению Сета в храме Хибиса: Амон-Нахт с головой сокола пронзает копьем врага. О.Капер полагает, что таким образом Амон-Нахт в качестве сокологолового бога, поражающего врага, выместил образ Сета. Однако, вытеснив Сета, Амон-Нахт перенимает его основные черты — не только иконографическую модель и функции повергателя врагов, но и систему эпитетов. В числе прочих, Амон-Нахт наделяется эпитетами ˁȝ pḥty («великий силой»), nb pt («владыка небес»).
________________________
[2] Jmn-nḫt — Победоносный Амон.
nḫt — сильный, победоносный.
Тем не менее, изображения Сета в качестве повергателя змея продолжают встречаться. Самый поздний по времени известный пример изображения Сета, пронзающего копьем Апопа, относится, предположительно, к IV в. н.э. В месте Эйн-Турба, располагающемся неподалеку от храма Хибиса, на одном из рельефов изображены три фигуры всадника с копьем: первый — с головой человека, второй — с головой Сета и солнечным диском, третий — с головой сокола и с крыльями, в двойной короне, а под этими фигурами помещено изображение змея. Э.Круз-Уриб полагает, что все три фигуры могут являться воплощением Сета, что вполне возможно ввиду традиции изображения Сета в оазисах с головой сокола и в двойной короне. Примечательно, что из трех фигур только центральная фигура с головой Сета увенчана солнечным диском. Сет сохраняет свою прерогативу защитника солнечного бога от змея, и эта ипостась остается определяющей в контексте его почитания в оазисах в римское время.
Карлова К.Ф. Образ бога Сета в древнеегипетской религии Позднего периода. [p.208]
____________________________
ОБРАЗ БОГА СЕТА В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА
Формирование образа Сета в Поздний период определялось локальными особенностями территории страны. В то время как внутри Египта образ Сета был полностью демонизирован и его культ перестал развиваться, в оазисах Западной пустыни Дахла (Dzdz) и Харга (Knmt) он продолжал свое развитие, претерпевая определенную трансформацию. Ее черты прослеживаются, начиная еще с III Переходного периода, на протяжении которого главным центром почитания Сета являлся город Мут (Мут эль-Хараб; др.-греч. Μώθις) — столица оазиса Дахла с периода Нового царства.
Из Дахлы происходит первый памятник, свидетельствующий о наличии культа Сета в оазисах — небольшой фрагмент керамики из города Балат (эйн-Асил), являвшемся столицей Дахлы в период Древнего царства. На нем сохранилось частичное изображение головы Сета, однако остальная часть, где было изображено туловище, полностью утрачена. Фрагмент был найден в резиденции наместника Пепи II в Дахле, однако его точная датировка крайне затруднена ввиду плохой сохранности памятника и схематичности изображения Сета. Фрагмент может датироваться от конца периода Древнего царства вплоть до II Переходного периода, но не позднее. По ряду признаков можно говорить о том, что это не был значительный, с точки зрения создателей, памятник, однако он свидетельствует о том, что связь Сета с оазисами достаточно древняя.
В Мут эль-Хараб находился посвященный Сету храм, который, возможно, являлся важнейшим культовым местом этого оазиса. Как можно установить по фрагментам храмовых рельефов Тутмоса III, Хоремхеба и династии Рамессидов, а также по другим материальным свидетельствам, храм существовал уже в период Нового царства. В III Переходный период храм продолжал функционировать и был дополнен новыми декоративными элементами. Что касается культа Сета, то имеются свидетельства, доказывающие попытки вычеркивания имени Сета путем замены на имена других богов уже в Поздний период.
Из Мут эль-Хараб происходит достаточно много памятников, отражающих развитие культа Сета. Самым ранним и значительным является стела с гимном в честь Сета, датирующаяся временем XIX или XX династии. К сожалению, стела очень сильно повреждена, и текст гимна сохранился фрагментарно. Однако даже по небольшим фрагментам можно заключить, что гимн очень интересен и, судя по всему, не имеет параллелей в других памятниках. К.Хоуп и О.Капер, исходя из чтения отдельных слов, таких как itn (солнечный диск), izft (исефет), štw (черепаха), предполагают, что содержание текста имеет какой-то религиозный сюжет. Сет наделяется эпитетами zȝ Nwt — «сын Нут», nṯr ˁȝ — «бог великий», nb pt — «владыка неба», которые, как будет показано далее, являются его характерными эпитетами в период Нового царства.
К времени XXI династии относится статуя богини, посвященная первому жрецу (ḥm nṯr tpy) Сета, Па-не-бастету (Pȝ-n-Bȝstt). Сет наделяется эпитетами Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt — «Сет, великий силой, сын Нут». Другая статуя времени XXII династии принадлежит жрецу (wˁb) Сета, Па-не-сутеха (Pȝ-n-Swtḫ). Здесь эпитет Сета Swtḫ nb ˁnḫt — «Сет, владыка ˁnḫt». Это единственный памятник, где Сет упоминается как владыка ˁnḫt. Локализация этого места точно не определена, однако, вероятно, оно располагалось неподалеку от Мут эль-Хараб, в районе города эль-Каср.
К памятникам, отражающим высокую степень почитания Сета в оазисе Дахла, относятся две иератические стелы: т.н. «Большая стела из Дахлы» времени правления фараона Шешонка III и т.н. «Малая стела из Дахлы» времени правления фараона Пианхи. «Большая стела из Дахлы» является наиболее крупным памятником оазиса Дахла, связанным с Сетом. Она содержит сообщение оракула Сета во время праздника 25-го дня 4-го месяца зимнего сезона года 5 Шешонка. Сет наделяется эпитетами: Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt pȝy nṯr ˁȝ — «Сет, великий силой, сын Нут, этот бог великий».
Особенный интерес представляет «Малая стела из Дахлы», которая содержит сообщение оракула Сета, датированное 10-м днем 3-го месяца ахет года 24 Пианхи (очевидно, напатского царя, владевшего Египтом в 730-е гг. до н.э.). Эпитеты Сета аналогичны эпитетам других памятников: Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Nwt — «Сет, великий силой, сын Нут». Но здесь, в отличие от вышеперечисленных памятников, имя Сета выписывается без детерминатива «Сетова» животного. В верхнем регистре стелы помещено изображение Сета с головой сокола и с уреем на лбу. Над головой Сета изображен солнечный диск, в руках он держит скипетр-wȝs. Слева от Сета стоит божество, которое невозможно идентифицировать из-за повреждений стелы. Справа от Сета стоит даритель, подносящий Сету цветы и благоуханную воду. Текст стелы сообщает, что некто Та-биа (Tȝ-biȝ), сын Паи (Pȝy), состоящий на служебной должности, совершает ежедневные подношения пяти хлебов в честь своего отца. Это подношение от его имени выполняет жрец, сын Анх-хор (ˁnḫ-Ḥrw). Но содержание интересно, прежде всего, тем, что отражает почитание двух богов — не только Сета, но и Амона-Ра. По-видимому, при XXV династии Амон и Сет являлись основными богами в Мут эль-Хараб.
Характерно, что это не первый памятник, где Сет и Амон (или Амон-Ра) оказываются связаны. В храме Сета в Омбосе времени Нового царства, частично реконструированном при Рамсесе III, жрец Усер-хат (Wsr-ḥȝˁ-t) добавил дверную перемычку, на которой изображены Амон и Сет, сидящие спинами друг к другу, причем Сет изображен в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта. Над ними помещено изображение крылатого солнечного диска, а под ними — изображение переплетенных нильских растений. Надпись с левой стороны: «[…] в Карнаке для ка этого, жреца Сета, Усер-хата, праведного голосом»… ([…] m Ipt n kȝ pn ḥm nṯr n Stḫ Wsr-ḥȝt mȝˁ ḫrw…). Надпись с правой стороны: «Сет Омбосский, владыка Верхнего Египта, бог великий, владыка неба, чадо прекрасное Ра. Дает восхваление ка твоему, Сет великий силой»… (Stḫ nbwty nb Smȝw nṯr ˁȝ nb pt sfy nfr Rˁ rdi iȝw n kȝ.k Stḫ ˁȝ pḥty…). Таким образом, связь Сета с Амоном объясняется их статусом государственных богов в период Нового царства. В оазисах эта связь сохраняла актуальность вплоть до греко-римского периода.
Другой памятник, где сообщается о наличии культа Амона-Ра и Сета в оазисе Харга, происходит предположительно из Фив. Это кубическая статуя, датирующаяся временем от Позднего периода до раннептолемеевского периода. Владелец статуи — Па-ди-имен-неб-несут-тауи (Pȝ-di-Ἰmn-nb-nswt-tȝwy), который, в числе прочего, являлся жрецом Амона-Ра Южного (ḥm(-nṯr) Ἰmn-Rˁ nsw-nṯrw) и Сета — жрец Сета в южных оазисах (ḥm-nṯr n Swtḫ n wḥȝt-rsyt) и жрец жезла Сета (ḥm-nṯr n p(ȝ) mdw n Swtḫ) в южном оазисе. Примечательно, что владелец статуи относился к фиванскому жречеству, как об этом сообщают надписи на статуе, и занимался административными вопросами в качестве писца Амона (sš Ἰmn), писца казны (sš pr-ḥḏ) и царского счетного писца в южном оазисе, в Хибисе (wḥȝt-rsyt Hb), т.е. в оазисе Харга. Как отмечает Д.Клотц, наличие таких титулов у одного лица подтверждает существование тесных экономических связей между Фивами и оазисом Харга, которые были засвидетельствованы в период от XXX династии до раннептолемеевского времени. Владелец статуи руководил хозяйственной деятельностью в оазисах, служа в качестве храмового писца Амона в Карнаке, и в то же время являлся жрецом Сета. Это свидетельствует о том, что культ Сета в оазисах имел официальный статус, в отличие от того процесса по вымещению его культа, который происходил в государстве.
Однако определенная трансформация культа Сета все же происходит, и это выражается, в первую очередь, в изменениях его иконографии, поскольку изображение на «Малой стеле из Дахлы» не совсем типично — помимо того, что Сет изображается с головой сокола, над ним помещен солнечный диск, что указывает на связь Сета с солнечным культом. Эта связь не является случайной и получает особенное развитие в период Нового царства. Ближайшей иконографической аналогией является антропоморфное изображение Сета с солнечным диском на голове, помещенное на колонне, относящейся к гелиопольскому храму времени правления Мернептаха, фараона XIX династии.
Фараон подносит Сету две вазы-nw. Сет держит в руках хопеш и скипетр-wȝb, его эпитет — владыка XIX нома Wȝbwy. Территориально город Wȝbwy расположен на западном берегу Нила и как бы обращен в сторону Западной пустыни, что может быть связано с развитием культа Сета в оазисах Западной пустыни. Главная особенность этого изображения Сета, как и в случае со стелой из Дахлы − помещение солнечного диска на его голове. Такая связь Сета с солнцем может объясняться особенностями развития его образа в период, предшествовавший эпохе Нового царства.
СОЛЯРНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА СЕТА
Исходно, солярный аспект Сета восходит к чертам, приобретенным им при царе II династии Перибсене. Следующее появление знака солнечного диска в соположении с изображением животного Сета относится уже к Среднему царству, но используется в качестве личного имени. На заупокойной стеле жреца Сенби (Snbwy), происходящей из Мемфиса, изображен его сын, который носит имя Ра-Сет (Rˁ-Stẖ). На заупокойной стеле из частной гробницы Себек-анха (Sbk-ˁnḫ), находящейся в Абидосе, изображен мужчина, держащий два кувшина. Рядом с ним указано его личное имя — ˁfty Stẖ-Rˁ («пивовар Сет-Ра»). То, что имя Сет-Ра или Ра-Сет может являться личным именем, должно говорить о достаточной степени укорененности представлений о связи Сета с Ра. Не факт, что использование этой формы имени идет напрямую от времени Перибсена, однако оно определенно должно быть связано с наличием культа Сета в Гелиополе, поскольку свидетельства об этом имеются.
На сохранившихся рельефах храма Джосера в Гелиополе Сет упоминается дважды — как Stẖ и как Stẖ nbwty (Омбосский). Непосредственно от периода Среднего царства известен скарабей принца Ни-маат-ра (Ny-mȝˁt-Rˁ), на котором помещена следующая надпись: «Князь Гелиополя, Ни-маат-ра, в храме Сета» (ḥȝty-ˁ n Ἰwnw Ny-mȝˁt-Rˁ m ḥwt-ˁȝt Stẖ). Другое упоминание о храме Сета в Гелиополе относится к периоду Нового царства. В надписи на кубической статуе Хапи-ха (Ḥˁpy-ḫˁ) говорится: …«для ка, посвященного в тайны Гелиополя, надзирателя дома Ра, писца жертвенного стола, владыки обеих земель, жреца Хапи-ха, сына Неб-хотепа в доме Сета в (?) Гелиополе» (…n ḳȝ n snṯr ḥry sštȝ n Ἰwnw imy-r pr Rˁ-sš wdḥw n nb tȝyw ḥm-nṯr Ḥˁpy-ḫˁ zȝ Nbw ḥtp n pr Stẖ m (?) Ἰwnw). Приведенные выше свидетельства позволяют говорить о наличии культа Сета в Гелиополе, где, как уже отмечалось, культ Сета мог быть учрежден уже при Джосере.
В период Нового царства связь Сета с Ра получает дальнейшее развитие. На стеле фараона Аменхотепа II, найденной в Мит-Рахине, недалеко от Мемфиса, «Сетово» животное изображено с солнечным диском. Надпись следующая: «Воистину, владыка бури подобен соколу божественному»… (ist ḥḳȝ nšny mi bik nṯr…). Появление знака солнца в слове nšny, детерминативом которого является «Сетово» животное, очень необычно и, по-видимому, не имеет аналогий. Кроме того, Сет здесь называется соколом, что также свидетельствует о его принадлежности к небесным божествам, благодаря связи с царской властью. «Сокол божественный» — это стандартный эпитет божеств солнечного круга, прежде, всего, Хора, а также царя (LGG 767 ff).
Вопрос о связи между образами Сета и Амона-Ра также может быть поставлен в контексте проблемы солярного аспекта образа Сета. Иероглифический знак, изображающий животное Сета, в соположении с солнечным диском дважды встречается в надписях храма в Танисе. Строителем храма является Рамсес II, почитавший Сета. Однако, вероятно, уже в Позднее время, при Осорконе II, иероглифический знак Сета стремились заменить знаком Амоном-Ра в облике барана. В текстах надписей говорится о боге Амоне-Ра, но не вызывает сомнения, что первоначально оформление колонн было связано с образом Сета: на колонне 8 этого храма изображено «Сетово» животное. В обоих случаях над головой Сета помещен солнечный диск. По-видимому, изначальный для этих памятников образ Сета был в дальнейшем заменен на образ Амона-Ра, и такая манипуляция не единична.
На голову медной статуи Сета из Новой Карлсбергской глиптотеки Копенгагена помещены бараньи рога. Сама статуя датируется концом Нового царства, однако, как показал анализ, проведенный Д.Шорш и М.Виписки, бараньи рога были добавлены позднее, предположительно во время III Переходного периода. У статуи были демонтированы уши Сета, а на их место приставлена двойная корона Египта, на которую крепились бараньи рога. В обоих случаях — в иероглифической надписи и в оформлении статуи — замена Сета Амоном в образе барана или попытка придать ему черты его образа, связаны с негативным восприятием Сета в позднее время.
Таким образом, возвышение Сета в эпоху Нового царства сменилось его негативизацией на протяжении III Переходного периода и Позднего времени. Это отразилось в частичной трансформации его образа, начавшейся в оазисах с периода XXV династии. Помимо того, что на «Малой стеле из Дахлы» Сет изображается с головой сокола, его имя, как упоминалось выше, с этого периода выписывается без детерминатива «Сетова» животного, которое присутствовало в написании имени Сета на более ранних памятниках, происходящих из оазисов. В основе этого могут лежать две причины, которые и обуславливали развитие образа Сета в Поздний период. С одной стороны, происходила негативизация образа Сета, что вызывало изменение его статуса и приводило к запрету на изображение «Сетова» животного и к попыткам избежать прямого написания имени Сета. Так, на победной стеле Пианхи Сет упоминается в положительной коннотации, но не прямо, а как сын Нут. Употребление эпитета zȝ Nwt не является случайным, а связано с его применением к Сету в период Нового царства: …«сын Нут, дает он тебе руки свои» (Urk.III.24.79: …zȝ Nwt di.f n.k ˁy.k).
С другой стороны, актуализировалось представление о Сете как об одном из двух богов, имеющим, наряду с Хором, соколиную природу. Представление это, как было показано ранее, очень древнее и восходит еще к раннединастическому времени, а позднее находит свое выражение в появлении бога Немти. В Поздний период, когда образ Сета дискредитировался по мере возрастания значения осирического мифа, возврат к такому образу Сета избавлял его от негативизации.
Окончательная трансформация Сета в сокологолового бога на памятниках из оазисов происходит при XXVII династии. На рельефе из храма Хибиса в оазисе Харга, времени правления Дария I, изображен сокологоловый Сет в двойной короне, в килте šndyt и с двумя крыльями, пронзающий копьем Апопа. Надпись, сопровождающая изображение, следующая: «Произнесение слов Сутехом, великим силой, богом великим, находящимся в Хибисе. Сделал он даяние жизни подобно Ра, навечно» (ḏd mdw n Swtḫ ˁȝ pḥty nṯr ˁȝ ḥr-ib Ḥbt ir.n.f di ˁnḫ mi Rˁ ḏd).
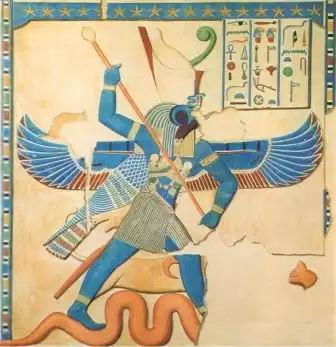

Крылатый Сет с головой сокола, в сопровождении льва, побеждающий Апопа.
Фрагмент (и его прорисовка) из храма Дария I в Хибисе, в оазисе Харга.
С началом Позднего периода в оазисах Сет изображается с соколиной головой. Его культ по-прежнему сохраняет свое значение, но при этом «Сетово» животное оказывается окончательно вытесненным из оформления памятников, поскольку образ Сета демонизируется и связывается с угрозой царской власти Египта. Вместе с тем, в представлениях о Сете в оазисах определяющей становится его роль защитника солнечного бога от змея. Об этом же свидетельствует развитие его культа в оазисах и в греко-римский период.
В оазисе Дахла, в храме Дейр эль-Хаггара римского времени периода правления императоров Веспасиана (69-79гг.) и Тита (79-81гг.) в сценах ритуального характера помещены два изображения Сета с головой сокола. Первое изображение, находящееся в святилище храма, представляет сокологолового Сета, увенчанного бараньими рогами, на которых помещена двойная корона с солнечным диском и двумя уреями. Примечательна надпись, сопровождающая изображение: «Сутех […владыка] оазисов, тот, кто низвергает Апопа» (Swt[ḫ …] wḥȝt sḫr ˁpp (Swt[ḫ …] wḥȝt sḫr ˁpp).
Второе изображение из пронаоса храма практически идентично вышеописанному, за исключением того, что на короне Сета помещается один урей. Надпись следующая: «Сутех, великий силой, бог великий, владыка оазисов» (Swtḫ ˁȝ pḥty nṯr ˁȝ nb wḥȝt). В обоих случаях Сета сопровождает его супруга Нефтида, которая изображается с коровьими рогами и солнечным диском между ними, что позволяет отметить ее сходство с иконографией Исиды. В изображении из пронаоса голову Нефтиды венчает также корона шути в форме двух перьев — атрибут бога Амона. Таким образом, Сет и Нефтида определенно оказываются связаны с Амоном, а развитие образа Сета в оазисах в греко-римское время тяготеет к синкретизации с Амоном в рамках их статуса владык оазисов.
Возможность такой синкретизации была вызвана двумя причинами. С одной стороны, Амон, наряду с Сетом, является очень значимым божеством в оазисах — в Сиве и Бахарии он почитался как верховный бог, в Дахле, наряду с Сетом, являлся одним из верховных богов, а храм в Хибисе, как уже упоминалось, был посвящен непосредственно ему. С другой стороны, как было показано выше, в период Нового царства Сет и Амон являлись покровителями царской власти, а в образе Сета на первый план выходят солярные черты, что существенно сближает его с Амоном. Даже после периода Нового царства, когда образ Сета начинает демонизироваться, попытки заменить Сета в надписях Амоном или переделать его статую в статую Амона-Ра не являются случайными, а объясняются той схожестью черт, которую оба бога приобрели в период Нового царства.
Вместе с тем, вышеперечисленные аспекты образа Сета, которые выдвигаются на первый план в его культе в оазисах в I тыс. до н.э., в принципе характерны для него на всем протяжении истории древнеегипетской религии.
КРЫЛАТЫЙ СЕТ, ПОБЕЖДАЮЩИЙ АПОПА
В древнеегипетской религии и мифологии топос о повержении врага в образе змея, являющегося противником солнечного бога, играет важную роль. Извечная битва, повторяющаяся с каждым новым появлением солнца — это сражение, в котором Ра борется со змеем Апопом, воплощающим все зло мирового порядка. Эта битва солнца упоминается в различных гимнах, посвященных солнечному богу, а также в книгах, описывающих его путешествие. Непосредственными защитниками солнечного бога могут выступать различные божества, однако особую роль в этом мифологическим сюжете играет бог Сет, выступающий в качестве защитника Ра и сражающийся со змеем Апопом. На виньетке папируса Эр-Убен времени XXI династии Сет стоит на корме солнечной барки и пронзает копьем Апопа. Ипостась Сета как противника Апопа мало изучена, однако, она имеет не меньшее значение в интерпретации его образа, чем роль в качестве противника Хора или убийцы Осириса. Посредством мифологемы об убийстве змея реализуются или раскрываются черты Сета, позволяющие говорить о нем как о боге солярного или небесного круга.
С ролью Сета как охранителя солнечного бога тесно связано представление о нем как о крылатом божестве, которому присущи функции защиты от врага и борьбы с силами хаоса. Впервые о Сете, как о крылатом боге упоминают Тексты пирамид: «Произнесение слов: дано око Хора на крыло брата его, Сета» (Pyr.1742a: ḏd mdw di irt Ḥrw ḥr ḏnḥ in sn.f Stš). В данном случае Сет выступает как бог-сокол и исполняет функцию бога-защитника, переправляющего атрибут поддержания космического порядка, — Око Хора. Крылатый Сет близок с солнечным богом, о чем может свидетельствовать его связь с Ра посредством урея: «Пепи — урей, приходящий от Сета, схватывающий и приносимый» (Pyr.1459b: Ppy pw iˁrt prt m Stš iṯyt inwt); «Это змея эта, приходящая от Ра, урей этот, приходящий от Сета» (Pyr. 2047d: ḏt pw nn prt m Rˁ iˁrt nn prt m Stš). Урей, воплощающий огненную силу солнечного бога, был призван охранять умершего царя во время путешествия по загробному миру и поддерживать его жизнь там. Наличие солнечного атрибута у Сета могло означать непосредственную связь этого бога с солнцем и с царем. Кроме того, появление Сета с крыльями и уреем в «Текстах пирамид» связано с его восприятием как бога, парного Хору, и в этом качестве обретающего наряду с ним царские атрибуты.
О Сете как о непосредственном противнике змея Апопа и защитнике солнечного бога впервые сообщают «Тексты саркофагов»: в одном из заклинаний речь идет об укрощении Сетом змея, обратившегося против Ра:
«Знаешь ты имя змея этого, который на горе. Whn.f имя его. Делает он во время вечера этого обращение у него ока его к Ра …внутри ладьи. Склонит его Сет.»
(CT.II.378c sqq: iw rḫ.k rn ḥfȝw pn tp ḏw Whn.f rn.f irr.f m tr n mšrw pn ˁn ḫr.f irt.f r Rˁ …m-ẖnw sḳdw ḳˁḥ ḫr sw Stš).
Кроме того, Сет предстает в этом источнике в качестве того, кто изгоняет Апопа: «изгоняет великий силой Апопа» (CT.VII. 332g, 517b: ḏr ˁȝ pḥty ˁpp). Характерно, что Сет, изгоняющий Апопа, наделяется эпитетом ˁȝ pḥty — «великий силой», который становится одним из его традиционных обозначений. Как это будет видно далее, он характеризует Сета как бога-защитника, повергающего врага.
То, что роль Сета как крылатого бога и защитника солнца, формировалась в рамках его тесной связи с царским культом, подтверждается появлением и массовым тиражированием этого образа при Рамессидах, когда Сет являлся официальным богом царской власти. Именно с эпохи Нового царства образ крылатого Сета фиксируется иконографически. Cамую массовую и репрезентативную группу памятников, фиксирующих этот сюжет, составляют скарабеи, скарабеоиды, амулеты и печати времени Рамессидов. На таких памятниках могут изображаться Сет и божества азиатского происхождения: Баал, Решеп, Астарта. Бог, чаще всего крылатый, одет в конический головной убор, его лицо вытянуто, а на лбу помещен урей или два рога. В одном случае божество пронзает копьем змея, в другом может изображаться с двумя уреями или стоящим на спине животного. Главной проблемой при рассмотрении этих памятников является идентификация изображенного бога, поскольку на памятниках отсутствуют надписи, и идентифицировать божество можно только по иконографическим признакам или по сюжету.
Наиболее показательным является изображение Сета на скарабее из брюссельского Королевского музея искусств и истории, где изображен крылатый Сет с головой своего животного, что позволяет говорить достаточно уверенно о его идентификации. Он одет в ханаанейский килт, что свидетельствует об азиатском влиянии. Левой рукой он держит за голову змея, а правой пронзает его тело. Над фигурой Сета помещен его характерный эпитет mry Rˁ — «избранный Ра». Аргументом в пользу идентификации этого бога как Сета может служить скарабей из Лейпцигского музея, на котором изображен Сет, пронзающий копьем змея, с головой своего животного, но без крыльев. Здесь также помещен эпитет Сета mry Rˁ. Таким образом, оба рассмотренных изображения, египетские по происхождению, практически идентичны друг другу. К такому же типу относятся изображения на скарабее из коллекции М.Кассирера, на рамессидском скарабее из Телль-эль-Фара (Палестина) с изображением солнечного диска над головой бога и на двух скарабеях из берлинского египетского музея. Различаются только небольшие детали: стоящий бог в коническом головном уборе и в азиатском килте пронзает копьем змея. На двух скарабеях встречаются изображения солнца: на одном — солнечного диска, на другом — солнечного диска с лучами.
По поводу идентификации изображенного бога на памятниках этого типа в литературе нет однозначной трактовки. Исследователи, рассматривающие эти памятники, выдвигают разные версии. М.Кассирер считает, что на памятниках изображен бог Решеп. Но А.Р. Шульман справедливо отмечает, что изображений Решепа в крылатом виде или пронзающего копьем змея не засвидетельствовано. И.Корнелиус и О.Кил определяют этого бога как Баала-Сета, другие исследователи — просто как Сета.
Имя «Баал-Сет» или «Сет-Баал» является искусственной конструкцией, не встречающейся в памятниках, но принятой для обозначения этого образа бога у некоторых исследователей. Семитский
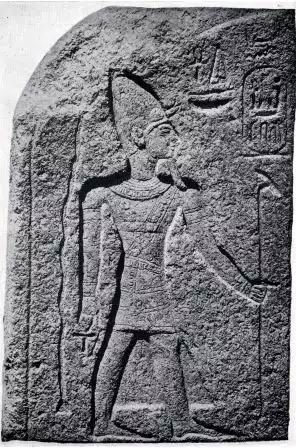 бог Баал появился в Египте, по-видимому, еще в гиксосское время и получил особенную популярность как бог, покровительствующий царской власти, что также может объяснять его тесную связь с Сетом. Вероятно, начиная еще с гиксосского времени, египтяне стали воспринимать Баала как проявление Сета. Баал, важнейший семитский бог, почитаемый гиксосами, был отождествлен ими с Сетом, покровителем царской власти, и именно в это время культ Сета приобретает чрезвычайную популярность на северо-востоке Дельты и в некоторых районах Азии.
бог Баал появился в Египте, по-видимому, еще в гиксосское время и получил особенную популярность как бог, покровительствующий царской власти, что также может объяснять его тесную связь с Сетом. Вероятно, начиная еще с гиксосского времени, египтяне стали воспринимать Баала как проявление Сета. Баал, важнейший семитский бог, почитаемый гиксосами, был отождествлен ими с Сетом, покровителем царской власти, и именно в это время культ Сета приобретает чрезвычайную популярность на северо-востоке Дельты и в некоторых районах Азии. В описании битвы при Кадеше Сет и Баал являются богами-покровителями Рамсеса II. Сет с иконографическими атрибутами Баала становится династическим богом Рамессидов, о чем свидетельствует «Стела 400-го года» (JdE 60539), где Сет представлен в образе Баала. В верхней части стелы изображен Сет в азиатском одеянии и в коническом головном уборе Баала, на котором помещены два рога с солнечным диском между ними, что характерно для изображения Баала. За Сетом изображен Рамсес II, а за ним — визирь Сети в позе поклонения. На стеле имя Сета выписано идеограммой его титульного животного, но, по-видимому, наиболее верным прочтением его имени в контексте данного памятника будет Сетх или Сутех, по аналогии с рельефом времени фараона Мернептаха, где Сет, также изображенный в образе Баала, выписывается как Сутех (Swtḫ).
Стела фиксирует особый способ летоисчисления, начавшийся в гиксосский период в связи с установлением культа Сета. Сама дата 400-летия дает отсчет культовой эре, связанной с утверждением в Аварисе почитания Сета (Сетха / Сутеха) в его локальной нижнеегипетской форме или принявшего азиатский облик. Причем возвышение культа Сета (а конкретнее — Сутеха в локальной форме) в Дельте Египта произошло еще до прихода гиксосов, при Нехси, который правил в Дельте после фараонов XIII династии незадолго до начала гиксосского периода.
Нехси, став царем, сделал Сета покровителем Авариса, о чем может свидетельствовать его надпись в Телль Мокдаме. Тем самым, Аварис приобрел новое религиозное и политическое значение, что было важно для Нехси в связи с укреплением своей власти. Ввиду этого, выбор им Сета в качестве бога-покровителя не кажется странным, поскольку с древнейших времен Сет являлся покровителем царской власти. Эта ипостась Сета могла приобретать большую значимость в условиях борьбы конкурирующих правителей за политическую власть на определенных этапах египетской истории.
По-видимому, между Нехси и представителями XIX династии существовала определенная связь. От времени правления Нехси в Танисе был найден его обелиск вместе с обелисками Рамессидов. Это может указывать на почитание Нехси фараонами XIX династии, которые, по трактовке Дж. ван Сэтерса, отсчитывали эру Сета на «Стеле 400-го года» от начала правления Нехси в Аварисе. Г.те Вельде также считает, что в этом памятнике Сети I отмечает не столько установление правления Сета в период владычества гиксосов, сколько традицию почитания Сета еще до прихода гиксосов.
Оставляя в стороне вопрос о начале отсчета эры Сета отметим, что такая точка зрения не кажется неправомерной, если вспомнить предположение о том, что XIX династия могла быть связана с гиксосскими правителями или теми азиатами, которые остались в Египте после изгнания гиксосов и египтизировались. Тогда вопрос тождества Сета и Баала и их необычайной популярности в рамессидскую эпоху необходимо решать именно в связи с характерным для них вниманием к гиксосской традиции. Египетская форма имени Баал — bˁr, может выписываться с детерминативом животного Сета (LGG II. 778) и из всех имен азиатских богов только его имя выписывается с таким детерминативом. К.Зиви-Кош полагает, что поскольку в некоторых случаях изображение «Сетова» животного может использоваться как идеограмма для написания имени Баала, это позволяет говорить о чтении имени Баала как Баала-Сета.
О тесной связи Баала и Сета можно судить по многочисленным текстовым и иконографическим источникам. Объяснение этой связи вполне очевидно ввиду схожих функций Баала и Сета как богов грома и борцов с силами хаоса. Баал как бог бури и грома впервые изображается на стеле из Угарита, датирующейся ок. 1700-1400 до н.э. Традиция почитания богов-громовержцев в западносемитской мифологии имеет долгую историю и на первоначальных этапах своего развития культ Баала был тесно переплетен с культом западносемитского бога Хадада. В угаритских текстах отображена мифологема борьбы Баала как бога громовержца и защитника космического миропорядка с морским богом-разрушителем Ямой.
Качества Баала как бога бури являются одними из определяющих в его образе в ходе этой борьбы. Образ Сета как бога грома формируется уже в «Текстах пирамид» (Pyr. 261a, 1150c) и в «Текстах саркофагов» (CT III.138b, 143b; VI.167e, 253m, 254p, 3061; VII.250c, 263b, 332f,h, 517a,c), но наиболее актуальным становится именно в эпоху Нового царства, о чем свидетельствует наличие детерминатива «Сетова» животного у категорий слов, обозначающих непогоду.
Мифологема о борьбе Сета со змеем Апопом и его роль защитника космического порядка должны были сблизить Сета с образом Баала по мере проникновения культов азиатских божеств на территорию Египта. В иконографической традиции Нового царства Сет принял на себя определенные черты, которые могли быть характерны для Баала или Баал мог ассоциироваться с Сетом. Особое внимание стоит обратить на то, в какой форме выражается почитание Сета на «Стеле 400-го года»:
…«царя Верхнего и Нижнего Египта, великого силой, сына Ра, любимого его, Омбосского, любимого Ра-Хорахте, да существует вечно-вековечно … Сутех, сын Нут, великий силой в ладье миллионов лет, повергающий врагов перед ладьей Ра, великий ревом»…
(KRI II. 288. 6-7, 9-10:…nsw-bity Swtḫ ˁȝ pḥty zȝ Rˁ mry.f nbty mry Rˁ-Ḥrw ȝḥty wnn.f r nḥḥ ḏt … Swtḫ zȝ Nwt ˁȝ pḥty m wiȝ n ḥḥw ḫr ḫfty m-ḥȝt wiȝ n Rˁ ˁȝ hmhmt…)
Прежде всего, особенное значение имеет качество Сета как древнейшего божества царской власти, что позволяет придать ему царский титул. Другие упоминаемые здесь эпитеты Сета характеризуют его как небесного бога-защитника: zȝ Nwt — «сын Нут» и ˁȝ pḥty — «великий силой» подчеркивают его природу божества, порожденного солнечным богом. То, что в стеле делается акцент на аспекте образа Сета как защитника солнечной барки, не может быть случайным. Эта позитивная роль Сета имела решающее значение в обосновании почитания его культа, как это можно было видеть на примере вышеприведенных памятников. Исходя из всего вышеперечисленного правомерно говорить, скорее, о влиянии Сета на образ Баала в его египетской рецепции, чем наоборот.
Мифологический контекст памятников подтверждает, что изображается Сет в своей обычной роли победителя Апопа, но в рамках изобразительной традиции переднеазиатского искусства и с определенными азиатскими атрибутами, такими как конический головной убор, ханаанейский килт и два рога на лбу. Изображение солнечного диска на некоторых скарабеях позволяет восстановить полный мифологический сюжет: солнечный диск, как символ Ра, змей Апоп — главный враг солнечного божества и Сет, уничтожающий врага солнца. Его связь с солнечным культом подчеркивается здесь наличием солнечного диска и двух крыльев.
На палетке времени правления Рамсеса II на передней стороне изображен Амон-Ра в образе бараноголового сфинкса, а на обратной — антропоморфное изображение крылатого бога, поражающего копьем змея. На нем надет конический головной убор и килт šndit, одной рукой он хватает за шею змея, другой пронзает его копьем. К сожалению, место, где написано имя бога, разрушено, но, с большой долей уверенности, изображенного бога можно идентифицировать как Сета.
От эпохи Нового царства дошел фрагмент стелы из Карлсбергской Глиптотеки времени XIX династии (inv.AEIN 726). Здесь Сет изображен с головой быка, телом человека и двумя крыльями, стоящий на корме солнечной барки и пронзающий копьем змея. Так же, как и на многих памятниках, Сет одет в
 азиатский килт. Над изображением помещена надпись: «Сет, бык Омбосский» (Stẖ kȝ nbwty). Упоминание о Сете как о быке Омбоса встречается только на этой стеле, однако известно употребление этого эпитета по отношению к Рамсесу II, повергающему врагов: «Величество его позади них (т.е. врагов) подобно быку Омбосскому» (KRI II. 151. 19: iw ḥm.f m-sȝ.sn mi kȝ nbwty). Несомненно, что царь здесь ассоциируется именно с Сетом и примечательно то, что ассоциация эта выражается через принадлежность Сета к Омбосу как покровителя царской власти.
азиатский килт. Над изображением помещена надпись: «Сет, бык Омбосский» (Stẖ kȝ nbwty). Упоминание о Сете как о быке Омбоса встречается только на этой стеле, однако известно употребление этого эпитета по отношению к Рамсесу II, повергающему врагов: «Величество его позади них (т.е. врагов) подобно быку Омбосскому» (KRI II. 151. 19: iw ḥm.f m-sȝ.sn mi kȝ nbwty). Несомненно, что царь здесь ассоциируется именно с Сетом и примечательно то, что ассоциация эта выражается через принадлежность Сета к Омбосу как покровителя царской власти. Что касается ассоциации Сета с быком, то она вписывается в египетскую традицию. В XVII главе «Книги мертвых» о Сете говорится: «Это Сет. По-другому сказать: Великий дикий бык» (BD. XVII. 115: Swty pw ki ḏd smȝ wr). В Лейденском папирусе фигурирует «бык темноты, бык быков, сын Нут» (p Leyden recto. X. 28-29: kȝ kkw kȝ kȝw zȝ Nwt).
Без сомнения, в этом быке можно узнать Сета поскольку, как уже упоминалось выше, эпитет zȝ Nwt является его традиционным эпитетом. Что касается надписи стелы, то ближайшей аналогией здесь будет надпись на стеле из Лейденского музея с похожим сюжетом. Сет в антропоморфной форме пронзает копьем Апопа в облике змея с человеческой головой. В верхней части стелы помещено изображение солнечного диска, c двумя уреями, и луны. Надпись следующая: «Омбосский, бог великий» (nbwty nṯr ˁȝ).
Ж.Лейбович считает изображение быка на стеле не египетским, но критским по происхождению по аналогии с изображениями быка из кносского дворца и на критских монетах, однако, на наш взгляд, оснований для такой трактовки нет. Скорее нужно говорить о том, что египетская традиция оказывается связанной с ближневосточной иконографической традицией. Ближайшей аналогией является изображение на скарабее из Ибицы, где стоящее божество с головой быка, идентифицирующееся как Баал, повергает врага с телом человека и хвостом змея. Одной рукой бог замахивается булавой, другой — держит врага за волосы. Он одет в платье с длинными рукавами и длинной юбкой, на голове — корона с пучком. Изображение головы быка идентично изображению на карлсбергской стеле. Изображенного бога идентифицируют как Баала, но в традиционной сиро-палестинской иконографии Баал в образе быка не изображался. Его возможным бычьим атрибутом были два рога с солнечным диском.
С другой стороны, уже в финикийской иконографии появляются изображения божеств в образе быка, и такими примерами, помимо скарабея из Ибицы, могут быть другие, достаточно многочисленные финикийские скарабеи, где предположительно изображен Баал или Мелькарт в образе быка, сидящим на троне или на сфинксе. Что касается изображения врага, то получеловек-полузмея в данном случае больше походит на древнеегипетского змея, атакуемого Сетом, чем на финикийского тритона. Но нужно отметить также, что идентичное изображение встречается на другом финикийском скарабее, только здесь вместо бога с головой быка изображен антропоморфный бог, также идентифицируемый как Баал. Враг показан точно так же, как и на рассматриваемом скарабее. Применительно к карлсбергской стеле О.Кил и К.Улинер отмечают вероятный синкретизм Баала и Сета, отмечая общие черты мифологического сюжета в семитской и египетской традициях. Змей как источник хаоса и мятежных вод в сиро-палестинской традиции и в виде Апопа в египетской традиции получает статус главного врага и противника на памятниках такого рода. Таким образом, можно заключить, что на карслбергской стеле иконография Сета совмещает в себе и египетский и переднеазиатский мотивы, но в рамках египетской мифологической традиции.
Как свидетельствуют вышеприведенные источники, мифологема повержения Апопа Сетом достигла своего расцвета в эпоху Рамессидов. Однако то существенное влияние, которое оказала переднеазиатская традиция, позволяет говорить о том, что избрание Сета в качестве победителя Апопа может быть связано с представлением о нем как боге, чей культ в рамессидское время занял центральное место ввиду расширения внешних контактов египтян с переднеазиатскими народами и распространения культов переднеазиатских богов.
С рассмотренными выше памятниками сюжетно близки изображения крылатого божества, стоящего между двумя уреями. Это антропоморфное божество, изображенное фронтально, в коническом головном уборе с двумя крыльями, простирающимися над двумя уреями, которые стоят по правую и левую сторону от него. На некоторых памятниках встречается изображение солнечного диска. Все изображения типологически схожи и относятся к эпохе Нового царства.
В связи с этим необходимо упомянуть о памятниках, где изображение Сета трактуется вполне определенно. На рамессидских скарабеях из Риккеха и Телль эль-Фара изображен Сет между двумя уреями. На скарабее из Мединет-Абу времени правления фараона Сетнахта¹ Сет изображен профильно вместе с богиней Уаджет, над ними помещен солнечный диск, а на идентичных изображениях Сет изображен с одним крылом, которое он простирает над уреем и с двумя крыльями и с эпитетом mry Rˁ.
________________________
[1] Stẖ-nḫt mrr-Jmn — «Победоносный Сет, любимый Амоном» (личное имя Сетнахта).
Резюмируя рассмотренные выше сюжеты, важно отметить, что массовое появление памятников с изображениями крылатых божеств может быть вызвано их защитной функцией. Крылья являются типичным атрибутом многих сиро-палестинских божеств, в особенности связанных с бурей и громом. При этом сюжет повержения змея является очевидно чисто египетским по происхождению, о чем свидетельствуют «Тексты пирамид» и «Тексты саркофагов». Взаимопроникновение традиций актуализировало роль бога-защитника, выступающего символом могущества и силы, который проявился в образе Сета с некоторыми аспектами Баала.
Таким образом, ипостась Сета как крылатого бога-змееборца актуализируется в эпоху Нового царства и получает широкое распространение в связи с официальным утверждением Сета в качестве бога правящей династии. Значимость сюжета о повержении Сетом Апопа обусловила дальнейшее почитание культа Сета в ипостаси бога-защитника в оазисах. С уверенностью можно сказать, что вышеописанные черты образа Сета приобрели первостепенное значение в рамках развития его культа в оазисах после его вымещения из официальной царской идеологии. Примечательно, что эта традиция почитания Сета сохранилась вплоть до римского времени.
В маммиси храма бога Туту времени II в. н.э. в Исмант эль-Хараб (античный Келлис), в южной части свода есть изображение крылатого бога с соколиной головой, двойной короной и солнечным диском, помещенным на ней. Божество стоит на постаменте и пронзает копьем змея, находящегося под его ногами. Но изображение не подписано и поэтому нет полной уверенности в том, что здесь изображен именно Сет. О.Капер предположительно определяет изображение этого бога как Сета, но отмечает, что может подразумеваться и другой бог, в том числе и Туту. Но насколько известно, изображений подобного рода применительно к Туту не засвидетельствовано.
Другой бог, чей культ был распространен в оазисах и чьей основной функцией была защита от врагов — это Амон-Нахт (LGG I.319).² Он также может изображаться крылатым и с соколиной головой, пронзающим копьем врага, но принципиальное отличие заключается в том, что он всегда пронзает не змея, а человека. Связь Сета и Амона-Нахта через эту иконографическую модель очень важна, поскольку она показывает специфику развития культов богов в оазисах. Амон-Нахт принадлежит к числу локальных божеств Западной пустыни, чье изображение фиксируется впервые в римское время в храме эйн-Бирбеха. Здесь среди прочих помещено изображение Амона-Нахта, типологически близкое изображению Сета в храме Хибиса: Амон-Нахт с головой сокола пронзает копьем врага. О.Капер полагает, что таким образом Амон-Нахт в качестве сокологолового бога, поражающего врага, выместил образ Сета. Однако, вытеснив Сета, Амон-Нахт перенимает его основные черты — не только иконографическую модель и функции повергателя врагов, но и систему эпитетов. В числе прочих, Амон-Нахт наделяется эпитетами ˁȝ pḥty («великий силой»), nb pt («владыка небес»).
________________________
[2] Jmn-nḫt — Победоносный Амон.
nḫt — сильный, победоносный.
Тем не менее, изображения Сета в качестве повергателя змея продолжают встречаться. Самый поздний по времени известный пример изображения Сета, пронзающего копьем Апопа, относится, предположительно, к IV в. н.э. В месте Эйн-Турба, располагающемся неподалеку от храма Хибиса, на одном из рельефов изображены три фигуры всадника с копьем: первый — с головой человека, второй — с головой Сета и солнечным диском, третий — с головой сокола и с крыльями, в двойной короне, а под этими фигурами помещено изображение змея. Э.Круз-Уриб полагает, что все три фигуры могут являться воплощением Сета, что вполне возможно ввиду традиции изображения Сета в оазисах с головой сокола и в двойной короне. Примечательно, что из трех фигур только центральная фигура с головой Сета увенчана солнечным диском. Сет сохраняет свою прерогативу защитника солнечного бога от змея, и эта ипостась остается определяющей в контексте его почитания в оазисах в римское время.
Карлова К.Ф. Образ бога Сета в древнеегипетской религии Позднего периода. [p.208]
____________________________
|
Метки: Сет Египет |
МЕЛЬКАРТ |
Мелькарт, Меликерт (греч. Μελικέρτης) — изначально, финикийский бог-покровитель города Тира (Milk-Qart, «царь города»), впоследствии отождествленный греками с Гераклом. Во времена колонизации Средиземноморья, финикийцы распространили культ Мелькарта во все колонии в западной половине Средиземного моря (Кадис, Утика, Карфаген и многие другие), откуда ежегодно отправлялась депутация в Тир для принесения жертв, во время празднеств, в главном храме Мелькарта. Согласно преданию, «тирийский Геракл» был похоронен в Испании (Арнобий. Против язычников I, 36). В двуязычной надписи с Мальты имя Мелькарт, в финикийской версии, — Баал Цор («Владыка Тира»), на греческий переведено как Геракл-архегет (Ἡρακλῆς ἀρχηγέτης).¹
_______________________
[1] ἀρχηγέτης (ἀρχ-ηγέτης), дор. ἀρχᾰγέτᾱς (-ου) ὁ
1) основатель, родоначальник; ex. (δήμου Plat.; τοῦ γένους Isocr.)
2) первопричина, творец; ex. (τύχης Eur.)
3) предводитель, вождь; ex. (Τιρυνθίων Pind.; Πλαταιέων Plut.)
Наиболее значимой с древних времён была ипостась Мелькарта как морского божества, подателя морепродуктов, попутного ветра и спокойного моря.
Согласно Менандру Эфесскому, храм Мелькарта на острове Тир воздвиг царь Хирам I (ок. 978-944 до н.э.). Геродот упоминает своё посещение тирского храма, называя его храмом Геракла Тирского.
Символом Мелькарта были две колонны, каменные или металлические, стоявшие в его храмах и через тирских мастеров попавшие в иерусалимский храм (Воаз и Иакин). На месте древнего святилища Хирам поставил новый храм, поражавший богатством и великолепием: в нем были колонны из золота и смарагда. Иосиф Флавий и Плиний говорят, что золотая колонна была круглой, а смарагдовая — четырехугольной.
Геркулесовы столбы (Гибралтар), по распространенному мнению, изначально имели финикийское название «Колонны Мелькарта», и непосредственно соотносились с колоннами, устанавливаемыми в храмах Мелькарта.
Таким образом, в Тире почитается бог моря — Баал-Малаки, владыка небес — Баал-Шамем, воитель Баал-Цафон, и паралельно им Мелькарт мелькает то тут, то там, то раздельно, то сливаясь с ними. То он — бог моря, то бог войны, то бог солнца, то бог плодородия, то просто герой.
По поводу плодородия нужно отметить, что название острова, в переводе с финикийского, означает «скала». Источников пресной воды на острове не было, т.е. даже питьевая вода была привозная. В папирусе Anastasi I (XIV в.) Тир упоминается как большой «город в море, к которому подвозят воду на кораблях и который богат рыбой более, чем песком». Древнейшее поселение, действительно, находилось на острове; на материке были только предместья и кладбища.
Наверное, для обильного произрастания всякой зелени (пальмы, фруктовые деревья и тому подобное) мягкого морского климата вполне достаточно. Но не достаточно для того, что бы скалистый остров имел статус плодородной житницы. Т.е. ипостась Мелькарта, как «бога плодородия», видимо, имеет природу позднейшего заимствования, через отождествление с богами колонизируемых народов. Либо тирские сельскохозяйственные угодья также находились за пределами острова — на материке.
В арамейской надписи Бир-Адада (IX в. до н.э.) Мелькарт фигурирует как бог войны, хотя никаких мифов, посвященных его деяниям, в ипостаси бога воителя, не сохранилось. Возможно, «воинственность» — это позднейшая ипостась, появившаяся, именно, во времена колонизации Средиземноморья. Попытки некоторых колоний выйти из под тирского протектората — жёстко подавлялись.
Почитание Мелькарта, как умирающего и воскресающего бога, говорит о тождественности Мелькарта другим солярным божествам Греции, Анатолии и Египта. «Умирающее» солнце сгорает в алеющем вечернем зареве, чтобы, пройдя через пламя Гадеса (ᾅδης), утром возродиться очищенным и обновлённым.
Обратим внимание на описание ворот гадитанского Гераклейона, данное Силием Италиком. В поэме говорится, что на воротах храма были изображены «труды Алкида» (Ἀλκείδης, потомок Алкея, т.е. Геракл), и далее они кратко перечисляются: Лернейская гидра, Немейский лев (автор его называет Клеонейским), Стигийский привратник (т.е. адский пес Кербер), фракийские кони, Эриманфский вепрь, медноногий олень (Керинейская лань), поверженный Антей, Кентавр, Ахелой (Акарнанский поток) и, наконец, сожжение героя на Эте, с которой «великую душу уносит к звездам пламя».
Стоит обратить внимание на слова поэта, что на воротах было показано, как «душу уносит к звездам пламя». Вероятно, здесь была представлена поднимающаяся из пламени фигура героя. Вспомним, что, по Нонну Геракл уничтожал в огне старость и принимал из огня юность. Вероятно, в описываемой Силием Италиком сцене и показывалось, как из огня поднимался обновленный бог.
Астрохитон (Ἀστροχίτων, «облаченный в одежды из звезд») — одно из имен (эпитет) финикийского Геракла. Ниже отрывок, из «Деяний Диониса», где описывается Тир и храм Мелькарта, который посетил Дионис. Дабы пообщаться с божеством, Дионис взывает к нему как к Гераклу Астрохитону, «повелителю Миропорядка», отождествляя его с верховными греко-римскими, анатолийскими и египетскими богами.
ДЕЯНИЯ ДИОНИСА. Песнь XL
Радовался он, видя сей град, Эносихтоном² который
Словно зыбучей повязкой со всех сторон препоясан,
Видел как будто снова взошедшее в небо светило
Лунного диска, немного еще — и станет полным!
Материка и моря тесное переплетенье
Вакх наблюдал восхищенно — ведь Тир простирался средь влаги,
На лоскутке покоясь земли, привязанной к морю,
С трех сторон омываем зыбью морскою соленой,
Уподобяся деве, плывущей над гладью спокойной
Влаги, зыблются в коей глава, выя и перси,
Деве, что руки раскинув плещется среди гребней,
И белопенные волны по плоти светлой струятся,
Только стопы́ этой девы тянутся к матери-суше!
Энносигей³ сей город держит в крепких объятьях,
Влажный возлюбленный будто жених обнимает невесту,
Облекающий выю девушки негой любовной.
Городом Тиром Бромий восхищался, где рядом
С морем скот выпасает пастух и свирель мореходец
Слышит на пенном бреге, где козопас рыболовный
Невод видит, где плуги тучную пашню взрезают
На виду у судов, вздымающих весла над влагой,
Где с моряками у чащи, растущей у брега морского,
Дровосеки болтают, где сплетаются вместе
Шум морского прибоя, мычанье скота и деревьев
Шелест, где миром единым стали деревья и снасти,
Весла и тростники, стада, сады и оружье!
Этому граду дивяся, так божество восклицает:
«Остров я вижу на суше! Возможно ль такое? Я чуда
Столь великого прежде не видел, чтобы деревья
Шелестели над зыбью морскою, чтоб нереиды
Говорили в пучине, а гамадриады внимали,
Чтоб над тирийским прибрежьем и вспаханными полями
От отрогов ливанских веял сладостный ветер
Южный, своим плодоносным дыханьем столь благотворный
И для души земледельца, и для парусной лόдьи!
Здесь с серпом земледельным в союзе трезубец пучинный,
С нивой Деό⁴ цветущей встречается моря владыка,
Погоняющий коней повозки над тихою зыбью,
Вровень едет богиня, не уступая владыке,
Змей бичуя хребты в своей воздушной повозке!
О, прославленный город! Морской ты и сухопутный,
С трех сторон препоясан перевязью зыбучей!»
Так говорил он, глазами обводя этот город.
Он созерцал мостовые, мощённые камнем искусно,
Он не мог оторваться от улиц сиянья и блеска —
Видит он Агéнора⁵ предка палаты, он видит
Кадма⁶ подворье и домы, входит в светлицу Европы,⁷
Ране похищенной (деву напрасно оберегали!),
Мыслил он о роголобом Дие-отце, он дивился
Больше еще водометам, бьющим сквозь лоно земное,
Что лишь час извергались бурно полною мерой,
После лиясь обильной влагой по ложу речному,
Видел он Абарбарею щедрую, зрел и источник,
Названный Каллироей, невестною любовался
Влагою Дросеры́, что метала сладкие струи;⁸
Все осмотрев, неуемное сердце взором насытив,
В храм Астрохи́тона входит и громко взывает к владыке
Звезд, восклицая такое слово, полное тайны:
«О Геракл Астрохи́тон, владыка огня, повелитель
Миропорядка, о Гелий, пастырь людей длиннотенный,
По всему небосводу скачущий огненным диском,
Путь двенадцатимесячный деющий, времени отпрыск,
Круг за кругом проходишь — и за твоею повозкой
Жизнь для стáра и млáда льется рекою единой:
Мудрый родитель Мены⁹ трехтелой ты безматерней,
И Селена росистая призрачное питает
Отраженное пламя светом лучей твоих щедрым,
Рожки гнутые бычьи приращивая понемногу!
Око всезрящее выси, ты четвероконной повозкой
Правишь, за ливнями снеги, за хладом весну к нам приводишь!
Мрачная ночь отступает, гонима твоими лучами,
Блещущими, лишь только под сверкающим игом
Выи покажут кони, бичуемы дланью твоею!
Только ты засияешь — и меркнут в сиянии ярком
Звездные луговины пестрые в поднебесье;
После же омовенья в западном Океане
С пенных волос отряхаешь ты прохладную влагу
Ливнем животворящим и на родящую Гею
Росной влаги потоки утренней ты низвергаешь;
Тучные нивы зреют под диском твоим благосклонным,
Орошая колосья в бороздах плодоносных;
Бэл — на Евфрате, в Либи́и — Аммон, и Апис — на Ниле,
Крон ты отец — в Араби́и, и Зевс — в ассирийских пределах!
Благоуханные ветви когтями острокривыми
Тысячелетняя птица на твой алтарь благовонный
Носит, Феникс премудрый, рождаясь и умирая,
Ибо там она снова является, юная вечно,
Старость в огне меняя на молодость в солнечном свете!
Будь ты Серáписом, Зевсом тученосным Египта,
Кроном иль Фаэтонтом¹⁰ многоименным, иль Митрой
Вавилонским, иль Фебом,¹¹ богом эллинским в Дельфах,
Гамосом,¹² коего Эрос в сновиденьях смятенных
Нам являет в обманных любовных объятьях на ложе,
Если от спящего Дия, возбужденного грезой
Страстной, влажное семя изливается в нивы
Тверди земной, и горы встают от небесных потоков!
Будь ты Пэаном¹³ целящим или пестрым Эфиром,¹⁴
Или как Астрохи́тон¹⁵ явись, когда звездное небо
Ярко ночью сияет россыпью светочей горних —
Внемли мне благосклонно, будь ко мне милосерден!»
Слово такое промолвил радостный Бромий — внезапно
Образ божественный вспыхнул Астрохитона в храме
Над Дионисом, лучистый лик божества проявился
Алыми засиявший очами и в одеянье
Звездном сверкая, и длань простер он над Дионисом,
Образ являя вселенной, лик многозвездного неба:
Светом мерцали ланиты, с брады созвездья струились,
К дружеской приглашая трапезе Диониса…
(Нонн. Деяния Диониса XL. 320-428)
_________________________
[2] ἐνοσίχθων (ἐνοσί-χθων), -ονος ὁ землеколебатель (эпитет Посидона) Hom., Hes.
[3] ἐννοσίγαιος, ἐνοσίγαιος (ἐνοσί-γαιος) ὁ сотрясающий землю Luc.
[4] Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
[5] Ἀγήνωρ (-ορος) ὁ Агенор, царь Тира и Сидона. Сын Посейдона и Ливии, брат-близнец Бела, отец Кадма и Европы.
[6] Κάδμος ὁ Кадм, сын финикийского царя Агенора, брат Европы, легендарный основатель Фив Беотийских.
[7] Εὐρώπη, дор. Εὐρωπα ἡ Европа, дочь Агенора.
[8] Абарбарея (Ἀβαρβαρέα), Каллирроя (Καλλιρρόη) и Дросера (Δροσερά) — три нимфы основательницы рода тирийцев, которые Эросом были соединены с сыновьями земли (автохтонами).
[9] Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.
[10] φαέθων (-οντος) part. и adj. сияющий, блистающий, лучезарный = ἥλιος Anth.
[11] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.
[12] Γάμος ὁ Гамос, божество супружеских отношений;
γάμος ὁ тж. pl.
1) брак, бракосочетание, супружество Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst., Luc.
2) свадьба, брачный пир;
3) половые сношения, сожительство.
[13] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ Пэан (бог-целитель, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.)
[14] Αἰθήρ (-έρος) ὁ Эфир, бог горних высей (сын Эреба и Ночи) Hes.
[15] Ἀστροχίτων — «облаченный в одежды из звезд».
МЕЛЬКАРТ В НУМИЗМАТИКЕ
_ __
__
1. Тир, Финикия. Шекель (AR 28mm, 14.40g), ок. 98/7 до н.э. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке; Rv: орел, стоящий на проре; слева — палица, справа — пальмовая ветвь; TYPOY IEPAΣ KAI AΣYΛOY (Тир свят и неприкосновенен) / ΘK (date).
2. Картахена (финик. Qart Hadasht, Новый Город), Иберия. 1½ шекеля (AR 11.06g), ок. 221-206 до н.э. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке, с палицей на плече; Rv: слон.


3. Гета (209-211). Тир, Финикия. Тетрадрахма (AR 27mm, 15.04g), 209г. Av: бюст Геты в лавровом венке; AYT KAI ГЄTAC CЄB. Rv: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT B (трибун второй раз).
4. Траян (98-117). Тир, Финикия. Тридрахма (AR 23mm, 10.79g), ок. 100г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; AYTOKP KAIC NЄP TPAIANOC CЄB ΓЄPM. Rv: бюст Мелькарта, с чертами Траяна, в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT Г

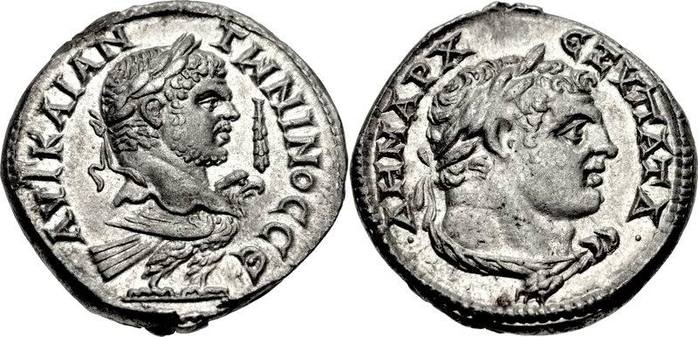
5. Тир, Финикия. Шекель (AR 24mm, 13.73g), ок. 425-394 до н.э. Av: Мелькарт несётся по морю на крылатом гиппокампе, с луком в руке, рядом дельфин; Rv: сова с египетскими инсигниями власти — плеть (нехеху) и скипетр хекет (крюк).
6. Каракалла (198-217). Тир, Финикия. Тетрадрахма (AR 27mm, 14.09g), ок. 216/7. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке, ниже — орёл, справа — палица; AYT KAI ANTWNINOC CЄ. Rv: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT Δ
_ __
__
7. Тир, Финикия. Æ 23mm (10.30g), ок. 94/5г. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; Rv: палица Мелькарта; MHTPOПOΛEѠΣ / KΣ (date: Year 220 = 94/95 AD).
8. Ликс, Мавретания. Æ 21mm (6.16 gm), ок. II в. до н.э. Av: голова Баал-Мелькарта; Rv: звезда между гроздью винограда и колосом.
_______________________________
_______________________
[1] ἀρχηγέτης (ἀρχ-ηγέτης), дор. ἀρχᾰγέτᾱς (-ου) ὁ
1) основатель, родоначальник; ex. (δήμου Plat.; τοῦ γένους Isocr.)
2) первопричина, творец; ex. (τύχης Eur.)
3) предводитель, вождь; ex. (Τιρυνθίων Pind.; Πλαταιέων Plut.)
Наиболее значимой с древних времён была ипостась Мелькарта как морского божества, подателя морепродуктов, попутного ветра и спокойного моря.
«Жертвы в честь моря указывают нам на то, что, с течением времени, у финикиян появилось представление о его божествах. Иначе, конечно, не могло быть, но вопрос этот для нас весьма темен. Кроме глухих намеков у Филона Библского, мы располагаем таким же поздним источником — монетами, на которых иногда изображаются божества, большею частью в греческом облике, и с признаками покровителей моря. Так, например, на беритских монетах божество стоит с трезубцем на четырех дельфинах, на библских — морской гений в виде крылатого коня с хвостом дельфина, на тирских — Мелькарт, сидящий на морском коне, и т.д.»
(Тураев Б.А. История Древнего Востока)
Согласно Менандру Эфесскому, храм Мелькарта на острове Тир воздвиг царь Хирам I (ок. 978-944 до н.э.). Геродот упоминает своё посещение тирского храма, называя его храмом Геракла Тирского.
«Узнав, что в Тире Финикийском есть святилище Геракла, я отплыл туда. И я увидел это святилище, богато украшенное посвятительными дарами. (…) Мне удалось также побеседовать сожрецами бога, и я спросил, как давно возведено это святилище. И оказалось, что в этом вопросе они не разделяют мнения эллинов. Так, по их словам, святилище было воздвигнуто при основании Тира, а с тех пор, как они живут в Тире, прошло 2300 лет. (…) И было это не менее чем за пять поколений до рождения эллинского Геракла, сына Амфитриона».
Символом Мелькарта были две колонны, каменные или металлические, стоявшие в его храмах и через тирских мастеров попавшие в иерусалимский храм (Воаз и Иакин). На месте древнего святилища Хирам поставил новый храм, поражавший богатством и великолепием: в нем были колонны из золота и смарагда. Иосиф Флавий и Плиний говорят, что золотая колонна была круглой, а смарагдовая — четырехугольной.
Геркулесовы столбы (Гибралтар), по распространенному мнению, изначально имели финикийское название «Колонны Мелькарта», и непосредственно соотносились с колоннами, устанавливаемыми в храмах Мелькарта.
«Если известные сказания о путешествиях Мелькарта и Геракловых столпах могут быть мифическим олицетворением тирского мореходства, а вычитанные Саллюстием из Гиемпсал рассказы о подвигах и смерти Геракла в Испании и происхождении от него нумидов и ливийцев выдают евгемеристическое происхождение, то известное нам о культе Мелькарта указывает на его солнечный характер. Иосиф Флавий приводит известие Менандра, что царь Хиром (Εἵρωμος) впервые отпраздновал «пробуждение Мелькарта в месяце Перитии». Последний приходился на зимнее солнцестояние, следовательно праздник по времени соответствовал римскому Dies Natalis Solis Invicti («день рождения Сола непобедимого»). Что Хиром «впервые» отпраздновал в это время, может указывать на то, что к этой эпохе тиряне признали окончательно Мелькарта солнечным божеством, а может быть на какую-нибудь реформу календаря. На солнечный характер его указывает также сопоставление с Ваал-Хаммоном и сооружение в честь него, так называемых, хамманим. Первый — карфагенское божество, встречающееся неукоснительно на пунических надписях вместе с Танит; имя его обыкновенно производят от корня hammah — «пылать» и объясняют как «знойный» — эпитет знойного божества. Хамманим — это камни или столбики — обелиски, ставившиеся у жертвенников бога и, судя по своему названию, были посвящены ему как божеству солнца. Может быть, это было что-либо вроде канделябров, изображенных на лилибейской надписи, но вообще ими назывались символы Ваала или Мелькарта, который часто представлялся в виде колонн или обелисков. Кроме того, на одном позднем африканском памятнике Ваал-Хаммон изображен с лучами вокруг головы.
(…)
По немногочисленным мифам и находкам археологов можно заключить, что в каждом финикийском городе имелся свой собственный пантеон, в который входили обычно главный бог, его жена, богиня плодородия, и их сын. Правда, встречались и другие триады — например, в Тире в VII в. до н.э. «царили» повелитель небес Баал-Шамем, морской владыка Баал-Малаки и воитель Баал-Цафон. «Небесный царь», обычно носивший имя Эл, не особенно интересовался земными делами, и жертв ему почти не приносили. Зато море, кормилец и защитник торгового народа, нуждалось в постоянном внимании и почтении. Бога плодородия — знаменитого Мелькарта — стали считать главным покровителем Тира, хотя иногда эта роль переходила к «богу алтаря благовоний» Баал-Хаммону.» (Тураев Б.А. История Древнего Востока)
Таким образом, в Тире почитается бог моря — Баал-Малаки, владыка небес — Баал-Шамем, воитель Баал-Цафон, и паралельно им Мелькарт мелькает то тут, то там, то раздельно, то сливаясь с ними. То он — бог моря, то бог войны, то бог солнца, то бог плодородия, то просто герой.
По поводу плодородия нужно отметить, что название острова, в переводе с финикийского, означает «скала». Источников пресной воды на острове не было, т.е. даже питьевая вода была привозная. В папирусе Anastasi I (XIV в.) Тир упоминается как большой «город в море, к которому подвозят воду на кораблях и который богат рыбой более, чем песком». Древнейшее поселение, действительно, находилось на острове; на материке были только предместья и кладбища.
Наверное, для обильного произрастания всякой зелени (пальмы, фруктовые деревья и тому подобное) мягкого морского климата вполне достаточно. Но не достаточно для того, что бы скалистый остров имел статус плодородной житницы. Т.е. ипостась Мелькарта, как «бога плодородия», видимо, имеет природу позднейшего заимствования, через отождествление с богами колонизируемых народов. Либо тирские сельскохозяйственные угодья также находились за пределами острова — на материке.
В арамейской надписи Бир-Адада (IX в. до н.э.) Мелькарт фигурирует как бог войны, хотя никаких мифов, посвященных его деяниям, в ипостаси бога воителя, не сохранилось. Возможно, «воинственность» — это позднейшая ипостась, появившаяся, именно, во времена колонизации Средиземноморья. Попытки некоторых колоний выйти из под тирского протектората — жёстко подавлялись.
«В колониях Запада, в том числе в Испании, огромную роль играл культ Мелькарта. Этот культ был особенно связан с царской властью в Тире. Мелькарт выступал и как предводитель колонизации. Распространение его культа говорит о тесной связи колонизации с правительственной политикой.
(…)
Гадитанский храм Мелькарта был одним из самых известных в средиземноморском мире. Сам Гадес был основан по велению Мелькарта (Strabo III, 5, 5), а в храме находилась могила бога (Mela III, 46), который, по финикийским сказаниям, погиб в Испании (Sal. lug. 18, 3); можно думать, что там же локализовалось и воскресение Мелькарта. В Гадесе торжественно отмечался праздник гибели и воскресения бога. Заметим, что гадитанский храм Мелькарта был не только религиозным, но и экономическим центром и, вероятно, казнохранилищем города.
(…)
Иное положение сложилось в Карфагене, где Мелькарт тоже весьма почитался, но все же не занимал столь видного места, как в испанских колониях Тира. Более того, сами карфагеняне больше уважали храм в метрополии, отсылая туда десятину от своих доходов и направляя туда священные посольства (Diod. XIII, 108; XX, 14; Iust. XVIII, 7, 7; Polyb. XXXI, 12; Arr. Anab. IV, 2, 10). Но Карфаген был основан в совершенно других условиях, чем остальные колонии: его основателями были противники правившего тогда царя Пигмалиона, а возглавляла колониальную экспедицию сестра царя Элисса, ставшая царицей нового города. И Карфаген сразу же стал независимым от Тира. Так что некоторое «умаление» культа Мелькарта в Карфагене только подтверждает значение этого культа в утверждении зависимости колоний от метрополии. Культ Мелькарта играл важную роль не только в Испании, где находился знаменитый храм этого бога, но и на Кипре, Сардинии, Сицилии, Мальте.» (Циркин Ю.Б. История Древней Испании)
Почитание Мелькарта, как умирающего и воскресающего бога, говорит о тождественности Мелькарта другим солярным божествам Греции, Анатолии и Египта. «Умирающее» солнце сгорает в алеющем вечернем зареве, чтобы, пройдя через пламя Гадеса (ᾅδης), утром возродиться очищенным и обновлённым.
Обратим внимание на описание ворот гадитанского Гераклейона, данное Силием Италиком. В поэме говорится, что на воротах храма были изображены «труды Алкида» (Ἀλκείδης, потомок Алкея, т.е. Геракл), и далее они кратко перечисляются: Лернейская гидра, Немейский лев (автор его называет Клеонейским), Стигийский привратник (т.е. адский пес Кербер), фракийские кони, Эриманфский вепрь, медноногий олень (Керинейская лань), поверженный Антей, Кентавр, Ахелой (Акарнанский поток) и, наконец, сожжение героя на Эте, с которой «великую душу уносит к звездам пламя».
Стоит обратить внимание на слова поэта, что на воротах было показано, как «душу уносит к звездам пламя». Вероятно, здесь была представлена поднимающаяся из пламени фигура героя. Вспомним, что, по Нонну Геракл уничтожал в огне старость и принимал из огня юность. Вероятно, в описываемой Силием Италиком сцене и показывалось, как из огня поднимался обновленный бог.
Астрохитон (Ἀστροχίτων, «облаченный в одежды из звезд») — одно из имен (эпитет) финикийского Геракла. Ниже отрывок, из «Деяний Диониса», где описывается Тир и храм Мелькарта, который посетил Дионис. Дабы пообщаться с божеством, Дионис взывает к нему как к Гераклу Астрохитону, «повелителю Миропорядка», отождествляя его с верховными греко-римскими, анатолийскими и египетскими богами.
ДЕЯНИЯ ДИОНИСА. Песнь XL
Радовался он, видя сей град, Эносихтоном² который
Словно зыбучей повязкой со всех сторон препоясан,
Видел как будто снова взошедшее в небо светило
Лунного диска, немного еще — и станет полным!
Материка и моря тесное переплетенье
Вакх наблюдал восхищенно — ведь Тир простирался средь влаги,
На лоскутке покоясь земли, привязанной к морю,
С трех сторон омываем зыбью морскою соленой,
Уподобяся деве, плывущей над гладью спокойной
Влаги, зыблются в коей глава, выя и перси,
Деве, что руки раскинув плещется среди гребней,
И белопенные волны по плоти светлой струятся,
Только стопы́ этой девы тянутся к матери-суше!
Энносигей³ сей город держит в крепких объятьях,
Влажный возлюбленный будто жених обнимает невесту,
Облекающий выю девушки негой любовной.
Городом Тиром Бромий восхищался, где рядом
С морем скот выпасает пастух и свирель мореходец
Слышит на пенном бреге, где козопас рыболовный
Невод видит, где плуги тучную пашню взрезают
На виду у судов, вздымающих весла над влагой,
Где с моряками у чащи, растущей у брега морского,
Дровосеки болтают, где сплетаются вместе
Шум морского прибоя, мычанье скота и деревьев
Шелест, где миром единым стали деревья и снасти,
Весла и тростники, стада, сады и оружье!
Этому граду дивяся, так божество восклицает:
«Остров я вижу на суше! Возможно ль такое? Я чуда
Столь великого прежде не видел, чтобы деревья
Шелестели над зыбью морскою, чтоб нереиды
Говорили в пучине, а гамадриады внимали,
Чтоб над тирийским прибрежьем и вспаханными полями
От отрогов ливанских веял сладостный ветер
Южный, своим плодоносным дыханьем столь благотворный
И для души земледельца, и для парусной лόдьи!
Здесь с серпом земледельным в союзе трезубец пучинный,
С нивой Деό⁴ цветущей встречается моря владыка,
Погоняющий коней повозки над тихою зыбью,
Вровень едет богиня, не уступая владыке,
Змей бичуя хребты в своей воздушной повозке!
О, прославленный город! Морской ты и сухопутный,
С трех сторон препоясан перевязью зыбучей!»
Так говорил он, глазами обводя этот город.
Он созерцал мостовые, мощённые камнем искусно,
Он не мог оторваться от улиц сиянья и блеска —
Видит он Агéнора⁵ предка палаты, он видит
Кадма⁶ подворье и домы, входит в светлицу Европы,⁷
Ране похищенной (деву напрасно оберегали!),
Мыслил он о роголобом Дие-отце, он дивился
Больше еще водометам, бьющим сквозь лоно земное,
Что лишь час извергались бурно полною мерой,
После лиясь обильной влагой по ложу речному,
Видел он Абарбарею щедрую, зрел и источник,
Названный Каллироей, невестною любовался
Влагою Дросеры́, что метала сладкие струи;⁸
Все осмотрев, неуемное сердце взором насытив,
В храм Астрохи́тона входит и громко взывает к владыке
Звезд, восклицая такое слово, полное тайны:
«О Геракл Астрохи́тон, владыка огня, повелитель
Миропорядка, о Гелий, пастырь людей длиннотенный,
По всему небосводу скачущий огненным диском,
Путь двенадцатимесячный деющий, времени отпрыск,
Круг за кругом проходишь — и за твоею повозкой
Жизнь для стáра и млáда льется рекою единой:
Мудрый родитель Мены⁹ трехтелой ты безматерней,
И Селена росистая призрачное питает
Отраженное пламя светом лучей твоих щедрым,
Рожки гнутые бычьи приращивая понемногу!
Око всезрящее выси, ты четвероконной повозкой
Правишь, за ливнями снеги, за хладом весну к нам приводишь!
Мрачная ночь отступает, гонима твоими лучами,
Блещущими, лишь только под сверкающим игом
Выи покажут кони, бичуемы дланью твоею!
Только ты засияешь — и меркнут в сиянии ярком
Звездные луговины пестрые в поднебесье;
После же омовенья в западном Океане
С пенных волос отряхаешь ты прохладную влагу
Ливнем животворящим и на родящую Гею
Росной влаги потоки утренней ты низвергаешь;
Тучные нивы зреют под диском твоим благосклонным,
Орошая колосья в бороздах плодоносных;
Бэл — на Евфрате, в Либи́и — Аммон, и Апис — на Ниле,
Крон ты отец — в Араби́и, и Зевс — в ассирийских пределах!
Благоуханные ветви когтями острокривыми
Тысячелетняя птица на твой алтарь благовонный
Носит, Феникс премудрый, рождаясь и умирая,
Ибо там она снова является, юная вечно,
Старость в огне меняя на молодость в солнечном свете!
Будь ты Серáписом, Зевсом тученосным Египта,
Кроном иль Фаэтонтом¹⁰ многоименным, иль Митрой
Вавилонским, иль Фебом,¹¹ богом эллинским в Дельфах,
Гамосом,¹² коего Эрос в сновиденьях смятенных
Нам являет в обманных любовных объятьях на ложе,
Если от спящего Дия, возбужденного грезой
Страстной, влажное семя изливается в нивы
Тверди земной, и горы встают от небесных потоков!
Будь ты Пэаном¹³ целящим или пестрым Эфиром,¹⁴
Или как Астрохи́тон¹⁵ явись, когда звездное небо
Ярко ночью сияет россыпью светочей горних —
Внемли мне благосклонно, будь ко мне милосерден!»
Слово такое промолвил радостный Бромий — внезапно
Образ божественный вспыхнул Астрохитона в храме
Над Дионисом, лучистый лик божества проявился
Алыми засиявший очами и в одеянье
Звездном сверкая, и длань простер он над Дионисом,
Образ являя вселенной, лик многозвездного неба:
Светом мерцали ланиты, с брады созвездья струились,
К дружеской приглашая трапезе Диониса…
(Нонн. Деяния Диониса XL. 320-428)
_________________________
[2] ἐνοσίχθων (ἐνοσί-χθων), -ονος ὁ землеколебатель (эпитет Посидона) Hom., Hes.
[3] ἐννοσίγαιος, ἐνοσίγαιος (ἐνοσί-γαιος) ὁ сотрясающий землю Luc.
[4] Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
[5] Ἀγήνωρ (-ορος) ὁ Агенор, царь Тира и Сидона. Сын Посейдона и Ливии, брат-близнец Бела, отец Кадма и Европы.
[6] Κάδμος ὁ Кадм, сын финикийского царя Агенора, брат Европы, легендарный основатель Фив Беотийских.
[7] Εὐρώπη, дор. Εὐρωπα ἡ Европа, дочь Агенора.
[8] Абарбарея (Ἀβαρβαρέα), Каллирроя (Καλλιρρόη) и Дросера (Δροσερά) — три нимфы основательницы рода тирийцев, которые Эросом были соединены с сыновьями земли (автохтонами).
[9] Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.
[10] φαέθων (-οντος) part. и adj. сияющий, блистающий, лучезарный = ἥλιος Anth.
[11] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.
[12] Γάμος ὁ Гамос, божество супружеских отношений;
γάμος ὁ тж. pl.
1) брак, бракосочетание, супружество Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst., Luc.
2) свадьба, брачный пир;
3) половые сношения, сожительство.
[13] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ Пэан (бог-целитель, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.)
[14] Αἰθήρ (-έρος) ὁ Эфир, бог горних высей (сын Эреба и Ночи) Hes.
[15] Ἀστροχίτων — «облаченный в одежды из звезд».
МЕЛЬКАРТ В НУМИЗМАТИКЕ
_
 __
__
1. Тир, Финикия. Шекель (AR 28mm, 14.40g), ок. 98/7 до н.э. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке; Rv: орел, стоящий на проре; слева — палица, справа — пальмовая ветвь; TYPOY IEPAΣ KAI AΣYΛOY (Тир свят и неприкосновенен) / ΘK (date).
2. Картахена (финик. Qart Hadasht, Новый Город), Иберия. 1½ шекеля (AR 11.06g), ок. 221-206 до н.э. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке, с палицей на плече; Rv: слон.


3. Гета (209-211). Тир, Финикия. Тетрадрахма (AR 27mm, 15.04g), 209г. Av: бюст Геты в лавровом венке; AYT KAI ГЄTAC CЄB. Rv: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT B (трибун второй раз).
4. Траян (98-117). Тир, Финикия. Тридрахма (AR 23mm, 10.79g), ок. 100г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; AYTOKP KAIC NЄP TPAIANOC CЄB ΓЄPM. Rv: бюст Мелькарта, с чертами Траяна, в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT Г

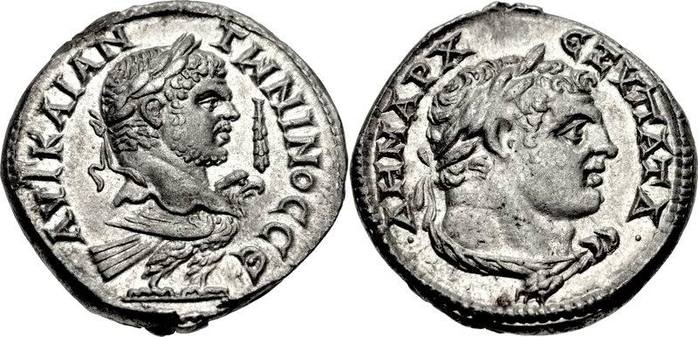
5. Тир, Финикия. Шекель (AR 24mm, 13.73g), ок. 425-394 до н.э. Av: Мелькарт несётся по морю на крылатом гиппокампе, с луком в руке, рядом дельфин; Rv: сова с египетскими инсигниями власти — плеть (нехеху) и скипетр хекет (крюк).
6. Каракалла (198-217). Тир, Финикия. Тетрадрахма (AR 27mm, 14.09g), ок. 216/7. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке, ниже — орёл, справа — палица; AYT KAI ANTWNINOC CЄ. Rv: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT Δ
_
 __
__
7. Тир, Финикия. Æ 23mm (10.30g), ок. 94/5г. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; Rv: палица Мелькарта; MHTPOПOΛEѠΣ / KΣ (date: Year 220 = 94/95 AD).
8. Ликс, Мавретания. Æ 21mm (6.16 gm), ок. II в. до н.э. Av: голова Баал-Мелькарта; Rv: звезда между гроздью винограда и колосом.
_______________________________
|
Метки: Мелькарт Геракл |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
ГЕРАКЛ ФИНИКИЙСКИЙ |
Циркин Ю.Б.
МИФОЛОГИЯ МЕЛЬКАРТА
В жизни финикийцев, как и всех других народов древности, религия играла очень большую роль. Открытие в Угарите религиозных и мифологических текстов XIV-XIII вв. до н.э. дало нам представление о религии этого времени. К сожалению, подобных текстов, относящихся к другим центрам и более позднему времени, не сохранилось. В нашем распоряжении имеется только сравнительно небольшое количество надписей, остатки финикийских мифов, воспроизведенные античными авторами, да указания монет и фигуративных памятников, которых тоже немного. Обычна идентификация финикийских и греко-римских божеств. Это, с одной стороны, облегчает установление сущности того или иного финикийского божества, но, с другой, делает подчас трудным выяснение, идет ли речь о персонаже финикийского или чисто греческого или римского культа. Поэтому ни в одной области истории финикийской культуры нет столько неопределенностей и гипотез, иногда совершенно недоказуемых, сколько в истории финикийской религии железного века. Это относится и к культу Мелькарта, бога-покровителя Тира.
Тирские мореходы обошли весь бассейн Средиземного моря и вышли в Атлантический океан. В Африке, Сицилии, Сардинии, Испании возникают колонии Тира. Колонисты вступают в многообразные связи с окружающим населением и передают ему, в частности, некоторые элементы своей культуры, в том числе и религиозные представления. Финикийские культы оказывают значительное влияние на культы других народов Средиземноморья, не исключая греков, этрусков и римлян. И при этом особо выделяется культ главного тирского бога Мелькарта, которого греки отождествляли с Гераклом, а римляне — с Геркулесом. Храм этого бога в Гадесе, тирской колонии в Испании, был одним из самых знаменитых святилищ древности, и слава его распространялась по всему Средиземноморью. Возникнув, видимо, в конце II тыс. до н.э., он существовал до самого конца язычества. Последние сведения о нем относятся к концу IV в. н.э.
Все это привлекает особое внимание к культу Мелькарта-Геракла. Различным аспектам этого культа и его истории посвящено несколько интересных, хотя в некоторых случаях и дискуссионных, работ. Однако гораздо меньше, чем того заслуживают, изучаются мифы об этом боге. Это объясняется, в основном, тем, что собственно памятников финикийской литературы, как уже отмечалось, практически не сохранилось. Но нам кажется, что и имеющийся материал (пересказы античных писателей) все же позволяет определить наличие мифологического цикла, связанного с Мелькартом. В настоящей статье ставится задача выяснить содержание этого цикла.
О рождении Мелькарта сохранились очень скудные упоминания греческих и римских авторов. Филон Библский (Euseb. Praep. ev. 1, 10, 27) мимоходом отмечает, что Мелькарт (он же Геракл, прибавляет греческий автор) был сыном Демаруса, которого он же отождествляет с Зевсом (там же говорится, что Демарус был сыном Эла, т.е. Крона). Если раньше сообщение Филона об использовании им финикийского оригинала Санхуниатона, мудреца времени Троянской войны, вызывало сомнения, то теперь в принципе его принимают, ибо открытие угаритских текстов наглядно показало существование обширной финикийской литературы II тысячелетия. В произведении Филона имеются как греческие черты, внесенные автором греко-римского времени, так и собственно финикийские, причем к последним относится упоминание Мелькарта.
Вторично указание на это божество мы встречаем у Цицерона (de nat. deor., III, 16, 42), который упоминает среди нескольких Геркулесов и сына Юпитера и Астерии, которого более всего почитают в Тире. В Астерии, матери тирского Геркулеса, обычно видят Астарту. Сохранился интересный барельеф, найденный в Тире, на котором изображена женщина, видимо роженица, внизу лань, кормящая ребенка, к которому ползет змея, и здесь же орел и воспламененное дерево, обвитое змеей. То, что перед нами сцена рождения Мелькарта, несомненно. О священной оливе, побеги которой лижут языки пламени, говорит Ахилл Татий, упоминая о святилище в Тире (II, 14).
Интересный эпизод содержится в поздней поэме Нонна «Дионисиака» (XL, 469-600): Геракл потребовал переправиться на блуждающие острова, и там люди должны увидеть огромную оливу, на вершине которой сидит орел; само дерево охвачено огнем, пожирающим все вокруг, но не трогающим его; вокруг ствола обвилась змея, с угрозами ползущая к орлу; надо принести орла в жертву Посейдону, Зевсу и блаженным, и тогда скалы перестанут блуждать, и на них надо будет основать город (т.е. Тир). Подробное исследование этой поэмы показало, что основным источником повествования греческого поэта, в данном случае, является местное финикийское предание. Следовательно, нонновский Геракл, божественный основатель Тира, не кто иной, как Мелькарт. Таким образом, изображенное на рельефе пламенеющее дерево, обвитое змеей, и орел имеют прямое отношение к культу Мелькарта. Возможно, что в римское время (а рельеф относится именно к этому времени) орел мог смешиваться с атрибутикой Зевса-Юпитера, отца тирского бога.
Итак, перед нами сцена рождения Мелькарта Астартой. Таким образом, можно быть уверенным в том, что финикийцы, по крайней мере, тирийцы, считали Мелькарта сыном Демаруса и Астарты. Они явно, судя по барельефу, почитали его рождение. Однако еще больше отмечалась почитателями смерть и воскрешение Мелькарта. Евдокс Книдский (Ath. IX, 47, 392) рассказывает, со слов финикийцев, что Геракл, сын Астерии и Зевса, был убит в Ливии Тифоном и воскрешен Иолаем, давшим ему понюхать запах перепела. Указывая на происхождение героя, автор ясно дает понять, что речь идет не о фиванском Геракле, сыне Зевса и Алкмены, а о тирском. К этому же тексту Евдокса восходит и рассказ Зиновия (Cent. V, 56), где недвусмысленно упоминается Геракл Тирский.
Сохранился след сказания о его смерти в огне, причем локализуется это событие в самом Тире (Ps. Clem. Recogn., 10, 24). Намек на подобный тирский миф содержится и у Нонна (Dionys., XL, 58), где говорится о Геракле, уничтожившем в огне старость и принявшем из огня юность. По Менандру Эфесскому (у Ios. Ant. VIII, 5, 3 и contra App. 1, 18), при царе Хираме I (X в. до н.э.) в Тире стали отмечать праздник «пробуждения» Геракла в месяце перитии, т.е. в феврале-марте. Этот миф имел и вариант, по которому смерть (вероятно, и «пробуждение») Мелькарта локализуется на западе, в Испании. Так, Саллюстий, ссылаясь на афров, т.е., вероятнее всего, африканских финикийцев, упоминает о гибели Геркулеса в Испании (Jug. 18, 3). По словам Мелы (III, 46), в гадитанском храме находилась могила этого бога. Туманный намек Павсания (IX, 4, 6) позволяет говорить о празднике смерти и воскрешения Мелькарта в Гадесе. Во время этого праздника из города изгоняли всех иностранцев и сжигали изображение бога, сидящего на гиппокампе. Может быть, с этим же связано и странное сообщение Филострата, что гадитане, единственные из людей, воспевают смерть (Apoll. Tyan. V, 4).
Это сказание рисует образ гибнущего и возрождающегося бога — подобно библскому Адонису, месопотамскому Таммузу или египетскому Осирису, с которым его связывает и имя убийцы. Перед нами божество, олицетворяющее умирающую и возрождающуюся растительность. Недаром праздник его «пробуждения» отмечался весной, в момент прекращения зимних дождей и появления первых почек.
Но кто убил Мелькарта, какой персонаж финикийской мифологии скрывается под греческим именем Тифона? С Тифоном греческие авторы обычно отождествляли египетского бога Сета, убийцу Осириса. Это отождествление встречается уже у Геродота (II, 144). В египетской религии Сет рассматривался сначала как бог восточного рукава нильской дельты, затем — восточной границы Египта и, наконец, как бог иностранцев и восточной пустыни. Он олицетворяет солнечный зной, губительный для жизни. Видимо, он был богом-скотоводом в противоположность богу земледельцев «черной земли» — Египта (tȝ-kmt, Та-Кемет).
Подобные черты встречаются и у Мота, который в угаритских мифах выступает как бог смерти и противник Баала. Его царство называется страной пастбищ, прекрасным лугом, полем львов Мамету (I AB, VI, 6-7; 29-30). Оно противопоставляется земле Баала, земледельческого бога умирающей и воскресающей растительности. Как Сет издавна был богом непогоды и ветра, дующего из пустыни и губящего все живое, так и Мот предстает владыкой засухи и пустыни. Правда, в египетских текстах Сет отождествляется именно с Баалом, а не с его врагом, но это, по-видимому, объясняется тем, что Сет считался эквивалентом вообще каждого азиатского бога, и, следовательно, с принятием в египетский пантеон Баала его должны были отождествлять именно с Сетом, несмотря на различие между ними. Если наши рассуждения верны, то Тифон, убивший Мелькарта, не кто иной, как финикийский вариант Сета — Мот.
Так как финикийцы рассказывали о рождении и смерти Мелькарта, то должны были существовать и сказания о событиях его «земной жизни», состоявшихся между появлением на свет и гибелью. Отождествление с Гераклом подсказывает, что этот промежуток «биографии» бога был заполнен походами и подвигами. Об этих подвигах античные авторы молчат, и можно только гадать или путем сложных сопоставлений выяснять, какое из деяний греческого героя имеет в своей основе финикийский миф. Однако обратим внимание на описание ворот гадитанского Гераклейона, данное Силием Италиком. Дени ван Берхем справедливо отмечает, что храм в Гадесе был в I в. н.э., во времена Силия Италика, слишком известен, чтобы даже такой поэт, как он, мог позволить себе фантастические утверждения. Поэтому рассмотрим внимательно те изображения, которые, по словам поэта, украшали ворота святилища Геркулеса.
В поэме говорится, что на воротах храма были изображены «труды Алкида», и далее они кратко перечисляются: Лернейская гидра, Немейский лев (автор его называет Клеонейским), Стигийский привратник (т.е. адский пес Кербер), фракийские кони, Эриманфский вепрь, медноногий олень (Керинейская лань), поверженный Антей, Кентавр, Ахелой (Акарнанский поток) и, наконец, сожжение героя на Эте, с которой «великую душу уносит к звездам пламя» (Sil. It. III, 32-44).
Прежде всего бросается в глаза, что перед нами не традиционные двенадцать подвигов, а набор из десяти эпизодов «биографии», включая смерть на костре. К тому же, наряду с шестью подвигами, включаемыми в классический додекатлос,¹ имеются четыре, которые, хотя и известны из античной литературы, в этот список не входят. А. Гарсиа и Бельидо полагает, что изображения на воротах гадитанского храма были созданы до каталогизации подвигов, которая имела место, по его мнению, на рубеже VI-V вв. до н.э., и, следовательно, отражают эллинизацию святилища в VI в. Однако проблема происхождения цикла двенадцати подвигов Геракла далека от разрешения. Если М. Нильссон относит время возникновения додекатлоса к микенской эпохе, то Ф. Броммер считает, что этот каталог был создан только во времена эллинизма. Во всяком случае, о некоторых подвигах знает уже Гомер, хотя конкретно упоминается только увод Кербера (Il. VIII, 363-369; Od. XI, 623-626). Гесиод называет ряд рожденных богами жертв Геракловой силы: Гериона (Theog. 287-294), Гесперид (Theog. 275), Кербера (Theog. 310), Лернейскую гидру (Theog. 313-315), Немейского льва (Theog. 327-333). Некоторых из этих персонажей мы встречаем в Гадесе, другие там отсутствуют. И это отсутствие весьма красноречиво.
_______________________________
[1] δωδέκαθλος (δωδέκ-αθλος) ἡ список двенадцати подвигов Геракла.
Среди подвигов гадитанского Геркулеса мы не видим ни похищения яблок Гесперид, ни поддержки неба Атлантом, ни борьбы с Герионом. Мифы эти весьма древние, упоминаются уже Гесиодом, а сказание о похищении яблок Гесперид существовало, возможно, и в микенской Греции. Между тем в греческой мифологии все эти события локализуются обычно на крайнем западе, т.е. в сфере гадитанской цивилизации. И особенно важно, что здесь не упоминается о борьбе героя с Герионом. Об этой борьбе рассказывает Гесиод, локализуя ее на острове Эрифии. Уже Стесихор (у Strabo, III, 2, 11) связывает Гериона с Тартессом. А Эфор и Филистид Эрифию считают тем же островом, что и остров Гадеса (Plin. N.h. IV, 22). И было бы очень странно, если гадитанские жрецы, избрав греческий образец для украшения храма, пренебрегли теми сказаниями, которые, казалось бы, имеют непосредственное отношение к окружающей местности и, может быть, даже к самому их городу.
С другой стороны, среди сцен из «биографии» героя на гадитанских воротах встречается изображение его смерти. Этот сюжет сравнительно редко встречается в греческом изобразительном искусстве. Но зато в Гадесе, как мы видели, смерть и последующее воскресение Мелькарта почитались особенно, и существовало даже поверье о нахождении именно в этом городе могилы бога. Стоит обратить внимание на слова поэта, что на воротах было показано, как «душу уносит к звездам пламя». Вероятно, здесь была представлена поднимающаяся из пламени фигура героя. Вспомним, что, по Нонну Геракл уничтожал в огне старость и принимал из огня юность. Вероятно, в описываемой Силием Италиком сцене и показывалось, как из огня поднимался обновленный бог.
Все сказанное приводит нас к мысли, что на воротах Гераклейона в Гадесе были не изображения греческих мифов, а воспроизведения финикийских сказаний о Мелькарте. Конечно, нельзя полностью исключать влияние эллинской мифологии и искусства. Но и в таком случае избирались только те сюжеты, которые аналогичны темам подвигов и страданий Мелькарта (независимо от того, существовал ли уже канонизированный список додекатлоса или нет).
Из подвигов Мелькарта поэт на первом месте называет борьбу с Лернейской гидрой (точнее, была представлена уже поверженная гидра с отрубленными змеиными головами). Тема борьбы героев с чудовищными змеями и драконами была широко распространена в мифологии как Греции, так и Востока. На месопотамских печатях мы находим изображение борьбы героя, одного или с товарищем, с пятиголовой змеей или семиголовым драконом, на спине которого горят шесть языков пламени, что напоминает о победе Геракла, уничтожившего чудовище с помощью Иолая, прижигавшего шеи гидры, чтобы у нее не отросли новые головы. Шумерский Гильгамеш сражается со змеей, притаившейся в корнях могучей ивы, посаженной богиней Инанной. В Библии сохранились упоминания о борьбе бога со страшным змием Левиафаном (Jes. XXVII, 1; Ps. LXXIV, 14). Очень важно, что в угаритской поэме о Баале рассказывается, что этот бог поразил Йамму, приносящего злого змия, властелина с семью головами (I AB, I, 1-3; V AB, D, 38-39). Встречается этот сюжет и в сказаниях других народов. Таким образом, миф о борьбе бога или героя с драконом или змеей или чем-то подобным не стоит одиноко, в том числе и в ханаанской мифологии, и поэтому вполне возможно, что тирскому Мелькарту, как и угаритскому Баалу, приписывалась такая борьба.
Что касается второго подвига Мелькарта, борьбы со львом, то эта тема также широко представлена в сказаниях различных народов. В «Эпосе о Гильгамеше» («О все видавшем») подобные деяния приписываются и Энкиду (II, III, 28-32), и самому Гильгамешу (IX, 1, 14-18). Можно вспомнить и знаменитого библейского Самсона (Iud. XIV, 6). В рассказе о Баале не встречается описания такого сражения, но владения бога смерти Мота, врага Баала, постоянно называются полем львов Мамету (I AB, VI, 7). Лев здесь, видимо, предстает как существо, враждебное Баалу. На двух серебряных чашах, найденных на Кипре, в финикийском Китии, изображена борьба бородатого персонажа со львом и безбородого с грифоном. На одной чаше борец со львом был представлен в египетском виде, на другой — в месопотамском, что характерно для финикийского искусства, в котором перекрещивались египетские и ассиро-вавилонские влияния. В бородатом герое надо признать Мелькарта, а его спутника обычно считают Эшмуном. Изображение воина, сражающегося при поддержке грифона со львом, мы видим на пластине из слоновой кости, найденной в южной Испании около Кармоны. Поскольку Китий долгое время подчинялся Тиру, а кармонская пластина была создана, скорее всего, испано-финикийским резчиком, ведущим свое происхождение от тирийцев (финикийские колонии в Испании имели своей метрополией Тир), то эти памятники дают прямое свидетельство тирского мифа о борьбе Мелькарта со львом.
Третьим деянием бога, изображенным на воротах, была победа над адским псом Кербером. Точных параллелей такому событию мы пока не находим в восточной литературе. Однако тема спуска божества или героя в подземный мир и тема борьбы с существами этого мира встречается повсеместно. Через море смерти в жилище бессмертного Утнапишти переправляется Гильгамеш (IX, IV, 2-11). Несомненно, что в подземном мире должны были побывать умершие и воскресшие боги, как Таммуз и Адонис. То же самое относится и к Баалу. Мот погубил этого бога, но тот затем воскрес. А далее рассказывается о борьбе Баала и Мота. В нее вмешивается богиня солнца Шапаш, заставившая Мота окончательно покориться (I AB, VI, 16-32). По словам Силия Италика, в этой сцене присутствует Мегера, боящаяся цепей. Не мог ли римский автор или его источник принять за Мегеру фигуру богини солнца? Античный Кербер всегда изображался в виде пса, иногда даже многоголового и многотелого (Eitrem. Kerberos, RE, HlBd. 21). На одной из китийских чаш виден бородатый человек, в котором, как только что было сказано, признается Мелькарт, несущий на плечах пса.
Среди других подвигов Мелькарта была изображена и борьба с великаном Антеем. Тема борьбы с гигантами широко представлена на Востоке. Это и убийство страшного Хумбабы Гильгамешем и Энкиду (Эпос о Гильгамеше, V), и победа юного Давида над великаном Голиафом (I Sam. XVII, 40-51). Можно найти параллели и к некоторым другим победам тирского бога. Ахелой в эллинистическую и римскую эпоху изображался в виде быка с человеческой головой. Нечто подобное должно было быть и на воротах храма. Похожие изображения известны и в восточном искусстве, например, на передке арфы, найденной в царской могиле в Уре, представлен персонаж, борющийся с двумя быками с человеческими лицами.
Гадитанский Геркулес сражался с вепрем. Египтяне рассказывали о борьбе Гора с Сетом, причем последний выступал в виде черного борова. Неудивительно и появление оленя среди фигур, связанных с Мелькартом, ибо лань была связана с культом этого божества: она кормила божественного младенца на рельефе со сценой рождения Мелькарта.²
_______________________________
[2] Сравн. с мифом о Зевсе, вскормленном в младенчестве козой Амалфеей (Ἀμάλθεια). Впоследствии, сняв шкуру с кормилицы, Зевс сотворил себе из нее непробиваемый щит-эгиду (αἰγίδος, «козья шкура»).
И хотя другие сюжеты пока еще не имеют точных или близких аналогий, все же приведенных достаточно для утверждения, что подвиги Мелькарта находятся целиком в сфере древневосточных мифологических представлений.
Каков же смысл тех эпизодов, которые были представлены на воротах гадитанского Гераклейона? В греческой мифологии (у Гесиода) Кербер, Лернейская гидра и Немейский лев считаются детьми Ехидны и Тифона (Theog., 306-332), чудовищ, связанных со страшными хтоническими силами. Подобные идеи должны были быть и у финикийцев. В финикийском мире змеи символизировали водный поток, пробивающийся из земли. В представлениях многих народов собака была связана со смертью как образ души умершего. По-видимому, борьба Мелькарта с Гидрой, львом и Кербером изображала в мифологическом виде борьбу с тремя проявлениями хтонических сил: выходящими из земли водами, наземными чудовищами (представлены львом) и страшными порождениями подземного царства. Следующие три подвига Мелькарта, по существу, повторяют те же мотивы. Кони связаны с загробным миром у греков, этрусков и во всем Средиземноморье; олень был водным символом; кабан мог воплощать наземные силы. Наконец, та же сущность была, по-видимому, и у остальных трех жертв Мелькарта: великан, кентавры (точнее, какие-то существа, принятые римским автором за кентавров), человекоголовый бык. В месопотамском эпосе великан Хумбаба неразрывен с выросшим из земли кедром (эпос о Гильгамеше, V). Бык у многих народов воплощает неудержимый водный поток. «Кентавры», какие-то существа, подобные коням, как и те, возможно, имели связи с миром смерти.
Таким образом, представляется, что в изображениях на воротах Гераклейона в Гадесе перед нами трижды повторенные аналогичные мотивы борьбы бога с темными порождениями хтонических сил. Троекратное повторение одного и того же, как известно, имеет всегда большое значение в фольклоре различных народов; оно как бы утверждает, упрочивает особую значимость события. Это видно, например, в библейском рассказе о патриархах: три было патриарха (Авраам, Исаак и Иаков), и всем трем бог обещал сделать их род многочисленным, а землю, где они живут, отдать во владение их потомкам (Gen. XVII, 1-8; XXVI, 35; XXVIII, 13-15). Интересно также, что первое обещание дал бог Аврааму, когда тому было 99 лет, т.е. число, кратное трем. Вероятнее всего, что и при изложении Мелькартовых деяний троекратное повторение одного и того же в разных формах должно было усилить и утвердить значение его трудов. И следующее, десятое, событие — смерть и воскрешение Мелькарта. Оно воспринимается как заключительный триумф всей его многотрудной жизни, заполненной борьбой с чудовищами земли, водной стихии и подземного мира. Всем им Мелькарт противостоит как светлое начало.
Такие мифы должны были относиться к божеству, связанному с солнцем. Подвиги Мелькарта напоминают деяния Гильгамеша и частично Самсона. А солнечный характер этих персонажей несомненен. Гибель и возрождение тирского бога связывается с огнем (Нонн называет его даже повелителем огня — Dionys. XL, 369), и этот огонь может рассматриваться как воплощение солнечного. Несомненный солярный характер придает тирскому Гераклу Нонн, называя его Гелиосом, пастырем человеческой жизни, скачущим по всему небу сверкающим диском, ведущим круг за кругом двенадцатимесячный год (Dionys. XL, 370-374). Однако трудно сказать, в какой степени Нонн деформировал древнее финикийское предание в духе позднеантичного синкретизма. Но обратим внимание на легенду, рассказанную Макробием, о неудачной попытке нападения царя Ближней Испании Ферона на Гадес (Saturn. 1, 20, 12). Там говорится о сожжении царских кораблей лучами, подобными солнечным, и о явлении львов на носах гадитанских судов. А. Шультен, исследовавший этот рассказ, убедительно доказал, что упоминаемая в нем Ближняя Испания не римская Hispania Citerior, а греческая ἡ πλησιόχωρος Ἰβηρία (близлежащая Иберия), название которой было неправильно понято Макробием или его непосредственным источником. Все симпатии автора этого рассказа на стороне гадитан, и можно быть уверенным, что по своему происхождению легенда — финикийская. Спасение Гадеса естественно надо ожидать от бога-покровителя города, каким был Мелькарт, тем более что непосредственной целью нападения был, по Макробию, именно храм Геркулеса, и сам Макробий вставил это повествование в рассуждение о Геркулесе. В этой легенде содержится историческое зерно: сообщение о морской битве между гадитанами и тартессиями. Так как Тартесс пал, вероятнее всего, в самом начале V в. до н.э., то сказание о помощи бога своему городу возникло не позже этого времени. Следовательно, Мелькарт имел частично солнечный характер уже в первой половине I тыс. до н.э.
Имя Мелькарта обычно считают стяжательной формой Melek qart и переводят как «царь города», подразумевая под этим городом Тир. Двуязычное (финикийско-греческое) посвящение этому богу, найденное на Мальте, сделанное братьями-тирийцами, называет бога «владыкой Тира» — Баал Цор.³ Перед нами один из местных «владык», баалов, каких было много в финикийской религии, как Баал Цидон («владыка Сидона»), Баалат Гебал («владычица Библа»). В образах этих «владык» финикийцы олицетворяли все ценное и желанное данным городом, племенем, общественной группой. Однако когда мы обращаемся к мифам, о которых говорилось выше, то не можем не заметить, что они относятся только к аграрному и солярному аспектам Мелькарта. Эти мифы принадлежат более древнему слою тирской мифологии, когда город, видимо, не приобрел еще значение как морской и торговый центр, метрополия многочисленных колоний, производитель пурпура. Мифы, связанные с этими сторонами жизни Тира, должны быть моложе рассмотренных.
_______________________________
[3] Цор — финикийское название города Тир, что означает «скала». Тир располагался на небольшом скалистом островке вблизи побережья.
Далекие экспедиции тирских мореходов отразились, вероятно, в мифах о походах Мелькарта. К сожалению, от этих мифов почти ничего не сохранилось. Только у Саллюстия (Jug. 18, 2-3), ссылающегося при этом на афров, т.е., по-видимому, на африканских финикийцев, есть упоминание о походе Геркулеса в Испанию, где он и погиб, а его разноплеменное войско распалось, и часть его переправилась в Африку. Разумеется, здесь идет речь о финикийском Геркулесе-Мелькарте.
Существовали ли рассказы о походах Мелькарта в непосредственной близости от Тира, предшествующие перенесению его деяний в далекие страны, неизвестно. Можно лишь полагать, что сказания о далеких путешествиях возникли с развитием одиссеи тирской колонизации.
Характерно, что в той мальтийской надписи, в которой в финикийской части Мелькарт именуется баалом Тира, в греческой этому титулу соответствует «архегет». Архегет, предводитель — такой эпитет хорошо подходит богу, покровителю далеких переходов и основания колоний. В греческой мифологии такую роль играл Аполлон (ср. Thuc. VI, 3 и Pind. Pith. V, 60-61, где этому богу придается такой эпитет именно в связи с колонизацией: основанием Наксоса в одном случае и Кирены в другом). У Элия Аристида (Or. 27, 5) мы находим даже рассуждение о различии между функциями Аполлона как экзегета (ἐξηγητής, «предводитель, [ис]толкователь») и архегета (ἀρχηγέτης, «основатель, предводитель»): в последнем случае он выступает как непосредственный ойкист (οἰκιστής, «колонизатор»), а в первом — как посылающий других создавать новые города. Таким образом, Мелькарт-архегет выступает как руководитель колонизации. В связи с этим вспоминается рассказ об основании Гадеса (Strabo, III, 5, 5), где говорится о посылке колонизационной экспедиции по велению оракула. Источником этого рассказа является, как пишет Страбон, гадитанское повествование. Видимо, существовал какой-то миф об основании Гадеса, в котором значительная роль приписывалась приказу оракула Мелькарта.
Будучи баалом Тира, Мелькарт не мог не приобрести и черт морского божества. Это, в частности, отразилось в мифе об основании Тира, как он изложен Нонном (Dionys. XL, 443-534). Здесь рассказывается, что Геракл призывает основателей материкового Тира построить корабль и, переправившись на блуждающие в море Амбросийские скалы и принеся там жертву, остановить скалы и построить на них город. Этот призыв был выполнен, и на островах возник собственно Тир. Строители корабля пользовались в качестве образца рыбой навтил, представленной им Гераклом.
В связи с этим возникает проблема взаимоотношений Мелькарта с греческим Меликертом, одним из второстепенных морских божеств Эллады, ранее сыном смертной женщины Ино, которая бросилась в море с младенцем на руках. Оба превратились в морских божеств: Ино в Левкотею,⁴ а Меликерт — в Палемона⁵ (Apollod. III, 4, 3; Ovid. Met. IV, 512 сл). Ранее признавалось тождество образов Мелькарта и Меликерта. Позже это мнение категорически отвергалось, а в последнее время вновь стало защищаться. Ино в греческом мифе считалась дочерью финикийца Кадма (уже у Гомера — Od. V, 333-334). Возможно, что Ино — культовое имя богини Илифии, во всяком случае в греческой литературе эти два имени иногда относятся к одному образу. По Страбону (V, 2, 8), в этрусском городе Пиргах имелось очень древнее святилище Илифии. Раскопки, проведенные здесь, дали фрагменты греческой керамики с выцарапанным на них именем Ино, а позже — знаменитые золотые таблички с финикийской и двумя этрусскими надписями, в которых встречается отождествление этрусской богини Уни с Астартой. Можно считать, таким образом, что Ино-Левкотея-Илифия также, по крайней мере, на Западе, идентифицировалась с этой финикийской богиней. Астарта же, как мы видели, считалась матерью Мелькарта. Итак, оба божества, Мелькарт и Меликерт, были рождены одной и той же богиней: Илифией-Ино-Левкотеей-Уни-Астартой.
_______________________________
[4] Λευκοθέα ἡ Левкотея, «Белая богиня» (культовое имя Ино как морской богини) Hom., Pind., Arst.
[5] Παλαίμων (-ονος) ὁ Палемон, «Борец» (эпитет Меликерта, сына Ино-Левкотеи) Eur.
С Меликертом был связан дельфин; именно он подхватил падающего в море ребенка. Меликерт на дельфине изображается на коринфских монетах. Этот же морской зверь появляется на самых ранних монетах Тира (450-400 до н.э.). На тирских монетах следующего десятилетия мы видим Мелькарта, мчащегося на гиппокампе, а внизу, под двойной линией волн, — дельфина. В чеканке Гадеса также появляется дельфин.
Надо обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Меликерт становится морским божеством под именем Палемона. Но Палемон — один из эпитетов Геракла (Hesych.). Существовал также миф о рождении Палемона от Геракла и вдовы Антея (Pherekid. fr. 33e, FHG 1, 80). Следовательно, этот бог включается в Гераклов мифологический цикл, хотя первоначально он, по-видимому, с ним не был связан. Возможно, после появления устойчивого отождествления Геракла с Мелькартом мифы о Меликерте соединяются со сказаниями о Геракле.
Поэтому можно полагать, что греческая сага о Меликерте воспроизводит (возможно, частично в измененном виде) финикийские рассказы о Мелькарте. Если это так, то перед нами еще один (третий) вариант предания о гибели и возрождении тирского бога. Каждый вариант связан с одним аспектом его культа: убийство Тифоном и воскрешение при помощи запаха прилетающих весной перепелов — аграрным, смерть и возрождение в огне — солнечным, гибель и апофеоз в водной пучине — морским.
Своему владыке тирийцы приписывали и открытие пурпура, игравшего столь важную роль в экономике их города. Этот миф передан Поллуксом (Onom., 1, 45 сл.; также Nonn. Dionys., 305). По его словам, во время охоты Геракла около Тира его собака, раскусив пурпурную раковину, окрасила красным цветом пасть, а восхищенная красотой краски возлюбленная героя нимфа Тир (и в греческом и в финикийском языках город женского рода) убедила Геракла окрасить свою одежду, что и привело к открытию пурпурной окраски.
Итак, можно прийти к следующим выводам. В мифах о Мелькарте выделяются два слоя. Первый из них, более древний, относится к Мелькарту как аграрному и солярному божеству. То, что земледелие играло в Тире значительную роль, несомненно; оно отмечено еще во II тыс. до н.э., существовало и в I тыс. до н.э. В этих древних сказаниях тирский бог предстает перед нами как воплощение умирающей и воскресающей природы, как символ закатывающегося и поднимающегося в огненной заре солнца, как герой, освобождающий землю от темных порождений хтонических сил.
Ко второму слою относятся мифы, связанные с покровительством дальним походам, с морскими функциями бога, с открытием пурпура. Когда возник этот слой сказаний? Ответ во многом зависит от решения вопроса о начале заморской экспедиции Тира. По преданию, древнейшие тирские колонии на крайнем Западе появились уже в конце II тыс. до н.э., в XII в. до н.э. (Plin. N. h. XIX, 63; Vel. Pat. I, 2, 3; Mela, III, 46). Однако многие современные исследователи отвергают столь высокую датировку. Сейчас невозможно обсуждать данный вопрос, хотя даты, сообщенные античными авторами, представляются приемлемыми. С другой стороны, идентификация Мелькарта и Геракла произошла, по-видимому, на Кипре, где сосуществовали, тесно соприкасаясь друг с другом, финикийская и греческая культуры, не позже VI в. до н.э. Если же в сказании о Меликерте воспроизведен в той или иной форме миф о Мелькарте, то это воспроизведение должно было произойти до отождествления финикийского божества с сыном Алкмены, ибо позже ни с каким другим персонажем эллинской мифологии Мелькарт не связывался. Впрочем, возникновение саги о Меликерте надо отнести и к еще более древнему времени. Его культ связан с Истмом, где в его честь устраивались Истмийские игры (Apollod., III, 4, 3), и с Беотией, в которой царствовал его отец Амафант, родиной его матери Ино, дочери финикийца Кадма, основателя беотийских Фив (Apollod. I, 9, 1; III, 4, 1-3). Из этих областей вторая в микенскую эпоху была связана с Востоком, в том числе с Финикией, как доказывает находка более трех десятков восточных лазуритовых цилиндров во втором дворце фиванской Кадмеи. Эти связи предшествовали разрушению Фив в XII — нач. XI вв. до н.э. Это было также время греко-финикийских контактов в языковой и литературной сферах. То, что у Гомера (Od., 333-335) упоминается богиня Левкотея, бывшая ранее смертной женщиной Ино, может говорить и о том, что в гомеровское время был известен и весь миф, включая и сообщение о прыжке Ино в море с Меликертом на руках. Все эти рассуждения приводят нас к мысли, что сказание о Меликерте появилось в Греции в микенскую эпоху. Отсюда естественен вывод, что и миф о Мелькарте, связанный с его функциями морского божества, уже существовал, по крайней мере, во второй половине II тыс. до н.э.
Приблизительно к этому же времени должно относиться и предание об этом боге, относящееся к открытию пурпура. Уже в X в. до н.э., если верить Библии (II Chron. IX, 14), Тир славился мастерами, изготовляющими пурпурную краску и окрашивающими ею одежды. А вообще использование пурпура было известно финикийцам уже в середине II тыс. до н.э.
Итак, второй, более молодой слой цикла тирских мифов о Мелькарте возникает не позже второй половины II тыс. до н.э. Когда появился первый пласт этого мифологического круга, определить трудно. Можно думать, что он приблизительно современен возникновению самого города — не позже первой половины III тыс. до н.э. Недаром жрецы тирского храма Мелькарта рассказывали Геродоту об основании храма одновременно с городом (Her., II, 44).
Мы ограничились в данной статье изложением тех мифов, в которых под эллинским или латинским именем несомненно или очень вероятно выступало тирское божество. При этом мы сосредоточили внимание на мифологии, совершенно или почти не касаясь других очень важных сторон культа Мелькарта.
_______________________________
МИФОЛОГИЯ МЕЛЬКАРТА
В жизни финикийцев, как и всех других народов древности, религия играла очень большую роль. Открытие в Угарите религиозных и мифологических текстов XIV-XIII вв. до н.э. дало нам представление о религии этого времени. К сожалению, подобных текстов, относящихся к другим центрам и более позднему времени, не сохранилось. В нашем распоряжении имеется только сравнительно небольшое количество надписей, остатки финикийских мифов, воспроизведенные античными авторами, да указания монет и фигуративных памятников, которых тоже немного. Обычна идентификация финикийских и греко-римских божеств. Это, с одной стороны, облегчает установление сущности того или иного финикийского божества, но, с другой, делает подчас трудным выяснение, идет ли речь о персонаже финикийского или чисто греческого или римского культа. Поэтому ни в одной области истории финикийской культуры нет столько неопределенностей и гипотез, иногда совершенно недоказуемых, сколько в истории финикийской религии железного века. Это относится и к культу Мелькарта, бога-покровителя Тира.
Тирские мореходы обошли весь бассейн Средиземного моря и вышли в Атлантический океан. В Африке, Сицилии, Сардинии, Испании возникают колонии Тира. Колонисты вступают в многообразные связи с окружающим населением и передают ему, в частности, некоторые элементы своей культуры, в том числе и религиозные представления. Финикийские культы оказывают значительное влияние на культы других народов Средиземноморья, не исключая греков, этрусков и римлян. И при этом особо выделяется культ главного тирского бога Мелькарта, которого греки отождествляли с Гераклом, а римляне — с Геркулесом. Храм этого бога в Гадесе, тирской колонии в Испании, был одним из самых знаменитых святилищ древности, и слава его распространялась по всему Средиземноморью. Возникнув, видимо, в конце II тыс. до н.э., он существовал до самого конца язычества. Последние сведения о нем относятся к концу IV в. н.э.
Все это привлекает особое внимание к культу Мелькарта-Геракла. Различным аспектам этого культа и его истории посвящено несколько интересных, хотя в некоторых случаях и дискуссионных, работ. Однако гораздо меньше, чем того заслуживают, изучаются мифы об этом боге. Это объясняется, в основном, тем, что собственно памятников финикийской литературы, как уже отмечалось, практически не сохранилось. Но нам кажется, что и имеющийся материал (пересказы античных писателей) все же позволяет определить наличие мифологического цикла, связанного с Мелькартом. В настоящей статье ставится задача выяснить содержание этого цикла.
О рождении Мелькарта сохранились очень скудные упоминания греческих и римских авторов. Филон Библский (Euseb. Praep. ev. 1, 10, 27) мимоходом отмечает, что Мелькарт (он же Геракл, прибавляет греческий автор) был сыном Демаруса, которого он же отождествляет с Зевсом (там же говорится, что Демарус был сыном Эла, т.е. Крона). Если раньше сообщение Филона об использовании им финикийского оригинала Санхуниатона, мудреца времени Троянской войны, вызывало сомнения, то теперь в принципе его принимают, ибо открытие угаритских текстов наглядно показало существование обширной финикийской литературы II тысячелетия. В произведении Филона имеются как греческие черты, внесенные автором греко-римского времени, так и собственно финикийские, причем к последним относится упоминание Мелькарта.
Вторично указание на это божество мы встречаем у Цицерона (de nat. deor., III, 16, 42), который упоминает среди нескольких Геркулесов и сына Юпитера и Астерии, которого более всего почитают в Тире. В Астерии, матери тирского Геркулеса, обычно видят Астарту. Сохранился интересный барельеф, найденный в Тире, на котором изображена женщина, видимо роженица, внизу лань, кормящая ребенка, к которому ползет змея, и здесь же орел и воспламененное дерево, обвитое змеей. То, что перед нами сцена рождения Мелькарта, несомненно. О священной оливе, побеги которой лижут языки пламени, говорит Ахилл Татий, упоминая о святилище в Тире (II, 14).
Интересный эпизод содержится в поздней поэме Нонна «Дионисиака» (XL, 469-600): Геракл потребовал переправиться на блуждающие острова, и там люди должны увидеть огромную оливу, на вершине которой сидит орел; само дерево охвачено огнем, пожирающим все вокруг, но не трогающим его; вокруг ствола обвилась змея, с угрозами ползущая к орлу; надо принести орла в жертву Посейдону, Зевсу и блаженным, и тогда скалы перестанут блуждать, и на них надо будет основать город (т.е. Тир). Подробное исследование этой поэмы показало, что основным источником повествования греческого поэта, в данном случае, является местное финикийское предание. Следовательно, нонновский Геракл, божественный основатель Тира, не кто иной, как Мелькарт. Таким образом, изображенное на рельефе пламенеющее дерево, обвитое змеей, и орел имеют прямое отношение к культу Мелькарта. Возможно, что в римское время (а рельеф относится именно к этому времени) орел мог смешиваться с атрибутикой Зевса-Юпитера, отца тирского бога.
Итак, перед нами сцена рождения Мелькарта Астартой. Таким образом, можно быть уверенным в том, что финикийцы, по крайней мере, тирийцы, считали Мелькарта сыном Демаруса и Астарты. Они явно, судя по барельефу, почитали его рождение. Однако еще больше отмечалась почитателями смерть и воскрешение Мелькарта. Евдокс Книдский (Ath. IX, 47, 392) рассказывает, со слов финикийцев, что Геракл, сын Астерии и Зевса, был убит в Ливии Тифоном и воскрешен Иолаем, давшим ему понюхать запах перепела. Указывая на происхождение героя, автор ясно дает понять, что речь идет не о фиванском Геракле, сыне Зевса и Алкмены, а о тирском. К этому же тексту Евдокса восходит и рассказ Зиновия (Cent. V, 56), где недвусмысленно упоминается Геракл Тирский.
Сохранился след сказания о его смерти в огне, причем локализуется это событие в самом Тире (Ps. Clem. Recogn., 10, 24). Намек на подобный тирский миф содержится и у Нонна (Dionys., XL, 58), где говорится о Геракле, уничтожившем в огне старость и принявшем из огня юность. По Менандру Эфесскому (у Ios. Ant. VIII, 5, 3 и contra App. 1, 18), при царе Хираме I (X в. до н.э.) в Тире стали отмечать праздник «пробуждения» Геракла в месяце перитии, т.е. в феврале-марте. Этот миф имел и вариант, по которому смерть (вероятно, и «пробуждение») Мелькарта локализуется на западе, в Испании. Так, Саллюстий, ссылаясь на афров, т.е., вероятнее всего, африканских финикийцев, упоминает о гибели Геркулеса в Испании (Jug. 18, 3). По словам Мелы (III, 46), в гадитанском храме находилась могила этого бога. Туманный намек Павсания (IX, 4, 6) позволяет говорить о празднике смерти и воскрешения Мелькарта в Гадесе. Во время этого праздника из города изгоняли всех иностранцев и сжигали изображение бога, сидящего на гиппокампе. Может быть, с этим же связано и странное сообщение Филострата, что гадитане, единственные из людей, воспевают смерть (Apoll. Tyan. V, 4).
Это сказание рисует образ гибнущего и возрождающегося бога — подобно библскому Адонису, месопотамскому Таммузу или египетскому Осирису, с которым его связывает и имя убийцы. Перед нами божество, олицетворяющее умирающую и возрождающуюся растительность. Недаром праздник его «пробуждения» отмечался весной, в момент прекращения зимних дождей и появления первых почек.
Но кто убил Мелькарта, какой персонаж финикийской мифологии скрывается под греческим именем Тифона? С Тифоном греческие авторы обычно отождествляли египетского бога Сета, убийцу Осириса. Это отождествление встречается уже у Геродота (II, 144). В египетской религии Сет рассматривался сначала как бог восточного рукава нильской дельты, затем — восточной границы Египта и, наконец, как бог иностранцев и восточной пустыни. Он олицетворяет солнечный зной, губительный для жизни. Видимо, он был богом-скотоводом в противоположность богу земледельцев «черной земли» — Египта (tȝ-kmt, Та-Кемет).
Подобные черты встречаются и у Мота, который в угаритских мифах выступает как бог смерти и противник Баала. Его царство называется страной пастбищ, прекрасным лугом, полем львов Мамету (I AB, VI, 6-7; 29-30). Оно противопоставляется земле Баала, земледельческого бога умирающей и воскресающей растительности. Как Сет издавна был богом непогоды и ветра, дующего из пустыни и губящего все живое, так и Мот предстает владыкой засухи и пустыни. Правда, в египетских текстах Сет отождествляется именно с Баалом, а не с его врагом, но это, по-видимому, объясняется тем, что Сет считался эквивалентом вообще каждого азиатского бога, и, следовательно, с принятием в египетский пантеон Баала его должны были отождествлять именно с Сетом, несмотря на различие между ними. Если наши рассуждения верны, то Тифон, убивший Мелькарта, не кто иной, как финикийский вариант Сета — Мот.
Так как финикийцы рассказывали о рождении и смерти Мелькарта, то должны были существовать и сказания о событиях его «земной жизни», состоявшихся между появлением на свет и гибелью. Отождествление с Гераклом подсказывает, что этот промежуток «биографии» бога был заполнен походами и подвигами. Об этих подвигах античные авторы молчат, и можно только гадать или путем сложных сопоставлений выяснять, какое из деяний греческого героя имеет в своей основе финикийский миф. Однако обратим внимание на описание ворот гадитанского Гераклейона, данное Силием Италиком. Дени ван Берхем справедливо отмечает, что храм в Гадесе был в I в. н.э., во времена Силия Италика, слишком известен, чтобы даже такой поэт, как он, мог позволить себе фантастические утверждения. Поэтому рассмотрим внимательно те изображения, которые, по словам поэта, украшали ворота святилища Геркулеса.
В поэме говорится, что на воротах храма были изображены «труды Алкида», и далее они кратко перечисляются: Лернейская гидра, Немейский лев (автор его называет Клеонейским), Стигийский привратник (т.е. адский пес Кербер), фракийские кони, Эриманфский вепрь, медноногий олень (Керинейская лань), поверженный Антей, Кентавр, Ахелой (Акарнанский поток) и, наконец, сожжение героя на Эте, с которой «великую душу уносит к звездам пламя» (Sil. It. III, 32-44).
Прежде всего бросается в глаза, что перед нами не традиционные двенадцать подвигов, а набор из десяти эпизодов «биографии», включая смерть на костре. К тому же, наряду с шестью подвигами, включаемыми в классический додекатлос,¹ имеются четыре, которые, хотя и известны из античной литературы, в этот список не входят. А. Гарсиа и Бельидо полагает, что изображения на воротах гадитанского храма были созданы до каталогизации подвигов, которая имела место, по его мнению, на рубеже VI-V вв. до н.э., и, следовательно, отражают эллинизацию святилища в VI в. Однако проблема происхождения цикла двенадцати подвигов Геракла далека от разрешения. Если М. Нильссон относит время возникновения додекатлоса к микенской эпохе, то Ф. Броммер считает, что этот каталог был создан только во времена эллинизма. Во всяком случае, о некоторых подвигах знает уже Гомер, хотя конкретно упоминается только увод Кербера (Il. VIII, 363-369; Od. XI, 623-626). Гесиод называет ряд рожденных богами жертв Геракловой силы: Гериона (Theog. 287-294), Гесперид (Theog. 275), Кербера (Theog. 310), Лернейскую гидру (Theog. 313-315), Немейского льва (Theog. 327-333). Некоторых из этих персонажей мы встречаем в Гадесе, другие там отсутствуют. И это отсутствие весьма красноречиво.
_______________________________
[1] δωδέκαθλος (δωδέκ-αθλος) ἡ список двенадцати подвигов Геракла.
Среди подвигов гадитанского Геркулеса мы не видим ни похищения яблок Гесперид, ни поддержки неба Атлантом, ни борьбы с Герионом. Мифы эти весьма древние, упоминаются уже Гесиодом, а сказание о похищении яблок Гесперид существовало, возможно, и в микенской Греции. Между тем в греческой мифологии все эти события локализуются обычно на крайнем западе, т.е. в сфере гадитанской цивилизации. И особенно важно, что здесь не упоминается о борьбе героя с Герионом. Об этой борьбе рассказывает Гесиод, локализуя ее на острове Эрифии. Уже Стесихор (у Strabo, III, 2, 11) связывает Гериона с Тартессом. А Эфор и Филистид Эрифию считают тем же островом, что и остров Гадеса (Plin. N.h. IV, 22). И было бы очень странно, если гадитанские жрецы, избрав греческий образец для украшения храма, пренебрегли теми сказаниями, которые, казалось бы, имеют непосредственное отношение к окружающей местности и, может быть, даже к самому их городу.
С другой стороны, среди сцен из «биографии» героя на гадитанских воротах встречается изображение его смерти. Этот сюжет сравнительно редко встречается в греческом изобразительном искусстве. Но зато в Гадесе, как мы видели, смерть и последующее воскресение Мелькарта почитались особенно, и существовало даже поверье о нахождении именно в этом городе могилы бога. Стоит обратить внимание на слова поэта, что на воротах было показано, как «душу уносит к звездам пламя». Вероятно, здесь была представлена поднимающаяся из пламени фигура героя. Вспомним, что, по Нонну Геракл уничтожал в огне старость и принимал из огня юность. Вероятно, в описываемой Силием Италиком сцене и показывалось, как из огня поднимался обновленный бог.
Все сказанное приводит нас к мысли, что на воротах Гераклейона в Гадесе были не изображения греческих мифов, а воспроизведения финикийских сказаний о Мелькарте. Конечно, нельзя полностью исключать влияние эллинской мифологии и искусства. Но и в таком случае избирались только те сюжеты, которые аналогичны темам подвигов и страданий Мелькарта (независимо от того, существовал ли уже канонизированный список додекатлоса или нет).
Из подвигов Мелькарта поэт на первом месте называет борьбу с Лернейской гидрой (точнее, была представлена уже поверженная гидра с отрубленными змеиными головами). Тема борьбы героев с чудовищными змеями и драконами была широко распространена в мифологии как Греции, так и Востока. На месопотамских печатях мы находим изображение борьбы героя, одного или с товарищем, с пятиголовой змеей или семиголовым драконом, на спине которого горят шесть языков пламени, что напоминает о победе Геракла, уничтожившего чудовище с помощью Иолая, прижигавшего шеи гидры, чтобы у нее не отросли новые головы. Шумерский Гильгамеш сражается со змеей, притаившейся в корнях могучей ивы, посаженной богиней Инанной. В Библии сохранились упоминания о борьбе бога со страшным змием Левиафаном (Jes. XXVII, 1; Ps. LXXIV, 14). Очень важно, что в угаритской поэме о Баале рассказывается, что этот бог поразил Йамму, приносящего злого змия, властелина с семью головами (I AB, I, 1-3; V AB, D, 38-39). Встречается этот сюжет и в сказаниях других народов. Таким образом, миф о борьбе бога или героя с драконом или змеей или чем-то подобным не стоит одиноко, в том числе и в ханаанской мифологии, и поэтому вполне возможно, что тирскому Мелькарту, как и угаритскому Баалу, приписывалась такая борьба.
Что касается второго подвига Мелькарта, борьбы со львом, то эта тема также широко представлена в сказаниях различных народов. В «Эпосе о Гильгамеше» («О все видавшем») подобные деяния приписываются и Энкиду (II, III, 28-32), и самому Гильгамешу (IX, 1, 14-18). Можно вспомнить и знаменитого библейского Самсона (Iud. XIV, 6). В рассказе о Баале не встречается описания такого сражения, но владения бога смерти Мота, врага Баала, постоянно называются полем львов Мамету (I AB, VI, 7). Лев здесь, видимо, предстает как существо, враждебное Баалу. На двух серебряных чашах, найденных на Кипре, в финикийском Китии, изображена борьба бородатого персонажа со львом и безбородого с грифоном. На одной чаше борец со львом был представлен в египетском виде, на другой — в месопотамском, что характерно для финикийского искусства, в котором перекрещивались египетские и ассиро-вавилонские влияния. В бородатом герое надо признать Мелькарта, а его спутника обычно считают Эшмуном. Изображение воина, сражающегося при поддержке грифона со львом, мы видим на пластине из слоновой кости, найденной в южной Испании около Кармоны. Поскольку Китий долгое время подчинялся Тиру, а кармонская пластина была создана, скорее всего, испано-финикийским резчиком, ведущим свое происхождение от тирийцев (финикийские колонии в Испании имели своей метрополией Тир), то эти памятники дают прямое свидетельство тирского мифа о борьбе Мелькарта со львом.
Третьим деянием бога, изображенным на воротах, была победа над адским псом Кербером. Точных параллелей такому событию мы пока не находим в восточной литературе. Однако тема спуска божества или героя в подземный мир и тема борьбы с существами этого мира встречается повсеместно. Через море смерти в жилище бессмертного Утнапишти переправляется Гильгамеш (IX, IV, 2-11). Несомненно, что в подземном мире должны были побывать умершие и воскресшие боги, как Таммуз и Адонис. То же самое относится и к Баалу. Мот погубил этого бога, но тот затем воскрес. А далее рассказывается о борьбе Баала и Мота. В нее вмешивается богиня солнца Шапаш, заставившая Мота окончательно покориться (I AB, VI, 16-32). По словам Силия Италика, в этой сцене присутствует Мегера, боящаяся цепей. Не мог ли римский автор или его источник принять за Мегеру фигуру богини солнца? Античный Кербер всегда изображался в виде пса, иногда даже многоголового и многотелого (Eitrem. Kerberos, RE, HlBd. 21). На одной из китийских чаш виден бородатый человек, в котором, как только что было сказано, признается Мелькарт, несущий на плечах пса.
Среди других подвигов Мелькарта была изображена и борьба с великаном Антеем. Тема борьбы с гигантами широко представлена на Востоке. Это и убийство страшного Хумбабы Гильгамешем и Энкиду (Эпос о Гильгамеше, V), и победа юного Давида над великаном Голиафом (I Sam. XVII, 40-51). Можно найти параллели и к некоторым другим победам тирского бога. Ахелой в эллинистическую и римскую эпоху изображался в виде быка с человеческой головой. Нечто подобное должно было быть и на воротах храма. Похожие изображения известны и в восточном искусстве, например, на передке арфы, найденной в царской могиле в Уре, представлен персонаж, борющийся с двумя быками с человеческими лицами.
Гадитанский Геркулес сражался с вепрем. Египтяне рассказывали о борьбе Гора с Сетом, причем последний выступал в виде черного борова. Неудивительно и появление оленя среди фигур, связанных с Мелькартом, ибо лань была связана с культом этого божества: она кормила божественного младенца на рельефе со сценой рождения Мелькарта.²
_______________________________
[2] Сравн. с мифом о Зевсе, вскормленном в младенчестве козой Амалфеей (Ἀμάλθεια). Впоследствии, сняв шкуру с кормилицы, Зевс сотворил себе из нее непробиваемый щит-эгиду (αἰγίδος, «козья шкура»).
И хотя другие сюжеты пока еще не имеют точных или близких аналогий, все же приведенных достаточно для утверждения, что подвиги Мелькарта находятся целиком в сфере древневосточных мифологических представлений.
Каков же смысл тех эпизодов, которые были представлены на воротах гадитанского Гераклейона? В греческой мифологии (у Гесиода) Кербер, Лернейская гидра и Немейский лев считаются детьми Ехидны и Тифона (Theog., 306-332), чудовищ, связанных со страшными хтоническими силами. Подобные идеи должны были быть и у финикийцев. В финикийском мире змеи символизировали водный поток, пробивающийся из земли. В представлениях многих народов собака была связана со смертью как образ души умершего. По-видимому, борьба Мелькарта с Гидрой, львом и Кербером изображала в мифологическом виде борьбу с тремя проявлениями хтонических сил: выходящими из земли водами, наземными чудовищами (представлены львом) и страшными порождениями подземного царства. Следующие три подвига Мелькарта, по существу, повторяют те же мотивы. Кони связаны с загробным миром у греков, этрусков и во всем Средиземноморье; олень был водным символом; кабан мог воплощать наземные силы. Наконец, та же сущность была, по-видимому, и у остальных трех жертв Мелькарта: великан, кентавры (точнее, какие-то существа, принятые римским автором за кентавров), человекоголовый бык. В месопотамском эпосе великан Хумбаба неразрывен с выросшим из земли кедром (эпос о Гильгамеше, V). Бык у многих народов воплощает неудержимый водный поток. «Кентавры», какие-то существа, подобные коням, как и те, возможно, имели связи с миром смерти.
Таким образом, представляется, что в изображениях на воротах Гераклейона в Гадесе перед нами трижды повторенные аналогичные мотивы борьбы бога с темными порождениями хтонических сил. Троекратное повторение одного и того же, как известно, имеет всегда большое значение в фольклоре различных народов; оно как бы утверждает, упрочивает особую значимость события. Это видно, например, в библейском рассказе о патриархах: три было патриарха (Авраам, Исаак и Иаков), и всем трем бог обещал сделать их род многочисленным, а землю, где они живут, отдать во владение их потомкам (Gen. XVII, 1-8; XXVI, 35; XXVIII, 13-15). Интересно также, что первое обещание дал бог Аврааму, когда тому было 99 лет, т.е. число, кратное трем. Вероятнее всего, что и при изложении Мелькартовых деяний троекратное повторение одного и того же в разных формах должно было усилить и утвердить значение его трудов. И следующее, десятое, событие — смерть и воскрешение Мелькарта. Оно воспринимается как заключительный триумф всей его многотрудной жизни, заполненной борьбой с чудовищами земли, водной стихии и подземного мира. Всем им Мелькарт противостоит как светлое начало.
Такие мифы должны были относиться к божеству, связанному с солнцем. Подвиги Мелькарта напоминают деяния Гильгамеша и частично Самсона. А солнечный характер этих персонажей несомненен. Гибель и возрождение тирского бога связывается с огнем (Нонн называет его даже повелителем огня — Dionys. XL, 369), и этот огонь может рассматриваться как воплощение солнечного. Несомненный солярный характер придает тирскому Гераклу Нонн, называя его Гелиосом, пастырем человеческой жизни, скачущим по всему небу сверкающим диском, ведущим круг за кругом двенадцатимесячный год (Dionys. XL, 370-374). Однако трудно сказать, в какой степени Нонн деформировал древнее финикийское предание в духе позднеантичного синкретизма. Но обратим внимание на легенду, рассказанную Макробием, о неудачной попытке нападения царя Ближней Испании Ферона на Гадес (Saturn. 1, 20, 12). Там говорится о сожжении царских кораблей лучами, подобными солнечным, и о явлении львов на носах гадитанских судов. А. Шультен, исследовавший этот рассказ, убедительно доказал, что упоминаемая в нем Ближняя Испания не римская Hispania Citerior, а греческая ἡ πλησιόχωρος Ἰβηρία (близлежащая Иберия), название которой было неправильно понято Макробием или его непосредственным источником. Все симпатии автора этого рассказа на стороне гадитан, и можно быть уверенным, что по своему происхождению легенда — финикийская. Спасение Гадеса естественно надо ожидать от бога-покровителя города, каким был Мелькарт, тем более что непосредственной целью нападения был, по Макробию, именно храм Геркулеса, и сам Макробий вставил это повествование в рассуждение о Геркулесе. В этой легенде содержится историческое зерно: сообщение о морской битве между гадитанами и тартессиями. Так как Тартесс пал, вероятнее всего, в самом начале V в. до н.э., то сказание о помощи бога своему городу возникло не позже этого времени. Следовательно, Мелькарт имел частично солнечный характер уже в первой половине I тыс. до н.э.
Имя Мелькарта обычно считают стяжательной формой Melek qart и переводят как «царь города», подразумевая под этим городом Тир. Двуязычное (финикийско-греческое) посвящение этому богу, найденное на Мальте, сделанное братьями-тирийцами, называет бога «владыкой Тира» — Баал Цор.³ Перед нами один из местных «владык», баалов, каких было много в финикийской религии, как Баал Цидон («владыка Сидона»), Баалат Гебал («владычица Библа»). В образах этих «владык» финикийцы олицетворяли все ценное и желанное данным городом, племенем, общественной группой. Однако когда мы обращаемся к мифам, о которых говорилось выше, то не можем не заметить, что они относятся только к аграрному и солярному аспектам Мелькарта. Эти мифы принадлежат более древнему слою тирской мифологии, когда город, видимо, не приобрел еще значение как морской и торговый центр, метрополия многочисленных колоний, производитель пурпура. Мифы, связанные с этими сторонами жизни Тира, должны быть моложе рассмотренных.
_______________________________
[3] Цор — финикийское название города Тир, что означает «скала». Тир располагался на небольшом скалистом островке вблизи побережья.
Далекие экспедиции тирских мореходов отразились, вероятно, в мифах о походах Мелькарта. К сожалению, от этих мифов почти ничего не сохранилось. Только у Саллюстия (Jug. 18, 2-3), ссылающегося при этом на афров, т.е., по-видимому, на африканских финикийцев, есть упоминание о походе Геркулеса в Испанию, где он и погиб, а его разноплеменное войско распалось, и часть его переправилась в Африку. Разумеется, здесь идет речь о финикийском Геркулесе-Мелькарте.
Существовали ли рассказы о походах Мелькарта в непосредственной близости от Тира, предшествующие перенесению его деяний в далекие страны, неизвестно. Можно лишь полагать, что сказания о далеких путешествиях возникли с развитием одиссеи тирской колонизации.
Характерно, что в той мальтийской надписи, в которой в финикийской части Мелькарт именуется баалом Тира, в греческой этому титулу соответствует «архегет». Архегет, предводитель — такой эпитет хорошо подходит богу, покровителю далеких переходов и основания колоний. В греческой мифологии такую роль играл Аполлон (ср. Thuc. VI, 3 и Pind. Pith. V, 60-61, где этому богу придается такой эпитет именно в связи с колонизацией: основанием Наксоса в одном случае и Кирены в другом). У Элия Аристида (Or. 27, 5) мы находим даже рассуждение о различии между функциями Аполлона как экзегета (ἐξηγητής, «предводитель, [ис]толкователь») и архегета (ἀρχηγέτης, «основатель, предводитель»): в последнем случае он выступает как непосредственный ойкист (οἰκιστής, «колонизатор»), а в первом — как посылающий других создавать новые города. Таким образом, Мелькарт-архегет выступает как руководитель колонизации. В связи с этим вспоминается рассказ об основании Гадеса (Strabo, III, 5, 5), где говорится о посылке колонизационной экспедиции по велению оракула. Источником этого рассказа является, как пишет Страбон, гадитанское повествование. Видимо, существовал какой-то миф об основании Гадеса, в котором значительная роль приписывалась приказу оракула Мелькарта.
Будучи баалом Тира, Мелькарт не мог не приобрести и черт морского божества. Это, в частности, отразилось в мифе об основании Тира, как он изложен Нонном (Dionys. XL, 443-534). Здесь рассказывается, что Геракл призывает основателей материкового Тира построить корабль и, переправившись на блуждающие в море Амбросийские скалы и принеся там жертву, остановить скалы и построить на них город. Этот призыв был выполнен, и на островах возник собственно Тир. Строители корабля пользовались в качестве образца рыбой навтил, представленной им Гераклом.
В связи с этим возникает проблема взаимоотношений Мелькарта с греческим Меликертом, одним из второстепенных морских божеств Эллады, ранее сыном смертной женщины Ино, которая бросилась в море с младенцем на руках. Оба превратились в морских божеств: Ино в Левкотею,⁴ а Меликерт — в Палемона⁵ (Apollod. III, 4, 3; Ovid. Met. IV, 512 сл). Ранее признавалось тождество образов Мелькарта и Меликерта. Позже это мнение категорически отвергалось, а в последнее время вновь стало защищаться. Ино в греческом мифе считалась дочерью финикийца Кадма (уже у Гомера — Od. V, 333-334). Возможно, что Ино — культовое имя богини Илифии, во всяком случае в греческой литературе эти два имени иногда относятся к одному образу. По Страбону (V, 2, 8), в этрусском городе Пиргах имелось очень древнее святилище Илифии. Раскопки, проведенные здесь, дали фрагменты греческой керамики с выцарапанным на них именем Ино, а позже — знаменитые золотые таблички с финикийской и двумя этрусскими надписями, в которых встречается отождествление этрусской богини Уни с Астартой. Можно считать, таким образом, что Ино-Левкотея-Илифия также, по крайней мере, на Западе, идентифицировалась с этой финикийской богиней. Астарта же, как мы видели, считалась матерью Мелькарта. Итак, оба божества, Мелькарт и Меликерт, были рождены одной и той же богиней: Илифией-Ино-Левкотеей-Уни-Астартой.
_______________________________
[4] Λευκοθέα ἡ Левкотея, «Белая богиня» (культовое имя Ино как морской богини) Hom., Pind., Arst.
[5] Παλαίμων (-ονος) ὁ Палемон, «Борец» (эпитет Меликерта, сына Ино-Левкотеи) Eur.
С Меликертом был связан дельфин; именно он подхватил падающего в море ребенка. Меликерт на дельфине изображается на коринфских монетах. Этот же морской зверь появляется на самых ранних монетах Тира (450-400 до н.э.). На тирских монетах следующего десятилетия мы видим Мелькарта, мчащегося на гиппокампе, а внизу, под двойной линией волн, — дельфина. В чеканке Гадеса также появляется дельфин.
Надо обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Меликерт становится морским божеством под именем Палемона. Но Палемон — один из эпитетов Геракла (Hesych.). Существовал также миф о рождении Палемона от Геракла и вдовы Антея (Pherekid. fr. 33e, FHG 1, 80). Следовательно, этот бог включается в Гераклов мифологический цикл, хотя первоначально он, по-видимому, с ним не был связан. Возможно, после появления устойчивого отождествления Геракла с Мелькартом мифы о Меликерте соединяются со сказаниями о Геракле.
Поэтому можно полагать, что греческая сага о Меликерте воспроизводит (возможно, частично в измененном виде) финикийские рассказы о Мелькарте. Если это так, то перед нами еще один (третий) вариант предания о гибели и возрождении тирского бога. Каждый вариант связан с одним аспектом его культа: убийство Тифоном и воскрешение при помощи запаха прилетающих весной перепелов — аграрным, смерть и возрождение в огне — солнечным, гибель и апофеоз в водной пучине — морским.
Своему владыке тирийцы приписывали и открытие пурпура, игравшего столь важную роль в экономике их города. Этот миф передан Поллуксом (Onom., 1, 45 сл.; также Nonn. Dionys., 305). По его словам, во время охоты Геракла около Тира его собака, раскусив пурпурную раковину, окрасила красным цветом пасть, а восхищенная красотой краски возлюбленная героя нимфа Тир (и в греческом и в финикийском языках город женского рода) убедила Геракла окрасить свою одежду, что и привело к открытию пурпурной окраски.
Итак, можно прийти к следующим выводам. В мифах о Мелькарте выделяются два слоя. Первый из них, более древний, относится к Мелькарту как аграрному и солярному божеству. То, что земледелие играло в Тире значительную роль, несомненно; оно отмечено еще во II тыс. до н.э., существовало и в I тыс. до н.э. В этих древних сказаниях тирский бог предстает перед нами как воплощение умирающей и воскресающей природы, как символ закатывающегося и поднимающегося в огненной заре солнца, как герой, освобождающий землю от темных порождений хтонических сил.
Ко второму слою относятся мифы, связанные с покровительством дальним походам, с морскими функциями бога, с открытием пурпура. Когда возник этот слой сказаний? Ответ во многом зависит от решения вопроса о начале заморской экспедиции Тира. По преданию, древнейшие тирские колонии на крайнем Западе появились уже в конце II тыс. до н.э., в XII в. до н.э. (Plin. N. h. XIX, 63; Vel. Pat. I, 2, 3; Mela, III, 46). Однако многие современные исследователи отвергают столь высокую датировку. Сейчас невозможно обсуждать данный вопрос, хотя даты, сообщенные античными авторами, представляются приемлемыми. С другой стороны, идентификация Мелькарта и Геракла произошла, по-видимому, на Кипре, где сосуществовали, тесно соприкасаясь друг с другом, финикийская и греческая культуры, не позже VI в. до н.э. Если же в сказании о Меликерте воспроизведен в той или иной форме миф о Мелькарте, то это воспроизведение должно было произойти до отождествления финикийского божества с сыном Алкмены, ибо позже ни с каким другим персонажем эллинской мифологии Мелькарт не связывался. Впрочем, возникновение саги о Меликерте надо отнести и к еще более древнему времени. Его культ связан с Истмом, где в его честь устраивались Истмийские игры (Apollod., III, 4, 3), и с Беотией, в которой царствовал его отец Амафант, родиной его матери Ино, дочери финикийца Кадма, основателя беотийских Фив (Apollod. I, 9, 1; III, 4, 1-3). Из этих областей вторая в микенскую эпоху была связана с Востоком, в том числе с Финикией, как доказывает находка более трех десятков восточных лазуритовых цилиндров во втором дворце фиванской Кадмеи. Эти связи предшествовали разрушению Фив в XII — нач. XI вв. до н.э. Это было также время греко-финикийских контактов в языковой и литературной сферах. То, что у Гомера (Od., 333-335) упоминается богиня Левкотея, бывшая ранее смертной женщиной Ино, может говорить и о том, что в гомеровское время был известен и весь миф, включая и сообщение о прыжке Ино в море с Меликертом на руках. Все эти рассуждения приводят нас к мысли, что сказание о Меликерте появилось в Греции в микенскую эпоху. Отсюда естественен вывод, что и миф о Мелькарте, связанный с его функциями морского божества, уже существовал, по крайней мере, во второй половине II тыс. до н.э.
Приблизительно к этому же времени должно относиться и предание об этом боге, относящееся к открытию пурпура. Уже в X в. до н.э., если верить Библии (II Chron. IX, 14), Тир славился мастерами, изготовляющими пурпурную краску и окрашивающими ею одежды. А вообще использование пурпура было известно финикийцам уже в середине II тыс. до н.э.
Итак, второй, более молодой слой цикла тирских мифов о Мелькарте возникает не позже второй половины II тыс. до н.э. Когда появился первый пласт этого мифологического круга, определить трудно. Можно думать, что он приблизительно современен возникновению самого города — не позже первой половины III тыс. до н.э. Недаром жрецы тирского храма Мелькарта рассказывали Геродоту об основании храма одновременно с городом (Her., II, 44).
Мы ограничились в данной статье изложением тех мифов, в которых под эллинским или латинским именем несомненно или очень вероятно выступало тирское божество. При этом мы сосредоточили внимание на мифологии, совершенно или почти не касаясь других очень важных сторон культа Мелькарта.
_______________________________
|
Метки: Мелькарт Геракл |
РИМСКИЕ ПЕРСОНИФИКАЦИИ |
Персонификация, зародившаяся в мифологии архаических времен как обожествление сил и образа действий олимпийских богов, уже, начиная с Еврипида, стала аллегорическим изображением абстрактных понятий добродетелей или названий географических местностей в виде человеческих фигур. Персонификации имеют стандартные атрибуты, помогающие более полно раскрыть смысл аллегории. В Риме, особенно во времена Империи, изображения персонификаций весьма охотно помещались на реверсы монет. Ниже приводятся изображения и толкование римских персонификаций, чеканенных на монетах времен Империи.
_______________________________
Монета (Moneta), персонификация монетного дела.
Moneta, -ae f [moneo]
1) C = Mnemosyne;
2) эпитет Юноны, предупредившей римлян о землетрясении (при ее храме чеканились металлические деньги) C, L, O.
moneta, -ae f
1) монетный двор (при храме Юноны-Монеты в Риме) C;
2) чекан M: m. hominis formandi Macr материнское чрево; communi moneta J в обыденном стиле, избитый, пошлый; quaedam ex nostra moneta proferre Sen изложить кое-какие собственные мысли;
3) монета, деньги O, PM; ex.: percutere monetam Vop чеканить монету.
Эта персонификация встречается на монетах со времени Домициана, как правило, в виде женской фигуры с Рогом изобилия и весами. Изображение трех Монет, символизирующих монетные металлы: золото, серебро и медь, встречается на монетах и медальонах Коммода и следующих за ним императоров.


1. Антонин Пий (138-161). Рим. Сестерций (Æ 32mm, 25.46g), 142/3г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: Монета с весами и Рогом изобилия; MONETA AVG / S C
2. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.51g). Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Монета с весами и Рогом изобилия; MONETA AVG


3. Галерий (как цезарь, 293-305). Рим. Медальон (Æ 37mm, 39.06g), ок. 295г. Av: бюст Адриана в лавровом венке; GAL VAL MAXIMIANVS NOB C. Rv: три персонификации золотых, серебряных и бронзовых монет, с весами и Рогом изобилия; под весами у каждой — монеты, сложенные столбиком; MONETA AVG G
4. Домициан (Titus Flavius Domitianus, 81-96). Рим. Асс (Æ 28mm, 11.18g), 93/4г. Av: бюст Домициана в лавровом венке; IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XVI CENS PER P P. Rv: Монета с весами и Рогом изобилия; MONETA AVGVSTI / S C
_______________________________
Абунданция (Abundantia — «довольство», «изобилие»), персонификация изобилия.
Абунданция изображается в виде стоящей с Рогом изобилия, или сидящей в курульном кресле (ножки которого представляют собой Рога изобилия), женской фигуры, обычно с поясняющей надписью. В качестве ее атрибутов встречаются также колос и корабль; в этом случае налицо смешение Абунданции с Анноной. Часто Абунданция изображалась высыпающей содержимое своего Рога изобилия, что должно было символизировать распространение благосостояния. Интересна трактовка образа Абунданции на денарии Траяна, где она изображена в виде женщины, ведущей за собой младенца. Это символическое отображение указа Траяна о том, что государство взяло на себя заботу о детях бедных родителей и сиротах.


5._Александр_Север (222-235). Рим. Денарий (AR 20mm, 3.02g), 229г. (10th emission). Av: бюст Александра Севера в лавровом венке; IMP SEV ALEXAND AVG. Rv: Абунданция высыпает содержимое из Рога изобилия; ABVNDANTIA AVG
6. Траян (98-117). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.42g), ок. 106/7г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. Rv: Абунданция держит Рог изобилия и пучок колосьев, перед ней — модиус с колосьями, позади — прора; S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI


7. Траян (98-117). Рим. Дупондий (Æ 28mm, 13.28g), ок. 103г. Av: бюст Траяна в радиальной короне; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM DACICVS P M. Rv: Абунданция со скипетром сидит в курульном кресле (ножки которого представляют собой Рога изобилия); TR P VII IMP IIII COS V P P / S C
8. Траян (98-117). Рим. Дупондий (Æ 29mm, 17.10g), ок. 111г. Av: бюст Траяна в радиальной короне; IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. Rv: Абунданция держит Рог изобилия и колосья, рядом ребенок; S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI / S C / ALIM ITAL
_______________________________
Аннона (Annona), персонификация урожая, главным образом хлебных злаков.
Имя Annona (производят от annus — «год») подразумевает завершение с/х работ в конце года, результатом которых является собранный урожай. Позднее изображение аллегории урожая трансформировалась в персонификацию обязанности государства снабжать Рим продовольствием. На монетах от Нерона до Кара Аннона изображалась в виде стоящей или сидящей женской фигуры со следующими атрибутами: снопом, четвериком (модиусом), корзиной с плодами и Рогом изобилия или же с кораблем (прора), якорем и штурвалом как символами урожая зерна или его перевозки водным путем. Ведь именно по воде доставлялся в Рим хлеб, например из плодородного Египта.


9. Александр Север (222-235). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.31g), 229г. (10th emission). Av: бюст Александра Севера в лавровом венке; IMP SEV ALEXAND AVG. Rv: Аннона, одну ногу поставив на прору, стоит с модиусом в левой руке, правой рукой опирается на корабельный руль; ANNONA AVG
10. Макрин (217-218). Рим. Денарий (AR 18mm, 2.56g), 217г. (6th officina, 2nd emission). Av: бюст Макрина в лавровом венке; IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG. Rv: Аннона на троне, с Рогом изобилия и колосьями, перед ней стоит модиус с колосьями; ANNONA AVG


11. Нерон (54-68). Лугдунум (Lugdunum). Сестерций (Æ 37mm, 28.72g), 65г. Av: бюст Нерона в лавровом венке; NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P. Rv: Аннона, с Рогом изобилия, стоит напротив Цереры, в левой руке которой — факел, в правой — колосья; на заднем плане — нос корабля; ANNONA AVGVSTI CERES / S C
12. Веспасиан (69-79). Рим. Сестерций (Æ 33mm, 26.70g), 77/8г. Av: бюст Веспасиана в лавровом венке; IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS VIII. Rv: Аннона на троне с колосьями в правой руке; ANNONA AVGVST / S C


13. Филипп I (244-249). Рим. Сестерций (Æ 28mm, 18.95g), 246г. (5th officina. 5th emission). Av: бюст Филиппа I в лавровом венке; IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Rv: Аннона стоит перед модиусом с Рогом изобилия и колосьями; ANNONA AVG G / S C
14. Антонин Пий (138-161). Рим. Сестерций (Æ 31mm, 22.60g), 147/8г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XI. Rv: Аннона, с колосьями в правой руке, стоит перед модиусом, наполненным злаками и маком, левой рукой опирается на якорь; ANNONA AVG / S C / COS III
_______________________________
Бонус Эвентус (Eventus, Bonus Eventus — «успех», «добрый исход»).
Эвентус — изначально, божество урожая у римлян, впоследствии вообще всякого успеха. Его скульптурные изображения были подражанием греческому типу Триптолема с заменой колосьев Рогом изобилия. В Риме ему был посвящен храм, также существовала его статуя на Капитолийском холме. Позднее, в качестве персонификации успеха, стал использоваться и женский образ с тарелкой фруктов и колосьями.


15. Песценний Нигер (Gaius Pescennius Niger Iustus, 193-194). Антиохия. Денарий (AR 3.15g). Av: бюст Песценния в лавровом венке; IMP CAES C PESC NIGER IVST AV. Rv: женский образ Удачи с тарелкой фруктов и колосьями; BONI EVENTVS
16. Тит (Titus Flavius Vespasianus, 79-81). Рим. Денарий (AR 20mm, 3.47g), 80г. Av: бюст Тита в лавровом венке; IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M. Rv: Бонус Эвентус с патерой и колосьями; BONVS EVENTVS AVGVSTI
_______________________________
Уберитас (Ubertas, Uberitas «плодородие», «изобилие», «богатство»), римская персонификация плодородия. Изображается в виде женской фигуры с Рогом изобилия и кошельком.


17. Траян Деций (249-251). Рим. Антониниан (AR 23mm, 4.60g), 250/1г. Av: бюст Траяна Деция в лучевой короне; IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Rv: Уберитас с Рогом изобилия и кошельком; VBERITAS AVG
18. Требониан Галл (Gaius Vibius Trebonianus Gallus, 251-253). Антиохия. Антониниан (AR 24mm, 3.30g), 251/2г. Av: бюст Требониана Галла в лучевой короне; IMP C C VIB TREB GALLVS P F AVG. Rv: Уберитас с Рогом изобилия и кошельком; VBERITAS AVG
_______________________________
Фекундитас (Fecunditas), персонификация плодовитости.
fecunditas, -atis f [fecundus]
1) плодовитость (mulieris C; equarum Just); плодородие (terrarum C, PJ);
2) обилие, изобилие (lactis PM); множество (juventus tantae fecunditatis Just);
3) одарённость (in adolescente C; animi C, PM).
Фекундитас изображается в виде женщины с ребенком или несколькими детьми; прочие атрибуты — скипетр, оливковая ветвь, кадуцей, Рог изобилия. Фекундитас встречается исключительно на монетах императриц от Фаустины, жены Марка Аврелия, до Салонины, жены Галлиена.


19. Фаустина II (Августа, 147-175). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.29g), ок. 161/2г. Av: бюст Фаустины; FAVSTINA AVGVSTA. Rv: Фекундитас, со скипетром, держит ребенка на руках; FECVNDITAS
20. Юлия Домна (Августа, 193-217), супруга Септимия Севера. Рим. Денарий (AR 20mm, 3.03g), ок. 208/9г. Av: бюст Юлии Домны; IVLIA AVGVSTA. Rv: Фекундитас сидит под деревом, опираясь о корзину с фруктами, рядом четыре ребенка; FECVNDITAS


21. Фаустина II (Августа, 147-175). Рим. Сестерций (Æ 34mm, 26.33g), ок. 161/2г. Av: бюст Фаустины; FAVSTINA AVGVSTA. Rv: Фекундитас держит на руках двух детей, еще двое стоят рядом; FECVND AVGVSTAE / S C
22. Юлия Мамея (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 21.84g), ок. 232/3г. Av: бюст Юлии Мамеи в диадеме; IVLIA MAMAEA AVGVSTA. Rv: Фекундитас в левой руке держит Рог изобилия, перед ней ребенок; FECVNDITAS AVGVSTAE / S C


23. Юлия Домна Августа (193-217). Рим. Аурей (AV 20mm, 7.22g), 211/2г. Av: бюст Юлии Домны; IVLIA PIA FELIX AVG. Rv: Фекундитас держит ребенка на руках, еще двое стоят рядом; FECVNDITAS
24. Фаустина II (Августа, 147-175). Рим. Аурей (AV 17mm, 7.37g), ок. 161-176гг. Av: бюст Фаустины; FAVSTINA AVGVSTA. Rv: Фекундитас держит ребенка на руках, еще двое стоят рядом; FECVNDITATI AVGVSTAE
_______________________________
Гиларитас (Hilaritas — «живость, веселость»), персонификация жизнерадостности.
Изображалась на римских монетах со времени правления Адриана в виде женской фигуры, часто окруженной детьми, с атрибутами: пальмовой ветвью и скипетром, Рогом изобилия, патерой или якорем.


25. Адриан (117-138). Рим. Сестерций (Æ 32mm, 26.35g), 132/3г. Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVGVSTVS P P. Rv: Гиларитас с Рогом изобилия и пальмовой ветвью, рядом два ребенка; HILARITAS / COS III / S C
26. Марк Аврелий, как цезарь (139-161). Рим. Аурей (AV 18mm, 6.56g), 156/7г. Av: бюст Марка Аврелия; M AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II. Rv: Гиларитас с Рогом изобилия и пальмовой ветвью; HILARITAS


27. Юлия Домна Августа (193-217). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.65g), 200-207гг. Av: бюст Юлии Домны; IVLIA AVGVSTA. Rv: Гиларитас со скипетром и пальмовой ветвью; HILARITAS
28. Элагабал (Marcus Aurelius Antoninus Heliogabalus, 218-222). Антиохия. Денарий (AR 20mm, 3.36g). Av: бюст Элагабала в лавровом венке; ANTONINVS PIVS FEL AVG. Rv: Гиларитас с патерой и пальмовой ветвью, рядом два ребенка; HILARITAS AVG
_______________________________
Летиция (Laetitia, «радость», «веселье», «ликование»), персонификация радости.
Изображается в виде женской фигуры с венком в правой руке, другой рукой опирается на скипетр, якорь или корабельный руль.


29. Филипп I (244-249). Рим. Антониниан (AR 21mm, 4.20g), 244г. (2nd emission). Av: бюст Филиппа I в радиальной короне; IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Rv: Летиция с венком и корабельным рулем; LAETIT FVNDAT (Laetitia Fundata, «основательная радость»).
30. Фаустина II Августа (147-175). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.29g), ок. 161/2г. Av: бюст Фаустины в стефане; FAVSTINA AVGVSTA. Rv: Летиция с венком и скипетром; LAETITIA


31. Фаустина II Августа (147-175). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.31g), ок. 147/8г. Av: бюст Фаустины; FAVSTINAE AVG PII AVG FIL. Rv: Летиция с венком и скипетром; LAETITIAE PVBLICAE
32. Гордиан III (238-244). Рим. Аурей (AV 20mm, 5.43g), 241/2г. Av: бюст Гордиана в лавровом венке; GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: Летиция с венком и якорем; LAETITIA AVG N
_______________________________
Фелицитас (Felicitas), персонификация счастья и успеха.
felicitas, -atis f [felix I]
1) плодородие (terrae PJ);
2) счастье, благополучие, благоденствие, благосостояние (rei publicae Su; temporum T); успех, удача, благополучный исход (rerum gestarum Cs).
Часто встречается на монетах императоров от Гальбы до Флавия Севера в виде женской фигуры с Рогом изобилия, кадуцеем, оливковой ветвью, патерой и скипетром.


33. Юлия Мамея (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Рим. Денарий (AR 20mm, 3.33g), ок. 228г. (9th emission). Av: бюст Юлии Мамеи в диадеме; IVLIA MAMAEA AVG. Rv: Фелицитас с кадуцеем, стоит опираясь о колонну; FELICITAS PVBLICA
34. Юлия Домна Августа (193-217). Рим. Сестерций (Æ 32mm, 24.81g), ок. 215/6г. Av: бюст Юлии Домны; IVLIA PIA FELIX AVG. Rv: Фелицитас с кадуцеем и патерой, стоит перед алтарем; SAECVLI FELICITAS / S C


35. Макрин (217-218). Рим. Денарий (AR 20mm, 3.12g). Av: бюст Макрина в лавровом венке; IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG. Rv: Фелицитас со скипетром и кадуцеем; FELICITAS TEMPORVM
36. Гета (как цезарь 198-209). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.90g), ок. 202-205г. Av: бюст Геты; P SEPT GETA CAES PONT. Rv: Фелицитас с Рогом изобилия и кадуцеем; FELICITAS PVBLICA


37. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.16g), ок. 134-138гг. Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Фелицитас с оливковой ветвью и кадуцеем; FELICITAS AVG
38. Юлия Мамея (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.59g), ок. 230/1г. Av: бюст Юлии Мамеи в диадеме; IVLIA MAMAEA AVG. Rv: Фелицитас, с Рогом изобилия и кадуцеем, на троне; FELICITAS PVBLICA
_______________________________
Виртус (Virtus — «мужественность», «доблесть», «благородство»), римская персонификация мужественности, особенно военной доблести.
Обычно изображалась в виде женской фигуры в воинской амуниции, с обнаженной, как у амазонок, правой грудью, вооруженная копьем, мечом и щитом, иногда со скипетром, оливковой ветвью, лавровым венком, статуэткой Виктории — такой Виртус встречается на монетах императоров начиная с Гальбы. С середины III века также стали чеканить монеты с мужским образом Виртус (например, на монетах Гордиана III, Диоклетиана, Проба).


39. Домициан (Titus Flavius Domitianus, 81-96). Рим. Æ 28mm (12.82g), 93/4г. Av: бюст Домициана в лучевой короне; IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI. Rv: Виртус в левой руке держит паразониум (parazonium), в правой — копье; VIRTVTI AVGVSTI / S C
40. Марк Аврелий (161-180). Рим. Сестерций (Æ 32mm, 25.13g), 180г. Av: бюст Марка Аврелия; M AVREL ANTONINVS AVG TR P XXXIII; Rv: Виртус на троне, в левой руке держит паразониум (parazonium), в правой — копье; VIRTVS AVG IMP P COS III P P / S C


41. Александр Север (222-235). Рим. Денарий (AR 19mm, 2.88g), 230г. (11th emission). Av: бюст Александра Севера в лавровом венке; IMP SEV ALEXAND AVG. Rv: Виртус сидит на кирасе (cuirass) со скипетром и оливковой ветвью; VIRTVS AVG
42. Каракалла (198-217). Лаодикея. Денарий (AR 18mm, 3.54g), 200/1г. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ANTONINVS AVGVSTVS. Rv: Виртус со скипетром и статуэткой Виктории; VIRT AVG G


43. Гордиан III (238-244) Рим. Антониниан (AR 22mm, 4.83g), 239г. (5th officina. 3rd emission). Av: бюст Гордина III, в лучевой короне; IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. Rv: Виртус в образе бородатого гоплита, в шлеме и панцире, в правой руке — оливковая ветвь, в левой — копье, рядом на земле стоит щит; VIRTVS AVG
44. Диоклетиан (291-292). Лондиниум (Londinium), Римская Британия. Антониниан (Æ 24mm, 4.15g), Выпуск при императоре Караузии (Carausius, 287-293). Av: бюст Диоклетиана в радиальной короне; IMP С C VAL DIOCLETIANVS P AVG. Rv: обнаженный мужской образ Виртус, в шлеме и плаще, с копьем и щитом; VIRTVS AVG G G / S P / C
_______________________________
Хонос (Honos, Honor), персонификация чести, особенно воинской, в виде мужской фигуры.
Honos, -oris m v. l. = Honor.
Honor (Honos), -oris m римск. бог чести (его храм был перед Porta Capena в Риме) C, L, VM.
honor (арх. honos), -oris m
1) честь, почесть, почёт, уважение (h. est praemium virtutis C);
2) слава (gentis V);
3) почётная (выборная) должность, государственный пост;
4) почётная награда, награждение, вознаграждение;
5) благодарственная церемония, воздание хвалы, хвалебный гимн;
6) pl. жертвы (mactare honores V)
В 233 до н.э. в Риме был освящен общий храм Виртус и Хонос. Головы Виртус и Хонос, как персонификации «чести и доблести», были изображены на денариях Римской республики Фуфия Калена и Муция Корда. В имперскую эпоху Хонос иногда изображалась в виде женской фигуры, с атрибутами — Рогом изобилия, ветвью или скипетром. Образ Хонос изображался на монетах Антонина Пия, Марка Аврелия и Луция Вера, вместе с Виртус — на монетах Гальбы и Веспасиана.


45. Октавиан Август (27 до н.э.-14 н.э.). Рим. Денарий (AR 3.81g), ок. 19/8 до н.э. Монетарий Дурмий (M. Durmius). Av: голова Хонос; M DVRMIVS III VIR HONORI. Rv: Август правит бигой, запряженной двумя слонами; AVGVSTVS CAESAR
46. Фуфий Кален (Q. Fufius Calenus) и Муций Корд (Mucius Cordus). Римская республика. Денарий (AR 18mm, 3.89g), 68 до н.э. Av: голова Хонос в лавровом венке и Виртус в шлеме; HO[nos] VIRT[us] (monogram) / KALENI. Rv: персонификации Италии, с Рогом изобилия, и Рима, со скипетром; ITA[lia] (monogram) RO[ma] / CORDI


47. Марк Аврелий, как цезарь (139-161). Рим. Дупондий (Æ 27mm, 17.83g), ок. 140-144гг. Av: бюст Марка Аврелия; AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS. Rv: Хонос с Рогом изобилия и оливковой ветвью; HONOS / S C
48. Антонин Пий (138-161). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 22.19g), 147/8г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P. Rv: Хонос с Рогом изобилия и оливковой ветвью; HONORI AVG COS IIII / S C


49. Веспасиан (69-79). Рим. Сестерций (Æ 32mm, 25.95g), ок. 71г. Av: бюст Веспасиана в лавровом венке; IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS III. Rv: мужской образ Хонос с Рогом изобилия и скипетром, напротив стоит Виртус в женском образе с копьем и мечом; HONOS ET VIRTVS / S C
50. Вителлий (Vitellius, 69г.). Фальшивый сестерций Джованни Кавино (Giovanni Cavino) падуанского типа (Æ 33mm, 20.03g), ок. 1513-27гг. Av: бюст Вителлия в лавровом венке; A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG P M TR P. Rv: Хонос в женском образе с Рогом изобилия и скипетром, Виртус с копьем и мечом (parazonium); HONOS ET VIRTVS / S C
_______________________________
Фидес (Fides) — персонификация верности.
Богиня Фидес считалась хранительницей устоев нравственной системы римского общества, гордившегося верностью принципам своего жизненного уклада и клятвам. Вместе с Пиетас (божеством исполнения долга перед богами, родиной, родителями), считалась основой общества и добродетелей римлян, гордившихся своей исключительной верностью клятве. В Первую Пуническую войну в ее честь был построен храм и на Капитолийском холме, в котором хранились договоры Рима с другими государствами. В период империи часто изображалась на монетах как Фидес Августа, Фидес войска, Фидес конницы и др.


51. Домициан (Titus Flavius Domitianus, 81-96). Рим. Æ 28mm (12.69g), 88/9г. Av: бюст Домициана в лавровом венке; IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XIIII CENS PER P P. Rv: Фидес с пучком колосьев и мака в правой руке и подносом с фруктами в левой; FIDEI PVBLICAE / S C
52. Веспасиан (69-79). Лугдунум (Lugdunum). Дупондий (Æ 27mm, 11.22g), 77/8г. Av: бюст Веспасиана в лавровом венке; IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P. Rv: Фидес с Рогом изобилия и патерой; FIDES PVBLICA / S C


53. Элагабал (218-222). Рим. Антониниан (AR 21mm, 4.95g), 219/20г. Av: бюст Элагабала в короне; IMP ANTONINVS AVG. Rv: Фидес со знаменем (vexillum) и штандартом (signum); FIDES MILITVM
54. Элагабал (Marcus Aurelius Antoninus Heliogabalus, 218-222). Рим. Антониниан (AR 22mm, 5.58g), 219/20г. Av: бюст Элагабала в короне; IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG; Rv: Фидес на троне, держит орла, слева и справа от нее два штандарта (signum); FIDES EXERCITVS
_______________________________
Пиетас (Pietas), персонификация благочестия.
pietas, -atis f [pius]
1) набожность, благочестие (adversus deos C);
2) любовь, нежность, преданность (erga patriam aut parentes C; in parentes C; in matrem C);
3) справедливость, правосудие (caeli V; si qua deis p. Sil);
4) добросердечие, доброта, милосердие, сострадание (p., non atrocitas Dig).
pius, -a, -um
1) набожный, благочестивый или добродетельный (vates V; Aeneas V; piissimi civium QC): manibus piis V с молитвенно воздетыми (или сложенными) руками; piorum sedes C обиталище праведных (= Элизиум);
2) посвященный богам, священный (lucus H; vitta V); жертвенный (far V, H, O); угодный богам, справедливый, законный (bellum L; pax C);
3) милостивый (numina V); любящий, добрый, преданный, нежный (in parentes C; adversus fratrem L); полный любви (dolor C; metus O);
4) милый, дорогой: pia sarcina O дорогая (сердцу) ноша (Энея), т.е. престарелый Анхиз.
Чаще всего, изображалась в виде женской фигуры у алтаря с чашей для жертвоприношений, либо держит в руке сосуд или ларец с ладаном. Нередко изображалась с детьми на руках или в окружении детей, как аллегория родительской любви.


55. Фаустина II (Августа, 147-175). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 26.95g), ок. 148/9г. Av: бюст Фаустины; FAVSTINA AVG PII AVG FIL. Rv: Пиетас с Рогом изобилия, рядом ребенок; PIETAS / S C
56. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.27g), ок. 134-138гг. Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Пиетас на троне с патерой и скипетром; PIETAS AVG


57. Юлия Меса Августа (218-224). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.06g), ок. 218/9г. Av: бюст Юлии Месы; IVLIA MAESA AVG. Rv: Пиетас перед алтарем, в левой руке держит ларец с ладаном; PIETAS AVG
58. Фаустина Старшая (Diva Faustina Senior), жена Антонина Пия. Аурей (AV 7.38g), не ранее 141г. Av: бюст Фаустины; DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Rv: Пиетас перед алтарем, в левой руке держит сосуд с ладаном; PIETAS AVG


59. Адриан (117-138). Рим. Дупондий (Æ 28mm, 12.72g), 121/2г. Av: бюст Адриана в радиальной короне; IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG P M TR P COS III. Rv: Пиетас перед алтарем; PIETAS AVGVSTI / S C
60. Салонина Матидия Августа (112-119). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.14g), ок. 112/3г. Av: бюст Матидии в двойной диадеме; MATIDIA AVG DIVAE MARCIANAE F. Rv: Пиетас в окружении двух детей; PIETAS AVGVST
_______________________________
Индульгенция (Indulgentia — «снисходительность», «милость», «великодушие»). Персонификация снисхождения и милости.
Встречается на римских монетах со времени правления Адриана в виде сидящей на троне женской фигуры со скипетром и патерой. Легенды, сопровождающие образ Индульгенции: INDVLGENTIA AVGVSTI, INDVLGENTIA FECVNDA («плодородная»), INDVLGENTIA PIA («благочестивая).


61. Каракалла (198-217). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.41g), 215/6г. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG GERM. Rv: Индульгенция на троне со скипетром и патерой; INDVLGENTIAE AVG
62. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.13g), ок. 133/4г. Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS. Rv: Индульгенция на троне со скипетром и патерой; INDVLGENTIA AVG / COS III P P
_______________________________
Клеменция (Clementia — «снисходительность»), персонификация милости императора.
На монетах встречается, начиная со времени начала Империи, как, например, бюст Клеменции на денарии Божественного Юлия, отличавшегося снисхождением к своим побежденным врагам. Позже персонификация изображалась в виде либо просто стоящей женской фигуры, либо опирающейся на алтарь, и держащей в руках скипетр и патеру. Необходимо также отметить выпуски поздней Империи, на которых Клеменция часто изображалась одновременно с императором, символизируя милость последнего к своим воинам.


63. Адриан (117-138). Рим. Сестерций (Æ 34mm, 21.78g), ок. 133/4г. Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVGVSTVS. Rv: Клеменция со скипетром и патерой; CLEMENTIA AVG COS III P P / S C
64. Антонин Пий (138-161). Денарий (AR 20mm, 3.42g), ок. 140-144гг. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: Клеменция со скипетром и патерой; CLEMENTIA AVG
_______________________________
Конкордия (Concordia — «согласие», «единодушие»), персонификация согласия.
Одна из наиболее часто встречающихся на монетах персонификаций, начиная с выпусков Нерона. Конкордия изображалась в виде женской фигуры c патерой, Рогом изобилия, иногда со скипетром. Интересно изображение Конкордии на монете Проба и Дидия Юлиана, где она держит два легионных штандарта, что более подходит персонификации Фидес. Кроме одиночного изображения Конкордии, встречаются сцены с несколькими действующими лицами, призванные отразить согласие между императором и соправителем, членами императорской семьи, императором и войском и т.д. На таких монетах Конкордии может даже не быть, и о достигнутом Согласии напоминает только надпись.


65. Сабина Августа (128-137). Рим. Денарий (AR 17mm, 3.26g), ок. 128-134гг. Av: бюст Сабины в диадеме; SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P. Rv: Конкордия на троне с патерой в руке; ниже, рядом с троном — Рог изобилия; CONCORDIA AVG
66. Филипп II (247-249). Антиохия. Антониниан (AR 21mm, 3.96g), ок. 247/8г. Av: бюст Филиппа II в радиальной короне; IMP M IVL PHILIPPVS AVG; Rv: Конкордия на троне с патерой и Рогом изобилия; CONCORDIA AVG G


67. Саллюстия Орбиана Августа (Gnaea Seia Herennia Sallustia Barbia Orbiana, 225-227). Рим. Денарий (AR 19mm, 2.73g), ок. 225/6г. Av: бюст Орбианы в диадеме; SALL BARBIA ORBIANA AVG. Rv: Конкордия на троне с патерой и двумя Рогами изобилия; CONCORDIA AVG G
68. Гордиан III (238-244). Рим. Антониниан (AR 22mm, 5.08g), ок. 239/40г. Av: бюст Гордиана в радиальной короне; IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. Rv: Конкордия на троне с патерой в руке; CONCORDIA AVG


69. Сабина Августа (128-137). Рим. Денарий (AR 17mm, 3.02g), ок. 128-134гг. Av: бюст Сабины в диадеме; SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P. Rv: Конкордия на троне с патерой и скипетром; ниже, рядом с троном — Рог изобилия; CONCORDIA AVG
70. Пупиен (Marcus Clodius Pupienus Maximus, соправитель Бальбина, апрель-июль 238г.). Рим. Денарий (AR 20mm, 3.07g). Av: бюст Пупиена в лавровом венке; IMP C M CLOD PVPIENVS AVG. Rv: Конкордия на троне с патерой и двумя Рогами изобилия; CONCORDIA AVG G


71. Плавтилла Августа (Publia Fulvia Plautilla, 202-205). Рим. Денарий (AR 18mm, 2.98g), 202/3г. Av: бюст Плавтиллы; PLAVTILLA AVGVSTA. Rv: Конкордия с патерой и скипетром; CONCORDIA AVG G
72. Филипп I (244-249). Антиохия. Антониниан (AR 21mm, 4.13g), ок. 247/8г. Av: бюст Филиппа I в радиальной короне; IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Rv: Конкордия на троне с патерой и Рогом изобилия; CONCORDIA AVG G


73. Антонин Пий (138-161). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.37g), ок. 140-143г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: Конкордия со скипетром и Рогом изобилия; CONCORDIA AVG
74. Марк Аврелий (161-180). Рим. Денарий (AR 17mm, 3.45g), ок. 163/4г. Av: бюст Марка Аврелия; IMP M ANTONINVS AVG. Rv: Конкордия на троне с патерой в руке; ниже, рядом с троном — Рог изобилия; CONCORD AVG TR P XVII / COS III
_______________________________
Констанция (Constantia), персонификация верности.
Данная персонификация активно чеканилась на монетах Клавдия, в виде фигуры в военном облачении, с копьем. Другой образ Констанции, на монетах Клавдия, — в длинной тоге, сидящей на курульном кресле. Оба образа объединяет поднятая рука с неопределенным жестом. То ли это «указующий перст», то ли это рука, протянутая к лицу. Жест также напоминает иконографию Немезиды, которая придерживает верхний край тоги. На монетах, посвященных Антонии Младшей, матери Клавдия, Констанция изображалась с Рогом изобилия и длинным факелом.


75. Клавдий (41-54). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.59g), ок. 41-47гг. Выпуск Клавдия в честь своей матери Антонии Младшей. Av: бюст Антонии в венке из колосьев; ANTONIA AVGVSTA. Rv: Констанция с Рогом изобилия и длинным факелом; CONSTANTIAE AVGVSTI
76. Клавдий (41-54). Рим. Асс (Æ 28mm, 9.71g), ок. 41-50гг. Av: бюст Клавдия; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP. Rv: Констанция в шлеме, с копьем; CONSTANTIAE AVGVSTI / S C


77. Клавдий (41-54). Рим. Аурей (AV 20mm, 7.74g), 41/2г. Av: бюст Клавдия в лавровом венке; TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P. Rv: Констанция сидит на курульном кресле, правая рука поднята; CONSTANTIAE AVGVSTI
78. Антония Младшая (Antonia Minor Augusta, 36-37), мать Клавдия. Лугдунум (Lugdunum). Аурей (AV 20mm, 7.82g), ок. 41/2г. Av: бюст Антонии в венке из колосьев; ANTONIA AVGVSTA. Rv: Констанция с Рогом изобилия и длинным факелом; CONSTANTIAE AVGVSTI
_______________________________
Либералитас (Liberalitas — «милосердие», «доброта»), персонификация бескорыстия и щедрости.
На монетах римских императоров изображалась обычно в виде женской фигуры с абаком и Рогом изобилия. Либералитас также изображалась на монетах в сценах раздачи народу тессер и денег императором, который сидел вместе с ней на высокой платформе. Бесплатные раздачи населению устраивались многими императорами. Каждый, занесенный в специальные списки, получал особые тессеры, которые мог обменять на соответствующее количество хлеба, мяса, вина, масла или, даже, сходить в лупанарий. Непременным символом Либералитаты служит абак — счёты, на которых ответственные за раздачу чиновники подсчитывали количество потраченных средств. В отдельных случаях Либералитас изображалась высыпающей содержимое из Рога изобилия, т.е. в образе более свойственном для Абунданции, персонификации изобилия.


79. Пупиен (соправитель Бальбина, апрель-июль 238г.). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 18.62g). Av: бюст Пупиена в лавровом венке; IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG. Rv: Либералитас с абаком и Рогом изобилия; LIBERALITAS AVGVSTORVM / S C
80. Антонин Пий (138-161). Рим. Аурей (AV 19mm, 7.32g), ок. 152/3г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI. Rv: Либералитас с абаком (abacus, счёты) и вексиллумом (vexillum, войсковое знамя); LIBERALITAS VII COS IIII


81. Септимий Север (193-211). Аурей (AV 7.24g), ок. 205/6г. Av: бюст Септимия Севера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: Либералитас с абаком и Рогом изобилия; LIBERALITAS AVG G V
82. Гордиан III (238-244). Рим. Антониниан (AR 23mm, 4.04g), ок. 239/40г. Av: бюст Гордиана в радиальной короне; IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. Rv: Либералитас с абаком и двумя Рогами изобилия; LIBERALITAS AVG II


83. Адриан (117-138). Рим. Асс (Æ 28mm, 10.64g), ок. 133/4г. Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS. Rv: Либералитас высыпает содержимое Рога изобилия; LIBERALITAS AVG COS III P P / S C
84. Филипп I (244-249). Рим. Антониниан (AR 22mm, 4.23g), ок. 245/6г. Av: бюст Филиппа I в радиальной короне; IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Rv: Либералитас с абаком и Рогом изобилия; LIBERALITAS AVG G II
_______________________________
Нобилитас (Nobilitas), персонификация знатности.
nobilitas, -atis f [nobilis]
1) известность, слава (summorum virorum Cs);
2) знатность, родовитость (vir summa nobilitate C);
3) знать, аристократы (n. senatorum Ap): n. equestris T всадническая знать;
4) благородство, достоинство (mentis Fronto; n. ingenita T);
5) высокие качества, превосходные свойства (discipulorum C; rosae PM);
6) представитель знати (nobilitates externae T).
Изображалась Нобилитас в виде стоящей женской фигуры, со скипетром в одной руке и статуэткой Минервы — в другой. На монетах, чеканеных Филиппом I, Нобилитас держит, вместо Минервы, глобус. На ауреях Коммода Нобилитас держит в руке статуэтку Коммода с глобусом в руке.


85. Гета (как цезарь, 198-209). Рим. Денарий (AR 20mm, 3.20g), ок. 199-204гг. Av: бюст Геты; P SEPT GETA CAES PONT. Rv: Нобилитас со скипетром и статуэткой Минервы в шлеме, с копьем и патерой; NOBILITAS
86. Филипп I (244-249). Рим. Антониниан (AR 22mm, 3.95g), ок. 248/9г. Av: бюст Филиппа I в радиальной короне; IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Rv: Нобилитас со скипетром и глобусом; NOBILITAS AVG G


87. Филипп I (244-249). Рим. Сестерций (Æ 13.74g), 248/9г. Av: бюст Филиппа I в лавровом венке; IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Rv: Нобилитас со скипетром и глобусом; NOBILITAS AVG G / S C
88. Коммод (177-192). Аурей (AV 7.17g), 186/7г. Av: бюст Коммода в лавровом венке; M COMM ANT P FEL AVG BRIT Rv: Нобилитас со скипетром и статуэткой Коммода, в руках которого скипетр и глобус; NOBILIT AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P
_______________________________
Пакс (pax, pacis — «мир», «покой», «благоволение»).
Пакс, в римской мифологии, — персонификация мира. Культ ее был введен Августом, посвятившем Пакс по решению сената в 9 году до н.э. алтарь на Марсовом поле в знак установленного им на земле мира и благоденствия. Изображения персонификации с различными эпитетами в виде женщины с оливковой ветвью мира, кадуцеем и Рогом изобилия часто встречаются на римских монетах.


89. Тит (Titus Flavius Vespasianus, 79-81). Сестерций (Æ 34mm, 26.63g), 80/1г. Av: бюст Тита в лавровом венке; IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P COS VIII. Rv: Пакс с Рогом изобилия и оливковой ветвью; PAX AVGVST / S C
90. Антонин Пий (138-161). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 24.96g), 146/7г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS TR P. Rv: Пакс с Рогом изобилия в левой руке, в правой руке держит факел, которым поджигает оружие, сваленное в кучу; COS IIII / PAX AVG / S C


91. Домициан (81-96). Рим. Асс (Æ 28mm, 12.80g). Av: бюст Домициана в лавровом венке; CAESAR AVG F DOMITIAN COS II. Rv: Пакс с кадуцеем и оливковой ветвью стоит, опершись о колонну; PAX AVGVSTI / S C
92. Тит (79-81). Рим. Дупондий (Æ 29mm, 10.40g). Av: бюст Тита в лавровом венке; T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR. Rv: Пакс перед алтарем с патерой в правой руке, в левой руке держит кадуцей и оливковую ветвь; PAX AVG / S C


93. Антонин Пий (138-161). Рим. Аурей (AV 19mm, 7.33g), ок. 150/1г. Av: бюст Антонина Пия; IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS P P. Rv: Пакс со скипетром и оливковой ветвью; TR POT XIIII COS IIII / PAX
94. Веспасиан (69-79). Рим. Сестерций (Æ 32mm, 27.02g), 71/2г. Av: бюст Веспасиана в лавровом венке; IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS III. Rv: Пакс с Рогом изобилия и оливковой ветвью; PAX AVGVSTI / S C


95. Вителлий (Vitellius, 69г.). Фальшивый асс Джованни Кавино (Giovanni Cavino) падуанского типа (Æ 28mm, 14.62g), ок. 1513-27гг. Av: бюст Вителлия в лавровом венке; A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M T P P. Rv: Пакс с Рогом изобилия и оливковой ветвью; PAX AVGVSTI / S C
96. Пупиен (соправитель Бальбина, апрель-июль 238г.). Рим. Сестерций (Æ 32mm, 19.73g). Av: бюст Пупиена в лавровом венке; IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG. Rv: Пакс на троне со скипетром и оливковой ветвью; PAX PVBLICA / S C
_______________________________
Спес (Spes — «надежда», «упование»).
Персонификация надежды, встречается на монетах в виде женской фигуры, с цветком в правой руке, левой рукой придерживающей край туники. Встречаются также изображения, на которых Спес стоит лицом к Фортуне или императору.
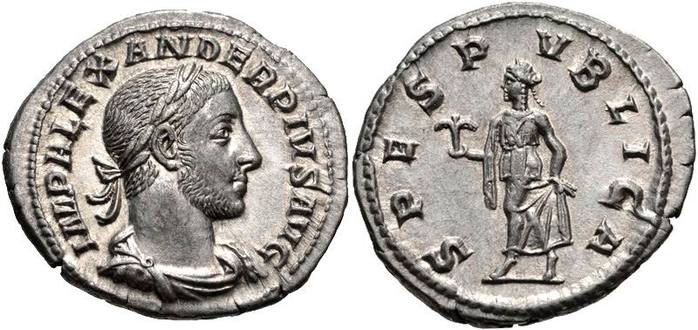

97. Александр Север (222-235). Рим. Денарий (AR 20mm, 3.16g), 232/3г. Av: бюст Александра в лавровом венке; IMP ALEXANDER PIVS AVG. Rv: Спес, с цветком в правой руке, идет придерживая тунику левой рукой; SPES PVBLICA
98. Диадумениан (как цезарь, 217-218). Денарий (AR 20mm, 3.45g). Av: бюст Диадумениана; M OPEL ANT DIADVMENIAN CAES. Rv: Спес, с цветком в правой руке, идет придерживая тунику левой рукой; SPES PVBLICA


99. Клавдий (41-54). Рим. Сестерций (Æ 36mm, 30.68g), 41/2г. Av: бюст Клавдия в лавровом венке; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP. Rv: Спес, с цветком в правой руке, идет придерживая тунику левой рукой; SPES AVGVSTA / S C
100. Александр Север (222-235). Рим. Сестерций (Æ 32mm, 22.18g), 232/3г. Av: бюст Александра в лавровом венке; IMP ALEXANDER PIVS AVG. Rv: Спес, с цветком в правой руке, идет придерживая тунику левой рукой; SPES PVBLICA / S C
_______________________________
Транквиллитас (Tranquillitas — «спокойствие», «безмятежность»), персонификация покоя.
Транквиллитас встречается, например, на монетах Адриана в образе женской фигуры со скипетром; на монетах Антонина Пия — с корабельным рулем и колосьями; на монетах Филиппа I — со скипетром и Козерогом. Образ Транквиллитас на монетах Антонина Пия повторяет иконографию александрийской Тихи (башенная корона, руль). Из портов Александрии шли значительные поставки хлеба. В целом, атрибуты Транквиллитас — хлебные колосья и корабельный руль — это, своего рода, пожелание спокойного моря для кораблей с провизией из Египта в Рим.
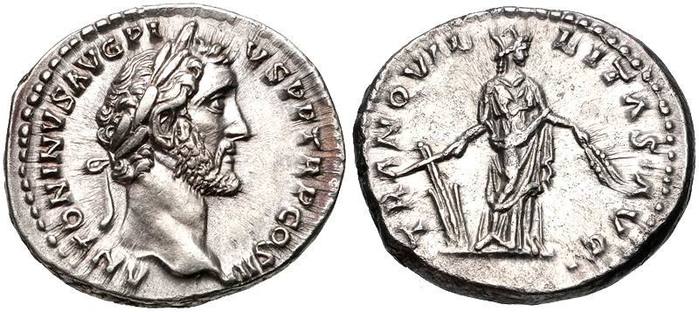
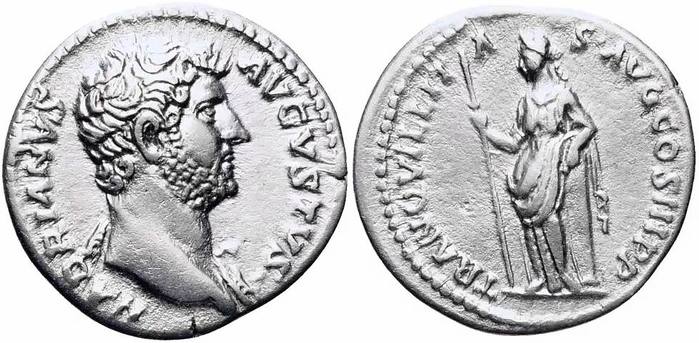
101. Антонин Пий (138-161). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.99g), ок. 142/3г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Rv: Транквиллитас в башенной короне, с корабельным рулем и пучком колосьев; TRANQVILLITAS AVG
102. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.20g), ок. 133/4г. Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS. Rv: Транквиллитас со скипетром стоит, опершись о колонну; TRANQVILLITAS AVG COS III P P


103. Адриан (117-138). Рим. Асс (Æ 27mm, 11.88g), ок. 132-135гг. Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS. Rv: Транквиллитас со скипетром стоит, опершись о колонну; TRANQVILLITAS AVG COS III P P / S C
104. Филипп I (244-249). Рим. Сестерций (Æ 27mm, 11.32g), 248/9г. Av: бюст Филиппа I в лавровом венке; IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Rv: Транквиллитас со скипетром и Козерогом; TRANQVILLITAS AVG G / S C
_______________________________
Пудицития (Pudicitia — «стыдливость», «скромность»), персонификация целомудрия.
Встречается главным образом на монетах римских императриц в виде женской фигуры в длинной тоге. Пудицития почиталась патрицианскими женщинами в особом святилище на Скотном рынке как Pudicitia Patricia (Пудицития Патрицианка). В 297 до н.э. патрицианские женщины отстранили патрицианку Виргинию от служения этой богине за то, что она вышла замуж за плебея, и она основала отдельное святилище Pudicitia Plebeia для плебейских матрон. Впоследствии, в более испорченные времена, служение Стыдливости потеряло свою былую чистоту и святость. В Греции ей соответствовала Эйдос (Αἰδώς), имевшая жертвенник в Афинах.
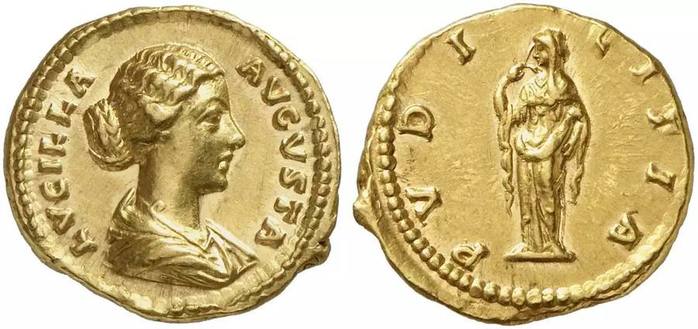

105. Люцилла Августа (164-182). Рим. Аурей (AV 19mm 7.17g), ок. 164-169гг. Av: бюст Люциллы; LVCILLA AVGVSTA. Rv: Пудицития, облаченная в тогу, придерживает край полоса у лица; PVDICITIA
106. Сабина Августа (128-137). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.32g), ок. 128-134гг. Av: бюст Сабины в диадеме; SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P (Sabina Augusta, Hadriani Augusti, Patris Patrice). Rv: Пудицития, облаченная в тогу, верхний край тоги придерживает рукой; PVDICITIA
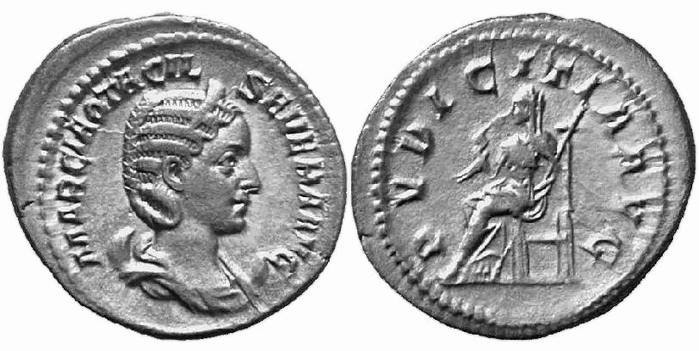

107. Отацилия Севера (Marcia Otacilia Severa, 244-249). Рим. Антониниан (AR 24mm, 4.02g), 245/6г. Av: бюст Отацилии в диадеме; снизу бюст обрамляет лунный серп; MARCIA OTACIL SEVERA AVG. Rv: Пудицития на троне, облаченная в тогу, край полоса, покрывающего голову, придерживает рукой, в другой руке — скипетр; PVDICITIA AVG
108. Геренния Этрусцилла (Annia Cupressenia Herennia Etruscilla, 249-251). Рим. Антониниан (AR 22mm, 4.68g), ок. 250г. Av: бюст Гереннии в диадеме; снизу бюст обрамляет лунный серп; HER ETRVSCILLA AVG. Rv: Пудицития на троне, облаченная в тогу, край полоса, покрывающего голову, придерживает рукой, в другой руке — скипетр; PVDICITIA AVG
_______________________________
Юстиция (Iustitia), персонификация правосудия.
Как правило, Юстиция изображается сидящей на троне, со скипетром и патерой. На монетах Нервы Юстиция изображалась на троне со скипетром и оливковой ветвью. Особняком стоят монеты Песценния Нигера, Юстиция на них, видимо, смешивалась с Эквитас (Aequitas — «беспристрастие», «справедливость») и чеканилась стоящей, либо с Рогом изобилия и весами, либо с глобусом и скипетром.


109. Адриан (117-138). Рим. Аурей (AV 7.29g), 134-138гг. Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Юстиция на троне со скипетром и патерой; IVSTITIA AVG
110. Александр Север (222-235). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 20.74g), 230/1г. Av: бюст Александра в лавровом венке; IMP SEV ALEXANDER AVG. Rv: Юстиция на троне со скипетром и патерой; IVSTITIA AVGVSTI / SC


111. Нерва (96-98). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.15g), 97/8г. Av: бюст Нервы в лавровом венке; IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P. Rv: Юстиция на троне со скипетром и лавровой ветвью; IVSTITIA AVGVST
112. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.17g). Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS. Rv: Юстиция на троне со скипетром и патерой; IVSTITIA AVG P P / COS III
_______________________________
Эквитас (Aequitas — «беспристрастие», «справедливость»), персонификация справедливости.
Изображалась на монетах со времени правления императора Гальбы до конца III века в виде стоящей женской фигуры с весами и Рогом изобилия.


113. Пертинакс (193). Рим. Аурей (AV 21mm, 7.25g). Av: бюст Пертинакса в лавровом венке; IMP CAES P HELV PERTIN AVG. Rv: Эквитас с весами и Рогом изобилия; AEQVIT AVG TR P COS II
114. Макрин (217-218). Рим. Денарий (AR 19mm, 2.81g). Av: бюст Макрина в лавровом венке; IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG. Rv: Эквитас с весами и Рогом изобилия; AEQVITAS AVG
_______________________________
Провиденция (Providentia), римская персонификация предвидения, божественного провидения, заботы императора о троне и империи.
Провиденция изображалась в виде женской фигуры с атрибутами: скипетром, жезлом, земным шаром, Рогом изобилия и др.


115. Александр Север (222-235). Рим. Аурей (AV 5.61g), 231/2г. Av: бюст Александра в лавровом венке; IMP ALEXANDER PIVS AVG. Rv: Провиденция стоит перед модиусом с пучком колосьев в руке, другой рукой опирается на якорь; PROVIDENTIA AVG
116. Кар (Marcus Aurelius Carus, 282-283). Тицин. Аурей (AV 4.36g). Av: бюст Кара в лавровом венке; IMP C M AVR CARVS P F AVG. Rv: Провиденция со скипетром в левой руке, в правой держит глобус; PROVIDENTIA AVG


117. Септимий Север (Lucius Septimius Severus Pertinax, 193-211). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.40g), 198/9г. Av: бюст Септимия Севера в лавровом венке; L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX. Rv: Провиденция с жезлом в правой руке и скипетром в левой, у ног лежит глобус; PROVID AVG G
118. Александр Север (222-235). Рим. Денарий (AR 21mm, 2.96g), 232/3г. Av: бюст Александра в лавровом венке; IMP ALEXANDER PIVS AVG. Rv: Провиденция стоит перед модиусом с Рогом изобилия и пучком колосьев; PROVIDENTIA AVG


119. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 17mm, 3.08g), ок. 134-138гг. Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Провиденция со скипетром, у ног лежит глобус; PROVIDENTIA AVG
120. Макрин (217-218). Рим. Денарий (AR 20mm, 3.66g), 218г. Av: бюст Макрина в лавровом венке; IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG. Rv: Провиденция с жезлом и Рогом изобилия, у ног лежит глобус; PROVIDENTIA DEO RVM


121. Гордиан II (238). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.22g). Av: бюст Гордиана II в лавровом венке; IMP M ANT GORDIANVS AFR AVG. Rv: Провиденция стоит, опершись о колонну с Рогом изобилия и жезлом, у ног лежит глобус; PROVIDENTIA AVG G
122. Пертинакс (193). Рим. Денарий (AR 17mm, 3.25g). Av: бюст Пертинакса в лавровом венке; IMP CAES P HELV PERTIN AVG. Rv: Провиденция стоит, воздев руку к звезде; PROVID DEO R / COS II


123. Пертинакс (193). Рим. Аурей (AV 21mm, 7.31g). Av: бюст Пертинакса в лавровом венке; IMP CAES P HELV PERTIN AVG. Rv: Провиденция стоит, воздев руки к звезде; PROVID DEO R / COS II
124. Марк Аврелий (161-180). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.07g), 161/2г. Av: бюст Марка Аврелия в лавровом венке; IMP M AVREL ANTONIINVS AVG. Rv: Провиденция с Рогом изобилия в левой руке, в правой руке держит глобус; PROV DEO R / TR P XV COS III
_______________________________
|
Метки: Рим Нумизматика |
КОРОВЫ ГЕРИОНА |
Аполлодор
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА II
Десятым подвигом Эврисфей назначил ему [Гераклу] привести коров Гериона из Эритеи. Эритея была островом, расположенным за Океаном: ныне этот остров называется Гадейра. На этом острове обитал Герион, сын Хрисаора и Каллирои, дочери Океана. Он обладал телом, сросшимся из трех человеческих тел, соединенных между собой до пояса, но разделявшихся от подреберья и бедер. Ему принадлежали красные коровы, которых пас Эвритион, а сторожил двуглавый пес Ортр, порожденный Ехидной и Тифоном.
Отправившись за коровами Гериона, Геракл прошел через многие степи Европы и пришел в Ливию. Придя в Тартесс, он поставил там памятные знаки о своем походе на границах Европы и Ливии — две одинаковые каменные стелы.
Обжигаемый лучами солнца во время похода, Геракл направил свой лук против бога Гелиоса, и тот, пораженный его мужеством, дал ему золотой кубок, в котором Геракл и пересек Океан. Прибыв в Эритею, Геракл расположился для ночлега на горе Абанте. Собака, учуяв его, кинулась к нему, но Геракл отразил ее дубиной и убил пастуха Эвритиона, прибежавшего ей на помощь.
Менет, который пас там коров Аида, рассказал о случившемся Гериону, и тот, застав Геракла на берегу реки Антемунта угоняющим коров, вступил с ним в борьбу, но Геракл убил его, застрелив из лука. После этого он загнал коров в кубок и, переплыв в Тартесс, вернул кубок Гелиосу.
Затем он пересек Абдерию и прибыл в Лигурию, где сыновья Посейдона Иалебион и Деркин попытались отобрать у него коров. Убив их, Геракл двинулся через Тиррению. В области Регия один бык отбился от стада, кинулся в море и переплыл в Сицилию, перешел через близлежащую землю (которая по его имени названа Италией, ибо тирренцы называют быка словом «италос»). Затем он вышел в долину Эрика, который царствовал над элимами. Эрик этот был сыном Посейдона, и он загнал быка в свои стада.
Геракл же, передав коров Гефесту, поспешил на поиски этого быка и нашел его в стадах Эрика, но тот сказал, что отдаст быка только в том случае, если Геракл одолеет его в борьбе. Геракл вступил с ним в борьбу и, трижды взяв верх, убил Эрика; быка он погнал вместе со всем стадом к Ионийскому морю. Когда они подошли к морской излучине, Гера наслала на коров слепня, и стадо разделилось в области фракийского предгорья. Геракл поймал часть стада и погнал его в направлении Геллеспонта, другая же часть осталась дикой. Едва согнав коров к реке Стримону, Геракл вознегодовал на эту реку, издавна бывшую судоходной. Набросав в нее скал, он сделал ее несудоходной, и пригнав коров к Эврисфею, отдал их ему, а тот принес коров в жертву богине Гере.
_____________________________
С.В. Дмитриев
ГЕРАКЛ В ДРЕВНЕЙШЕЙ ИТАЛИИ (рассказ Аполлодора и его источники)
(Статья приведена с некоторыми сокращениями)
1. Указание на то, что Герион (Γηρυών)¹ жил на Эритии (Ἐρύθεια),² встречается у многих авторов; Гесиод (Th., 290) и Стесихор (Bergk fr., 10) считали ее островом.
________________________________
[1] Γηρυών (-όνος) ὁ Герион (сын Хрисаора, трехтелый исполин, у которого Геракл угнал быков) Pind., Aesch.
[2] Ἐρύθεια, ион. Ἐρυθείη ἡ Эрифея (миф. остров на крайнем Западе, за Геракловыми столпами, царство трехтелого Гериона) Hes., Her., Isocr.
2. Гесиод говорит, что Герион был рожден от Хрисаора³ и дочери Океана Каллирои и имел три головы (Th., 287 f).
3. Эврития (Εὐρυτίων)⁴ и его пса Ортра упоминает Гесиод (Th., 293), называя тех же родителей Гериона (Th., 304 ff.).
________________________________
[3] Χρυσάωρ (-ορος) ὁ Хрисаор (сын Посидона и Медузы, отец Гериона и Эхидны) Hes.
[4] Эпитет Гериона Эвритий (Εὐρυτίων) очень похоже на искаженное «Эрифеон» (Ἐρύθειων, т.е. Эрифейский, с острова Эрифея).
4. 1. По Ферекиду, Геракл убивал животных, идя за яблоками Гесперид, в Ливии, считавшейся «матерью диких животных» (Apollon., 4. 1561; Suid. Λιβυκὸν θηρίον), по Диодору — на Крите (4. 17. 3), в котором хотят видеть «Европу»⁵ (Lyc. Alex., 1836).
________________________________
[5] Согласно мифу, Зевс, в образе быка, похитив Европу, переносит ее на Крит.
2. В древнейшие времена полагали, что между Европой и Азией не существует пролива (Diod., 4. 18. 5), и, следовательно, античная традиция упоминания о «столпах» возникла уже сравнительно поздно (Diod., 4. 18. 4).
3. Путь из «Европы» в Ливию лежал через Тартесс; причастие «παρελθὼν» заставляет видеть в Тартессе либо реку (ср.: Ταρτησσοῦ ποταμοῦ. — Stesichor., fr. 5), либо область (ср. города Тартесса — Hecat., fr. 4; 5). Страбон предположил, что в основе гомеровского «Тартара» лежал далекий западный Тартесс (3. 2. 12).
5. 1. Если Эрития-Гадира находилась в Ливии (Diod., 4. 18. 2), то зачем Гераклу надо было переправляться в нее через Океан из Европы? То, что эта «Европа» не означала современный материк, видно и из описания Аполлодором обратного пути Геракла (2. 5. 10. 9-11). Каллимах говорит о «светло(рыже?)волосых ливийских женщинах» (Hymn., 2. 86), а Ст. Византийский сообщает: «Λίβυσσα φρουρίον Βιθυνίας ἐπιψαλάσσιον» и «Λιβυστῖνοι ἔθνος παρακείμενον Κόλχοις, с.4 ὡς Διόφαντος». «Ὃς εἰς Κύταιαν τὴν Λιβυστίνην μολὼν», — говорит Ликофрон о Колхиде (Alex., 1312). Под «Ливией» Аполлодора скрывалась, возможно, область к востоку от Греции — северо-восточная Малая Азия или Колхида.
2. У колхов солнце всходило, а в Ливии заходило (Apollon., 1. 81 f): это были «края света», и многие авторы пролагали путь Геракла в «чаше Солнца» через Океан — из Ливии к Прометею, на Кавказ (Pherec., fr. 33), от Кавказа до Гесперид, в Ливию (Эсхил, fr. 76) сам путь из Колхиды в Ливию через Океан указал аргонавтам еще Гесиод (Schol. Apollon., 4. 259).
3. Особенностью архаического греческого менталитета являлось то, что «края света» могли заселяться одними и теми же людьми: и на востоке, и на западе жили эфиопы (Strabo, I. 2. 26; Эсхил, fr. 192; Эврипид, fr. 771), Цирцея (Hom. Od., 10. 135; 12. 1-9), амазонки (Diod., 2. 44-45; 3. 52-55), иберы (Eustath. Com. Dion., 694 ff.) и т.д. То же, следовательно, могло относиться и к Ливии (см.: Apollon, 4. 1227).
6. Гомер сообщает, что племя абантов владело Эвбеей и, видимо, еще до Троянской войны (Strabo, 10. 1. 8 f.). Упоминает их и Архилох (Plu. Thes., 5, cf. Hom. Il., 2. 536 f.).
7. Сюжет и персонажи нигде более не встречаются; интересны три момента:
1. По Страбону, на Эвбее было две реки, покупавшись в одной из которых, скот становился белым, а в другой — черным. Быки Солнца (Гелиоса) могли быть и красными (φοίνικοι) — быки Гериона, и белыми; быки Аида, которых пас на Эритии, считавшейся островом, Менет, были, очевидно, черными. И Солнце (Ἥλιος), и Аид (Тартар) явно ассоциировались с «краями света».⁶
________________________________
[6] ἥλιος, эп. преимущ. ἠέλιος, дор. ἀέλιος и ἅλιος ὁ
1) солнце; ex. ἡλίου κύκλος Trag., Arst. — солнечный диск;
2) место восхода солнца, восток; ex. πρὸς ἠῶ τ΄ ἠέλιόν τε Hom., πρὸς ἠῶ τε καὴ ἡλίου ἀνατολάς или πρὸς ἠῶ τε καὴ ἥλιον ἀνατέλλοντα Her. — к востоку, на восток;
3) дневной путь солнца, т.е. день; ex. φῶς ἓν ἡλίου Eur. — свет одного дня, т.е. всего лишь один день;
4) солнечная жара, зной; ex. ὁ ἥ. πολύς Luc. — сильная жара;
5) солнечный свет;
6) светлое настроение, ясность;
Λιβύη, дор. Λιβύα ἡ Ливия
1) дочь Эпафа, мать Агенора, Бела и Лелега от Зевса Aesch. etc.
2) сев.-зап. побережье Африки до обоих Сиртов Hom.
3) (= Λιβυκὸς νομός) область между сев. Египтом и Мармарикой Her.
4) вся сев. Африка Arst., Polyb. etc.
2. Менет был застрелен из лука; ни один из известных нам претендентов на быков Гериона не был убит подобным образом.
3. В Вифинии, неподалеку от Симплегад, находилась Ἀνθεμοεισίδα λίμηνη (Apollon., 2. 724).
8. Предлог «εἰς» обозначает цель: следовательно, Тартесс здесь не река, а либо названный по имени реки (Strabo, 3. 2. 11) город, контакты с которым греки установили где-то в VII в. до н.э. (Herodot., 4. 152) и который был разрушен около 500 до н.э., либо область.
9. 1. Удивляет неожиданно четкое на общем размытом фоне указание на Абдеру. Этот город знали Гекатей (fr. 127), Гелланик (fr. 98), помещавшие древнейшую Абдеру во Фракию, и Эфор (fr. 72). У Ферекида Абдера связывалась с походом за конями Диомеда.
2. Разночтение «εἰς Λιγύην» (FHG, I, Müller) и «εἰς Λιγυστικῆ γῆ» (Loeb. clas., L., №121, Frazer) осложняет дело, так как «λίγυες» было названием саллиев, а «Λιγυστικῆ γῆ» означало место племени массалиотов, позже именуемых «кельтолигурами» (Strabo, 4. 6. 3). Массалия, «πόλις τῆς Λιγυστικῆς». (Hecat., fr. 22), была основана, видимо, в конце VI в. до н.э. (Tim., fr. 39 f.), а до этого существовало одно название — λίγυες. Аполлоний зовет Стойхадские острова «Лигустидскими» (Λιγυστίδας — 4. 553 f.), а Страбон, ссылаясь на «древних», населяет их массалиотами (4. 1. 10), жившими, по его же словам, в Лигустинии (4. 6. 3). Эти острова, если верить древнейшим источникам Аполлония, находились на другом «краю света» (4. 563-658 f.), за Эриданом и Роданом, причем последний явно может быть идентифицирован с Тартессом — Тартаром (см.: Apollon., 4. 625, f.; 646 f.).
3. Существовали, видимо, по указанному уже ранее принципу, и колхидские лигуры (Eustath., 76; Herodot, 5994), ведь лигуры помещались на «краю земли» (см.: Hes. fr., 132).
Сказать, что Аполлодор пользовался одним или преимущественно одним источником, на наш взгляд, не представляется возможным. Фрейзер считает, что его вероятным источником был Ферекид Афинский и опирается на фрагмент 3-й книги «Историй» Ферекида (Athenae, II. 470 f.). Однако хорошо видно, как схожие в принципе сюжеты имеют у этих авторов разное наполнение: у Аполлодора Солнце дало «чашу» Гераклу вовсе не из страха (как у Ферекида), а из восхищения его мужеством. Абсолютно отсутствует у Аполлодора упоминание об эпизоде с Океаном, приведенном в этом же месте Ферекидом, не совпадают и очередность подвигов, описание Ливии и многие другие детали. У Гекатея Герион жил не на Эритии, и даже не в Иберии, а Геракл привел быков в Микены — все это также отличается от текста Аполлодора (fr. 349). Не мог быть его источником и Гелланик.
То, что Аполлодор пользовался не одним, а несколькими источниками, причем обращаясь с ними весьма вольно, видно из бросающихся в глаза несоответствий различных частей его текста. Он мгновенно проводит Геракла по «Европе» в «Ливию», а затем, говоря об обратном пути Геракла, дает относительно подробное описание Европейского материка; автор представляет «Европу» и «Ливию» как современную Европу и северную Африку, но приводит рассказ о путешествии Геракла из «Ливии» на Эритию через Океан в «чаше Солнца»; оба Тартесса, упомянутых им, значат разное: в первом случае речь, скорее всего, идет о реке, а во втором — о городе; и т.д. Мы полагаем, что Аполлодор использовал различные источники, опираясь на различные сведения которых, он и создал цельное, но противоречивое повествование. Более того, правильнее было бы говорить не о конкретном источнике или источниках Аполлодора (это завело бы нас в тупик, поскольку прямые аналогии невозможны и окончательный ответ, таким образом, тоже невозможен), а о различных пластах или уровнях традиции описания этого подвига Геракла, которые появились в разное время и которые Аполлодор перемешал в своем повествовании. Таких уровней мы можем выделить четыре:
I. Очевидно, эта традиция появилась даже до гомеровского времени и связывала подвиги Геракла с землями, отстоящими сравнительно недалеко от северного Пелопоннеса. С ней, как кажется, следует соотносить «Европу» и «Ливию» Аполлодора, где под «Европой» понимаются древнейшие северо-восточные земли, а под «Ливией» — область, лежащая далее к востоку, но, видимо, ближе Колхиды (Diod., 1, 55. 3-5). С различными проявлениями этой традиции были, очевидно, связаны и воспоминания о возвращении Геракла с быками Гериона по Скифии и Фракии, т.е. по северо-восточным для Греции землям, сохранившиеся как у Аполлодора (2. 5. 10. 12-13), так и у Геродота (4. 8), а также указания на абантов и Эвбею. Одну из версий указанной традиции донес до нас Гекатей, утверждавший, что Герион в действительности жил в северной Греции, в Эпире, а именно — в области Амбракии и Амфилохии (fr. 349).
II. Со временем границы мира раздвинулись, и подвиги Геракла, связанные с походами на «край света», уводили его все дальше, даже за Океан. Новый уровень развития, или пласт традиции, насколько можно судить, дополнил предыдущий: герой, как и прежде, направлялся на север (северо-восток), ему приходилось переправляться через Океан, чтобы на «краю света» совершить свой подвиг. Обратный путь вначале, видимо, снова пролегал через Океан: у Аполлодора Геракл переплыл его и вернул «чашу» Солнцу. Привнесение Аполлодором поздней трактовки названий «Европа» и «Ливия» в более ранний пласт традиции привело к путанице: Геракл направился в «чаше Солнца» с запада, и, следовательно, получилось так, что Герион жил на восточном «краю земли». Тем не менее, несмотря на путаницу, Геракл возвращался прежним путем: герой шел на северо-восток, переплывал Океан, совершал подвиг, опять переплывал Океан и возвращался домой, следовательно, с северо-востока, т.е. из тех же Скифии и Фракии. Таким образом, место подвига было просто перенесено за Океан, и противоречия между маршрутами героя на первом и втором уровнях традиции как такового не существовало.
III. В то же время уже Гесиодом был проложен, а Аполлодором, опиравшимся на древнейшие источники, повторен путь аргонавтов: северо-восток, северная Малая Азия (!), Колхида, Океан, Ливия, Европа (лигуры, Тиррения), Сицилия, Греция. Он был модифицирован Геродотом, «открывшим» пролив из Океана в Средиземное море (аргонавты Гериода были вынуждены нести свой корабль на руках через Ливию, пока не достигли «внутреннего моря» — ведь пролива, а следовательно, и «столпов» тогда еще не знали) и утверждавшим, что «то море, по которому во всех направлениях плавают эллины, и море по ту сторону Геракловых столпов, а также Эритрейское составляют собственно одно целое» (1. 202).
Эта традиция, поздняя, но восходящая к Гомеру и Гесиоду, также была использована Аполлодором (что особенно заметно, если пренебречь упомянутой путаницей с Тартессом как местом отплытия в «чаше Солнца» к Гериону). Об этом свидетельствуют три обстоятельства:
1) упоминание кельтов, лигуров и Тиррении (ср.: Apollod., 2, 5. 10. 9, 1. 9. 24. 5, и Apollon., 4. 646, 659);
2) прямой путь Геракла из Тиррении на Сицилию, минуя лежащие между ними земли, т.е. путь Одиссея у Гомера и аргонавтов у Гесиода. К Гесиоду же, видимо, восходит помещение Гериона на крайнем западе — острове Эрития, а также облик Гериона, как и имена и родословные пастуха и его собаки;
3) наконец, впервые встречающееся упоминание названия «Италия», но применительно лишь к тем землям, которые были загадкой для Гомера и Гесиода: их герои миновали эти земли, направляясь из Тиррении на Сицилию. Понимание под «Италией» этих земель, простирающихся от Тиррении до Мессинского пролива, было характерно, по крайней мере, для V в. до н.э.
Последний пласт традиции уже значительно разнится от первых двух, так как позволяет проложить другой путь для возвращения Геракла от Гериона, а именно по европейскому материку.
IV. Самая поздняя из известных нам версий предусматривает единственно принятый в поздней мифологии и соответствующих научных трудах маршрут похода Геракла к Гериону: он выступает в путь по северному берегу Африки, т.е. по Ливии, в привычном понимании этого слова (см.: Diod., 4. 17-18), устанавливает «столпы» между Ливией и Европой-материком, добывает быков в Испании (ibid., 4. 18. 2 f.), а затем идет домой по Европе, в том числе по Италии. Данную версию Аполлодор также хорошо знал, что подтверждается неудачным включением эпизода с установлением «столпов» в древнейший пласт традиции повествования о «Европе» и «Ливии» (2. 5. 10. 4) и намеком на осведомленность о том факте, что в соответствии с уровнем развития традиции бык, сбежавший от Геракла, переплыл Мессинский пролив, который повлек за собой не менее неудачный экскурс в этимологию, касающийся названия города Регий, и, как и в первом случае, грубое смешение разных уровней традиции.
Эта новейшая традиция, как видно, ограничивает путь Геракла средиземноморским побережьем, изменив, следовательно, уже не путь возвращения, а маршрут похода до Гериона. В целом же схема путешествия Геракла снова предстала в виде круга, но теперь уже лежащего к западу от Греции. И ничто уже не напоминало о том, какую эволюцию претерпела древнегреческая традиция о походе Геракла за быками Гериона. Остались лишь разрозненные воспоминания о прежних представлениях, которые кажутся читателю нелепыми на фоне яркого и цельного позднего воспроизведения мифа, обраставшего все более красочными подробностями, большую часть которых составляли подвиги Геракла, совершенные им в Италии, на пути от Гериона.
_____________________________
_____________
КОММЕНТАРИИ
ЧАСТЬ I
ЭРИФЕЯ
Для начала пройдемся по именам персонажей острова Эрифея, куда Геракл плавал за теми самыми красными коровами.
«Мрачная обитель за Океаном великим и славным» — это, как мы понимаем, Аид. Геракл не единожды хаживал в царство теней. В описаниях греческой географии разные ученые мужи указывали разные места схождения Геракла в царство мертвых, все они связаны с глубокими пещерами и тектоническими разломами. Но до Аида, как видим, можно и доплыть. Здесь явно просвечивает египетское влияние.
Каждое утро Ра садится в свою дневную ладью (mˁnḏt, Манджет), в сопровождении своей свиты, и отправляется в долгое путешествие по небесному Нилу с востока на запад. Достигнув запада, Ра пересаживается в ночную ладью (msktt, Месктет), в которой он продолжает свое опасное путешествие по подземному Нилу, во время которого Ра подвергается нападкам змея Апопа, пытающегося привнести хаос в небесную гармонию.
Исходя из выше изложенного, Гелиос дает Гераклу не «золотой кубок» (как приводится в тексте), а «золотую ладью».⁸ Путаница, как обычно в таких случаях, возникает из-за трудностей перевода и незнания первоисточников.
____________________________
[8] κύμβη ἡ досл. чаша, перен. челн Soph.
ἀμίς, ἁμίς (-ίδος) ἡ
1) ночная посуда Arph. Dem., Plut.
2) ладья Aesch.
σκαφίς (-ίδος) ἡ
1) подойник Hom.
2) корзина, плетенка;
3) чаша, таз, миска Arph., Theocr.
4) челнок, лодка Anth.
Значение слова σκαφίς — «таз» — вызывает ассоциации со словом «корыто». «Старым корытом», по сю пору, называют ржавые суда, потрепанные временем и морем. Или, например, «посудина» — так моряки (или рыбаки) снисходительно называют утлые небольшие суденышки и в наши дни.
Удивительно, но Вячеслав Иванов, пожалуй, единственный, кто адекватно переводит «посудину» Гелиоса, именуя средство передвижения по воде как «золотой челн».
Текст Аполлодора, в том месте, где Геракл получает от Гелиоса ладью, полезно сравнить с текстом Ферекида, сохраненным нам Афинеем (XI, 39, р. 470 CD):
Касательно этой цитаты, любопытно, что Писандр во второй книге «Гераклеи» (Ἡρακλεία) говорит, что «чашу» Гелиоса Геракл получил от самого Океана (видимо, тоже под угрозой выстрелить в него из лука). А Паниасид в первой книге своей «Гераклеи» рассказывает, что «фиал» Гелиоса Геракл унес у Нерея и в нем доплыл до Эрифии. Кто во что горазд.
Да, так вот, возвращаемся к именам, эпитетам и названиям этого удивительного острова Эрифея. Собственно с названия острова и начнем. Слово Ἐρύθεια переводят как «красный». Объясняется это тем, что остров окрашивается в красный цвет в лучах зари. Ситуация усложняется еще и тем, что коровы Гериона были тоже красного цвета. Возможно они окрашивались в красный цвет вместе с островом, теми же лучами. Либо, будучи по названию острова Эрифейскими, они приобрели нужный оттенок в силу игры слов:
Об эпитете Гериона — Эвритион (Εὐρυτίων) — я уже давал пояснение в тексте статьи, повторюсь, очень похоже на искаженное «Эрифеон» (Ἐρύθειων, т.е. Эрифейский, с острова Эрифея). Само слово Εὐρυτίων имеет примерное значение: «хорошо охраняющий», или, в переводе на литературный русский, — «прекрасный пастушок».
Однако и само имя Гериона (Γηρυών) заставляет обратить на себя внимание. Этимологию имени логично было бы вывести от слова γηρύω, но значения его неоднозначны и противоречивы:
К тому же о характере Гериона ничего неизвестно. Был ли он говорлив, певуч? Или, напротив, изъяснялся на языке стада, которое охранял? О том история умалчивает.
Вызывает интерес имя пса Орфа (Ὄρθος или Ὄρθρος), который помогал Гериону охранять стадо. Значение слова ορθός — «прямой, правильный» — не объясняет ничего. Гораздо интересней вариант написания имени — Ὄρθρος
Немного неожиданно для сторожевого адского пса. Хотя, если попробовать поискать созвучия к «мычащему» имени Гериона (Γηρυών), можно найти удивительные параллельные ассоциации.
Если допустить мысль, что имя Гериона является искажением изначального имени со значением «утренний» (от ἠρι), то все становится на свои места. Во-первых, появляется смысл в наличии второго адского пса Орфа. Если Кербер осуществляет охрану врат в царство Аида на западе, то Орф охраняет восточные ворота Аида, откуда выходит солнечная ладья, после ночного путешествия (если развивать тему египетского заимствования сюжета).
Во-вторых, несмотря на путаный рассказ Аполлодора, все же можно попытаться попробовать ухватить исходные смыслы. Геракл из Греции, «через многие степи Европы», проходит до самого западного ее побережья, т.е. до берегов реки Океан. Здесь он получает от Гелиоса «солнечную ладью», на которой отправляется, через западные врата Аида, на волшебный остров, пламенеющий в лучах (утренней?) зари. Поразив хтонического великана Гериона, Геракл выводит его стадо через восточные (читай «утренние») ворота, и оказывается в районе Колхиды. А Колхида (которая для греков была «краем света») — это, фактически, синоним слова «восток».
Дмитриева С.В. удивляет «неожиданно четкое на общем размытом фоне указание на Абдеру», которую Гекатей и Гелланик помещают во Фракию.⁹ Это не вписывается в его теорию, поэтому он призывает относиться к упоминанию Абдеры, как к ошибочному смешению разных источников. Однако, принимая уже за факт, что Геракл возвращается с востока, он и должен был пересечь Фракию. Другое дело, что далее его зачем-то заносит в Лигурию (прибрежная область на северо-западе Апеннинского полуострова). Дмитриев предлагает и к Лигурии (Λιγυστική)¹⁰ относиться как к позднейшему наслоению. А вот с этим можно и согласиться, ибо, путешествуя из Фракии в Грецию, на италийский полуостров можно попасть только очень сильно заблудившись.
_______________________________
[9] Ἄβδηρα τά Абдеры (город во Фракии Her.);
[10] Λιγυστική ἡ (sc. γῆ) Лигурия Arst.
Можно предположить, что этот крюк (с заходом в Италию, и далее на Сицилию) Геракл сделал из-за созвучия географических названий. В изложении Гесиода, Геракл со стадом, перейдя в брод Океан направляется к Тиринфу (Τίρυνς), т.е. в Арголиду (Пелопоннес), откуда его и послал за коровами арголидский царь Эврисфей. В изложении же Аполлодора, Геракл, пройдя Абдеру и Лигурию, «двинулся через Тиррению (Τυρρηνία)». Возможно созвучие названий Тиринфа — Τίρυνς и Тиррении (особенно староаттический и ионийский варианты) — Τυρσηνία (Τυρσηνίη)¹¹ как раз и послужило причиной развития «итальянского» сюжета?
[11] Τίρυνς (-υνθος) ἡ Тиринф (древний город в Арголиде, на полуострове Пелопоннес, к юго-вост. от Аргоса) Hom., Hes. etc.
Τυρρηνία, староатт. Τυρσηνία, ион. Τυρσηνίη ἡ Тиррения, т.е. Этрурия (в Италии) Her., Thuc., Plat.
Т.е., в сухом остатке имеем, что, ушедший на запад Геракл, возвращается в Грецию с красными коровами Гериона с востока. Противоречия (которым, в выше приведенной статье С.В. Дмитриева, было посвящено так много внимания) сняты. Как говаривал Начальник Чукотки: «потому что Земля — круглая».
PS
А все же, что это за коровы за такие — красные? Как певал когда-то Цой, «Небесный пастух пасет облака»? Очень похоже на то. Но, если с розовеющими на заре облаками, в принципе, все понятно, то об их пастухе все же пару слов имеет смысл добавить.
Как видно из текста, Аполлодор (в отличие, например, от Гесиода) отделяет Гериона (владельца коров) от пастуха Эвритиона, этих коров пасущего. Мало нам раздвоившегося Гериона, «на сцене» появляется еще один пастух (пасущий коров Аида) по имени Менет (Μενοίτης). Причем, имя Менет несколько напоминает имя анатолийского лунного бога Мена (Μήν), а также греческое слово μηνοειδές — «серп» (лунный, естественно).¹²
________________________________
[12] μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. — лунное сияние;
μήνη, дор. μήνα ἡ луна; ex. (ἡ νύκτερος μ. Aesch.; σέλας μήνης Hom.);
Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.
μηνοειδές τό полукруг, дуга, серп;
μηνοειδής (μηνο-ειδής) полулунный, серпообразный, полукружный; ex. (σελήνη Xen., Plut.).
Опять же, трехтелость Гериона ассоциируется с тремя фазами луны (что перекликается с лунной триморфной Гекатой). И, кстати говоря, три мономорфных пастуха (Герион, Эвритион и Менет) и один трехтелый Герион — возможно, это две разные версии мифа, совмещенные Аполлодором (а, вернее, задолго до него) в одно повествование? В статье дается косвенное подтверждение этой версии, со ссылкой на Страбона:
Эти же три цвета (белый, красный и черный) Евсевий, цитируя Порфирия, ассоциирует с Гекатой Триморфой:
Впрочем, лунную тему можно подтянуть за уши еще плотнее к рассматриваемой нами истории. Если уж на «красном» острове пасутся красные (или рыжей масти) коровы, то почему бы и их пастуху Менету не быть рыжим? Сказано — сделано: μήν + αἰθός.¹³ Кстати, это словосочетание имеет двоякий (чтобы не сказать, троякий) смысл, его можно прочитать и как «рыжий месяц», и как «месяц сверкающий». Причем, все варианты — рабочие.
________________________________
[13] μήν, дор. μάν (ᾱ), эол.-ион. μείς, gen. μηνός ὁ (дор. dat. pl. μασί) месяц
αἰθός 3
1) опаленный, обожженный Arph.
2) предполож. рыжий; ex. (ἀράχναι Bacchylides ap. Plut.);
3) сверкающий; ex. (ἀσπίς Pind.).
Конечно красная луна — явление не частое. Луна розовеет, только когда висит низко над горизонтом, и краснота ее видна только ночью. Т.е. эта лунная рыжеватость не связана с утренней зарей. Напротив, на рассвете, в лучах солнца, луна бледнеет, а потом и вовсе исчезает. Что же придает ей красный оттенок? Неужели неугасимый огонь Аида окрашивает луну своими сполохами, из-за края земли, когда та слишком низко опускается к горизонту? Подземное царство Аида для Греции, расположенной в сейсмически активной зоне, тесно связанно с подземным огнем, регулярно вырывающимся наружу через жерла вулканов и тектонические разломы. Еще одно значение слова αἰθός — «опаленный, обожженный» — как раз аккуратно ложится в эту логику. Не будем забывать, что Менет пасет коров Аида (Ἀΐδης). Пожалуй, на такой опасной работе можно и «спалиться».
PPS
И последнее, возвращаясь к имени Гериона (Γηρυών) в его значении «мычащий» (от γηρύω, «мычать»). Если мы принимаем лунный аспект Гериона, то значение его имени («мычащий») начинает играть совсем другими красками. «Рогатую» луну (месяц) издревле наделяли образом быка. Та же Геката часто поминалась с эпитетами «рогатая» (βούκερως), или просто «корова» (ταῦρος). Имея древний териоморфный образ быка, такой же эпитет («рогатый») носил и Дионис.¹⁴ И, кстати, тот же Дионис, впоследствии принявший цивильный антропоморфный вид, становится пастырем, сначала, тех же быков, а потом и человеков.
[14] Дионис, как развитие образа египетского Осириса на греческой почве, так же соотносился с лунным аспектом.
κερατίας (-ου) ὁ рогатый; ex. Διόνυσος Diod.
χρυσόκερως (χρῡσό-κερως), gen. -ω
1) златорогий; ex. (ἔλαφος Pind.; μήνη Διόνυσος Anth.);
2) с позолоченными рогами; ex. (βοῦς Plat.)
ЧАСТЬ II
КИММЕРИЯ
Еще одна увлекательная история путешествия в Аид морем повествуется Гомером в «Одиссее». В царство Аида Одиссея, с его спутниками, посылает Цирцея. Чтобы добраться туда, они переплывают реку Океан и попадают в Киммерию.¹⁵ У Гомера, Киммерия — это мифическая страна на западе, где царит вечная тьма. Однако, упоминаемая Геродотом «киммериан печальная область» — это реальная территория расселения киммерийских племен, в VIII-VII вв. до н.э., представлявшая собой огромные пространства степи и лесостепи от Фракии до Кавказа. Пребывание киммерийцев на территории юго-восточного Крыма и Керченского полуострова оставило след в топонимике географических названий: Боспор Киммерийский, Киммерик, Киммерийский вал.
________________________________
[15] Κιμμερίη ἡ Киммерия (страна киммерийцев, ныне Крым) Her.
Κιμμέριοι οἱ киммерийцы
1) баснословный народ, живший на крайнем западе, в стране вечной тьмы Hom.
2) племя, населявшее Херсонес Таврический Her.
Гомер жил и творил в VIII в. до н.э. Знал ли он о киммерийских племенах, обитавших далеко на востоке от Греции? Неизвестно. Возможно, Гомер пересказывал историю, которую не понимал. Как можно отправиться в Аид (т.е. на запад) и, в конечном счете, оказаться на востоке? Итогом долгих размышлений, видимо, было перенесение Киммерии с востока на неопределенный запад.
То, что киммерийцы никогда не видят солнца, не должно нас смущать. Ведь, в представлении Гомера, они насельники Аида, либо живущие в преддверии его. По крайней мере, реку Стикс Одиссей не пересекает, до нее он идет пешком, оставив корабль на берегу реки Океан. Значит, и Киммерия, по мнению Гомера, должна находиться на мрачном западе, где-то между Океаном и Стиксом.
Ввиду двусмысленного географического расположения Киммерии, Гомер максимально упрощает и описание самого маршрута этого морского путешествия (из Ионического моря, через запад, в Киммерию). Из положения он вышел просто: надо только поднять паруса, ветер сам отнесет судно куда надо, Цирцея об этом позаботится. Хотя, нужно отметить, с ветром Гомер не ошибся. Ветер Борей (северо-северо-восточный)¹⁶ для путешествия из Ионического моря на запад будет относительно попутным, особенно на начальном этапе (на выходе из Ионического моря).
[16] Βορέας (-ου), эп.-ион. Βορέης ὁ
1) Борей (сын Астрея и Эос, бог сев. ветров) Hom., Hes., Pind., Her.
2) северо-северо-восточный, иногда северный ветер Hom., Arst.
Узнав ответы на вопросы (ради чего Цирцея и посылала Одиссея в Аид), он садится в корабль и возвращается назад. Т.е., если следовать логике, Одиссей должен был бы переплыть снова реку Океан и оказаться на западе. Но здесь логика Гомера опять натыкается на некий, надо понимать, древний канон, по которому переплыв Океан, Одиссей со товарищи оказывается на востоке, где дом утренней Зари (Ἠώς), «где солнце восходит» (ἀντολαὶ Ἠελίοιο) — уточняет Гомер. Но одновременно это остров Цирцеи, дочери Гелиоса, откуда они и отправились в царство Аида. Т.е. это Ионическое море, которое омывает Грецию с запада. Бедный Гомер. Он совсем запутался.
[17] Αἰαῖος 3 находящийся в стране Эа; ex.: Αἰαίη νῆσος Hom. — Ээйский остров (остров у берегов страны Эа, владение Кирки).
[18] Ἕως, эп. Ἠώς ἡ Эос, лат. Aurora, дочь Гипериона и Фии (Θεία) или Эврифаессы, богиня утренней зари, жена Тифона (Τιθωνός), мать Мемнона, Зефира, Борея, Нота.
Однозначно, «место, где солнце восходит» не может находиться в Средиземном море. Т.е. мы опять имеем дело с какой-то путаницей. Видимо остров Ээя мигрировал (вслед за страной киммерийцев) с востока на запад. Определить его начальное место расположения не сложно:
Αἰαῖος 3 находящийся в стране Эа; ex.: Αἰαίη νῆσος Hom. — Ээйский остров (остров у берегов страны Эа, владение Кирки).
Αἰαίη ἡ Ээа (жительница страны Эа, т.е. Кирка или Цирцея) Hom.
Осталось определиться со страной Эа, возле которой находится остров Церцеи. Нет ничего проще — это Колхида.¹⁹ Далекая страна на востоке (от Греции), самый край известной грекам (той поры) ойкумены.
________________________________
[19] Αἶα ἡ Эа, старинное название Колхиды Her., Soph.
Одиссея занесло в Черное море? Такое впечатление, что Гомер мучительно пытается совместить несовместимое. Либо сказитель пользовался разными версиями путешествия Одиссея (или схожими описаниями путешествий других героев). Либо география, для слепого пиита, — запредельно сложная категория.
Все, между тем, встает на свои места, если принять версию о заимствовании идеи путешествия Ра по подземному Нилу каждую ночь. Естественно для греков этот сюжет не является ни религиозным, ни мировоззренческим. Для Гомера, как видим, он не является даже хоть сколько-нибудь понятным. Как мог, он его переосмыслил и вписал в логику своего повествования. Получилось то, что получилось. В конце концов поэта ценят ни за научную содержательность, а за красоту и легкость слога, и за увлекательность сюжетной линии.
Напоследок пару слов о Цирцее, точнее о Кирке (Κίρκη), если придерживаться греческого первоисходника. Этимология имени связана со словом κίρκος (в значении «кольцо»).²⁰
________________________________
[20] Κίρκη, дор. Κίρκα ἡ Кирка или Цирцея (дочь Гелиоса, волшебница на о-ве Ээа — Αἰαίη νῆσος) Hom.
κίρκος
I ὁ предполож. ястреб Aesch., Arst.; ex.: ἴρηξ κ. Hom. — описывающий круги ястреб;
II ὁ
1) (лат. circus) цирк (в Риме) Polyb.;
2) кольцо Anth.
В представлении древних греков, река Океан окаймляла (фактически «окольцовывала») всю ойкумену, в том виде, как они ее себе представляли. Если не брать в расчет переработку Гомером маршрута Одиссея, то получается, что Одиссей с товарищами (в изначальном варианте) отплыл с острова Кирки и сделав круг вернулся туда же (по «кольцевому маршруту»).
Другое производное значение от слова κίρκος — окружать кольцом (κιρκόω),²¹ т.е. «пленять» — также обыгрывается Гомером. Кирка (Цирцея) подмешивает зелье в еду странников, которые оказываются на острове, после чего они превращаются в животных. Точно так же и спутников Одиссея, которых тот послал осмотреть остров, Цирцея-Кирка превратила в свиней и закрыла в загоне.
________________________________
[21] κιρκόω — окружать кольцом, заковывать (σκέλη Aesch.).
ЧАСТЬ III
РЕКА ОКЕАН
В примечаниях к фразе «в устье швырнув Океана-реки» дается пояснение: «т.е. ввергла бы в царство смерти».
Очевидно, что, под устьем реки Океан, Гомер подразумевает Запад, ибо дорога к устью Океана «окутана мраком». С другой стороны, а где у Океана, в таком случае, исток? Гомер называет Океан «круговратно текущим» (ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψορρόου Ὠκεανοῖο),²² т.е. опоясывающим всю землю. Получается, что у Океана нет ни начала, ни конца, ни истока, ни устья.
________________________________
[22] ἀψόρροος (ἀψό-ρροος) стяж. ἀψόρρους 2 текущий вспять, т.е. обтекающий кругом (эпитет Океана) Hom.
Однако Геродот пишет, что «Океан, по утверждению эллинов, течет, начиная от восхода солнца, вокруг всей земли». Т.е. налицо либо трудности перевода, либо трудности с пониманием картины мира античными авторами. Если отталкиваться от Геродота, т.е. исток Океана находится на востоке, а устье (как выше отмечено у Гомера) — на западе, то получается, что Океан не «круговратно текущий», а обтекающий Землю (как остров) с севера и юга. Но откуда Океан вытекает на востоке, и куда утекает на западе? Здесь явный пробел.²³
На лицо опять неправильно понятая и неверно истолкованная египетская мистерия путешествия солнечного бога в ладье по небесному Нилу днем и подземному Нилу (в Дуате) — ночью. В этой традиции исток небесного Нила находился на Востоке (на выходе из Дуата). Устье же небесного Нила находилось, соответственно, — на Западе. Греки небесный (и подземный) Нил «заземлили», переведя его в горизонтальную плоскость, и назвав Океаном. В силу чего, река осталась «круговратно текущей» (по старой памяти), но ни о каком путешествии солнца по ней, уже речи быть не могло. Но это в теории, на практике все гораздо запутаннее.
Гелиос путешествовал по небу на колеснице, а на Западе переправлялся через реку Океан в «золотом кубке», вместе с конями и колесницей. О путешествии Гелиоса по Аиду история умалчивает, разные авторы говорят лишь, что потом Гелиос вновь переправлялся через Океан в том же «кубке». Но, поскольку солнце всходит на Востоке, то у солнечного бога нет другого пути, как только пересечь царство Аида на колеснице. Здесь возникает непреодолимое противоречие. Насельники Аида никогда не видят солнца. Но, проезжая подземное царство насквозь, Гелиос не мог остаться незамеченным. Не найдя выхода из совершенно неразрешаемого противоречия, греческие сказители просто опускают эту часть путешествия, как малозначительную. А ведь это половина пути…
________________________________
[23] Платон в своем «Федоне» дает весьма приближенное к египетскому понимание о круговращении вод реки Океан. Описывая подземные реки, он определяет подземную реку Ахерон как вторую по величине реку в мире, уступающую только Океану. Платон утверждал, что Ахерон тек в противоположном направлении от Океана под землей.
«В эту пропасть (в Тартар) стекают все реки, и в ней снова берут начало. (…) Когда вода отступает в ту область, которую мы зовем нижнею, она течет сквозь землю по руслам тамошних рек и наполняет их, словно оросительные канавы; а когда уходит оттуда и устремляется сюда, то снова наполняет здешние реки.
(…)
Этих рек многое множество, они велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. Самая большая из всех и самая далекая от середины (Земли) течет по кругу; она зовется Океаном. Навстречу ей, но по другую сторону от центра течет Ахеронт. Он течет по многим пустынным местностям, главным образом под землей»…
(Платон. Федон 60-61)
Справедливости ради, надо отметить, что в одном месте Одиссеи Гомер упоминает некую потайную дверь (или ворота) Гелиоса (Ἠελίοιο πύλας), на другом берегу реки Океан. Но что это за дверь, куда она ведет — об этом Гомер умалчивает. Через запятую упоминается и Левкада (Λευκάδα), белая скала (у которой, по преданию, находился вход в подземное царство). Гермес ведет за собой души усопших мимо Левкады и мимо ворот Гелиоса к асфоделевым лугам. Из чего становится понятно, что единственное назначение «солнечных ворот» — это возможность Гелиосу проскочить незаметно для душ, населяющих Аид.
Мимнерм находит выход из положения и объясняет каким образом Гелиос добирается до востока. Он плывет в «золотом крылатом ложе» по Океану (т.е. не спускаясь в Аид). Но, если Гелиос не опускается за горизонт, почему же ночью темно? Вопрос на засыпку.
Как видно из цитаты, Гелиос переплывает Океан в своем волшебном «ложе», пребывая во сне. Интересное решение, видимо, Мимнерм рассудил, что спящий Гелиос не лучится светом, от того ночью и темно. Что характерно, плывет он без коней, кони, вместе с колесницей, ждут его уже на востоке. Каким образом «быстроногие кони» оказываются на востоке (в краю эфиопов)²⁴ Мимнерм не объясняет.
«Крылатость» «золотого вогнутого ложа», видимо, необходима в силу того, что Гелиос плывет против течения. Ведь Океан течет с востока на запад, а Гелиос плывет с запада на восток. Впрочем, это если мы принимаем версию Геродота. В понимании Гомера (о «круговратно текущем Океане»), возможно, Гелиос огибал Землю с севера, плывя по течению. Северные земли, для греков, были чем-то настолько запредельно далеким, что когда Аполлон (отождествляемый с Гелиосом) улетал в Гиперборею, в Греции наступала зима. Т.е., в интерпретации Гомера, крылья «золотому ложу» Гелиоса, и в этом случае, не менее важны. Ведь путь не близкий, а нужно успеть к восходу добраться до места (этого самого восхождения).
________________________________
[24] Край эфиопов (как место восхода солнца) — откровенно египетская традиция.
ГЕРАКЛ АСТРОХИТОН
Ниже, в отрывке из «Деяний Диониса», Нонн (от лица Диониса) отождествляет Геракла Астрохитона (облаченного в звезды) с Гелиосом, Аполлоном, Зевсом, Амоном и многими другими верховными божествами разных народов. Геракл Астрохитон — это Мелькарт, финикийский бог-покровитель города Тира. В изложении Нонна, он представлен не только как солярное божество, более того — он владыка небесный. Возможно, такое расширение функционала произошло от неоднозначно переводимого слова ἄστρον. Его можно перевести не только как «звезда», но и как «солнце», и как «слава», т.е. «сияние». Например, слово ἀστρόβλητος (ἀστρό-βλητος) переводится как «пораженный солнечным ударом». А значит и эпитет Геракла Ἀστροχίτων можно перевести не только как «облаченный в одежды из звезд» (традиционный перевод), но и как «облаченный в сияющие одежды» (как тот же Гелиос).
[25] Ἀστροχίτων «облаченный в одежды из звезд» (χιτών ἀστέριος) .
[26] Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.
[27] φαέθων (-οντος) part. и adj. сияющий, блистающий, лучезарный = ἥλιος Anth.
[28] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.
[29] γάμος ὁ тж. pl.
1) брак, бракосочетание, супружество Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst., Luc.
2) свадьба, брачный пир;
3) половые сношения, сожительство.
[30] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ Пэан (бог-целитель, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном.)
Αἰθήρ (-έρος) ὁ Эфир, бог горних высей (сын Эреба и Ночи) Hes.
_______________________________
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА II
Десятым подвигом Эврисфей назначил ему [Гераклу] привести коров Гериона из Эритеи. Эритея была островом, расположенным за Океаном: ныне этот остров называется Гадейра. На этом острове обитал Герион, сын Хрисаора и Каллирои, дочери Океана. Он обладал телом, сросшимся из трех человеческих тел, соединенных между собой до пояса, но разделявшихся от подреберья и бедер. Ему принадлежали красные коровы, которых пас Эвритион, а сторожил двуглавый пес Ортр, порожденный Ехидной и Тифоном.
Отправившись за коровами Гериона, Геракл прошел через многие степи Европы и пришел в Ливию. Придя в Тартесс, он поставил там памятные знаки о своем походе на границах Европы и Ливии — две одинаковые каменные стелы.
Обжигаемый лучами солнца во время похода, Геракл направил свой лук против бога Гелиоса, и тот, пораженный его мужеством, дал ему золотой кубок, в котором Геракл и пересек Океан. Прибыв в Эритею, Геракл расположился для ночлега на горе Абанте. Собака, учуяв его, кинулась к нему, но Геракл отразил ее дубиной и убил пастуха Эвритиона, прибежавшего ей на помощь.
Менет, который пас там коров Аида, рассказал о случившемся Гериону, и тот, застав Геракла на берегу реки Антемунта угоняющим коров, вступил с ним в борьбу, но Геракл убил его, застрелив из лука. После этого он загнал коров в кубок и, переплыв в Тартесс, вернул кубок Гелиосу.
Затем он пересек Абдерию и прибыл в Лигурию, где сыновья Посейдона Иалебион и Деркин попытались отобрать у него коров. Убив их, Геракл двинулся через Тиррению. В области Регия один бык отбился от стада, кинулся в море и переплыл в Сицилию, перешел через близлежащую землю (которая по его имени названа Италией, ибо тирренцы называют быка словом «италос»). Затем он вышел в долину Эрика, который царствовал над элимами. Эрик этот был сыном Посейдона, и он загнал быка в свои стада.
Геракл же, передав коров Гефесту, поспешил на поиски этого быка и нашел его в стадах Эрика, но тот сказал, что отдаст быка только в том случае, если Геракл одолеет его в борьбе. Геракл вступил с ним в борьбу и, трижды взяв верх, убил Эрика; быка он погнал вместе со всем стадом к Ионийскому морю. Когда они подошли к морской излучине, Гера наслала на коров слепня, и стадо разделилось в области фракийского предгорья. Геракл поймал часть стада и погнал его в направлении Геллеспонта, другая же часть осталась дикой. Едва согнав коров к реке Стримону, Геракл вознегодовал на эту реку, издавна бывшую судоходной. Набросав в нее скал, он сделал ее несудоходной, и пригнав коров к Эврисфею, отдал их ему, а тот принес коров в жертву богине Гере.
С.В. Дмитриев
ГЕРАКЛ В ДРЕВНЕЙШЕЙ ИТАЛИИ (рассказ Аполлодора и его источники)
(Статья приведена с некоторыми сокращениями)
1. Указание на то, что Герион (Γηρυών)¹ жил на Эритии (Ἐρύθεια),² встречается у многих авторов; Гесиод (Th., 290) и Стесихор (Bergk fr., 10) считали ее островом.
________________________________
[1] Γηρυών (-όνος) ὁ Герион (сын Хрисаора, трехтелый исполин, у которого Геракл угнал быков) Pind., Aesch.
[2] Ἐρύθεια, ион. Ἐρυθείη ἡ Эрифея (миф. остров на крайнем Западе, за Геракловыми столпами, царство трехтелого Гериона) Hes., Her., Isocr.
2. Гесиод говорит, что Герион был рожден от Хрисаора³ и дочери Океана Каллирои и имел три головы (Th., 287 f).
3. Эврития (Εὐρυτίων)⁴ и его пса Ортра упоминает Гесиод (Th., 293), называя тех же родителей Гериона (Th., 304 ff.).
________________________________
[3] Χρυσάωρ (-ορος) ὁ Хрисаор (сын Посидона и Медузы, отец Гериона и Эхидны) Hes.
[4] Эпитет Гериона Эвритий (Εὐρυτίων) очень похоже на искаженное «Эрифеон» (Ἐρύθειων, т.е. Эрифейский, с острова Эрифея).
4. 1. По Ферекиду, Геракл убивал животных, идя за яблоками Гесперид, в Ливии, считавшейся «матерью диких животных» (Apollon., 4. 1561; Suid. Λιβυκὸν θηρίον), по Диодору — на Крите (4. 17. 3), в котором хотят видеть «Европу»⁵ (Lyc. Alex., 1836).
________________________________
[5] Согласно мифу, Зевс, в образе быка, похитив Европу, переносит ее на Крит.
2. В древнейшие времена полагали, что между Европой и Азией не существует пролива (Diod., 4. 18. 5), и, следовательно, античная традиция упоминания о «столпах» возникла уже сравнительно поздно (Diod., 4. 18. 4).
3. Путь из «Европы» в Ливию лежал через Тартесс; причастие «παρελθὼν» заставляет видеть в Тартессе либо реку (ср.: Ταρτησσοῦ ποταμοῦ. — Stesichor., fr. 5), либо область (ср. города Тартесса — Hecat., fr. 4; 5). Страбон предположил, что в основе гомеровского «Тартара» лежал далекий западный Тартесс (3. 2. 12).
5. 1. Если Эрития-Гадира находилась в Ливии (Diod., 4. 18. 2), то зачем Гераклу надо было переправляться в нее через Океан из Европы? То, что эта «Европа» не означала современный материк, видно и из описания Аполлодором обратного пути Геракла (2. 5. 10. 9-11). Каллимах говорит о «светло(рыже?)волосых ливийских женщинах» (Hymn., 2. 86), а Ст. Византийский сообщает: «Λίβυσσα φρουρίον Βιθυνίας ἐπιψαλάσσιον» и «Λιβυστῖνοι ἔθνος παρακείμενον Κόλχοις, с.4 ὡς Διόφαντος». «Ὃς εἰς Κύταιαν τὴν Λιβυστίνην μολὼν», — говорит Ликофрон о Колхиде (Alex., 1312). Под «Ливией» Аполлодора скрывалась, возможно, область к востоку от Греции — северо-восточная Малая Азия или Колхида.
2. У колхов солнце всходило, а в Ливии заходило (Apollon., 1. 81 f): это были «края света», и многие авторы пролагали путь Геракла в «чаше Солнца» через Океан — из Ливии к Прометею, на Кавказ (Pherec., fr. 33), от Кавказа до Гесперид, в Ливию (Эсхил, fr. 76) сам путь из Колхиды в Ливию через Океан указал аргонавтам еще Гесиод (Schol. Apollon., 4. 259).
3. Особенностью архаического греческого менталитета являлось то, что «края света» могли заселяться одними и теми же людьми: и на востоке, и на западе жили эфиопы (Strabo, I. 2. 26; Эсхил, fr. 192; Эврипид, fr. 771), Цирцея (Hom. Od., 10. 135; 12. 1-9), амазонки (Diod., 2. 44-45; 3. 52-55), иберы (Eustath. Com. Dion., 694 ff.) и т.д. То же, следовательно, могло относиться и к Ливии (см.: Apollon, 4. 1227).
6. Гомер сообщает, что племя абантов владело Эвбеей и, видимо, еще до Троянской войны (Strabo, 10. 1. 8 f.). Упоминает их и Архилох (Plu. Thes., 5, cf. Hom. Il., 2. 536 f.).
7. Сюжет и персонажи нигде более не встречаются; интересны три момента:
1. По Страбону, на Эвбее было две реки, покупавшись в одной из которых, скот становился белым, а в другой — черным. Быки Солнца (Гелиоса) могли быть и красными (φοίνικοι) — быки Гериона, и белыми; быки Аида, которых пас на Эритии, считавшейся островом, Менет, были, очевидно, черными. И Солнце (Ἥλιος), и Аид (Тартар) явно ассоциировались с «краями света».⁶
________________________________
[6] ἥλιος, эп. преимущ. ἠέλιος, дор. ἀέλιος и ἅλιος ὁ
1) солнце; ex. ἡλίου κύκλος Trag., Arst. — солнечный диск;
2) место восхода солнца, восток; ex. πρὸς ἠῶ τ΄ ἠέλιόν τε Hom., πρὸς ἠῶ τε καὴ ἡλίου ἀνατολάς или πρὸς ἠῶ τε καὴ ἥλιον ἀνατέλλοντα Her. — к востоку, на восток;
3) дневной путь солнца, т.е. день; ex. φῶς ἓν ἡλίου Eur. — свет одного дня, т.е. всего лишь один день;
4) солнечная жара, зной; ex. ὁ ἥ. πολύς Luc. — сильная жара;
5) солнечный свет;
6) светлое настроение, ясность;
Λιβύη, дор. Λιβύα ἡ Ливия
1) дочь Эпафа, мать Агенора, Бела и Лелега от Зевса Aesch. etc.
2) сев.-зап. побережье Африки до обоих Сиртов Hom.
3) (= Λιβυκὸς νομός) область между сев. Египтом и Мармарикой Her.
4) вся сев. Африка Arst., Polyb. etc.
2. Менет был застрелен из лука; ни один из известных нам претендентов на быков Гериона не был убит подобным образом.
3. В Вифинии, неподалеку от Симплегад, находилась Ἀνθεμοεισίδα λίμηνη (Apollon., 2. 724).
8. Предлог «εἰς» обозначает цель: следовательно, Тартесс здесь не река, а либо названный по имени реки (Strabo, 3. 2. 11) город, контакты с которым греки установили где-то в VII в. до н.э. (Herodot., 4. 152) и который был разрушен около 500 до н.э., либо область.
9. 1. Удивляет неожиданно четкое на общем размытом фоне указание на Абдеру. Этот город знали Гекатей (fr. 127), Гелланик (fr. 98), помещавшие древнейшую Абдеру во Фракию, и Эфор (fr. 72). У Ферекида Абдера связывалась с походом за конями Диомеда.
2. Разночтение «εἰς Λιγύην» (FHG, I, Müller) и «εἰς Λιγυστικῆ γῆ» (Loeb. clas., L., №121, Frazer) осложняет дело, так как «λίγυες» было названием саллиев, а «Λιγυστικῆ γῆ» означало место племени массалиотов, позже именуемых «кельтолигурами» (Strabo, 4. 6. 3). Массалия, «πόλις τῆς Λιγυστικῆς». (Hecat., fr. 22), была основана, видимо, в конце VI в. до н.э. (Tim., fr. 39 f.), а до этого существовало одно название — λίγυες. Аполлоний зовет Стойхадские острова «Лигустидскими» (Λιγυστίδας — 4. 553 f.), а Страбон, ссылаясь на «древних», населяет их массалиотами (4. 1. 10), жившими, по его же словам, в Лигустинии (4. 6. 3). Эти острова, если верить древнейшим источникам Аполлония, находились на другом «краю света» (4. 563-658 f.), за Эриданом и Роданом, причем последний явно может быть идентифицирован с Тартессом — Тартаром (см.: Apollon., 4. 625, f.; 646 f.).
3. Существовали, видимо, по указанному уже ранее принципу, и колхидские лигуры (Eustath., 76; Herodot, 5994), ведь лигуры помещались на «краю земли» (см.: Hes. fr., 132).
Сказать, что Аполлодор пользовался одним или преимущественно одним источником, на наш взгляд, не представляется возможным. Фрейзер считает, что его вероятным источником был Ферекид Афинский и опирается на фрагмент 3-й книги «Историй» Ферекида (Athenae, II. 470 f.). Однако хорошо видно, как схожие в принципе сюжеты имеют у этих авторов разное наполнение: у Аполлодора Солнце дало «чашу» Гераклу вовсе не из страха (как у Ферекида), а из восхищения его мужеством. Абсолютно отсутствует у Аполлодора упоминание об эпизоде с Океаном, приведенном в этом же месте Ферекидом, не совпадают и очередность подвигов, описание Ливии и многие другие детали. У Гекатея Герион жил не на Эритии, и даже не в Иберии, а Геракл привел быков в Микены — все это также отличается от текста Аполлодора (fr. 349). Не мог быть его источником и Гелланик.
То, что Аполлодор пользовался не одним, а несколькими источниками, причем обращаясь с ними весьма вольно, видно из бросающихся в глаза несоответствий различных частей его текста. Он мгновенно проводит Геракла по «Европе» в «Ливию», а затем, говоря об обратном пути Геракла, дает относительно подробное описание Европейского материка; автор представляет «Европу» и «Ливию» как современную Европу и северную Африку, но приводит рассказ о путешествии Геракла из «Ливии» на Эритию через Океан в «чаше Солнца»; оба Тартесса, упомянутых им, значат разное: в первом случае речь, скорее всего, идет о реке, а во втором — о городе; и т.д. Мы полагаем, что Аполлодор использовал различные источники, опираясь на различные сведения которых, он и создал цельное, но противоречивое повествование. Более того, правильнее было бы говорить не о конкретном источнике или источниках Аполлодора (это завело бы нас в тупик, поскольку прямые аналогии невозможны и окончательный ответ, таким образом, тоже невозможен), а о различных пластах или уровнях традиции описания этого подвига Геракла, которые появились в разное время и которые Аполлодор перемешал в своем повествовании. Таких уровней мы можем выделить четыре:
I. Очевидно, эта традиция появилась даже до гомеровского времени и связывала подвиги Геракла с землями, отстоящими сравнительно недалеко от северного Пелопоннеса. С ней, как кажется, следует соотносить «Европу» и «Ливию» Аполлодора, где под «Европой» понимаются древнейшие северо-восточные земли, а под «Ливией» — область, лежащая далее к востоку, но, видимо, ближе Колхиды (Diod., 1, 55. 3-5). С различными проявлениями этой традиции были, очевидно, связаны и воспоминания о возвращении Геракла с быками Гериона по Скифии и Фракии, т.е. по северо-восточным для Греции землям, сохранившиеся как у Аполлодора (2. 5. 10. 12-13), так и у Геродота (4. 8), а также указания на абантов и Эвбею. Одну из версий указанной традиции донес до нас Гекатей, утверждавший, что Герион в действительности жил в северной Греции, в Эпире, а именно — в области Амбракии и Амфилохии (fr. 349).
II. Со временем границы мира раздвинулись, и подвиги Геракла, связанные с походами на «край света», уводили его все дальше, даже за Океан. Новый уровень развития, или пласт традиции, насколько можно судить, дополнил предыдущий: герой, как и прежде, направлялся на север (северо-восток), ему приходилось переправляться через Океан, чтобы на «краю света» совершить свой подвиг. Обратный путь вначале, видимо, снова пролегал через Океан: у Аполлодора Геракл переплыл его и вернул «чашу» Солнцу. Привнесение Аполлодором поздней трактовки названий «Европа» и «Ливия» в более ранний пласт традиции привело к путанице: Геракл направился в «чаше Солнца» с запада, и, следовательно, получилось так, что Герион жил на восточном «краю земли». Тем не менее, несмотря на путаницу, Геракл возвращался прежним путем: герой шел на северо-восток, переплывал Океан, совершал подвиг, опять переплывал Океан и возвращался домой, следовательно, с северо-востока, т.е. из тех же Скифии и Фракии. Таким образом, место подвига было просто перенесено за Океан, и противоречия между маршрутами героя на первом и втором уровнях традиции как такового не существовало.
III. В то же время уже Гесиодом был проложен, а Аполлодором, опиравшимся на древнейшие источники, повторен путь аргонавтов: северо-восток, северная Малая Азия (!), Колхида, Океан, Ливия, Европа (лигуры, Тиррения), Сицилия, Греция. Он был модифицирован Геродотом, «открывшим» пролив из Океана в Средиземное море (аргонавты Гериода были вынуждены нести свой корабль на руках через Ливию, пока не достигли «внутреннего моря» — ведь пролива, а следовательно, и «столпов» тогда еще не знали) и утверждавшим, что «то море, по которому во всех направлениях плавают эллины, и море по ту сторону Геракловых столпов, а также Эритрейское составляют собственно одно целое» (1. 202).
Эта традиция, поздняя, но восходящая к Гомеру и Гесиоду, также была использована Аполлодором (что особенно заметно, если пренебречь упомянутой путаницей с Тартессом как местом отплытия в «чаше Солнца» к Гериону). Об этом свидетельствуют три обстоятельства:
1) упоминание кельтов, лигуров и Тиррении (ср.: Apollod., 2, 5. 10. 9, 1. 9. 24. 5, и Apollon., 4. 646, 659);
2) прямой путь Геракла из Тиррении на Сицилию, минуя лежащие между ними земли, т.е. путь Одиссея у Гомера и аргонавтов у Гесиода. К Гесиоду же, видимо, восходит помещение Гериона на крайнем западе — острове Эрития, а также облик Гериона, как и имена и родословные пастуха и его собаки;
3) наконец, впервые встречающееся упоминание названия «Италия», но применительно лишь к тем землям, которые были загадкой для Гомера и Гесиода: их герои миновали эти земли, направляясь из Тиррении на Сицилию. Понимание под «Италией» этих земель, простирающихся от Тиррении до Мессинского пролива, было характерно, по крайней мере, для V в. до н.э.
Последний пласт традиции уже значительно разнится от первых двух, так как позволяет проложить другой путь для возвращения Геракла от Гериона, а именно по европейскому материку.
IV. Самая поздняя из известных нам версий предусматривает единственно принятый в поздней мифологии и соответствующих научных трудах маршрут похода Геракла к Гериону: он выступает в путь по северному берегу Африки, т.е. по Ливии, в привычном понимании этого слова (см.: Diod., 4. 17-18), устанавливает «столпы» между Ливией и Европой-материком, добывает быков в Испании (ibid., 4. 18. 2 f.), а затем идет домой по Европе, в том числе по Италии. Данную версию Аполлодор также хорошо знал, что подтверждается неудачным включением эпизода с установлением «столпов» в древнейший пласт традиции повествования о «Европе» и «Ливии» (2. 5. 10. 4) и намеком на осведомленность о том факте, что в соответствии с уровнем развития традиции бык, сбежавший от Геракла, переплыл Мессинский пролив, который повлек за собой не менее неудачный экскурс в этимологию, касающийся названия города Регий, и, как и в первом случае, грубое смешение разных уровней традиции.
Эта новейшая традиция, как видно, ограничивает путь Геракла средиземноморским побережьем, изменив, следовательно, уже не путь возвращения, а маршрут похода до Гериона. В целом же схема путешествия Геракла снова предстала в виде круга, но теперь уже лежащего к западу от Греции. И ничто уже не напоминало о том, какую эволюцию претерпела древнегреческая традиция о походе Геракла за быками Гериона. Остались лишь разрозненные воспоминания о прежних представлениях, которые кажутся читателю нелепыми на фоне яркого и цельного позднего воспроизведения мифа, обраставшего все более красочными подробностями, большую часть которых составляли подвиги Геракла, совершенные им в Италии, на пути от Гериона.
_____________
КОММЕНТАРИИ
ЧАСТЬ I
ЭРИФЕЯ
Для начала пройдемся по именам персонажей острова Эрифея, куда Геракл плавал за теми самыми красными коровами.
«Этот Хрисаор родил трехголового Герионея,⁷
Соединившись в любви с Каллироею Океанидой.
Герионея того умертвила Гераклова сила
Возле ленивых коров на омытой водой Эрифее.
В тот же направился день к Тиринфу священному с этим
Стадом коровьим Геракл, через броды пройдя Океана,
Орфа убивши и стража коровьего Эвритиона
За Океаном великим и славным, в обители мрачной.»
(Гесиод. Теогония 282-289)
_________________________
[7] Γηρυονεύς (-ῆος) ὁ Hes. = Γηρυών
Γηρυών (-όνος) ὁ Герион (сын Хрисаора, трехтелый исполин, у которого Геракл угнал быков) Pind., Aesch.
«Мрачная обитель за Океаном великим и славным» — это, как мы понимаем, Аид. Геракл не единожды хаживал в царство теней. В описаниях греческой географии разные ученые мужи указывали разные места схождения Геракла в царство мертвых, все они связаны с глубокими пещерами и тектоническими разломами. Но до Аида, как видим, можно и доплыть. Здесь явно просвечивает египетское влияние.
«Твой правый глаз — вечерняя ладья, твой левый глаз — утренняя ладья».
Каждое утро Ра садится в свою дневную ладью (mˁnḏt, Манджет), в сопровождении своей свиты, и отправляется в долгое путешествие по небесному Нилу с востока на запад. Достигнув запада, Ра пересаживается в ночную ладью (msktt, Месктет), в которой он продолжает свое опасное путешествие по подземному Нилу, во время которого Ра подвергается нападкам змея Апопа, пытающегося привнести хаос в небесную гармонию.
Исходя из выше изложенного, Гелиос дает Гераклу не «золотой кубок» (как приводится в тексте), а «золотую ладью».⁸ Путаница, как обычно в таких случаях, возникает из-за трудностей перевода и незнания первоисточников.
____________________________
[8] κύμβη ἡ досл. чаша, перен. челн Soph.
ἀμίς, ἁμίς (-ίδος) ἡ
1) ночная посуда Arph. Dem., Plut.
2) ладья Aesch.
σκαφίς (-ίδος) ἡ
1) подойник Hom.
2) корзина, плетенка;
3) чаша, таз, миска Arph., Theocr.
4) челнок, лодка Anth.
Значение слова σκαφίς — «таз» — вызывает ассоциации со словом «корыто». «Старым корытом», по сю пору, называют ржавые суда, потрепанные временем и морем. Или, например, «посудина» — так моряки (или рыбаки) снисходительно называют утлые небольшие суденышки и в наши дни.
Удивительно, но Вячеслав Иванов, пожалуй, единственный, кто адекватно переводит «посудину» Гелиоса, именуя средство передвижения по воде как «золотой челн».
«Где закат ал, там отцу в дар.
Дал Гефест-бог золотой челн.
Пересечь хлябь круговых вод.
И прогнать Ночь, чей святой мрак.
Осенял твердь
С черноконной ее колесницы».
(Эсхил. «Гелиады»)
Текст Аполлодора, в том месте, где Геракл получает от Гелиоса ладью, полезно сравнить с текстом Ферекида, сохраненным нам Афинеем (XI, 39, р. 470 CD):
«Геракл натянул лук, собираясь выстрелить в Гелиоса, но последний приказал Гераклу не делать этого. Геракл, испугавшись, не выстрелил. Взамен Гелиос дал ему золотой кубок, в котором он сам ездил со своими конями после заката через Океан в течение всей ночи по направлению к Востоку, где встает солнце. После этого Геракл в этом кубке направился в Эритею. Когда Геракл находился в открытом море, Океан (гений реки), желая испытать его мужество, поднял сильное волнение и стал колебать кубок, приняв свой собственный облик. Геракл намерился в него выстрелить, но Океан, испугавшись, приказал ему перестать».
Касательно этой цитаты, любопытно, что Писандр во второй книге «Гераклеи» (Ἡρακλεία) говорит, что «чашу» Гелиоса Геракл получил от самого Океана (видимо, тоже под угрозой выстрелить в него из лука). А Паниасид в первой книге своей «Гераклеи» рассказывает, что «фиал» Гелиоса Геракл унес у Нерея и в нем доплыл до Эрифии. Кто во что горазд.
Да, так вот, возвращаемся к именам, эпитетам и названиям этого удивительного острова Эрифея. Собственно с названия острова и начнем. Слово Ἐρύθεια переводят как «красный». Объясняется это тем, что остров окрашивается в красный цвет в лучах зари. Ситуация усложняется еще и тем, что коровы Гериона были тоже красного цвета. Возможно они окрашивались в красный цвет вместе с островом, теми же лучами. Либо, будучи по названию острова Эрифейскими, они приобрели нужный оттенок в силу игры слов:
ἐρυθρός — красный;
ἐρυθαίνω — окрашивать в красный цвет, обагрять, pass. краснеть, обагряться; ex. ἐρυθαίνετο αἵματι ὕδωρ, sc. ποταμοῖο Hom.
ἐρύθημα (-ατος) τό
1) краснота;
2) рыжая масть
Об эпитете Гериона — Эвритион (Εὐρυτίων) — я уже давал пояснение в тексте статьи, повторюсь, очень похоже на искаженное «Эрифеон» (Ἐρύθειων, т.е. Эрифейский, с острова Эрифея). Само слово Εὐρυτίων имеет примерное значение: «хорошо охраняющий», или, в переводе на литературный русский, — «прекрасный пастушок».
εὖ- приставка означ. 1) хороший; 2) весьма, вполне;
ῥυτήρ (-ῆρος) ὁ <ῥύομαι> страж, хранитель.
Однако и само имя Гериона (Γηρυών) заставляет обратить на себя внимание. Этимологию имени логично было бы вывести от слова γηρύω, но значения его неоднозначны и противоречивы:
γηρύω, дор. γᾱρύω тж. med.
1) произносить, говорить;
2) петь, воспевать;
3) мычать; ex. (ἁδὺ ἁ μόσχος γαρύεται Theocr.)
ἤρυγον {aor. 2 к ἐρεύγομαι} — издающий громкое мычание, мычащий (ἤρυγεν ὡς ὅτε ταῦρος Hom.)
К тому же о характере Гериона ничего неизвестно. Был ли он говорлив, певуч? Или, напротив, изъяснялся на языке стада, которое охранял? О том история умалчивает.
Вызывает интерес имя пса Орфа (Ὄρθος или Ὄρθρος), который помогал Гериону охранять стадо. Значение слова ορθός — «прямой, правильный» — не объясняет ничего. Гораздо интересней вариант написания имени — Ὄρθρος
ὄρθρος ὁ рассвет, утренняя заря.
Немного неожиданно для сторожевого адского пса. Хотя, если попробовать поискать созвучия к «мычащему» имени Гериона (Γηρυών), можно найти удивительные параллельные ассоциации.
ἦρι эп. adv. рано, ранним утром (всегда с μάλα); ex. ἦ. μάλα или μάλ ́ ἦ. Hom. — ранним утром, с самого утра, чуть свет.
ἠριγένεια (ἠρι-γένεια)
I. ион. ἠριγενείη ἡ <ἦρι>
1) рождающаяся ранним утром, дитя раннего утра;
2) заря, утро
II. ἡ <ἦρ> рождающая весной.
ἠριπόλη (ἠρῐ-πόλη) ἡ появляющаяся ранним утром, т.е. заря, рассвет; ex. (φέγγος ἠριπόλης Anth.)
Если допустить мысль, что имя Гериона является искажением изначального имени со значением «утренний» (от ἠρι), то все становится на свои места. Во-первых, появляется смысл в наличии второго адского пса Орфа. Если Кербер осуществляет охрану врат в царство Аида на западе, то Орф охраняет восточные ворота Аида, откуда выходит солнечная ладья, после ночного путешествия (если развивать тему египетского заимствования сюжета).
Во-вторых, несмотря на путаный рассказ Аполлодора, все же можно попытаться попробовать ухватить исходные смыслы. Геракл из Греции, «через многие степи Европы», проходит до самого западного ее побережья, т.е. до берегов реки Океан. Здесь он получает от Гелиоса «солнечную ладью», на которой отправляется, через западные врата Аида, на волшебный остров, пламенеющий в лучах (утренней?) зари. Поразив хтонического великана Гериона, Геракл выводит его стадо через восточные (читай «утренние») ворота, и оказывается в районе Колхиды. А Колхида (которая для греков была «краем света») — это, фактически, синоним слова «восток».
Дмитриева С.В. удивляет «неожиданно четкое на общем размытом фоне указание на Абдеру», которую Гекатей и Гелланик помещают во Фракию.⁹ Это не вписывается в его теорию, поэтому он призывает относиться к упоминанию Абдеры, как к ошибочному смешению разных источников. Однако, принимая уже за факт, что Геракл возвращается с востока, он и должен был пересечь Фракию. Другое дело, что далее его зачем-то заносит в Лигурию (прибрежная область на северо-западе Апеннинского полуострова). Дмитриев предлагает и к Лигурии (Λιγυστική)¹⁰ относиться как к позднейшему наслоению. А вот с этим можно и согласиться, ибо, путешествуя из Фракии в Грецию, на италийский полуостров можно попасть только очень сильно заблудившись.
_______________________________
[9] Ἄβδηρα τά Абдеры (город во Фракии Her.);
[10] Λιγυστική ἡ (sc. γῆ) Лигурия Arst.
Можно предположить, что этот крюк (с заходом в Италию, и далее на Сицилию) Геракл сделал из-за созвучия географических названий. В изложении Гесиода, Геракл со стадом, перейдя в брод Океан направляется к Тиринфу (Τίρυνς), т.е. в Арголиду (Пелопоннес), откуда его и послал за коровами арголидский царь Эврисфей. В изложении же Аполлодора, Геракл, пройдя Абдеру и Лигурию, «двинулся через Тиррению (Τυρρηνία)». Возможно созвучие названий Тиринфа — Τίρυνς и Тиррении (особенно староаттический и ионийский варианты) — Τυρσηνία (Τυρσηνίη)¹¹ как раз и послужило причиной развития «итальянского» сюжета?
«Герионея того умертвила Гераклова сила________________________________
Возле ленивых коров на омытой водой Ерифее.
В тот же направился день к Тиринфу священному с этим
Стадом коровьим Геракл, через броды пройдя Океана,
Орфа убивши и стража коровьего Евритиона
За Океаном великим и славным, в обители мрачной.»
(Гесиод. «Теогония»)
[11] Τίρυνς (-υνθος) ἡ Тиринф (древний город в Арголиде, на полуострове Пелопоннес, к юго-вост. от Аргоса) Hom., Hes. etc.
Τυρρηνία, староатт. Τυρσηνία, ион. Τυρσηνίη ἡ Тиррения, т.е. Этрурия (в Италии) Her., Thuc., Plat.
Т.е., в сухом остатке имеем, что, ушедший на запад Геракл, возвращается в Грецию с красными коровами Гериона с востока. Противоречия (которым, в выше приведенной статье С.В. Дмитриева, было посвящено так много внимания) сняты. Как говаривал Начальник Чукотки: «потому что Земля — круглая».
PS
А все же, что это за коровы за такие — красные? Как певал когда-то Цой, «Небесный пастух пасет облака»? Очень похоже на то. Но, если с розовеющими на заре облаками, в принципе, все понятно, то об их пастухе все же пару слов имеет смысл добавить.
Как видно из текста, Аполлодор (в отличие, например, от Гесиода) отделяет Гериона (владельца коров) от пастуха Эвритиона, этих коров пасущего. Мало нам раздвоившегося Гериона, «на сцене» появляется еще один пастух (пасущий коров Аида) по имени Менет (Μενοίτης). Причем, имя Менет несколько напоминает имя анатолийского лунного бога Мена (Μήν), а также греческое слово μηνοειδές — «серп» (лунный, естественно).¹²
________________________________
[12] μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. — лунное сияние;
μήνη, дор. μήνα ἡ луна; ex. (ἡ νύκτερος μ. Aesch.; σέλας μήνης Hom.);
Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.
μηνοειδές τό полукруг, дуга, серп;
μηνοειδής (μηνο-ειδής) полулунный, серпообразный, полукружный; ex. (σελήνη Xen., Plut.).
Опять же, трехтелость Гериона ассоциируется с тремя фазами луны (что перекликается с лунной триморфной Гекатой). И, кстати говоря, три мономорфных пастуха (Герион, Эвритион и Менет) и один трехтелый Герион — возможно, это две разные версии мифа, совмещенные Аполлодором (а, вернее, задолго до него) в одно повествование? В статье дается косвенное подтверждение этой версии, со ссылкой на Страбона:
«По Страбону, на Эвбее было две реки, покупавшись в одной из которых, скот становился белым, а в другой — черным. Быки Солнца (Гелиоса) могли быть и красными (φοίνικοι) — быки Гериона, и белыми; быки Аида, которых пас на Эритии, считавшейся островом, Менет, были, очевидно, черными.»
Эти же три цвета (белый, красный и черный) Евсевий, цитируя Порфирия, ассоциирует с Гекатой Триморфой:
«Из воска трех цветов — белого, черного и красного — лепят образ Гекаты с плетью, факелом и мечом, обвитый змеей по кругу.»
Впрочем, лунную тему можно подтянуть за уши еще плотнее к рассматриваемой нами истории. Если уж на «красном» острове пасутся красные (или рыжей масти) коровы, то почему бы и их пастуху Менету не быть рыжим? Сказано — сделано: μήν + αἰθός.¹³ Кстати, это словосочетание имеет двоякий (чтобы не сказать, троякий) смысл, его можно прочитать и как «рыжий месяц», и как «месяц сверкающий». Причем, все варианты — рабочие.
________________________________
[13] μήν, дор. μάν (ᾱ), эол.-ион. μείς, gen. μηνός ὁ (дор. dat. pl. μασί) месяц
αἰθός 3
1) опаленный, обожженный Arph.
2) предполож. рыжий; ex. (ἀράχναι Bacchylides ap. Plut.);
3) сверкающий; ex. (ἀσπίς Pind.).
Конечно красная луна — явление не частое. Луна розовеет, только когда висит низко над горизонтом, и краснота ее видна только ночью. Т.е. эта лунная рыжеватость не связана с утренней зарей. Напротив, на рассвете, в лучах солнца, луна бледнеет, а потом и вовсе исчезает. Что же придает ей красный оттенок? Неужели неугасимый огонь Аида окрашивает луну своими сполохами, из-за края земли, когда та слишком низко опускается к горизонту? Подземное царство Аида для Греции, расположенной в сейсмически активной зоне, тесно связанно с подземным огнем, регулярно вырывающимся наружу через жерла вулканов и тектонические разломы. Еще одно значение слова αἰθός — «опаленный, обожженный» — как раз аккуратно ложится в эту логику. Не будем забывать, что Менет пасет коров Аида (Ἀΐδης). Пожалуй, на такой опасной работе можно и «спалиться».
PPS
И последнее, возвращаясь к имени Гериона (Γηρυών) в его значении «мычащий» (от γηρύω, «мычать»). Если мы принимаем лунный аспект Гериона, то значение его имени («мычащий») начинает играть совсем другими красками. «Рогатую» луну (месяц) издревле наделяли образом быка. Та же Геката часто поминалась с эпитетами «рогатая» (βούκερως), или просто «корова» (ταῦρος). Имея древний териоморфный образ быка, такой же эпитет («рогатый») носил и Дионис.¹⁴ И, кстати, тот же Дионис, впоследствии принявший цивильный антропоморфный вид, становится пастырем, сначала, тех же быков, а потом и человеков.
«Их (менад) дионисийские атрибуты изначальны, ибо не было основания ни цели одарять их таковыми после: буколический кентрон (βουκόλος κέντρον — пастушье стрекало) или обоюдоострая секира и плющевой венок. Они (менады) мычат, как коровы, а мычанье быка или подражание этому звуку мы знаем как отличие дионисийских оргий, по описанию из «Эдонов» Эсхила.» (Вячеслав Иванов)
«Звонко песня ликует,________________________________
И откуда-то из тайника грозно мимов звучит
Бычьегласный рев и мычанье,
И тимпана эхо, словно гром
Из подземного царства несется».
(Эдонийцы, фрг. 57)
[14] Дионис, как развитие образа египетского Осириса на греческой почве, так же соотносился с лунным аспектом.
κερατίας (-ου) ὁ рогатый; ex. Διόνυσος Diod.
χρυσόκερως (χρῡσό-κερως), gen. -ω
1) златорогий; ex. (ἔλαφος Pind.; μήνη Διόνυσος Anth.);
2) с позолоченными рогами; ex. (βοῦς Plat.)
ЧАСТЬ II
КИММЕРИЯ
Еще одна увлекательная история путешествия в Аид морем повествуется Гомером в «Одиссее». В царство Аида Одиссея, с его спутниками, посылает Цирцея. Чтобы добраться туда, они переплывают реку Океан и попадают в Киммерию.¹⁵ У Гомера, Киммерия — это мифическая страна на западе, где царит вечная тьма. Однако, упоминаемая Геродотом «киммериан печальная область» — это реальная территория расселения киммерийских племен, в VIII-VII вв. до н.э., представлявшая собой огромные пространства степи и лесостепи от Фракии до Кавказа. Пребывание киммерийцев на территории юго-восточного Крыма и Керченского полуострова оставило след в топонимике географических названий: Боспор Киммерийский, Киммерик, Киммерийский вал.
________________________________
[15] Κιμμερίη ἡ Киммерия (страна киммерийцев, ныне Крым) Her.
Κιμμέριοι οἱ киммерийцы
1) баснословный народ, живший на крайнем западе, в стране вечной тьмы Hom.
2) племя, населявшее Херсонес Таврический Her.
Гомер жил и творил в VIII в. до н.э. Знал ли он о киммерийских племенах, обитавших далеко на востоке от Греции? Неизвестно. Возможно, Гомер пересказывал историю, которую не понимал. Как можно отправиться в Аид (т.е. на запад) и, в конечном счете, оказаться на востоке? Итогом долгих размышлений, видимо, было перенесение Киммерии с востока на неопределенный запад.
«Мы наконец Океан переплыли глубоко текущий.
Там страна и город мужей киммерийских. Всегдашний
Сумрак там и туман. Никогда светоносное солнце
Не освещает лучами людей, населяющих край тот,
Землю ль оно покидает, вступая на звездное небо,
Или спускается с неба, к земле направляясь обратно.
Ночь зловещая племя бессчастных людей окружает.»
(Гомер. Одиссея XI, 13)
То, что киммерийцы никогда не видят солнца, не должно нас смущать. Ведь, в представлении Гомера, они насельники Аида, либо живущие в преддверии его. По крайней мере, реку Стикс Одиссей не пересекает, до нее он идет пешком, оставив корабль на берегу реки Океан. Значит, и Киммерия, по мнению Гомера, должна находиться на мрачном западе, где-то между Океаном и Стиксом.
Ввиду двусмысленного географического расположения Киммерии, Гомер максимально упрощает и описание самого маршрута этого морского путешествия (из Ионического моря, через запад, в Киммерию). Из положения он вышел просто: надо только поднять паруса, ветер сам отнесет судно куда надо, Цирцея об этом позаботится. Хотя, нужно отметить, с ветром Гомер не ошибся. Ветер Борей (северо-северо-восточный)¹⁶ для путешествия из Ионического моря на запад будет относительно попутным, особенно на начальном этапе (на выходе из Ионического моря).
«Не беспокойся о том, кто вас через море проводит.________________________
Мачту только поставь, распусти паруса и спокойно
Можешь сидеть. Дуновенье Борея корабль понесет ваш.
Переплывешь наконец теченья реки Океана.
Берег там низкий увидишь, на нем Персефонина роща
Из тополей чернолистных и ветел, теряющих семя.
Близ Океана глубокопучинного судно оставив,
Сам ты к затхлому царству Аидову шаг свой направишь.
Там впадает Пирифлегетон в Ахеронтовы воды
Вместе с Коцитом, а он рукавом ведь является Стикса.»
(Гомер. Одиссея X, 505)
[16] Βορέας (-ου), эп.-ион. Βορέης ὁ
1) Борей (сын Астрея и Эос, бог сев. ветров) Hom., Hes., Pind., Her.
2) северо-северо-восточный, иногда северный ветер Hom., Arst.
Узнав ответы на вопросы (ради чего Цирцея и посылала Одиссея в Аид), он садится в корабль и возвращается назад. Т.е., если следовать логике, Одиссей должен был бы переплыть снова реку Океан и оказаться на западе. Но здесь логика Гомера опять натыкается на некий, надо понимать, древний канон, по которому переплыв Океан, Одиссей со товарищи оказывается на востоке, где дом утренней Зари (Ἠώς), «где солнце восходит» (ἀντολαὶ Ἠελίοιο) — уточняет Гомер. Но одновременно это остров Цирцеи, дочери Гелиоса, откуда они и отправились в царство Аида. Т.е. это Ионическое море, которое омывает Грецию с запада. Бедный Гомер. Он совсем запутался.
«Вскоре покинул корабль наш теченье реки Океана________________________________
И по шумящим волнам широкодорожного моря
Прибыл на остров Ээю,¹⁷ где рано родившейся Эос
Дом, и площадки для танцев, и место, где солнце восходит.
Там быстроходный корабль на прибрежный песок мы втащили,
Вышли и сами на берег немолчно шумящего моря
И, в ожидании Эос божественной, спать улеглися.
Рано рожденная встала из тьмы розоперстая Эос.¹⁸
Мы поднялися. Послал я товарищей к дому Цирцеи»…
(Гомер. Одиссея XII, 1)
[17] Αἰαῖος 3 находящийся в стране Эа; ex.: Αἰαίη νῆσος Hom. — Ээйский остров (остров у берегов страны Эа, владение Кирки).
[18] Ἕως, эп. Ἠώς ἡ Эос, лат. Aurora, дочь Гипериона и Фии (Θεία) или Эврифаессы, богиня утренней зари, жена Тифона (Τιθωνός), мать Мемнона, Зефира, Борея, Нота.
Однозначно, «место, где солнце восходит» не может находиться в Средиземном море. Т.е. мы опять имеем дело с какой-то путаницей. Видимо остров Ээя мигрировал (вслед за страной киммерийцев) с востока на запад. Определить его начальное место расположения не сложно:
Αἰαῖος 3 находящийся в стране Эа; ex.: Αἰαίη νῆσος Hom. — Ээйский остров (остров у берегов страны Эа, владение Кирки).
Αἰαίη ἡ Ээа (жительница страны Эа, т.е. Кирка или Цирцея) Hom.
Осталось определиться со страной Эа, возле которой находится остров Церцеи. Нет ничего проще — это Колхида.¹⁹ Далекая страна на востоке (от Греции), самый край известной грекам (той поры) ойкумены.
________________________________
[19] Αἶα ἡ Эа, старинное название Колхиды Her., Soph.
Одиссея занесло в Черное море? Такое впечатление, что Гомер мучительно пытается совместить несовместимое. Либо сказитель пользовался разными версиями путешествия Одиссея (или схожими описаниями путешествий других героев). Либо география, для слепого пиита, — запредельно сложная категория.
Все, между тем, встает на свои места, если принять версию о заимствовании идеи путешествия Ра по подземному Нилу каждую ночь. Естественно для греков этот сюжет не является ни религиозным, ни мировоззренческим. Для Гомера, как видим, он не является даже хоть сколько-нибудь понятным. Как мог, он его переосмыслил и вписал в логику своего повествования. Получилось то, что получилось. В конце концов поэта ценят ни за научную содержательность, а за красоту и легкость слога, и за увлекательность сюжетной линии.
Напоследок пару слов о Цирцее, точнее о Кирке (Κίρκη), если придерживаться греческого первоисходника. Этимология имени связана со словом κίρκος (в значении «кольцо»).²⁰
________________________________
[20] Κίρκη, дор. Κίρκα ἡ Кирка или Цирцея (дочь Гелиоса, волшебница на о-ве Ээа — Αἰαίη νῆσος) Hom.
κίρκος
I ὁ предполож. ястреб Aesch., Arst.; ex.: ἴρηξ κ. Hom. — описывающий круги ястреб;
II ὁ
1) (лат. circus) цирк (в Риме) Polyb.;
2) кольцо Anth.
В представлении древних греков, река Океан окаймляла (фактически «окольцовывала») всю ойкумену, в том виде, как они ее себе представляли. Если не брать в расчет переработку Гомером маршрута Одиссея, то получается, что Одиссей с товарищами (в изначальном варианте) отплыл с острова Кирки и сделав круг вернулся туда же (по «кольцевому маршруту»).
Другое производное значение от слова κίρκος — окружать кольцом (κιρκόω),²¹ т.е. «пленять» — также обыгрывается Гомером. Кирка (Цирцея) подмешивает зелье в еду странников, которые оказываются на острове, после чего они превращаются в животных. Точно так же и спутников Одиссея, которых тот послал осмотреть остров, Цирцея-Кирка превратила в свиней и закрыла в загоне.
________________________________
[21] κιρκόω — окружать кольцом, заковывать (σκέλη Aesch.).
ЧАСТЬ III
РЕКА ОКЕАН
«Зевсова дочь Артемида, богиня владычица, если б
В грудь поразивши стрелой, ты дух мой исторгла из тела
Тотчас, теперь! Или позже меня подхватила бы буря
И унесла бы далеко дорогой, окутанной мраком,
В устье швырнув Океана-реки, круговратно текущей!»
(Гомер. Одиссея XX, 61)
В примечаниях к фразе «в устье швырнув Океана-реки» дается пояснение: «т.е. ввергла бы в царство смерти».
Очевидно, что, под устьем реки Океан, Гомер подразумевает Запад, ибо дорога к устью Океана «окутана мраком». С другой стороны, а где у Океана, в таком случае, исток? Гомер называет Океан «круговратно текущим» (ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψορρόου Ὠκεανοῖο),²² т.е. опоясывающим всю землю. Получается, что у Океана нет ни начала, ни конца, ни истока, ни устья.
________________________________
[22] ἀψόρροος (ἀψό-ρροος) стяж. ἀψόρρους 2 текущий вспять, т.е. обтекающий кругом (эпитет Океана) Hom.
Однако Геродот пишет, что «Океан, по утверждению эллинов, течет, начиная от восхода солнца, вокруг всей земли». Т.е. налицо либо трудности перевода, либо трудности с пониманием картины мира античными авторами. Если отталкиваться от Геродота, т.е. исток Океана находится на востоке, а устье (как выше отмечено у Гомера) — на западе, то получается, что Океан не «круговратно текущий», а обтекающий Землю (как остров) с севера и юга. Но откуда Океан вытекает на востоке, и куда утекает на западе? Здесь явный пробел.²³
На лицо опять неправильно понятая и неверно истолкованная египетская мистерия путешествия солнечного бога в ладье по небесному Нилу днем и подземному Нилу (в Дуате) — ночью. В этой традиции исток небесного Нила находился на Востоке (на выходе из Дуата). Устье же небесного Нила находилось, соответственно, — на Западе. Греки небесный (и подземный) Нил «заземлили», переведя его в горизонтальную плоскость, и назвав Океаном. В силу чего, река осталась «круговратно текущей» (по старой памяти), но ни о каком путешествии солнца по ней, уже речи быть не могло. Но это в теории, на практике все гораздо запутаннее.
«Спутников верных своих на совет пригласив, я сказал им:
Спутники верные, слушайте то, что скажу вам, печальный:
Нам неизвестно, где запад лежит, где является Эос,
Где светоносный под землю спускается Гелиос, где он
На небо всходит.»
(Гомер. Одиссея X, 188)
«Только что новыми солнце лучами поля осветило,
Выйдя из тихо текущих, глубоких зыбéй Океана»...
(Гомер. Одиссея XIX, 433)
Гелиос путешествовал по небу на колеснице, а на Западе переправлялся через реку Океан в «золотом кубке», вместе с конями и колесницей. О путешествии Гелиоса по Аиду история умалчивает, разные авторы говорят лишь, что потом Гелиос вновь переправлялся через Океан в том же «кубке». Но, поскольку солнце всходит на Востоке, то у солнечного бога нет другого пути, как только пересечь царство Аида на колеснице. Здесь возникает непреодолимое противоречие. Насельники Аида никогда не видят солнца. Но, проезжая подземное царство насквозь, Гелиос не мог остаться незамеченным. Не найдя выхода из совершенно неразрешаемого противоречия, греческие сказители просто опускают эту часть путешествия, как малозначительную. А ведь это половина пути…
________________________________
[23] Платон в своем «Федоне» дает весьма приближенное к египетскому понимание о круговращении вод реки Океан. Описывая подземные реки, он определяет подземную реку Ахерон как вторую по величине реку в мире, уступающую только Океану. Платон утверждал, что Ахерон тек в противоположном направлении от Океана под землей.
«В эту пропасть (в Тартар) стекают все реки, и в ней снова берут начало. (…) Когда вода отступает в ту область, которую мы зовем нижнею, она течет сквозь землю по руслам тамошних рек и наполняет их, словно оросительные канавы; а когда уходит оттуда и устремляется сюда, то снова наполняет здешние реки.
(…)
Этих рек многое множество, они велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. Самая большая из всех и самая далекая от середины (Земли) течет по кругу; она зовется Океаном. Навстречу ей, но по другую сторону от центра течет Ахеронт. Он течет по многим пустынным местностям, главным образом под землей»…
(Платон. Федон 60-61)
Справедливости ради, надо отметить, что в одном месте Одиссеи Гомер упоминает некую потайную дверь (или ворота) Гелиоса (Ἠελίοιο πύλας), на другом берегу реки Океан. Но что это за дверь, куда она ведет — об этом Гомер умалчивает. Через запятую упоминается и Левкада (Λευκάδα), белая скала (у которой, по преданию, находился вход в подземное царство). Гермес ведет за собой души усопших мимо Левкады и мимо ворот Гелиоса к асфоделевым лугам. Из чего становится понятно, что единственное назначение «солнечных ворот» — это возможность Гелиосу проскочить незаметно для душ, населяющих Аид.
«Их [души усопших] вел за собою
Темным и затхлым путем Гермес, исцеленье несущий.
Мчались они мимо струй океанских, скалы левкадийской,
Мимо ворот Гелиόса и мимо страны сновидений.
Вскоре рой их достиг асфодельного луга, который
Душам — призракам смертных уставших — обителью служит.»
(Гомер. Одиссея XXIV, 9)
Мимнерм находит выход из положения и объясняет каким образом Гелиос добирается до востока. Он плывет в «золотом крылатом ложе» по Океану (т.е. не спускаясь в Аид). Но, если Гелиос не опускается за горизонт, почему же ночью темно? Вопрос на засыпку.
«Гелию труд вековечный судьбою ниспослан на долю.
Ни быстроногим коням отдых неведом, ни сам
Он передышки не знает, едва розоперстая Эос
Из океанских пучин на небо утром взойдет.
Быстро чрез волны несется он в вогнутом ложе крылатом.
Сделано дивно оно ловкой Гефеста рукой
Из многоцветного золота. Поверху вод он несется,
Сладким покояся сном, из Гесперидской страны
В край эфиопов. Восхода, родившейся в сумерках Эос,
Ждут с колесницею там быстрые кони его.
Встав, Гиперионов сын на свою колесницу восходит.»
(Мимнерм. «Нанно»)
Как видно из цитаты, Гелиос переплывает Океан в своем волшебном «ложе», пребывая во сне. Интересное решение, видимо, Мимнерм рассудил, что спящий Гелиос не лучится светом, от того ночью и темно. Что характерно, плывет он без коней, кони, вместе с колесницей, ждут его уже на востоке. Каким образом «быстроногие кони» оказываются на востоке (в краю эфиопов)²⁴ Мимнерм не объясняет.
«Крылатость» «золотого вогнутого ложа», видимо, необходима в силу того, что Гелиос плывет против течения. Ведь Океан течет с востока на запад, а Гелиос плывет с запада на восток. Впрочем, это если мы принимаем версию Геродота. В понимании Гомера (о «круговратно текущем Океане»), возможно, Гелиос огибал Землю с севера, плывя по течению. Северные земли, для греков, были чем-то настолько запредельно далеким, что когда Аполлон (отождествляемый с Гелиосом) улетал в Гиперборею, в Греции наступала зима. Т.е., в интерпретации Гомера, крылья «золотому ложу» Гелиоса, и в этом случае, не менее важны. Ведь путь не близкий, а нужно успеть к восходу добраться до места (этого самого восхождения).
________________________________
[24] Край эфиопов (как место восхода солнца) — откровенно египетская традиция.
ГЕРАКЛ АСТРОХИТОН
Ниже, в отрывке из «Деяний Диониса», Нонн (от лица Диониса) отождествляет Геракла Астрохитона (облаченного в звезды) с Гелиосом, Аполлоном, Зевсом, Амоном и многими другими верховными божествами разных народов. Геракл Астрохитон — это Мелькарт, финикийский бог-покровитель города Тира. В изложении Нонна, он представлен не только как солярное божество, более того — он владыка небесный. Возможно, такое расширение функционала произошло от неоднозначно переводимого слова ἄστρον. Его можно перевести не только как «звезда», но и как «солнце», и как «слава», т.е. «сияние». Например, слово ἀστρόβλητος (ἀστρό-βλητος) переводится как «пораженный солнечным ударом». А значит и эпитет Геракла Ἀστροχίτων можно перевести не только как «облаченный в одежды из звезд» (традиционный перевод), но и как «облаченный в сияющие одежды» (как тот же Гелиос).
Все осмотрев, неуемное сердце взором насытив,________________________________
В храм Астрохи́тона входит и громко взывает к владыке
Звезд, восклицая такое слово, полное тайны:
«О Геракл Астрохи́тон,²⁵ владыка огня, повелитель
Миропорядка, о Гелий, пастырь людей длиннотенный,
По всему небосводу скачущий огненным диском,
Путь двенадцатимесячный деющий, времени отпрыск,
Круг за кругом проходишь — и за твоею повозкой
Жизнь для стáра и млáда льется рекою единой:
Мудрый родитель Мены трехтелой ты безматерней,²⁶
И Селена росистая призрачное питает
Отраженное пламя светом лучей твоих щедрых,
Рожки гнутые бычьи приращивая понемногу!
Око всезрящее выси, ты четвероконной повозкой
Правишь, за ливнями снеги, за хладом весну к нам приводишь!
Мрачная ночь отступает, гонима твоими лучами,
Блещущими, лишь только под сверкающим игом
Выи покажут кони, бичуемы дланью твоею!
Только ты засияешь — и меркнут в сиянии ярком
Звездные луговины пестрые в поднебесье;
После же омовенья в западном Океане
С пенных волос отряхаешь ты прохладную влагу
Ливнем животворящим и на родящую Гею
Росной влаги потоки утренней ты низвергаешь;
Тучные нивы зреют под диском твоим благосклонным,
Орошая колосья в бороздах плодоносных;
Бэл — на Евфрате, в Либи́и — Аммон, и Апис — на Ниле,
Крон ты отец — в Араби́и, и Зевс — в ассирийских пределах!
Благоуханные ветви когтями острокривыми
Тысячелетняя птица на твой алтарь благовонный
Носит, Феникс премудрый, рождаясь и умирая,
Ибо там она снова является, юная вечно,
Старость в огне меняя на молодость в солнечном свете!
Будь ты Серáписом, Зевсом тученосным Египта,
Кроном иль Фаэтонтом многоименным,²⁷ иль Митрой
Вавилонским, иль Фебом,²⁸ богом эллинским в Дельфах,
Гамосом,²⁹ коего Эрос в сновиденьях смятенных
Нам являет в обманных любовных объятьях на ложе,
Если от спящего Дия, возбужденного грезой
Страстной, влажное семя изливается в нивы
Тверди земной, и горы встают от небесных потоков!
Будь ты Пэаном целящим или пестрым Эфиром,³⁰
Или как Астрохи́тон явись, когда звездное небо
Ярко ночью сияет россыпью светочей горних —
Внемли мне благосклонно, будь ко мне милосерден!»
Слово такое промолвил радостный Бромий — внезапно
Образ божественный вспыхнул Астрохитона в храме
Над Дионисом, лучистый лик божества проявился
Алыми засиявший очами и в одеянье
Звездном сверкая, и длань простер он над Дионисом,
Образ являя вселенной, лик многозвездного неба:
Светом мерцали ланиты, с брады созвездья струились,
К дружеской приглашая трапезе Диониса...
(Нонн. Деяния Диониса XL. 376-428)
[25] Ἀστροχίτων «облаченный в одежды из звезд» (χιτών ἀστέριος) .
[26] Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.
[27] φαέθων (-οντος) part. и adj. сияющий, блистающий, лучезарный = ἥλιος Anth.
[28] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.
[29] γάμος ὁ тж. pl.
1) брак, бракосочетание, супружество Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst., Luc.
2) свадьба, брачный пир;
3) половые сношения, сожительство.
[30] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ Пэан (бог-целитель, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном.)
Αἰθήρ (-έρος) ὁ Эфир, бог горних высей (сын Эреба и Ночи) Hes.
_______________________________
|
Метки: Геракл Герион Океан Греция Этимология |
ГОСПОДЬ ЗАВЕТА |
ЗАВЕТ (ЭТИМОЛОГИЯ)
Этимология слова «завет» — неоднозначная.
Исходя из самоограничения, которое связано с обетом, можно вспомнить латинское veto — «запрещаю». Собственно и Завет, включающий в себя перечень заповедей, — это список ограничений и запретов.
С другой стороны, «завещанный» и «обетованный» (обещанный) — это слова иного семантического ряда (ни к каким «запретам» отношения не имеющие).
Этимологически слово связывают с корнем -вет — «изречение» (ответ, привет), др.-рус. вѣтъ — «договор, совет». В славянских языках (чеш. оbt, словацк. оbet) слово имеет значение «жертва». Понятно, что жертва приносится в качестве платы за просимое; т.е., здесь, обет — это условный договор, инициатором которого (в отличие от Завета) является человек.
Здесь же мимоходом можно отметить игру слов в названии святого писания: Ветхий Завет. В обоих словах мы видим корень «вет». Ветхий Завет по-латински — Vetus Testamentum. Сам собой напрашивается вопрос: уж не от латинского ли vetus¹ происходит древнерусское слово «ветхий»?
_____________________________
[1] vetus, -eris 1) старый, древний, изношенный; 2) прежде бывший, прежний.
Несмотря на попытки вывести слово «завет» из славянских корней, значение слова «Елизавета» (если верить всевозможным словарям и справочникам, связанное со словом «завет») заставляет искать новые варианты этимологии.
Варианты перевода имени самые разные: «Бог мой — клятва», «почитающая Бога», «обет Богу»… Имя весьма распространенное в мире, видимо, из-за своего библейского происхождения. Одно смущает, каким образом из еврейского Элишева можно получить имя Елизавета? — вопрос на засыпку. Хотя, если рассмотреть написания этого имени на других языках, можно заметить интересную особенность. Имя Елизавета имеет две формы написания:
греч. Ελισάβετ (Элисавет), Ζαμπέτα (Забета)
араб. اليزابيث (Ilīṣābāt)
болг. Елисавета
итал. Elisabetta (Элизабетта)
рум. Elisabeta (Элисабета)
нем. Elisabeth (Элизабет), Elsa (Эльза)
англ. Elisabeth (Элизабет), Elisa (Элайза)
фин. Elisabet[h] (Элисабет), Liisa (Лийса)
фр. Élisabeth (Элизабет), Héloïse (Элоиз)
эст. Elisabet (Элизабет), Elise (Элис)
В форме написания Elisabeth, вторая часть имени несколько напоминает другое значимое еврейское слово — «шабат» (суббота), которое через греческое σάββατον, а затем, латинское sabbatum, также разошлось по миру.
В качестве версии, можно предположить объединение двух схожих по звучанию имен: Элиза или Алиса (от еврейского Элишева) и Елисавета (от еврейского Эль-шабат). Причем, это смешение могло быть и не случайным. Греческий укороченный вариант имени Елизавета — Ζαμπέτα (Забета) — подозрительно похож на вариант написания древнегреческого слова «суббота»: σάμβατον.²
_____________________________
[2] β (τό βῆτα) бета (2-я буква греч. алфавита). Примерно со II-III в. н.э. β стала произноситься как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [v]. И название ее, соответственно, поменялось на «вита» (βήτα). Сегодня звук [b] в греческом встречается только в заимствованиях и передается сочетанием букв μπ, например: Μπαχάμες (Багамы), μπανάνα (банан). Но, чтобы новое правило грамматики вошло в обиход, понадобилось довольно продолжительное время, что хорошо видно на примерах написания слова «суббота» в Египте, в IV в. н.э., которые дает Епифаний Саламинский: Σαμβαθον, Сαμφαθον, Сαμαθον (Epiphanius' Sabitha In Egypt: Σαμβαθον/cαμφαθον/cαμαθον. Mayerson Philip).
В иудейской религии суббота — день исключительно важный. Согласно Пятикнижию, шаббат — это знамение между Богом и Израилем. Впервые Библия об особом статусе «дня седьмого» упоминает во второй главе книги Бытия, когда Бог благословил день субботний и освятил его (Быт._2:3). В Священном Писании это единственный пример одновременного благословения и освящения чего-либо.
В дальнейшем «седьмой день» был включен в число Десяти заповедей в качестве регулярного дня отдыха, посвященного поклонению Богу, остальные шесть дней были заняты работой. Согласно этому установлению, по еврейской традиции суббота — это Шаббат, данный «сынам Израиля» в качестве заповеди. Для язычников, согласно Талмуду, если они не желали становиться иудеями, было достаточно соблюдения Семи законов потомков Ноя, которые не включают заповедь о субботе как обязательную для исполнения. Для иудеев же соблюдение субботы — святая обязанность.
Ну что ж, прямая цитата не оставляет сомнений в версии выдвинутой выше: «суббота» = «завет», причем, не просто «завет», а особый «завет», за нарушение которого Господь Израиля призывает лишать жизни «нарушителя».
ДОГОВОР И КЛЯТВА
Термин «Ветхий Завет» является калькой c др.-греч. Παλαιά Διαθήκη на старославянский (либо, как было замечено выше, с латинского Vetus Testamentum). Древнегреческое слово παλαιά означает буквально «прежний, тот что был раньше», а διαθήκη означает «завещание», «соглашение», «договор» или «завет». Этим словом создатели Септуагинты передавали древнееврейское ברית (брит, «договор, соглашение»). В значении «договор, подтвержденное заверение» в Ветхом Завете используется также (правда, чрезвычайно редко, всего дважды, оба раза у Неемии) слово אֲמָנָה (амана). Запомним это слово, ниже мы вернемся к нему.
Основное значение Завета-договора выражено в Библии словами Иеремии: «И буду им Богом, а они будут Моим народом». (31:33). Бог вступает с людьми в особые отношения, обязуясь охранять свой народ, а в ответ ожидает исполнения законов им данных.
В древнем мире «завет» был широко распространенным типом взаимоотношений, и выражался в торжественном соглашении сторон, сопровождаемом произнесением клятв. Завет, заключенный между людьми, часто означал взаимный договор о сотрудничестве или о мире. Такой завет мог быть договором между частными лицами (Быт. 31:44, 1Цар. 18:3), соглашением между царем и частным лицом (Быт. 21:27, 2Цар. 3:12) или договором между царями или государствами (2Цар. 5:1-3, 3Цар. 15:19).
Другой тип завета означал торжественное обещание одностороннего характера, своего рода «присягу», при которой одна из сторон обязывалась выполнять определенные действия (4Цар. 23:3). Особым видом является завет, заключаемый между Богом и человеком. Такой завет имеет сходство с договором о предоставлении правителем прав своим подданным, широко распространенным на Ближнем Востоке.
БОГ ЗАВЕТА
А.В.Кудрявец. «Раскрытие семантики канонического (итифаллического) образа бога Амона»
Среди египтологов идет давний спор о семантике Амона, и большинство сходится на том, что имя Амон (Ἰmn) подразумевает значение «скрытый». Явное свидетельство тому — идентичность написания имени и глагола «скрывать» (imn).
Вот фрагмент полемики из книги Павловой «Амон фиванский»:
Представляется, что из этой игры слов — «сокрытый-творец» — можно вывести семантическое значение, охватывающее указанные варианты: вездесущий. Амон вездесущ по праву демиурга, при этом он как бы растворён в созданном им самим мире. Он везде присутствует, но обычно в неявном виде.
Рассмотрим иконографию Амона. Эрегированный фалос явно выдает в нем творца-демиурга. Иконография Амона-Мина, сжимающего фаллос, продолжает гелиопольскую традицию, в которой Атум сотворивший самого себя из первичного хаоса, сочетается со своей рукой. Оплодотворив себя (проглотив собственное семя), Атум порождает, выплюнув изо рта, первых богов: Шу (воздух) и Тефнут (влагу), от которых произошли земля (Геб) и небо (Нут). От последних рождаются Осирис, Гор (Ḥr-wr), Исида, Сет и Нефтида.
То, что Амон представлен в виде мумии, указывает нам на его место пребывания — дуат, т.е. «запад» (imnt). Третья, явно выраженная, деталь в образе Амона — поднятая рука, при этом положение другой руки, возложенной на фаллос, — также не случайно.
Поднятая таким образом правая рука — это знакомый всем нам жест. Так поднимают руку, когда дают клятву или приносят присягу: «Поднятая ладонь — жест, означающий свидетельство или принятие клятвы.» (Энциклопедия символов. Дж. Купер, 1995).



1. Студенты медицинского института дают клятву Гиппократа.
2. Присягу принимает вице-президент США Майк Пенс.
3. Принесение присяги на Библии.
В особых случаях, давая клятву, присягающий полагает руку свою на Библию. Но так было не всегда, да и тиражирование Библии освоили лишь в Позднем Средневековье. Тем не менее Библия нам пригодится, точнее ее содержание. Цитата из книги Джона Дэйвенпорта «Афродизиаки и антифродизиаки: три очерка о силах плодородия» (1-е издание — Лондон, 1869 год):
[3] стегно́ — устар. рег. часть ноги от таза до колена; бедро, ляжка.
Таким образом, поза Амона (Мина) однозначно говорит о том, что он дает клятву, которая нашла отражение в Библии. Но если в Библии есть описание фаллической клятвы, то в ней, по-видимому, должен быть и древнеегипетский бог Амон. Действительно, он там присутствует в явном виде:
Как видим, в древнегреческом «свидетель верный и истинный» именовался Амен — в точности как произносят в католической литургии в значении «быть по сему» («да будет так», «истинно», «воистину»). И здесь можно вспомнить, упомянутый выше термин амана (אֲמָנָה, «договор, подтвержденное заверение») из Ветхого Завета (Неемия). Всего в Библии — в Ветхом и Новом завете — имя бога Амона (греч. Ἀμήν, русск. Аминь) встречается 76 раз, что свидетельствует о его огромном значении в древности. По сути, Амон был персонификацией клятвы — он ответствовал за сказанное, подтверждая истинность предваряющих речений.
ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
То, что Амон низведен до уровня второстепенного служебного духа, не должно нас удивлять. Эта традиция воспринята иудеями от египтян. Любая доминирующая религиозная школа, когда не было возможности просто заместить богов конкурирующей религиозной концепции, старалась встроить чужих богов в свиту своего верховного божества. Как уже выше было замечено, Атум в гелиопольской системе был самодостаточным богом демиургом проявившим себя из хаоса. Жрецы мемфисской школы, претендовавшие на приоритетность собственного верховного бога, в своей концепции определили Атума на ступень ниже Птаха. Птах, таким образом, становится творцом, а Атум его творением.
традиция воспринята иудеями от египтян. Любая доминирующая религиозная школа, когда не было возможности просто заместить богов конкурирующей религиозной концепции, старалась встроить чужих богов в свиту своего верховного божества. Как уже выше было замечено, Атум в гелиопольской системе был самодостаточным богом демиургом проявившим себя из хаоса. Жрецы мемфисской школы, претендовавшие на приоритетность собственного верховного бога, в своей концепции определили Атума на ступень ниже Птаха. Птах, таким образом, становится творцом, а Атум его творением.
Напоследок можно заметить, что, в свое время, и Зевс (отождествляемый греками с Амоном) так же почитался свидетелем даваемых клятв. Его именем не просто клялись — Зевса призывали в свидетели, в качестве гаранта произнесенных клятв. В Олимпии почитался Зевс Горкий (Ὅρκιος), «хранитель клятв». У статуи Зевса Горкия участники состязаний клялись над разрезанными частями кабана, что будут соблюдать законы Олимпийских состязаний.
Хранителем клятв с тем же эпитетом (Ὅρκιος) являлся и Аид, которого Гомер в Одиссее называет Зевсом Подземным (Ζεὺς Καταχθόνιος).⁴
_____________________________
[4] Ζεὺς [κατα-] χθόνιος (ср. Juppiter Stygius Verg.) — подземный Зевс = Ἅιδης Hom., Hes.
Аид, как Зевс Подземный, семантически еще ближе к Амону, в образе мумии. В этом плане у Аида есть ряд интересных созвучий, которые удивительно перекликаются с рассматриваемым образом Амона:
Ἅιδης (-ου), эп.-ион. Ἀΐδης (-ᾱο и -εο), дор. Ἀΐδας (-ᾱ) = ᾅδης ὁ Гадес, Аид;
ἀϊδής (ἀ-ϊδής) 2 невидимый Hes.
αἰδοῖον τό тж. pl. половой орган Hom., Hes., Her., Arst.
αἰδοῖος 3 внушающий уважение, почтенный; ex. αἰδοῖος Ζεύς Aesch. — великий Зевс.
_______________________________
Этимология слова «завет» — неоднозначная.
Завет — в богословско-религиозном словоупотреблении, торжественный обет или договор, обычно между Богом и человеком (народом).
Обет (др.-рус. и ст.-слав. обѣтъ) — обязательство, добровольно налагаемое на себя человеком или общиной ради избавления от мора, болезней, неурожая, стихийных бедствий и т.п.
Исходя из самоограничения, которое связано с обетом, можно вспомнить латинское veto — «запрещаю». Собственно и Завет, включающий в себя перечень заповедей, — это список ограничений и запретов.
С другой стороны, «завещанный» и «обетованный» (обещанный) — это слова иного семантического ряда (ни к каким «запретам» отношения не имеющие).
Этимологически слово связывают с корнем -вет — «изречение» (ответ, привет), др.-рус. вѣтъ — «договор, совет». В славянских языках (чеш. оbt, словацк. оbet) слово имеет значение «жертва». Понятно, что жертва приносится в качестве платы за просимое; т.е., здесь, обет — это условный договор, инициатором которого (в отличие от Завета) является человек.
Здесь же мимоходом можно отметить игру слов в названии святого писания: Ветхий Завет. В обоих словах мы видим корень «вет». Ветхий Завет по-латински — Vetus Testamentum. Сам собой напрашивается вопрос: уж не от латинского ли vetus¹ происходит древнерусское слово «ветхий»?
_____________________________
[1] vetus, -eris 1) старый, древний, изношенный; 2) прежде бывший, прежний.
Несмотря на попытки вывести слово «завет» из славянских корней, значение слова «Елизавета» (если верить всевозможным словарям и справочникам, связанное со словом «завет») заставляет искать новые варианты этимологии.
Елизавета (ивр. אלישבע, Элишéва) — женское имя еврейского происхождения. Это имя носила супруга первосвященника Аарона».
Варианты перевода имени самые разные: «Бог мой — клятва», «почитающая Бога», «обет Богу»… Имя весьма распространенное в мире, видимо, из-за своего библейского происхождения. Одно смущает, каким образом из еврейского Элишева можно получить имя Елизавета? — вопрос на засыпку. Хотя, если рассмотреть написания этого имени на других языках, можно заметить интересную особенность. Имя Елизавета имеет две формы написания:
греч. Ελισάβετ (Элисавет), Ζαμπέτα (Забета)
араб. اليزابيث (Ilīṣābāt)
болг. Елисавета
итал. Elisabetta (Элизабетта)
рум. Elisabeta (Элисабета)
нем. Elisabeth (Элизабет), Elsa (Эльза)
англ. Elisabeth (Элизабет), Elisa (Элайза)
фин. Elisabet[h] (Элисабет), Liisa (Лийса)
фр. Élisabeth (Элизабет), Héloïse (Элоиз)
эст. Elisabet (Элизабет), Elise (Элис)
В форме написания Elisabeth, вторая часть имени несколько напоминает другое значимое еврейское слово — «шабат» (суббота), которое через греческое σάββατον, а затем, латинское sabbatum, также разошлось по миру.
В качестве версии, можно предположить объединение двух схожих по звучанию имен: Элиза или Алиса (от еврейского Элишева) и Елисавета (от еврейского Эль-шабат). Причем, это смешение могло быть и не случайным. Греческий укороченный вариант имени Елизавета — Ζαμπέτα (Забета) — подозрительно похож на вариант написания древнегреческого слова «суббота»: σάμβατον.²
_____________________________
[2] β (τό βῆτα) бета (2-я буква греч. алфавита). Примерно со II-III в. н.э. β стала произноситься как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [v]. И название ее, соответственно, поменялось на «вита» (βήτα). Сегодня звук [b] в греческом встречается только в заимствованиях и передается сочетанием букв μπ, например: Μπαχάμες (Багамы), μπανάνα (банан). Но, чтобы новое правило грамматики вошло в обиход, понадобилось довольно продолжительное время, что хорошо видно на примерах написания слова «суббота» в Египте, в IV в. н.э., которые дает Епифаний Саламинский: Σαμβαθον, Сαμφαθον, Сαμαθον (Epiphanius' Sabitha In Egypt: Σαμβαθον/cαμφαθον/cαμαθον. Mayerson Philip).
В иудейской религии суббота — день исключительно важный. Согласно Пятикнижию, шаббат — это знамение между Богом и Израилем. Впервые Библия об особом статусе «дня седьмого» упоминает во второй главе книги Бытия, когда Бог благословил день субботний и освятил его (Быт._2:3). В Священном Писании это единственный пример одновременного благословения и освящения чего-либо.
В дальнейшем «седьмой день» был включен в число Десяти заповедей в качестве регулярного дня отдыха, посвященного поклонению Богу, остальные шесть дней были заняты работой. Согласно этому установлению, по еврейской традиции суббота — это Шаббат, данный «сынам Израиля» в качестве заповеди. Для язычников, согласно Талмуду, если они не желали становиться иудеями, было достаточно соблюдения Семи законов потомков Ноя, которые не включают заповедь о субботе как обязательную для исполнения. Для иудеев же соблюдение субботы — святая обязанность.
«Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего; шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти; и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный.» (Исх. 31:13-16)
Ну что ж, прямая цитата не оставляет сомнений в версии выдвинутой выше: «суббота» = «завет», причем, не просто «завет», а особый «завет», за нарушение которого Господь Израиля призывает лишать жизни «нарушителя».
ДОГОВОР И КЛЯТВА
Термин «Ветхий Завет» является калькой c др.-греч. Παλαιά Διαθήκη на старославянский (либо, как было замечено выше, с латинского Vetus Testamentum). Древнегреческое слово παλαιά означает буквально «прежний, тот что был раньше», а διαθήκη означает «завещание», «соглашение», «договор» или «завет». Этим словом создатели Септуагинты передавали древнееврейское ברית (брит, «договор, соглашение»). В значении «договор, подтвержденное заверение» в Ветхом Завете используется также (правда, чрезвычайно редко, всего дважды, оба раза у Неемии) слово אֲמָנָה (амана). Запомним это слово, ниже мы вернемся к нему.
Основное значение Завета-договора выражено в Библии словами Иеремии: «И буду им Богом, а они будут Моим народом». (31:33). Бог вступает с людьми в особые отношения, обязуясь охранять свой народ, а в ответ ожидает исполнения законов им данных.
В древнем мире «завет» был широко распространенным типом взаимоотношений, и выражался в торжественном соглашении сторон, сопровождаемом произнесением клятв. Завет, заключенный между людьми, часто означал взаимный договор о сотрудничестве или о мире. Такой завет мог быть договором между частными лицами (Быт. 31:44, 1Цар. 18:3), соглашением между царем и частным лицом (Быт. 21:27, 2Цар. 3:12) или договором между царями или государствами (2Цар. 5:1-3, 3Цар. 15:19).
Другой тип завета означал торжественное обещание одностороннего характера, своего рода «присягу», при которой одна из сторон обязывалась выполнять определенные действия (4Цар. 23:3). Особым видом является завет, заключаемый между Богом и человеком. Такой завет имеет сходство с договором о предоставлении правителем прав своим подданным, широко распространенным на Ближнем Востоке.
БОГ ЗАВЕТА
А.В.Кудрявец. «Раскрытие семантики канонического (итифаллического) образа бога Амона»
Среди египтологов идет давний спор о семантике Амона, и большинство сходится на том, что имя Амон (Ἰmn) подразумевает значение «скрытый». Явное свидетельство тому — идентичность написания имени и глагола «скрывать» (imn).

Вот фрагмент полемики из книги Павловой «Амон фиванский»:
«Г.Масперо эти слова при переводе интерпретирует как «бог сокрытый, который скрывает эту землю», Зете и Мерсер — как «я — Тот, кто должен быть сокрыт, Ἰmn этой земли», полагая, что Ἰmnw и Ἰmn здесь производные формы от глагола imn «скрывать». Р.Фолкнер предлагает иной вариант перевода: «я — Творец, который создал эту землю», сравнивая эту фразу со сходным с ней по смыслу выражением «Хнум, который создал солнечный народ» (ẖnmw imn ḥnmmt). В словаре А.Эрмана и Г.Грапова помимо наиболее распространенного значения глагола imn «скрывать», «быть сокрытым, тайным» и т.п. приводится редкое — «творить». Слово же трактуется в этом словаре как «имя бога».
Можно ли утверждать, что Ἰmnw в приведенном фрагменте означает один из вариантов имени Амона, или что Амон подразумевается под словом Ἰmn, являвшимся обычной формой его имени? Поскольку царь здесь отождествляется с целым рядом богов, среди которых названы и второстепенные, в принципе нет ничего невозможного в том, чтобы он уподоблялся и Амону. Поэтому некоторые исследователи с большей или меньшей степенью определенности читали в Pyr..§.1095b имя этого божества. И все же твердой уверенности в этом быть не может, так как в тексте заклинания детерминатив бога получают и такие абстрактные понятия, как «Хвала» (ḥswt), «Величие» (букв. «Почет» šfšft) или «Речение Великое» (букв. «Великое Изреченное», ḏdt wrt). Весьма заманчиво рассматривать Ἰmnw, Ἰmn как производные от глагола «творить», что как нельзя более подходит к богу-демиургу. Но еслипринять во внимание весь контекст речения, лейтмотивом которого является идея о «спасении» и «освобождении» умершего от «всех злых вещей», то наиболее верным представляется перевод «я — Тайные (сущности), Сокровенный этой земли», подразумевается же здесь скорее всего не Амон, а умерший царь, который объявляет себя «сокрытым», чтобы не быть узнанным враждебными ему силами.»
Представляется, что из этой игры слов — «сокрытый-творец» — можно вывести семантическое значение, охватывающее указанные варианты: вездесущий. Амон вездесущ по праву демиурга, при этом он как бы растворён в созданном им самим мире. Он везде присутствует, но обычно в неявном виде.
Рассмотрим иконографию Амона. Эрегированный фалос явно выдает в нем творца-демиурга. Иконография Амона-Мина, сжимающего фаллос, продолжает гелиопольскую традицию, в которой Атум сотворивший самого себя из первичного хаоса, сочетается со своей рукой. Оплодотворив себя (проглотив собственное семя), Атум порождает, выплюнув изо рта, первых богов: Шу (воздух) и Тефнут (влагу), от которых произошли земля (Геб) и небо (Нут). От последних рождаются Осирис, Гор (Ḥr-wr), Исида, Сет и Нефтида.
То, что Амон представлен в виде мумии, указывает нам на его место пребывания — дуат, т.е. «запад» (imnt). Третья, явно выраженная, деталь в образе Амона — поднятая рука, при этом положение другой руки, возложенной на фаллос, — также не случайно.
Поднятая таким образом правая рука — это знакомый всем нам жест. Так поднимают руку, когда дают клятву или приносят присягу: «Поднятая ладонь — жест, означающий свидетельство или принятие клятвы.» (Энциклопедия символов. Дж. Купер, 1995).



1. Студенты медицинского института дают клятву Гиппократа.
2. Присягу принимает вице-президент США Майк Пенс.
3. Принесение присяги на Библии.
В особых случаях, давая клятву, присягающий полагает руку свою на Библию. Но так было не всегда, да и тиражирование Библии освоили лишь в Позднем Средневековье. Тем не менее Библия нам пригодится, точнее ее содержание. Цитата из книги Джона Дэйвенпорта «Афродизиаки и антифродизиаки: три очерка о силах плодородия» (1-е издание — Лондон, 1869 год):
…«принося торжественную клятву, они [т.е. древние евреи] возлагали руку на половые органы в знак ее нерушимости. Когда Авраам, обращаясь к «рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было», говорит: …«положи руку твою под стегно³ мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев» (Быт. 24:2-3), и когда Иаков на смертном одре «призвал… сына своего Иосифа и сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте» (Быт. 47:29), — и в том, и в другом случае древнееврейский текст переведен неверно; ученые толкователи указывают, что в действительности слово это означает не «стегно», а «фаллос» <…> (Этот же обычай описывает Иосиф Флавий в «Иудейских древностях»: «[Торжественные клятвы] совершаются таким образом: положив друг другу руки ниже бедер, [клянущиеся] взывают затем к Господу Богу, как к свидетелю грядущего» (I, 16, 1))._____________________________
Обычай этот сохраняется в Египте даже и по сей день: многие путешественники утверждают, что арабы, исполняя воинское приветствие или принося торжественную клятву, кладут руку на вышеупомянутую часть тела. Подобный случай описывает генерал-адъютант Жюльен в письме к сотруднику Египетского института. Одного египтянина арестовали как шпиона и привели к генералу. Сообразив, что никто не понимает его заверений в невиновности, этот египтянин «задрал свою синюю рубаху и взявшись рукой за фаллос, замер на мгновение в театральной позе бога, клянущегося водами Стикса. Физиономия его словно бы говорила: «Теперь, когда в доказательство своей невиновности я принес СТОЛЬ ужасную клятву, осмелитесь ли вы мне неповерить?» Жест его напомнил мне обычай времен Авраамовых приносить присягу, держа в руке детородный орган».»
[3] стегно́ — устар. рег. часть ноги от таза до колена; бедро, ляжка.
Таким образом, поза Амона (Мина) однозначно говорит о том, что он дает клятву, которая нашла отражение в Библии. Но если в Библии есть описание фаллической клятвы, то в ней, по-видимому, должен быть и древнеегипетский бог Амон. Действительно, он там присутствует в явном виде:
И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия… (Откр. 3:14)
Греческий текст: Kαὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον τάδε λέγει ὁ ἀμήν ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ…
Как видим, в древнегреческом «свидетель верный и истинный» именовался Амен — в точности как произносят в католической литургии в значении «быть по сему» («да будет так», «истинно», «воистину»). И здесь можно вспомнить, упомянутый выше термин амана (אֲמָנָה, «договор, подтвержденное заверение») из Ветхого Завета (Неемия). Всего в Библии — в Ветхом и Новом завете — имя бога Амона (греч. Ἀμήν, русск. Аминь) встречается 76 раз, что свидетельствует о его огромном значении в древности. По сути, Амон был персонификацией клятвы — он ответствовал за сказанное, подтверждая истинность предваряющих речений.
«Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь.» (Пс. 71:18).
ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
То, что Амон низведен до уровня второстепенного служебного духа, не должно нас удивлять. Эта
 традиция воспринята иудеями от египтян. Любая доминирующая религиозная школа, когда не было возможности просто заместить богов конкурирующей религиозной концепции, старалась встроить чужих богов в свиту своего верховного божества. Как уже выше было замечено, Атум в гелиопольской системе был самодостаточным богом демиургом проявившим себя из хаоса. Жрецы мемфисской школы, претендовавшие на приоритетность собственного верховного бога, в своей концепции определили Атума на ступень ниже Птаха. Птах, таким образом, становится творцом, а Атум его творением.
традиция воспринята иудеями от египтян. Любая доминирующая религиозная школа, когда не было возможности просто заместить богов конкурирующей религиозной концепции, старалась встроить чужих богов в свиту своего верховного божества. Как уже выше было замечено, Атум в гелиопольской системе был самодостаточным богом демиургом проявившим себя из хаоса. Жрецы мемфисской школы, претендовавшие на приоритетность собственного верховного бога, в своей концепции определили Атума на ступень ниже Птаха. Птах, таким образом, становится творцом, а Атум его творением. «Пта создал себя в восьми ипостасях: «Пта на своем троне», «Пта-Нун, создавший Атума», «Пта-Наунет, родившая Атума», «Пта, сердце и язык эннеады», и еще четыре ипостаси, наименования которых не сохранились.» (М.Коростовцев. «Религия древнего Египта»)
Напоследок можно заметить, что, в свое время, и Зевс (отождествляемый греками с Амоном) так же почитался свидетелем даваемых клятв. Его именем не просто клялись — Зевса призывали в свидетели, в качестве гаранта произнесенных клятв. В Олимпии почитался Зевс Горкий (Ὅρκιος), «хранитель клятв». У статуи Зевса Горкия участники состязаний клялись над разрезанными частями кабана, что будут соблюдать законы Олимпийских состязаний.
πρὸς (τοῦ) Διός! — клянусь Зевсом!
τὸν μετά ἄστρων Ζῆνα! Eur. — клянусь живущим среди звезд Зевсом!
Ζῆν΄ ἔχων ἐπώμοτον Soph. — беря Зевса в свидетели (моей клятвы);
ἴστω νῦν Ζεύς Hom. и ἴττω Δεύς беот. Arph. — пусть знает Зевс!, т.е. призываю в свидетели Зевса!
Хранителем клятв с тем же эпитетом (Ὅρκιος) являлся и Аид, которого Гомер в Одиссее называет Зевсом Подземным (Ζεὺς Καταχθόνιος).⁴
_____________________________
[4] Ζεὺς [κατα-] χθόνιος (ср. Juppiter Stygius Verg.) — подземный Зевс = Ἅιδης Hom., Hes.
Аид, как Зевс Подземный, семантически еще ближе к Амону, в образе мумии. В этом плане у Аида есть ряд интересных созвучий, которые удивительно перекликаются с рассматриваемым образом Амона:
Ἅιδης (-ου), эп.-ион. Ἀΐδης (-ᾱο и -εο), дор. Ἀΐδας (-ᾱ) = ᾅδης ὁ Гадес, Аид;
ἀϊδής (ἀ-ϊδής) 2 невидимый Hes.
αἰδοῖον τό тж. pl. половой орган Hom., Hes., Her., Arst.
αἰδοῖος 3 внушающий уважение, почтенный; ex. αἰδοῖος Ζεύς Aesch. — великий Зевс.
_______________________________
|
Метки: Завет Амон Зевс Этимология |
Процитировано 1 раз
ЗАГРЕЙ |
С.В. Петров
ДИОНИС ЗАГРЕЙ
1. Эпоним Ζάγρος
К сожалению ничего не удалось найти о «критском Загросе». Возможно, уважаемые ученые допустили ошибку в названии критского Закроса (Ζάκρος), спутав его с иранским Загросом (Ζάγρος).¹ Ничего о другом написании критского Закроса — неизвестно. Двусмысленности в этом вопросе добавляет написание иранского Загроса на греческом языке сегодня: Ζάγκρος,² в то время как древнегреческий словарь Дворецкого дает однозначный вариант: Ζάγρος. В конце концов, могло иметь место искажение эпитета Зевса, связанного с местностью (Ζάκρος), на которой располагался культовый центр, как обычно, в силу созвучия.
______________________________
[1] Ζάκρος — место на восточном побережье острова Крит, знаменитое найденным здесь неразграбленным храмовым дворцовым комплексом (Κάτω Ζάκρος) минойской цивилизации.
Ζάγρος ὁ Загрос (горная цепь между Ассирией, Арменией и Мидией) Polyb.
[2] Τα όρη Ζάγκρος αποτελούν την μεγαλύτερη οροσειρά του Ιράν, Ιράκ και της νοτιοανατολικής Τουρκίας (Горы Загрос составляют большой горный хребет в Иране, Ираке и на юго-востоке Турции).
Попытка перевести эпитет Диониса «Загрей» (Ζαγρεύς) как «Зверолов» (или, более распространенное, «великий охотник», от ἀγρεύς — «охотник, ловец») — вызывает недоумение, ибо титаны разорвали Диониса Загрея в младенческом возрасте. У него просто не было времени, чтобы проявить себя в качестве охотника. Зато другие эпитеты Диониса дают однозначное понимание этимологии эпитета Ζαγρεύς: Ἀγριώνιος («дикий, яростный»); Ἀνθρωπορραίστης («растерзывающий людей»); ὠμάδιος (от ὠμός — «грубый, дикий, жестокий, неумолимый»).³
______________________________
[3] Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей
1) эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth.
2) эпитет Гадеса Aesch.
ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне;
ἄγριος
1) дикий; ex. μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτός Aesch. — вино из дикого винограда;
2) жестокий, свирепый, лютый, злой; ex. δρακαίνης φύσις Eur.);
3) неукротимый, необузданный, грубый; ex. ὀργή Soph.; ἔρωτες Plat.);
4) мучительный, тяжелый; ex. τραύματα Eur.;
5) бурный, ужасный; ex. νύξ Her.; χεῖμα Eur.
Ἀγριώνιος (-ου) ὁ Агрионий (эпитет Диониса) Plut.
ἄγριον τό дикость.
Заметим, что и эта этимология ничего не объясняет, а, скорее наоборот, еще более все запутывает. Мифы не сохранили сведений о Загрее, не только в плане его охотничьих заслуг, ничего не известно и о дикости и кровожадности новорожденного Диониса.
Ниже отрывок из «Деяний Диониса», в котором Нонн описывает перевоплощения младенца в различных диких зверей. Предыстория, вкратце, имеет следующий характер. Загрея тайно зачала Персефона от Зевса еще до того, как Гадес унес ее в свое подземное царство. Зевс распорядился, чтобы сыновья Реи — критские куреты (или корибанты) сторожили колыбель с младенцем в пещере на горе Ида, прыгая вокруг него и бряцая оружием, как делали это раньше, прыгая вокруг самого Зевса на горе Дикта. Однако титаны, посланные ревнивой Герой, вымазавшись белым гипсом,⁴ чтобы остаться неузнанными, стали ждать, когда куреты заснут. В полночь они выманили Загрея с помощью детских игрушек: шишки, раковины, золотых яблок, зеркала, бабок (ἀστράγαλοι) и клока шерсти. Загрей не выказал слабости перед набросившимися на него титанами и, чтобы обмануть их, начал менять свой облик. Сначала он превратился в Зевса в накидке из козьих шкур, затем — в Крона, творящего дождь, во льва, коня, рогатого змея, тигра и, наконец, в быка. В этот момент титанам удалось схватить его, разорвать на части и пожрать.
[4] Желание титанов вымазаться гипсом (чтобы остаться неузнанными), видимо, «возникло» по причине созвучия слов Τιτᾶνος (титан) и τίτανος (гипс):
Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ Титан; αἱ Τιτᾶνες и Τιτανίδες — титаны, дети Урана и Геи;
τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc.
2. Эпитет Нисейский
Возвращаясь к изначальной цитате по поводу этимологии имени Диониса, как «Дия [с горы] Ниса [в Беотии]», Ниса (Νῦσα) была не только в Беотии. Во Фракии был город Ниса и гора Нисейон (Νυσήϊον). К тому же, помимо фракийской и беотийской Нисы, Гомер упоминает и другие города с таким же названием. А Геродот дислоцирует Нису вообще в Эфиопии.⁵
____________________________
[5] Διός (dat. Διΐ и Δί) gen. к Ζεύς; ex. (Διὸς ἡμέρα — день Зевса, т.е. четверг);
Νῦσα, ион. Νύση ἡ Ниса
1) название городов в Беотии, Фракии, Каппадокии и др. Hom.
2) город в Эфиопии Her.
Такое обилие городов затрудняет привязку «Дия Нисейского» к изначальному географическому объекту. Впрочем, возможно, дело вообще не в названии горы. Может, изначально речь шла об «островном» (νησαῖος)⁶ Зевсе, например, Критском, где Зевс почитался в образе безбородого юноши — чем не прообраз Диониса? Тем более, что, согласно мифу, Крит — это родина Диониса Загрея.
[6] νῆσος, дор. νᾶσος ἡ остров; ex. Κρήτης νῆσος Diod. — Крит; ex. Αἰολίη νῆσος Hom. — Эолов остров;
νησαῖος островной; ex. (πόλις, ὄρη Eur.; πορθμός Anth.).
В развитие сюжета, в качестве возможного варианта происхождения имени Диониса, памятуя о Зевсе в бычьем обличии, а также об эпитете Зевса «Загрей» («дикий»), можно также, в духе народной этимологии, предложить эпитет «бодливый» (от νύσσω, «колоть, толкать») — Διὸς νύσσος.⁷
____________________________
[7] νύσσω, атт. νύττω
1) колоть, поражать;
2) ударять, бить;
3) толкать, подталкивать.
3. Древний бог
В этой цитате интересно то, что Нонн называет Загрея (т.н. «первого» Диониса, сына Зевса и Персефоны) «древним богом Загреем», воплотившимся в Дионисе. Наделять эпитетом «древний бог» младенца, растерзанного, едва родившись на свет, выглядит несколько странно (даже если это сын Зевса). Определенно, чувствуется наличие какой-то лакуны. «Древний бог» выведен из обихода, но поскольку память о нем жива, жизнеописание Загрея сведено к минимуму. Однако сделано это настолько небрежно, что, как уже выше отмечено, само значение имени Загрей («великий охотник») повисает в воздухе, лишний раз подтверждая существование додионисийского древнего культа бога Загрея. Об отождествлении Диониса с более древним критским божеством говорит и Вячеслав Иванов.
Вячеслав Иванов сближает Диониса Загрея с персонажами и древнегреческих культов:
[8] Ἀκταίων (-ωνος, -ονος) ὁ Актеон (внук Кадма, охотник, который был превращен Артемидой в оленя и растерзан собственными собаками) Eur.
ἀκταίνω — быстро двигать, поднимать (ἀ. βάσιν Aesch. — быстро двигаться);
Ἐνυάλιος ὁ {Ἐνυώ} Эниалий, «Воинственный» (эпитет Арея) Hom., Hes., Soph., Eur., Arph.
Ὠµάδιος {ὠμός} ὁ Омадий, «Неумолимый».
До нас дошло немало свидетельств отождествления Диониса и с Аидом («Ловцом душ») или хтоническим Зевсом (Ζεὺς χθόνιος). Это сближение произошло, видимо, через отождествление Диониса с египетским Осирисом. Хотя по одной из версий, культ Диониса происходит непосредственно от египетских мистерий, связанных с Осирисом. Отсюда и расчленение Загрея титанами, списанное с египетской истории предательства Осириса его братом Сетом, в которой Сет сначала убивает Осириса, а потом расчленяет его тело на четырнадцать частей — мистерия, описывающая убывание луны в течении четырнадцати дней. В течении следующих четырнадцати дней, Исида собирает части тела мужа и мумифицирует его. Фаллос, брошенный в Нил был съеден рыбами. И чтобы Осирис возродился в своей полноте и силе, Исида сделала фаллос из глины, покрыв его золотом. Этот фалос впоследствии был воспринят греками как религиозный фетиш.
[9] Ἅιδης (-ου), эп.-ион. Ἀΐδης (-ᾱο и -εο), дор. Ἀΐδας (-ᾱ) = ᾅδης ὁ Гадес, Аид;
αἰδοῖον τό тж. pl. половой орган Hom., Hes., Her., Arst.
История с Осирисом заканчивается тем, что, возродившись, он передает власть своему сыну Гору. Сам же отправляется в дуат и становится там владыкой подземного царства. Греки потратили не мало усилий, чтобы переформатировать образ Осириса и создать на его основе Сераписа — синкретическое божество в греческом стиле, но с египетской мифологемой. Что характерно, образ Сераписа, с сидящим рядом трехглавым Кербером, малоотличим от иконографии Аида.
Вместо постскриптума хотелось бы завершить, упомянутую выше, фаллическую тему следующим интересным наблюдением. Наделение фаллоса свойством сосредоточения божественной жизненной силы (а вместе с тем и власти) имеет весьма древнюю традицию. Следует заметить, что лишение власти Урана его сыном Кроносом, так же как позднее лишение власти Кроноса его сыном Зевсом, происходит именно через оскопление. Что, опять же, отсылает нас к осирической мифологеме, в которой именно фаллос Осириса оказывается не просто отсеченным, но и безвозвратно утерянным (съеденным рыбами). Не помогли и колдовские чары Исиды. Она смогла воскресить мужа лишь на короткое время. После чего, передав верховную власть сыну, Осирис вынужден был покинуть этот мир.
Из этой традиции выбивается история с Зевсом, в которой Тифон, покусившись на его верховную власть, вступает с Зевсом в противоборство и одерживает победу. Он опутал Зевса своими ногами, подобными змеиным кольцам, перерезал серпом и вытянул все сухожилия. Затем Тифон бросил Зевса в Корикийскую пещеру в Киликии и поставил драконицу Дельфину охранять его. Зевс находился в заточении, пока Гермес и Эгипан не выкрали у Тифона сухожилия бога и не вернули их громовержцу. Окончанием битвы стала победа Зевса, низвергнувшего Тифона и придавившего его огромной глыбой. На этом месте образовался вулкан Этна, который извергает дым и пламя из жерла вулкана, когда Тифон пытается освободиться из заточения. В этой истории смущают, перерезанные серпом Тифона, сухожилия Зевса, после чего тот лишается сил (а вместе с тем и власти). Очень похоже на переложение старой истории на новый лад.¹⁰
Если же исходить из версии, что Зевс Тифоном был оскоплен, это объясняет мифологему орфиков о том, что на смену Зевсу в мир пришел Дионис Загрей (сын Зевса и Персефоны), в качестве верховного божества. Ведь Зевс был лишен власти Тифоном (через оскопление). И второй Дионис, сын Зевса и Семелы, сменил Загрея, после того, как тот был расчленен титанами на семь частей, а значит, и оскоплен (обезглавлен, лишен фаллоса, рук и ног).
____________________________
[10] Слово νεῦρα можно перевести не только как «сухожилие», но и как «фаллос».
νευροκοπέω (νευρο-κοπέω) — подрезать поджилки, перерезкой сухожилий лишать возможности двигаться.
В.Г. Борухович
ЗЕВС МИНОЙСКИЙ
В ахейской традиции, сохраненной эпосом, Кносс и Крит выступают как адекватные понятия, подобно тому как отождествляются в нем Аргос и Эллада, Сидон и Финикия. Именно из Кносса должны были проникнуть в Элладу критские культы. Вообще Крит в греческой традиции выступает в качестве родины главных божеств. По словам Диодора (V. 79), сами критяне утверждали, что «почести, воздаваемые богам, жертвоприношения, учреждение мистерий — все было изобретено критянами, другие народы все это у них позаимствовали».
Ахейцы, носители микенской культуры, создали общий с минойцами пантеон, поэтому принято говорить о минойско-микенской религии. Ахейцы, вероятно, поступили так же, как в историческую эпоху поступали греки ионийского племени, которые, сталкиваясь с религиозными представлениями других народов, мгновенно открывали там своих родных богов.
Культ верховного солнечного божества Зевса, которому поклонялись древние ахейцы, был отождествлен с верховным критским божеством и быстро приобрел все его черты. В Элладе Крит стал главным культовым местом Зевса. Поэтому в связанных с культом Зевса мифах и обрядах можно пытаться открыть минойские черты, хотя исследователь при этом сталкивается с большими трудностями: как заметил Нильссон, минойская религия представляет собой книгу с иллюстрациями, но без текста. Здесь целесообразно обращаться к таким реликтовым формам культа, минойское происхождение которых либо засвидетельствовано, либо весьма вероятно.
Особый цикл греческих мифов уже в древности был назван критским (τὰ κρητικά): он представляет благодатный материал для исследователя. Рассказ «Илиады» о Миносе и Идоменее, царе Крита (XIII. 449) отражает мифологическую реконструкцию, которую Эванс назвал «ахейской легендой». От нее сохранилось очень немного. До нас не дошла поэма о Миносе и Радаманте, приписывавшаяся Эпимениду, и «Критская мифология», приписывавшаяся Динарху. Поэтому для реконструкции критского цикла мифов целесообразно обратиться к сохранившейся мифографической традиции — особенно к началу III книги «Библиотеки» Псевдоаполлодора. Из него ясно видно, что в центре этого цикла находился миф о Миносе и его потомках, царях Крита. Первый царь Крита (Кносса) Минос был сыном Зевса. Божественное происхождение Миноса может служить доводом в пользу того, что царская власть на минойском Крите носила теократический характер.
В «Одиссее» Минос — царь Кносса (XIX. 178), тогда как в «Илиаде» он царь всего Крита (XIII. 450). Эпитет Миноса в «Одиссее» — ὀλοόφρων, «замышляющий зло, погибель». Это ясное свидетельство о том, что ахейцы считали критян враждебной силой. Мифологическая традиция, сообщающая о господстве критских царей над морями и близлежащими к Криту островами, упоминает о походах Миноса против Афин и Мегар (Apollod. III.15.8). Платон, бывший знатоком местных аттических мифов, упоминает в «Законах» (IV. 706 B) о тяжелой дани, которую жители Аттики платили Миносу. Это отзвук древней традиции о зависимости Аттики от Крита, — так же, как миф о Тесее и Минотавре рисует нам тяжесть этой зависимости, хотя и в мифологической форме.
Продолжительность критского господства в бассейне Эгеиды была велика. Гесиод называет Миноса «царственнейшим из всех смертных царей» (Hes. Frg. 103 Rz.), и это не случайно. Вполне естественно, поэтому, критские обряды и религиозные представления должны были распространиться по всему бассейну Эгейского моря. В традиции Минос выступает не только в качестве царя, но и законодателя: каждый девятый год он становился собеседником Зевса в Диктейской пещере (Paus. III. 2. 4; Dion. Hal. A. R. II. 61; Diod. V. 78. 3; Strabo. XVI. 2. 38), где он получал от Зевса законы, которые потом передавал людям.
Форма, в которой мифы рассказывают нам о божественном происхождении Миноса, представляется несколько странной. Зевс, превратившись в быка, похитил финикийскую царевну Европу, которую затем умчал на Крит. Плодом любви Зевса и Европы и стал Минос, и его братья Сарпедон и Радамант.
Далее критские мифы повествуют о странной любви, которой жена Миноса, дочь бога Гелиоса Пасифая, воспылала к прекрасному быку, высланному из моря по просьбе Миноса, желавшего таким способом доказать свои права стать царем Крита. Этого быка выслал Посейдон (Apollod. III.1.3), но в более древней редакции этого мифа, сохраненной Лактанцием (Lact. Plac. in Stat. Theb. V. 431), быка выслал Зевс. От этого быка Пасифая родила Минотавра («быка Миноса»), чудовище с телом человека и головой быка.
Этот миф нельзя не поставить в связь с теми памятниками минойской культуры, которые были открыты Эвансом в Кноссе. Здесь прежде всего обращают на себя внимание фрески Кносского дворца, изображающие игры молодых девушек с бешено мчащимся быком. В минойских культовых местах постоянно встречается священный символ — «рога посвящения» (стилизованные рога быка). Две пары таких рогов открыты в небольшом святилище в юго-западной части Кносского дворца. Между рогами найдены отверстия, куда вставлялись двойные топоры, «лабрисы». Этот комплекс занимает центральное место в культовых изображениях Минойского Крита: на расписном саркофаге из Агиа Триады мы видим женщин, несущих возлияния на алтари двойного топора. В Палекастро раскопаны остатки дома, относящегося к Позднеминойскому IB периоду (1480-1425 до н.э.). Там в домашнем святилище открыты каменные основания алтарей двойного топора и небольшие «рога посвящения».
В частном доме, находившемся ниже юго-восточного угла Кносского дворца, в северо-западном и юго-восточном углах крайней южной комнаты были обнаружены черепа двух больших быков с длинными рогами. Перед ними найдены остатки расписных жертвенников. Как отмечает Кеншерпер, двойной топор и рога посвящения являются наиболее известными, но наименее понятными символами минойской религии. Необыкновенная распространенность этих символов говорит о всеобщем характере этого культа на Крите. В этом культе священное животное — минойский бык — должен был играть главную роль.
Странный на наш взгляд миф о любви Пасифаи, жены Миноса, к быку является, вне всякого сомнения, греческим осмыслением минойского обряда, в котором справлялся «священный брак» жены критского царя-жреца с быком (животной ипостасью верховного минойского божества, «Минойского Зевса»). Этим обрядом утверждалось право детей критского царя наследовать царскую власть.
Представления, согласно которым царь племени возводит свое происхождение к животному предку, могут быть классифицированы как тотемические. Афины, сохранившие унаследованные от пеласгов (древнего населения Аттики — Her. VIII.4) связи с минойскими культами, соблюдали довольно долго аналогичный обряд. Аристотель в «Афинской политии» (III.5) сообщает, что жена афинского архонта-царя вступала в ритуальный брак с Дионисом в Буколии (храме Диониса, название которого произведено от слова «бык», и сам Дионис чтился иногда в образе быка). Этот обряд восходит к микенским временам, когда афинские цари соблюдали минойский ритуал священного брака жены царя с быком, подтверждавшего их право на царскую власть.
Не случайно Критский бык, побежденный Гераклом, появляется затем на территории Аттики (Марафонский бык). Геракл символизирует в этом мифе дорийское завоевание, а Критский бык — минойско-микенское население додорического Крита. На острове Тенедосе — древнейшем культовом центре греков — минойское божество, в образе быка, также почиталось в качестве бога Диониса.
В критских мифах Зевс, в образе быка, Минос — царь Крита и сын его Минотавр выступают в неразрывном единстве. Поэтому Бете пришел к вполне логичному выводу, что термин «Минос» является божественным титулом критских царей вообще, «варварским именем божества некоего негреческого народа».
Интересно сопоставить этот вывод Бете с титулатурой фараона Египта, о сильном влиянии которого на культуру минойского Крита говорилось ранее. Фараон постоянно назывался «мощный телец» (kȝ-nḫt). На палетке Нармера египетский царь изображен в виде быка, рогами разрушающего вражескую крепость. Культ быка Аписа, явленного бога Осириса, имел общеегипетское значение, а цариц Египта хоронили иногда в саркофаге, имевшем форму коровы (Геродот II. 129). Так в древнем Египте царь и верховное божество оказывались тесно связанными со своей териоморфной ипостасью, быком.
Возможно, что в образе Минотавра мы сталкиваемся с явлением перехода териоморфной формы божества в антропоморфную стадию.
Сам же образ быка, безусловно, несёт в себе египетское наследование, с поправкой на местные традиции. В отличии от египетской религии, где в образе земли выступает мужской персонаж Геб, а в образе неба — небесная корова Нут, народы, обитающие за пределами Египта, в качестве Земли рассматривали Великую богиню-мать, Небо же олицетворяло божество в образе быка. Уже на ранних изображениях Минотавр предстает как божество определенно космического плана. Нередко он изображается в скрученной полукольцом позе в сочетании с солнечными или звездными знаками, так что можно его воспринимать и как мифический синоним небесного свода, и вместе с тем как некоего стража или хозяина небесного огня, и, наконец, как сам этот огонь — солнце, луна или звезды. Нелишним будет вспомнить, что вторым именем Минотавра было Астерий (Ἀστέριον).¹¹
_____________________________
[11] ἀστέριος 3 звездный (περιωπή Anth.)
БУКОЛИОН
Вернемся к, упомянутому выше Аристотелем, Буколиону (Βουκολίων, Буколий), храму, где Дионису поклонялись в образе быка. Помимо Афин, области с подобным названием были, по крайней мере, еще в Аркадии (на Пелопоннесе) и в дельте Египта.¹² Слово Βουκολίων производят от βουκόλος, в значении «пастырь». Приставка βου- в слове βουκόλος означает «бычий».¹³ Казалось бы, значит, вторая часть слова (-κόλος) должна иметь значение «охранитель», и словарь Дворецкого намекает именно на такое словообразование (βου-κόλος). Подобное словообразование подтверждается и в слове βουκολέω (βου-κολέω).¹⁴ Но проблема в том, что у слова κόλος нет такого (или похожего значения), по крайней мере в Древнегреческом словаре.¹⁵ Вполне возможно, что подобное значение слова κόλος просто не попало в словарь, тем более, что слово βουκολέω переводится (при чем дословно) как «питать, кормить». Это бы прекрасно объясняло и этимологию слова βουκολία (стадо) — «кормящийся крупнорогатый скот».¹⁶ Но, повторюсь, эта прекрасная конструкция зависает в воздухе, в виду отсутствия подтверждения такого значения слова в словаре.
_____________________________
[12] Βουκολίων (-ωνος) ἡ город в Аркадии Thuc.
[13] βου- {βοῦς}
1) приставка со знач. «бычачий», «коровий», «воловий»;
2) усилит. приставка со знач. «громадный», «огромный» (напр. βουλιμία)
βοῦς ἡ бык, вол, корова.
[14] βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst., Theocr.
βουκολέω (βου-κολέω)
1) пасти ex. (βοῦς Hom.);
2) досл. питать, кормить, перен. чтить;
[15] κόλος
1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.)
2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.);
3) прерванный, незаконченный.
[16] βουκολία, ион. βουκολίη ἡ стадо крупного рогатого скота HH., Hes., Her.
Можно попробовать этимологизировать слово βουκολέω (пасти) через κωλύω, в значении «мешать, препятствовать», т.е. не давать разбредаться стаду. Выглядит несколько натянуто, но тем не менее.
Если все же попытаться развить тему кормления скота (основная забота пастуха), то можно обратить внимание на слово κόρος, созвучное со второй частью слова βουκόλος. Одно из значений слова κόρος — «сытость, пресыщение». Приставка βου- объясняет о чьей сытости идет речь, но «бычья сытость» плохо коррелируется со значением слова βουκόλος — «пастух». Попытка придумать значение «питающий, насыщающий быков» (βου + κόρος) приближает нас к нужному результату, но выглядит еще более натянутой, нежели первый вариант.
Любопытно, что другое значение слова κόρος — «ребенок, сын» — дает, при том же словообразовании (βου + κόρος), значение «бычий сын» (т.е. теленок), либо, при более богатом воображении и применительно к Дионису, — «сын Зевса в образе быка» (Загрей).
В эту же «копилку» хорошо заходит созвучие со словом χολάω,¹⁷ применительно к βουκολέω — «безумствующий бык», что хорошо коррелирует со значением имени Вакха (Βάκχος) — «безрассудный», «одержимый».¹⁸
_____________________________
[17] χολάω
1) быть безумным, сумасбродствовать; ex. (ἄνδρες χολῶντες Arph.)
2) быть в бешенстве, в ярости, гневаться; ex. (Diog.L.; τινι NT.).
[18] βακχεῖος, βάκχειος
1) вакхический (βότρυς Soph.; νόμος Eur.; ῥυθμός Xen.; ὄρχησις Plat.);
2) исступленный, неистовый, ликующий (Διόνυσος HH.)
Весь этот полет фантазии к этимологии слова βουκόλος («пастух»), конечно, может не иметь никакого отношения, но, повторюсь, проблема в том, что наука не дает этимологического объяснения этого слова (βουκόλος). Ибо, с одной стороны:
βουκολέω (βου-κολέω)
1) пасти ex. (βοῦς Hom.);
2) досл. питать, кормить, перен. чтить;
βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst.
А с другой стороны:
κόλος
1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.)
2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.);
3) прерванный, незаконченный.
Спрашивается, каким образом слово βουκόλος получило значение «хранитель крупного рогатого скота», если оно однозначно прочитывается как «безрогий бык» (βου-κόλος)? Вопрос, естественно, риторический.
_______________________________
ДИОНИС ЗАГРЕЙ
«Этимология имени Διόνυσος, возможно, восходит к образу Зевса Нисейского или «Дия [с горы] Ниса [в Беотии]». Дионис (Διόνυσος) — это изначально Зевс Загрей (Ζαγρεύς — «Дикий», «Зверолов» или «происходящий из [критского] Загроса»).»
(А.Г. Чередниченко, Н.А. Клышнюк, М.Е. Шенцов «Об истоках мистериальных культов»)
1. Эпоним Ζάγρος
К сожалению ничего не удалось найти о «критском Загросе». Возможно, уважаемые ученые допустили ошибку в названии критского Закроса (Ζάκρος), спутав его с иранским Загросом (Ζάγρος).¹ Ничего о другом написании критского Закроса — неизвестно. Двусмысленности в этом вопросе добавляет написание иранского Загроса на греческом языке сегодня: Ζάγκρος,² в то время как древнегреческий словарь Дворецкого дает однозначный вариант: Ζάγρος. В конце концов, могло иметь место искажение эпитета Зевса, связанного с местностью (Ζάκρος), на которой располагался культовый центр, как обычно, в силу созвучия.
______________________________
[1] Ζάκρος — место на восточном побережье острова Крит, знаменитое найденным здесь неразграбленным храмовым дворцовым комплексом (Κάτω Ζάκρος) минойской цивилизации.
Ζάγρος ὁ Загрос (горная цепь между Ассирией, Арменией и Мидией) Polyb.
[2] Τα όρη Ζάγκρος αποτελούν την μεγαλύτερη οροσειρά του Ιράν, Ιράκ και της νοτιοανατολικής Τουρκίας (Горы Загрос составляют большой горный хребет в Иране, Ираке и на юго-востоке Турции).
Попытка перевести эпитет Диониса «Загрей» (Ζαγρεύς) как «Зверолов» (или, более распространенное, «великий охотник», от ἀγρεύς — «охотник, ловец») — вызывает недоумение, ибо титаны разорвали Диониса Загрея в младенческом возрасте. У него просто не было времени, чтобы проявить себя в качестве охотника. Зато другие эпитеты Диониса дают однозначное понимание этимологии эпитета Ζαγρεύς: Ἀγριώνιος («дикий, яростный»); Ἀνθρωπορραίστης («растерзывающий людей»); ὠμάδιος (от ὠμός — «грубый, дикий, жестокий, неумолимый»).³
______________________________
[3] Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей
1) эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth.
2) эпитет Гадеса Aesch.
ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне;
ἄγριος
1) дикий; ex. μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτός Aesch. — вино из дикого винограда;
2) жестокий, свирепый, лютый, злой; ex. δρακαίνης φύσις Eur.);
3) неукротимый, необузданный, грубый; ex. ὀργή Soph.; ἔρωτες Plat.);
4) мучительный, тяжелый; ex. τραύματα Eur.;
5) бурный, ужасный; ex. νύξ Her.; χεῖμα Eur.
Ἀγριώνιος (-ου) ὁ Агрионий (эпитет Диониса) Plut.
ἄγριον τό дикость.
Заметим, что и эта этимология ничего не объясняет, а, скорее наоборот, еще более все запутывает. Мифы не сохранили сведений о Загрее, не только в плане его охотничьих заслуг, ничего не известно и о дикости и кровожадности новорожденного Диониса.
Ниже отрывок из «Деяний Диониса», в котором Нонн описывает перевоплощения младенца в различных диких зверей. Предыстория, вкратце, имеет следующий характер. Загрея тайно зачала Персефона от Зевса еще до того, как Гадес унес ее в свое подземное царство. Зевс распорядился, чтобы сыновья Реи — критские куреты (или корибанты) сторожили колыбель с младенцем в пещере на горе Ида, прыгая вокруг него и бряцая оружием, как делали это раньше, прыгая вокруг самого Зевса на горе Дикта. Однако титаны, посланные ревнивой Герой, вымазавшись белым гипсом,⁴ чтобы остаться неузнанными, стали ждать, когда куреты заснут. В полночь они выманили Загрея с помощью детских игрушек: шишки, раковины, золотых яблок, зеркала, бабок (ἀστράγαλοι) и клока шерсти. Загрей не выказал слабости перед набросившимися на него титанами и, чтобы обмануть их, начал менять свой облик. Сначала он превратился в Зевса в накидке из козьих шкур, затем — в Крона, творящего дождь, во льва, коня, рогатого змея, тигра и, наконец, в быка. В этот момент титанам удалось схватить его, разорвать на части и пожрать.
«Стал он тогда превращаться, часто меняя свой облик!____________________________
То он Кронид хитроумный, юный, с грозным эгидом,
То он немощный старец Крон, изливающий ливень,
То он с ликом младенца является, то он предстанет
180
Юношей исступленным с первым пушком на ланитах,
Темным, что вдруг подчеркнет округлость нежную лика.
То вдруг львом обернется, в ярости грозным и страшным,
Львом, что с рыком могучим огромную пасть отверзает,
Гривою осененный густою, тянет он выю
Вдоль хребтовины косматой, хлещет хвостом непрестанно,
Шкуру мелькающим быстро будто бичом раздирая.
То вдруг прикинется, львиную бросив тут же личину,
С ржанием неуемным, высокогривым и диким
Жеребцом, что стремится жалящие удила
190
Перегрызть, их кромсая, белою пеной исходит.
То из уст испуская свистящее громко шипенье,
Извивается в кольцах змеем чешуйчаторогим,
Из глубокого зева мечет язык копьевидный
И бросается он на испуганного Титана,
Шею его окружая воротником ядовитым.
То вдруг, покинув тело ползущего кольцами гада,
Тигром становится с пестрою шкурой… То примет он бычий
Облик, и ревом исходит, зубы ощеря свирепо,
И пронзает Титанов рогами, бросаясь внезапно.
200
Так он за жизнь свою бился, пока из ревнивой глотки
Мачехи-Геры гневом тяжкоразящей не вырвал
Вопля, сотрясшего неба. Сама повелительность гласа
Грохотом поднебесным ударила в створы Олимпа,
На колени повергнув могучего зверя — убийцы
Тут же в куски истерзали ножом быколикого бога.»
(Нонн. Деяния Диониса VI. 176-205)
[4] Желание титанов вымазаться гипсом (чтобы остаться неузнанными), видимо, «возникло» по причине созвучия слов Τιτᾶνος (титан) и τίτανος (гипс):
Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ Титан; αἱ Τιτᾶνες и Τιτανίδες — титаны, дети Урана и Геи;
τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc.
2. Эпитет Нисейский
Возвращаясь к изначальной цитате по поводу этимологии имени Диониса, как «Дия [с горы] Ниса [в Беотии]», Ниса (Νῦσα) была не только в Беотии. Во Фракии был город Ниса и гора Нисейон (Νυσήϊον). К тому же, помимо фракийской и беотийской Нисы, Гомер упоминает и другие города с таким же названием. А Геродот дислоцирует Нису вообще в Эфиопии.⁵
____________________________
[5] Διός (dat. Διΐ и Δί) gen. к Ζεύς; ex. (Διὸς ἡμέρα — день Зевса, т.е. четверг);
Νῦσα, ион. Νύση ἡ Ниса
1) название городов в Беотии, Фракии, Каппадокии и др. Hom.
2) город в Эфиопии Her.
Такое обилие городов затрудняет привязку «Дия Нисейского» к изначальному географическому объекту. Впрочем, возможно, дело вообще не в названии горы. Может, изначально речь шла об «островном» (νησαῖος)⁶ Зевсе, например, Критском, где Зевс почитался в образе безбородого юноши — чем не прообраз Диониса? Тем более, что, согласно мифу, Крит — это родина Диониса Загрея.
«Этот бог [Дионис], как говорят, родился от Зевса и Персефоны на Крите. <…> В доказательство того, что бог этот родился у них, критяне говорят, что близ Крита в так называемых Близнечных заливах он создал два острова, которые называют в честь его Дионисовыми, чего не сделал больше нигде во всем мире.» (Диодор Сицилийский V. 75:4-5)____________________________
[6] νῆσος, дор. νᾶσος ἡ остров; ex. Κρήτης νῆσος Diod. — Крит; ex. Αἰολίη νῆσος Hom. — Эолов остров;
νησαῖος островной; ex. (πόλις, ὄρη Eur.; πορθμός Anth.).
В развитие сюжета, в качестве возможного варианта происхождения имени Диониса, памятуя о Зевсе в бычьем обличии, а также об эпитете Зевса «Загрей» («дикий»), можно также, в духе народной этимологии, предложить эпитет «бодливый» (от νύσσω, «колоть, толкать») — Διὸς νύσσος.⁷
____________________________
[7] νύσσω, атт. νύττω
1) колоть, поражать;
2) ударять, бить;
3) толкать, подталкивать.
3. Древний бог
«С ними, богиня колосьев [Деметра], Бромию богу враждебна,
К гроздолюбивому Вакху дающему силу ревнуя,
Ибо вино изобрел он, дарующее опьяненье,
Древнего бога Загрея миру явил в Дионисе!»
(Нонн. Деяния Диониса XXVII. 334)
В этой цитате интересно то, что Нонн называет Загрея (т.н. «первого» Диониса, сына Зевса и Персефоны) «древним богом Загреем», воплотившимся в Дионисе. Наделять эпитетом «древний бог» младенца, растерзанного, едва родившись на свет, выглядит несколько странно (даже если это сын Зевса). Определенно, чувствуется наличие какой-то лакуны. «Древний бог» выведен из обихода, но поскольку память о нем жива, жизнеописание Загрея сведено к минимуму. Однако сделано это настолько небрежно, что, как уже выше отмечено, само значение имени Загрей («великий охотник») повисает в воздухе, лишний раз подтверждая существование додионисийского древнего культа бога Загрея. Об отождествлении Диониса с более древним критским божеством говорит и Вячеслав Иванов.
…«дионисические оргии, своего рода оргиастические «бои быков», соединенные первоначально с человеческими жертвами, впоследствии же ограничивавшиеся растерзанием быка, имели древнейшие корни, между прочим, на Крите, где божество, являющееся изначала с чертами Диониса, позднее — с ним отождествленное, почиталось преимущественно под символом быка.»
(Вячеслав Иванов. Эллинская религия страдающего бога. IV)
Вячеслав Иванов сближает Диониса Загрея с персонажами и древнегреческих культов:
«По героической ипостаси <…> мы узнаем его как ловчего скитальца по горным вершинам и дебрям, окруженного сворой хтонических собак; как содружника Ночи и вождя исступленных ее служительниц; как душегубца, от которого надлежит ограждаться магическими апотропеями, вроде тех уз, какими были связаны идолы его двойников: в Орхомене — Актеона, в Спарте — Эниалия, на Хиосе — Омадия Диониса».⁸____________________________
(Иванов В. Дионис и прадионисийство I. 7)
[8] Ἀκταίων (-ωνος, -ονος) ὁ Актеон (внук Кадма, охотник, который был превращен Артемидой в оленя и растерзан собственными собаками) Eur.
ἀκταίνω — быстро двигать, поднимать (ἀ. βάσιν Aesch. — быстро двигаться);
Ἐνυάλιος ὁ {Ἐνυώ} Эниалий, «Воинственный» (эпитет Арея) Hom., Hes., Soph., Eur., Arph.
Ὠµάδιος {ὠμός} ὁ Омадий, «Неумолимый».
До нас дошло немало свидетельств отождествления Диониса и с Аидом («Ловцом душ») или хтоническим Зевсом (Ζεὺς χθόνιος). Это сближение произошло, видимо, через отождествление Диониса с египетским Осирисом. Хотя по одной из версий, культ Диониса происходит непосредственно от египетских мистерий, связанных с Осирисом. Отсюда и расчленение Загрея титанами, списанное с египетской истории предательства Осириса его братом Сетом, в которой Сет сначала убивает Осириса, а потом расчленяет его тело на четырнадцать частей — мистерия, описывающая убывание луны в течении четырнадцати дней. В течении следующих четырнадцати дней, Исида собирает части тела мужа и мумифицирует его. Фаллос, брошенный в Нил был съеден рыбами. И чтобы Осирис возродился в своей полноте и силе, Исида сделала фаллос из глины, покрыв его золотом. Этот фалос впоследствии был воспринят греками как религиозный фетиш.
«B качестве таинственного воспоминания об этих страстях по городам воздвигают фаллосы Дионису; как говорит Гераклит: «Не твори они шествие в честь Диониса и не пой песнь во славу срамного уда, бессрамнейшими были бы их дела. Но тождествен Аид («Срамной»)⁹ с Дионисом, одержимые коим они беснуются и предаются вакхованию», не столько от телесного опьянения, как я думаю, сколько от позорного посвящения в непотребство».____________________________
(Климент Алекс. Протрептик, 34, 5)
[9] Ἅιδης (-ου), эп.-ион. Ἀΐδης (-ᾱο и -εο), дор. Ἀΐδας (-ᾱ) = ᾅδης ὁ Гадес, Аид;
αἰδοῖον τό тж. pl. половой орган Hom., Hes., Her., Arst.
История с Осирисом заканчивается тем, что, возродившись, он передает власть своему сыну Гору. Сам же отправляется в дуат и становится там владыкой подземного царства. Греки потратили не мало усилий, чтобы переформатировать образ Осириса и создать на его основе Сераписа — синкретическое божество в греческом стиле, но с египетской мифологемой. Что характерно, образ Сераписа, с сидящим рядом трехглавым Кербером, малоотличим от иконографии Аида.
Вместо постскриптума хотелось бы завершить, упомянутую выше, фаллическую тему следующим интересным наблюдением. Наделение фаллоса свойством сосредоточения божественной жизненной силы (а вместе с тем и власти) имеет весьма древнюю традицию. Следует заметить, что лишение власти Урана его сыном Кроносом, так же как позднее лишение власти Кроноса его сыном Зевсом, происходит именно через оскопление. Что, опять же, отсылает нас к осирической мифологеме, в которой именно фаллос Осириса оказывается не просто отсеченным, но и безвозвратно утерянным (съеденным рыбами). Не помогли и колдовские чары Исиды. Она смогла воскресить мужа лишь на короткое время. После чего, передав верховную власть сыну, Осирис вынужден был покинуть этот мир.
Из этой традиции выбивается история с Зевсом, в которой Тифон, покусившись на его верховную власть, вступает с Зевсом в противоборство и одерживает победу. Он опутал Зевса своими ногами, подобными змеиным кольцам, перерезал серпом и вытянул все сухожилия. Затем Тифон бросил Зевса в Корикийскую пещеру в Киликии и поставил драконицу Дельфину охранять его. Зевс находился в заточении, пока Гермес и Эгипан не выкрали у Тифона сухожилия бога и не вернули их громовержцу. Окончанием битвы стала победа Зевса, низвергнувшего Тифона и придавившего его огромной глыбой. На этом месте образовался вулкан Этна, который извергает дым и пламя из жерла вулкана, когда Тифон пытается освободиться из заточения. В этой истории смущают, перерезанные серпом Тифона, сухожилия Зевса, после чего тот лишается сил (а вместе с тем и власти). Очень похоже на переложение старой истории на новый лад.¹⁰
Если же исходить из версии, что Зевс Тифоном был оскоплен, это объясняет мифологему орфиков о том, что на смену Зевсу в мир пришел Дионис Загрей (сын Зевса и Персефоны), в качестве верховного божества. Ведь Зевс был лишен власти Тифоном (через оскопление). И второй Дионис, сын Зевса и Семелы, сменил Загрея, после того, как тот был расчленен титанами на семь частей, а значит, и оскоплен (обезглавлен, лишен фаллоса, рук и ног).
____________________________
[10] Слово νεῦρα можно перевести не только как «сухожилие», но и как «фаллос».
νευροκοπέω (νευρο-κοπέω) — подрезать поджилки, перерезкой сухожилий лишать возможности двигаться.
В.Г. Борухович
ЗЕВС МИНОЙСКИЙ
В ахейской традиции, сохраненной эпосом, Кносс и Крит выступают как адекватные понятия, подобно тому как отождествляются в нем Аргос и Эллада, Сидон и Финикия. Именно из Кносса должны были проникнуть в Элладу критские культы. Вообще Крит в греческой традиции выступает в качестве родины главных божеств. По словам Диодора (V. 79), сами критяне утверждали, что «почести, воздаваемые богам, жертвоприношения, учреждение мистерий — все было изобретено критянами, другие народы все это у них позаимствовали».
Ахейцы, носители микенской культуры, создали общий с минойцами пантеон, поэтому принято говорить о минойско-микенской религии. Ахейцы, вероятно, поступили так же, как в историческую эпоху поступали греки ионийского племени, которые, сталкиваясь с религиозными представлениями других народов, мгновенно открывали там своих родных богов.
Культ верховного солнечного божества Зевса, которому поклонялись древние ахейцы, был отождествлен с верховным критским божеством и быстро приобрел все его черты. В Элладе Крит стал главным культовым местом Зевса. Поэтому в связанных с культом Зевса мифах и обрядах можно пытаться открыть минойские черты, хотя исследователь при этом сталкивается с большими трудностями: как заметил Нильссон, минойская религия представляет собой книгу с иллюстрациями, но без текста. Здесь целесообразно обращаться к таким реликтовым формам культа, минойское происхождение которых либо засвидетельствовано, либо весьма вероятно.
Особый цикл греческих мифов уже в древности был назван критским (τὰ κρητικά): он представляет благодатный материал для исследователя. Рассказ «Илиады» о Миносе и Идоменее, царе Крита (XIII. 449) отражает мифологическую реконструкцию, которую Эванс назвал «ахейской легендой». От нее сохранилось очень немного. До нас не дошла поэма о Миносе и Радаманте, приписывавшаяся Эпимениду, и «Критская мифология», приписывавшаяся Динарху. Поэтому для реконструкции критского цикла мифов целесообразно обратиться к сохранившейся мифографической традиции — особенно к началу III книги «Библиотеки» Псевдоаполлодора. Из него ясно видно, что в центре этого цикла находился миф о Миносе и его потомках, царях Крита. Первый царь Крита (Кносса) Минос был сыном Зевса. Божественное происхождение Миноса может служить доводом в пользу того, что царская власть на минойском Крите носила теократический характер.
В «Одиссее» Минос — царь Кносса (XIX. 178), тогда как в «Илиаде» он царь всего Крита (XIII. 450). Эпитет Миноса в «Одиссее» — ὀλοόφρων, «замышляющий зло, погибель». Это ясное свидетельство о том, что ахейцы считали критян враждебной силой. Мифологическая традиция, сообщающая о господстве критских царей над морями и близлежащими к Криту островами, упоминает о походах Миноса против Афин и Мегар (Apollod. III.15.8). Платон, бывший знатоком местных аттических мифов, упоминает в «Законах» (IV. 706 B) о тяжелой дани, которую жители Аттики платили Миносу. Это отзвук древней традиции о зависимости Аттики от Крита, — так же, как миф о Тесее и Минотавре рисует нам тяжесть этой зависимости, хотя и в мифологической форме.
Продолжительность критского господства в бассейне Эгеиды была велика. Гесиод называет Миноса «царственнейшим из всех смертных царей» (Hes. Frg. 103 Rz.), и это не случайно. Вполне естественно, поэтому, критские обряды и религиозные представления должны были распространиться по всему бассейну Эгейского моря. В традиции Минос выступает не только в качестве царя, но и законодателя: каждый девятый год он становился собеседником Зевса в Диктейской пещере (Paus. III. 2. 4; Dion. Hal. A. R. II. 61; Diod. V. 78. 3; Strabo. XVI. 2. 38), где он получал от Зевса законы, которые потом передавал людям.
Форма, в которой мифы рассказывают нам о божественном происхождении Миноса, представляется несколько странной. Зевс, превратившись в быка, похитил финикийскую царевну Европу, которую затем умчал на Крит. Плодом любви Зевса и Европы и стал Минос, и его братья Сарпедон и Радамант.
Далее критские мифы повествуют о странной любви, которой жена Миноса, дочь бога Гелиоса Пасифая, воспылала к прекрасному быку, высланному из моря по просьбе Миноса, желавшего таким способом доказать свои права стать царем Крита. Этого быка выслал Посейдон (Apollod. III.1.3), но в более древней редакции этого мифа, сохраненной Лактанцием (Lact. Plac. in Stat. Theb. V. 431), быка выслал Зевс. От этого быка Пасифая родила Минотавра («быка Миноса»), чудовище с телом человека и головой быка.
Этот миф нельзя не поставить в связь с теми памятниками минойской культуры, которые были открыты Эвансом в Кноссе. Здесь прежде всего обращают на себя внимание фрески Кносского дворца, изображающие игры молодых девушек с бешено мчащимся быком. В минойских культовых местах постоянно встречается священный символ — «рога посвящения» (стилизованные рога быка). Две пары таких рогов открыты в небольшом святилище в юго-западной части Кносского дворца. Между рогами найдены отверстия, куда вставлялись двойные топоры, «лабрисы». Этот комплекс занимает центральное место в культовых изображениях Минойского Крита: на расписном саркофаге из Агиа Триады мы видим женщин, несущих возлияния на алтари двойного топора. В Палекастро раскопаны остатки дома, относящегося к Позднеминойскому IB периоду (1480-1425 до н.э.). Там в домашнем святилище открыты каменные основания алтарей двойного топора и небольшие «рога посвящения».
В частном доме, находившемся ниже юго-восточного угла Кносского дворца, в северо-западном и юго-восточном углах крайней южной комнаты были обнаружены черепа двух больших быков с длинными рогами. Перед ними найдены остатки расписных жертвенников. Как отмечает Кеншерпер, двойной топор и рога посвящения являются наиболее известными, но наименее понятными символами минойской религии. Необыкновенная распространенность этих символов говорит о всеобщем характере этого культа на Крите. В этом культе священное животное — минойский бык — должен был играть главную роль.
Странный на наш взгляд миф о любви Пасифаи, жены Миноса, к быку является, вне всякого сомнения, греческим осмыслением минойского обряда, в котором справлялся «священный брак» жены критского царя-жреца с быком (животной ипостасью верховного минойского божества, «Минойского Зевса»). Этим обрядом утверждалось право детей критского царя наследовать царскую власть.
Представления, согласно которым царь племени возводит свое происхождение к животному предку, могут быть классифицированы как тотемические. Афины, сохранившие унаследованные от пеласгов (древнего населения Аттики — Her. VIII.4) связи с минойскими культами, соблюдали довольно долго аналогичный обряд. Аристотель в «Афинской политии» (III.5) сообщает, что жена афинского архонта-царя вступала в ритуальный брак с Дионисом в Буколии (храме Диониса, название которого произведено от слова «бык», и сам Дионис чтился иногда в образе быка). Этот обряд восходит к микенским временам, когда афинские цари соблюдали минойский ритуал священного брака жены царя с быком, подтверждавшего их право на царскую власть.
Не случайно Критский бык, побежденный Гераклом, появляется затем на территории Аттики (Марафонский бык). Геракл символизирует в этом мифе дорийское завоевание, а Критский бык — минойско-микенское население додорического Крита. На острове Тенедосе — древнейшем культовом центре греков — минойское божество, в образе быка, также почиталось в качестве бога Диониса.
В критских мифах Зевс, в образе быка, Минос — царь Крита и сын его Минотавр выступают в неразрывном единстве. Поэтому Бете пришел к вполне логичному выводу, что термин «Минос» является божественным титулом критских царей вообще, «варварским именем божества некоего негреческого народа».
Интересно сопоставить этот вывод Бете с титулатурой фараона Египта, о сильном влиянии которого на культуру минойского Крита говорилось ранее. Фараон постоянно назывался «мощный телец» (kȝ-nḫt). На палетке Нармера египетский царь изображен в виде быка, рогами разрушающего вражескую крепость. Культ быка Аписа, явленного бога Осириса, имел общеегипетское значение, а цариц Египта хоронили иногда в саркофаге, имевшем форму коровы (Геродот II. 129). Так в древнем Египте царь и верховное божество оказывались тесно связанными со своей териоморфной ипостасью, быком.
Возможно, что в образе Минотавра мы сталкиваемся с явлением перехода териоморфной формы божества в антропоморфную стадию.
Сам же образ быка, безусловно, несёт в себе египетское наследование, с поправкой на местные традиции. В отличии от египетской религии, где в образе земли выступает мужской персонаж Геб, а в образе неба — небесная корова Нут, народы, обитающие за пределами Египта, в качестве Земли рассматривали Великую богиню-мать, Небо же олицетворяло божество в образе быка. Уже на ранних изображениях Минотавр предстает как божество определенно космического плана. Нередко он изображается в скрученной полукольцом позе в сочетании с солнечными или звездными знаками, так что можно его воспринимать и как мифический синоним небесного свода, и вместе с тем как некоего стража или хозяина небесного огня, и, наконец, как сам этот огонь — солнце, луна или звезды. Нелишним будет вспомнить, что вторым именем Минотавра было Астерий (Ἀστέριον).¹¹
_____________________________
[11] ἀστέριος 3 звездный (περιωπή Anth.)
БУКОЛИОН
…«в Афинах, сохранявших, судя по первым строкам «Афинской политии» Аристотеля (III, 5), древние связи с критскими жрецами, жена архонта-царя вступала в ритуальный брак с Дионисом в Буколионе. Буколион был храмом Диониса, пастыря быков, и сам Дионис иногда представлялся греками в образе быка. Ритуал этот мог быть заимствован с Крита.
Если сблизить культ быка, по-видимому существовавший на Крите, с культом быка Аписа в Египте, то мы увидим, что в Египте бык Апис был явленным богом Осирисом, так же как и фараон: бык, бог и царь в египетской теократической деспотии оказывались связанными сходным образом».
(Аполлодор. Мифологическая библиотека III.)
Вернемся к, упомянутому выше Аристотелем, Буколиону (Βουκολίων, Буколий), храму, где Дионису поклонялись в образе быка. Помимо Афин, области с подобным названием были, по крайней мере, еще в Аркадии (на Пелопоннесе) и в дельте Египта.¹² Слово Βουκολίων производят от βουκόλος, в значении «пастырь». Приставка βου- в слове βουκόλος означает «бычий».¹³ Казалось бы, значит, вторая часть слова (-κόλος) должна иметь значение «охранитель», и словарь Дворецкого намекает именно на такое словообразование (βου-κόλος). Подобное словообразование подтверждается и в слове βουκολέω (βου-κολέω).¹⁴ Но проблема в том, что у слова κόλος нет такого (или похожего значения), по крайней мере в Древнегреческом словаре.¹⁵ Вполне возможно, что подобное значение слова κόλος просто не попало в словарь, тем более, что слово βουκολέω переводится (при чем дословно) как «питать, кормить». Это бы прекрасно объясняло и этимологию слова βουκολία (стадо) — «кормящийся крупнорогатый скот».¹⁶ Но, повторюсь, эта прекрасная конструкция зависает в воздухе, в виду отсутствия подтверждения такого значения слова в словаре.
_____________________________
[12] Βουκολίων (-ωνος) ἡ город в Аркадии Thuc.
[13] βου- {βοῦς}
1) приставка со знач. «бычачий», «коровий», «воловий»;
2) усилит. приставка со знач. «громадный», «огромный» (напр. βουλιμία)
βοῦς ἡ бык, вол, корова.
[14] βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst., Theocr.
βουκολέω (βου-κολέω)
1) пасти ex. (βοῦς Hom.);
2) досл. питать, кормить, перен. чтить;
[15] κόλος
1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.)
2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.);
3) прерванный, незаконченный.
[16] βουκολία, ион. βουκολίη ἡ стадо крупного рогатого скота HH., Hes., Her.
Можно попробовать этимологизировать слово βουκολέω (пасти) через κωλύω, в значении «мешать, препятствовать», т.е. не давать разбредаться стаду. Выглядит несколько натянуто, но тем не менее.
Если все же попытаться развить тему кормления скота (основная забота пастуха), то можно обратить внимание на слово κόρος, созвучное со второй частью слова βουκόλος. Одно из значений слова κόρος — «сытость, пресыщение». Приставка βου- объясняет о чьей сытости идет речь, но «бычья сытость» плохо коррелируется со значением слова βουκόλος — «пастух». Попытка придумать значение «питающий, насыщающий быков» (βου + κόρος) приближает нас к нужному результату, но выглядит еще более натянутой, нежели первый вариант.
Любопытно, что другое значение слова κόρος — «ребенок, сын» — дает, при том же словообразовании (βου + κόρος), значение «бычий сын» (т.е. теленок), либо, при более богатом воображении и применительно к Дионису, — «сын Зевса в образе быка» (Загрей).
В эту же «копилку» хорошо заходит созвучие со словом χολάω,¹⁷ применительно к βουκολέω — «безумствующий бык», что хорошо коррелирует со значением имени Вакха (Βάκχος) — «безрассудный», «одержимый».¹⁸
_____________________________
[17] χολάω
1) быть безумным, сумасбродствовать; ex. (ἄνδρες χολῶντες Arph.)
2) быть в бешенстве, в ярости, гневаться; ex. (Diog.L.; τινι NT.).
[18] βακχεῖος, βάκχειος
1) вакхический (βότρυς Soph.; νόμος Eur.; ῥυθμός Xen.; ὄρχησις Plat.);
2) исступленный, неистовый, ликующий (Διόνυσος HH.)
Весь этот полет фантазии к этимологии слова βουκόλος («пастух»), конечно, может не иметь никакого отношения, но, повторюсь, проблема в том, что наука не дает этимологического объяснения этого слова (βουκόλος). Ибо, с одной стороны:
βουκολέω (βου-κολέω)
1) пасти ex. (βοῦς Hom.);
2) досл. питать, кормить, перен. чтить;
βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst.
А с другой стороны:
κόλος
1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.)
2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.);
3) прерванный, незаконченный.
Спрашивается, каким образом слово βουκόλος получило значение «хранитель крупного рогатого скота», если оно однозначно прочитывается как «безрогий бык» (βου-κόλος)? Вопрос, естественно, риторический.
_______________________________
|
Метки: Дионис Загрей Зевс Бык Греция Этимология |
ИНОИМЕННЫЕ ДИОНИСЫ |
Вячеслав Иванов
ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
I. ИНОИМЕННЫЕ ДИОНИСЫ
1. Типы прадионисийских культов
Есть многозначительная историческая правда в словах Геродота (II, 52, 1. 3):
В самом деле, древнейшая эпоха Дионисовой религии есть эпоха безыменного или иноименного «пра-Диониса. Одним из свидетельств об этой подготовительной стадии религиозно-исторического процесса, приведшего к объединению местных оргиастических культов под определенным именем одного общеэллинского божества, может служить пустой престол некоего бога, заполненный впоследствии малым кумиром Диониса, по изображениям на монетах Фракийского Эна (Aἰνός). Вид прадионисийского культа представляет собою почитание безыменного Героя, распространенное во Фракии и Фессалии, на долгие времена укоренившееся в балканских странах вообще и встречающееся здесь и там в разных местах Эллады и Великой Греции, причем из атрибутов Героя развиваются его «прозвища» (ἐπίκλησις) Конника и Охотника; последние окаменевают в имена, установление коих выводит Героя из круга безыменных пра-Дионисов, и Великий Ловчий — «Загрей» — находит уже немалую общину оргиастических поклонников, в качестве самостоятельной божественной ипостаси пра-Диониса — Аида, — пока его культ не впадает притоком в широкую реку торжествующей Дионисовой религии. К безыменным культам относится, далее, женский оргиазм, в своем исконном служении неизменно-пребывающему женскому божеству требовавший мужского коррелята в лице периодически рождающегося и умирающего бога и, наконец, обретший искомые имя и обличие в родившемся Дионисе.
Оргиастические культы, не знающие точного имени и ясно означившегося лица боготворимой одержащей силы, естественно приемлют Диониса, когда сокровенное имя найдено и смутное представление о незримом двигателе оргий и возбудителе исступлений антропоморфически определено. Иные же вовлекаются в орбиту других культовых притяжений, — например, Аполлона, Посейдона, — или же обособляются, коснеют и мельчают в своей местной замкнутости: так, переживания прадионисийской ступени сохраняются до весьма позднего времени — и впитываются христианством — в почитании все того же безыменного Героя, о чем свидетельствуют, между прочим, надписи с посвящением deo Heroi sancto, чаще deo sancto Heroni, найденные на Эсквилине, и подобные же в других местах.
Иноименные культы испытали двоякую участь. Чаще всего их первоначальные объекты, местные демоны (δαίμων, «божество») с отличительными особенностями будущего Диониса, низводятся на степень героев. Этиологический миф обычно приводит этих героев в более, или менее тесную связь с самим Дионисом (таковы, напр., Элевтер, Икарий, Ойней, Аристей), порою же прагматически связать повесть о них с деяниями бога не может, но неизменно выдвигает их страстную участь (πάθος, «страдание») как некую печать их внутреннего родства с божественным чиноначальником (Ἀρχηγέτης) «страстей»; кроме того, в их характеристике необходимо сохраняются отдельные, как бы физиономические черты бога, героическими двойниками которого они продолжают жить в религиозной памяти народа. Но это важное явление в развитии Дионисовой религии должно быть предметом особого рассмотрения (о героических ипостасях); в порядке же настоящего исследования внимание наше сосредоточивается на другом типе иноименных культов. Это — те оргиастические богопочитания, объект коих был раньше обретения Дионисова имени отожествлен с одним из общенародных и древнейших богов, — большею частию, с самим Зевсом; он же, в качестве верховного бога, в период до выработки понятия сыновней ипостаси, был особенно близок монотеистическому складу богочувствования, составляющему характерное отличие общин оргиастических.
Понятно, что усвоение определившегося Дионисова божества этими подготовительными, прадионисийскими культами — в случаях уже совершившегося присоединения их к другим древнейшим культовым сферам — было в высшей степени затруднено. В редких случаях, когда это усвоение оказывается тем не менее возможным, оно имеет своим типическим последствием удвоение культа: таковы Зевс-бык и Дионис-бык на Крите, Зевс и Дионис Мейлихии, Зевс и Дионис Лафистии, Арей и Дионис Эниалии; сюда же относятся Зевс-Аристей, Зевс-Герой, Зевс-Сабазий и т.п. Такое религиозное образование, как «Зевс-Вакх» пергамской надписи, конечно, исключение и аномалия; примечательно, однако, что «Зевс-Вакх» чтится рядом с «Зевсом». Правда, надпись, именующая обоих вместе, принадлежит поре позднего синкретизма; но последний лишь облегчил, в данном случае, культовое определение исконного местного верования. Позволительно думать, что сближение некоторых малоазийских ликов Зевса с Дионисом совершилось под влиянием таких искони синкретических религиозных форм, какими были в своих местных особенностях культы Зевса Карийского и Тарсского, Зевса-Хрисаора в Стратоникее и Зевса Стратия в Лабранде или культ фригийского и писидийского «бога спасающего», отличительным признаком которых служит Зевсов атрибут обоюдоострой секиры (λάβρυς), наследие хеттского Аттиса-Тешуба и хеттского Геракла Диониса — Сандона в Тарсе. Поскольку тотем двойного топора с его оргиастическим обрядовым кругом был всецело усвоен религией Диониса, как это с особенною отчетливостью наблюдается на Тенедосе, постольку названные божества приобретают прадионисийский характер.
Родственное явление наблюдается в Додоне, где изначальному почитанию подземного Зевса придаются черты дионисийского культа: так, ему совершаются возлияния с виноградных листьев. Павсаний, в описании святынь аркадского Мегалополя (VIII, 31, 2), отмечает странность Поликлетовой статуи местного Зевса Филия (Фίλιος): знаменитый художник придал ему черты Диониса и даже дал в руку тирс, но на тирсе изваял орла; так сочетал он атрибуты Диониса и Зевса.
2. Хтонические Зевсы
Прототипом большей части прадионисийских ликов Зевса является идейский или диктейский Зевс, наследник доэллиннского и родственного хеттским божествам критского, бога с обоюдоострой секирой, бога-быка, живущего в Лабиринте, — он же критский Зевс, как бог оргиастических жертв, — пра-Дионис Омадий (ὅμαδιος) и, как бог погребенный, — пра-Дионис Аид. Замечательно, что и этот культ впоследствии удвоен культом быка-Диониса, вбирающим в себя элементы женского оргиазма и омофагии (ὠμοφαγία), т.е. растерзания и съедения жертвы живьем. Так что за Зевсом Крита остаются из области оргиастической только куреты, а из сферы первоначальных представлений о нем как о боге подземном только почитание пещеры, где он родился, и непонятной позднейшему эллинству (напр., Каллимаху) его могилы. К производным из критского культам принадлежат Зевс-Полией афинских буфоний и соприродных им обрядов на островах, как и милетский Зевс или Зевс-Сосиполис в Магнесии на Меандре, который также чтился буфониями и, сверх того, угощением богов, для коих воздвигались кущи и три ложа. В самом деле, если элейский Сосиполис, младенец-змий, пришел с Крита, естественно сочетать с Критом и магнетский культ, — как, впрочем, и другие буфонии оказываются генетически связанными с островом Миноса. Эти городские покровители Зевсы, будучи божествами подземными, закономерно мыслятся в виде городовых змиев.
В лице Ганимеда мы встречаем героизацию человеческих жертв, приносимых некоему пра-Дионису, отожествленному с верховным Зевсом и проявляющему свою божественную силу в даре виноградной лозы. О «богоподобном» (ἀντίθεος) Ганимеде, «прекраснейшем из смертных», Гомер (Ил. XX, 234) говорит, что «боги восхитили его быть виночерпием Зевса». Перед нами суровый пра-Дионис и предварение юного, гроздью увенчанного Вакха, испытывающего страсти (πάθος): оргиастическое numen¹ виноградного дара представлено дуалистически своею жреческою и жертвенной ипостасью, — другими словами, в мифе о Ганимеде предначертан почти полный состав Дионисовой религии. Малая Илиада знала, что Зевс дал отцу Ганимеда в уплату за сына золотую виноградную гроздь, работу Гефеста, — что опять указывает на родство легенды с культом винограда. Варианты сказания обличают в похитителе Ганимедовом человекоубийственного Зевса: легенда издавна ориентируется на Крит, где похитителем является Минос. В малоазийской (от Крита независимой и восходящей, по-видимому, к хеттам) версии ипостась пра-Диониса (Зевса) Омадия — Тантал, жертвоприноситель отрока-сына, угощающий плотью юного Пелопса богов-сотрапезников, и обладатель бессмертной влаги.
Первоначальное почитание Дионисова numen среди эллинов под неопределенным именем Зевса оставило следы и в культе прадионисийских героических ипостасей, принятых за ипостаси подземного Зевса (Ζεὺς χθόνιος), каковы Зевс-Аристей, Зевс-Амфиарай, Зевс-Трофоний, Зевс-Герой, — и в культе Мейлихия.² Последний — подземная сила, то мыслимая множественною, как боги-Маны италиков (δαίμονες μειλίχιοι противополагаются богам небесным, οὐράνιοι), то раздвояющаяся на мужскую ипостась и женскую, связанная с древопочитанием вообще (ἔνδενδρος, древобог — как Дионис, так и Зевс), в частности же с почитанием смоковницы (συκάσιος, συκεάτης, συκίτης Διόνυσος), древа очищений, и, по-видимому, с кровавым, семитического происхождения, оргиазмом.
_________________________
[1] numen, -inis n образ, т.е. изображение или статуя бога (numina divum V).
[2] Ἀρισταῖος {ἀριστεία} ὁ Аристей, доблестный;
Ἀμφιάραος (ἀμφι-άραος) ὁ Амфиарай, грозный;
Τροφώνιος ὁ Трофоний, питающий (эпитет Зевса с храмом и оракулом в Лебадии);
Μειλίχιος ὁ Мейлихий, милостивый, милосердный (Ζεύς Plut.).
Общая всем видам древнейшего религиозного миросозерцания мысль о коррелятивной связи между смертью и половой силой, о зависимости земного плодородия и чадородия от воль подземных, поскольку она раскрывалась и в культовых сношениях с семитами, воплотилась в служении Мейлихию (вероятно, Молоху), подземному Зевсу, другому лику Зевса небесного, и Мейлихии — Афродите (Астарте). С возникновением идеи о тождестве Аида и Диониса, Мейлихием стал и Дионис. «Черная смоковница, сестра винограда» была отдана именно последнему; но уже укоренившийся культ Мейлихия под именем Зевса остался одновременно в силе и даже преобладал над новым, приуроченным к имени Диониса: так Диасии (Διάσια), афинский праздник Мейлихия в дионисийском месяце Анфестерионе, остались за Зевсом. Эвфемистическое имя Мейлихий, которому соответствуют устрашающие имена того же божества — Маймакт (Μαιμάκτης, «яростный, буйный») для Зевса, Агрионий (Ἀγριώνιος, «свирепый») и Омадий (Ὠμάδιος, «дикий, жестокий»), Омест (Ὀμηστής, «кровожадный») для Диониса, свидетельствует о замене человеческих жертв жертвоприношениями животных и, наконец, жертвами бескровными и явно обнаруживает дионисийскую природу Мейлихия.
3. Лафистий и Афамант
Аналогичен Мейлихию в некоторых отношениях (хотя и различен от него, вопреки мнению Отфрида Мюллера, уже самим происхождением) — Лафистий (Λαφύστιος, «Пожиратель»): в обоих культах мы видим попытку приписать ужасную силу некоего оргиастического божества, требующего человеческих жертв, сначала Зевсу, потом Дионису. Героическая проекция Лафистия, бога горы Лафистион (Λαφύστιον ὄρος) близ Орхомена в Беотии, а также Афамантовой равнины и города Галоса во Фтиотиде, — Афамант, царь минийского Орхомена. И подобно тому как первоначальный Зевс-Лафистий удвоен позднейшим религиозным образованием — Дионисом-Лафистием, так и Афамант, обреченный первому, оказывается в предании одним из исступленных героев-вакхов (βάκχοι). Ибо героические ипостаси божества обречены ему: так, Артемида-Ифигения, в качестве смертной девы, обречена Артемиде — как жертва или жрица; она же была и тою, и другой. И не только обречен Зевсу-Лафистию сам Афамант, его жрец и жертва, но и каждый старейший в роде из его потомков, приблизившись к дому старейшин в Галосе, умерщвлялся в жертву Зевсу-Лафистию, по свидетельству Геродота (VII, 197). Дионисийским коррелятом того же сакрального установления является преследование обреченных дев (Ὀλεῖαι) из минийского рода жрецом Диониса, с мечом в руке, на орхоменском празднестве Агрионий, по сообщению Плутарха (quaest. gr. 38).
Вовлечение прадионисийского культа в круг Дионисовой религии совершилось, очевидно, под влиянием Фив, что выразилось в мифологеме мотивом бракосочетания Афаманта с Ино, сестрою Семелы, фиванской матери Диониса. Ино, в доме Афаманта воспитавшая божественного младенца, сына Семелина, хочет извести пасынка Фрикса и падчерицу Геллу, детей своего мужа от Нефелы. Дети бегут из дома и скитаются по дубравам, обезумев от пребывающего под их кровом Диониса (согласно Гигину). Гера (вмешательство коей составляет несомненно позднюю черту мифа), мстя за покровительство, оказанное сыну Семелы, наводит на Афаманта бешеное неистовство. Он преследует Фрикса; но отрока и сестру его спасает их мать, богиня Облако, на золоторунном баране. Древнейшее сказание говорило о принесении Фрикса Афамантом в жертву Зевсу-Лафистию. Афамант умерщвляет Леарха, собственного сына от Ино, который представляется отцу, охваченному дионисийским безумием, то молодым оленем (νεβρός, по Нонну), то львенком (по Овидию). Герой бродит, одичалый, без крова; волки делят с ним кровавую снедь.
Перед нами типический спутник преследуемого и жертвоприносимого бога: его преследователь и исступленный жрец. Афамант — человек-волк (как фракийский Ликург, ἀνδροφόνος Λυκόοργος шестой песни Илиады) и вместе кормящий младенца молоком мужских сосцов «вакх пестун» (опять как Ликург, которому хотелось бы отнять божественное дитя у Дионисовых кормилиц), — оленеубийца и небридоносец, разрывающий Диониса под личиною Леарха. В его лице, как бы на наших глазах, услаждающийся снедью детской плоти оргиастический Лафистий превращается в вакха-дионисоубийцу. Ино, сказание о которой лишь искусственно сопряжено со сказанием об Афаманте, менада парнасских дебрей, по Еврипиду, — бросается с сыном Меликертом в белопенную морскую кипень, предварительно опустив отрока, по одному из вариантов мифа, в кипящую воду, имеющую силу возрождать в новом образе человека; в море обернулась она «белой богиней» Левкофеей (Λευκοθέα), с волшебным покрывалом из пены (κρήδεμνον, головная повязка с покрывалом для лица), спасающим пловцов (Одиссея), а сын ее — богом Палемоном, покровителем мореходов: так младенец Дионис у Гомера спасается от ярости Ликурга, на лоно морской богини; так дионисийские нимфы бросаются в море, преследуемые двойником Ликурга — Бутом (Bούτης). Меликерт — дубликат Леарха, возникший, очевидно, из контаминации фиванского вакхического культа с неким морским коррелятом такового, и притом, судя по имени бога, коррелятом финикийского происхождения: если Леарх — отроческий аспект Диониса, как молодого льва (λέων), подобного Пенфею (созвучие слов способствовало, по-видимому, фиксации этого близкого Фивам по культу матери богов образа), Меликерт-Палемон³ — отроческий аспект Диониса на дельфине, каким знал его островной культ. Но, как Асклепий, выделившись из Аполлонова божества, приобретает полную самостоятельность, так прекращается и дальнейшая связь между Палемоном и Дионисом.
_________________________
[3] Μελικέρτης (-ου) ὁ Меликерт (морское божество) Pind., Polyb., Luc., Anth.
Παλαίμων (-ονος) ὁ Палемон, «Борец» (эпитет Меликерта, сына Ино-Левкотеи) Eur.
4. Зевс Ликейский, Ликаон, Ликург
Подобен Афаманту и Танталу «пеласгийский» Ликаон, героическая ипостась Зевса-Ликея (Λύκαιος), учредитель его культа в Аркадии, царь-жрец, предлагающий в снедь своему богу плоть внука Аркада, рожденного от Зевса дочерью царя, Артемидиною служительницей, а потом медведицей, Каллисто. Аркад, как и Танталов Пелопс, чьей плоти отведали боги, оживлен (примысл эпохи, упразднившей человеческие жертвоприношения); Ликаон обернулся волком; стол же, на котором было предложено жертвенное яство, опрокинут разгневанным Зевсом, как опрокидывает, с проклятием на Плисфенидов, роковой стол обманутый родитель Фиест. Опрокидывание священных столов — оргиастический обряд, несомненно связанный с омофагией и составлявший мистическую часть богослужения дионисийских менад; рассказ о Фиестовой трапезе у Эсхила — отражение мифа о Ликаоне. Подстрекательство к детоубийству приписывается первенцу Ликаона, Менолу, т.е. «исступленному» (μαινόλης), носителю дионисийского имени, подобно брату его, первенцу по версии Павсания, Никтиму (Νύκτιμος). Сближение Артемиды с Ликейским Зевсом через Каллисто также указывает на прадионисийскую природу последнего.
Основной тотемический мотив ликейского культа — преследование волками оленей. Оленями (ἔλαφοι) зовутся обреченные чужеземцы в храме Ликея, волками — жрецы. Эти, — повествует Павсаний (VIII, 2, 5), — по первом вкушении человеческого мяса поистине обращались в волков; но если побеждали свой голод к такой снеди и не вкушали от нее девять полных лет, становились опять людьми. На то же аркадское предание ссылается однажды и Платон (Rp. 565 D). Перед нами обломки и воспоминания древнейших культов, из коих развились народные представления о ликантропии, вера в вурдалачество. Сюда же относится упоминаемый Плинием (N. Н. VIII, 34) обычай в аркадском роде Анфа выбирать по жребию одного из родичей в «волки»; сняв с себя прежние одежды и повесив их на дуб, он становился «волком», т.е., очевидно, опальным изгнанником, и должен был жить «с волками» девять лет. Дионисийское имя Анфидов и обряд переодевания, — быть может, с принятием личины или других знаков и отличий волка, вроде наброшенной на голову волчьей шкуры с головою зверя, какую мы встречаем на иных античных изображениях, — характеризуют это религиозное установление, как промежуточную, переходную форму между культами прадионисийского Ликея и Диониса. По-видимому, могущественное и страшное некогда прадионисийское жречество в пору отмены человеческих жертв было поставлено под угрозу опалы в случаях возврата к человекоубийственной ритуальной практике, причем опала могла условно распространяться и на целый жреческий род, как мы видели это на примере Афамантидов.
Если волк-Ликаон есть низведенный на землю Зевс-Ликей, если волк-Афамант — Зевс-Лафистий, или, что то же, Дионис-Лафистий, то в лице Ликурга, лютого волка плотоядного (ὠμηστής, λύκος ὠμοφάγος), легко узнается фракийский пра-Дионис Омадий. На дионисийскую природу Ликурга указывает и его родство с миром растительным (он сын Дриады, и он же запутывается в виноградную лозу), и его двуострая секира. Гомеровская сцена преследования Ликургом «кормилиц буйного Вакха» — типическое для дионисийской легенды раздвоение Дионисова божества. Подобным Пенфею очерчен был Ликург в «Эдонах» Эсхила. Младенец, которого вакх-пестун оспаривает у пестуний-вакханок, неистребим, хотя и делается несомненно, испытывая πάθος, оргиастической жертвой своего яростного двойника или своих же менад: он растекается, например, стихией влаги. В версии мифа у Диодора (V, 50), Диониса, впрочем, вовсе нет, а брат Ликурга, по имени Волопас (Bούτης), преследует только кормилиц бога; менады убегают на гору Дриос, во Фтиотиде, или же кидаются в море; Дионис карает преследователя безумием.
5. Легенда о Макарее и прадионисийское жречество. Меламп.
Прадионисийские человекоубийственные культы привнесли в историческую религию Диониса необходимый ей элемент: многообразно представленный в ликах мифа единый тип свирепого Дионисова двойника-преследователя, жреца-исполнителя оргиастической жертвы. Тип этот одинаково дан был и обрядовой действительностью, и мифологическим преданием. В последнем герои-жрецы-преследователи суть очеловеченные ипостаси пра-Диониса Омадия.
Раздвоение божества на лики жреческий и жертвенный и отожествление жертвы с божеством, коему она приносится, было исконным и отличительным достоянием прадионисийских культов. Бог-бык был вместе бог-топор на Крите и во всем островном царстве древнейшего дифирамба. Оргиастическое божество фракийских и фригийских культов всегда двойственно, причем стремление определить его как две раздельные сущности встречается с невозможностью провести это разделение — отнять у страдальной ипостаси ее грозную, губительную силу и лишить свирепого бога страстнόй участи. Но в общем можно заметить, что утверждение исторической религии Диониса, совпадая с заменой мистически-реальных, т.е. человеческих, жертв фиктивно-реальными, символическими (ибо зооморфизм уже обратился в символизм) жертвоприношениями животных, способствовало торжеству кроткого лика в двуликом Дионисовом божестве, — чтό и сделало его, по выражению Липперта, «пасхою эллинов», — и выделению жестокого, губительного начала в дионисийские ипостаси героев-преследователей.
Характерным примером может служить митиленская легенда о Дионисовом (как это явствует из самого имени) жреце Макарее. «Кроткий на вид, духом же лютый» (Aelian. v. h. XIII, 2) и «лев» (по Диодору), Макарей убивает тирсом жену, казня ее за убийство старшего сына. Умертвила же она старшего сына за то, что тот убил брата отцовским жреческим оружием (σφαγίς), подражая священнослужению отца, и сжег тело отрока на алтаре Дионисовом в пору празднования триетерий. Так покарал Макарея Дионис за коварное злодеяние, некогда им совершенное над одним чужеземцем в самом святилище (ἀνάκτορον). Тем не менее, Макарей был чтим народом и, когда умер, по Дионисову повелению погребен на счет города. Прагматизм легенды поздний, но в основных чертах она сложилась по упразднении человеческих жертв и отразила черты религиозного быта предшествующей эпохи. Макарей слыл основателем храма растительного Диониса-Брисея. Новое исследование правильно усмотрело в нем «божественное существо, служившее объектом культа в культовом цикле митиленского Диониса». В нем типически ипостазировано божество Диониса, как необоримая свирепая сила и львиная ярость (δύναμις, ἀλκή, λέων, οργή). Вакханки в трагедии Еврипида (ст. 1017) приглашают Диониса явиться в образе «огнедышащего льва» (πυριφλέγων λέων). Но в то же время Макарей рассматривается уже не как Дионис, а в противоположении ему и его кроткому, святому закону: это позднейшая, смягченная форма оргиастической религии. Макарей — первоначально прадионисийский оргиастический бог, потом грозный и вместе страдальческий герой, коему приносятся жертвы на его гробнице, наконец — квазиисторическое лицо, о котором рассказываются тенденциозные вымыслы (ограбление чужеземца), долженствующие утвердить религиозно-просветительную и гуманную мораль нового века.
Содержание же легенды, этого религиозно-исторического палимпсеста, отчетливо выступает во всех подробностях. С одной стороны, мы находим в ней картину прадионисийского жречества: убиение чужеземцев в святилище, т.е. в жертву богу, принесение в жертву детей и, наконец, родовую наследственность жречества. С другой стороны, перед нами женский триетерический оргиазм с его детоубийством и убийственным преследованием женщин мужскими участниками культа, подобным сохранившемуся до поздних времен в Орхомене преследованию миниад (Μινυάδες, три дочери Миния), именуемых Ὀλεῖαι. Это два разных культа: мужской, прадионисийский, и женский, до обретения Дионисова имени посвященный богине Ночи и безыменному Дионису. Первому соответствует жреческая «сфагида», под которою, в данном случае, едва ли не разумеется двуострая секира; второму — тирс. Оба человекоубийственные культа слиты в единую Дионисову религию. По-видимому, первый культ — островной, с Крита пришедший, в минойском предании коренящийся культ двойного топора и быка-Дифирамба; он же искони был морским и растительным, в частности — культом винограда. Второй — материковый, горный, триетерический, знаменуемый символами-тотемами тирса, плюща и змеи, культ парнасских менад, — по своему происхождению, вероятно, фракийский. Соединение первого с женским оргиазмом второго дает окончательную форму религии Дионисовой.
Катартическое (καθάρσιος), т.е. очистительное, освободительное, целительное разрешение оргиастических преследований по обретении Дионисова имени ясно ознаменовано в мифе о Мелампе (Μελαμπόδεια), которого Геродот считает первоучителем религии Дионисовой и установителем ее обрядов. Пилосский прорицатель Меламп (Μελάμπους, -ποδος — «черноногий»), сын фессалийского Амифаона, обязанный дружбе змей своим могуществом ведуна, знахаря и очистителя, вещий дар свой получил, конечно, не от Аполлона, с которым был сближен только позднее, когда дельфийский бог овладел всей областью мантики, катартики и медицины, — но из недр земли и принадлежит, по особенностям своего мифа и своей генеалогии, к ликам сферы хтонической. Другом змей стал он потому, что первоначально сам был змием: чернота ног, означенная в его имени, говорит на символическом языке древнейшего мифа о том, что нижняя половина его тела оставалась как бы погруженною в подземное царство, что его человеческое туловище кончалось, как у Эрихтония, змеиным хвостом.⁴
_________________________
[4] Меламп не только «черноногий», но и «чернокозий», как Διόνυσος Mελάναιγις, один из аспектов Диониса-Аида; таковым же слывет Пифон. Культ Мелампа засвидетельствован надписями в Эгисфене, где коза — тотем, и миф помнит, что он был вскормлен козою. Далее: хтонический пес прадионисийского дикого охотника Актеона носит имя Μελάμπους, или Mελαγχαίτης («чернокосмый»), — опять одно из наименований Диониса, — или, наконец, просто Μελανεύς («черный»): эти прозвища рассматриваются, очевидно, как синонимы.


1. Фрако-македонские племена (uncertain). Тетрадрахма (AR 15.03g), 530-480 до н.э. Av: козел с человеческой головой; Rv: квадрат разделенный на четыре части.
2. Гимера (Ἱμέρα), Сицилия. Литра (AR 12mm, 0.68g), ок. 470-450 до н.э. Av: крылатая протома козла с человеческой головой; Rv: наездник верхом на козле; IMERAIΩN


3. Македония, римская провинция. Æ 22mm (10.38g), 168-166 до н.э. Магистрат Гай Публилий (Gaius Publilius, quaestor). Av: голова Диониса в венке из плюща. Rv: козел; TAMIOY ГAIOY ПOПΛIΛIOY
4. Эги (Αἰγαί), Ахайя. Гемидрахма (AR 2.74g), V-IV в. до н.э. Av: бородатая голова Диониса в венке из плюща; ΑΙCΑΙ[ΟΝ]. Rv: протома козла; ΑΙC
И самое сближение с Аполлоном — того, кто выступает пророком Дионисовым, свидетельствует, что Меламп, по корням своим, прадионисийский демон-вещун, подобный Пифону и застигнутый распространением религии пифийского Аполлона раньше, чем сформировалась религия Дионисова. Как ипостась Диониса-Аида, Меламп оказывается узником, заключенным на год в источенную червями деревянную темницу — домовину. Как та же ипостась, является он, далее, основателем фаллагогий, посвященных, как это твердо знает Гераклит, Дионису-Аиду. Меламп жив в памяти мифа как возродитель мужского чадородия и устроитель экстатических плясок, в особенности же как организатор женского оргиазма и учитель здравого экстаза, неупорядоченность коего дотоле порождала разнообразные недуги и извращения. Упорядочение сферы женских исступлений обусловливает общение Мелампа с Дионисовой и пра-Дионисовой сопрестольницей Артемидой, — или им обусловлено. В мифе о Мелампе еще слышны отголоски человеческих жертвоприношений, именно женских (гибель Пройтиды Ифинои во время катартического преследования, гибель женщин под развалинами обрушившейся темницы) и отроческих (повесть о ноже Филакса, отца Ификлова), при отмене коих выпитие крови было замещено питьем вина (ржавчина от ножа дается Ификлу с вином как волшебное лекарство, φάρμακον).
По изображению на одной краснофигурной вазе, Меламп, облеченный в пестрый хитон, противопоставлен как пожилой муж Дионису-юноше, одетому в такой же хитон, повязанному митрой (μίτρα) и держащему в руке вакхический канфар (κανθάριον) с вином, подле кумира Артемиды-Лусии (Λύσια, «освобождающая», «избавительница»); у подножья кумира расположились исцеленные Пройтиды, между тем как заклятая Лисса (Λύσσα, богиня безумия), владевшая прежде дочерьми Пройта, с искаженным лицом, прячется за колонну с треножником; поодаль сидит Силен; на стене святилища висят рельефы, изображающие бешеную пляску сатиров, — намек на введенные Мелампом мужские пляски; в руках у одной Пройтиды и Диониса раскидистые ветви, у Мелампа и Силена — тирсы, так что стан преследуемых (женский) охарактеризован ветвями, а стан преследователей (мужской) — тирсами, которым соответствует копье в руке исцелительницы Артемиды, — причем выдвинуто религиозное тождество обоих примирившихся, разоружившихся станов. Перед нами выдержанный в символах мифа исторический рассказ об укрощении обособленного и замкнутого женского оргиазма прадионисийской эпохи новым заветом религии Дионисовой.
6. Арей
Грозная ипостась двойственного оргиастического божества, которую мы видели отожествленною в ряде культов с верховным Зевсом, — в тех случаях, когда противоположная ипостась уже определенно дана в религиозном сознании, когда лицо собственно Диониса уже отчетливо выявлено, — не преобладает над ней в виде верховного Зевса, но ей соподчиняется и обусловливает представление о яростном боге-двойнике кроткого Диониса — кровожадно исступленном Арее.
«Фригийцы, — говорит Плутарх (de Is. et Os. 69),— думают, что бог зимою спит, а летом пробуждается: как усыпление, так и пробуждение бога они отмечают вакхическими празднествами (βάκχευοντες). Пафлагонцы же говорят, что зимою он связан и пленен, а весною освобождается от оков». Так фригийская колония фракийцев, распространившая свою религию в Пафлагонии, «в одно сливает», по Страбону, божества эдонского (фракийского) Ликурга и Диониса. Ища ближе определить этого Ликурга, местные культы тяготели к отожествлению его с Зевсом, откуда и выше описанный Зевс-Вакх. В первоначальном же фракийском веровании это был Арей, т.е. тот бог, которого эллины, издревле себе усвоив, наименовали Ареем (Ἄρειος, «воинственный»). Ибо, по основному свидетельству Геродота, «из богов чтут фракийцы только Арея, Диониса и Артемиду», причем Арей и Дионис должны рассматриваться как два противоположные лица одного мужского numen, носившего разные племенные имена, как Сабазий, Бассарей, Гигон, Балий, Диал; те же богопочитания были перенесены во Фригию и, как кажется, распространились из нее по Лидии.
«Арея долю некую он взял в удел»: так намекает на изначальное тожество Диониса и Арея Еврипид. Дионис Элелей (Ἐλελεῦ) — бог воинских кликов, так же как и Арей; Дионис Эниалий (Ἐνυάλιος) — «Воинственный», как Арей. Причем одноименный герой, Эниалий-фракиец, представляет собою страстный, в дионисийском смысле, тип Арея: он умирает от руки своего же божественного двойника. Дионис, далее, — «бог, радующийся на мечи и на кровь»; он — «меднодоспешный воевода». Оба божества сливаются в одном образе: «Бромий (Βρόμιος, «Шумный»), копьеносец ярый, в битвах шумящий, отец Арей!». Воинственные пляски в честь Диониса издавна совершались фракийцами и вошли в эллинский быт особенно после походов Александра. Спартанская πυρρίχη; стала тогда вакхической: вместо копий пляшущие перебрасывались тирсами и размахивали зажженными факелами, изображая Дионисову победу над Пенфеем и его битвы в Индии. Такая милитаризация обряда под впечатлением подвигов македонского «нового Диониса» (νέος Διόνυσος) была принципиально возможна потому, что тирсы изначала служили копьями и Дионисово действо часто оказывалось воинским, как Ареево — дионисийским. Вооруженные двуострыми секирами дикие служительницы Арея, девы-амазонки, составляют полный коррелят вооруженным тирсами менадам Диониса; общим для тех и других является и ближайшее культовое отношение к Артемиде. Отсюда уподобление поэтического вдохновения вакхическим битвам в «Тристиях» Овидия (VI 1, 41):
Из всех прадионисийских образов оргиастического бога Арей и в историческую эпоху Дионисовой религии, оставаясь вполне самобытным в своем круге, по существу не отделился от обособленного Дионисова божества: отношение между обоими богами представляет собой редкий случай изначальной, самопроизвольной, естественной теократии. Вообще же Арей почти не отличается от других пра-Дионисов: он, по Гомеру, пьет кровь, — как, ради оргиастического обуяния Ареем, пьют человеческую кровь воины перед битвой, по рассказу Геродота (III, 11).
7. Загрей
Поглощение Дионисовым nomen et numen («имя и обличие») самобытного и уже не безыменного прадионисийского культа, как части целым, наблюдается в истории «дикого охотника» — Загрея. «Великий Ловец» (μεγάλως ἀγρεύων, Etym. Gud.) — не просто один из эпитетов царя душ, как думал, по-видимому, Роде. Без сомнения, Загрей-Аид, как Аид, в глазах Гераклита,⁵ и Дионис: но если Дионис, прежде всего не только Аид, — Загрей, совпадая с Аидом по объему религиозного понятия, отличается от него в обрядовой сфере тем, что он бог оргиастический. По героической ипостаси, им выделенной, — Актеону, — мы узнаем его как ловчего скитальца по горным вершинам и дебрям, окруженного сворою хтонических собак; как содружника Ночи и вождя исступленных ее служительниц; как душегубца, от которого надлежит ограждаться магическими апотропеями, вроде тех уз, какими были связаны идолы его двойников: в Орхомене — Актеона, в Спарте — Эниалия, на Хиосе — Омадия Диониса. Будучи предметом женского оргиастического поклонения, он способен к приятию обличия юношеского и детского, что окончательно препятствует смешению его как с Аидом, так и с подземным Зевсом и подготовляет почву его орфической метаморфозе в сына Зевсова.
Орфический синтез жизни и смерти как другой жизни, связанной с первой возвратом душ на лицо земли (палингенесией), укрепляя соответствующее представление о Дионисе, как о вожде по пути вниз и по пути вверх, естественно пользуется Загреем как готовым в народном сознании оргиастическим аспектом Диониса подземного, но дает ему своеобразное оптимистическое и эвфемистическое истолкование: «Неправо люди, в неведении о дарах смерти, мнят, что лют Загрей: это — владыка отшедших, Дионис отрадный. Под страшным ликом того, кто увлекает души в подземный мрак, таится лик благостный; тот, кого боятся, как смертоносного губителя, сам — страдающий бог. Актеон растерзан собственной или Артемидиной сворой; и Зевсов отрок, пожранный Титанами, не кто иной как тот же Сильный Ловчий, Загрей-Дионис. В запредельном царстве успокоенных душ опять обретает он свой целостный, кроткий облик». Загрей утрачивает самостоятельное значение; но тем большее величие приобретает его мистический образ. Певец Алкмеониды провозглашает его, сопрестольника Геи, наивысшим среди богов. Орфическая реформа в Дельфах и орфическая государственная религия в Афинах VI века упрочивают славу имени Загреева как таинственного Дионисова имени, вéдомого посвященным.
И посвященные (если не по принадлежности к иерархии мистов, то по внутреннему отношению к эзотерической теологии), подобные Эсхилу, чей дух, по выражению Аристофана, был вскормлен элевсинскою Деметрой, знали Загрея как сыновний лик того подземного Зевса (Ζεύς Χθόνιος), которого называет уже Гомер (Ил. IX, 457) и почитает судьей над мертвыми Эсхил (Suppl. 237). Но некоторая неясность определения, устранимая для древних лишь путем обрядового формализма, все еще чувствуется. Всегда ли, и исключительно ли, он Дионис и сын («прости, Загрей, и ты, гостеприимный царь», т.е. Аид, — говорит Эсхилов Сизиф), или же сливается с отцом, и с кем именно — с Аидом или с подземным Зевсом, — на эти вопросы возможен двойственный ответ на основании немногих до нас дошедших и не свободных от противоречия изречений Эсхила о Загрее.⁶
_________________________
[5] ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν. (Heracl. fr. 127 Byw.)
[6] …τινές δέ τόν Ζαγρέα υιόν Ἅδου φασίν, ώς Αισχύλος έν Σισύφω, «Ζαγρεί τε νύν με καί πολυξένω χαίρειν».
Ζαγρέα υιόν Ἅδου — Загрей, сын Гадеса (Аида).
_______________________________
ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
I. ИНОИМЕННЫЕ ДИОНИСЫ
1. Типы прадионисийских культов
Есть многозначительная историческая правда в словах Геродота (II, 52, 1. 3):
«Издревле пеласги всяческие приносили жертвы, молясь богам, — как я слышал в Додоне, — но ни прозвищем, ни по имени не называли ни одного божества, ибо именам не научились… Дионисово же имя узнали еще позднее, нежели имена других божеств».
В самом деле, древнейшая эпоха Дионисовой религии есть эпоха безыменного или иноименного «пра-Диониса. Одним из свидетельств об этой подготовительной стадии религиозно-исторического процесса, приведшего к объединению местных оргиастических культов под определенным именем одного общеэллинского божества, может служить пустой престол некоего бога, заполненный впоследствии малым кумиром Диониса, по изображениям на монетах Фракийского Эна (Aἰνός). Вид прадионисийского культа представляет собою почитание безыменного Героя, распространенное во Фракии и Фессалии, на долгие времена укоренившееся в балканских странах вообще и встречающееся здесь и там в разных местах Эллады и Великой Греции, причем из атрибутов Героя развиваются его «прозвища» (ἐπίκλησις) Конника и Охотника; последние окаменевают в имена, установление коих выводит Героя из круга безыменных пра-Дионисов, и Великий Ловчий — «Загрей» — находит уже немалую общину оргиастических поклонников, в качестве самостоятельной божественной ипостаси пра-Диониса — Аида, — пока его культ не впадает притоком в широкую реку торжествующей Дионисовой религии. К безыменным культам относится, далее, женский оргиазм, в своем исконном служении неизменно-пребывающему женскому божеству требовавший мужского коррелята в лице периодически рождающегося и умирающего бога и, наконец, обретший искомые имя и обличие в родившемся Дионисе.
Оргиастические культы, не знающие точного имени и ясно означившегося лица боготворимой одержащей силы, естественно приемлют Диониса, когда сокровенное имя найдено и смутное представление о незримом двигателе оргий и возбудителе исступлений антропоморфически определено. Иные же вовлекаются в орбиту других культовых притяжений, — например, Аполлона, Посейдона, — или же обособляются, коснеют и мельчают в своей местной замкнутости: так, переживания прадионисийской ступени сохраняются до весьма позднего времени — и впитываются христианством — в почитании все того же безыменного Героя, о чем свидетельствуют, между прочим, надписи с посвящением deo Heroi sancto, чаще deo sancto Heroni, найденные на Эсквилине, и подобные же в других местах.
Иноименные культы испытали двоякую участь. Чаще всего их первоначальные объекты, местные демоны (δαίμων, «божество») с отличительными особенностями будущего Диониса, низводятся на степень героев. Этиологический миф обычно приводит этих героев в более, или менее тесную связь с самим Дионисом (таковы, напр., Элевтер, Икарий, Ойней, Аристей), порою же прагматически связать повесть о них с деяниями бога не может, но неизменно выдвигает их страстную участь (πάθος, «страдание») как некую печать их внутреннего родства с божественным чиноначальником (Ἀρχηγέτης) «страстей»; кроме того, в их характеристике необходимо сохраняются отдельные, как бы физиономические черты бога, героическими двойниками которого они продолжают жить в религиозной памяти народа. Но это важное явление в развитии Дионисовой религии должно быть предметом особого рассмотрения (о героических ипостасях); в порядке же настоящего исследования внимание наше сосредоточивается на другом типе иноименных культов. Это — те оргиастические богопочитания, объект коих был раньше обретения Дионисова имени отожествлен с одним из общенародных и древнейших богов, — большею частию, с самим Зевсом; он же, в качестве верховного бога, в период до выработки понятия сыновней ипостаси, был особенно близок монотеистическому складу богочувствования, составляющему характерное отличие общин оргиастических.
Понятно, что усвоение определившегося Дионисова божества этими подготовительными, прадионисийскими культами — в случаях уже совершившегося присоединения их к другим древнейшим культовым сферам — было в высшей степени затруднено. В редких случаях, когда это усвоение оказывается тем не менее возможным, оно имеет своим типическим последствием удвоение культа: таковы Зевс-бык и Дионис-бык на Крите, Зевс и Дионис Мейлихии, Зевс и Дионис Лафистии, Арей и Дионис Эниалии; сюда же относятся Зевс-Аристей, Зевс-Герой, Зевс-Сабазий и т.п. Такое религиозное образование, как «Зевс-Вакх» пергамской надписи, конечно, исключение и аномалия; примечательно, однако, что «Зевс-Вакх» чтится рядом с «Зевсом». Правда, надпись, именующая обоих вместе, принадлежит поре позднего синкретизма; но последний лишь облегчил, в данном случае, культовое определение исконного местного верования. Позволительно думать, что сближение некоторых малоазийских ликов Зевса с Дионисом совершилось под влиянием таких искони синкретических религиозных форм, какими были в своих местных особенностях культы Зевса Карийского и Тарсского, Зевса-Хрисаора в Стратоникее и Зевса Стратия в Лабранде или культ фригийского и писидийского «бога спасающего», отличительным признаком которых служит Зевсов атрибут обоюдоострой секиры (λάβρυς), наследие хеттского Аттиса-Тешуба и хеттского Геракла Диониса — Сандона в Тарсе. Поскольку тотем двойного топора с его оргиастическим обрядовым кругом был всецело усвоен религией Диониса, как это с особенною отчетливостью наблюдается на Тенедосе, постольку названные божества приобретают прадионисийский характер.
Родственное явление наблюдается в Додоне, где изначальному почитанию подземного Зевса придаются черты дионисийского культа: так, ему совершаются возлияния с виноградных листьев. Павсаний, в описании святынь аркадского Мегалополя (VIII, 31, 2), отмечает странность Поликлетовой статуи местного Зевса Филия (Фίλιος): знаменитый художник придал ему черты Диониса и даже дал в руку тирс, но на тирсе изваял орла; так сочетал он атрибуты Диониса и Зевса.
2. Хтонические Зевсы
Прототипом большей части прадионисийских ликов Зевса является идейский или диктейский Зевс, наследник доэллиннского и родственного хеттским божествам критского, бога с обоюдоострой секирой, бога-быка, живущего в Лабиринте, — он же критский Зевс, как бог оргиастических жертв, — пра-Дионис Омадий (ὅμαδιος) и, как бог погребенный, — пра-Дионис Аид. Замечательно, что и этот культ впоследствии удвоен культом быка-Диониса, вбирающим в себя элементы женского оргиазма и омофагии (ὠμοφαγία), т.е. растерзания и съедения жертвы живьем. Так что за Зевсом Крита остаются из области оргиастической только куреты, а из сферы первоначальных представлений о нем как о боге подземном только почитание пещеры, где он родился, и непонятной позднейшему эллинству (напр., Каллимаху) его могилы. К производным из критского культам принадлежат Зевс-Полией афинских буфоний и соприродных им обрядов на островах, как и милетский Зевс или Зевс-Сосиполис в Магнесии на Меандре, который также чтился буфониями и, сверх того, угощением богов, для коих воздвигались кущи и три ложа. В самом деле, если элейский Сосиполис, младенец-змий, пришел с Крита, естественно сочетать с Критом и магнетский культ, — как, впрочем, и другие буфонии оказываются генетически связанными с островом Миноса. Эти городские покровители Зевсы, будучи божествами подземными, закономерно мыслятся в виде городовых змиев.
В лице Ганимеда мы встречаем героизацию человеческих жертв, приносимых некоему пра-Дионису, отожествленному с верховным Зевсом и проявляющему свою божественную силу в даре виноградной лозы. О «богоподобном» (ἀντίθεος) Ганимеде, «прекраснейшем из смертных», Гомер (Ил. XX, 234) говорит, что «боги восхитили его быть виночерпием Зевса». Перед нами суровый пра-Дионис и предварение юного, гроздью увенчанного Вакха, испытывающего страсти (πάθος): оргиастическое numen¹ виноградного дара представлено дуалистически своею жреческою и жертвенной ипостасью, — другими словами, в мифе о Ганимеде предначертан почти полный состав Дионисовой религии. Малая Илиада знала, что Зевс дал отцу Ганимеда в уплату за сына золотую виноградную гроздь, работу Гефеста, — что опять указывает на родство легенды с культом винограда. Варианты сказания обличают в похитителе Ганимедовом человекоубийственного Зевса: легенда издавна ориентируется на Крит, где похитителем является Минос. В малоазийской (от Крита независимой и восходящей, по-видимому, к хеттам) версии ипостась пра-Диониса (Зевса) Омадия — Тантал, жертвоприноситель отрока-сына, угощающий плотью юного Пелопса богов-сотрапезников, и обладатель бессмертной влаги.
Первоначальное почитание Дионисова numen среди эллинов под неопределенным именем Зевса оставило следы и в культе прадионисийских героических ипостасей, принятых за ипостаси подземного Зевса (Ζεὺς χθόνιος), каковы Зевс-Аристей, Зевс-Амфиарай, Зевс-Трофоний, Зевс-Герой, — и в культе Мейлихия.² Последний — подземная сила, то мыслимая множественною, как боги-Маны италиков (δαίμονες μειλίχιοι противополагаются богам небесным, οὐράνιοι), то раздвояющаяся на мужскую ипостась и женскую, связанная с древопочитанием вообще (ἔνδενδρος, древобог — как Дионис, так и Зевс), в частности же с почитанием смоковницы (συκάσιος, συκεάτης, συκίτης Διόνυσος), древа очищений, и, по-видимому, с кровавым, семитического происхождения, оргиазмом.
_________________________
[1] numen, -inis n образ, т.е. изображение или статуя бога (numina divum V).
[2] Ἀρισταῖος {ἀριστεία} ὁ Аристей, доблестный;
Ἀμφιάραος (ἀμφι-άραος) ὁ Амфиарай, грозный;
Τροφώνιος ὁ Трофоний, питающий (эпитет Зевса с храмом и оракулом в Лебадии);
Μειλίχιος ὁ Мейлихий, милостивый, милосердный (Ζεύς Plut.).
Общая всем видам древнейшего религиозного миросозерцания мысль о коррелятивной связи между смертью и половой силой, о зависимости земного плодородия и чадородия от воль подземных, поскольку она раскрывалась и в культовых сношениях с семитами, воплотилась в служении Мейлихию (вероятно, Молоху), подземному Зевсу, другому лику Зевса небесного, и Мейлихии — Афродите (Астарте). С возникновением идеи о тождестве Аида и Диониса, Мейлихием стал и Дионис. «Черная смоковница, сестра винограда» была отдана именно последнему; но уже укоренившийся культ Мейлихия под именем Зевса остался одновременно в силе и даже преобладал над новым, приуроченным к имени Диониса: так Диасии (Διάσια), афинский праздник Мейлихия в дионисийском месяце Анфестерионе, остались за Зевсом. Эвфемистическое имя Мейлихий, которому соответствуют устрашающие имена того же божества — Маймакт (Μαιμάκτης, «яростный, буйный») для Зевса, Агрионий (Ἀγριώνιος, «свирепый») и Омадий (Ὠμάδιος, «дикий, жестокий»), Омест (Ὀμηστής, «кровожадный») для Диониса, свидетельствует о замене человеческих жертв жертвоприношениями животных и, наконец, жертвами бескровными и явно обнаруживает дионисийскую природу Мейлихия.
3. Лафистий и Афамант
Аналогичен Мейлихию в некоторых отношениях (хотя и различен от него, вопреки мнению Отфрида Мюллера, уже самим происхождением) — Лафистий (Λαφύστιος, «Пожиратель»): в обоих культах мы видим попытку приписать ужасную силу некоего оргиастического божества, требующего человеческих жертв, сначала Зевсу, потом Дионису. Героическая проекция Лафистия, бога горы Лафистион (Λαφύστιον ὄρος) близ Орхомена в Беотии, а также Афамантовой равнины и города Галоса во Фтиотиде, — Афамант, царь минийского Орхомена. И подобно тому как первоначальный Зевс-Лафистий удвоен позднейшим религиозным образованием — Дионисом-Лафистием, так и Афамант, обреченный первому, оказывается в предании одним из исступленных героев-вакхов (βάκχοι). Ибо героические ипостаси божества обречены ему: так, Артемида-Ифигения, в качестве смертной девы, обречена Артемиде — как жертва или жрица; она же была и тою, и другой. И не только обречен Зевсу-Лафистию сам Афамант, его жрец и жертва, но и каждый старейший в роде из его потомков, приблизившись к дому старейшин в Галосе, умерщвлялся в жертву Зевсу-Лафистию, по свидетельству Геродота (VII, 197). Дионисийским коррелятом того же сакрального установления является преследование обреченных дев (Ὀλεῖαι) из минийского рода жрецом Диониса, с мечом в руке, на орхоменском празднестве Агрионий, по сообщению Плутарха (quaest. gr. 38).
Вовлечение прадионисийского культа в круг Дионисовой религии совершилось, очевидно, под влиянием Фив, что выразилось в мифологеме мотивом бракосочетания Афаманта с Ино, сестрою Семелы, фиванской матери Диониса. Ино, в доме Афаманта воспитавшая божественного младенца, сына Семелина, хочет извести пасынка Фрикса и падчерицу Геллу, детей своего мужа от Нефелы. Дети бегут из дома и скитаются по дубравам, обезумев от пребывающего под их кровом Диониса (согласно Гигину). Гера (вмешательство коей составляет несомненно позднюю черту мифа), мстя за покровительство, оказанное сыну Семелы, наводит на Афаманта бешеное неистовство. Он преследует Фрикса; но отрока и сестру его спасает их мать, богиня Облако, на золоторунном баране. Древнейшее сказание говорило о принесении Фрикса Афамантом в жертву Зевсу-Лафистию. Афамант умерщвляет Леарха, собственного сына от Ино, который представляется отцу, охваченному дионисийским безумием, то молодым оленем (νεβρός, по Нонну), то львенком (по Овидию). Герой бродит, одичалый, без крова; волки делят с ним кровавую снедь.
Перед нами типический спутник преследуемого и жертвоприносимого бога: его преследователь и исступленный жрец. Афамант — человек-волк (как фракийский Ликург, ἀνδροφόνος Λυκόοργος шестой песни Илиады) и вместе кормящий младенца молоком мужских сосцов «вакх пестун» (опять как Ликург, которому хотелось бы отнять божественное дитя у Дионисовых кормилиц), — оленеубийца и небридоносец, разрывающий Диониса под личиною Леарха. В его лице, как бы на наших глазах, услаждающийся снедью детской плоти оргиастический Лафистий превращается в вакха-дионисоубийцу. Ино, сказание о которой лишь искусственно сопряжено со сказанием об Афаманте, менада парнасских дебрей, по Еврипиду, — бросается с сыном Меликертом в белопенную морскую кипень, предварительно опустив отрока, по одному из вариантов мифа, в кипящую воду, имеющую силу возрождать в новом образе человека; в море обернулась она «белой богиней» Левкофеей (Λευκοθέα), с волшебным покрывалом из пены (κρήδεμνον, головная повязка с покрывалом для лица), спасающим пловцов (Одиссея), а сын ее — богом Палемоном, покровителем мореходов: так младенец Дионис у Гомера спасается от ярости Ликурга, на лоно морской богини; так дионисийские нимфы бросаются в море, преследуемые двойником Ликурга — Бутом (Bούτης). Меликерт — дубликат Леарха, возникший, очевидно, из контаминации фиванского вакхического культа с неким морским коррелятом такового, и притом, судя по имени бога, коррелятом финикийского происхождения: если Леарх — отроческий аспект Диониса, как молодого льва (λέων), подобного Пенфею (созвучие слов способствовало, по-видимому, фиксации этого близкого Фивам по культу матери богов образа), Меликерт-Палемон³ — отроческий аспект Диониса на дельфине, каким знал его островной культ. Но, как Асклепий, выделившись из Аполлонова божества, приобретает полную самостоятельность, так прекращается и дальнейшая связь между Палемоном и Дионисом.
_________________________
[3] Μελικέρτης (-ου) ὁ Меликерт (морское божество) Pind., Polyb., Luc., Anth.
Παλαίμων (-ονος) ὁ Палемон, «Борец» (эпитет Меликерта, сына Ино-Левкотеи) Eur.
4. Зевс Ликейский, Ликаон, Ликург
Подобен Афаманту и Танталу «пеласгийский» Ликаон, героическая ипостась Зевса-Ликея (Λύκαιος), учредитель его культа в Аркадии, царь-жрец, предлагающий в снедь своему богу плоть внука Аркада, рожденного от Зевса дочерью царя, Артемидиною служительницей, а потом медведицей, Каллисто. Аркад, как и Танталов Пелопс, чьей плоти отведали боги, оживлен (примысл эпохи, упразднившей человеческие жертвоприношения); Ликаон обернулся волком; стол же, на котором было предложено жертвенное яство, опрокинут разгневанным Зевсом, как опрокидывает, с проклятием на Плисфенидов, роковой стол обманутый родитель Фиест. Опрокидывание священных столов — оргиастический обряд, несомненно связанный с омофагией и составлявший мистическую часть богослужения дионисийских менад; рассказ о Фиестовой трапезе у Эсхила — отражение мифа о Ликаоне. Подстрекательство к детоубийству приписывается первенцу Ликаона, Менолу, т.е. «исступленному» (μαινόλης), носителю дионисийского имени, подобно брату его, первенцу по версии Павсания, Никтиму (Νύκτιμος). Сближение Артемиды с Ликейским Зевсом через Каллисто также указывает на прадионисийскую природу последнего.
Основной тотемический мотив ликейского культа — преследование волками оленей. Оленями (ἔλαφοι) зовутся обреченные чужеземцы в храме Ликея, волками — жрецы. Эти, — повествует Павсаний (VIII, 2, 5), — по первом вкушении человеческого мяса поистине обращались в волков; но если побеждали свой голод к такой снеди и не вкушали от нее девять полных лет, становились опять людьми. На то же аркадское предание ссылается однажды и Платон (Rp. 565 D). Перед нами обломки и воспоминания древнейших культов, из коих развились народные представления о ликантропии, вера в вурдалачество. Сюда же относится упоминаемый Плинием (N. Н. VIII, 34) обычай в аркадском роде Анфа выбирать по жребию одного из родичей в «волки»; сняв с себя прежние одежды и повесив их на дуб, он становился «волком», т.е., очевидно, опальным изгнанником, и должен был жить «с волками» девять лет. Дионисийское имя Анфидов и обряд переодевания, — быть может, с принятием личины или других знаков и отличий волка, вроде наброшенной на голову волчьей шкуры с головою зверя, какую мы встречаем на иных античных изображениях, — характеризуют это религиозное установление, как промежуточную, переходную форму между культами прадионисийского Ликея и Диониса. По-видимому, могущественное и страшное некогда прадионисийское жречество в пору отмены человеческих жертв было поставлено под угрозу опалы в случаях возврата к человекоубийственной ритуальной практике, причем опала могла условно распространяться и на целый жреческий род, как мы видели это на примере Афамантидов.
Если волк-Ликаон есть низведенный на землю Зевс-Ликей, если волк-Афамант — Зевс-Лафистий, или, что то же, Дионис-Лафистий, то в лице Ликурга, лютого волка плотоядного (ὠμηστής, λύκος ὠμοφάγος), легко узнается фракийский пра-Дионис Омадий. На дионисийскую природу Ликурга указывает и его родство с миром растительным (он сын Дриады, и он же запутывается в виноградную лозу), и его двуострая секира. Гомеровская сцена преследования Ликургом «кормилиц буйного Вакха» — типическое для дионисийской легенды раздвоение Дионисова божества. Подобным Пенфею очерчен был Ликург в «Эдонах» Эсхила. Младенец, которого вакх-пестун оспаривает у пестуний-вакханок, неистребим, хотя и делается несомненно, испытывая πάθος, оргиастической жертвой своего яростного двойника или своих же менад: он растекается, например, стихией влаги. В версии мифа у Диодора (V, 50), Диониса, впрочем, вовсе нет, а брат Ликурга, по имени Волопас (Bούτης), преследует только кормилиц бога; менады убегают на гору Дриос, во Фтиотиде, или же кидаются в море; Дионис карает преследователя безумием.
5. Легенда о Макарее и прадионисийское жречество. Меламп.
Прадионисийские человекоубийственные культы привнесли в историческую религию Диониса необходимый ей элемент: многообразно представленный в ликах мифа единый тип свирепого Дионисова двойника-преследователя, жреца-исполнителя оргиастической жертвы. Тип этот одинаково дан был и обрядовой действительностью, и мифологическим преданием. В последнем герои-жрецы-преследователи суть очеловеченные ипостаси пра-Диониса Омадия.
Раздвоение божества на лики жреческий и жертвенный и отожествление жертвы с божеством, коему она приносится, было исконным и отличительным достоянием прадионисийских культов. Бог-бык был вместе бог-топор на Крите и во всем островном царстве древнейшего дифирамба. Оргиастическое божество фракийских и фригийских культов всегда двойственно, причем стремление определить его как две раздельные сущности встречается с невозможностью провести это разделение — отнять у страдальной ипостаси ее грозную, губительную силу и лишить свирепого бога страстнόй участи. Но в общем можно заметить, что утверждение исторической религии Диониса, совпадая с заменой мистически-реальных, т.е. человеческих, жертв фиктивно-реальными, символическими (ибо зооморфизм уже обратился в символизм) жертвоприношениями животных, способствовало торжеству кроткого лика в двуликом Дионисовом божестве, — чтό и сделало его, по выражению Липперта, «пасхою эллинов», — и выделению жестокого, губительного начала в дионисийские ипостаси героев-преследователей.
Характерным примером может служить митиленская легенда о Дионисовом (как это явствует из самого имени) жреце Макарее. «Кроткий на вид, духом же лютый» (Aelian. v. h. XIII, 2) и «лев» (по Диодору), Макарей убивает тирсом жену, казня ее за убийство старшего сына. Умертвила же она старшего сына за то, что тот убил брата отцовским жреческим оружием (σφαγίς), подражая священнослужению отца, и сжег тело отрока на алтаре Дионисовом в пору празднования триетерий. Так покарал Макарея Дионис за коварное злодеяние, некогда им совершенное над одним чужеземцем в самом святилище (ἀνάκτορον). Тем не менее, Макарей был чтим народом и, когда умер, по Дионисову повелению погребен на счет города. Прагматизм легенды поздний, но в основных чертах она сложилась по упразднении человеческих жертв и отразила черты религиозного быта предшествующей эпохи. Макарей слыл основателем храма растительного Диониса-Брисея. Новое исследование правильно усмотрело в нем «божественное существо, служившее объектом культа в культовом цикле митиленского Диониса». В нем типически ипостазировано божество Диониса, как необоримая свирепая сила и львиная ярость (δύναμις, ἀλκή, λέων, οργή). Вакханки в трагедии Еврипида (ст. 1017) приглашают Диониса явиться в образе «огнедышащего льва» (πυριφλέγων λέων). Но в то же время Макарей рассматривается уже не как Дионис, а в противоположении ему и его кроткому, святому закону: это позднейшая, смягченная форма оргиастической религии. Макарей — первоначально прадионисийский оргиастический бог, потом грозный и вместе страдальческий герой, коему приносятся жертвы на его гробнице, наконец — квазиисторическое лицо, о котором рассказываются тенденциозные вымыслы (ограбление чужеземца), долженствующие утвердить религиозно-просветительную и гуманную мораль нового века.
Содержание же легенды, этого религиозно-исторического палимпсеста, отчетливо выступает во всех подробностях. С одной стороны, мы находим в ней картину прадионисийского жречества: убиение чужеземцев в святилище, т.е. в жертву богу, принесение в жертву детей и, наконец, родовую наследственность жречества. С другой стороны, перед нами женский триетерический оргиазм с его детоубийством и убийственным преследованием женщин мужскими участниками культа, подобным сохранившемуся до поздних времен в Орхомене преследованию миниад (Μινυάδες, три дочери Миния), именуемых Ὀλεῖαι. Это два разных культа: мужской, прадионисийский, и женский, до обретения Дионисова имени посвященный богине Ночи и безыменному Дионису. Первому соответствует жреческая «сфагида», под которою, в данном случае, едва ли не разумеется двуострая секира; второму — тирс. Оба человекоубийственные культа слиты в единую Дионисову религию. По-видимому, первый культ — островной, с Крита пришедший, в минойском предании коренящийся культ двойного топора и быка-Дифирамба; он же искони был морским и растительным, в частности — культом винограда. Второй — материковый, горный, триетерический, знаменуемый символами-тотемами тирса, плюща и змеи, культ парнасских менад, — по своему происхождению, вероятно, фракийский. Соединение первого с женским оргиазмом второго дает окончательную форму религии Дионисовой.
Катартическое (καθάρσιος), т.е. очистительное, освободительное, целительное разрешение оргиастических преследований по обретении Дионисова имени ясно ознаменовано в мифе о Мелампе (Μελαμπόδεια), которого Геродот считает первоучителем религии Дионисовой и установителем ее обрядов. Пилосский прорицатель Меламп (Μελάμπους, -ποδος — «черноногий»), сын фессалийского Амифаона, обязанный дружбе змей своим могуществом ведуна, знахаря и очистителя, вещий дар свой получил, конечно, не от Аполлона, с которым был сближен только позднее, когда дельфийский бог овладел всей областью мантики, катартики и медицины, — но из недр земли и принадлежит, по особенностям своего мифа и своей генеалогии, к ликам сферы хтонической. Другом змей стал он потому, что первоначально сам был змием: чернота ног, означенная в его имени, говорит на символическом языке древнейшего мифа о том, что нижняя половина его тела оставалась как бы погруженною в подземное царство, что его человеческое туловище кончалось, как у Эрихтония, змеиным хвостом.⁴
_________________________
[4] Меламп не только «черноногий», но и «чернокозий», как Διόνυσος Mελάναιγις, один из аспектов Диониса-Аида; таковым же слывет Пифон. Культ Мелампа засвидетельствован надписями в Эгисфене, где коза — тотем, и миф помнит, что он был вскормлен козою. Далее: хтонический пес прадионисийского дикого охотника Актеона носит имя Μελάμπους, или Mελαγχαίτης («чернокосмый»), — опять одно из наименований Диониса, — или, наконец, просто Μελανεύς («черный»): эти прозвища рассматриваются, очевидно, как синонимы.


1. Фрако-македонские племена (uncertain). Тетрадрахма (AR 15.03g), 530-480 до н.э. Av: козел с человеческой головой; Rv: квадрат разделенный на четыре части.
2. Гимера (Ἱμέρα), Сицилия. Литра (AR 12mm, 0.68g), ок. 470-450 до н.э. Av: крылатая протома козла с человеческой головой; Rv: наездник верхом на козле; IMERAIΩN


3. Македония, римская провинция. Æ 22mm (10.38g), 168-166 до н.э. Магистрат Гай Публилий (Gaius Publilius, quaestor). Av: голова Диониса в венке из плюща. Rv: козел; TAMIOY ГAIOY ПOПΛIΛIOY
4. Эги (Αἰγαί), Ахайя. Гемидрахма (AR 2.74g), V-IV в. до н.э. Av: бородатая голова Диониса в венке из плюща; ΑΙCΑΙ[ΟΝ]. Rv: протома козла; ΑΙC
И самое сближение с Аполлоном — того, кто выступает пророком Дионисовым, свидетельствует, что Меламп, по корням своим, прадионисийский демон-вещун, подобный Пифону и застигнутый распространением религии пифийского Аполлона раньше, чем сформировалась религия Дионисова. Как ипостась Диониса-Аида, Меламп оказывается узником, заключенным на год в источенную червями деревянную темницу — домовину. Как та же ипостась, является он, далее, основателем фаллагогий, посвященных, как это твердо знает Гераклит, Дионису-Аиду. Меламп жив в памяти мифа как возродитель мужского чадородия и устроитель экстатических плясок, в особенности же как организатор женского оргиазма и учитель здравого экстаза, неупорядоченность коего дотоле порождала разнообразные недуги и извращения. Упорядочение сферы женских исступлений обусловливает общение Мелампа с Дионисовой и пра-Дионисовой сопрестольницей Артемидой, — или им обусловлено. В мифе о Мелампе еще слышны отголоски человеческих жертвоприношений, именно женских (гибель Пройтиды Ифинои во время катартического преследования, гибель женщин под развалинами обрушившейся темницы) и отроческих (повесть о ноже Филакса, отца Ификлова), при отмене коих выпитие крови было замещено питьем вина (ржавчина от ножа дается Ификлу с вином как волшебное лекарство, φάρμακον).
По изображению на одной краснофигурной вазе, Меламп, облеченный в пестрый хитон, противопоставлен как пожилой муж Дионису-юноше, одетому в такой же хитон, повязанному митрой (μίτρα) и держащему в руке вакхический канфар (κανθάριον) с вином, подле кумира Артемиды-Лусии (Λύσια, «освобождающая», «избавительница»); у подножья кумира расположились исцеленные Пройтиды, между тем как заклятая Лисса (Λύσσα, богиня безумия), владевшая прежде дочерьми Пройта, с искаженным лицом, прячется за колонну с треножником; поодаль сидит Силен; на стене святилища висят рельефы, изображающие бешеную пляску сатиров, — намек на введенные Мелампом мужские пляски; в руках у одной Пройтиды и Диониса раскидистые ветви, у Мелампа и Силена — тирсы, так что стан преследуемых (женский) охарактеризован ветвями, а стан преследователей (мужской) — тирсами, которым соответствует копье в руке исцелительницы Артемиды, — причем выдвинуто религиозное тождество обоих примирившихся, разоружившихся станов. Перед нами выдержанный в символах мифа исторический рассказ об укрощении обособленного и замкнутого женского оргиазма прадионисийской эпохи новым заветом религии Дионисовой.
6. Арей
Грозная ипостась двойственного оргиастического божества, которую мы видели отожествленною в ряде культов с верховным Зевсом, — в тех случаях, когда противоположная ипостась уже определенно дана в религиозном сознании, когда лицо собственно Диониса уже отчетливо выявлено, — не преобладает над ней в виде верховного Зевса, но ей соподчиняется и обусловливает представление о яростном боге-двойнике кроткого Диониса — кровожадно исступленном Арее.
«Фригийцы, — говорит Плутарх (de Is. et Os. 69),— думают, что бог зимою спит, а летом пробуждается: как усыпление, так и пробуждение бога они отмечают вакхическими празднествами (βάκχευοντες). Пафлагонцы же говорят, что зимою он связан и пленен, а весною освобождается от оков». Так фригийская колония фракийцев, распространившая свою религию в Пафлагонии, «в одно сливает», по Страбону, божества эдонского (фракийского) Ликурга и Диониса. Ища ближе определить этого Ликурга, местные культы тяготели к отожествлению его с Зевсом, откуда и выше описанный Зевс-Вакх. В первоначальном же фракийском веровании это был Арей, т.е. тот бог, которого эллины, издревле себе усвоив, наименовали Ареем (Ἄρειος, «воинственный»). Ибо, по основному свидетельству Геродота, «из богов чтут фракийцы только Арея, Диониса и Артемиду», причем Арей и Дионис должны рассматриваться как два противоположные лица одного мужского numen, носившего разные племенные имена, как Сабазий, Бассарей, Гигон, Балий, Диал; те же богопочитания были перенесены во Фригию и, как кажется, распространились из нее по Лидии.
«Арея долю некую он взял в удел»: так намекает на изначальное тожество Диониса и Арея Еврипид. Дионис Элелей (Ἐλελεῦ) — бог воинских кликов, так же как и Арей; Дионис Эниалий (Ἐνυάλιος) — «Воинственный», как Арей. Причем одноименный герой, Эниалий-фракиец, представляет собою страстный, в дионисийском смысле, тип Арея: он умирает от руки своего же божественного двойника. Дионис, далее, — «бог, радующийся на мечи и на кровь»; он — «меднодоспешный воевода». Оба божества сливаются в одном образе: «Бромий (Βρόμιος, «Шумный»), копьеносец ярый, в битвах шумящий, отец Арей!». Воинственные пляски в честь Диониса издавна совершались фракийцами и вошли в эллинский быт особенно после походов Александра. Спартанская πυρρίχη; стала тогда вакхической: вместо копий пляшущие перебрасывались тирсами и размахивали зажженными факелами, изображая Дионисову победу над Пенфеем и его битвы в Индии. Такая милитаризация обряда под впечатлением подвигов македонского «нового Диониса» (νέος Διόνυσος) была принципиально возможна потому, что тирсы изначала служили копьями и Дионисово действо часто оказывалось воинским, как Ареево — дионисийским. Вооруженные двуострыми секирами дикие служительницы Арея, девы-амазонки, составляют полный коррелят вооруженным тирсами менадам Диониса; общим для тех и других является и ближайшее культовое отношение к Артемиде. Отсюда уподобление поэтического вдохновения вакхическим битвам в «Тристиях» Овидия (VI 1, 41):
«Как, острием пронзена, не чувствует раны вакханка,
Дико взывая в ответ зовам эдонских теснин:
Так загорается грудь, пораженная тирсом зеленым;
Так, воскрыляясь, душа боли не помнит земной.»
Из всех прадионисийских образов оргиастического бога Арей и в историческую эпоху Дионисовой религии, оставаясь вполне самобытным в своем круге, по существу не отделился от обособленного Дионисова божества: отношение между обоими богами представляет собой редкий случай изначальной, самопроизвольной, естественной теократии. Вообще же Арей почти не отличается от других пра-Дионисов: он, по Гомеру, пьет кровь, — как, ради оргиастического обуяния Ареем, пьют человеческую кровь воины перед битвой, по рассказу Геродота (III, 11).
7. Загрей
Поглощение Дионисовым nomen et numen («имя и обличие») самобытного и уже не безыменного прадионисийского культа, как части целым, наблюдается в истории «дикого охотника» — Загрея. «Великий Ловец» (μεγάλως ἀγρεύων, Etym. Gud.) — не просто один из эпитетов царя душ, как думал, по-видимому, Роде. Без сомнения, Загрей-Аид, как Аид, в глазах Гераклита,⁵ и Дионис: но если Дионис, прежде всего не только Аид, — Загрей, совпадая с Аидом по объему религиозного понятия, отличается от него в обрядовой сфере тем, что он бог оргиастический. По героической ипостаси, им выделенной, — Актеону, — мы узнаем его как ловчего скитальца по горным вершинам и дебрям, окруженного сворою хтонических собак; как содружника Ночи и вождя исступленных ее служительниц; как душегубца, от которого надлежит ограждаться магическими апотропеями, вроде тех уз, какими были связаны идолы его двойников: в Орхомене — Актеона, в Спарте — Эниалия, на Хиосе — Омадия Диониса. Будучи предметом женского оргиастического поклонения, он способен к приятию обличия юношеского и детского, что окончательно препятствует смешению его как с Аидом, так и с подземным Зевсом и подготовляет почву его орфической метаморфозе в сына Зевсова.
Орфический синтез жизни и смерти как другой жизни, связанной с первой возвратом душ на лицо земли (палингенесией), укрепляя соответствующее представление о Дионисе, как о вожде по пути вниз и по пути вверх, естественно пользуется Загреем как готовым в народном сознании оргиастическим аспектом Диониса подземного, но дает ему своеобразное оптимистическое и эвфемистическое истолкование: «Неправо люди, в неведении о дарах смерти, мнят, что лют Загрей: это — владыка отшедших, Дионис отрадный. Под страшным ликом того, кто увлекает души в подземный мрак, таится лик благостный; тот, кого боятся, как смертоносного губителя, сам — страдающий бог. Актеон растерзан собственной или Артемидиной сворой; и Зевсов отрок, пожранный Титанами, не кто иной как тот же Сильный Ловчий, Загрей-Дионис. В запредельном царстве успокоенных душ опять обретает он свой целостный, кроткий облик». Загрей утрачивает самостоятельное значение; но тем большее величие приобретает его мистический образ. Певец Алкмеониды провозглашает его, сопрестольника Геи, наивысшим среди богов. Орфическая реформа в Дельфах и орфическая государственная религия в Афинах VI века упрочивают славу имени Загреева как таинственного Дионисова имени, вéдомого посвященным.
И посвященные (если не по принадлежности к иерархии мистов, то по внутреннему отношению к эзотерической теологии), подобные Эсхилу, чей дух, по выражению Аристофана, был вскормлен элевсинскою Деметрой, знали Загрея как сыновний лик того подземного Зевса (Ζεύς Χθόνιος), которого называет уже Гомер (Ил. IX, 457) и почитает судьей над мертвыми Эсхил (Suppl. 237). Но некоторая неясность определения, устранимая для древних лишь путем обрядового формализма, все еще чувствуется. Всегда ли, и исключительно ли, он Дионис и сын («прости, Загрей, и ты, гостеприимный царь», т.е. Аид, — говорит Эсхилов Сизиф), или же сливается с отцом, и с кем именно — с Аидом или с подземным Зевсом, — на эти вопросы возможен двойственный ответ на основании немногих до нас дошедших и не свободных от противоречия изречений Эсхила о Загрее.⁶
_________________________
[5] ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν. (Heracl. fr. 127 Byw.)
[6] …τινές δέ τόν Ζαγρέα υιόν Ἅδου φασίν, ώς Αισχύλος έν Σισύφω, «Ζαγρεί τε νύν με καί πολυξένω χαίρειν».
Ζαγρέα υιόν Ἅδου — Загрей, сын Гадеса (Аида).
_______________________________
|
Метки: Дионис Загрей Зевс Греция |
ДИОНИС & АПОЛЛОН |
Вячеслав Иванов
ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
II. ДЕЛЬФИЙСКИЕ БРАТЬЯ
1. Змий и змиеубийца
Аполлон овладевает дельфийским прорицалищем чрез убиение его стража (φύλαξ, φρουρός) и обладателя, хтонического змия — Пифона (Πύθων). Под чудовищной личиной «вещего» (от πεύθομαι), как обычно понималось это имя, дракона (μαντικόν δαιμόνιον, по Гесихию), или — по Гомеридам — смрадный (от πύθω — гнить), вредоносной змеи (δράκαινα) нелегко распознать затемненные, уже в гомерическом гимне пифийскому Аполлону, черты дельфийского пра-Диониса.
Змиеубийца, согласно закону мистических отношений между вакхом-жрецом и Дионисом жертвенным, исполнился духом последнего: с той поры стал он вещуном и гадателем. Но в круге дионисийских представлений ипостась жреческая столь же причастна божественным «страстям», как и ипостась жертвенная: Аполлон, поскольку он введен в этот круг, должен усвоить себе нечто от антиномической сущности страдающего бога. Светозарный олимпиец, отвращающийся, по слову Эсхила, от плачевных обрядов и всего имеющего отношение к сфере подземной с ее «скверной» (μίασμα), должен соприкоснуться с миром загробным, им «оскверниться» (μιαίνεσθαι) и потом от него же «очиститься». Те, кто не знали об этом приобщении Аполлона подземной сфере, знали, тем не менее, об его очищении от драконовой крови, хотя достаточно обосновать необходимость такового не могли; оттого, быть может, так и настаивают Гомериды на мотиве «тлетворного духа», — он был бы сам по себе μίασμα.
Логика культа была неумолима: оставалось только сделать ее следствия по возможности непроницаемыми для непосвященных. Аполлон нисходит в Аид, что экзотерически изображается как его плен и кабала у Адмета (Ἄδμητος, «необоримый» — эпитет Аида). Пиндар знает, что за насильственное овладение дельфийским оракулом Гея искала низринуть Аполлона в Тартар. Братоубийство не разделило братьев. Дионис не гневается на своих трагических убийц, — он в них вселяется. Пифону же должно было умереть, чтобы, исполнив свою страстную участь, вернуться к эллинам преображенным и новым.
Что Пифон не чудовище, уничтожение коего — заслуга героя или бога (как изображает это деяние упомянутый гимн VI или конца VII века), явствует из религиозных почестей, Змию присужденных, из почитания его гробницы, как и из очистительного возмездия, понесенного убийцей. Плутарх, говоря о «великих страстях божеств, или демонов (δαιμόνων πάθη μεγάλα)», сообщает дельфийское эзотерическое толкование Аполлоновой кары: не девять кратких земных лет (ἐννεάτηρις, по сакральному летоисчислению, фактически — восемь) должен был провести бог опальным изгнанником в Темпейской долине, но на девять великих годов (космических периодов) сошел он в иной мир, дабы, смертью смыв с себя проклятие (ἄγος), вернуться потом на лицо земли воистину Фебом (αληθώς Φοίβος), т.е. светлым и непорочным, и воцариться над прорицалищем, коим дотоле временно правила Фемида.
Эта поздняя мистика восходит в основе своей к исконному дельфийскому преданию, преломившемуся через призму раннего орфизма, влияние которого на Дельфы узнается по многочисленным следам. Основное в ней — взгляд на смерть Пифона как на божественные страсти и представление о страстнόм сошествии Аполлона в подземное царство. Овладение пророчественным даром земли, прорицалищем недр земных (μαντεῖον χθόνιον) обусловлено было для пра-Дионисова преемника частичным уподоблением, ассимиляцией Дионису как «богу-герою», т.е. богу, претерпевающему страдание и смерть. Такова предпосылка того теснейшего единения между дельфийскими братьями-сопрестольниками, которое в религии Дельфов равносильно признанию обоих двумя сторонами, лицами или ипостасями единой божественной силы.
2. Причины Фебова овладения Дельфийским оракулом. Бог-очиститель.
Борьба и примирение дельфийских братьев — основное событие, обусловившее расцвет классической Эллады. Почему Дельфам нужно было именно это культовое соединение? И если дионисийский элемент был там изначала дан, почему нельзя было ограничиться развитием его одного, и потребовалось сделать столько уступок Аполлону? Уступки же эти таковы, что поистине образование дельфийской религии кажется делом искусственным, плодом сознательной религиозной политики, клонившейся к возвеличению делийца насчет умаленного и обедненного Диониса. Каким целям служило это возвеличение, и как возможно было это обеднение?
Ответ на последний вопрос непосредственно вытекает из того обстоятельства, что дионисийство, уже полное своеобразного содержания, было еще только прадионисийством и, как бы чреватое богом, в себе его вынашивало, в то время как, обратно, религия Аполлона, еще нуждавшаяся в ближайшем определении своего божества, умела, тем не менее, призывать его по имени и живо представляла себе его устойчивый, как бы вычерченный из света облик. На вопрос же о целесообразности Аполлонова прославления и обогащения можно ответить в самой общей форме так: идея дионисийской беспредельности, чтобы стать вполне конкретной и действенной, требовала «своего другого», — противоположения тому и взаимодействия с тем, что именно не есть Дионис.
И прежде всего Аполлон был нужен как его восполнитель, потому что представлял собой силу порядка очистительного. Страстное, «патетическое» состояние нуждается, помимо того катартического исхода, который оно, при известных благоприятных условиях, обретает в себе самом, еще и в катартике внешней. Разнуздание дионисийских сил не только грозило гибелью, как личностям, так и общественным группам, но и с формально-религиозной точки зрения требовало посторонних очищений. Приходилось считаться не с теми уже упорядоченными явлениями давно устроенного культа, знакомыми нам из эпохи более поздней, которые сами по себе преследуют цели внутреннего разрешения аффектов; дело шло, напротив, о стихийных вспышках разрушительного огня, о бурях неукрощенного древнего хаоса, об аномалиях сознания и слепом нарушении творимых гражданственностью норм общественного уклада и душевной гигиены. Дионисийство бессильно было развить из себя начала этические; оно не имело в себе и неподвижности, необходимой для обоснования религиозного авторитета. Строить на нем как на некоем камне было нельзя; а Дельфы задумали великое строительство.
Во чье же имя надлежало им его предпринять? Не во имя ли того, кто сам еще не имел имени? Но от Диониса можно было только пророчествовать, а не законодательствовать. А между тем в двери святилища уже стучался обуянный Эриниями Орест. Нужны были — властный глагол, скрижаль непреложная, сильная и уверенная защита кого-то строгого, чуждого и светлого, кто, по слову старцев в Эсхиловом «Агамемноне» о Локсии, «уходит от плача» и чуждается всякого безмерного, особенно меланхолического возбуждения, кто повелительно требует от своих поклонников самообладания и душевного равновесия, кто, став однажды заступником, «не выдаст и не изменит», как говорит о том же Аполлоне Эсхилов Орест. Кто он, в длинных спокойных складках белой одежды, сильный убелить одежду молящегося, хотя бы она была забрызгана кровью, и зачурать его своим светом от порождений мрака, успокоить ропот мертвых и вернуть живого живым, оградив его от слишком ощутительных влияний царства подземного? Таким избавителем и исцелителем отчасти уже был, отчасти мог стать один — Феб-Аполлон.
Гомерический проэмий (προοίμιον, прелюдия) к Аполлону пифийскому — историческое свидетельство: древнейшая организация дельфийского святилища определяется влиянием Крита. Бык, культ которого сохранился в Дельфах, и дельфин, присвояемый Аполлоном стародавний символ островной прадионисийской религии, подтверждают повествование Гомеридов. Критяне были великими «очистителями», как о том свидетельствует легенда о Хрисофемиде или знаменитый пример позднейшего Эпименида. Итак, казалось бы, достаточно было критского воздействия, чтобы развить в Дельфах из исконно местного оргиазма систему очищений, составлявшую потребность времени. Тем не менее, ни божество идейского Зевса, ни божество самого Диониса не могло послужить краеугольным камнем созидаемого оракула. Эпоха додонского Зевса была пережита; новая концепция всевышнего отца не закончена; критский Зевс непонятен эллинству; едва намечающийся Дионис неустойчив и опасен. Возможно и вероятно, что критяне посредствовали между Дельфами и делийским богом, ибо уже раньше были религиозными устроителями Делоса.
Сила имени Аполлонова была испытана. Недаром малоазийские аэды (ἀοιδός, певцы) его избрали своим покровителем: он оказался могущественным и грозным защитником, этически нормативной духовной властью, снискавшей всеобщее признание, — богом междуплеменным и сверхнародным, а потому и общенациональным преимущественно перед коренными божествами старинной родины, — богом, наконец, более формальным, так сказать, по своей идейной сущности, нежели содержательным, легко вмещающим новое содержание, требующим раскрытия заложенных в его первообразе возможностей и потому в общине певцов охотно обменявшим звучный лук на кифару Гермия, которой изобретатель не дорожил. Аполлону можно было придать ряд новых атрибутов и, прежде всего, отдать в его ведение мантику, собственность дионисийских женщин, от коих жречество должно было стать по возможности независимым. Страшный и светлый, Аполлон-губитель¹ был вместе и целителем, Пеаном.² Древнейшие староотеческие пеаны были перенесены малоазийскими поселенцами на бога из страны света, Ликии: он сам стал Пеан. Это обстоятельство имело решающее значение; народ, в своей наиболее предприимчивой и передовой части, в лице заморских колонистов, давно забывших хтонические и героические предания и призраки, связанные с могилами старой родины, — обрел искомого «очистителя»; Эфиопида уже знает очищения от пролитой крови.
____________________________
[1] Губительные свойства Аполлона происходят от созвучия его имени (Ἀπόλλω) с ἀπολλύω. Эсхил в «Трагедиях», в отношение Аполлона (устами Кассандры), употребляет слово ἐπόλλων, т.е. «губящий», что так же несет в себе созвучие с его именем.
Путей страж разящий,
Сразивший меня на смерть, мой бог!
(Эсхил. «Трагедии». Пер. В. Иванов)
ἀπόλλυμι (ἀπ-όλλῡμι) — губить, уничтожать (οἱ ἀπολλύντες Soph. — убийцы);
ἀπώλεια (ἀπ-ώλεια) ἡ разрушение, уничтожение, гибель (ἀ. καὴ φθορά Arst.);
[2] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών — Исцелитель.
К этому присоединилось, наконец, и другое основание величайшей важности: Аполлон должен был перевесить влияние Диониса, бога женщин, потому что был вождем и поборником мужчин; он был на стороне Ореста и отцовской власти против преобладания женских прав и святыни материнства в религиозном сознании народа. Итак, с Аполлоном можно было твердо и законодательно священноначальствовать над всеми племенами и общественными слоями эллинства, ответить запросам эпохи и поработить исконных властительниц дельфийской области — фиад.³ Что дельфийское жречество с политической дальновидностью избрало то богопочитание, которому принадлежало переживаемое время, видно и из того, что другим центрам жречества, отстранившимся от Аполлона, как, например, феспийскому, с его глубочайшим преданием о Ночи и Эросе и культом бога-Быка (Диониса), не удалось достичь всенародного признания. Узурпация же Дионисовых достояний в Аполлонову пользу была легка: кому принадлежит власть очистительная, за тем остается во всем последнее, решающее слово; у него в руках ключи от божественных сокровищниц, он один разрешает и вяжет. Так творился «античный Ватикан».
____________________________
[3] θυϊάς (-άδος)
1) adj. f исступленная, неистовая Plut.;
2) ἡ тиада, неистовствующая вакханка Aesch.
3. Аполлон и Пифия
Изначальный женский культ парнасских фиад и киферонских менад был оргиастическим и человекоубийственным служением той же подземной богине Ночи (Nύξ), которая чтилась и в беотийских Феспиях как один из аспектов Матери-Земли, Геи (Γῆ, дор. Γαῖα). Впрочем, имя этого женского божества в Дельфах едва ли возможно с точностью установить, — божество Стикс (Στύξ, «Ужасный») не было от него по существу различно; к тому же самая природа его требовала или полного безмолвия о нем, или эвфемизмов (как, напр., Eὐφρόνη — ночь, досл. «благосклонная»). Этому культу свойственны были экстатическое пророчествование, ночные радения и почитание змеи; отсюда с незапамятных времен существовало в нем, конечно, и представление о Пифоне. Но от иерогамического змия родится на оргиях фиад (ликнофориях)⁴ младенец. По обретении человекоподобного оргиастического бога служительницы Ночи становятся вакхическими менадами, и Пифон разоблачается им как Дионис.
По схолиасту Пиндара, Дионис раньше Аполлона пришел в Дельфы как провещатель (πρόμαντις) Ночи: через него прорицает богиня Никта (Νύκτα), как после него через Пифона — богиня Фемида (Θέμιδα). Отсюда первые памятные преданию менады в Дельфах: Мелена (Mέλαινα) и Фия (Θυῖα)⁵ — «Черная» и «Обуянная». Последняя знаменует уже пришествие Диониса; первая, более древняя, чем Дионис, представляет исконный культ темной богини.
____________________________
[4] Λικνοφόρια — приношение корзин с первинками плодов на дионисийских празднествах;
[5] Θυῖα, ион. Θυίη ἡ Тия (дочь Кефиса, мать Дельфа (от Аполлона), мифическая учредительница празднеств в честь Диониса) Her.
Сама сила прорицательная принадлежит по-прежнему Ночи; «провещатель» — только голос и глагол ее, язык изрекающий (ἑρμηνεύς, истолкователь). Здесь Аполлон по праву становится на первое место: все изреченное и изрекаемое в его власти более, чем во власти Диониса, который сам слишком глубоко погружен в ночь. Правда, с развитием чисто-аполлонийской идеи это представление вытесняется другим, ближе отвечающим природе и достоинству бога-сына: ему невместно быть только устами Земли или голосом Ночи, он — слово отчее. Так, Алкеев гимн, пересказанный Гимерием, изображает его посланником Зевсовым к эллинам, провозгласителем непреложных Зевсовых уставов, и, по словам Эсхиловой Пифии:
По новой концепции, Пифией овладевает Аполлон уже как начало самобытно-действенное: она говорит то, что внушает ей он, а не божество темных недр. Борьба с древним Пифоном понимается, с этой точки зрения, как преодоление «хаоса» «логосом». Но последовательное проведение этого принципа было невозможно в пределах эллинской религии: он противоречил ее коренным историческим основоположениям.
После экстатических восклицаний Эсхиловой Кассандры (в трагедии «Агамемнон»), кажущихся хору аргивских старейшин бессвязными и непонятными, наступает внезапно мгновение, когда пророческая речь, по словам самой пророчицы, сбрасывает с себя покрывало, под которым она таилась как невеста, и называет вещи и события их именами, определительно, без загадочных намеков и иносказаний: это аполлонийский момент в мантике. Пифия — прорицательница (προφήτης) — осталась в своей глубочайшей и непокорной, недоступной Аполлону сущности голосом Ночи, но подле нее стали жрецы ясного Провещателя, толмачи и истолкователи — ὑποφῆται. Подчинение исступленной вещуньи Аполлону было насильственным: Кассандра, к которой он воспылал страстною любовью, обманывает Локсия посулом женских ласк и не держит обета; за что бог, прежде всего, карает ее тем, что никто не верит ее правдивым вещаниям, — хотя, по изображению Эсхила, самый дар вещания был даром любви влюбленного бога, — а потом приводит ее к плахе, во исполнение неизбежных — однако, именно для дионисийской героини — «страстей» (πάθη). Внутренние противоречия исторического предания поэт преобразил в роковые противоречия трагической участи. То же отношение к Аполлону сквозит и в других мифах.
Пифия, по Пиндару (Pyth. VI, 106), дельфийская «пчела» (μέλισσα), и «пчелы» строят в Дельфах Аполлону чудесный храм, который он переносит к Гипербореям (Paus. X 5, 9); но «пчелами» экстатические женщины могли именоваться только в качестве служительниц Диониса или Артемиды. Sibylla Вергилия, насильственно (stimulis) принуждаемая Фебом пророчествовать — кумcкая (отожествленная с эритрейской) сибилла Меланкрера,⁶ — девственная, т.е. не отдавшаяся Аполлону менада, как о том свидетельствует и ее мрачное имя, и ее «подземный чертог» (θάλαμος κατάγαιος). Ликофрон называет метафорически Кассандру «кларийской, т.е. Аполлоновой, менадой (μιμαλλόνος) и устами Меланкреры». Очевидно, последняя приурочена к Аполлонову культу только после того, как Аполлон овладел всею мантикой. Сказание об аполлонийской пророчице Орфе (Oρφή, имя из круга ночи), на которую Дионис навел свое безумие, также обличает исконно-дионисийскую природу женского вещания «от Аполлона».
Это Аполлоново овладение достоянием Дионисовым сказалось и в мифе о Дафне. Дафна, дочь Земли, исконной обладательницы дельфийского оракула, которая посвящает ее в πρόμαντις, — душа пророчественного лавра, могущего причинять и безумие. Ее природа горной нимфы, вдохновляемой вещею мудростью матери, и ее бегство от преследующего Феба⁷ также указывает на принадлежность ее дионисийскому кругу.
____________________________
[6] Меланкрера — дочь Дардана и Несо, имя кимской (κυμαῖος) сивиллы.
σίβυλλα ἡ сибилла или сивилла (вещунья, пророчица) Arph., Plat., Arst.
[7] Δάφνη ἡ Дафна, нимфа; (спасаясь от преследования влюбленного в нее Аполлона, была превращена в лавровое дерево) Luc.
Пелопоннесская версия мифа выдает нечто большее: первоначально некий преследователь лесной охотницы претерпевает «страсти», став жертвой дев, подруг ее: другими словами, первоначально влюблен в нее не Аполлон, а Дионис. Дионисийское (Актеоново) существо преследователя окончательно обнаруживается переодеванием его в женские одежды (он хочет овладеть дубравной нимфой, охотясь в сонме ее сверстниц, для чего отпускает себе и длинные волосы) и убиением его ножами и копьями. Участие Аполлона в обличении переряженного Левкиппа — черта, придуманная для установления связи между дионисийским и аполлонийским мифом, но отразившая антагонизм обоих божеств. Прибавим, что миф о Дафне естественно перенесен на Аполлона, потому что Дионис мыслится здесь как солнечный бог (как «белоконный», Λεύκιππος, а не «черноконный», Мελάνιππος, Арейон), сообразно с солнечной природой лавра, изгоняющего духов подземного царства.
Отчуждение Артемиды, исконной сопрестольницы Дионисовой и предводительницы женских оргиастических сонмов, в пользу Аполлона, сестрою которого она становится, отразилось в Дельфах тем, что на вершине двуглавого Парнаса, посвященной Дионису, воздвигнуто было (быть может, впрочем, в относительно позднюю эпоху) святилище Дионисово, а на вершине Фебовой — совместное святилище Аполлона и Артемиды. Наконец, говоря об отторжении значительной части сакральной сферы женского экстаза от Диониса и о подчинении ее Аполлону, надлежит вспомнить Муз, увенчивающихся на Геликоне тем самым лавром, который, как мы видели, был унаследован Фебом от Диониса. Музы, образовав хор Аполлона Кифарода (κιθαρῳδός), но сохранив, однако, по местам и свои отдельные культы и празднества, не утратили окончательно своей древнейшей связи с богом оргий, каковая обнаруживается, например, в отношениях Мельпомены к Дионису-Мельпомену. Хор Софокловой «Антигоны», поведав о фракийском Ликурге, как этот дикий нарушитель святыни радений «жен боговдохновенных гнал и угашал огонь святой», продолжает: «и Муз свирельниц прогневил». Музы приравнены здесь к менадам и взяли в руки вакхические флейты вместо Аполлоновых лир. Музы — пестуньи Вакха, по Диодору (IV, 4). Сынами Муз, кроме Орфея, являются дионисийский герой Рес и дионисийский лирник Лин. Дионис на дифирамбическом Наксосе — хоровожатый Муз (Μουσηγέτης). Музы в плющевых венках вокруг Диониса представлены в дельфийском пэане Филодама (IV в). На одном геликонском камне, под посвящением Музе Терпсихоре, читаем:
Сообщение Плутарха, что на празднестве орхоменских Агрионий Дионис объявляется, после тщетных поисков, убежавшим в обители Муз, приоткрывает глубокую старину. Такова же и обмолвка Еврипида о принесении Итиса Прокною в жертву Музам: сладкогласный соловей естественно воспринимается как служитель Муз; но растерзание Итиса издревле дионисийский миф; очевидно, Музы и Дионис мыслятся опять, как в Орхомене, нераздельно.
Эсхил, по-видимому, знает, что до прихода Аполлона в Дельфы священная пустынь принадлежала оргийным сонмам поклонниц Дионисовых. В мифологической истории прорицалища, с которой начинается трагедия «Эвмениды», поэт говорит устами Пифии по поводу Карикийской пещеры на Парнасе как о чем-то, что надлежит держать в памяти:
Итак, Дионис обитает в отведенных ему после дележа угодьях как исконный владелец парнасских нагорий. Что же до поры, предшествующей дележу, Пифия называет только женские божества, владевшие дельфийским ущельем. Эти богини суть: Гея, Фемида (та же Мать-Земля в аспекте религиозно-этическом) и, наконец, Феба (Φοίβη),⁸ сестра Аполлона по позднейшей версии, первоначально — сопрестольница Диониса. Другими словами, Дионис древнее в Дельфах, чем Аполлон; женское же подземное божество древнее самого Диониса. И вместе это значит: от «первовещуньи (πρόμαντις) Геи» до Аполлоновой Пифии культовое господство принадлежало в Дельфах женщине. С эпохи Фебы существует для нее, рядом с великой богиней, еще и мужское, а именно Дионисово, божество.
____________________________
[8] Φοιβάς (-άδος) ἡ жрица Феба, прорицательница Eur.; ex. ἡ Ἄρτεμις φοιβάς Plut. — вещая Артемида.
φοῖβος 3
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) сияющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.).
4. Омфал
Пифоновым гробом слыл дельфийский храмовой «омфал» (ὀμφαλός), яйцевидное каменное сооружение, трижды священное: как средоточие Аполлонова дома, как «пуп земли», известный уже в эпоху Пиндара, и как место очищений. «Свежая скверна (μίασμα) матереубийства, — говорит Эсхилов Орест, — была смыта с меня у Фебова очага (ἑστία) очистительною кровью (καθαρμόι) жертвенной свиньи» (Eum. 282). Живопись на вазах представляет Ореста сидящим у омфала с мечом в руке, Аполлона — держащим над его головой молодую свинью, неподалеку дремлют Эринии. Последние у Эсхила корят бога-очистителя за то, что по его произволу «пуп Земли сделан стоком ужасного проклятия (ἄγος) преступно пролитой крови» (Eum. 166). Омфал Геи аналогичен римскому mundus. — Ныне мы знаем, что омфалами вообще назывались куполообразные своды (θόλοι) гробовых склепов, какие сооружались еще в микенскую эпоху: «пуп» Аполлонова храма был издревле чтимой гробницей некоего хтонического божества. «Гробница же бога», по гениальной догадке Эрвина Роде (Psyche I, S. 130), — «не что иное как пещера, где он живет». Это представление выражает змея, нередко обвивающая омфалы.
Под пророческим жертвенником, находившемся уже в сокровенном святилище (ἄδυτον) храма, был пещерный склеп (ἄντρον), почитаемый, по Филохору (III в.), за гробницу Диониса. Но паломники, по-видимому, смешивали обе могилы — «пупа» и «уст Земли» (στόμα Гῆς). Если один только, и притом ненадежный, свидетель (Татиан) принимает омфал за гроб Диониса, зато и Гигин, и Сервий полагают, что под треножником погребен Пифон. Соглашаясь с Роде, что наиболее достоверная традиция (у Варрона: omphalos Pythonis tumulus, «омфал — могильный камень Пифона») сочетает омфал с Пифоном, а треножник с Дионисом, мы спрашиваем, однако, чем объяснить это смешение: не указывает ли оно на некоторую естественную теократию — темного Пифона с не менее темным Дионисом? О первом не знали наверно, что он за существо; эвгемеризм, самопроизвольно возникающий при попытке объяснения божественных могил, заставлял подозревать в нем страдального ведуна в образе одной из героических ипостасей Дионисовых.⁹
____________________________
[9] Пифон, отец Айкса (Aἴξ), пастырь черных коз (сравн. Διόνυσος Mελάναιγις), был владыкою вещего треножника, когда пришел в Дельфы из Ликии родившийся на Делосе Аполлон и стал пасти стада Пифона: контаминация с мифом о пастушеской службе у Адмета, подтверждающая характеристику Пифона как подземного Диониса. Plut. quaest gr. 12.
αἶξ (αἴξ, αιγός, эп. dat. pl. αἴγεσιν) ἡ козел) Hom., Arst., Plut.
Общераспространенного этиологического мифа, который бы оправдывал существование в Дельфах могилы Семелина сына, не было. К тому же в других местах мысль об омфале роднится по преимуществу с представлением о Дионисе. Ему, по сообщению Павсания, принадлежал во Флиунте древний храм невдалеке от пелопоннесского омфала; там же встречаем целое гнездо дионисийских святынь и связанных с ними легенд об Амфиарае, Ойнее, Геракле; там Амфиарай впервые начал пророчествовать. На вазах IV века с изображением элевсинского омфала Дионис или сидит на нем, или стоит подле. Антиной в том же положении на позднейших элевсинских изображениях понят, очевидно, как «новый Дионис» (νέος Διόνυσος). Правда, на древнейших надписях (πινακίς) Диониса близ омфала нет — быть может, их соотношение в Элевсине еще было «сокровенным» (ἄρρητος), — но самый омфал кажется подражанием Дельфам и вместе коррективом дельфийского культа (поскольку в Элевсине он отдан его правомочному владельцу), если не разоблачением тайного предания дельфийских жрецов Диониса, так называемых ὅσιοι («отшельники»).
Что до Дельфов, самый факт удвоения изначала данной могилы Пифона могилой неопределенного Диониса в смежном святилище обличает потребность различить и вместе сблизить обе таинственные сущности, нераздельно сливающиеся в одном представлении о доаполлоновском, дионисийском по своим корням, но отличном от позднейшей исторической формы Дионисова богопочитания религиозном начале, которому подчинено было некогда дельфийское прорицалище. Орфическое вероучение, оказавшее могущественное влияние на Дельфы еще ранее, быть может, VI столетия, оставляя тайну Пифона нераскрытой и только в обрядовой сфере знаменуя его теснейшую связь с Дионисом, постулировало отдельную гробницу последнего в другом священнейшем месте Дельфов, — под пророческим треножником. О растерзанном Титанами отроке Загрее, предмирном Дионисе, сыне змия — Зевса и змеи — Персефоны, орфики повествовали: или что сердце его было поглощено родителем, или что Афиной Палладой оно погребено было под горою Парнасом, или, наконец, что Аполлон схоронил под той же горой останки божественного младенца. Последняя версия могла послужить наиболее пригодным обоснованием тайнодейственного надгробного культа, имевшего характер «вызывания из мертвых» (ἀνάκλησις), в дельфийском святилище, учрежденного едва ли не впервые именно орфиками.
Символическое признание существенного тождества Пифона с Дионисом, при строгом различении первого как от Диониса-Загрея, так и от сына Семелина, входило, — можно думать, — в состав «неизреченного предания» (ἄρρητος λόγος), хранимого Дионисовыми жрецами храма (ὅσιοι), свершителями мистической жертвы, о которой Плутарх говорит: «дельфийцы верят, что останки Диониса покоятся у них близ прорицалища (т.е. треножника), и жрецы Дионисовы приносят сокровенную жертву в храме Аполлона, когда фиады будят Ликнита», т.е. в ту пору, когда на ночных радениях вакхические женщины, собравшиеся на Парнасе, ищут, вызывают и потом лелеют на голове в колыбели-сите (λίκνον) новорожденного Диониса.
Некая таинственная жертва в пещерных недрах дельфийского святилища принесена была, по Ликофрону, еще Агамемноном, и царь вознагражден был за нее нарочитой милостью Диониса. Последний был почтен Атридом, по-видимому, как бог-бык и вместе «герой» (как ἥρως Διόνυσος Tαύρος, каковое сочетание мы находим в женском культе Элиды); ему, как погребенному богу, совершил Агамемнон свои возлияния, и также Земле и подземным (следовательно, и Пифону). О пра-Быке говорили орфики как о последнем превращении преследуемого Титанами Загрея. В орфическом воззрении, основанном на древнейшем синкретизме териоморфических культов — исконного змеиного культа горных менад и культа критского, перенесенного в Фивах на всенародного Диониса, — между змием и быком устанавливается мистическая связь: бык — солнечная, змий — хтоническая ипостась того же бога; бык в мире живых становится змием в царстве подземном, чтобы снова возродиться быком. Отсюда изречение: «родитель змия — бык, быка родитель — змий». Дионис, в качестве «героя», был змием уже не у одних орфиков, но и в общенародном культе. Иерогамическим атрибутом менад на ликнофориях служила змея; новорожденный Дионис мыслился как ταυρόμορφος. Так развитие Дионисовой религии в Дельфах сближало Пифона с подземным ликом Диониса.
Дельфийское обрядовое действо убиения Пифонова (σεπτήριον), описанное Плутархом, весьма показательно. Пифон предполагается обитателем хижины (καλιάς), что несомненно способствовало укреплению антропоморфического представления о нем как о прадионисийском герое; эта хижина в священном действе (δρώμενα) — то же, что в трагедии первоначальная «куща» (σκηνή). В обитель Пифона, в сопровождении менад, именуемых стародавним минийским именем Ὀλεῖαι, с зажженными светочами в руках, тайком, проникает отрок, изображающий Аполлона. Опрокидывается жертвенный стол, как это делалось в чинопоследовании оргийных таинств; хижина поджигается светочами, возникает смятение, все опрометью бегут из дверей храма. После блужданий и полонения беглеца, над ним совершается уставное очищение. Это страстное действо (μίμησις πάθος), по своему строю и духу всецело дионисийское, восходит древнейшими частями своего состава к обрядам фиад, как и два другие эннаэтерические празднества с их участием — Героида (Ἡρωΐς) и Харила (Χαρίλα), но в целом кажется продуктом литургического творчества орфиков. Печатью их синкретического умозрения отмечено то уподобление Аполлона Дионису, при котором первый почти утрачивает свои отличительные черты и превращается в эпифанию второго как хоровожатого оргий, как Иакха (Ἴακχος) элевсинских мистерий. В римском надгробии из Филиппов мы встречаем сходный образ отрока со светочами в руках, как форму чаемой, согласно орфическим верованиям, дионисийской апофеозы юного покойника в царстве душ:
Итак, новый Дионис действа жречески убивает своего прадионисийского двойника. Дельфийский Аполлон, в понимании орфиков, поистине — «Дионисодот» (Διονυσόδοτος — «дарующий Диониса»), как он именовался в роде флиасийских Ликомидов, хранителей древнейшего орфического предания.
5. Дионисийские прорицалища. Права Диониса.
Некоторый свет на историю дельфийского Аполлонова оракула проливает история оракула в Амфиклее, принадлежавшего Дионису. Описывая этот последний, Павсаний (X. 33:9-10) сообщает местное фокейское предание о змии, от которого город получил название Офитии. Властелин той страны, охраняя от вражеских козней младенца-сына, спрятал его в сосуд (ἀγγεῖον) и укрыл в безопасном месте; волк угрожает дитяти, но змий, обвившись кольцами вокруг сосуда, его оберегает. Пришед однажды навестить дитя, отец видит на сосуде змия, поражает его копьем и убивает одним ударом зараз и змия, и младенца, — но, узнав от пастухов, что змий был верным стражем ребенка, сжигает на общем костре мертвого сына и его доброго пестуна. В Офитии, — продолжает Павсаний, — совершаются оргии Дионису, но кумира на виду нет, ни доступа в тайное святилище (ἄδυτον). Бог прорицает амфиклейцам и врачует недуги положенных в храме больных во время их сна, — провещателем же (πρόμαντις) служит жрец, одержимый богом и изрекающий им внушенное.
Волк легенды (коррелят дельфийского волка) играет по отношению к младенцу роль знакомого нам двойника-преследователя, Лика или Ликурга;¹⁰ культ хтонической змеи, пророчествующей из своего гроба, мы встречаем как по ту сторону Парнаса, в Фивах и других местах Беотии, так и в Дельфах, где имя гробового змия — Пифон. Если в Дельфах оракулом Ночи и Змия овладевает Аполлон и его вторжение задерживает и осложняет естественное развитие прадионисийской формы в дионисийскую, то в Амфиклее мы наблюдаем непосредственное сочетание хтонического и экстатического культа с религией Диониса. Вероятно, что Дионис, обретший свой общеэллинский лик и свое общеэллинское имя, был лишь позднее соединен с этим исконным культом, когда же это соединение произошло, прадионисийский змий в Амфиклее отожествлен был с Дионисом. Схороненный в сосуде младенец есть погребенный Дионис, он же и змий: убивая змия, отец убивает ребенка; костер младенца — костер змия. Сокровенное святилище заключает в себе гроб змия и младенца вместе. Над гробом совершаются таинства Ночи и страдающего бога-младенца в его страстнόм лике, змия — в лике бога живого в сени смертной. Смыкающим звеном между эпохой Ночи и Змия и эпохой нового Диониса служит возникновение мифического представления о божественном младенце, разоблачение змия как новорожденного человекоподобного бога.
____________________________
[10] λύκος ὁ волк (πολιός, ὠμοφάγος Hom.).
Λύκος ὁ Лик, сын афинского царя Пандиона, миф. родоначальник ликийцев Her.
Λυκοῦργος ὁ Ликург, сын Дрианта, царь племени эдонян во Фракии. Ликург прогнал из своего царства Диониса, убив его кормилиц, за что был ослеплен Зевсом. (Гомер. Илиада VI, 130)
Амфиклейский оракул сосредоточивает в одном фокусе разрозненные указания, относящиеся к дельфийскому, и не оставляет сомнения в правильности проводимого взгляда на религиозно-историческую эволюцию последнего от Пифона к Дионису, остановить которую Аполлоново начало было бессильно и в результате которой Аполлонов оракул по существу стал дионисийским оракулом. Рассмотрим аналогичный случай дележа божественных братьев на почве другого древнего прорицалища. Аполлон пифийский Сотер (Σωτήρ), или спаситель (ἐπίκλησις хтонического бога), в Амбракии несомненно занял место первоначального Диониса, усвоив себе его черты, приняв его темный облик. Оттого слывет он родителем Меланея (черного), отца Дриопов; Меланей — основатель дионисийской Эретрии (Ἐρέτρια), стрелок сам и отец стрелка Эврита. И характер имен, и мотив охоты сближают этих героев с Дионисом-Загреем, диким охотником. Что прежде хтонического Аполлона чтился в Амбракии Дионис и притом в своем древнем мрачном аспекте, очевидно и из уцелевшего с той поры двойного культа Дионисовой сопрестольницы Артемиды, как Гегемоны и Агротеры; последнее имя прямо указывает на кровавые оргии и человеческие жертвы.¹¹ Пример Амбракии свидетельствует, между прочим, в пользу древности мистической теократии двуединого дельфийского Диониса-Аполлона.
____________________________
[11] В.Иванов, видимо, намекает на то, что этимология слова ἀγροτέρα (охотница) связана не столько со словом ἀγρός (сельская местность), сколько со словом ἄγριος (дикий, жестокий).
ἀγροτέρα ἡ охотница (эпитет Артемиды) Pind., Xen.
ἀγρότειρα adj. f деревенская, сельская (αὐλή Eur.).
ἄγριος 1) дикий; 2) жестокий, свирепый, лютый, злой; 3) неукротимый, необузданный, грубый; 4) мучительный, тяжелый; 5) бурный, ужасный.
θήρα, ион. θήρη ἡ охота, звероловство; ex. ζῆν ἀπὸ θήρας Arst. — жить охотой; αἱ τῶν ἰχθύων θῆραι
Нормальность эволюции прадионисийского оракула Земли в оракул Диониса подтверждается, наконец, и примером мегарского «прорицалища Ночи» (Νυκτός καλούμενον μαντείον) в непосредственном соседстве храма Диониса ночного (Nυκτέλιος). Дельфийский оракул ничем не отличается, в принципе своей организации, от фракийских Дионисовых оракулов, славившихся еще в римскую эпоху: в них одинаково пророчествовали пифии, окруженные жрецами — «пророками», или «провозвестителями» (προφῆται). Спрашивается, однако: была ли эта эволюция в самом начале прервана в Дельфах пришествием Аполлона, так что Дионису довелось впоследствии как бы сызнова завоевывать то, что естественно переходило к нему в наследственное владение от первопророчицы Геи, из чего следовало бы, что он является там пришельцем извне и притом позднейшим, нежели Аполлон, — или же в ходе этой эволюции Дионисово numen («обличие») настолько определилось еще до Аполлона, что последний мог утвердить свое господство только ценою частичного ему уподобления, чтобы, как только numen нашло свое nomen («имя»), признать его автохтонным и правомочным своим предшественником и общником захваченной державы?
За Аполлоново старшинство высказывается с оговорками Эрвин Роде. «Дионис был первым пророком в Дельфах, по схолиасту Пиндара», — напоминает он и продолжает: «наследником Дионисова пророчествования признает Аполлона и Войт (Voigt), но этот исследователь отожествляет Диониса с Пифоном, что едва ли может быть оправдано.
Я думаю, что по упразднении хтонического оракула, прорицавшего при посредстве сновидений, Аполлон заимствовал из дионисийской мантики неведомый ему дотоле способ дивинации в экстазе (furor divinus). Но кто возьмется дать ясный и доказательный ответ на вопрос о том, как именно в результате многоразличных сдвигов и сочетаний сменявших одна другую сил, во всеми оспариваемом центре эллинской религии воспреобладал, наконец, сложный и многосоставный культ Аполлона?». Гиллер фон Гертринген (Hiller v. Gaertringen), следуя Роде, находит, что, если Гея и Посейдон в Дельфах несомненно древнее Аполлона, то Дионис, напротив, моложе его, но столь могущественно было влияние нового пришельца, что произвело коренное изменение в Аполлоновой мантике: отменены были принесенные критскими «оргеонами» пифийского гимна гадания по жребиям и по шелесту священного лавра, и дионисийская пифия воссела на пророчественный треножник. Вместе с тем названный ученый отмечает древность связанных с фиадами празднеств, справляемых по старому календарю эпохи мифической.
Мы, со своей стороны, принимаем без колебаний второе решение выше поставленной дилеммы, не утверждая этим, однако, что Дионисово имя прозвучало в Дельфах раньше Аполлонова имени. Напротив, безыменность рождающегося в культе фиад бога и была условием Аполлонова воцарения в образе чаемого Диониса. Критские «оргеоны» со своим прадионисийским тотемом дельфина, жрецы-очистители и пророки-сновидцы, столкнулись в Дельфах с фиадами-пифиями, увенчанными вещим лавром, оргиастическими служительницами темной Геи и подземного змия, вызывательницами из могильных недр неведомого бога, младенца ли, или «жениха, нового солнца». Это соединение прадионисийского критского культа с религией менад дает впервые полный состав Дионисовой религии, — когда менады знают лик и имя родившегося младенца. Но Дионис еще не родился на их оргиях, когда пришли критские оргеоны, и потому чужой и юный бог должен был занять праздный престол и, занимая его, по возможности ответить ожиданиям его призвавших. Он делается Дафнефором, Дельфинием, пифийским прорицателем, приводящим furor divinus. Когда Дионис родится, он станет уже только Аполлоновым сопрестольником, каковым никогда бы стать не мог, если б издавна не был владыкою Дельфов, как пра-Дионис. Решающее значение в этом споре имеет, на наш взгляд, ответ на вопрос: искони ли прорицала пифия? Мы отвечаем: да, она и была изначала устами Земли (στόμα Гῆς). Критяне гимна были первыми жрецами, ставшими между нею и народом, истолкователями ее темных вещаний (ὑποφεταί), усмирителями ее исступления и ограничителями ее влияния. Это ограничение было единственным существенным нововведением Аполлоновой эры. Ибо менады древнее Диониса, что очевидно ускользает от Роде, когда он говорит, что у Диониса заимствовал Аполлон экстатическое прорицание; между тем пифия, им порабощенная, была еще прадионисийской пифией.
Из умолчания о пифии в гекзаметрах гимна к пифийскому Аполлону мы отнюдь не заключаем вместе с другими исследователями, что ее не было, но что тенденция составителей гимна побуждала их изображать события так, как будто бы ее не было. Гимн представляется нам памятником борьбы нового жреческого влияния с исконным укладом оргиастического культа, основанного на женском пророчествовании и почитании женского божества с его мужским прадионисийским коррелятом. Пришелец Аполлон, по свидетельству гимна, вступая в свое новое владение, проходит между рядами треножников: не предполагается ли этим существование пифийского треножника? Дионисийским одушевлением охвачены крисейские жены и девы, подымающие при виде света от очага Аполлонова священный вопль (ὀλόλυξαν). Бог начинает пророчествовать «из лавра» (ἐκ δάφνης), в котором выше мы усмотрели исконное достояние менад. Он принимает культовое наименование Тельфуса (Τελφοῦσα) — «в память о том, что струи постыдил Тельфусы священной»: рассказ гимна о гневе Аполлона на речную нимфу беотийской горы, по нашему мнению, не что иное, как мифологическое воспоминание о сопротивлении и насильственном подчинении новому закону местных прадионисийских менад. Мифическая проекция таковых (как будет показано ниже) — Эринии: нам понятны отсюда и вражда «старших богинь» к Аполлону вообще, та давняя обида на «юного всадника, растоптавшего стариц», которой не могут забыть ему Эсхиловы Эвмениды, — и, применительно к данному частному случаю, наличность в их сонме эринии Тельфусы.
Аполлоново господство не вносит в приемы дивинации ничего нового. Инкубация была употребительна во фракийских прорицалищах Диониса и, хотя вообще согласуется с духом критского ведовства (ведь «оргеоны» гимна были соотечественниками Эпименида), но, по Еврипиду, Аполлон сам же отменяет ее, как остаток владычества Геи. Что касается «жребиев», этот не определительный для Дельфов и в них не укоренившийся способ гадания скорее предполагает участие вещих женщин, нежели его исключает. Жребии олицетворены в трех доаполлоновских парнасских крылатых сестрах Фриях (Θριαί), «учительницах гадания» (μαντείης δάσκαλοι) и «пестуньях Аполлона», причем образ пестуний очевидно заимствован у дионисийского мифа, восходящего в свою очередь к обряду менад. И стих — «жребии мечущих много, но мало гадателей верных» — недаром сложен, по преданию, пифией; впрочем, это только переделка знаменитого изречения: «много тирсы носящих, но истинных вакхов не много». Так мы не находим ни одного довода, который бы мог поколебать в нас уверенность в первобытной древности женского оргиазма как исконной колыбели дельфийской религии.
6. Дележ и союз
Приведем, для выяснения древнейших отношений между дельфийскими братьями, несколько других примеров, показывающих рост культового круга, объединенного Аполлоновым именем, на счет безыменного дионисийского. Марон, по Гомеру (Одисс. IX, 197) — Аполлонов жрец виночерпий; когда Дионис провозглашен единым владыкой божественного дара лозы виноградной, — он воссоединяется с Дионисом.¹²
В области геортологической, древнейшие Фаргелии, сопряженные с прадионисийскими человеческими жертвами, перешли навсегда в праздничный круг Аполлона очистителя. Сминфии (Σμίνθια), мышиный праздник (σμίνθος = αρουραίος, «крыса»), этиологически объясняемый истреблением мышей, вредящих виноградникам, правились на Родосе, по надписям, в честь Диониса, по позднейшим сообщениям — в честь Аполлона и Диониса как предполагаемых истребителей;¹³ так как культ Сминфея (Σμίνθειος или Σμινθεύς) связан с мантикой (мышь — ζώον μαντικώτατον) и происхождение его, по-видимому, критское, то закрепление его за Аполлоном в Троаде, чему древнейшим свидетельством служит I песнь Илиады, представляет собою аналог утверждению власти Аполлона как прорицателя в прадионисийских Дельфах.
Мусическое соперничество дельфийских братьев составило бы предмет отдельного и обширного исследования; в дополнение к вышесказанному о музах, любопытно бросить взгляд на историю мифа о Лине. Проблемой религиозного мифотворчества встал вопрос о том, которому из божественных братьев-соперников приписать одно из древнейших преданий хоровой лирики — λίνος («лин»), народный плач (φρενός) по некоему умершему богу того же имени (Λίνος).
____________________________
[12] Марон почитается как дионисийский герой вместе с Зевсом и Дионисом в Маронее и составляет предмет героического культа в Писидии. (Preller-Robert, gr. Mythol., S. 731).
[13] «Επίθετον Απόλλωνος, κατά τον Αρίσταρχον από πόλεως Τρωικής Σμίνθης καλουμένης. Ο δε Απίων από των μυών, οί σμίνθοι καλούνται. Και εν Ρόδω Σμίνθεια εορτή, ότι των μυών ποτε λυμαινομένων τον καρπόν των αμπελώνων Απόλλων και Διόνυσος διέφθειραν τους μύας.»
Как олицетворение «страстей», страстотерпец Лин принадлежал Дионису. Его имя — припев каждого страстного обряда (παντός πάθους παρενθήκη). В остатках гесиодовской поэзии находим такой гимнический отрывок (fr. 192 Bz):
Но так как плачи и хороводы во имя Лина требовали лирного сопровождения, то неоспоримы были права Аполлона Кифарода на это мифическое лицо, столь неопределенное, что в аргивском предании оно является младенцем, разорванным овчарками, а в фиванском — «божественным мужем-лирником», состязавшимся с Аполлоном и приявшим смерть от ревности бога, между тем как у Гомера Лин — погибший прекрасный отрок, и Сапфо воспевает его вместе с Адонисом (под именем Этолин (Οἰτολίνου), «обреченный на смерть Лин»; Павсаний IX, 29:8), в позднее же время ему приписывается апокрифическое повествование о подвигах Диониса. В фиванской традиции характерны тесное сближение Лина с Музами (черта, доаполлоновская) и пещерный героический культ (Павсаний IX, 29:6). Предание Аргоса сплетено с легендой о Коребе (Κόροιβος). По растерзании младенца Лина (пра-Диониса младенца) хтоническими собаками, наслано Аполлоном на Аргос чудовище, вырывающее детей из материнской утробы. Кореб убивает его и, чтобы очиститься от крови, идет в Дельфы. Пифия повелевает ему взять на плечи треножник и нести его, доколе он не упадет под ношей, а где упадет — воздвигнуть святилище Аполлону. Так основан был Коребом город Треножников (Τριποδίσκοι) в Мегариде; гробница героя была предметом почитания в Мегаре. Устраняя из рассказа черты дельфийской переработки, открываем в основе его факт оргиастического детоубийства, воспоминание о котором связалось с простонародными обрядами плача по Лину и с причитаниями, подражание коим находим в припеве Эсхилова хора, вспоминающего жертвоприношение Ифигении: «плач сотворите, но благо да верх одержит». Предание о страстнόм герое использовано Дельфами в целях искоренения дикого оргиазма и насаждения гармонической религии двуединого дельфийского божества, знаменуемой треножником, символом светлого Феба, вещей Земли и погребенного Диониса.
Мистическое слияние братьев-соперников в двуипостасное единство было намечено дельфийским жречеством в экзотерической форме внешних доказательств нерушимого союза и особенно в форме обмена священными атрибутами и знаками соответствующих божественных энергий. Задолго до Филодама, Аполлон — уже у Эсхила (fr. 341 Nauck) — «плющеносец и вакх» (ὁ κισσέως Ἀπόλλων, ὁ βακχέως, ὁ μάντις). На керченской вазе оба юных бога подают друг другу руки под дельфийской Аполлоновой пальмой, над «пупом земли». Отсюда и культовое сочетание Диониса с Асклепием: возникает Дионис — «врач, Пеоний, целитель» (ἰατρός, Παιώνιος, ὑγιάτης). Дельфийский оракул заповедует чтить его как «врачевателя». Впрочем, в этом качестве он был издавна известен в Амфиклее; Меламп, в свою очередь, олицетворяет дионисийскую медицину. Герой страстей, Асклепий, исцелитель дионисийских Пройтид (рядом с Мелампом) не теряет однако своего отца Аполлона, но получает в воспитатели Диониса.
Прямое провозглашение дельфийской теократии, если не видеть таковой, например, в культовом «пэане» Дионису поэта Филодама, известном по надписи IV века, где припев «εὐοῖ ὦ ἰό Βάκχ» (О, благой Вакх!) сменяется аполлонийским «ἰέ Παιάν» (О, Избавитель!), — мы находим лишь в позднюю эпоху, когда никакая теократия уже никого не удивляет. О Парнасе поет Лукан:
Ритор Менандр так обращается к многоименному богу вдохновенных восторгов: «Дионисом зовут тебя фиванцы, дельфийцы же чтут двойным именем: Аполлон и Дионис. Вокруг тебя дикие звери (дельфийский волк и вакхическая пантера), вокруг тебя фиады, от тебя и луна приемлет лучи (разумеется прадионисийская сопрестольница и Аполлонова сестра, Артемида)». Но и по словам Павсания парнасские фиады творят радения на вершинах горы совокупно Дионису и Аполлону.
7. Παλίντονος ἁρμονίη ¹⁴
Утвержденная в Дельфах идея божественного двуединства Аполлона и Диониса вошла в плоть и кровь эллинства. Что же такое был этот союз в конечном счете? Религиозно-политический компромисс? Несомненно, но без дурного умысла и лицемерного расчета. Напротив, в основе его лежало мистическое утверждение некоей в божестве установленной антиномии. Гармония, которую созерцать дано богам и осуществлять предоставлено людям, была, конечно, не осуществлена, но все же ознаменована, и жизнь отлилась в формы этого ознаменования: это было кумиротворчество гармонии, ее εἴδωλον (образ) и как бы зеркальное отражение. Отсюда «эстетический феномен» античности. Дионис поистине лежал погребенным под дельфийским порогом; и когда воскресал — воскресал с душами, которых выпускал из темных врат, и в душах, которыми овладевал, и они видели, отторгнутые от земли, слепительные епифании духа. Но на земле ему не было места, где преклонить голову; его только непрестанно и пышно отпевали, и восхищаться им любили понаслышке, не зазывая к себе в слишком близкое соседство: его демоническое веселье было опасно, как огонь в доме. Даже в художестве гениальная непредвиденность (не все же были Эсхилы, чтобы лепить «во хмелю» титанов) была слишком ненадежна, и потому к ней приставлен был для надзора аполлонийский канон.
____________________________
[14] παλίντονος ἁρμονίη — напряженная гармония (παλίντονος ἁρμονίη κόσμου ὥσπερ λύρης καὴ τόξου — мировая гармония, в которой, подобно лире и луку, напряжение чередуется с ослаблением. Heracl. ap. Plut.)
Дионис был не от сего мира. Он хотел божественной жизни и делал ее действительно божественной, как только к ней прикасался: чудесно воспламенялась она тогда и, как вспыхнувшая бабочка, превращалась в пепел. Многие эллины — и это были лучшие в эллинстве — думали, как Гёте, который славил «живое, тоскующее по огненной смерти»; но большинство, предпочитая менее сильные ощущения превращаемости, выработали особенное и как бы дипломатическое отношение к Дионису, которое издавна обманывает научившихся по-гречески анахарсисов, не догадывающихся, что большая часть античных суждений о Вакхе — осторожное лукавство и лишь притворство напускной беспечности, и вообще сдержанность, предписываемая часто простым тактом. Решительно, слишком многого не следовало касаться, произнося Дионисово имя, которое было, однако, неизбежно у всех на устах. Дионис и жизнь — это было опасное сочетание, напоминающее любовь Семелы. Когда Дионис выступал законодателем, он требовал невозможного, которое единственно ему по нраву: к политической деятельности он был явно неспособен. Все божества олицетворяют закон; все они — законодатели, и закономерны сами. Один Дионис провозглашал и осуществлял свободу. Отрицание закона, противоположение ему свободы есть в дионисийском античном идеале черта христиански-новозаветная. Ибо Дионис-освободитель не мятежен и не горд, и так нисходит к людям, как к своим кровным, и так же восходит к отцу, в котором пребывает: ведь Зевс и Дионис, по коренному воззрению эллинов, одна сущность, даже до временного или местного слияния самих обличий.
Дельфийское определение сыновнего лика дало как бы химическую формулу души эллинства. Именно таково ее «смешение» (κρᾶσις): два жизнетворческих начала соединились в ней — Дионис и Аполлон. Но как различна была судьба обоих! На долю «бога», только «бога», выпало вселенское, но не божественное — мы бы сказали, архангельское — посланничество: завершить в идее, осуществить в полноте явления и довести до исторических пределов поприща во славе — античную культуру, во всем полновесном значении этого огромного слова, — потом же просиять и застыть в уже бездушном отражении далеким и гордым «идолом» золото-эфирной гармонии, чистым символом совершенной формы. А Дионису, богу нисхождения и потому уже скорее «герою», чем «богу», на роду написаны вечно обновляющаяся страстнáя смерть и божественное восстание из гроба. Дионисийство, погребенное древностью, возродилось — не на одно ли мгновенье? — в новозаветности, и все видели Диониса с тирсом-крестом. Потом он куда-то исчез; есть племена, мисты коих верят, что он все где-то скрывается и его можно найти, — там, где всего менее ждешь его встретить. Во всяком случае, то его возрождение в дни «умершего Пана» было реально, а потому и не формально, т.е. не в старых формах, а в новой маске. Ибо реальности, почитаемые божественными, на самом деле только «героические», т.е. страстные ипостаси единого Ens realissimum; те же, что не страдают, — не реальности, «сущие воистину», а только отражения божественных идей, вечно-сущих форм становящегося бытия.
_______________________________
ДИОНИС В ЛУЧЕВОЙ КОРОНЕ

Антиох VI Дионис Эпифан (145-142 до н.э.). Сирия (Государство Селевкидов). Æ 22mm (8.40g).
Av: голова Антиоха VI в образе Диониса, в венке из плюща и лучевой короне;
Rv: слон держит хоботом факел; BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY EПIФANOYΣ ΔIONYΣOY / ΣTA
_______________________________

Родос (Ῥόδος), Кария. Æ 35mm (19.83g), I в. н.э. Магистрат Тимострат.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: цветок розы; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY (ταμία Τειμοστράτου).
_______________________________

Родос, Кария. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. Магистрат Гипсикл.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылатая Ника стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / ΕΠΙ ΥΨΙΚΛΗΟΥC
_______________________________
_
Родос, Кария. Æ 34mm (20.26g), I в. н.э. Магистрат Тимострат.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: цветок розы; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY
_______________________________

Родос, Кария. Драхма (Æ 35mm, 26.42g), I в. н.э. Магистрат Тимострат.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылатая Ника с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY
_______________________________

Родос, Кария. Драхма (Æ 35mm, 25.58g), 31 до н.э. – 60 н.э. Магистрат Дамарат.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылатая Ника с пальмовой ветвью и лавровым венком; POΔIΩN / EПI TAMIA ΔAMAPATOY (ἐπί ταμία Δαμάρατου).
_______________________________
ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
II. ДЕЛЬФИЙСКИЕ БРАТЬЯ
1. Змий и змиеубийца
Аполлон овладевает дельфийским прорицалищем чрез убиение его стража (φύλαξ, φρουρός) и обладателя, хтонического змия — Пифона (Πύθων). Под чудовищной личиной «вещего» (от πεύθομαι), как обычно понималось это имя, дракона (μαντικόν δαιμόνιον, по Гесихию), или — по Гомеридам — смрадный (от πύθω — гнить), вредоносной змеи (δράκαινα) нелегко распознать затемненные, уже в гомерическом гимне пифийскому Аполлону, черты дельфийского пра-Диониса.
Змиеубийца, согласно закону мистических отношений между вакхом-жрецом и Дионисом жертвенным, исполнился духом последнего: с той поры стал он вещуном и гадателем. Но в круге дионисийских представлений ипостась жреческая столь же причастна божественным «страстям», как и ипостась жертвенная: Аполлон, поскольку он введен в этот круг, должен усвоить себе нечто от антиномической сущности страдающего бога. Светозарный олимпиец, отвращающийся, по слову Эсхила, от плачевных обрядов и всего имеющего отношение к сфере подземной с ее «скверной» (μίασμα), должен соприкоснуться с миром загробным, им «оскверниться» (μιαίνεσθαι) и потом от него же «очиститься». Те, кто не знали об этом приобщении Аполлона подземной сфере, знали, тем не менее, об его очищении от драконовой крови, хотя достаточно обосновать необходимость такового не могли; оттого, быть может, так и настаивают Гомериды на мотиве «тлетворного духа», — он был бы сам по себе μίασμα.
Логика культа была неумолима: оставалось только сделать ее следствия по возможности непроницаемыми для непосвященных. Аполлон нисходит в Аид, что экзотерически изображается как его плен и кабала у Адмета (Ἄδμητος, «необоримый» — эпитет Аида). Пиндар знает, что за насильственное овладение дельфийским оракулом Гея искала низринуть Аполлона в Тартар. Братоубийство не разделило братьев. Дионис не гневается на своих трагических убийц, — он в них вселяется. Пифону же должно было умереть, чтобы, исполнив свою страстную участь, вернуться к эллинам преображенным и новым.
Что Пифон не чудовище, уничтожение коего — заслуга героя или бога (как изображает это деяние упомянутый гимн VI или конца VII века), явствует из религиозных почестей, Змию присужденных, из почитания его гробницы, как и из очистительного возмездия, понесенного убийцей. Плутарх, говоря о «великих страстях божеств, или демонов (δαιμόνων πάθη μεγάλα)», сообщает дельфийское эзотерическое толкование Аполлоновой кары: не девять кратких земных лет (ἐννεάτηρις, по сакральному летоисчислению, фактически — восемь) должен был провести бог опальным изгнанником в Темпейской долине, но на девять великих годов (космических периодов) сошел он в иной мир, дабы, смертью смыв с себя проклятие (ἄγος), вернуться потом на лицо земли воистину Фебом (αληθώς Φοίβος), т.е. светлым и непорочным, и воцариться над прорицалищем, коим дотоле временно правила Фемида.
Эта поздняя мистика восходит в основе своей к исконному дельфийскому преданию, преломившемуся через призму раннего орфизма, влияние которого на Дельфы узнается по многочисленным следам. Основное в ней — взгляд на смерть Пифона как на божественные страсти и представление о страстнόм сошествии Аполлона в подземное царство. Овладение пророчественным даром земли, прорицалищем недр земных (μαντεῖον χθόνιον) обусловлено было для пра-Дионисова преемника частичным уподоблением, ассимиляцией Дионису как «богу-герою», т.е. богу, претерпевающему страдание и смерть. Такова предпосылка того теснейшего единения между дельфийскими братьями-сопрестольниками, которое в религии Дельфов равносильно признанию обоих двумя сторонами, лицами или ипостасями единой божественной силы.
2. Причины Фебова овладения Дельфийским оракулом. Бог-очиститель.
Борьба и примирение дельфийских братьев — основное событие, обусловившее расцвет классической Эллады. Почему Дельфам нужно было именно это культовое соединение? И если дионисийский элемент был там изначала дан, почему нельзя было ограничиться развитием его одного, и потребовалось сделать столько уступок Аполлону? Уступки же эти таковы, что поистине образование дельфийской религии кажется делом искусственным, плодом сознательной религиозной политики, клонившейся к возвеличению делийца насчет умаленного и обедненного Диониса. Каким целям служило это возвеличение, и как возможно было это обеднение?
Ответ на последний вопрос непосредственно вытекает из того обстоятельства, что дионисийство, уже полное своеобразного содержания, было еще только прадионисийством и, как бы чреватое богом, в себе его вынашивало, в то время как, обратно, религия Аполлона, еще нуждавшаяся в ближайшем определении своего божества, умела, тем не менее, призывать его по имени и живо представляла себе его устойчивый, как бы вычерченный из света облик. На вопрос же о целесообразности Аполлонова прославления и обогащения можно ответить в самой общей форме так: идея дионисийской беспредельности, чтобы стать вполне конкретной и действенной, требовала «своего другого», — противоположения тому и взаимодействия с тем, что именно не есть Дионис.
И прежде всего Аполлон был нужен как его восполнитель, потому что представлял собой силу порядка очистительного. Страстное, «патетическое» состояние нуждается, помимо того катартического исхода, который оно, при известных благоприятных условиях, обретает в себе самом, еще и в катартике внешней. Разнуздание дионисийских сил не только грозило гибелью, как личностям, так и общественным группам, но и с формально-религиозной точки зрения требовало посторонних очищений. Приходилось считаться не с теми уже упорядоченными явлениями давно устроенного культа, знакомыми нам из эпохи более поздней, которые сами по себе преследуют цели внутреннего разрешения аффектов; дело шло, напротив, о стихийных вспышках разрушительного огня, о бурях неукрощенного древнего хаоса, об аномалиях сознания и слепом нарушении творимых гражданственностью норм общественного уклада и душевной гигиены. Дионисийство бессильно было развить из себя начала этические; оно не имело в себе и неподвижности, необходимой для обоснования религиозного авторитета. Строить на нем как на некоем камне было нельзя; а Дельфы задумали великое строительство.
Во чье же имя надлежало им его предпринять? Не во имя ли того, кто сам еще не имел имени? Но от Диониса можно было только пророчествовать, а не законодательствовать. А между тем в двери святилища уже стучался обуянный Эриниями Орест. Нужны были — властный глагол, скрижаль непреложная, сильная и уверенная защита кого-то строгого, чуждого и светлого, кто, по слову старцев в Эсхиловом «Агамемноне» о Локсии, «уходит от плача» и чуждается всякого безмерного, особенно меланхолического возбуждения, кто повелительно требует от своих поклонников самообладания и душевного равновесия, кто, став однажды заступником, «не выдаст и не изменит», как говорит о том же Аполлоне Эсхилов Орест. Кто он, в длинных спокойных складках белой одежды, сильный убелить одежду молящегося, хотя бы она была забрызгана кровью, и зачурать его своим светом от порождений мрака, успокоить ропот мертвых и вернуть живого живым, оградив его от слишком ощутительных влияний царства подземного? Таким избавителем и исцелителем отчасти уже был, отчасти мог стать один — Феб-Аполлон.
Гомерический проэмий (προοίμιον, прелюдия) к Аполлону пифийскому — историческое свидетельство: древнейшая организация дельфийского святилища определяется влиянием Крита. Бык, культ которого сохранился в Дельфах, и дельфин, присвояемый Аполлоном стародавний символ островной прадионисийской религии, подтверждают повествование Гомеридов. Критяне были великими «очистителями», как о том свидетельствует легенда о Хрисофемиде или знаменитый пример позднейшего Эпименида. Итак, казалось бы, достаточно было критского воздействия, чтобы развить в Дельфах из исконно местного оргиазма систему очищений, составлявшую потребность времени. Тем не менее, ни божество идейского Зевса, ни божество самого Диониса не могло послужить краеугольным камнем созидаемого оракула. Эпоха додонского Зевса была пережита; новая концепция всевышнего отца не закончена; критский Зевс непонятен эллинству; едва намечающийся Дионис неустойчив и опасен. Возможно и вероятно, что критяне посредствовали между Дельфами и делийским богом, ибо уже раньше были религиозными устроителями Делоса.
Сила имени Аполлонова была испытана. Недаром малоазийские аэды (ἀοιδός, певцы) его избрали своим покровителем: он оказался могущественным и грозным защитником, этически нормативной духовной властью, снискавшей всеобщее признание, — богом междуплеменным и сверхнародным, а потому и общенациональным преимущественно перед коренными божествами старинной родины, — богом, наконец, более формальным, так сказать, по своей идейной сущности, нежели содержательным, легко вмещающим новое содержание, требующим раскрытия заложенных в его первообразе возможностей и потому в общине певцов охотно обменявшим звучный лук на кифару Гермия, которой изобретатель не дорожил. Аполлону можно было придать ряд новых атрибутов и, прежде всего, отдать в его ведение мантику, собственность дионисийских женщин, от коих жречество должно было стать по возможности независимым. Страшный и светлый, Аполлон-губитель¹ был вместе и целителем, Пеаном.² Древнейшие староотеческие пеаны были перенесены малоазийскими поселенцами на бога из страны света, Ликии: он сам стал Пеан. Это обстоятельство имело решающее значение; народ, в своей наиболее предприимчивой и передовой части, в лице заморских колонистов, давно забывших хтонические и героические предания и призраки, связанные с могилами старой родины, — обрел искомого «очистителя»; Эфиопида уже знает очищения от пролитой крови.
____________________________
[1] Губительные свойства Аполлона происходят от созвучия его имени (Ἀπόλλω) с ἀπολλύω. Эсхил в «Трагедиях», в отношение Аполлона (устами Кассандры), употребляет слово ἐπόλλων, т.е. «губящий», что так же несет в себе созвучие с его именем.
Путей страж разящий,
Сразивший меня на смерть, мой бог!
(Эсхил. «Трагедии». Пер. В. Иванов)
ἀπόλλυμι (ἀπ-όλλῡμι) — губить, уничтожать (οἱ ἀπολλύντες Soph. — убийцы);
ἀπώλεια (ἀπ-ώλεια) ἡ разрушение, уничтожение, гибель (ἀ. καὴ φθορά Arst.);
[2] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών — Исцелитель.
К этому присоединилось, наконец, и другое основание величайшей важности: Аполлон должен был перевесить влияние Диониса, бога женщин, потому что был вождем и поборником мужчин; он был на стороне Ореста и отцовской власти против преобладания женских прав и святыни материнства в религиозном сознании народа. Итак, с Аполлоном можно было твердо и законодательно священноначальствовать над всеми племенами и общественными слоями эллинства, ответить запросам эпохи и поработить исконных властительниц дельфийской области — фиад.³ Что дельфийское жречество с политической дальновидностью избрало то богопочитание, которому принадлежало переживаемое время, видно и из того, что другим центрам жречества, отстранившимся от Аполлона, как, например, феспийскому, с его глубочайшим преданием о Ночи и Эросе и культом бога-Быка (Диониса), не удалось достичь всенародного признания. Узурпация же Дионисовых достояний в Аполлонову пользу была легка: кому принадлежит власть очистительная, за тем остается во всем последнее, решающее слово; у него в руках ключи от божественных сокровищниц, он один разрешает и вяжет. Так творился «античный Ватикан».
____________________________
[3] θυϊάς (-άδος)
1) adj. f исступленная, неистовая Plut.;
2) ἡ тиада, неистовствующая вакханка Aesch.
3. Аполлон и Пифия
Изначальный женский культ парнасских фиад и киферонских менад был оргиастическим и человекоубийственным служением той же подземной богине Ночи (Nύξ), которая чтилась и в беотийских Феспиях как один из аспектов Матери-Земли, Геи (Γῆ, дор. Γαῖα). Впрочем, имя этого женского божества в Дельфах едва ли возможно с точностью установить, — божество Стикс (Στύξ, «Ужасный») не было от него по существу различно; к тому же самая природа его требовала или полного безмолвия о нем, или эвфемизмов (как, напр., Eὐφρόνη — ночь, досл. «благосклонная»). Этому культу свойственны были экстатическое пророчествование, ночные радения и почитание змеи; отсюда с незапамятных времен существовало в нем, конечно, и представление о Пифоне. Но от иерогамического змия родится на оргиях фиад (ликнофориях)⁴ младенец. По обретении человекоподобного оргиастического бога служительницы Ночи становятся вакхическими менадами, и Пифон разоблачается им как Дионис.
По схолиасту Пиндара, Дионис раньше Аполлона пришел в Дельфы как провещатель (πρόμαντις) Ночи: через него прорицает богиня Никта (Νύκτα), как после него через Пифона — богиня Фемида (Θέμιδα). Отсюда первые памятные преданию менады в Дельфах: Мелена (Mέλαινα) и Фия (Θυῖα)⁵ — «Черная» и «Обуянная». Последняя знаменует уже пришествие Диониса; первая, более древняя, чем Дионис, представляет исконный культ темной богини.
____________________________
[4] Λικνοφόρια — приношение корзин с первинками плодов на дионисийских празднествах;
[5] Θυῖα, ион. Θυίη ἡ Тия (дочь Кефиса, мать Дельфа (от Аполлона), мифическая учредительница празднеств в честь Диониса) Her.
Сама сила прорицательная принадлежит по-прежнему Ночи; «провещатель» — только голос и глагол ее, язык изрекающий (ἑρμηνεύς, истолкователь). Здесь Аполлон по праву становится на первое место: все изреченное и изрекаемое в его власти более, чем во власти Диониса, который сам слишком глубоко погружен в ночь. Правда, с развитием чисто-аполлонийской идеи это представление вытесняется другим, ближе отвечающим природе и достоинству бога-сына: ему невместно быть только устами Земли или голосом Ночи, он — слово отчее. Так, Алкеев гимн, пересказанный Гимерием, изображает его посланником Зевсовым к эллинам, провозгласителем непреложных Зевсовых уставов, и, по словам Эсхиловой Пифии:
«Вступил четвертым Локсий во святилище,
Пророком Зевса: отчее вещает сын.»
(Эсхил. Эвмениды, 18)
По новой концепции, Пифией овладевает Аполлон уже как начало самобытно-действенное: она говорит то, что внушает ей он, а не божество темных недр. Борьба с древним Пифоном понимается, с этой точки зрения, как преодоление «хаоса» «логосом». Но последовательное проведение этого принципа было невозможно в пределах эллинской религии: он противоречил ее коренным историческим основоположениям.
После экстатических восклицаний Эсхиловой Кассандры (в трагедии «Агамемнон»), кажущихся хору аргивских старейшин бессвязными и непонятными, наступает внезапно мгновение, когда пророческая речь, по словам самой пророчицы, сбрасывает с себя покрывало, под которым она таилась как невеста, и называет вещи и события их именами, определительно, без загадочных намеков и иносказаний: это аполлонийский момент в мантике. Пифия — прорицательница (προφήτης) — осталась в своей глубочайшей и непокорной, недоступной Аполлону сущности голосом Ночи, но подле нее стали жрецы ясного Провещателя, толмачи и истолкователи — ὑποφῆται. Подчинение исступленной вещуньи Аполлону было насильственным: Кассандра, к которой он воспылал страстною любовью, обманывает Локсия посулом женских ласк и не держит обета; за что бог, прежде всего, карает ее тем, что никто не верит ее правдивым вещаниям, — хотя, по изображению Эсхила, самый дар вещания был даром любви влюбленного бога, — а потом приводит ее к плахе, во исполнение неизбежных — однако, именно для дионисийской героини — «страстей» (πάθη). Внутренние противоречия исторического предания поэт преобразил в роковые противоречия трагической участи. То же отношение к Аполлону сквозит и в других мифах.
Пифия, по Пиндару (Pyth. VI, 106), дельфийская «пчела» (μέλισσα), и «пчелы» строят в Дельфах Аполлону чудесный храм, который он переносит к Гипербореям (Paus. X 5, 9); но «пчелами» экстатические женщины могли именоваться только в качестве служительниц Диониса или Артемиды. Sibylla Вергилия, насильственно (stimulis) принуждаемая Фебом пророчествовать — кумcкая (отожествленная с эритрейской) сибилла Меланкрера,⁶ — девственная, т.е. не отдавшаяся Аполлону менада, как о том свидетельствует и ее мрачное имя, и ее «подземный чертог» (θάλαμος κατάγαιος). Ликофрон называет метафорически Кассандру «кларийской, т.е. Аполлоновой, менадой (μιμαλλόνος) и устами Меланкреры». Очевидно, последняя приурочена к Аполлонову культу только после того, как Аполлон овладел всею мантикой. Сказание об аполлонийской пророчице Орфе (Oρφή, имя из круга ночи), на которую Дионис навел свое безумие, также обличает исконно-дионисийскую природу женского вещания «от Аполлона».
Это Аполлоново овладение достоянием Дионисовым сказалось и в мифе о Дафне. Дафна, дочь Земли, исконной обладательницы дельфийского оракула, которая посвящает ее в πρόμαντις, — душа пророчественного лавра, могущего причинять и безумие. Ее природа горной нимфы, вдохновляемой вещею мудростью матери, и ее бегство от преследующего Феба⁷ также указывает на принадлежность ее дионисийскому кругу.
____________________________
[6] Меланкрера — дочь Дардана и Несо, имя кимской (κυμαῖος) сивиллы.
σίβυλλα ἡ сибилла или сивилла (вещунья, пророчица) Arph., Plat., Arst.
[7] Δάφνη ἡ Дафна, нимфа; (спасаясь от преследования влюбленного в нее Аполлона, была превращена в лавровое дерево) Luc.
Пелопоннесская версия мифа выдает нечто большее: первоначально некий преследователь лесной охотницы претерпевает «страсти», став жертвой дев, подруг ее: другими словами, первоначально влюблен в нее не Аполлон, а Дионис. Дионисийское (Актеоново) существо преследователя окончательно обнаруживается переодеванием его в женские одежды (он хочет овладеть дубравной нимфой, охотясь в сонме ее сверстниц, для чего отпускает себе и длинные волосы) и убиением его ножами и копьями. Участие Аполлона в обличении переряженного Левкиппа — черта, придуманная для установления связи между дионисийским и аполлонийским мифом, но отразившая антагонизм обоих божеств. Прибавим, что миф о Дафне естественно перенесен на Аполлона, потому что Дионис мыслится здесь как солнечный бог (как «белоконный», Λεύκιππος, а не «черноконный», Мελάνιππος, Арейон), сообразно с солнечной природой лавра, изгоняющего духов подземного царства.
Отчуждение Артемиды, исконной сопрестольницы Дионисовой и предводительницы женских оргиастических сонмов, в пользу Аполлона, сестрою которого она становится, отразилось в Дельфах тем, что на вершине двуглавого Парнаса, посвященной Дионису, воздвигнуто было (быть может, впрочем, в относительно позднюю эпоху) святилище Дионисово, а на вершине Фебовой — совместное святилище Аполлона и Артемиды. Наконец, говоря об отторжении значительной части сакральной сферы женского экстаза от Диониса и о подчинении ее Аполлону, надлежит вспомнить Муз, увенчивающихся на Геликоне тем самым лавром, который, как мы видели, был унаследован Фебом от Диониса. Музы, образовав хор Аполлона Кифарода (κιθαρῳδός), но сохранив, однако, по местам и свои отдельные культы и празднества, не утратили окончательно своей древнейшей связи с богом оргий, каковая обнаруживается, например, в отношениях Мельпомены к Дионису-Мельпомену. Хор Софокловой «Антигоны», поведав о фракийском Ликурге, как этот дикий нарушитель святыни радений «жен боговдохновенных гнал и угашал огонь святой», продолжает: «и Муз свирельниц прогневил». Музы приравнены здесь к менадам и взяли в руки вакхические флейты вместо Аполлоновых лир. Музы — пестуньи Вакха, по Диодору (IV, 4). Сынами Муз, кроме Орфея, являются дионисийский герой Рес и дионисийский лирник Лин. Дионис на дифирамбическом Наксосе — хоровожатый Муз (Μουσηγέτης). Музы в плющевых венках вокруг Диониса представлены в дельфийском пэане Филодама (IV в). На одном геликонском камне, под посвящением Музе Терпсихоре, читаем:
«Плющ Терпсихоре приличен, а Бромию сладкая флейта:
Ей вдохновения дар, звонкие чары ему.»
Сообщение Плутарха, что на празднестве орхоменских Агрионий Дионис объявляется, после тщетных поисков, убежавшим в обители Муз, приоткрывает глубокую старину. Такова же и обмолвка Еврипида о принесении Итиса Прокною в жертву Музам: сладкогласный соловей естественно воспринимается как служитель Муз; но растерзание Итиса издревле дионисийский миф; очевидно, Музы и Дионис мыслятся опять, как в Орхомене, нераздельно.
Эсхил, по-видимому, знает, что до прихода Аполлона в Дельфы священная пустынь принадлежала оргийным сонмам поклонниц Дионисовых. В мифологической истории прорицалища, с которой начинается трагедия «Эвмениды», поэт говорит устами Пифии по поводу Карикийской пещеры на Парнасе как о чем-то, что надлежит держать в памяти:
«Сих мест владыка Бромий, — не забыла я;
Менад своих отсюда двинул бог в поход,
Пенфея, словно зайца, затравить судив.»
Итак, Дионис обитает в отведенных ему после дележа угодьях как исконный владелец парнасских нагорий. Что же до поры, предшествующей дележу, Пифия называет только женские божества, владевшие дельфийским ущельем. Эти богини суть: Гея, Фемида (та же Мать-Земля в аспекте религиозно-этическом) и, наконец, Феба (Φοίβη),⁸ сестра Аполлона по позднейшей версии, первоначально — сопрестольница Диониса. Другими словами, Дионис древнее в Дельфах, чем Аполлон; женское же подземное божество древнее самого Диониса. И вместе это значит: от «первовещуньи (πρόμαντις) Геи» до Аполлоновой Пифии культовое господство принадлежало в Дельфах женщине. С эпохи Фебы существует для нее, рядом с великой богиней, еще и мужское, а именно Дионисово, божество.
____________________________
[8] Φοιβάς (-άδος) ἡ жрица Феба, прорицательница Eur.; ex. ἡ Ἄρτεμις φοιβάς Plut. — вещая Артемида.
φοῖβος 3
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) сияющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.).
4. Омфал
Пифоновым гробом слыл дельфийский храмовой «омфал» (ὀμφαλός), яйцевидное каменное сооружение, трижды священное: как средоточие Аполлонова дома, как «пуп земли», известный уже в эпоху Пиндара, и как место очищений. «Свежая скверна (μίασμα) матереубийства, — говорит Эсхилов Орест, — была смыта с меня у Фебова очага (ἑστία) очистительною кровью (καθαρμόι) жертвенной свиньи» (Eum. 282). Живопись на вазах представляет Ореста сидящим у омфала с мечом в руке, Аполлона — держащим над его головой молодую свинью, неподалеку дремлют Эринии. Последние у Эсхила корят бога-очистителя за то, что по его произволу «пуп Земли сделан стоком ужасного проклятия (ἄγος) преступно пролитой крови» (Eum. 166). Омфал Геи аналогичен римскому mundus. — Ныне мы знаем, что омфалами вообще назывались куполообразные своды (θόλοι) гробовых склепов, какие сооружались еще в микенскую эпоху: «пуп» Аполлонова храма был издревле чтимой гробницей некоего хтонического божества. «Гробница же бога», по гениальной догадке Эрвина Роде (Psyche I, S. 130), — «не что иное как пещера, где он живет». Это представление выражает змея, нередко обвивающая омфалы.
Под пророческим жертвенником, находившемся уже в сокровенном святилище (ἄδυτον) храма, был пещерный склеп (ἄντρον), почитаемый, по Филохору (III в.), за гробницу Диониса. Но паломники, по-видимому, смешивали обе могилы — «пупа» и «уст Земли» (στόμα Гῆς). Если один только, и притом ненадежный, свидетель (Татиан) принимает омфал за гроб Диониса, зато и Гигин, и Сервий полагают, что под треножником погребен Пифон. Соглашаясь с Роде, что наиболее достоверная традиция (у Варрона: omphalos Pythonis tumulus, «омфал — могильный камень Пифона») сочетает омфал с Пифоном, а треножник с Дионисом, мы спрашиваем, однако, чем объяснить это смешение: не указывает ли оно на некоторую естественную теократию — темного Пифона с не менее темным Дионисом? О первом не знали наверно, что он за существо; эвгемеризм, самопроизвольно возникающий при попытке объяснения божественных могил, заставлял подозревать в нем страдального ведуна в образе одной из героических ипостасей Дионисовых.⁹
____________________________
[9] Пифон, отец Айкса (Aἴξ), пастырь черных коз (сравн. Διόνυσος Mελάναιγις), был владыкою вещего треножника, когда пришел в Дельфы из Ликии родившийся на Делосе Аполлон и стал пасти стада Пифона: контаминация с мифом о пастушеской службе у Адмета, подтверждающая характеристику Пифона как подземного Диониса. Plut. quaest gr. 12.
αἶξ (αἴξ, αιγός, эп. dat. pl. αἴγεσιν) ἡ козел) Hom., Arst., Plut.
Общераспространенного этиологического мифа, который бы оправдывал существование в Дельфах могилы Семелина сына, не было. К тому же в других местах мысль об омфале роднится по преимуществу с представлением о Дионисе. Ему, по сообщению Павсания, принадлежал во Флиунте древний храм невдалеке от пелопоннесского омфала; там же встречаем целое гнездо дионисийских святынь и связанных с ними легенд об Амфиарае, Ойнее, Геракле; там Амфиарай впервые начал пророчествовать. На вазах IV века с изображением элевсинского омфала Дионис или сидит на нем, или стоит подле. Антиной в том же положении на позднейших элевсинских изображениях понят, очевидно, как «новый Дионис» (νέος Διόνυσος). Правда, на древнейших надписях (πινακίς) Диониса близ омфала нет — быть может, их соотношение в Элевсине еще было «сокровенным» (ἄρρητος), — но самый омфал кажется подражанием Дельфам и вместе коррективом дельфийского культа (поскольку в Элевсине он отдан его правомочному владельцу), если не разоблачением тайного предания дельфийских жрецов Диониса, так называемых ὅσιοι («отшельники»).
Что до Дельфов, самый факт удвоения изначала данной могилы Пифона могилой неопределенного Диониса в смежном святилище обличает потребность различить и вместе сблизить обе таинственные сущности, нераздельно сливающиеся в одном представлении о доаполлоновском, дионисийском по своим корням, но отличном от позднейшей исторической формы Дионисова богопочитания религиозном начале, которому подчинено было некогда дельфийское прорицалище. Орфическое вероучение, оказавшее могущественное влияние на Дельфы еще ранее, быть может, VI столетия, оставляя тайну Пифона нераскрытой и только в обрядовой сфере знаменуя его теснейшую связь с Дионисом, постулировало отдельную гробницу последнего в другом священнейшем месте Дельфов, — под пророческим треножником. О растерзанном Титанами отроке Загрее, предмирном Дионисе, сыне змия — Зевса и змеи — Персефоны, орфики повествовали: или что сердце его было поглощено родителем, или что Афиной Палладой оно погребено было под горою Парнасом, или, наконец, что Аполлон схоронил под той же горой останки божественного младенца. Последняя версия могла послужить наиболее пригодным обоснованием тайнодейственного надгробного культа, имевшего характер «вызывания из мертвых» (ἀνάκλησις), в дельфийском святилище, учрежденного едва ли не впервые именно орфиками.
Символическое признание существенного тождества Пифона с Дионисом, при строгом различении первого как от Диониса-Загрея, так и от сына Семелина, входило, — можно думать, — в состав «неизреченного предания» (ἄρρητος λόγος), хранимого Дионисовыми жрецами храма (ὅσιοι), свершителями мистической жертвы, о которой Плутарх говорит: «дельфийцы верят, что останки Диониса покоятся у них близ прорицалища (т.е. треножника), и жрецы Дионисовы приносят сокровенную жертву в храме Аполлона, когда фиады будят Ликнита», т.е. в ту пору, когда на ночных радениях вакхические женщины, собравшиеся на Парнасе, ищут, вызывают и потом лелеют на голове в колыбели-сите (λίκνον) новорожденного Диониса.
Некая таинственная жертва в пещерных недрах дельфийского святилища принесена была, по Ликофрону, еще Агамемноном, и царь вознагражден был за нее нарочитой милостью Диониса. Последний был почтен Атридом, по-видимому, как бог-бык и вместе «герой» (как ἥρως Διόνυσος Tαύρος, каковое сочетание мы находим в женском культе Элиды); ему, как погребенному богу, совершил Агамемнон свои возлияния, и также Земле и подземным (следовательно, и Пифону). О пра-Быке говорили орфики как о последнем превращении преследуемого Титанами Загрея. В орфическом воззрении, основанном на древнейшем синкретизме териоморфических культов — исконного змеиного культа горных менад и культа критского, перенесенного в Фивах на всенародного Диониса, — между змием и быком устанавливается мистическая связь: бык — солнечная, змий — хтоническая ипостась того же бога; бык в мире живых становится змием в царстве подземном, чтобы снова возродиться быком. Отсюда изречение: «родитель змия — бык, быка родитель — змий». Дионис, в качестве «героя», был змием уже не у одних орфиков, но и в общенародном культе. Иерогамическим атрибутом менад на ликнофориях служила змея; новорожденный Дионис мыслился как ταυρόμορφος. Так развитие Дионисовой религии в Дельфах сближало Пифона с подземным ликом Диониса.
Дельфийское обрядовое действо убиения Пифонова (σεπτήριον), описанное Плутархом, весьма показательно. Пифон предполагается обитателем хижины (καλιάς), что несомненно способствовало укреплению антропоморфического представления о нем как о прадионисийском герое; эта хижина в священном действе (δρώμενα) — то же, что в трагедии первоначальная «куща» (σκηνή). В обитель Пифона, в сопровождении менад, именуемых стародавним минийским именем Ὀλεῖαι, с зажженными светочами в руках, тайком, проникает отрок, изображающий Аполлона. Опрокидывается жертвенный стол, как это делалось в чинопоследовании оргийных таинств; хижина поджигается светочами, возникает смятение, все опрометью бегут из дверей храма. После блужданий и полонения беглеца, над ним совершается уставное очищение. Это страстное действо (μίμησις πάθος), по своему строю и духу всецело дионисийское, восходит древнейшими частями своего состава к обрядам фиад, как и два другие эннаэтерические празднества с их участием — Героида (Ἡρωΐς) и Харила (Χαρίλα), но в целом кажется продуктом литургического творчества орфиков. Печатью их синкретического умозрения отмечено то уподобление Аполлона Дионису, при котором первый почти утрачивает свои отличительные черты и превращается в эпифанию второго как хоровожатого оргий, как Иакха (Ἴακχος) элевсинских мистерий. В римском надгробии из Филиппов мы встречаем сходный образ отрока со светочами в руках, как форму чаемой, согласно орфическим верованиям, дионисийской апофеозы юного покойника в царстве душ:
«Девы ль, тавром Диониса клейменные, отрока звали
В сонме сатиров играть на цветоносном лугу?
Взяли ль с кошницами нимфы участником таинств полнощных,
Хоровожатым, с четой светочей смольных в руках?»
Итак, новый Дионис действа жречески убивает своего прадионисийского двойника. Дельфийский Аполлон, в понимании орфиков, поистине — «Дионисодот» (Διονυσόδοτος — «дарующий Диониса»), как он именовался в роде флиасийских Ликомидов, хранителей древнейшего орфического предания.
5. Дионисийские прорицалища. Права Диониса.
Некоторый свет на историю дельфийского Аполлонова оракула проливает история оракула в Амфиклее, принадлежавшего Дионису. Описывая этот последний, Павсаний (X. 33:9-10) сообщает местное фокейское предание о змии, от которого город получил название Офитии. Властелин той страны, охраняя от вражеских козней младенца-сына, спрятал его в сосуд (ἀγγεῖον) и укрыл в безопасном месте; волк угрожает дитяти, но змий, обвившись кольцами вокруг сосуда, его оберегает. Пришед однажды навестить дитя, отец видит на сосуде змия, поражает его копьем и убивает одним ударом зараз и змия, и младенца, — но, узнав от пастухов, что змий был верным стражем ребенка, сжигает на общем костре мертвого сына и его доброго пестуна. В Офитии, — продолжает Павсаний, — совершаются оргии Дионису, но кумира на виду нет, ни доступа в тайное святилище (ἄδυτον). Бог прорицает амфиклейцам и врачует недуги положенных в храме больных во время их сна, — провещателем же (πρόμαντις) служит жрец, одержимый богом и изрекающий им внушенное.
Волк легенды (коррелят дельфийского волка) играет по отношению к младенцу роль знакомого нам двойника-преследователя, Лика или Ликурга;¹⁰ культ хтонической змеи, пророчествующей из своего гроба, мы встречаем как по ту сторону Парнаса, в Фивах и других местах Беотии, так и в Дельфах, где имя гробового змия — Пифон. Если в Дельфах оракулом Ночи и Змия овладевает Аполлон и его вторжение задерживает и осложняет естественное развитие прадионисийской формы в дионисийскую, то в Амфиклее мы наблюдаем непосредственное сочетание хтонического и экстатического культа с религией Диониса. Вероятно, что Дионис, обретший свой общеэллинский лик и свое общеэллинское имя, был лишь позднее соединен с этим исконным культом, когда же это соединение произошло, прадионисийский змий в Амфиклее отожествлен был с Дионисом. Схороненный в сосуде младенец есть погребенный Дионис, он же и змий: убивая змия, отец убивает ребенка; костер младенца — костер змия. Сокровенное святилище заключает в себе гроб змия и младенца вместе. Над гробом совершаются таинства Ночи и страдающего бога-младенца в его страстнόм лике, змия — в лике бога живого в сени смертной. Смыкающим звеном между эпохой Ночи и Змия и эпохой нового Диониса служит возникновение мифического представления о божественном младенце, разоблачение змия как новорожденного человекоподобного бога.
____________________________
[10] λύκος ὁ волк (πολιός, ὠμοφάγος Hom.).
Λύκος ὁ Лик, сын афинского царя Пандиона, миф. родоначальник ликийцев Her.
Λυκοῦργος ὁ Ликург, сын Дрианта, царь племени эдонян во Фракии. Ликург прогнал из своего царства Диониса, убив его кормилиц, за что был ослеплен Зевсом. (Гомер. Илиада VI, 130)
Амфиклейский оракул сосредоточивает в одном фокусе разрозненные указания, относящиеся к дельфийскому, и не оставляет сомнения в правильности проводимого взгляда на религиозно-историческую эволюцию последнего от Пифона к Дионису, остановить которую Аполлоново начало было бессильно и в результате которой Аполлонов оракул по существу стал дионисийским оракулом. Рассмотрим аналогичный случай дележа божественных братьев на почве другого древнего прорицалища. Аполлон пифийский Сотер (Σωτήρ), или спаситель (ἐπίκλησις хтонического бога), в Амбракии несомненно занял место первоначального Диониса, усвоив себе его черты, приняв его темный облик. Оттого слывет он родителем Меланея (черного), отца Дриопов; Меланей — основатель дионисийской Эретрии (Ἐρέτρια), стрелок сам и отец стрелка Эврита. И характер имен, и мотив охоты сближают этих героев с Дионисом-Загреем, диким охотником. Что прежде хтонического Аполлона чтился в Амбракии Дионис и притом в своем древнем мрачном аспекте, очевидно и из уцелевшего с той поры двойного культа Дионисовой сопрестольницы Артемиды, как Гегемоны и Агротеры; последнее имя прямо указывает на кровавые оргии и человеческие жертвы.¹¹ Пример Амбракии свидетельствует, между прочим, в пользу древности мистической теократии двуединого дельфийского Диониса-Аполлона.
____________________________
[11] В.Иванов, видимо, намекает на то, что этимология слова ἀγροτέρα (охотница) связана не столько со словом ἀγρός (сельская местность), сколько со словом ἄγριος (дикий, жестокий).
ἀγροτέρα ἡ охотница (эпитет Артемиды) Pind., Xen.
ἀγρότειρα adj. f деревенская, сельская (αὐλή Eur.).
ἄγριος 1) дикий; 2) жестокий, свирепый, лютый, злой; 3) неукротимый, необузданный, грубый; 4) мучительный, тяжелый; 5) бурный, ужасный.
θήρα, ион. θήρη ἡ охота, звероловство; ex. ζῆν ἀπὸ θήρας Arst. — жить охотой; αἱ τῶν ἰχθύων θῆραι
Нормальность эволюции прадионисийского оракула Земли в оракул Диониса подтверждается, наконец, и примером мегарского «прорицалища Ночи» (Νυκτός καλούμενον μαντείον) в непосредственном соседстве храма Диониса ночного (Nυκτέλιος). Дельфийский оракул ничем не отличается, в принципе своей организации, от фракийских Дионисовых оракулов, славившихся еще в римскую эпоху: в них одинаково пророчествовали пифии, окруженные жрецами — «пророками», или «провозвестителями» (προφῆται). Спрашивается, однако: была ли эта эволюция в самом начале прервана в Дельфах пришествием Аполлона, так что Дионису довелось впоследствии как бы сызнова завоевывать то, что естественно переходило к нему в наследственное владение от первопророчицы Геи, из чего следовало бы, что он является там пришельцем извне и притом позднейшим, нежели Аполлон, — или же в ходе этой эволюции Дионисово numen («обличие») настолько определилось еще до Аполлона, что последний мог утвердить свое господство только ценою частичного ему уподобления, чтобы, как только numen нашло свое nomen («имя»), признать его автохтонным и правомочным своим предшественником и общником захваченной державы?
За Аполлоново старшинство высказывается с оговорками Эрвин Роде. «Дионис был первым пророком в Дельфах, по схолиасту Пиндара», — напоминает он и продолжает: «наследником Дионисова пророчествования признает Аполлона и Войт (Voigt), но этот исследователь отожествляет Диониса с Пифоном, что едва ли может быть оправдано.
«Аполлон овладевает хтоническим, охраняемым змеею оракулом. Так как вопрошать оракула первоначально значит вступать в сношение с духом умершего, то пророчествовала вначале не Земля, но живущий в ней дух. Хтоническими могут быть названы все оракулы через инкубацию, ибо Земля — мать сновидений. Племенной бог фракийских флегийцев прорицал в сновидениях; его происхождение из культа душ обнаруживается этим фактом, как и свойственным ему фетишем змеи. Поэтому мне кажется, что и в Дельфах хтонический Дионис есть бог мертвых или бог смерти. Доказательства этого: гробница Диониса во святилище храма, имеющая вид ступени (βάθρον), и тайная жертва, приносимая над ней жреческой коллегией (ὅσιοι).» (Войт)
Я думаю, что по упразднении хтонического оракула, прорицавшего при посредстве сновидений, Аполлон заимствовал из дионисийской мантики неведомый ему дотоле способ дивинации в экстазе (furor divinus). Но кто возьмется дать ясный и доказательный ответ на вопрос о том, как именно в результате многоразличных сдвигов и сочетаний сменявших одна другую сил, во всеми оспариваемом центре эллинской религии воспреобладал, наконец, сложный и многосоставный культ Аполлона?». Гиллер фон Гертринген (Hiller v. Gaertringen), следуя Роде, находит, что, если Гея и Посейдон в Дельфах несомненно древнее Аполлона, то Дионис, напротив, моложе его, но столь могущественно было влияние нового пришельца, что произвело коренное изменение в Аполлоновой мантике: отменены были принесенные критскими «оргеонами» пифийского гимна гадания по жребиям и по шелесту священного лавра, и дионисийская пифия воссела на пророчественный треножник. Вместе с тем названный ученый отмечает древность связанных с фиадами празднеств, справляемых по старому календарю эпохи мифической.
Мы, со своей стороны, принимаем без колебаний второе решение выше поставленной дилеммы, не утверждая этим, однако, что Дионисово имя прозвучало в Дельфах раньше Аполлонова имени. Напротив, безыменность рождающегося в культе фиад бога и была условием Аполлонова воцарения в образе чаемого Диониса. Критские «оргеоны» со своим прадионисийским тотемом дельфина, жрецы-очистители и пророки-сновидцы, столкнулись в Дельфах с фиадами-пифиями, увенчанными вещим лавром, оргиастическими служительницами темной Геи и подземного змия, вызывательницами из могильных недр неведомого бога, младенца ли, или «жениха, нового солнца». Это соединение прадионисийского критского культа с религией менад дает впервые полный состав Дионисовой религии, — когда менады знают лик и имя родившегося младенца. Но Дионис еще не родился на их оргиях, когда пришли критские оргеоны, и потому чужой и юный бог должен был занять праздный престол и, занимая его, по возможности ответить ожиданиям его призвавших. Он делается Дафнефором, Дельфинием, пифийским прорицателем, приводящим furor divinus. Когда Дионис родится, он станет уже только Аполлоновым сопрестольником, каковым никогда бы стать не мог, если б издавна не был владыкою Дельфов, как пра-Дионис. Решающее значение в этом споре имеет, на наш взгляд, ответ на вопрос: искони ли прорицала пифия? Мы отвечаем: да, она и была изначала устами Земли (στόμα Гῆς). Критяне гимна были первыми жрецами, ставшими между нею и народом, истолкователями ее темных вещаний (ὑποφεταί), усмирителями ее исступления и ограничителями ее влияния. Это ограничение было единственным существенным нововведением Аполлоновой эры. Ибо менады древнее Диониса, что очевидно ускользает от Роде, когда он говорит, что у Диониса заимствовал Аполлон экстатическое прорицание; между тем пифия, им порабощенная, была еще прадионисийской пифией.
Из умолчания о пифии в гекзаметрах гимна к пифийскому Аполлону мы отнюдь не заключаем вместе с другими исследователями, что ее не было, но что тенденция составителей гимна побуждала их изображать события так, как будто бы ее не было. Гимн представляется нам памятником борьбы нового жреческого влияния с исконным укладом оргиастического культа, основанного на женском пророчествовании и почитании женского божества с его мужским прадионисийским коррелятом. Пришелец Аполлон, по свидетельству гимна, вступая в свое новое владение, проходит между рядами треножников: не предполагается ли этим существование пифийского треножника? Дионисийским одушевлением охвачены крисейские жены и девы, подымающие при виде света от очага Аполлонова священный вопль (ὀλόλυξαν). Бог начинает пророчествовать «из лавра» (ἐκ δάφνης), в котором выше мы усмотрели исконное достояние менад. Он принимает культовое наименование Тельфуса (Τελφοῦσα) — «в память о том, что струи постыдил Тельфусы священной»: рассказ гимна о гневе Аполлона на речную нимфу беотийской горы, по нашему мнению, не что иное, как мифологическое воспоминание о сопротивлении и насильственном подчинении новому закону местных прадионисийских менад. Мифическая проекция таковых (как будет показано ниже) — Эринии: нам понятны отсюда и вражда «старших богинь» к Аполлону вообще, та давняя обида на «юного всадника, растоптавшего стариц», которой не могут забыть ему Эсхиловы Эвмениды, — и, применительно к данному частному случаю, наличность в их сонме эринии Тельфусы.
Аполлоново господство не вносит в приемы дивинации ничего нового. Инкубация была употребительна во фракийских прорицалищах Диониса и, хотя вообще согласуется с духом критского ведовства (ведь «оргеоны» гимна были соотечественниками Эпименида), но, по Еврипиду, Аполлон сам же отменяет ее, как остаток владычества Геи. Что касается «жребиев», этот не определительный для Дельфов и в них не укоренившийся способ гадания скорее предполагает участие вещих женщин, нежели его исключает. Жребии олицетворены в трех доаполлоновских парнасских крылатых сестрах Фриях (Θριαί), «учительницах гадания» (μαντείης δάσκαλοι) и «пестуньях Аполлона», причем образ пестуний очевидно заимствован у дионисийского мифа, восходящего в свою очередь к обряду менад. И стих — «жребии мечущих много, но мало гадателей верных» — недаром сложен, по преданию, пифией; впрочем, это только переделка знаменитого изречения: «много тирсы носящих, но истинных вакхов не много». Так мы не находим ни одного довода, который бы мог поколебать в нас уверенность в первобытной древности женского оргиазма как исконной колыбели дельфийской религии.
6. Дележ и союз
Приведем, для выяснения древнейших отношений между дельфийскими братьями, несколько других примеров, показывающих рост культового круга, объединенного Аполлоновым именем, на счет безыменного дионисийского. Марон, по Гомеру (Одисс. IX, 197) — Аполлонов жрец виночерпий; когда Дионис провозглашен единым владыкой божественного дара лозы виноградной, — он воссоединяется с Дионисом.¹²
В области геортологической, древнейшие Фаргелии, сопряженные с прадионисийскими человеческими жертвами, перешли навсегда в праздничный круг Аполлона очистителя. Сминфии (Σμίνθια), мышиный праздник (σμίνθος = αρουραίος, «крыса»), этиологически объясняемый истреблением мышей, вредящих виноградникам, правились на Родосе, по надписям, в честь Диониса, по позднейшим сообщениям — в честь Аполлона и Диониса как предполагаемых истребителей;¹³ так как культ Сминфея (Σμίνθειος или Σμινθεύς) связан с мантикой (мышь — ζώον μαντικώτατον) и происхождение его, по-видимому, критское, то закрепление его за Аполлоном в Троаде, чему древнейшим свидетельством служит I песнь Илиады, представляет собою аналог утверждению власти Аполлона как прорицателя в прадионисийских Дельфах.
Мусическое соперничество дельфийских братьев составило бы предмет отдельного и обширного исследования; в дополнение к вышесказанному о музах, любопытно бросить взгляд на историю мифа о Лине. Проблемой религиозного мифотворчества встал вопрос о том, которому из божественных братьев-соперников приписать одно из древнейших преданий хоровой лирики — λίνος («лин»), народный плач (φρενός) по некоему умершему богу того же имени (Λίνος).
____________________________
[12] Марон почитается как дионисийский герой вместе с Зевсом и Дионисом в Маронее и составляет предмет героического культа в Писидии. (Preller-Robert, gr. Mythol., S. 731).
[13] «Επίθετον Απόλλωνος, κατά τον Αρίσταρχον από πόλεως Τρωικής Σμίνθης καλουμένης. Ο δε Απίων από των μυών, οί σμίνθοι καλούνται. Και εν Ρόδω Σμίνθεια εορτή, ότι των μυών ποτε λυμαινομένων τον καρπόν των αμπελώνων Απόλλων και Διόνυσος διέφθειραν τους μύας.»
Как олицетворение «страстей», страстотерпец Лин принадлежал Дионису. Его имя — припев каждого страстного обряда (παντός πάθους παρενθήκη). В остатках гесиодовской поэзии находим такой гимнический отрывок (fr. 192 Bz):
«Сына любимого ты родила, Урания, Лина.
Сколько ни есть на земле песнопевцев и лирнихов, Лина
Все поминают, все плачут об нем на пирах, в хороводах;
Песнь зачинают певцы и кончают именем Лина.»
Но так как плачи и хороводы во имя Лина требовали лирного сопровождения, то неоспоримы были права Аполлона Кифарода на это мифическое лицо, столь неопределенное, что в аргивском предании оно является младенцем, разорванным овчарками, а в фиванском — «божественным мужем-лирником», состязавшимся с Аполлоном и приявшим смерть от ревности бога, между тем как у Гомера Лин — погибший прекрасный отрок, и Сапфо воспевает его вместе с Адонисом (под именем Этолин (Οἰτολίνου), «обреченный на смерть Лин»; Павсаний IX, 29:8), в позднее же время ему приписывается апокрифическое повествование о подвигах Диониса. В фиванской традиции характерны тесное сближение Лина с Музами (черта, доаполлоновская) и пещерный героический культ (Павсаний IX, 29:6). Предание Аргоса сплетено с легендой о Коребе (Κόροιβος). По растерзании младенца Лина (пра-Диониса младенца) хтоническими собаками, наслано Аполлоном на Аргос чудовище, вырывающее детей из материнской утробы. Кореб убивает его и, чтобы очиститься от крови, идет в Дельфы. Пифия повелевает ему взять на плечи треножник и нести его, доколе он не упадет под ношей, а где упадет — воздвигнуть святилище Аполлону. Так основан был Коребом город Треножников (Τριποδίσκοι) в Мегариде; гробница героя была предметом почитания в Мегаре. Устраняя из рассказа черты дельфийской переработки, открываем в основе его факт оргиастического детоубийства, воспоминание о котором связалось с простонародными обрядами плача по Лину и с причитаниями, подражание коим находим в припеве Эсхилова хора, вспоминающего жертвоприношение Ифигении: «плач сотворите, но благо да верх одержит». Предание о страстнόм герое использовано Дельфами в целях искоренения дикого оргиазма и насаждения гармонической религии двуединого дельфийского божества, знаменуемой треножником, символом светлого Феба, вещей Земли и погребенного Диониса.
Мистическое слияние братьев-соперников в двуипостасное единство было намечено дельфийским жречеством в экзотерической форме внешних доказательств нерушимого союза и особенно в форме обмена священными атрибутами и знаками соответствующих божественных энергий. Задолго до Филодама, Аполлон — уже у Эсхила (fr. 341 Nauck) — «плющеносец и вакх» (ὁ κισσέως Ἀπόλλων, ὁ βακχέως, ὁ μάντις). На керченской вазе оба юных бога подают друг другу руки под дельфийской Аполлоновой пальмой, над «пупом земли». Отсюда и культовое сочетание Диониса с Асклепием: возникает Дионис — «врач, Пеоний, целитель» (ἰατρός, Παιώνιος, ὑγιάτης). Дельфийский оракул заповедует чтить его как «врачевателя». Впрочем, в этом качестве он был издавна известен в Амфиклее; Меламп, в свою очередь, олицетворяет дионисийскую медицину. Герой страстей, Асклепий, исцелитель дионисийских Пройтид (рядом с Мелампом) не теряет однако своего отца Аполлона, но получает в воспитатели Диониса.
Прямое провозглашение дельфийской теократии, если не видеть таковой, например, в культовом «пэане» Дионису поэта Филодама, известном по надписи IV века, где припев «εὐοῖ ὦ ἰό Βάκχ» (О, благой Вакх!) сменяется аполлонийским «ἰέ Παιάν» (О, Избавитель!), — мы находим лишь в позднюю эпоху, когда никакая теократия уже никого не удивляет. О Парнасе поет Лукан:
«Феба святая гора, и Бромия! Купно слиянным
Правят фиванки на ней оргий дельфийских чреду.»
Ритор Менандр так обращается к многоименному богу вдохновенных восторгов: «Дионисом зовут тебя фиванцы, дельфийцы же чтут двойным именем: Аполлон и Дионис. Вокруг тебя дикие звери (дельфийский волк и вакхическая пантера), вокруг тебя фиады, от тебя и луна приемлет лучи (разумеется прадионисийская сопрестольница и Аполлонова сестра, Артемида)». Но и по словам Павсания парнасские фиады творят радения на вершинах горы совокупно Дионису и Аполлону.
7. Παλίντονος ἁρμονίη ¹⁴
Утвержденная в Дельфах идея божественного двуединства Аполлона и Диониса вошла в плоть и кровь эллинства. Что же такое был этот союз в конечном счете? Религиозно-политический компромисс? Несомненно, но без дурного умысла и лицемерного расчета. Напротив, в основе его лежало мистическое утверждение некоей в божестве установленной антиномии. Гармония, которую созерцать дано богам и осуществлять предоставлено людям, была, конечно, не осуществлена, но все же ознаменована, и жизнь отлилась в формы этого ознаменования: это было кумиротворчество гармонии, ее εἴδωλον (образ) и как бы зеркальное отражение. Отсюда «эстетический феномен» античности. Дионис поистине лежал погребенным под дельфийским порогом; и когда воскресал — воскресал с душами, которых выпускал из темных врат, и в душах, которыми овладевал, и они видели, отторгнутые от земли, слепительные епифании духа. Но на земле ему не было места, где преклонить голову; его только непрестанно и пышно отпевали, и восхищаться им любили понаслышке, не зазывая к себе в слишком близкое соседство: его демоническое веселье было опасно, как огонь в доме. Даже в художестве гениальная непредвиденность (не все же были Эсхилы, чтобы лепить «во хмелю» титанов) была слишком ненадежна, и потому к ней приставлен был для надзора аполлонийский канон.
____________________________
[14] παλίντονος ἁρμονίη — напряженная гармония (παλίντονος ἁρμονίη κόσμου ὥσπερ λύρης καὴ τόξου — мировая гармония, в которой, подобно лире и луку, напряжение чередуется с ослаблением. Heracl. ap. Plut.)
Дионис был не от сего мира. Он хотел божественной жизни и делал ее действительно божественной, как только к ней прикасался: чудесно воспламенялась она тогда и, как вспыхнувшая бабочка, превращалась в пепел. Многие эллины — и это были лучшие в эллинстве — думали, как Гёте, который славил «живое, тоскующее по огненной смерти»; но большинство, предпочитая менее сильные ощущения превращаемости, выработали особенное и как бы дипломатическое отношение к Дионису, которое издавна обманывает научившихся по-гречески анахарсисов, не догадывающихся, что большая часть античных суждений о Вакхе — осторожное лукавство и лишь притворство напускной беспечности, и вообще сдержанность, предписываемая часто простым тактом. Решительно, слишком многого не следовало касаться, произнося Дионисово имя, которое было, однако, неизбежно у всех на устах. Дионис и жизнь — это было опасное сочетание, напоминающее любовь Семелы. Когда Дионис выступал законодателем, он требовал невозможного, которое единственно ему по нраву: к политической деятельности он был явно неспособен. Все божества олицетворяют закон; все они — законодатели, и закономерны сами. Один Дионис провозглашал и осуществлял свободу. Отрицание закона, противоположение ему свободы есть в дионисийском античном идеале черта христиански-новозаветная. Ибо Дионис-освободитель не мятежен и не горд, и так нисходит к людям, как к своим кровным, и так же восходит к отцу, в котором пребывает: ведь Зевс и Дионис, по коренному воззрению эллинов, одна сущность, даже до временного или местного слияния самих обличий.
Дельфийское определение сыновнего лика дало как бы химическую формулу души эллинства. Именно таково ее «смешение» (κρᾶσις): два жизнетворческих начала соединились в ней — Дионис и Аполлон. Но как различна была судьба обоих! На долю «бога», только «бога», выпало вселенское, но не божественное — мы бы сказали, архангельское — посланничество: завершить в идее, осуществить в полноте явления и довести до исторических пределов поприща во славе — античную культуру, во всем полновесном значении этого огромного слова, — потом же просиять и застыть в уже бездушном отражении далеким и гордым «идолом» золото-эфирной гармонии, чистым символом совершенной формы. А Дионису, богу нисхождения и потому уже скорее «герою», чем «богу», на роду написаны вечно обновляющаяся страстнáя смерть и божественное восстание из гроба. Дионисийство, погребенное древностью, возродилось — не на одно ли мгновенье? — в новозаветности, и все видели Диониса с тирсом-крестом. Потом он куда-то исчез; есть племена, мисты коих верят, что он все где-то скрывается и его можно найти, — там, где всего менее ждешь его встретить. Во всяком случае, то его возрождение в дни «умершего Пана» было реально, а потому и не формально, т.е. не в старых формах, а в новой маске. Ибо реальности, почитаемые божественными, на самом деле только «героические», т.е. страстные ипостаси единого Ens realissimum; те же, что не страдают, — не реальности, «сущие воистину», а только отражения божественных идей, вечно-сущих форм становящегося бытия.
_______________________________
ДИОНИС В ЛУЧЕВОЙ КОРОНЕ

Антиох VI Дионис Эпифан (145-142 до н.э.). Сирия (Государство Селевкидов). Æ 22mm (8.40g).
Av: голова Антиоха VI в образе Диониса, в венке из плюща и лучевой короне;
Rv: слон держит хоботом факел; BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY EПIФANOYΣ ΔIONYΣOY / ΣTA
_______________________________

Родос (Ῥόδος), Кария. Æ 35mm (19.83g), I в. н.э. Магистрат Тимострат.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: цветок розы; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY (ταμία Τειμοστράτου).
_______________________________

Родос, Кария. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. Магистрат Гипсикл.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылатая Ника стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / ΕΠΙ ΥΨΙΚΛΗΟΥC
_______________________________
_

Родос, Кария. Æ 34mm (20.26g), I в. н.э. Магистрат Тимострат.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: цветок розы; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY
_______________________________

Родос, Кария. Драхма (Æ 35mm, 26.42g), I в. н.э. Магистрат Тимострат.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылатая Ника с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / TAMIA TEIMOΣTPATOY
_______________________________

Родос, Кария. Драхма (Æ 35mm, 25.58g), 31 до н.э. – 60 н.э. Магистрат Дамарат.
Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне;
Rv: крылатая Ника с пальмовой ветвью и лавровым венком; POΔIΩN / EПI TAMIA ΔAMAPATOY (ἐπί ταμία Δαμάρατου).
_______________________________
|
Метки: Дионис Аполлон Греция Нумизматика |
Понравилось: 1 пользователю






