-Метки
sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер
-Поиск по дневнику
-Постоянные читатели
Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый
-Статистика
МЕНАДЫ |
Вячеслав Иванов
ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
III. ПРАДИОНИСИЙСКИЙ КОРЕНЬ МЕНАД
1. Древнейшая память о менадах
Прадионисийский корень менад обнаруживается рядом определительных признаков. Если немногие упоминания Гомера о Дионисе оспоримы в рассуждении их подлинной древности, — о менадах можно утверждать, что Гомер их знает, не зная Диониса. Остерегаясь рассматривать Гомерову «менаду» (μαινάς) как служительницу позднейшего культа, исследователи толковали это слово в общем и неизбежно плоском значении — «безумствующая, исступленная»;¹ однако субстантивация глагольного понятия, и притом только в женском роде, требует принять nomen за означение устойчивого типа, тем более, что уподобление Андромахи, устремившейся вперед с сильно бьющимся сердцем, «менаде» могло быть вполне понятно и художественно-действенно лишь при том условии, если эта последняя была хорошо известна как бытовое и психологическое явление sui generis (уникальность). Но менада без Диониса единственно мыслима лишь на почве теории, устанавливающей прадионисийскую эпоху в развитии Дионисовой религии.
______________________________
[1] μαινάς, -άδος (ᾰδ) adj. f
I.
1) неистовствующая, исступленная; ex. (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.);
2) сводящая с ума, наводящая безумие; ex. (ὄρνις, т.е. ἴυγξ Pind.)
II.
1) исступленная вакханка, менада; ex. μαινάδι ἴση Hom. — подобная менаде, т.е. обезумевшая от горя (Андромаха);
2) исступленная словно менада; ex. Κασάνδρα Eur.
• Очевидно этимология слова μαινάς (менада) тесно связана с луной (μηνάς) и культом богини луны.
Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.
μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. — лунное сияние
μῆνις, дор. μᾰνις (-ιος), поздн. μῆνιδος ἡ гнев, негодование, злоба; ex. (Διός Hom.; βαρεῖα Soph.)
У Павсания (X, 4, 3), далее, мы находим нижеследующее объяснение эпитета города Панопея (Πανοπεύς) καλλίχορος в Одиссее (XI, 580):
В самом деле, составители того рассказа об Одиссеевом нисхождении в подземное царство, который в составе Одиссеи известен под названием первой песни о мертвых (Nεκυία),⁴ очевидно, знали Панопей, по дороге из Херонеи в Давлиду, как «город прекрасных хороводов», что не может быть отнесено к хорам нимф, как предлагает Лобек, потому что речь идет не об источнике, а о городе, и скорее всего указывает на паломничества феорид,⁵ их священные шествия, или «феории»,⁶ к местам парнасских радений. Женские дионисийские таинства знакомы и Гесиоду.⁷
______________________________
[4] νεκυία, правильнее νέκυια ἡ вызывание мертвецов, некромантия Diod., Plut., Luc. (заглавие XI песни «Одиссеи»).
[5] θεωρίς (-ίδος) ἡ феорида, паломница.
[6] Пример такой феории (θεωρία) в отрывке Еврипидова «Паламеда» у Страбона (X, р. 720 С), где вакхический хор не эллинских женщин приходит в ахейский стан, чтобы под его охраной, согласно общему ἱερά νόμιμα (священному обряду), править на горе Иде оргии Дионису и фригийской Матери богов. Предводительница хора называет себя фиадой Диониса (θυιάς Διονύσου ἱκόμαν), по эмендации Виламовица (Herakles I, S. 363, А. 40).
[7] ἐμανήσαν, ὥς μέν Ἡσίοδος φησίν, ὅτι τάς Διονύσου (Apollod. II, 2, 2)
Глубокая древность отпечатлелась на формах оргиастических сообществ. Дельфийские фиады составляли религиозный союз — фиас (θίασος), предводительницей или настоятельницей (ἀρχηγός) которого во времена Плутарха была Клея. Эпонимной фиасоначальницей почиталась мифическая Фия (Θυῖα), рядом с ней стояла не менее мифическая «Черная» (Κελαινώ, Mέλαινα, Μελανίς, Μελανθέια, Μελανθώ⁸). Посвященное Фии капище в Дельфах известно Геродоту (VII, 178). О подобном же ἡρῷον стародавней менады говорит Павсаний, отмечая «близ театра города Патр (срв. место погребения Фессалы пониже приводимой надписи из Магнесии) священный участок некоей местной жительницы». Гробницы Астикратеи (Αστυκράτεια) и Манто в Мегаре, при входе в священный участок (τέμενος) Диониса, очевидно, также были местами героического культа древле прославленных менад, из коих вторая, как говорит ее имя, обладала даром пророческим. Впрочем, миф хорошо их помнит: они были дочерьми Полиида, основателя культа Диониса «отеческого» (πατρώιος) в Мегаре, Мелампова правнука и, подобно прадеду, дионисийского героя, прорицателя и очистителя.⁹
______________________________
[8] 226. Прибавим несколько слов о другой, а именно гомеровской, Меланфό. К древнейшим героическим ликам пра-Диониса подземного принадлежит, по нашему мнению, козовод Меланфий в Одиссее, изрубленный в куски и отданный в снедь псам пособник женихов, носитель хтонического и дионисийского имени, соименный одному из героев Вакхова воинства в поэме Нонна, льющий вино в кубок по изображению на одной камее (Roscher's Myth. Lex. II, 2582), страстнόй герой в черной козьей шкуре (μελάναιγις). Меланфию соответствует, как женский коррелят, повешенная (подобно Эригоне и связанная, следовательно, с Артемидой) Меланфо. Параллелизм мужского и женского черных имен, хтонические собаки, разъятие тела на части, женское повешение, — наконец, самая оппозиция аристократическим культам, — все определяет Меланфия и Меланфо в вышераскрытом смысле и служит характерным примером подгомеровской религиозной Греции и отношения к ней Гомеридов. (Waser s. v. Delphos, Pauly-Wissowa's Real-Enc. IV, 2700. Weicker, griech. Götterlehre I, S.)
[9] Полиид (Πολύειδος) сочетается в предании с Критом, и — в противоположность легенде о Мелампе как ученике египетских жрецов — это не кажется нам лишенным правдоподобия. Мы подозреваем здесь древнейший синкретизм материкового культа и островного, простирающего власть Диониса на морскую стихию, — чем объяснялась бы и двойственная организация местных менад, ознаменованная двумя дочерьми Полиида. Последний кажется героической проекцией островного Диониса, «многовидного» (πολυειδής). Поставленный Полиидом в Мегаре «закрытый» идол Диониса, из частей которого Павсаний мог видеть только лицо (πρόσῶπον), был, вероятно, одной из Дионисовых голов, почитаемых в островном круге. Так бог, вытащенный рыбаками из моря в Метимне, был личнόю маской (πρόσῶπον); оракул повелел чтить его как Диониса Фаллена (Διόνυσος Φαλλήν) (Euseb., praep. ev. V, 36).
2. Магнетская надпись. Менады-родоначальницы
Надпись из Магнесии на Меандре, начертанная (по-видимому, заново) в I в., но говорящая о событиях более или менее отдаленной древности, приводит дельфийский оракул, в исполнение коего магнеты призвали из Фив менад, чтобы учредить в своем городе оргии Дионису по беотийскому чину. Ниже перевод этой надписи:
Эта надпись не только подтверждает известия о коллегиях менад и наблюдения о их насаждении центральной религиозной властью, т.е. дельфийским жречеством, в Спарте, Ахайе, Элиде, но и проливает свет на традиционные нормы организации женских оргий. Мы видим, что не напрасно Еврипид в трагедии «Вакханки», изображая установление Дионисовой религии в Фивах, говорит о трех сонмах менад, предводимых тремя дочерьми Кадма, — что подтверждает и пользовавшийся другими источниками Феокрит в своих «Ленах». Фиванская община служительниц Диониса очевидно представляла собою тройственный фиас; каждая из трех частей его приносила жертвы у отдельного алтаря и вела свой род от одной из трех древних основательниц оргий, сестер Семелы, впервые поставивших алтари Дионису в горах, — Агавы, Автонои, Ино. Четырнадцать афинских герэр (γεραιραί)¹¹ приносят жертвы Дионису в Лимнах на четырнадцати разных алтарях. Алтарь поручался предпочтительно жрице из рода, ведущего свое происхождение от древней менады. Сколь неожиданным ни кажется на первый взгляд, что род ведется не от дионисийского героя, но от менады, однако должно признать, что в оргиастических общинах это было именно так. Слова оракула: «из рода Кадмовой Ино», — приобретают, с этой точки зрения, значение свидетельства первостепенной важности. Счет поколений по женской линии (какой мы находим в героических генеалогиях Гесиодовой школы) — в родовом преемстве именно женского жречества вообще не безызвестен. Этот знаменательный остаток матриархата доказывает гинекократический строй культа богини, из коего проистекли женские оргии, более древние по своему происхождению, нежели почитание Диониса. Так Ὀλεῖαι минийского клана продолжали родовое преемство первых миниад (Μινυάδες).¹² О Семахидах читаем у Стефана Византийца, что так звался «дем в Аттике, от Семаха, — у него же и дочерей его гостил Дионис; от них, т.е. от дочерей Семаховых, пошли жрицы Дионисовы». Дельфийские фиады древнее самого Дельфа, дружелюбно встретившего в своем царстве пришельца Аполлона, ибо они принадлежат к его божественной родословной. Мегарские менады ведут свой род от Полиида, лакедемонские Левкиппиды от Левкиппа — чрез посредство дочерей названных героев, которые и являются в собственном смысле родоначальницами, так как генеалогический ряд продолжают μαινάδες ἀρχηγοί. Таков наиболее важный для нашей ближайшей цели вывод из приведенной надписи.
______________________________
[11] γεραραί, γεραιραί αἱ «старицы» (жрицы Диониса в Афинах) Dem.
[12] Μινυάδες — в греческой мифологии три дочери (Левкиппа, Арсиппа и Алкифоя) правившего в Орхомене Миния (родоначальника племени миниев). Во время празднеств в честь Диониса, Миниады отказались принимать участие в вакхических шествиях и остались дома, продолжая прясть и заниматься другими домашними делами. Дионис пытался заставить их примкнуть к менадам, но Миниады ответили ему насмешками. Тогда Дионис наслал на Миниад безумие, в припадке которого они разорвали сына Левкиппы, приняв его за оленя.
Явление Диониса в древе можно назвать обычным; но дерево на этот раз не ель или смоковница, а платан, в котором поселяются божественные и героические души, как это показывает пример Елены. Топография трех учреждаемых фиасов также многозначительна. Первый, естественно, имеет своим средоточием место чудесного явления. Помещение другого находит себе ряд аналогий в святилищах Диониса «fuori le mura» (за стенами города), перед городскими воротами. Одним из древнейших случаев такой локализации культа является «очаг» (ἐσχάρα) Элевтерея в Академии: здесь Дионис почитается, как пришелец и гость, на месте своего предварительного становья у городских стен. Он овладевает городом как захожий герой; апофеоза ожидает его в кремле. Священный участок, отводимый ему внутри сакральной границы города (intra pomoerium), вмещает его храм и театр. Этот последний — «святилище (ἱερόν) Диониса», как гласит надпись при входе в театр — именно Магнесии на Меандре (Inschr. v. Magn. 233). Золоченая скульптурная группа Диониса, окруженного менадами, стояла близ сикионского театра. Общение между городским, театральным участком и пригородным, как мы видим это в Афинах и в том же Сикионе (Paus. II, 7, 5), поддерживается обрядом перенесения чтимых кумиров ночью при светочах. Поскольку Дионис является при этом «низводящим» своих поклонников с высот кремля за город и поклонники в ночном шествии «нисходят» с ним к его героическому, т.е. хтоническому, «очагу». Дионису театра свойственно наименование «вождя вниз» (καθηγεμών), а фиасу театра — наименование «нисходящих» (καταβαταί); но оба имеют значение религиозно-символическое: под нисхождением за героем разумеется нисхождение в подземное царство, что и знаменуется ночным шествием со светочами, и перенесение кремлевого идола в низины равносильно погребению бога. Все покушения некоторых ученых отнять у трагедии характер мистерий Дионисовых рушатся при первом пристальном взгляде на сценические древности. Органическая связь менад с театром — другая улика его исконного назначения быть святилищем страдающего и умирающего бога.
Необходимо, однако, ограничить вышесказанное о священных родах нижеследующими соображениями. Когда речь идет о родовом преемстве священнослужения, часто слово «род» (γένος) должно понимать как искусственное соединение фиктивных родичей, как религиозный союз в сакрально-юридических формах рода, имя и sacra которого уже не могли прекратиться, однажды став элементом государственной религии, т.е. непременной частью принятого государством на все века состава гентильных культов. Так, культ Диониса «отеческого» (Πατρώιος) в Мегаре мог и во дни Павсания быть во владении Полиидова рода, подобно тому как в Икарии он принадлежал Икарийскому роду, члены которого были как бы икарийцами по преимуществу и постольку противополагали себя остальному гражданству. Таковым мог быть афинский род Бакхиадов, организованный в целях служения Дионису Элевтерею и празднования городских Великих Дионисий, — род, управляемый, по эпиграфическим данным, выборными архонтами. Допущение чужих к родовым «оргиям», отправляемым «оргеонами»,¹³ есть уже принятие в подчиненную категорию членов рода, и первоначальное посвящение в мистерии могло быть, как думал А.Дитерих, только формой усыновления.
______________________________
[13] ὀργεών (-ῶνος) ὁ оргеон (представитель каждого афинского дема, избиравшийся для участия в периодических жертвоприношениях) Isae.
Вообще можно сказать, что дионисийское жречество более глубоко, чем другие эллинские, уходит корнями в родовой уклад. В самом деле, служение Дионису было соборным по преимуществу, что и выражается сакральным термином «оргий». Ибо оргии суть богослужения, совершаемые совместно — и первоначально без жреца — всеми участниками, каковые поэтому равно все зовутся «вакхами» (βακχοί) и «освященными» (ὅσιοι). Естественная же форма соборности, — поскольку речь идет не об исключающих присутствие мужчин женских радениях, — была непосредственно дана в союзе родичей. Только позднейшее время ослабило эту норму по отношению к мужскому жречеству. Но значение последнего, в противоположность древнейшему жречеству прадионисийских культов, в исторической Дионисовой религии было относительно не велико и бόльшим быть не могло в силу ее внутренних основоположений.
3. Коллегии менад
Триединое устройство, прообраз которого мы видим в Фивах, было обычным в женских фиасах. В Магнесию, как мы видели, посылаются для учреждения триединого союза, три менады «из рода» одной из трех первоменад «священной Фивы». Первоначальная триада может еще усиливаться в тройную. По стихотворению Феокрита, литургическое значение которого несомненно, три сестры Семелы с их тремя сонмами воздвигают три алтаря Семеле и девять Дионису.
Девять мужей и девять женщин образуют жреческие коллегии Диониса Эсимнета (Αἰσυμνήτος, чтимого, по-видимому, совместно с Артемидой Трикларией) в Патрах. Вот почему приписанная Анакреонту эпиграмма, — вероятно, надпись на базе рельефа, — живописует трех менад:
Но в то же время мы встречаем священные коллегии, не отвечающие принципу триады. Таковы одиннадцать Дионисиад (или δύσμαιναι) в Спарте и «шестнадцать жен» в Элиде. В обоих этих случаях перед нами, предположительно, результат исторического процесса последовательной спайки прежде самостоятельных фиасов. Число четырнадцати герэр в Афинах объясняется орфическим происхождением обряда и связывается с гептадой орфиков, заимствованным ими из Египта символом дионисийского расторжения и воссоединения божественной монады. Однако, заметны и следы древнейшей дихотомии, которая соответствовала, быть может, изначальному муже-женскому дуализму парнасской оргиастической религии. Мы видели в Мегаре двух перво-менад, дочерей Полиида, и гипотетически объяснили этот факт обрядового предания иначе, а именно — ранним синкретизмом двух культовых форм: материкового и островного. В мифе о Терее перед нами также только две менады — Прокна и Филомела; миф этот принадлежит Давлиде и, думается, отражает глубокую старину Парнаса. О последней мы можем заключать и по дельфийскому преданию о «Черной» и «Обуянной» (Θυῖα). Но примечательно, что родоначальницей фиад в собственном смысле почитается только вторая, с которой, вероятно, начинается трихотомическое устройство дельфийского фиаса — по крайней мере, на фронтоне Аполлонова храма Дионис был изображен, по Велькеру, с тремя фиадами. Фия кажется менадой Диониса; Черная — первопророчицей, как одержимая силой Земли (κάτοχος έκ τής Γῆς); ей подобна и мегарская Мантό. Триединое устройство, связанное, по-видимому, с Дионисовыми триетериями, утвердилось в Беотии, где Фивы провозгласили на всю Элладу рождество Дионисово; ему подчинился и минийский Орхомен. Оно означало конец эпохи предчувствий чаемого юного бога, грядущего сопрестольника темной богини, — конец эпохи менад, еще не знающих Диониса.
Все вышесказанное позволяет нам отчетливее уразуметь свидетельство Диодора о менадах исторической Греции: все девушки в тех городских общинах, где введены триетерии, должны по отеческому обычаю и священному уставу, за исполнением которого блюдут городские власти, в дни, назначенные для оргий, брать в руки тирсы и соучаствовать в радениях, восклицая «эвой» и славя Диониса, — женщины же замужние должны, каждая с тем сонмом, к которому принадлежит (κατά συστήματα), приносить совокупно жертвы богу и энтузиастически священнодействовать, по чину и преданию оргий, и вообще всячески провозглашать и прославлять присутствие Диониса. Итак, во главе сонмов стоят их предводительницы, ведущие «феорию» «в горы» (εἰς ὅρος); это посвященные менады, преемственно продолжающие родовое (по женской линии) служение; их окружают замужние гражданки, приписанные к соответствующему сонму, — некоторые из них, быть может, причислены к самому роду; меж тем как женщины активно участвуют в коллективных («оргийных») жертвоприношениях и иных таинственных священнодействиях, девушки составляют как бы сопутствующий им хор. Понятно все народное уважение к участницам столь строго организованных, недоступных мужчинам оргий и особенное почтение к настоятельницам священных фиасов. Одна поздней эпохи надпись из Милета отчетливо рисует религиозно-бытовой тип такой игуменьи (εἰς ὄρος ἦγε) менад, характерно названных «городскими» или «гражданскими» (πολιητίδες), в согласии с Диодором, причем общее выражение, «как надлежит доброй женщине» (χρῆστηι τούτο γυναίκι θέμις), — указывает на то, что все гражданки считались причастными городским оргиям; надпись, в нашем переводе, гласит:
4. Эринии как отражение прадионисийских менад в мифе
Что Эринии (Ἐρινύες) во многом подобны менадам, — те и другие, например, «ловчие собаки», — не подлежит сомнению; вопрос в том, позднее ли стали воображать и изображать их наподобие менад, или же они (Эринии, не Эвмениды) — стародавняя проекция в мифе культовой реальности менад первоначальных. Мы уверены в последнем: произвола в мифотворчестве нет, и предположенное уподобление должно было бы опираться на какое-либо соотношение между кругом Эриний и кругом Диониса, но и подземный Дионис им вовсе чужд. С другой стороны, если нам удалось напасть на след прадионисийских менад, то мы прямо видим их перед собой в лице Эриний. Ибо что иное эти «дщери Ночи», чье присутствие, чье прикосновение, чьи змеи, чьи факелы наводят безумие, — что иное эти сестры Лиссы, отымающей у человека разум, — как не неистовые служительницы ночной богини, с факелами в руках, увитые змеями, ведущие дикие хороводы? Сравним Эсхиловых Эриний и Еврипидовых вакханок: не так же ли засыпают те и другие, устав от бешеной погони или исступленного кружения, и вдруг, чуткие, вскакивают, чтобы продолжать наяву священный свой бред? Мы понимаем, почему Эринии — «старшие богини» и «старицы»; они — представительницы ветхого завета эллинской религии. Мы понимаем, почему они страшны: они — воспоминание об ужасной религиозной были человеко-убийственных преследований. Мы понимаем, почему наименьшее число их не всегда три, как это приличествует женским божествам, мыслимым множественными, но иногда, на изображениях Орестовой травли, их всего только две — как две перво-менады, «Черная» и «Обуянная», запомнились из седой старины в Дельфах. Мы понимаем, почему, древние обладательницы прорицалища, так свободно проникают они, по Эсхилу, в Аполлонов храм и располагаются на каменных сиденьях вкруг омфала.
Их дионисийские атрибуты изначальны, ибо не было основания ни цели одарять их таковыми после: буколический кентрон (βουκόλος κέντρον — пастушье стрекало) или обоюдоострая секира и плющевой венок. Они мычат, как коровы, а мычанье быка или подражание этому звуку мы знаем как отличие дионисийских оргий, по описанию из «Эдонов» Эсхила. Тот же поэт рядит Эринию в черную козью шкуру, придавая ей соответствующее наименование Диониса (μελάναιγις, Eumen. 680); она же — Черная, как та дельфийская первовещунья. Прежде чем Киферон,¹⁴ змеиное гнездо, стал священной горой Диониса, им владели увитые змеями жрицы Ночи: отсюда предание о гибели юноши Киферона, презревшего любовь Эринии Тисифоны, — от жала ее змеи. Страстнáя легенда запечатлела культовую память о мужеубийственных оргиях киферонских менад, еще не укрощенных дельфийской религией. Так отражение обрядовой действительности в мифе восполняет недостаток прямых свидетельств о доаполлоновском, прадионисийском прошлом парнасского оргиазма.
______________________________
[14] Κιθαιρών (-ῶνος) ὁ Киферон (гора на границе Аттики и Беотии) Her., Aesch., Soph.
__________________________________
________________
КОММЕНТАРИИ
В качестве послесловия, хотелось бы обратиться к мифологическому сюжету рождения Диониса в изложении Нонна, который первыми менадами (μαινάς, т.е. «неиствующими») определяет нимф, вскормивших Диониса. Однако причиной их безумства является не Дионис, а Гера, преисполненная яростью, ревнивая супруга Зевса.
[1] Ὥραι αἱ Хоры, богини времен года, ясной погоды, урожая, юности и красоты, хранительницы небесных врат, спутницы богов, преимущ. Афродиты; по Гесиоду их было три: Εὐνομία, Δίκη и Εἰρήνη, в аттической культе — две: Θαλλώ (Весна) и Καρπώ (Осень) Hom., HH., Hes., Theocr.
[2] λυαῖος ὁ освободитель (от забот) — эпитет Вакха-Диониса Anacr., Plut.
[3] εἰραφιώτης (-ου) adj. m предполож. {ῥάπτω} зашитый (подразумевается в бедро Зевса) — эпитет Вакха HH.
[4] Σελήνη ἡ Селена (или Феба, дочь Гипериона, сестра Гелиоса, богиня луны); от σέλας («свет», «сияние») HH., Hes.
[5] Λάμος ὁ Лам, река в Киликии.
[6] Μελικέρτης (-ου) ὁ Меликерт, в древнегреческой мифологии, сын Ино и царя Орхомена Афаманта. После того, как Гера наслала на его мать Ино безумие и та бросилась в море вместе с сыном, Меликерт был превращен в морское божество Палемона (Παλαίμων), который обычно изображался верхом на дельфине.
_______________________________
ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
III. ПРАДИОНИСИЙСКИЙ КОРЕНЬ МЕНАД
1. Древнейшая память о менадах
Прадионисийский корень менад обнаруживается рядом определительных признаков. Если немногие упоминания Гомера о Дионисе оспоримы в рассуждении их подлинной древности, — о менадах можно утверждать, что Гомер их знает, не зная Диониса. Остерегаясь рассматривать Гомерову «менаду» (μαινάς) как служительницу позднейшего культа, исследователи толковали это слово в общем и неизбежно плоском значении — «безумствующая, исступленная»;¹ однако субстантивация глагольного понятия, и притом только в женском роде, требует принять nomen за означение устойчивого типа, тем более, что уподобление Андромахи, устремившейся вперед с сильно бьющимся сердцем, «менаде» могло быть вполне понятно и художественно-действенно лишь при том условии, если эта последняя была хорошо известна как бытовое и психологическое явление sui generis (уникальность). Но менада без Диониса единственно мыслима лишь на почве теории, устанавливающей прадионисийскую эпоху в развитии Дионисовой религии.
______________________________
[1] μαινάς, -άδος (ᾰδ) adj. f
I.
1) неистовствующая, исступленная; ex. (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.);
2) сводящая с ума, наводящая безумие; ex. (ὄρνις, т.е. ἴυγξ Pind.)
II.
1) исступленная вакханка, менада; ex. μαινάδι ἴση Hom. — подобная менаде, т.е. обезумевшая от горя (Андромаха);
2) исступленная словно менада; ex. Κασάνδρα Eur.
• Очевидно этимология слова μαινάς (менада) тесно связана с луной (μηνάς) и культом богини луны.
Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.
μηνάς (-άδος) ἡ луна; ex. μηνάδος αἴγλα Eur. — лунное сияние
μῆνις, дор. μᾰνις (-ιος), поздн. μῆνιδος ἡ гнев, негодование, злоба; ex. (Διός Hom.; βαρεῖα Soph.)
У Павсания (X, 4, 3), далее, мы находим нижеследующее объяснение эпитета города Панопея (Πανοπεύς) καλλίχορος в Одиссее (XI, 580):
«Почему Гомер называет город Панопей хороводным (καλλίχορος),² узнал я в Афинах от так называемых фиад.³ Фиады же — аттические женщины, которые ходят через год на Парнас и вместе с женщинами из Дельфов правят оргии Дионису. Их обычай — водить хороводы по пути в Дельфы, как в других местах, так и в Панопее. Эпитет, прилагаемый Гомером к имени этого города, по-видимому, знаменует хороводы фиад».
___________________________
[2] καλλίχορος (καλλί-χορος)
1) с прекрасными площадями для хороводов; ex. (Πανοπεύς Hom.; πόλις Pind.; Ἀθῆναι Eur.; ἀγορά Anth.)
2) предназначенный для прекрасных плясок, хороводный; ex. (παιάν, στέφανος Eur.)
3) кружащийся в изящной пляске, ведущий хоровод; ex. (δελφῖνες Eur.) τρόπον τὸν καλλιχορώτατον Arph. — в чудеснейшем хороводе.
[3] θυϊάς (-άδος) ἡ исступленная, неистовая Plut.
В самом деле, составители того рассказа об Одиссеевом нисхождении в подземное царство, который в составе Одиссеи известен под названием первой песни о мертвых (Nεκυία),⁴ очевидно, знали Панопей, по дороге из Херонеи в Давлиду, как «город прекрасных хороводов», что не может быть отнесено к хорам нимф, как предлагает Лобек, потому что речь идет не об источнике, а о городе, и скорее всего указывает на паломничества феорид,⁵ их священные шествия, или «феории»,⁶ к местам парнасских радений. Женские дионисийские таинства знакомы и Гесиоду.⁷
______________________________
[4] νεκυία, правильнее νέκυια ἡ вызывание мертвецов, некромантия Diod., Plut., Luc. (заглавие XI песни «Одиссеи»).
[5] θεωρίς (-ίδος) ἡ феорида, паломница.
[6] Пример такой феории (θεωρία) в отрывке Еврипидова «Паламеда» у Страбона (X, р. 720 С), где вакхический хор не эллинских женщин приходит в ахейский стан, чтобы под его охраной, согласно общему ἱερά νόμιμα (священному обряду), править на горе Иде оргии Дионису и фригийской Матери богов. Предводительница хора называет себя фиадой Диониса (θυιάς Διονύσου ἱκόμαν), по эмендации Виламовица (Herakles I, S. 363, А. 40).
[7] ἐμανήσαν, ὥς μέν Ἡσίοδος φησίν, ὅτι τάς Διονύσου (Apollod. II, 2, 2)
Глубокая древность отпечатлелась на формах оргиастических сообществ. Дельфийские фиады составляли религиозный союз — фиас (θίασος), предводительницей или настоятельницей (ἀρχηγός) которого во времена Плутарха была Клея. Эпонимной фиасоначальницей почиталась мифическая Фия (Θυῖα), рядом с ней стояла не менее мифическая «Черная» (Κελαινώ, Mέλαινα, Μελανίς, Μελανθέια, Μελανθώ⁸). Посвященное Фии капище в Дельфах известно Геродоту (VII, 178). О подобном же ἡρῷον стародавней менады говорит Павсаний, отмечая «близ театра города Патр (срв. место погребения Фессалы пониже приводимой надписи из Магнесии) священный участок некоей местной жительницы». Гробницы Астикратеи (Αστυκράτεια) и Манто в Мегаре, при входе в священный участок (τέμενος) Диониса, очевидно, также были местами героического культа древле прославленных менад, из коих вторая, как говорит ее имя, обладала даром пророческим. Впрочем, миф хорошо их помнит: они были дочерьми Полиида, основателя культа Диониса «отеческого» (πατρώιος) в Мегаре, Мелампова правнука и, подобно прадеду, дионисийского героя, прорицателя и очистителя.⁹
______________________________
[8] 226. Прибавим несколько слов о другой, а именно гомеровской, Меланфό. К древнейшим героическим ликам пра-Диониса подземного принадлежит, по нашему мнению, козовод Меланфий в Одиссее, изрубленный в куски и отданный в снедь псам пособник женихов, носитель хтонического и дионисийского имени, соименный одному из героев Вакхова воинства в поэме Нонна, льющий вино в кубок по изображению на одной камее (Roscher's Myth. Lex. II, 2582), страстнόй герой в черной козьей шкуре (μελάναιγις). Меланфию соответствует, как женский коррелят, повешенная (подобно Эригоне и связанная, следовательно, с Артемидой) Меланфо. Параллелизм мужского и женского черных имен, хтонические собаки, разъятие тела на части, женское повешение, — наконец, самая оппозиция аристократическим культам, — все определяет Меланфия и Меланфо в вышераскрытом смысле и служит характерным примером подгомеровской религиозной Греции и отношения к ней Гомеридов. (Waser s. v. Delphos, Pauly-Wissowa's Real-Enc. IV, 2700. Weicker, griech. Götterlehre I, S.)
[9] Полиид (Πολύειδος) сочетается в предании с Критом, и — в противоположность легенде о Мелампе как ученике египетских жрецов — это не кажется нам лишенным правдоподобия. Мы подозреваем здесь древнейший синкретизм материкового культа и островного, простирающего власть Диониса на морскую стихию, — чем объяснялась бы и двойственная организация местных менад, ознаменованная двумя дочерьми Полиида. Последний кажется героической проекцией островного Диониса, «многовидного» (πολυειδής). Поставленный Полиидом в Мегаре «закрытый» идол Диониса, из частей которого Павсаний мог видеть только лицо (πρόσῶπον), был, вероятно, одной из Дионисовых голов, почитаемых в островном круге. Так бог, вытащенный рыбаками из моря в Метимне, был личнόю маской (πρόσῶπον); оракул повелел чтить его как Диониса Фаллена (Διόνυσος Φαλλήν) (Euseb., praep. ev. V, 36).
2. Магнетская надпись. Менады-родоначальницы
Надпись из Магнесии на Меандре, начертанная (по-видимому, заново) в I в., но говорящая о событиях более или менее отдаленной древности, приводит дельфийский оракул, в исполнение коего магнеты призвали из Фив менад, чтобы учредить в своем городе оргии Дионису по беотийскому чину. Ниже перевод этой надписи:
В добрый час (ἀγαθῆι τύχηι). Пританом был Акродем, сын Диотима. Народ магнетов вопросил бога о бывшем знамении: в сломленной ветром чинаре, ниже города, обретено изваяние Диониса; что знаменует сие народу, и что делать ему надлежит, дабы жить безбоязненно в вящем благоденствии? Священновопрошателями посланы в Дельфы: Гермонакт, сын Эпикрата, и Аристарх, сын Диодора. Бог изрек:
Вы, что в удел у Меандровых струй улучили твердыню,
Нашей державы надежный оплот, о магнеты, пришли вы
Вещий из уст моих слышать глагол: Диониса явленье,
В полом расщепленном древе лежащего, юноши видом,
Что знаменует? Внемлите! Кремля воздвигая громаду,
Вы не радели владыке сложить пышнозданные домы.
Ныне, народ многомощный, восставь святилища богу:
Тирсы угодны ему и жреца непорочного жертвы.
Путь вам обратный лежит чрез угодия Фивы священной;
Там обретете менад из рода Кадмовой Ино.
Оргии¹⁰ жены дадут вам и чин благолепный служений,
И Дионисовы сонмы священнопоставят во граде.
___________________________
[10] ὄργια ἡ оргия, тайный обряд, ритуал, священнодействие, жертвоприношение.
Согласно божественному вещанию, чрез священновопрошателей приведены были из Фив три менады: Коскό (Κοσκώ), Баубό (Βαυβώ) и Фессала (Θεσσαλά). И Коско собрала сонм (θίασος), тех, что у чинары; Баубо же — сонм, что перед городом; Фессала же — сонм Катабатов (καταβαταί). По смерти были они погребены городом. Прах Коско покоится в селении Коскобуне (Κοσκοβουνός, холм Коско), Баубо — в Табарне (Ταβάρνα), Фессалы — близ театра.
Эта надпись не только подтверждает известия о коллегиях менад и наблюдения о их насаждении центральной религиозной властью, т.е. дельфийским жречеством, в Спарте, Ахайе, Элиде, но и проливает свет на традиционные нормы организации женских оргий. Мы видим, что не напрасно Еврипид в трагедии «Вакханки», изображая установление Дионисовой религии в Фивах, говорит о трех сонмах менад, предводимых тремя дочерьми Кадма, — что подтверждает и пользовавшийся другими источниками Феокрит в своих «Ленах». Фиванская община служительниц Диониса очевидно представляла собою тройственный фиас; каждая из трех частей его приносила жертвы у отдельного алтаря и вела свой род от одной из трех древних основательниц оргий, сестер Семелы, впервые поставивших алтари Дионису в горах, — Агавы, Автонои, Ино. Четырнадцать афинских герэр (γεραιραί)¹¹ приносят жертвы Дионису в Лимнах на четырнадцати разных алтарях. Алтарь поручался предпочтительно жрице из рода, ведущего свое происхождение от древней менады. Сколь неожиданным ни кажется на первый взгляд, что род ведется не от дионисийского героя, но от менады, однако должно признать, что в оргиастических общинах это было именно так. Слова оракула: «из рода Кадмовой Ино», — приобретают, с этой точки зрения, значение свидетельства первостепенной важности. Счет поколений по женской линии (какой мы находим в героических генеалогиях Гесиодовой школы) — в родовом преемстве именно женского жречества вообще не безызвестен. Этот знаменательный остаток матриархата доказывает гинекократический строй культа богини, из коего проистекли женские оргии, более древние по своему происхождению, нежели почитание Диониса. Так Ὀλεῖαι минийского клана продолжали родовое преемство первых миниад (Μινυάδες).¹² О Семахидах читаем у Стефана Византийца, что так звался «дем в Аттике, от Семаха, — у него же и дочерей его гостил Дионис; от них, т.е. от дочерей Семаховых, пошли жрицы Дионисовы». Дельфийские фиады древнее самого Дельфа, дружелюбно встретившего в своем царстве пришельца Аполлона, ибо они принадлежат к его божественной родословной. Мегарские менады ведут свой род от Полиида, лакедемонские Левкиппиды от Левкиппа — чрез посредство дочерей названных героев, которые и являются в собственном смысле родоначальницами, так как генеалогический ряд продолжают μαινάδες ἀρχηγοί. Таков наиболее важный для нашей ближайшей цели вывод из приведенной надписи.
______________________________
[11] γεραραί, γεραιραί αἱ «старицы» (жрицы Диониса в Афинах) Dem.
[12] Μινυάδες — в греческой мифологии три дочери (Левкиппа, Арсиппа и Алкифоя) правившего в Орхомене Миния (родоначальника племени миниев). Во время празднеств в честь Диониса, Миниады отказались принимать участие в вакхических шествиях и остались дома, продолжая прясть и заниматься другими домашними делами. Дионис пытался заставить их примкнуть к менадам, но Миниады ответили ему насмешками. Тогда Дионис наслал на Миниад безумие, в припадке которого они разорвали сына Левкиппы, приняв его за оленя.
Явление Диониса в древе можно назвать обычным; но дерево на этот раз не ель или смоковница, а платан, в котором поселяются божественные и героические души, как это показывает пример Елены. Топография трех учреждаемых фиасов также многозначительна. Первый, естественно, имеет своим средоточием место чудесного явления. Помещение другого находит себе ряд аналогий в святилищах Диониса «fuori le mura» (за стенами города), перед городскими воротами. Одним из древнейших случаев такой локализации культа является «очаг» (ἐσχάρα) Элевтерея в Академии: здесь Дионис почитается, как пришелец и гость, на месте своего предварительного становья у городских стен. Он овладевает городом как захожий герой; апофеоза ожидает его в кремле. Священный участок, отводимый ему внутри сакральной границы города (intra pomoerium), вмещает его храм и театр. Этот последний — «святилище (ἱερόν) Диониса», как гласит надпись при входе в театр — именно Магнесии на Меандре (Inschr. v. Magn. 233). Золоченая скульптурная группа Диониса, окруженного менадами, стояла близ сикионского театра. Общение между городским, театральным участком и пригородным, как мы видим это в Афинах и в том же Сикионе (Paus. II, 7, 5), поддерживается обрядом перенесения чтимых кумиров ночью при светочах. Поскольку Дионис является при этом «низводящим» своих поклонников с высот кремля за город и поклонники в ночном шествии «нисходят» с ним к его героическому, т.е. хтоническому, «очагу». Дионису театра свойственно наименование «вождя вниз» (καθηγεμών), а фиасу театра — наименование «нисходящих» (καταβαταί); но оба имеют значение религиозно-символическое: под нисхождением за героем разумеется нисхождение в подземное царство, что и знаменуется ночным шествием со светочами, и перенесение кремлевого идола в низины равносильно погребению бога. Все покушения некоторых ученых отнять у трагедии характер мистерий Дионисовых рушатся при первом пристальном взгляде на сценические древности. Органическая связь менад с театром — другая улика его исконного назначения быть святилищем страдающего и умирающего бога.
Необходимо, однако, ограничить вышесказанное о священных родах нижеследующими соображениями. Когда речь идет о родовом преемстве священнослужения, часто слово «род» (γένος) должно понимать как искусственное соединение фиктивных родичей, как религиозный союз в сакрально-юридических формах рода, имя и sacra которого уже не могли прекратиться, однажды став элементом государственной религии, т.е. непременной частью принятого государством на все века состава гентильных культов. Так, культ Диониса «отеческого» (Πατρώιος) в Мегаре мог и во дни Павсания быть во владении Полиидова рода, подобно тому как в Икарии он принадлежал Икарийскому роду, члены которого были как бы икарийцами по преимуществу и постольку противополагали себя остальному гражданству. Таковым мог быть афинский род Бакхиадов, организованный в целях служения Дионису Элевтерею и празднования городских Великих Дионисий, — род, управляемый, по эпиграфическим данным, выборными архонтами. Допущение чужих к родовым «оргиям», отправляемым «оргеонами»,¹³ есть уже принятие в подчиненную категорию членов рода, и первоначальное посвящение в мистерии могло быть, как думал А.Дитерих, только формой усыновления.
______________________________
[13] ὀργεών (-ῶνος) ὁ оргеон (представитель каждого афинского дема, избиравшийся для участия в периодических жертвоприношениях) Isae.
Вообще можно сказать, что дионисийское жречество более глубоко, чем другие эллинские, уходит корнями в родовой уклад. В самом деле, служение Дионису было соборным по преимуществу, что и выражается сакральным термином «оргий». Ибо оргии суть богослужения, совершаемые совместно — и первоначально без жреца — всеми участниками, каковые поэтому равно все зовутся «вакхами» (βακχοί) и «освященными» (ὅσιοι). Естественная же форма соборности, — поскольку речь идет не об исключающих присутствие мужчин женских радениях, — была непосредственно дана в союзе родичей. Только позднейшее время ослабило эту норму по отношению к мужскому жречеству. Но значение последнего, в противоположность древнейшему жречеству прадионисийских культов, в исторической Дионисовой религии было относительно не велико и бόльшим быть не могло в силу ее внутренних основоположений.
3. Коллегии менад
Триединое устройство, прообраз которого мы видим в Фивах, было обычным в женских фиасах. В Магнесию, как мы видели, посылаются для учреждения триединого союза, три менады «из рода» одной из трех первоменад «священной Фивы». Первоначальная триада может еще усиливаться в тройную. По стихотворению Феокрита, литургическое значение которого несомненно, три сестры Семелы с их тремя сонмами воздвигают три алтаря Семеле и девять Дионису.
«Бог, который находится в ларце, именуется Эсимнетом (Владыкой); тех, которые служат специально ему, всего девять человек, их выбирает народ по их достоинству из числа всех граждан; столько же выбирается и женщин. В праздничную ночь один только раз выносит наружу жрец этот ларец. Это особенность и торжественный акт специально этой ночи. Кроме того, часть молодых людей, детей местных жителей, украсив свои головы венками из колосьев, спускается к реке Мелиху: некогда так украшались те, кого вели на жертву Артемиде. В наше же время они складывают свои венки из колосьев у статуи богини и, омывшись в реке, вновь возлагают на себя венки, но уже из плюща и так идут к храму Эсимнета.» (Павсаний VII, 20:1)
Девять мужей и девять женщин образуют жреческие коллегии Диониса Эсимнета (Αἰσυμνήτος, чтимого, по-видимому, совместно с Артемидой Трикларией) в Патрах. Вот почему приписанная Анакреонту эпиграмма, — вероятно, надпись на базе рельефа, — живописует трех менад:
«Эта, что с тирсом в руке, — Геликония, — с нею Ксантиппа;
Главка — третья: с горы сходят от оргий святых
К праздничным хорам они, вдохновенные, и Дионису
Сочное гроздие в дар, плющ и козленка несут.»
Но в то же время мы встречаем священные коллегии, не отвечающие принципу триады. Таковы одиннадцать Дионисиад (или δύσμαιναι) в Спарте и «шестнадцать жен» в Элиде. В обоих этих случаях перед нами, предположительно, результат исторического процесса последовательной спайки прежде самостоятельных фиасов. Число четырнадцати герэр в Афинах объясняется орфическим происхождением обряда и связывается с гептадой орфиков, заимствованным ими из Египта символом дионисийского расторжения и воссоединения божественной монады. Однако, заметны и следы древнейшей дихотомии, которая соответствовала, быть может, изначальному муже-женскому дуализму парнасской оргиастической религии. Мы видели в Мегаре двух перво-менад, дочерей Полиида, и гипотетически объяснили этот факт обрядового предания иначе, а именно — ранним синкретизмом двух культовых форм: материкового и островного. В мифе о Терее перед нами также только две менады — Прокна и Филомела; миф этот принадлежит Давлиде и, думается, отражает глубокую старину Парнаса. О последней мы можем заключать и по дельфийскому преданию о «Черной» и «Обуянной» (Θυῖα). Но примечательно, что родоначальницей фиад в собственном смысле почитается только вторая, с которой, вероятно, начинается трихотомическое устройство дельфийского фиаса — по крайней мере, на фронтоне Аполлонова храма Дионис был изображен, по Велькеру, с тремя фиадами. Фия кажется менадой Диониса; Черная — первопророчицей, как одержимая силой Земли (κάτοχος έκ τής Γῆς); ей подобна и мегарская Мантό. Триединое устройство, связанное, по-видимому, с Дионисовыми триетериями, утвердилось в Беотии, где Фивы провозгласили на всю Элладу рождество Дионисово; ему подчинился и минийский Орхомен. Оно означало конец эпохи предчувствий чаемого юного бога, грядущего сопрестольника темной богини, — конец эпохи менад, еще не знающих Диониса.
Все вышесказанное позволяет нам отчетливее уразуметь свидетельство Диодора о менадах исторической Греции: все девушки в тех городских общинах, где введены триетерии, должны по отеческому обычаю и священному уставу, за исполнением которого блюдут городские власти, в дни, назначенные для оргий, брать в руки тирсы и соучаствовать в радениях, восклицая «эвой» и славя Диониса, — женщины же замужние должны, каждая с тем сонмом, к которому принадлежит (κατά συστήματα), приносить совокупно жертвы богу и энтузиастически священнодействовать, по чину и преданию оргий, и вообще всячески провозглашать и прославлять присутствие Диониса. Итак, во главе сонмов стоят их предводительницы, ведущие «феорию» «в горы» (εἰς ὅρος); это посвященные менады, преемственно продолжающие родовое (по женской линии) служение; их окружают замужние гражданки, приписанные к соответствующему сонму, — некоторые из них, быть может, причислены к самому роду; меж тем как женщины активно участвуют в коллективных («оргийных») жертвоприношениях и иных таинственных священнодействиях, девушки составляют как бы сопутствующий им хор. Понятно все народное уважение к участницам столь строго организованных, недоступных мужчинам оргий и особенное почтение к настоятельницам священных фиасов. Одна поздней эпохи надпись из Милета отчетливо рисует религиозно-бытовой тип такой игуменьи (εἰς ὄρος ἦγε) менад, характерно названных «городскими» или «гражданскими» (πολιητίδες), в согласии с Диодором, причем общее выражение, «как надлежит доброй женщине» (χρῆστηι τούτο γυναίκι θέμις), — указывает на то, что все гражданки считались причастными городским оргиям; надпись, в нашем переводе, гласит:
«Здесь Дионисова жрица (ὅσιη) лежит. Вакханки градские,
Молвите: «радуйся!» Чтить доброй жене надлежит
Ту, что вас в горы водила, что оргии правила с вами,
Что возносила дары жертв и служений за град.
Если же спросит вас пришлый: «как имя ей?» — Алкмеонида —
Имя, Геродия дочь, знавшая правых удел (καλών μοίραν επισταμένη).»
4. Эринии как отражение прадионисийских менад в мифе
Что Эринии (Ἐρινύες) во многом подобны менадам, — те и другие, например, «ловчие собаки», — не подлежит сомнению; вопрос в том, позднее ли стали воображать и изображать их наподобие менад, или же они (Эринии, не Эвмениды) — стародавняя проекция в мифе культовой реальности менад первоначальных. Мы уверены в последнем: произвола в мифотворчестве нет, и предположенное уподобление должно было бы опираться на какое-либо соотношение между кругом Эриний и кругом Диониса, но и подземный Дионис им вовсе чужд. С другой стороны, если нам удалось напасть на след прадионисийских менад, то мы прямо видим их перед собой в лице Эриний. Ибо что иное эти «дщери Ночи», чье присутствие, чье прикосновение, чьи змеи, чьи факелы наводят безумие, — что иное эти сестры Лиссы, отымающей у человека разум, — как не неистовые служительницы ночной богини, с факелами в руках, увитые змеями, ведущие дикие хороводы? Сравним Эсхиловых Эриний и Еврипидовых вакханок: не так же ли засыпают те и другие, устав от бешеной погони или исступленного кружения, и вдруг, чуткие, вскакивают, чтобы продолжать наяву священный свой бред? Мы понимаем, почему Эринии — «старшие богини» и «старицы»; они — представительницы ветхого завета эллинской религии. Мы понимаем, почему они страшны: они — воспоминание об ужасной религиозной были человеко-убийственных преследований. Мы понимаем, почему наименьшее число их не всегда три, как это приличествует женским божествам, мыслимым множественными, но иногда, на изображениях Орестовой травли, их всего только две — как две перво-менады, «Черная» и «Обуянная», запомнились из седой старины в Дельфах. Мы понимаем, почему, древние обладательницы прорицалища, так свободно проникают они, по Эсхилу, в Аполлонов храм и располагаются на каменных сиденьях вкруг омфала.
Их дионисийские атрибуты изначальны, ибо не было основания ни цели одарять их таковыми после: буколический кентрон (βουκόλος κέντρον — пастушье стрекало) или обоюдоострая секира и плющевой венок. Они мычат, как коровы, а мычанье быка или подражание этому звуку мы знаем как отличие дионисийских оргий, по описанию из «Эдонов» Эсхила. Тот же поэт рядит Эринию в черную козью шкуру, придавая ей соответствующее наименование Диониса (μελάναιγις, Eumen. 680); она же — Черная, как та дельфийская первовещунья. Прежде чем Киферон,¹⁴ змеиное гнездо, стал священной горой Диониса, им владели увитые змеями жрицы Ночи: отсюда предание о гибели юноши Киферона, презревшего любовь Эринии Тисифоны, — от жала ее змеи. Страстнáя легенда запечатлела культовую память о мужеубийственных оргиях киферонских менад, еще не укрощенных дельфийской религией. Так отражение обрядовой действительности в мифе восполняет недостаток прямых свидетельств о доаполлоновском, прадионисийском прошлом парнасского оргиазма.
______________________________
[14] Κιθαιρών (-ῶνος) ὁ Киферон (гора на границе Аттики и Беотии) Her., Aesch., Soph.
________________
КОММЕНТАРИИ
В качестве послесловия, хотелось бы обратиться к мифологическому сюжету рождения Диониса в изложении Нонна, который первыми менадами (μαινάς, т.е. «неиствующими») определяет нимф, вскормивших Диониса. Однако причиной их безумства является не Дионис, а Гера, преисполненная яростью, ревнивая супруга Зевса.
«Зевс-Отец от Семелы пылавшего лона младенца,______________________________
Полурожденного Вакха, избежавшего молний,
Принял и поместил в бедро, и ждал окончанья
Бега месяцев лунных, положенных для рожденья.
Вот и рожденье, и длань Кронида как повитуха
Опытная в этом деле, бедро от швов разрешает,
Где дитя пребывало, трудных вспомощница родов.
Стало бедро Зевеса, как и у женщин, смягчаться:
Слишком ранний младенец без матери чрева доношен,
10
Взят от женского лона, зашит он в бедро мужское!
Только лишь появился от крови бога младенец,
Хоры¹ дитя увенчали из стеблей плюща плетеницей,
Славя грядущее Вакха, и сами в цветочных уборах
Благорогого змея кольца гибкого тела
Располагают у чресл благорогого Диониса.
Над драканийским отрогом, местом рождения Вакха,
Майи отпрыск, Гермес, взлетел в простор поднебесный,
Приняв во длани младенца. Родившегося Лиэя²
Он нарек Дионисом, ибо в ноге свое бремя
20
Выносил Дий, хромая с бедром непомерно раздутым;
Значит и «нис» в сиракузском говоре «хромоногий» —
Так вот в имени бога имя отца прозвучало!
Бог народившийся также зовется Эйрафиотом,³
Ибо в бедро мужское зашил младенца родитель!
Только лишь бог народился (не требовалось омовенья!),
Детку, не знавшую плача, во длани Гермес принимает —
Бог был подобен Селене с рожками над висками.⁴
Нимфам, дщерям потока Лама,⁵ младенец доверен,
Сын Зевеса, владыка лозы виноградной. И Вакха
30
Приняли на руки нимфы, в уста дитяти вливая
Каждая сок свой млечный от груди, текущий свободно.
Взоры дитя устремляет ко своду горнему неба,
Глаз не смыкает, лежа на спинке, ножками воздух
Маленький Вакх взбивает, млеком себя услаждая,
На небосвод взирает, владенье отчее, дивный,
Радуясь бегу созвездий, смеется дитя беззаботно.
Отпрыска Дия кормящих, дщерей Лама потока,
Гнев ревнивый и тяжкий супруги Зевеса бичует:
И безумствуют нимфы, застигнуты яростью Геры,
40
Бьют рабынь и прислужниц, странников на перекрестках
Троп и дорог на части острым ножом разрубают,
Воя и завывая, с выпученными очами
В пляске несутся свирепой, в безумстве раздравши ланиты,
В разуме помутившись, бегут и бегут непрестанно,
Кто куда, то кружася на месте, то прыгая дальше!
Волосы, распустившись, вольно вьются по ветру
Бурному, ткань хитона шафранная каждой безумной
Пеною белой клубится, стекающей с грудей девичьих.
Буйством влекомы, унесшим их разум, они бы
50
Неразумного Вакха ножом растерзали на части,
Если б, нечуемый вовсе, ступая как вор по воздушным
Тропам, крылатой плесницей Вакха Гермес не похитил!
Сжав младенца в объятьях спасительных, тут же уносит
Вакха Гермес в жилище Ино, разродившейся только.
Дева младенца в то время к своей груди подносила,
Новорождённого сына, дитя свое, Меликерта,⁶
И округлые груди полнились млеком обильным,
С них сочилося млеко, сосцы тесня и терзая!»
(Нонн. Деяния Диониса IX)
[1] Ὥραι αἱ Хоры, богини времен года, ясной погоды, урожая, юности и красоты, хранительницы небесных врат, спутницы богов, преимущ. Афродиты; по Гесиоду их было три: Εὐνομία, Δίκη и Εἰρήνη, в аттической культе — две: Θαλλώ (Весна) и Καρπώ (Осень) Hom., HH., Hes., Theocr.
[2] λυαῖος ὁ освободитель (от забот) — эпитет Вакха-Диониса Anacr., Plut.
[3] εἰραφιώτης (-ου) adj. m предполож. {ῥάπτω} зашитый (подразумевается в бедро Зевса) — эпитет Вакха HH.
[4] Σελήνη ἡ Селена (или Феба, дочь Гипериона, сестра Гелиоса, богиня луны); от σέλας («свет», «сияние») HH., Hes.
[5] Λάμος ὁ Лам, река в Киликии.
[6] Μελικέρτης (-ου) ὁ Меликерт, в древнегреческой мифологии, сын Ино и царя Орхомена Афаманта. После того, как Гера наслала на его мать Ино безумие и та бросилась в море вместе с сыном, Меликерт был превращен в морское божество Палемона (Παλαίμων), который обычно изображался верхом на дельфине.
_______________________________
|
Метки: Менады Дионис Греция Мистерии |
ГЕРОИ |
Вячеслав Иванов
ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
IV. ГЕРОИ-ИПОСТАСИ ДИОНИСА
1. Герои как страстотерпцы древнейшего френоса и ἥρως Διόνυσος
Героями называли эллины смертных (обычно, впрочем, родных по крови богам, если не прямо от богов рожденных смертными женами «сынов божиих» — θεών παίδες), прославленных необычайными деяниями и участью, на земле претерпевших страдание, по смерти же не утративших индивидуальной силы воздействия на живых, особенно на ближних своего рода и племени и своей страны, имеющих свою сферу владычества в подземном царстве и умноживших собой неопределенно-огромный сонм подземных царей.
В легионе сошедших в недра земли «богоравных» (ἰσόθεοι, ἡμίθεοι), «благородных» (γενναίοι), «огромных» (πελώριοι), «благообразных» (εὔμορφοι, — Aesch. Ag. 454), «сильных» (ἰσχυροί, δυνατοί, κρείσσονες), «священных» (σεμνοί) смешались, без сомнения, забытые демоны и развенчанные по недоразумению боги, чье местное имя, прозвание и обличие не выдержало соперничества шире распространенных ознаменований того же или родственного религиозного понятия, — с возвеличенными непрерывным стародавним почитанием родовыми и племенными пращурами, какими помнило их былинное и обрядовое предание заповедных урочищ. Но так как под героями в собственном смысле общенародное словоупотребление разумело именно живших на земле смертных, а не богов бессмертных, то вторая из названных двух категорий определительна для всех героев вообще; ибо существа божественные, утратившие свою божественность, во всем должны были уподобиться освященным предкам и, если даже притязали некогда на олимпийские обители и соответствующие жертвы (θύματα), довольствоваться отныне дарами, ниспосылаемыми в жилища усопших, и жертвами только героическими (ἐνάγισματα), т.е. надгробными.
Хотя многосмысленное и таинственное имя ἥρως («герой») часто было равносильно δαίμων («божество», «дух») в неопределенности своего применения к предметам темных народных вер, все же оно неразрывно сочеталось с представлением, что данный объект хтонического культа жил в свое время среди людей, чего нельзя было, однако, утверждать о всех обитателях преисподней, отчего демоны хтонические и герои никогда и не были окончательно отожествлены у эллинов, вопреки мнению Узенера, ни даже в сельских религиях с их εὐήθεις θεοί («добродушные боги»). И каковы бы ни были в VII-VI веках до н.э. догматические и литургические видоизменения исконного культа героев, как бы ни субтилизировались понятия о загробной иерархии и о степенях героической канонизации, основы верования остались искони те же во все эпохи эллинства. Обоготворение же предков, только затемненное у Гомера, отрицать невозможно, — хотя еще менее основательно было бы выводить весь героический культ из этого обоготворения, ввиду подавляющего большинства героических имен и образов божественного происхождения, — что свидетельствует, впрочем, лишь о большей живучести религиозной памяти сравнительно с памятью исторической. Мир в глазах древнего человека полон душ разного качества, разной силы; душа и при жизни человека может временно покидать его тело, и в это тело может вселяться другая душа; живущий смертный бывает носителем души сверхчеловеческой; по смерти человека место такой душе в сонме подземных сильных, а не в толпе безликих теней. Пусть в переходную эпоху относительного скепсиса и в предрасположенной к нему общественной среде, — когда денежная вира (штраф за убийство) взамен кровавой мести временно заглушает голос пролитой крови, а об очищении от крови еще ничего не слышно, — незавидным представляется живому могущество бесплотных, и Ахиллу приписывается предпочтение рабской доли на земле господству над призраками: все же и тогда остается душа Ахиллова в Аиде душой подземного сильного, в противоположность бледному множеству подчиненных ему слабейших душ.
Но древнейшее представление об этом загробном сонме могучих неотделимо от почитания могилы боготворимого еще при жизни вождя и владыки — и тускнеет по мере удаления от отеческих курганов. Гомеров эпос был оторван от родимой почвы. Неудивительно, что развитие новой колонизации повело за собой оживление героического культа: последнее стало естественной задачей религиозной политики, стремившейся к укреплению племенных связей и к оздоровлению корней национального самосознания. Как отличительным признаком в понятии «героя», при всем обоготворении его, служит именно его смерть, так истинной основой героического культа — вещественная наличность могилы, со всем, что отсюда следует, до употребительного уже в VI веке перенесения священных останков. «Многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид» — в этом стихе, несмотря на всю отчужденность создавшей его эпохи и среды от загробной мистики, изначальной в эллинстве и вскоре пышно расцветшей, правильно выражена общая и постоянная основа и культа почивших, и культа героев. Та же черта — смерть героя — с особенной резкостью запечатлевается и в предании. Ибо эта смерть все же нечто большее, чем неизбежный конец любого смертного: недаром герой — полубог; за ним были права на бессмертие, которого ценою стольких трудов достигает один Геракл. Если бы мы сказали: смерть героя «трагична» сама по себе, то выразили бы современной фразеологией подлинно античное переживание героического «пафоса»: ведь затем, в сущности, и создали эллины свою трагедию, чтобы в религиозно-художественном творчестве дать исход и воплощение именно этому чувству.
Впрочем, то же по существу наблюдение можно представить осязательнее и нагляднее. Поминки — плач по усопшем; героическое предание естественно сосредоточено на скорбной стороне поминаемой участи, поскольку носителем его служит френос (θρῆνος), обрядовый плач; а таковой долго был единственным хранилищем и проводником былинной памяти. «Много было богатырей до Агамемнона, — замечает весьма точно Гораций, — но они забылись, не оплаканные, затем что не нашлось про них вещего певца». В самом деле, место позднейшего эпоса занимала до Гомера поминальная эполира, плачевные «славы» (κλέα ἀνδρῶν) и уже своды таковых. В певцах «слав», поминальщиках и плакальщицах, недостатка, правда, не было; но выселение в чужие края отлучило и мало-помалу отучило переселенцев от отеческих могил с их поминальными обрядами, и перезабылись старинные славы, а те, что еще помнились, изменились до неузнаваемости во всем, что не относилось к существенной характеристике героя и его участи, в устах поколений, родившихся на чужбине. И все же Гомерова Илиада — одна из таких laudationes funebres («поминальные славословия»), чем и объясняется ее «эпизодичность»: замысел поэта вовсе не представить войну с Троей, но лишь Ахиллову обиду с ее последствиями — гибелью Патрокла и гибелью Гектора, как роковыми поводами к гибели самого оплакиваемого героя, Ахилла; Илиада — только первая часть похоронной песни об Ахилловом роке. Итак, даже в ионийском эпосе, столь отдалившемся от староотеческого быта, поминальные славы еще сохраняют свой первоначальный смысл и строй. Эти сказания, по своему общему заданию, — распространенный плач (γόος), они родились из печали и сетования. По содержанию, они — страстные были (παθητικά), повествующие о «страстях героических» (ηρωικά πάθη). Неслучайно Аристотель определяет Илиаду как поэму «патетическую», т.е. страстную (в противоположность «этической», т.е. бытоописательной Одиссее), и Малая Илиада начинается с упоминания о «страстях»:
А Одиссей так определяет дело певца Демодока:
Религиозно-историческая особенность отношения к герою — именно скорбь и плач по нем: особенность его участи — «страдания», или «страсти». Оба рода объектов религиозного служения тем и разнятся между собой, что бессмертные, «вечно блаженные» боги по существу не подвержены страданию и бесстрастны (ἀπαθείς), герои же, будучи из рода смертных, по необходимости страстям причастны (εμπαθείς), они — страстотерпцы, лик их — страстной.
Прадионисийские культы искали синкретической формы, объединяющей обе религии — олимпийскую и хтоническую. Это был долгий период смутных поисков, глухого брожения умов, алчущих религиозной гармонии, миросозерцания целостного и утешительного. Рождались причудливые сказания, возникали иррациональные «могилы богов». Бывали, без сомнения, случаи (какие мы подозреваем в религиозных новообразованиях, вроде «Зевса-Агамемнона», «Зевса-Амфиарая», «Зевса-Трофония», «Зевса-Аристея» и им подобных), когда культовое прозвище бога, обособившись, давало начало самостоятельному героическому и прадионисийскому по своей природе культу, впоследствии же этот последний примыкал обратно к богопочитанию, его породившему, оставляя, однако, росток, коему суждено было позднее привиться к стволу Дионисовой религии, в качестве подчиненного культа героической Дионисовой ипостаси.
Когда имя и почитание Диониса было всенародно утверждено, понятие страстей героических перенесено было на обретенного, наконец, в его лице истинного «бога-героя», что по существу значит: бога и человека вместе (ἀνθρωποδαίμων, как в трагедии «Рес» именуется ее герой, праведный Дионисов прообраз). В какое же отношение должен был стать новый бог, герой κατεξοχήν (κατ ́ ἐξοχέν, более рельефно проявленный), к другим героям? Нигде у древних, даже в орфическом «богословии», мы не найдем на этот вопрос догматически определенного ответа. Но явно обнаруживается склонность религиозной мысли к признанию каждой отдельной героической участи как бы частным случаем единой универсальной героической судьбы или идеи, представленной Дионисом. Его патетическое божество обобщает, объемлет, содержит в себе все страстные доли, все лики и души поминаемых страстотерпцев. По многообразным историческим причинам, по условиям возникновения отдельных героических служений в эпоху прадионисийскую, некоторые герои приводятся в ближайшую с Дионисом связь, другие остаются от него поодаль; но все они — общники его страстей, он — верховный владыка их подземных обителей, куда нисходит к ним всем, как свой к своим присным, со светочем и вестью возврата, палингенесии (παλιγγενεσία, «новое рождение»). Неудивительно, что уже на ранних изображениях героизации мы встречаем, кроме исконной хтонической змеи, собственно дионисийские символы: венки вокруг головы сидящего на троне героя и Дионисов сосуд с вином — канфар — в его руках. Следуют изображения героических загробных вечерей, иногда с участием самого возлежащего Диониса. Но что значат слова Геродота о сикионцах, что они «чтили (героя) Адраста и славили страсти его трагическими хорами, Диониса не чтя, но Адраста, Клисфен же (тиран сикионский) отдал хоры Дионису, а остальное служение (герою, противнику Адраста) — Меланиппу»? Не свидетельствует ли этот случай о сепаратизме местных героических культов, об их сопротивлении дионисийской универсализации страстных служений? Впрочем, последние в своей чисто обрядовой сфере оставались неприкосновенными: становящаяся трагедия одна, по-видимому, выступает прямым органом начавшегося объединения. Это религиозно-политическое назначение проливает на ее развитие неожиданный свет. Но стародавняя традиция плачей по любимому герою, очевидно, глубоко коренилась в народной жизни, и присловие: «при чем тут Дионис (Οὐδέν πρός Διόνυσον)?» — служит доныне памятником недоумения и ропота, с каким в эпоху возникающей трагедии толпа встречала вторжение дионисийского обряда в обряд героического страстного действа и, обратно, внесение последнего в обрядовый круг Дионисовой религии.
Между тем, несмотря на указанное сопротивление, развитие, нашедшее свое естественное русло, не могло остановиться; трагедия вырастала, верная преданию героических страстей, в лоне религии бога душ, бога страстей, и живое мифотворчество непрестанно видоизменяло всю героическую легенду в дионисийском духе. Идея пафоса повсюду представляется настоятельно выдвинутой и развитой по определенным категориям (каковы, например, преследование и укрывательство ребенка, ранняя смерть, бегство, роковое безумие, поиски, обретение и разоблачение, ревность богов, гибель от героя-двойника, таинственное исчезновение, метаморфоза и т.д., откуда вырабатываются типические схемы положений, признаваемых «трагическими»), — по категориям, заимствованным из круга дионисийских представлений то очень древней эпохи, то сравнительно поздних, в зависимости от времени и условий соприкосновения данного героического культа с религией Диониса.
Густота дионисийской окраски, однако, различна, и там, где она значительна, мы можем прямо говорить о «дионисийских» героях или «героических ипостасях» Диониса; причем первое обозначение уместно по отношению к тем героям, предание о которых приведено в прагматическую связь со священной историей бога или иначе отразило ее, под ипостасями же Диониса следует по преимуществу разуметь иноименные обличия самого бога, его местные подмены героическим двойником, прадионисийские мифообразования из периода поисков лика и имени, пытающиеся впервые воплотить искомую величину религиозного сознания. Нижеследующие сопоставления преследуют цель только иллюстративную: в ходе всего исследования мы постоянно встречаемся с дионисийскими героями и ипостасями, — умножим их число несколькими новыми и показательными примерами.
2. Безыменный Герой
Введению Дионисова культа предшествует по местам почитание безыменного Героя. Подле храма Диониса Колоната (Διονύσου Κολωνάτα ναός) в Спарте был, по словам Павсания, священный участок «героя», и жертвы приносились ему фиасами менад раньше, чем Дионису, потому что, — как толковала этот обычай молва, — он был вождем (ἡγεμών), приведшим бога в Спарту. Мы полагаем, что герой этот отнюдь не Геракл, с которым пытались отожествить его, ибо тогда он не мог бы остаться неназванным, — но ипостась самого Диониса: на это указывает соответствие его очага (ἐσχάρα) пригородным героическим «очагам» божественного пришельца (например, в Сикионе или на о.Фере), которые продолжают считаться ему принадлежащими и после того, как в городском кремле жертвуют ему уже на высоком алтаре (βωμός), как богу. В Афинах Дионис Элевтерий чтится на южном склоне Акрополя как бог, в предместье же — как герой; и когда возвращается к своему хтоническому жертвеннику, именуется «вождем вниз» (καθηγεμών).
Это не сделало, однако, излишней отдельную местную ипостась Элевтерия-героя как «вождя вверх», т.е. в город (ἄστυ), — в лице элевтерийца Пегаса, приведшего в Афины бога (ὥς Ἀθηναίοις τόν τέον εἰσήγαγε) и чтимого совместно с Дионисом, как показывают описанные Павсанием (I, 2) древние изображения Амфиктионовых гостин. Да и сам Амфиктион, как все гостеприимцы Дионисовы, — дионисийский и, следовательно, страстной герой; его страсти (πάθος) состоят в низвержении с престола и изгнании (преследовании) со стороны Эрихтония, другого божественного двойника, некогда младенца в корзине (κίστη), наводящего безумие на нимф Акрополя, и вместе змия, — ипостаси афинского пра-Диониса и героя миметических действ в эпоху Лукиана (de salt. 39), вероятно весьма древних по происхождению. Дионисийским героем афинской старины является и последний по легенде царь Кодр, не имеющий прочного места в генеалогической традиции сын того Меланфа, что при помощи Диониса победил на поединке Ксанфа, — сын, следовательно, героя-ипостаси киферонского Диониса Меланайгида. Кодр претерпевает πάθος «перед городом» (πρό τής πόλεως); но гроб его оказывается потом в окрестностях Дионисова театра, т.е. участка Диониса Элевтерия, близ Лисикратова хорегического памятника. Уподобленный Дионису самим перемещением культа, он нужен был афинянам (особенно в эпоху орфической реформы) для обоснования дионисийского характера сакральной власти архонта-царя, живущего в Буколии и уступающего на празднике Анфестерий жену свою Дионису.
Что касается безыменного Героя, он мог уцелеть в отдельных местностях, как герой κατεξοχήν, «добрый герой» (ἥρως χρηστός), «герой-господин» (κύριος ἥρως), бог-герой — напр., в лице фракийского и фессалийского «всадника», повторяющегося в длинном ряде загадочных изображений. Там же, где было придано ему собственное имя, он должен был, в эпоху торжества Дионисовой религии, быть узнан как ипостась Диониса, как его двойник-предтеча, и зачислен в разряд героев, чья близость к Дионису ознаменована и характерными чертами мифа, и обрядом. В Элиде, напротив, герой был, по-видимому, рано отожествлен с Дионисом, но все же предшествовал ему в виде оргиастически призываемого хтонического быка.¹
___________________________
[1] В оргиастическом призывании (точнее, вызывании — ἀνάκλησις) элейских женщин, сообщаемом Плутархом: ἐλθεῖν ἥρω Διόνυσε ktl., с припевом: ἄξιε ταῦρε, — первоначальной представляется нам формула: ἐλθεῖν, ἥρω ἄξιε ταῦρε, ἐλθεῖν βοέωι ποδί θύων.
3. Типы героя-конника. Дионисийские мученицы.
В качестве всадника близок фракийскому и фессалийскому герою аргивский конник, наездник черного коня Арейона, двойник и предтеча Диониса — Адраст. «Трагические хоры», славившие в Сикионе его «страсти», по словам Геродота, были «отданы» тираном сикионским Клисфеном Дионису, — возвращены богу, как его исконное достояние. В Аргосе остатки Адрастова дворца показывались близ Дионисова храма; гроб его, как подобает дионисийскому гробу, — Дельфы здесь были прообразом, — оказался в храме Аполлоновом; в Дельфах была воздвигнута аргивянами Адрастова статуя. Культ его в Сикионе, по Геродоту, заменен был, по соображениям политическим, другим героическим и дионисийским культом, составлявшим, очевидно, его эквивалент: это был культ фиванского Меланиппа. Итак, владельцу черного коня противопоставляется «черноконный», двойнику — враждебный двойник. Оба — ипостаси Диониса-Аида, оба — герои страстей, причем πάθος Меланиппа носит специфически-дионисийский характер: он обезглавлен.
С другим, одноименным только что рассмотренному, страдальческим обликом Диониса-Аида встречаемся мы в лице прекрасного юноши Меланиппа, античного Ромео эпохи романтических переделок и украшений мифологического предания. Он влюблен в юную жрицу патрской Артемиды-Трикларии, по имени Комето, и проводит с ней ночь в храме ужасной богини. История погибших любовников должна была служить этиологическим объяснением человеческих жертв обоего пола, которые приносились сопрестольникам, древнему Дионису и Артемиде, до «нового завета» Диониса-Эсимнета (т.е. устроителя, умирителя), получившего свое имя от нового и примирительного закона, им данного через фессалийца Эврипила. Последний также лик Диониса-Аида, как это доказывают и его имя «привратника широких врат», и принесенный им из взятой ахеянами Трои ковчег с идолом другого Диониса, как бы удвоивший собою его собственный гроб в Патрах.
Но мало того, что всадник на черном коне находит двойника-соперника в лице Черноконного, Меланиппа: имя «Черноконный» (μελάνιππος), но уже в другой форме — Кианипп (Κυάνιππος), — носят и сын, и внук его; могильное имя матери последнего также Комето. Мы видим, что основная идея Адрастова культа — почитание героя-всадника. Кианипп в Фессалии оказывается охотником, убивающим своих собак, растерзавших его жену, на костре погибшей, и потом лишающим себя жизни: такова, по крайней мере, поздняя сентиментальная новелла, первоначальное обрядовое значение которой прозрачно. Жена Кианиппа — Левкона, белая, — жертва и ипостась лунной Артемиды-Гекаты; двойник Адраста, преследователь служительниц Артемидиных, собак Гекаты, — страстнόй дионисийский герой, лик фессалийского подземного пра-Диониса, служение коему было связано с кровавыми обрядами тризн.
Другой пример растерзания дионисийской героини (срв. мифы о Дирке, размыканной быком, и о Минфе, растерзанной Персефоной) представляет собою доля нимфы Эхо: гневаясь на нее, Пан привел в безумие пастухов и козоводов, которые разорвали ее, как псы или волки. Миф принадлежит к буколическому кругу, где Дионис почитается под именем Дафнида, юного товарища охот Артемидиных, героя страстнόго, и обличает верность буколической песни коренной оргиастической традиции. Пан здесь заместитель самого Диониса, он частично отожествляется с Дафнидом, и приписание убийственного деяния ему было обусловлено несовместимостью такового с нежной маской буколического полубога.
4. Типы героя-охотника
Дикий горный охотник со сворой хтонических собак жил в героических культах, то как безыменный герой, — например, герой (горы) Пелиона, которому в области фессалийских магнетов еще во II в. до н.э. или даже позднее некий Пифодор, сын Протагора, воздвигает по обету эдикулу с рельефом, изображающим юного копьеносца и лань, и с посвящением «Герою» — то под случайными местными наименованиями, как Кинорт (Κυνόρτας) или Кинна (Κιννής) на аттическом Гимете. Не только сам «борзятник» (Кинорт) — предмет культа, но и его «собаки» и «доезжачие» (κυσίν καί κυνηγέταις), что указывает уже на общины служителей ловчего бога, ибо религиозные общины часто означались тотемом священного животного (каковы: «медведицы», «быки», «козлы», «пчелы» и т.п.). Естественно, что эти местные, почти или вовсе безыменные, мелкие культы тяготеют к слиянию с культами большими и общепрославленными, и мы видим, что Кинорт сливается с Аполлоном Малеатом, Кинад с Посейдоном, а «псари» приживаются к святилищу Асклепия.
Итак, пра-Дионис Загрей не был достаточно могуществен, чтобы объединить под своим именем все родственные культы; он становится «высочайшим из богов» лишь после того, как отожествляется с Дионисом. Оргиастическая жизнь анонимных общин его поклонников так и не нашла своего естественного русла. Его иноименный двойник Актеон был низведен на ступень второстепенного героя. Страстной герой (о чем свидетельствует и утвержденное Дельфами почитание его гроба в Орхомене), он был некогда богом страстей, Великим Ловчим, пра-Дионисом Аидом, и блуждал по горным дебрям и каменистым вершинам в оленьей шкуре (Nonn. V, 413), ища кровавой добычи. Имена Акусилая, Стесихора, Полигнота ручаются за его первоначально независимое от Артемиды значение: он ипостась Омадия-Загрея, во имя которого растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей), чтобы напитать причастников кровью самого бога. Медный кумир Актеона, прикованного к скале в Орхомене (Paus. IX, 38, 5), — то же, что древний идол Эниалия в оковах, виденный Павсанием в Спарте, или Диониса-Омадия в оковах на Хиосе. Тем не менее, связь Актеона с Артемидой исконная: это связь Ловчего Омадия с охотницей Агрионией, — общение культов и в то же время оргиастический обрядовый антагонизм. У Еврипида мы встречаем мотив соревнования обоих:
[2] В мотиве похвальбы героя и его состязания с божеством, мы вправе подозревать в герое полузабытый лик бога-соперника. Таковы, например, дионисийские типы лирников Лина и Фамиры и флейтиста-сатира Марсия, страсти коих и гибель в состязании с Аполлоном знаменуют подчинение представляемых ими родов энтузиастической музыки Аполлонову культу.
Бешенство Актеоновых собак — другая форма того же представления о растерзании менадами. Чьи же эти менады — Дионисовы или Артемидины? Миф представляет собак то собственной сворой Актеона, то сворой Артемиды: дело идет об оргиастических сопрестольниках и о жертвенном лике оргиастического бога, умерщвляемого женщинами, его служительницами и жрицами; преследование здесь знак культового слияния, а не разделения, обмен жертв, а не вражда культов. На кратере (Рубо) неаполитанского музея Актеон, с оленьими рогами на голове, в присутствии Артемиды, подземного Гермия (Ἑρμῆς) и Дионисова спутника — Пана, убивает священную лань.
В противоположность дикому Актеону, охотник Ипполит, сын амазонки Антиопы и дионисийского Тесея, — дружественная Артемиде ипостась ее сопрестольника; его страсти, однако, подобны Актеоновым и носят чисто дионисийский отпечаток: только не собаками разорван он, а размыкан — герой-конник — конями.
5. Орест и Пилад
Орест — одна из определенно выраженных прадионисийских ипостасей. «Сын отчий» — (Aesch. Ch. 1051) и столько же маска Диониса-Аида, сколько Агамемнон — Зевса, недаром приходит он гостем на навьи гостины афинских Анфестерий, безмолвный в круг безмолствующих, как и подобает гостю с того света. «Горец» по имени, пришелец с парнасских предгорий, он — подобие «горного скитальца» (ὀρειφοίτης), Великого Ловчего.³ Его гонит, как Актеона, охотничья свора Ночи и, обреченный Аиду обетным постригом, он одержим безумием: вот отличительное в его страстнόм обличии.
___________________________
[3] Фанокл (по цитате у Плутарха):
«Горный скиталец, узнал Дионис, как прекрасен Адόнис:
Шествует, быстрый, на Кипр, и похищает его».
Дельфийской Орестии предшествовала дионисийская, как дельфийскому Аполлону парнасские менады Ночи. Эта Орестия оставила явные следы в Аркадии, где он отожествлен был с Орестеем, сыном Ликаона (Paus. VIII, 3, 1), — и, по-видимому, не случайно: не в силу только общности имени, но и в силу внутренней связи местного хтонического и фаллического (δάκτυλος) Орестея-Ореста с аркадским оргиастическим культом Эриний, богинь Ночи, вдыхающих в человека безумие (μανίαι). Первоначально матереубийство — убиение жрицы двойного топора — мыслилось содеянным в безумии, как и Алкмеоново матереубийство, по некоторым вариантам мифа, непредумышленно и бессознательно. Безумие как последствие матереубийства — уже аполлонийская версия. Певцы Гомеровой школы, вообще чуждающиеся оргиастического мифа, предпочли вовсе умолчать об этом темном деле. Очищение, во всяком случае, было совершено, согласно аркадскому преданию, «черными» богинями, превращающимися в «белых»: так дионисийский Меламп очищает обезумевших от Диониса Пройтид. Эсхилово действо в некотором смысле реакция против аполлонийского видоизменения легенды и частичный возврат к более древней ее форме: Аполлон опять оказывается немощным очистить Ореста; очищает его, конечно, и не Ареопаг, чье решение только улаживает договор с Эвменидами; последнее слово и завершительное снятие недуга остается за ними.
Пилад (Πυλάδης), «вратник» по своему имени,⁴ одноименный, как с Пилаохом-Аидом (Пυλάοχος), так и с Гермием-Пилием, и явно лик последнего, т.е. подземного Гермия, с имени которого начинается Эсхилова трагедия, которого не напрасно же призывает, стоя на отцовском кургане, Орест, и не напрасно дает Оресту в спутники Аполлон, — молчаливый Пилад составляет с ним такую же чету, как с Дионисом хтоническим и фаллическим юный Просимн.
___________________________
[4] Напрасно имя это сближают с Фермопилами, когда Πύλαι значит по преимуществу πύλαι Ἀΐδαο (Theognis, 427), Ἅιδου πύλαι (Aesch. Ag. 1291), πύλαι εἰς Ἀΐδαο (h. Orph. XVIII). Из этого гомеровского (напр. Il. IX, 312) образа, а не наоборот, развивается представление о δόμοι Ἀΐδαο, ибо порог и ворота служили местом погребения (Eitrem, Hermes und die Todten, S. 38). Πύλαι встречается в хтонических именах, как Эврипил (Εὐρύπυλος).
Орест умирал не раз: он был растерзан собаками и, как кажется, размыкан конями (уже Одиссея учит, что обманы, к которым прибегают герои, суть — версии истинного мифа, и потому неспроста выдумана заговорщиками повесть о смерти Ореста на ристалище); он, наконец, пал жертвой Артемиды таврической. Мало того: еще младенцем погиб он от Телефа, — героя, конечно, дионисийского, — потом от Эгисфа, — и старцем — от укуса змеи (как змием, сосущим грудь матери, привиделся он, по Эсхилу, во сне, накануне рокового дня, Клитемнестре). Tριστίς Ορέστες (по Горацию), он постоянно выходец из могилы, из недр того кургана, на котором стоит со своим неразлучным и безглагольным спутником, блюдущим вход и выход безмолвного царства, — стоит, возглашая свой чудесный возврат и укоряя в неверии живых, которые глядят на него — и глазам своим не верят. Историзирующая легенда по-своему спаяла разрозненные части таинственного мифа о вечно сходящем в могилу и из нее возвращающемся боге-герое в суховатую и отталкивающую биографию, которую она не умеет достойно закончить. Орест неразрывно и вместе антагонистически связан с Артемидой как Дионис: отсюда его дружба с Электрой, и противоположность Ифигении, и роль жертвы в Тавриде, и похищение кумира Ταυροπόλος, несомненный знак сопрестольничества. Это похищение, как было правильно отмечено Рошером, находит параллель в мифе о критском Кнагее, бледном, но явно дионисийском отражении Ореста.
6. Аристей. Ἀφανισμός. Мелитей. Сочетание героических ипостасей Диониса и Артемиды.
Аристей — широко распространенное и по отдельным местностям разноокрашенное олицетворение плодоносящей силы подземного (как это явствует из эвфемистического имени) пра-Диониса. В качестве ипостаси Аида, он преследует Эвридику, супругу Орфея, и вызывает пчел из тления. Его сыновья Харм (Услад) и Калликарп (Красноплод), как сам Дионис, по Гомеру, «услада смертных» (χάρμα βροτοίσιν) и, по надписям, «Плодовик» (Κάρπιος) и «Красноплод» (Καλλίκαρπος). Культ Аристея несомненно древнее имени и лица Дионисова; примечательны воинственные пляски в честь его на Кеосе, подобные пляскам критских куретов. Торжество Диониса низвело Аристея в герои. В Сицилии он был сопрестольником (πάρεδρος) Дионисовым. Сыном Аристея-охотника оказывается Актеон. Женский Дионисов коррелят представлен в цикле Аристея — матерью Киреной (Артемидой) с одной стороны, с другой — супругой Автоноей, сестрой Семелы и матерью Актеона. Дочь Аристея угощает Вакха вином. Более того, он с Макридой, дочерью, воспитывают младенца Диониса, по поручению Гермия; Макрида, по имени которой дионисийский остров Эвбея, где младенец был вскормлен, именовался вначале Макридой, — одна из дионисийских нимф-мамок (τεθῆναι). Спасая ребенка от преследующей его Геры, Макрида бежит с Эвбеи на остров феаков, Коркиру, также именуемый Макридой; там она таит бога в пещере «с двойным входом» (δίθυρος; отражение в мифе культовой этимологии имени «Дифирамб»). Соперничество Аристея с Дионисом как покровителем виноделия, в защиту дара пчел и елея — не противополагает его Дионису, но именно с ним сближает.
Будучи древнее Диониса, бог Аристей не необходимо должен претерпеть, как собственно герой, трагические страсти: πάθος Дикого Охотника перенесен на Актеона; уход с земли божественного отца мыслится как ἀφανισμός — взятие в горные недра. Ἀφανισμός самого Диониса рассматривался, впрочем, все же как род «страстей». Рес восхищен в недра горы после претерпенного мученичества; Салмоксид, пра-Дионис фракийских гетов, Радаманф, брат Миноса, божественный сын прадионисийской Ио — Эпаф, также взятые в гору, страстной доли не имели, подобно Аристею, тогда как поглощение землей дионисийского Амфиарая носит характер героических страстей. Менее известно исчезновение Эвтима (Εὔθυμος), несомненно дионисийского героя италийской Локриды, который освобождает жителей Темеса от безыменного Героя, требовавшего ежегодно в жертву девы, одолев его в посвященном ему храме (как Тесей Минотавра в Лабиринте), после чего Герой исчезает в море: легенда отражает, по-видимому, утверждение кроткой религии Диониса на месте человекоубийственной прадионисийской; Герой здесь предшествует Дионису, как Ἀμείλιχος («суровый») в Патрах Дионису-Эсимнету. Что до Реса, племенного бога-охотника дионисийских эдонов, религиозное значение которого во Фракии доказывает сама интерполяция Долонии в Илиаде, — повесть у Парфения о любви охотницы Аргантоны (ипостаси Артемидиной) заставляет предполагать, что он был объектом женских плачевных вызываний (ἀνάκλησις) как бог исчезнувший: узнав о смерти Реса, Аргантона блуждает по местам прежних свиданий, громко зовет возлюбленного по имени, потом исчезает у речных струй, как нимфа-менада.
Параллелен Аристееву мифу миф о Мелитее (Μελιταῖος), вскормленнике пчел и основателе пчелиного города — Мелиты фтийской (Μελίτη). Его принадлежность миру подземному обнаруживается в предании о деве Аспалиде. В Мелите царствует уже не Мелитей, а Тартар (итак, вот кто был Мелитей),⁵ — ибо пчелиное царство (как явствует из знаменитого мифа об Аристее, рассказанного Вергилием, Georg. IV, 315 sqq.), возникает из смерти.⁶ Тартар покушается овладеть Аспалидой, но его убивает брат девы, Астигит, надевший на себя одежду сестры. Аспалида повесилась; тело ее не могут найти; взамен тела Артемида дает изображение, перед которым с того времени девы города приносят в жертву козлят, как перед кумиром богини, искупая тем собственную жизнь. Все предание — яркий пример сопрестольничества Диониса и Артемиды. Аспалида — Эригона; превращение повешенного на дереве женского тела в кумир — αἴτιον («причина») обряда эоры (αἰώρα), в котором человеческие жертвы были заменены подвешенными к ветвям куклами. Как в мифе об Икарии и Эригоне, культы обоих оргийных божеств неразрывно слиты; жертвенные девы мыслятся охваченными самоубийственным безумием. Переодевание юношей в женские одежды — черта общая обоим культам и запечатлевающая их связь. Аспалида как ипостась Артемиды родственна критской Диктинне. По Гесихию, ἄσπαλος — рыба, ἀσπαλιευτής — рыбарь. «Рыбарь» — одно из обрядовых именований островного Диониса, как на островной обрядовый круг указывает и переодевание. Аспалида — «рыбица» — быть может, одно из имен Артемиды низин (Λιμνῆτις, «болотная»), ибо Диктинна — «мрежница» — бегает, охотясь, по болотистым зарослям (φοιταί διά λίμνας, Eur. Hipp. 145). Ее преследует Минос, критский пра-Дионис двойного топора; она кидается в море и попадает в рыбачьи сети (δίκτυα, Callim. h. III), — как рыбачьими сетями вылавливаются кумиры Диониса и тела дионисийских героев.
___________________________
[5] Срвн. Мелитода (Μελιτώδης) — эпитет Персефоны, соправительницы Аида.
Μελιτώδης ἡ (sc. θεά) «Медовая богиня», т.е. Персефона (которой приносились медовые лепешки) Theocr.
[6] Мученическая смерть царя Онесила на Кипре повела за собою его провозглашение героем из Дельфов и установление его культа, потому что сопровождалось чудом: в его отрубленной голове, выставленной на городской стене, завелся пчелиный рой (Deneken, «Heros», Roscher's Myth. Lex. I, 2520). Чудо с пчелами и πάθος, были, следовательно, мотивами его сопричтения к сонму дионисийских мучеников.
7. Геракл. Эней.
Древнейшая история Геракла в эллинстве — история неудавшейся попытки объединить элементы будущей Дионисовой религии вокруг этого «героя-бога», как именует его Пиндар (Nem. III, 22: ἥρως θεός) наименованием, собственно подобающим одному Дионису. Много причин обусловило неудачу: и печать доризма, которую, постепенно застывая и каменея, принимает его уже только подвижнический образ, — и его отчужденность от жизнемощных корней материкового, фракийско-парнасского оргиазма, — и, наконец, сама устойчивость представления о нем, исключающая ту не героическую, но божественную легкость превращений, какая прежде всего оказалась необходимой для владыки смерти и возрождения, для бога нижнего и вышнего вместе, для небожителя и внезапного стихийного демона в одном лице. В свою раннюю пору Геракл (по-видимому — Сандон хеттского Тарса) был прадионисийским сопрестольником оргиастической богини, умирающим на костре и воскресающим, увенчанным виноградными гроздьями, грозным своими рогами и обоюдоострой секирой. Он был тогда и навсегда остался своего рода богочеловеком, претерпевающим страсти. В свою позднейшую пору он непрерывно сближается в свойствах, судьбах и деяниях с Дионисом, во всем ему уподобляется, но при этом остается себе верен так, что черты сходства кажутся проистекающими из его самобытной природы: всегда эллины чувствовали его исконную независимость от Диониса и не забыли в нем своеобразного предтечи Дионисова.
В самом деле, герой из героев, но уже не бог, Геракл, искони Дионису подобный, встретив на пути своем истинного героя-бога, не мог остаться ему чуждым, но и затеряться в сонме его спутников не мог: возможно ему было только как бы удвоиться божеством Дионисовым, что и случилось. Кажется, что лишь путем такого удвоения достигнуто было полное обожествление героя-страстотерпца, ибо Геракл страждущий, умерший и возведенный на Олимп,⁷ предполагает утверждение Дионисовой религии как предварительное условие. По Виламовицу, миф о безумии Геракла создан для мотивации Гераклова ухода к Эврисфею, в дионисийских Фивах. Но вероятнее, что безумие, налагающее на героя дионисийскую печать (Беллерофонт, Алкмеон, Орест, Эант), было простым следствием усмотрения одноприродности Геракла и Диониса. Переодевание Гераклова жреца в женские одежды на о.Косе и этиологическое объяснение обряда, известного, по-видимому, и в других местах, мифом об Омфале свидетельствуют не только о факте распространения на Геракла островного дионисийского культа, но и о внутренней возможности этого распространения в силу исконных особенностей культа Гераклова, как явления производного из религиозного круга малоазийской Великой Матери, Реи.
___________________________
[7] При описании амиклейского трона Павсаний (III, 18, 11) говорит об изображении младенца Диониса, несомого на Олимп Гермием, и Геракла, ведомого туда же Афиной для сожительствования с богами.
Геракл и Дионис воистину братья. Боги не могут победить Гигантов без помощи двух героев, рожденных Зевсом от смертных матерей — Семелы и Алкмены. Запрет клясться именем Геракла и равно именем Диониса под кровлей дома (υπό στέγη) также указывает на одинаковое чувствование обоих как носителей какой-то грозовой, безумно и разрушительно высвобождающейся силы. Оба служат мистическим звеном, соединяющим мир живых и мир загробный: ибо Геракл более древний посетитель Аида, чем дионисийские Тесей и Пирифой, — он укротил Кербера, он и на земле одолел бога смерти (Θάνατος); поэтому мисты нисходят в подземное царство под общим покровительством обоих братьев. Стремление в теснейшем сближении представить обоих, равно воплощающих собою религиозный идеал бога-сына, страдальца и спасителя (ἀλκτήρ, σωτήρ), сказалось в следующей, поздней эпохи, надписи (Anthol. Pal. II, p. 682):
Этолийский цикл дионисийских легенд и дионисийская генеалогия этолийских героев восполняются преданием, что мать Мелеагра, Алфея (Ἀλθαίη), супруга Энея, родила от Диониса Деяниру (Δηιάνειρα): так Геракл связывается со своим божественным братом и через роковую виновницу страстной своей смерти. Мелеагр, напротив, рожден Алфеей (по версии, обработанной Еврипидом) от Арея. Эней (Οἰνεύς)⁸ — вместе ипостась Диониса и Арея, существенное тожество коих было уже выше показано. Он связан с Дионисом, как винодатель и гостеприимец Диониса и Геракла (убившего у него в доме, очевидно — в дионисийском безумии, отрока-виночерпия) — как сыноубийца, как беглец от Агрия (подобно Дионису, беглецу беотийских Агрионий), как страстотерпец, по Аполлодору (I, 8, 6), и герой гробницы в аргивской Эноэ (Οἰνόη), — наконец, как сын Фития (Φύτιος) и внук Орестея, родоначальника озольских локров, обретшего виноградную лозу как песий дар, т.е. дар летнего зноя. С Ареем же сближает Энея, прежде всего, происхождение от воинственного бога, намеченное уже Гомером, считающим его не за сына дионисийского Фития, а за сына Порфея и Ареева внука. По-видимому, в этолийском цикле оба божества были нераздельны: первоначально оргиазм племени был мужески-воинственным, и позднее узнанный Дионис явился лишь обособленным аспектом древнего бога этолийских куретов. Этолийский пра-Дионис соединял в себе черты влажного Диониса (Ὕης Οἰνεύς)⁹ и Арея; женским коррелятом его была Артемида, виновница калидонской охоты.
___________________________
[8] οἴνη, дор. οἴνα ἡ
1) виноградная лоза Hes.
2) вино Anth.
[9] Ὕης, Ὑῆς (-ου) ὁ приносящий дождь (эпитет Вакха и Сабазия) Arph., Plut.
8. Ипостаси Диониса жертвенного и цветущего
Чем грознее рисуются образы прадионисийской старины, — каков Эней, — тем неожиданнее и ярче выступают, преломленные в героических ипостасях, очертания иного типа: лики пра-Диониса кроткого, благостного, жертвенно страдающего. Тут мысль невольно обращается к Орфею: но мы воздержимся от уже испробованного в науке анализа трудной темы, не надеясь со своей стороны способствовать точному выяснению первоначальных черт этого, во всяком случае, хтонического и оргиастического бога. Мудрый и праведный воевода ахейского воинства под стенами Трои, жертва предательства и невинный страстотерпец, Паламед, стал для эллинов, подобно Гераклу, религиозно-нравственным идеалом героя «пассий» и не был забыт как таковой даже в византийской поэзии. По словам Ксенофонта (Cyneg. I, II), «без вины убиенный, он столь великой чести удостоен был от богов, как никто иной из смертных; пал же не от руки тех, кому приписывают это дело (т.е. Одиссея, Агамемнона, Диомеда), но от руки злодеев». И Ксенофонт, конечно, прав: страсти Паламеда древнее, чем историко-драматическая мотивация гибели героя. Аполлоний Тианский, по Филострату, находит гроб его на месте страстей, где не прерывалось издревле его почитание, — а над гробом его статую, с надписью: «Божественному Паламеду», — и молится ему так: «Древний гнев забудь, о Паламед, и дай родиться мужам многим и мудрым, ты, через кого в людях разумение, чрез, кого Музы, чрез кого я сам». Примечательно, что Паламед из подземного царства покровительствует (по Филострату, Her.) и виноградникам.
Коварно загублен и камнями завален, подобно побитому камнями Паламеду, Анфей (Parthen. 15). Культовое имя «Анфей» (Ἀνθεῦς, «цветущий») носит Дионис в Патрах, где бог в священной ограде (τέμενος) некоей героини почитался одновременно в трех ликах — как Μεσατεύς, Ἀνθεῦς, Ἀρόεις.¹⁰
___________________________
[10] ἀερόεις, эп.-ион. ἠερόεις (-όεσσα, -όεν) туманный, темный; ex. (Τάρταρος Hom., Hes.).
Анфей, сын Антенора, также, по-видимому, в качестве одного из героев страстного цикла, нечаянно убит Парисом. Ахейский Анфий (Ἀνθείας) — вариант патрского Диониса Анфея: этой отроческой ипостаси Диониса придан характер страстного Триптолема (как Фаэтонту — страстного Гелия), он падает со змеиной колесницы сеятеля, спящего в доме Анфиева отца, Эвмела; всем троим усвоены черты дионисийские. Одноименный Анфа (Ἄνθα, Ἄνθης), герой Трезены, исчезает отроком: его похищает Адраст и делает своим виночерпием (срвн. миф о Ганимеде). Младенческий облик страстного бога, напоминающий амфиклейскую легенду, — немейский Архемор, он же Офельт и — как это ни неожиданно — Амфиарай, жизнь которого таинственно связана с его жизнью.
Итак, этот прадионисийский тип варьируется от младенца до мощного хтонического бога, благ подателя, покровителя произрастаний земных и чадородия; оргиастический культ, ему посвященный, связан с сельскими празднествами и надгробным плачем, вероятно и вызываниями (ἀνάκλησις); предметом плача служат божественные страсти. Такой младенческой или отроческой ипостасью еще не обретенного Диониса является Лин (Λίνος), чье имя служит обозначением одного из древнейших действ.
Эту сельскую сцену выковал на Ахилловом щите Гефест. Мальчик изображает в обряде того бога или героя, которого хор оплакивает. И если плач зовется по припеву «лином» (λίνος), то и сам отрок — Лин (в действе), и круговой хор правит страсти Лина,¹¹ как сикионский круговой хор правил страсти Адраста. «Жалобная заплачка, заимствованная, по-видимому, у финикиян, сочеталась, как оргийный момент экстатической скорби, с восторгами веселых празднеств виноградного сбора и с представлением о безвременно погибшем некоем боге-младенце, чье имя и чей образ мы встречаем в собственной Греции в местных аргивских легендах», по которым он разорван собаками; френетическое междометие дало имя безыменному ребенку, герою страстей. Аналогию Лину составляет египетский Манерос (μανέρως);¹² родственны и страстные участи отроков Борма и Гилла.
___________________________
[11] Возможно праздник связан с уборкой льна (λίνον). Либо перекликается с афинскими Ленеями (Λήναια).
λίνεος — льняной; ex. ὅπλα λίνεα Her. — льняные канаты.
Ληναῖος ὁ Леней (бог виноделия, т.е. Вакх-Дионис) Diod., Anth.
Λήναια τά (sc. ἱερά) Леней (афинский праздник виноделия в 8-11 дни месяца Γαμηλιών в честь Вакха; к нему приурочивались состязания драматургических произведений) Arph., Arst.
Λῆναι (-ῶν) αἱ лены, т.е. вакханки Anth.
[12] μανέρως, μανερῶς ὁ (dat. μανέρωτι, acc. μανέρωτα) погребальная песнь у египтян Her.
Μανέρως, Μανερῶς — имя рано умершего сына первого егип. царя.
Засыпан камнями в Аргосе, подобно упомянутому Анфию, и некий Меланхр (Μέλανχρος), которого сближают с дионисийским циклом, кроме его пафосa, и имя, и культ гробницы. Лидийский Ампел (Ἄμπελος, «виноградная лоза», «виноград»), тожество коего с Дионисом виноградников означено самим именем, — любимый богом отрок, умерщвленный быком, т.е. самим Дионисом в исступлении. Хтонический характер амиклейских Иакинфий и употребление на празднике плющевых венков являют их как дорический аналог ионийских Анфестерий и позволяют подозревать в юном Иакинфе (Ὑάκινθος), страсти и могила которого типичны для дионисийских героев, одну из отнятых Аполлоном у Диониса добыч, тем более, что культ выводится в предании из Фив и что неизменный женский коррелят героя не отсутствует — в лице Иакинфовой сестры Полибои (Πολύβοια), носительницы имени (срв. Εὔβοια, имя Дионисова острова и менады), свойственного Артемиде, либо Коре-Персефоне.
Что страстные герои цветения принадлежат дионисийскому кругу как демонические ипостаси Диониса-Анфея, показывает и миф о прекрасном Нарциссе, охотнике и брате неразлучной с ним и совершенно ему подобной сестры-охотницы (Paus. IX, 31:6), встречающем в своей жизни дионисийскую нимфу Эхо (растерзанную потом безумными пастухами в волчьих шкурах) и двойника с мечом (Αμεινίας), чтимом у своей гробницы в Оропе глубоким молчанием, как Орест на празднике Анфестерий, и именуемом, как божество подземное, «молчаливым» (σιγηλός).¹³ Бог Адонис, самостоятельный прадионисийский страстной лик, является дионисийским героем, как мы выше видели (§ 5), через «похищение» Дионисом-Охотником.
___________________________
[13] και Σίγηλος μεν κύριον ὄνομα Ναρκίσσου, σιγηλός δε ο σιωπηλός. (по Евстафию ad Οdyss. p. 1967, 36).
9. Патетическая стилизация героической легенды
Многие общие черты сближают с Паламедом другого страстного героя из троянского цикла — Протесилая. Последний — явная ипостась пра-Диониса подземного, и Еврипид настойчиво приводит его в связь с Дионисом. Лаодамия совершает перед его статуей вакхические служения, что подтверждается и изображениями на саркофагах. Протесилай владеет дионисийским оракулом и, подобно Паламеду, покровительствует виноградникам.
Радаманф справедливый, светлокудрый брат Миноса критского, ипостаси бога двойной секиры, начальник блаженных душ, обитающих в Элисии, милостивый лик подземного Зевса, кроткое солнце глубин, куда он перенесен с лица земли, — не отожествляется, но сопоставляется с Дионисом-Аидом, родственное сходство с которым отличает всех богоравных героев, взятых в земные недра, как Реса, Салмоксида, Аристея и отца Алкмены — Амфиарая. Отсюда соседство святынь Радаманфа и Диониса близ Галиарта, вокруг гробницы Алкмены, супруги Радаманфа в Элисии, а на земле — матери, от Зевса зачавшей «спасителя», близкого и родного Дионису, — Геракла. Радаманф, родоначальник царей дионисийской Эвбеи, одно из звеньев, смыкающих эллинский культ Диониса с его предтечей, культом критского Зевса.
Перенесение отдельных дионисийских черт на издревле прославленных страстями героев можно видеть на примере Ахилла (Ἀχιλλεύς). Дионисийский обряд переодевания отроков в женские одежды отразился одинаково в мифе о пребывании Ахилла среди дочерей Ликомеда и в мифе об укрывательстве Афамантом и его женою, Ино, их воспитанника Диониса в девичьем наряде. Дионис помогает Ахиллу, — как впоследствии македонский Александр — «Ахилл» — подражает Дионису и признается его эпифанией (νέος Διόνυσος, «юный Дионис»): по Киприям, Телеф, борясь против Ахилла, запутывается в виноградную лозу, подобно фракийскому преследователю Диониса, Ликургу. Согласно второй песне о мертвых (младшей Nεκυία) в Одиссее пепел Ахилла смешан с Патрокловым в золотой урне, подаренной Фетиде Дионисом; по Диктису, Ахилл сам, умирая, завещает сложить в эту урну свой прах вместе с прахом Патрокла и Антилоха. Ахилл, несомненно, один из древнейших (восходящих к эпохе до выселения эолийцев из Фессалии в Малую Азию) объектов героического плача и laudationis funebris («поминальные панегирики») на праотеческих курганах, откуда и возникла эпическая οἴμη («песнь, сказание»). Ибо песнь о нем есть песнь о несравненной славе, незаслуженных бедствиях и роковой безвременной гибели народного любимца, богоравного смертного, преследуемого горем-злосчастием, потому что так написано ему на роду. Не значит ли потому и имя его то же, что Пенфей (ἔχω-πένθος)? Как бы то ни было, религиозное сознание народа естественно искало сблизить, насколько возможно, этих ранних героев френоса с обретенным после долгих поисков всеобщим богом страстей, «страдающим богом». В ином отношении к Дионису был счастливец Тесей; но его принадлежность местности, насыщенной влияниями прадионисийских и дионисийских культов, и исконная связь с Критом имеют последствием то, что в длинном ряде наиболее ярких выявлений своей религиозной сущности он оказывается не подобием только, а как бы непосредственной эпифанией Диониса: вот почему сын Эгея — юноша в женской одежде — побеждает Минотавра, добывает венец Амфитриты, сочетается с Ариадной, а потом с Федрой, нисходит в Аид, хоронит на своей земле изгнанников — великодушный гостеприимец, и прославляется Бакхилидом в дифирамбах.
Как некие языческие святцы, проходит перед нами героическая «золотая легенда» эллинской древности, и в ее пестром многообразии неожиданно выступает основная однородность, почти схематизм. Религия Диониса как бога-героя и героя-прообраза налагает на нее общую печать. Позднейшие мифообразования эту печать закономерно принимают. Так, выдержан в дионисийском стиле роман Панфеи в Ксенофонтовой «Киропедии»: верная жена слагает в порядке разрубленное тело мужа, рука которого, когда Кир пожимает ее, остается в его руке, — а потом закалывается на мужнином могильном кургане. Тесей в трагедии Сенеки также складывает вместе собранные части растерзанного Ипполита. В обоих случаях представлено обрядовое сложение дионисийски разорванного тела (κατά σύστασιν ἀρμονίας) «по составу его согласия» (κατά σύστασιν αρμονίας), что, как учили под египетским влиянием орфики и позднее герметики, служит условием возрождения (παλιγγενεσία) умершего. Но наиболее, быть может, показательно проявилась упомянутая стилизация героической легенды по прототипу мифа о Дионисе в греческой обработке чужеземного предания о Ромуле: эллины и героизировали, и обожествили римского героя-эпонима на свой лад. Ему приписаны и могила (τάφος), и страсти (πάθος), — притом последние в форме σπαραγμός («разрывание»). Правда, римляне вообще игнорировали эту чуждую им версию; однако, греческое представление о «похищении» (ἀφανισμός, ἁρπαγμός) на черных Ареевых конях лежит в основе Горациева образа: «Quirinus Martis equis Acheronta fugit».¹⁴
___________________________
[14] hac Quirinus Martis equis Acheronta fugit — этот Квирин (т.е. Ромул) на лошадях Марса избежал смерти (Квинт Гораций Флакк, «Оды 3.3.16. К Цезарю Августу»).
_______________________________
ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
IV. ГЕРОИ-ИПОСТАСИ ДИОНИСА
1. Герои как страстотерпцы древнейшего френоса и ἥρως Διόνυσος
Героями называли эллины смертных (обычно, впрочем, родных по крови богам, если не прямо от богов рожденных смертными женами «сынов божиих» — θεών παίδες), прославленных необычайными деяниями и участью, на земле претерпевших страдание, по смерти же не утративших индивидуальной силы воздействия на живых, особенно на ближних своего рода и племени и своей страны, имеющих свою сферу владычества в подземном царстве и умноживших собой неопределенно-огромный сонм подземных царей.
В легионе сошедших в недра земли «богоравных» (ἰσόθεοι, ἡμίθεοι), «благородных» (γενναίοι), «огромных» (πελώριοι), «благообразных» (εὔμορφοι, — Aesch. Ag. 454), «сильных» (ἰσχυροί, δυνατοί, κρείσσονες), «священных» (σεμνοί) смешались, без сомнения, забытые демоны и развенчанные по недоразумению боги, чье местное имя, прозвание и обличие не выдержало соперничества шире распространенных ознаменований того же или родственного религиозного понятия, — с возвеличенными непрерывным стародавним почитанием родовыми и племенными пращурами, какими помнило их былинное и обрядовое предание заповедных урочищ. Но так как под героями в собственном смысле общенародное словоупотребление разумело именно живших на земле смертных, а не богов бессмертных, то вторая из названных двух категорий определительна для всех героев вообще; ибо существа божественные, утратившие свою божественность, во всем должны были уподобиться освященным предкам и, если даже притязали некогда на олимпийские обители и соответствующие жертвы (θύματα), довольствоваться отныне дарами, ниспосылаемыми в жилища усопших, и жертвами только героическими (ἐνάγισματα), т.е. надгробными.
Хотя многосмысленное и таинственное имя ἥρως («герой») часто было равносильно δαίμων («божество», «дух») в неопределенности своего применения к предметам темных народных вер, все же оно неразрывно сочеталось с представлением, что данный объект хтонического культа жил в свое время среди людей, чего нельзя было, однако, утверждать о всех обитателях преисподней, отчего демоны хтонические и герои никогда и не были окончательно отожествлены у эллинов, вопреки мнению Узенера, ни даже в сельских религиях с их εὐήθεις θεοί («добродушные боги»). И каковы бы ни были в VII-VI веках до н.э. догматические и литургические видоизменения исконного культа героев, как бы ни субтилизировались понятия о загробной иерархии и о степенях героической канонизации, основы верования остались искони те же во все эпохи эллинства. Обоготворение же предков, только затемненное у Гомера, отрицать невозможно, — хотя еще менее основательно было бы выводить весь героический культ из этого обоготворения, ввиду подавляющего большинства героических имен и образов божественного происхождения, — что свидетельствует, впрочем, лишь о большей живучести религиозной памяти сравнительно с памятью исторической. Мир в глазах древнего человека полон душ разного качества, разной силы; душа и при жизни человека может временно покидать его тело, и в это тело может вселяться другая душа; живущий смертный бывает носителем души сверхчеловеческой; по смерти человека место такой душе в сонме подземных сильных, а не в толпе безликих теней. Пусть в переходную эпоху относительного скепсиса и в предрасположенной к нему общественной среде, — когда денежная вира (штраф за убийство) взамен кровавой мести временно заглушает голос пролитой крови, а об очищении от крови еще ничего не слышно, — незавидным представляется живому могущество бесплотных, и Ахиллу приписывается предпочтение рабской доли на земле господству над призраками: все же и тогда остается душа Ахиллова в Аиде душой подземного сильного, в противоположность бледному множеству подчиненных ему слабейших душ.
Но древнейшее представление об этом загробном сонме могучих неотделимо от почитания могилы боготворимого еще при жизни вождя и владыки — и тускнеет по мере удаления от отеческих курганов. Гомеров эпос был оторван от родимой почвы. Неудивительно, что развитие новой колонизации повело за собой оживление героического культа: последнее стало естественной задачей религиозной политики, стремившейся к укреплению племенных связей и к оздоровлению корней национального самосознания. Как отличительным признаком в понятии «героя», при всем обоготворении его, служит именно его смерть, так истинной основой героического культа — вещественная наличность могилы, со всем, что отсюда следует, до употребительного уже в VI веке перенесения священных останков. «Многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид» — в этом стихе, несмотря на всю отчужденность создавшей его эпохи и среды от загробной мистики, изначальной в эллинстве и вскоре пышно расцветшей, правильно выражена общая и постоянная основа и культа почивших, и культа героев. Та же черта — смерть героя — с особенной резкостью запечатлевается и в предании. Ибо эта смерть все же нечто большее, чем неизбежный конец любого смертного: недаром герой — полубог; за ним были права на бессмертие, которого ценою стольких трудов достигает один Геракл. Если бы мы сказали: смерть героя «трагична» сама по себе, то выразили бы современной фразеологией подлинно античное переживание героического «пафоса»: ведь затем, в сущности, и создали эллины свою трагедию, чтобы в религиозно-художественном творчестве дать исход и воплощение именно этому чувству.
Впрочем, то же по существу наблюдение можно представить осязательнее и нагляднее. Поминки — плач по усопшем; героическое предание естественно сосредоточено на скорбной стороне поминаемой участи, поскольку носителем его служит френос (θρῆνος), обрядовый плач; а таковой долго был единственным хранилищем и проводником былинной памяти. «Много было богатырей до Агамемнона, — замечает весьма точно Гораций, — но они забылись, не оплаканные, затем что не нашлось про них вещего певца». В самом деле, место позднейшего эпоса занимала до Гомера поминальная эполира, плачевные «славы» (κλέα ἀνδρῶν) и уже своды таковых. В певцах «слав», поминальщиках и плакальщицах, недостатка, правда, не было; но выселение в чужие края отлучило и мало-помалу отучило переселенцев от отеческих могил с их поминальными обрядами, и перезабылись старинные славы, а те, что еще помнились, изменились до неузнаваемости во всем, что не относилось к существенной характеристике героя и его участи, в устах поколений, родившихся на чужбине. И все же Гомерова Илиада — одна из таких laudationes funebres («поминальные славословия»), чем и объясняется ее «эпизодичность»: замысел поэта вовсе не представить войну с Троей, но лишь Ахиллову обиду с ее последствиями — гибелью Патрокла и гибелью Гектора, как роковыми поводами к гибели самого оплакиваемого героя, Ахилла; Илиада — только первая часть похоронной песни об Ахилловом роке. Итак, даже в ионийском эпосе, столь отдалившемся от староотеческого быта, поминальные славы еще сохраняют свой первоначальный смысл и строй. Эти сказания, по своему общему заданию, — распространенный плач (γόος), они родились из печали и сетования. По содержанию, они — страстные были (παθητικά), повествующие о «страстях героических» (ηρωικά πάθη). Неслучайно Аристотель определяет Илиаду как поэму «патетическую», т.е. страстную (в противоположность «этической», т.е. бытоописательной Одиссее), и Малая Илиада начинается с упоминания о «страстях»:
«Град Илион я пою и Дарданию, пажитей конских
Край луговой, где много страстей претерпели Данаи»...
А Одиссей так определяет дело певца Демодока:
«Музой ли, дочерью Зевса, наставленный иль Аполлоном,
Ладно и стройно поешь ты страдальную участь ахейцев.»
Религиозно-историческая особенность отношения к герою — именно скорбь и плач по нем: особенность его участи — «страдания», или «страсти». Оба рода объектов религиозного служения тем и разнятся между собой, что бессмертные, «вечно блаженные» боги по существу не подвержены страданию и бесстрастны (ἀπαθείς), герои же, будучи из рода смертных, по необходимости страстям причастны (εμπαθείς), они — страстотерпцы, лик их — страстной.
Прадионисийские культы искали синкретической формы, объединяющей обе религии — олимпийскую и хтоническую. Это был долгий период смутных поисков, глухого брожения умов, алчущих религиозной гармонии, миросозерцания целостного и утешительного. Рождались причудливые сказания, возникали иррациональные «могилы богов». Бывали, без сомнения, случаи (какие мы подозреваем в религиозных новообразованиях, вроде «Зевса-Агамемнона», «Зевса-Амфиарая», «Зевса-Трофония», «Зевса-Аристея» и им подобных), когда культовое прозвище бога, обособившись, давало начало самостоятельному героическому и прадионисийскому по своей природе культу, впоследствии же этот последний примыкал обратно к богопочитанию, его породившему, оставляя, однако, росток, коему суждено было позднее привиться к стволу Дионисовой религии, в качестве подчиненного культа героической Дионисовой ипостаси.
Когда имя и почитание Диониса было всенародно утверждено, понятие страстей героических перенесено было на обретенного, наконец, в его лице истинного «бога-героя», что по существу значит: бога и человека вместе (ἀνθρωποδαίμων, как в трагедии «Рес» именуется ее герой, праведный Дионисов прообраз). В какое же отношение должен был стать новый бог, герой κατεξοχήν (κατ ́ ἐξοχέν, более рельефно проявленный), к другим героям? Нигде у древних, даже в орфическом «богословии», мы не найдем на этот вопрос догматически определенного ответа. Но явно обнаруживается склонность религиозной мысли к признанию каждой отдельной героической участи как бы частным случаем единой универсальной героической судьбы или идеи, представленной Дионисом. Его патетическое божество обобщает, объемлет, содержит в себе все страстные доли, все лики и души поминаемых страстотерпцев. По многообразным историческим причинам, по условиям возникновения отдельных героических служений в эпоху прадионисийскую, некоторые герои приводятся в ближайшую с Дионисом связь, другие остаются от него поодаль; но все они — общники его страстей, он — верховный владыка их подземных обителей, куда нисходит к ним всем, как свой к своим присным, со светочем и вестью возврата, палингенесии (παλιγγενεσία, «новое рождение»). Неудивительно, что уже на ранних изображениях героизации мы встречаем, кроме исконной хтонической змеи, собственно дионисийские символы: венки вокруг головы сидящего на троне героя и Дионисов сосуд с вином — канфар — в его руках. Следуют изображения героических загробных вечерей, иногда с участием самого возлежащего Диониса. Но что значат слова Геродота о сикионцах, что они «чтили (героя) Адраста и славили страсти его трагическими хорами, Диониса не чтя, но Адраста, Клисфен же (тиран сикионский) отдал хоры Дионису, а остальное служение (герою, противнику Адраста) — Меланиппу»? Не свидетельствует ли этот случай о сепаратизме местных героических культов, об их сопротивлении дионисийской универсализации страстных служений? Впрочем, последние в своей чисто обрядовой сфере оставались неприкосновенными: становящаяся трагедия одна, по-видимому, выступает прямым органом начавшегося объединения. Это религиозно-политическое назначение проливает на ее развитие неожиданный свет. Но стародавняя традиция плачей по любимому герою, очевидно, глубоко коренилась в народной жизни, и присловие: «при чем тут Дионис (Οὐδέν πρός Διόνυσον)?» — служит доныне памятником недоумения и ропота, с каким в эпоху возникающей трагедии толпа встречала вторжение дионисийского обряда в обряд героического страстного действа и, обратно, внесение последнего в обрядовый круг Дионисовой религии.
Между тем, несмотря на указанное сопротивление, развитие, нашедшее свое естественное русло, не могло остановиться; трагедия вырастала, верная преданию героических страстей, в лоне религии бога душ, бога страстей, и живое мифотворчество непрестанно видоизменяло всю героическую легенду в дионисийском духе. Идея пафоса повсюду представляется настоятельно выдвинутой и развитой по определенным категориям (каковы, например, преследование и укрывательство ребенка, ранняя смерть, бегство, роковое безумие, поиски, обретение и разоблачение, ревность богов, гибель от героя-двойника, таинственное исчезновение, метаморфоза и т.д., откуда вырабатываются типические схемы положений, признаваемых «трагическими»), — по категориям, заимствованным из круга дионисийских представлений то очень древней эпохи, то сравнительно поздних, в зависимости от времени и условий соприкосновения данного героического культа с религией Диониса.
Густота дионисийской окраски, однако, различна, и там, где она значительна, мы можем прямо говорить о «дионисийских» героях или «героических ипостасях» Диониса; причем первое обозначение уместно по отношению к тем героям, предание о которых приведено в прагматическую связь со священной историей бога или иначе отразило ее, под ипостасями же Диониса следует по преимуществу разуметь иноименные обличия самого бога, его местные подмены героическим двойником, прадионисийские мифообразования из периода поисков лика и имени, пытающиеся впервые воплотить искомую величину религиозного сознания. Нижеследующие сопоставления преследуют цель только иллюстративную: в ходе всего исследования мы постоянно встречаемся с дионисийскими героями и ипостасями, — умножим их число несколькими новыми и показательными примерами.
2. Безыменный Герой
Введению Дионисова культа предшествует по местам почитание безыменного Героя. Подле храма Диониса Колоната (Διονύσου Κολωνάτα ναός) в Спарте был, по словам Павсания, священный участок «героя», и жертвы приносились ему фиасами менад раньше, чем Дионису, потому что, — как толковала этот обычай молва, — он был вождем (ἡγεμών), приведшим бога в Спарту. Мы полагаем, что герой этот отнюдь не Геракл, с которым пытались отожествить его, ибо тогда он не мог бы остаться неназванным, — но ипостась самого Диониса: на это указывает соответствие его очага (ἐσχάρα) пригородным героическим «очагам» божественного пришельца (например, в Сикионе или на о.Фере), которые продолжают считаться ему принадлежащими и после того, как в городском кремле жертвуют ему уже на высоком алтаре (βωμός), как богу. В Афинах Дионис Элевтерий чтится на южном склоне Акрополя как бог, в предместье же — как герой; и когда возвращается к своему хтоническому жертвеннику, именуется «вождем вниз» (καθηγεμών).
Это не сделало, однако, излишней отдельную местную ипостась Элевтерия-героя как «вождя вверх», т.е. в город (ἄστυ), — в лице элевтерийца Пегаса, приведшего в Афины бога (ὥς Ἀθηναίοις τόν τέον εἰσήγαγε) и чтимого совместно с Дионисом, как показывают описанные Павсанием (I, 2) древние изображения Амфиктионовых гостин. Да и сам Амфиктион, как все гостеприимцы Дионисовы, — дионисийский и, следовательно, страстной герой; его страсти (πάθος) состоят в низвержении с престола и изгнании (преследовании) со стороны Эрихтония, другого божественного двойника, некогда младенца в корзине (κίστη), наводящего безумие на нимф Акрополя, и вместе змия, — ипостаси афинского пра-Диониса и героя миметических действ в эпоху Лукиана (de salt. 39), вероятно весьма древних по происхождению. Дионисийским героем афинской старины является и последний по легенде царь Кодр, не имеющий прочного места в генеалогической традиции сын того Меланфа, что при помощи Диониса победил на поединке Ксанфа, — сын, следовательно, героя-ипостаси киферонского Диониса Меланайгида. Кодр претерпевает πάθος «перед городом» (πρό τής πόλεως); но гроб его оказывается потом в окрестностях Дионисова театра, т.е. участка Диониса Элевтерия, близ Лисикратова хорегического памятника. Уподобленный Дионису самим перемещением культа, он нужен был афинянам (особенно в эпоху орфической реформы) для обоснования дионисийского характера сакральной власти архонта-царя, живущего в Буколии и уступающего на празднике Анфестерий жену свою Дионису.
Что касается безыменного Героя, он мог уцелеть в отдельных местностях, как герой κατεξοχήν, «добрый герой» (ἥρως χρηστός), «герой-господин» (κύριος ἥρως), бог-герой — напр., в лице фракийского и фессалийского «всадника», повторяющегося в длинном ряде загадочных изображений. Там же, где было придано ему собственное имя, он должен был, в эпоху торжества Дионисовой религии, быть узнан как ипостась Диониса, как его двойник-предтеча, и зачислен в разряд героев, чья близость к Дионису ознаменована и характерными чертами мифа, и обрядом. В Элиде, напротив, герой был, по-видимому, рано отожествлен с Дионисом, но все же предшествовал ему в виде оргиастически призываемого хтонического быка.¹
___________________________
[1] В оргиастическом призывании (точнее, вызывании — ἀνάκλησις) элейских женщин, сообщаемом Плутархом: ἐλθεῖν ἥρω Διόνυσε ktl., с припевом: ἄξιε ταῦρε, — первоначальной представляется нам формула: ἐλθεῖν, ἥρω ἄξιε ταῦρε, ἐλθεῖν βοέωι ποδί θύων.
3. Типы героя-конника. Дионисийские мученицы.
В качестве всадника близок фракийскому и фессалийскому герою аргивский конник, наездник черного коня Арейона, двойник и предтеча Диониса — Адраст. «Трагические хоры», славившие в Сикионе его «страсти», по словам Геродота, были «отданы» тираном сикионским Клисфеном Дионису, — возвращены богу, как его исконное достояние. В Аргосе остатки Адрастова дворца показывались близ Дионисова храма; гроб его, как подобает дионисийскому гробу, — Дельфы здесь были прообразом, — оказался в храме Аполлоновом; в Дельфах была воздвигнута аргивянами Адрастова статуя. Культ его в Сикионе, по Геродоту, заменен был, по соображениям политическим, другим героическим и дионисийским культом, составлявшим, очевидно, его эквивалент: это был культ фиванского Меланиппа. Итак, владельцу черного коня противопоставляется «черноконный», двойнику — враждебный двойник. Оба — ипостаси Диониса-Аида, оба — герои страстей, причем πάθος Меланиппа носит специфически-дионисийский характер: он обезглавлен.
С другим, одноименным только что рассмотренному, страдальческим обликом Диониса-Аида встречаемся мы в лице прекрасного юноши Меланиппа, античного Ромео эпохи романтических переделок и украшений мифологического предания. Он влюблен в юную жрицу патрской Артемиды-Трикларии, по имени Комето, и проводит с ней ночь в храме ужасной богини. История погибших любовников должна была служить этиологическим объяснением человеческих жертв обоего пола, которые приносились сопрестольникам, древнему Дионису и Артемиде, до «нового завета» Диониса-Эсимнета (т.е. устроителя, умирителя), получившего свое имя от нового и примирительного закона, им данного через фессалийца Эврипила. Последний также лик Диониса-Аида, как это доказывают и его имя «привратника широких врат», и принесенный им из взятой ахеянами Трои ковчег с идолом другого Диониса, как бы удвоивший собою его собственный гроб в Патрах.
Но мало того, что всадник на черном коне находит двойника-соперника в лице Черноконного, Меланиппа: имя «Черноконный» (μελάνιππος), но уже в другой форме — Кианипп (Κυάνιππος), — носят и сын, и внук его; могильное имя матери последнего также Комето. Мы видим, что основная идея Адрастова культа — почитание героя-всадника. Кианипп в Фессалии оказывается охотником, убивающим своих собак, растерзавших его жену, на костре погибшей, и потом лишающим себя жизни: такова, по крайней мере, поздняя сентиментальная новелла, первоначальное обрядовое значение которой прозрачно. Жена Кианиппа — Левкона, белая, — жертва и ипостась лунной Артемиды-Гекаты; двойник Адраста, преследователь служительниц Артемидиных, собак Гекаты, — страстнόй дионисийский герой, лик фессалийского подземного пра-Диониса, служение коему было связано с кровавыми обрядами тризн.
Другой пример растерзания дионисийской героини (срв. мифы о Дирке, размыканной быком, и о Минфе, растерзанной Персефоной) представляет собою доля нимфы Эхо: гневаясь на нее, Пан привел в безумие пастухов и козоводов, которые разорвали ее, как псы или волки. Миф принадлежит к буколическому кругу, где Дионис почитается под именем Дафнида, юного товарища охот Артемидиных, героя страстнόго, и обличает верность буколической песни коренной оргиастической традиции. Пан здесь заместитель самого Диониса, он частично отожествляется с Дафнидом, и приписание убийственного деяния ему было обусловлено несовместимостью такового с нежной маской буколического полубога.
4. Типы героя-охотника
Дикий горный охотник со сворой хтонических собак жил в героических культах, то как безыменный герой, — например, герой (горы) Пелиона, которому в области фессалийских магнетов еще во II в. до н.э. или даже позднее некий Пифодор, сын Протагора, воздвигает по обету эдикулу с рельефом, изображающим юного копьеносца и лань, и с посвящением «Герою» — то под случайными местными наименованиями, как Кинорт (Κυνόρτας) или Кинна (Κιννής) на аттическом Гимете. Не только сам «борзятник» (Кинорт) — предмет культа, но и его «собаки» и «доезжачие» (κυσίν καί κυνηγέταις), что указывает уже на общины служителей ловчего бога, ибо религиозные общины часто означались тотемом священного животного (каковы: «медведицы», «быки», «козлы», «пчелы» и т.п.). Естественно, что эти местные, почти или вовсе безыменные, мелкие культы тяготеют к слиянию с культами большими и общепрославленными, и мы видим, что Кинорт сливается с Аполлоном Малеатом, Кинад с Посейдоном, а «псари» приживаются к святилищу Асклепия.
Итак, пра-Дионис Загрей не был достаточно могуществен, чтобы объединить под своим именем все родственные культы; он становится «высочайшим из богов» лишь после того, как отожествляется с Дионисом. Оргиастическая жизнь анонимных общин его поклонников так и не нашла своего естественного русла. Его иноименный двойник Актеон был низведен на ступень второстепенного героя. Страстной герой (о чем свидетельствует и утвержденное Дельфами почитание его гроба в Орхомене), он был некогда богом страстей, Великим Ловчим, пра-Дионисом Аидом, и блуждал по горным дебрям и каменистым вершинам в оленьей шкуре (Nonn. V, 413), ища кровавой добычи. Имена Акусилая, Стесихора, Полигнота ручаются за его первоначально независимое от Артемиды значение: он ипостась Омадия-Загрея, во имя которого растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей), чтобы напитать причастников кровью самого бога. Медный кумир Актеона, прикованного к скале в Орхомене (Paus. IX, 38, 5), — то же, что древний идол Эниалия в оковах, виденный Павсанием в Спарте, или Диониса-Омадия в оковах на Хиосе. Тем не менее, связь Актеона с Артемидой исконная: это связь Ловчего Омадия с охотницей Агрионией, — общение культов и в то же время оргиастический обрядовый антагонизм. У Еврипида мы встречаем мотив соревнования обоих:
«Ты видишь злую участь Актеонову.___________________________
Он псиц живой добычей откормил; они
Его же растерзали. Лучшим быть ловцом,
Чем дева Артемида, похвалялся он».²
[2] В мотиве похвальбы героя и его состязания с божеством, мы вправе подозревать в герое полузабытый лик бога-соперника. Таковы, например, дионисийские типы лирников Лина и Фамиры и флейтиста-сатира Марсия, страсти коих и гибель в состязании с Аполлоном знаменуют подчинение представляемых ими родов энтузиастической музыки Аполлонову культу.
Бешенство Актеоновых собак — другая форма того же представления о растерзании менадами. Чьи же эти менады — Дионисовы или Артемидины? Миф представляет собак то собственной сворой Актеона, то сворой Артемиды: дело идет об оргиастических сопрестольниках и о жертвенном лике оргиастического бога, умерщвляемого женщинами, его служительницами и жрицами; преследование здесь знак культового слияния, а не разделения, обмен жертв, а не вражда культов. На кратере (Рубо) неаполитанского музея Актеон, с оленьими рогами на голове, в присутствии Артемиды, подземного Гермия (Ἑρμῆς) и Дионисова спутника — Пана, убивает священную лань.
В противоположность дикому Актеону, охотник Ипполит, сын амазонки Антиопы и дионисийского Тесея, — дружественная Артемиде ипостась ее сопрестольника; его страсти, однако, подобны Актеоновым и носят чисто дионисийский отпечаток: только не собаками разорван он, а размыкан — герой-конник — конями.
5. Орест и Пилад
Орест — одна из определенно выраженных прадионисийских ипостасей. «Сын отчий» — (Aesch. Ch. 1051) и столько же маска Диониса-Аида, сколько Агамемнон — Зевса, недаром приходит он гостем на навьи гостины афинских Анфестерий, безмолвный в круг безмолствующих, как и подобает гостю с того света. «Горец» по имени, пришелец с парнасских предгорий, он — подобие «горного скитальца» (ὀρειφοίτης), Великого Ловчего.³ Его гонит, как Актеона, охотничья свора Ночи и, обреченный Аиду обетным постригом, он одержим безумием: вот отличительное в его страстнόм обличии.
___________________________
[3] Фанокл (по цитате у Плутарха):
«Горный скиталец, узнал Дионис, как прекрасен Адόнис:
Шествует, быстрый, на Кипр, и похищает его».
Дельфийской Орестии предшествовала дионисийская, как дельфийскому Аполлону парнасские менады Ночи. Эта Орестия оставила явные следы в Аркадии, где он отожествлен был с Орестеем, сыном Ликаона (Paus. VIII, 3, 1), — и, по-видимому, не случайно: не в силу только общности имени, но и в силу внутренней связи местного хтонического и фаллического (δάκτυλος) Орестея-Ореста с аркадским оргиастическим культом Эриний, богинь Ночи, вдыхающих в человека безумие (μανίαι). Первоначально матереубийство — убиение жрицы двойного топора — мыслилось содеянным в безумии, как и Алкмеоново матереубийство, по некоторым вариантам мифа, непредумышленно и бессознательно. Безумие как последствие матереубийства — уже аполлонийская версия. Певцы Гомеровой школы, вообще чуждающиеся оргиастического мифа, предпочли вовсе умолчать об этом темном деле. Очищение, во всяком случае, было совершено, согласно аркадскому преданию, «черными» богинями, превращающимися в «белых»: так дионисийский Меламп очищает обезумевших от Диониса Пройтид. Эсхилово действо в некотором смысле реакция против аполлонийского видоизменения легенды и частичный возврат к более древней ее форме: Аполлон опять оказывается немощным очистить Ореста; очищает его, конечно, и не Ареопаг, чье решение только улаживает договор с Эвменидами; последнее слово и завершительное снятие недуга остается за ними.
Пилад (Πυλάδης), «вратник» по своему имени,⁴ одноименный, как с Пилаохом-Аидом (Пυλάοχος), так и с Гермием-Пилием, и явно лик последнего, т.е. подземного Гермия, с имени которого начинается Эсхилова трагедия, которого не напрасно же призывает, стоя на отцовском кургане, Орест, и не напрасно дает Оресту в спутники Аполлон, — молчаливый Пилад составляет с ним такую же чету, как с Дионисом хтоническим и фаллическим юный Просимн.
___________________________
[4] Напрасно имя это сближают с Фермопилами, когда Πύλαι значит по преимуществу πύλαι Ἀΐδαο (Theognis, 427), Ἅιδου πύλαι (Aesch. Ag. 1291), πύλαι εἰς Ἀΐδαο (h. Orph. XVIII). Из этого гомеровского (напр. Il. IX, 312) образа, а не наоборот, развивается представление о δόμοι Ἀΐδαο, ибо порог и ворота служили местом погребения (Eitrem, Hermes und die Todten, S. 38). Πύλαι встречается в хтонических именах, как Эврипил (Εὐρύπυλος).
Орест умирал не раз: он был растерзан собаками и, как кажется, размыкан конями (уже Одиссея учит, что обманы, к которым прибегают герои, суть — версии истинного мифа, и потому неспроста выдумана заговорщиками повесть о смерти Ореста на ристалище); он, наконец, пал жертвой Артемиды таврической. Мало того: еще младенцем погиб он от Телефа, — героя, конечно, дионисийского, — потом от Эгисфа, — и старцем — от укуса змеи (как змием, сосущим грудь матери, привиделся он, по Эсхилу, во сне, накануне рокового дня, Клитемнестре). Tριστίς Ορέστες (по Горацию), он постоянно выходец из могилы, из недр того кургана, на котором стоит со своим неразлучным и безглагольным спутником, блюдущим вход и выход безмолвного царства, — стоит, возглашая свой чудесный возврат и укоряя в неверии живых, которые глядят на него — и глазам своим не верят. Историзирующая легенда по-своему спаяла разрозненные части таинственного мифа о вечно сходящем в могилу и из нее возвращающемся боге-герое в суховатую и отталкивающую биографию, которую она не умеет достойно закончить. Орест неразрывно и вместе антагонистически связан с Артемидой как Дионис: отсюда его дружба с Электрой, и противоположность Ифигении, и роль жертвы в Тавриде, и похищение кумира Ταυροπόλος, несомненный знак сопрестольничества. Это похищение, как было правильно отмечено Рошером, находит параллель в мифе о критском Кнагее, бледном, но явно дионисийском отражении Ореста.
6. Аристей. Ἀφανισμός. Мелитей. Сочетание героических ипостасей Диониса и Артемиды.
Аристей — широко распространенное и по отдельным местностям разноокрашенное олицетворение плодоносящей силы подземного (как это явствует из эвфемистического имени) пра-Диониса. В качестве ипостаси Аида, он преследует Эвридику, супругу Орфея, и вызывает пчел из тления. Его сыновья Харм (Услад) и Калликарп (Красноплод), как сам Дионис, по Гомеру, «услада смертных» (χάρμα βροτοίσιν) и, по надписям, «Плодовик» (Κάρπιος) и «Красноплод» (Καλλίκαρπος). Культ Аристея несомненно древнее имени и лица Дионисова; примечательны воинственные пляски в честь его на Кеосе, подобные пляскам критских куретов. Торжество Диониса низвело Аристея в герои. В Сицилии он был сопрестольником (πάρεδρος) Дионисовым. Сыном Аристея-охотника оказывается Актеон. Женский Дионисов коррелят представлен в цикле Аристея — матерью Киреной (Артемидой) с одной стороны, с другой — супругой Автоноей, сестрой Семелы и матерью Актеона. Дочь Аристея угощает Вакха вином. Более того, он с Макридой, дочерью, воспитывают младенца Диониса, по поручению Гермия; Макрида, по имени которой дионисийский остров Эвбея, где младенец был вскормлен, именовался вначале Макридой, — одна из дионисийских нимф-мамок (τεθῆναι). Спасая ребенка от преследующей его Геры, Макрида бежит с Эвбеи на остров феаков, Коркиру, также именуемый Макридой; там она таит бога в пещере «с двойным входом» (δίθυρος; отражение в мифе культовой этимологии имени «Дифирамб»). Соперничество Аристея с Дионисом как покровителем виноделия, в защиту дара пчел и елея — не противополагает его Дионису, но именно с ним сближает.
Будучи древнее Диониса, бог Аристей не необходимо должен претерпеть, как собственно герой, трагические страсти: πάθος Дикого Охотника перенесен на Актеона; уход с земли божественного отца мыслится как ἀφανισμός — взятие в горные недра. Ἀφανισμός самого Диониса рассматривался, впрочем, все же как род «страстей». Рес восхищен в недра горы после претерпенного мученичества; Салмоксид, пра-Дионис фракийских гетов, Радаманф, брат Миноса, божественный сын прадионисийской Ио — Эпаф, также взятые в гору, страстной доли не имели, подобно Аристею, тогда как поглощение землей дионисийского Амфиарая носит характер героических страстей. Менее известно исчезновение Эвтима (Εὔθυμος), несомненно дионисийского героя италийской Локриды, который освобождает жителей Темеса от безыменного Героя, требовавшего ежегодно в жертву девы, одолев его в посвященном ему храме (как Тесей Минотавра в Лабиринте), после чего Герой исчезает в море: легенда отражает, по-видимому, утверждение кроткой религии Диониса на месте человекоубийственной прадионисийской; Герой здесь предшествует Дионису, как Ἀμείλιχος («суровый») в Патрах Дионису-Эсимнету. Что до Реса, племенного бога-охотника дионисийских эдонов, религиозное значение которого во Фракии доказывает сама интерполяция Долонии в Илиаде, — повесть у Парфения о любви охотницы Аргантоны (ипостаси Артемидиной) заставляет предполагать, что он был объектом женских плачевных вызываний (ἀνάκλησις) как бог исчезнувший: узнав о смерти Реса, Аргантона блуждает по местам прежних свиданий, громко зовет возлюбленного по имени, потом исчезает у речных струй, как нимфа-менада.
Параллелен Аристееву мифу миф о Мелитее (Μελιταῖος), вскормленнике пчел и основателе пчелиного города — Мелиты фтийской (Μελίτη). Его принадлежность миру подземному обнаруживается в предании о деве Аспалиде. В Мелите царствует уже не Мелитей, а Тартар (итак, вот кто был Мелитей),⁵ — ибо пчелиное царство (как явствует из знаменитого мифа об Аристее, рассказанного Вергилием, Georg. IV, 315 sqq.), возникает из смерти.⁶ Тартар покушается овладеть Аспалидой, но его убивает брат девы, Астигит, надевший на себя одежду сестры. Аспалида повесилась; тело ее не могут найти; взамен тела Артемида дает изображение, перед которым с того времени девы города приносят в жертву козлят, как перед кумиром богини, искупая тем собственную жизнь. Все предание — яркий пример сопрестольничества Диониса и Артемиды. Аспалида — Эригона; превращение повешенного на дереве женского тела в кумир — αἴτιον («причина») обряда эоры (αἰώρα), в котором человеческие жертвы были заменены подвешенными к ветвям куклами. Как в мифе об Икарии и Эригоне, культы обоих оргийных божеств неразрывно слиты; жертвенные девы мыслятся охваченными самоубийственным безумием. Переодевание юношей в женские одежды — черта общая обоим культам и запечатлевающая их связь. Аспалида как ипостась Артемиды родственна критской Диктинне. По Гесихию, ἄσπαλος — рыба, ἀσπαλιευτής — рыбарь. «Рыбарь» — одно из обрядовых именований островного Диониса, как на островной обрядовый круг указывает и переодевание. Аспалида — «рыбица» — быть может, одно из имен Артемиды низин (Λιμνῆτις, «болотная»), ибо Диктинна — «мрежница» — бегает, охотясь, по болотистым зарослям (φοιταί διά λίμνας, Eur. Hipp. 145). Ее преследует Минос, критский пра-Дионис двойного топора; она кидается в море и попадает в рыбачьи сети (δίκτυα, Callim. h. III), — как рыбачьими сетями вылавливаются кумиры Диониса и тела дионисийских героев.
___________________________
[5] Срвн. Мелитода (Μελιτώδης) — эпитет Персефоны, соправительницы Аида.
Μελιτώδης ἡ (sc. θεά) «Медовая богиня», т.е. Персефона (которой приносились медовые лепешки) Theocr.
[6] Мученическая смерть царя Онесила на Кипре повела за собою его провозглашение героем из Дельфов и установление его культа, потому что сопровождалось чудом: в его отрубленной голове, выставленной на городской стене, завелся пчелиный рой (Deneken, «Heros», Roscher's Myth. Lex. I, 2520). Чудо с пчелами и πάθος, были, следовательно, мотивами его сопричтения к сонму дионисийских мучеников.
7. Геракл. Эней.
Древнейшая история Геракла в эллинстве — история неудавшейся попытки объединить элементы будущей Дионисовой религии вокруг этого «героя-бога», как именует его Пиндар (Nem. III, 22: ἥρως θεός) наименованием, собственно подобающим одному Дионису. Много причин обусловило неудачу: и печать доризма, которую, постепенно застывая и каменея, принимает его уже только подвижнический образ, — и его отчужденность от жизнемощных корней материкового, фракийско-парнасского оргиазма, — и, наконец, сама устойчивость представления о нем, исключающая ту не героическую, но божественную легкость превращений, какая прежде всего оказалась необходимой для владыки смерти и возрождения, для бога нижнего и вышнего вместе, для небожителя и внезапного стихийного демона в одном лице. В свою раннюю пору Геракл (по-видимому — Сандон хеттского Тарса) был прадионисийским сопрестольником оргиастической богини, умирающим на костре и воскресающим, увенчанным виноградными гроздьями, грозным своими рогами и обоюдоострой секирой. Он был тогда и навсегда остался своего рода богочеловеком, претерпевающим страсти. В свою позднейшую пору он непрерывно сближается в свойствах, судьбах и деяниях с Дионисом, во всем ему уподобляется, но при этом остается себе верен так, что черты сходства кажутся проистекающими из его самобытной природы: всегда эллины чувствовали его исконную независимость от Диониса и не забыли в нем своеобразного предтечи Дионисова.
В самом деле, герой из героев, но уже не бог, Геракл, искони Дионису подобный, встретив на пути своем истинного героя-бога, не мог остаться ему чуждым, но и затеряться в сонме его спутников не мог: возможно ему было только как бы удвоиться божеством Дионисовым, что и случилось. Кажется, что лишь путем такого удвоения достигнуто было полное обожествление героя-страстотерпца, ибо Геракл страждущий, умерший и возведенный на Олимп,⁷ предполагает утверждение Дионисовой религии как предварительное условие. По Виламовицу, миф о безумии Геракла создан для мотивации Гераклова ухода к Эврисфею, в дионисийских Фивах. Но вероятнее, что безумие, налагающее на героя дионисийскую печать (Беллерофонт, Алкмеон, Орест, Эант), было простым следствием усмотрения одноприродности Геракла и Диониса. Переодевание Гераклова жреца в женские одежды на о.Косе и этиологическое объяснение обряда, известного, по-видимому, и в других местах, мифом об Омфале свидетельствуют не только о факте распространения на Геракла островного дионисийского культа, но и о внутренней возможности этого распространения в силу исконных особенностей культа Гераклова, как явления производного из религиозного круга малоазийской Великой Матери, Реи.
___________________________
[7] При описании амиклейского трона Павсаний (III, 18, 11) говорит об изображении младенца Диониса, несомого на Олимп Гермием, и Геракла, ведомого туда же Афиной для сожительствования с богами.
Геракл и Дионис воистину братья. Боги не могут победить Гигантов без помощи двух героев, рожденных Зевсом от смертных матерей — Семелы и Алкмены. Запрет клясться именем Геракла и равно именем Диониса под кровлей дома (υπό στέγη) также указывает на одинаковое чувствование обоих как носителей какой-то грозовой, безумно и разрушительно высвобождающейся силы. Оба служат мистическим звеном, соединяющим мир живых и мир загробный: ибо Геракл более древний посетитель Аида, чем дионисийские Тесей и Пирифой, — он укротил Кербера, он и на земле одолел бога смерти (Θάνατος); поэтому мисты нисходят в подземное царство под общим покровительством обоих братьев. Стремление в теснейшем сближении представить обоих, равно воплощающих собою религиозный идеал бога-сына, страдальца и спасителя (ἀλκτήρ, σωτήρ), сказалось в следующей, поздней эпохи, надписи (Anthol. Pal. II, p. 682):
«Оба из Фив, Громовержца сыны, и воители оба:
Тирсом ужасен один; палицей грозен другой.
Смежны обоих столпы; и оружия сходны обоих:
Шкуры оленя и льва, систр с бубенцами, кимвал.
Гера обоим враждебна. Бессмертными землю покинув,
Оба взошли на Олимп. Оба питомцы огня.»
Этолийский цикл дионисийских легенд и дионисийская генеалогия этолийских героев восполняются преданием, что мать Мелеагра, Алфея (Ἀλθαίη), супруга Энея, родила от Диониса Деяниру (Δηιάνειρα): так Геракл связывается со своим божественным братом и через роковую виновницу страстной своей смерти. Мелеагр, напротив, рожден Алфеей (по версии, обработанной Еврипидом) от Арея. Эней (Οἰνεύς)⁸ — вместе ипостась Диониса и Арея, существенное тожество коих было уже выше показано. Он связан с Дионисом, как винодатель и гостеприимец Диониса и Геракла (убившего у него в доме, очевидно — в дионисийском безумии, отрока-виночерпия) — как сыноубийца, как беглец от Агрия (подобно Дионису, беглецу беотийских Агрионий), как страстотерпец, по Аполлодору (I, 8, 6), и герой гробницы в аргивской Эноэ (Οἰνόη), — наконец, как сын Фития (Φύτιος) и внук Орестея, родоначальника озольских локров, обретшего виноградную лозу как песий дар, т.е. дар летнего зноя. С Ареем же сближает Энея, прежде всего, происхождение от воинственного бога, намеченное уже Гомером, считающим его не за сына дионисийского Фития, а за сына Порфея и Ареева внука. По-видимому, в этолийском цикле оба божества были нераздельны: первоначально оргиазм племени был мужески-воинственным, и позднее узнанный Дионис явился лишь обособленным аспектом древнего бога этолийских куретов. Этолийский пра-Дионис соединял в себе черты влажного Диониса (Ὕης Οἰνεύς)⁹ и Арея; женским коррелятом его была Артемида, виновница калидонской охоты.
___________________________
[8] οἴνη, дор. οἴνα ἡ
1) виноградная лоза Hes.
2) вино Anth.
[9] Ὕης, Ὑῆς (-ου) ὁ приносящий дождь (эпитет Вакха и Сабазия) Arph., Plut.
8. Ипостаси Диониса жертвенного и цветущего
Чем грознее рисуются образы прадионисийской старины, — каков Эней, — тем неожиданнее и ярче выступают, преломленные в героических ипостасях, очертания иного типа: лики пра-Диониса кроткого, благостного, жертвенно страдающего. Тут мысль невольно обращается к Орфею: но мы воздержимся от уже испробованного в науке анализа трудной темы, не надеясь со своей стороны способствовать точному выяснению первоначальных черт этого, во всяком случае, хтонического и оргиастического бога. Мудрый и праведный воевода ахейского воинства под стенами Трои, жертва предательства и невинный страстотерпец, Паламед, стал для эллинов, подобно Гераклу, религиозно-нравственным идеалом героя «пассий» и не был забыт как таковой даже в византийской поэзии. По словам Ксенофонта (Cyneg. I, II), «без вины убиенный, он столь великой чести удостоен был от богов, как никто иной из смертных; пал же не от руки тех, кому приписывают это дело (т.е. Одиссея, Агамемнона, Диомеда), но от руки злодеев». И Ксенофонт, конечно, прав: страсти Паламеда древнее, чем историко-драматическая мотивация гибели героя. Аполлоний Тианский, по Филострату, находит гроб его на месте страстей, где не прерывалось издревле его почитание, — а над гробом его статую, с надписью: «Божественному Паламеду», — и молится ему так: «Древний гнев забудь, о Паламед, и дай родиться мужам многим и мудрым, ты, через кого в людях разумение, чрез, кого Музы, чрез кого я сам». Примечательно, что Паламед из подземного царства покровительствует (по Филострату, Her.) и виноградникам.
Коварно загублен и камнями завален, подобно побитому камнями Паламеду, Анфей (Parthen. 15). Культовое имя «Анфей» (Ἀνθεῦς, «цветущий») носит Дионис в Патрах, где бог в священной ограде (τέμενος) некоей героини почитался одновременно в трех ликах — как Μεσατεύς, Ἀνθεῦς, Ἀρόεις.¹⁰
___________________________
[10] ἀερόεις, эп.-ион. ἠερόεις (-όεσσα, -όεν) туманный, темный; ex. (Τάρταρος Hom., Hes.).
Анфей, сын Антенора, также, по-видимому, в качестве одного из героев страстного цикла, нечаянно убит Парисом. Ахейский Анфий (Ἀνθείας) — вариант патрского Диониса Анфея: этой отроческой ипостаси Диониса придан характер страстного Триптолема (как Фаэтонту — страстного Гелия), он падает со змеиной колесницы сеятеля, спящего в доме Анфиева отца, Эвмела; всем троим усвоены черты дионисийские. Одноименный Анфа (Ἄνθα, Ἄνθης), герой Трезены, исчезает отроком: его похищает Адраст и делает своим виночерпием (срвн. миф о Ганимеде). Младенческий облик страстного бога, напоминающий амфиклейскую легенду, — немейский Архемор, он же Офельт и — как это ни неожиданно — Амфиарай, жизнь которого таинственно связана с его жизнью.
Итак, этот прадионисийский тип варьируется от младенца до мощного хтонического бога, благ подателя, покровителя произрастаний земных и чадородия; оргиастический культ, ему посвященный, связан с сельскими празднествами и надгробным плачем, вероятно и вызываниями (ἀνάκλησις); предметом плача служат божественные страсти. Такой младенческой или отроческой ипостасью еще не обретенного Диониса является Лин (Λίνος), чье имя служит обозначением одного из древнейших действ.
«В круге пляшущих, отрок по звонко-рокочущей лире
Сладко перстами бряцáл, припевая голосом тонким:
«Лин прекрасный!» Они же, кружась в хороводе, запеву
Пеньем и вскриками в лад и топотом ног отвечали.»
(Илиада XVIII, 569)
Эту сельскую сцену выковал на Ахилловом щите Гефест. Мальчик изображает в обряде того бога или героя, которого хор оплакивает. И если плач зовется по припеву «лином» (λίνος), то и сам отрок — Лин (в действе), и круговой хор правит страсти Лина,¹¹ как сикионский круговой хор правил страсти Адраста. «Жалобная заплачка, заимствованная, по-видимому, у финикиян, сочеталась, как оргийный момент экстатической скорби, с восторгами веселых празднеств виноградного сбора и с представлением о безвременно погибшем некоем боге-младенце, чье имя и чей образ мы встречаем в собственной Греции в местных аргивских легендах», по которым он разорван собаками; френетическое междометие дало имя безыменному ребенку, герою страстей. Аналогию Лину составляет египетский Манерос (μανέρως);¹² родственны и страстные участи отроков Борма и Гилла.
___________________________
[11] Возможно праздник связан с уборкой льна (λίνον). Либо перекликается с афинскими Ленеями (Λήναια).
λίνεος — льняной; ex. ὅπλα λίνεα Her. — льняные канаты.
Ληναῖος ὁ Леней (бог виноделия, т.е. Вакх-Дионис) Diod., Anth.
Λήναια τά (sc. ἱερά) Леней (афинский праздник виноделия в 8-11 дни месяца Γαμηλιών в честь Вакха; к нему приурочивались состязания драматургических произведений) Arph., Arst.
Λῆναι (-ῶν) αἱ лены, т.е. вакханки Anth.
[12] μανέρως, μανερῶς ὁ (dat. μανέρωτι, acc. μανέρωτα) погребальная песнь у египтян Her.
Μανέρως, Μανερῶς — имя рано умершего сына первого егип. царя.
Засыпан камнями в Аргосе, подобно упомянутому Анфию, и некий Меланхр (Μέλανχρος), которого сближают с дионисийским циклом, кроме его пафосa, и имя, и культ гробницы. Лидийский Ампел (Ἄμπελος, «виноградная лоза», «виноград»), тожество коего с Дионисом виноградников означено самим именем, — любимый богом отрок, умерщвленный быком, т.е. самим Дионисом в исступлении. Хтонический характер амиклейских Иакинфий и употребление на празднике плющевых венков являют их как дорический аналог ионийских Анфестерий и позволяют подозревать в юном Иакинфе (Ὑάκινθος), страсти и могила которого типичны для дионисийских героев, одну из отнятых Аполлоном у Диониса добыч, тем более, что культ выводится в предании из Фив и что неизменный женский коррелят героя не отсутствует — в лице Иакинфовой сестры Полибои (Πολύβοια), носительницы имени (срв. Εὔβοια, имя Дионисова острова и менады), свойственного Артемиде, либо Коре-Персефоне.
Что страстные герои цветения принадлежат дионисийскому кругу как демонические ипостаси Диониса-Анфея, показывает и миф о прекрасном Нарциссе, охотнике и брате неразлучной с ним и совершенно ему подобной сестры-охотницы (Paus. IX, 31:6), встречающем в своей жизни дионисийскую нимфу Эхо (растерзанную потом безумными пастухами в волчьих шкурах) и двойника с мечом (Αμεινίας), чтимом у своей гробницы в Оропе глубоким молчанием, как Орест на празднике Анфестерий, и именуемом, как божество подземное, «молчаливым» (σιγηλός).¹³ Бог Адонис, самостоятельный прадионисийский страстной лик, является дионисийским героем, как мы выше видели (§ 5), через «похищение» Дионисом-Охотником.
___________________________
[13] και Σίγηλος μεν κύριον ὄνομα Ναρκίσσου, σιγηλός δε ο σιωπηλός. (по Евстафию ad Οdyss. p. 1967, 36).
9. Патетическая стилизация героической легенды
Многие общие черты сближают с Паламедом другого страстного героя из троянского цикла — Протесилая. Последний — явная ипостась пра-Диониса подземного, и Еврипид настойчиво приводит его в связь с Дионисом. Лаодамия совершает перед его статуей вакхические служения, что подтверждается и изображениями на саркофагах. Протесилай владеет дионисийским оракулом и, подобно Паламеду, покровительствует виноградникам.
Радаманф справедливый, светлокудрый брат Миноса критского, ипостаси бога двойной секиры, начальник блаженных душ, обитающих в Элисии, милостивый лик подземного Зевса, кроткое солнце глубин, куда он перенесен с лица земли, — не отожествляется, но сопоставляется с Дионисом-Аидом, родственное сходство с которым отличает всех богоравных героев, взятых в земные недра, как Реса, Салмоксида, Аристея и отца Алкмены — Амфиарая. Отсюда соседство святынь Радаманфа и Диониса близ Галиарта, вокруг гробницы Алкмены, супруги Радаманфа в Элисии, а на земле — матери, от Зевса зачавшей «спасителя», близкого и родного Дионису, — Геракла. Радаманф, родоначальник царей дионисийской Эвбеи, одно из звеньев, смыкающих эллинский культ Диониса с его предтечей, культом критского Зевса.
Перенесение отдельных дионисийских черт на издревле прославленных страстями героев можно видеть на примере Ахилла (Ἀχιλλεύς). Дионисийский обряд переодевания отроков в женские одежды отразился одинаково в мифе о пребывании Ахилла среди дочерей Ликомеда и в мифе об укрывательстве Афамантом и его женою, Ино, их воспитанника Диониса в девичьем наряде. Дионис помогает Ахиллу, — как впоследствии македонский Александр — «Ахилл» — подражает Дионису и признается его эпифанией (νέος Διόνυσος, «юный Дионис»): по Киприям, Телеф, борясь против Ахилла, запутывается в виноградную лозу, подобно фракийскому преследователю Диониса, Ликургу. Согласно второй песне о мертвых (младшей Nεκυία) в Одиссее пепел Ахилла смешан с Патрокловым в золотой урне, подаренной Фетиде Дионисом; по Диктису, Ахилл сам, умирая, завещает сложить в эту урну свой прах вместе с прахом Патрокла и Антилоха. Ахилл, несомненно, один из древнейших (восходящих к эпохе до выселения эолийцев из Фессалии в Малую Азию) объектов героического плача и laudationis funebris («поминальные панегирики») на праотеческих курганах, откуда и возникла эпическая οἴμη («песнь, сказание»). Ибо песнь о нем есть песнь о несравненной славе, незаслуженных бедствиях и роковой безвременной гибели народного любимца, богоравного смертного, преследуемого горем-злосчастием, потому что так написано ему на роду. Не значит ли потому и имя его то же, что Пенфей (ἔχω-πένθος)? Как бы то ни было, религиозное сознание народа естественно искало сблизить, насколько возможно, этих ранних героев френоса с обретенным после долгих поисков всеобщим богом страстей, «страдающим богом». В ином отношении к Дионису был счастливец Тесей; но его принадлежность местности, насыщенной влияниями прадионисийских и дионисийских культов, и исконная связь с Критом имеют последствием то, что в длинном ряде наиболее ярких выявлений своей религиозной сущности он оказывается не подобием только, а как бы непосредственной эпифанией Диониса: вот почему сын Эгея — юноша в женской одежде — побеждает Минотавра, добывает венец Амфитриты, сочетается с Ариадной, а потом с Федрой, нисходит в Аид, хоронит на своей земле изгнанников — великодушный гостеприимец, и прославляется Бакхилидом в дифирамбах.
Как некие языческие святцы, проходит перед нами героическая «золотая легенда» эллинской древности, и в ее пестром многообразии неожиданно выступает основная однородность, почти схематизм. Религия Диониса как бога-героя и героя-прообраза налагает на нее общую печать. Позднейшие мифообразования эту печать закономерно принимают. Так, выдержан в дионисийском стиле роман Панфеи в Ксенофонтовой «Киропедии»: верная жена слагает в порядке разрубленное тело мужа, рука которого, когда Кир пожимает ее, остается в его руке, — а потом закалывается на мужнином могильном кургане. Тесей в трагедии Сенеки также складывает вместе собранные части растерзанного Ипполита. В обоих случаях представлено обрядовое сложение дионисийски разорванного тела (κατά σύστασιν ἀρμονίας) «по составу его согласия» (κατά σύστασιν αρμονίας), что, как учили под египетским влиянием орфики и позднее герметики, служит условием возрождения (παλιγγενεσία) умершего. Но наиболее, быть может, показательно проявилась упомянутая стилизация героической легенды по прототипу мифа о Дионисе в греческой обработке чужеземного предания о Ромуле: эллины и героизировали, и обожествили римского героя-эпонима на свой лад. Ему приписаны и могила (τάφος), и страсти (πάθος), — притом последние в форме σπαραγμός («разрывание»). Правда, римляне вообще игнорировали эту чуждую им версию; однако, греческое представление о «похищении» (ἀφανισμός, ἁρπαγμός) на черных Ареевых конях лежит в основе Горациева образа: «Quirinus Martis equis Acheronta fugit».¹⁴
___________________________
[14] hac Quirinus Martis equis Acheronta fugit — этот Квирин (т.е. Ромул) на лошадях Марса избежал смерти (Квинт Гораций Флакк, «Оды 3.3.16. К Цезарю Августу»).
_______________________________
|
Метки: Дионис Герои Греция |
Процитировано 1 раз
ЗЕВС КРИТСКИЙ |
А.Ф. Лосев
МИФОЛОГИЯ ГРЕКОВ И РИМЛЯН. КРИТСКИЙ ЗЕВС
Необходимо иметь в виду, что пестрота и сложность критской этнографии и культуры превосходит материковую Грецию. Партикуляризм и кантональность Крита, этого небольшого острова, изборожденного в разных направлениях горами, вела к тому, что там имелось не менее восьми религиозно-мифологических центров и не меньше двадцати пяти культовых названий для Зевса.
Население Крита благодаря его срединному положению между Европой и Азией всегда представляло смесь восточных и греческих элементов. Можно утверждать, что немного ранее половины второго тысячелетия Крит подвергся нашествию и колонизации со стороны эоло-ахейцев. Так, в Кноссе мы находим беотийские элементы, в Гортине — фессалийские. Около 1100 до н.э. произошла дорийская колонизация Крита. Эти два вторжения оказали, конечно, большое влияние и на нравы, и на язык, и на мифологию Крита.
Основным и всевластным божеством этих отдаленных тысячелетий следует считать Мать-Землю, которая проявляет себя и как таковая, и в бесчисленных отдельных видах, и в формах неодушевленной и одушевленной природы. Мужское божество на этой ступени развития вторично и второстепенно. Мать-Земля рождает все из себя самой; и только на поздних ступенях этой матриархальной религии появляется мужской коррелят богини, да и то сначала спорадически или периодически, единственно только для оплодотворения Великой матери. Необходимо тут же сказать, что таким мужским божеством, даже в этой подчиненной форме, все-таки был в Греции не Зевс, а Посейдон.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. ИДА
Очень важно ясно представлять себе географическую сторону критской мифологии. Под словами «Критский Зевс» надо понимать Зевса горы Иды и Зевса горы Дикты,¹ хотя культ Диктейского Зевса только филиал идейского культа.
____________________________
[1] Δίκτη ἡ Дикта (гора в восточной части Крита) Diod.
Ἴδη, дор. Ἴδα ἡ Ида, горный массив в центре Крита Eur., Arph.
Ида — лесистая гора. Ряд лингвистов указывает, что об этом говорит и сама этимология этого названия (ср. Paus. X 12, 7: «Местности, покрытые густым лесом, люди называли тогда Идами»). Знаменитая пещера предполагается на вершине Иды. Сейчас это пустынная местность, но в древности здесь была обширная кипарисовая роща. Кипарисы прямо указывают на культ Реи или Зевса (ср. об их стволах, идущих на крышу храма Реи и Загрея, в «Критянах» Еврипида).
Около пещеры были обделанные железом камни в форме человеческого пальца, так называемые идейские пальцы, рассматривавшиеся, может быть, как перуны Зевса. Теофраст свидетельствует о наличии разного рода посвятительных даров в идейской пещере. Остатки их были собраны в Кандийском музее. Среди них нет ничего, относящегося к микенскому периоду, и даже почти ничего нет раньше 600 до н.э.
Еще в V в. до н.э. почитали Идейского Зевса (Ζεύς Ἰδαῖος). Быть местом рождения Зевса претендовали кроме Иды также горы Эгейон и Дикта. Но можно утверждать, что миф во всяком случае трактовал Иду как место, куда Зевс был перенесен после рождения. С Идой связывается и воспитание Зевса, о чем говорят теогонические мифы. Тут и знаменитая коза Амалфея,² вскормившая Зевса, тут и Орел, о котором рассказывает грамматик и комментатор Сервий (Aen. I 394), и найденные на Крите монеты с изображением орла и надписью: «Зевс Идейский».
Поклонение Зевсу Идейскому было широко известно во всем древнем мире. Сама пещера была в 20 милях от Кносса по прямой линии и соединялась с последним хорошей дорогой. Около пещеры был луг, посвященный Зевсу (Diod. V 70); последний, как повествует Диодор, сделал пчел бронзового и золотого цвета и не боящимися дурной погоды в награду за свое воспитание.
О культе в пещере почти ничего не известно. Говорили о нисхождении Пифагора и критского легендарного мудреца Эпименида в эту пещеру. Недалеко от этой пещеры был храм Зевсу Идейскому (согласно «Критянам» Еврипида). Здесь и совершались оргии в честь Зевса.³ Имеются сведения о посылке Гортиной и Ризенией (местности на Крите) ежегодной жертвы Зевсу Идейскому. В эллинистическое время Зевса часто называли Бидатас (Βιδάτας), т.е. Ἰδάτας (или Ἰδαίος, Идейский). В 150 до н.э. в клятвенном договоре между городами Литтом и Олосом упоминается Зевс Будатас. В 100 до н.э. договор между Гортиной и Иерапитной, с одной стороны, и Прасом — с другой, также упоминает храм Зевса Будатаса.
____________________________
[2] Ἀμάλθεια, ион. Ἀμαλθίη ἡ Амалтея (коза, вскормившая своим молоком младенца Зевса на Крите).
[3] ὄργια τά
1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии;
2) священнодействие или жертвоприношение.
Главными источниками, свидетельствующими об идейском культе, являются разные изображения на посвятительных дарах, которые несли на себе следы искусства, характерного для родины тех или иных жертвователей. Тут мы находим черты и восточного, и ионийского, и протокоринфского стилей.
Праздник Зевсова рождения, вероятно, справлялся в декабре, тогда же, когда и ферские и родосские праздники Зевса. Обращает на себя внимание уже не раз упомянутый выше очень важный фрагмент из «Критян» Еврипида. Из обращения мистов (посвященных в таинства) к Миносу видно, что мы имеем здесь дело с самыми настоящими монахами, жившими вблизи святилища Зевса и проводившими жизнь в строгой аскезе.
Во время посвящения в монахи совершались священные оргии в честь Загрея, ипостаси Критского Зевса. Этот критский Загрей, Великий Ловчий, напоминает и великого беотийского охотника Ориона, и знаменитого охотника Актеона, растерзанного своими собственными собаками. Зевсовых монахов, служащих своему богу в экстазе, с кровавыми жертвоприношениями, отличает аскетизм, пост, молитва и чистая жизнь.
Идейский культ и идейская мифология Зевса нашли себе немалое распространение. Идейскую пещеру в Олимпии знает Пиндар (Ol. V 18 — «досточтимая идейская пещера»). Куретов, спутников и охранителей младенца Зевса на Крите, мы находим на Фере, в Эфесе и в других местах, особенно в восточном Крите с его почитанием Диктейского Зевса.
ДИКТА
Гора Дикта является другим основным религиозно-мифологическим центром культа Зевса на Крите. Эванс отождествлял Дикту с горой Ласити, а диктейскую пещеру — с пещерой Психро на Ласити. Однако это вызывает сомнения, поскольку Эванс расходится здесь с древней топографией. Белох и другие не отождествляют Дикту с Психро, но относят Дикту к городу Прасу в восточной части Крита. К этому взгляду впоследствии примкнул и Эванс.
Наука не располагает сейчас еще данными о местоположении Дикты и диктейской пещеры. Культ Диктейского Зевса засвидетельствован одной из присяг в Итане, оставшейся в надписях III в. до н.э., также и в Иерапитне, 139 до н.э. Древний храм был обнаружен к югу от Итана и к востоку от Праса, в Палекастро. Это огороженный участок с большим количеством храмового изобразительного материала. Может быть, этот храм был связан с Диктейским Зевсом. Не было недостатка в персонификации также и горы Дикты: это была критская нимфа, убежавшая от преследования Миноса.
ВОСТОЧНЫЙ КРИТ
Крайний восток острова с его городами Итаном и Прасом, а в дальнейшем также и Иерапитной отмечен почитанием Зевса. Последнее засвидетельствовано эпиграфически и для Палекастро, и для так называемого Алтарного холма в Прасе; возможно, это было одно и то же святилище. Но Зевсово богослужение началось здесь не раньше архаически-греческого времени, об этом говорит и употребление изображений бога. Многочисленные факелы, найденные в Палекастро, говорят о ночных служениях. Зевс изображается молодым, безбородым; его выкармливают звери; фигурирует овца, кормящая молоком. Запрещалось вкушение свинины (малоазийский мотив).
На хтонизм здешнего Зевса указывает Цербер (поставленный для охраны священного округа) золотой, сделанный Гефестом, но живой. Страбон говорит о попытках увезти этого Цербера из Праса (ср. Schol. Od. XIX 518). О хтонизме говорит и положение данного святилища в болотистой местности на месте старого минойского города.
Для восточного Крита важна еще одна географическая локализация. Именно, любопытные материалы содержат гимн Критскому Зевсу, вырезанный во II-III вв. н.э. на камне из Палекастро, восстановленный и изданный Мерреем в «Ежегоднике британской школы» (Annual of the British School XV), но составленный значительно раньше (если не в VII в. до н.э., как думал Джебб, то во всяком случае не позже 300г., по Меррею).
1. Ио!⁴
Дитя величайшее, привет от меня.
Сын Кроноса, всемогущий в блеске!
Ты пришел, ведя демонов,⁵ —
приди же к Дикте на свою годовщину
и возрадуйся песне,
которую мы тебе играем на арфах,
сплетая их звучание с флейтами,
и которую мы воспеваем, стоя вокруг
твоего прекрасно-оградного алтаря!
2. Ио!
Ибо тут тебя, бессмертное дитя,
прияли от Реи щитоносные пестуны
и скрыли, танцуя, ногами.
3. Ио!
(…) [cтрофа не сохранилась, кроме трех бессвязных слов]
4. Из года в год изобилуют Оры,
и смертных сдерживает Дика,
и всех диких животных окружила
любящая счастье Эйрена.
5. Ио!
Прыгни⁶ нам в наши
[винные] чаши,
и прыгни в наши прекраснорунные стада,
и прыгни в наши плодовые поля
и в медоносные ульи.
6. Ио!
Прыгни также и в наши города,
прыгни и в, морем носимые, корабли,
прыгни также и в новые поселения,
прыгни и на наши прекрасные уставы [законы и обычаи]!
(Aly W. Philolog. 1912. Bd 71, 470)
____________________________
[4] ἰώ interj. о! — возглас обращения, ликования (ἰώ, Πάν! Soph.)
[5] δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ
1) бог, богиня; ex. σὺν δαίμονι Hom. — с божьей помощью; πρὸς δαίμονα Hom. — против божьей воли;
2) божество (преимущ. низшего порядка); ex.: дух, гений, демон.
[6] «прыгни» — употреблен глагол θόρε с двусмысленным значением: «снизойди», «наполни собой», «оплодотвори»;
θόρε эп. 3 л. sing. aor. к θρῴσκω
θρώσκω (эп. impf. θρῷσκον, fut. θοροῦμαι, эп. aor. θόρον — conjct. θόρω)
1) прыгать, спрыгивать, соскакивать;
2) вспрыгивать, вскакивать;
3) отскакивать;
4) бросаться, набрасываться, нападать;
5) быстро идти, спешить, нестись, мчаться;
6) (= θορνύομαι) покрывать, оплодотворять; ex. ὁ θρῴσκων Aesch. — производитель, самец, перен. мужчина
θορός ὁ <θρῴσκω> мужское семя Her., Arst., Plut.
Ежегодно возвращается на Дикту молодой бог Зевс, приветствуемый в песнях своими почитателями. В.Али подчеркивает, что Зевс тут уже не рождается ежегодно, а только появляется после зимнего пребывания среди демонов (может быть, в виде Загрея). Тем не менее в окружении Зевса фигурируют Рея и Куреты. Куреты же эти ведут нас к орфической теогонии Диодора, а не к Гесиоду. Зевс связывается с представлением об утренней заре, посещает города, поля и пр.; и это посещение — бурное. Зевс проносится (прыгает, скачет). По-видимому, здесь некоторого рода орфическая переработка древней идейской мистической мифологии Зевса в направлении традиционно-эллинском, в стиле позднейшего почитания Зевса в Олимпии.
ЮКТА, ПСИХРО
Важным географическим центром, связанным с культом Зевса, была гора Юкта (Γιούχτας). Юкта — горный хребет, тянущийся с юга на север в направлении Кносса, высотой до 2070 футов. Каллимах в гимне к Артемиде (III 190-194) рассказывает (по мнению некоторых), что Минос, от которого нимфа Бритомартис бежала в море, превратился в гору Юкту (название производилось без достаточных оснований от διώκω — «преследовать»). С запада одна из этих гор действительно сильно напоминает человеческое лицо с бородой. Эванс говорит, что это профиль Зевса, а Кук полагает, что Зевс в сохранившихся поверьях заменил Миноса. Юкта действительно считалась могилой Зевса, а по схолиям к Каллимаху (Hymn. I 8) ее первоначально считали могилой Миноса. Переходы от царя к богу в мифологии — вообще постоянное явление. Источники о могиле Зевса на Крите — Порфирий (Vit. Pyth. 17, р. 25, в № 26), Каллимах (Hymn. I, 8 в № 63) и Арнобий (IV 4 и 25).
В известном месте «Теогонии» Гесиод, рассказывая о рождении Зевса, говорит не об Иде и не о Дикте, но о Эгейской (Αἰγαῖον, Козьей) горе (Theog. 484),⁷ куда Рея, якобы, перенесла новорожденного Зевса.
____________________________
[7] Αἰγαῖον ὄρος — Козья гора (часть горной цепи Ида на Крите) Hes.
Связь местности Ликт с горой Эгейон, установленная в приведенном рассказе Гесиодом (Theog. 477), заставила многих ученых увидеть Зевсову пещеру в пещере Психро (Ψυχρού, «холодная») на горе Ласити (Λασίθι), поскольку эта пещера находится только в четырех с половиной часах ходьбы от Ликта и поскольку здесь было найдено много остатков приношений начиная со среднеминойского периода. Пещера эта идет в глубину на 200 футов до подземного источника и содержит несколько сталактитовых зал. В верхней части пещеры — алтарь из грубо отесанных камней со столом для возлияний; дверь ведет к мощеному участку, окруженному циклопической стеной. За этой оградой были естественные туннели, соединявшие эту верхнюю часть пещеры с нижними залами и с водными каналами в центре горы. В верхней пещере около алтаря были найдены мечи, ножи, топоры, браслеты, остатки керамики, двухколесные тележки с быками и баранами (статуэтки), изображения быков, ножи с ручкой в виде человеческой головы, шпильки, дротики, кинжалы, кольца, проволочные иголки, миниатюрные круглые щиты и целые сотни глиняных изделий для пищи и курений, глиняная маска с раскрашенными охрой бровями, губами и ресницами, орнаменты на рукоятках мечей из слоновой кости, различные костяные туалетные изделия, небольшие алтари в виде столиков. В священном участке — меньше металла, но масса минойских глиняных изделий. Тут же черепа диких козлов, быков, баранов, ланей, свиней, собак — остатки жертвенных приношений. В нижних залах — бронзовые статуэтки, изображающие египетского бога Солнца Амона-Ра (отголосок отождествления Зевса с Амоном). Масса различного материала найдена и в нижних частях этой огромной пещеры. То же и в боковых залах. Среди найденных материалов не последнюю роль играет и двойной топор.
Хогарт прямо считает эту пещеру местом культа Зевса-Лабриса. Но вне зависимости от того, связана ли пещера Психро с мифом о рождении Зевса, или это мнение ошибочно, ее огромное религиозно-мифологическое значение совершенно несомненно; это явствует уже из одного перечисления найденных в ней изобразительных материалов.
Об остальных ипостасях Зевса на Крите известно очень мало. Так, Зевс Вельхан (Velchanus) на монетах в Фесте, изображался с петухом. Виламовиц связывает этрусский корень velchi именно с критским Вельханом; отсюда, по его мнению, и римский Volcanus. Вельхан не является греческим словом: это явствует уже из сочетания звуков lch.
Точно так же Зевс Скиллий (Σκυλλίης) в настоящее время уподобляется морскому богу Зенопосейдону⁸ из города Миласы в Карии и ассоциируется с морским чудищем Сциллой.⁹
____________________________
[8] Ζηνοποσειδῶν ἡ Зенопосейдон, греческое имя божества, который в Карии почитался под именем Осого (греч. Ὀσόγω, Ὀσογῶα).
[9] Σκύλλα, эп. тж. Σκύλλη ἡ Скилла, дочь Кратаида, шестиголовое лающее чудовище, обитавшее в приморской скале против другого чудовища, Харибды, и пожиравшее проплывавших мимо мореходов Hom., Aesch., Eur., Xen.
σκύλλω (aor. ἔσκυλα) разрывать, растерзывать
ex.: σκύλλεσθαι πρὸς παίδων τᾶς ἀμιάντου — быть пожираемым детьми моря, т.е. морскими животными Aesch.
_______________________________
МИФОЛОГИЯ ГРЕКОВ И РИМЛЯН. КРИТСКИЙ ЗЕВС
Необходимо иметь в виду, что пестрота и сложность критской этнографии и культуры превосходит материковую Грецию. Партикуляризм и кантональность Крита, этого небольшого острова, изборожденного в разных направлениях горами, вела к тому, что там имелось не менее восьми религиозно-мифологических центров и не меньше двадцати пяти культовых названий для Зевса.
Население Крита благодаря его срединному положению между Европой и Азией всегда представляло смесь восточных и греческих элементов. Можно утверждать, что немного ранее половины второго тысячелетия Крит подвергся нашествию и колонизации со стороны эоло-ахейцев. Так, в Кноссе мы находим беотийские элементы, в Гортине — фессалийские. Около 1100 до н.э. произошла дорийская колонизация Крита. Эти два вторжения оказали, конечно, большое влияние и на нравы, и на язык, и на мифологию Крита.
Основным и всевластным божеством этих отдаленных тысячелетий следует считать Мать-Землю, которая проявляет себя и как таковая, и в бесчисленных отдельных видах, и в формах неодушевленной и одушевленной природы. Мужское божество на этой ступени развития вторично и второстепенно. Мать-Земля рождает все из себя самой; и только на поздних ступенях этой матриархальной религии появляется мужской коррелят богини, да и то сначала спорадически или периодически, единственно только для оплодотворения Великой матери. Необходимо тут же сказать, что таким мужским божеством, даже в этой подчиненной форме, все-таки был в Греции не Зевс, а Посейдон.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. ИДА
Очень важно ясно представлять себе географическую сторону критской мифологии. Под словами «Критский Зевс» надо понимать Зевса горы Иды и Зевса горы Дикты,¹ хотя культ Диктейского Зевса только филиал идейского культа.
____________________________
[1] Δίκτη ἡ Дикта (гора в восточной части Крита) Diod.
Ἴδη, дор. Ἴδα ἡ Ида, горный массив в центре Крита Eur., Arph.
Ида — лесистая гора. Ряд лингвистов указывает, что об этом говорит и сама этимология этого названия (ср. Paus. X 12, 7: «Местности, покрытые густым лесом, люди называли тогда Идами»). Знаменитая пещера предполагается на вершине Иды. Сейчас это пустынная местность, но в древности здесь была обширная кипарисовая роща. Кипарисы прямо указывают на культ Реи или Зевса (ср. об их стволах, идущих на крышу храма Реи и Загрея, в «Критянах» Еврипида).
Около пещеры были обделанные железом камни в форме человеческого пальца, так называемые идейские пальцы, рассматривавшиеся, может быть, как перуны Зевса. Теофраст свидетельствует о наличии разного рода посвятительных даров в идейской пещере. Остатки их были собраны в Кандийском музее. Среди них нет ничего, относящегося к микенскому периоду, и даже почти ничего нет раньше 600 до н.э.
Еще в V в. до н.э. почитали Идейского Зевса (Ζεύς Ἰδαῖος). Быть местом рождения Зевса претендовали кроме Иды также горы Эгейон и Дикта. Но можно утверждать, что миф во всяком случае трактовал Иду как место, куда Зевс был перенесен после рождения. С Идой связывается и воспитание Зевса, о чем говорят теогонические мифы. Тут и знаменитая коза Амалфея,² вскормившая Зевса, тут и Орел, о котором рассказывает грамматик и комментатор Сервий (Aen. I 394), и найденные на Крите монеты с изображением орла и надписью: «Зевс Идейский».
Поклонение Зевсу Идейскому было широко известно во всем древнем мире. Сама пещера была в 20 милях от Кносса по прямой линии и соединялась с последним хорошей дорогой. Около пещеры был луг, посвященный Зевсу (Diod. V 70); последний, как повествует Диодор, сделал пчел бронзового и золотого цвета и не боящимися дурной погоды в награду за свое воспитание.
О культе в пещере почти ничего не известно. Говорили о нисхождении Пифагора и критского легендарного мудреца Эпименида в эту пещеру. Недалеко от этой пещеры был храм Зевсу Идейскому (согласно «Критянам» Еврипида). Здесь и совершались оргии в честь Зевса.³ Имеются сведения о посылке Гортиной и Ризенией (местности на Крите) ежегодной жертвы Зевсу Идейскому. В эллинистическое время Зевса часто называли Бидатас (Βιδάτας), т.е. Ἰδάτας (или Ἰδαίος, Идейский). В 150 до н.э. в клятвенном договоре между городами Литтом и Олосом упоминается Зевс Будатас. В 100 до н.э. договор между Гортиной и Иерапитной, с одной стороны, и Прасом — с другой, также упоминает храм Зевса Будатаса.
____________________________
[2] Ἀμάλθεια, ион. Ἀμαλθίη ἡ Амалтея (коза, вскормившая своим молоком младенца Зевса на Крите).
[3] ὄργια τά
1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии;
2) священнодействие или жертвоприношение.
Главными источниками, свидетельствующими об идейском культе, являются разные изображения на посвятительных дарах, которые несли на себе следы искусства, характерного для родины тех или иных жертвователей. Тут мы находим черты и восточного, и ионийского, и протокоринфского стилей.
Праздник Зевсова рождения, вероятно, справлялся в декабре, тогда же, когда и ферские и родосские праздники Зевса. Обращает на себя внимание уже не раз упомянутый выше очень важный фрагмент из «Критян» Еврипида. Из обращения мистов (посвященных в таинства) к Миносу видно, что мы имеем здесь дело с самыми настоящими монахами, жившими вблизи святилища Зевса и проводившими жизнь в строгой аскезе.
Во время посвящения в монахи совершались священные оргии в честь Загрея, ипостаси Критского Зевса. Этот критский Загрей, Великий Ловчий, напоминает и великого беотийского охотника Ориона, и знаменитого охотника Актеона, растерзанного своими собственными собаками. Зевсовых монахов, служащих своему богу в экстазе, с кровавыми жертвоприношениями, отличает аскетизм, пост, молитва и чистая жизнь.
Идейский культ и идейская мифология Зевса нашли себе немалое распространение. Идейскую пещеру в Олимпии знает Пиндар (Ol. V 18 — «досточтимая идейская пещера»). Куретов, спутников и охранителей младенца Зевса на Крите, мы находим на Фере, в Эфесе и в других местах, особенно в восточном Крите с его почитанием Диктейского Зевса.
ДИКТА
Гора Дикта является другим основным религиозно-мифологическим центром культа Зевса на Крите. Эванс отождествлял Дикту с горой Ласити, а диктейскую пещеру — с пещерой Психро на Ласити. Однако это вызывает сомнения, поскольку Эванс расходится здесь с древней топографией. Белох и другие не отождествляют Дикту с Психро, но относят Дикту к городу Прасу в восточной части Крита. К этому взгляду впоследствии примкнул и Эванс.
Наука не располагает сейчас еще данными о местоположении Дикты и диктейской пещеры. Культ Диктейского Зевса засвидетельствован одной из присяг в Итане, оставшейся в надписях III в. до н.э., также и в Иерапитне, 139 до н.э. Древний храм был обнаружен к югу от Итана и к востоку от Праса, в Палекастро. Это огороженный участок с большим количеством храмового изобразительного материала. Может быть, этот храм был связан с Диктейским Зевсом. Не было недостатка в персонификации также и горы Дикты: это была критская нимфа, убежавшая от преследования Миноса.
ВОСТОЧНЫЙ КРИТ
Крайний восток острова с его городами Итаном и Прасом, а в дальнейшем также и Иерапитной отмечен почитанием Зевса. Последнее засвидетельствовано эпиграфически и для Палекастро, и для так называемого Алтарного холма в Прасе; возможно, это было одно и то же святилище. Но Зевсово богослужение началось здесь не раньше архаически-греческого времени, об этом говорит и употребление изображений бога. Многочисленные факелы, найденные в Палекастро, говорят о ночных служениях. Зевс изображается молодым, безбородым; его выкармливают звери; фигурирует овца, кормящая молоком. Запрещалось вкушение свинины (малоазийский мотив).
На хтонизм здешнего Зевса указывает Цербер (поставленный для охраны священного округа) золотой, сделанный Гефестом, но живой. Страбон говорит о попытках увезти этого Цербера из Праса (ср. Schol. Od. XIX 518). О хтонизме говорит и положение данного святилища в болотистой местности на месте старого минойского города.
Для восточного Крита важна еще одна географическая локализация. Именно, любопытные материалы содержат гимн Критскому Зевсу, вырезанный во II-III вв. н.э. на камне из Палекастро, восстановленный и изданный Мерреем в «Ежегоднике британской школы» (Annual of the British School XV), но составленный значительно раньше (если не в VII в. до н.э., как думал Джебб, то во всяком случае не позже 300г., по Меррею).
1. Ио!⁴
Дитя величайшее, привет от меня.
Сын Кроноса, всемогущий в блеске!
Ты пришел, ведя демонов,⁵ —
приди же к Дикте на свою годовщину
и возрадуйся песне,
которую мы тебе играем на арфах,
сплетая их звучание с флейтами,
и которую мы воспеваем, стоя вокруг
твоего прекрасно-оградного алтаря!
2. Ио!
Ибо тут тебя, бессмертное дитя,
прияли от Реи щитоносные пестуны
и скрыли, танцуя, ногами.
3. Ио!
(…) [cтрофа не сохранилась, кроме трех бессвязных слов]
4. Из года в год изобилуют Оры,
и смертных сдерживает Дика,
и всех диких животных окружила
любящая счастье Эйрена.
5. Ио!
Прыгни⁶ нам в наши
[винные] чаши,
и прыгни в наши прекраснорунные стада,
и прыгни в наши плодовые поля
и в медоносные ульи.
6. Ио!
Прыгни также и в наши города,
прыгни и в, морем носимые, корабли,
прыгни также и в новые поселения,
прыгни и на наши прекрасные уставы [законы и обычаи]!
(Aly W. Philolog. 1912. Bd 71, 470)
____________________________
[4] ἰώ interj. о! — возглас обращения, ликования (ἰώ, Πάν! Soph.)
[5] δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ
1) бог, богиня; ex. σὺν δαίμονι Hom. — с божьей помощью; πρὸς δαίμονα Hom. — против божьей воли;
2) божество (преимущ. низшего порядка); ex.: дух, гений, демон.
[6] «прыгни» — употреблен глагол θόρε с двусмысленным значением: «снизойди», «наполни собой», «оплодотвори»;
θόρε эп. 3 л. sing. aor. к θρῴσκω
θρώσκω (эп. impf. θρῷσκον, fut. θοροῦμαι, эп. aor. θόρον — conjct. θόρω)
1) прыгать, спрыгивать, соскакивать;
2) вспрыгивать, вскакивать;
3) отскакивать;
4) бросаться, набрасываться, нападать;
5) быстро идти, спешить, нестись, мчаться;
6) (= θορνύομαι) покрывать, оплодотворять; ex. ὁ θρῴσκων Aesch. — производитель, самец, перен. мужчина
θορός ὁ <θρῴσκω> мужское семя Her., Arst., Plut.
Ежегодно возвращается на Дикту молодой бог Зевс, приветствуемый в песнях своими почитателями. В.Али подчеркивает, что Зевс тут уже не рождается ежегодно, а только появляется после зимнего пребывания среди демонов (может быть, в виде Загрея). Тем не менее в окружении Зевса фигурируют Рея и Куреты. Куреты же эти ведут нас к орфической теогонии Диодора, а не к Гесиоду. Зевс связывается с представлением об утренней заре, посещает города, поля и пр.; и это посещение — бурное. Зевс проносится (прыгает, скачет). По-видимому, здесь некоторого рода орфическая переработка древней идейской мистической мифологии Зевса в направлении традиционно-эллинском, в стиле позднейшего почитания Зевса в Олимпии.
ЮКТА, ПСИХРО
Важным географическим центром, связанным с культом Зевса, была гора Юкта (Γιούχτας). Юкта — горный хребет, тянущийся с юга на север в направлении Кносса, высотой до 2070 футов. Каллимах в гимне к Артемиде (III 190-194) рассказывает (по мнению некоторых), что Минос, от которого нимфа Бритомартис бежала в море, превратился в гору Юкту (название производилось без достаточных оснований от διώκω — «преследовать»). С запада одна из этих гор действительно сильно напоминает человеческое лицо с бородой. Эванс говорит, что это профиль Зевса, а Кук полагает, что Зевс в сохранившихся поверьях заменил Миноса. Юкта действительно считалась могилой Зевса, а по схолиям к Каллимаху (Hymn. I 8) ее первоначально считали могилой Миноса. Переходы от царя к богу в мифологии — вообще постоянное явление. Источники о могиле Зевса на Крите — Порфирий (Vit. Pyth. 17, р. 25, в № 26), Каллимах (Hymn. I, 8 в № 63) и Арнобий (IV 4 и 25).
В известном месте «Теогонии» Гесиод, рассказывая о рождении Зевса, говорит не об Иде и не о Дикте, но о Эгейской (Αἰγαῖον, Козьей) горе (Theog. 484),⁷ куда Рея, якобы, перенесла новорожденного Зевса.
____________________________
[7] Αἰγαῖον ὄρος — Козья гора (часть горной цепи Ида на Крите) Hes.
Связь местности Ликт с горой Эгейон, установленная в приведенном рассказе Гесиодом (Theog. 477), заставила многих ученых увидеть Зевсову пещеру в пещере Психро (Ψυχρού, «холодная») на горе Ласити (Λασίθι), поскольку эта пещера находится только в четырех с половиной часах ходьбы от Ликта и поскольку здесь было найдено много остатков приношений начиная со среднеминойского периода. Пещера эта идет в глубину на 200 футов до подземного источника и содержит несколько сталактитовых зал. В верхней части пещеры — алтарь из грубо отесанных камней со столом для возлияний; дверь ведет к мощеному участку, окруженному циклопической стеной. За этой оградой были естественные туннели, соединявшие эту верхнюю часть пещеры с нижними залами и с водными каналами в центре горы. В верхней пещере около алтаря были найдены мечи, ножи, топоры, браслеты, остатки керамики, двухколесные тележки с быками и баранами (статуэтки), изображения быков, ножи с ручкой в виде человеческой головы, шпильки, дротики, кинжалы, кольца, проволочные иголки, миниатюрные круглые щиты и целые сотни глиняных изделий для пищи и курений, глиняная маска с раскрашенными охрой бровями, губами и ресницами, орнаменты на рукоятках мечей из слоновой кости, различные костяные туалетные изделия, небольшие алтари в виде столиков. В священном участке — меньше металла, но масса минойских глиняных изделий. Тут же черепа диких козлов, быков, баранов, ланей, свиней, собак — остатки жертвенных приношений. В нижних залах — бронзовые статуэтки, изображающие египетского бога Солнца Амона-Ра (отголосок отождествления Зевса с Амоном). Масса различного материала найдена и в нижних частях этой огромной пещеры. То же и в боковых залах. Среди найденных материалов не последнюю роль играет и двойной топор.
Хогарт прямо считает эту пещеру местом культа Зевса-Лабриса. Но вне зависимости от того, связана ли пещера Психро с мифом о рождении Зевса, или это мнение ошибочно, ее огромное религиозно-мифологическое значение совершенно несомненно; это явствует уже из одного перечисления найденных в ней изобразительных материалов.
Об остальных ипостасях Зевса на Крите известно очень мало. Так, Зевс Вельхан (Velchanus) на монетах в Фесте, изображался с петухом. Виламовиц связывает этрусский корень velchi именно с критским Вельханом; отсюда, по его мнению, и римский Volcanus. Вельхан не является греческим словом: это явствует уже из сочетания звуков lch.
Точно так же Зевс Скиллий (Σκυλλίης) в настоящее время уподобляется морскому богу Зенопосейдону⁸ из города Миласы в Карии и ассоциируется с морским чудищем Сциллой.⁹
____________________________
[8] Ζηνοποσειδῶν ἡ Зенопосейдон, греческое имя божества, который в Карии почитался под именем Осого (греч. Ὀσόγω, Ὀσογῶα).
[9] Σκύλλα, эп. тж. Σκύλλη ἡ Скилла, дочь Кратаида, шестиголовое лающее чудовище, обитавшее в приморской скале против другого чудовища, Харибды, и пожиравшее проплывавших мимо мореходов Hom., Aesch., Eur., Xen.
σκύλλω (aor. ἔσκυλα) разрывать, растерзывать
ex.: σκύλλεσθαι πρὸς παίδων τᾶς ἀμιάντου — быть пожираемым детьми моря, т.е. морскими животными Aesch.
_______________________________
|
Метки: Зевс |
Понравилось: 1 пользователю
ЗЕВС ЛАБРАНДСКИЙ |
С.В. Петров
ЗЕВС ВОИТЕЛЬ
Лабранды — античный город в Карии, исторической области в Малой Азии. Древнейшие археологические находки обнаруженные на территории города — остатки керамики, относятся к середине VII века до н.э. Самое раннее, обнаруженное архитектурное сооружение датируется VI веком до н.э. По всей видимости, это фрагменты храма, располагавшегося здесь до постройки в IV веке до н.э. храма Зевса Лабрандского.
В 540-е годы до н.э. после того, как персидский царь Кир II Великий захватив город Сарды и пленив церя Креза, подчинил себе соседнее Лидийское царство, земли Карии попадают под власть Империи Ахеменидов.
Во время правления Дария I, наместник соседнего Милета, Аристагор, опасаясь лишения власти за неудачную попытку овладеть островом Наксос, решает поднять восстание против центральной власти в Персии. Ему удается добиться поддержки у малоазийских греческих городов, в результате чего восстание распространилось на Эолию, Карию, Ликию и, даже, Кипр. В 497 году до н.э. недалеко от Лабранд произошла битва между мятежниками и персидскими силами, под руководством военачальника Давриса, зятя Дария I. Это восстание не увенчалось успехом и власть персов в Малой Азии была восстановлена.
____________________________
[1] Στράτιος 3 воинствующий, воинственный (эпитет Зевса Her., Арея Plut. и Афины Luc.)
В 385 году до н.э. царь Артаксеркс II назначил сатрапом Карии местного правителя Гекатомна, который стал основателем династии Гекатомнидов, состоящей из его детей. Именно при Гекатомнидах, последовательно правивших до прихода Александра Македонского в 334 году до н.э., в Лабрандах было построено большинство дошедших до нас строений.
Гекатомн и его дети, главным образом, Мавсол (для погребения которого был сооружен знаменитый галикарнасский мавзолей, одно из семи чудес света) и Идрей, уделяли огромное внимание Лабрандам. От Миласа до святилища была проложена священная дорога, фрагменты которой сохранились до наших дней. По всей видимости, представители правящей династии одновременно являлись и верховными жрецами святилища и право это было пожизненным и передавалось по наследству.
После большого пожара в IV веке святилище начинает приходить в упадок.
Кроме, упомянутого выше Геродотом, Святилища Зевса Стратия, в Лабрандах поклонялись также Зевсу Осого, в не совсем свойственном для Зевса проявлении.
Феофраст, в сочинении «О водах», так же упоминает храм Зевса-Владыки (Ζηνοποσειδῶν) в Карии.² Ζηνοποσειδῶν — это греческое имя божества, который в Карии почитался под именем Осого (греч. Ὀσόγω, Ὀσογῶα). Самые ранние упоминания об этом божестве в письменных источниках относятся к IV веку до н.э. В надписях Зевс Осого появляется не ранее 200г. до н.э. Сохранились монеты с изображением этого божества; его атрибуты — трезубец, краб, орел. На связь Зевса Осого с морской стихией указывает Павсаний.
____________________________
[2] Ζηνοποσειδῶν (Ζηνο-ποσειδῶν), dor. Ζᾱνοποτειδάν ὁ Зевс Владыка.
Ζήν, Ζηνός — формы написания имени Зевса; этимология имени Ποσειδῶν подробно разобрана в статье Невунс, Нептун, Посейдон.
Не совсем понятно, почитались ли Зевс Осого и Зевс Стратий как два разных божества или как единый бог в двух ипостасях. На некоторых монетах отличительные символы Осого и Стратия — соответственно, трезубец и лабрис — совмещались.
______________________________________________________________
 Мавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). Миласа, Кария.
Мавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). Миласа, Кария.
Тетрадрахма (AR 14.72g).
Av: Зевс Осого с орлом и трезубцем;
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и скипетром; MA
______________________________________________________________
 Септимий Север (193-211). Миласа, Кария.
Септимий Север (193-211). Миласа, Кария.
Æ 25mm (5.93g).
Av: бюст Септимия Севера в лавровом венке; ΑΥ Κ Λ CΕΠT CΕΥΗΡΟC
Rv: внутри лаврового венка: лабрис, трезубец, ниже — краб; MYΛACЄΩN
______________________________________________________________
 Фиатира (Θυάτειρα), Лидия.
Фиатира (Θυάτειρα), Лидия.
Æ 15mm (2.59g), I в. н.э.
Av: бородатая голова Геракла;
Rv: лабрис, отнятый Гераклом у амазонки Ипполиты; ΘYATЄIPHΩN
______________________________________________________________
 Евром (Εὔρωμος), Кария.
Евром (Εὔρωμος), Кария.
Æ 17mm (3.00g), I в. до н.э.
Av: Зевс Лабрандский в тоге, с лабрисом и копьем;
Rv: лабрис; EYPΩMEΩN
______________________________________________________________
 Клазомены (Κλαζομεναί), Иония.
Клазомены (Κλαζομεναί), Иония.
Тетрадрахма (AR 32mm, 16.79g), ок. 170-151 до н.э.
Av: голова Зевса в лавровом венке;
Rv: амазонка Ипполита в тунике, с копьем и лабрисом; ΔIOΣ ΣΩTHPOΣ EΠIΦANOYΣ / KΛAZO
______________________________________________________________
Слово «лабрис» впервые упоминается Плутархом в «Греческих вопросах».
____________________________
[3] Ἱππολύτη ἡ Ипполита, царица амазонок, жена Тесея Luc., Plut.
[4] Ὀμφάλη ἡ Омфала, дочь лидийского царя Иардана, жена царя Тмола; после его смерти — царица Лидии Plut.
По мнению современных исследователей, культ Зевса в Карии гораздо древнее, нежели это представлялось Плутарху. Лабрис был широко распространен в культуре догреческой минойской цивилизации. При раскопках критских дворцов были обнаружены гигантские лабрисы, выше человеческого роста.
Зевс Лабрандский на Крите также был весьма почитаем. Главным местопребыванием Зевса Лабрандского считается лабиринт; Минотавр — обитатель лабиринта — одна из ипостасей Зевса Критского. Причем, вполне вероятно, что культ Зевса Лабрандского в Карию попал, именно, с Крита, вместе с переселенцами.
У слова «лабиринт» нет однозначной этимологии, дежурная трактовка игнорирует его созвучие со словом «лабрис» и производит слово лабиринт (λαβύρινθος) от λαύρα («улица», «проход») и ἐντός («внутри»).
Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что и версия о происхождении слова «лабиринт» именно и непосредственно от «лабриса» — главного священного предмета критского культа — так же весьма популярна:
Несмотря на то, что ученые до конца не определились на предмет этимологической близости слов «лабрис» и «лабиринт», все же можно обратить внимание на вполне подходящую семантику слова λάβρος и по отношению к быку (обитателю лабиринта), и по отношению к Громовержцу, обладателю топора.
λάβρυς (-υος) ἡ секира, топор Plut. (слово карийско-лидийского происхождения)
λάβρος
1) резкий, бешеный, порывистый (οὖρος Hom.; πνεῦμα Aesch.);
2) бурный, стремительный (κῦμα, ποταμός Hom.);
3) сильный, обильный (ὄμβρος Her.; καπνός Pind.);
4) бушующий (πόντος, πῦρ Eur.);
5) дикий, свирепый (ὄμμα Eur.);
6) дерзкий, злой (στόμα Soph.);
7) неистовый, мятежный (στρατός Pind.);
8) огромный, громадный (λίθος Pind.; μάχαιρα Eur.);
9) страстный, неукротимый (ἐπιθυμία Arst.; ἔρως Anth.);
10) жадный, прожорливый (δράκοντος γένος Eur.);
11) неумеренный, безмерный.
Хотя, исходя из того, что культовые лабрисы на Крите были довольно длинные, не исключено, что этимология лабриса связана именно с длинной рукоятью (λαβή).⁵ Длинное древко связывает лабрис и с римским штандартом — лабарумом (labarum).
____________________________
[5] λαβή ἡ ручка, рукоять, эфес.
ЗЕВС ХРИСАОРЕЙ
Еще об одном интересном эпитете Зевса, почитавшегося в Карии, сообщает Страбон в «Географии».
Поскольку Страбон говорит о «святилище всех карийцев», речь идет все о том же Зевсе Воителе. Эпитет Хрисаорей (Χρυσάορος), упомянутый Страбоном, носили и другие греческие боги, он означает «носящий оружие сверкающее золотом».⁶ Арес был вооружен «золотым мечом», Афина — «золотым копьем», Аполлон и Артемида были обладателями «золотого лука и стрелами», эллинистический Зевс обладал перуном, источником молний, который так же блистал золотом. Отличительными атрибутами общекарийского Зевса были топор и копье, видимо они и сияли золотом в руках Зевса Хрисаорея (Διός Χρυσαορέως). На древнегреческих вазах изображения обоюдоострого топора, в руках Зевса-громовержца, нередко сопровождаются зигзагообразными линиями молний, что максимально сближает назначение этих двух зевсовых атрибутов — перуна и лабриса.
____________________________
[6] χρυσάορος (χρυσ-άορος) 2 с золотым мечом или оружием (Ἀπόλλων Hom., HH., Pind.; Δημήτηρ HH.; Ἄρτεμις Her.)
______________________________________________________________
 Стратоникея (Στρατονίκεια), Кария.
Стратоникея (Στρατονίκεια), Кария.
Магистрат Зопир (Ζώπυρος).
Драхма (AR 18mm, 3.69g), конец I в. до н.э.
Av: голова Гекаты в лавровом венке, над головой полумесяц; ZΩПYPOΣ
Rv: Зевс, со скипетром, верхом на коне; ΣTPA
______________________________________________________________
В римскую эпоху, на монетах Стратоникеи, Зевс изображался верхом на коне, со скипетром в руке. Неизвестно, существовала ли подобная культовая статуя Зевса в Стратоникее в I-III веках, или подобный чекан — это дань римской традиции. Но гораздо больший интерес вызывают монеты, выпущенные в честь принятия Гетой титула цезарь, на которых Зевс Лабрандский предстает в архаическом образе (хотя и с отличающими его атрибутами — копьем и лабрисом). Является ли этот образ реальным отображением архаической иконографии — также неизвестно. Самые ранние артефакты с изображением карийского Зевса относятся к IV веку до н.э., т.е. времени правления гекатомнидов. И иконография его оставалась неизменной на протяжении нескольких веков — Зевс изображался опирающимся на одну ногу в своем движении, он облачен в длинный хитон и гиматий, образующий на животе крупные горизонтальные складки; правая рука, держащая топор слегка приподнята, и как будто древком топора опирается на плечо.
Архаический (или архаизированный) образ Зевса (на монетах Геты) выполнен в строгом соответствии древним канонам: статуя задрапирована, симметрична, стоящая фронтально с разведенными в стороны руками; на голове — модиус.
_______________________________

Гета (как цезарь 198-209). Миласа, Кария. Æ 39mm (30.79g).
Av: бюст Геты; ПО CЄΠTIMIOC ΓЄTAC
Rv: в тетрастильном храме архаическая культовая статуя Зевса Лабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛACЄΩN
_______________________________

Гета (как цезарь 198-209). Миласа, Кария. Æ 37mm (34.04g).
Av: бюст Геты; ПО CЄΠTIMIOC ΓЄTAC KAI
Rv: в тетрастильном храме архаическая культовая статуя Зевса Лабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛACЄΩN
_______________________________

Гета (как цезарь 198-209). Миласа, Кария. Æ 35mm (26.68g).
Av: бюст Геты; ПО CЄΠTIMIOC ΓЄTAC KAI
Rv: в тетрастильном храме архаическая культовая статуя Зевса Лабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛACЄΩN
_______________________________

Адриан (117-138). Миласа, Кария. Тридрахма (AR 30mm, 10.96g), ок. 128/9г.
Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем; COS III
_______________________________

Адриан (117-138). Миласа, Кария. Тридрахма (AR 30mm, 10.49g), ок. 128/9г.
Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем; COS III
_______________________________

Миласа (Μύλασα), Кария. Тетрадрахма (AR 25mm, 13.46g), ок. 250-200 до н.э. Магистрат Иреней (Ειρηναίος).
Av: Зевс Лабрандский с двойным топором и скипетром;
Rv: Зевс Осого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / EIPHNAIOΣ
_______________________________

Миласа (Μύλασα), Кария. Дидрахма (AR 6.69g), III в. до н.э. Магистрат Диодор.
Av: Зевс Лабрандский с двойным топором и скипетром;
Rv: Зевс Осого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / ΔIOΔΩPOΣ
_______________________________

Гекатомн (Ἑκατόμνος), сатрап Карии в 392-377 до н.э. Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 24mm, 14.78g).
Av: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем;
Rv: лев; EKATOMNΩ
_______________________________

Пиксодар (Πιξώδαρoς), сатрап Карии в 340-334 до н.э. Миласа (Μύλασα), Кария. Дидрахма (AR 6.71g).
Av: голова Аполлона в лавровом венке;
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и скипетром; ПIΞΩΔAPOY
_______________________________

Идрей (Ἱδριεύς), сын Гекатомна, сатрап Карии в 351-344 до н.э. Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 24mm, 14.72g).
Av: голова Аполлона в лавровом венке;
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем; IΔPIEΩΣ
_______________________________
_
Мавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). Кария, Малая Азия. Дидрахма (AR 7.01g).
Av: голова Аполлона в лавровом венке;
Rv: Зевс Лабрандский стоит со скипетром в левой руке и двойным топором в правой; MAΥΣΣΩΛΛ[OY]
_______________________________

Мавсол (Μαύσωλος), старший сын Гекатомна, сатрап Карии в 377-353 до н.э. Миласа (Μύλασα), Кария.
Тетрадрахма (AR 23mm, 15.28g).
Av: голова Аполлона в лавровом венке;
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем; MAYΣΣΩΛΛO
_______________________________

Тенедос, Мизия. Тетрадрахма (AR 32mm, 16.27g), ок. 100-70 до н.э.
Av: двуликий образ Зевса и Геры;
Rv: внутри лаврового венка — двойной топор, ниже виноградная гроздь и шапки Диоскуров; TENEΔIΩN
_______________________________

Нерон (как цезарь, 50-54). Фиатира, Лидия. Æ 17mm, ок. 50-54гг.
Av: бюст Нерона; NЄPΩN KΛAYΔI KAICAP CЄBA
Rv: двойной топор; ΘYATЄIPHNΩN
_______________________________
ЗЕВС ВОИТЕЛЬ
Лабранды — античный город в Карии, исторической области в Малой Азии. Древнейшие археологические находки обнаруженные на территории города — остатки керамики, относятся к середине VII века до н.э. Самое раннее, обнаруженное архитектурное сооружение датируется VI веком до н.э. По всей видимости, это фрагменты храма, располагавшегося здесь до постройки в IV веке до н.э. храма Зевса Лабрандского.
В 540-е годы до н.э. после того, как персидский царь Кир II Великий захватив город Сарды и пленив церя Креза, подчинил себе соседнее Лидийское царство, земли Карии попадают под власть Империи Ахеменидов.
Во время правления Дария I, наместник соседнего Милета, Аристагор, опасаясь лишения власти за неудачную попытку овладеть островом Наксос, решает поднять восстание против центральной власти в Персии. Ему удается добиться поддержки у малоазийских греческих городов, в результате чего восстание распространилось на Эолию, Карию, Ликию и, даже, Кипр. В 497 году до н.э. недалеко от Лабранд произошла битва между мятежниками и персидскими силами, под руководством военачальника Давриса, зятя Дария I. Это восстание не увенчалось успехом и власть персов в Малой Азии была восстановлена.
«Жестокая битва персов с карийцами произошла у реки Марсия и длилась долго; наконец персы одолели своей численностью. Персов пало 2000, а карийцев 10000. Беглецы с поля битвы были вынуждены укрыться в Лабраинды, в святилище Зевса Стратия,¹ в огромной священной платановой роще (карийцы же, насколько известно, единственный народ, который приносит жертвы Зевсу Стратию).»
(Геродот. История. Книга V. Терпсихора, 119)
____________________________
[1] Στράτιος 3 воинствующий, воинственный (эпитет Зевса Her., Арея Plut. и Афины Luc.)
В 385 году до н.э. царь Артаксеркс II назначил сатрапом Карии местного правителя Гекатомна, который стал основателем династии Гекатомнидов, состоящей из его детей. Именно при Гекатомнидах, последовательно правивших до прихода Александра Македонского в 334 году до н.э., в Лабрандах было построено большинство дошедших до нас строений.
Гекатомн и его дети, главным образом, Мавсол (для погребения которого был сооружен знаменитый галикарнасский мавзолей, одно из семи чудес света) и Идрей, уделяли огромное внимание Лабрандам. От Миласа до святилища была проложена священная дорога, фрагменты которой сохранились до наших дней. По всей видимости, представители правящей династии одновременно являлись и верховными жрецами святилища и право это было пожизненным и передавалось по наследству.
После большого пожара в IV веке святилище начинает приходить в упадок.
Кроме, упомянутого выше Геродотом, Святилища Зевса Стратия, в Лабрандах поклонялись также Зевсу Осого, в не совсем свойственном для Зевса проявлении.
«У миласийцев есть два святилища Зевса: одно — так называемого Зевса Осого; другое — Зевса Лабрандинского. Первое находится в городе, а Лабранды — селение вдали от города, на горе, вблизи прохода из Алабанд в Миласы. В Лабрандах есть древний храм и деревянная статуя Зевса Стратия, почитаемая окрестными жителями и миласийцами. От святилища до города идет мощеная дорога длиной почти что 60 стадий, называемая священной; по ней движутся священные праздничные процессии. Жреческие должности всегда пожизненно занимают знатнейшие граждане. Эти храмы принадлежат собственно городу, третий же храм — Зевса Карийского — является общим святилищем всех карийцев; в нем имеют долю как братья лидийцы и мисийцы. Рассказывают, что в древности Миласы были простым селением, родиной и местопребыванием карийских царей из рода Гекатомна. Город ближе всего к морю у Фиска, который является якорной стоянкой для миласийцев.»
(Страбон. География, Книга XIV. II:23)
Феофраст, в сочинении «О водах», так же упоминает храм Зевса-Владыки (Ζηνοποσειδῶν) в Карии.² Ζηνοποσειδῶν — это греческое имя божества, который в Карии почитался под именем Осого (греч. Ὀσόγω, Ὀσογῶα). Самые ранние упоминания об этом божестве в письменных источниках относятся к IV веку до н.э. В надписях Зевс Осого появляется не ранее 200г. до н.э. Сохранились монеты с изображением этого божества; его атрибуты — трезубец, краб, орел. На связь Зевса Осого с морской стихией указывает Павсаний.
«Чтобы преградить людям вход в этот храм, они не устроили никакого заграждения перед входом, но протянули только шерстяную нить, может быть, считая, что для тех, которые тогда чтили богов и имели страх божий, будет достаточно и этого, а может быть потому, что в этой нити была какая-либо особая сила. По-видимому, и Эпит, сын Гиппофоя, не перескочил через эту нить и не подлез под нее, но, перерезав ее, вошел в святилище; тотчас же после такого нечестивого поступка он немедленно ослеп, так как волна воды ударила ему в глаза, и вскоре же его постигла кончина.
Есть старинное сказание, что морская вода появляется в этом святилище. Нечто подобное рассказывают и афиняне относительно морской воды на Акрополе, и из карийцев те, которые занимают Миласы, рассказывают нечто такое же относительно храма своего бога, которого на своем местном языке они называют Осогоа (Ὀσογῶα).»
(Павсаний. Описание Эллады VIII. 10:3-4)
____________________________
[2] Ζηνοποσειδῶν (Ζηνο-ποσειδῶν), dor. Ζᾱνοποτειδάν ὁ Зевс Владыка.
Ζήν, Ζηνός — формы написания имени Зевса; этимология имени Ποσειδῶν подробно разобрана в статье Невунс, Нептун, Посейдон.
Не совсем понятно, почитались ли Зевс Осого и Зевс Стратий как два разных божества или как единый бог в двух ипостасях. На некоторых монетах отличительные символы Осого и Стратия — соответственно, трезубец и лабрис — совмещались.
______________________________________________________________
 Мавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). Миласа, Кария.
Мавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 14.72g).
Av: Зевс Осого с орлом и трезубцем;
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и скипетром; MA
______________________________________________________________
 Септимий Север (193-211). Миласа, Кария.
Септимий Север (193-211). Миласа, Кария.Æ 25mm (5.93g).
Av: бюст Септимия Севера в лавровом венке; ΑΥ Κ Λ CΕΠT CΕΥΗΡΟC
Rv: внутри лаврового венка: лабрис, трезубец, ниже — краб; MYΛACЄΩN
______________________________________________________________
 Фиатира (Θυάτειρα), Лидия.
Фиатира (Θυάτειρα), Лидия.Æ 15mm (2.59g), I в. н.э.
Av: бородатая голова Геракла;
Rv: лабрис, отнятый Гераклом у амазонки Ипполиты; ΘYATЄIPHΩN
______________________________________________________________
 Евром (Εὔρωμος), Кария.
Евром (Εὔρωμος), Кария. Æ 17mm (3.00g), I в. до н.э.
Av: Зевс Лабрандский в тоге, с лабрисом и копьем;
Rv: лабрис; EYPΩMEΩN
______________________________________________________________
 Клазомены (Κλαζομεναί), Иония.
Клазомены (Κλαζομεναί), Иония.Тетрадрахма (AR 32mm, 16.79g), ок. 170-151 до н.э.
Av: голова Зевса в лавровом венке;
Rv: амазонка Ипполита в тунике, с копьем и лабрисом; ΔIOΣ ΣΩTHPOΣ EΠIΦANOYΣ / KΛAZO
______________________________________________________________
Слово «лабрис» впервые упоминается Плутархом в «Греческих вопросах».
«Почему в руке у Зевса Лабрадейского в Карии не скипетр и не перун, а боевой топор?
Дело в том, что Геракл, сразив Ипполиту,³ захватил среди прочего ее вооружения боевой топор и подарил его Омфале.⁴ После Омфалы лидийские цари носили и почитали его наряду с другими священными предметами, унаследованными от предшественников. Так было до Кандавла. Кандавл же, ни во что его не ставя, передал топор одному из товарищей; а когда Гигес отложился от Кандавла и пошел на него войной, из Миласы в помощь Гигесу пришел с войском Арселис, убил и Кандавла, и его товарища, и топор с остальной добычей привез в Карию. И здесь, посвящая статую Зевсу, он вложил ему в руку боевой топор и назвал этого Зевса Лабрадейским, потому что боевой топор у лидийцев называется «лабрисом».»
(Плутарх. Моралии. Греческие вопросы 45)
____________________________
[3] Ἱππολύτη ἡ Ипполита, царица амазонок, жена Тесея Luc., Plut.
[4] Ὀμφάλη ἡ Омфала, дочь лидийского царя Иардана, жена царя Тмола; после его смерти — царица Лидии Plut.
По мнению современных исследователей, культ Зевса в Карии гораздо древнее, нежели это представлялось Плутарху. Лабрис был широко распространен в культуре догреческой минойской цивилизации. При раскопках критских дворцов были обнаружены гигантские лабрисы, выше человеческого роста.

Зевс Лабрандский на Крите также был весьма почитаем. Главным местопребыванием Зевса Лабрандского считается лабиринт; Минотавр — обитатель лабиринта — одна из ипостасей Зевса Критского. Причем, вполне вероятно, что культ Зевса Лабрандского в Карию попал, именно, с Крита, вместе с переселенцами.
«Из множества рассказов о карийцах общепринятым считается тот, согласно которому карийцы были подвластны Миносу (они назывались тогда лелегами) и жили на островах; затем, переселившись на материк, завладели большой частью побережья и внутренней области страны, отняв ее у прежних владельцев, главным образом у лелегов и пеласгов.»
(Страбон, XIV 2:27)
У слова «лабиринт» нет однозначной этимологии, дежурная трактовка игнорирует его созвучие со словом «лабрис» и производит слово лабиринт (λαβύρινθος) от λαύρα («улица», «проход») и ἐντός («внутри»).
Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что и версия о происхождении слова «лабиринт» именно и непосредственно от «лабриса» — главного священного предмета критского культа — так же весьма популярна:
…«дворец-святилище, Дом Двойного топора — символа священного обряда, который там совершался. Греческое название его — Лабиринт — образовано от слова лидийского происхождения лабрис. Само слово Лабиринт (λαβύρινθος) имеет в своем составе характерный суффикс -νθ, широко засвидетельствованный для топонимов микенской эпохи (типа Коринф, Тиринф и т.п.). Лингвисты склонны относить его к догреческому («эгейскому») субстрату.»
(Борухович В.Г. Зевс Минойский)
Несмотря на то, что ученые до конца не определились на предмет этимологической близости слов «лабрис» и «лабиринт», все же можно обратить внимание на вполне подходящую семантику слова λάβρος и по отношению к быку (обитателю лабиринта), и по отношению к Громовержцу, обладателю топора.
λάβρυς (-υος) ἡ секира, топор Plut. (слово карийско-лидийского происхождения)

λάβρος
1) резкий, бешеный, порывистый (οὖρος Hom.; πνεῦμα Aesch.);
2) бурный, стремительный (κῦμα, ποταμός Hom.);
3) сильный, обильный (ὄμβρος Her.; καπνός Pind.);
4) бушующий (πόντος, πῦρ Eur.);
5) дикий, свирепый (ὄμμα Eur.);
6) дерзкий, злой (στόμα Soph.);
7) неистовый, мятежный (στρατός Pind.);
8) огромный, громадный (λίθος Pind.; μάχαιρα Eur.);
9) страстный, неукротимый (ἐπιθυμία Arst.; ἔρως Anth.);
10) жадный, прожорливый (δράκοντος γένος Eur.);
11) неумеренный, безмерный.
Хотя, исходя из того, что культовые лабрисы на Крите были довольно длинные, не исключено, что этимология лабриса связана именно с длинной рукоятью (λαβή).⁵ Длинное древко связывает лабрис и с римским штандартом — лабарумом (labarum).
____________________________
[5] λαβή ἡ ручка, рукоять, эфес.
ЗЕВС ХРИСАОРЕЙ
Еще об одном интересном эпитете Зевса, почитавшегося в Карии, сообщает Страбон в «Географии».
«Что касается Стратоникеи, то это поселение македонян; и цари также украсили ее роскошными сооружениями. В области стратоникейцев есть два святилища: знаменитое святилище Гекаты в Лагинах (Λάγινα), привлекающее толпы народа на ежегодные празднества; поблизости от города находится храм Зевса Хрисаорея — общее святилище всех карийцев, куда они собираются для жертвоприношений и совещаний об общих делах.» (Страбон. География XIV, 2:25)
Поскольку Страбон говорит о «святилище всех карийцев», речь идет все о том же Зевсе Воителе. Эпитет Хрисаорей (Χρυσάορος), упомянутый Страбоном, носили и другие греческие боги, он означает «носящий оружие сверкающее золотом».⁶ Арес был вооружен «золотым мечом», Афина — «золотым копьем», Аполлон и Артемида были обладателями «золотого лука и стрелами», эллинистический Зевс обладал перуном, источником молний, который так же блистал золотом. Отличительными атрибутами общекарийского Зевса были топор и копье, видимо они и сияли золотом в руках Зевса Хрисаорея (Διός Χρυσαορέως). На древнегреческих вазах изображения обоюдоострого топора, в руках Зевса-громовержца, нередко сопровождаются зигзагообразными линиями молний, что максимально сближает назначение этих двух зевсовых атрибутов — перуна и лабриса.
____________________________
[6] χρυσάορος (χρυσ-άορος) 2 с золотым мечом или оружием (Ἀπόλλων Hom., HH., Pind.; Δημήτηρ HH.; Ἄρτεμις Her.)
______________________________________________________________
 Стратоникея (Στρατονίκεια), Кария.
Стратоникея (Στρατονίκεια), Кария.Магистрат Зопир (Ζώπυρος).
Драхма (AR 18mm, 3.69g), конец I в. до н.э.
Av: голова Гекаты в лавровом венке, над головой полумесяц; ZΩПYPOΣ
Rv: Зевс, со скипетром, верхом на коне; ΣTPA
______________________________________________________________
В римскую эпоху, на монетах Стратоникеи, Зевс изображался верхом на коне, со скипетром в руке. Неизвестно, существовала ли подобная культовая статуя Зевса в Стратоникее в I-III веках, или подобный чекан — это дань римской традиции. Но гораздо больший интерес вызывают монеты, выпущенные в честь принятия Гетой титула цезарь, на которых Зевс Лабрандский предстает в архаическом образе (хотя и с отличающими его атрибутами — копьем и лабрисом). Является ли этот образ реальным отображением архаической иконографии — также неизвестно. Самые ранние артефакты с изображением карийского Зевса относятся к IV веку до н.э., т.е. времени правления гекатомнидов. И иконография его оставалась неизменной на протяжении нескольких веков — Зевс изображался опирающимся на одну ногу в своем движении, он облачен в длинный хитон и гиматий, образующий на животе крупные горизонтальные складки; правая рука, держащая топор слегка приподнята, и как будто древком топора опирается на плечо.
Архаический (или архаизированный) образ Зевса (на монетах Геты) выполнен в строгом соответствии древним канонам: статуя задрапирована, симметрична, стоящая фронтально с разведенными в стороны руками; на голове — модиус.
_______________________________

Гета (как цезарь 198-209). Миласа, Кария. Æ 39mm (30.79g).
Av: бюст Геты; ПО CЄΠTIMIOC ΓЄTAC
Rv: в тетрастильном храме архаическая культовая статуя Зевса Лабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛACЄΩN
_______________________________

Гета (как цезарь 198-209). Миласа, Кария. Æ 37mm (34.04g).
Av: бюст Геты; ПО CЄΠTIMIOC ΓЄTAC KAI
Rv: в тетрастильном храме архаическая культовая статуя Зевса Лабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛACЄΩN
_______________________________

Гета (как цезарь 198-209). Миласа, Кария. Æ 35mm (26.68g).
Av: бюст Геты; ПО CЄΠTIMIOC ΓЄTAC KAI
Rv: в тетрастильном храме архаическая культовая статуя Зевса Лабрандского, в виде мумии с модиусом на голове, в руках держит копье и лабрис; MYΛACЄΩN
_______________________________

Адриан (117-138). Миласа, Кария. Тридрахма (AR 30mm, 10.96g), ок. 128/9г.
Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем; COS III
_______________________________

Адриан (117-138). Миласа, Кария. Тридрахма (AR 30mm, 10.49g), ок. 128/9г.
Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVGVSTVS P P
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем; COS III
_______________________________

Миласа (Μύλασα), Кария. Тетрадрахма (AR 25mm, 13.46g), ок. 250-200 до н.э. Магистрат Иреней (Ειρηναίος).
Av: Зевс Лабрандский с двойным топором и скипетром;
Rv: Зевс Осого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / EIPHNAIOΣ
_______________________________

Миласа (Μύλασα), Кария. Дидрахма (AR 6.69g), III в. до н.э. Магистрат Диодор.
Av: Зевс Лабрандский с двойным топором и скипетром;
Rv: Зевс Осого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / ΔIOΔΩPOΣ
_______________________________

Гекатомн (Ἑκατόμνος), сатрап Карии в 392-377 до н.э. Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 24mm, 14.78g).
Av: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем;
Rv: лев; EKATOMNΩ
_______________________________

Пиксодар (Πιξώδαρoς), сатрап Карии в 340-334 до н.э. Миласа (Μύλασα), Кария. Дидрахма (AR 6.71g).
Av: голова Аполлона в лавровом венке;
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и скипетром; ПIΞΩΔAPOY
_______________________________

Идрей (Ἱδριεύς), сын Гекатомна, сатрап Карии в 351-344 до н.э. Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 24mm, 14.72g).
Av: голова Аполлона в лавровом венке;
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем; IΔPIEΩΣ
_______________________________
_

Мавсол II (Μαύσσωλλος, 377-353 до н.э.). Кария, Малая Азия. Дидрахма (AR 7.01g).
Av: голова Аполлона в лавровом венке;
Rv: Зевс Лабрандский стоит со скипетром в левой руке и двойным топором в правой; MAΥΣΣΩΛΛ[OY]
_______________________________

Мавсол (Μαύσωλος), старший сын Гекатомна, сатрап Карии в 377-353 до н.э. Миласа (Μύλασα), Кария.
Тетрадрахма (AR 23mm, 15.28g).
Av: голова Аполлона в лавровом венке;
Rv: Зевс Лабрандский с двойным топором и копьем; MAYΣΣΩΛΛO
_______________________________

Тенедос, Мизия. Тетрадрахма (AR 32mm, 16.27g), ок. 100-70 до н.э.
Av: двуликий образ Зевса и Геры;
Rv: внутри лаврового венка — двойной топор, ниже виноградная гроздь и шапки Диоскуров; TENEΔIΩN
_______________________________

Нерон (как цезарь, 50-54). Фиатира, Лидия. Æ 17mm, ок. 50-54гг.
Av: бюст Нерона; NЄPΩN KΛAYΔI KAICAP CЄBA
Rv: двойной топор; ΘYATЄIPHNΩN
_______________________________
|
Метки: Зевс Лабрис Лабиринт Лабранды Греция Нумизматика |
ЭЛЕВСИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ПОНТЕ |
Н.В. Кузина
ЭЛЕВСИНСКИЕ САКРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТ ДИОНИСА
В АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Традиции почитания Диониса были принесены греками в северопонтийский регион в готовом виде в конце VI в. до н.э. Важная роль земледелия в хозяйственной жизни греческих колонистов определила широкое распространение в регионе культа богов, покровительствующих плодородию земли, произрастанию, способствующих получению богатых урожаев.
В Греции Дионис играл важную роль в элевсинской религии, в рамках которой было развито представление о триаде Диониса, Деметры и Коры. В элевсинской традиции Дионис выступал в хтонической ипостаси Иакха¹ и был связан с подземным царством. Он считался «предводителем таинств Деметры» (Strabo. X, 3, 10; Orph. h. XLII), и церемонии в честь Иакха предваряли элевсинские мистерии. Внутренние связи, существовавшие между Деметрой и Дионисом, нашли отражение и в мифе, где Иакх фигурирует в качестве сына Великой богини. Диодор сообщает, что Иакх — сын Зевса и Деметры — был растерзан земнородными и воскрешен к жизни Деметрой (Diod. III, 62, 6, 8). Согласно Диодору, близость Диониса и Деметры проистекает вследствие того, что «виноград приносит выжимаемое из его кистей вино, получая свой рост от земли и дождя». А воскрешение бога Деметрой подобно тому, как ежегодно летом земля восстанавливает «срезанный виноград для расцветания, дающего возможность нового плодоношения» (Diod. III, 62, 2-8). Таким образом, Дионис как умирающий и воскресающий бог растительности и виноградной лозы в мировоззрении греков традиционно был тесно связан с рождающими силами земли и ее плодородием.
_____________________________
[1] Ἴακχος ὁ Иакх, культово-мистическое имя Вакха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. — нести в торжественном шествии изображение Иакха).
ἴακχος ὁ
1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);
2) гимн в честь Иакха (ὁ μυστικὸς ἴακχος Her.)
В V-IV вв. до н.э. в северопонтийских городских святилищах достаточно отчетливо прослеживается совместное почитание Диониса с элевсинскими богинями, которое имело место и в III в. до н.э. В классическое и раннеэллинистическое время почитание земледельческих богинь Деметры и Коры приобрело особую популярность, что во многом было связано с приоритетным значением зернового хозяйства в экономике северопричерноморских центров и развитием торговли хлебом со Средиземноморьем, прежде всего с Афинами. Именно тогда отчетливо прослеживается влияние на экономическое, политическое и культурное развитие греческих колоний со стороны Афин, заинтересованных в увеличении экспорта хлеба из северопонтийского региона.
В религиозной сфере одним из проявлений этого влияния можно рассматривать распространение элевсинского культа Деметры. Как отмечает А.С. Русяева, для Афин культ Деметры был своеобразным политическим инструментом, направленным на то, чтобы с помощью подвластного им Элевсина привлекать на свою сторону элиту многих государств и получать как можно больше хлеба и драгоценных даров, и поддерживать с ними всесторонние отношения.
О связях античных городов Северного Причерноморья с элевсинским святилищем можно уверенно говорить с последней трети V в. до н.э. Сохранился декрет 418 до н.э., в котором афиняне призывали своих союзников и прочих эллинов присылать в Элевсин десятину урожая, заявляя, что об этом пророчествовал Дельфийский оракул (Syll 3. I. 83). Не уклонялись от исполнения этого предписания и северопонтийские города, входившие в это время в число афинских союзников. Это были Нимфей, Ольвия, возможно Тира, Никоний. Обычай посылать в Элевсин плоды первого урожая из разных греческих городов сохранялся много столетий после распада Афинского морского союза.
Надо полагать, что в IV-III вв. до н.э., когда дружественные отношения Афин, Ольвии, Боспора переживали свой наивысший расцвет, северопричерноморские греки продолжали неуклонно выполнять требование Дельфийского оракула. Среди северопонтийских греков, вероятно, находились и те, кто входил в круг живших во всех частях греческой ойкумены эллинов, приобщенных к элевсинским мистериям. Возможно, принявшие посвящение получали сакральные предметы, символизирующие приобщение к тайнам элевсинской религии. В этом отношении особенно показательны находки в северо-понтийских погребальных комплексах расписных сосудов с сюжетами на элевсинские темы.
Эти сосуды, как правило, изготавливались на заказ и были предназначены для ритуальных целей. Примечателен тот факт, что среди божественных персонажей, представленных на таких сосудах, часто присутствует Дионис, который согласно эллинским представлениям примыкал к кругу Великих богинь. Очевидно, распространение норм элевсинских мистерий в Северном Причерноморье сыграло значительную роль в становлении обрядовой стороны популярных в регионе земледельческих культов Деметры и связанных с ней богов и героев Диониса, Афродиты, Геракла.
Упоминание элевсинской ипостаси Диониса — Иакха встречается в керамической эпиграфике Северного Причерноморья начиная с VI в. до н.э. К этому времени относится находка на Березани фрагмента горла с венчиком расписного ионийского кратера с граффито ІА. В.П. Яйленко считает надпись сокращением эпиклесы Диониса — Иакх. Однако в этом отношении наиболее выразительным и информативным памятником эпиграфики является посвятительное граффито V в. до н.э., обнаруженное в ботросе Западного теменоса Ольвии и содержащее упоминание элевсинской триады: Деметра, Персефона, Иакх. Надпись представляет собой уникальное посвящение Ксантиппа Деметре, Персефоне, Иакху в храм — Деметрион.² Этим самым впервые в письменных источниках зафиксировано наличие в северо-понтийском городе храма элевсинской триады, который, как и в отдельных регионах Эллады, именовался в честь главной богини. При этом чрезвычайно важным является начертание имени Иакха в полной форме, что не оставляет сомнений в его трактовке.
Как посвящения Иакху исследователями (В.П. Яйленко, И.И. Толстым, Е.А. Молевым) интерпретируются аббревиации ІА, ІКХ, IX, ІАХ, нанесенные на донцах чернолаковых киликов и канфаров, обнаруженных в сакральных комплексах Китея, Ольвии, Горгиппии. Наибольшее количество таких граффити (более 15) происходит из зольных святилищ Китея. Примечателен тот факт, что посвящения Иакху обнаружены в этом святилище вместе с дионисийскими вотивами: терракотами и фрагментами сосудов для вина на участке, примыкавшем к фависсам, где совершались жертвоприношения Деметре и Коре.
Находки IV-III вв. до н.э., близкие по характеру материалам китейского зольника, обнаружены в святилищах Нимфея, Мирмекия и в сбросе культовых предметов в теменосе Горгиппии. Среди приношений в упомянутых святилищах наряду со статуэтками и протомами³ Деметры, Коры встречаются изображения спутников Диониса — сатиров, силенов, актеров. Подобные находки могут свидетельствовать о том, что обряды в честь Диониса входили составной частью в церемонии, посвященные Деметре. Примечательным является также и сочетание приношений Деметре и Дионису с посвящениями Гераклу, Афродите, что хорошо прослеживается по материалам сакральных комплексов Китея, Мирмекия, Ольвии, сельских поселений Херсонеса и Боспора. Геракл и Афродита, согласно греческим сакральным воззрениям, воплощавшие плодородие, были близки по сути Деметре и считались посвященными в ее таинства. Сакральная связь Диониса, Деметры, Афродиты и Геракла изначально была свойственна элевсинскому ритуалу и нашла свое отражение в обрядовой практике северопонтийских святилищ в IV-III вв. до н.э.
_____________________________
[2] Δημήτριον τό Деметрий, святилище Деметры Her., Plat., Plut.
[3] προτομή η бюст, скульптурное изваяние до бедер.
Ряд вотивных приношений, обнаруженных в городских сакральных комплексах, дают возможность проследить в культе Диониса сочетание элевсинских норм с элементами орфизма. Орфические идеи были близки культу Диониса Хтония и составляли одно из направлений в почитании этого бога. Памятники, интерпретируемые с точки зрения их принадлежности к культу орфического Диониса, хорошо известны в Ольвии и датируются V в. до н.э. Это — костяные пластинки, найденные в ботросе Западного теменоса, на одной из них имя Диониса упоминается в сочетании с названием его почитателей — орфиков.
Вместе с тем в китейском святилище и сакральном комплексе западной округи Ольвии известны вотивы, которые могут ассоциироваться как с культом Диониса Хтония, так и с мистическими обрядами в честь Деметры. Наиболее примечательны с этой точки зрения приношения из зольных святилищ Китея, представленные астрагалами и яйцевидной галькой в сочетании с посвящениями Иакху. Яйцо символизировало способность творить жизнь, олицетворяло жизненную силу и несло идею возрождения. Для орфиков яйцо служило символом той силы, которая давала рождение всему и было атрибутом Диониса. В этой связи находки вотивов в форме яиц можно связывать с почитанием Диониса Хтония и сопряженными с ним орфическими идеями.
Астрагалы⁴ могли выступать в качестве приношений Дионису в ипостаси Загрея — сына Зевса и Персефоны, центрального персонажа орфических мистерий, который в элевсинской традиции получил имя Иакха. Астрагалы, изготовленные из костей жертвенных животных, нередко выступали в качестве оберегов и использовались при гадании и прорицании. Вместе с тем не исключено, что эти предметы использовались в мистических обрядах культа Диониса Загрея, основу которых составлял миф о смерти и возрождении бога.
_____________________________
[4] ἀστράγαλος ὁ игральные кости, игра в бабки Hom., Her., Arph., Plat., Aeschin., Arst., Plut.
Не исключено, что в классический и раннеэллинистический период элевсинские традиции, наряду с орфизмом, сыграли свою роль в развитии представлений о Дионисе как боге-покровителе загробного мира, дарующем бессмертие. Взаимосвязь элевсинских и дионисийских элементов в погребально-обрядовой сфере находит отражение в комплексе находок из погребения жрицы Деметры кургана Большая Близница. Передольская считает, что большинство статуэток объединены общим сюжетом и воплощают персонажей, воспетых в гомеровском гимне к Деметре.
Возможно, эти статуэтки представляли собой разновидность культового инвентаря и использовались в мистериальных действах, посвященных Деметре и связанным с ней богам плодородия. Cреди терракот присутствуют также изображения Силена, Паппосилена (Παπποσειληνός)⁵ с младенцем Дионисом, комических актеров-вакхантов. Кроме терракот в погребениях кургана обнаружены многочисленные ювелирные изделия с изображениями сатиров и экстатических спутниц Диониса — менад.
_____________________________
[5] Παπποσειληνός (дословно, «старый силен») — воспитатель и постоянный спутник Диониса, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пьяным стариком.
πάππος ὁ дед (πάππος ὁ πρὸς μητρὸς ἢ πατρός Plat.).
Находки в погребальном комплексе сакральных предметов и символов, свойственных как дионисийскому культу, так и культу Деметры, подчеркивают особую роль идей бессмертия и возрождения в почитании этих богов плодородия и их связь с загробным миром.
_______________________________
ИАКХ
Имя Иакх (Ἴακχος), якобы, финикийского происхождения и означает «грудное дитя». На определенном этапе развития Элевсинских мистерий, Иакх становится одним из главных действующих персонажей, наравне с Деметрой и Персефоной. Однако интерпретации разных авторов, на предмет роли Иакха в этой триаде, весьма разнятся: то он сын Деметры (Diod. III 64) или ее питомец (Lucr. IV 1168), то сын Персефоны и Зевса, в образе Загрея (Nonn. Dion. XXXI 66-68), то сын Диониса и нимфы Ауры (932). Иногда Иакх рассматривается как супруг Деметры. Последний вариант («супруг Деметры») совсем плохо увязывается со значением имени Иакха — «дитя». Поэтому, кроме финикийской версии происхождения имени Иакх (Ἴακχος), все же имеет смысл рассмотреть и другие варианты этимологии этого имени.
Например, вариант происхождения имени Ἴακχος от греческого слова ἰαχή (ἰακχή)⁶ в значении «возглас ликования», по аналогии с другим эпитетом Диониса: Элелей (Ἐλελεῦ), где ἐλελεῦ — «приветственный возглас». В этом же ряду и эпитет Диониса — Эвий (Εὔιος, «благой»), и соответствующие вакхические возгласы ликования в его честь: εὖα, εὐαί, εὐάν, εὐοῖ (от εὖ — благо).
Кроме того, другие значения слова ἰαχή (ἰακχή) — «шум», «пение» — перекликается с эпитетом Диониса — Бромий (Βρόμιος — «шумный», «гудящий», «поющий»). Этот эпитет Дионис получил в честь шумных мистериальных процессий с шумовым (трещетки, кимвалы, бубны) и музыкальным сопровождением, а также песнями и восклицаниями, приветствующими и славящими Диониса.
_____________________________
[6] ἰαχή, иногда ἰακχή, дор. ἰαχά ἡ
1) крик, шум; ex. θεσπεσίῃ ἰαχῇ Hom. — с ужасным криком;
2) вопль, плач; ex. (πολύδακρυς Aesch.)
3) возглас ликования, радостный крик; ex. βοᾶτε ἀοιδαῖς ἰαχαῖς τε νύμφαν Eur. — славьте песнями и кликами новобрачную;
4) звучание, звуки
ἰαχέω, иногда ἰακχέω
1) (тж. ἰ. φωνῇ HH.) поднимать голос, кричать; ex. ἰαχήσατε οὐρανῷ Eur. — возопите к небу; ἱαχείτω γᾶ Κυκλωπία Eur. — пусть огласится (скорбными) криками край Киклопов;
2) запевать, петь ex. (ὕμνον Aesch.; ἀοιδάν Arph.);
3) причитать, оплакивать;
4) объявлять, провозглашать; ex. ἰαχήθης (v. l. ἰαχέ σέ) ἄδικος Eur. — ты прослыла (женщиной) бесчестной;
5) раздаваться, звучать; ex. ὀλολύγματα ἰαχεῖ Eur. — раздаются клики (дев в честь Афины)
ἐλελεῦ
1) (боевой клич) «ура! да здравствует!» (ἐ., χώρει Arph.);
2) (возглас скорби) о горе!, увы! Aesch.;
3) (возглас ликования) (ἐπιφωνεῖν ταῖς σπονδαῖς ἐ. Plut.)
Βάκχος ὁ (впервые у Soph.; тж. Ἴακχος и Διόνυσος) Вакх (сын Зевса и Семелы, уроженец Фив, бог винограда, виноградарства, виноделия и вина) Soph., Eur., Plut., Luc.
Λυαῖος ὁ Лиэй, освободитель (от забот), эпитет Вакха-Диониса Anacr., Plut.
Βρόμιος ὁ Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Pind., Aesch., Eur., Arph.
Πυριγενής (πῠρῐ-γενής) 2 рожденный в огне или из огня;
Διμήτωρ (δι-μήτωρ), -ορος adj. m имеющий двух матерей (эпитет Диониса) Eur., Diod.
Δίγονος (δί-γονος) ὁ дважды рождённый Anth.
Νυσήϊος, Νυσαῖος ὁ Нисей, т.е. родом из Нисы (Νῦσα).
Θυωνεύς ἡ {θύω} Фионей, «Неистовый»;
Ληναῖος ὁ Леней (бог виноделия, т.е. Вакх-Дионис) Diod., Anth.
Εὐάν ὁ Эван, «благой» (эпитет Вакха, от εὖ — «добро, благо») Eur., Plut.
Νυκτέλιος ὁ Никтелий («ночной»), прославляемый в ночных празднествах (эпитет Вакха) Plut., Anth.
Liber, -eri m Либер, древнеиталийский бог, позднее прозвище Вакха.
_______________________________
ЭЛЕВСИНСКИЕ САКРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТ ДИОНИСА
В АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Традиции почитания Диониса были принесены греками в северопонтийский регион в готовом виде в конце VI в. до н.э. Важная роль земледелия в хозяйственной жизни греческих колонистов определила широкое распространение в регионе культа богов, покровительствующих плодородию земли, произрастанию, способствующих получению богатых урожаев.
В Греции Дионис играл важную роль в элевсинской религии, в рамках которой было развито представление о триаде Диониса, Деметры и Коры. В элевсинской традиции Дионис выступал в хтонической ипостаси Иакха¹ и был связан с подземным царством. Он считался «предводителем таинств Деметры» (Strabo. X, 3, 10; Orph. h. XLII), и церемонии в честь Иакха предваряли элевсинские мистерии. Внутренние связи, существовавшие между Деметрой и Дионисом, нашли отражение и в мифе, где Иакх фигурирует в качестве сына Великой богини. Диодор сообщает, что Иакх — сын Зевса и Деметры — был растерзан земнородными и воскрешен к жизни Деметрой (Diod. III, 62, 6, 8). Согласно Диодору, близость Диониса и Деметры проистекает вследствие того, что «виноград приносит выжимаемое из его кистей вино, получая свой рост от земли и дождя». А воскрешение бога Деметрой подобно тому, как ежегодно летом земля восстанавливает «срезанный виноград для расцветания, дающего возможность нового плодоношения» (Diod. III, 62, 2-8). Таким образом, Дионис как умирающий и воскресающий бог растительности и виноградной лозы в мировоззрении греков традиционно был тесно связан с рождающими силами земли и ее плодородием.
_____________________________
[1] Ἴακχος ὁ Иакх, культово-мистическое имя Вакха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. — нести в торжественном шествии изображение Иакха).
ἴακχος ὁ
1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);
2) гимн в честь Иакха (ὁ μυστικὸς ἴακχος Her.)
В V-IV вв. до н.э. в северопонтийских городских святилищах достаточно отчетливо прослеживается совместное почитание Диониса с элевсинскими богинями, которое имело место и в III в. до н.э. В классическое и раннеэллинистическое время почитание земледельческих богинь Деметры и Коры приобрело особую популярность, что во многом было связано с приоритетным значением зернового хозяйства в экономике северопричерноморских центров и развитием торговли хлебом со Средиземноморьем, прежде всего с Афинами. Именно тогда отчетливо прослеживается влияние на экономическое, политическое и культурное развитие греческих колоний со стороны Афин, заинтересованных в увеличении экспорта хлеба из северопонтийского региона.
В религиозной сфере одним из проявлений этого влияния можно рассматривать распространение элевсинского культа Деметры. Как отмечает А.С. Русяева, для Афин культ Деметры был своеобразным политическим инструментом, направленным на то, чтобы с помощью подвластного им Элевсина привлекать на свою сторону элиту многих государств и получать как можно больше хлеба и драгоценных даров, и поддерживать с ними всесторонние отношения.
О связях античных городов Северного Причерноморья с элевсинским святилищем можно уверенно говорить с последней трети V в. до н.э. Сохранился декрет 418 до н.э., в котором афиняне призывали своих союзников и прочих эллинов присылать в Элевсин десятину урожая, заявляя, что об этом пророчествовал Дельфийский оракул (Syll 3. I. 83). Не уклонялись от исполнения этого предписания и северопонтийские города, входившие в это время в число афинских союзников. Это были Нимфей, Ольвия, возможно Тира, Никоний. Обычай посылать в Элевсин плоды первого урожая из разных греческих городов сохранялся много столетий после распада Афинского морского союза.
Надо полагать, что в IV-III вв. до н.э., когда дружественные отношения Афин, Ольвии, Боспора переживали свой наивысший расцвет, северопричерноморские греки продолжали неуклонно выполнять требование Дельфийского оракула. Среди северопонтийских греков, вероятно, находились и те, кто входил в круг живших во всех частях греческой ойкумены эллинов, приобщенных к элевсинским мистериям. Возможно, принявшие посвящение получали сакральные предметы, символизирующие приобщение к тайнам элевсинской религии. В этом отношении особенно показательны находки в северо-понтийских погребальных комплексах расписных сосудов с сюжетами на элевсинские темы.
Эти сосуды, как правило, изготавливались на заказ и были предназначены для ритуальных целей. Примечателен тот факт, что среди божественных персонажей, представленных на таких сосудах, часто присутствует Дионис, который согласно эллинским представлениям примыкал к кругу Великих богинь. Очевидно, распространение норм элевсинских мистерий в Северном Причерноморье сыграло значительную роль в становлении обрядовой стороны популярных в регионе земледельческих культов Деметры и связанных с ней богов и героев Диониса, Афродиты, Геракла.
Упоминание элевсинской ипостаси Диониса — Иакха встречается в керамической эпиграфике Северного Причерноморья начиная с VI в. до н.э. К этому времени относится находка на Березани фрагмента горла с венчиком расписного ионийского кратера с граффито ІА. В.П. Яйленко считает надпись сокращением эпиклесы Диониса — Иакх. Однако в этом отношении наиболее выразительным и информативным памятником эпиграфики является посвятительное граффито V в. до н.э., обнаруженное в ботросе Западного теменоса Ольвии и содержащее упоминание элевсинской триады: Деметра, Персефона, Иакх. Надпись представляет собой уникальное посвящение Ксантиппа Деметре, Персефоне, Иакху в храм — Деметрион.² Этим самым впервые в письменных источниках зафиксировано наличие в северо-понтийском городе храма элевсинской триады, который, как и в отдельных регионах Эллады, именовался в честь главной богини. При этом чрезвычайно важным является начертание имени Иакха в полной форме, что не оставляет сомнений в его трактовке.
Как посвящения Иакху исследователями (В.П. Яйленко, И.И. Толстым, Е.А. Молевым) интерпретируются аббревиации ІА, ІКХ, IX, ІАХ, нанесенные на донцах чернолаковых киликов и канфаров, обнаруженных в сакральных комплексах Китея, Ольвии, Горгиппии. Наибольшее количество таких граффити (более 15) происходит из зольных святилищ Китея. Примечателен тот факт, что посвящения Иакху обнаружены в этом святилище вместе с дионисийскими вотивами: терракотами и фрагментами сосудов для вина на участке, примыкавшем к фависсам, где совершались жертвоприношения Деметре и Коре.
Находки IV-III вв. до н.э., близкие по характеру материалам китейского зольника, обнаружены в святилищах Нимфея, Мирмекия и в сбросе культовых предметов в теменосе Горгиппии. Среди приношений в упомянутых святилищах наряду со статуэтками и протомами³ Деметры, Коры встречаются изображения спутников Диониса — сатиров, силенов, актеров. Подобные находки могут свидетельствовать о том, что обряды в честь Диониса входили составной частью в церемонии, посвященные Деметре. Примечательным является также и сочетание приношений Деметре и Дионису с посвящениями Гераклу, Афродите, что хорошо прослеживается по материалам сакральных комплексов Китея, Мирмекия, Ольвии, сельских поселений Херсонеса и Боспора. Геракл и Афродита, согласно греческим сакральным воззрениям, воплощавшие плодородие, были близки по сути Деметре и считались посвященными в ее таинства. Сакральная связь Диониса, Деметры, Афродиты и Геракла изначально была свойственна элевсинскому ритуалу и нашла свое отражение в обрядовой практике северопонтийских святилищ в IV-III вв. до н.э.
_____________________________
[2] Δημήτριον τό Деметрий, святилище Деметры Her., Plat., Plut.
[3] προτομή η бюст, скульптурное изваяние до бедер.
Ряд вотивных приношений, обнаруженных в городских сакральных комплексах, дают возможность проследить в культе Диониса сочетание элевсинских норм с элементами орфизма. Орфические идеи были близки культу Диониса Хтония и составляли одно из направлений в почитании этого бога. Памятники, интерпретируемые с точки зрения их принадлежности к культу орфического Диониса, хорошо известны в Ольвии и датируются V в. до н.э. Это — костяные пластинки, найденные в ботросе Западного теменоса, на одной из них имя Диониса упоминается в сочетании с названием его почитателей — орфиков.
Вместе с тем в китейском святилище и сакральном комплексе западной округи Ольвии известны вотивы, которые могут ассоциироваться как с культом Диониса Хтония, так и с мистическими обрядами в честь Деметры. Наиболее примечательны с этой точки зрения приношения из зольных святилищ Китея, представленные астрагалами и яйцевидной галькой в сочетании с посвящениями Иакху. Яйцо символизировало способность творить жизнь, олицетворяло жизненную силу и несло идею возрождения. Для орфиков яйцо служило символом той силы, которая давала рождение всему и было атрибутом Диониса. В этой связи находки вотивов в форме яиц можно связывать с почитанием Диониса Хтония и сопряженными с ним орфическими идеями.
Астрагалы⁴ могли выступать в качестве приношений Дионису в ипостаси Загрея — сына Зевса и Персефоны, центрального персонажа орфических мистерий, который в элевсинской традиции получил имя Иакха. Астрагалы, изготовленные из костей жертвенных животных, нередко выступали в качестве оберегов и использовались при гадании и прорицании. Вместе с тем не исключено, что эти предметы использовались в мистических обрядах культа Диониса Загрея, основу которых составлял миф о смерти и возрождении бога.
_____________________________
[4] ἀστράγαλος ὁ игральные кости, игра в бабки Hom., Her., Arph., Plat., Aeschin., Arst., Plut.
Не исключено, что в классический и раннеэллинистический период элевсинские традиции, наряду с орфизмом, сыграли свою роль в развитии представлений о Дионисе как боге-покровителе загробного мира, дарующем бессмертие. Взаимосвязь элевсинских и дионисийских элементов в погребально-обрядовой сфере находит отражение в комплексе находок из погребения жрицы Деметры кургана Большая Близница. Передольская считает, что большинство статуэток объединены общим сюжетом и воплощают персонажей, воспетых в гомеровском гимне к Деметре.
Возможно, эти статуэтки представляли собой разновидность культового инвентаря и использовались в мистериальных действах, посвященных Деметре и связанным с ней богам плодородия. Cреди терракот присутствуют также изображения Силена, Паппосилена (Παπποσειληνός)⁵ с младенцем Дионисом, комических актеров-вакхантов. Кроме терракот в погребениях кургана обнаружены многочисленные ювелирные изделия с изображениями сатиров и экстатических спутниц Диониса — менад.
_____________________________
[5] Παπποσειληνός (дословно, «старый силен») — воспитатель и постоянный спутник Диониса, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пьяным стариком.
πάππος ὁ дед (πάππος ὁ πρὸς μητρὸς ἢ πατρός Plat.).
Находки в погребальном комплексе сакральных предметов и символов, свойственных как дионисийскому культу, так и культу Деметры, подчеркивают особую роль идей бессмертия и возрождения в почитании этих богов плодородия и их связь с загробным миром.
ИАКХ
Имя Иакх (Ἴακχος), якобы, финикийского происхождения и означает «грудное дитя». На определенном этапе развития Элевсинских мистерий, Иакх становится одним из главных действующих персонажей, наравне с Деметрой и Персефоной. Однако интерпретации разных авторов, на предмет роли Иакха в этой триаде, весьма разнятся: то он сын Деметры (Diod. III 64) или ее питомец (Lucr. IV 1168), то сын Персефоны и Зевса, в образе Загрея (Nonn. Dion. XXXI 66-68), то сын Диониса и нимфы Ауры (932). Иногда Иакх рассматривается как супруг Деметры. Последний вариант («супруг Деметры») совсем плохо увязывается со значением имени Иакха — «дитя». Поэтому, кроме финикийской версии происхождения имени Иакх (Ἴακχος), все же имеет смысл рассмотреть и другие варианты этимологии этого имени.
Например, вариант происхождения имени Ἴακχος от греческого слова ἰαχή (ἰακχή)⁶ в значении «возглас ликования», по аналогии с другим эпитетом Диониса: Элелей (Ἐλελεῦ), где ἐλελεῦ — «приветственный возглас». В этом же ряду и эпитет Диониса — Эвий (Εὔιος, «благой»), и соответствующие вакхические возгласы ликования в его честь: εὖα, εὐαί, εὐάν, εὐοῖ (от εὖ — благо).
Кроме того, другие значения слова ἰαχή (ἰακχή) — «шум», «пение» — перекликается с эпитетом Диониса — Бромий (Βρόμιος — «шумный», «гудящий», «поющий»). Этот эпитет Дионис получил в честь шумных мистериальных процессий с шумовым (трещетки, кимвалы, бубны) и музыкальным сопровождением, а также песнями и восклицаниями, приветствующими и славящими Диониса.
_____________________________
[6] ἰαχή, иногда ἰακχή, дор. ἰαχά ἡ
1) крик, шум; ex. θεσπεσίῃ ἰαχῇ Hom. — с ужасным криком;
2) вопль, плач; ex. (πολύδακρυς Aesch.)
3) возглас ликования, радостный крик; ex. βοᾶτε ἀοιδαῖς ἰαχαῖς τε νύμφαν Eur. — славьте песнями и кликами новобрачную;
4) звучание, звуки
ἰαχέω, иногда ἰακχέω
1) (тж. ἰ. φωνῇ HH.) поднимать голос, кричать; ex. ἰαχήσατε οὐρανῷ Eur. — возопите к небу; ἱαχείτω γᾶ Κυκλωπία Eur. — пусть огласится (скорбными) криками край Киклопов;
2) запевать, петь ex. (ὕμνον Aesch.; ἀοιδάν Arph.);
3) причитать, оплакивать;
4) объявлять, провозглашать; ex. ἰαχήθης (v. l. ἰαχέ σέ) ἄδικος Eur. — ты прослыла (женщиной) бесчестной;
5) раздаваться, звучать; ex. ὀλολύγματα ἰαχεῖ Eur. — раздаются клики (дев в честь Афины)
ἐλελεῦ
1) (боевой клич) «ура! да здравствует!» (ἐ., χώρει Arph.);
2) (возглас скорби) о горе!, увы! Aesch.;
3) (возглас ликования) (ἐπιφωνεῖν ταῖς σπονδαῖς ἐ. Plut.)
«Вакхом тебя, и Лиэем, и Бромием, бог, именуют;_______________________________________
Огнерожденным зовут, двуматерним, дважды рожденным.
Ты же — Нисей, Фионей, чьих кудрей не касалось железо;
Ты ж и Леней, насадитель хмельной лозы самородной;
Ты же Иакх, и Эван, и отец Элелей, и Никтелий.
Но не исчислить имен, какими эллинов роды,
Либер, тебя величают.»
(Овидий. Метаморфозы IV.11)
Βάκχος ὁ (впервые у Soph.; тж. Ἴακχος и Διόνυσος) Вакх (сын Зевса и Семелы, уроженец Фив, бог винограда, виноградарства, виноделия и вина) Soph., Eur., Plut., Luc.
Λυαῖος ὁ Лиэй, освободитель (от забот), эпитет Вакха-Диониса Anacr., Plut.
Βρόμιος ὁ Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Pind., Aesch., Eur., Arph.
Πυριγενής (πῠρῐ-γενής) 2 рожденный в огне или из огня;
Διμήτωρ (δι-μήτωρ), -ορος adj. m имеющий двух матерей (эпитет Диониса) Eur., Diod.
Δίγονος (δί-γονος) ὁ дважды рождённый Anth.
Νυσήϊος, Νυσαῖος ὁ Нисей, т.е. родом из Нисы (Νῦσα).
Θυωνεύς ἡ {θύω} Фионей, «Неистовый»;
Ληναῖος ὁ Леней (бог виноделия, т.е. Вакх-Дионис) Diod., Anth.
Εὐάν ὁ Эван, «благой» (эпитет Вакха, от εὖ — «добро, благо») Eur., Plut.
Νυκτέλιος ὁ Никтелий («ночной»), прославляемый в ночных празднествах (эпитет Вакха) Plut., Anth.
Liber, -eri m Либер, древнеиталийский бог, позднее прозвище Вакха.
_______________________________
|
Метки: Дионис Иакх Греция |
Понравилось: 1 пользователю
РЕЛИГИЯ ТАИНСТВ |
Зелинский Фаддей Францевич
РЕЛИГИЯ ЭЛЛИНИЗМА. Глава II
В смущающей многочисленности имен и культов древнегреческого политеизма взору освоившегося с ней наблюдателя представятся два довольно четко отделенных друг от друга течения. Первое — это течение явное, участие в котором не было обусловлено ничем, кроме разве принадлежностью чествующего к соответственной гражданской общине; сюда мы относим большинство государственных культов Греции — и Зевса Олимпийского, и Паллады Афинской, и Аполлона Дельфийского. Но второе — это течение тайное; условием участия в нем было посвящение, посвящение же налагало на того, кто был его удостоен, обязательство — никому из непосвященных не выдавать тех священнодействий, участником и свидетелем которых он сподобился стать; сюда относится тоже ряд культов, хотя и значительно меньший, но особенно два: культ Деметры Элевсинской и культ Диониса, развитый его пророком Орфеем — другими словами, элевсинские и орфические таинства.
Там — Зевс и его обитающая в вечном свете олимпийская семья; здесь — Земля и мрак, полный жутких тайн… жутких, да, но в то же время и утешительных: ведь это же мать-Земля. Мы живем под всевидящими очами Зевса и прочих олимпийцев; но стоит нашему телу покрыться могильной перстью, и мы переходим под власть иных, хтонических богов. Эта двойственность может нас озадачить — и, действительно, христианство ее отвергло. Но в сознании эллина она коренилась твердо — до поры до времени.
От Земли Деметра, от Земли и Дионис; обаяние их учения заключалось именно в том, что они раскрывали перед смертным покров подземных тайн и не только удовлетворяли его любознательность, давая ему определенный ответ на мучительный вопрос, что с ним будет после смерти, но и учили его обеспечить себе лучшую участь на том свете. В те отдаленные времена, когда и сами боги еще не сознавались как стражи нравственности, и условия этой лучшей участи были скорее сакральные, чем нравственные, т.е. скорее сводились к исполнению обрядов посвящения, чем к справедливой жизни. Морализация таинств шла вровень с морализацией религии вообще; ко времени расцвета последней она также и в области таинств была совершившимся фактом.
Обаяние их вследствие этого росло и росло, но все же неодинаковым образом. Причиной разницы было то, что элевсинские таинства были прикреплены к определенной общине, к аттическому Элевсину, и имели здесь свой административный центр в виде жреческой коллегии Эвмолпидов, между тем как орфические, распространяемые через странствующих жрецов и пророков, были рассеяны по всей Элладе. Нам теперь трудно решить вопрос, что было выгоднее. Без сомнения, орфизму легче было находить себе поклонников, не только среди простого народа, но и среди поэтов и мыслителей, с Пиндаром и Платоном во главе; но чистоту и определенность учения легче было сохранить при наличности центральной коллегии, руководившей действиями своих эмиссаров, благодаря своему авторитету, основанному на преемственности полученного некогда от самой Деметры откровения.
Имея свой прочный центр в Элевсине, религия Деметры представляет нам две особенности, важные для ее дальнейшего развития. Первая — это та легкость, с которой она могла принимать в себя культы других богов и в известной мере амальгамироваться с ними; вторая — это энергия, с которой она, путем основания подворий, распространялась по прочему греческому миру. Первая обусловливала вторую — в этом состоит характерная черта, отличающая терпимый эллинский прозелитизм от нетерпимого иудейского.
Древнейшую, достижимую для нашего знания, ступень элевсинского культа представляет для нас сохраненный в Московской рукописи Гомеровский гимн Деметре; согласно ему, содержание священной драмы будет следующее.
С разрешения Зевса его брат Аид похищает Кору, дочь Деметры, в то время как она играла с девами-океанидами на цветистом лугу. Содействовала похищению сама Земля, произведя чудесный нарцисс; Кора его срывает и этим отдает себя во власть похитителя. Никто не слышит ее отчаянного крика, кроме «нежнодушной» Гекаты и Гелия. Но когда она, уже увлекаемая в глубь земли, крикнула вторично, ее услышала и мать. Она бросилась ее искать; девять дней она ее искала, не зная ни пищи, ни сна; на десятый с ней встретилась Геката и рассказала, что могла — что кто-то похитил Кору, но кто именно, этого и она не знает. С ней вместе Деметра отправилась к Гелию и от него, всевидящего бога, узнала всю правду.
Разгневавшись на Зевса, она отказалась от общения с олимпийскими богами и, обратившись в старуху, села у Девичьей криницы в Элевсине близ дворца Келея. Там ее нашли четыре дочери Келея; им она назвалась Дотой критянкой и рассказала, что она, будучи похищена морскими разбойниками, бежала от них. Они называют ей главных вельмож города Триптолема, Диокла, Поликсена, Эвмолпа, Долиха и самого Келея, и предлагают ей поступить няней к их матери Метанире, чтобы вынянчить их позднорожденного братца Демофонта. Деметра последовала за ними, но и в доме Метаниры продолжала горевать и поститься, пока служанка Ямба своими шутками не заставила ее улыбнуться. К своему питомцу она привязалась так, что пожелала сделать его бессмертным; с этой целью она ночью, тайно от родителей, держала его в огне, а днем намащала амброзией. Но однажды Метанира подсмотрела ее ночные чары и вскрикнула, думая, что чужая хочет извести ее сына; разгневалась богиня, дала себя узнать и повелела, чтобы граждане ей выстроили храм на холме своего города, а священнодействия она укажет им сама.
Еще год прошел, тяжелый для смертных, так как Деметра поразила бесплодием землю; тогда Зевс послал за разгневанной Ириду и затем всех прочих богов, но она упорно отказывалась вернуться на Олимп. Пришлось ему покориться: он отправил к Аиду Гермеса с приказанием отпустить Кору к матери. Аид повиновался, но дал уходящей отведать сладкого зерна гранатового яблока, чем лишил ее возможности совсем его покинуть. Мать с дочерью встретились на Рарийской равнине, близ Элевсина; Кора рассказала про свое похищение, называя поименно своих товарок-Океанид, но вместе с ними и обеих девственных богинь Олимпа, Палладу и Артемиду. К разговаривающим подошла, по поручению Зевса, его и Деметрина мать Рея и пригласила их на Олимп, сказав, что по определению Зевса, Кора будет отныне проводить только треть года с мужем, остальные же две трети — с матерью. Этот раз Деметра послушалась, но прежде, чем покинуть Элевсин, она вернула земле плодородие и, во исполнение своего обещания, учредила в Элевсине свои таинства.
Кончая свой гимн, певец называет, кроме Элевсина, еще два других центра мистического культа Деметры; это — «окруженный морем» Парос и «скалистый» Антрон. О втором (в Фессалии) ничего не известно; о Паросе мы некоторые сведения имеем, но их здесь приводить незачем. Интереснее то, что певец умалчивает об Афинах: видно, что те две филиали возникли до соединения Элевсина с Афинами и превращения старинного элевсинского культа в общеафинский.
Когда же это состоялось? По легенде, еще при царе Фесее, поколением раньше Троянской войны, т.е., по позднейшим вычислениям, около 1200 до н.э.; по предположению некоторых новейших ученых, не ранее VII в. до н.э. Видимо, истина где-то посередине, но это не важно. Важно следующее.
Принятие элевсинского культа в число афинских должно было иметь последствием, во-первых, постройку элевсинским богиням подворья в Афинах; им стал «Элевсиний» у подножья Акрополя. Во-вторых, обогащение обрядности самого культа. Конечно, элевсинское ядро должно было остаться неприкосновенным; но ничто не мешало учредить специально для афинских мистов особые церемонии в придачу к элевсинским. Так были учреждены Малые мистерии, весенний праздник, как подготовление к великому осеннему; но и осенний требовал увеличения своей обрядности, по крайней мере, одним приращением, вызванным самой сутью дела — торжественным шествием посвященных из Афин в отстоящий приблизительно на 20 верст Элевсин. А это шествие повело к чрезвычайно важному обогащению самой элевсинской религии.
Радость, естественно охватывающая паломников по мере приближения к месту благодати, находила себе выражение в ликующих возгласах и песнях, в так называемой ἴακχος,¹ «сопровождавшей» их на всем их пути от афинского до элевсинского Кефиса. Она была божественной — мало того: она была божеством, — юным, ласковым, «сопровождающим» богом Иакхом (Ἴακχος).² И вот этот созданный религиозным чувством паломнической радости бог Иакх облекается в плоть и кровь: ему тоже в Афинах строится капище, Ἰακχεῖον; его кумир, несомый на руках афинских эфебов, «сопровождает» процессию в Элевсин и там принимается кем-то — в самом элевсинском празднике этот не предусмотренный Деметрою гость участвовать не мог.
Но кто же был он сам, этот ласковый вождь паломников? — бог юный, радостный, любитель плясок, то и дело прерывавших торжественное шествие — а тут еще и созвучие: Ἴακχος, Βάκχος. Сомнения нет: он тождествен с одним из величайших богов греческого Олимпа, с Дионисом-Вакхом. Но если так, то этот юный бог не мог оставаться простым демоном частичного священнодействия, подобно какой-нибудь Ямбе: он требовал себе достойного места, рядом с четой великих богинь, как сын — да, как сын старшей и как брат младшей из них. Элевсинского культа это новшество, повторяю, не затронуло; но в Афинах троица, состоящая из Деметры, Коры-Персефоны и Иакха-Диониса, была признана.
_______________________________
[1] ἴακχος ὁ гимн в честь Иакха Her.
[2] Ἴακχος ὁ Иакх, культово-мистическое имя Вакха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. — нести в торжественном шествии изображение Иакха).
О важности этого приобщения Диониса к Элевсинской чете мы можем только догадываться: учение ведь было тайным. Но обе мистические религии были родственны между собою, обе давали ответ на вопрос о судьбе душ на том свете и учили людей обеспечивать себе «лучшую участь» после смерти. Не было бы ничего удивительного, если бы элевсинское учение о загробном мире приняло в себя некоторые дионисийские, т.е. орфические черты, и равным образом, если бы шумные дионисические оргии или строгие предписания «орфической жизни» повлияли на элевсинскую обрядность.
Последствием возведения элевсинского культа в афинский были, как мы видели, во-первых, постройка афинского подворья в виде «Элевсиния», во-вторых, обогащение элевсинской обрядности учреждением Малых мистерий и священной процессии с ее Иакхом-Дионисом; третьим последствием должна была стать общая администрация таинств. Для нее Элевсин дал свой первенствующий со времени объединения род Эвмолпидов: из него во все времена ставились как главный иерофант, так и обе «иерофантиды» обеих богинь. Но и Афины дорожили тем, чтобы быть представленными если не на первом месте, за отсутствием у них преемственности для исходящего от самой Деметры откровения, то хоть на втором. Остановились на роде Кериков (т.е. глашатаев), производивших себя от Гермеса и дочери древнейшего афинского царя Кекропа; им была передана, не считая других, менее важных жречеств, вторая по достоинству после иерофанта сакральная должность дадуха (δᾳδοῦχος, «факелоносец»). Благодаря этому привлечению Кериков, и их родовой бог Гермес был поставлен в близкие отношения к элевсинским божествам; правда, в самом Элевсине эти отношения остались довольно внешними — нам известно только, что ему там в дни великого праздника приносили в жертву козу.
Но кроме рода Кериков еще один аттический род был приобщен к элевсинским священнодействиям, а именно к дадухии, хотя подробности тут представляются спорными; это были Ликомиды, славный род, долженствовавший со временем дать Афинам и Элладе великого Фемистокла. Их родина — аттическое село Флия — была богата храмами и алтарями; но все другие культы затмевал культ Великой Богини, под которой разумели Землю — мистический культ, непосредственно родственный элевсинскому культу Великих Богинь. Он и был родовым культом Ликомидов; а при его наличности их привлечение с афинской стороны также и к администрации элевсинского культа вполне естественно.
В последние дни героической борьбы мессенцев со спартанцами за свою независимость прорицатель Феокл, узнав по известным приметам, что их гибель неминуема, счел за лучшее открыть божью волю также и народному вождю Аристомену. Дело в том, что у последнего имелся талисман, «уничтожение которого навеки похоронило бы Мессению, между тем как его сохранение, согласно оракулу Пандионова сына Лика (родоначальника Ликомидов, замечу между скобок), было залогом ее возрождения в далеком будущем». Аристомен внял голосу прорицателя: прокравшись на вершину Итомы, родной горы мессенцев, бывшей тогда уже во власти врагов, он зарыл талисман, помолившись Зевсу Итомату и прочим богам, чтобы они сохранили доверенный им клад и не дозволили спартанцам уничтожить единственную надежду мессенцев на освобождение.
Это случилось около середины седьмого века до н.э. Вскоре затем последний оплот мессенцев пал; наступили для ее жителей три столетия порабощения. Но вот, около середины четвертого века до н.э., и звезда спартанцев померкла, к мессенцам явился освободитель в лице Эпаминонда. Была основана новая столица освобожденной страны, Мессена; а вождю, которому было поручено Эпаминондом восстановление мессенского государства — это был Эпитель, родом аргосец, — явился во сне незнакомый муж, предложивший ему отправиться на Итому и, найдя растущие рядом тис и мирт, разрыть землю между ними. Эпитель повиновался и принес Эпаминонду найденную на указанном месте старинную гидрию; вскрыв ее, они нашли в ней записанный на оловянных дощечках устав таинств Великих Богинь. Это и был талисман Аристомена.
Древнейшей столицей Мессении до ее порабощения была Андания; здесь, значит, и следовало учредить возрожденные таинства, причем можно было поставить этот оскудевший городок в такие же отношения к новой столице Мессене, в каких Элевсин находился к Афинам. Само же возобновление таинств надлежало поручить сведущему человеку — конечно, из жреческой коллегии элевсинского культа. Такового нашли в лице некоего Мефапа, родом Ликомида (опять, прошу заметить, Ликомида). Это была интересная во многих отношениях личность, настоящий апостол мистических культов. Как Ликомид, он был руководителем своего родного культа Великой богини-Земли; но в то же время он был также чем-то вроде дадуха в элевсинских таинствах. Как опытный в мистических культах богослов, он был приглашен фиванцами в эпоху Эпаминонда руководить реформой их культа Кабиров в связи с перестройкой посвященного этим божествам загородного храма.
Несколько слов об этом культе, о котором у нас до сих пор не было речи. Основанный некогда финикийскими пловцами на острове Лемносе, он перекинулся на соседние острова и нашел со временем свой центр на Самофракии; все же, во время греческой независимости эти самофракийские мистерии влачили довольно темное существование, и только после Александра Великого расцвели, заняв место рядом с элевсинскими и орфическими таинствами. Греция их чуждалась, очевидно, ввиду их семитического происхождения, о котором свидетельствовало и имя почитаемых в них богов (Kabirim — «Великие» боги); приняли их, быть может, по той же причине Фивы, приписывающие свое основание финикийскому выходцу Кадму. Здесь еще в VI в. был основан храм Кабиров, тот самый, перестройка которого в IV в. дала повод к миссии Мефапа.
Восточная неопределенность Кабиров, в связи с естественной потребностью их почитателей сблизить их с религией окружающего эллинского мира, повела к отождествлению Великих богов с теми или другими образами греческого Олимпа, причем они могли, в силу той же неопределенности, произвольно менять и свое число, и свой пол. Первоначально их было, кажется, двое, «Кабир» и его «сын» — Зевс и Дионис, значит: удобный предлог для внесения в кабирические таинства элементов дионисиазма и орфизма. Под влиянием этой мистической религии чета превращается в троицу, два брата Кабира убивают третьего, причем его смерть и воскресение образуют священную легенду культа, параллельную легенде о смерти и воскрешении первозданного Диониса. Но в силу другой метаморфозы, первоначальная чета, приобщив к себе два женских божества, становится четверицей; в ней узнают элевсинскую троицу — Деметру, Аида, Персефону — с прибавлением к ней родоначальника Кериков, Гермеса, что указывает на афинское влияние. Так, собирая в себе лучи и дионисических, и элевсинских таинств, самофракийские становятся всеобъемлющей мистической религией, готовясь этим к своей вселенской роли при наследниках основателя вселенского эллинизма.
Фиванский росток этой религии и был поручен заботам элевсинского апостола, Ликомида Мефапа. Частности его деятельности уже от его современников были скрыты непроницаемой завесой. Но вот возвращается свету дня талисман Аристомена; порабощенные до тех пор мессенцы вместе со свободой обретают вновь и свою национальную святыню. Понятно, что об ее восстановлении заботятся те же фиванцы, которые своими победами им и свободу возвратили; понятно, что они поручают это дело тому самому апостолу элевсинской Деметры, которому они уже были обязаны упорядочением своего кабирического святилища — Мефапу. И вот Мефап отправляется в освобожденную страну: он принимает — будем продолжать легенду, переливая ее в историю — от аргосца Эпителя найденный им талисман Аристомена и на основании его, а также и своего прочего святительского знания и опыта, учреждает в Андании мистический культ элевсинских богинь.
Поручение было из самых почетных, и гордость апостола законна. О своей деятельности он сам оставил потомкам свидетельство в той надписи, которую он велел вырезать на пьедестале своей статуи, посвященной им в палатку Ликомидов в Афинах:
Гермес здесь назван наряду с Деметрой и Корой: это нас не удивляет, родовой бог афинских Кериков не мог отсутствовать в культе, учрежденном афинским Ликомидом. О других его особенностях нас оповещает знаменитая, найденная в середине прошлого столетия анданийская мистическая надпись, состоящая из 200 без малого строк.
Кто ныне стал бы подходить к ней со священным трепетом, надеясь найти в ней сам талисман Аристомена или уже, во всяком случае, изложение самой сути религии таинств, того бы постигло горькое разочарование: в ней говорится исключительно о внешностях культа и его благочинии, и при этом чаще упоминаются штрафы и даже телесные наказания его нарушителям; но если присмотреться ближе, то и из нее можно извлечь немало для нас интересного. Вызвана она была, прежде всего, превращением самого культа из родового в государственный, состоявшимся в начале I в. до н.э. — до тех пор, значит, т.е. в течение двух с половиной веков, его ведал определенный род, соответствующий элевсинским Эвмолпидам — быть может, род Кресфонтидов, потомков древних мессенских царей. Но вот последний иерофант из этого рода, Мнасистрат — по собственному ли почину, или по желанию народа — отдает свой святительский сан в распоряжение государства, а вместе с ним и «ковчег и книги» … по-видимому, те самые, в которых легенда видела талисман Аристомена. Эта передача вызвала и ряд других реформ, закрепленных в нашей надписи.
Божества анданийских мистерий перечисляются в следующем, хотя и не очень строго соблюдаемом, порядке. На первом месте стоит, как это и понятно, Деметра; на втором — Гермес, в угоду, как мы видели, Афинам и их Керикам; на третьем — Великие боги, т.е. Кабиры — мы узнаем соглашательскую деятельность Мефапа; на четвертом — Аполлон Карнейский,³ в ограде которого и происходил праздник — это для нас нечто новое, но отнюдь не удивительное. Аполлон Карнейский (прозвище темное) был национальным богом спартанцев, иго которых лежало на Мессении в течение ряда столетий; теперь иго было разбито, но Аполлон оставался Аполлоном, и его пришлось поставить в связь с возобновленным национальным культом возрожденной Мессении — интересный образчик греческой религиозности. Наконец, на пятом месте стоит богиня о страшном имени, робко нарекаемая в надписи описательным обозначением Агна (Ἁγνή);⁴ это, как мы знаем из других свидетельств, сама царица подземных глубин, Персефона, она же и Кора (Κόρη, дева). Удивляет нас отсутствие ее супруга Аида, неустранимого участника священной драмы.
_______________________________
[3] Καρνεῖος, дор. Καρνήϊος ὁ
1) Карнейский (эпитет Аполлона у дорических племен Пелопоннесса) Pind., Polyb.
2) Карней (лакедемонский месяц, соотв. атт. Μεταγειτνιών, т.е. августу-сентябрю, в течение которого совершались девятидневные празднества в честь Аполлона Карнейского) Thuc., Eur., Plut.
[4] ἁγνεία ἡ
1) чистота, непорочность (λόγων ἔργων τε Soph.; ἱερῶν Plat.);
2) очистительный обряд, очищение Isocr., Plut..
Как бы то ни было, но круг чествуемых божеств роковым образом расширяется при каждом новом переходе: афинский культ был шире элевсинского, анданийский стал шире афинского. Местные особенности стираются в угоду общей религии таинств, конечной цели развития мистического культа.
Священная драма предполагается и здесь: упоминается «театр», а также и «те, которым надлежит приспособиться к представлению богинь»: нам при этом вспоминается и «путь Деметры и Коры», о котором говорится в надписи Мефапа.
Здесь мы, как и везде, находимся в досадной зависимости от источников: связного изложения элевсинской религии нам не сохранилось, наши сведения о местах и обрядах случайны и отрывочны. Связь с Элевсином иногда ясна, иногда более или менее затемнена; канва мифа сохраняется, но в то же время его содержание прикрепляется к новому месту. Так, таинственная бездна, через которую Аид умчал Кору в свое царство, показывалась и в аркадском Фенее, и в аргосской Лерне, и в других местах. В иных случаях мы вправе предположить учреждение, так сказать, на свежем месте элевсинского культа; в иных — его слияние с другим, исконным, путем отождествления издревле почитаемого божества с Деметрой или Корой. В иных случаях культ, как и в самом Элевсине, был мистическим; в иных мистический элемент отпал, остался самый миф о похищении Коры Аидом и о даровании человечеству хлеба ее божественной матерью.
Здесь не место собирать отдельные обломки элевсинской религии со всех частей эллинского мира — тем более, что эта работа уже сделана; возьмем для иллюстрации по образчику с трех его концов — западного, южного и восточного.
Сицилия, благодаря своему изумительному плодородию, вся считалась посвященной Деметре; ее культ распространен здесь повсюду, но нас удивляет то, что не какая-нибудь греческая колония была его центром, а далекий от моря туземный город Энна. Вероятно, здесь придется признать отождествление старинной местной богини с Деметрой; но оно могло быть только основанием перенесения в Энну элевсинского мифа как последствия культовой ее эллинизации. Похищение божественной девы было локализовано именно здесь, близ Энны, у озера Перга; здесь Кора рвала цветы на зеленом лугу, здесь из разверзшейся земли появился царь преисподней на своей колеснице, запряженной черными конями; свою добычу он умчал по поверхности земли, пока нимфа сиракузской речки Кианы не преградила ему пути; разгневанный, он через ее русло проложил себе путь в преисподнюю.
Когда состоялось перенесение элевсинского мифа в Сицилию? Во всяком случае, очень давно. Когда в самом начале своего республиканского быта Рим вычитал в книгах кумской Сивиллы повеление дать у себя место культу элевсинских божеств, он заимствовал его не из Элевсина, а из Сицилии. И вот, в Риме был воздвигнут первый греческий храм для греческого культа с соблюдением греческой обрядности — храм, посвященный Cereri Libero Liberae. Церера, это Деметра; римская богиня зреющей нивы была отождествлена с греческой даровательницей хлеба. Либера, «дочь», это буквальный перевод имени греческой Коры; но кто такое Либер? Это слово значит «сын» — сын Деметры, надо полагать, коль скоро Либера — ее дочь; но римляне во все времена разумели под ним Вакха-Диониса. Вот он, значит, юный бог священного шествия Иакх, олицетворенное ликование чающих близкую благодать паломников. Слияние с Афинами создало и само шествие и сопровождающего его бога; а если так, то и в создании сицилийско-римской троицы придется признать влияние Афин.
Принятие в Рим этой троицы составляет событие скорее римской, чем греческой религиозной истории; все же на одну особенность мне хотелось бы и здесь обратить внимание. Я уже имел случай указывать на демократический характер элевсинской религии — тот же характер, в силу которого она стала святыней угнетаемых Спартой мессенцев. Его она оправдала и здесь. Основание элевсинского храма в Риме совпало с началом борьбы сословий; и вот он становится религиозным центром плебеев в их двухсотлетних усилиях добиться гражданского равноправия в общем государстве.
Не знаем, был ли эннейский культ мистическим; римский, во всяком случае, таковым не был. Можно представить себе, что трезвый, деловой дух римлян той эпохи не чувствовал той религиозной потребности, которая в Греции находила себе удовлетворение в мистицизме; во всяком случае, факт не подвержен сомнению. Мистическим был зато тот, о котором я имел сказать на втором месте — культ александрийский; о нем мы кое-что знаем, благодаря тому случайному обстоятельству, что нам сохранился написанный Каллимахом в честь его гимн. Античный его толкователь приписывает второму Птолемею, Филадельфу, учреждение если не самого праздника, то одного его обряда, а именно шествия с кошницей, «в подражание Афинам»;⁵ на беду, мы о таком обряде в Афинах ничего не знаем, но это при отрывочности наших сведений об афинской обрядности не может служить опровержением. С другой стороны, наличность александрийского пригорода по имени Элевсин служит немаловажным подтверждением этой преемственности, особенно, если к этому прибавить, что автор гимна Каллимах до своего призвания в Александрию был учителем именно в этом Элевсине. Получается, таким образом, довольно стройный ряд совпадений, достаточно доказательный.
_______________________________
[5] Кошеносицы (κανηφόροι) носили на головах корзины (κάνεον) со священными дарами и бескровными жертвами для Афины — ячмень или украшения, т.е. предметы, характерные для мистерий.
Александрийский культ был мистическим: непосвященным гимн запрещает смотреть с высоты на шествие с кошницей. Его учреждение требовало своего апостола. Самый гимн дает нам интересное свидетельство об изменении религиозного настроения в сравнении с древнеэлевсинскими временами. В самом деле, возьмем в вышеупомянутом Гомеровском гимне то место, где говорится о посте скорбящей Деметры.
С этим объективным, хотя и небезучастным описанием сравним слова Каллимаха:
Эта чрезмерная участливость, доходящая до сентиментализма и вместе с тем низводящая богиню с ее пьедестала на общий со всеми уровень, это усиление любви в ущерб благоговению — характерно именно для той эпохи, которая, будучи подготовлена развитием греческого искусства и греческой религиозности в IV в., пришла к сознанию самой себя после Александра Великого. В этом отношении сопоставление обоих переведенных отрывков очень поучительно: оно наглядно нам показывает разницу между религиозным чувством древнего эллинства и религиозным чувством эллинизма.
Античный комментатор гимна, на которого мы сослались выше, уж очень немногословен, и было бы слишком поспешно — из его слов, что Птолемей Второй ввел обряд шествия с кошницей, выводить заключение, что он же перенес в свою столицу и весь элевсинский культ; это перенесение, которому Элевсин Александрийский обязан своим именем, могло состояться и раньше, при Птолемее I Сотере.
Как бы то ни было, отметим эту наличность мистического культа Деметры и Коры у самого порога греческого царства, возникшего в стране древних фараонов.
Обращая свои взоры на восток, мы находим, можно сказать без преувеличения, всю эллинскую Малую Азию освященной элевсинским культом, особенно, что и понятно, ее ионийскую часть. Правда, наши сведения тут более отрывочны, чем где-либо; часто они ограничиваются изображением на монете или упоминанием какой-нибудь улики в надписи. Не всегда мы даже можем утверждать с уверенностью, что культ обеих богинь носил мистический характер. Сама наличность легенды о похищении Коры его не доказывает; но если, например, в Кизике на Пропонтиде эта Кора почитается под именем Спасительницы (Σώτειρα) так же, как и в Элевсине и в некоторых других мистических центрах, то мы вправе думать о милостивой спасительнице душ умерших из тьмы подземного царства. В Смирне, в Эфесе, в Микале прямо упоминается мистический или элевсинский культ; то же можно предположить и для ряда других мест. Особую важность имеют тут два: Кизик и Пергам. Мистический характер культа в раскопанном пергамском храме с его Девичьей криницей и ступенями для смотрения священной драмы. Местные традиции связывают эти малоазийские колонии с Афинами, как с их признанной общей метрополией; филиали элевсинских мистерий были лишь религиозным показателем этой связи.
Итак, мы видим, что старинная богиня таинств прочно укрепилась в сознании греческой Анатолии; это подготовило ее слияние с могучей туземной богиней (Кибелой) и, как последствие этого слияния, — одну из самых влиятельных и живучих отраслей религии эллинизма.
_______________________________
РЕЛИГИЯ ЭЛЛИНИЗМА. Глава II
В смущающей многочисленности имен и культов древнегреческого политеизма взору освоившегося с ней наблюдателя представятся два довольно четко отделенных друг от друга течения. Первое — это течение явное, участие в котором не было обусловлено ничем, кроме разве принадлежностью чествующего к соответственной гражданской общине; сюда мы относим большинство государственных культов Греции — и Зевса Олимпийского, и Паллады Афинской, и Аполлона Дельфийского. Но второе — это течение тайное; условием участия в нем было посвящение, посвящение же налагало на того, кто был его удостоен, обязательство — никому из непосвященных не выдавать тех священнодействий, участником и свидетелем которых он сподобился стать; сюда относится тоже ряд культов, хотя и значительно меньший, но особенно два: культ Деметры Элевсинской и культ Диониса, развитый его пророком Орфеем — другими словами, элевсинские и орфические таинства.
Там — Зевс и его обитающая в вечном свете олимпийская семья; здесь — Земля и мрак, полный жутких тайн… жутких, да, но в то же время и утешительных: ведь это же мать-Земля. Мы живем под всевидящими очами Зевса и прочих олимпийцев; но стоит нашему телу покрыться могильной перстью, и мы переходим под власть иных, хтонических богов. Эта двойственность может нас озадачить — и, действительно, христианство ее отвергло. Но в сознании эллина она коренилась твердо — до поры до времени.
От Земли Деметра, от Земли и Дионис; обаяние их учения заключалось именно в том, что они раскрывали перед смертным покров подземных тайн и не только удовлетворяли его любознательность, давая ему определенный ответ на мучительный вопрос, что с ним будет после смерти, но и учили его обеспечить себе лучшую участь на том свете. В те отдаленные времена, когда и сами боги еще не сознавались как стражи нравственности, и условия этой лучшей участи были скорее сакральные, чем нравственные, т.е. скорее сводились к исполнению обрядов посвящения, чем к справедливой жизни. Морализация таинств шла вровень с морализацией религии вообще; ко времени расцвета последней она также и в области таинств была совершившимся фактом.
Обаяние их вследствие этого росло и росло, но все же неодинаковым образом. Причиной разницы было то, что элевсинские таинства были прикреплены к определенной общине, к аттическому Элевсину, и имели здесь свой административный центр в виде жреческой коллегии Эвмолпидов, между тем как орфические, распространяемые через странствующих жрецов и пророков, были рассеяны по всей Элладе. Нам теперь трудно решить вопрос, что было выгоднее. Без сомнения, орфизму легче было находить себе поклонников, не только среди простого народа, но и среди поэтов и мыслителей, с Пиндаром и Платоном во главе; но чистоту и определенность учения легче было сохранить при наличности центральной коллегии, руководившей действиями своих эмиссаров, благодаря своему авторитету, основанному на преемственности полученного некогда от самой Деметры откровения.
Имея свой прочный центр в Элевсине, религия Деметры представляет нам две особенности, важные для ее дальнейшего развития. Первая — это та легкость, с которой она могла принимать в себя культы других богов и в известной мере амальгамироваться с ними; вторая — это энергия, с которой она, путем основания подворий, распространялась по прочему греческому миру. Первая обусловливала вторую — в этом состоит характерная черта, отличающая терпимый эллинский прозелитизм от нетерпимого иудейского.
Древнейшую, достижимую для нашего знания, ступень элевсинского культа представляет для нас сохраненный в Московской рукописи Гомеровский гимн Деметре; согласно ему, содержание священной драмы будет следующее.
С разрешения Зевса его брат Аид похищает Кору, дочь Деметры, в то время как она играла с девами-океанидами на цветистом лугу. Содействовала похищению сама Земля, произведя чудесный нарцисс; Кора его срывает и этим отдает себя во власть похитителя. Никто не слышит ее отчаянного крика, кроме «нежнодушной» Гекаты и Гелия. Но когда она, уже увлекаемая в глубь земли, крикнула вторично, ее услышала и мать. Она бросилась ее искать; девять дней она ее искала, не зная ни пищи, ни сна; на десятый с ней встретилась Геката и рассказала, что могла — что кто-то похитил Кору, но кто именно, этого и она не знает. С ней вместе Деметра отправилась к Гелию и от него, всевидящего бога, узнала всю правду.
Разгневавшись на Зевса, она отказалась от общения с олимпийскими богами и, обратившись в старуху, села у Девичьей криницы в Элевсине близ дворца Келея. Там ее нашли четыре дочери Келея; им она назвалась Дотой критянкой и рассказала, что она, будучи похищена морскими разбойниками, бежала от них. Они называют ей главных вельмож города Триптолема, Диокла, Поликсена, Эвмолпа, Долиха и самого Келея, и предлагают ей поступить няней к их матери Метанире, чтобы вынянчить их позднорожденного братца Демофонта. Деметра последовала за ними, но и в доме Метаниры продолжала горевать и поститься, пока служанка Ямба своими шутками не заставила ее улыбнуться. К своему питомцу она привязалась так, что пожелала сделать его бессмертным; с этой целью она ночью, тайно от родителей, держала его в огне, а днем намащала амброзией. Но однажды Метанира подсмотрела ее ночные чары и вскрикнула, думая, что чужая хочет извести ее сына; разгневалась богиня, дала себя узнать и повелела, чтобы граждане ей выстроили храм на холме своего города, а священнодействия она укажет им сама.
Еще год прошел, тяжелый для смертных, так как Деметра поразила бесплодием землю; тогда Зевс послал за разгневанной Ириду и затем всех прочих богов, но она упорно отказывалась вернуться на Олимп. Пришлось ему покориться: он отправил к Аиду Гермеса с приказанием отпустить Кору к матери. Аид повиновался, но дал уходящей отведать сладкого зерна гранатового яблока, чем лишил ее возможности совсем его покинуть. Мать с дочерью встретились на Рарийской равнине, близ Элевсина; Кора рассказала про свое похищение, называя поименно своих товарок-Океанид, но вместе с ними и обеих девственных богинь Олимпа, Палладу и Артемиду. К разговаривающим подошла, по поручению Зевса, его и Деметрина мать Рея и пригласила их на Олимп, сказав, что по определению Зевса, Кора будет отныне проводить только треть года с мужем, остальные же две трети — с матерью. Этот раз Деметра послушалась, но прежде, чем покинуть Элевсин, она вернула земле плодородие и, во исполнение своего обещания, учредила в Элевсине свои таинства.
Кончая свой гимн, певец называет, кроме Элевсина, еще два других центра мистического культа Деметры; это — «окруженный морем» Парос и «скалистый» Антрон. О втором (в Фессалии) ничего не известно; о Паросе мы некоторые сведения имеем, но их здесь приводить незачем. Интереснее то, что певец умалчивает об Афинах: видно, что те две филиали возникли до соединения Элевсина с Афинами и превращения старинного элевсинского культа в общеафинский.
Когда же это состоялось? По легенде, еще при царе Фесее, поколением раньше Троянской войны, т.е., по позднейшим вычислениям, около 1200 до н.э.; по предположению некоторых новейших ученых, не ранее VII в. до н.э. Видимо, истина где-то посередине, но это не важно. Важно следующее.
Принятие элевсинского культа в число афинских должно было иметь последствием, во-первых, постройку элевсинским богиням подворья в Афинах; им стал «Элевсиний» у подножья Акрополя. Во-вторых, обогащение обрядности самого культа. Конечно, элевсинское ядро должно было остаться неприкосновенным; но ничто не мешало учредить специально для афинских мистов особые церемонии в придачу к элевсинским. Так были учреждены Малые мистерии, весенний праздник, как подготовление к великому осеннему; но и осенний требовал увеличения своей обрядности, по крайней мере, одним приращением, вызванным самой сутью дела — торжественным шествием посвященных из Афин в отстоящий приблизительно на 20 верст Элевсин. А это шествие повело к чрезвычайно важному обогащению самой элевсинской религии.
Радость, естественно охватывающая паломников по мере приближения к месту благодати, находила себе выражение в ликующих возгласах и песнях, в так называемой ἴακχος,¹ «сопровождавшей» их на всем их пути от афинского до элевсинского Кефиса. Она была божественной — мало того: она была божеством, — юным, ласковым, «сопровождающим» богом Иакхом (Ἴακχος).² И вот этот созданный религиозным чувством паломнической радости бог Иакх облекается в плоть и кровь: ему тоже в Афинах строится капище, Ἰακχεῖον; его кумир, несомый на руках афинских эфебов, «сопровождает» процессию в Элевсин и там принимается кем-то — в самом элевсинском празднике этот не предусмотренный Деметрою гость участвовать не мог.
Но кто же был он сам, этот ласковый вождь паломников? — бог юный, радостный, любитель плясок, то и дело прерывавших торжественное шествие — а тут еще и созвучие: Ἴακχος, Βάκχος. Сомнения нет: он тождествен с одним из величайших богов греческого Олимпа, с Дионисом-Вакхом. Но если так, то этот юный бог не мог оставаться простым демоном частичного священнодействия, подобно какой-нибудь Ямбе: он требовал себе достойного места, рядом с четой великих богинь, как сын — да, как сын старшей и как брат младшей из них. Элевсинского культа это новшество, повторяю, не затронуло; но в Афинах троица, состоящая из Деметры, Коры-Персефоны и Иакха-Диониса, была признана.
_______________________________
[1] ἴακχος ὁ гимн в честь Иакха Her.
[2] Ἴακχος ὁ Иакх, культово-мистическое имя Вакха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. — нести в торжественном шествии изображение Иакха).
О важности этого приобщения Диониса к Элевсинской чете мы можем только догадываться: учение ведь было тайным. Но обе мистические религии были родственны между собою, обе давали ответ на вопрос о судьбе душ на том свете и учили людей обеспечивать себе «лучшую участь» после смерти. Не было бы ничего удивительного, если бы элевсинское учение о загробном мире приняло в себя некоторые дионисийские, т.е. орфические черты, и равным образом, если бы шумные дионисические оргии или строгие предписания «орфической жизни» повлияли на элевсинскую обрядность.
Последствием возведения элевсинского культа в афинский были, как мы видели, во-первых, постройка афинского подворья в виде «Элевсиния», во-вторых, обогащение элевсинской обрядности учреждением Малых мистерий и священной процессии с ее Иакхом-Дионисом; третьим последствием должна была стать общая администрация таинств. Для нее Элевсин дал свой первенствующий со времени объединения род Эвмолпидов: из него во все времена ставились как главный иерофант, так и обе «иерофантиды» обеих богинь. Но и Афины дорожили тем, чтобы быть представленными если не на первом месте, за отсутствием у них преемственности для исходящего от самой Деметры откровения, то хоть на втором. Остановились на роде Кериков (т.е. глашатаев), производивших себя от Гермеса и дочери древнейшего афинского царя Кекропа; им была передана, не считая других, менее важных жречеств, вторая по достоинству после иерофанта сакральная должность дадуха (δᾳδοῦχος, «факелоносец»). Благодаря этому привлечению Кериков, и их родовой бог Гермес был поставлен в близкие отношения к элевсинским божествам; правда, в самом Элевсине эти отношения остались довольно внешними — нам известно только, что ему там в дни великого праздника приносили в жертву козу.
Но кроме рода Кериков еще один аттический род был приобщен к элевсинским священнодействиям, а именно к дадухии, хотя подробности тут представляются спорными; это были Ликомиды, славный род, долженствовавший со временем дать Афинам и Элладе великого Фемистокла. Их родина — аттическое село Флия — была богата храмами и алтарями; но все другие культы затмевал культ Великой Богини, под которой разумели Землю — мистический культ, непосредственно родственный элевсинскому культу Великих Богинь. Он и был родовым культом Ликомидов; а при его наличности их привлечение с афинской стороны также и к администрации элевсинского культа вполне естественно.
В последние дни героической борьбы мессенцев со спартанцами за свою независимость прорицатель Феокл, узнав по известным приметам, что их гибель неминуема, счел за лучшее открыть божью волю также и народному вождю Аристомену. Дело в том, что у последнего имелся талисман, «уничтожение которого навеки похоронило бы Мессению, между тем как его сохранение, согласно оракулу Пандионова сына Лика (родоначальника Ликомидов, замечу между скобок), было залогом ее возрождения в далеком будущем». Аристомен внял голосу прорицателя: прокравшись на вершину Итомы, родной горы мессенцев, бывшей тогда уже во власти врагов, он зарыл талисман, помолившись Зевсу Итомату и прочим богам, чтобы они сохранили доверенный им клад и не дозволили спартанцам уничтожить единственную надежду мессенцев на освобождение.
Это случилось около середины седьмого века до н.э. Вскоре затем последний оплот мессенцев пал; наступили для ее жителей три столетия порабощения. Но вот, около середины четвертого века до н.э., и звезда спартанцев померкла, к мессенцам явился освободитель в лице Эпаминонда. Была основана новая столица освобожденной страны, Мессена; а вождю, которому было поручено Эпаминондом восстановление мессенского государства — это был Эпитель, родом аргосец, — явился во сне незнакомый муж, предложивший ему отправиться на Итому и, найдя растущие рядом тис и мирт, разрыть землю между ними. Эпитель повиновался и принес Эпаминонду найденную на указанном месте старинную гидрию; вскрыв ее, они нашли в ней записанный на оловянных дощечках устав таинств Великих Богинь. Это и был талисман Аристомена.
Древнейшей столицей Мессении до ее порабощения была Андания; здесь, значит, и следовало учредить возрожденные таинства, причем можно было поставить этот оскудевший городок в такие же отношения к новой столице Мессене, в каких Элевсин находился к Афинам. Само же возобновление таинств надлежало поручить сведущему человеку — конечно, из жреческой коллегии элевсинского культа. Такового нашли в лице некоего Мефапа, родом Ликомида (опять, прошу заметить, Ликомида). Это была интересная во многих отношениях личность, настоящий апостол мистических культов. Как Ликомид, он был руководителем своего родного культа Великой богини-Земли; но в то же время он был также чем-то вроде дадуха в элевсинских таинствах. Как опытный в мистических культах богослов, он был приглашен фиванцами в эпоху Эпаминонда руководить реформой их культа Кабиров в связи с перестройкой посвященного этим божествам загородного храма.
Несколько слов об этом культе, о котором у нас до сих пор не было речи. Основанный некогда финикийскими пловцами на острове Лемносе, он перекинулся на соседние острова и нашел со временем свой центр на Самофракии; все же, во время греческой независимости эти самофракийские мистерии влачили довольно темное существование, и только после Александра Великого расцвели, заняв место рядом с элевсинскими и орфическими таинствами. Греция их чуждалась, очевидно, ввиду их семитического происхождения, о котором свидетельствовало и имя почитаемых в них богов (Kabirim — «Великие» боги); приняли их, быть может, по той же причине Фивы, приписывающие свое основание финикийскому выходцу Кадму. Здесь еще в VI в. был основан храм Кабиров, тот самый, перестройка которого в IV в. дала повод к миссии Мефапа.
Восточная неопределенность Кабиров, в связи с естественной потребностью их почитателей сблизить их с религией окружающего эллинского мира, повела к отождествлению Великих богов с теми или другими образами греческого Олимпа, причем они могли, в силу той же неопределенности, произвольно менять и свое число, и свой пол. Первоначально их было, кажется, двое, «Кабир» и его «сын» — Зевс и Дионис, значит: удобный предлог для внесения в кабирические таинства элементов дионисиазма и орфизма. Под влиянием этой мистической религии чета превращается в троицу, два брата Кабира убивают третьего, причем его смерть и воскресение образуют священную легенду культа, параллельную легенде о смерти и воскрешении первозданного Диониса. Но в силу другой метаморфозы, первоначальная чета, приобщив к себе два женских божества, становится четверицей; в ней узнают элевсинскую троицу — Деметру, Аида, Персефону — с прибавлением к ней родоначальника Кериков, Гермеса, что указывает на афинское влияние. Так, собирая в себе лучи и дионисических, и элевсинских таинств, самофракийские становятся всеобъемлющей мистической религией, готовясь этим к своей вселенской роли при наследниках основателя вселенского эллинизма.
Фиванский росток этой религии и был поручен заботам элевсинского апостола, Ликомида Мефапа. Частности его деятельности уже от его современников были скрыты непроницаемой завесой. Но вот возвращается свету дня талисман Аристомена; порабощенные до тех пор мессенцы вместе со свободой обретают вновь и свою национальную святыню. Понятно, что об ее восстановлении заботятся те же фиванцы, которые своими победами им и свободу возвратили; понятно, что они поручают это дело тому самому апостолу элевсинской Деметры, которому они уже были обязаны упорядочением своего кабирического святилища — Мефапу. И вот Мефап отправляется в освобожденную страну: он принимает — будем продолжать легенду, переливая ее в историю — от аргосца Эпителя найденный им талисман Аристомена и на основании его, а также и своего прочего святительского знания и опыта, учреждает в Андании мистический культ элевсинских богинь.
Поручение было из самых почетных, и гордость апостола законна. О своей деятельности он сам оставил потомкам свидетельство в той надписи, которую он велел вырезать на пьедестале своей статуи, посвященной им в палатку Ликомидов в Афинах:
Дом я очистил Гермеса и путь благодатной Деметры
С Дщерью ее первородной, в том граде, в котором Мессена
Праздник святой учредила во славу Великим Богиням.
Гермес здесь назван наряду с Деметрой и Корой: это нас не удивляет, родовой бог афинских Кериков не мог отсутствовать в культе, учрежденном афинским Ликомидом. О других его особенностях нас оповещает знаменитая, найденная в середине прошлого столетия анданийская мистическая надпись, состоящая из 200 без малого строк.
Кто ныне стал бы подходить к ней со священным трепетом, надеясь найти в ней сам талисман Аристомена или уже, во всяком случае, изложение самой сути религии таинств, того бы постигло горькое разочарование: в ней говорится исключительно о внешностях культа и его благочинии, и при этом чаще упоминаются штрафы и даже телесные наказания его нарушителям; но если присмотреться ближе, то и из нее можно извлечь немало для нас интересного. Вызвана она была, прежде всего, превращением самого культа из родового в государственный, состоявшимся в начале I в. до н.э. — до тех пор, значит, т.е. в течение двух с половиной веков, его ведал определенный род, соответствующий элевсинским Эвмолпидам — быть может, род Кресфонтидов, потомков древних мессенских царей. Но вот последний иерофант из этого рода, Мнасистрат — по собственному ли почину, или по желанию народа — отдает свой святительский сан в распоряжение государства, а вместе с ним и «ковчег и книги» … по-видимому, те самые, в которых легенда видела талисман Аристомена. Эта передача вызвала и ряд других реформ, закрепленных в нашей надписи.
Божества анданийских мистерий перечисляются в следующем, хотя и не очень строго соблюдаемом, порядке. На первом месте стоит, как это и понятно, Деметра; на втором — Гермес, в угоду, как мы видели, Афинам и их Керикам; на третьем — Великие боги, т.е. Кабиры — мы узнаем соглашательскую деятельность Мефапа; на четвертом — Аполлон Карнейский,³ в ограде которого и происходил праздник — это для нас нечто новое, но отнюдь не удивительное. Аполлон Карнейский (прозвище темное) был национальным богом спартанцев, иго которых лежало на Мессении в течение ряда столетий; теперь иго было разбито, но Аполлон оставался Аполлоном, и его пришлось поставить в связь с возобновленным национальным культом возрожденной Мессении — интересный образчик греческой религиозности. Наконец, на пятом месте стоит богиня о страшном имени, робко нарекаемая в надписи описательным обозначением Агна (Ἁγνή);⁴ это, как мы знаем из других свидетельств, сама царица подземных глубин, Персефона, она же и Кора (Κόρη, дева). Удивляет нас отсутствие ее супруга Аида, неустранимого участника священной драмы.
_______________________________
[3] Καρνεῖος, дор. Καρνήϊος ὁ
1) Карнейский (эпитет Аполлона у дорических племен Пелопоннесса) Pind., Polyb.
2) Карней (лакедемонский месяц, соотв. атт. Μεταγειτνιών, т.е. августу-сентябрю, в течение которого совершались девятидневные празднества в честь Аполлона Карнейского) Thuc., Eur., Plut.
[4] ἁγνεία ἡ
1) чистота, непорочность (λόγων ἔργων τε Soph.; ἱερῶν Plat.);
2) очистительный обряд, очищение Isocr., Plut..
Как бы то ни было, но круг чествуемых божеств роковым образом расширяется при каждом новом переходе: афинский культ был шире элевсинского, анданийский стал шире афинского. Местные особенности стираются в угоду общей религии таинств, конечной цели развития мистического культа.
Священная драма предполагается и здесь: упоминается «театр», а также и «те, которым надлежит приспособиться к представлению богинь»: нам при этом вспоминается и «путь Деметры и Коры», о котором говорится в надписи Мефапа.
Здесь мы, как и везде, находимся в досадной зависимости от источников: связного изложения элевсинской религии нам не сохранилось, наши сведения о местах и обрядах случайны и отрывочны. Связь с Элевсином иногда ясна, иногда более или менее затемнена; канва мифа сохраняется, но в то же время его содержание прикрепляется к новому месту. Так, таинственная бездна, через которую Аид умчал Кору в свое царство, показывалась и в аркадском Фенее, и в аргосской Лерне, и в других местах. В иных случаях мы вправе предположить учреждение, так сказать, на свежем месте элевсинского культа; в иных — его слияние с другим, исконным, путем отождествления издревле почитаемого божества с Деметрой или Корой. В иных случаях культ, как и в самом Элевсине, был мистическим; в иных мистический элемент отпал, остался самый миф о похищении Коры Аидом и о даровании человечеству хлеба ее божественной матерью.
Здесь не место собирать отдельные обломки элевсинской религии со всех частей эллинского мира — тем более, что эта работа уже сделана; возьмем для иллюстрации по образчику с трех его концов — западного, южного и восточного.
Сицилия, благодаря своему изумительному плодородию, вся считалась посвященной Деметре; ее культ распространен здесь повсюду, но нас удивляет то, что не какая-нибудь греческая колония была его центром, а далекий от моря туземный город Энна. Вероятно, здесь придется признать отождествление старинной местной богини с Деметрой; но оно могло быть только основанием перенесения в Энну элевсинского мифа как последствия культовой ее эллинизации. Похищение божественной девы было локализовано именно здесь, близ Энны, у озера Перга; здесь Кора рвала цветы на зеленом лугу, здесь из разверзшейся земли появился царь преисподней на своей колеснице, запряженной черными конями; свою добычу он умчал по поверхности земли, пока нимфа сиракузской речки Кианы не преградила ему пути; разгневанный, он через ее русло проложил себе путь в преисподнюю.
Когда состоялось перенесение элевсинского мифа в Сицилию? Во всяком случае, очень давно. Когда в самом начале своего республиканского быта Рим вычитал в книгах кумской Сивиллы повеление дать у себя место культу элевсинских божеств, он заимствовал его не из Элевсина, а из Сицилии. И вот, в Риме был воздвигнут первый греческий храм для греческого культа с соблюдением греческой обрядности — храм, посвященный Cereri Libero Liberae. Церера, это Деметра; римская богиня зреющей нивы была отождествлена с греческой даровательницей хлеба. Либера, «дочь», это буквальный перевод имени греческой Коры; но кто такое Либер? Это слово значит «сын» — сын Деметры, надо полагать, коль скоро Либера — ее дочь; но римляне во все времена разумели под ним Вакха-Диониса. Вот он, значит, юный бог священного шествия Иакх, олицетворенное ликование чающих близкую благодать паломников. Слияние с Афинами создало и само шествие и сопровождающего его бога; а если так, то и в создании сицилийско-римской троицы придется признать влияние Афин.
Принятие в Рим этой троицы составляет событие скорее римской, чем греческой религиозной истории; все же на одну особенность мне хотелось бы и здесь обратить внимание. Я уже имел случай указывать на демократический характер элевсинской религии — тот же характер, в силу которого она стала святыней угнетаемых Спартой мессенцев. Его она оправдала и здесь. Основание элевсинского храма в Риме совпало с началом борьбы сословий; и вот он становится религиозным центром плебеев в их двухсотлетних усилиях добиться гражданского равноправия в общем государстве.
Не знаем, был ли эннейский культ мистическим; римский, во всяком случае, таковым не был. Можно представить себе, что трезвый, деловой дух римлян той эпохи не чувствовал той религиозной потребности, которая в Греции находила себе удовлетворение в мистицизме; во всяком случае, факт не подвержен сомнению. Мистическим был зато тот, о котором я имел сказать на втором месте — культ александрийский; о нем мы кое-что знаем, благодаря тому случайному обстоятельству, что нам сохранился написанный Каллимахом в честь его гимн. Античный его толкователь приписывает второму Птолемею, Филадельфу, учреждение если не самого праздника, то одного его обряда, а именно шествия с кошницей, «в подражание Афинам»;⁵ на беду, мы о таком обряде в Афинах ничего не знаем, но это при отрывочности наших сведений об афинской обрядности не может служить опровержением. С другой стороны, наличность александрийского пригорода по имени Элевсин служит немаловажным подтверждением этой преемственности, особенно, если к этому прибавить, что автор гимна Каллимах до своего призвания в Александрию был учителем именно в этом Элевсине. Получается, таким образом, довольно стройный ряд совпадений, достаточно доказательный.
_______________________________
[5] Кошеносицы (κανηφόροι) носили на головах корзины (κάνεον) со священными дарами и бескровными жертвами для Афины — ячмень или украшения, т.е. предметы, характерные для мистерий.
Александрийский культ был мистическим: непосвященным гимн запрещает смотреть с высоты на шествие с кошницей. Его учреждение требовало своего апостола. Самый гимн дает нам интересное свидетельство об изменении религиозного настроения в сравнении с древнеэлевсинскими временами. В самом деле, возьмем в вышеупомянутом Гомеровском гимне то место, где говорится о посте скорбящей Деметры.
Девять скиталася дней в безутешной печали Деметра,
Путь освещая ночной пылающих светочей парой;
Не прикасалась она ни к амбросии сладкотекучей
В горе своем материнском, ни к нектару; тела купелью
Тоже она не свежила.
С этим объективным, хотя и небезучастным описанием сравним слова Каллимаха:
Как тебя ноги носили, Владычица, к солнца закату,
К черных жилищам людей, где сверкают плоды золотые?
Столько не ела ты дней, не пила, не хотела умыться!
Трижды ведь ты перешла среброструйного брод Ахелоя,
Столько же раз перешла остальные потоки Эллады…
И не хотела устами коснуться их вод и умыться!
Други, умолкнем о том, что на слезы Деметру наводит!
Лучше расскажем, как грады в законах она воспитала…
Эта чрезмерная участливость, доходящая до сентиментализма и вместе с тем низводящая богиню с ее пьедестала на общий со всеми уровень, это усиление любви в ущерб благоговению — характерно именно для той эпохи, которая, будучи подготовлена развитием греческого искусства и греческой религиозности в IV в., пришла к сознанию самой себя после Александра Великого. В этом отношении сопоставление обоих переведенных отрывков очень поучительно: оно наглядно нам показывает разницу между религиозным чувством древнего эллинства и религиозным чувством эллинизма.
Античный комментатор гимна, на которого мы сослались выше, уж очень немногословен, и было бы слишком поспешно — из его слов, что Птолемей Второй ввел обряд шествия с кошницей, выводить заключение, что он же перенес в свою столицу и весь элевсинский культ; это перенесение, которому Элевсин Александрийский обязан своим именем, могло состояться и раньше, при Птолемее I Сотере.
Как бы то ни было, отметим эту наличность мистического культа Деметры и Коры у самого порога греческого царства, возникшего в стране древних фараонов.
Обращая свои взоры на восток, мы находим, можно сказать без преувеличения, всю эллинскую Малую Азию освященной элевсинским культом, особенно, что и понятно, ее ионийскую часть. Правда, наши сведения тут более отрывочны, чем где-либо; часто они ограничиваются изображением на монете или упоминанием какой-нибудь улики в надписи. Не всегда мы даже можем утверждать с уверенностью, что культ обеих богинь носил мистический характер. Сама наличность легенды о похищении Коры его не доказывает; но если, например, в Кизике на Пропонтиде эта Кора почитается под именем Спасительницы (Σώτειρα) так же, как и в Элевсине и в некоторых других мистических центрах, то мы вправе думать о милостивой спасительнице душ умерших из тьмы подземного царства. В Смирне, в Эфесе, в Микале прямо упоминается мистический или элевсинский культ; то же можно предположить и для ряда других мест. Особую важность имеют тут два: Кизик и Пергам. Мистический характер культа в раскопанном пергамском храме с его Девичьей криницей и ступенями для смотрения священной драмы. Местные традиции связывают эти малоазийские колонии с Афинами, как с их признанной общей метрополией; филиали элевсинских мистерий были лишь религиозным показателем этой связи.
Итак, мы видим, что старинная богиня таинств прочно укрепилась в сознании греческой Анатолии; это подготовило ее слияние с могучей туземной богиней (Кибелой) и, как последствие этого слияния, — одну из самых влиятельных и живучих отраслей религии эллинизма.
_______________________________
|
Метки: Деметра Мистерии Греция |
АРТЕМИДА ПЕРГСКАЯ |
Древний город Перга (Πέργη) располагался на холме, окруженном плодородной поймой реки Кестрос. Основали его, якобы, микенские колонизаторы, двигавшиеся в сторону Киликии и Сирии. Древнее
 название города — Парха, этимологизируется с помощью хетского от parcu — «высокий», что логично для города расположенного на холме.
название города — Парха, этимологизируется с помощью хетского от parcu — «высокий», что логично для города расположенного на холме. После 1200 года до н.э. Перга был городом ахейцев. В VII в. до н.э. город переходит к лидийцам, а затем в VI в. до н.э. к персам. С покорением Персидской империи Александром Великим, Перга (с 333г. до н.э.) — в составе Македонского царства. После смерти Александра и распада империи, город был под властью Селевкидов, Пергама, и наконец, со II в. до н.э., — римлян.
Наибольшая часть руин античных памятников принадлежит римскому периоду, когда город достиг наибольшего развития и процветания, и считался самым крупным городом в Анатолии.

Река Кестрос была судоходной, по ней в Пергу заходили морские суда. Находясь в 11 км от моря, Перга служила в качестве лимана, и была защищена от пиратских нападений.
В Византийский период, в результате обмеления реки, город утратил свое первенство. Земли вокруг города превратились в засушливую болотистую местность, что вынудило население покидать город. В VII в. к этому добавились набеги арабов. И уже к приходу сельджуков, от роскошного и богатого города, осталось лишь небольшое селение.
Город Перга был известен своим храмом Артемиды (Дианы) — покровительницы города, соперничавшим со знаменитым Эфесским храмом, к которому устремлялись паломники со всей Малой Азии. Великолепный по размерам и архитектуре храм Артемиды высился на вершине холма, за стенами города.
На монетах ниже, отчеканенных в Перге, изображен Храм Артемиды с ксоаном внутри. Ксоан (ξόανον) представляет из себя культовую стелу, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе.


1. Траян (98-117). Бостра, Аравия Петрейская (Arabia Petraea). Тридрахма (AR 22mm, 10.40g), ок. 113/4г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; AYTOKP KAIC NEP TPAIANOC CЄB ГЄPM ΔAK. Rv: дистильный храм с ксоаном Артемиды Пергской; ΔHM APX ЄΞ IH YПATOC
2. Максимин I Фракиец (235-238). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 35mm (23.65g). Av: бюст Максимина в лавровом венке; AY K Г IOYΛ YH MAΞIMЄINOC CЄ. Rv: внутри тетрастильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе, покрытая пеплосом; по бокам символы солнца и луны, фронтон храма украшает изображение орла; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC


3. Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Æ 31mm (16.39g). Av: бюст Салонины, окаймленный снизу полумесяцем; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄ. Rv: внутри дистильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе; по бокам символы солнца и луны; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC / ACYΛOY (на фронтоне храма)
4. Филипп I Араб (Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus, 244-249). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 27mm (12.37g). Av: бюст Филиппа I в лавровом венке; AY K M IOYΛ ФIΛIППOC ЄY CЄ. Rv: внутри дистильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе; по бокам символы солнца и луны, фронтон храма украшает изображение орла; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC / ACYΛOY
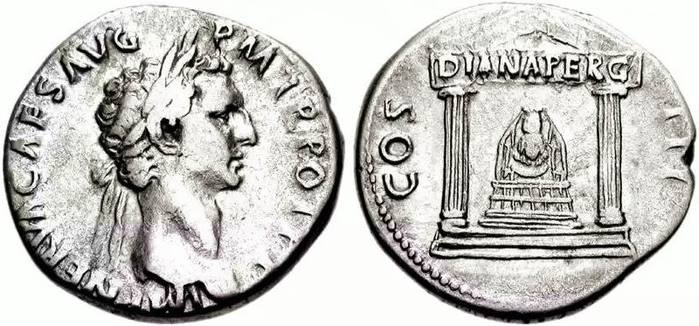

5. Нерва (96-98). Рим. Тетрадрахма (AR 10.14g), 97г. Av: бюст Нервы в лавровом венке; IMP NERVA CAES AVG PM TR POT P P. Rv: внутри дистильного храма священный ксоан Дианы Пергской; COS III / DIANA PERG (на фронтоне храма).
6. Траян (98-117). Рим. Тетрадрахма (AR 10.54g), 98г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Rv: священный ксоан Дианы Пергской; TR POT COS II
Ксоан Артемиды Пергской, покрытый барельефами и с модиусом на голове, перекликается с каноническим изображением Артемиды Эфесской. Разница лишь в том, что в Эфесе Артемиду изображали в полный рост. На монетах подобная иконография Артемиды Пергской появляется только в римское время, и, вероятно, весьма популярный
 образ Артемиды из Эфеса оказал значительное влияние на новый образ Артемиды Пергайи.
образ Артемиды из Эфеса оказал значительное влияние на новый образ Артемиды Пергайи.Артемида Пергайа была покровительницей Перги и в эллинистические времена. Тогда ее изображали в классическом греческом стиле, как Артемиду Агротеру, охотницу, в короткой тунике, с луком и колчаном за плечами. В римский период атрибутика Артемиды охотницы частично сохраняется. И на рельефах, и на монетах римского времени можно видеть в руках Артемиды лук, хотя держит она его уже не как охотница, а, именно, как атрибут, чтобы у зрителей не возникало сомнения в том, кто перед ними изображен. Небольшой факел греческой
 Артемиды охотницы превращается в длинный факел-скипетр. Иногда даже, рядом с Артемидой, по старой памяти, римляне изображали оленя, наверное, не особенно понимая для чего. Иногда олени запряжены в колесницу, на которой Диана скачет с горящими факелами.
Артемиды охотницы превращается в длинный факел-скипетр. Иногда даже, рядом с Артемидой, по старой памяти, римляне изображали оленя, наверное, не особенно понимая для чего. Иногда олени запряжены в колесницу, на которой Диана скачет с горящими факелами.Около I-II вв. н.э., в Перге появляется новая деталь в образе Артемиды — лучевая корона, такая же как у ее брата Аполлона. Собственно, лучевая корона над головой Артемиды (Дианы) возникла в качестве демонстрации ее лучезарного и часто употребляемого эпитета «Светоносная» (Ἄρτεμις Φωσφόρος, Σελήνη, Diana Lucifera). Этот образ остался запечатленным на рельефах и монетах, чеканившихся в Перге. Лучевая корона пришла на смену пулумесяцу над головой Артемиды. Нередко лунный серп и лучевая корона совмещаются.

Позднее, новый образ богини был востребован, набиравшим силу, христианством. Еще в I веке в Перге проповедовали апостол Павел и Варнава, которые основали здесь христианскую общину.
Вторично к образу светоносной богини обратились просвещенные масоны во времена Французской революции. Собор Парижской Богоматери был превращен в «Храм разума», и статуи Девы Марии
 были заменены статуями Свободы, которая во Франции именовалась Марианной. Образ Марианны в лучевой короне был даже помещен на Большую печать Франции.
были заменены статуями Свободы, которая во Франции именовалась Марианной. Образ Марианны в лучевой короне был даже помещен на Большую печать Франции.Комичность ситуации в том, что и имена Марии и Марианны удивительно созвучны; и в том, что образ новой богини в лучевой короне не особенно противоречит иконографии Девы Марии, которая имеет те же корни; и в том, что богиня Свободы, обретя новый атрибут, потеряла при этом свой отличительный «символ Свободы» — фригийский колпак; и в том, что новый образ не нашел широкого отклика в массах. Даже на монетах богиня
 Французской революции чеканилась по старинке, во фригийской шапке. И если бы не гигантская статуя Свободы, установленная у берегов США, кто знает, как сложилась бы судьба этого образа?
Французской революции чеканилась по старинке, во фригийской шапке. И если бы не гигантская статуя Свободы, установленная у берегов США, кто знает, как сложилась бы судьба этого образа?О самом храме Артемиды Пергской известно немного. Страбон в «Географии» мельком упоминает о том, что «вблизи Перги на возвышенном месте находится святилище Артемиды Пергейской, где ежегодно справляют общенародный праздник» (XIV, IV, 2). Надпись ACYΛOY на фронтоне храма означает, что он обладает правом или статусом убежища.¹ Сакральное право на убежище — один из наиболее древних институтов, существующий с самых ранних, доисторических форм человеческого общества. Оно предполагало существование священных мест (в первую очередь — святилищ, храмов, могил героев), неприкосновенных для людского суда, которые давали гарантированную безопасность всякому преследуемому — убийцам, преступникам, неприятелям. Увести силой из такого места, оторвать от статуи бога или алтаря лицо, ищущее защиты, считалось преступлением. В эллинистическую эпоху эта практика была широко распространена, и, например, одними из самых известных убежищ считались храм Артемиды в Эфесе, храм Тесея в Афинах, куда спасались рабы от жестокого обращения господ, храм Афродиты в Смирне.
______________________________
[1] ἄσυλον τό неприкосновенное убежище Plut.
ἄσυλος (ἄ-συλος) не могущий подвергнуться разграблению, т.е. неприкосновенный (γῆ Eur.; ἱερόν Polyb., Plut.).
Римляне поначалу тоже охотно предоставляли это право отдельным храмам, но в 22 году Тиберий поручил сенату пересмотреть список храмов, имевших право убежища, и уточнить перечень провинностей, на которые оно распространялось. В результате количество святилищ, обладавших правом убежища, было значительно сокращено. «Был издан сенатский указ, которым с соблюдением полного уважения к религиозным чувствам, но и со всею решительностью ограничивалось число убежищ; вместе с тем было велено прибить в храмах медные доски с этим указом, чтобы память о нем сохранилась навеки и чтобы не допустить в будущем прикрывающихся благочестием честолюбивых стремлений», — пишет в «Анналах» Тацит (III, 60-63), который приводит перечень таких храмов. Святилища Артемиды Пергской в нем нет, однако, право убежища сохранялось за ним, как минимум, до времен Галлиена, то есть до 60-х годов III века.
Вместе с тем и сами священные места, охраняемые богами и почитаемые императорами, зачастую были бессильны перед произволом римских наместников. В I веке до н.э. печальную известность получил некто Гай Лициний Веррес. В 73-71 годах он управлял Сицилией, где прославился своей тягой к коллекционированию — он вымогал и похищал понравившиеся ему произведения искусства (статуи богов, украшения, столовую утварь) не только у частных лиц, но и у городов, и у храмов, и даже у союзных правителей. До этого, в 80-79гг., он был легатом в Азии, где не только боролся с киликийскими пиратами, но также стремился к прекрасному, и, в частности, ограбил храм Артемиды в Перге. Что за реликвии он оттуда увез, доподлинно неизвестно — этот случай без подробностей в длинном перечне злоупотреблений бывшего наместника упоминает Цицерон в своей речи «Против Верреса», когда в 70 году тот, все-таки, угодил под суд. «Оскорбил в Перге Диану», — так называет случившееся Цицерон (IV, О предметах искусства, XXXII, 71).
АЛТАРЬ ЮЛИИ ВИКТОРИНЫ



Алтарь Юлии Викторины (Iulia Victorina) датируется 75-90гг. Эпитафия, выгравированная на лицевой стороне памятника, гласит, что девушка умерла в возрасте десяти лет и пяти месяцев. Посвящение — от родителей Юлии Викторины Гая Юлия Сатурнина (Gaius Iulius Saturninus) и Луциллы Прокулы (Lucilla Procula). Юлия Викторина изображена увенчанной серпом луны, т.е. в образе Дианы. На противоположной стороне изображена сама Диана в лучевой короне. На боковых сторонах — лавровые деревья, с сидящими на ветвях воронами.
АРТЕМИДА ПЕРГСКАЯ В НУМИЗМАТИКЕ
______________________________________________________________
 Перга (Πέργη), Памфилия.
Перга (Πέργη), Памфилия. Тетрадрахма (AR 28mm, 16.91g), 260-230 до н.э.
Av: бюст Артемиды в лавровом венке, за плечом колчан;
Rv: Артемида Агротера с лавровым венком в правой руке и копьем в левой, за плечом лук и колчан, рядом олень; APTEMIΔOΣ ΠEPΓAIAΣ
______________________________________________________________
 Гордиан III (238-244). Фиатира, Лидия. Æ 30mm (17.68g).
Гордиан III (238-244). Фиатира, Лидия. Æ 30mm (17.68g).Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AY K MAP ANT ГOPΔIANOC
Rv: Артемида в радиальной короне; в левой руке держит лук, правой достает стрелу из колчана; у ног — собака; Ο ΔΥΑ ΤΙΘЄ (ὁ δύα τίθε — «та, что прекращает страдания»).
______________________________________________________________
 Марк Аврелий (как цезарь, 139-161). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 15mm (2.19g).
Марк Аврелий (как цезарь, 139-161). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 15mm (2.19g).Av: бюст Марка Аврелия; ΚΑΙСΑΡ ΑΥΡΗΛΙΟС
Rv: Артемида Пергская в лучевой короне, с луком в левой руке и длинным факелом — в правой; ΑΡΤЄΜΙΔΟС ΠЄΡΓΑΙΑ
______________________________________________________________
 Требониан Галл (252-253). Перга, Памфилия.
Требониан Галл (252-253). Перга, Памфилия.Æ 23mm (6.93g).
Av: бюст Требониана Галла в лавровом венке; AY K Г OYЄI TPЄ ГAΛΛON
Rv: Артемида Пергайа в лучевой короне с луком и стрелой в руках, за спиной — полумесяц; ΠЄPΓAIΩN
______________________________________________________________
 Люцилла Августа (164-182). Перга, Памфилия.
Люцилла Августа (164-182). Перга, Памфилия.Æ 23mm (9.42g).
Av: бюст Люциллы; ΛOYKIΛΛA CЄBACTH
Rv: Артемида Пергская в лучевой короне, с луком в левой руке и длинным факелом — в правой; ΠЄPΓAIΩN
______________________________________________________________
 Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой.
Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Медальон (Æ 38mm, 25.02g).
Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AYT KAI M ANT ГOPΔIANOC CЄB
Rv: Афина в коринфском шлеме, с копьем, стоит напротив Артемиды Пергской; у Артемиды в руке длинный факел, на голове лучевая корона; между богинями — алтарь, выше — плод граната; CIΔHTΩN ПЄPГAIΩN OMONOIA
______________________________________________________________
 Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой.
Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Медальон (Æ 36mm, 32.29g).
Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AYT KAI M ANT ГOPΔIANOC CЄB
Rv: Афина в коринфском шлеме, с копьем, стоит напротив Артемиды Пергской; у Артемиды в руке длинный факел, на голове лучевая корона, у ног — олень; между богинями — алтарь, выше — плод граната; CIΔHTΩN ПЄPГAIΩN OMONOIA
______________________________________________________________
 Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой.
Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Медальон (Æ 39mm, 28.04g).
Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AYT KAI M ANT ГOPΔIANOC CЄB
Rv: Афина в коринфском шлеме, с копьем, стоит напротив Артемиды Пергской; у Артемиды в руке длинный факел, на голове лучевая корона, у ног — олень; между богинями — алтарь, выше — плод граната; CIΔHTΩN ПЄPГAIΩN OMONOIA
______________________________________________________________
 Филипп II (как цезарь, 244-247). Сидон (Σιδών), Памфилия.
Филипп II (как цезарь, 244-247). Сидон (Σιδών), Памфилия.Æ 32mm (16.34g), стандарт Гордиана III.
Av: бюст Филиппа; MAPKON IOYΛION CЄYHPON ΦIΛIΠΠON KAICAP / Є
Rv: Афина в коринфском шлеме, с копьем, стоит напротив Артемиды Пергской; у Артемиды в руке длинный факел, на голове лучевая корона; между богинями — алтарь, выше — плод граната; CIΔHTΩN
______________________________________________________________
 Траян Деций (Gaius Messius Quintus Traianus Decius 249-251). Аспендос (Ἄσπενδος), Памфилия. Æ 30mm.
Траян Деций (Gaius Messius Quintus Traianus Decius 249-251). Аспендос (Ἄσπενδος), Памфилия. Æ 30mm.Av: бюст Траяна Деция в лавровом венке; AYT KAI Г MЄCC KY TPAIANOC ΔЄKIOC CЄB
Rv: Артемида Пергская в лучевой короне, в левой руке держит длинную ветвь; слева — амфора; ACПЄNΔIΩN
______________________________________________________________
 Транквиллина (Augusta, 241-244), жена Гордиана III.
Транквиллина (Augusta, 241-244), жена Гордиана III.Æ 26mm (11.96g).
Av: бюст Транквиллины в образе Дианы, на голове — диадема, за плечами — лунный серп; CΑΒЄΙ ΤΡΑΝΚYΛΛЄΙΝΑ Ν CЄB
Rv: Артемида Пергская в лучевой короне стоит напротив Афины в коринфском шлеме, с копьем и щитом, между ними — олень; ПЄPГAIΩN CIΔHTΩN OMONOIA
______________________________________________________________
 Галлия, римская провинция. Римский монетный двор, монетарий Люций Гостилий Сазерна.
Галлия, римская провинция. Римский монетный двор, монетарий Люций Гостилий Сазерна.Денарий (AR 18mm, 3.91g), 48 до н.э.
Av: персонификация Галлии, слева карникс (carnyx);
Rv: Диана в лучевой короне, с копьем в левой руке, правой рукой держит оленя за рога; L.HOSTILIVS SASERNA
______________________________________________________________
 Галлия, римская провинция. Римский монетный двор, монетарий Люций Гостилий Сазерна.
Галлия, римская провинция. Римский монетный двор, монетарий Люций Гостилий Сазерна.Денарий (AR 18mm, 4.11g), 48 до н.э.
Av: персонификация Галлии, слева карникс (carnyx);
Rv: Диана в лучевой короне, с копьем в левой руке, правой рукой держит оленя за рога; L.HOSTILIVS SASERNA
______________________________________________________________
 Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов. Тетрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. Дамаскский чекан.
Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов. Тетрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. Дамаскский чекан.Av: бюст Деметрия III в тении;
Rv: культовая статуя Артемиды-Атаргатис в лучевой короне, за плечами — колосья ячменя; BAΣIΛEΩΣ ΔHMHTPIOY ΘEOY ФIΛOПATOP ΣΩTHPOΣ
______________________________________________________________
 Калигула (Gaius Iulius Caesar Germanicus, 37-41). Кидрам (Κίδραμος), Кария. Æ (19mm, 6.74g). Магистрат М. Калликрат (Mousaius Callicratus Pr.).
Калигула (Gaius Iulius Caesar Germanicus, 37-41). Кидрам (Κίδραμος), Кария. Æ (19mm, 6.74g). Магистрат М. Калликрат (Mousaius Callicratus Pr.).Av: бюст Калигулы; ΣEBAΣTOΣ
Rv: Артемида Пергская в лучевой короне; ΚΙΔΡΑΜΗΝΩΝ / MOYΣAIOΣ KAΛΛIKPAT ПP
______________________________________________________________
 Родос, Кария. Æ 4.22g, ок. I в. до н.э.
Родос, Кария. Æ 4.22g, ок. I в. до н.э.Av: голова Гелиоса в лучевой короне;
Rv: Артемида в лучевой короне; POΔIΩΝ
______________________________________________________________
 Деметрий I Аникет. Бактрия.
Деметрий I Аникет. Бактрия. Æ 23 mm (8.28g, Double Unit), ок. 200-185 до н.э.
Аv: голова Геракла, слева — палица, на шее подвязана шкура льва;
Rv: Артемида Агротера в лучевой короне, в левой руке — лук, правой тянется к колчану; BAΣIΛEΩΣ DHMHTPIOY
______________________________________________________________
 Родос, Кария. Æ 1.65g, ок. 190-150 до н.э.
Родос, Кария. Æ 1.65g, ок. 190-150 до н.э.Av: голова Артемиды в диадеме и лучевой короне;
Rv: роза в квадратном поле.
______________________________________________________________
 Родос, Кария. Æ 18mm (4.04g), ок. 125-88 до н.э.
Родос, Кария. Æ 18mm (4.04g), ок. 125-88 до н.э. Av: голова Артемиды в диадеме, серьгах и лучевой короне;
Rv: крылатая Ника держит в правой руке афластон (ἄφλαστον, украшение верхней части кормы), в другой — эмболон (ἔμβολον, острый конец корабельного носа для тарана); слева внизу — прора корабля; PO
______________________________________________________________
 Родос, Кария. Æ 18mm (5.67g), I в. до н.э. - I в. н.э.
Родос, Кария. Æ 18mm (5.67g), I в. до н.э. - I в. н.э. Av: голова Артемиды в диадеме, серьгах и лучевой короне;
Rv: крылатая Ника держит в правой руке афластон (ἄφλαστον, украшение верхней части кормы), в другой — эмболон (ἔμβολον, острый конец корабельного носа для тарана).
______________________________________________________________
 Родос, Кария. Четверть статера (AV quarter stater 12mm, 2.10g), ок. 125-88 до н.э. Магистрат Диогнет (Διόγνητος).
Родос, Кария. Четверть статера (AV quarter stater 12mm, 2.10g), ок. 125-88 до н.э. Магистрат Диогнет (Διόγνητος).Av: голова Артемиды в диадеме, серьгах и лучевой короне;
Rv: роза; PO [сигнатуры: коринфский шлем и ΔIOΓNH (имя магистрата)].
______________________________________________________________
 Родос, Кария. Четверть статера (AV quarter stater 12mm, 2.18g), ок. 125-88 до н.э. Магистрат Архин (Ἀρχῖνος).
Родос, Кария. Четверть статера (AV quarter stater 12mm, 2.18g), ок. 125-88 до н.э. Магистрат Архин (Ἀρχῖνος).Av: голова Артемиды Пергской в диадеме, серьгах и лучевой короне;
Rv: роза; PO / APXINOΣ
______________________________________________________________
Вместо постскриптума.
ОСТРОБРАМСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Название Остробрамская икона Божией Матери получила благодаря месту своего нахождения, в надвратной часовне Острая Брама, или Острые Ворота в Вильнюсе. О происхождении иконы существует
 несколько версий, свидетельствующих о большом почитании святыни как в православном, так и в католическом мире.
несколько версий, свидетельствующих о большом почитании святыни как в православном, так и в католическом мире.Согласно православному преданию, Остробрамская икона Богородицы именовалась в древности Корсунской Благовещенской. Привезена в Вильно из Корсуни (Херсонеса) в XIV в. великим князем литовским Ольгердом Гедиминовичем, после одного из крымских походов на татар. Князь подарил икону первой супруге Марии, а вторая жена Иулиания передала образ Троицкой обители.
По другой версии, Остробрамская икона прислана Ольгерду греческим императором Иоанном Палеологом, после принятия князем христианства.
Образ Остробрамской иконы византийского происхождения глубокой древности. В 1829 году, при снятии ризы в процессе реставрации, на иконе выявлена древняя славянская надпись — хвалебная песнь Богородице «Честнейшую Херувим».
Изначально икона была частью композиции Благовещения, отчего образ в древности назывался Корсунским Благовещенским. Икона относится к достаточно редкому типу изображения Богоматери без Младенца на руках.
Фигура Богоматери закрыта позолоченным серебряным платьем (около 1671г). Внизу иконы помещена большая серебряная вота в виде полумесяца с выгравированным текстом: «Благодарность Тебе приношу, Матерь Бога, за выслушивание моих просьб, и прошу Тебя, Мать милосердная, сохрани меня по-прежнему, в любви и опеке Твоей Пресвятой» (1849г). Нимб Богоматери окружен острыми лучами сияния со звездами.
_______________________________
|
Метки: Артемида Нумизматика |
Процитировано 1 раз
СВОБОДА |
ЛИБЕРТА
Богиня Свободы, как персонификация понятия «свобода», уходит корнями во времена Римской империи. Древнеримской богине Либерте (Libertas) поклонялись во время второй Пунической войны в храме, возведенном на Авентинском холме в Риме отцом Тиберия Гракха. Статуя в ее честь была установлена Клодием на месте дома Марка Тулия Цицерона после того, как дом был разрушен. После падения Сеяна, статуя Свободы была воздвигнута на форуме. Изображение Свободы известно главным образом по монетам времен империи: она представлялась в виде женщины, держащей в левой руке копье или скипетр, а в правой — пилос (πῖλος, pileus, шапка без полей). Дарующая пилос Либерта символизировала отпущение на волю, дарование свободы.


1. Римская республика. Консул Марк Юний Брут (Q. Servilius Caepio Marcus Junius Brutus). Денарий (AR 19mm, 3.92g), 54 до н.э. Av: бюст Либерты; LIBERTAS. Rv: Луций Юний Брут (первый консул Римской республики) в сопровождении ликторов; BRVTVS
• Луций Юний Брут (Lucius Iunius Brutus) — один из основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 до н.э.
• Ликторы — почетная охрана, сопровождавшая важных должностных лиц.
2. Римская республика. Рим. Монетарий Квинт Кассий Лонгин (Q. Cassius Longinus). Денарий (AR 19mm, 3.79g), 55 до н.э. Av: бюст Либерты; LIBERT / Q.CASS. Rv: храм Весты с курульным креслом (sella curulis) внутри, слева — урна, справа — табличка AC (Absolvo Condemno).


3. Римская республика. Рим. Монетарий Гай Кассий Лонгин (Сaius Cassius Longinus). Денарий (AR 19mm, 3.84g), 42 до н.э. Av: голова Либерты в диадеме, покрытая пеплосом; LEIBERTAS / C.CASSI IMP. Rv: кувшин и литуус; LENTVLVS SPINT (P.Lentulus Spinther, legate).
4. Римская республика. Рим. Монетарий Луций Лоллий Паликан (L.Lollius Palicanus). Денарий (AR 18mm, 4.17g), 45 до н.э. Av: бюст Либерты в диадеме; LIBERTATIS. Rv: вид ростры римского Форума, увенчанной скамьей трибуна; PALIKANVS


5. Римская Республика. Монетарий Гай Вибий Панса Цетрониан (Caius Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus). Денарий (AR 19mm, 3.34g), 48 до н.э. Av: бюст Либерты в лавровом венке; LIBERTATIS. Rv: Рома сидит на куче гальских щитов, справа крылатая Виктория держит над ее головой лавровый венок; C.VIBIUS.C.F.C.N
6. Римская республика. Рим. Монетарий Гай Кассий Лонгин (Сaius Cassius Longinus). Денарий (AR 18mm, 3.82g), 42 до н.э. Av: голова Либерты в диадеме; LEIBERTAS / C.CASSI IMP. Rv: кувшин и литуус; LENTVLVS SPINT (P.Cornelius Lentulus Spinther, legate).


7. Гордиан III (238-244). Рим. Сестерций (Æ 19.58g), 240г. (2nd officina, 7th emission, 2nd phase). Av: бюст Гордиана в лавровом венке; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: Либерта с пилосом и копьем; LIBERTAS AVG / S C
8. Элагабал (218-222). Рим. Сестерций (Æ 27mm, 18.59g), 221/2г. Av: бюст Элагабала в лавровом венке; IMP CAES MAVR ANTONINVS PIVS AVG; Rv: Либерта с пилосом и скипетром; LIBERTAS AVGVSTA / S C
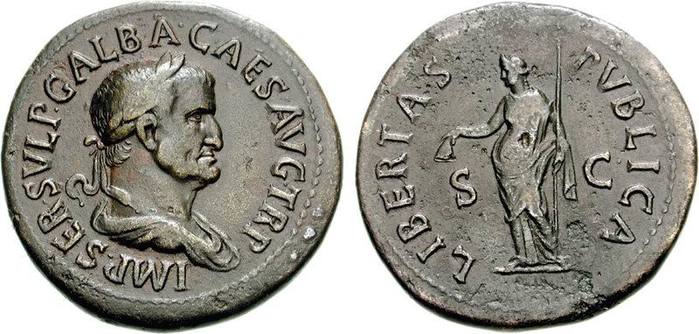

9. Гальба (Servius Galba Imperator Caesar Augustus, 68-69). Рим. Сестерций (Æ 27.03g), 68г. Av: бюст Гальбы в лавровом венке; IMP SER SVLP GALBA CAES AVG TR P. Rv: Либерта в диадеме, с пилосом и копьем; LIBERTAS PVBLICA / S C
10. Клавдий (41-54). Рим. Æ 28mm (12.38g), ок. 50-54гг. Av: бюст Клавдия; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P. Rv: Либерта с пилосом; LIBERTAS AVGVSTA / S C


11. Вителлий (Aulus Vitellius Germanicus, 69). Рим. Денарий (AR 3.03g), 69г. Av: бюст Вителлия в лавровом венке; A VITELLIVS GERMAN IMP TR P. Rv: Либерта в диадеме, с пилосом и скипетром; LIBERTAS RESTITVTA
12. Элагабал (218-222). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.19g), ок. 220г. Av: бюст Элагабала в лавровом венке; IMP ANTONINVS AVG. Rv: Либерта на троне, в диадеме, с пилосом и скипетром; LIBERTAS AVGVSTI
МАРИАННА
В 1793 году, во время Французской Революции, Собор Парижской Богоматери был превращен в «Храм разума», и статуи Девы Марии были заменены статуями Свободы. Богиня Свободы во Франции именовалась Марианной, и была также символом Французской республики.
Французской республики.
Национальное собрание Франции в сентябре 1792 года постановило, что новой печатью государства должно стать изображение стоящей женщины с копьем, на голове которой надет фригийский колпак. Этот головной убор отождествлялся с пилосом, шапкой времен Римской империи, который носили освобожденные рабы-вольноотпущенники. Таким образом, Марианна во фригийском колпаке, отождествляемая с Либертой древнего Рима, стала символом свободной Франции. И, довольно скоро, символ Свободы, набрав популярность, приобрел мировое значение, далеко шагнув за пределы Французской республики.
БОЛЬШАЯ ПЕЧАТЬ ФРАНЦИИ
Большая печать Франции — двусторонняя. На лицевой стороне изображена Свобода, представленная в облике богини Юноны. Свобода сидит на троне, облаченная в тогу, с семилучевой диадемой на голове. В ее правой руке — фасции, левой рукой она держит кормило корабля. На кормиле — изображение галльского петуха, опирающегося правой лапой на земной шар. У подножия трона стоит урна с литерами «S.U.», что значит: Suffrage Universel (всеобщее избирательное право). Слева, на заднем плане — сноп пшеницы, плуг и палитра. Справа, за корабельным рулем, — дубовые ветви. По краю печати, надпись: «RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEMOCRATIQUE UNE ET INDIVISIBLE» (Республика Французская демократическая, единая и неделимая). В нижней части печати выгравирована дата «24 FEV. 1848».
облаченная в тогу, с семилучевой диадемой на голове. В ее правой руке — фасции, левой рукой она держит кормило корабля. На кормиле — изображение галльского петуха, опирающегося правой лапой на земной шар. У подножия трона стоит урна с литерами «S.U.», что значит: Suffrage Universel (всеобщее избирательное право). Слева, на заднем плане — сноп пшеницы, плуг и палитра. Справа, за корабельным рулем, — дубовые ветви. По краю печати, надпись: «RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEMOCRATIQUE UNE ET INDIVISIBLE» (Республика Французская демократическая, единая и неделимая). В нижней части печати выгравирована дата «24 FEV. 1848».
На оборотной части печати изображен венок из лавровых и дубовых ветвей. Внизу венка — колосья пшеницы. Надпись внутри венка: «A NOM DU PEUPLE FRANÇAIS» (Именем французского народа). По краю печати, девиз: «LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ» (Свобода, равенство, братство).
История создания Большой печати Франции восходит ко Второй республике. На этот факт недвусмысленно указывает надпись в нижней части печати «24 FEV. 1848». Как известно, 24 февраля 1848 года было объявлено днем революции и датой создания Второй республики. 18 сентября 1848 года национальным собранием Франции издан указ о создании Большой печати Франции. Работа была поручена граверу Жак-Жану Барру.
Видимо, Жак-Жану Барру и принадлежит идея внести новую деталь в образ символа Свободы, заменив фригийский колпак лучевой короной. По крайней мере, образ Марианны-Либерти в радиальной короне на монетах ранее 1848 года не прослеживается. Хотя и после 1848 года Либерти все чаще изображалась по старинке, во фригийской шапке. Во-первых, традицию не так легко поломать, а во-вторых, «шапка дарующая свободу» — это и есть главный символ в персонификации образа Свободы. Как же от нее можно отказаться? Никак...
__________________________________________________________

США, Нью-Джерси. Монетный двор: Эйманн (Нью-Йорк).
Наградная серебряная медаль фермерского сообщества Нью-Джерси (AR 58mm, 103g), 1840г.
Av: Либерти, с Рогом изобилия и скипетром, на который надет фригийский колпак; на заднем плане — железнодорожный состав и пчелиный улей; у ног — сноп колосьев и серп; NEW JERSEY STATE AGRICULTURAL SOCIETY
Rv: венок; INDUSTRY BRINGS PROSPERITY / AWARDED TO
__________________________________________________________

Франция. Первая республика.
Медаль (Æ 40mm, 34.61g, 12h).
Av: Марианна с фасциями и копьем, на который надет фригийский колпак; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: дубовый венок; RESPECT / A / LA LOI
__________________________________________________________

Франция. 2 соля (CU 2 Sols Token 32mm, 18.57g, 6h). Выпуск 1791г., Сохо, Бирмингем (Les Frères Monneron).
Av: Либерти сидит на троне с копьем, на который надет фригийский колпак; сзади колонна с петухом; LIBERTE SOUS LA LOI / L’AN III DE LA LIBERTE
Rv: MONNERON FRERES NEGOCIANS A PARIS / 1791
__________________________________________________________

Мексика. Первая республика (1824-1835). Монетный двор: Мехико. 8 реалов (AR 31mm, 14.32g), 1850г.
Av: Либерти сидит на троне с копьем, на который надет фригийский колпак, опирается на скрижали, за спиной — фасции; LIBERTAD
Rv: перевязанные дубовая и лавровая ветви; OCTAVO DE REAL 1850 M
__________________________________________________________

США. Монетный двор: Филадельфия.
Серебряный доллар (AR 38mm, 26.82g), 1841г.
Av: Либерти сидит со скипетром, на который надет фригийский колпак, правая рука на щите с надписью LIBERTY; 1841
Rv: орел, со щитом на груди, держит в лапах стрелы и лавровую ветвь; UNITED STATES OF AMERICA / ONE DOL.
__________________________________________________________

Франция. Первая республика. Национальный Конвент.
Медаль (Æ 39mm, 41.08g, 12h), 1792-1795г.
Av: бюст Марианны, на плече скипетр с надетым на него фригийским колпаком; LIBERTE FRANÇOISE / L’AN I / DE LA R F
Rv: дубовый венок; A LA CONVENTION NATIONALE PAR LES ARTISTES REUNIS DE LYON PUR METAL DE CLOCHE FRAPPE EN MDCCXCII
__________________________________________________________

США. Серебряные 50 центов, 1818г.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке с надписью LIBERTY; 1818
Rv: орел, со щитом на груди, держит в лапах стрелы и лавровую ветвь; UNITED STATES OF AMERICA / 50 с.
__________________________________________________________

Франция. 10 франков (CU-NI 26mm, 7.20g), 1946г. Парижский монетный двор.
Av: голова Марианны во фригийском колпаке, украшенном лавровым венком; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: два колоса; 10 FRANCS / 1946 / LIBERTE EGALITE FRATERNITE
__________________________________________________________

США. Федеральный выпуск. Четверть доллара (Quarter Dollar AR 24mm, 6.27g), 1893г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке с надписью LIBERTY и лавровом венке; IN GOD WE TRUST 1893
Rv: орел со щитом на груди держит в лапах оливковую ветвь и стрелы; UNITED STATES OF AMERICA / QUARTER DOLLAR
__________________________________________________________

Франция. Третья республика. 1870-1940. Парижский монетный двор. 2 сантима (Æ 20mm, 2.01g), 1898г.
Av: бюст Марианны во фригийском колпаке; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: лавровая ветвь; 2 CENTIMES / 1898 / LIBERTE EGALITE FRATERNITE
__________________________________________________________

Республика Венесуэла. 1 сентаво (CU 30mm, 10.95g), 1852г.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке с надписью LIBERTAD; REPUBLICA DE VENEZUELA
Rv: перевязанные лавровые ветви; 1 CENTAVO 1852
__________________________________________________________

Республика Аргентина. 2 сентаво (CU 30mm, 10.09g), 1885г.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке; LIBERTAD DOS CENTAVOS
Rv: герб Аргентины; REPUBLICA ARGENTINA 1885
__________________________________________________________

Франция. Третья республика (1870-1940). Парижский монетный двор. 20 франков (AV 21mm, 6.43g), 1907г.
Av: голова Марианны во фригийском колпаке, украшенном дубовым венком; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: гальский петух; LIBERTE EGALITE FRATERNITE / 20 Fcs / 1907
__________________________________________________________

Франция. Вторая республика. 1848-1852. Парижский монетный двор. 20 франков (AV 21mm, 6.40g), 1851г.
Av: голова Марианны в венке из колосьев и дубовых листьев; слева — фасции, справа — лавровая ветвь; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: лавровая и дубовая ветви; 20 FRANCS / LIBERTE EGALITE FRATERNITE / A / 1851
__________________________________________________________

Франция. Вторая республика (1848-1852). 5 франков (Æ 54.56g), 1849г. Медальер Эмиль Рогат (Emile Rogat).
Av: голова Марианны во фригийском колпаке [сигнатура: E.ROGAT 1849]; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: лавровая и дубовая ветви; 5 FRANCS 1848 / LIBERTE EGALITE FRATERNITE
__________________________________________________________

США. Серебряный доллар Моргана (38mm, 26.73g), 1921г.
Av: бюст Либерти в диадеме с надписью LIBERTY, и фригийском колпаке; E PLURIBUS UNUM 1921.
Rv: орел держит в лапах стрелы и лавровую ветвь; UNITED STATES OF AMERICA / In God we trust / ONE DOLLAR
__________________________________________________________

Доминиканская республика. 5 франков (AR 37mm, 25.14g), 1891г. Парижский монетный двор.
Av: Либерти в диадеме с перьями и надписью LIBERTAD; CINCO FRANCOS 1891
Rv: герб Доминиканской республики; REPUBLICA DOMINICA GRAM 25 / LEI 900
__________________________________________________________

США. 3 доллара (AV 20mm, 5.00g), 1859г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: Либерти в индейской короне из перьев и надписью LIBERTY; UNITED STATES OF AMERICA
Rv: внутри венка из цветов и колосьев: 3 DOLLARS 1859
__________________________________________________________

США. 1 цент (CU-NI 19mm, 4.68g), 1859г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: Либерти в индейской короне из перьев и надписью LIBERTY; UNITED STATES OF AMERICA 1859
Rv: оливковый венок; ONE CENT
__________________________________________________________

США. 1 цент (Æ 29mm, 10.59g), 1855г.
Av: бюст Либерти в диадеме с надписью LIBERTY
Rv: лавровый венок; ONE CENT / UNITED STATES OF AMERICA
__________________________________________________________
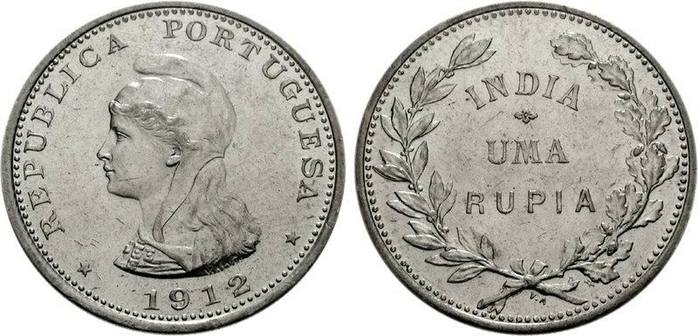
Португальская Индия. Первая Португальская республика (1910-1926). Рупия (AR 30mm, 11.60g), 1912г.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке; REPUBLICA PORTUGUESA 1912
Rv: между оливковой и дубовой ветвями: INDIA UMA RUPIA
__________________________________________________________

Республика Никарагуа. ½ сентаво (Æ 16mm, 2.44g), 1917г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: в треугольном поле: фригийский колпак в лучах, над цепью гор; REPUBLICA DE NICARAGUA 1917
Rv: оливковый венок; MEDIO CENTAVO DE CORDOBA
__________________________________________________________

Мексика. Первая республика (1824-1835). 8 реалов (AR 38mm, 26.99g), 1843г. Монетный двор: Чихуахуа, монетарий Родриго Гарсия (Rodrgio García).
Av: орел, сидящий на кактусе, удерживает в клюве змею; REPUBLICA MEXICANA
Rv: фригийский колпак с надписью LIBERTAD и расходящимися от него лучами; 8R Ca 1843 RG 10Ds 20Gs
__________________________________________________________

Мексика. Песо (AR 37mm, 27.25g), 1871г. Монетный двор: Мехико.
Av: орел, сидящий на кактусе, удерживает в клюве змею; REPUBLICA MEXICANA 1871.
Rv: фригийский колпак с надписью LIBERTAD и расходящимися от него лучами; ниже свиток (LEY), а также символы правосудия весы и меч; UN PESO / Mo M / 902,7
__________________________________________________________

Наполеон III (первый президент Французской республики, 1848-1852). Вторая Республика. 5 франков (AR 37mm, 20.65g), 1848г. Гравер Жан-Батист Фарошон (Jean-Baptiste Eugène Farochon).
Av: голова Марианны в лучевой короне; REPUBLIQUE FRANÇAISE / [сигнатура: E.FAROCHON]
Rv: между оливковой и дубовой ветвями 5 FRANCS 1848 / LIBERTE EGALITE FRATERNITE
__________________________________________________________

Наполеон III (1848-1852). Вторая республика. Франция, Париж. 5 франков (AR 37mm, 24.97g), 1848г.
Av: голова Марианны украшена венком в виде детей, держащихся за руки; вокруг головы — расходящиеся лучи; REPUBLIQUE FRANÇAISE
Rv: венок из лавровой и дубовой ветвей, ниже пшеничный сноп; 5 F / 1848 / LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
__________________________________________________________

Наполеон III (император, 1852-1870). Франция. Медаль «Всемирная выставка в Париже» (Zn 68mm, 123g), 1855г. Медальер Арман Огюст Какé (Armand Auguste Caqué).
Av: голова Наполеона III в венке из лавровых и дубовых листьев; NAPOLEON III EMPEREUR
Rv: Марианна, венчающая Искусство и Промышленность; EXPOSITION UNIVERSELLE / LA FRANCE COURONNE/ L’ART ET L’INDUSTRIE
__________________________________________________________

Луи-Филипп I (1830-1848). Франция. Медаль «Палата депутатов, сессия 1847г.» (Æ 52mm, 72.50g), 1847г. Медальер Л. Пети (Petit Louis-Michel).
Av: голова Луи-Филиппа в лаврово-дубовом венке; LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS / [сигнатура: PETIT F.].
Rv: Марианна, как персонификация Франции, со скрижалью законов, в кругу персонификаций Торговли, Земледелия, Науки и Искусств; CHAMBRE DES DEPUTES / SESSION 1847 / [сигнатура: PETIT INV. ET FECIT].
__________________________________________________________

Наполеон III (император, 1852-1870). Париж, Франция.
Медаль «Всемирная выставка 1855 года» (Æ 50mm, 61.00g), 1855г. Медальеры: Удине (E.A. Oudiné), Каке (А.А. Caqué).
Av: голова Наполеона III в венке из лавровых и дубовых листьев; NAPOLÉON III EMPEREUR / [сигнатура: E.A. OUDINÉ].
Rv: Марианна держит лавровые венки над женскими аллегориями, олицетворяющими промышленность и искусства; на пьедестале имперский орел; EXPOSITION UNIVERSELLE / LA FRANCE COURONNE L'ART ET L'INDUSTRIE / [сигнатура: CAQUÉ F].
__________________________________________________________

Французская Республика. Бронзовая медаль (Æ 72mm, 194.84g), 1948г. Медальер Удине Эжен-Андре (Oudiné Eugène-André).
Av: голова Марианны, украшенная лентой (с надписью CONCORDE) и венком из колосьев, цветов, оливковых и дубовых листьев; REPUBLIQUE FRANÇAISE / [сигнатура: E. A. OUDINÉ F.].
Rv: Марианна на троне с колосьями и факелом, в окружении Минервы и Геракла; L'ORDRE ET LA FORCE ETABLISSENT LA REPUBLIQUE FRANse / 24 FEVRIER 1848 / [сигнатура: E. A. OUDINÉ F.].
__________________________________________________________

Французская Республика. Mедаль «Военное министерство, авиационная связь» (Æ 68mm, 143g), 1870г. Медальер Удине Эжен-Андре (Oudiné Eugène-André).
Av: Марианна в лучевой короне, в левой руке — оливковая ветвь, правая рука держит скрижаль (CONSTITVTION / ART. I. / ART. II / ART. III), которая стоит на невысокой колонне с девизом LIBERT / EGALIT / FRATER; справа — плуг; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Rv: дубовый венок; MINISTÈRE DE LA GUERRE / COMMUNICATIONS AÉRIENNES / PRIX D'ENCOURAGEMENT OFFERT AUX COLOMBIERS CIVILS
__________________________________________________________

Французская Республика. Третья медаль «Возвращение государственных органов» (Æ 72mm, 188,3g), 1879г. Медальер Удине Эжен-Андре (Oudiné Eugène-André).
Av: Марианна в лучевой короне, в левой руке — оливковая ветвь, правая рука держит скрижаль (CONSTITVTION / ART. I. / ART. II / ART. III), которая стоит на невысокой колонне с девизом LIBERT / EGALIT / FRATER; справа — плуг; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Rv: дубовый венок; 19 JUIN 1879 / L’ASSEMBLÉE NATIONALE / VOTE / LA RENTRÉE A PARIS / DES POUVOIRS PUBLICS / LEVET
__________________________________________________________

Франция. Медаль (Æ 37mm, 20.00g) «Центральное сельскохозяйственное общество департамента Йонна» (Société Centrale d'Agriculture de l'Yonne). Гравер Бешер (J. von A. Bescher).
Av: Марианна с оливковой ветвью и лавровым ветком, в окружении детей; REPUBLIQUE FRANÇAISE / LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ / BESCHER
Rv: Венок с головами быка, барана и коня; SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DE L'YONNE
__________________________________________________________

Швейцария. Медаль в честь столетия Французской революции (Æ 68mm, 150.00g), 1948г. Медальер Базор (Bazor).
Av: Марианна с факелом и фасциями стоит на фоне своего изображения с Большой печати; 1848-1948.
Rv: кипарис на фоне восходящего солнца; RF / SUFFRAGE UNIVERSEL / LEGISLATION SOCIALE / ABOLITION DE L ́ESCLAVAGE
__________________________________________________________

Кохинхина (Cochinchine), Французский Индокитай.
1 сантим (CU 31mm, 9.93g), 1884г. Монетный двор: Париж.
Av: Марианна восседает на троне, опираясь на корабельный руль, к которому прислонен якорь; в правой руке держит фасции; на голове радиальная корона; слева колосящаяся пшеница; REPUBLIQUE FRANÇAISE / 1884.
Rv: 1 C / COCHINCHINE FRANÇAISE / POIDS 10 GR
__________________________________________________________

США. Бронзовая медаль к столетию Статуи Свободы (63mm, 112.00g), 1965г. Гравер Гаспарро (Frank Gasparro).
Av: статуя Свободы на фоне Нью-Йорка; LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD / CENTENNIAL OF THE STATUE OF LIBERTY / 1865-1965
Rv: FEDERAL HALL NATIONAL MEMORIAL / FIRST CAPITOL OF OUR COUNTRY
__________________________________________________________

США. Посеребренный доллар (Brass 38mm, 27.00g), 1986г.
Av: статуя Либерти, слева — музей иммиграции на острове Эллис (Ellis); LIBERTY / ELLIS ISLAND / GATEWAY TO AMERICA / IN GOD WE TRUST / 1986
Rv: горящий факел; UNITED STATES OF AMERICA / ONE DOLLAR
__________________________________________________________

США. Серебряная медаль в честь двухсотлетия Американской революции (AR 75mm, 268.10g), 1976г. Граверы Гаспарро (Frank Gasparro), Стивер (Edgar Zell Steever).
Av: статуя Либерти; 1776-1976 / LIFE LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS / [сигнатура: F GASPARRO].
Rv: герб США; AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL / WE THE PEOPLE
__________________________________________________________

Индокитайский союз (Union indochinoise, 1887-1954), колониальные владения Франции.
Пиастр (AR 39mm, 27.13g), 1887г. Монетный двор: Париж.
Av: Марианна восседает на троне, опираясь на корабельный руль, к которому прислонен якорь; в правой руке держит фасции; на голове радиальная корона; слева колосящаяся пшеница; REPUBLIQUE FRANÇAISE / 1887.
Rv: венок из дубовых и лавровых листьев; PIASTRE DE COMMERCE / INDO-CHINE FRANÇAISE / TITRE 0,900. POIDS 27,215 GR
__________________________________________________________

Французская Полинезия. Тихоокеанский франк (AL 23mm, 1.30g), 2008г. Монетный двор: Париж. Гравер Люсьен Базор (Lucien Georges Bazor).
Av: Марианна на троне с Рогом изобилия и лавровой ветвью в левой руке и факелом — в правой; фригийский колпак украшают крылья; REPUBLIQUE FRANÇAISE / I.E.O.M. 2008. [сигнатура: G.B.BAZOR].
Rv: POLYNESIE FRANÇAISE / 1 F.
__________________________________________________________

Куба. Первая республика (1902-1969). Песо (AR 37mm, 26.83g), 1939г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке и лавровом венке; PATRIA Y LIBERTAD 1939
Rv: герб Кубы UN PESO / REPUBLICA DE CUBA
__________________________________________________________

США. Серебряный доллар (AR 38mm, 26.68g), 1834г.
Av: голова Либерти в лучевой короне; LIBERTY / IN GOD WE TRVST / 1834.
Rv: орел держит в лапе оливковую ветвь, сидит на скале с надписью PEACE; UNITED STATES OF AMERICA / E PLURIBUS UNUM / ONE DOLLAR
__________________________________________________________

Коллекционная серебряная монета New Liberty Dollar (1 troy ounce 0.999 AR), частный выпуск.
Av: Либерти в лучевой короне, в виде диадемы с надписью LIBERTY; NEW LIBERTY DOLLAR / RIGHT TO CONTRACT / 2013
Rv: факел; $50 / PRIVATE INFLATION PROOF CURRENCY / FIFTY NEW DOLLARS
__________________________________________________________

США. Платиновые 100$ (Pt 33mm, 31.12g), 2016г. Монетный двор: Вест Пойнт.
Av: Либерти в лучевой короне; LIBERTY / 2016 / IN GOD WE TRUST / [сигнатура: E PLURIBUS UNUM]
Rv: Либерти с горящим факелом, слева — орел, справа — оливковое дерево; UNITED STATES OF AMERICA /.9995 PLATINUM 1 OZ / $100
__________________________________________________________

США. 1$ (Brass 26mm, 8.04g), 2007г. Монетный двор: Денвер.
Av: бюст Джорджа Вашингтона; GEORGE WASHINGTON / 1st PREZIDENT 1789-1797
Rv: Либерти с горящим факелом; $1 / UNITED STATES OF AMERICA
__________________________________________________________
Богиня Свободы, как персонификация понятия «свобода», уходит корнями во времена Римской империи. Древнеримской богине Либерте (Libertas) поклонялись во время второй Пунической войны в храме, возведенном на Авентинском холме в Риме отцом Тиберия Гракха. Статуя в ее честь была установлена Клодием на месте дома Марка Тулия Цицерона после того, как дом был разрушен. После падения Сеяна, статуя Свободы была воздвигнута на форуме. Изображение Свободы известно главным образом по монетам времен империи: она представлялась в виде женщины, держащей в левой руке копье или скипетр, а в правой — пилос (πῖλος, pileus, шапка без полей). Дарующая пилос Либерта символизировала отпущение на волю, дарование свободы.


1. Римская республика. Консул Марк Юний Брут (Q. Servilius Caepio Marcus Junius Brutus). Денарий (AR 19mm, 3.92g), 54 до н.э. Av: бюст Либерты; LIBERTAS. Rv: Луций Юний Брут (первый консул Римской республики) в сопровождении ликторов; BRVTVS
• Луций Юний Брут (Lucius Iunius Brutus) — один из основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 до н.э.
• Ликторы — почетная охрана, сопровождавшая важных должностных лиц.
2. Римская республика. Рим. Монетарий Квинт Кассий Лонгин (Q. Cassius Longinus). Денарий (AR 19mm, 3.79g), 55 до н.э. Av: бюст Либерты; LIBERT / Q.CASS. Rv: храм Весты с курульным креслом (sella curulis) внутри, слева — урна, справа — табличка AC (Absolvo Condemno).


3. Римская республика. Рим. Монетарий Гай Кассий Лонгин (Сaius Cassius Longinus). Денарий (AR 19mm, 3.84g), 42 до н.э. Av: голова Либерты в диадеме, покрытая пеплосом; LEIBERTAS / C.CASSI IMP. Rv: кувшин и литуус; LENTVLVS SPINT (P.Lentulus Spinther, legate).
4. Римская республика. Рим. Монетарий Луций Лоллий Паликан (L.Lollius Palicanus). Денарий (AR 18mm, 4.17g), 45 до н.э. Av: бюст Либерты в диадеме; LIBERTATIS. Rv: вид ростры римского Форума, увенчанной скамьей трибуна; PALIKANVS


5. Римская Республика. Монетарий Гай Вибий Панса Цетрониан (Caius Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus). Денарий (AR 19mm, 3.34g), 48 до н.э. Av: бюст Либерты в лавровом венке; LIBERTATIS. Rv: Рома сидит на куче гальских щитов, справа крылатая Виктория держит над ее головой лавровый венок; C.VIBIUS.C.F.C.N
6. Римская республика. Рим. Монетарий Гай Кассий Лонгин (Сaius Cassius Longinus). Денарий (AR 18mm, 3.82g), 42 до н.э. Av: голова Либерты в диадеме; LEIBERTAS / C.CASSI IMP. Rv: кувшин и литуус; LENTVLVS SPINT (P.Cornelius Lentulus Spinther, legate).


7. Гордиан III (238-244). Рим. Сестерций (Æ 19.58g), 240г. (2nd officina, 7th emission, 2nd phase). Av: бюст Гордиана в лавровом венке; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: Либерта с пилосом и копьем; LIBERTAS AVG / S C
8. Элагабал (218-222). Рим. Сестерций (Æ 27mm, 18.59g), 221/2г. Av: бюст Элагабала в лавровом венке; IMP CAES MAVR ANTONINVS PIVS AVG; Rv: Либерта с пилосом и скипетром; LIBERTAS AVGVSTA / S C
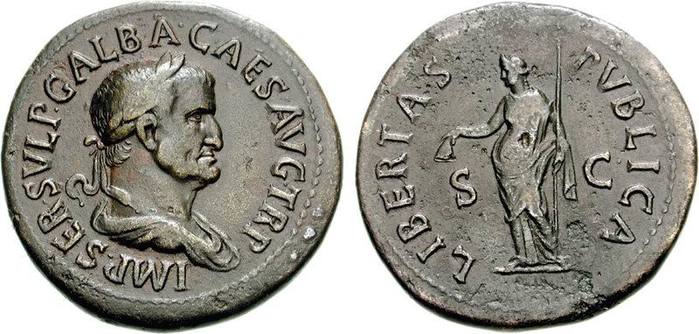

9. Гальба (Servius Galba Imperator Caesar Augustus, 68-69). Рим. Сестерций (Æ 27.03g), 68г. Av: бюст Гальбы в лавровом венке; IMP SER SVLP GALBA CAES AVG TR P. Rv: Либерта в диадеме, с пилосом и копьем; LIBERTAS PVBLICA / S C
10. Клавдий (41-54). Рим. Æ 28mm (12.38g), ок. 50-54гг. Av: бюст Клавдия; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P. Rv: Либерта с пилосом; LIBERTAS AVGVSTA / S C


11. Вителлий (Aulus Vitellius Germanicus, 69). Рим. Денарий (AR 3.03g), 69г. Av: бюст Вителлия в лавровом венке; A VITELLIVS GERMAN IMP TR P. Rv: Либерта в диадеме, с пилосом и скипетром; LIBERTAS RESTITVTA
12. Элагабал (218-222). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.19g), ок. 220г. Av: бюст Элагабала в лавровом венке; IMP ANTONINVS AVG. Rv: Либерта на троне, в диадеме, с пилосом и скипетром; LIBERTAS AVGVSTI
МАРИАННА
В 1793 году, во время Французской Революции, Собор Парижской Богоматери был превращен в «Храм разума», и статуи Девы Марии были заменены статуями Свободы. Богиня Свободы во Франции именовалась Марианной, и была также символом
 Французской республики.
Французской республики. Национальное собрание Франции в сентябре 1792 года постановило, что новой печатью государства должно стать изображение стоящей женщины с копьем, на голове которой надет фригийский колпак. Этот головной убор отождествлялся с пилосом, шапкой времен Римской империи, который носили освобожденные рабы-вольноотпущенники. Таким образом, Марианна во фригийском колпаке, отождествляемая с Либертой древнего Рима, стала символом свободной Франции. И, довольно скоро, символ Свободы, набрав популярность, приобрел мировое значение, далеко шагнув за пределы Французской республики.
БОЛЬШАЯ ПЕЧАТЬ ФРАНЦИИ
Большая печать Франции — двусторонняя. На лицевой стороне изображена Свобода, представленная в облике богини Юноны. Свобода сидит на троне,
 облаченная в тогу, с семилучевой диадемой на голове. В ее правой руке — фасции, левой рукой она держит кормило корабля. На кормиле — изображение галльского петуха, опирающегося правой лапой на земной шар. У подножия трона стоит урна с литерами «S.U.», что значит: Suffrage Universel (всеобщее избирательное право). Слева, на заднем плане — сноп пшеницы, плуг и палитра. Справа, за корабельным рулем, — дубовые ветви. По краю печати, надпись: «RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEMOCRATIQUE UNE ET INDIVISIBLE» (Республика Французская демократическая, единая и неделимая). В нижней части печати выгравирована дата «24 FEV. 1848».
облаченная в тогу, с семилучевой диадемой на голове. В ее правой руке — фасции, левой рукой она держит кормило корабля. На кормиле — изображение галльского петуха, опирающегося правой лапой на земной шар. У подножия трона стоит урна с литерами «S.U.», что значит: Suffrage Universel (всеобщее избирательное право). Слева, на заднем плане — сноп пшеницы, плуг и палитра. Справа, за корабельным рулем, — дубовые ветви. По краю печати, надпись: «RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEMOCRATIQUE UNE ET INDIVISIBLE» (Республика Французская демократическая, единая и неделимая). В нижней части печати выгравирована дата «24 FEV. 1848».На оборотной части печати изображен венок из лавровых и дубовых ветвей. Внизу венка — колосья пшеницы. Надпись внутри венка: «A NOM DU PEUPLE FRANÇAIS» (Именем французского народа). По краю печати, девиз: «LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ» (Свобода, равенство, братство).
История создания Большой печати Франции восходит ко Второй республике. На этот факт недвусмысленно указывает надпись в нижней части печати «24 FEV. 1848». Как известно, 24 февраля 1848 года было объявлено днем революции и датой создания Второй республики. 18 сентября 1848 года национальным собранием Франции издан указ о создании Большой печати Франции. Работа была поручена граверу Жак-Жану Барру.
Видимо, Жак-Жану Барру и принадлежит идея внести новую деталь в образ символа Свободы, заменив фригийский колпак лучевой короной. По крайней мере, образ Марианны-Либерти в радиальной короне на монетах ранее 1848 года не прослеживается. Хотя и после 1848 года Либерти все чаще изображалась по старинке, во фригийской шапке. Во-первых, традицию не так легко поломать, а во-вторых, «шапка дарующая свободу» — это и есть главный символ в персонификации образа Свободы. Как же от нее можно отказаться? Никак...
__________________________________________________________

США, Нью-Джерси. Монетный двор: Эйманн (Нью-Йорк).
Наградная серебряная медаль фермерского сообщества Нью-Джерси (AR 58mm, 103g), 1840г.
Av: Либерти, с Рогом изобилия и скипетром, на который надет фригийский колпак; на заднем плане — железнодорожный состав и пчелиный улей; у ног — сноп колосьев и серп; NEW JERSEY STATE AGRICULTURAL SOCIETY
Rv: венок; INDUSTRY BRINGS PROSPERITY / AWARDED TO
__________________________________________________________

Франция. Первая республика.
Медаль (Æ 40mm, 34.61g, 12h).
Av: Марианна с фасциями и копьем, на который надет фригийский колпак; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: дубовый венок; RESPECT / A / LA LOI
__________________________________________________________

Франция. 2 соля (CU 2 Sols Token 32mm, 18.57g, 6h). Выпуск 1791г., Сохо, Бирмингем (Les Frères Monneron).
Av: Либерти сидит на троне с копьем, на который надет фригийский колпак; сзади колонна с петухом; LIBERTE SOUS LA LOI / L’AN III DE LA LIBERTE
Rv: MONNERON FRERES NEGOCIANS A PARIS / 1791
__________________________________________________________

Мексика. Первая республика (1824-1835). Монетный двор: Мехико. 8 реалов (AR 31mm, 14.32g), 1850г.
Av: Либерти сидит на троне с копьем, на который надет фригийский колпак, опирается на скрижали, за спиной — фасции; LIBERTAD
Rv: перевязанные дубовая и лавровая ветви; OCTAVO DE REAL 1850 M
__________________________________________________________

США. Монетный двор: Филадельфия.
Серебряный доллар (AR 38mm, 26.82g), 1841г.
Av: Либерти сидит со скипетром, на который надет фригийский колпак, правая рука на щите с надписью LIBERTY; 1841
Rv: орел, со щитом на груди, держит в лапах стрелы и лавровую ветвь; UNITED STATES OF AMERICA / ONE DOL.
__________________________________________________________

Франция. Первая республика. Национальный Конвент.
Медаль (Æ 39mm, 41.08g, 12h), 1792-1795г.
Av: бюст Марианны, на плече скипетр с надетым на него фригийским колпаком; LIBERTE FRANÇOISE / L’AN I / DE LA R F
Rv: дубовый венок; A LA CONVENTION NATIONALE PAR LES ARTISTES REUNIS DE LYON PUR METAL DE CLOCHE FRAPPE EN MDCCXCII
__________________________________________________________

США. Серебряные 50 центов, 1818г.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке с надписью LIBERTY; 1818
Rv: орел, со щитом на груди, держит в лапах стрелы и лавровую ветвь; UNITED STATES OF AMERICA / 50 с.
__________________________________________________________

Франция. 10 франков (CU-NI 26mm, 7.20g), 1946г. Парижский монетный двор.
Av: голова Марианны во фригийском колпаке, украшенном лавровым венком; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: два колоса; 10 FRANCS / 1946 / LIBERTE EGALITE FRATERNITE
__________________________________________________________

США. Федеральный выпуск. Четверть доллара (Quarter Dollar AR 24mm, 6.27g), 1893г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке с надписью LIBERTY и лавровом венке; IN GOD WE TRUST 1893
Rv: орел со щитом на груди держит в лапах оливковую ветвь и стрелы; UNITED STATES OF AMERICA / QUARTER DOLLAR
__________________________________________________________

Франция. Третья республика. 1870-1940. Парижский монетный двор. 2 сантима (Æ 20mm, 2.01g), 1898г.
Av: бюст Марианны во фригийском колпаке; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: лавровая ветвь; 2 CENTIMES / 1898 / LIBERTE EGALITE FRATERNITE
__________________________________________________________

Республика Венесуэла. 1 сентаво (CU 30mm, 10.95g), 1852г.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке с надписью LIBERTAD; REPUBLICA DE VENEZUELA
Rv: перевязанные лавровые ветви; 1 CENTAVO 1852
__________________________________________________________

Республика Аргентина. 2 сентаво (CU 30mm, 10.09g), 1885г.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке; LIBERTAD DOS CENTAVOS
Rv: герб Аргентины; REPUBLICA ARGENTINA 1885
__________________________________________________________

Франция. Третья республика (1870-1940). Парижский монетный двор. 20 франков (AV 21mm, 6.43g), 1907г.
Av: голова Марианны во фригийском колпаке, украшенном дубовым венком; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: гальский петух; LIBERTE EGALITE FRATERNITE / 20 Fcs / 1907
__________________________________________________________

Франция. Вторая республика. 1848-1852. Парижский монетный двор. 20 франков (AV 21mm, 6.40g), 1851г.
Av: голова Марианны в венке из колосьев и дубовых листьев; слева — фасции, справа — лавровая ветвь; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: лавровая и дубовая ветви; 20 FRANCS / LIBERTE EGALITE FRATERNITE / A / 1851
__________________________________________________________

Франция. Вторая республика (1848-1852). 5 франков (Æ 54.56g), 1849г. Медальер Эмиль Рогат (Emile Rogat).
Av: голова Марианны во фригийском колпаке [сигнатура: E.ROGAT 1849]; REPUBLIQUE FRANCAISE
Rv: лавровая и дубовая ветви; 5 FRANCS 1848 / LIBERTE EGALITE FRATERNITE
__________________________________________________________

США. Серебряный доллар Моргана (38mm, 26.73g), 1921г.
Av: бюст Либерти в диадеме с надписью LIBERTY, и фригийском колпаке; E PLURIBUS UNUM 1921.
Rv: орел держит в лапах стрелы и лавровую ветвь; UNITED STATES OF AMERICA / In God we trust / ONE DOLLAR
__________________________________________________________

Доминиканская республика. 5 франков (AR 37mm, 25.14g), 1891г. Парижский монетный двор.
Av: Либерти в диадеме с перьями и надписью LIBERTAD; CINCO FRANCOS 1891
Rv: герб Доминиканской республики; REPUBLICA DOMINICA GRAM 25 / LEI 900
__________________________________________________________

США. 3 доллара (AV 20mm, 5.00g), 1859г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: Либерти в индейской короне из перьев и надписью LIBERTY; UNITED STATES OF AMERICA
Rv: внутри венка из цветов и колосьев: 3 DOLLARS 1859
__________________________________________________________

США. 1 цент (CU-NI 19mm, 4.68g), 1859г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: Либерти в индейской короне из перьев и надписью LIBERTY; UNITED STATES OF AMERICA 1859
Rv: оливковый венок; ONE CENT
__________________________________________________________

США. 1 цент (Æ 29mm, 10.59g), 1855г.
Av: бюст Либерти в диадеме с надписью LIBERTY
Rv: лавровый венок; ONE CENT / UNITED STATES OF AMERICA
__________________________________________________________
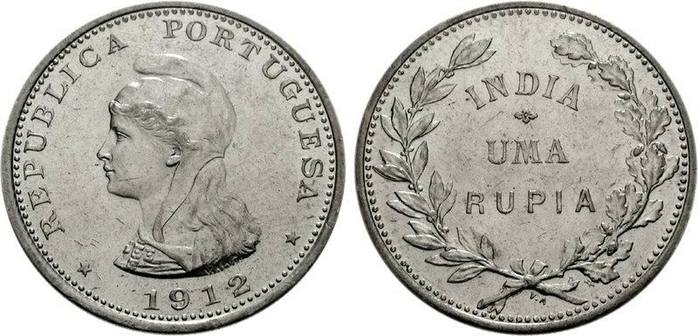
Португальская Индия. Первая Португальская республика (1910-1926). Рупия (AR 30mm, 11.60g), 1912г.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке; REPUBLICA PORTUGUESA 1912
Rv: между оливковой и дубовой ветвями: INDIA UMA RUPIA
__________________________________________________________

Республика Никарагуа. ½ сентаво (Æ 16mm, 2.44g), 1917г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: в треугольном поле: фригийский колпак в лучах, над цепью гор; REPUBLICA DE NICARAGUA 1917
Rv: оливковый венок; MEDIO CENTAVO DE CORDOBA
__________________________________________________________

Мексика. Первая республика (1824-1835). 8 реалов (AR 38mm, 26.99g), 1843г. Монетный двор: Чихуахуа, монетарий Родриго Гарсия (Rodrgio García).
Av: орел, сидящий на кактусе, удерживает в клюве змею; REPUBLICA MEXICANA
Rv: фригийский колпак с надписью LIBERTAD и расходящимися от него лучами; 8R Ca 1843 RG 10Ds 20Gs
__________________________________________________________

Мексика. Песо (AR 37mm, 27.25g), 1871г. Монетный двор: Мехико.
Av: орел, сидящий на кактусе, удерживает в клюве змею; REPUBLICA MEXICANA 1871.
Rv: фригийский колпак с надписью LIBERTAD и расходящимися от него лучами; ниже свиток (LEY), а также символы правосудия весы и меч; UN PESO / Mo M / 902,7
__________________________________________________________

Наполеон III (первый президент Французской республики, 1848-1852). Вторая Республика. 5 франков (AR 37mm, 20.65g), 1848г. Гравер Жан-Батист Фарошон (Jean-Baptiste Eugène Farochon).
Av: голова Марианны в лучевой короне; REPUBLIQUE FRANÇAISE / [сигнатура: E.FAROCHON]
Rv: между оливковой и дубовой ветвями 5 FRANCS 1848 / LIBERTE EGALITE FRATERNITE
__________________________________________________________

Наполеон III (1848-1852). Вторая республика. Франция, Париж. 5 франков (AR 37mm, 24.97g), 1848г.
Av: голова Марианны украшена венком в виде детей, держащихся за руки; вокруг головы — расходящиеся лучи; REPUBLIQUE FRANÇAISE
Rv: венок из лавровой и дубовой ветвей, ниже пшеничный сноп; 5 F / 1848 / LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
__________________________________________________________

Наполеон III (император, 1852-1870). Франция. Медаль «Всемирная выставка в Париже» (Zn 68mm, 123g), 1855г. Медальер Арман Огюст Какé (Armand Auguste Caqué).
Av: голова Наполеона III в венке из лавровых и дубовых листьев; NAPOLEON III EMPEREUR
Rv: Марианна, венчающая Искусство и Промышленность; EXPOSITION UNIVERSELLE / LA FRANCE COURONNE/ L’ART ET L’INDUSTRIE
__________________________________________________________

Луи-Филипп I (1830-1848). Франция. Медаль «Палата депутатов, сессия 1847г.» (Æ 52mm, 72.50g), 1847г. Медальер Л. Пети (Petit Louis-Michel).
Av: голова Луи-Филиппа в лаврово-дубовом венке; LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS / [сигнатура: PETIT F.].
Rv: Марианна, как персонификация Франции, со скрижалью законов, в кругу персонификаций Торговли, Земледелия, Науки и Искусств; CHAMBRE DES DEPUTES / SESSION 1847 / [сигнатура: PETIT INV. ET FECIT].
__________________________________________________________

Наполеон III (император, 1852-1870). Париж, Франция.
Медаль «Всемирная выставка 1855 года» (Æ 50mm, 61.00g), 1855г. Медальеры: Удине (E.A. Oudiné), Каке (А.А. Caqué).
Av: голова Наполеона III в венке из лавровых и дубовых листьев; NAPOLÉON III EMPEREUR / [сигнатура: E.A. OUDINÉ].
Rv: Марианна держит лавровые венки над женскими аллегориями, олицетворяющими промышленность и искусства; на пьедестале имперский орел; EXPOSITION UNIVERSELLE / LA FRANCE COURONNE L'ART ET L'INDUSTRIE / [сигнатура: CAQUÉ F].
__________________________________________________________

Французская Республика. Бронзовая медаль (Æ 72mm, 194.84g), 1948г. Медальер Удине Эжен-Андре (Oudiné Eugène-André).
Av: голова Марианны, украшенная лентой (с надписью CONCORDE) и венком из колосьев, цветов, оливковых и дубовых листьев; REPUBLIQUE FRANÇAISE / [сигнатура: E. A. OUDINÉ F.].
Rv: Марианна на троне с колосьями и факелом, в окружении Минервы и Геракла; L'ORDRE ET LA FORCE ETABLISSENT LA REPUBLIQUE FRANse / 24 FEVRIER 1848 / [сигнатура: E. A. OUDINÉ F.].
__________________________________________________________

Французская Республика. Mедаль «Военное министерство, авиационная связь» (Æ 68mm, 143g), 1870г. Медальер Удине Эжен-Андре (Oudiné Eugène-André).
Av: Марианна в лучевой короне, в левой руке — оливковая ветвь, правая рука держит скрижаль (CONSTITVTION / ART. I. / ART. II / ART. III), которая стоит на невысокой колонне с девизом LIBERT / EGALIT / FRATER; справа — плуг; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Rv: дубовый венок; MINISTÈRE DE LA GUERRE / COMMUNICATIONS AÉRIENNES / PRIX D'ENCOURAGEMENT OFFERT AUX COLOMBIERS CIVILS
__________________________________________________________

Французская Республика. Третья медаль «Возвращение государственных органов» (Æ 72mm, 188,3g), 1879г. Медальер Удине Эжен-Андре (Oudiné Eugène-André).
Av: Марианна в лучевой короне, в левой руке — оливковая ветвь, правая рука держит скрижаль (CONSTITVTION / ART. I. / ART. II / ART. III), которая стоит на невысокой колонне с девизом LIBERT / EGALIT / FRATER; справа — плуг; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Rv: дубовый венок; 19 JUIN 1879 / L’ASSEMBLÉE NATIONALE / VOTE / LA RENTRÉE A PARIS / DES POUVOIRS PUBLICS / LEVET
__________________________________________________________

Франция. Медаль (Æ 37mm, 20.00g) «Центральное сельскохозяйственное общество департамента Йонна» (Société Centrale d'Agriculture de l'Yonne). Гравер Бешер (J. von A. Bescher).
Av: Марианна с оливковой ветвью и лавровым ветком, в окружении детей; REPUBLIQUE FRANÇAISE / LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ / BESCHER
Rv: Венок с головами быка, барана и коня; SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DE L'YONNE
__________________________________________________________

Швейцария. Медаль в честь столетия Французской революции (Æ 68mm, 150.00g), 1948г. Медальер Базор (Bazor).
Av: Марианна с факелом и фасциями стоит на фоне своего изображения с Большой печати; 1848-1948.
Rv: кипарис на фоне восходящего солнца; RF / SUFFRAGE UNIVERSEL / LEGISLATION SOCIALE / ABOLITION DE L ́ESCLAVAGE
__________________________________________________________

Кохинхина (Cochinchine), Французский Индокитай.
1 сантим (CU 31mm, 9.93g), 1884г. Монетный двор: Париж.
Av: Марианна восседает на троне, опираясь на корабельный руль, к которому прислонен якорь; в правой руке держит фасции; на голове радиальная корона; слева колосящаяся пшеница; REPUBLIQUE FRANÇAISE / 1884.
Rv: 1 C / COCHINCHINE FRANÇAISE / POIDS 10 GR
__________________________________________________________

США. Бронзовая медаль к столетию Статуи Свободы (63mm, 112.00g), 1965г. Гравер Гаспарро (Frank Gasparro).
Av: статуя Свободы на фоне Нью-Йорка; LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD / CENTENNIAL OF THE STATUE OF LIBERTY / 1865-1965
Rv: FEDERAL HALL NATIONAL MEMORIAL / FIRST CAPITOL OF OUR COUNTRY
__________________________________________________________

США. Посеребренный доллар (Brass 38mm, 27.00g), 1986г.
Av: статуя Либерти, слева — музей иммиграции на острове Эллис (Ellis); LIBERTY / ELLIS ISLAND / GATEWAY TO AMERICA / IN GOD WE TRUST / 1986
Rv: горящий факел; UNITED STATES OF AMERICA / ONE DOLLAR
__________________________________________________________

США. Серебряная медаль в честь двухсотлетия Американской революции (AR 75mm, 268.10g), 1976г. Граверы Гаспарро (Frank Gasparro), Стивер (Edgar Zell Steever).
Av: статуя Либерти; 1776-1976 / LIFE LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS / [сигнатура: F GASPARRO].
Rv: герб США; AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL / WE THE PEOPLE
__________________________________________________________

Индокитайский союз (Union indochinoise, 1887-1954), колониальные владения Франции.
Пиастр (AR 39mm, 27.13g), 1887г. Монетный двор: Париж.
Av: Марианна восседает на троне, опираясь на корабельный руль, к которому прислонен якорь; в правой руке держит фасции; на голове радиальная корона; слева колосящаяся пшеница; REPUBLIQUE FRANÇAISE / 1887.
Rv: венок из дубовых и лавровых листьев; PIASTRE DE COMMERCE / INDO-CHINE FRANÇAISE / TITRE 0,900. POIDS 27,215 GR
__________________________________________________________

Французская Полинезия. Тихоокеанский франк (AL 23mm, 1.30g), 2008г. Монетный двор: Париж. Гравер Люсьен Базор (Lucien Georges Bazor).
Av: Марианна на троне с Рогом изобилия и лавровой ветвью в левой руке и факелом — в правой; фригийский колпак украшают крылья; REPUBLIQUE FRANÇAISE / I.E.O.M. 2008. [сигнатура: G.B.BAZOR].
Rv: POLYNESIE FRANÇAISE / 1 F.
__________________________________________________________

Куба. Первая республика (1902-1969). Песо (AR 37mm, 26.83g), 1939г. Монетный двор: Филадельфия.
Av: бюст Либерти во фригийском колпаке и лавровом венке; PATRIA Y LIBERTAD 1939
Rv: герб Кубы UN PESO / REPUBLICA DE CUBA
__________________________________________________________

США. Серебряный доллар (AR 38mm, 26.68g), 1834г.
Av: голова Либерти в лучевой короне; LIBERTY / IN GOD WE TRVST / 1834.
Rv: орел держит в лапе оливковую ветвь, сидит на скале с надписью PEACE; UNITED STATES OF AMERICA / E PLURIBUS UNUM / ONE DOLLAR
__________________________________________________________

Коллекционная серебряная монета New Liberty Dollar (1 troy ounce 0.999 AR), частный выпуск.
Av: Либерти в лучевой короне, в виде диадемы с надписью LIBERTY; NEW LIBERTY DOLLAR / RIGHT TO CONTRACT / 2013
Rv: факел; $50 / PRIVATE INFLATION PROOF CURRENCY / FIFTY NEW DOLLARS
__________________________________________________________

США. Платиновые 100$ (Pt 33mm, 31.12g), 2016г. Монетный двор: Вест Пойнт.
Av: Либерти в лучевой короне; LIBERTY / 2016 / IN GOD WE TRUST / [сигнатура: E PLURIBUS UNUM]
Rv: Либерти с горящим факелом, слева — орел, справа — оливковое дерево; UNITED STATES OF AMERICA /.9995 PLATINUM 1 OZ / $100
__________________________________________________________

США. 1$ (Brass 26mm, 8.04g), 2007г. Монетный двор: Денвер.
Av: бюст Джорджа Вашингтона; GEORGE WASHINGTON / 1st PREZIDENT 1789-1797
Rv: Либерти с горящим факелом; $1 / UNITED STATES OF AMERICA
__________________________________________________________
|
Метки: Либерти Марианна Нумизматика |
ГЕКАТА |
Сорита д’Эсте и Дэвид Рэнкайн
ГЕКАТА: ПОГРАНИЧНЫЕ ОБРЯДЫ
(Перевод Анны Блейз)
_________________________…ее перед всеми
Зевс отличил Громовержец и славный удел даровал ей:
Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря.
Был ей и звездным Ураном почетный удел предоставлен,
Более всех почитают ее и бессмертные боги.
Ибо и ныне, когда кто-нибудь из людей земнородных,
Жертвы свои принося по закону, о милости молит,
То призывает Гекату: большую он честь получает
Очень легко, раз молитва его принята благосклонно.
Шлет и богатство богиня ему: велика ее сила.
Долю имеет Геката во всяком почетном уделе
Тех, кто от Геи-Земли родился и от Неба-Урана,
Не причинил ей насилья Кронид и не отнял обратно,
Что от Титанов, от прежних богов, получила богиня.
Все сохранилось за ней, что при первом разделе на долю
Выпало ей из даров на земле, и на небе, и в море.
Чести не меньше она, как единая дочь, получает, —
Даже и больше еще: глубоко она чтима Кронидом.
Пользу богиня большую, кому пожелает, приносит.
Хочет — в народном собранье любого меж всех возвеличит.
Если на мужегубительный бой снаряжаются люди,
Рядом становится с теми Геката, кому пожелает
Дать благосклонно победу и славою имя украсить.
Возле достойных царей на суде восседает богиня.
Очень полезна она, и когда состязаются люди:
Рядом становится с ними богиня и помощь дает им.
Мощью и силою кто победит — получает награду,
Радуясь в сердце своем, и родителям славу приносит.
Конникам также дает она помощь, когда пожелает,
Также и тем, кто, средь синих, губительных волн промышляя,
Станет молиться Гекате и шумному Энносигею.
Очень легко на охоте дает она много добычи,
Очень легко, коль захочет, покажет ее — и отнимет.
Вместе с Гермесом на скотных дворах она множит скотину;
Стадо ль вразброску пасущихся коз иль коров круторогих,
Стадо ль овец густорунных, душой пожелав, она может
Самое малое сделать великим, великое ж — малым.
Так-то, — хотя и единая дочерь у матери, — все же
Между бессмертных богов почтена она всяческой честью.
Вверил ей Зевс попеченье о детях, которые узрят
После богини Гекаты восход многовидящей Эос.
Искони юность хранит она. Вот все уделы богини.
(Гесиод. Теогония, 411-452)
Богиня Геката входила в число важнейших божеств древнего мира. Зародившись во тьме доисторических времен, ее культ сохранялся на протяжении трех тысячелетий. Он пережил периоды греческой архаики, классики и эллинизма, Римскую и Византийскую империю и даже «темные века» Европы, ибо следы древнего поклонения этой богине обнаруживаются даже в эпоху Возрождения.
Геката была богиней рубежей, властительницей всех границ и переходных периодов в человеческой жизни. Кроме того, она почиталась как защитница, отвращающая зло и выводящая на верный путь, о чем свидетельствуют некоторые из ее многочисленных эпитетов. Тройственный облик Гекаты указывает на ее власть над тремя мирами: небом, морем и землей. Об архаических истоках ее культа свидетельствует то, что она изображалась с головами различных животных, каждое из которых символизирует одну из граней ее разностороннего характера.
Геката ассоциировалась с посвятительными церемониями ряда античных мистериальных культов — не только знаменитых Элевсинских мистерий, но и культа Деметры в Селинунте (Сицилия), а также мистерий, бытовавших в Аргосе и на греческих островах Самофракия и Эгина.
С именем Гекаты связывалось множество эпитетов, описывавших различные роли и качества, в которых она выступала в тот или иной период. Вот некоторые из наиболее известных ее именований:

• Хтония («подземная»),
• Дадофора («факелоносица»),
• Энодия («дорожная»),
• Клидофора («ключница»),
• Куротрофа («кормилица детей»),
• Фосфора («светоносная»),
• Пропола («спутница»),
• Пропилея («привратница»),
• Сотейра («спасительница»),
• Триформис («трехтелая»),
• Триодитис (богиня «трех дорог»).
Геката Пропилея («привратница») была хранительницей города, отвращающая зло от его стен и защищающая его жителей. Святилища ей устраивали не только при входе в города и храмы других божеств, но и перед частными домами. Небольшое святилище богини, установленное перед дверью дома, называлось «гекатейон».
Большой храм Гекаты располагался в городе Лагина в Карии (на территории современной Турции), где ежегодно проводилась церемония под названием «Шествие с ключом» (κλειδοσαγωγή). Сара Айлс Джонстон, автор книги «Геката Сотера», предполагает, что эта процессия была связана именно с Гекатой в ее роли Пропилеи — хранительницы врат. Кроме того, само название церемонии ассоциируется с эпитетом «Клидофора» (κλειδοφόρος), который эта богиня носила как хранительница ключей от подземного мира, выносящая решение о том, кто из усопших заслужил блаженное посмертие на Елисейских полях. В данном контексте она выступает как проводница души умершего на последнем этапе загробного странствия. А в посвященном ей орфическом гимне Геката именуется, ни много ни мало, «Ключницей Вселенной» (Орфический гимн Гекате, ок. I-III в. н.э.).
Ввиду столь важной роли, которую она играла в культовой жизни Лагины, можно предположить, что Геката была покровительницей этого города, подобно тому как Кибела покровительствовала всей Фригии, а Инанна — некоторым из древнейших шумерских городов.
К V веку до н.э. святилище Гекаты появилось при вратах города Милет, в пятидесяти милях к северу от Лагины, где культ этой богини установился примерно столетием раньше. В том же V веке до н.э. Гекате стали поклоняться в городе Афродисий, также располагавшемся неподалеку от Лагины. Роль хранительницы врат, прочно закрепившуюся за этой богиней, подтверждает греко-римский историк Плутарх, записавший в I веке н.э. историю о том, как один полководец поставил у ворот Коринфа военный трофей, а другой со смехом заметил, что это не подношение Аресу, а столб Гекате, — «ибо столбы Гекате ставились перед любыми воротами в том месте, откуда расходились дороги».
Во Фракии культ Гекаты набрал силу к V веку до н.э. Одно из самых ранних свидетельств поклонения этой богине во Фракии обнаруживается во фрагменте пеана древнегреческого поэта Пиндара, посвященного жителям города Абдеры и датируемого приблизительно серединой V века до н.э.:
Поскольку из многочисленных литературных источников известно, что в том же V веке до н.э. Гекате поклонялись и в Афинах, весьма вероятно, что культ ее очень быстро распространился по всему Эгейскому региону в конце VI — начале V столетий. Отдельные упоминания о ней встречаются в литературе и раньше — в «Теогонии» Гесиода (VIII в. до н.э.) и в гомеровом гимне «К Деметре» (VII в. до н.э.), но только в V столетии они становятся достаточно частыми и дают нам право утверждать, что теперь эта богиня приобрела в греческой культуре весьма значительную роль.
Но как проследить истоки культа Гекаты, зародившегося, несомненно, задолго до первого упоминания ее имени в «Теогонии» Гесиода в VIII веке до н.э.? Фон Рудлофф в своей книге «Геката в религии древних греков» высказывает предположение, что триада имен в одной из надписей, выполненных линейным письмом Б и относящихся к бронзовому веку, связаны именно с Гекатой и двумя другими богинями Элевсинского культа — Деметрой и Персефоной. Это имена «Ифимедея», «Пересва» и «Дивия», присутствующие в перечне божественных имен на глиняной табличке Tn316, обнаруженной в городе Пилосе на южном побережье Греции и датируемой XIII веком до н.э. Первое из них, теоретически, может быть вариантом имени Гекаты, поскольку та связана с Ифигенией, упомянутой под именем «Ифимеда» в гесиодовском «Каталоге женщин» (VIII в. до н.э.); второе предположительно происходит от того же корня, что и имя «Персефона», а третье может означать «светлая» или «богатая богиня» и представлять собой эпитет Деметры.
Еще одно указание на происхождение образа Гекаты дает ее связь со львами. Изображения Гекаты между двух львов не относятся к числу древнейших, но все же намекают на ближневосточные корни этой богини. Иконография Инанны, Астарты и Кибелы свидетельствует, что изображения богинь в сопровождении двух львов — весьма характерная для Ближнего Востока особенность. Впрочем, не следует забывать, что между двумя большими кошками изображалась также Артемида, поэтому упомянутые изображения Гекаты — в силу своего позднего появления — могут быть следствием синкретического слияния Гекаты с Артемидой.²
_________________________
[2] Теория о синкретичности Артемиды и Гекаты — ошибочная. Геката — отделившаяся от Артемиды ее хтоническая ипостась, именно поэтому их так трудно друг от друга отличить. Обеих богинь изображали в одинаковых коротких туниках и в сопровождении псов. Отличительным атрибутом Артемиды считается лук и колчан, хотя и Гекату также характеризуют как ночную «охотницу». Мало того, «Геката» — один из эпитетов Артемиды, означает «Далекоразящая» (этот же эпитет носит ее брат Аполлон).
Ещё один из эпитетов Артемиды — «Светоносная» (другой перевод, с греческого, этого эпитета — «Факелоносная»), и ее, в этой связи (как и Деметру), изображали с факелом, либо двумя факелами. Хотя, по наличию факелов, обычно, атрибутируют Гекату.
греческого, этого эпитета — «Факелоносная»), и ее, в этой связи (как и Деметру), изображали с факелом, либо двумя факелами. Хотя, по наличию факелов, обычно, атрибутируют Гекату.
Ἑκάτη, дор. Ἑκάτα (κᾰ) ἡ Геката
ἕκᾰτος 3 [ἑκάς] далекоразящий (эпитет Аполлона и Артемиды) Hom., Her., Aesch.
ἑκατηβόλος (ἑκᾰτη-βόλος), дор. ἑκατᾱβόλος 2 далеко мечущий.
Φωσφόρος ἡ (sc. θεά) Артемида Светоносная Arph.
Изображения Гекаты со львами встречаются на фризе храма в Лагине и на монетах; кроме того, в связи с этими животными богиня упоминается в более поздний период в «Халдейских оракулах» и греческих магических папирусах. В «Халдейских оракулах» Геката описывается как «владеющая львами», и от лица ее говорится: «Если будешь взывать ко Мне часто, узришь все сущее в образе льва» (Халдейские оракулы 18, 147).
В греческих магических папирусах мы находим «Молитву к Селене для любых заклинаний», по содержанию похожую, скорее, на обращение к Гекате. В этом тексте обнаруживается фраза: …«ты стоишь под защитой двух львов, поднявшихся на дыбы».
Как аргумент в пользу негреческого происхождения Гекаты приводился также тот факт, что в жертву ей приносили собак: эти животные использовались для подношений только иноземным богам, вошедшим в греческий пантеон (в частности, Аресу).
Исследуя археологические и литературные указания на истоки культа Гекаты, необходимо также учитывать происхождение, приписывавшееся ей в разные периоды в письменных изложениях мифов. В «Теогонии» Гесиода родителями Гекаты называются богиня Астерия (Ἀστερία, «Звездная») и ее супруг, титан Перс (Πέρσης, «Разрушитель»):
Астерия ассоциировалась с ночным небом — не только как покровительница астрологии, но и как подательница вещих снов. В храме Астерии на острове Делос практиковалась инкубация — обычай оставаться в святилище на ночь, чтобы получить пророческий сон. По-видимому, эту связь с оракулами и сновидениями Астерия передала своей дочери Гекате по наследству. Сестрой Астерии была Лето, родившая от Зевса божественных близнецов Артемиду и Аполлона, которым Геката приходилась, соответственно, двоюродной сестрой. Впоследствии образы Гекаты и Артемиды сблизились очень тесно и даже слились воедино.
В гомеровом гимне «К Деметре» (VII в. до н.э.) использована та же версия происхождения Гекаты, что и в «Теогонии»: богиня описывается здесь как «Персеева дочерь, нежная духом Геката, с блестящей повязкою дева».
Эту версию, наиболее распространенную из всех, поддерживало большинство авторов, вплоть до Псевдо-Аполлодора, приводящего ее в своей «Мифологической библиотеке» (II в. н.э.), и Ликофрона (III в. н.э.), упоминающего Гекату как «девственную дочь Персея, Бримо Триморфос». Эпитеты «Бримо» («гневная» или «грозная») и «Триморфос» («трехтелая» или «имеющая три обличья») применялись к Гекате часто. Эта богиня устойчиво ассоциировалась с числом три, играющим важную роль в ее культе и связанных с нею магических обрядах:
В схолиях к поэме Аполлония Родосского «Аргонавтика» о родителях Гекаты приводятся различные мнения. Утверждается, что в орфических гимнах она названа дочерью Део (Деметры), у Вакхилида — дочерью Никты (Ночи), у Мусея — дочерью Зевса и Астерии, а также что Ферекид считает отцом Гекаты Аристея.
Эти разноречивые сведения в действительности связаны между собой более тесно, чем может показаться на первый взгляд. То обстоятельство, что в орфических гимнах Геката именуется дочерью Деметры, представляется вполне естественным в свете того, что гомеров гимн «К Деметре» использовался в орфических мистериях. Геката совершенно логично вводится в семью богинь, занимающих центральное место среди сил подземного царства и, следовательно, играющих ключевую роль в переселении душ — важнейшей теме орфических мистерий.
Никта (Ночь) отождествлялась с Астерией, ибо что такое ночь, как не само звездное небо? Никта была одной из первозданных сил вселенной, от которых произошли боги. Роль Зевса как отца Гекаты также не вызывает удивления: во-первых, он породил и многих других богов, а во-вторых, он наряду с Гекатой играет важнейшую роль в «Халдейских оракулах».
Более любопытна версия, по которой отцом Гекаты был Аристей — бог, научивший людей использовать целебные травы, разводить пчел, добывать мед и варить медовуху, выращивать оливки и делать сыр. Обычно он считается сыном Аполлона и нимфы Кирены, хотя у Вакхилида его родителями названы Гея (Земля) и Уран (Небо).
Во время расцвета Рима, Геката часто упоминается в качестве персонажа разных мистериальных культов, как, например, на римской посвятительной надписи IV века н.э.:
Из другой римской надписи того же периода явствует, что с Гекатой связывался некий мистериальный культ, подобный мистериям индо-иранского бога Митры, фригийской богини Кибелы и элевсинских божеств. Здесь посвященной нескольких мистериальных культов именуется жрица Паулина:
Наиболее тесно с Гекатой связывались другие хтонические божества (Гермес, Аид, Персефона и Гея), а также Зевс, Рея, Деметра, Митра, Кибела и солнечные боги Гелиос и Аполлон. Имена хтонических богов — Гермеса, Аида, Персефоны и Геи — также чаще прочих встречаются на дефиксионах (табличках с проклятиями), а Зевс и Рея фигурируют в «Халдейских оракулах» (причем Зевс — в качестве центрального божества).
С течением времени с Гекатой частично или полностью отождествились некоторые другие богини — такие, как Бримо, Деспония, Энодия, Генетиллида, Котида, Кратеида и Куротрофа. Кроме того, ее стали сближать, а нередко и отождествлять с такими богинями, как Артемида, Селена, Мена, Персефона, Физида, Бендида, Бона Деа, Диана, Эрешкигаль и Исида.
Нередко Геката ассоциировалась с Гермесом, поскольку из всех представителей мужской части греческого пантеона он был наиболее тесно связан с идеями рубежа и порога. На дефиксионах Гермес Хтоний часто упоминается вместе с Гекатой Хтонией. Статуя Гермеса Пропилейского, стоявшего, по сообщению Павсания, у входа в афинский акрополь, выполняла ту же защитную функцию, что и изображения Гекаты Пропилеи. А в связывающем заклинании из греческого магического папируса (PGM III. 1-164) имена двух этих божеств даже соединяются в единое имя Гермеката (Ἑρμεκάτη).
Также в связи с Гекатой в различных сюжетах фигурирует Гелиос. В гомеровом гимне «К Деметре» Гелиос — единственный, кто наряду с Гекатой слышит крик похищаемой Персефоны. Сближены эти два божества и во фрагменте гимна из утраченной пьесы Софокла «Зельекопы» (V век до н.э.):
По числу упоминаний в греческих магических папирусах Гелиос (иногда отождествляемый с Аполлоном) занимает первое место среди богов, а Геката — среди богинь. Кроме того, Гелиос и Геката упоминаются (хотя и по отдельности) в различных источниках как родители волшебниц Кирки и Медеи. По одной из версий, Гелиос был дедом Гекаты, которая, в свою очередь, родила двух упомянутых чародеек:
В «Аргонавтике» Медея призывает Гелиоса и Гекату (Персеиду, т.е. дочь Перса) в свидетели своей клятвы:
Зевс также устойчиво ассоциируется с Гекатой — еще со времен «Теогонии», где
Некоторые источники называют Зевса ее отцом. Вдвоем же Зевс и Геката составляют центральную пару божеств «Халдейских оракулов»: Геката выступает как посредница, Сотера («спасительница»), несущая божественное влияние верховного бога, Зевса, во все миры и всем живым созданиям.
Иногда Геката отождествляется с матерью чудовищной Скиллы — морской богиней Кратеидой,³ а иногда и с самой Скиллой. Слияние этих персонажей объясняется, среди прочего, тем, что Кратеида, как и Геката, носила эпитет Скилакагетис («Предводительница собак»). В «Аргонавтике» Гера, покровительница Ясона, просит морскую богиню Фетиду уберечь аргонавтов:
[3] Κραταιΐς (-ΐδος) ἡ Кратаида, мать Скиллы Hom.
ГЕКАТА В ЭЛЕВСИНЕ
Элевсин был для Древней Греции тем же, чем впоследствии для Европы стал Ватикан: невероятно влиятельным и могущественным религиозным центром. В Элевсине поддерживался мистериальный культ, включавший Великие и Малые мистерии, в основе которых лежал миф о богине плодородия Деметре и ее дочери Персефоне. Посвящение в Элевсинские таинства считалось исключительно важным как с общественной, так и с духовной точки зрения: оно не только придавало посвященному более высокий статус, но и, как полагали, обеспечивало счастливую загробную жизнь в подземном мире, царицей которого была Персефона.
Культ Гекаты — наряду с культами Деметры и Персефоны — тесно переплетался с Элевсинскими мистериями. Ученый II века до н.э. Аполлодор Афинский в своей «Хронике» (III.XIV.7) сообщает, что после смерти афинского царя Эрихтония на престол взошел его сын Пандион, в царствование которого Деметра пришла в Аттику и была гостеприимно принята царем Элевсина Келеем. На основании этого упоминания пришествие Деметры в Элевсин относили к периоду 1462-1432 до н.э.
Далее в той же «Хронике» утверждается, что первые мистерии в Элевсине состоялись в правление царя Эрехтея, около 1409 до н.э. Таким образом, если участие Гекаты в Элевсинских мистериях не является позднейшей интерполяцией, если эта богиня присутствовала в них с самого начала, это свидетельствует о том, что в Греции она была известна уже в XV в. до н.э., за семь столетий до первого письменного упоминания ее имени (в «Теогонии»).
Связь Гекаты с Элевсинскими мистериями сбросить со счетов невозможно. Несмотря на все разнообразие теорий и домыслов о характере таинств и ритуалов, совершавшихся в Великих и Малых мистериях, остается бесспорным одно, а именно — что Элевсин был чрезвычайно важным духовным центром. Элевсинские жрецы владели огромными участками земли и были невероятно богаты; их политическое влияние простиралось на весь известный эллинам мир. Археологические находки свидетельствуют, что святилище в Элевсине могло существовать уже около 1500 года до н.э., подтверждая тем самым датировку из «Хроники» Аполлодора.
Согласно греческому географу Павсанию, меньший по размерам храм, стоявший у входа в главное святилище, был посвящен Артемиде Пропилее и морскому богу Посейдону. Между тем «Пропилея» — «Привратница» — это один из главных эпитетов Гекаты, и не исключен, что в действительности храм был посвящен не Артемиде, а Гекате и Посейдону. Тем более что Артемида не упоминается с этим эпитетом ни в каких других источниках и не связана с мистериями Персефоны и Деметры, составлявшими элевсинский культ.
Геката, напротив, ассоциировалась в других источниках (например, в той же «Теогонии») с Посейдоном и, кроме того, в жертву ей нередко приносили рыбу. Еще одно свидетельство в пользу этой гипотезы обнаруживается на вазе, найденной при раскопках на месте малого элевсинского святилища. На ней изображена бегущая дева с двумя факелами в руках, которую большинство современных исследователей отождествляют с Гекатой.
Гомеров гимн «К Деметре» — это, по сути, канонический текст элевсинского культа: в нем излагается миф о похищении Персефоны. Напомним читателям этот сюжет, чтобы прояснить, какую роль сыграла в нем Геката.
Аид, бог подземного мира, был одинок на своем троне. Чтобы скрасить одиночество брата, Зевс, владыка богов, дозволил ему похитить свою дочь Персефону и взять ее в жены. Тогда Аид замыслил ловушку для юной девы, и богиня земли Гея вырастила по его просьбе прекрасный цветок нарцисса. Собирая цветы на Нисейской равнине с другими юными богинями, Персефона заметила нарцисс, росший в стороне, и направилась к нему, отделившись от подруг. Но тут Аид вырвался из-под земли на своей колеснице, схватил Персефону и умчал ее в подземное царство. Единственными свидетелями похищения оказались Геката, которая услышала из своей пещеры крик Персефоны, и Гелиос, бог солнца, видевший с неба все, что произошло.
Персефона тщетно взывала из-под земли к своей матери, а Деметра столь же тщетно искала дочь по всей земле. Так продолжалось девять дней, а на десятый Геката предстала перед Деметрой, поведала, что слышала отчаянный зов Персефоны, и предложила выяснить у Гелиоса имя похитителя. Гелиос рассказал все, что видел, добавил, что подлинным виновником происшедшего был сам Зевс, и попытался убедить Деметру, что владыка подземного мира — достойный жених для ее дочери. Однако Деметра осталась безутешной. В горе она скиталась по земле, изменив свой облик, пока, наконец, не пришла в Элевсин, где была принята во дворце и стала кормилицей Демофона, сына царицы Метаниры.
Деметра отказывалась от пищи и питья, до тех пор пока служанка Ямба не развеселила ее непристойными шутками. Тогда Метанира поднесла богине вина, сдобренного медом, но Деметра отвергла его, велев вместо вина поднести ей напиток под названием кикейон — смесь ячменя с водой и полеем (болотной мятой). Этот напиток впоследствии стал обрядовым в Элевсинских таинствах.
Деметра вскармливала младенца-царевича амброзией и каждую ночь тайно закаляла его в огне, чтобы сделать бессмертным. Но однажды царица Метанира застала ее за этим занятием и в ужасе вскрикнула, из-за чего обряд прервался и продолжить его было уже невозможно. Деметра открыла царице свою божественную сущность и сказала, что теперь Демофон останется смертным, как любой другой человек. Затем она велела воздвигнуть ей храм в Элевсине и справлять таинства в ее честь. Когда храм был построен, Деметра поселилась в нем и на целый год сделала землю бесплодной: урожай не взошел, и люди тяжко страдали и умирали от голода.
Увидев с Олимпа бедствия, постигшие человечество, Зевс послал к Деметре свою вестницу, богиню Ириду. Деметра не откликнулась на зов; тогда все остальные боги стали приходить к ней с дарами, умоляя вернуться на Олимп, но Деметра отвечала, что не сдвинется с места и не снимет бесплодие с земли, пока ей не возвратят дочь.
Зевс вынужден был отправить Гермеса в подземное царство, и тот уговорил Аида отпустить Персефону. Но перед тем, как расстаться с женой, Аид дал ей съесть несколько зерен граната, из-за чего Персефона оказалась привязана к подземному миру и обречена возвращаться в него снова и снова. Тем не менее, на время она воссоединилась с матерью; их обеих радостно встретила Геката, приветствовавшая Персефону в мире живых и ставшая ее проводницей в ежегодном путешествии под землю. Ибо Зевс объявил, что Персефона отныне обязана проводить треть года в царстве мертвых, со своим мужем, а две трети — на земле, с матерью. Поэтому на третью часть года земля всякий раз становится бесплодной: Деметра вновь оплакивает разлуку с дочерью.
В гомеровом гимне «К Деметре» Геката заключает Персефону в объятия и далее именуется буквально ее «предшественницей» (πρόπολος) и «последовательницей» (ὀπάων). Это не столько описание функций Гекаты, сколько указание на ее положение: при нисхождении Персефоны в подземное царство Геката шествует перед ней, а при возвращении на землю — позади нее, чтобы уберечь ее от любых опасностей. Несмотря на то, что на третью часть года Персефона принимает на себя функции хтонической царицы мертвых, на протяжении остальных двух третей она вновь становится кроткой и благодатной богиней, шествующей по земле. Поэтому в своих путешествиях в подземный мир и обратно она нуждается в Гекате как провожатой и защитнице.
Деметра была тесно связана с Гекатой не только в Элевсинских мистериях: известны другие храмы Деметры, в которых имелось святилище для Гекаты, выступавшей как стражница таинств, — храмы в Селинунте (Сицилия) и на острове Самофракия.
храмы в Селинунте (Сицилия) и на острове Самофракия.
В схолиях к «Аргонавтике» Деметра названа матерью Гекаты. Это можно истолковать как еще одно звено сложной цепи взаимосвязей между Гекатой, Деметрой и Исидой. Деметра часто отождествлялась с Исидой, а Исида, в свою очередь, — с Гекатой. Геката и Деметра связывались друг с другом в контексте Элевсинских мистерий. Деметра объединяется с Исидой в «Истории» Геродота (V в. до н.э.) и во многих более поздних текстах, таких как «Историческая библиотека» Диодора Сицилийского (I в. до н.э.) или «Моралии» Плутарха (II в. н.э.).
Дополнительный свет на тайны Элевсина проливают золотые вакхические погребальные таблички, относящиеся к периоду с V века до н.э. по II век н.э. В текстах этих табличек — погребальных даров посвященным в орфические мистерии — подчеркиваются и важная роль Гекаты в Элевсинских таинствах, и взаимосвязанность богинь, которым поклонялись в Элевсине. Бримо (обычный эпитет Гекаты) в вакхических табличках отождествляется с двумя другими элевсинскими богинями — Деметрой и Персефоной.
В вазописи Геката изображалась стоящей у дверей святилища с двумя факелами в руках, из чего следует, что основной ее функцией в Элевсинских мистериях была роль проводницы (πρόπολος). Можно предположить, что жрицы Гекаты провожали соискателей через лабиринт подземных пещер и переходов, освещая им путь двумя факелами. Климент Александрийский сообщает, что далее разыгрывалась некая мистическая драма; из его описания можно сделать вывод, что перед соискателями ритуальным образом воспроизводился миф о похищении Персефоны как тот изложен в гомеровом гимне «К Деметре»:
Другой христианский автор, африканец Лактанций, обращенный язычник, подтверждает предположение о важной обрядовой роли жриц-факелоносиц. В своем трактате «Божественные установления» (IV в.), он пишет, подразумевая ту же мистическую драму, что и Климент:
С функциями Дадофоры (Δαδοφορα, «факелоносица»), освещающей путь, связаны и такие эпитеты Гекаты, как Фосфора (Φωσφόρα, «светоносная») и Пирфора (Πυρφόρα, «огненосная»). Указание на эту же роль встречается в одной недатированной схолии, где о Гекате и Аполлоне говорится, что они «озаряют дороги светом: он — днем, она же — ночью». Впоследствии огонь ее факелов превратился в пламя звездных сфер и «умный» огонь «Халдейских оракулов».
_______________________________
___________
Авторы статьи вплотную подходят к вопросу (но не акцентируются на нем): а не было ли изначально триморфное изображение Гекаты — скульптурной композицией трех богинь Деметры, Персефоны и Гекаты? Ведь, древнейшие статуи Гекаты имеют мономорфный характер, о чем немало свидетельств.
В поэме Лукана «Фарсалия» (I в. н.э.) фессалийская колдунья Эрихто взывает к Персефоне, упоминая при этом Гекату как свою богиню-покровительницу:
В Примечаниях к поэме дается вариант персонификации трех форм Гекаты, как владычицы на небе, на земле и под землей: соответственно, Селена, Артемида и Персефона. Но Артемида — это та же Селена, богиня Луны. Поэтому, если рассматривать Персефону как «третью Гекату», то, однозначно, две другие персонификации — это Артемида-Геката (Луна) и Деметра, богиня плодородия. Первая — владычица на небе, вторая — на земле.
Мало того, как упоминается в статье, в схолиях к «Аргонавтике» Деметра напрямую названа матерью Гекаты. Прокл, повествуя об орфических воззрениях, называет Деметру матерью и Коры, и Гекаты, в то же время отмечая тождественность Гекаты и Артемиды:
Исходя из этого, просто напрашивается предположение, что изначально «триморфная» скульптурная композиция подразумевала под собой троицу женских богинь, задействованных в элевсинских мистериях. Элевсин имел огромное влияние не только в Греции, но и далеко за ее пределами. Культовые скульптуры в виде троицы богинь, вероятно, экспортировались в достаточно далекие от Элевсина области. Но попав в другую культуру, при отсутствии понимания мистериального смысла «троицы», композиция из трех богинь, очевидно, превратилась в трехипостасную богиню. Культ Артемиды в Малой Азии был весьма популярен. Поэтому неудивительно, что именно Артемида-Геката «узурпировала» триморфность с дальнейшим развитием образа, на базе местных «представлений о прекрасном», преимущественно, в сторону хтоничности и, где-то даже, демонизации. В то время как в Греции «в древние времена Геката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению коней, охраняла детей и юношей, даровала победу в состязаниях, в суде, на войне» (в общем, полный функционал Артемиды), и это при наличии полного отсутствия в древних источниках свидетельств о полиморфности Гекаты…
имел огромное влияние не только в Греции, но и далеко за ее пределами. Культовые скульптуры в виде троицы богинь, вероятно, экспортировались в достаточно далекие от Элевсина области. Но попав в другую культуру, при отсутствии понимания мистериального смысла «троицы», композиция из трех богинь, очевидно, превратилась в трехипостасную богиню. Культ Артемиды в Малой Азии был весьма популярен. Поэтому неудивительно, что именно Артемида-Геката «узурпировала» триморфность с дальнейшим развитием образа, на базе местных «представлений о прекрасном», преимущественно, в сторону хтоничности и, где-то даже, демонизации. В то время как в Греции «в древние времена Геката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению коней, охраняла детей и юношей, даровала победу в состязаниях, в суде, на войне» (в общем, полный функционал Артемиды), и это при наличии полного отсутствия в древних источниках свидетельств о полиморфности Гекаты…
МАГИЧЕСКОЕ ЗАКЛИНАНИЕ
[Tr.: E.N. O'Neil]


«Приди ко мне, о возлюбленная госпожа, трехликая Селена (Σελήνη). Любезно услышь мои священные молитвы. Украшение ночи, юное, приносящее свет смертным, дитя утра, едущая на могучих быках. О, царица, управляющая колесницей наравне с Гелиосом, кто с тройными формами тройного изящества радостно танцует среди звезд [отождествление с Харитами (Χάριτες), тремя богинями изящества (χάρις) и грации]. Ты — правосудие и «нить Мойр» (μοῖρα, «судьба»), в трех лицах: Клото (Κλωθώ, «Пряха») и Лахес (Λάχεσις, «Рок»), и Атропос (Ἄτροπος, «Неотвратимая»). Ты — Тисифона (Τισιφόνη, «мстительница за убийство»), Мегера (Μέγαιρα, «ограничивающая»), Аллекто (Ἀλληκτώ, «неукротимая»), многоморфная, ты держишь в руках своих грозные, темные факелы, ты отверзаешь все замки́. Ты смахиваешь локоны ужасных змей со своего чела. Твой голос подобен бычьему рёву. Твое тело, ниже спины, подобно змеиному, покрыто чешуей и неразделимо. Ночная пророчица, быколикая, любящая одиночество, быкоглавая, волоокая, твой голос подобен лаю псов. Ты скрываешь свои львиные голени и волчьи лодыжки. Свирепые псы любимы тобой, и они отвечают тебе тем же. Не счесть имен твоих: Мена (Μήνη, «луна»); рассекающая стрелами воздух Артемида; Персефона, поражающая оленя. Освещающая ночь Селена троеглавая и троеликая, троешеяя и троегласая, богиня трех путей, несущая неугасимый пылающий огонь в трех светильниках, хранительница перекрестков, управительница тремя декадами. Призываю тебя, будь милостива и добра ко мне, внемли, защитница и покровительница всего мира ночью, перед кем демоны дрожат от страха и трепещут бессмертные боги. Богиня, в чьей силе возвысить человека, дающая справедливое потомство, призываемая многими именами, волоокая, рогатая, мать богов и людей. Природа, мать всего сущего. Ты восходишь на Олимп и нисходишь в необъятную бездну. Начало и конец — ты едина и одна управляешь всем. Все происходит от тебя, и к тебе все возвращается. Охранительница своих святилищ, ты носишь цепи Великого Кроноса, вечные и несокрушимые, в твоих руках — золотой скипетр. Письмена на скипетре сам Кронос начертал тебе, чтобы все вещи были устойчивыми в мире, требующая и исполняющая, хозяйка человечества, и сила, хаосом управляющая. Возрадуйся и внемли, призывающим тебя разными именами. Я возжигаю для тебя эти благовония, о дитя Зевса, лучница, единая на небесах, богиня гаваней, блуждающая по горам, богиня перекрестков. О подземная, ночная, адская богиня тьмы, безмолвия и ужаса, ты, кто находит свою пищу среди могил, ночи, темноты, великого хаоса, невозможно укрыться от тебя. Ты — Мойра (Mοῖρα, «судьба») и Эриния (Ἐρινύς, «гневная»), ты совершаешь правосудие и караешь. Ты держишь Цербера на цепи, темная, со змеиной чешуей, змееволосая, опоясанная змеей, пьющая кровь, приносящая смерть и разрушения, пирующая сердцами, вкушающая плоть, пожирающая трупы, ты, приносящая печаль и горе, распространяющая безумие, прими мою жертву, и исполни мою просьбу.»
голени и волчьи лодыжки. Свирепые псы любимы тобой, и они отвечают тебе тем же. Не счесть имен твоих: Мена (Μήνη, «луна»); рассекающая стрелами воздух Артемида; Персефона, поражающая оленя. Освещающая ночь Селена троеглавая и троеликая, троешеяя и троегласая, богиня трех путей, несущая неугасимый пылающий огонь в трех светильниках, хранительница перекрестков, управительница тремя декадами. Призываю тебя, будь милостива и добра ко мне, внемли, защитница и покровительница всего мира ночью, перед кем демоны дрожат от страха и трепещут бессмертные боги. Богиня, в чьей силе возвысить человека, дающая справедливое потомство, призываемая многими именами, волоокая, рогатая, мать богов и людей. Природа, мать всего сущего. Ты восходишь на Олимп и нисходишь в необъятную бездну. Начало и конец — ты едина и одна управляешь всем. Все происходит от тебя, и к тебе все возвращается. Охранительница своих святилищ, ты носишь цепи Великого Кроноса, вечные и несокрушимые, в твоих руках — золотой скипетр. Письмена на скипетре сам Кронос начертал тебе, чтобы все вещи были устойчивыми в мире, требующая и исполняющая, хозяйка человечества, и сила, хаосом управляющая. Возрадуйся и внемли, призывающим тебя разными именами. Я возжигаю для тебя эти благовония, о дитя Зевса, лучница, единая на небесах, богиня гаваней, блуждающая по горам, богиня перекрестков. О подземная, ночная, адская богиня тьмы, безмолвия и ужаса, ты, кто находит свою пищу среди могил, ночи, темноты, великого хаоса, невозможно укрыться от тебя. Ты — Мойра (Mοῖρα, «судьба») и Эриния (Ἐρινύς, «гневная»), ты совершаешь правосудие и караешь. Ты держишь Цербера на цепи, темная, со змеиной чешуей, змееволосая, опоясанная змеей, пьющая кровь, приносящая смерть и разрушения, пирующая сердцами, вкушающая плоть, пожирающая трупы, ты, приносящая печаль и горе, распространяющая безумие, прими мою жертву, и исполни мою просьбу.»
_____________________________
Отождествление всевозможных богинь с луной в Малой Азии — явление весьма распространенное. Удивляет, однако, широкое вовлечение, в процесс синкретизации, греческих «тройственных» богинь, казалось бы, далеких от лунной интерпретации. Тех же, упомянутых в заклинании, Харит, например. Не менее интересное свидетельство, по поводу отождествления Мойр и Горгон с Луной, дает Климент Алекс, повествуя об орфической трактовке некоторых персонификаций:
В этой интерпретации, Клото («Пряха»), прядущая нить, «наматывает пряжу на веретено», в связи с чем, серп луны день ото дня растет. Потом приходит время полной луны Лахесис, которая, в свою очередь, «передает веретено» Атропе (Ἄτροπος, «Неотвратимая») и та, день за днем разматывает нить, до самого новолуния.
Также становится понятным, почему из трех горгон смертной была лишь Медуза. Медуза, в рассматриваемой трактовке, — это «стареющая» (убывающая) луна. «С усекновением ее головы», наступает новолуние.
ФАКЕЛОНОСНЫЕ БОГИНИ
_______________________________

Фаустина II (145-175). Рим. Сестерций (Æ 29mm, 24.65g), посмертный памятный выпуск 175/6г.
Av: бюст Фаустины; DIVA FAVSTINA PIA
Rv: Диана с длинным факелом, за плечами — серп луны; SIDERIBVS RECEPTA
_______________________________

Фаустина II (145-175), дочь Антонина Пия и жена Марка Аврелия.
Сестерций (Æ 23.95g), посмертный памятный выпуск 175/6г.
Av: бюст Фаустины II в образе Деметры, голова покрыта пеплосом; DIVA FAVSTINA PIA
Rv: Деметра с длинным факелом; AETERNITAS / S C
_______________________________

Коммод (177-192). Кизик, Мизия. Монетарий Элий Этеоней (T. Aelius Eteoneus).
Медальон (Æ 43mm, 41.04g), ок. 191/2г.
Av: бюст Коммода в образе Геракла, в львиной шкуре, за плечами палица, на голове лавровый венок; AY KAI Λ M AY KOMMOΔOC ANT CЄB ЄYC ЄYT POMAIOC HPAKΛHC
Rv: Деметра с двумя факелами, перед ней — горящий жертвенник; ЄΠI APX T AIΛ ETEΩNEΩY KYZIKHNΩN NЄΩK
_______________________________
_
Кизик, Мизия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Эфесом. Стратег Клавдий Север.
Æ 34mm (24.38g). Псевдо-автономный чекан времён Антонина Пия (138-161).
Av: голова Коры в венке из колосьев; KOPH CΩTЄIPA / KYZIKHNΩN
Rv: две культовые статуи городов «побратимов», Эфесская Артемида и Деметра с двумя факелами, почитавшаяся в Кизике вместе с Корой; APXΩN KΛ CЄBHPOC / KYZIKHNΩN NЄOKOPΩN
_______________________________

Кизик, Мизия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) со Смирной.
Медальон (AE 44mm, 35.96g), 161-180гг.
Av: голова Коры в венке из колосьев; KOPH CΩTЄIPA / KYZIKHNΩN
Rv: Деметра с двумя факелами, слева Немесида с колесом удачи, почитаемая в Смирне, справа Кора, покровительница Кизика; OMONOIA KYZIKHNΩN ΣMYPNAIΩN / ЄΠI CTPANAIB KYINTOY
_______________________________

Валериан I (P. Aurelius Licinius Valerius Valerianus, 253-260). Сарды (Σάρδεις), Лидия.
Медальон (Æ 46mm, 42.11g). Монетарий Домиций Руф (асиарх, сын второго асиарха).
Av: бюст Валериана в лучевой короне; AYT K П ΛIK OYAΛЄPIANOC CЄ;
Rv: Деметра, с двумя факелами, управляет бигой, запряженной двумя крылатыми змеями; ЄПI ΔOM POYФOY ACIAPX K YIOY B ACIAPX / CAPΔIANΩN TPI NЄΩKOP
_______________________________

Аполлония, Иллирия. Магистраты Дейнократ (Δεινοκράτεος) и Филокл (Φιλόκλης).
Драхма (AR 19mm, 3.86g), I в. до н.э.
Av: голова Аполлона в лавровом венке; ΔEINOKPATE
Rv: три нимфы Лампады, танцующие с факелом в руках вокруг жертвенного огня; AПOΛ / ΦIΛOKΛHΣ
_______________________________

Аполлония, Иллирия. Магистраты Архен и Никонор. Драхма (AR 19mm, 3.88g), I в. до н.э.
Av: голова Аполлона в лавровом венке; APXHN
Rv: три нимфы Лампады, танцующие с факелом в руках вокруг жертвенного огня; AПOΛ / NIKANΩP
• Нимфы факелоносицы (λαμπαδηφόρος), спутницы Гекаты, именуемые также Лампадами (λαμπάδοι), упоминаются Алкманом (спартанский лирический поэт VII в. до н.э.; Alkman, fragment 63).
_______________________________

Феры (Φεραί), Фессалия. Статер (AR 11.31g), 302-286 до н.э. Магистрат Астомедон.
Av: голова нимфы Гепереи в венке из тростника; слева источник Геперея, в виде головы льва, из пасти которого вытекает вода;
Rv: Эннодия (Ἐννοδία, «девятидорожная»), с двумя факелами в руках, скачет на лошади; слева венок; ΑΣΤΟΜΕΔΟΝ (внутри венка) / ΦΕΡΑΙOYΝ
• Эннодию отождествляют с Гекатой и Артемидой, т.е. это не имя, а эпитет. Эпитет Эннодия также употребляется с одной «н», тогда он означает просто «дорожная», т.е. покровительствующая путникам. Вероятно, это упрощение происходит от того, что эпитет «девятидорожная» был заимствован из Фракии, и в Греции не находил должного понимания.
Ἐννέα ὁδοί — Девять Путей (местность в области Амфиполя, во Фракии) Her., Thuc.
Ἐνοδία ἡ Энодия, «Придорожная» (эпитет Гекаты) Eur., Luc.
ἐνόδιος (ἐν-όδιος), эп. εἰνόδιος
1) находящийся у дороги, придорожный;
2) покровительствующий дорогам, охраняющий пути;
ex. (Ἕρμῆς Theocr.); ἡ ἐνοδία θεός Soph. или δαίμων Plat. = Ἑκάτη
_______________________________

Феры (Φεραί), Фессалия. Статер (AR 11.63g), 280-270 до н.э.
Av: голова нимфы Гепереи в венке из тростника;
Rv: Эннодия, с длинным факелом в руках, скачет на лошади; слева голова льва; ΦΕΡΑΙΩΝ
_______________________________

Постум (Postumus, 260-269). Треверы (Treveri), Галлия. Антониниан (BI 20mm, 3.28g), ок. 266г.
Av: бюст Постума в лучевой короне; IMP C POSTVMVS P F AVG
Rv: Диана Светоносная в короткой тунике, с факелом в руках и колчаном за спиной; DIANAE LVCIFERAE
_______________________________
_
Фессалия (Θεσσαλία), Фессалийская Лига. Магистраты Никократ, Филоксенид и Петрей (Nikokrates, Philoxenides, Petraios).
Гемистатер (AR 2.88g), ок. 45 до н.э.
Av: голова Аполлона в лавровом венке; NIKOKPATEYΣ;
Rv: Артемида Светоносная (Φωσφόρος) с двумя факелами; ФIΛOΞE / ΘΕΣΣΑΛΩΝ / ПЕ[TPA]
_______________________________

Римская республика. Рим, монетарий Публий Клодий. Денарий (AR 3.87g), 42 до н.э.
Av: голова Аполлона, в лавровом венке, слева лира;
Rv: Диана, с луком и колчаном за плечами, держит два длинных горящих факела; P. CLODIVS M. F. (Publius Clodius Marci filius).
_______________________________

Перинф, Фракия. Псевдо-автономный чекан. Æ 24mm (7.94g), ок. II в.
Av: бюст Деметры в диадеме, голова покрыта пеплосом, держит мак и колосья;
Rv: Артемида с двумя факелами; ПEРINΘIΩN
_______________________________

Гордиан III (238-244). Рим. Аурей (AV 5.00g), 241/2г.
Av: бюст Гордина III, в лавровом венке; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Rv: Диана Светоносная с длинным факелом; DIANA LVCIFERA
_______________________________

Бруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). Гемидрахма (AR 2.29g), ок. 216-214 до н.э. Аттический стандарт, выпуск времён Второй Пунической войны.
Av: голова Аполлона в лавровом венке; слева — звезда;
Rv: Артемида стоит с факелом, за плечом — колчан, в правой руке держит стрелу; у ног — собака; слева — краб; BPETTIΩN
_______________________________

Марк Аврелий, как цезарь (139-161). Апамея, Вифиния. Æ 30mm, (16.71g).
Av: бюст Марка Аврелия; M AVRELIVS CAES AVG P F;
Rv: Диана Светоносная управляет бигой, запряженной оленями; в руках держит два факела, за плечом — колчан; DIANAE LVCIF AVG / C I C A D D (Colonia Iulia Concordia Apamea Decreto Decurionum).
_______________________________

Фаустина Старшая, жена Антонина Пия. Рим. Денарий (AR 18mm, 3.61g), 147г.
Av: бюст Фаустины; DIVA FAVSTINA
Rv: Деметра стоит с длинным факелом, в правой руке держит пучок колосьев; AVGVSTA
_______________________________

Гордиан III (238-244). Перинф, Фракия. Медальон (Æ 41mm, 40.74g). Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Никомедией.
Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AYT K M ANT ГOPΔIANOC AYГ
Rv: Деметра, покровительница Никомедии, держит длинный факел; голова, украшенная венком из колосьев, покрыта пеплосом; против нее стоит Тюхе, покровительница Перинфа, с Рогом изобилия в левой руке; ПEРINΘIΩN ΔΙC ΝEΩΚΟΡΩΝ / ΝΙΚΟΜΗΔEΩΝ / OMONOIA
_______________________________

Клавдий (41-54). Рим. Дупондий (Æ 27mm, 13.18g), ок. 41-50гг.
Av: бюст Клавдия; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP
Rv: Деметра на троне с факелом и пучком колосьев; CERES / S C
_______________________________

Каракалла (198-217). Сердика, Фракия. Æ 30mm (18.62g).
Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; AYT K M AYP CEYH ANTΩNEINOC
Rv: Деметра с длинным горящим факелом, который обвивает змея; в правой руке держит патеру; рядом стоит мистическая циста, из которой выползает змея; OYΛПIAC CEPΔIKHC
_______________________________

Каракалла (211-217). Стратоникея, Кария. Медальон (Æ 19.79g), ок. 202-211гг.
Av: бюсты Каракаллы в лавровом венке и его жены Плавтиллы (Publia Fulvia Plautilla) в диадеме; между ними две контрмарки: голова в шлеме и ΘЄΟΥ / ΡΑ ΚΑ N Μ ΑΥΡ ΑΝ ΚΑΙ ΘЄ СЄΒ ΝЄ ΤСΛΑΥΤΙΛ
Rv: Геката, с модиусом на голове, в левой руке — факел, в правой — патера, рядом собака; CΤΡΑΤΟΝЄΙΚЄΟΝ ЄΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡ ΤΒ ΚΑ ΔΙΟΝΥCΙΟΥ
_______________________________

Стратоникея (Στρατονίκεια), Кария. Драхма (AR 18mm, 3.69g), конец I в. до н.э. Магистрат Зопир (Ζώπυρος).
Av: голова Гекаты в лавровом венке, над головой — полумесяц; ZΩПYPOΣ
Rv: культовая статуя Зевса Хрисаорея, со скипетром, верхом на коне; ΣTPA
_______________________________

Стратоникея (Στρατονίκεια), Кария. Гемидрахма (AR 15mm, 1.43g), ок. 41-68гг.
Av: голова Гекаты в лавровом венке, над головой — полумесяц; ЄΚΑΤΑΙΟC CѠC ΑΝΔΡΟΥ (Ἑκαταῖος σῶς ἀνδρόυ — «Гекате, защитнице человека»).
Rv: в квадратном поле крылатая Ника с пальмовой ветвью и лавровым венком; CΤΡΑΤΟΝΙΚЄѠΝ
_______________________________
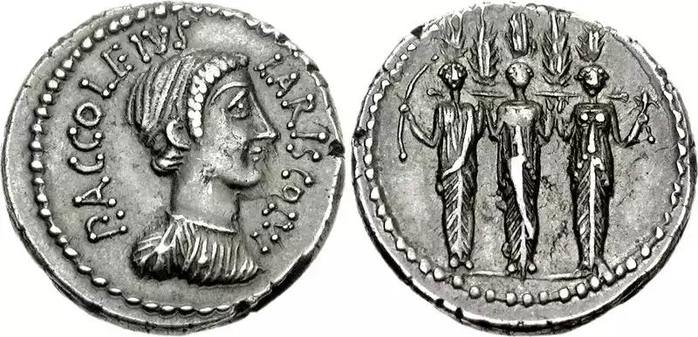
Римская республика. Рим, монетарий Публий Акколей Ларискол.
Денарий (AR 4.14g), 43 до н.э.
Av: бюст Дианы Немийской (Diana Nemorensis); P ACCOLEIVS LARISCOLVI
Rv: триморфная Диана, представленная Артемидой (с луком в руке), Гекатой и Селеной (держащей в руке лилию); позади — верхушки пяти кипарисов.
_______________________________

Юлия Мамея (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Томы, Нижняя Мезия. Æ 24mm (10.56g).
Av: бюст Юлии Мамеи; IOYΛIA MAMAIA AYГ
Rv: бюст Гекаты (triform) на колонне, в руках — змеи, ножи и факелы; MHTPOПONTOY TOMEΩC / Γ (denomination).
_______________________________

Септимий Север (Lucius Septimius Severus, 193-211). Апамея, Фригия. Æ 15mm (2.41g).
Av: бюст богини Тюхе в башенной короне; AΠAMЄIA
Rv: триморфная Геката; CΩTЄIPA
_______________________________

Адриан (117-138). Галикарнасс, Кария. Æ 26mm (10.59g), ок.117-125гг.
Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYTOKPATOP TPAIANOC AΔPIANOC KAI CЄ;
Rv: Геката (triform) с шестью факелами; AΛIKAPNACCЄΩN
_______________________________

Агафокл (Ἀγαθοκλῆς, 190-180 до н.э.). Греко-бактрийское царство. Тетрадрахма (AR 31mm, 16.51g).
Av: бюст Агафокла с тенией на голове;
Rv: Зевс, со скипетром в левой руке, в правой руке держит статуэтку трехликой Гекаты с факелами; BAΣIΛEΩΣ AΓAΘOKΛEOΥΣ
_______________________________
ОРФИЧЕСКИЕ ГИМНЫ
I. К ГЕКАТЕ
Я придорожную славлю Гекату пустых перекрестков,
Сущую в море, на суше и в небе, в шафранном наряде,
Ту, примогильную, славлю, что буйствует с душами мертвых,
Ту нелюдимку Персею, что ланьей гордится упряжкой,
Буйную славлю царицу ночную со свитой собачьей.
Не опоясана, с рыком звериным, на вид неподступна,
О Тавропола, о ты, что ключами от целого мира
Мощно владеешь, кормилица юношей, нимфа-вождиня,
Горных жилица высот, безбрачная — я умоляю,
Вняв моленью, гряди на таинства чистые наши
С лаской к тому волопасу, что вечно душою приветен!
VIII. К СЕЛЕНЕ
Внемли, богиня, царица Селена, дарящая светом!
С рожками бычьими Месяц, бродящий в ночи небожитель!
В факелах шествий ночных, о Луна, благозвездная дева,
То ты полнеешь, то таешь, и женщина ты, и мужчина,
О конелюбица, о плодоносная, матерь ты году,
Грустное ночи светило, блестящая, вся из электра,
Ты, о бессонная, ты, о всезрящая, в звездном уборе,
В радость тебе — тишина и счастье благого удела,
Прелестью блещешь, носящая рожки, ночи украшенье,
В пеплосе тонком ты кружишь, всемудрая звездная дева,
Ныне, блаженная, добрая, в свете своем благозвездном,
В полном сиянье явись, храня неофитов, о дева!
XXIX. ГИМН ПЕРСЕФОНЕ
О, гряди, Ферсефона, рожденная Зевсом великим,
Единородная, жертвы прими благосклонно, богиня!
Ты, жизнетворная, мудрая, ты, о супруга Плутона,
Ты под путями земными владеешь вратами Аида,
Ветка святая Деметры, в прелестных кудрях Праксидика,
Ты Евменид породила, подземного царства царица,
Дева, рожденная Зевсовым семенем неизречимым,
Мать Евбулея, чей образ изменчив, гремящего страшно,
Сверстница Ор светоносная, в блеске красы несказанной,
О вседержащая дева, плодами обильная щедро,
Смертным одна ты желанна, рогатая, в блеске прекрасном.
Вешней порою на радость тебе дуновения с луга,
Тело святое твое указуют зеленые всходы,
Осенью вновь похищаема ты для брачного ложа,
Ты одна — и жизнь, и смерть для людей многобедных,
Ферсефона — всегда ты «несешь» и всегда «убиваешь».
Внемли, блаженная, из-под земли урожай посылая,
Дай процветание в мире, здоровье с целящею дланью,
Благополучную жизнь, что под тяжкую старость приходит
В царство твое, о царица, к Плутону, чья благостна сила.
XL. ДЕМЕТРЕ ЭЛЕВСИНСКОЙ
Внемли, Део, богиня-всематерь, почтеннейший демон,
Юность растящая, счастья дарящая ты, о Деметра,
Ты наделяешь, богиня, богатством, питаешь колосья,
Мир, всецарящая, любишь, трудам многохлопотным рада,
И семена ты хранишь, и зеленые всходы, и жатву,
В кучи ссыпаешь зерно, Элевсинской долины жилица.
Смертного люда кормилица, всем ты мила и желанна,
Пахарю первая ты быков запряженных вручила,
Смертным желая подать отрадное в жизни обилье,
Ты, сотрапезница Бромия, славная, все уточняешь,
Факелоносная, чистая, серп тебе летний — отрада.
Ты, о подземная, явная всем, ты ко всем милосердна,
Детолюбивая, добрая матерь, растящая юность,
Ты запрягла колесницу — вся упряжь ее змеевидна,
Вакховы буйные пляски твой трон окружают, ликуя,
Единородная, о многоплодная, о всецарица.
Ты, о цветочная, чистая, разная в обликах многих
Ныне гряди, о блаженная, летними полнясь плодами,
Мир к нам веди, приведи желанное благозаконье,
Славный достаток и с ними всему господина — здоровье!
_______________________________
ГИМН ДЕМЕТРЕ. ГОМЕР
Девять скиталася дней непрерывно Део пречестная,⁶
С факелом в каждой руке, обходя всю широкую землю,
И не вкусила ни разу амвросии с нектаром сладким,
Кожи нетленной своей не омыла ни разу водою.
Но лишь десятая в небе забрезжила светлая Эос,⁷
Встретилась скорбной богине Геката, державшая светоч,
Вествуя матери, слово сказала и так взговорила:
«Пышнодарящая, добропогодная матерь Деметра!
Кто из небесных богов или смертных людей дерзновенно
Персефонею похитил и милый твой дух опечалил?
Голос ее я слыхала, однако не видела глазом,
Кто — похититель ее. По совести все говорю я»…
Так говорила Геката. И ей не ответила речью
Реи прекрасноволосая дочь, но вперед устремилась
С факелом в каждой руке, в сопутствии девы Гекаты.
<…>
Дева-Геката приблизилась к ним [к Деметре и Коре] в покрывале блестящем;
Чистую дочерь Деметры в объятья она заключила.
С этой поры ей служанкой и спутницей стала царица.
(Гомеровы гимны. К Деметре, 47-61; 438-440)
________________________________
[6] Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
[7] ἕως, эп.-ион. ἠώς, дор. ἀώς, эол. αὔως ἡ утренняя заря.
_______________________________

Кизик, Мизия. Медальон (Æ 42mm, 37.70g), II в.
Av: голова Коры в венке из колосьев; KOPH CΩTЄIPA / KYZIKHNΩN
Rv: на крыше храма — три статуи богинь, Деметра — с двумя факелами, и по краям факелоносные Кора и Артемида; рядом с храмом — два длинных факела, обвитые змеями; KYZIKHNΩN NЄOKOPΩN
_______________________________

Адриан (117-138). Кизик, Мизия. Æ 31mm (22.27g).
Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAI TPAI AΔPIA CEB
Rv: на крыше храма — статуи Деметры, Коры и Артемиды с факелами; KYZIKHNΩN
_______________________________

Кизик, Мизия. Æ 28mm (14.17g), II в.
Av: бюст Кизика (Κύζικος, гений и эпоним города); KYZIKOC
Rv: на крыше храма — статуи Деметры, Коры и Артемиды с факелами; KYZIKHNΩN NЄΩKOPΩN
_______________________________
ГЕКАТА: ПОГРАНИЧНЫЕ ОБРЯДЫ
(Перевод Анны Блейз)
_________________________…ее перед всеми
Зевс отличил Громовержец и славный удел даровал ей:
Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря.
Был ей и звездным Ураном почетный удел предоставлен,
Более всех почитают ее и бессмертные боги.
Ибо и ныне, когда кто-нибудь из людей земнородных,
Жертвы свои принося по закону, о милости молит,
То призывает Гекату: большую он честь получает
Очень легко, раз молитва его принята благосклонно.
Шлет и богатство богиня ему: велика ее сила.
Долю имеет Геката во всяком почетном уделе
Тех, кто от Геи-Земли родился и от Неба-Урана,
Не причинил ей насилья Кронид и не отнял обратно,
Что от Титанов, от прежних богов, получила богиня.
Все сохранилось за ней, что при первом разделе на долю
Выпало ей из даров на земле, и на небе, и в море.
Чести не меньше она, как единая дочь, получает, —
Даже и больше еще: глубоко она чтима Кронидом.
Пользу богиня большую, кому пожелает, приносит.
Хочет — в народном собранье любого меж всех возвеличит.
Если на мужегубительный бой снаряжаются люди,
Рядом становится с теми Геката, кому пожелает
Дать благосклонно победу и славою имя украсить.
Возле достойных царей на суде восседает богиня.
Очень полезна она, и когда состязаются люди:
Рядом становится с ними богиня и помощь дает им.
Мощью и силою кто победит — получает награду,
Радуясь в сердце своем, и родителям славу приносит.
Конникам также дает она помощь, когда пожелает,
Также и тем, кто, средь синих, губительных волн промышляя,
Станет молиться Гекате и шумному Энносигею.
Очень легко на охоте дает она много добычи,
Очень легко, коль захочет, покажет ее — и отнимет.
Вместе с Гермесом на скотных дворах она множит скотину;
Стадо ль вразброску пасущихся коз иль коров круторогих,
Стадо ль овец густорунных, душой пожелав, она может
Самое малое сделать великим, великое ж — малым.
Так-то, — хотя и единая дочерь у матери, — все же
Между бессмертных богов почтена она всяческой честью.
Вверил ей Зевс попеченье о детях, которые узрят
После богини Гекаты восход многовидящей Эос.
Искони юность хранит она. Вот все уделы богини.
(Гесиод. Теогония, 411-452)
Богиня Геката входила в число важнейших божеств древнего мира. Зародившись во тьме доисторических времен, ее культ сохранялся на протяжении трех тысячелетий. Он пережил периоды греческой архаики, классики и эллинизма, Римскую и Византийскую империю и даже «темные века» Европы, ибо следы древнего поклонения этой богине обнаруживаются даже в эпоху Возрождения.
Геката была богиней рубежей, властительницей всех границ и переходных периодов в человеческой жизни. Кроме того, она почиталась как защитница, отвращающая зло и выводящая на верный путь, о чем свидетельствуют некоторые из ее многочисленных эпитетов. Тройственный облик Гекаты указывает на ее власть над тремя мирами: небом, морем и землей. Об архаических истоках ее культа свидетельствует то, что она изображалась с головами различных животных, каждое из которых символизирует одну из граней ее разностороннего характера.
Геката ассоциировалась с посвятительными церемониями ряда античных мистериальных культов — не только знаменитых Элевсинских мистерий, но и культа Деметры в Селинунте (Сицилия), а также мистерий, бытовавших в Аргосе и на греческих островах Самофракия и Эгина.
С именем Гекаты связывалось множество эпитетов, описывавших различные роли и качества, в которых она выступала в тот или иной период. Вот некоторые из наиболее известных ее именований:

• Хтония («подземная»),
• Дадофора («факелоносица»),
• Энодия («дорожная»),
• Клидофора («ключница»),
• Куротрофа («кормилица детей»),
• Фосфора («светоносная»),
• Пропола («спутница»),
• Пропилея («привратница»),
• Сотейра («спасительница»),
• Триформис («трехтелая»),
• Триодитис (богиня «трех дорог»).
Геката Пропилея («привратница») была хранительницей города, отвращающая зло от его стен и защищающая его жителей. Святилища ей устраивали не только при входе в города и храмы других божеств, но и перед частными домами. Небольшое святилище богини, установленное перед дверью дома, называлось «гекатейон».
Большой храм Гекаты располагался в городе Лагина в Карии (на территории современной Турции), где ежегодно проводилась церемония под названием «Шествие с ключом» (κλειδοσαγωγή). Сара Айлс Джонстон, автор книги «Геката Сотера», предполагает, что эта процессия была связана именно с Гекатой в ее роли Пропилеи — хранительницы врат. Кроме того, само название церемонии ассоциируется с эпитетом «Клидофора» (κλειδοφόρος), который эта богиня носила как хранительница ключей от подземного мира, выносящая решение о том, кто из усопших заслужил блаженное посмертие на Елисейских полях. В данном контексте она выступает как проводница души умершего на последнем этапе загробного странствия. А в посвященном ей орфическом гимне Геката именуется, ни много ни мало, «Ключницей Вселенной» (Орфический гимн Гекате, ок. I-III в. н.э.).
Ввиду столь важной роли, которую она играла в культовой жизни Лагины, можно предположить, что Геката была покровительницей этого города, подобно тому как Кибела покровительствовала всей Фригии, а Инанна — некоторым из древнейших шумерских городов.
К V веку до н.э. святилище Гекаты появилось при вратах города Милет, в пятидесяти милях к северу от Лагины, где культ этой богини установился примерно столетием раньше. В том же V веке до н.э. Гекате стали поклоняться в городе Афродисий, также располагавшемся неподалеку от Лагины. Роль хранительницы врат, прочно закрепившуюся за этой богиней, подтверждает греко-римский историк Плутарх, записавший в I веке н.э. историю о том, как один полководец поставил у ворот Коринфа военный трофей, а другой со смехом заметил, что это не подношение Аресу, а столб Гекате, — «ибо столбы Гекате ставились перед любыми воротами в том месте, откуда расходились дороги».
Во Фракии культ Гекаты набрал силу к V веку до н.э. Одно из самых ранних свидетельств поклонения этой богине во Фракии обнаруживается во фрагменте пеана древнегреческого поэта Пиндара, посвященного жителям города Абдеры и датируемого приблизительно серединой V века до н.э.:
В месяце первый день,¹
Он был назван обутою в красное благосклонной Гекатой,
Чтобы так тому и быть.
(Пиндар, Пеан 2. Абдеритам, III:75-78)
_________________________
[1] Традиция связанная с лунным календарем, в котором первый день приходится на новолуние.
Поскольку из многочисленных литературных источников известно, что в том же V веке до н.э. Гекате поклонялись и в Афинах, весьма вероятно, что культ ее очень быстро распространился по всему Эгейскому региону в конце VI — начале V столетий. Отдельные упоминания о ней встречаются в литературе и раньше — в «Теогонии» Гесиода (VIII в. до н.э.) и в гомеровом гимне «К Деметре» (VII в. до н.э.), но только в V столетии они становятся достаточно частыми и дают нам право утверждать, что теперь эта богиня приобрела в греческой культуре весьма значительную роль.
Но как проследить истоки культа Гекаты, зародившегося, несомненно, задолго до первого упоминания ее имени в «Теогонии» Гесиода в VIII веке до н.э.? Фон Рудлофф в своей книге «Геката в религии древних греков» высказывает предположение, что триада имен в одной из надписей, выполненных линейным письмом Б и относящихся к бронзовому веку, связаны именно с Гекатой и двумя другими богинями Элевсинского культа — Деметрой и Персефоной. Это имена «Ифимедея», «Пересва» и «Дивия», присутствующие в перечне божественных имен на глиняной табличке Tn316, обнаруженной в городе Пилосе на южном побережье Греции и датируемой XIII веком до н.э. Первое из них, теоретически, может быть вариантом имени Гекаты, поскольку та связана с Ифигенией, упомянутой под именем «Ифимеда» в гесиодовском «Каталоге женщин» (VIII в. до н.э.); второе предположительно происходит от того же корня, что и имя «Персефона», а третье может означать «светлая» или «богатая богиня» и представлять собой эпитет Деметры.
Еще одно указание на происхождение образа Гекаты дает ее связь со львами. Изображения Гекаты между двух львов не относятся к числу древнейших, но все же намекают на ближневосточные корни этой богини. Иконография Инанны, Астарты и Кибелы свидетельствует, что изображения богинь в сопровождении двух львов — весьма характерная для Ближнего Востока особенность. Впрочем, не следует забывать, что между двумя большими кошками изображалась также Артемида, поэтому упомянутые изображения Гекаты — в силу своего позднего появления — могут быть следствием синкретического слияния Гекаты с Артемидой.²
_________________________
[2] Теория о синкретичности Артемиды и Гекаты — ошибочная. Геката — отделившаяся от Артемиды ее хтоническая ипостась, именно поэтому их так трудно друг от друга отличить. Обеих богинь изображали в одинаковых коротких туниках и в сопровождении псов. Отличительным атрибутом Артемиды считается лук и колчан, хотя и Гекату также характеризуют как ночную «охотницу». Мало того, «Геката» — один из эпитетов Артемиды, означает «Далекоразящая» (этот же эпитет носит ее брат Аполлон).
Ещё один из эпитетов Артемиды — «Светоносная» (другой перевод, с
 греческого, этого эпитета — «Факелоносная»), и ее, в этой связи (как и Деметру), изображали с факелом, либо двумя факелами. Хотя, по наличию факелов, обычно, атрибутируют Гекату.
греческого, этого эпитета — «Факелоносная»), и ее, в этой связи (как и Деметру), изображали с факелом, либо двумя факелами. Хотя, по наличию факелов, обычно, атрибутируют Гекату. Ἑκάτη, дор. Ἑκάτα (κᾰ) ἡ Геката
ἕκᾰτος 3 [ἑκάς] далекоразящий (эпитет Аполлона и Артемиды) Hom., Her., Aesch.
ἑκατηβόλος (ἑκᾰτη-βόλος), дор. ἑκατᾱβόλος 2 далеко мечущий.
Φωσφόρος ἡ (sc. θεά) Артемида Светоносная Arph.
Изображения Гекаты со львами встречаются на фризе храма в Лагине и на монетах; кроме того, в связи с этими животными богиня упоминается в более поздний период в «Халдейских оракулах» и греческих магических папирусах. В «Халдейских оракулах» Геката описывается как «владеющая львами», и от лица ее говорится: «Если будешь взывать ко Мне часто, узришь все сущее в образе льва» (Халдейские оракулы 18, 147).
В греческих магических папирусах мы находим «Молитву к Селене для любых заклинаний», по содержанию похожую, скорее, на обращение к Гекате. В этом тексте обнаруживается фраза: …«ты стоишь под защитой двух львов, поднявшихся на дыбы».
Как аргумент в пользу негреческого происхождения Гекаты приводился также тот факт, что в жертву ей приносили собак: эти животные использовались для подношений только иноземным богам, вошедшим в греческий пантеон (в частности, Аресу).
Исследуя археологические и литературные указания на истоки культа Гекаты, необходимо также учитывать происхождение, приписывавшееся ей в разные периоды в письменных изложениях мифов. В «Теогонии» Гесиода родителями Гекаты называются богиня Астерия (Ἀστερία, «Звездная») и ее супруг, титан Перс (Πέρσης, «Разрушитель»):
«Ввел ее [«благоименную Астерию»] некогда Перс во дворец свой, назвавши супругой.
Эта, зачавши, родила Гекату»…
Астерия ассоциировалась с ночным небом — не только как покровительница астрологии, но и как подательница вещих снов. В храме Астерии на острове Делос практиковалась инкубация — обычай оставаться в святилище на ночь, чтобы получить пророческий сон. По-видимому, эту связь с оракулами и сновидениями Астерия передала своей дочери Гекате по наследству. Сестрой Астерии была Лето, родившая от Зевса божественных близнецов Артемиду и Аполлона, которым Геката приходилась, соответственно, двоюродной сестрой. Впоследствии образы Гекаты и Артемиды сблизились очень тесно и даже слились воедино.
В гомеровом гимне «К Деметре» (VII в. до н.э.) использована та же версия происхождения Гекаты, что и в «Теогонии»: богиня описывается здесь как «Персеева дочерь, нежная духом Геката, с блестящей повязкою дева».
Эту версию, наиболее распространенную из всех, поддерживало большинство авторов, вплоть до Псевдо-Аполлодора, приводящего ее в своей «Мифологической библиотеке» (II в. н.э.), и Ликофрона (III в. н.э.), упоминающего Гекату как «девственную дочь Персея, Бримо Триморфос». Эпитеты «Бримо» («гневная» или «грозная») и «Триморфос» («трехтелая» или «имеющая три обличья») применялись к Гекате часто. Эта богиня устойчиво ассоциировалась с числом три, играющим важную роль в ее культе и связанных с нею магических обрядах:
«И ты, частая гостья на распутьях трех дорог, властвующая в трех обличьях своих над тремя декадами и над огнями и псами». (Греческий магический папирус № IV:2528-2530)
В схолиях к поэме Аполлония Родосского «Аргонавтика» о родителях Гекаты приводятся различные мнения. Утверждается, что в орфических гимнах она названа дочерью Део (Деметры), у Вакхилида — дочерью Никты (Ночи), у Мусея — дочерью Зевса и Астерии, а также что Ферекид считает отцом Гекаты Аристея.
Эти разноречивые сведения в действительности связаны между собой более тесно, чем может показаться на первый взгляд. То обстоятельство, что в орфических гимнах Геката именуется дочерью Деметры, представляется вполне естественным в свете того, что гомеров гимн «К Деметре» использовался в орфических мистериях. Геката совершенно логично вводится в семью богинь, занимающих центральное место среди сил подземного царства и, следовательно, играющих ключевую роль в переселении душ — важнейшей теме орфических мистерий.
Никта (Ночь) отождествлялась с Астерией, ибо что такое ночь, как не само звездное небо? Никта была одной из первозданных сил вселенной, от которых произошли боги. Роль Зевса как отца Гекаты также не вызывает удивления: во-первых, он породил и многих других богов, а во-вторых, он наряду с Гекатой играет важнейшую роль в «Халдейских оракулах».
Более любопытна версия, по которой отцом Гекаты был Аристей — бог, научивший людей использовать целебные травы, разводить пчел, добывать мед и варить медовуху, выращивать оливки и делать сыр. Обычно он считается сыном Аполлона и нимфы Кирены, хотя у Вакхилида его родителями названы Гея (Земля) и Уран (Небо).
Во время расцвета Рима, Геката часто упоминается в качестве персонажа разных мистериальных культов, как, например, на римской посвятительной надписи IV века н.э.:
«Секстилий Агесилай Эдесий, наимогущесвеннейший властитель <…> отец непобедимого солнца, бога Митры, иерофант Гекаты, верховный пастырь Диониса, возрожденный навеки, принес в жертву быков и баранов и так посвятил сей алтарь великим богам, матери богов и Аттису.»
(Corpus Inscriptionum Latinarum, VI.510)
Из другой римской надписи того же периода явствует, что с Гекатой связывался некий мистериальный культ, подобный мистериям индо-иранского бога Митры, фригийской богини Кибелы и элевсинских божеств. Здесь посвященной нескольких мистериальных культов именуется жрица Паулина:
«Посвященная Цереры и Элевсиний, посвященная Гекаты Эгинской, тавроболиата иерофантрия.»
(Надпись на надгробии Фабии Аконии Паулины, ок. IV в. н.э.)
Наиболее тесно с Гекатой связывались другие хтонические божества (Гермес, Аид, Персефона и Гея), а также Зевс, Рея, Деметра, Митра, Кибела и солнечные боги Гелиос и Аполлон. Имена хтонических богов — Гермеса, Аида, Персефоны и Геи — также чаще прочих встречаются на дефиксионах (табличках с проклятиями), а Зевс и Рея фигурируют в «Халдейских оракулах» (причем Зевс — в качестве центрального божества).
С течением времени с Гекатой частично или полностью отождествились некоторые другие богини — такие, как Бримо, Деспония, Энодия, Генетиллида, Котида, Кратеида и Куротрофа. Кроме того, ее стали сближать, а нередко и отождествлять с такими богинями, как Артемида, Селена, Мена, Персефона, Физида, Бендида, Бона Деа, Диана, Эрешкигаль и Исида.
Нередко Геката ассоциировалась с Гермесом, поскольку из всех представителей мужской части греческого пантеона он был наиболее тесно связан с идеями рубежа и порога. На дефиксионах Гермес Хтоний часто упоминается вместе с Гекатой Хтонией. Статуя Гермеса Пропилейского, стоявшего, по сообщению Павсания, у входа в афинский акрополь, выполняла ту же защитную функцию, что и изображения Гекаты Пропилеи. А в связывающем заклинании из греческого магического папируса (PGM III. 1-164) имена двух этих божеств даже соединяются в единое имя Гермеката (Ἑρμεκάτη).
Также в связи с Гекатой в различных сюжетах фигурирует Гелиос. В гомеровом гимне «К Деметре» Гелиос — единственный, кто наряду с Гекатой слышит крик похищаемой Персефоны. Сближены эти два божества и во фрагменте гимна из утраченной пьесы Софокла «Зельекопы» (V век до н.э.):
Ты, о Гелий-владыка и пламень святой,
Перекрестков царицы, Гекаты, доспех!
Ведь тобой на высотах Олимпа она
Потрясает, тебя по распутьям несет,
Увенчавши дубовой листвою главу
И плетеньем из змей ядовитых.
По числу упоминаний в греческих магических папирусах Гелиос (иногда отождествляемый с Аполлоном) занимает первое место среди богов, а Геката — среди богинь. Кроме того, Гелиос и Геката упоминаются (хотя и по отдельности) в различных источниках как родители волшебниц Кирки и Медеи. По одной из версий, Гелиос был дедом Гекаты, которая, в свою очередь, родила двух упомянутых чародеек:
«У Гелиоса было два сына: Ээт и Перс. Ээт стал царем Колхиды, а Перс — Тавриды <…> У Перса была дочь Геката <…> Геката вышла замуж за Ээта и родила от него двух дочерей — Кирку и Медею, а также сына Эгиалея». (Диодор Сицилийский, «Историческая библиотека», V.XLV.1)
В «Аргонавтике» Медея призывает Гелиоса и Гекату (Персеиду, т.е. дочь Перса) в свидетели своей клятвы:
Гелия блеск мне святой пусть ручателем будет,
Пусть поручатся за то и бденья ночной Персеиды…
Зевс также устойчиво ассоциируется с Гекатой — еще со времен «Теогонии», где
…ее перед всеми
Зевс отличил Громовержец и славный удел даровал ей:
Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря.
(Гесиод «Теогония»)
Некоторые источники называют Зевса ее отцом. Вдвоем же Зевс и Геката составляют центральную пару божеств «Халдейских оракулов»: Геката выступает как посредница, Сотера («спасительница»), несущая божественное влияние верховного бога, Зевса, во все миры и всем живым созданиям.
Иногда Геката отождествляется с матерью чудовищной Скиллы — морской богиней Кратеидой,³ а иногда и с самой Скиллой. Слияние этих персонажей объясняется, среди прочего, тем, что Кратеида, как и Геката, носила эпитет Скилакагетис («Предводительница собак»). В «Аргонавтике» Гера, покровительница Ясона, просит морскую богиню Фетиду уберечь аргонавтов:
Также беспомощным им ты не дай ни с Харибдой спознаться,_________________________
Дабы она, их всех поглотив, с собой не умчала,
Ни в тайники ненавистные к Скилле — грозе величайшей
Вод Авзонийских — попасть, к той Скилле, которая Форку
Порождена Гекатой ночной и зовется Кратайей,³ —
Дабы, бросаясь, она не сдавила в челюстях страшных
Лучших героев.
[3] Κραταιΐς (-ΐδος) ἡ Кратаида, мать Скиллы Hom.
ГЕКАТА В ЭЛЕВСИНЕ
Элевсин был для Древней Греции тем же, чем впоследствии для Европы стал Ватикан: невероятно влиятельным и могущественным религиозным центром. В Элевсине поддерживался мистериальный культ, включавший Великие и Малые мистерии, в основе которых лежал миф о богине плодородия Деметре и ее дочери Персефоне. Посвящение в Элевсинские таинства считалось исключительно важным как с общественной, так и с духовной точки зрения: оно не только придавало посвященному более высокий статус, но и, как полагали, обеспечивало счастливую загробную жизнь в подземном мире, царицей которого была Персефона.
Культ Гекаты — наряду с культами Деметры и Персефоны — тесно переплетался с Элевсинскими мистериями. Ученый II века до н.э. Аполлодор Афинский в своей «Хронике» (III.XIV.7) сообщает, что после смерти афинского царя Эрихтония на престол взошел его сын Пандион, в царствование которого Деметра пришла в Аттику и была гостеприимно принята царем Элевсина Келеем. На основании этого упоминания пришествие Деметры в Элевсин относили к периоду 1462-1432 до н.э.
Далее в той же «Хронике» утверждается, что первые мистерии в Элевсине состоялись в правление царя Эрехтея, около 1409 до н.э. Таким образом, если участие Гекаты в Элевсинских мистериях не является позднейшей интерполяцией, если эта богиня присутствовала в них с самого начала, это свидетельствует о том, что в Греции она была известна уже в XV в. до н.э., за семь столетий до первого письменного упоминания ее имени (в «Теогонии»).
Связь Гекаты с Элевсинскими мистериями сбросить со счетов невозможно. Несмотря на все разнообразие теорий и домыслов о характере таинств и ритуалов, совершавшихся в Великих и Малых мистериях, остается бесспорным одно, а именно — что Элевсин был чрезвычайно важным духовным центром. Элевсинские жрецы владели огромными участками земли и были невероятно богаты; их политическое влияние простиралось на весь известный эллинам мир. Археологические находки свидетельствуют, что святилище в Элевсине могло существовать уже около 1500 года до н.э., подтверждая тем самым датировку из «Хроники» Аполлодора.
Согласно греческому географу Павсанию, меньший по размерам храм, стоявший у входа в главное святилище, был посвящен Артемиде Пропилее и морскому богу Посейдону. Между тем «Пропилея» — «Привратница» — это один из главных эпитетов Гекаты, и не исключен, что в действительности храм был посвящен не Артемиде, а Гекате и Посейдону. Тем более что Артемида не упоминается с этим эпитетом ни в каких других источниках и не связана с мистериями Персефоны и Деметры, составлявшими элевсинский культ.
Геката, напротив, ассоциировалась в других источниках (например, в той же «Теогонии») с Посейдоном и, кроме того, в жертву ей нередко приносили рыбу. Еще одно свидетельство в пользу этой гипотезы обнаруживается на вазе, найденной при раскопках на месте малого элевсинского святилища. На ней изображена бегущая дева с двумя факелами в руках, которую большинство современных исследователей отождествляют с Гекатой.
Гомеров гимн «К Деметре» — это, по сути, канонический текст элевсинского культа: в нем излагается миф о похищении Персефоны. Напомним читателям этот сюжет, чтобы прояснить, какую роль сыграла в нем Геката.
Аид, бог подземного мира, был одинок на своем троне. Чтобы скрасить одиночество брата, Зевс, владыка богов, дозволил ему похитить свою дочь Персефону и взять ее в жены. Тогда Аид замыслил ловушку для юной девы, и богиня земли Гея вырастила по его просьбе прекрасный цветок нарцисса. Собирая цветы на Нисейской равнине с другими юными богинями, Персефона заметила нарцисс, росший в стороне, и направилась к нему, отделившись от подруг. Но тут Аид вырвался из-под земли на своей колеснице, схватил Персефону и умчал ее в подземное царство. Единственными свидетелями похищения оказались Геката, которая услышала из своей пещеры крик Персефоны, и Гелиос, бог солнца, видевший с неба все, что произошло.
Персефона тщетно взывала из-под земли к своей матери, а Деметра столь же тщетно искала дочь по всей земле. Так продолжалось девять дней, а на десятый Геката предстала перед Деметрой, поведала, что слышала отчаянный зов Персефоны, и предложила выяснить у Гелиоса имя похитителя. Гелиос рассказал все, что видел, добавил, что подлинным виновником происшедшего был сам Зевс, и попытался убедить Деметру, что владыка подземного мира — достойный жених для ее дочери. Однако Деметра осталась безутешной. В горе она скиталась по земле, изменив свой облик, пока, наконец, не пришла в Элевсин, где была принята во дворце и стала кормилицей Демофона, сына царицы Метаниры.
Деметра отказывалась от пищи и питья, до тех пор пока служанка Ямба не развеселила ее непристойными шутками. Тогда Метанира поднесла богине вина, сдобренного медом, но Деметра отвергла его, велев вместо вина поднести ей напиток под названием кикейон — смесь ячменя с водой и полеем (болотной мятой). Этот напиток впоследствии стал обрядовым в Элевсинских таинствах.
Деметра вскармливала младенца-царевича амброзией и каждую ночь тайно закаляла его в огне, чтобы сделать бессмертным. Но однажды царица Метанира застала ее за этим занятием и в ужасе вскрикнула, из-за чего обряд прервался и продолжить его было уже невозможно. Деметра открыла царице свою божественную сущность и сказала, что теперь Демофон останется смертным, как любой другой человек. Затем она велела воздвигнуть ей храм в Элевсине и справлять таинства в ее честь. Когда храм был построен, Деметра поселилась в нем и на целый год сделала землю бесплодной: урожай не взошел, и люди тяжко страдали и умирали от голода.
Увидев с Олимпа бедствия, постигшие человечество, Зевс послал к Деметре свою вестницу, богиню Ириду. Деметра не откликнулась на зов; тогда все остальные боги стали приходить к ней с дарами, умоляя вернуться на Олимп, но Деметра отвечала, что не сдвинется с места и не снимет бесплодие с земли, пока ей не возвратят дочь.
Зевс вынужден был отправить Гермеса в подземное царство, и тот уговорил Аида отпустить Персефону. Но перед тем, как расстаться с женой, Аид дал ей съесть несколько зерен граната, из-за чего Персефона оказалась привязана к подземному миру и обречена возвращаться в него снова и снова. Тем не менее, на время она воссоединилась с матерью; их обеих радостно встретила Геката, приветствовавшая Персефону в мире живых и ставшая ее проводницей в ежегодном путешествии под землю. Ибо Зевс объявил, что Персефона отныне обязана проводить треть года в царстве мертвых, со своим мужем, а две трети — на земле, с матерью. Поэтому на третью часть года земля всякий раз становится бесплодной: Деметра вновь оплакивает разлуку с дочерью.
В гомеровом гимне «К Деметре» Геката заключает Персефону в объятия и далее именуется буквально ее «предшественницей» (πρόπολος) и «последовательницей» (ὀπάων). Это не столько описание функций Гекаты, сколько указание на ее положение: при нисхождении Персефоны в подземное царство Геката шествует перед ней, а при возвращении на землю — позади нее, чтобы уберечь ее от любых опасностей. Несмотря на то, что на третью часть года Персефона принимает на себя функции хтонической царицы мертвых, на протяжении остальных двух третей она вновь становится кроткой и благодатной богиней, шествующей по земле. Поэтому в своих путешествиях в подземный мир и обратно она нуждается в Гекате как провожатой и защитнице.
Деметра была тесно связана с Гекатой не только в Элевсинских мистериях: известны другие храмы Деметры, в которых имелось святилище для Гекаты, выступавшей как стражница таинств, —
 храмы в Селинунте (Сицилия) и на острове Самофракия.
храмы в Селинунте (Сицилия) и на острове Самофракия.В схолиях к «Аргонавтике» Деметра названа матерью Гекаты. Это можно истолковать как еще одно звено сложной цепи взаимосвязей между Гекатой, Деметрой и Исидой. Деметра часто отождествлялась с Исидой, а Исида, в свою очередь, — с Гекатой. Геката и Деметра связывались друг с другом в контексте Элевсинских мистерий. Деметра объединяется с Исидой в «Истории» Геродота (V в. до н.э.) и во многих более поздних текстах, таких как «Историческая библиотека» Диодора Сицилийского (I в. до н.э.) или «Моралии» Плутарха (II в. н.э.).
Дополнительный свет на тайны Элевсина проливают золотые вакхические погребальные таблички, относящиеся к периоду с V века до н.э. по II век н.э. В текстах этих табличек — погребальных даров посвященным в орфические мистерии — подчеркиваются и важная роль Гекаты в Элевсинских таинствах, и взаимосвязанность богинь, которым поклонялись в Элевсине. Бримо (обычный эпитет Гекаты) в вакхических табличках отождествляется с двумя другими элевсинскими богинями — Деметрой и Персефоной.
В вазописи Геката изображалась стоящей у дверей святилища с двумя факелами в руках, из чего следует, что основной ее функцией в Элевсинских мистериях была роль проводницы (πρόπολος). Можно предположить, что жрицы Гекаты провожали соискателей через лабиринт подземных пещер и переходов, освещая им путь двумя факелами. Климент Александрийский сообщает, что далее разыгрывалась некая мистическая драма; из его описания можно сделать вывод, что перед соискателями ритуальным образом воспроизводился миф о похищении Персефоны как тот изложен в гомеровом гимне «К Деметре»:
«Део [Деметра] и Кора становятся действующими лицами некой мистической драмы, и Элевсин с его дадофорами [факелоносицами, титул Гекаты] справляет обряд памятования о скитаниях, похищении и скорби».
Другой христианский автор, африканец Лактанций, обращенный язычник, подтверждает предположение о важной обрядовой роли жриц-факелоносиц. В своем трактате «Божественные установления» (IV в.), он пишет, подразумевая ту же мистическую драму, что и Климент:
«Прозерпину [Персефону] ищут с горящими факелами и когда, наконец, находят, в завершение обряда все возносят благодарения и машут факелами».
С функциями Дадофоры (Δαδοφορα, «факелоносица»), освещающей путь, связаны и такие эпитеты Гекаты, как Фосфора (Φωσφόρα, «светоносная») и Пирфора (Πυρφόρα, «огненосная»). Указание на эту же роль встречается в одной недатированной схолии, где о Гекате и Аполлоне говорится, что они «озаряют дороги светом: он — днем, она же — ночью». Впоследствии огонь ее факелов превратился в пламя звездных сфер и «умный» огонь «Халдейских оракулов».
___________
Авторы статьи вплотную подходят к вопросу (но не акцентируются на нем): а не было ли изначально триморфное изображение Гекаты — скульптурной композицией трех богинь Деметры, Персефоны и Гекаты? Ведь, древнейшие статуи Гекаты имеют мономорфный характер, о чем немало свидетельств.
«Из богов эгинеты чтут больше всего Гекату и каждый год совершают таинства в честь Гекаты; они говорят, что эти таинства установил у них фракиец Орфей. Храм Гекаты находится внутри ограды. Деревянное ее изображение, работы Мирона, имеет одно лицо и одно тело. Как мне кажется, впервые Алкамен создал Гекату в виде трех соединенных друг с другом статуй; афиняне называют эту Гекату «Хранительницей крепости»,⁴ она стоит у храма «Бескрылой Ники».
(Павсаний. Описании Эллады II, 30:2)
__________________________
[4] Ἐπιπυργιδία ἡ Эпипиргидия, «Хранительница крепости», эпитет Гекаты в Афинах; (ἐπὶ τοῦ πύργου, Paus.).
В поэме Лукана «Фарсалия» (I в. н.э.) фессалийская колдунья Эрихто взывает к Персефоне, упоминая при этом Гекату как свою богиню-покровительницу:
…Ты, отвергшая небо и матерь,
Ты, Персефона, для нас воплощение третье Гекаты,⁵
Через которую я сношусь молчаливо с тенями!
(Лукан. Фарсалия, VI:699-701)
__________________________
[5] Персефона — дочь богини Деметры, похищенная Аидом (Плутоном) в преисподнюю и ставшая ее царицей. По позднейшим представлениям, она считалась одним из воплощений богини Гекаты, являвшейся на небе Селеной (Луной), на земле Артемидой (Дианой) и в подземном мире Персефоной.
В Примечаниях к поэме дается вариант персонификации трех форм Гекаты, как владычицы на небе, на земле и под землей: соответственно, Селена, Артемида и Персефона. Но Артемида — это та же Селена, богиня Луны. Поэтому, если рассматривать Персефону как «третью Гекату», то, однозначно, две другие персонификации — это Артемида-Геката (Луна) и Деметра, богиня плодородия. Первая — владычица на небе, вторая — на земле.
Мало того, как упоминается в статье, в схолиях к «Аргонавтике» Деметра напрямую названа матерью Гекаты. Прокл, повествуя об орфических воззрениях, называет Деметру матерью и Коры, и Гекаты, в то же время отмечая тождественность Гекаты и Артемиды:
…«откуда ясно, что и Лето содержится в Деметре, родившей Зевсу Кору и внутримирную Гекату, поскольку и Артемиду Орфей называет Гекатой:
_Дивная тотчас Геката, покинувши члены ребенка,
_Дщерь лепокудрой Летό, взошла на Олимп»…
Исходя из этого, просто напрашивается предположение, что изначально «триморфная» скульптурная композиция подразумевала под собой троицу женских богинь, задействованных в элевсинских мистериях. Элевсин
 имел огромное влияние не только в Греции, но и далеко за ее пределами. Культовые скульптуры в виде троицы богинь, вероятно, экспортировались в достаточно далекие от Элевсина области. Но попав в другую культуру, при отсутствии понимания мистериального смысла «троицы», композиция из трех богинь, очевидно, превратилась в трехипостасную богиню. Культ Артемиды в Малой Азии был весьма популярен. Поэтому неудивительно, что именно Артемида-Геката «узурпировала» триморфность с дальнейшим развитием образа, на базе местных «представлений о прекрасном», преимущественно, в сторону хтоничности и, где-то даже, демонизации. В то время как в Греции «в древние времена Геката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению коней, охраняла детей и юношей, даровала победу в состязаниях, в суде, на войне» (в общем, полный функционал Артемиды), и это при наличии полного отсутствия в древних источниках свидетельств о полиморфности Гекаты…
имел огромное влияние не только в Греции, но и далеко за ее пределами. Культовые скульптуры в виде троицы богинь, вероятно, экспортировались в достаточно далекие от Элевсина области. Но попав в другую культуру, при отсутствии понимания мистериального смысла «троицы», композиция из трех богинь, очевидно, превратилась в трехипостасную богиню. Культ Артемиды в Малой Азии был весьма популярен. Поэтому неудивительно, что именно Артемида-Геката «узурпировала» триморфность с дальнейшим развитием образа, на базе местных «представлений о прекрасном», преимущественно, в сторону хтоничности и, где-то даже, демонизации. В то время как в Греции «в древние времена Геката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению коней, охраняла детей и юношей, даровала победу в состязаниях, в суде, на войне» (в общем, полный функционал Артемиды), и это при наличии полного отсутствия в древних источниках свидетельств о полиморфности Гекаты…МАГИЧЕСКОЕ ЗАКЛИНАНИЕ
[Tr.: E.N. O'Neil]


«Приди ко мне, о возлюбленная госпожа, трехликая Селена (Σελήνη). Любезно услышь мои священные молитвы. Украшение ночи, юное, приносящее свет смертным, дитя утра, едущая на могучих быках. О, царица, управляющая колесницей наравне с Гелиосом, кто с тройными формами тройного изящества радостно танцует среди звезд [отождествление с Харитами (Χάριτες), тремя богинями изящества (χάρις) и грации]. Ты — правосудие и «нить Мойр» (μοῖρα, «судьба»), в трех лицах: Клото (Κλωθώ, «Пряха») и Лахес (Λάχεσις, «Рок»), и Атропос (Ἄτροπος, «Неотвратимая»). Ты — Тисифона (Τισιφόνη, «мстительница за убийство»), Мегера (Μέγαιρα, «ограничивающая»), Аллекто (Ἀλληκτώ, «неукротимая»), многоморфная, ты держишь в руках своих грозные, темные факелы, ты отверзаешь все замки́. Ты смахиваешь локоны ужасных змей со своего чела. Твой голос подобен бычьему рёву. Твое тело, ниже спины, подобно змеиному, покрыто чешуей и неразделимо. Ночная пророчица, быколикая, любящая одиночество, быкоглавая, волоокая, твой голос подобен лаю псов. Ты скрываешь свои львиные
 голени и волчьи лодыжки. Свирепые псы любимы тобой, и они отвечают тебе тем же. Не счесть имен твоих: Мена (Μήνη, «луна»); рассекающая стрелами воздух Артемида; Персефона, поражающая оленя. Освещающая ночь Селена троеглавая и троеликая, троешеяя и троегласая, богиня трех путей, несущая неугасимый пылающий огонь в трех светильниках, хранительница перекрестков, управительница тремя декадами. Призываю тебя, будь милостива и добра ко мне, внемли, защитница и покровительница всего мира ночью, перед кем демоны дрожат от страха и трепещут бессмертные боги. Богиня, в чьей силе возвысить человека, дающая справедливое потомство, призываемая многими именами, волоокая, рогатая, мать богов и людей. Природа, мать всего сущего. Ты восходишь на Олимп и нисходишь в необъятную бездну. Начало и конец — ты едина и одна управляешь всем. Все происходит от тебя, и к тебе все возвращается. Охранительница своих святилищ, ты носишь цепи Великого Кроноса, вечные и несокрушимые, в твоих руках — золотой скипетр. Письмена на скипетре сам Кронос начертал тебе, чтобы все вещи были устойчивыми в мире, требующая и исполняющая, хозяйка человечества, и сила, хаосом управляющая. Возрадуйся и внемли, призывающим тебя разными именами. Я возжигаю для тебя эти благовония, о дитя Зевса, лучница, единая на небесах, богиня гаваней, блуждающая по горам, богиня перекрестков. О подземная, ночная, адская богиня тьмы, безмолвия и ужаса, ты, кто находит свою пищу среди могил, ночи, темноты, великого хаоса, невозможно укрыться от тебя. Ты — Мойра (Mοῖρα, «судьба») и Эриния (Ἐρινύς, «гневная»), ты совершаешь правосудие и караешь. Ты держишь Цербера на цепи, темная, со змеиной чешуей, змееволосая, опоясанная змеей, пьющая кровь, приносящая смерть и разрушения, пирующая сердцами, вкушающая плоть, пожирающая трупы, ты, приносящая печаль и горе, распространяющая безумие, прими мою жертву, и исполни мою просьбу.»
голени и волчьи лодыжки. Свирепые псы любимы тобой, и они отвечают тебе тем же. Не счесть имен твоих: Мена (Μήνη, «луна»); рассекающая стрелами воздух Артемида; Персефона, поражающая оленя. Освещающая ночь Селена троеглавая и троеликая, троешеяя и троегласая, богиня трех путей, несущая неугасимый пылающий огонь в трех светильниках, хранительница перекрестков, управительница тремя декадами. Призываю тебя, будь милостива и добра ко мне, внемли, защитница и покровительница всего мира ночью, перед кем демоны дрожат от страха и трепещут бессмертные боги. Богиня, в чьей силе возвысить человека, дающая справедливое потомство, призываемая многими именами, волоокая, рогатая, мать богов и людей. Природа, мать всего сущего. Ты восходишь на Олимп и нисходишь в необъятную бездну. Начало и конец — ты едина и одна управляешь всем. Все происходит от тебя, и к тебе все возвращается. Охранительница своих святилищ, ты носишь цепи Великого Кроноса, вечные и несокрушимые, в твоих руках — золотой скипетр. Письмена на скипетре сам Кронос начертал тебе, чтобы все вещи были устойчивыми в мире, требующая и исполняющая, хозяйка человечества, и сила, хаосом управляющая. Возрадуйся и внемли, призывающим тебя разными именами. Я возжигаю для тебя эти благовония, о дитя Зевса, лучница, единая на небесах, богиня гаваней, блуждающая по горам, богиня перекрестков. О подземная, ночная, адская богиня тьмы, безмолвия и ужаса, ты, кто находит свою пищу среди могил, ночи, темноты, великого хаоса, невозможно укрыться от тебя. Ты — Мойра (Mοῖρα, «судьба») и Эриния (Ἐρινύς, «гневная»), ты совершаешь правосудие и караешь. Ты держишь Цербера на цепи, темная, со змеиной чешуей, змееволосая, опоясанная змеей, пьющая кровь, приносящая смерть и разрушения, пирующая сердцами, вкушающая плоть, пожирающая трупы, ты, приносящая печаль и горе, распространяющая безумие, прими мою жертву, и исполни мою просьбу.»_____________________________
Отождествление всевозможных богинь с луной в Малой Азии — явление весьма распространенное. Удивляет, однако, широкое вовлечение, в процесс синкретизации, греческих «тройственных» богинь, казалось бы, далеких от лунной интерпретации. Тех же, упомянутых в заклинании, Харит, например. Не менее интересное свидетельство, по поводу отождествления Мойр и Горгон с Луной, дает Климент Алекс, повествуя об орфической трактовке некоторых персонификаций:
«В трактате «О поэзии Орфея» Эпиген излагает идиоматические выражения, которые встречаются у Орфея. По его словам, «челноки с гнутым остовом» означают плуги, «ткацкая основа» — борозду, «нитью» аллегорически называется семя, «слезы Зевса» означают дождь, а «Мойры» — фазы Луны: тридцатое число, пятнадцатое и новолуние [первое число месяца]. Вот почему Орфей называет их «облаченными в белые одежды», раз они доли света. Затем «цветочком» у богослова называется весна в силу ее природы, «бездельницей» — ночь вследствие отдыха, «ликом Горгоны» — Луна из-за видимого на ней лица, а «Афродитой» — время, когда нужно сеять.»
(Климент Алекс. Строматы V, 49 [II, 360 St.])
В этой интерпретации, Клото («Пряха»), прядущая нить, «наматывает пряжу на веретено», в связи с чем, серп луны день ото дня растет. Потом приходит время полной луны Лахесис, которая, в свою очередь, «передает веретено» Атропе (Ἄτροπος, «Неотвратимая») и та, день за днем разматывает нить, до самого новолуния.
Также становится понятным, почему из трех горгон смертной была лишь Медуза. Медуза, в рассматриваемой трактовке, — это «стареющая» (убывающая) луна. «С усекновением ее головы», наступает новолуние.
ФАКЕЛОНОСНЫЕ БОГИНИ
_______________________________

Фаустина II (145-175). Рим. Сестерций (Æ 29mm, 24.65g), посмертный памятный выпуск 175/6г.
Av: бюст Фаустины; DIVA FAVSTINA PIA
Rv: Диана с длинным факелом, за плечами — серп луны; SIDERIBVS RECEPTA
_______________________________

Фаустина II (145-175), дочь Антонина Пия и жена Марка Аврелия.
Сестерций (Æ 23.95g), посмертный памятный выпуск 175/6г.
Av: бюст Фаустины II в образе Деметры, голова покрыта пеплосом; DIVA FAVSTINA PIA
Rv: Деметра с длинным факелом; AETERNITAS / S C
_______________________________

Коммод (177-192). Кизик, Мизия. Монетарий Элий Этеоней (T. Aelius Eteoneus).
Медальон (Æ 43mm, 41.04g), ок. 191/2г.
Av: бюст Коммода в образе Геракла, в львиной шкуре, за плечами палица, на голове лавровый венок; AY KAI Λ M AY KOMMOΔOC ANT CЄB ЄYC ЄYT POMAIOC HPAKΛHC
Rv: Деметра с двумя факелами, перед ней — горящий жертвенник; ЄΠI APX T AIΛ ETEΩNEΩY KYZIKHNΩN NЄΩK
_______________________________
_

Кизик, Мизия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Эфесом. Стратег Клавдий Север.
Æ 34mm (24.38g). Псевдо-автономный чекан времён Антонина Пия (138-161).
Av: голова Коры в венке из колосьев; KOPH CΩTЄIPA / KYZIKHNΩN
Rv: две культовые статуи городов «побратимов», Эфесская Артемида и Деметра с двумя факелами, почитавшаяся в Кизике вместе с Корой; APXΩN KΛ CЄBHPOC / KYZIKHNΩN NЄOKOPΩN
_______________________________

Кизик, Мизия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) со Смирной.
Медальон (AE 44mm, 35.96g), 161-180гг.
Av: голова Коры в венке из колосьев; KOPH CΩTЄIPA / KYZIKHNΩN
Rv: Деметра с двумя факелами, слева Немесида с колесом удачи, почитаемая в Смирне, справа Кора, покровительница Кизика; OMONOIA KYZIKHNΩN ΣMYPNAIΩN / ЄΠI CTPANAIB KYINTOY
_______________________________

Валериан I (P. Aurelius Licinius Valerius Valerianus, 253-260). Сарды (Σάρδεις), Лидия.
Медальон (Æ 46mm, 42.11g). Монетарий Домиций Руф (асиарх, сын второго асиарха).
Av: бюст Валериана в лучевой короне; AYT K П ΛIK OYAΛЄPIANOC CЄ;
Rv: Деметра, с двумя факелами, управляет бигой, запряженной двумя крылатыми змеями; ЄПI ΔOM POYФOY ACIAPX K YIOY B ACIAPX / CAPΔIANΩN TPI NЄΩKOP
_______________________________

Аполлония, Иллирия. Магистраты Дейнократ (Δεινοκράτεος) и Филокл (Φιλόκλης).
Драхма (AR 19mm, 3.86g), I в. до н.э.
Av: голова Аполлона в лавровом венке; ΔEINOKPATE
Rv: три нимфы Лампады, танцующие с факелом в руках вокруг жертвенного огня; AПOΛ / ΦIΛOKΛHΣ
_______________________________

Аполлония, Иллирия. Магистраты Архен и Никонор. Драхма (AR 19mm, 3.88g), I в. до н.э.
Av: голова Аполлона в лавровом венке; APXHN
Rv: три нимфы Лампады, танцующие с факелом в руках вокруг жертвенного огня; AПOΛ / NIKANΩP
• Нимфы факелоносицы (λαμπαδηφόρος), спутницы Гекаты, именуемые также Лампадами (λαμπάδοι), упоминаются Алкманом (спартанский лирический поэт VII в. до н.э.; Alkman, fragment 63).
_______________________________

Феры (Φεραί), Фессалия. Статер (AR 11.31g), 302-286 до н.э. Магистрат Астомедон.
Av: голова нимфы Гепереи в венке из тростника; слева источник Геперея, в виде головы льва, из пасти которого вытекает вода;
Rv: Эннодия (Ἐννοδία, «девятидорожная»), с двумя факелами в руках, скачет на лошади; слева венок; ΑΣΤΟΜΕΔΟΝ (внутри венка) / ΦΕΡΑΙOYΝ
• Эннодию отождествляют с Гекатой и Артемидой, т.е. это не имя, а эпитет. Эпитет Эннодия также употребляется с одной «н», тогда он означает просто «дорожная», т.е. покровительствующая путникам. Вероятно, это упрощение происходит от того, что эпитет «девятидорожная» был заимствован из Фракии, и в Греции не находил должного понимания.
Ἐννέα ὁδοί — Девять Путей (местность в области Амфиполя, во Фракии) Her., Thuc.
Ἐνοδία ἡ Энодия, «Придорожная» (эпитет Гекаты) Eur., Luc.
ἐνόδιος (ἐν-όδιος), эп. εἰνόδιος
1) находящийся у дороги, придорожный;
2) покровительствующий дорогам, охраняющий пути;
ex. (Ἕρμῆς Theocr.); ἡ ἐνοδία θεός Soph. или δαίμων Plat. = Ἑκάτη
_______________________________

Феры (Φεραί), Фессалия. Статер (AR 11.63g), 280-270 до н.э.
Av: голова нимфы Гепереи в венке из тростника;
Rv: Эннодия, с длинным факелом в руках, скачет на лошади; слева голова льва; ΦΕΡΑΙΩΝ
_______________________________

Постум (Postumus, 260-269). Треверы (Treveri), Галлия. Антониниан (BI 20mm, 3.28g), ок. 266г.
Av: бюст Постума в лучевой короне; IMP C POSTVMVS P F AVG
Rv: Диана Светоносная в короткой тунике, с факелом в руках и колчаном за спиной; DIANAE LVCIFERAE
_______________________________
_

Фессалия (Θεσσαλία), Фессалийская Лига. Магистраты Никократ, Филоксенид и Петрей (Nikokrates, Philoxenides, Petraios).
Гемистатер (AR 2.88g), ок. 45 до н.э.
Av: голова Аполлона в лавровом венке; NIKOKPATEYΣ;
Rv: Артемида Светоносная (Φωσφόρος) с двумя факелами; ФIΛOΞE / ΘΕΣΣΑΛΩΝ / ПЕ[TPA]
_______________________________

Римская республика. Рим, монетарий Публий Клодий. Денарий (AR 3.87g), 42 до н.э.
Av: голова Аполлона, в лавровом венке, слева лира;
Rv: Диана, с луком и колчаном за плечами, держит два длинных горящих факела; P. CLODIVS M. F. (Publius Clodius Marci filius).
_______________________________

Перинф, Фракия. Псевдо-автономный чекан. Æ 24mm (7.94g), ок. II в.
Av: бюст Деметры в диадеме, голова покрыта пеплосом, держит мак и колосья;
Rv: Артемида с двумя факелами; ПEРINΘIΩN
_______________________________

Гордиан III (238-244). Рим. Аурей (AV 5.00g), 241/2г.
Av: бюст Гордина III, в лавровом венке; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Rv: Диана Светоносная с длинным факелом; DIANA LVCIFERA
_______________________________

Бруттий (Bruttium, греч. Βρεττία). Гемидрахма (AR 2.29g), ок. 216-214 до н.э. Аттический стандарт, выпуск времён Второй Пунической войны.
Av: голова Аполлона в лавровом венке; слева — звезда;
Rv: Артемида стоит с факелом, за плечом — колчан, в правой руке держит стрелу; у ног — собака; слева — краб; BPETTIΩN
_______________________________

Марк Аврелий, как цезарь (139-161). Апамея, Вифиния. Æ 30mm, (16.71g).
Av: бюст Марка Аврелия; M AVRELIVS CAES AVG P F;
Rv: Диана Светоносная управляет бигой, запряженной оленями; в руках держит два факела, за плечом — колчан; DIANAE LVCIF AVG / C I C A D D (Colonia Iulia Concordia Apamea Decreto Decurionum).
_______________________________

Фаустина Старшая, жена Антонина Пия. Рим. Денарий (AR 18mm, 3.61g), 147г.
Av: бюст Фаустины; DIVA FAVSTINA
Rv: Деметра стоит с длинным факелом, в правой руке держит пучок колосьев; AVGVSTA
_______________________________

Гордиан III (238-244). Перинф, Фракия. Медальон (Æ 41mm, 40.74g). Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Никомедией.
Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AYT K M ANT ГOPΔIANOC AYГ
Rv: Деметра, покровительница Никомедии, держит длинный факел; голова, украшенная венком из колосьев, покрыта пеплосом; против нее стоит Тюхе, покровительница Перинфа, с Рогом изобилия в левой руке; ПEРINΘIΩN ΔΙC ΝEΩΚΟΡΩΝ / ΝΙΚΟΜΗΔEΩΝ / OMONOIA
_______________________________

Клавдий (41-54). Рим. Дупондий (Æ 27mm, 13.18g), ок. 41-50гг.
Av: бюст Клавдия; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP
Rv: Деметра на троне с факелом и пучком колосьев; CERES / S C
_______________________________

Каракалла (198-217). Сердика, Фракия. Æ 30mm (18.62g).
Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; AYT K M AYP CEYH ANTΩNEINOC
Rv: Деметра с длинным горящим факелом, который обвивает змея; в правой руке держит патеру; рядом стоит мистическая циста, из которой выползает змея; OYΛПIAC CEPΔIKHC
_______________________________

Каракалла (211-217). Стратоникея, Кария. Медальон (Æ 19.79g), ок. 202-211гг.
Av: бюсты Каракаллы в лавровом венке и его жены Плавтиллы (Publia Fulvia Plautilla) в диадеме; между ними две контрмарки: голова в шлеме и ΘЄΟΥ / ΡΑ ΚΑ N Μ ΑΥΡ ΑΝ ΚΑΙ ΘЄ СЄΒ ΝЄ ΤСΛΑΥΤΙΛ
Rv: Геката, с модиусом на голове, в левой руке — факел, в правой — патера, рядом собака; CΤΡΑΤΟΝЄΙΚЄΟΝ ЄΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡ ΤΒ ΚΑ ΔΙΟΝΥCΙΟΥ
_______________________________

Стратоникея (Στρατονίκεια), Кария. Драхма (AR 18mm, 3.69g), конец I в. до н.э. Магистрат Зопир (Ζώπυρος).
Av: голова Гекаты в лавровом венке, над головой — полумесяц; ZΩПYPOΣ
Rv: культовая статуя Зевса Хрисаорея, со скипетром, верхом на коне; ΣTPA
_______________________________

Стратоникея (Στρατονίκεια), Кария. Гемидрахма (AR 15mm, 1.43g), ок. 41-68гг.
Av: голова Гекаты в лавровом венке, над головой — полумесяц; ЄΚΑΤΑΙΟC CѠC ΑΝΔΡΟΥ (Ἑκαταῖος σῶς ἀνδρόυ — «Гекате, защитнице человека»).
Rv: в квадратном поле крылатая Ника с пальмовой ветвью и лавровым венком; CΤΡΑΤΟΝΙΚЄѠΝ
_______________________________
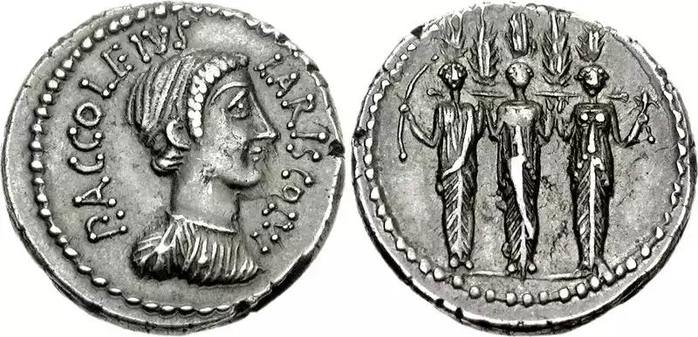
Римская республика. Рим, монетарий Публий Акколей Ларискол.
Денарий (AR 4.14g), 43 до н.э.
Av: бюст Дианы Немийской (Diana Nemorensis); P ACCOLEIVS LARISCOLVI
Rv: триморфная Диана, представленная Артемидой (с луком в руке), Гекатой и Селеной (держащей в руке лилию); позади — верхушки пяти кипарисов.
_______________________________

Юлия Мамея (Julia Mamaea Augusta, 222-235). Томы, Нижняя Мезия. Æ 24mm (10.56g).
Av: бюст Юлии Мамеи; IOYΛIA MAMAIA AYГ
Rv: бюст Гекаты (triform) на колонне, в руках — змеи, ножи и факелы; MHTPOПONTOY TOMEΩC / Γ (denomination).
_______________________________

Септимий Север (Lucius Septimius Severus, 193-211). Апамея, Фригия. Æ 15mm (2.41g).
Av: бюст богини Тюхе в башенной короне; AΠAMЄIA
Rv: триморфная Геката; CΩTЄIPA
_______________________________

Адриан (117-138). Галикарнасс, Кария. Æ 26mm (10.59g), ок.117-125гг.
Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYTOKPATOP TPAIANOC AΔPIANOC KAI CЄ;
Rv: Геката (triform) с шестью факелами; AΛIKAPNACCЄΩN
_______________________________

Агафокл (Ἀγαθοκλῆς, 190-180 до н.э.). Греко-бактрийское царство. Тетрадрахма (AR 31mm, 16.51g).
Av: бюст Агафокла с тенией на голове;
Rv: Зевс, со скипетром в левой руке, в правой руке держит статуэтку трехликой Гекаты с факелами; BAΣIΛEΩΣ AΓAΘOKΛEOΥΣ
_______________________________
ОРФИЧЕСКИЕ ГИМНЫ
I. К ГЕКАТЕ
Я придорожную славлю Гекату пустых перекрестков,
Сущую в море, на суше и в небе, в шафранном наряде,
Ту, примогильную, славлю, что буйствует с душами мертвых,
Ту нелюдимку Персею, что ланьей гордится упряжкой,
Буйную славлю царицу ночную со свитой собачьей.
Не опоясана, с рыком звериным, на вид неподступна,
О Тавропола, о ты, что ключами от целого мира
Мощно владеешь, кормилица юношей, нимфа-вождиня,
Горных жилица высот, безбрачная — я умоляю,
Вняв моленью, гряди на таинства чистые наши
С лаской к тому волопасу, что вечно душою приветен!
VIII. К СЕЛЕНЕ
Внемли, богиня, царица Селена, дарящая светом!
С рожками бычьими Месяц, бродящий в ночи небожитель!
В факелах шествий ночных, о Луна, благозвездная дева,
То ты полнеешь, то таешь, и женщина ты, и мужчина,
О конелюбица, о плодоносная, матерь ты году,
Грустное ночи светило, блестящая, вся из электра,
Ты, о бессонная, ты, о всезрящая, в звездном уборе,
В радость тебе — тишина и счастье благого удела,
Прелестью блещешь, носящая рожки, ночи украшенье,
В пеплосе тонком ты кружишь, всемудрая звездная дева,
Ныне, блаженная, добрая, в свете своем благозвездном,
В полном сиянье явись, храня неофитов, о дева!
XXIX. ГИМН ПЕРСЕФОНЕ
О, гряди, Ферсефона, рожденная Зевсом великим,
Единородная, жертвы прими благосклонно, богиня!
Ты, жизнетворная, мудрая, ты, о супруга Плутона,
Ты под путями земными владеешь вратами Аида,
Ветка святая Деметры, в прелестных кудрях Праксидика,
Ты Евменид породила, подземного царства царица,
Дева, рожденная Зевсовым семенем неизречимым,
Мать Евбулея, чей образ изменчив, гремящего страшно,
Сверстница Ор светоносная, в блеске красы несказанной,
О вседержащая дева, плодами обильная щедро,
Смертным одна ты желанна, рогатая, в блеске прекрасном.
Вешней порою на радость тебе дуновения с луга,
Тело святое твое указуют зеленые всходы,
Осенью вновь похищаема ты для брачного ложа,
Ты одна — и жизнь, и смерть для людей многобедных,
Ферсефона — всегда ты «несешь» и всегда «убиваешь».
Внемли, блаженная, из-под земли урожай посылая,
Дай процветание в мире, здоровье с целящею дланью,
Благополучную жизнь, что под тяжкую старость приходит
В царство твое, о царица, к Плутону, чья благостна сила.
XL. ДЕМЕТРЕ ЭЛЕВСИНСКОЙ
Внемли, Део, богиня-всематерь, почтеннейший демон,
Юность растящая, счастья дарящая ты, о Деметра,
Ты наделяешь, богиня, богатством, питаешь колосья,
Мир, всецарящая, любишь, трудам многохлопотным рада,
И семена ты хранишь, и зеленые всходы, и жатву,
В кучи ссыпаешь зерно, Элевсинской долины жилица.
Смертного люда кормилица, всем ты мила и желанна,
Пахарю первая ты быков запряженных вручила,
Смертным желая подать отрадное в жизни обилье,
Ты, сотрапезница Бромия, славная, все уточняешь,
Факелоносная, чистая, серп тебе летний — отрада.
Ты, о подземная, явная всем, ты ко всем милосердна,
Детолюбивая, добрая матерь, растящая юность,
Ты запрягла колесницу — вся упряжь ее змеевидна,
Вакховы буйные пляски твой трон окружают, ликуя,
Единородная, о многоплодная, о всецарица.
Ты, о цветочная, чистая, разная в обликах многих
Ныне гряди, о блаженная, летними полнясь плодами,
Мир к нам веди, приведи желанное благозаконье,
Славный достаток и с ними всему господина — здоровье!
_______________________________
ГИМН ДЕМЕТРЕ. ГОМЕР
Девять скиталася дней непрерывно Део пречестная,⁶
С факелом в каждой руке, обходя всю широкую землю,
И не вкусила ни разу амвросии с нектаром сладким,
Кожи нетленной своей не омыла ни разу водою.
Но лишь десятая в небе забрезжила светлая Эос,⁷
Встретилась скорбной богине Геката, державшая светоч,
Вествуя матери, слово сказала и так взговорила:
«Пышнодарящая, добропогодная матерь Деметра!
Кто из небесных богов или смертных людей дерзновенно
Персефонею похитил и милый твой дух опечалил?
Голос ее я слыхала, однако не видела глазом,
Кто — похититель ее. По совести все говорю я»…
Так говорила Геката. И ей не ответила речью
Реи прекрасноволосая дочь, но вперед устремилась
С факелом в каждой руке, в сопутствии девы Гекаты.
<…>
Дева-Геката приблизилась к ним [к Деметре и Коре] в покрывале блестящем;
Чистую дочерь Деметры в объятья она заключила.
С этой поры ей служанкой и спутницей стала царица.
(Гомеровы гимны. К Деметре, 47-61; 438-440)
________________________________
[6] Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
[7] ἕως, эп.-ион. ἠώς, дор. ἀώς, эол. αὔως ἡ утренняя заря.
_______________________________

Кизик, Мизия. Медальон (Æ 42mm, 37.70g), II в.
Av: голова Коры в венке из колосьев; KOPH CΩTЄIPA / KYZIKHNΩN
Rv: на крыше храма — три статуи богинь, Деметра — с двумя факелами, и по краям факелоносные Кора и Артемида; рядом с храмом — два длинных факела, обвитые змеями; KYZIKHNΩN NЄOKOPΩN
_______________________________

Адриан (117-138). Кизик, Мизия. Æ 31mm (22.27g).
Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAI TPAI AΔPIA CEB
Rv: на крыше храма — статуи Деметры, Коры и Артемиды с факелами; KYZIKHNΩN
_______________________________

Кизик, Мизия. Æ 28mm (14.17g), II в.
Av: бюст Кизика (Κύζικος, гений и эпоним города); KYZIKOC
Rv: на крыше храма — статуи Деметры, Коры и Артемиды с факелами; KYZIKHNΩN NЄΩKOPΩN
_______________________________
|
Метки: Геката Деметра Персефона Артемида Греция Мистерии |
СОСИПОЛЬ ЭЛЕЙСКИЙ |
Павсаний
ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ VI. ЭЛИДА (II); XX:1-3
1. Гора Кроний (Κρόνιον) <…> простирается вдоль террасы и находящихся на ней сокровищниц. На вершине этой горы в весеннее равноденствие, в месяце, который у элейцев носит имя Элафия (Ἐλαφίῳ μηνὶ),¹ так называемые басилы (Βασίλαι, цари) приносят жертвы Кроносу.
2. У самой подошвы горы, где начинается Кроний, с северной стороны [от Альтиса], между сокровищницами и горой, находится храм Илифии (Εἰλείθυια), в котором воздается поклонение Сосиполю, природному покровителю элейцев. Что касается Илифии, которую они называют Олимпийской, то для служения этой богине они каждый год избирают жрицу; та же старая женщина, которая служит Сосиполю, связана с элейским законом о беспорочной жизни и сама приносит богу воду для омовения и возлагает перед ним [ячменные] лепешки с медом. В переднем помещении храма — он сделан из двух частей — находится жертвенник Илифии, и сюда доступ людям свободен; во внутренней части поклоняются Сосиполю, и доступ туда не разрешен никому, кроме служительницы бога, да и то, покрыв лицо и голову белым покрывалом; а девушки и женщины, оставшись в помещении Илифии, поют в честь него гимн. Они почитают его, совершая всякого рода воскурения, но делать ему возлияния вином они считают недозволенным. И клятва именем Сосиполя считается величайшей.
3. Говорят, когда аркадяне вторглись с войском в Элиду и элейцы выступили против них, к элейским военачальникам пришла женщина, с новорожденным ребенком у груди, и сказала, что этого ребенка родила она, но в силу сновидения она отдает его элейцам как их будущего союзника. Поверив словам этой женщины, начальники положили перед войском нагого ребенка. Аркадяне стали наступать, и тогда вдруг ребенок обратился в дракона (в огромного змея, греч. δράκων).² Аркадяне пришли в смятение от такого зрелища и обратились в бегство; элейцы насели на них, одержали блистательную победу и дали этому богу имя Сосиполя (Σωσίπολις, Спаситель города). Там, где после битвы, по их мнению, дракон исчез, уйдя в землю, там они поставили храм. Вместе с ним они решили почитать и Илифию за то, что она произвела на свет этого ребенка. Памятник аркадян, убитых в этой битве, находится на холме, по ту сторону Кладея, к западу.
___________________________
[1] ἐλάφειος — олений; (ex. τά ἐλαφοκέρατα оленьи рога);
Ἐλαφηβολιών (-ῶνος) ὁ Элафеболион (девятый месяц аттического календаря, соответствует 2-ой половине марта и 1-ой половине апреля) Thuc., Aeschin., Arst.
[2] Роберт Грейвс считает, что змей Сосиполь был гением горы Кроний.
Единственно на чем основывается Грейвс, это расположение храма Илифии (в котором жил гений Сосиполь) у подножья горы Кроний. Но это вообще не о чем не свидетельствует. Тем более, что «Сосиполь» — это эпитет означающий «Защитник города». Эпитет не оригинальный, такой же носили, например, Зевс Сосиполь в Магнесии, или гений реки и одноименного города Гелас в Сицилии.
С другой стороны, соседство реки Алфей дает хорошие шансы отождествить его (гения реки) со змеем, в которого превратился ребенок, рожденный Илифией. В пользу этого может также сыграть и некоторое созвучие имен Алфея (Ἀλφειός) и Илифии (Εἰλείθυια). Да и самоназвание элейцев (Ἠλείοις), чьим «природным покровителем» (как утверждает Павсаний) был Сосиполь, отчасти, тоже созвучно Алфею (Ἀλφειός).
Этой красивой конструкции вредит только то, что главный город Элиды (с тем же названием) располагался на реке Пеней. Т.е. еще одна версия имени элейского Сосиполя — Пеней, гений одноименной реки.
Впрочем, Павсаний не уточняет защитником какого именно города был Сосиполь, почитаемый в храме Илифии. Не менее важным в Элиде был город Писа (на реке Алфей), близ которого проходили Олимпийские игры. Сами Олимпийские игры называются так в честь Олимпии (священный участок Зевса, на правом берегу Алфея, близ Писы, застроенный храмами и множеством принадлежащих к ним зданий). Кстати, судя по эпитету Илифии — Олимпийская — Сосиполь должен быть именно защитником Олимпии. Священная роща Зевса в Олимпии иначе именовалась — Альтис (Ἄλτις), что удивительно созвучно с именем Алфея (Ἀλφειός).
В пользу гения реки Алфея (как носителя эпитета Сосиполь) говорит и характер его течения — река то уходит под землю, то снова выходит на поверхность. Не исключено, что это перекликается с представлением о том, что храм Илифии стоит на месте, где змей Сосиполь исчез в земле. Частый уход реки Алфея под землю послужил сюжетом мифа о преследовании гением реки Алфеем нимфы Аретусы. Подробнее этот сюжет рассматривается в теме Гении рек.
Единственное существенное противоречие в отождествлении Алфея с Сосиполем — это то, что родителями всех рек, согласно греческой мифологии, были титаны Океан и Тефида. Хотя, зачастую, в разных регионах генеалогия тех или иных богов существенно различалась, подгоняясь под местную специфику.
С той же Илифией ситуация крайне запутанная. Гомер в Илиаде (XI 270; XIX 119) повествует, что было несколько Илифий, их он называет дочерьми Геры. Однако в Одиссее (XIX 189) упомянута лишь одна. В гимне Олена в честь Илифии сказано, что она старше Крона, ее уподобляют богине судьбы, и она была матерью Эрота. Согласно Гесиоду, Илифия — дочь Зевса и Геры.
Скорее всего, множественность Илифий связана с отождествлениями богини, как родовспомогательницы, с другими богинями (Артемидой, иногда, самой Герой, в Египте — с Исидой и Бубастис).
В продолжение описания Элиды, Павсаний излагает нижеследующую историю связанную с гением реки Алфеем. С одной стороны, эти мифы не связаны между собой. С другой стороны, имена (эпитеты) героев этого мифа несут в себе удивительные созвучия, заставляющие обратить на себя внимание.
ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ VI. ЭЛИДА (II); XXII:5
8. Если идти в Элиду дорогой через равнину, то [от Олимпии] до Летрин будет 120 стадий, а от Летрин до Элиды — 180. В прежние времена Летрины были городком, и их основателем был Летрей, сын Пелопа. В мое время зданий тут осталось мало; но в храме сохранилась статуя Артемиды Алфиеи (Ἀλφειαία).
9. Говорят, что такое наименование дано богине по следующему поводу: Алфей влюбился в Артемиду, но, влюбившись и поняв, что ни убеждениями, ни просьбами ему не склонить ее на брак, он решился овладеть богиней насилием; он явился в Летрины на ночной праздник, справляемый самой Артемидой и нимфами, которые, веселясь, присоединились к ней и сопровождали ее на празднике; но Артемида, подозревая Алфея в злом умысле, вымазала лицо грязью и илом как у себя, так и у тех нимф, которые тут были; и когда пришел Алфей, он не мог отличить Артемиду от других и вернулся, не выполнив своего намерения, так как он так и не узнал Артемиды.
10. Поэтому летринейцы назвали богиню Алфиеей за любовь к ней Алфея; а элейцы, у которых искони была дружба с летринейцами, те обряды, которые были у них установлены в честь Артемиды Элафиеи (Ἐλαφιαία), перенесли в Летрины и постановили совершать их в честь Артемиды Алфиеи, и таким образом с течением времени одержал верх обычай, чтобы богиню Алфиею (Ἀλφειαία) именовать Элафиеей (Ἐλαφιαία).³
11. Элафиеей же элейцы называют богиню, как мне кажется, из-за охоты на оленей (ἐλάφων). Сами же они утверждают, что была местная жительница, по имени Элафион (Ἐλάφιον), и, как они говорят, она была кормилицей Артемиды.


1. Катана (Κατάνη), Сицилия. Тетрадрахма (AR 26mm, 17.07g), ок. 460-450 до н.э. Av: крылатая Ника с тенией (ταινία, taenia) в руке; KATANAION. Rv: речной бог Алфей в трёх ипостасях: в образе быка с человеческой головой, вверху — антропоморфно, внизу — в виде водяной змеи (ὓδρᾱ, гидра).
2. Неаполь (Νεόπολις), Кампания. AR 19mm (7.23g), ок. 300-275 до н.э. Av: голова Артемиды Алфейской в диадеме; APTEMI. Rv: гений реки Ахелой в образе быка с человеческим лицом, над ним крылатая Ника несущая лавровый венок; NEOΠOΛITΩN / ΘE
___________________________
[3] Первое, что бросается в глаза, это не только схожесть эпитетов Артемиды в Летринах и Элиде (Ἀλφειαία и Ἐλαφιαία, соответственно), но и их созвучие с именем Илифия (Εἰλείθυια). Не мудрено, что с такими созвучиями богинь Артемиду и Илифию отождествляли.
Хотя, если принять версию, что Сосиполь — это эпитет Алфея, то отождествление (или путаница с именами) богинь, применительно к предыдущему мифу, могло бы привести к полному несоответствию разных эпизодов, связанных с Алфеем. С одной стороны, он выступает в качестве сына, с другой — героя-любовника. Умозрительно, эта причина могла бы объяснить, почему память народная не сохранила имени Защитника города (Сосиполя).
Справедливости ради, нужно заметить, что в другой главе (в описании города Элиды) Павсаний упоминает Сосиполя, которого почитали в храме Тюхе. И в этом случае Защитник города — безымянный. Мало того, Павсаний не рассказывает никакой истории, связанной с этим Сосиполем, и не объясняет его присутствие в храме Тюхе. Изображение его — антропоморфное, как обычно изображают гениев — юноша с Рогом изобилия.
_______________________________

3. Адриан (117-138). Рим.
Аурей (AV 18mm, 7.28g), ок. 134-138г.
Av: голова Адриана; HADRIANVS AVG COS III P P
Rv: гений римского народа (Genio Populi Romani) перед алтарем, совершает возлияние из патеры, в левой руке держит Рог изобилия; GENIO P R
______________________________________________________________
ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ VI. ЭЛИДА (II); XXV:4
У элейцев есть и святилище Тюхе (Счастья). В галерее святилища стоит статуя огромной величины; она сделана в виде деревянного позолоченного изображения, за исключением лица и конечностей рук и ног, которые у нее сделаны из белого мрамора. Тут же совершают поклонение и Сосиполю, налево от святилища Тюхе, в небольшом здании. Бог изображен на картине в таком виде, каким он явился в сновидении, по возрасту мальчик, закутанный в хламиду, усеянную звездами. В одной руке он держит рог Амалфеи.⁴
___________________________
[4] В тексте нет никакого намека, тот же это Сосиполь или другой. Может быть, у элейцев понятия «гений» (γένευς, δαίμων) и «Сосиполь» (Σωσίπολις) были тождественны? Очень на то похоже.
Σοσίπολις (σοσί-πολις) защитник города;
σόω <σόος > (только conjct.: 2 л. sing. σόῃς, 3 л. sing. σόῃ и 3 л. pl. σόωσι) спасать, избавлять от гибели, сохранять;
πόλις, эп. тж. πτόλις (-εως и -εος), ион.-дор. -ιος, эп. -ηος
1) город; ex. Ἀθηναίων π. Thuc.; π. ἄκρη (= ἀκρόπολις) Hom. — городской кремль, акрополь;
2) кремль, цитадель; ex. Ἰνάχου π. Eur. — кремль Инаха (в Аргосе);
3) страна; ex. (ἥδε π. καὴ γαῖα Hom.);
4) остров; ex. Εὔβοι ́ Ἀθήναις ἔστι τις γείτων π. Eur. — Эвбея есть остров (или страна) по соседству с Афинами;
5) община, население, граждане; ex. (π. καὴ ἄστυ Hom.; π. ἀνάριθμος Soph.; πᾶσα ἡ π. NT.);
6) (= πολιτεία) государство (преимущ. демократическое) Hes., Pind., Soph., Xen.
Как упоминалось выше, Гелас, гений одноименной реки (Γέλας) и охранитель сицилийского города Гела (Γέλα), также носил эпитет Сосиполь (σοσίπολις или σωσίπολις — оберегающий город). Но, на монете ниже, этот эпитет дан богине, которую нумизматы затрудняются идентифицировать. Даются разные варианты, что это голова богини Ники, которую часто изображали на монетах города Гела (в том числе, возлагающую лавровый венок на голову Геласа); либо это Тюхе, покровительница многих городов; либо это нимфа, паредр Геласа, имя которой до нас не дошло.


4. Гела (Γέλα), Сицилия. Литра (AV 9mm, 0.86g), ок. 415-405 до н.э. Av: протома коня; Rv: голова покровительницы города Гела; ΣΩΣIПOΛIΣ
5. Гела (Γέλα), Сицилия. Тетрадрахма (AR 17.42g), ок. 440-430 до н.э. Av: возница правит бигой; выше — крылатая Ника с лавровым венком в руках; ГEΛOION (retrograde). Rv: Ника надевает лавровый венок на голову Геласа Сосиполя, гения одноименной реки и города; ΣOΣIПOΛIΣ (retrograde).
_______________________________
ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ VI. ЭЛИДА (II); XX:1-3
1. Гора Кроний (Κρόνιον) <…> простирается вдоль террасы и находящихся на ней сокровищниц. На вершине этой горы в весеннее равноденствие, в месяце, который у элейцев носит имя Элафия (Ἐλαφίῳ μηνὶ),¹ так называемые басилы (Βασίλαι, цари) приносят жертвы Кроносу.
2. У самой подошвы горы, где начинается Кроний, с северной стороны [от Альтиса], между сокровищницами и горой, находится храм Илифии (Εἰλείθυια), в котором воздается поклонение Сосиполю, природному покровителю элейцев. Что касается Илифии, которую они называют Олимпийской, то для служения этой богине они каждый год избирают жрицу; та же старая женщина, которая служит Сосиполю, связана с элейским законом о беспорочной жизни и сама приносит богу воду для омовения и возлагает перед ним [ячменные] лепешки с медом. В переднем помещении храма — он сделан из двух частей — находится жертвенник Илифии, и сюда доступ людям свободен; во внутренней части поклоняются Сосиполю, и доступ туда не разрешен никому, кроме служительницы бога, да и то, покрыв лицо и голову белым покрывалом; а девушки и женщины, оставшись в помещении Илифии, поют в честь него гимн. Они почитают его, совершая всякого рода воскурения, но делать ему возлияния вином они считают недозволенным. И клятва именем Сосиполя считается величайшей.
3. Говорят, когда аркадяне вторглись с войском в Элиду и элейцы выступили против них, к элейским военачальникам пришла женщина, с новорожденным ребенком у груди, и сказала, что этого ребенка родила она, но в силу сновидения она отдает его элейцам как их будущего союзника. Поверив словам этой женщины, начальники положили перед войском нагого ребенка. Аркадяне стали наступать, и тогда вдруг ребенок обратился в дракона (в огромного змея, греч. δράκων).² Аркадяне пришли в смятение от такого зрелища и обратились в бегство; элейцы насели на них, одержали блистательную победу и дали этому богу имя Сосиполя (Σωσίπολις, Спаситель города). Там, где после битвы, по их мнению, дракон исчез, уйдя в землю, там они поставили храм. Вместе с ним они решили почитать и Илифию за то, что она произвела на свет этого ребенка. Памятник аркадян, убитых в этой битве, находится на холме, по ту сторону Кладея, к западу.
___________________________
[1] ἐλάφειος — олений; (ex. τά ἐλαφοκέρατα оленьи рога);
Ἐλαφηβολιών (-ῶνος) ὁ Элафеболион (девятый месяц аттического календаря, соответствует 2-ой половине марта и 1-ой половине апреля) Thuc., Aeschin., Arst.
[2] Роберт Грейвс считает, что змей Сосиполь был гением горы Кроний.
«На северной стороне холма Крона, в святилище Илифии, жил змей по имени Сосиполь.
<…>
Сосиполь, вероятно, был духом Крона, именем которого назван холм; его голова погребена на северном склоне, чтобы защитить лежащий за холмом стадион — у слияния рек Кладей и Алфей.»
Единственно на чем основывается Грейвс, это расположение храма Илифии (в котором жил гений Сосиполь) у подножья горы Кроний. Но это вообще не о чем не свидетельствует. Тем более, что «Сосиполь» — это эпитет означающий «Защитник города». Эпитет не оригинальный, такой же носили, например, Зевс Сосиполь в Магнесии, или гений реки и одноименного города Гелас в Сицилии.
С другой стороны, соседство реки Алфей дает хорошие шансы отождествить его (гения реки) со змеем, в которого превратился ребенок, рожденный Илифией. В пользу этого может также сыграть и некоторое созвучие имен Алфея (Ἀλφειός) и Илифии (Εἰλείθυια). Да и самоназвание элейцев (Ἠλείοις), чьим «природным покровителем» (как утверждает Павсаний) был Сосиполь, отчасти, тоже созвучно Алфею (Ἀλφειός).
Этой красивой конструкции вредит только то, что главный город Элиды (с тем же названием) располагался на реке Пеней. Т.е. еще одна версия имени элейского Сосиполя — Пеней, гений одноименной реки.
Ἦλις, дор. Ἆλις (-ιδος) ἡ (эп. Ἦλιδα) Элида, страна в вост. Пелопоннесе, делившаяся на, собственно, Элиду (на севере, главный г. Элида), Πισᾶτις (в центре, главный г. Писа), и Τριφυλία (на юге, главный г. Палос) Hom., Pind., Her., Thuc.
Впрочем, Павсаний не уточняет защитником какого именно города был Сосиполь, почитаемый в храме Илифии. Не менее важным в Элиде был город Писа (на реке Алфей), близ которого проходили Олимпийские игры. Сами Олимпийские игры называются так в честь Олимпии (священный участок Зевса, на правом берегу Алфея, близ Писы, застроенный храмами и множеством принадлежащих к ним зданий). Кстати, судя по эпитету Илифии — Олимпийская — Сосиполь должен быть именно защитником Олимпии. Священная роща Зевса в Олимпии иначе именовалась — Альтис (Ἄλτις), что удивительно созвучно с именем Алфея (Ἀλφειός).
В пользу гения реки Алфея (как носителя эпитета Сосиполь) говорит и характер его течения — река то уходит под землю, то снова выходит на поверхность. Не исключено, что это перекликается с представлением о том, что храм Илифии стоит на месте, где змей Сосиполь исчез в земле. Частый уход реки Алфея под землю послужил сюжетом мифа о преследовании гением реки Алфеем нимфы Аретусы. Подробнее этот сюжет рассматривается в теме Гении рек.
• Алфей — главная река Пелопоннеса, протекающая через Аркадию и Элиду и впадающая в Ионическое море. Главные притоки Алфея: слева — Карнион, Ахелой, Диагон; справа — Гелиссон, Брепфеат, Ладон, Ериманф, Кладей (у Олимпии).
Алфей берет начало в горах Парнов близ Филаки и течет в направлении к северу до окрестностей Тегеи. Отсюда он ныне, принимая название Сарандапотамо, поворачивает на северо-восток и исчезает в катабофрах (подземной расселине). Прежде же он направлялся на северо-запад, у гор Βόρειον исчезал под землей, появлялся снова близ Асеи, опять скрывался в катабофрах (καταβόθρα) и, наконец, вторично появлялся у южного входа на равнину Мегалополя, близ Пег: до города Герайи он направлялся к северо-западу, отсюда к западу и, миновав Олимпию, впадал в Ионическое море, образуя границу между Трифилией и Элидой.
Единственное существенное противоречие в отождествлении Алфея с Сосиполем — это то, что родителями всех рек, согласно греческой мифологии, были титаны Океан и Тефида. Хотя, зачастую, в разных регионах генеалогия тех или иных богов существенно различалась, подгоняясь под местную специфику.
С той же Илифией ситуация крайне запутанная. Гомер в Илиаде (XI 270; XIX 119) повествует, что было несколько Илифий, их он называет дочерьми Геры. Однако в Одиссее (XIX 189) упомянута лишь одна. В гимне Олена в честь Илифии сказано, что она старше Крона, ее уподобляют богине судьбы, и она была матерью Эрота. Согласно Гесиоду, Илифия — дочь Зевса и Геры.
Скорее всего, множественность Илифий связана с отождествлениями богини, как родовспомогательницы, с другими богинями (Артемидой, иногда, самой Герой, в Египте — с Исидой и Бубастис).
В продолжение описания Элиды, Павсаний излагает нижеследующую историю связанную с гением реки Алфеем. С одной стороны, эти мифы не связаны между собой. С другой стороны, имена (эпитеты) героев этого мифа несут в себе удивительные созвучия, заставляющие обратить на себя внимание.
ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ VI. ЭЛИДА (II); XXII:5
8. Если идти в Элиду дорогой через равнину, то [от Олимпии] до Летрин будет 120 стадий, а от Летрин до Элиды — 180. В прежние времена Летрины были городком, и их основателем был Летрей, сын Пелопа. В мое время зданий тут осталось мало; но в храме сохранилась статуя Артемиды Алфиеи (Ἀλφειαία).
9. Говорят, что такое наименование дано богине по следующему поводу: Алфей влюбился в Артемиду, но, влюбившись и поняв, что ни убеждениями, ни просьбами ему не склонить ее на брак, он решился овладеть богиней насилием; он явился в Летрины на ночной праздник, справляемый самой Артемидой и нимфами, которые, веселясь, присоединились к ней и сопровождали ее на празднике; но Артемида, подозревая Алфея в злом умысле, вымазала лицо грязью и илом как у себя, так и у тех нимф, которые тут были; и когда пришел Алфей, он не мог отличить Артемиду от других и вернулся, не выполнив своего намерения, так как он так и не узнал Артемиды.
10. Поэтому летринейцы назвали богиню Алфиеей за любовь к ней Алфея; а элейцы, у которых искони была дружба с летринейцами, те обряды, которые были у них установлены в честь Артемиды Элафиеи (Ἐλαφιαία), перенесли в Летрины и постановили совершать их в честь Артемиды Алфиеи, и таким образом с течением времени одержал верх обычай, чтобы богиню Алфиею (Ἀλφειαία) именовать Элафиеей (Ἐλαφιαία).³
11. Элафиеей же элейцы называют богиню, как мне кажется, из-за охоты на оленей (ἐλάφων). Сами же они утверждают, что была местная жительница, по имени Элафион (Ἐλάφιον), и, как они говорят, она была кормилицей Артемиды.


1. Катана (Κατάνη), Сицилия. Тетрадрахма (AR 26mm, 17.07g), ок. 460-450 до н.э. Av: крылатая Ника с тенией (ταινία, taenia) в руке; KATANAION. Rv: речной бог Алфей в трёх ипостасях: в образе быка с человеческой головой, вверху — антропоморфно, внизу — в виде водяной змеи (ὓδρᾱ, гидра).
2. Неаполь (Νεόπολις), Кампания. AR 19mm (7.23g), ок. 300-275 до н.э. Av: голова Артемиды Алфейской в диадеме; APTEMI. Rv: гений реки Ахелой в образе быка с человеческим лицом, над ним крылатая Ника несущая лавровый венок; NEOΠOΛITΩN / ΘE
___________________________
[3] Первое, что бросается в глаза, это не только схожесть эпитетов Артемиды в Летринах и Элиде (Ἀλφειαία и Ἐλαφιαία, соответственно), но и их созвучие с именем Илифия (Εἰλείθυια). Не мудрено, что с такими созвучиями богинь Артемиду и Илифию отождествляли.
Хотя, если принять версию, что Сосиполь — это эпитет Алфея, то отождествление (или путаница с именами) богинь, применительно к предыдущему мифу, могло бы привести к полному несоответствию разных эпизодов, связанных с Алфеем. С одной стороны, он выступает в качестве сына, с другой — героя-любовника. Умозрительно, эта причина могла бы объяснить, почему память народная не сохранила имени Защитника города (Сосиполя).
Справедливости ради, нужно заметить, что в другой главе (в описании города Элиды) Павсаний упоминает Сосиполя, которого почитали в храме Тюхе. И в этом случае Защитник города — безымянный. Мало того, Павсаний не рассказывает никакой истории, связанной с этим Сосиполем, и не объясняет его присутствие в храме Тюхе. Изображение его — антропоморфное, как обычно изображают гениев — юноша с Рогом изобилия.
_______________________________

3. Адриан (117-138). Рим.
Аурей (AV 18mm, 7.28g), ок. 134-138г.
Av: голова Адриана; HADRIANVS AVG COS III P P
Rv: гений римского народа (Genio Populi Romani) перед алтарем, совершает возлияние из патеры, в левой руке держит Рог изобилия; GENIO P R
______________________________________________________________
ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ VI. ЭЛИДА (II); XXV:4
У элейцев есть и святилище Тюхе (Счастья). В галерее святилища стоит статуя огромной величины; она сделана в виде деревянного позолоченного изображения, за исключением лица и конечностей рук и ног, которые у нее сделаны из белого мрамора. Тут же совершают поклонение и Сосиполю, налево от святилища Тюхе, в небольшом здании. Бог изображен на картине в таком виде, каким он явился в сновидении, по возрасту мальчик, закутанный в хламиду, усеянную звездами. В одной руке он держит рог Амалфеи.⁴
___________________________
[4] В тексте нет никакого намека, тот же это Сосиполь или другой. Может быть, у элейцев понятия «гений» (γένευς, δαίμων) и «Сосиполь» (Σωσίπολις) были тождественны? Очень на то похоже.
Σοσίπολις (σοσί-πολις) защитник города;
σόω <σόος > (только conjct.: 2 л. sing. σόῃς, 3 л. sing. σόῃ и 3 л. pl. σόωσι) спасать, избавлять от гибели, сохранять;
πόλις, эп. тж. πτόλις (-εως и -εος), ион.-дор. -ιος, эп. -ηος
1) город; ex. Ἀθηναίων π. Thuc.; π. ἄκρη (= ἀκρόπολις) Hom. — городской кремль, акрополь;
2) кремль, цитадель; ex. Ἰνάχου π. Eur. — кремль Инаха (в Аргосе);
3) страна; ex. (ἥδε π. καὴ γαῖα Hom.);
4) остров; ex. Εὔβοι ́ Ἀθήναις ἔστι τις γείτων π. Eur. — Эвбея есть остров (или страна) по соседству с Афинами;
5) община, население, граждане; ex. (π. καὴ ἄστυ Hom.; π. ἀνάριθμος Soph.; πᾶσα ἡ π. NT.);
6) (= πολιτεία) государство (преимущ. демократическое) Hes., Pind., Soph., Xen.
Как упоминалось выше, Гелас, гений одноименной реки (Γέλας) и охранитель сицилийского города Гела (Γέλα), также носил эпитет Сосиполь (σοσίπολις или σωσίπολις — оберегающий город). Но, на монете ниже, этот эпитет дан богине, которую нумизматы затрудняются идентифицировать. Даются разные варианты, что это голова богини Ники, которую часто изображали на монетах города Гела (в том числе, возлагающую лавровый венок на голову Геласа); либо это Тюхе, покровительница многих городов; либо это нимфа, паредр Геласа, имя которой до нас не дошло.


4. Гела (Γέλα), Сицилия. Литра (AV 9mm, 0.86g), ок. 415-405 до н.э. Av: протома коня; Rv: голова покровительницы города Гела; ΣΩΣIПOΛIΣ
5. Гела (Γέλα), Сицилия. Тетрадрахма (AR 17.42g), ок. 440-430 до н.э. Av: возница правит бигой; выше — крылатая Ника с лавровым венком в руках; ГEΛOION (retrograde). Rv: Ника надевает лавровый венок на голову Геласа Сосиполя, гения одноименной реки и города; ΣOΣIПOΛIΣ (retrograde).
_______________________________
|
Метки: Сосиполь Гений Греция |






