-Метки
sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер
-Поиск по дневнику
-Постоянные читатели
Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый
-Статистика
КИКЛОПЫ |
С.В. Петров
КИКЛОПЫ ГЕСИОДА, ГОМЕРА И СТРАБОНА
Согласно Гесиоду, киклопы — «круглоглазые» (κύκλωπες) дети Геи и Урана: Арг (Ἄργης, «Сияющий»), Бронт (Βρόντης, «Громовой») и Стероп (Στερόπης, «Сверкающий»).
Сложно сказать, что повлияло на одноглазую иконографию киклопов, нельзя исключать египетский след, а именно традицию ношения головных уборов, корон или диадем, в основании которых (т.е. на лбу) располагался солнечный диск, т.е. Око Ра. В пользу этой версии, например, свидетельствует Павсаний:
Понятно, что третий глаз у Зевса мог возникнуть не иначе как искаженное заимствование из египетской символики. Помимо солнечного диска в диадеме, всем хорошо известна иконография египетских богов и фараонов с уреем на лбу. Имя кобры-урея — Уаджит, а ее дежурный эпитет «Око Ра». Символьный образ Ока-урея — не случаен, здесь имеет место игра слов.
Художник, вырезавший статую трехглазого Зевса (отождествляемого греками с Амоном), видимо, не особенно разбиравшийся в египетском символизме, разместил на лбу Зевса «Око Ра» не в виде урея, а так, как он это себе представлял, т.е. буквально, в виде третьего глаза.
Кроме того, одноглазая иконография киклопов традиционно взаимоувязывается со значением слова Κύκλωψ. Но дело в том, что этимология слова Κύκλωψ ни о какой одноглазости не свидетельствует (см. определение выше). Скорее, имело бы смысл вести речь о «пучеглазости». Формула «округлить глаза» (от удивления) — вполне себе употребима и сегодня.
Опять же, слово ὤψ имеет и другие определения (помимо значения «глаз»). Что дает возможность для иного прочтения слова κύκλωπες, например: «круглолицые» или даже «с округлыми формами». Причем, второй вариант, в свою очередь, также не однозначен, его можно толковать и как «предрасположенные к полноте», и как «атлетическое телосложение». Атлетическое телосложение киклопов (применительно к их профессиональной деятельности) мы рассмотрим чуть позже.
При прочтении второй составной части слова Κύκλωψ — ὤψ — в значении «вид, взгляд», слово киклоп можно интерпретировать и как «кругом смотрящий», по аналогии с эпитетами Зевса и Деметры (εὐρωπός — «широко смотрящий»; ευρύοπα — «далеко глядящая»).
Интересен и другой момент, имена киклопов Гесиода связаны с громом и молнией. Видимо, это объясняется их кузнечной специализацией, которую они приобрели у мастера кузнечных дел Гефеста, пребывая в подземном царстве.
Сразу после рождения, киклопы были брошены отцом (Ураном) в Тартар, освобождены титанами после свержения Урана, но вновь закованы Кроносом, захватившим верховную власть. Когда Зевс начал борьбу с Кроносом, он вновь вывел киклопов из Тартара, чтобы те пришли на помощь олимпийским богам. Киклопы ковали Зевсу перуны, которые тот метал (ἀστράπτω) в титанов. После победы Зевса в титаномахии киклопы продолжали служить Зевсу — ковать оружие для Громовержца.
Можно предположить, что работа кузнецов киклопов сопровождалась сильным грохотом, и, в этой связи, стоит рассмотреть еще одно значение слова ὤψ (ὄψ), не связанное с глазами:
Сочетание κύκλῳ (кругом, вокруг) + ὄψ позволяет дать слову Κύκλωψ очередное толкование, связанное с кузнечным делом: дословно «грохочущие (распространяющие грохот) вокруг». Что, вероятно, соотносилось с извержениями вулкана и молниями, зачастую их сопровождающими.
Кстати, имя самого Гефеста (Ἥφαιστος), наставника киклопов, соотносится со значениями «огонь» и «извержение» (ἄφεσις). Причем, «огонь» имеет однозначно подземное происхождение, и к «извержению» имеет отношение также непосредственное.
К вулканической активности, очевидно, привязаны и имена киклопов. Во время извержения вулканов, в поднимающемся из жерла столбе дыма, из-за электризации мелких частиц, часто происходят активные грозовые явления. Что и послужило поводом для наделения киклопов специфическими именами: Сияющий (Ἄργης), Сверкающий (Στερόπης), Громовой (Βρόντης). В темное время суток столб извергающегося дыма и пепла, беспрестанно подсвечивающийся всполохами молний, представляет собой завораживающее зрелище.

Слово ἀστεροπή (молния) сложносоставное: ἀστήρ (огонь) + ὀπή (жерло вулкана).
Хотя, с учетом того, что вспышки молний сопровождают раскаты грома, то более вероятная этимология слова ἀστεροπή (молния) — от рассматриваемого выше значения слова ὄψ — «гремящий»: ἀστήρ + ὄψ, т.е., дословно, «грохочущий огонь».
КИКЛОПЫ ГОМЕРА
В изложении Гомера («Одиссея»), киклопы — это мифическое племя диких одноглазых великанов,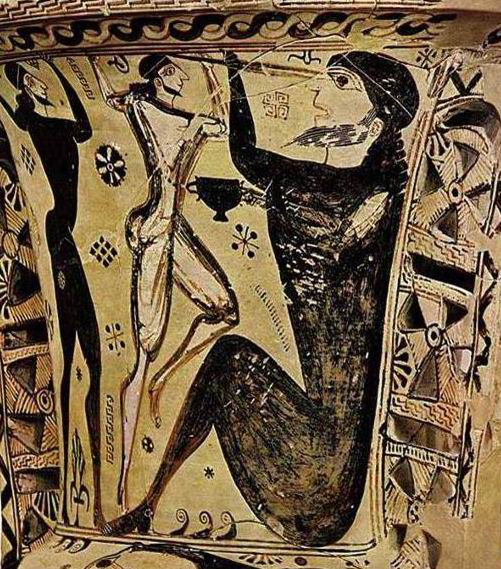 обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.
обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.
Одиссей попал в сложную ситуацию, оказавшись в пещере киклопа Полифема. Великан сожрал двух товарищей Одиссея, и намеревался расправиться с остальными. Дабы избежать этой участи и спастись из западни, Одиссей лишает Полифема единственного глаза.
Не исключено, что злобность и свирепость (ἄστοργος) киклопов Гомера каким-то образом соотносится с созвучием со словом «молнии» (ἀστήρ, ἀστεροπή), которые неустанно куют для Зевса киклопы Гесиода. Конечно, это только предположение, хотя кузница Гефеста, по свидетельству разных авторов, находится на Сицилии, в горниле горы Этны. Сюда же, на Сицилию, Еврипид, несколько отходя от гомеровской версии, помещает и племя киклопов из «Одиссеи». Впрочем, это может быть, всего лишь, попыткой совместить несовместимое, ибо даже отцом киклопа Полифема Гомер называет Посейдона. Отцом же киклопов-кузнецов был Уран. Пожалуй, единственное, что их связывает, это одноглазая иконография. Единственная проблема, состоит в том, что на древних артефактах, киклоп Полифем не выглядит одноглазым.
КИКЛОПЫ ГИПЕРИЙСКИЕ
В одном месте «Одиссеи» Гомер вскользь упоминает киклопов живших в Гиперии (Ὑπέρεια), но непонятно, те ли это киклопы из истории с Полифемом, или другие. В представлении Гомера племена киклопов вполне могли населять разные острова. К тому же и «пространная Гиперия» — страна сама по себе сказочная, не привязанная ни к какому реальному объекту, один из множества островов в Ионическом море, либо (судя по тому, что феаки были прекрасными мореходами) земли на побережье.
Любопытно, что в приведенном отрывке феаки уходят «вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих» (ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων), хотя не о каких людях, кроме самих феаков и киклопов (от которых феаки и бегут), речи нет. Да и сами киклопы описываются не как великаны, а как «мужи весьма воинственные» (ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων).²
К тому же слово ἀλφηστής³ имеет значение «добывающий пропитание», а добывать пропитание можно не только трудом, но и разбоем. Собственно набеги киклопов и заставили феаков покинуть «пространную Гиперию» и перебраться на остров Схерию. Вопрос только в том, перебрались они с одного острова на другой, или перебрались они с материка на остров. Ибо Эпир (Ἤπειρος), против которого располагается остров Схерия (Σχερίη) несколько созвучен Гиперии (Ὑπέρεια).
___________________
[2] ὑπερηνορέων (ὑπερ-ηνορέων), -οντος adj. m одаренный или гордый нечеловеческой силой Hom., Arph.
ἠνορέη, дор. ἀνορέα ἡ {ἀνήρ} мужественность, мужество, доблесть.
[3] ἀλφηστής (-οῦ) adj. m снискивающий себе пропитание, т.е. трудящийся, трудолюбивый (ἀνέρες и ἄνδρες Hom., HH., Hes., Aesch., Soph., Plut.).
ГАСТЕРОХЕЙРЫ
Гастерохейры (Γαστεροχειροί, «брюхорукие») — семь великанов киклопов, упомянутые Страбоном в трактате «География». Брюхорукими их называли якобы потому, что они на жизнь (живот) зарабатывали руками, работая каменщиками. Считалось, что они пришли вместе с царем Претом из Ликии и возвели вокруг Тиринфа массивные «киклопические» стены, использовав для этого такие огромные каменные блоки, что и «несколько мулов не смогли бы их сдвинуть с места». По преданию, они построили также и стены вокруг Микен. «И, может быть, пещеры поблизости от Навплии и сооружения в них названы по их имени». (Страбон «География» VIII)
Нужно отметить, что эпитет «брюхорукие» для великанов киклопов выглядит несколько своеобразно. Да и объяснение этимологии слова не особенно убедительно. Не только строители работают руками, чтобы набить брюхо. Поэтому имеет смысл попробовать поискать другие варианты прочтения слова «гастерохейры» (γαστεροχειροί).
Т.е. слово γαστεροχειρός теоретически могло возникнуть от искажения слова γαστροχειρός (γαστρο-χειρός) «с крепкими, мускулистыми («выпуклыми», «мясистыми») руками». Что гораздо убедительнее характеризует мифологических существ имеющих атлетические мощные руки, которыми они с легкостью поднимают массивные каменные блоки для постройки городских стен.
Возвращаясь к киклопам-кузнецам (в изложении Гесиода), кующим молнии (ἀστεροπή), можно также отметить созвучие слов ἀστήρ (огонь) и γαστήρ («выпуклость»). Могли ли киклопы владеющие огнем (χειρός ἀστέρος) из-за созвучия сменить род деятельности с кузнечного на строительный (чтобы не сказать на «брюхостроительный»)? Вопрос, естественно, риторический…
Впрочем, и для кузнечного дела необходимы крепкие руки. Недаром Гефест (Ἥφαιστος), бог огня и кузнечного мастерства, под чьим руководством и ковали перуны для Зевса киклопы Гесиода, имел эпитет «с могучими руками» (ἀμφιγυήεις).
_______________________________
КИКЛОПЫ ГЕСИОДА, ГОМЕРА И СТРАБОНА
Согласно Гесиоду, киклопы — «круглоглазые» (κύκλωπες) дети Геи и Урана: Арг (Ἄργης, «Сияющий»), Бронт (Βρόντης, «Громовой») и Стероп (Στερόπης, «Сверкающий»).

Κύκλωψ, -ωπος ὁ (dat. pl. Κύκλωψι, эп. Κυκλώπεσσι) Киклоп;
κύκλωψ (κύκλ-ωψ), -ωπος adj. круглоокий;
κύκλος
1) круг, окружность, колесо, кольцо, диск;
2) круговая стена, крепостные стены; ex. (Ἀθηνέων Her.; τοῦ ἄστεος Dem.);
3) око, глаз (тж. ὄμματος κ. Soph.);
4) круговое движение, круговорот, круговращение, цикл;
ὤψ ἡ Theocr. ὁ (acc. ὦπα, pl. тж. τὰ ὦπα) взгляд, вид, pl. глаза, лицо;
ex. ἑλίκωψ (ἑλίκ-ωψ), -ωπος adj. быстроглазый или со сверкающими глазами (Ἀχαιοί Hom.).
Сложно сказать, что повлияло на одноглазую иконографию киклопов, нельзя исключать египетский след, а именно традицию ношения головных уборов, корон или диадем, в основании которых (т.е. на лбу) располагался солнечный диск, т.е. Око Ра. В пользу этой версии, например, свидетельствует Павсаний:
«Здесь среди других посвящений хранится деревянная статуя Зевса, у которого два глаза на том месте, где они у нас всех, а третий — на лбу. Говорят, что этот Зевс был домашним богом Приама, сына Лаомедонта, и стоял на внутреннем дворе дворца под открытым небом; когда Илион был взят эллинами, под защиту алтаря этого Зевса прибег Приам.» (Павсаний. Описание Эллады II, 24:3)
Понятно, что третий глаз у Зевса мог возникнуть не иначе как искаженное заимствование из египетской символики. Помимо солнечного диска в диадеме, всем хорошо известна иконография египетских богов и фараонов с уреем на лбу. Имя кобры-урея — Уаджит, а ее дежурный эпитет «Око Ра». Символьный образ Ока-урея — не случаен, здесь имеет место игра слов.
iart — кобра;
irt — глаз (око).
Художник, вырезавший статую трехглазого Зевса (отождествляемого греками с Амоном), видимо, не особенно разбиравшийся в египетском символизме, разместил на лбу Зевса «Око Ра» не в виде урея, а так, как он это себе представлял, т.е. буквально, в виде третьего глаза.
Кроме того, одноглазая иконография киклопов традиционно взаимоувязывается со значением слова Κύκλωψ. Но дело в том, что этимология слова Κύκλωψ ни о какой одноглазости не свидетельствует (см. определение выше). Скорее, имело бы смысл вести речь о «пучеглазости». Формула «округлить глаза» (от удивления) — вполне себе употребима и сегодня.
Опять же, слово ὤψ имеет и другие определения (помимо значения «глаз»). Что дает возможность для иного прочтения слова κύκλωπες, например: «круглолицые» или даже «с округлыми формами». Причем, второй вариант, в свою очередь, также не однозначен, его можно толковать и как «предрасположенные к полноте», и как «атлетическое телосложение». Атлетическое телосложение киклопов (применительно к их профессиональной деятельности) мы рассмотрим чуть позже.
При прочтении второй составной части слова Κύκλωψ — ὤψ — в значении «вид, взгляд», слово киклоп можно интерпретировать и как «кругом смотрящий», по аналогии с эпитетами Зевса и Деметры (εὐρωπός — «широко смотрящий»; ευρύοπα — «далеко глядящая»).
Интересен и другой момент, имена киклопов Гесиода связаны с громом и молнией. Видимо, это объясняется их кузнечной специализацией, которую они приобрели у мастера кузнечных дел Гефеста, пребывая в подземном царстве.
Сразу после рождения, киклопы были брошены отцом (Ураном) в Тартар, освобождены титанами после свержения Урана, но вновь закованы Кроносом, захватившим верховную власть. Когда Зевс начал борьбу с Кроносом, он вновь вывел киклопов из Тартара, чтобы те пришли на помощь олимпийским богам. Киклопы ковали Зевсу перуны, которые тот метал (ἀστράπτω) в титанов. После победы Зевса в титаномахии киклопы продолжали служить Зевсу — ковать оружие для Громовержца.
Можно предположить, что работа кузнецов киклопов сопровождалась сильным грохотом, и, в этой связи, стоит рассмотреть еще одно значение слова ὤψ (ὄψ), не связанное с глазами:
εὐρύοπα (εὐρύ-οπᾰ) [от εὐρύ — далеко распространяющийся]
I. <ὤψ, ὄψομαι> (nom. = voc. = acc.) далеко видящий (ex. Ζεύς Hom., HH., Hes.; Κρονίδης Her.);
II. ὁ <ὄψ> далеко гремящий, далеко слышный.
Сочетание κύκλῳ (кругом, вокруг) + ὄψ позволяет дать слову Κύκλωψ очередное толкование, связанное с кузнечным делом: дословно «грохочущие (распространяющие грохот) вокруг». Что, вероятно, соотносилось с извержениями вулкана и молниями, зачастую их сопровождающими.
Кстати, имя самого Гефеста (Ἥφαιστος), наставника киклопов, соотносится со значениями «огонь» и «извержение» (ἄφεσις). Причем, «огонь» имеет однозначно подземное происхождение, и к «извержению» имеет отношение также непосредственное.
Ἥφαιστος, дор. Ἅφαιστος, эол. Ἄφαιστος ὁ 1) Гефест; 2) перен. пламя, огонь;
Ἅφαιστος, дор. и Ἄφαιστος эол. ὁ = Ἥφαιστος;
ἄφεσις (ἄφ-εσις), -εως ἡ
1) бросание, метание;
2) выпускание;
3) извержение, испускание; ex. (ὕδατος, σπέρματος Arst.);
4) отпускание, освобождение.
К вулканической активности, очевидно, привязаны и имена киклопов. Во время извержения вулканов, в поднимающемся из жерла столбе дыма, из-за электризации мелких частиц, часто происходят активные грозовые явления. Что и послужило поводом для наделения киклопов специфическими именами: Сияющий (Ἄργης), Сверкающий (Στερόπης), Громовой (Βρόντης). В темное время суток столб извергающегося дыма и пепла, беспрестанно подсвечивающийся всполохами молний, представляет собой завораживающее зрелище.

ἀστεροπή, дор. ἀστεροπά ἡ молния Hom., Pind., Arph.
ἀστεροπητής, -οῦ ὁ молниеметатель, громовержец (эпитет Зевса) Hom., Hes., Soph., Luc.
ἀστραπαῖος 1) сопровождаемый молниями, грозовой; 2) мечущий молнии; ex. θεός Arst.
Слово ἀστεροπή (молния) сложносоставное: ἀστήρ (огонь) + ὀπή (жерло вулкана).
ἀστήρ, -έρος ὁ (dat. pl. ἀστράσι или ἄστρασι);
1) звезда; ex. (ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς Hom.; Σείριος ἀ. Hes.; ἀστέρες πλάνητες Arst.);
2) метеор; ex. (διατρέχοντες ἀστέρες Arph.);
3) небесное знамение; ex. (ἀστέρα εἷναι Hom.);
4) метеорит; ex. (ἀ. πέτρινος Diog.L.);
5) сигнальный огонь, пламя; ex. (δόλιον ἀστέρα λάμψαι Eur.);
6) перен. светило, светоч, краса; ex. (ἀ. πατρίδος Plut.);
7) зоол. морская звезда (Stella marina или Asterias) Arst.
8) астер (род самосветящегося камня) Plut.
ὀπή ἡ <ὄψ II>
1) дыра, прореха (sc. τοῦ τριβωνίου Arph.);
2) яма, пещера; ex. (ἐν τῇ γῇ Arst.);
3) дымовое отверстие (в крыше) Arph.
Хотя, с учетом того, что вспышки молний сопровождают раскаты грома, то более вероятная этимология слова ἀστεροπή (молния) — от рассматриваемого выше значения слова ὄψ — «гремящий»: ἀστήρ + ὄψ, т.е., дословно, «грохочущий огонь».
КИКЛОПЫ ГОМЕРА
В изложении Гомера («Одиссея»), киклопы — это мифическое племя диких одноглазых великанов,
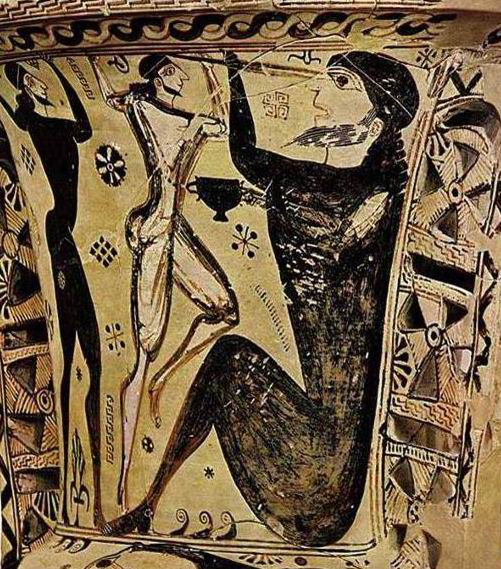 обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.
обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством. Одиссей попал в сложную ситуацию, оказавшись в пещере киклопа Полифема. Великан сожрал двух товарищей Одиссея, и намеревался расправиться с остальными. Дабы избежать этой участи и спастись из западни, Одиссей лишает Полифема единственного глаза.
Не исключено, что злобность и свирепость (ἄστοργος) киклопов Гомера каким-то образом соотносится с созвучием со словом «молнии» (ἀστήρ, ἀστεροπή), которые неустанно куют для Зевса киклопы Гесиода. Конечно, это только предположение, хотя кузница Гефеста, по свидетельству разных авторов, находится на Сицилии, в горниле горы Этны. Сюда же, на Сицилию, Еврипид, несколько отходя от гомеровской версии, помещает и племя киклопов из «Одиссеи». Впрочем, это может быть, всего лишь, попыткой совместить несовместимое, ибо даже отцом киклопа Полифема Гомер называет Посейдона. Отцом же киклопов-кузнецов был Уран. Пожалуй, единственное, что их связывает, это одноглазая иконография. Единственная проблема, состоит в том, что на древних артефактах, киклоп Полифем не выглядит одноглазым.
КИКЛОПЫ ГИПЕРИЙСКИЕ
В одном месте «Одиссеи» Гомер вскользь упоминает киклопов живших в Гиперии (Ὑπέρεια), но непонятно, те ли это киклопы из истории с Полифемом, или другие. В представлении Гомера племена киклопов вполне могли населять разные острова. К тому же и «пространная Гиперия» — страна сама по себе сказочная, не привязанная ни к какому реальному объекту, один из множества островов в Ионическом море, либо (судя по тому, что феаки были прекрасными мореходами) земли на побережье.
«Жили в прежнее время они [феаки] в Гиперее пространной¹
Невдалеке от киклопов, свирепых мужей и надменных,
Силою их превышавших и грабивших их беспрестанно.
Поднял феаков тогда и увел Навсифой боговидный
В Схерию, вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих.
Там он город стенами обвел, построил жилища,
Храмы воздвигнул богам и поля поделил между граждан.»
(Одиссея VI, 4)
___________________
[1] Ὑπέρεια ἡ Гиперия, древнейшая область феаков Hom.
Φαίακες, эп. Φαίηκες οἱ (dat. Φαίηξιν и Φαιήκεσσι) феаки (народ, населявший о-в Σχερία в Ионическом море, у побережья Эпира) Hom.
Ἤπειρος, дор. Ἄπειρος ἠ Эпир (страна на западном побережье Балканского полуострова) Hom., Xen.
Любопытно, что в приведенном отрывке феаки уходят «вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих» (ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων), хотя не о каких людях, кроме самих феаков и киклопов (от которых феаки и бегут), речи нет. Да и сами киклопы описываются не как великаны, а как «мужи весьма воинственные» (ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων).²
К тому же слово ἀλφηστής³ имеет значение «добывающий пропитание», а добывать пропитание можно не только трудом, но и разбоем. Собственно набеги киклопов и заставили феаков покинуть «пространную Гиперию» и перебраться на остров Схерию. Вопрос только в том, перебрались они с одного острова на другой, или перебрались они с материка на остров. Ибо Эпир (Ἤπειρος), против которого располагается остров Схерия (Σχερίη) несколько созвучен Гиперии (Ὑπέρεια).
___________________
[2] ὑπερηνορέων (ὑπερ-ηνορέων), -οντος adj. m одаренный или гордый нечеловеческой силой Hom., Arph.
ἠνορέη, дор. ἀνορέα ἡ {ἀνήρ} мужественность, мужество, доблесть.
[3] ἀλφηστής (-οῦ) adj. m снискивающий себе пропитание, т.е. трудящийся, трудолюбивый (ἀνέρες и ἄνδρες Hom., HH., Hes., Aesch., Soph., Plut.).
ГАСТЕРОХЕЙРЫ
Гастерохейры (Γαστεροχειροί, «брюхорукие») — семь великанов киклопов, упомянутые Страбоном в трактате «География». Брюхорукими их называли якобы потому, что они на жизнь (живот) зарабатывали руками, работая каменщиками. Считалось, что они пришли вместе с царем Претом из Ликии и возвели вокруг Тиринфа массивные «киклопические» стены, использовав для этого такие огромные каменные блоки, что и «несколько мулов не смогли бы их сдвинуть с места». По преданию, они построили также и стены вокруг Микен. «И, может быть, пещеры поблизости от Навплии и сооружения в них названы по их имени». (Страбон «География» VIII)
γαστήρ, γαστρός, эп.-поэт. тж. γαστέρος ἡ
1) живот, брюхо Hom., Arst., Plut.; желудок Hom., Soph., Arst., Plut.
2) пища, еда; ex. (ἐγκρατές γαστρὸς καὴ πότου Xen.);
3) материнская утроба, чрево; ex. γαστέρι (γαστρὴ) φέρειν Hom., Plat. и ἐν γαστρὴ ἔχειν Her. — носить во чреве, быть беременной.
χείρ, χειρός ἡ (dat. χειρί, acc. χεῖρα; pl.: χεῖρες — поэт. тж. χέρες, gen. χερῶν, dat. χερσί — поэт. тж. χέρεσσι и χείρεσ(σ)ι, acc. χεῖρας — поэт. тж. χέρας, эол. χέρρας)
1) рука, кисть; реже локоть;
2) редко (у животных) передняя конечность, нога или лапа Xen., Arst.;
3) власть, мощь (sc. Διός Hom.): ὑπὸ χεῖρα ποιεῖσθαι Xen. подчинять, покорять; ὑπὸ τὰς χεῖράς τινος πίπτειν Polyb. попасть во власть кого-л.; ὁ ὑπὸ χεῖρα Dem. подвластный, подчиненный.
Нужно отметить, что эпитет «брюхорукие» для великанов киклопов выглядит несколько своеобразно. Да и объяснение этимологии слова не особенно убедительно. Не только строители работают руками, чтобы набить брюхо. Поэтому имеет смысл попробовать поискать другие варианты прочтения слова «гастерохейры» (γαστεροχειροί).
γάστρη ἡ выпуклость, брюшко (сосуда); ex. (τρίποδος Hom.);
γαστροειδής (γαστρο-ειδής) пузатый, с выпуклым кузовом; ex. ναῦς [корабль, судно с крутыми боками] Plut.
γαστροκνημία (γαστρο-κνημία) ἡ мясистая часть голени, икра Arst., Luc.
Т.е. слово γαστεροχειρός теоретически могло возникнуть от искажения слова γαστροχειρός (γαστρο-χειρός) «с крепкими, мускулистыми («выпуклыми», «мясистыми») руками». Что гораздо убедительнее характеризует мифологических существ имеющих атлетические мощные руки, которыми они с легкостью поднимают массивные каменные блоки для постройки городских стен.
Возвращаясь к киклопам-кузнецам (в изложении Гесиода), кующим молнии (ἀστεροπή), можно также отметить созвучие слов ἀστήρ (огонь) и γαστήρ («выпуклость»). Могли ли киклопы владеющие огнем (χειρός ἀστέρος) из-за созвучия сменить род деятельности с кузнечного на строительный (чтобы не сказать на «брюхостроительный»)? Вопрос, естественно, риторический…
Впрочем, и для кузнечного дела необходимы крепкие руки. Недаром Гефест (Ἥφαιστος), бог огня и кузнечного мастерства, под чьим руководством и ковали перуны для Зевса киклопы Гесиода, имел эпитет «с могучими руками» (ἀμφιγυήεις).
_______________________________
|
Метки: Киклопы Этимология Греция |
КАТОБЛЕПАС |
Первые упоминания о Катоблепасе (лат. сatoblepas, katoblepon) относят к I веку до н.э., когда римский географ Помпоний Мела рассказал о нем в сочинении «О положении мира» (Pomponius Mela «De situ orbis», III.9):

«В этих местах водится катоблепас (сatoblepas) — небольшое дикое животное с огромной головой. Катоблепас поднимает голову с большим трудом, и поэтому пасть его всегда обращена к земле. Животное обладает удивительным свойством, о котором особенно следует сказать: подвергнуться нападению катоблепаса или быть им укушенным, — совершенно неопасно, но смертельно опасно встретиться с ним взглядом».
Согласно Помпонию, катоблепас водится в Эфиопии, но в античности под Эфиопией понимали часто куда большую часть Африки, чем теперь, иногда называя этим словом практически весь известный африканский континент. В данном случае речь идет про западные части Эфиопии, почти на берегу Атлантического океана, так как сразу после этого Помпоний описывает острова Горгады.
Несмотря на то, что первым о катоблепасе сообщает римский автор, само слово это греческое и обозначает «смотрящий вниз» (καταβλέπος) и, значит, предполагает уже какую-то описательную традицию на греческом языке.
καταβλέπω (κατα-βλέπω) глядеть вниз, смотреть, разглядывать.
Плиний Старший, спустя примерно столетие, несколько запутывает ареал распространения большеголового животного, но это вызвано тем, что вся география Африки южнее Египта виделась греко-римскому миру крайне смутно, а истоки Нила, про которые упоминает Плиний, были найдены только в XIX веке, так что его сложно винить в ошибке:
«В Западной Эфиопии находится источник, называемый Нигер и являющийся, как полагают многие, истоком Нила: в пользу этого говорят факты, которые мы уже приводили. Неподалеку от него обитает дикое животное, называемое «катоблепас» (сatoblepas) — обычно небольшого размера о малоподвижными конечностями и огромной головой, которую с трудом носит: она постоянно опущена к земле. Это животное несет смерть представителям рода людского, поскольку все, кто посмотрит ему в глаза, тут же умирают».
(Плиний Старший «Естественная история», VIII.32)
Плиний не мог оставить такое необычное свойство этого зверя без комментария, поэтому пускается в пространные рассуждения относительно того, какие другие живые существа имеют подобные свойства. Это, конечно, василиск, тоже африканское животное. Кроме того, Плиний вспоминает про итальянское суеверие своего времени относительно волков. Тогда считалось, что если волк посмотрит на человека первым, то человек может лишиться голоса.
Гай Юлий Солин в III веке не добавляет ничего оригинального к тому, что можно считать единой, цельной традицией в римских произведениях. Другую традицию передает римский писатель Клавдий Элиан, живший во II-III веках н.э.:
«Ливия порождает множество разнообразных диких зверей и, более того, кажется, что в той же земле водится зверь, называемый катоблепон. Размером он примерно с быка, но более свирепый на вид, так как его брови расположены высоко и очень кустисты, а глаза под ними не такие большие как у быка, но уже и налиты кровью. И они не смотрят вперед, а обращены к земле, поэтому он и называется «смотрящий вниз». Его грива начинается на макушке его головы и напоминает конскую гриву, спадая на его лоб и закрывая морду, что делает его еще более устрашающим при встрече. Он питается ядовитыми кореньями. Когда он уставится на кого-нибудь, как это делает, бык, он вздрагивает и поднимает свою гриву, и когда она уже торчит дыбом, он раскрывает пасть и из его горла вырывается невыносимо смрадное дыхание, которым оказывается зараженным весь воздух вокруг него. И любое животное, находящееся подле него вдыхает это зловоние и оказывается тяжко пораженным, теряет свой голос и начинает биться в конвульсиях. Этот зверь знает о своей силе, но и другие животные знают о ней тоже и убегают от этого зверя со всей спешностью». (Клавдий Элиан «О животных», VII.5)
Катоблепас, в изложении Элиана, убивает не взглядом, а дыханием. Своими размерами он сравнивается с быком, что противоречит прежним сообщениям, отмечавшим небольшие размеры животного. Да и в целом описание такое, что объединяет их с прежними только имя и наличие тяжелой головы, которая все время склонена к земле. Именно описание Элиана, в основном, и послужило впоследствии для идентификации этого животного как антилопы Гну. Гну — травоядные животные и поэтому обычная их поза — со склоненное вниз головой. У Гну крупная голова, а у белохвостых Гну еще и торчащая грива, как в описании Элиана у возбужденного катоблепаса. Но к такому отождествлению стоит относиться очень осторожно. Гну водятся в Экваториальной и Южной Африке, малознакомых краях для греко-римского мира. Большинство описаний все-таки говорит, что животное это небольшое, а Гну — это крупная антилопа, которую действительно совершенно нормально сравнивать с быком. Наконец, Гну — это рогатое животное, но никто из авторов вообще ни разу не упоминает о том, что у животного есть рога.
Последнее и самое пространное упоминание катоблепаса в античности принадлежит Афинею из египетского Навкратиса, жившему во II-III вв. н.э. Сообщение это опирается на недошедшее до нас произведение Александра Миндского, который писал, предположительно в I в. н.э. Оно необычно многими чертами. Во-первых, в нем упомянут конкретный случай встречи с катоблепасом. Это произошло во время военной кампании Мария в ходе Югуртинской войны (107-105 до н.э.). Во-вторых, в этом известии говорится о шкуре убитого катоблепаса, которую Марий переслал в Рим и даже говорится затем где она хранилась. Катоблепас Афинея имеет общие черты и с традицией Помпония Мелы-Плиния Старшего, и с тем, что сообщает Элиан. Но самое главное, что у катоблепаса появляется еще одно имя:
«А знаете ли вы, что Александр из Минда утверждает, будто действительно существуют животные, способные превращать людей в камень? Во второй книге «Рассказов о птицах» он пишет: «Горгона (Gorgon) есть животное, которое ливийские кочевники там, где оно водится, называют«в-землю-гляд» (Καταβλέπον). По виду ее шкуры обычно полагают, что она похожа на дикую овцу; однако некоторые говорят, что на теленка. Ее дыхание будто бы столь сильно, что убивает всякого встречного. [На самом же деле] она имеет гриву, которая свисает со лба, закрывая глаза, и всякий раз, когда она встряхивает ею (а это тяжело и трудно), то не дыханием убивает, а неким излучением от особенной природы ее глаз.
Обнаружено это животное было так. Несколько солдат из войска Мария, посланного против Югурты, увидели горгону и, решив из-за ее низко опущенной головы и медленной походки, что перед ними дикая овца, погнались за ней, чтобы зарезать мечами. Но животное испугалось, встряхнуло гривой, лежавшей на глазах, и тотчас умертвило бросившихся на него людей. И снова и снова повторялось то же самое, и каждый раз подступавшие к нему погибали, пока кто-то не догадался расспросить туземцев о природе этого существа. Тогда по приказу Мария туземные всадники, устроив засаду, убили животное копьями издали и принесли командующему».
Такое животное существовало, ручательство тому — его шкура и экспедиция Мария. Но другое сообщение Александра доверия не заслуживает. Он пишет, будто есть в Ливии какие-то быки-«противоходы» (οπισθονόμοι), которые, когда пасутся, не идут вперед, а пятятся назад. Пастись естественным образом мешают им рога, загибающиеся не вверх, как у всех животных, а вниз, закрывая при этом глаза. Это совершенно невероятно и не подтверждается ни одним другим свидетельством».
Ларенсий подтвердил рассказанное Ульпианом, добавив, что Марий отослал шкуры этих животных в Рим, но никто там не смог определить, чьи они, — настолько необычайно они выглядели. Впоследствии он посвятил их в храм Геркулеса, в котором полководцы-триумфаторы устраивают угощения граждан, как о том говорится у многих римских поэтов и историков».
(Афиней «Пир мудрецов», V.221-222)
Катоблепас назван Горгоной (Gorgon, греч. Γοργόνος), видимо, из-за способности убивать взглядом. Но, кроме этого, катоблепаса с горгонами объединяет ареал их обитания — Западная Африка. В море к западу от Африки располагались, по античным представлениям, острова Горгад. Например, Помпоний Мела прямо после описание катоблепаса упоминает Горгад (Gorgades). У Плиния присутствует любопытная история про Горгад, где он сообщает, что на этих островах горгоны уже не живут, но в то время, когда на островах побывал карфагенский мореплаватель Ганнон (VI-V вв. до н.э.), то встретил там «поросших шерстью женщин», некоторых из которых убил и доставил шкуры в Карфаген, где они и находились, пока город не захватил Рим. Это подтверждается и самим Ганноном, описание плавания которого сохранилось.
В Средние века катоблепас не пользовался особой популярностью, только периодически появляясь в сочинениях, особенно в крупных энциклопедиях XIII века. В бестиарий это существо, в отличие от других фантастических существ, упоминаемых у Солина, не попало. О катоблепасе упоминает Бартоломей Английский в энциклопедии «О свойствах вещей», явно основываясь на сообщении Плиния. «Катоблепас, кого увидит, того убивает взглядом» появляется на Эбсторфской карте мира, причем в крайне неожиданном месте, возле Каспийского (Гирканского) моря.
Статью про катоблепаса в «Истории животных» Конрада Геснера (1516-1565) определяет уже энциклопедичность знаний и полное нежелание просеивать прочитанное. Геснер пространно знакомит
 читателя со знакомым уже набором сведений о катоблепасе, после чего переходит к горгонам, и так же последовательно и полно рассказывает про них в рамках статьи как про одно существо. Геснер относит катоблепаса к четвероногим животным и родственникам быков. Английский автор Эдвард Топселл (1572-1625) повторяет все сказанное Геснером, попутно задаваясь вопросом чем же все-таки убивает катоблепас, взглядом или дыханием, и склоняется в пользу взгляда, так как он имеет больше соответствий в природе, например у василиска. Кроме того, если Геснер назвал свою главу «О катоблепасе», то Топселл — «О горгоне, странном ливийском звере». В первом издании «Истории четвероногих зверей» Топселла 1607 года есть гравюра горгона, причем она помещена на титульную страницу. В XVIII веке, как уже говорилось, животное отождествили с антилопой Гну.
читателя со знакомым уже набором сведений о катоблепасе, после чего переходит к горгонам, и так же последовательно и полно рассказывает про них в рамках статьи как про одно существо. Геснер относит катоблепаса к четвероногим животным и родственникам быков. Английский автор Эдвард Топселл (1572-1625) повторяет все сказанное Геснером, попутно задаваясь вопросом чем же все-таки убивает катоблепас, взглядом или дыханием, и склоняется в пользу взгляда, так как он имеет больше соответствий в природе, например у василиска. Кроме того, если Геснер назвал свою главу «О катоблепасе», то Топселл — «О горгоне, странном ливийском звере». В первом издании «Истории четвероногих зверей» Топселла 1607 года есть гравюра горгона, причем она помещена на титульную страницу. В XVIII веке, как уже говорилось, животное отождествили с антилопой Гну.Кроме основной линии жизни и путешествий по страницам произведений у катоблепаса, возможно, была в Средневековье и вторая. Она существовала в группе произведений-спутников античного «Романа об Александре Македонском», часто называемого просто в славянской «Александрией». «Роман об Александре» с самого начала не был историческим произведением. Он был насыщен большим количеством удивительного и фантастического. Довольно быстро вокруг него начали появляться произведения, где сама фигура Александра отходила на второй план, а главным было описание чудес Востока, которые великий полководец повстречал во время своих кампаний. Одно из них, «Письмо Александра Аристотелю», привело к появлению других вымышленных писем одних исторических персонажей другим. Таково «Послание Фермеса императору Адриану», «Письмо Премона императору Траяну».
На основе подобных писем в Средневековье появились сочинения «Чудеса востока», «Книга чудовищ», и др. Большую часть их иногда рассматривают как варианты одного и того произведения. Активно писались или копировались они в период V-IX веков и иногда дошли до нас в рукописях тех же времен. Многочисленные ошибки, плохое знание латыни и безудержная фантазия авторов сделали свое дело. Для иллюстрации, можно привести пример из «Чудес Востока», где говорится: «За этой местностью, в правой части океана, к югу, есть другая область протяженностью 323 стадии, что составляет 253 лиги и милю, где живут хомодубии, которые до пупка имеют человеческий вид, а остальным телом с онагром (ὄναγρος, «дикий осел») схожи, голени как у птиц и обольстительный голос». На самом деле это онокентавры (Ονοκένταυροι), которые довольно неожиданно названы хомодубиями (Homodubii).
homo, (арх. hemo), -inis m человек, мужчина;
dubius, -a, -um [duo]
1) сомневающийся, нерешительный, колеблющийся;
2) сомнительный, подлежащий сомнению, ненадёжный;
3) трудный, затруднительный, опасный, критический; ex: mons ascensu d. — гора с опасным подъёмом (опасная для восхождения).
Слово Homodubii переводят как «сомнительные люди», то есть люди, принадлежность которых к человеческому роду сомнительна. Хотя слово dubius имеет также значение «опасный». Птичьи ноги онокентавры заполучили в результате ошибки в одну букву, из-за чего у них «бараньи» (oves) голени превратились в «птичьи» (aves). «Обольстительный» голос тоже прорезался, скорее всего, в результате описки. Онокентаврам куда более пристало иметь «сильный, мощный» (plena), а не «обольстительный» (lena) голос. В «Чудесах Востока» появляются и следующие создания:
«Кроме того здесь водятся зверьки, [которые] как только услышат [приближение] человека тотчас же спасаются бегством. У них восемь ног, две головы, а глаза же как у горгоны. Если кто захочет к ним приблизиться и поймать, то они защищают свои жизни.»
Источник этого сообщения — позднеантичное «Письмо Фермеса императору Адриану», где эти существа описываются как тщедушные, робкие существа, похожие на обезьян, у которых восемь ног, восемь глаз и два рога. И тот, кто хочет их убить, должен хорошо подготовиться. «Книга чудовищ», написанная, вероятно, в VII-VIII вв. тоже упоминает этих существ и тоже говорит о глазах горгон:
«Там же говорится, что у Красного моря есть удивительные звери имеющие 8 ног, всех членов по паре и две головы и с глазами подобными горгоньим.»
Врядли можно говорить, что изначально речь шла о катоблепасе, но, при творческом осмыслении и фантазии, автор мог «узнать» и катоблепаса. В конце концов, у получившегося существа не только стал горгоний взгляд, но и появилась дополнительная голова (вместо двух рогов в «Письме Фермеса»).
Этих существ не было ни в греческом «Романе об Александре», ни в первом латинском переводе «Романа об Александре» Юлия Валерия (IV в. н.э.). Их не было и во втором переводе романа, осуществленного неким Львом в IX столетии и названным «История войн». Последнее сочинение, однако, имело очень бурную литературную судьбу и обросло массой версий. В «Истории войн» снова появляются звери с восемью конечностями, но у них исчезли горгоньи глаза, восстановились два рога вместо двух голов, и этими рогами они стали всех бодать, став очень агрессивными, в отличие от прошлых, робких и убегающих от людей.
Средневековые подражания «Роману об Александре» настолько впитывали все, что касалось чудесного и удивительного, что катоблепас в своем узнаваемом виде тоже не мог в них не появиться. В XII веке, в одной из версий рифмованной «Александрии» англо-нормандского автора Томаса Кентского (Roman de toute chevalerie), появляется глава «О звере, называемом катоплепа».
В византийской традиции основной чертой катоблепаса стало, судя по всему его ядовитое дыхание. В поэме «О свойствах животных», посвященной императору Михаилу Палеологу, ее автор Мануил Фил (ок. 1275 – ок. 1345), кажется, полностью перекладывает в стихотворной форме сообщение Клавдия Элиана:
«Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из-под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Зверь кормится корнями ядовитыми,
Которых больше ни одно животное
В рот не возьмет, а коль возьмет — отравится.
Избычившись и в землю взор уставивши,
Он распускает гриву и вздымает шерсть,
Как будто вепрь, свирепо ощетинившись.
И если рот его приоткрывается,
Из недр гортани мерзостный исходит дух,
Отравного зловония исполненный.
Тот, на кого повеет дуновением,
Лишится языка незамедлительно
И навзничь в корчах яростных повергнется.»
(Мануил Фил «О свойствах животных»)
Похоже, что Элиан и был основным источником сведений о катоблепасе в Византии, так как был единственным читаемым классическим греческим автором, который о нем писал. В «Шестодневе» Георгия Писиды (VII в.) свойство зверя извергать из себя ядовитое дыхание усилилось настолько, что катоблепас стал огнедышащим. «Шестоднев» был переведен в 1385 году на древнерусский и так огнедышащий катоблепас попал в восточнославянскую культуру. Но не под своим названием, так как его имя тоже было переведено и он стал называться долезря (долѣзрѧ) или в более поздней форме долѣ зріа:
«Ѿкудоужъ долѣзрѧ,
огнемъ поутренимъ дыша
из ноздреи дыханiе изъ ωгненосныхъ
долѣ теченiе ωгненое възвращаетъ
далече же пущаетъ течение яко стрѣлецъ,
яко неугасимыи испущеныи пламень...
ако млъніа ωгненаго поущаа кѫреніа
аще же не бы нравъ имѣлъ слоуковать,
и пламенное кыпѣніе поущати долѣ
землю бы отѧгчати имѣлъ тѣлесы.»
(Георгий Писида «Шестоднев», 959-967)
_______________________________
http://www.bestiary.us/katoblepas
|
|
КЕРБЕР |
С.В. Петров
КЕРБЕР, И НЕ ТОЛЬКО
Кербер (Κέρβερος) — трехглавый пес, порождение Тифона (Τυφῶν) и Ехидны (Ἔχιδνα), охраняющий врата Аида, царства мертвых, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Исполняя волю Эврисфея, Геракл вывел Кербера из подземного царства.
[1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ Трезен (главный город обл. Τροιζηνία в Арголиде, на севере Пелопоннеса) Her., Thuc., Xen.
Предъявив пса Эврисфею, Геракл вернул Кербера в Аид. Это был последний, двенадцатый подвиг Геракла.
Этимология имени Кербер (Κέρβερος) не однозначна. Исходя из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант:
Кербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. Таким его описывает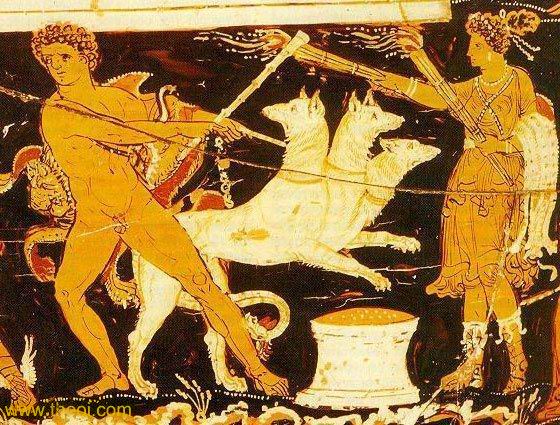 Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).
Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).
Змеиная грива вызывает ассоциации с Медузой Горгоной. Оба персонажа, и Медуза, и Кербер осуществляли охранную функцию. Само имя Μέδουσα — производное от μεδέουσα — означает «охранительница». Согласно Еврипиду, горгоны охраняли Пуп Земли (ὀμφαλός) — камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса и затем изрыгнул обратно.
Иногда, изображая эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по краям накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. Урей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. Вероятно, изображая уреев над эгидой Афины (или над головой Горгоны) греческий художник пытался опираться на тот же символизм. Поэтому не должно удивлять и наличие уреев над головой хранителя входа в Аид Кербера. Собственно стоглавая змеиная грива — это развитие темы умножения уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.



Те же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα — стоглавое шипение змей), употребляются в описании Тифона, Ехидны, Лернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и Кербер, рожденное Тифоном и Ехидной).
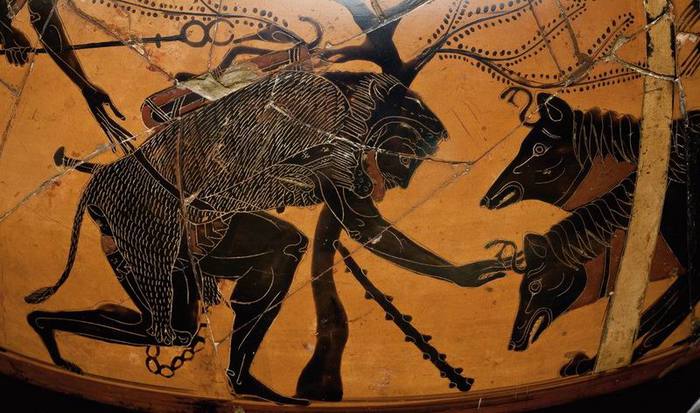
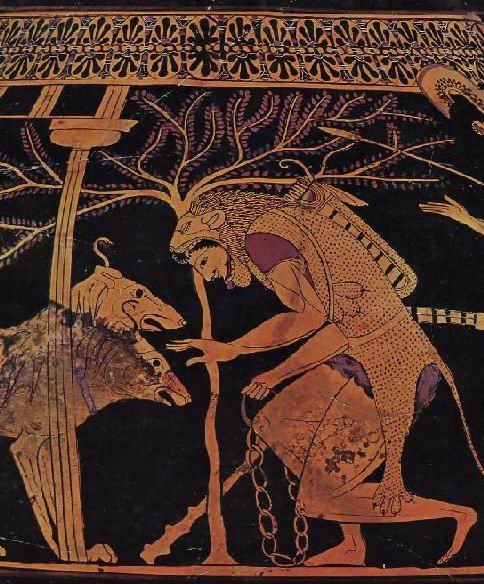
Сцена похищения Гераклом пса Кербера из Аида. Аттика, Греция. Ок. 530 до н.э. Мастер Андокид.
У Кербера был брат-близнец Орф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. Он упоминается в мифе о десятом подвиге Геракла. Хозяином Орфа был Герион, у которого тот охранял стада волшебных «красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.
«красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.
Греческое слово «ὄρθρος» означает «предрассветный сумрак». В представлении египтян, вечером солнце опускается в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. Судя по значению имени Орфа, он должен был бы охранять именно восточные ворота Аида. Возможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуется о похищении Гераклом быков Гериона на крайнем западе. Там же (на западе) он убивает и Орфа.
Об Орфе не так много сведений, но любопытно, что согласно Поллуксу, в Иберии Орф имел святилище и носил имя Гаргеттий (Γαργήττιος). «Гаргеттий» означает «из Гаргетта» (область в Аттике), откуда, видимо, Орф был заимствован (либо в Иберии был одноименный город). Возможно, также, что эпитет Орфа Гаргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повлиять на развитие мифологического образа Орфа.


1. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ
2. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde).
Химера (Χίμαιρα) — еще одно порождение Тифона и Ехидны, с тремя головами: льва, козы и дракона (убита Беллерофонтом). В изложении Гомера — это огнедышащее чудовище обитавшее в Ликии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). Химера стала именем нарицательным, но, несмотря на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает «молодая коза» или «козочка». Причем, что интересно, огонь извергали все три головы (включая козью).
Вероятно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. Можно даже осторожно предположить, что этимология слова изначально к «козе» вообще отношения не имела. Также и голова козы на спине льва могла появиться позднее, из-за созвучия, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). Для льва подобный эпитет выглядит более уместным, нежели издевательское имя «козочка» (χίμαιρα).
Глядя на изображение Химеры, приходит понимание причины возникновения образа Кербера (на ранних артефактах) с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.
с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.
Вообще, с очевидной ясностью, бросается в глаза шаблонность и однотипность хтонических «сущностей» (Кербер, Орф, Тифон, Гидра, Химера), и с точки зрения иконографии, и в плане взаимоотношений с главными героями мифических историй (наиболее ярким представителем которых, конечно же, является Геракл). Так уж повелось, что герои считают своим долгом сразиться с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои).
В средневековых астрономических атласах созвездие Кербер (Cerberus) изображается в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке Геркулес (соседнее созвездие). Вместе со змеей (Кербером) в руке зажата ветка с яблоками, видимо, добытая Гераклом в саду нимф Гесперид. Но, согласно мифам, яблоки охранял змей Ладон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. И который, конечно же, тоже был порождением Тифона и Ехидны. Справедливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстрациях Кербер (Cerberus) изображен с песьими головами. И тем не менее, при чем тут молодильные яблоки? Наверное, имеет смысл присмотреться к Ладону повнимательней.
Молодильные яблоки давали каждому, кто к ним прикоснется, вечную молодость и бессмертие. Именно эти волшебные плоды и велел царь Эврисфей добыть Гераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзирая на то, что дракон, по Аполлодору, был бессмертный). Таков был одиннадцатый подвиг героя.
В «Лягушках» Аристофана Ладон упоминается в потоке ругательств, которые обрушивает Эак, привратник Аида, на Диониса, спустившегося туда, чтобы вывести в мир живых Эврипида. Так как Дионис переодет Гераклом, Эак, вспоминая похищение Гераклом Кербера, желает тому все адовы муки. Чтобы чуть ли не все кошмарные создания греческой мифологии потрудились над его растерзанием. Чтоб Ехидна вырвала ему легкие, горгоны — почки, а гончие Коцита и «стоглавая ехидна» (прозвище Ладона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-Геракла (Диониса).
С учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому ряду персонажей царства Аида, то эпитет «стоглавая ехидна» подошел бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.
бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.
По поводу же пожирания внутренностей, нельзя не вспомнить Гидруса, популярного персонажа бестиариев, который был известен как «гроза» крокодилов. Хотя, глядя на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил?
Бестиарии основывались на «Физиологе» — произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской Александрии. «Физиолог», написанный на греческом, несколько раз переводился на латинский язык. Один из таких переводов, называемый «Версия B», стал основой на которой был построен латинский бестиарий.
Как это часто случалось с бестиариями, в них попадала информация, прошедшая через множество авторов, переписчиков и трансформировавшаяся до неузнаваемости. Гидрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и грязью обмазывался вовсе не для того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. В ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, «охотник»), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, «живущий в воде»). Хотя в переводе с греческого ἐνυδρίς — это выдра.
Позднее, видимо пресытившись змеями, ихневмон резко меняет рацион своего питания.
Трансформация сюжета противостояния «энудр (ихневмон) — змея» в противостояние «гидрус — крокодил» в целом понятен. И энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: «живущий в воде». Слово δράκων может быть переведено и как «змея», и как «дракон».²
________________________________
[2] δράκων (-οντος) ὁ
1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.
2) змея; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.
3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.
Причем, первоначальный смысл — конечно же, «змея» (или «змей»). Дракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом — это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Нужно отметить, что если крокодилу дорисовать крылья, то он вполне сойдет за «дракона». Впрочем, если сильно не придираться, то сойдет и без крыльев.
Сложно представить как трансформировался мотив обмазывания энудра в грязи, но заметим, что в природе ихневмоны используют «грязь» (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант для проникновения в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует Аристотель (см. выше).
Египетская мифология нередко попадает в греческие произведения именно в таком приземленном виде. В данном случае, символическая борьба божеств света и тьмы (Ра и Апопа) описывается у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их «природных антипатий». Конечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставления животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает Атум) действительно питается, в том числе, и ядовитыми змеями, так что греки опять спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египтяне.
В бестиариях гидруса (hydrus) и гидру (hydra) разделяли, хотя перевод в обоих случаях один — «водяная змея».³
________________________________
[3] hydrus, i m (греч. ὕδρος)
1) гидра, водяная змея PM, Sol; змея (вообще) V, O, VF;
2) змеиный яд Sil.
hydra, ae f (греч. ὕδρα)
1) миф. гидра, водяная змея V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Лернейская гидра;
2) (или Anguis) Гидра (созвездие).
Тем не менее Гидра в бестиариях фигурирует в качестве Лернейской, имеет девять голов (которые, как, например, у Диодора Сицилийского, умножаются до сотни), а гидрус специализировался по изведению крокодилов (и имел одну голову).
[4] Попытка рационального толкования мифа основана на созвучии слов ὕδρα (Гидра) и ἕδρα («гедра») — «место, область», либо, более конкретно, — «русло» (учитывая контекст излагаемой истории). Речь, видимо, идет о прорыве плотины или дамбы.
ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη ἡ
1) седалище, сиденье, кресло, стул;
2) престол; ex. (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.)
3) место, область ex. (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.);
4) местопребывание, жилище, обитель; ex. Πανὸς ἕ. Eur.; ἕδραι σκότιοι Eur. — царство теней
5) святилище, алтарь; ex. (ἕδραι θεῶν Aesch.)
6) пристанище, убежище; ex. ναύλοχοι ἕδραι Soph. — стоянка кораблей, пристань;
7) русло; ex. (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.).
Впрочем, после бесконечной путаницы в разных вариантах и интерпретациях, отождествление многоголовой Гидры и Гидруса, охотника за крокодилами, в конце концов произошло. Ришар Фурниваль дает любопытное развитие образа гидруса. Умиляет и мораль, которой он резюмирует этот сюжет:
На средневековой испанской картине XV века Архангел Михаил, продолжая линию поведения античных героев, убивает дракона, как будто списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.
списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.
Собственно, и с изначальной природой (а, может быть, и с иконографией) Кербера не все так однозначно. Вот что по этому поводу свидетельствует Павсаний:
[5] Ταίναρον τό Тенар(он), мыс и южн. оконечность Лаконии, на Пелопоннесе, с храмом Посидона и с пещерой, которая, по преданию, была входом в подземное царство HH., Her., Thuc., Eur., Arph., Men.
Неоднозначность толкования природы Кербера связана с неоднозначностью слова κύων.
В целом, средневековые ученые не видели большой разницы между Кербером и Ладоном (и прочими хтоническими сущностями). Все драконы что-то сторожат или охраняют, иконография их однотипна (змееподобна и многоглава), а имена либо топонимичны (т.е. имеют географическую привязку), либо имеют вид прозвища (или эпитета), характеризующего персонажа в привязке к конкретной истории.
Кроме того, вариантов прочтения одних и тех же мифов (с массой противоречий и фривольным отношением к первоисточнику) было в избытке. Ну а то как легко дракон превращается в пса можно судить по иллюстрациям из бестиариев, где крокодил (по большому счету, тот же дракон) больше похож на собаку, чем на рептилию. В свою очередь, ту легкость, с которой пес превращается обратно в дракона, нам демонстрируют средневековые астрономы.
ЗВЕЗДНЫЙ КЕРБЕР
Цербер — «новое», то есть не античное и не внесенное в каталог Птолемея, но устаревшее и ныне несуществующее созвездие северного полушария неба. Созвездие предложено Яном Гевелием и опубликовано в 1690 году в его посмертной «Уранографии», хотя, как астеризм созвездия Геркулес, было известно и раньше.
Примечательно, что Гигин в своей «Астрономии», издания 1485 года, однозначно изображает подвиг Геракла, в котором тот добывает золотые яблоки в саду Гесперид, как выше уже было отмечено, яблоки эти охранял змей Ладон. Именно Ладон, обвивающий яблоню, и изображен Гигином в качестве астеризма созвездия Геркулес. Каким образом Ладон превратился в Цербера — остается загадкой, но именно это название закрепилось в астрономической традиции.
Созвездие Цербер было использовано Джоном Сенексом в созвездии Ветвь Яблони, и в последствии у разных авторов они часто трактуются как одно созвездие (где Цербер обвивает Ветвь Яблони). Как «Цербер» и «Ветвь», включено известным популяризатором астрономии Фламмарионом в список созвездий в «Истории неба» (1872).

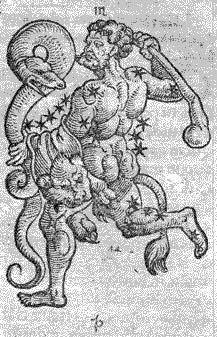
2. Гигин, «Астрономия», издание 1570 года. Геркулес и змей Ладон.

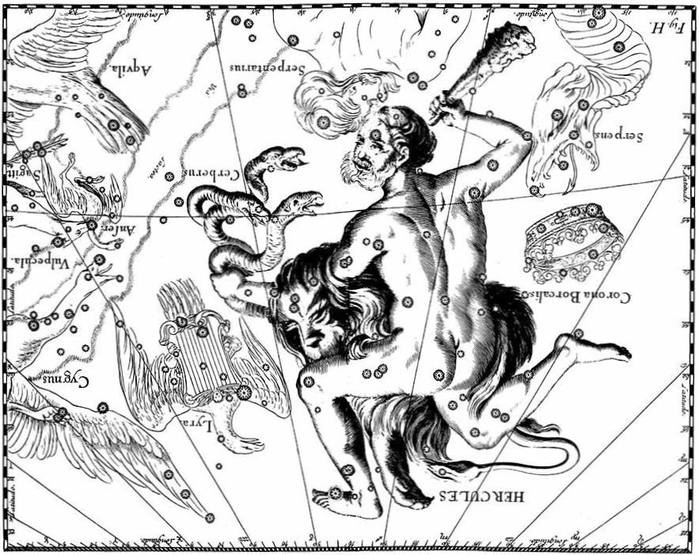
4. Созвездие Геркулес (Hercules). «Уранография» Яна Гевелия, 1690г. В композицию включены звезды, выделенные в качестве астеризма, и подписанные как Cerberus.


6. Иоганн Боде, атлас «Представление звезд», 1782 года. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь (Cerberus u. Zweig).


8. Александр Джеймсон, «Звездный атлас», 1822 год. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь Яблони (Cerberus et Ramus Pomifer).
ТУТУ
Туту (егип. Twtw, др.-греч. Τυθωες, лат. Tithoes) — египетский бог, получивший широкое распространение во всем Египте во времена Позднего периода. Почитался как бог, «обеспечивающий защиту от демонов», «продлевающий жизнь» и «защищающий людей от мира мертвых».
Единственный, известный сегодня храм посвященный богу Туту, расположен в древнем поселении Келлис. Рельефы с изображением Туту можно встретить и на стенах других храмов, например, таких как Калабша. На стенах храма Шенхур выписан эпитет Туту: «тот кто приходит к зовущему его». Есть у Туту и другие эпитеты: «сын Нейт», «лев», «великий силой», «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст».
Его изображали в виде гибридного существа с телом крылатого льва, головой человека, сокола или крокодила и хвостом в виде змеи (урея). Туту был сыном богини войны и охоты Нейт (отождествляемой с греческой Афиной). В других интерпретациях, матерями Туту считались богини Мут, Сехмет, Нехбет и Баст.
Изначально, Туту почитался как защитник гробниц, в более поздние времена он выполнял роль оберегающего спящих от плохих снов и опасностей.
Однозначно, Туту — прекрасный прообраз для львиноподобных Фиванского Сфинкса и Химеры, а также змеехвостых Кербера, Орфа и той же Химеры. Причем, для Кербера, прообраз не только внешний. Туту стоит на страже, не позволяя хтоническим демонам из мира мертвых вредить живым. Собственно, это же является главной функцией и Кербера, стоящего на страже у врат Аида, и не позволяющего душам умерших покидать пределы Подземного царства.



2. Стела из Александрии, датируемая правлением императора Адриана, в настоящее время в находится в Художественно-историческом музее, в Австрии.
3. Стела с изображением Туту из Египетского музея в Берлине (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung).
Изображение Туту из берлинского музея представляет особый интерес. Во-первых, сфинкс с телом льва имеет две головы (крокодилью и человеческую), а во-вторых, вокруг человеческой головы располагаются еще восемь голов (баран, гусь, сокол, бык, лев, шакал, бабуин, кот). Эти головы, как бы вырастающие из загривка, также могли бы послужить толчком для развития темы змеиной многоглавости.
Но «издавать самые разнообразные голоса» могут только «самые разнообразные» головы, змеиные головы могут лишь «однообразно» шипеть. Кстати, эту же тему «многоголосья» мы встречаем и в описании Тифона:
Подобно Туту, такую же «многоглавую» иконографию имел еще один египетский бог-защитник — Бес Пантеос, получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.
получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.
[6] Παντεός — «всебог», бог, совмещающий в себе других богов, отождествленных с ним.
Надо полагать, Туту прошел тот же процесс отождествления с другими богами-защитниками, и вправе тоже иметь эпитет «Пантеос».
На стеле из Александрийского музея голову Туту окружают семь дополнительных голов (урей, стервятник, сокол, Бес, ибис, крокодил, баран), центральная из которых — голова Беса. Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.
Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.
Необходимо также обратить внимание на схожесть написания греческих имен Туту (Τυθωες) и Тифона (Τυφωεύς). Не исключено, что они имели и схожее произношение. Буква υ (ипсилон) имеет двоякое прочтение ([ü] либо [ί] — в зависимости от нюансов транслитерации).⁷
________________________________
[7] Буква ипсилон (Yυ) в древнегреческом языке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук — огубленное [ί]. Подобный звук есть в современном немецком языке и обозначается латинской буквой u с умлаутом — ü. В русском языке огубленного [ί] нет, и в практике преподавания древнегреческого языка в русскоязычной аудитории букву ипсилон читают как букву ю.
Конечно, Туту и Тифона, кроме схожести имен, мало что объединяет. Можно сказать, ничего не объединяет. Но для начала, достаточно и этого. Опять же, эпитет «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст» — мог бы стать отправной точкой для неоднозначного толкования, и вдохновить на развитие темы хтонического образа Туту.
Несмотря на то, что греки Тифона отождествляли с египетским Сетом, общего между ними — тоже не много. У них разная иконография и разная мифология. Схожи они, пожалуй, только общей характеристикой: злобностью нрава, да еще желанием беззаконно отнять власть у верховного бога. Сет был богом песчаных бурь, убивающим, в сезон засухи, все живое в долине Нила. Тифон (др.-греч. Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, эпич. Τυφάων) — олицетворение огненных сил земли, с их разрушительными действиями и ядовитыми испарениями.
Причина наделения Тифона определенными качествами кроется, как обычно, в его имени.
Могло ли греческое имя Туту (Τυθωες) стать толчком для развития независимого образа Тифона (Τυφωεύς)? Зная живой и изворотливый ум античных сочинителей, ответ однозначен — возможно всё.
_______________________________
КЕРБЕР, И НЕ ТОЛЬКО
«Так-то, не зная ни смерти, ни старости, нимфа Ехидна,
Гибель несущая, жизнь под землей проводила в Аримах.
Как говорят, с быстроглазою девою той сочетался
В жарких объятиях гордый и страшный Тифон беззаконный.
И зачала от него, и детей родила крепкодушных.
Для Гериона сперва родила она Орфа-собаку;
Вслед же за ней — несказанного Кербера, страшного видом,
Медноголосого адова пса, кровожадного зверя,
Нагло-бесстыдного, злого, с пятьюдесятью головами.»
(Гесиод, Теогония)
Кербер (Κέρβερος) — трехглавый пес, порождение Тифона (Τυφῶν) и Ехидны (Ἔχιδνα), охраняющий врата Аида, царства мертвых, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Исполняя волю Эврисфея, Геракл вывел Кербера из подземного царства.
«Когда Геракл стал просить Плутона отдать ему Кербера, тот разрешил ему взять пса, если он одолеет его без помощи оружия, которое при нем было. Геракл нашел пса у ворот Ахеронта, и, будучи защищен со всех сторон панцирем и покрыт львиной шкурой, обхватил голову собаки, и не отпускал, хотя дракон, заменявший Керберу хвост, кусал его. Геракл душил чудовище до тех пор, пока не укротил его, и вывел на поверхность земли в области города Трезена.»¹________________________________
(Аполлодор «Мифическая библиотека II»)
[1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ Трезен (главный город обл. Τροιζηνία в Арголиде, на севере Пелопоннеса) Her., Thuc., Xen.
Предъявив пса Эврисфею, Геракл вернул Кербера в Аид. Это был последний, двенадцатый подвиг Геракла.
Этимология имени Кербер (Κέρβερος) не однозначна. Исходя из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант:
κήρ, κηρός ἡ злая смерть, гибель, зло, бедствие;
βάρος (-εος) τό
1) тяжесть, вес;
2) множество, обилие;
3) сила, мощь;
βαρύς, βαρεῖα, βαρύ
1) тяжелый, тяжеловесный Her., Plat., Arst., Plut.
2) сильный, мощный, грозный;
3) тяжелый, тяжкий, тягостный, тж. жестокий;
4) невыносимый, несносный;
5) опасный;
6) разгневанный, гневный;
7) угрюмый, мрачный.
Кербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. Таким его описывает
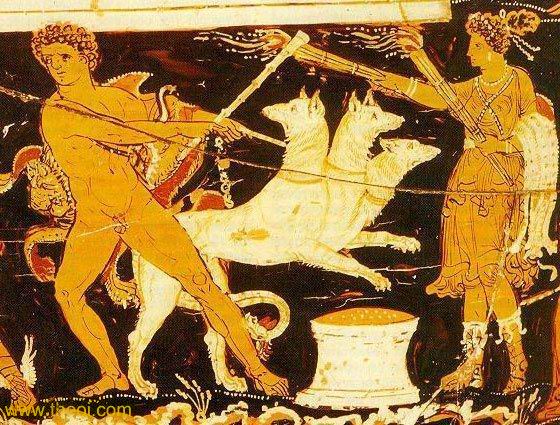 Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).
Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом). Змеиная грива вызывает ассоциации с Медузой Горгоной. Оба персонажа, и Медуза, и Кербер осуществляли охранную функцию. Само имя Μέδουσα — производное от μεδέουσα — означает «охранительница». Согласно Еврипиду, горгоны охраняли Пуп Земли (ὀμφαλός) — камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса и затем изрыгнул обратно.
Иногда, изображая эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по краям накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. Урей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. Вероятно, изображая уреев над эгидой Афины (или над головой Горгоны) греческий художник пытался опираться на тот же символизм. Поэтому не должно удивлять и наличие уреев над головой хранителя входа в Аид Кербера. Собственно стоглавая змеиная грива — это развитие темы умножения уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.



Пасти гадов отравой и ядом яро сочатся,
С шеи безмерной Гиганта аспиды космами виснут…
(Нонн. Деяния Диониса II, 31)
Те же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα — стоглавое шипение змей), употребляются в описании Тифона, Ехидны, Лернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и Кербер, рожденное Тифоном и Ехидной).
«Вторым приказом было умертвить Лернейскую гидру, у которой из единого туловища вырастало сто шей, оканчивавшихся змеиными головами. На месте каждой срубленной головы вырастали две новые»…
(Диодор Сицилийский «Историческая библиотека», IV:XI.5)
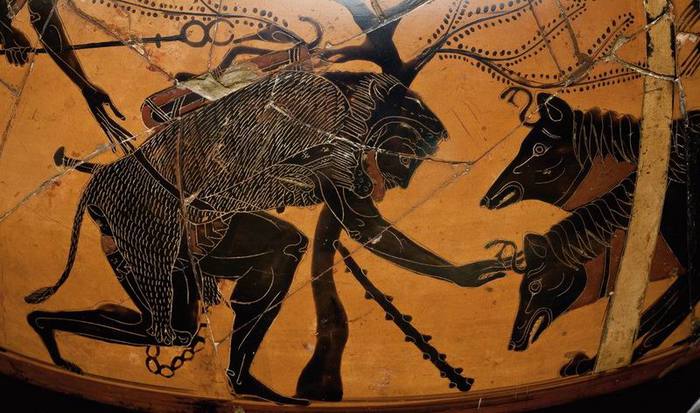
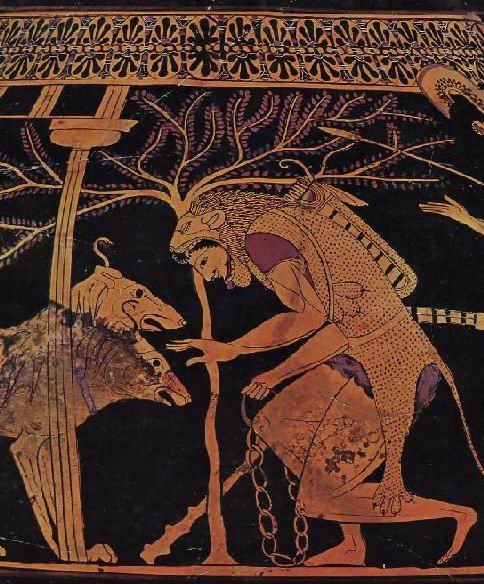
У Кербера был брат-близнец Орф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. Он упоминается в мифе о десятом подвиге Геракла. Хозяином Орфа был Герион, у которого тот охранял стада волшебных
 «красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.
«красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа. Греческое слово «ὄρθρος» означает «предрассветный сумрак». В представлении египтян, вечером солнце опускается в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. Судя по значению имени Орфа, он должен был бы охранять именно восточные ворота Аида. Возможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуется о похищении Гераклом быков Гериона на крайнем западе. Там же (на западе) он убивает и Орфа.
Об Орфе не так много сведений, но любопытно, что согласно Поллуксу, в Иберии Орф имел святилище и носил имя Гаргеттий (Γαργήττιος). «Гаргеттий» означает «из Гаргетта» (область в Аттике), откуда, видимо, Орф был заимствован (либо в Иберии был одноименный город). Возможно, также, что эпитет Орфа Гаргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повлиять на развитие мифологического образа Орфа.
Γαργηττός ὁ Гаргетт (дем в атт. филе Αἰγηίς) Arph., Plut.
γοργός 3
1) страшный, грозный; ex. γ. ἰδεῖν или ὁρᾶσθαι Xen. — грозный на вид;
2) ретивый, буйный; ex. (ἵππος Xen., Plut.).


1. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ
2. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde).
Химера (Χίμαιρα) — еще одно порождение Тифона и Ехидны, с тремя головами: льва, козы и дракона (убита Беллерофонтом). В изложении Гомера — это огнедышащее чудовище обитавшее в Ликии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). Химера стала именем нарицательным, но, несмотря на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает «молодая коза» или «козочка». Причем, что интересно, огонь извергали все три головы (включая козью).
«Также еще разрешилась она [Ехидна] изрыгающей пламя,
Мощной, большой, быстроногой Химерой с тремя головами:
Первою — огненноокого льва, ужасного видом,
Козьей — другою, а третьей — могучего змея-дракона.
Спереди лев, позади же дракон, а коза в середине;
Яркое, жгучее пламя все пасти ее извергали».
(Гесиод. Теогония, 314-319)
Вероятно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. Можно даже осторожно предположить, что этимология слова изначально к «козе» вообще отношения не имела. Также и голова козы на спине льва могла появиться позднее, из-за созвучия, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). Для льва подобный эпитет выглядит более уместным, нежели издевательское имя «козочка» (χίμαιρα).
Глядя на изображение Химеры, приходит понимание причины возникновения образа Кербера (на ранних артефактах)
 с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.
с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.Вообще, с очевидной ясностью, бросается в глаза шаблонность и однотипность хтонических «сущностей» (Кербер, Орф, Тифон, Гидра, Химера), и с точки зрения иконографии, и в плане взаимоотношений с главными героями мифических историй (наиболее ярким представителем которых, конечно же, является Геракл). Так уж повелось, что герои считают своим долгом сразиться с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои).
В средневековых астрономических атласах созвездие Кербер (Cerberus) изображается в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке Геркулес (соседнее созвездие). Вместе со змеей (Кербером) в руке зажата ветка с яблоками, видимо, добытая Гераклом в саду нимф Гесперид. Но, согласно мифам, яблоки охранял змей Ладон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. И который, конечно же, тоже был порождением Тифона и Ехидны. Справедливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстрациях Кербер (Cerberus) изображен с песьими головами. И тем не менее, при чем тут молодильные яблоки? Наверное, имеет смысл присмотреться к Ладону повнимательней.
«Эти яблоки охранял бессмертный дракон, сын Тифона и Ехидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.»
(Аполлодор «Мифологическая библиотека» II, 5)
Молодильные яблоки давали каждому, кто к ним прикоснется, вечную молодость и бессмертие. Именно эти волшебные плоды и велел царь Эврисфей добыть Гераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзирая на то, что дракон, по Аполлодору, был бессмертный). Таков был одиннадцатый подвиг героя.
В «Лягушках» Аристофана Ладон упоминается в потоке ругательств, которые обрушивает Эак, привратник Аида, на Диониса, спустившегося туда, чтобы вывести в мир живых Эврипида. Так как Дионис переодет Гераклом, Эак, вспоминая похищение Гераклом Кербера, желает тому все адовы муки. Чтобы чуть ли не все кошмарные создания греческой мифологии потрудились над его растерзанием. Чтоб Ехидна вырвала ему легкие, горгоны — почки, а гончие Коцита и «стоглавая ехидна» (прозвище Ладона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-Геракла (Диониса).
С учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому ряду персонажей царства Аида, то эпитет «стоглавая ехидна» подошел
 бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.
бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.По поводу же пожирания внутренностей, нельзя не вспомнить Гидруса, популярного персонажа бестиариев, который был известен как «гроза» крокодилов. Хотя, глядя на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил?
«Гидрус — заклятый враг крокодила и его природа и свойства таковы, что когда он видит крокодила спящим на берегу, то входит в него через открытый рот, сперва катаясь в грязи, чтобы легче было проникнуть через глотку. Крокодил немедленно его заглатывает живым. Однако тот, разодрав все внутренности крокодилу, выходит из него невредимым.»
(«Абердинский бестиарий»)
Бестиарии основывались на «Физиологе» — произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской Александрии. «Физиолог», написанный на греческом, несколько раз переводился на латинский язык. Один из таких переводов, называемый «Версия B», стал основой на которой был построен латинский бестиарий.
Как это часто случалось с бестиариями, в них попадала информация, прошедшая через множество авторов, переписчиков и трансформировавшаяся до неузнаваемости. Гидрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и грязью обмазывался вовсе не для того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. В ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, «охотник»), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, «живущий в воде»). Хотя в переводе с греческого ἐνυδρίς — это выдра.
«Ихневмон, живущий в Египте, когда увидит змею, называемую аспидом, нападает на нее не прежде, чем созовет других помощников. Против ударов и укусов они обмазывают себя грязью: именно, намочившись сначала в воде, они катаются по земле.»
(«Аристотель, История животных» IX, 44)
Позднее, видимо пресытившись змеями, ихневмон резко меняет рацион своего питания.
«Ихневмона называют также энудром или ниллосом. Говорят, что он мажет себя грязью, чтобы стать скользким и запрыгнуть в пасть крокодила и тогда сожрать его печень, и убить его.»
(Тимофей из Газы. 43.1)
Трансформация сюжета противостояния «энудр (ихневмон) — змея» в противостояние «гидрус — крокодил» в целом понятен. И энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: «живущий в воде». Слово δράκων может быть переведено и как «змея», и как «дракон».²
________________________________
[2] δράκων (-οντος) ὁ
1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.
2) змея; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.
3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.
Причем, первоначальный смысл — конечно же, «змея» (или «змей»). Дракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом — это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Нужно отметить, что если крокодилу дорисовать крылья, то он вполне сойдет за «дракона». Впрочем, если сильно не придираться, то сойдет и без крыльев.
Сложно представить как трансформировался мотив обмазывания энудра в грязи, но заметим, что в природе ихневмоны используют «грязь» (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант для проникновения в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует Аристотель (см. выше).
Египетская мифология нередко попадает в греческие произведения именно в таком приземленном виде. В данном случае, символическая борьба божеств света и тьмы (Ра и Апопа) описывается у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их «природных антипатий». Конечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставления животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает Атум) действительно питается, в том числе, и ядовитыми змеями, так что греки опять спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египтяне.
В бестиариях гидруса (hydrus) и гидру (hydra) разделяли, хотя перевод в обоих случаях один — «водяная змея».³
________________________________
[3] hydrus, i m (греч. ὕδρος)
1) гидра, водяная змея PM, Sol; змея (вообще) V, O, VF;
2) змеиный яд Sil.
hydra, ae f (греч. ὕδρα)
1) миф. гидра, водяная змея V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Лернейская гидра;
2) (или Anguis) Гидра (созвездие).
Тем не менее Гидра в бестиариях фигурирует в качестве Лернейской, имеет девять голов (которые, как, например, у Диодора Сицилийского, умножаются до сотни), а гидрус специализировался по изведению крокодилов (и имел одну голову).
Гидра — это дракон со множеством голов, который жил на острове или на болоте в провинции Аркадия. На латыни она зовется excedra, так как на месте одной отрубленной головы у нее три отрастает (excrescebant), но это басни. Тем не менее, все согласны в том, что гидра — это было место, откуда извергнулась вода и уничтожила соседний город, где закрыли один источник воды и прорвалось великое множество. Видя это, Геркулес осушил это место и закрыл источник воды. Гидра названа от слова «вода».⁴________________________________
(Абердинский бестиарий 626: fol. 68v-69r)
[4] Попытка рационального толкования мифа основана на созвучии слов ὕδρα (Гидра) и ἕδρα («гедра») — «место, область», либо, более конкретно, — «русло» (учитывая контекст излагаемой истории). Речь, видимо, идет о прорыве плотины или дамбы.
ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη ἡ
1) седалище, сиденье, кресло, стул;
2) престол; ex. (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.)
3) место, область ex. (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.);
4) местопребывание, жилище, обитель; ex. Πανὸς ἕ. Eur.; ἕδραι σκότιοι Eur. — царство теней
5) святилище, алтарь; ex. (ἕδραι θεῶν Aesch.)
6) пристанище, убежище; ex. ναύλοχοι ἕδραι Soph. — стоянка кораблей, пристань;
7) русло; ex. (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.).
Впрочем, после бесконечной путаницы в разных вариантах и интерпретациях, отождествление многоголовой Гидры и Гидруса, охотника за крокодилами, в конце концов произошло. Ришар Фурниваль дает любопытное развитие образа гидруса. Умиляет и мораль, которой он резюмирует этот сюжет:
«Это — змея, имеющая множество голов, и ее природа такова, что если ей отрезать одну какую-либо голову, то на этом месте вырастает две новых.
35. Змея эта врожденной ненавистью ненавидит крокодила. И когда заметит крокодила, пожравшего человека и раскаивающегося столь сильно, что желания съедать других людей он уже начисто лишился, гидра, рассчитав в уме, что обмануть его окажется нетрудно, — ибо он уже ест все, не разбирая, — так вываливается в грязи, что становится как будто мертвой; крокодил же, на гидру наткнувшись, поедает и заглатывает ее целиком. Тогда гидра, оказавшись в животе у крокодила, раздирает на части все его внутренности, а потом выбирается наружу, чрезвычайно радуясь победе.
И поэтому я говорю, что опасаюсь, как бы за отмщением через раскаяние не последовала месть другого рода. Ибо гидра, у которой множество голов, означает человека, у которого столько подруг, сколько у него знакомых; сколь же велики сердца у людей такой породы, могущих делить их на такое множество частей! — ибо ни одна [из знакомых] не владеет ими целиком.»
(«Бестиарий любви» Ришар Фурниваль)
На средневековой испанской картине XV века Архангел Михаил, продолжая линию поведения античных героев, убивает дракона, как будто
 списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.
списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.Собственно, и с изначальной природой (а, может быть, и с иконографией) Кербера не все так однозначно. Вот что по этому поводу свидетельствует Павсаний:
Гекатей Милетский нашел более вероятное толкование, сказав, что на Тенаре⁵ вырос страшный змей и был назван Псом Аида, так как укушенный им тотчас же умирал от его яда; этот-то змей и был приведен Гераклом к Эврисфею. Гомер — он первый упоминает о Псе Аида, которого привел Геракл, — не дал ему никакого имени и не описал его вида, как он сделал это с Химерой. Позднейшие писатели дали ему имя Цербера и, уподобив его во всем остальном собаке, стали говорить, что он имеет три головы. Между тем Гомер мог подразумевать здесь собаку, домашнее для человека животное, с таким же вероятием, как и какого-нибудь дракона, которого он мог назвать Псом Аида.________________________________
(Павсаний «Описание Эллады» III.XXV.3-4)
[5] Ταίναρον τό Тенар(он), мыс и южн. оконечность Лаконии, на Пелопоннесе, с храмом Посидона и с пещерой, которая, по преданию, была входом в подземное царство HH., Her., Thuc., Eur., Arph., Men.
Неоднозначность толкования природы Кербера связана с неоднозначностью слова κύων.
κύων, κῠνός ὁ и ἡ (dat. κυνί, acc. κύνα, voc. κύον; dat. pl. κυσί — эп. κύνεσσι)
1) собака;
4) чудовище;
ex. Διὸς πτηνὸς κ. Aesch., Soph. = αἰετός (ἀετός, орёл);
ἡ ῥαψῳδὸς κ. Soph. = Σφίγξ (Сфинга, Сфинкс);
Ζηνὸς κύνες Aesch. = Ἅρπυιαι (Гарпии);
κύνες Κωκυτοῦ Arph. = Ἐρινύες (Эринии);
Λέρνας κ. Eur. = Ὕδρα (Лернейская Гидра);
6) тюлень.
В целом, средневековые ученые не видели большой разницы между Кербером и Ладоном (и прочими хтоническими сущностями). Все драконы что-то сторожат или охраняют, иконография их однотипна (змееподобна и многоглава), а имена либо топонимичны (т.е. имеют географическую привязку), либо имеют вид прозвища (или эпитета), характеризующего персонажа в привязке к конкретной истории.
Λέρνη, дор. Λέρνα ἡ Лерна, болотистое озеро и ручей, вытекающий из него, в Арголиде, где жила, по преданию, многоглавая гидра, убитая Гераклом Aesch., Eur.
Λάδων (-ωνος) ὁ Ладон, река в Аркадии, правый приток Алфея; тж. божество этой реки Hes.
Λάδων ὁ дракон, охранявший золотые яблоки Гесперид и убитый Геркулесом.
Кроме того, вариантов прочтения одних и тех же мифов (с массой противоречий и фривольным отношением к первоисточнику) было в избытке. Ну а то как легко дракон превращается в пса можно судить по иллюстрациям из бестиариев, где крокодил (по большому счету, тот же дракон) больше похож на собаку, чем на рептилию. В свою очередь, ту легкость, с которой пес превращается обратно в дракона, нам демонстрируют средневековые астрономы.
ЗВЕЗДНЫЙ КЕРБЕР
Цербер — «новое», то есть не античное и не внесенное в каталог Птолемея, но устаревшее и ныне несуществующее созвездие северного полушария неба. Созвездие предложено Яном Гевелием и опубликовано в 1690 году в его посмертной «Уранографии», хотя, как астеризм созвездия Геркулес, было известно и раньше.
Примечательно, что Гигин в своей «Астрономии», издания 1485 года, однозначно изображает подвиг Геракла, в котором тот добывает золотые яблоки в саду Гесперид, как выше уже было отмечено, яблоки эти охранял змей Ладон. Именно Ладон, обвивающий яблоню, и изображен Гигином в качестве астеризма созвездия Геркулес. Каким образом Ладон превратился в Цербера — остается загадкой, но именно это название закрепилось в астрономической традиции.
Созвездие Цербер было использовано Джоном Сенексом в созвездии Ветвь Яблони, и в последствии у разных авторов они часто трактуются как одно созвездие (где Цербер обвивает Ветвь Яблони). Как «Цербер» и «Ветвь», включено известным популяризатором астрономии Фламмарионом в список созвездий в «Истории неба» (1872).

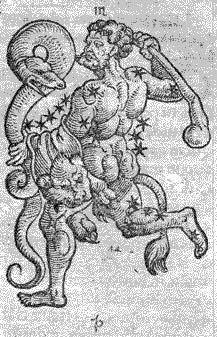
2. Гигин, «Астрономия», издание 1570 года. Геркулес и змей Ладон.

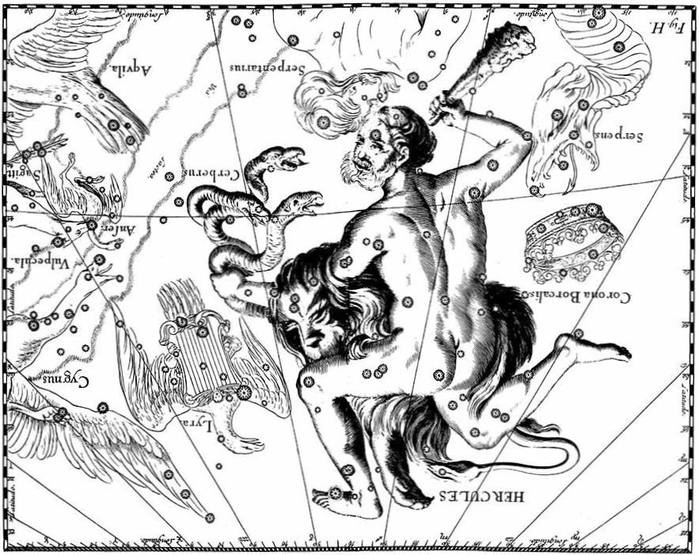
4. Созвездие Геркулес (Hercules). «Уранография» Яна Гевелия, 1690г. В композицию включены звезды, выделенные в качестве астеризма, и подписанные как Cerberus.


6. Иоганн Боде, атлас «Представление звезд», 1782 года. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь (Cerberus u. Zweig).


8. Александр Джеймсон, «Звездный атлас», 1822 год. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь Яблони (Cerberus et Ramus Pomifer).
ТУТУ
Туту (егип. Twtw, др.-греч. Τυθωες, лат. Tithoes) — египетский бог, получивший широкое распространение во всем Египте во времена Позднего периода. Почитался как бог, «обеспечивающий защиту от демонов», «продлевающий жизнь» и «защищающий людей от мира мертвых».
Единственный, известный сегодня храм посвященный богу Туту, расположен в древнем поселении Келлис. Рельефы с изображением Туту можно встретить и на стенах других храмов, например, таких как Калабша. На стенах храма Шенхур выписан эпитет Туту: «тот кто приходит к зовущему его». Есть у Туту и другие эпитеты: «сын Нейт», «лев», «великий силой», «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст».
Его изображали в виде гибридного существа с телом крылатого льва, головой человека, сокола или крокодила и хвостом в виде змеи (урея). Туту был сыном богини войны и охоты Нейт (отождествляемой с греческой Афиной). В других интерпретациях, матерями Туту считались богини Мут, Сехмет, Нехбет и Баст.
Изначально, Туту почитался как защитник гробниц, в более поздние времена он выполнял роль оберегающего спящих от плохих снов и опасностей.
Однозначно, Туту — прекрасный прообраз для львиноподобных Фиванского Сфинкса и Химеры, а также змеехвостых Кербера, Орфа и той же Химеры. Причем, для Кербера, прообраз не только внешний. Туту стоит на страже, не позволяя хтоническим демонам из мира мертвых вредить живым. Собственно, это же является главной функцией и Кербера, стоящего на страже у врат Аида, и не позволяющего душам умерших покидать пределы Подземного царства.



2. Стела из Александрии, датируемая правлением императора Адриана, в настоящее время в находится в Художественно-историческом музее, в Австрии.
3. Стела с изображением Туту из Египетского музея в Берлине (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung).
Изображение Туту из берлинского музея представляет особый интерес. Во-первых, сфинкс с телом льва имеет две головы (крокодилью и человеческую), а во-вторых, вокруг человеческой головы располагаются еще восемь голов (баран, гусь, сокол, бык, лев, шакал, бабуин, кот). Эти головы, как бы вырастающие из загривка, также могли бы послужить толчком для развития темы змеиной многоглавости.
«Эти яблоки охранял бессмертный дракон (Ладон), сын Тифона и Ехидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.»
(Аполлодор «Мифологическая библиотека» II, 5)
Но «издавать самые разнообразные голоса» могут только «самые разнообразные» головы, змеиные головы могут лишь «однообразно» шипеть. Кстати, эту же тему «многоголосья» мы встречаем и в описании Тифона:
«Чудовище обладает невероятной силой рук и ног и имеет на затылке сто змеиных голов, с черными языками и огненными глазами; из пастей его раздается то обыкновенный голос богов, то рев ужасного быка, то рыканье льва, то вой собаки, то резкий свист, отдающийся эхом в горах.»
(Пиндар. Олимпийские песни IV, 7)
Подобно Туту, такую же «многоглавую» иконографию имел еще один египетский бог-защитник — Бес Пантеос,
 получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.
получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.«В процессе отождествления Беса с другими богами-защитниками, возникает образ вмещающий в себя десять божеств (собственно Беса, Аха, Амама, Хайета, Ихти, Мефджета, Менева, Сегеба, Сопду и Тетену) в едином божестве, которое известно под именем Бес Пантеос.»⁶________________________________
(В.Солкин)
[6] Παντεός — «всебог», бог, совмещающий в себе других богов, отождествленных с ним.
Надо полагать, Туту прошел тот же процесс отождествления с другими богами-защитниками, и вправе тоже иметь эпитет «Пантеос».
На стеле из Александрийского музея голову Туту окружают семь дополнительных голов (урей, стервятник, сокол, Бес, ибис, крокодил, баран), центральная из которых — голова Беса.
 Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.
Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.Необходимо также обратить внимание на схожесть написания греческих имен Туту (Τυθωες) и Тифона (Τυφωεύς). Не исключено, что они имели и схожее произношение. Буква υ (ипсилон) имеет двоякое прочтение ([ü] либо [ί] — в зависимости от нюансов транслитерации).⁷
________________________________
[7] Буква ипсилон (Yυ) в древнегреческом языке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук — огубленное [ί]. Подобный звук есть в современном немецком языке и обозначается латинской буквой u с умлаутом — ü. В русском языке огубленного [ί] нет, и в практике преподавания древнегреческого языка в русскоязычной аудитории букву ипсилон читают как букву ю.
Конечно, Туту и Тифона, кроме схожести имен, мало что объединяет. Можно сказать, ничего не объединяет. Но для начала, достаточно и этого. Опять же, эпитет «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст» — мог бы стать отправной точкой для неоднозначного толкования, и вдохновить на развитие темы хтонического образа Туту.
Несмотря на то, что греки Тифона отождествляли с египетским Сетом, общего между ними — тоже не много. У них разная иконография и разная мифология. Схожи они, пожалуй, только общей характеристикой: злобностью нрава, да еще желанием беззаконно отнять власть у верховного бога. Сет был богом песчаных бурь, убивающим, в сезон засухи, все живое в долине Нила. Тифон (др.-греч. Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, эпич. Τυφάων) — олицетворение огненных сил земли, с их разрушительными действиями и ядовитыми испарениями.
«Тифон возжелал стать властелином над богами и смертными, но Зевс вступил с ним в борьбу, от которой земля сотряслась до оснований, суша, море и небо загорелись, и даже обитатели подземного царства затрепетали. Меткий удар молнии прекратил неистовство Тифона, который был низвергнут в Тартар, его пламя забило из расселин Этны. И здесь он еще не может вполне успокоиться: когда он шевелится, происходят землетрясения и дуют знойные ветры.»
Причина наделения Тифона определенными качествами кроется, как обычно, в его имени.
Τῡφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон;
1) гигант, сын Тартара и Геи, побежденный Зевсом Aesch., Plat., Plut.;
2) миф. царь Египта Her.
τῡφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut.
τύφω (ῡ) (pf. pass. τέθυμμαι)
1) дымить, чадить;
2) тлеть;
3) зажигать, воспламенять, сжигать на медленном огне;
τῦφος ὁ
1) дым, чад; ex: τ. ἔμαρψέν τι Anth. дым унес что-л., что-л. улетело с дымом, т.е. сгорело;
2) гордость, надменность, спесь (κενοδοξία καὶ τ. Polyb.); ex: τοῦ τύφου διφαίνεις δοκῶν μὴ τετυφῶσθαι — «ты обнаруживаешь гордость, полагая, что ты свободен от гордости», т.е. гордишься отсутствием гордости (ответ Платона Диогену Синопскому).
τῡφόω
1) досл. окутывать дымом, перен. наполнять чванством (τινα Plut.); ex: χαίρων καὶ τετυφωμένος Plut. — «ликующий и гордый»; τετυφωμένη ἀπόκρισις Plut. — «надменный ответ»;
2) помрачать, сводить с ума (ὁ οἶνος τετυφωμένους ποιεῖ Arst.); ex: ληρεῖν καὶ τετυφῶσθαι Dem. — «дурачиться и сумасбродствовать»;
τῡφώνιος adj=2 тифонов, т.е. суровый, грубый (σκληρία Plut.).
Могло ли греческое имя Туту (Τυθωες) стать толчком для развития независимого образа Тифона (Τυφωεύς)? Зная живой и изворотливый ум античных сочинителей, ответ однозначен — возможно всё.
Остров Тринакрия ⁸ был на падших наложен Гигантов,
Грузом тяжелым его под землей лежащий придавлен
Древний Тифей,⁹ что дерзнул возмечтать о престоле небесном,
Все продолжает борьбу, все время восстать угрожает.
Но авсонийский Пелор над правой простерся рукою,
Ты же на левой, Пахин; Лилибеем придавлены ноги,¹⁰
Голову Этна гнетет. Тифей, протянувшись под нею,
Ртом извергает песок и огонь изрыгает, беснуясь.
Тщетно старается он то бремя свалить земляное,
Силой своей раскидать города и огромные горы:
Вот и трепещет земля, и сам повелитель безмолвных ¹¹
В страхе, не вскрылась бы вдруг, не дала бы зияния суша.
Свет не проник бы к нему, ужасая пугливые тени.
(Овидий. Метаморфозы V, 346-358)
______________________
[8] Τρινακρία (Τριν-ακρία) ἡ Тринакрия, «Трехвершинная» (древнейшее название Сицилии) Thuc., Theocr.
[9] Τυφωεύς (-έος) ὁ эп. = Τυφῶν (Тифон).
[10] Пелор, Пахин, Лилибей — три мыса Сицилии.
[11] «Повелитель безмолвных» (то есть умерших) — Плутон (Аид).
_______________________________
|
Метки: Кербер Туту Тифон Греция Средневековая астрономия |
Процитировано 1 раз
ЭРИДАН |
С.В. Петров
ЭРИДАН, НЕБЕСНАЯ РЕКА
Эридан — древнее, очень протяженное созвездие Южного небесного полушария. Вытянуто от небесного экватора на юг. На юге созвездия находится звезда первой величины Ахернар (от араб. āxir an-nahr — «конец реки»). Собственно Эридан — река в древнегреческой мифологии, идентифицируемая с различными реками, в частности, реками Ефрат, По, Нил. Под этим именем созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» (II в.).
Гигин в «Мифах» объяснял появление созвездия Эридан на небе — через миф о Девкалионовом потопе. Зевс, узнав, что титаны убили и растерзали его сына Диониса Загрея, метнул молнию в титанов, испепелив их. Но от этой молнии загорелась и вся земля, от востока до запада.
Океан взмолился к Зевсу о спасении, и тот, чтобы потушить пожар, выпустил потоки воды. Т.е. Эридан, по Гигину, — это поток из хлябей небесных, которые разверз Зевс.
В другой, более популярной версии, созвездие Эридан ассоциируется с мифом о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который не справился с управлением небесной колесницей Солнца. Огненные кони Гелиоса понесли, и отклонились от своего звездного пути, слишком близко приблизившись к Земле, отчего та загорелась. Гея взмолилась к Зевсу, и Зевс поразил Фаэтона молнией. Фаэтон рухнул в Эридан, причем нужно понимать, что это мифический звездный Эридан, а история с гибелью сына Гелиоса — это лишь фрагмент из описательной астрономической мифологии, объясняющей причину названия созвездий на картах звездного неба.
Была также попытка представить это созвездие как извилистый путь колесницы Фаэтона, но она не нашла признания в астрономических кругах.
Несмотря на мифологичность звездной реки, нашлось немало желающих отождествить ее с земным аналогом. Полибий отождествлял реку Эридан с рекой Пад (лат. Padus, греч. Πάδος, главная река Италии). По Геродоту, Эридан впадает в северное море, откуда привозят янтарь. Отсюда эпитет «река многих слез», ибо в янтарь (согласно мифу) превратились слезы Аполлона по сыну Асклепию. В другой версии — это слезы Гелиад, сестер Фаэтона, по брату. Гелиады, томившие своим плачем Зевса, были им превращены в тополя (или в плакучие ивы), чья смола и стала янтарем.
По «Аргонавтике» Аполлония, течение Эридана непосредственно переходит в течение реки Родан (Рона). Этой же версии придерживается Павсаний.
Однако в описании Аттики у Павсания встречаем упоминание и еще об одной реке с названием Эридан:
Страбон утверждает, что Эридан — это вымышленная река, хотя его и помещают рядом с Падом. Дионисий Периэгет располагает его истоки явно западнее Пада.
В одной из интерпретаций месопотамских клинописных астрономических таблиц MUL.APIN одна из звезд, а именно звезда Эриду соответствует одной из звезд Эридана. Вообще, город Эриду, которому посвящена звезда — первое городское поселение Шумера, а значит, и всего Ближнего Востока. Уже к концу III тысячелетия до нашей эры он потерял значение центра шумерской цивилизации и позже воспринимался как мифологический город — жилище богов. Хотя река Эридан греков традиционно располагалась на западе или на севере, созвучие имен Эриду и Эридан наводит на мысль о возможном заимствовании греками названия созвездия.
Традиционно созвездие приписывается Евдоксу (IV до н.э.), хотя он, вероятно, лишь первым дал описание созвездия. Арат в «Явлениях» (возможно со слов Евдокса) пишет об Эридане:
Греки часто называли созвездие обобщенно ὁ Ποταμός, т.е. просто «Река», а учитывая близость к созвездию Орион — Река Ориона. Ту же традицию мы встречаем у римлян — помимо Eridanus (Эридан) и Padus (Пад), нередко созвездие обозначается просто Flumen («Поток»).
Христианские благочестивые астрономы, например Цезий, предлагали отождествить созвездие с Иорданом. Шиллер в атласе «Христианское звездное небо» (Coelum Stellatum Christianum, 1627) предпринял попытку реформы астрономических наименований в духе христианской парадигмы, заменив все названия созвездий с языческих на библейские. В этом атласе он также отождествляет Еридан с Иорданом.
Евреи название реки Иордан (Йарден) производят от слова «йерéд» (что значит «спускается», «падает») и названия источника Дан. Это подтверждается наличием рядом с истоком реки (на расстоянии полутора-двух километров) водопада. Название водопада Баниас, вероятно, имеет отношение к древнему святилищу Пана, и является искажением эпитета Пана — Βουνίτης (житель холмов). О том же свидетельствует протоиерей Геннадий Беловолов: «река, в которой Иоанн Предтеча совершал крещение покаяния, начинается там, где был центр языческого культа (бога Пана¹)».
_________________________________
[1] Здесь нужно помнить, что чужих богов Греки отождествляли со своими и, собственно, своими (греческими) именами их и величали. Например, Геродот сообщает, что «Пан, на египетском языке Мендет» (Πάν, Αἰγυπτιστί Μένδης). Забавно, что Геродот здесь переводит с греческого на греческий, потому что египетское имя «Мендета» — Банебджедет («Душа [ба] владыки [Ра] Джедета»; Джедет — египетское название города, который греки переименовали в Мендес). Это отождествление понятно, ибо Банебджедет изображался в образе барана, либо антропоморфно с головой барана, что более чем близко к образу козлоподобного Пана.
Но Пан отождествлялся и с другими божествами имевшими подобную иконографию (Хнум, Амон). Страбон отмечал, что жители Мероэ «почитают Геракла, Пана и Исиду, кроме другого какого-то варварского бога» (Strabo., XVII, II, 3). При этом, вероятно, Страбон говорит, соответственно о Горе, Сераписе (отождествляемым с Амоном), Исиде и «варварском боге» Апедемаке (с телом змея и головой льва).
Так же и, в рассматриваемом выше контексте, под святилищем Пана на Иорданских берегах могло вполне подразумеваться святилище бараноголового Амона, которого греки чаще отождествляли с Зевсом. Но в качестве паредра Исиды, вероятно, здесь выступает Серапис Пантеос (Παντεός, Всебог), сочетающий в себе и Зевса, и Амона.


1. Филипп I Араб (244-249), Александрия, Египет. Тетрадрахма (BI 11.58g), 246/7г. Av: бюст Филиппа I в лавровом венке; A K M IOY ФIΛIППOC EY CEB. Rv: бюст Сераписа Пантеоса, сочетающего в себе образ Зевса-Амона, с характерными рогами, на голове находится модиус, основание которого украшено витыми бараньими рогами, характерными для египетской традиции, вокруг головы — лучевая аура; справа — Рог изобилия, слева — трезубец увитый змеей; L Δ (Year 4).
2. Адриан (117-138). Александрия, Египет. Драхма (Æ 22.68g), 133/4г. Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB. Rv: бюсты Исиды и Зевса-Сераписа, который держит в руке младенца Гарпократа; L IH (Year 18).
С другой стороны, если водопад имеет греческое название, можно предположить, что и название реки несет в себе греческую этимологию: ιερά δῦναι — «священное погружение», причем не обязательно крещение. Священные омовения совершались и в языческих ритуалах.
Впрочем, есть еще одна интересная версия, также предполагающая наличие греческого следа. Например, Д.С. Мережковский считал, что «имя самого Иордана занесено в Палестину с острова Крит, где племя Кидонов (Κύδωνες), как мы узнаем из Гомера (Одиссея III. 292), обитало у светлых потоков Ярдана (Ἰαρδάνης)».
На Крите не так много рек, и единственная, с которой можно отождествить «Ярдан» — это Иеропотамос (Ιερός Ποταμός, дословно, «Священная река»), самая большая река на острове. Кстати, с таким же названием (Ἰάρδανος, Ἰαρδάνης) была река и в Писатиде на северо-западе Пелопоннеса (область между Элидой и Мессенией). Она упоминается Гомером в «Иллиаде»:
Под Иарданом подразумевается некий мифический герой, который в Трифилии почитался как гений реки. Кроме того, Аполлодор и Диодор Сицилийский повествуют о лидийском царе Иардане (Ἰάρδανος),² отце царицы Омфалы. Могила Иардана, по преданию, находится у реки Анигр в Элиде. Каким образом связаны название реки (Ἰάρδανος) в Элиде и имя лидийского царя Иардана (Ἰάρδανος), похороненного в Элиде — неизвестно. Но такое впечатление, что каким-то образом связаны.
[2] Ἰάρδανος, Ἰαρδάνης ὁ Иардан
1) царь Лидии, отец Омфалы Her.;
2) река в Элиде Hom.;
3) река на о-ве Крит Hom.
Имеет смысл упомянуть и реку Вардан (Οὐαρδάνος) на Кавказе, упоминаемую Птолемеем (Сведения о Скифии и Кавказе), и подозрительно созвучную с греческими Эриданом (Ἠριδανός) и Иарданом (Ἰάρδανος). Варданом Птолемей называет реку Кубань, но другими источниками это название (Οὐαρδάνος) не подтверждается.
Это единичное свидетельство можно было бы оставить незамеченным, если бы не один нюанс, косвенно возвращающий нас к заглавной теме — созвездие Эридан у Риччиоли названо Варди (Vardi), что удивительно созвучно с латинским написанием реки Вардан — Vardanes. С рекой Кубань, называемой Птолемеем Варданом (Οὐαρδάνος) вообще все не так однозначно. В.Мусбахова, рассматривая маршрут обратного плавания аргонавтов из царства Ээта, в Орфической Аргонавтике, соотносит реку Кубань с архаическим Фасисом. В свою очередь, на Фасисе располагается мифический остров Эрифия — крайний пункт похода Геракла на восток в рамках мифа о коровах Гериона. А тут самое время вспомнить о попытках этимологизировать название реки Эридан (Ἠριδανός), как место восхода солнца. Ведь, в архаическом представлении греков, Колхида, будучи «страной восходящего солнца», располагалась на краю света.
Возвращаясь к палестинскому Иордану, по поводу источника с названием Дан (из которого берет начало река), можно также вспомнить аргосский миф о Данае (Δαναός) и его дочерях данаидах (Δαναΐδες). Данаиды, по приказу отца убившие своих мужей, были обречены, после смерти, в мрачном царстве Аида бесконечно наполнять водой огромный бездонный сосуд (Δαναΐδων πίθον, «Бочка данаид»).
«Бочка данаид» олицетворяет собой бездну земли, земное чрево, вбирающее в себя влагу, и, в то же время, служащее источником родников, ручьев и рек. Данай в Арголиде считался «божеством источников», так же как и его дочери были нимфами родников и водоемов. Отсюда возникает вполне уместный вопрос: может ли «божество источников» Данай (в форме ἱερά Δαναός) быть прототипом гения реки Эридана (Ἠριδανός) или гения реки Иардана (Ἰάρδανος) на Крите и в Элиде? Как говорится, теоретически, возможно все. Павсаний весьма высоко отзывается о мифическом царе Данае.
Можно также, как бы вскользь, обратить внимание на подозрительное созвучие имени Данай (Δαναός) и дорическую форму имени Зевса — Δᾶν. Ибо, в свое время (XIII-XII вв. до н.э.), дорийцы, в составе других племен (говоривших на западных диалектах), расселились на Пелопоннесе (куда входит и Арголида) и на южных островах Эгейского моря, в том числе и на Крите (где нами был отмечен топоним Иардан).
Если принять версию о дорийском происхождении топонима Иардан (Ἰάρδανος), то река могла быть названа в честь святилища посвященного Зевсу (ἱερά Δᾶν). Имя мифологического Даная (Δαναός) означает «древний» (δηναιός, дор. δᾱναιός). Могла ли подобная этимология (и семантика) быть применима к дорийской форме имени Зевса (Δᾶν)? Опять же да. Но опять же эти рассуждения имеют исключительно умозрительный характер. Поэтому вернемся к небесной реке.
Встречается также и латинское название созвездия Nilus (Нил). Например, в Альфонсовых таблицах (Tabulae Alphonsinae) редакции 1521 года в описании созвездия появляется и египетское название реки Gyon: «звездный поток Эридан или Гийон, или Нил» (Stellatio fluvii id est Eridanus sive Gyon sive Nilus). Сторонники отождествления Эридана с Нилом аргументируют свою версию тем, что только Нил (как и небесная Река) из всех рек течет с юга на север, а так же тем, что звезда Канопус южнее созвездия соотносится с островом Каноп, омываемым Нилом.
Египетские корни и у названий созвездия Mulda, Μέλας — это перевод самоназвания Египта «Черная [земля]» (Khem) на латинский и греческий соответственно. Отсюда же происходит латинизированное название реки Нил — Melo, которое тоже применялось к созвездию Эридан. Другие «водные» названия «звездной реки» на латыни: Ocean, Nereus, Neptune (Океан, Нерей, Нептун).
У арабов в Средние века обычным названием было Al Nahr («Река») или, в латинизированной форме, Nar, Nahar, Alnahar. У арабов использовалось также название Wādī — «Русло» (есть малоизвестный точный эквивалент «вади» — пересыхающие реки в аравийских пустынях), которое с одной стороны латинизировалось в названия созвездия Vardi, Guad, Guagi, а с другой — хорошо известно и в земных топонимах, например, в имени испанской реки Гвадалквивир.


В ранних иллюстрациях созвездие изображали в виде бога, изливающего поток из кувшина, вероятно, это одноименный гений реки Эридан, сын Океана и Тефис. У Апиана в «Звездной карте» изображена фигура нимфы в южном конце реки, и точно такая же — в росписи палаццо Беста. Также встречаются изображения юноши (гения реки), возлежащего на водах Эридана.

Позже Эридан стали изображать просто неровной полосой, и только Байер посадил вдоль нее камыши и нарисовал крохотные скалы. Боде изобразил в Эридане острова. Если Байер и Боде подразумевали под Эриданом Нил, то и острова, и тростниковые заросли (тростник — геральдический символ Нижнего Египта) выглядят вполне уместно.

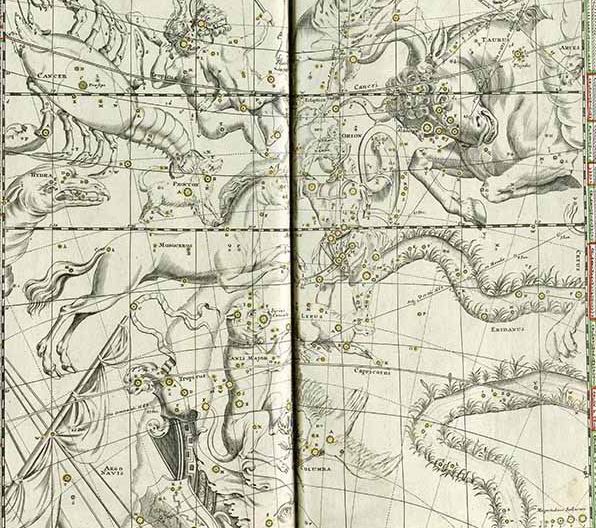
Само слово Эридан (Ἠριδανός) несет в себе интересное созвучие εὐρύ δονακεύς — обширные тростники, т.е. тростниковые поля иару (iȝr.w) — в египетской мифологии, загробный мир («сехет иару»), где пребывают души умерших.
Можно предложить и еще более откровенное созвучие: ἦρι δονακεύς — вечно зеленые (цветущие) заросли тростника, что точно характеризует египетское представление о райских полях на берегах небесного Нила. Окончание -ακεύς равноценно ἄξιος и означает «чтимый, достойный, уважаемый, почитаемый» — что вполне уместно для гения реки (Эридана) — Ἠριδανός ἄξιος (= ἦρι δονακεύς).
Что еще заслуживает внимания — созвездие Эридан начинается от ног Ориона. А созвездие Ориона (егип. Sȝḥ, Сах), в египетской астрономической традиции, олицетворял Осирис. С другой стороны пересыхание Нила в сезон засухи и его возрождение с наступлением половодья — также описывалось мистерией убийства Осириса Сетом и его последующим воскрешением. В одном из текстов говорится, что в момент воскрешения, когда Осирис возрождается, имя его — «Вода Возрождения». Т.е., в лице Осириса (Ориона) мы имеем гения небесной реки Нил, в искаженном греческом варианте — Эридан.
Для египтян Нил был священной рекой. Неудивительно, что Иардан (Ἰάρδανος), главная река на Крите (который имел весьма тесные связи с Египтом), видимо, имеет то же значение (и этимологию) — «Священная река», что подтверждается позднейшей греческой адаптацией названия этой реки — Иерос Потамос (Ιερός Ποταμός, «Священная река»). Название реки на Ближнем Востоке — Иордан — единственно дошедшее до наших дней сакральное название «Священной реки». Попытка распространить сакральное название реки (Иардан) на севере Европы оказалась неуспешной. Та же судьба постигла и италийскую реку, именуемую прежде Эриданом (Ἠριδανός), теперь она носит название По (Po). Впрочем, само название реки «По», вполне вероятно, может быть редукцией греческого слова «Потамос» (Ποταμός, «река»), либо расширительно — Иерос Потамос (Ιερός Ποταμός, «Священная река»).
http://www.astromyth.ru/Constellations/Eri.htm#showimage
________________________________
ЭРИДАН, НЕБЕСНАЯ РЕКА
Эридан — древнее, очень протяженное созвездие Южного небесного полушария. Вытянуто от небесного экватора на юг. На юге созвездия находится звезда первой величины Ахернар (от араб. āxir an-nahr — «конец реки»). Собственно Эридан — река в древнегреческой мифологии, идентифицируемая с различными реками, в частности, реками Ефрат, По, Нил. Под этим именем созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» (II в.).
Ἠριδανός ὁ Эридан
1) мифическая река, берущая начало в Рапейских горах и впадающая в Океан на крайнем западе Европы Hes., Her.
2) река Пад, ныне По Eur., Arst., Polyb.
Гигин в «Мифах» объяснял появление созвездия Эридан на небе — через миф о Девкалионовом потопе. Зевс, узнав, что титаны убили и растерзали его сына Диониса Загрея, метнул молнию в титанов, испепелив их. Но от этой молнии загорелась и вся земля, от востока до запада.
Пламя объяло Восток; от стрелы огневой, раскаленной,
Бактрии край запылал; от страшного жара иссохли
Воды в стране Ассирийской и волны Каспийского моря,
Земли Индийских пределов; кипел в Эритрейском заливе
Огненный вал и арабский Нерей добела раскалился.
Молнией Зевс поразил и страны, где солнце заходит;
Гневом горел он за милое чадо…
(Нонн. Поэма о Дионисе VI, 212)
Океан взмолился к Зевсу о спасении, и тот, чтобы потушить пожар, выпустил потоки воды. Т.е. Эридан, по Гигину, — это поток из хлябей небесных, которые разверз Зевс.
Сжалился Зевс и решил залить струей водяною
Тлеющий пепел пожаров и раны земли опаленной.
(Нонн. Поэма о Дионисе VI, 227)
В другой, более популярной версии, созвездие Эридан ассоциируется с мифом о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который не справился с управлением небесной колесницей Солнца. Огненные кони Гелиоса понесли, и отклонились от своего звездного пути, слишком близко приблизившись к Земле, отчего та загорелась. Гея взмолилась к Зевсу, и Зевс поразил Фаэтона молнией. Фаэтон рухнул в Эридан, причем нужно понимать, что это мифический звездный Эридан, а история с гибелью сына Гелиоса — это лишь фрагмент из описательной астрономической мифологии, объясняющей причину названия созвездий на картах звездного неба.
В ужасе кони, прыжком в обратную сторону прянув,
Сбросили с шеи ярмо и вожжей раскидали обрывки.
Здесь лежат удила, а здесь, оторвавшись от дышла,
Ось, а в другой стороне — колес разбившихся спицы;
Разметены широко колесницы раздробленной части.
А Фаэтон, чьи огонь похищает златистые кудри,
В бездну стремится и, путь по воздуху длинный свершая,
Мчится, подобно тому, как звезда из прозрачного неба
Падает или, верней, упадающей может казаться.
На обороте земли, от отчизны далеко, великий
Принял его Эридан и дымящийся лик омывает.
(Овидий. Метаморфозы II, 314)
Была также попытка представить это созвездие как извилистый путь колесницы Фаэтона, но она не нашла признания в астрономических кругах.
Несмотря на мифологичность звездной реки, нашлось немало желающих отождествить ее с земным аналогом. Полибий отождествлял реку Эридан с рекой Пад (лат. Padus, греч. Πάδος, главная река Италии). По Геродоту, Эридан впадает в северное море, откуда привозят янтарь. Отсюда эпитет «река многих слез», ибо в янтарь (согласно мифу) превратились слезы Аполлона по сыну Асклепию. В другой версии — это слезы Гелиад, сестер Фаэтона, по брату. Гелиады, томившие своим плачем Зевса, были им превращены в тополя (или в плакучие ивы), чья смола и стала янтарем.
«Дочери Гелия, встав вокруг тополями прямыми,
Льют непрерывно тщетные слезы, и светлые капли
Тут же с их ресниц янтарем ниспадают на землю.»
(Аполлоний Родосский. Аргонавтика IV, 601-603)
По «Аргонавтике» Аполлония, течение Эридана непосредственно переходит в течение реки Родан (Рона). Этой же версии придерживается Павсаний.
«Эти галаты заселяют крайние страны Европы около моря, столь огромного, что до конца проплыть его невозможно; в нем бывают приливы и отливы, и животные живут в нем, совсем не похожие на животных в других морях; через их страну и протекает река Эридан (Рона). Считают, что здесь на его берегах дочери Гелиоса оплакивают роковую гибель их брата Фаэтона. Название галатов стало общеупотребительным сравнительно поздно; прежде они сами себя называли кельтами и другие их так называли.»
(Павсаний. Описание Эллады. Аттика, IV:1)
Однако в описании Аттики у Павсания встречаем упоминание и еще об одной реке с названием Эридан:
«Реки, текущие у афинян — следующие: Илис и река, имеющая одно и то же имя с кельтским Эриданом, впадающая в Илис.»
(Павсаний. Описание Эллады. Аттика, XIX:6)
Страбон утверждает, что Эридан — это вымышленная река, хотя его и помещают рядом с Падом. Дионисий Периэгет располагает его истоки явно западнее Пада.
В одной из интерпретаций месопотамских клинописных астрономических таблиц MUL.APIN одна из звезд, а именно звезда Эриду соответствует одной из звезд Эридана. Вообще, город Эриду, которому посвящена звезда — первое городское поселение Шумера, а значит, и всего Ближнего Востока. Уже к концу III тысячелетия до нашей эры он потерял значение центра шумерской цивилизации и позже воспринимался как мифологический город — жилище богов. Хотя река Эридан греков традиционно располагалась на западе или на севере, созвучие имен Эриду и Эридан наводит на мысль о возможном заимствовании греками названия созвездия.
Традиционно созвездие приписывается Евдоксу (IV до н.э.), хотя он, вероятно, лишь первым дал описание созвездия. Арат в «Явлениях» (возможно со слов Евдокса) пишет об Эридане:
«Между сияющих звезд Эридан свои воды проносит.
Вдаль убегает река».
Греки часто называли созвездие обобщенно ὁ Ποταμός, т.е. просто «Река», а учитывая близость к созвездию Орион — Река Ориона. Ту же традицию мы встречаем у римлян — помимо Eridanus (Эридан) и Padus (Пад), нередко созвездие обозначается просто Flumen («Поток»).
Христианские благочестивые астрономы, например Цезий, предлагали отождествить созвездие с Иорданом. Шиллер в атласе «Христианское звездное небо» (Coelum Stellatum Christianum, 1627) предпринял попытку реформы астрономических наименований в духе христианской парадигмы, заменив все названия созвездий с языческих на библейские. В этом атласе он также отождествляет Еридан с Иорданом.
Евреи название реки Иордан (Йарден) производят от слова «йерéд» (что значит «спускается», «падает») и названия источника Дан. Это подтверждается наличием рядом с истоком реки (на расстоянии полутора-двух километров) водопада. Название водопада Баниас, вероятно, имеет отношение к древнему святилищу Пана, и является искажением эпитета Пана — Βουνίτης (житель холмов). О том же свидетельствует протоиерей Геннадий Беловолов: «река, в которой Иоанн Предтеча совершал крещение покаяния, начинается там, где был центр языческого культа (бога Пана¹)».
_________________________________
[1] Здесь нужно помнить, что чужих богов Греки отождествляли со своими и, собственно, своими (греческими) именами их и величали. Например, Геродот сообщает, что «Пан, на египетском языке Мендет» (Πάν, Αἰγυπτιστί Μένδης). Забавно, что Геродот здесь переводит с греческого на греческий, потому что египетское имя «Мендета» — Банебджедет («Душа [ба] владыки [Ра] Джедета»; Джедет — египетское название города, который греки переименовали в Мендес). Это отождествление понятно, ибо Банебджедет изображался в образе барана, либо антропоморфно с головой барана, что более чем близко к образу козлоподобного Пана.
Но Пан отождествлялся и с другими божествами имевшими подобную иконографию (Хнум, Амон). Страбон отмечал, что жители Мероэ «почитают Геракла, Пана и Исиду, кроме другого какого-то варварского бога» (Strabo., XVII, II, 3). При этом, вероятно, Страбон говорит, соответственно о Горе, Сераписе (отождествляемым с Амоном), Исиде и «варварском боге» Апедемаке (с телом змея и головой льва).
«Северная стена (внешняя часть). Представлен Апедемак, возглавляющий процессию богов. (…) Далее следуют бараноголовый Амон, Сатис, Гор и Исида.» (Э.Е. Миньковская «Львиноголовый бог Апедемак»)
Так же и, в рассматриваемом выше контексте, под святилищем Пана на Иорданских берегах могло вполне подразумеваться святилище бараноголового Амона, которого греки чаще отождествляли с Зевсом. Но в качестве паредра Исиды, вероятно, здесь выступает Серапис Пантеос (Παντεός, Всебог), сочетающий в себе и Зевса, и Амона.


1. Филипп I Араб (244-249), Александрия, Египет. Тетрадрахма (BI 11.58g), 246/7г. Av: бюст Филиппа I в лавровом венке; A K M IOY ФIΛIППOC EY CEB. Rv: бюст Сераписа Пантеоса, сочетающего в себе образ Зевса-Амона, с характерными рогами, на голове находится модиус, основание которого украшено витыми бараньими рогами, характерными для египетской традиции, вокруг головы — лучевая аура; справа — Рог изобилия, слева — трезубец увитый змеей; L Δ (Year 4).
2. Адриан (117-138). Александрия, Египет. Драхма (Æ 22.68g), 133/4г. Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB. Rv: бюсты Исиды и Зевса-Сераписа, который держит в руке младенца Гарпократа; L IH (Year 18).
С другой стороны, если водопад имеет греческое название, можно предположить, что и название реки несет в себе греческую этимологию: ιερά δῦναι — «священное погружение», причем не обязательно крещение. Священные омовения совершались и в языческих ритуалах.
ἱερός посвященный богам, внушающий благоговение, священный;
δῦναι (= δύμεναι) inf. aor. 2 к δύω;
δύω погружаться, опускаться;
δύνῃ 3 л. sing. praes. conjct. к δύνω;
δύνω погружаться, нырять.
Впрочем, есть еще одна интересная версия, также предполагающая наличие греческого следа. Например, Д.С. Мережковский считал, что «имя самого Иордана занесено в Палестину с острова Крит, где племя Кидонов (Κύδωνες), как мы узнаем из Гомера (Одиссея III. 292), обитало у светлых потоков Ярдана (Ἰαρδάνης)».
«Вдруг корабли разлучив, половину их бросил он к Криту,
Где обитают кидоны у светлых потоков Ярдана.»
На Крите не так много рек, и единственная, с которой можно отождествить «Ярдан» — это Иеропотамос (Ιερός Ποταμός, дословно, «Священная река»), самая большая река на острове. Кстати, с таким же названием (Ἰάρδανος, Ἰαρδάνης) была река и в Писатиде на северо-западе Пелопоннеса (область между Элидой и Мессенией). Она упоминается Гомером в «Иллиаде»:
«Около Фейских твердынь [мыс Фея], недалеко от струй Иардана»…
(Ил. VII, 135)
Под Иарданом подразумевается некий мифический герой, который в Трифилии почитался как гений реки. Кроме того, Аполлодор и Диодор Сицилийский повествуют о лидийском царе Иардане (Ἰάρδανος),² отце царицы Омфалы. Могила Иардана, по преданию, находится у реки Анигр в Элиде. Каким образом связаны название реки (Ἰάρδανος) в Элиде и имя лидийского царя Иардана (Ἰάρδανος), похороненного в Элиде — неизвестно. Но такое впечатление, что каким-то образом связаны.
«Акидон течет мимо могилы Иардана и мимо Хаи — города, бывшего некогда около Лепрея, где находится Эпасийская равнина.»_________________________________
(Страбон «География»)
[2] Ἰάρδανος, Ἰαρδάνης ὁ Иардан
1) царь Лидии, отец Омфалы Her.;
2) река в Элиде Hom.;
3) река на о-ве Крит Hom.
Имеет смысл упомянуть и реку Вардан (Οὐαρδάνος) на Кавказе, упоминаемую Птолемеем (Сведения о Скифии и Кавказе), и подозрительно созвучную с греческими Эриданом (Ἠριδανός) и Иарданом (Ἰάρδανος). Варданом Птолемей называет реку Кубань, но другими источниками это название (Οὐαρδάνος) не подтверждается.
Σεράκα, Σαράκα· πόλις παρὰ δὲ τὸν Οὐαρδάνην ποταμόν…
(Клавдий Птолемей. Руководство по географии V. 8. 28)
Это единичное свидетельство можно было бы оставить незамеченным, если бы не один нюанс, косвенно возвращающий нас к заглавной теме — созвездие Эридан у Риччиоли названо Варди (Vardi), что удивительно созвучно с латинским написанием реки Вардан — Vardanes. С рекой Кубань, называемой Птолемеем Варданом (Οὐαρδάνος) вообще все не так однозначно. В.Мусбахова, рассматривая маршрут обратного плавания аргонавтов из царства Ээта, в Орфической Аргонавтике, соотносит реку Кубань с архаическим Фасисом. В свою очередь, на Фасисе располагается мифический остров Эрифия — крайний пункт похода Геракла на восток в рамках мифа о коровах Гериона. А тут самое время вспомнить о попытках этимологизировать название реки Эридан (Ἠριδανός), как место восхода солнца. Ведь, в архаическом представлении греков, Колхида, будучи «страной восходящего солнца», располагалась на краю света.
ἦρι adv. рано, ранним утром.
Возвращаясь к палестинскому Иордану, по поводу источника с названием Дан (из которого берет начало река), можно также вспомнить аргосский миф о Данае (Δαναός) и его дочерях данаидах (Δαναΐδες). Данаиды, по приказу отца убившие своих мужей, были обречены, после смерти, в мрачном царстве Аида бесконечно наполнять водой огромный бездонный сосуд (Δαναΐδων πίθον, «Бочка данаид»).
«Вечно носят данаиды воду, черпая ее в подземной реке. Вот, кажется, уже полон сосуд, но вытекает из него вода. И снова принимаются за работу данаиды.»
«Бочка данаид» олицетворяет собой бездну земли, земное чрево, вбирающее в себя влагу, и, в то же время, служащее источником родников, ручьев и рек. Данай в Арголиде считался «божеством источников», так же как и его дочери были нимфами родников и водоемов. Отсюда возникает вполне уместный вопрос: может ли «божество источников» Данай (в форме ἱερά Δαναός) быть прототипом гения реки Эридана (Ἠριδανός) или гения реки Иардана (Ἰάρδανος) на Крите и в Элиде? Как говорится, теоретически, возможно все. Павсаний весьма высоко отзывается о мифическом царе Данае.
«Стоят там и статуи героев: Даная, самого могущественного из царей, бывших когда-либо в Аргосе; Гиперместры — так как она одна из сестер не запятнала своих рук убийством; около нее статуя Линкея и подряд весь род до Геракла и еще раньше по нисходящей линии вплоть до Персея.»
(Павсаний. Описание Эллады. Фокида, X, 2)
Можно также, как бы вскользь, обратить внимание на подозрительное созвучие имени Данай (Δαναός) и дорическую форму имени Зевса — Δᾶν. Ибо, в свое время (XIII-XII вв. до н.э.), дорийцы, в составе других племен (говоривших на западных диалектах), расселились на Пелопоннесе (куда входит и Арголида) и на южных островах Эгейского моря, в том числе и на Крите (где нами был отмечен топоним Иардан).
Если принять версию о дорийском происхождении топонима Иардан (Ἰάρδανος), то река могла быть названа в честь святилища посвященного Зевсу (ἱερά Δᾶν). Имя мифологического Даная (Δαναός) означает «древний» (δηναιός, дор. δᾱναιός). Могла ли подобная этимология (и семантика) быть применима к дорийской форме имени Зевса (Δᾶν)? Опять же да. Но опять же эти рассуждения имеют исключительно умозрительный характер. Поэтому вернемся к небесной реке.
Встречается также и латинское название созвездия Nilus (Нил). Например, в Альфонсовых таблицах (Tabulae Alphonsinae) редакции 1521 года в описании созвездия появляется и египетское название реки Gyon: «звездный поток Эридан или Гийон, или Нил» (Stellatio fluvii id est Eridanus sive Gyon sive Nilus). Сторонники отождествления Эридана с Нилом аргументируют свою версию тем, что только Нил (как и небесная Река) из всех рек течет с юга на север, а так же тем, что звезда Канопус южнее созвездия соотносится с островом Каноп, омываемым Нилом.
Египетские корни и у названий созвездия Mulda, Μέλας — это перевод самоназвания Египта «Черная [земля]» (Khem) на латинский и греческий соответственно. Отсюда же происходит латинизированное название реки Нил — Melo, которое тоже применялось к созвездию Эридан. Другие «водные» названия «звездной реки» на латыни: Ocean, Nereus, Neptune (Океан, Нерей, Нептун).
У арабов в Средние века обычным названием было Al Nahr («Река») или, в латинизированной форме, Nar, Nahar, Alnahar. У арабов использовалось также название Wādī — «Русло» (есть малоизвестный точный эквивалент «вади» — пересыхающие реки в аравийских пустынях), которое с одной стороны латинизировалось в названия созвездия Vardi, Guad, Guagi, а с другой — хорошо известно и в земных топонимах, например, в имени испанской реки Гвадалквивир.


В ранних иллюстрациях созвездие изображали в виде бога, изливающего поток из кувшина, вероятно, это одноименный гений реки Эридан, сын Океана и Тефис. У Апиана в «Звездной карте» изображена фигура нимфы в южном конце реки, и точно такая же — в росписи палаццо Беста. Также встречаются изображения юноши (гения реки), возлежащего на водах Эридана.

Позже Эридан стали изображать просто неровной полосой, и только Байер посадил вдоль нее камыши и нарисовал крохотные скалы. Боде изобразил в Эридане острова. Если Байер и Боде подразумевали под Эриданом Нил, то и острова, и тростниковые заросли (тростник — геральдический символ Нижнего Египта) выглядят вполне уместно.

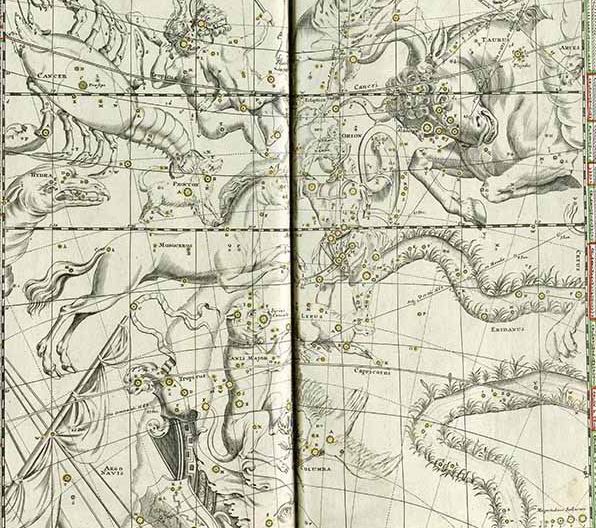
Само слово Эридан (Ἠριδανός) несет в себе интересное созвучие εὐρύ δονακεύς — обширные тростники, т.е. тростниковые поля иару (iȝr.w) — в египетской мифологии, загробный мир («сехет иару»), где пребывают души умерших.
εὐρύς, εὐρεῖα (ион. εὐρέα), εὐρύ — широкий, обширный, просторный, широко распространяющийся;
δόναξ, ион. δοῦναξ, дор. Theocr. δῶναξ -ᾰκος ὁ — тростник, камыш Hom., Aesch., Eur., Arph., Arst.
Можно предложить и еще более откровенное созвучие: ἦρι δονακεύς — вечно зеленые (цветущие) заросли тростника, что точно характеризует египетское представление о райских полях на берегах небесного Нила. Окончание -ακεύς равноценно ἄξιος и означает «чтимый, достойный, уважаемый, почитаемый» — что вполне уместно для гения реки (Эридана) — Ἠριδανός ἄξιος (= ἦρι δονακεύς).
ἔᾰρ, ἔᾰρος, ион. = эп. тж. εἶαρ, εἴᾰρος, стяж. ἦρ, ἦρος τό
1) утро; ex. ἦρι μάλα и μάλ΄ ἦρι Hom. — рано утром
2) преимущ. весна; ex. ἅμα τῷ ἔαρι Her. — с наступлением весны; ἔαρος Arst. — весной;
3) перен. весенняя свежесть, красота, цвет.
Что еще заслуживает внимания — созвездие Эридан начинается от ног Ориона. А созвездие Ориона (егип. Sȝḥ, Сах), в египетской астрономической традиции, олицетворял Осирис. С другой стороны пересыхание Нила в сезон засухи и его возрождение с наступлением половодья — также описывалось мистерией убийства Осириса Сетом и его последующим воскрешением. В одном из текстов говорится, что в момент воскрешения, когда Осирис возрождается, имя его — «Вода Возрождения». Т.е., в лице Осириса (Ориона) мы имеем гения небесной реки Нил, в искаженном греческом варианте — Эридан.
«Ты — вода, разливающаяся среди зеленеющих полей, вода, что приходит к детям Геба [земли]»…
«Ты делаешься юным, когда ты желаешь,
Ты делаешься молодым, когда ты хочешь,
И ты Нил великий на берегах в начале Нового Года:
Люди и боги живут влагой, которая изливается из тебя».
(из гимнов Осирису)
«Не только Нил, но и вообще всякую влагу называют истечением Осириса; и в честь бога впереди священной процессии всегда несут сосуд с водой. С помощью знака тростника египтяне изображают царя и южные пределы мира, а тростник символизирует увлажнение и оплодотворение всего сущего»…
(Плутарх «Об Исиде и Осирисе»)
Для египтян Нил был священной рекой. Неудивительно, что Иардан (Ἰάρδανος), главная река на Крите (который имел весьма тесные связи с Египтом), видимо, имеет то же значение (и этимологию) — «Священная река», что подтверждается позднейшей греческой адаптацией названия этой реки — Иерос Потамос (Ιερός Ποταμός, «Священная река»). Название реки на Ближнем Востоке — Иордан — единственно дошедшее до наших дней сакральное название «Священной реки». Попытка распространить сакральное название реки (Иардан) на севере Европы оказалась неуспешной. Та же судьба постигла и италийскую реку, именуемую прежде Эриданом (Ἠριδανός), теперь она носит название По (Po). Впрочем, само название реки «По», вполне вероятно, может быть редукцией греческого слова «Потамос» (Ποταμός, «река»), либо расширительно — Иерос Потамос (Ιερός Ποταμός, «Священная река»).
http://www.astromyth.ru/Constellations/Eri.htm#showimage
________________________________
|
Метки: Эридан Этимология Средневековая астрономия |
САБАЗИЙ |
Сабазий (др.-греч. Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος, Σεβάζιος, Σεβάδιος, Σάβος) — верховный бог фракийцев и фригийцев. Согласно Страбону, «некоторым образом он дитя» Матери богов. Греки отождествляли его с Дионисом, сыном Зевса, или даже с самим Зевсом. Лукиан сопоставляет Сабазия с фригийскими божествами — Атисом и Корибантом. У других писателей Сабазий сближается с малоазийским и сирийским божеством луны Меном (Μήν). Из Фракии почитание Сабазия рано перешло в Македонию. Во фракийских мистериях Сабазий представлялся в образе толстощекой змеи (греч. όφις παρείας); в том же образе Сабазий перешел и в македонские мистерии, отождествившись с Зевсом. Около времени Пелопоннесской войны (V в. до н.э.) почитание Сабазия как особого божества проникло в Афины.
В греческой религии Сабазий имел титул Спаситель (Σωτήρ, «Сотер»). Сабазия считали подателем благ. На некоторых памятниках Сабазий именуется «владыкой вселенной»; самое имя божества — общего корня с σέβᾰσεως — почитание.
σέβᾰς τό (σέβη)
1) благоговейный страх, благоговение;
ex. σ. τὸ πρὸς θεῶν Aesch. — благоговейное почитание богов; Διὸς σ. Aesch. — благоговение перед Зевсом;
2) предмет благоговейного почитания, святыня;
ex. Ἑρμῆς κηρύκων σ. Aesch.; μητρὸς σ. Aesch. священная матерь (земля); θεῶν σ. Soph. — святые боги;
3) предмет изумления или восторга;
σέβᾰσις (-εως) ἡ почитание Plut.
σεβαστός (лат. augustus) высокий, священный (эпитет римск. императоров); ex. (Καῖσαρ Σ. Luc.)
σέβω
1) совеститься, испытывать стыд;
2) не осмеливаться, страшиться;
3) поклоняться, чтить, почитать; ex. (θεούς Aesch.; ὡς θεόν τινα Plat.);
4) воздавать или оказывать почести, питать уважение;
5) торжественно справлять (ex. ὄργια Arph. священный обряд);
6) одобрительно относиться, одобрять;
7) быть благочестивым.
Отождествление Сабазия с Зевсом выглядит естественным не только в силу того, что оба они были верховными божествами, само имя Сабазий (Σεβάζιος, Σεβάδιος), при разбиении его на составляющие,
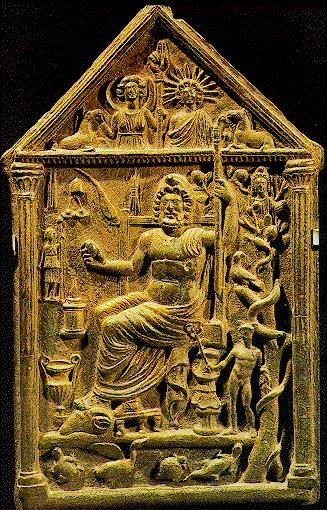 имеет вид Σέβος Διός (Ζεύς) — Высокочтимый Зевс. Поэтому версию, что Сабазий — всего лишь форма имени Зевса, можно считать вполне рабочей.
имеет вид Σέβος Διός (Ζεύς) — Высокочтимый Зевс. Поэтому версию, что Сабазий — всего лишь форма имени Зевса, можно считать вполне рабочей.Во Фригии Сабазий является паредром великой богини Mά, великой матери богов и всего сущего, вместе с ней образуя верховную божественную двоицу; в этой ипостаси Сабазий носит имя «Отца». Женскую половину диады во Фракии представляла не только Матерь богов (Mά, Кибела), но и юное божество луны (Котис, Коттито, Бендида), которую греки называли то Артемидой, то Деметрой или Персефоной. Как во Фригии, так и во Фракии, главные божества, мужское и женское, образовавшие верховную диаду, в свою очередь двоились: с одной стороны Сабазий и сын его Атис, с другой — Котис (Κότυος, Κοτυττώ) и дочь ее Бендида, так что первоначальный эпитет становился именем другого божества, отдельного от первого, но весьма близкого ему по происхождению и в мифологических сочетаниях.
Символом Сабазия во Фригии служил змей, во Фракии же Сабазий имел вид быка или человека с бычьими небольшими рогами. Чаще всего Сабазия изображали во фригийской одежде
 и шапке, одной ногой опирающегося на баранью голову и руками, поднятыми для благословения (с тремя поднятыми первыми пальцами и загнутыми остальными). Культ Сабазия носил оргиастический характер, участники празднеств в честь Сабазия плясали со змеями в руках изображая мистическое сочетание Зевса (в образе змея) и Персефоны.
и шапке, одной ногой опирающегося на баранью голову и руками, поднятыми для благословения (с тремя поднятыми первыми пальцами и загнутыми остальными). Культ Сабазия носил оргиастический характер, участники празднеств в честь Сабазия плясали со змеями в руках изображая мистическое сочетание Зевса (в образе змея) и Персефоны. Ревностной участницей оргий в честь Сабазия была мать Александра Великого Олимпиада; отсюда возникла легенда о том, что сам Зевс в образе змея вступал в связь с Олимпиадой и что плодом этих отношений был Александр; ходил даже рассказ, будто царь Филипп потерял глаз за то, что подсмотрел в замочную скважину, как божество в виде змея возлежало с его супругой.
От IV в. до н.э. имеется свидетельство оратора Демосфена о способе публичного чествования Сабазия, в котором Эсхин вместе с матерью не раз принимал участие. Это были уличные оргии (θίασος), дневные и ночные, сопровождавшиеся громким, беспорядочным пением, шумной музыкой на кимвалах и литаврах и своеобразными, слишком вольными плясками. Участники процессии украшали себе голову укропом и листьями тополя, покрывались кровавыми шкурами молодых оленей, сжимали в руках толстых змей и потрясали ими в воздухе и, совершив обряд очищения водою, глиною и отрубями, произносили: «Я бежал от зла и обрел благо». В дневных процессиях слышались восклицания: εὐοῖ σαβοῖ, ὑῆς ἄττης, ἄττης ὑῆς. Вождя (θιασάρχης) процессии одаривали печеньями из муки и меда с изюмом.
Важнейшим актом при посвящении новичков в таинство было пропускание змеи через одежду посвящаемого, причем змея сползала по груди к ногам, как бы символизируя соитие Зевса и Персефоны. По описанию Страбона, те же самые обряды соблюдались и во фригийском культе Сабазия. Самые разнузданные половые отношения и бражничество мужчин и женщин составляли одну из принадлежностей этих оргий. По уверению жрецов Сабазия, души человеческие получали в таинствах божества очищение и отпущение грехов. Есть, к тому же, основание предполагать, что в мистериях Сабазия, как и в элевсинских таинствах, посвященные воспринимали указания на бессмертие души: в культе и молитвах оно знаменовалось умиранием и вторичным рождением Сабазия.
Слияние Сабазия с другими восточными божествами, сирийскими, персидскими, даже с иудейским Саваофом, относят к первым векам христианства, хотя начало этого смешения восходит ко II в. до н.э.: в 139 г. до н.э. евреи были изгнаны из Рима за прозелитизм среди римских граждан в силу закона, обрекавшего на изгнание распространителей почитания Юпитера-Сабазия.
САВАОФ
Иудейское толкование имени Саваоф как «Господь Воинств» — не совсем корректно. Саваоф (Цеваот) — это множественное число от ивритского צבא (цава) — воинство, войско. Т.е. Саваоф — это «воинства». Соответственно, чтобы получить форму «Господь Воинств» — необходимо употребить словосочетание «Яхве Цеваот». Этот факт наводит на мысль о заимствовании евреями эпитета Саваоф у тех же греков.
Имя Саваоф (Σαβαώθ) можно попробовать разложить на составляющие. Например, созвучие σέβᾰς όφις (священный змей) навевает библейские аллюзии о медном змее, воздвигнутом Моисеем, который исцелял, иудеев, ужаленных ядовитыми змеями. А созвучие Σάβος (= Σαβάζιος) όφις (Сабазий-змей), умозрительно, могло бы объяснить попытки синкретизации Сабазия и Саваофа
Имя Саваоф не встречается в древнейших книгах Библии, но оно часто употребляется у пророков и в псалмах. Иногда Саваоф рассматривается как «бог войны»; но это мнение опровергается уже тем фактом, что имя Саваоф совсем не употребляется в то время, когда еврейский народ развивал свою наивысшую воинственную деятельность (при завоевании Ханаана), и, напротив, часто употребляется в ту эпоху, когда воинственность давно уступила место мирному развитию. Правильнее видеть в этом термине идею Бога как всемогущего Владыки всех сил небесных. Именно так, по библейскому представлению, рассматриваются звезды, планеты и другие космические явления (кометы и прочие звездопады) — это суть «воинства небесные», повелитель которых есть Бог Яхве Саваоф — «Господь сил» (1Цар. 17:45; Пс. 23:10, Ис. 1:24 и др.).
С другой стороны, можно задаться вопросом, а откуда вообще взялась «звездная тема» «воинств небесных», если в имени Саваоф (ни в греческой, ни в еврейской этимологии) нет на это никакого намека? Здесь самое время вспомнить про Египет, в который корнями уходят культурные и религиозные традиции всех контактировавших с ним народов. Звезда по-египетски — «себа» (sbȝ), поэтому, видимо, не только семантическая привязка имени Саваоф, но и этимология греческого σέβᾰς (предмет благоговейного почитания) уходит корнями в египетскую астрономическую школу «почитания и поклонения» звездам.
И еще один важный аспект в иудейской традиции — почитание субботы. Легко заметить созвучие слов Σαβαώθ (Саваоф) и σάββατον (суббота). Следовательно можно попробовать разобрать слово σάββατον на составляющие. Первая часть слова — σάβος — уже рассматривалась выше. Попробуем найти возможные варианты прочтения второй половины.
βάθος (-εος) τό
1) глубина;
2) бездна, пропасть;
3) глубина, высота;
4) длина;
5) обилие.
βᾰθύς (-εῖα) (эп.-ион. βαθέη, βαθέα и βαθείη) -ύ
8) богатый;
9) сильный, великий;
10) глубокий, крепкий; ex. (ὕπνος Luc. сон);
11) глубокий, т.е. нерушимый.
Оба слова близки семантически, но есть и нюансы. Если с первым словом (βάθος) можно предложить условное значение «звездная бездна», то со вторым словом, сочетание σέβᾰς+βαθύς имеет более конкретное прочтение: «святыня великая», чем суббота и является для всякого иудея. Почитание субботы — краеугольный и обязательный к исполнению завет народа Израиля с Богом, нарушение которого должно было караться смертью.
Попытка сблизить субботу и Сабазия через сочетание Σάβος βαθύς («Сабазий Великий») выглядит совсем уж нереальной. Однако древнегреческий словарь Дворецкого, ссылаясь на Палатинскую Антологию, дает удивительное созвучие имени Σαβάσιος со словом σάββασι (соотносимое с субботой).
σάββασι Anth. dat. pl. к σάββατον
σάββᾰτον τό (евр.) тж. pl. суббота NT., Anth.
Как легко заметить, слово σάββασι и σέβᾰσις («почитание») также подозрительно созвучны. Если из этих слов собрать главную заповедь иудеев «почитайте субботу» получится интересная игра слов.
_______________________________
|
Метки: Сабазий Зевс Греция |
ПАМЯТНИК МЕМФИССКОЙ ТЕОЛОГИИ |
Солкин В.В.
МЕМФИС: СТУПЕНИ К СПАСЕНИЮ
БОГ, «СТАВШИЙ ЗЕМЛЕЙ»
«Памятник мемфисской теологии» повествует о зависимости Солнца в лице бога Атума и принципа, по которому он творит вселенную, от сил земли и Птаха и о самых важных эпизодах из легендарной драмы Осириса-Хора, сила циклического обновления которой также, согласно тексту, лежит в энергии земли. Эти эпизоды кажутся, на первый взгляд, оторванными друг от друга и, кроме того, «разорванными» в середине рассказом о Птахе и его цивилизующей миссии для Египта. Порой текст даже считали примитивным, пытаясь найти, повинуясь европейской системе мышления, связный рассказ среди важнейших столпов осирического ритуала, которые египтянину не было нужды связывать друг с другом в то, что и так было известно и служило, во многом, осью культуры. Своей структурой текст полностью отвечал нуждам храмового ритуала, повествующего о том, как Хор унаследовал престол своего отца Осириса, а сам Осирис стал плодородным божеством земли Мемфиса, окруженного циклическим движением Солнца.
Ритуал делится на семь архетипических эпизодов. Первым идет ритуальное очищение и «обновление» египетского царя, воссоединившегося со всеми составляющими частями своей плоти (I).
Далее следует «оправдание» Хора — триумф лунного Ока — когда Хор признается легитимным преемником Осириса, вопреки воле Сетха, пытающегося попрать вселенский порядок (II).
Затем начинаются ритуалы «оживления», призванные задействовать сердце Хора; огненная богиня в облике змеи наделяет его могуществом, сиянием и жизнью, необходимыми для того, чтобы править Египтом. Его явление в качестве царя ознаменуется также и тем, что Осирис с этого момента неподвластен разрушительным силам и получает возможность проявить свои плодородные «земные» силы (III).
Прославляют «Владычицу жизни», богиню-сердце Мемфиса, которая поддерживает всю жизнь Обеих земель (IV).
Оживленное сердце и явление богини, несущей жизнь, начинается новый виток трансформаций: Осирис, отождествленный с мемфисским богом земли Птахом-Татененом, «становится землей» в Мемфисе, однако с этого момента его «земная» манифестация рассматривается в космическом измерении, вместе с циклическим движением Солнца (V).
Его возвращение к «земле» сосуществует с явлением Хора как восхваляемого властителя, оплота всего мемфисско-гелиопольского творения (VI).
Наконец, процесс трансформации «завершается» в области горизонта, чтобы позже начаться вновь (VII).
Эта семеричная структура ритуала была для египетского мировоззрения характерной и встречается во многих важнейших храмовых ритуалах, в частности — в ритуале обожествления предков, отправлявшемся издревле в Абидосе. Таким образом, речь идет о некоторых базовых для египетской культуры принципах, на основе которых писали священные тексты, украшали рельефами храмы, проводили ритуалы. Если учитывать древность этих принципов даже по отношению к самим дошедшим до нас египетским памятникам Нового царства и Позднего времени, то становится понятно, почему при соприкосновении с текстом «Памятника мемфисской теологии» следует отставить в сторону логику и последовательность событий: мы понимаем здесь, как и во многих других случаях, лишь самые верхние уровни смысла произведения. На эти семь этапов можно разделить весь текст «Памятника мемфисской теологии», который, в таком случае, предстает как стройная запись последовательных этапов храмового ритуала.
«ОБНОВЛЕНИЕ ЕГИПТА» (I)
В начале текста царь XXV династии Шабака объявляет о своем желании возродить учение Мемфиса посредством нанесения на камень — для вечности — древнего текста, сильно поврежденного временем. Посредством этого благого деяния Шабака становится сыном своего отца, мемфисского Птаха-к-югу-от-стены-его (Ptḥ rsj jnb.f nb Jnbw hḏ), достойным преемником, обновляющим традиции царской власти, дающим Птаху существовать вечно.
Затем Шабака прославляет имя Птаха, как венец земного царства, «самозачавшегося» царя, явившегося в облике «Царя Верхнего Египта» и «Царя Нижнего Египта».
«ОПРАВДАНИЕ ХОРА» (II)
Текст обращается к образу Геба, бога земли и отца Осириса согласно гелиопольскому учению. Геб призывает Эннеаду выступить в качестве свидетелей на споре, где он, Геб, должен рассудить два извечно противоборствующие начала — богов Хора и Сетха, претендующих на престол Египта. Обладая всеми регалиями и возможностями судьи, Геб предлагает разделить Египет на две части, причем Сетху достается в качестве царства Верхний Египет — «место, где он был рожден», а Хору — Нижний Египет — «место, где утонул отец его». Разделение царства на север и юг, извечное и традиционное для Египта, таким образом, было предложено Гебом.
Однако вскоре это разделение разочаровывает самого судью и он сожалеет о своем решении, заявляя, что Хору должно принадлежать все царство целиком, ибо он старший сын Осириса. Оно принадлежит Хору, так как «Сын сына моего, Хор, волк Верхнего Египта… перворожденный Хор Открывающий Пути… сын, который был рожден… в день рождения Открывающего Пути».
Как первого ребенка, «открывшего утробу» своей матери Исиды, Геб отождествляет Хора с богом Упуатом, чье имя переводится как «Открывающий Пути» и кто предстает в облике небольшого волка, по следам которого странник может найти дорогу в неизвестной ему пустыне. Также как Осирис, который первым «открыл утробу» своей небесной матери Нут, так теперь Хор, а не Сетх должен властвовать над Верхним и Нижним Египтом. По воле Геба, главы осирической семьи, принцип «материнства» здесь оказывается более значимым, нежели принцип «братства», а передача власти от отца к старшему сыну — более легитимной.
«ЗМЕИ-ВЛАДЫЧИЦЫ» (III)
Хор отныне воцаряется в Египте как «Объединитель Обеих земель» и как властитель, подчинивший себе два противоположных начала — север и юг, готов возложить на чело священные короны-змеи:
Хор, торжествующее лунное око, победившее Сетха, таким образом, защищен и вооружен двумя огненными змеями-богинями, союз которых отражен в переплетении геральдических растений Верхнего и Нижнего Египта — лилии и папируса, растущих у «двойных врат» дома Птаха в Мемфисе. Жизнь процветает вновь, и текст восхваляет этот новый виток развития как свидетельство примирения Хора и Сетха, некое божественное равновесие, необходимое для существования Египта:
Однако эта победоносная коронация не является единственным залогом для возрождения жизни и начала нового этапа существования. Здесь, в Мемфисе, Хор — царственный золотой сокол должен предстать как властитель, вскормленный и взращенный его отцом — Осирисом.
Текст повествует о том, как воцарившийся Хор после своей триумфальной коронации, обращается к судьбе своего отца Осириса, утонувшего в водах Нила. Этот фрагмент на памятнике Шабаки сильно поврежден, однако реконструкция возможна, так как этот же эпизод упоминается в конце «Памятника мемфисской теологии» повторно. Началом повествования служит рассказ об Исиде и Нефтиде, которые ищут Осириса и находят его, бездыханного, погрузившимся в воду:
Подобно утонувшему царю, Rex marinus из поздних алхимических текстов, навеянных египетскими образами, Осирис предстает перед богами беспомощным, погруженным в воды, готовые поглотить его и предать забвению. В этом состоянии его вытаскивают из воды по приказу Хора сестры — Исида и Нефтида, после чего Осирис, присоединяясь к божествам Мемфиса «становится землей», почвой и основой для «царской резиденции», в которой является в триумфе его сын и наследник Хор.
Угроза космического хаоса, которым угрожали воды, овладевшие телом Осириса, миновала и мир вновь вернулся к исконному порядку вещей и стабильности, а Египет — к плодородию своих земель, которое обеспечивается присутствием в них Осириса. Царская резиденция устанавливается в Мемфисе и Исида в последний раз взывает к Хору и Сетху с приказом воссоединиться и примириться. Именно этот мир дает возможность Хору реализовать заложенный в нем потенциал.
Далее текст обращается к фигуре бога Птаха и, как уже говорилось, подчеркивает его роль в созидании мира посредством сердца и божественного слова. При этом повествование о Птахе отнюдь не разбивает весь смысл памятника, но, наоборот, дополняет его, объясняя суть того сакрального пространства, в котором Хор, возродившийся солнечный властитель, царствует, опираясь на незыблемость сил земли, поднявшейся из предвечных вод, пространства, сотворенного силой сердца. Хор, таким образом, хранитель и защитник священной системы, установленной Птахом, давшим жизнь всем божественным сущностям, их телам и их Ка.
ИСИДА, «ВЛАДЫЧИЦА ЖИЗНИ» (IV)
После долгого восхваления трудов Птаха, создателя «божественных образов», текст обращается к загадочному образу «Владычицы жизни», подразумевая под этим именем мемфисскую богиню божественного сердца. Она, кормилица и защитница; ее существование на глубинном уровне вовлечено во все этапы процесса существования плодородия земли и возрождения жизни. Текст, говорящий о ней, краток, однако его включение именно в это место текста полностью соответствует роли богини в осирическом ритуале, через сердце которой проходит связь от Осириса к Хору:
«Престол великий», исконный символ богини Исиды, посредством изображения которого выписывается ее имя, воплощает здесь идею о преемственности божественной власти, о Хоре, который сидит, словно на троне, на коленях своей великой матери, которая и есть престол — для поколений египетских фараонов. Богиня, принявшая облик престола, прославляется как источник пищи и поддержки, источник активности сердец богов, и, поскольку речь идет о Мемфисе, должна быть отождествлена с Хатхор-Сехмет, солнечным оком Ра. Краткое прославление словно намекает на важнейшую функцию богини, которая более подробно отражена в рельефах и ритуалах храма в Абидосе и, которая, одновременно, наделила жизненными силами все то, что сотворил Птах.
«СТАВШИЙ ЗЕМЛЕЙ»: ОСИРИС И РА (V)
После рассказа о величии и могуществе сил земли, вновь текст возвращается к эпизоду находки тела Осириса, однако, на этот раз в ином, вселенском контексте. Сказано, что после того, как Исида и Нефтида принесли Осириса и положили его на землю, он входит в тайные врата, следуя за «тем, кто сияет в горизонте», шествуя по путям Ра на Великом престоле:
Осирис предстает здесь как участник солнечного цикла, бог, в чье земное царство Ра и царь Хор проникают ночью, на пути к своему освобождению, основа плодородия Мемфиса, сила, отождествленная с исконными богами земли — Птахом и Татененом.
ВСЕЛЕНСКИЙ ПРЕЕМНИК: «ОБЪЯТИЕ ГОРИЗОНТА» (VI и VII)
Завершающий эпизод грандиозной ритуальной драмы, фрагменты которой зафиксированы в «Памятнике мемфисской теологии», очень близок к «третьей» части, где проходит коронация Хора, с тем большим отличием, что теперь Осирис уже не беспомощный утонувший царь, но всесильное божество пространства земли, сквозь врата которой совершает свое циклическое движение Солнце. Текст лишь вкратце говорит о торжествующем Хоре, находящемся в объятиях своего отца Осириса, связывая почти воедино две важные ступени: явление в качестве властителя (VI) и объятья отца и сына (VII). Объятья между Хором и Осирисом теперь рассматриваются как воссоединение двух важнейших божественных сил, оживляющих космос, солнечного царя и восточного горизонта, на котором ежедневно «рождается» светило. Время священного момента зари, когда свет на земле приходит на смену мраку, египтяне видели как торжество непрерывности существования, как момент, когда живые и усопшие, ставшие благодаря союзу Осириса и Ра вновь живыми, воссоединяются и пребывают вне разрушительной силы времени. Значимость этого момента подчеркивалась еще в «Текстах пирамид», призывавших Осириса встать и воссоединиться с Хором, заключить сына в объятья:
Хор и Осирис неотделимы друг от друга, даже тогда, когда Хор восходит на престол после погребения своего отца, так как божественная сила царской власти перетекает от одного царя к другому, не изменяя при этом своей сути. Именно об этой передаче энергии, о непрерывности жизни при всем разнообразии ее форм, об объединении живого и того, что лишь внешне считается мертвым, через вселенские объятья богов и говорит «Памятник мемфисской теологии». Объединение Хора, воплощающего собой жизнь и Осириса, победившего смерть, осуществляется через силу сердца и посредством преемственности божественной власти ведет к процветанию и ежегодному спасению Египта, земного царства, где правит небесный Хор, служащий своим истокам — божественному потустороннему пространству Осириса.
ПРАЗДНЕСТВО СОКАРА
Возрождение Осириса силами земли было одним из важнейших эпизодов цикла знаменитых осирических мистерий месяца Хойяк. Тело Осириса трансформировалось в бога Сокара, т.е. приняло облик мертвой формы, таящей в себе жизнь.
Еще в «Текстах пирамид» Сокар, с которым отождествляется царь, выступает как бог очищения и погребального ритуала, приветствующий умершего и обеспечивающий его пропитанием. Тексты напрямую называют мертвого Осириса Сокаром и именно в таком облике видит своего умершего отца Хор.
Тело Осириса поднимают на ладью Сокара и затем помещают в тайную «Обитель Сокара». Осознание Сокара как бога смерти присутствует и в «Текстах саркофагов» и в «Книге мертвых», где он предстает как великая сила земли, Птах-Сокар, «владыка Ро-Сетау», т.е. путей, идущих сквозь иной мир.
В культе Сокара, пожалуй, внешне самом мрачном из всех культов египетских божеств, состояние смерти, которым повелевает божество, подчеркивается и его эмблемами: нос и корма ладьи Сокара Хену увенчаны головами или черепами орикса, сама она сделана из костей мертвых животных, в ее центре — огромный песчаный холм или же «тайный» ковчег, шетаит, увенчанный мертвым соколом, распростершим свои крылья на песке, внутри которого скрыто тело Осириса — источник новой жизни, переродившейся посредством пребывания в земле.
Именно шетаит упоминается как место погребения Осириса под защитой Сокара; таким же образом назывались его гробницы, расположенные в различных номах, которые сегодня принято называть «осирийонами»: «О ты, чье тело скрыто в великом святилище шетаит в Гелиополе», — гласит текст папируса Бремнер-Ринд, обращаясь к Осирису; Гелиополь, как главное место погребения Осириса называет и папирус Жюмильяк, уточняя, что бальзамирование тела бога проходило в Мемфисе, откуда первую мумию перевезли в Гелиополь. При этом тело было помещено в шетаит тогда, когда все части тела Осириса были собраны воедино, — об этом сообщают заклинания на стенах осирических святилищ храма в Дендере, которые уточняют, что именно в шетаит должны быть помешены фигурки Сокара-Осириса, изготовленные во время храмовых мистерий, после того, как они год находились в храме и в процессе праздничного ритуала на замену им готовились новые образы бога. Шетаит, таинственный ковчег и культовая святыня Сокара была как бы материализацией некоей универсальной гробницы Осириса, местом его трансформации, воспроизвести которую можно было в любом месте, где проходил соответствующий ритуал.
Изображения, иллюстрирующие ритуал прохождения Осирисом состояния бога Сокара, сохранились во многих храмах Египта, включая Карнакский комплекс, храм Сети I в Абидосе, заупокойный храм Рамсеса III в Мединет Абу, храм Хибис в оазисе Харга, в греко-римских святилищах Эдфу, Эсны, Дендеры и Филе; упоминания о празднестве Сокара встречаются в храмовых календарях еще с эпохи Древнего царства. Упоминания о фрагментах празднества, в частности, о плавании ладьи Сокара или же об украшениях, сплетенных из стеблей лука, священного растения бога, встречаются во многих гробницах вельмож.
Драматический ритуал Сокара, «божественного, кто скрывает Осириса в мире ином», сохранился и в письменных источниках, в частности, в уже упоминавшемся папирусе Бремнер-Ринд. Текст, посвященный божеству, состоит из трех частей, начинаясь с обращения к статуе Сокара-Осириса. Главная тема этого эпизода — призвать Осириса прийти в ковчег шетаит, находящийся в Джедду хери, или «Верхнем Джедду», как назывались осирические святилища в храмах других божеств, в частности, в храме Хатхор в Дендере.
Во второй части Исида, Хатхор, Бастет, Сехмет, Сатет, Уаджит и Нейт, как различные формы женского божества, участвуют, следуя на своих ладьях вслед за ладьей бога, в церемонии навигации Сокара, во время которой божества побеждают врагов Осириса, «головы которых отрезаны» Исидой, а сам Осирис пребывает внутри божественного яйца, того самого, о котором говорит и текст «Амдуат».
Третья часть посвящена девяти спутникам, которые помещают тело Осириса в шетаит; триумфальный тон этой части текста явно связан как с победой Осириса над врагами, так и с тем, что божествам удалось собрать его тело, забальзамировать и благополучно подготовить его к пребыванию в шетаит.
Дополнения к ритуалу имеются в тексте папируса № 3079 из собрания Лувра. По структуре и содержанию он очень близок к папирусу Бремнер-Ринд и состоит из гимна Сокару-Осирису, прибытия Хатхор в облике нескольких богинь, прославления ковчега Осириса и литаний Сокара. Заключительные слова ритуала говорят об открытых дверях небес, из которых выходит бог.
В Новом царстве и позже праздник Сокара был значимым и очень пышным действом, проходившим во всех самых значимых храмах страны. Судя по рельефам на южной стене второго двора храма в Мединет Абу и храмовому календарю, 24-го числа месяца Хойяк начиналось празднество «помещения Сокара в сердцевину», 25-го был праздник Нечерти, 26-го начинался непосредственно праздник Сокара.
Скорее всего, именно первый день был самым значимым и был посвящен помещению Осириса в священный ковчег земли. В храмовом календаре из Эдфу день 24 месяца Хойяк назван «праздником бога, спасающего пелены отца своего», т.е. Хора, добывшего пелены из рук Сетха, а день 26 — днем жертвы Осирису, для которого забивался дикий осел, символизирующий Сетха; в этот день также проводился ритуал магического уничтожения змея Апопа и жертвоприношения умершим.
В календаре праздников Хатхор в Дендере упоминается процессия Осириса в ночь на 24 день месяца к священному озеру, процессия Сокара к святилищу Хора на 25 день и другая процессия Сокара на 26 день. В папирусах и храмовых текстах есть некоторые детали, помогающие лучше понять происходящее: так, в папирусе Лувра № 3176 упоминается «упокоение Осириса», подобное «помещению Сокара в сердцевину» в Мединет Абу, — ночью процессия шла к храмовому озеру по пути повергая магическими заклинаниями Сетха, пытающегося ей помешать, для того, чтобы осуществить погребение Осириса в подготовленном для этого месте. Погребение происходило в девятом часу ночи 24-го Хойяка; в этот час Осириса помещали в саркофаг, который затем в гробницу — верхнюю шетаит.
На заре 25 дня из храма выходила процессия Сокара, которая обходила вокруг стен города, повергала Сетха и его спутников и уничтожала все зло. 26-й день ознаменовывался другой процессией Сокара, которая двигалась к могиле погребенного в земле бога в знак победы Хора над Сетхом, и его законной интронизации на престоле умершего отца. Во время ритуала Хор отождествляется со своим отцом. А потому это еще и триумф самого Осириса, одновременно проявленного в сыне и лежащего в шетаит в центре ладьи Сокара Хену, над своими врагами: «Владыка в Верхний Джедду пришел, поверг он неверных».
При этом Осирис все еще мертв: упоминается его гробница, а потому празднество Сокара включает в себя ликование и траур, свет и мрак. Тексты Дендеры называют 24-й день временем помещения в саркофаг фигуры Осириса, изготовленной год тому назад, а 30-й — днем ее погребения. Эти дни храмового календаря четко соответствовали фазам луны: «если 28-е Хойяка — пятый лунный день, то 24-е Хойяка — песеджентиу. Если мы соотнесем это с текстом из Дендеры, то сразу становится ясна его символическая нагрузка. Умерший Осирис — это исчезнувшая луна. День его бальзамирования — это день, когда не видна луна».
Судя по рельефам из Мединет Абу празднество Сокара было очень торжественным и величественным, хотя и видели его на самом деле единицы. Важной составляющей праздника были певцы и флейтисты; скорее всего, ввиду неоднозначности происходящего, танцев во время празднества Сокара не было вообще. Музыкальное и хоровое сопровождение было как у тех эпизодов церемонии, что проходили внутри храма, так и у второй важной составляющей происходящего — процессий божественных ладей, явление которых было доступно простым египтянам, и как бы говорило об успешном результате той или иной части божественной драмы: будь то сражения с противниками Осириса или же его возвращение к месту погребения, было своеобразным комментарием к скрытой, сакральной части действа. Эта важная составляющая часть празднества доносила до внешнего мира главную мысль о том, что церемониал прохождения Осириса сквозь возрождение в земле — есть модель для посмертной трансформации каждого умершего.
Отголоски о значимости ритуала Сокара для каждого индивидуального погребения мы находим во множестве свидетельств — это рельефы и тексты частных гробниц начиная с фиванских усыпальниц Нового царства и вплоть до знаменитой греко-римской гробницы Петосириса в Туна эль-Гебель.
Наконец, самое важное свидетельство — это фигуры «прорастающего» Осириса: миниатюрные, служившие храмовыми святынями и массивные, помещавшиеся в царские гробницы. Наверное, самое известное из них было найдено в гробнице Тутанхамона, в юго-западном углу так называемой «Сокровенной сокровищницы», примыкавшей к собственно погребальной камере. Г.Картер уделяет находке всего лишь пару строк, а меж тем эта святыня — один из важнейших залогов возрождения царя в ином мире. Основа, имеющая форму тела Осириса, увенчанного короной атеф и держащего в руках скипетры, была выдолблена из дерева и состояла из двух частей: собственно дна, наполненного илом, в которой было посажено зерно и крышки. Лицо Осириса обращено направо, т.е. на запад. Как только зерно проросло, форму закрыли и, аккуратно, словно мумию, забинтовав льняными пеленами, поместили в деревянный ящик.
Самый ранний прототип таких «прорастающих Осирисов», тогда еще не в форме фигуры бога, а просто в виде ящика, наполненного илом, землей и зерном, обнаружил в 1920 году Фл. Питри у входа в пирамиду Сенусерта II в Лахуне. Несмотря на иную форму, принцип ритуала здесь был тот же и восходил как к ритуалу Сокара, к таинству «становления ячменем Нижнего Египта», во время которого умерший отождествлялся со злаком, растущим из ребер Осириса, вскармливающего неиссякаемыми силами земли и растение и, в его облике, возрождающегося умершего.
Возможно, именно от этих царственных фигур произошли и сами ритуальные подобия Осириса, создававшиеся в храмах во время мистерий месяца Хойяк. Эти подобия состояли из смеси почвы, песка, ила и зерна, из которой формировали фигуру божества с эрегированным фаллосом и запеленывали как настоящую мумию. На голову подобия часто надевали восковую маску с лицом божества, окрашенную в зеленый цвет и порой отделанную золотой фольгой.
Подобие Осириса помещали в миниатюрный саркофаг с головой сокола Сокара, тексты которого, обращенные к силам земли и Птаху-Сокару-Осирису были призваны дать сокровенному богу новый цикл существования. Известны случаи, когда облик Сокара придавали и царскому саркофагу, который становился формой божества смерти, содержащего внутри себя мумию Осириса. Наиболее известный из них — серебряный саркофаг царя XXII династии Шешонка II, обнаруженный в тайных гробницах Таниса: антропоморфная забальзамированная фигура умершего фараона, держащего в руках скипетры, увенчана массивной маской сокола; поверхность саркофага покрыта резными изображениями богинь охранительниц и духов, а на груди распростерла свои крылья огромная птица с головой овна — ночная форма солнечного бога, «склонившаяся» над тайным яйцом в глубинах подземного пространства и несущая заключенному внутри божеству новую жизнь.
На территории многих храмовых комплексов в результате ежегодных осирических празднеств появились целые некрополи, предназначенные для захоронений подобий бога. Самый большой из них был обнаружен в 50-х годах XX века Анри Шеврие в Карнаке, в северо-восточной части храма Амона, близ святилища Осириса хека джет — «властителя вечности».
В центре некрополя находилась необычная гробница со сводчатым потолком, сооруженная из обоженного кирпича, внутри которой обнаружили многочисленные подобия Осириса. Сооружение было датировано временем правления XXVI династии. Гробница была лишь преддверием к более древним катакомбам XXI династии с многочисленными небольшими нишами в стенах, где хранили подобия Осириса.
На дне каждой ниши лежал толстый слой очищенного крупного песка, на котором покоилась белая удлиненная форма-саркофаг с помещенной внутрь мумифицированной фигурой божества, покрытой тончайшей пленкой гипса, порой с инкрустированными глазами и в короне хеджет. На поверхности фигур виднелись остатки росписи зелено-голубой краской. Фигуры были ко времени находки столь хрупки, что пришлось приложить немало усилий, чтобы вынуть их с минимальными повреждениями; пелены, в которые изначально были обернуты подобия Осириса, распались много веков тому назад.
На земле были обнаружены фрагменты давно рухнувшего свода катакомб, расписанного изображениями священного солнечного дерева ишед, некогда росшего над гробницами, девяти змеев-охранителей некрополя и крылатого солнечного диска с уреем, который как бы спускается в катакомбы к Осирису в сопровождении выписанных рядом иероглифов «утреннего гимна», прославляющего возрождение бога, поднявшегося с ложа после ночи сна — смерти.
Судя по археологическим данным и отдельным иконографическим свидетельствам, над всеми катакомбами в древности был насыпан холм, который и назывался «Великим местом» (st ȝˁt), т.е. священной землей, владением Сокара, в толще которого хранились великие святыни храма, по египетским представлениям живущие, умирающие и возрождающиеся, повинуясь циклам времени.
_______________________________
МЕМФИС: СТУПЕНИ К СПАСЕНИЮ
БОГ, «СТАВШИЙ ЗЕМЛЕЙ»
«Памятник мемфисской теологии» повествует о зависимости Солнца в лице бога Атума и принципа, по которому он творит вселенную, от сил земли и Птаха и о самых важных эпизодах из легендарной драмы Осириса-Хора, сила циклического обновления которой также, согласно тексту, лежит в энергии земли. Эти эпизоды кажутся, на первый взгляд, оторванными друг от друга и, кроме того, «разорванными» в середине рассказом о Птахе и его цивилизующей миссии для Египта. Порой текст даже считали примитивным, пытаясь найти, повинуясь европейской системе мышления, связный рассказ среди важнейших столпов осирического ритуала, которые египтянину не было нужды связывать друг с другом в то, что и так было известно и служило, во многом, осью культуры. Своей структурой текст полностью отвечал нуждам храмового ритуала, повествующего о том, как Хор унаследовал престол своего отца Осириса, а сам Осирис стал плодородным божеством земли Мемфиса, окруженного циклическим движением Солнца.
Ритуал делится на семь архетипических эпизодов. Первым идет ритуальное очищение и «обновление» египетского царя, воссоединившегося со всеми составляющими частями своей плоти (I).
Далее следует «оправдание» Хора — триумф лунного Ока — когда Хор признается легитимным преемником Осириса, вопреки воле Сетха, пытающегося попрать вселенский порядок (II).
Затем начинаются ритуалы «оживления», призванные задействовать сердце Хора; огненная богиня в облике змеи наделяет его могуществом, сиянием и жизнью, необходимыми для того, чтобы править Египтом. Его явление в качестве царя ознаменуется также и тем, что Осирис с этого момента неподвластен разрушительным силам и получает возможность проявить свои плодородные «земные» силы (III).
Прославляют «Владычицу жизни», богиню-сердце Мемфиса, которая поддерживает всю жизнь Обеих земель (IV).
Оживленное сердце и явление богини, несущей жизнь, начинается новый виток трансформаций: Осирис, отождествленный с мемфисским богом земли Птахом-Татененом, «становится землей» в Мемфисе, однако с этого момента его «земная» манифестация рассматривается в космическом измерении, вместе с циклическим движением Солнца (V).
Его возвращение к «земле» сосуществует с явлением Хора как восхваляемого властителя, оплота всего мемфисско-гелиопольского творения (VI).
Наконец, процесс трансформации «завершается» в области горизонта, чтобы позже начаться вновь (VII).
Эта семеричная структура ритуала была для египетского мировоззрения характерной и встречается во многих важнейших храмовых ритуалах, в частности — в ритуале обожествления предков, отправлявшемся издревле в Абидосе. Таким образом, речь идет о некоторых базовых для египетской культуры принципах, на основе которых писали священные тексты, украшали рельефами храмы, проводили ритуалы. Если учитывать древность этих принципов даже по отношению к самим дошедшим до нас египетским памятникам Нового царства и Позднего времени, то становится понятно, почему при соприкосновении с текстом «Памятника мемфисской теологии» следует отставить в сторону логику и последовательность событий: мы понимаем здесь, как и во многих других случаях, лишь самые верхние уровни смысла произведения. На эти семь этапов можно разделить весь текст «Памятника мемфисской теологии», который, в таком случае, предстает как стройная запись последовательных этапов храмового ритуала.
«ОБНОВЛЕНИЕ ЕГИПТА» (I)
В начале текста царь XXV династии Шабака объявляет о своем желании возродить учение Мемфиса посредством нанесения на камень — для вечности — древнего текста, сильно поврежденного временем. Посредством этого благого деяния Шабака становится сыном своего отца, мемфисского Птаха-к-югу-от-стены-его (Ptḥ rsj jnb.f nb Jnbw hḏ), достойным преемником, обновляющим традиции царской власти, дающим Птаху существовать вечно.
«Нашел Его Величество этот [текст], творение предков, которое было изъедено червями, так, что не мог он быть понят от начала до конца. Тогда Его Величество скопировал его заново, так, что стал он лучше, чем прежде, так, что имя его могло длиться и памятник его существовать в доме его отца, Птаха-к-югу-от-стены-его, в вечности, как работа, сотворенная сыном Ра Шабакой для отца своего, Птаха-Татенена, чтобы даровал он жизнь в вечности…»
Затем Шабака прославляет имя Птаха, как венец земного царства, «самозачавшегося» царя, явившегося в облике «Царя Верхнего Египта» и «Царя Нижнего Египта».
«ОПРАВДАНИЕ ХОРА» (II)
Текст обращается к образу Геба, бога земли и отца Осириса согласно гелиопольскому учению. Геб призывает Эннеаду выступить в качестве свидетелей на споре, где он, Геб, должен рассудить два извечно противоборствующие начала — богов Хора и Сетха, претендующих на престол Египта. Обладая всеми регалиями и возможностями судьи, Геб предлагает разделить Египет на две части, причем Сетху достается в качестве царства Верхний Египет — «место, где он был рожден», а Хору — Нижний Египет — «место, где утонул отец его». Разделение царства на север и юг, извечное и традиционное для Египта, таким образом, было предложено Гебом.
Однако вскоре это разделение разочаровывает самого судью и он сожалеет о своем решении, заявляя, что Хору должно принадлежать все царство целиком, ибо он старший сын Осириса. Оно принадлежит Хору, так как «Сын сына моего, Хор, волк Верхнего Египта… перворожденный Хор Открывающий Пути… сын, который был рожден… в день рождения Открывающего Пути».
Как первого ребенка, «открывшего утробу» своей матери Исиды, Геб отождествляет Хора с богом Упуатом, чье имя переводится как «Открывающий Пути» и кто предстает в облике небольшого волка, по следам которого странник может найти дорогу в неизвестной ему пустыне. Также как Осирис, который первым «открыл утробу» своей небесной матери Нут, так теперь Хор, а не Сетх должен властвовать над Верхним и Нижним Египтом. По воле Геба, главы осирической семьи, принцип «материнства» здесь оказывается более значимым, нежели принцип «братства», а передача власти от отца к старшему сыну — более легитимной.
«ЗМЕИ-ВЛАДЫЧИЦЫ» (III)
Хор отныне воцаряется в Египте как «Объединитель Обеих земель» и как властитель, подчинивший себе два противоположных начала — север и юг, готов возложить на чело священные короны-змеи:
«Тогда обвились вокруг чела его две владычицы. Он — Хор, тот, кто является как царь Верхнего и Нижнего Египта, тот, кто объединил Обе земли в номе [Белая] Стена (Jnbw-ḥḏ — Инбу-хедж, т.е. в Мемфисе), месте, где Обе земли были объединены».
Хор, торжествующее лунное око, победившее Сетха, таким образом, защищен и вооружен двумя огненными змеями-богинями, союз которых отражен в переплетении геральдических растений Верхнего и Нижнего Египта — лилии и папируса, растущих у «двойных врат» дома Птаха в Мемфисе. Жизнь процветает вновь, и текст восхваляет этот новый виток развития как свидетельство примирения Хора и Сетха, некое божественное равновесие, необходимое для существования Египта:
«Лилия и папирус были помещены у двойных врат дома Птаха. Это значит — Хор и Сетх, умиротворены и объединены… в доме Птаха, — «Весах Обеих земель», где были взвешены Верхний и Нижний Египет».
Однако эта победоносная коронация не является единственным залогом для возрождения жизни и начала нового этапа существования. Здесь, в Мемфисе, Хор — царственный золотой сокол должен предстать как властитель, вскормленный и взращенный его отцом — Осирисом.
Текст повествует о том, как воцарившийся Хор после своей триумфальной коронации, обращается к судьбе своего отца Осириса, утонувшего в водах Нила. Этот фрагмент на памятнике Шабаки сильно поврежден, однако реконструкция возможна, так как этот же эпизод упоминается в конце «Памятника мемфисской теологии» повторно. Началом повествования служит рассказ об Исиде и Нефтиде, которые ищут Осириса и находят его, бездыханного, погрузившимся в воду:
«Исида и Нефтида смотрели и разыскивали след Осириса и испытывали страх за него. Тогда Хор приказал Исиде и Нефтиде подхватить Осириса, не откладывая, и не дать ему утонуть. И они поспешили и вынесли его на землю… Воссоединился он с дворцом и объединился с богами Татенена, Птаха, владыки лет. Вот, стал Осирис землей в царской резиденции… и явился сын его Хор как царь Верхнего Египта, явился как царь Нижнего Египта в объятиях отца своего, Осириса, [и были] боги перед ним и позади него».
Подобно утонувшему царю, Rex marinus из поздних алхимических текстов, навеянных египетскими образами, Осирис предстает перед богами беспомощным, погруженным в воды, готовые поглотить его и предать забвению. В этом состоянии его вытаскивают из воды по приказу Хора сестры — Исида и Нефтида, после чего Осирис, присоединяясь к божествам Мемфиса «становится землей», почвой и основой для «царской резиденции», в которой является в триумфе его сын и наследник Хор.
Угроза космического хаоса, которым угрожали воды, овладевшие телом Осириса, миновала и мир вновь вернулся к исконному порядку вещей и стабильности, а Египет — к плодородию своих земель, которое обеспечивается присутствием в них Осириса. Царская резиденция устанавливается в Мемфисе и Исида в последний раз взывает к Хору и Сетху с приказом воссоединиться и примириться. Именно этот мир дает возможность Хору реализовать заложенный в нем потенциал.
Далее текст обращается к фигуре бога Птаха и, как уже говорилось, подчеркивает его роль в созидании мира посредством сердца и божественного слова. При этом повествование о Птахе отнюдь не разбивает весь смысл памятника, но, наоборот, дополняет его, объясняя суть того сакрального пространства, в котором Хор, возродившийся солнечный властитель, царствует, опираясь на незыблемость сил земли, поднявшейся из предвечных вод, пространства, сотворенного силой сердца. Хор, таким образом, хранитель и защитник священной системы, установленной Птахом, давшим жизнь всем божественным сущностям, их телам и их Ка.
ИСИДА, «ВЛАДЫЧИЦА ЖИЗНИ» (IV)
После долгого восхваления трудов Птаха, создателя «божественных образов», текст обращается к загадочному образу «Владычицы жизни», подразумевая под этим именем мемфисскую богиню божественного сердца. Она, кормилица и защитница; ее существование на глубинном уровне вовлечено во все этапы процесса существования плодородия земли и возрождения жизни. Текст, говорящий о ней, краток, однако его включение именно в это место текста полностью соответствует роли богини в осирическом ритуале, через сердце которой проходит связь от Осириса к Хору:
«Престол великий, воссоединившийся с сердцами богов в доме Птаха, в месте, где хранят зерно Татенена. Владычица всей жизни, та, кто дает существование Обеим землям».
«Престол великий», исконный символ богини Исиды, посредством изображения которого выписывается ее имя, воплощает здесь идею о преемственности божественной власти, о Хоре, который сидит, словно на троне, на коленях своей великой матери, которая и есть престол — для поколений египетских фараонов. Богиня, принявшая облик престола, прославляется как источник пищи и поддержки, источник активности сердец богов, и, поскольку речь идет о Мемфисе, должна быть отождествлена с Хатхор-Сехмет, солнечным оком Ра. Краткое прославление словно намекает на важнейшую функцию богини, которая более подробно отражена в рельефах и ритуалах храма в Абидосе и, которая, одновременно, наделила жизненными силами все то, что сотворил Птах.
«СТАВШИЙ ЗЕМЛЕЙ»: ОСИРИС И РА (V)
После рассказа о величии и могуществе сил земли, вновь текст возвращается к эпизоду находки тела Осириса, однако, на этот раз в ином, вселенском контексте. Сказано, что после того, как Исида и Нефтида принесли Осириса и положили его на землю, он входит в тайные врата, следуя за «тем, кто сияет в горизонте», шествуя по путям Ра на Великом престоле:
«Он вошел в тайные врата в величии владык вечности, следуя за тем, кто сияет в горизонте, по путям Ра на Великом престоле. Воссоединился он с дворцом и объединился с богами Татененом и Птахом, владыкой лет. Вот, стал Осирис землей в резиденции царской».
Осирис предстает здесь как участник солнечного цикла, бог, в чье земное царство Ра и царь Хор проникают ночью, на пути к своему освобождению, основа плодородия Мемфиса, сила, отождествленная с исконными богами земли — Птахом и Татененом.
ВСЕЛЕНСКИЙ ПРЕЕМНИК: «ОБЪЯТИЕ ГОРИЗОНТА» (VI и VII)
Завершающий эпизод грандиозной ритуальной драмы, фрагменты которой зафиксированы в «Памятнике мемфисской теологии», очень близок к «третьей» части, где проходит коронация Хора, с тем большим отличием, что теперь Осирис уже не беспомощный утонувший царь, но всесильное божество пространства земли, сквозь врата которой совершает свое циклическое движение Солнце. Текст лишь вкратце говорит о торжествующем Хоре, находящемся в объятиях своего отца Осириса, связывая почти воедино две важные ступени: явление в качестве властителя (VI) и объятья отца и сына (VII). Объятья между Хором и Осирисом теперь рассматриваются как воссоединение двух важнейших божественных сил, оживляющих космос, солнечного царя и восточного горизонта, на котором ежедневно «рождается» светило. Время священного момента зари, когда свет на земле приходит на смену мраку, египтяне видели как торжество непрерывности существования, как момент, когда живые и усопшие, ставшие благодаря союзу Осириса и Ра вновь живыми, воссоединяются и пребывают вне разрушительной силы времени. Значимость этого момента подчеркивалась еще в «Текстах пирамид», призывавших Осириса встать и воссоединиться с Хором, заключить сына в объятья:
«О Осирис, — это Хор меж рук твоих.
Он защитит тебя,
Он изменил свой облик, и вновь с тобой,
В имени твоем
«Тот, кто из Светлой земли, откуда выходит Ра».¹
Заключил ты руки свои вокруг него,
Вокруг него, не покинет он тебя.
Не даст Хор тебе быть утомленным,²
Поверг Хор врага твоего под стопы твои,³
Чтобы ты жил»…
_____________________
[1] Ахет (Ȝḫt) — восточный небосвод, место восхода солнца.
[2] «Утомленный сердцем» — покойник.
[3] Попирание ногой врага связано с символизмом триумфа, победы над врагом.
Хор и Осирис неотделимы друг от друга, даже тогда, когда Хор восходит на престол после погребения своего отца, так как божественная сила царской власти перетекает от одного царя к другому, не изменяя при этом своей сути. Именно об этой передаче энергии, о непрерывности жизни при всем разнообразии ее форм, об объединении живого и того, что лишь внешне считается мертвым, через вселенские объятья богов и говорит «Памятник мемфисской теологии». Объединение Хора, воплощающего собой жизнь и Осириса, победившего смерть, осуществляется через силу сердца и посредством преемственности божественной власти ведет к процветанию и ежегодному спасению Египта, земного царства, где правит небесный Хор, служащий своим истокам — божественному потустороннему пространству Осириса.
ПРАЗДНЕСТВО СОКАРА
Возрождение Осириса силами земли было одним из важнейших эпизодов цикла знаменитых осирических мистерий месяца Хойяк. Тело Осириса трансформировалось в бога Сокара, т.е. приняло облик мертвой формы, таящей в себе жизнь.
Еще в «Текстах пирамид» Сокар, с которым отождествляется царь, выступает как бог очищения и погребального ритуала, приветствующий умершего и обеспечивающий его пропитанием. Тексты напрямую называют мертвого Осириса Сокаром и именно в таком облике видит своего умершего отца Хор.
Тело Осириса поднимают на ладью Сокара и затем помещают в тайную «Обитель Сокара». Осознание Сокара как бога смерти присутствует и в «Текстах саркофагов» и в «Книге мертвых», где он предстает как великая сила земли, Птах-Сокар, «владыка Ро-Сетау», т.е. путей, идущих сквозь иной мир.
В культе Сокара, пожалуй, внешне самом мрачном из всех культов египетских божеств, состояние смерти, которым повелевает божество, подчеркивается и его эмблемами: нос и корма ладьи Сокара Хену увенчаны головами или черепами орикса, сама она сделана из костей мертвых животных, в ее центре — огромный песчаный холм или же «тайный» ковчег, шетаит, увенчанный мертвым соколом, распростершим свои крылья на песке, внутри которого скрыто тело Осириса — источник новой жизни, переродившейся посредством пребывания в земле.
Именно шетаит упоминается как место погребения Осириса под защитой Сокара; таким же образом назывались его гробницы, расположенные в различных номах, которые сегодня принято называть «осирийонами»: «О ты, чье тело скрыто в великом святилище шетаит в Гелиополе», — гласит текст папируса Бремнер-Ринд, обращаясь к Осирису; Гелиополь, как главное место погребения Осириса называет и папирус Жюмильяк, уточняя, что бальзамирование тела бога проходило в Мемфисе, откуда первую мумию перевезли в Гелиополь. При этом тело было помещено в шетаит тогда, когда все части тела Осириса были собраны воедино, — об этом сообщают заклинания на стенах осирических святилищ храма в Дендере, которые уточняют, что именно в шетаит должны быть помешены фигурки Сокара-Осириса, изготовленные во время храмовых мистерий, после того, как они год находились в храме и в процессе праздничного ритуала на замену им готовились новые образы бога. Шетаит, таинственный ковчег и культовая святыня Сокара была как бы материализацией некоей универсальной гробницы Осириса, местом его трансформации, воспроизвести которую можно было в любом месте, где проходил соответствующий ритуал.
Изображения, иллюстрирующие ритуал прохождения Осирисом состояния бога Сокара, сохранились во многих храмах Египта, включая Карнакский комплекс, храм Сети I в Абидосе, заупокойный храм Рамсеса III в Мединет Абу, храм Хибис в оазисе Харга, в греко-римских святилищах Эдфу, Эсны, Дендеры и Филе; упоминания о празднестве Сокара встречаются в храмовых календарях еще с эпохи Древнего царства. Упоминания о фрагментах празднества, в частности, о плавании ладьи Сокара или же об украшениях, сплетенных из стеблей лука, священного растения бога, встречаются во многих гробницах вельмож.
Драматический ритуал Сокара, «божественного, кто скрывает Осириса в мире ином», сохранился и в письменных источниках, в частности, в уже упоминавшемся папирусе Бремнер-Ринд. Текст, посвященный божеству, состоит из трех частей, начинаясь с обращения к статуе Сокара-Осириса. Главная тема этого эпизода — призвать Осириса прийти в ковчег шетаит, находящийся в Джедду хери, или «Верхнем Джедду», как назывались осирические святилища в храмах других божеств, в частности, в храме Хатхор в Дендере.
Во второй части Исида, Хатхор, Бастет, Сехмет, Сатет, Уаджит и Нейт, как различные формы женского божества, участвуют, следуя на своих ладьях вслед за ладьей бога, в церемонии навигации Сокара, во время которой божества побеждают врагов Осириса, «головы которых отрезаны» Исидой, а сам Осирис пребывает внутри божественного яйца, того самого, о котором говорит и текст «Амдуат».
Третья часть посвящена девяти спутникам, которые помещают тело Осириса в шетаит; триумфальный тон этой части текста явно связан как с победой Осириса над врагами, так и с тем, что божествам удалось собрать его тело, забальзамировать и благополучно подготовить его к пребыванию в шетаит.
Дополнения к ритуалу имеются в тексте папируса № 3079 из собрания Лувра. По структуре и содержанию он очень близок к папирусу Бремнер-Ринд и состоит из гимна Сокару-Осирису, прибытия Хатхор в облике нескольких богинь, прославления ковчега Осириса и литаний Сокара. Заключительные слова ритуала говорят об открытых дверях небес, из которых выходит бог.
В Новом царстве и позже праздник Сокара был значимым и очень пышным действом, проходившим во всех самых значимых храмах страны. Судя по рельефам на южной стене второго двора храма в Мединет Абу и храмовому календарю, 24-го числа месяца Хойяк начиналось празднество «помещения Сокара в сердцевину», 25-го был праздник Нечерти, 26-го начинался непосредственно праздник Сокара.
Скорее всего, именно первый день был самым значимым и был посвящен помещению Осириса в священный ковчег земли. В храмовом календаре из Эдфу день 24 месяца Хойяк назван «праздником бога, спасающего пелены отца своего», т.е. Хора, добывшего пелены из рук Сетха, а день 26 — днем жертвы Осирису, для которого забивался дикий осел, символизирующий Сетха; в этот день также проводился ритуал магического уничтожения змея Апопа и жертвоприношения умершим.
В календаре праздников Хатхор в Дендере упоминается процессия Осириса в ночь на 24 день месяца к священному озеру, процессия Сокара к святилищу Хора на 25 день и другая процессия Сокара на 26 день. В папирусах и храмовых текстах есть некоторые детали, помогающие лучше понять происходящее: так, в папирусе Лувра № 3176 упоминается «упокоение Осириса», подобное «помещению Сокара в сердцевину» в Мединет Абу, — ночью процессия шла к храмовому озеру по пути повергая магическими заклинаниями Сетха, пытающегося ей помешать, для того, чтобы осуществить погребение Осириса в подготовленном для этого месте. Погребение происходило в девятом часу ночи 24-го Хойяка; в этот час Осириса помещали в саркофаг, который затем в гробницу — верхнюю шетаит.
«Я совершу празднество отца моего Осириса в его время, — говорит царь в надписи из Мединет Абу, — я скрою его утомление в Абидосе, я скрою вещи тайные в этой ночи празднества Утомленного сердцем, я отгоню прочь противника и приспешников его. Я наполню жертвенные столы и сосуды. Я восстановлю священные места. Я одарю того, кто в святилище своем… в некрополе. Да будешь ты в жизни, в счастье, в могуществе, в незыблемости защищенным в некрополе».
На заре 25 дня из храма выходила процессия Сокара, которая обходила вокруг стен города, повергала Сетха и его спутников и уничтожала все зло. 26-й день ознаменовывался другой процессией Сокара, которая двигалась к могиле погребенного в земле бога в знак победы Хора над Сетхом, и его законной интронизации на престоле умершего отца. Во время ритуала Хор отождествляется со своим отцом. А потому это еще и триумф самого Осириса, одновременно проявленного в сыне и лежащего в шетаит в центре ладьи Сокара Хену, над своими врагами: «Владыка в Верхний Джедду пришел, поверг он неверных».
При этом Осирис все еще мертв: упоминается его гробница, а потому празднество Сокара включает в себя ликование и траур, свет и мрак. Тексты Дендеры называют 24-й день временем помещения в саркофаг фигуры Осириса, изготовленной год тому назад, а 30-й — днем ее погребения. Эти дни храмового календаря четко соответствовали фазам луны: «если 28-е Хойяка — пятый лунный день, то 24-е Хойяка — песеджентиу. Если мы соотнесем это с текстом из Дендеры, то сразу становится ясна его символическая нагрузка. Умерший Осирис — это исчезнувшая луна. День его бальзамирования — это день, когда не видна луна».
Судя по рельефам из Мединет Абу празднество Сокара было очень торжественным и величественным, хотя и видели его на самом деле единицы. Важной составляющей праздника были певцы и флейтисты; скорее всего, ввиду неоднозначности происходящего, танцев во время празднества Сокара не было вообще. Музыкальное и хоровое сопровождение было как у тех эпизодов церемонии, что проходили внутри храма, так и у второй важной составляющей происходящего — процессий божественных ладей, явление которых было доступно простым египтянам, и как бы говорило об успешном результате той или иной части божественной драмы: будь то сражения с противниками Осириса или же его возвращение к месту погребения, было своеобразным комментарием к скрытой, сакральной части действа. Эта важная составляющая часть празднества доносила до внешнего мира главную мысль о том, что церемониал прохождения Осириса сквозь возрождение в земле — есть модель для посмертной трансформации каждого умершего.
Отголоски о значимости ритуала Сокара для каждого индивидуального погребения мы находим во множестве свидетельств — это рельефы и тексты частных гробниц начиная с фиванских усыпальниц Нового царства и вплоть до знаменитой греко-римской гробницы Петосириса в Туна эль-Гебель.
Наконец, самое важное свидетельство — это фигуры «прорастающего» Осириса: миниатюрные, служившие храмовыми святынями и массивные, помещавшиеся в царские гробницы. Наверное, самое известное из них было найдено в гробнице Тутанхамона, в юго-западном углу так называемой «Сокровенной сокровищницы», примыкавшей к собственно погребальной камере. Г.Картер уделяет находке всего лишь пару строк, а меж тем эта святыня — один из важнейших залогов возрождения царя в ином мире. Основа, имеющая форму тела Осириса, увенчанного короной атеф и держащего в руках скипетры, была выдолблена из дерева и состояла из двух частей: собственно дна, наполненного илом, в которой было посажено зерно и крышки. Лицо Осириса обращено направо, т.е. на запад. Как только зерно проросло, форму закрыли и, аккуратно, словно мумию, забинтовав льняными пеленами, поместили в деревянный ящик.
Самый ранний прототип таких «прорастающих Осирисов», тогда еще не в форме фигуры бога, а просто в виде ящика, наполненного илом, землей и зерном, обнаружил в 1920 году Фл. Питри у входа в пирамиду Сенусерта II в Лахуне. Несмотря на иную форму, принцип ритуала здесь был тот же и восходил как к ритуалу Сокара, к таинству «становления ячменем Нижнего Египта», во время которого умерший отождествлялся со злаком, растущим из ребер Осириса, вскармливающего неиссякаемыми силами земли и растение и, в его облике, возрождающегося умершего.
Возможно, именно от этих царственных фигур произошли и сами ритуальные подобия Осириса, создававшиеся в храмах во время мистерий месяца Хойяк. Эти подобия состояли из смеси почвы, песка, ила и зерна, из которой формировали фигуру божества с эрегированным фаллосом и запеленывали как настоящую мумию. На голову подобия часто надевали восковую маску с лицом божества, окрашенную в зеленый цвет и порой отделанную золотой фольгой.
Подобие Осириса помещали в миниатюрный саркофаг с головой сокола Сокара, тексты которого, обращенные к силам земли и Птаху-Сокару-Осирису были призваны дать сокровенному богу новый цикл существования. Известны случаи, когда облик Сокара придавали и царскому саркофагу, который становился формой божества смерти, содержащего внутри себя мумию Осириса. Наиболее известный из них — серебряный саркофаг царя XXII династии Шешонка II, обнаруженный в тайных гробницах Таниса: антропоморфная забальзамированная фигура умершего фараона, держащего в руках скипетры, увенчана массивной маской сокола; поверхность саркофага покрыта резными изображениями богинь охранительниц и духов, а на груди распростерла свои крылья огромная птица с головой овна — ночная форма солнечного бога, «склонившаяся» над тайным яйцом в глубинах подземного пространства и несущая заключенному внутри божеству новую жизнь.
На территории многих храмовых комплексов в результате ежегодных осирических празднеств появились целые некрополи, предназначенные для захоронений подобий бога. Самый большой из них был обнаружен в 50-х годах XX века Анри Шеврие в Карнаке, в северо-восточной части храма Амона, близ святилища Осириса хека джет — «властителя вечности».
В центре некрополя находилась необычная гробница со сводчатым потолком, сооруженная из обоженного кирпича, внутри которой обнаружили многочисленные подобия Осириса. Сооружение было датировано временем правления XXVI династии. Гробница была лишь преддверием к более древним катакомбам XXI династии с многочисленными небольшими нишами в стенах, где хранили подобия Осириса.
На дне каждой ниши лежал толстый слой очищенного крупного песка, на котором покоилась белая удлиненная форма-саркофаг с помещенной внутрь мумифицированной фигурой божества, покрытой тончайшей пленкой гипса, порой с инкрустированными глазами и в короне хеджет. На поверхности фигур виднелись остатки росписи зелено-голубой краской. Фигуры были ко времени находки столь хрупки, что пришлось приложить немало усилий, чтобы вынуть их с минимальными повреждениями; пелены, в которые изначально были обернуты подобия Осириса, распались много веков тому назад.
На земле были обнаружены фрагменты давно рухнувшего свода катакомб, расписанного изображениями священного солнечного дерева ишед, некогда росшего над гробницами, девяти змеев-охранителей некрополя и крылатого солнечного диска с уреем, который как бы спускается в катакомбы к Осирису в сопровождении выписанных рядом иероглифов «утреннего гимна», прославляющего возрождение бога, поднявшегося с ложа после ночи сна — смерти.
Судя по археологическим данным и отдельным иконографическим свидетельствам, над всеми катакомбами в древности был насыпан холм, который и назывался «Великим местом» (st ȝˁt), т.е. священной землей, владением Сокара, в толще которого хранились великие святыни храма, по египетским представлениям живущие, умирающие и возрождающиеся, повинуясь циклам времени.
_______________________________
|
Метки: Осирис Птах Гор Египет Мистерии |
ПТАХ — ВЛАДЫКА МЕМФИСА |
Солкин В.В.
МЕМФИС: СТУПЕНИ К СПАСЕНИЮ
На протяжении веков Мемфис, древнейшая египетская столица, расположенная там, где Нил распадается на рукава в преддверии Дельты, был одной из величайших святынь цивилизации фараонов. В сердце священного города находилась древняя царская цитадель — «Белые стены», которая дала свое имя городу на заре его существования. Позже город стал известен как Меннефер.
К югу от цитадели располагался огромный храмовый комплекс бога Птаха, покровителя Мемфиса, который, разрастаясь от века к веку, стал особенно грандиозным в эпоху владычества Рамсеса II и его сына Мернептаха, когда с юга к основному святилищу бога были пристроены храмы Хатхор, самого Птаха и обожествленного Рамсеса II.
«Красоты Мемфиса» всегда занимали особое место в сердцах египтян, а сам город, где в качестве спутников Птаха почитались его супруга Сехмет, сын — Нефертум и «золотая» Хатхор, считался обителью радости, ликования и красоты. Египетская любовная поэма сравнивает Мемфис с «чашей фруктов, что поставлена перед Прекрасноликим»: таковым был один из эпитетов Птаха.
В наши дни сложно увидеть даже отдаленные черты былого великолепия: здесь, у деревни Мит-Рахина, расположенной в 24 километрах на юг от громады современного Каира, некогда находились блистательные царские резиденции, оживленный торговый центр, место, где в храмовых мастерских создавались поразительные шедевры искусства. Покровителем их был Птах, верховный жрец которого носил титул ур херепу хемут — «великий глава мастерства». От святилища бога остались заросшие тростником руины. Священные рощи, обелиски, пилоны, высокие мачты храмов и жилые кварталы исчезли и лишь название Мит-Рахина, происходящее от древнеегипетского та мит рехенет — «аллея овноголовых сфинксов» — намекает, сколько поразительных памятников древности было уничтожено, когда Мемфис стал каменоломней для растущего средневекового Каира. Не осталось следов от знаменитых гавани и доков Пер нефер, где по приказу Тутмоса III строился египетский флот и храмов сиро-финикийских богов: Баала, Анат, Решепа и Ашторет, пришедших в Египет вместе с воинами — триумфаторами и их пленниками.
От былого величия осталась гигантская упавшая статуя Рамсеса Великого, несколько меньших его колоссов, базы колонн, полузатопленные болотистыми водами, массивный сфинкс, создание которого традиционно приписывается Аменхотепу II и многочисленные памятники археологической зоны Мемфиса, включающие в себя дворец Априя, храм Хатхор «Владычицы Южной сикоморы», святилища Сети I и многие другие, еще не опознанные руины. Среди этих величественных останков некогда грандиозного прошлого, занесенных песком и илом, отчасти видно еще одно лицо Египта фараонов, тот его образ, который почти полностью затмили роскошью и, прежде всего, сохранностью памятников «блистательные» Фивы.
Тутанхамон, восстановивший древнюю традицию и вернувшийся со своим двором в Мемфис, открыл тем самым новую эру в истории города искусств и ремесел. Отчасти, это было возвращение к истокам, к тому оплоту государственности и царской власти, каким был Мемфис, по словам Геродота, при Менесе, первом царе I династии.
Мемфис был городом «сотворения», местом почитания созидательной силы земли. Даже само имя Птаха, великого владыки художников, ремесленников, металлургов, ювелиров, горнорабочих и всех тех, чей труд был связан с землей, возможно, переводилось как «создающий форму».
Бог изображался в небольшом темно-голубом чепце, который своей формой напоминал чепцы, которые носят кузнецы, ювелиры и мастера других ремесел на рельефах в гробницах вельмож Древнего царства в Саккаре, главном некрополе Мемфиса. Птах зачастую изображался с лицом зеленого цвета, цвета вечной жизни и благодати, который созвучен с эпитетом «прекрасноликий», часто сопровождающим имя бога.
Иногда Птах предстает и как Патека — в облике карлика с кривыми ногами, руками до колен и массивной головой; такие изображения божества находили как в гробницах египтян, так и в Тимне, в святилище, сооруженном близ медных рудников. Происхождение этой иконографии остается тайной, хотя связь карликов с ювелирным делом и плавкой металла в Древнем Египте и в африканских культурах вообще хорошо известна.
В честь Птаха и Хатхор, «владычицы бирюзы» устанавливали стелы горнорабочие, отправлявшиеся в долгий и трудный путь к рудникам Синая. Хатхор, почитавшаяся в великолепном святилище в Серабит эль-Хадим, воплощала собой материнскую породу горы, дающую почитаемый минерал, из которого мастера — «слуги Птаха», пользуясь творческой силой своего властелина, изготавливали украшения и другие необходимые предметы. Могущество земли и ее потенциал — лишь один из аспектов силы Птаха, который почитался в Мемфисе как демиург, творец всего сущего и всей египетской культуры.
Египетские тексты повествуют о том, как он «дал рождение» культовым образам богов внутри святилищ, используя для этого вещество земли, которое выросло «в нем» и «на нем», в его облике Птаха-Сокара, бога земли. При помощи искусства создавать форму, Птах формирует «тела», способные принимать божественный дух, исполненные со знанием божественных законов и, кроме того, искусно. При Рамессидах вместе с солнечным Ра и бесконечно великим Амоном Птах входит в государственную триаду величайших богов страны, представляя в ней образ или же «тело» предвечного божества. Образ триединого бога, скрытого в глубине храма с солнечным лицом и сокровенной сущностью лег в основу сложнейшей теологической системы, содержавший ключи к пониманию египетской вселенной.
СВИТОК, ИЗЪЕДЕННЫЙ ЧЕРВЯМИ
В отличие от соседнего Иуну, с его божественным «видением» и мистической космологией Солнца, созидающего во время эякуляции космос, мемфисская религиозная концепция была отчасти более приземленной в том смысле, что была менее оторвана от повседневности жизни. Птах творит мир при помощи своих сердца и языка. Знаменитый текст, повествующий об этом — «Памятник мемфисской теологии» — хранится в настоящее время в собрании Британского музея в Лондоне.
Увы, каменная плита с текстом позже использовалась как мельничный жернов, из-за чего часть текста утеряна, однако и оставшегося достаточно, чтобы понять сущность мемфисской теории о созидающем могуществе Птаха. Текст датируется временем правления фараона XXV династии Шабака, который, согласно тексту, обнаружил древний свиток, изъеденный червями, и приказал увековечить древнюю мудрость на камне, чтобы потом установить его в храме Птаха.
Об истинном времени создания текста высказывались самые разные гипотезы и, возможно, время его создания восходит к Древнему царству. Текст повествует о Птахе как о центральной фигуре в процессе творения, мудрой силе, сущность которой остается непознанной. Упоминаются семь ипостасей Птаха, великого творца, пребывающего в предвечных водах Нуна и Наунет и, одновременно, являющегося этими самыми водами; к сожалению, до нашего времени сохранились лишь четыре его имени:
После этих семи ипостасей Птаха следует восьмая — «Нефертум у носа Ра день каждый» — благоухающий цветок лотоса, аромат которого вдыхает Ра каждое утро, рождаясь на восточном горизонте неба из пространства иного мира.
Согласно «Текстам пирамид», царь также предстает в облике Нефертума свежим, ослепительным, преисполненным жизненными силами цветком лотоса: «Унас сияет как Нефертум, лотос у ноздрей Ра, когда восходит он на горизонте день каждый».
Первые семь ипостасей бога в мемфисской теологии, таким образом, предшествуют божественной кульминации в облике солнечного младенца, рождающегося на заре; этот эпизод космогонии созвучен космогонической системе Гермополя, в которой четыре пары хтонических змей и лягушек, воплощающих собой божественную силу земли, обитающих в предвечном болоте в преддверии рождении солнечного младенца, сидящего на цветке лотоса. Открывая свои лепестки вместе с первыми лучами солнца и неизменно закрывая их на закате, цветок лотоса словно хранил в себе тайну жизненного цикла, в котором, повинуясь течению времени, жизнь зарождалась, угасала и вновь являла себя миру изо дня в день подчиняясь божественному закону.
Птах и его самая важная, тайная сущность при этом предшествуют рождению солнца, исходя из чего, мемфисские теологи видели превосходство всесильного бога земли над Атумом из Иуну, который, в свою очередь, сам был сотворен Птахом: «Принял образ в сердце, принял образ на языке, образ Атума. Очень велик Птах, который дал жизнь всем богам и их ка через свое сердце и через свой язык»…
Птах, таким образом, создает Атума, космического творца, породившего бога воздуха Шу и его женское дополнение Тефнут — богиню пламени и влаги. Противоборства между этими теологическими системами, несмотря на распространенное мнение, скорее всего не существовало, они были взаимодополняющими. «Памятник мемфисской теологии» ни в коей мере не ущемляет величие Атума-творца, рождающего Эннеаду, которая предстает как «зубы и губы рта этого, произносящего имя вещи каждой, из которого вышли Шу и Тефнут, родившие Эннеаду».
Вся вселенная, сотворенная Атумом, пронизана и управляема силой божественного слова Птаха; космос, согласно легенде Мемфиса, рождается посредством звука. Благодаря знанию этого божественного слова Птах становится таинственным богом, обладающим способностью созидать, облекать в форму, обозначать истинную сущность вещей. Высказанное вслух слово при этом рождено в сердце — источнике мысли, интеллекта, знания и созидательного потенциала, управляющим всем телом. У египтян бытовало мнение, что именно из сердца выходят все мыслительные процессы, а также и новая жизнь: в тексте медицинского папируса Эберс именно из сердца мужчины выходят сосуды, сообщающиеся с его семенниками, благодаря которым его семя наполняется жизненной силой и становится способным оплодотворять, опять же по воле сердца. Атум, согласно этой концепции, лишь божественные семенники и фаллос, источник действия которых таится в силе сердца — т.е. в Птахе: «Зрение, слух, дыхание осведомляют сердце. Это сердце дает выходить всякому знанию; это язык повторят все то, что задумано сердцем».
Сердце, как источник всякого чувства и знания, воспринималось и в качестве носителя этического начала; именно поэтому «Памятник мемфисской теологии», восхваляя Птаха, далее провозглашает божественный закон: «жизнь дана благому и смерть дана преступнику». Закон этический и социальный при этом становится частью закона вселенского, согласно которому по воле Птаха были созданы священные города, святилища, культовые образы богов и ритуалы, которые были призваны обеспечить процветание египетской цивилизации.
Представая в качестве божественного «моста» между интеллектуальными принципами творения и их воплощением в материи сотворенного мира, Птах использует для образов богов, которыми он наполняет земные храмы, земные же материалы: «все сорта дерева, камня и глины, все, что произрастает на нем». Творец создает тела богов по желанию их сердец, а потому «боги вошли в тела свои… умиротворенные и объединенные с Владыкой Обеих земель». Как божественный «создатель формы» Птах изображается держащим одновременно скипетр могущества уас, заканчивающийся навершием в виде головы священного животного Сетха, и столб джед — великий символ постоянства и стабильности.
МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ БОЖЕСТВА
Концепция «материализованного» божества, исходящая из мемфисской космогонии, отражена во многих других египетских источниках, например во введении к «Книге божественной коровы», где Ра, состарившись, достигает предельной материализации: «кости его стали серебром, плоть — золотом, волосы его — истинным лазуритом». Словно культовые образы богов в египетских храмах, которые постепенно теряли свою силу и нуждались в очищении и обновлении священной силы, в этой легенде Ра устремляется к водам Нуна, чтобы вернуть молодость и «прийти в существование».
То, что речь здесь идет не только об образном религиозном слове а о полноценной концепции, подтверждается редчайшей культовой статуей Хорура, весом 1.5kg, выполненной из чистого серебра, покрытой тонким листовым золотом, причем волосы божества инкрустированы лазуритом, а глаза — горным хрусталем; божество изображено сидящим на престоле, который, увы, утерян, и скорее всего, использовалось как культовый образ в переносной праздничной храмовой ладье. Старея, солнечный бог, который, как владыка небес и земли имеет божественный дух и материализованное тело, возвращается к истокам, которыми в Мемфисе почитали Птаха, одухотворяющего воды Нуна, т.е. самое себя. Солнечная энергия, между тем, считалась неотъемлемой спутницей творческой силы Птаха и воплощалась в качестве его супруги Сехмет, могущественного солнечного Ока.
Именно солнечная богиня наполняет дыханием жизни, чувствами и силами ту форму, которую создает Птах. Эта роль богини подчеркивается многими текстами. Так, в храме Сети I в Абидосе Исида, кормящая своего сына — царя Рамсеса II, излагает ему божественные принципы, по которым он был сотворен, рассказывая о Птахе и Хнуме, как о творцах формы и о богинях, от которых царь получает неферу — жизненные силы и энергии.
Словно подтверждая слова богини, рядом изображены четыре ипостаси Хатхор, которые вскармливают грудью царя, предстающего, в зависимости от ипостаси Хатхор, в различных головных уборах:
Жизненная сила, исходящая от Хатхор необходима для того, чтобы завершить мужскую работу гончара и кузнеца, созидающих царское тело; мужская энергия, таким образом, формирует тело, а женская — дает жизнь. Более древний пример этого же процесса отражен на рельефах из маммизи Аменхотепа III в Луксорском храме, где Хнум создает на гончарном круге царя и его Ка, а Хатхор вкладывает в созданные формы жизнь.
На силу богини, солнечного Ока, необходимую для полной манифестации жизненной энергии, опирается и сам Ра-Атум, повествующий об этапах творения в тексте позднего папируса Бремнер-Ринд, когда ему необходимо вновь упрочить и укрепить мир, потрясенный в глубине ночи змеем хаоса Апопом. Текст начинается со слов Атума-Хепри, от которого исходят все трансформации и эманации божества, и который существовал до начала творения в предвечных водах:
Затем творец повествует о том, как он произвел на свет бесчисленное множество существ из своего рта, прежде чем небеса и земля были сотворены, прежде чем появились змеи, почитавшиеся египтянами древнейшими существами. Все эти сущности пребывали в Нуне в непроявленном состоянии, ожидая, когда творец найдет место, на котором он смог бы встать. Почти также говорит о сотворении текст гимна Птаху из Берлинского музея, который восхваляет предвечные трансформации божества, создание земли после того, как Птах встал на ней и рождение форм жизни из предвечных вод:«Когда встал ты на земле, бездействовала она, затем она собралась воедино с тобой, пребывающим в образе твоем «Татенен»… ты взял того, кого породил рот твой, [кого] создали руки твои из вод».
Встав на вершине предвечного холма, Ра-Атум порождает близнецов Шу и Тефнут, для чего ему, как и в мемфисской теологии необходимо воссоединить желание сердца и могущество своего фаллоса. Его мысли и желания, порожденные сердцем, заставляют его прибегнуть к мастурбации и эякулировать перворожденную пару божеств: «Я задумал в моем собственном сердце многие формы форм, что должны прийти в существование, а именно: образы детей и образы их детей. Я тот, кто растер кулаком, кто совокупился со своей рукой. Я изверг своим ртом собственным. Я выплюнул Шу и я изверг Тефнут и мой отец Нун поддержал их».
Таким образом формируется первая триада и, несмотря на то, что Шу и Тефнут пребывают в Нуне в инертном состоянии, далеко от своего родителя, за ними наблюдает солнечное Око, посланное творцом, беспокоящимся о своих отпрысках. Когда они возвращаются к Ра-Атуму вместе с Оком, он рыдает над ними; из падающих слез бога (rmjt, «ремит») рождаются люди (rmṯ, «ремеч»):
Око, таким образом, является залогом воссоединения первых богов с творцом и причиной появления людей. Именно Око, богиню Хатхор прославляют «Тексты саркофагов» за то, что она привела Шу и Тефнут к отцу, стала причиной появления людей и увеличения множественности космоса. Вместе с ее возвращением демиург «воссоединяется» со своими членами и продолжает процесс творения, невозможный без ее жизненной энергии, и, следовательно, без эмоций радости и печали, сопровождающих как творение, так и бытие.
Неотъемлемость эмоциональной наполненности от истинной сущности жизни упоминается и в знаменитом «Декрете Птаха-Татенена», сохранившемся в большом храме Рамсеса II в Абу-Симбеле. Птах-Татенен создает тело царя из электрума, его кости из меди и его плоть из железа, используя все свое искусство кузнеца и ювелира и рождая фараона, облик которого так же совершенен, как и облик солнечного бога: «Ра в теле его, который вышел из Ра, которого Птах-Татенен сотворил».
Птах осматривает произведение своих рук, которое он «породил» и как отец и как художник, так как в египетском языке глагол msi — «рождать» употреблялся и по отношению к рождению живого существа и по отношению к созданию памятника. Богом овладевает глубокая радость, исходящая из его сердца, а потому он берет Рамсеса на руки, как свое самое совершенное творение:
Таково подробное описание неисчислимого блага и эмоционального опьянения, которое дают объятия творца. На храмовых рельефах фараон также часто предстает вместе с «создателем формы» Птахом и «подательницей жизни» Хатхор, заключающими его в свои объятия, полные любви и благодати.
Жизненная сила творца, воплощенная в солнечной богине, как известно, имеет и другую сторону, яростную, неистовую и всемерно опасную. Согласно тексту папируса Бремнер-Ринд, Око приходит в негодование, обнаружив что в то время, когда оно странствовало по вселенной в поисках Шу и Тефнут, Ра-Атум опрометчиво заменил его оком ахет: «И тогда [богиня-Око] разъярилась против меня, вернувшись и обнаружив, что я поместил другую на место ее, заменив ее Великой (т.е. Оком Ахет)».
Чтобы умиротворить богиню, солнечный демиург помещает ее на свое чело, где она принимает форму кобры — божественного урея (iˁrt), «правящего всей землей». Лишь умиротворив богиню и воздав ей должное, Ра-Атум вновь способен продолжать творение и, поднявшись из глубин земли, творит змей, а затем бога земли Геба и богиню неба Нут, породивших все нескончаемое разнообразие жизни.
Эта легенда объясняет также, почему у солнечного бога есть два Ока, первое, ахет (ȝḫt), — зримое, мужское, воплощенное в солнечном диске, дающее свет (ȝḫw) всем живым и другое, скрытое, женское, воплощенное богиней, одновременно агрессивной и притягательной.
Образ солнечной богини — жизненной энергии, преломившись в призме «могущества земли» теологии Мемфиса, трансформировался в дающую надежду и защищающую умершего, подобно матери, Хатхор «владычицу южной сикоморы», богиню являющуюся меж ветвей почитаемого дерева.
Плоды растения богини давали белый сок, напоминающий молоко; он выступал также на листьях растения и назывался «молоком сикоморы» и использовался в ритуалах. На росписях в гробницах можно увидеть богиню дерева с жертвенной водой и пищей в руках, которая откликается на зов просящего и дает пропитание душам умерших, странствующим в загробный мир. Порой богиня вообще изображена в облике сикоморы с материнской грудью, из которой испивает молоко сам царь. Она — жизнь солнечного божества, текущая по сосудам земли, в дереве, в камне, в любой другой земной субстанции, созданной Птахом, которые приобретают благодаря Хатхор совершенство и жизненность облика. Без нее форма остается безжизненной и инертной, словно Шу и Тефнут, пребывающие в предвечных водах; без нее тело Ра, сотворенное Птахом, было бы неспособно излучать свет.
_______________________________
МЕМФИС: СТУПЕНИ К СПАСЕНИЮ
На протяжении веков Мемфис, древнейшая египетская столица, расположенная там, где Нил распадается на рукава в преддверии Дельты, был одной из величайших святынь цивилизации фараонов. В сердце священного города находилась древняя царская цитадель — «Белые стены», которая дала свое имя городу на заре его существования. Позже город стал известен как Меннефер.
К югу от цитадели располагался огромный храмовый комплекс бога Птаха, покровителя Мемфиса, который, разрастаясь от века к веку, стал особенно грандиозным в эпоху владычества Рамсеса II и его сына Мернептаха, когда с юга к основному святилищу бога были пристроены храмы Хатхор, самого Птаха и обожествленного Рамсеса II.
«Красоты Мемфиса» всегда занимали особое место в сердцах египтян, а сам город, где в качестве спутников Птаха почитались его супруга Сехмет, сын — Нефертум и «золотая» Хатхор, считался обителью радости, ликования и красоты. Египетская любовная поэма сравнивает Мемфис с «чашей фруктов, что поставлена перед Прекрасноликим»: таковым был один из эпитетов Птаха.
В наши дни сложно увидеть даже отдаленные черты былого великолепия: здесь, у деревни Мит-Рахина, расположенной в 24 километрах на юг от громады современного Каира, некогда находились блистательные царские резиденции, оживленный торговый центр, место, где в храмовых мастерских создавались поразительные шедевры искусства. Покровителем их был Птах, верховный жрец которого носил титул ур херепу хемут — «великий глава мастерства». От святилища бога остались заросшие тростником руины. Священные рощи, обелиски, пилоны, высокие мачты храмов и жилые кварталы исчезли и лишь название Мит-Рахина, происходящее от древнеегипетского та мит рехенет — «аллея овноголовых сфинксов» — намекает, сколько поразительных памятников древности было уничтожено, когда Мемфис стал каменоломней для растущего средневекового Каира. Не осталось следов от знаменитых гавани и доков Пер нефер, где по приказу Тутмоса III строился египетский флот и храмов сиро-финикийских богов: Баала, Анат, Решепа и Ашторет, пришедших в Египет вместе с воинами — триумфаторами и их пленниками.
От былого величия осталась гигантская упавшая статуя Рамсеса Великого, несколько меньших его колоссов, базы колонн, полузатопленные болотистыми водами, массивный сфинкс, создание которого традиционно приписывается Аменхотепу II и многочисленные памятники археологической зоны Мемфиса, включающие в себя дворец Априя, храм Хатхор «Владычицы Южной сикоморы», святилища Сети I и многие другие, еще не опознанные руины. Среди этих величественных останков некогда грандиозного прошлого, занесенных песком и илом, отчасти видно еще одно лицо Египта фараонов, тот его образ, который почти полностью затмили роскошью и, прежде всего, сохранностью памятников «блистательные» Фивы.
Тутанхамон, восстановивший древнюю традицию и вернувшийся со своим двором в Мемфис, открыл тем самым новую эру в истории города искусств и ремесел. Отчасти, это было возвращение к истокам, к тому оплоту государственности и царской власти, каким был Мемфис, по словам Геродота, при Менесе, первом царе I династии.
Мемфис был городом «сотворения», местом почитания созидательной силы земли. Даже само имя Птаха, великого владыки художников, ремесленников, металлургов, ювелиров, горнорабочих и всех тех, чей труд был связан с землей, возможно, переводилось как «создающий форму».
Бог изображался в небольшом темно-голубом чепце, который своей формой напоминал чепцы, которые носят кузнецы, ювелиры и мастера других ремесел на рельефах в гробницах вельмож Древнего царства в Саккаре, главном некрополе Мемфиса. Птах зачастую изображался с лицом зеленого цвета, цвета вечной жизни и благодати, который созвучен с эпитетом «прекрасноликий», часто сопровождающим имя бога.
Иногда Птах предстает и как Патека — в облике карлика с кривыми ногами, руками до колен и массивной головой; такие изображения божества находили как в гробницах египтян, так и в Тимне, в святилище, сооруженном близ медных рудников. Происхождение этой иконографии остается тайной, хотя связь карликов с ювелирным делом и плавкой металла в Древнем Египте и в африканских культурах вообще хорошо известна.
В честь Птаха и Хатхор, «владычицы бирюзы» устанавливали стелы горнорабочие, отправлявшиеся в долгий и трудный путь к рудникам Синая. Хатхор, почитавшаяся в великолепном святилище в Серабит эль-Хадим, воплощала собой материнскую породу горы, дающую почитаемый минерал, из которого мастера — «слуги Птаха», пользуясь творческой силой своего властелина, изготавливали украшения и другие необходимые предметы. Могущество земли и ее потенциал — лишь один из аспектов силы Птаха, который почитался в Мемфисе как демиург, творец всего сущего и всей египетской культуры.
Египетские тексты повествуют о том, как он «дал рождение» культовым образам богов внутри святилищ, используя для этого вещество земли, которое выросло «в нем» и «на нем», в его облике Птаха-Сокара, бога земли. При помощи искусства создавать форму, Птах формирует «тела», способные принимать божественный дух, исполненные со знанием божественных законов и, кроме того, искусно. При Рамессидах вместе с солнечным Ра и бесконечно великим Амоном Птах входит в государственную триаду величайших богов страны, представляя в ней образ или же «тело» предвечного божества. Образ триединого бога, скрытого в глубине храма с солнечным лицом и сокровенной сущностью лег в основу сложнейшей теологической системы, содержавший ключи к пониманию египетской вселенной.
СВИТОК, ИЗЪЕДЕННЫЙ ЧЕРВЯМИ
В отличие от соседнего Иуну, с его божественным «видением» и мистической космологией Солнца, созидающего во время эякуляции космос, мемфисская религиозная концепция была отчасти более приземленной в том смысле, что была менее оторвана от повседневности жизни. Птах творит мир при помощи своих сердца и языка. Знаменитый текст, повествующий об этом — «Памятник мемфисской теологии» — хранится в настоящее время в собрании Британского музея в Лондоне.
Увы, каменная плита с текстом позже использовалась как мельничный жернов, из-за чего часть текста утеряна, однако и оставшегося достаточно, чтобы понять сущность мемфисской теории о созидающем могуществе Птаха. Текст датируется временем правления фараона XXV династии Шабака, который, согласно тексту, обнаружил древний свиток, изъеденный червями, и приказал увековечить древнюю мудрость на камне, чтобы потом установить его в храме Птаха.
Об истинном времени создания текста высказывались самые разные гипотезы и, возможно, время его создания восходит к Древнему царству. Текст повествует о Птахе как о центральной фигуре в процессе творения, мудрой силе, сущность которой остается непознанной. Упоминаются семь ипостасей Птаха, великого творца, пребывающего в предвечных водах Нуна и Наунет и, одновременно, являющегося этими самыми водами; к сожалению, до нашего времени сохранились лишь четыре его имени:
«Птах-на-Великом-Престоле…
Птах-Нун, Отец, создавший Атума,
Птах-Наунет, Мать, которая родила Атума,
Птах Великий, сердце и язык Эннеады,
[Птах]… который родил богов
[Птах]… который родил богов
[Птах]…»
После этих семи ипостасей Птаха следует восьмая — «Нефертум у носа Ра день каждый» — благоухающий цветок лотоса, аромат которого вдыхает Ра каждое утро, рождаясь на восточном горизонте неба из пространства иного мира.
Согласно «Текстам пирамид», царь также предстает в облике Нефертума свежим, ослепительным, преисполненным жизненными силами цветком лотоса: «Унас сияет как Нефертум, лотос у ноздрей Ра, когда восходит он на горизонте день каждый».
Первые семь ипостасей бога в мемфисской теологии, таким образом, предшествуют божественной кульминации в облике солнечного младенца, рождающегося на заре; этот эпизод космогонии созвучен космогонической системе Гермополя, в которой четыре пары хтонических змей и лягушек, воплощающих собой божественную силу земли, обитающих в предвечном болоте в преддверии рождении солнечного младенца, сидящего на цветке лотоса. Открывая свои лепестки вместе с первыми лучами солнца и неизменно закрывая их на закате, цветок лотоса словно хранил в себе тайну жизненного цикла, в котором, повинуясь течению времени, жизнь зарождалась, угасала и вновь являла себя миру изо дня в день подчиняясь божественному закону.
Птах и его самая важная, тайная сущность при этом предшествуют рождению солнца, исходя из чего, мемфисские теологи видели превосходство всесильного бога земли над Атумом из Иуну, который, в свою очередь, сам был сотворен Птахом: «Принял образ в сердце, принял образ на языке, образ Атума. Очень велик Птах, который дал жизнь всем богам и их ка через свое сердце и через свой язык»…
Птах, таким образом, создает Атума, космического творца, породившего бога воздуха Шу и его женское дополнение Тефнут — богиню пламени и влаги. Противоборства между этими теологическими системами, несмотря на распространенное мнение, скорее всего не существовало, они были взаимодополняющими. «Памятник мемфисской теологии» ни в коей мере не ущемляет величие Атума-творца, рождающего Эннеаду, которая предстает как «зубы и губы рта этого, произносящего имя вещи каждой, из которого вышли Шу и Тефнут, родившие Эннеаду».
Вся вселенная, сотворенная Атумом, пронизана и управляема силой божественного слова Птаха; космос, согласно легенде Мемфиса, рождается посредством звука. Благодаря знанию этого божественного слова Птах становится таинственным богом, обладающим способностью созидать, облекать в форму, обозначать истинную сущность вещей. Высказанное вслух слово при этом рождено в сердце — источнике мысли, интеллекта, знания и созидательного потенциала, управляющим всем телом. У египтян бытовало мнение, что именно из сердца выходят все мыслительные процессы, а также и новая жизнь: в тексте медицинского папируса Эберс именно из сердца мужчины выходят сосуды, сообщающиеся с его семенниками, благодаря которым его семя наполняется жизненной силой и становится способным оплодотворять, опять же по воле сердца. Атум, согласно этой концепции, лишь божественные семенники и фаллос, источник действия которых таится в силе сердца — т.е. в Птахе: «Зрение, слух, дыхание осведомляют сердце. Это сердце дает выходить всякому знанию; это язык повторят все то, что задумано сердцем».
Сердце, как источник всякого чувства и знания, воспринималось и в качестве носителя этического начала; именно поэтому «Памятник мемфисской теологии», восхваляя Птаха, далее провозглашает божественный закон: «жизнь дана благому и смерть дана преступнику». Закон этический и социальный при этом становится частью закона вселенского, согласно которому по воле Птаха были созданы священные города, святилища, культовые образы богов и ритуалы, которые были призваны обеспечить процветание египетской цивилизации.
Представая в качестве божественного «моста» между интеллектуальными принципами творения и их воплощением в материи сотворенного мира, Птах использует для образов богов, которыми он наполняет земные храмы, земные же материалы: «все сорта дерева, камня и глины, все, что произрастает на нем». Творец создает тела богов по желанию их сердец, а потому «боги вошли в тела свои… умиротворенные и объединенные с Владыкой Обеих земель». Как божественный «создатель формы» Птах изображается держащим одновременно скипетр могущества уас, заканчивающийся навершием в виде головы священного животного Сетха, и столб джед — великий символ постоянства и стабильности.
МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ БОЖЕСТВА
Концепция «материализованного» божества, исходящая из мемфисской космогонии, отражена во многих других египетских источниках, например во введении к «Книге божественной коровы», где Ра, состарившись, достигает предельной материализации: «кости его стали серебром, плоть — золотом, волосы его — истинным лазуритом». Словно культовые образы богов в египетских храмах, которые постепенно теряли свою силу и нуждались в очищении и обновлении священной силы, в этой легенде Ра устремляется к водам Нуна, чтобы вернуть молодость и «прийти в существование».
То, что речь здесь идет не только об образном религиозном слове а о полноценной концепции, подтверждается редчайшей культовой статуей Хорура, весом 1.5kg, выполненной из чистого серебра, покрытой тонким листовым золотом, причем волосы божества инкрустированы лазуритом, а глаза — горным хрусталем; божество изображено сидящим на престоле, который, увы, утерян, и скорее всего, использовалось как культовый образ в переносной праздничной храмовой ладье. Старея, солнечный бог, который, как владыка небес и земли имеет божественный дух и материализованное тело, возвращается к истокам, которыми в Мемфисе почитали Птаха, одухотворяющего воды Нуна, т.е. самое себя. Солнечная энергия, между тем, считалась неотъемлемой спутницей творческой силы Птаха и воплощалась в качестве его супруги Сехмет, могущественного солнечного Ока.
Именно солнечная богиня наполняет дыханием жизни, чувствами и силами ту форму, которую создает Птах. Эта роль богини подчеркивается многими текстами. Так, в храме Сети I в Абидосе Исида, кормящая своего сына — царя Рамсеса II, излагает ему божественные принципы, по которым он был сотворен, рассказывая о Птахе и Хнуме, как о творцах формы и о богинях, от которых царь получает неферу — жизненные силы и энергии.
Словно подтверждая слова богини, рядом изображены четыре ипостаси Хатхор, которые вскармливают грудью царя, предстающего, в зависимости от ипостаси Хатхор, в различных головных уборах:
«Хнум вылепил тебя руками своими,
Вместе с Птахом, который сплотил тело твое.
Хатхор, великая в Дендере, — это она вскармливает тебя,
Хатхор, госпожа Хиу, — это она кормилица для тебя,
Владычица Кусэ и Хатхор, госпожа Атфих,
Вскармливают жизненность твою.
Да объединятся они вместе, чтобы защитили они Величество твое,
Чтобы царствовал ты в стране каждой».
Жизненная сила, исходящая от Хатхор необходима для того, чтобы завершить мужскую работу гончара и кузнеца, созидающих царское тело; мужская энергия, таким образом, формирует тело, а женская — дает жизнь. Более древний пример этого же процесса отражен на рельефах из маммизи Аменхотепа III в Луксорском храме, где Хнум создает на гончарном круге царя и его Ка, а Хатхор вкладывает в созданные формы жизнь.
На силу богини, солнечного Ока, необходимую для полной манифестации жизненной энергии, опирается и сам Ра-Атум, повествующий об этапах творения в тексте позднего папируса Бремнер-Ринд, когда ему необходимо вновь упрочить и укрепить мир, потрясенный в глубине ночи змеем хаоса Апопом. Текст начинается со слов Атума-Хепри, от которого исходят все трансформации и эманации божества, и который существовал до начала творения в предвечных водах:
«Когда я воссуществовал, существующие пришли в существование, и все существующее стало существовать после того, как воссуществовал я».
Затем творец повествует о том, как он произвел на свет бесчисленное множество существ из своего рта, прежде чем небеса и земля были сотворены, прежде чем появились змеи, почитавшиеся египтянами древнейшими существами. Все эти сущности пребывали в Нуне в непроявленном состоянии, ожидая, когда творец найдет место, на котором он смог бы встать. Почти также говорит о сотворении текст гимна Птаху из Берлинского музея, который восхваляет предвечные трансформации божества, создание земли после того, как Птах встал на ней и рождение форм жизни из предвечных вод:«Когда встал ты на земле, бездействовала она, затем она собралась воедино с тобой, пребывающим в образе твоем «Татенен»… ты взял того, кого породил рот твой, [кого] создали руки твои из вод».
Встав на вершине предвечного холма, Ра-Атум порождает близнецов Шу и Тефнут, для чего ему, как и в мемфисской теологии необходимо воссоединить желание сердца и могущество своего фаллоса. Его мысли и желания, порожденные сердцем, заставляют его прибегнуть к мастурбации и эякулировать перворожденную пару божеств: «Я задумал в моем собственном сердце многие формы форм, что должны прийти в существование, а именно: образы детей и образы их детей. Я тот, кто растер кулаком, кто совокупился со своей рукой. Я изверг своим ртом собственным. Я выплюнул Шу и я изверг Тефнут и мой отец Нун поддержал их».
Таким образом формируется первая триада и, несмотря на то, что Шу и Тефнут пребывают в Нуне в инертном состоянии, далеко от своего родителя, за ними наблюдает солнечное Око, посланное творцом, беспокоящимся о своих отпрысках. Когда они возвращаются к Ра-Атуму вместе с Оком, он рыдает над ними; из падающих слез бога (rmjt, «ремит») рождаются люди (rmṯ, «ремеч»):
«Око мое следовало за ними многие века [когда] они были далеко от меня после того, как я воссуществовал как единый бог. И вот, было там три бога. Когда я воссуществовал на этой земле и Шу и Тефнут возликовали, пока все еще были в бездействии. И они возвратили мне Око мое вместе с собой и потому воссоединился я с членами моими. Я зарыдал над ними и потому люди пришли в существование из слез, что упали из Ока моего».
Око, таким образом, является залогом воссоединения первых богов с творцом и причиной появления людей. Именно Око, богиню Хатхор прославляют «Тексты саркофагов» за то, что она привела Шу и Тефнут к отцу, стала причиной появления людей и увеличения множественности космоса. Вместе с ее возвращением демиург «воссоединяется» со своими членами и продолжает процесс творения, невозможный без ее жизненной энергии, и, следовательно, без эмоций радости и печали, сопровождающих как творение, так и бытие.
Неотъемлемость эмоциональной наполненности от истинной сущности жизни упоминается и в знаменитом «Декрете Птаха-Татенена», сохранившемся в большом храме Рамсеса II в Абу-Симбеле. Птах-Татенен создает тело царя из электрума, его кости из меди и его плоть из железа, используя все свое искусство кузнеца и ювелира и рождая фараона, облик которого так же совершенен, как и облик солнечного бога: «Ра в теле его, который вышел из Ра, которого Птах-Татенен сотворил».
Птах осматривает произведение своих рук, которое он «породил» и как отец и как художник, так как в египетском языке глагол msi — «рождать» употреблялся и по отношению к рождению живого существа и по отношению к созданию памятника. Богом овладевает глубокая радость, исходящая из его сердца, а потому он берет Рамсеса на руки, как свое самое совершенное творение:
«Когда я вижу тебя — сердце мое ликует,
Принимаю я тебя в золотые объятья.
Объял я тебя прочностью, стабильностью и мощью,
Пропитал я тебя здоровьем и радостью сердца.
Наполнил я тебя счастьем, радостью,
Ликованием сердца, восхищением и весельем».
Таково подробное описание неисчислимого блага и эмоционального опьянения, которое дают объятия творца. На храмовых рельефах фараон также часто предстает вместе с «создателем формы» Птахом и «подательницей жизни» Хатхор, заключающими его в свои объятия, полные любви и благодати.
Жизненная сила творца, воплощенная в солнечной богине, как известно, имеет и другую сторону, яростную, неистовую и всемерно опасную. Согласно тексту папируса Бремнер-Ринд, Око приходит в негодование, обнаружив что в то время, когда оно странствовало по вселенной в поисках Шу и Тефнут, Ра-Атум опрометчиво заменил его оком ахет: «И тогда [богиня-Око] разъярилась против меня, вернувшись и обнаружив, что я поместил другую на место ее, заменив ее Великой (т.е. Оком Ахет)».
Чтобы умиротворить богиню, солнечный демиург помещает ее на свое чело, где она принимает форму кобры — божественного урея (iˁrt), «правящего всей землей». Лишь умиротворив богиню и воздав ей должное, Ра-Атум вновь способен продолжать творение и, поднявшись из глубин земли, творит змей, а затем бога земли Геба и богиню неба Нут, породивших все нескончаемое разнообразие жизни.
Эта легенда объясняет также, почему у солнечного бога есть два Ока, первое, ахет (ȝḫt), — зримое, мужское, воплощенное в солнечном диске, дающее свет (ȝḫw) всем живым и другое, скрытое, женское, воплощенное богиней, одновременно агрессивной и притягательной.
Образ солнечной богини — жизненной энергии, преломившись в призме «могущества земли» теологии Мемфиса, трансформировался в дающую надежду и защищающую умершего, подобно матери, Хатхор «владычицу южной сикоморы», богиню являющуюся меж ветвей почитаемого дерева.
Плоды растения богини давали белый сок, напоминающий молоко; он выступал также на листьях растения и назывался «молоком сикоморы» и использовался в ритуалах. На росписях в гробницах можно увидеть богиню дерева с жертвенной водой и пищей в руках, которая откликается на зов просящего и дает пропитание душам умерших, странствующим в загробный мир. Порой богиня вообще изображена в облике сикоморы с материнской грудью, из которой испивает молоко сам царь. Она — жизнь солнечного божества, текущая по сосудам земли, в дереве, в камне, в любой другой земной субстанции, созданной Птахом, которые приобретают благодаря Хатхор совершенство и жизненность облика. Без нее форма остается безжизненной и инертной, словно Шу и Тефнут, пребывающие в предвечных водах; без нее тело Ра, сотворенное Птахом, было бы неспособно излучать свет.
_______________________________
|
Метки: Птах Египет |
ОСИРИС, ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА |
Солкин В.В.
СТОЛПЫ НЕБЕС. СОКРОВЕННЫЙ ЕГИПЕТ
ТЕЛО ОСИРИСА И ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ
Символизм земли в египетском мировоззрении был связан и с понятием смерти, как завершением жизненного цикла, возвращением к матери, в ее воспроизводящее лоно, обеспечивающее цикличное возрождение жизненной энергии Ка. Глубины земли, воспринимавшиеся как царство Осириса, вернее, как субстанция, составляющая его плоть, ассоциировались с тьмой ночи, которая, тем не менее, была лишь этапом на пути к возрождению для умершего, который «Книга мертвых» упоминает «ночью выхода в жизнь». Сам Осирис — и есть тело земли, на котором существуют живые.
Тема таинств Осириса, одна из важнейших в египетском мировоззрении, никогда не принимала форму жесткой идеологемы и, наоборот, изменялась на протяжении веков, касаясь разных сторон человеческого существования. Если в «Текстах пирамид» царь, следуя образу Осириса, поднимается в звездные области северной части неба, где существуют «нерушимые звезды», то в Новом царстве — Осирис — это и само пространство Дуата, и северная часть неба и, наконец, сама земля, таинства которой в это время считались особенно значимыми.
Средне царство, с его процессом демократизации религии, ее обращения ко всему, происходящему на земле и в душе человека, изменило саму суть грандиозной божественной драмы, в которой отныне богопроявленность на земле заняла новое, очень значимое место. Образ Осириса, «слышащего зов» и близкого любому живущему, отныне занял важнейшее место под архаическим, неизведанным и недостижимым звездным небом. Царство Осириса стало проявленным в двух измерениях: в глубинах земли, куда «погружается» солнечное божество и, одновременно, в Дуате, по ту сторону неба, где солнечное божество совершает свой ночной путь. Срок земного существования, земные деяния и ответственность за них стала темой новой этической концепции, в которой психостасия¹ — загробный суд — заняла определяющее место. Смерть и посмертные таинства с этого времени все больше ассоциируются с землей, становясь неотъемлемой частью странствия солнечного божества к Осирису, лежащему в глубине земли в царстве мемфисского бога земли Сокара. Прославление бога, несущего свет во тьме, стало обязанностью любого просветленного умершего, включая усопших царей.
_________________________________
[1] ψυχοστασία (ψυχο-στασία) ἡ взвешивание душ
Это изменение представлений о пути царя через иной мир ярко отразилось и в заупокойной архитектуре: на смену пирамидам с их звездно-ориентированными галереями пришли гробницы фиванской Долины царей, уходящие порой на сотни метров вглубь скального массива Великой вершины Запада. Декорировка этих гробниц была посвящена трансформациям облика Ра во время продвижения его ладьи сквозь хтоническое пространство Осириса и разворачивалась по стенам коридоров и камер подобно бесконечному свитку папируса, содержащего тайное знание.
Осирис, «тот, кто становится землей», был залогом возрождения, примером того, как жизнь заново вышла из земли, погрузившись в нее в обличье смерти, подобно тому, как из недвижимого зерна, брошенного в землю, орошенную водами разлива, рождаются всходы, тянущиеся к Ра из тела Осириса и провозглашающие вечное торжество жизни. Как божество земли, скрывающей в себе таинство возвращения к жизни, Осирис был отождествлен с божествами Мемфиса, в частности, с хтоническим Птахом-Сокаром, хранителем внутренних областей земли, и Птахом-Татененом — мемфисским творцом вселенной.
Хтоническая природа Осириса упоминается во многих текстах; один из наиболее значимых — гимн, сохранившийся на остраконе в собрании Египетского музея в Каире, представляющий собой пылкое обращение к мумифицированному итифаллическому божеству, лежащему в песке, принимающему облик змея, освещенного лучами Ра, пересекающего подземные пещеры в глубинах царства Сокара:
Далее гимн прославляет Осириса как опору земли, руки которого достигают четырех небесных столбов-опор; его движения вызывают землетрясения, влага и воздух исходят из него:
Упоминание о дрожащем, т.е. ожившем Осирисе намекает на его возрождение и посмертную эрекцию, от которой Исида, как это показано, например, на рельефах храма Сети I в Абидосе, зачинает, приняв облик соколицы, своего сына Хора. Осирис, оплодотворяющий Исиду-птицу, нарушившую «покой утомленного», изображен лежащим в «обители Сокара». Исида, трепещущая богиня-птица, предстает здесь как носительница жизни, парящая на рубеже сотворенного и несотворенного пространств, где все, что должно воссуществовать, истекает из ее супруга. Из тела Осириса проистекает божественное семя, которое ликующая Исида должна выносить в своем чреве.
Только лишь посредством «могучей Исиды», защитницы своего брата-супруга, неустанно искавшей божественные останки, простертый мумифицированный бог способен проявить себя как начало, дарующее жизнь. В этом союзе Осириса и Исиды как нигде более жизнь и смерть представлены в нерасторжимом единстве, которым движима вся жизнь космоса.
Словно вторя изображению, гимн на остраконе из Каира говорит о «дыхании жизни» и божественной влаге, которые возвращаются во вселенную из пор кожи Осириса, когда тот вновь приходит в жизнь. По словам гимна — Осирис — это позвоночный столб всего Египта, основа, на которой создана вся египетская культура; на его позвоночнике построены дома и храмы, памятники и святыни, созданы все поля и сооружены гробницы, причем в таком количестве, что на теле бога более нет свободного места:
Все эти сооружения, разнообразные элементы цивилизации, возводимые по воле царей и простых египтян, были не только социально значимыми, но еще, что более важно отметить, сакрально значимыми объектами, которые воспринимались как необходимая жертва богу и, одновременно, украшения для его простертого тела, на поверхности которого все было подчинено Маат и не было пустого места для иного порядка или же его отсутствия.
Отождествление Осириса с богами Мемфиса основывалось и на этой роли божественной силы, несущей свет цивилизации, которую мы встречаем как в текстах осирического ритуала, так и в мемфисской теологии. Пребывание Осириса в теле земли, т.е. в царстве Птаха-Сокара, дает всему сущему стабильность, является глубиной тайной жизни, проявляющейся во всех аспектах материального мира египтян. Гимн говорит об огромном весе Египта, покоящегося на спине Осириса, для которого этот вес ничего не значит:
ПОЛНОЧНОЕ СИЯНИЕ
Важная роль в этом «земном» сне Осириса принадлежит Солнечному божеству. Изображения на стенах царских гробниц, иллюстрирующие тексты многочисленных книг о загробном мире, в целом, посвящены странствию Солнца через двенадцать часов ночи; главным эпизодом этого странствия становится посещение солнечным богом и его свитой покрытого мраком царства Сокара-Осириса.
Ра входит в это царство как Ба и на протяжении своего пути видит таинственный процесс трансформации земли и ее глубин в звездное пространство ночного неба. Глубины земли, таким образом, являются тем же самым, что и высоты неба, когда обе сферы являются вовлеченными в единый процесс существования и умирания, смерти и возрождения.
Перед Солнцем, в его ночной форме Иуф-Ра (jwf Rˁ), пространство земных глубин предстает полное телами, находящимися на различных стадиях умирания и нового рождения: тела обновляются, изменяются формы и облики, остается неизменной лишь сущность. Сам Иуф-Ра также подчиняется этому великому ночному закону трансформации, принимая облик яйца в навозном шарике скарабея, становясь личинкой, попадая в кокон и, наконец, перерождаясь в облике крылатого скарабея Хепри.
В четвертом часу ночи, согласно тексту книги «Амдуат», овноголовый Ра опускается в пустынное царство Ро-Сетау,² где пребывает Сокар «следуя тому же пути, что и тело Сокара, который на песке своем». Четвертый час ночи — это время перехода в самую темную ее часть, в состояние, противоположное зениту солнца. Солнечная ладья больше не плывет по потоку; ее приходится тащить волоком по песку в абсолютной тьме, которую преодолевают лишь языки пламени, вырывающиеся из пасти змей на носу и корме ладьи. Попавший в это глубокое пространство, близкое к истокам бытия, Иуф-Ра не может увидеть никого из тех, кто обитает в этом часу ночи и, словно умирающему, у которого на пороге смерти остается лишь слух, ему приходится ободрять обитающих во тьме словами:
Затем в пятом часу ночи наступает таинственный момент, когда нечто исходит от тела смерти, из овальной пещеры-яйца в самой глубине земли. В своих лучах Иуф-Ра видит сокологоловую фигуру Сокара, который с грохотом поднимается из змея, символизирующего землю и держит в руках огромные крылья, напоминающие о Хоре. Над таинственной пещерой, охраняя ее, находятся Исида и Нефтида. Таким образом, из того, что было погружено в смерть, рождается новая жизнь: это самый сокровенный момент пребывания жизни в смерти, когда Иуф-Ра освещает своими лучами «это яйцо, внутри которого слышен шум».
_________________________________
[2] r stȝw — Ро-Сетау (букв. «Уста протаскивания»), путь в загробный мир.
Во время ночного странствия Ра также видит судьбу мут (m[w]t) — «проклятых умерших», грехи которых не были искуплены и бесчисленное множество существ, поражающих своим внешним обликов, непознанных, ужасающих и таинственных. Здесь же, в глубинах пространства земли пребывают части сущностей всех покойных царей, некогда правивших Египтом. В ночи они ждут, когда солнечное божество озарит их своими лучами и они поднимутся из своих пещер в облике ах (ˁḫ) — просветленных духов, которые получают от Иуф-Ра жертвоприношения в шестом часу ночи:
В этом часу ночи происходило воссоединение Ра и Осириса, «завтрашнего дня» и «вчерашнего дня», Ба и божественного тела, через объятья, в единое Предвечное божество, воплощающее этим объединением таинство жизни в смерти и смерти в жизни. В процессе этого объединения Осирис являлся не как мертвое, лишенное движения тело, но как существо, в котором вновь и вновь возникает жизнь и в котором постоянно скрывается возможность нового возрождения. Именно Осирис является целью, к которой стремится Солнце в своем ночном странствии, в свою очередь, выступая в качестве Ба, обретшего свое тело, а следовательно — целостность и способность к новому творению, которое зиждется на временном воссоединении мертвого и живого. Кроме того, для тех, кто обитает во тьме, лучи Иуф-Ра, спускающегося в бездну — это могучий источник света, исцеления и спасения.
_______________________________
СТОЛПЫ НЕБЕС. СОКРОВЕННЫЙ ЕГИПЕТ
ТЕЛО ОСИРИСА И ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ
Символизм земли в египетском мировоззрении был связан и с понятием смерти, как завершением жизненного цикла, возвращением к матери, в ее воспроизводящее лоно, обеспечивающее цикличное возрождение жизненной энергии Ка. Глубины земли, воспринимавшиеся как царство Осириса, вернее, как субстанция, составляющая его плоть, ассоциировались с тьмой ночи, которая, тем не менее, была лишь этапом на пути к возрождению для умершего, который «Книга мертвых» упоминает «ночью выхода в жизнь». Сам Осирис — и есть тело земли, на котором существуют живые.
Я — Осирис, упал я на бок свой, чтобы боги могли существовать на мне.
(Тексты саркофагов)
Тема таинств Осириса, одна из важнейших в египетском мировоззрении, никогда не принимала форму жесткой идеологемы и, наоборот, изменялась на протяжении веков, касаясь разных сторон человеческого существования. Если в «Текстах пирамид» царь, следуя образу Осириса, поднимается в звездные области северной части неба, где существуют «нерушимые звезды», то в Новом царстве — Осирис — это и само пространство Дуата, и северная часть неба и, наконец, сама земля, таинства которой в это время считались особенно значимыми.
Средне царство, с его процессом демократизации религии, ее обращения ко всему, происходящему на земле и в душе человека, изменило саму суть грандиозной божественной драмы, в которой отныне богопроявленность на земле заняла новое, очень значимое место. Образ Осириса, «слышащего зов» и близкого любому живущему, отныне занял важнейшее место под архаическим, неизведанным и недостижимым звездным небом. Царство Осириса стало проявленным в двух измерениях: в глубинах земли, куда «погружается» солнечное божество и, одновременно, в Дуате, по ту сторону неба, где солнечное божество совершает свой ночной путь. Срок земного существования, земные деяния и ответственность за них стала темой новой этической концепции, в которой психостасия¹ — загробный суд — заняла определяющее место. Смерть и посмертные таинства с этого времени все больше ассоциируются с землей, становясь неотъемлемой частью странствия солнечного божества к Осирису, лежащему в глубине земли в царстве мемфисского бога земли Сокара. Прославление бога, несущего свет во тьме, стало обязанностью любого просветленного умершего, включая усопших царей.
_________________________________
[1] ψυχοστασία (ψυχο-στασία) ἡ взвешивание душ
Это изменение представлений о пути царя через иной мир ярко отразилось и в заупокойной архитектуре: на смену пирамидам с их звездно-ориентированными галереями пришли гробницы фиванской Долины царей, уходящие порой на сотни метров вглубь скального массива Великой вершины Запада. Декорировка этих гробниц была посвящена трансформациям облика Ра во время продвижения его ладьи сквозь хтоническое пространство Осириса и разворачивалась по стенам коридоров и камер подобно бесконечному свитку папируса, содержащего тайное знание.
Осирис, «тот, кто становится землей», был залогом возрождения, примером того, как жизнь заново вышла из земли, погрузившись в нее в обличье смерти, подобно тому, как из недвижимого зерна, брошенного в землю, орошенную водами разлива, рождаются всходы, тянущиеся к Ра из тела Осириса и провозглашающие вечное торжество жизни. Как божество земли, скрывающей в себе таинство возвращения к жизни, Осирис был отождествлен с божествами Мемфиса, в частности, с хтоническим Птахом-Сокаром, хранителем внутренних областей земли, и Птахом-Татененом — мемфисским творцом вселенной.
Хтоническая природа Осириса упоминается во многих текстах; один из наиболее значимых — гимн, сохранившийся на остраконе в собрании Египетского музея в Каире, представляющий собой пылкое обращение к мумифицированному итифаллическому божеству, лежащему в песке, принимающему облик змея, освещенного лучами Ра, пересекающего подземные пещеры в глубинах царства Сокара:
О, ты, простирающий руки свои,
Спящий на боку своем, лежащий в песке,
Владыка земли,
О, ты, в облике мумии с длинным фаллосом,
Змей, великий годами…
Ра-Хепри сияет на груди твоей,
Когда ты лежишь как Сокар,
Чтобы смог он рассеять
Мрак, что на тебе,
Чтобы мог он дать сияние света глазам твоим.
Далее гимн прославляет Осириса как опору земли, руки которого достигают четырех небесных столбов-опор; его движения вызывают землетрясения, влага и воздух исходят из него:
Земля лежит на руках твоих,
Углы ее — на тебе покоятся,
Так же, как и четыре столпа небес.
Когда дрожишь ты, земля содрогается…
[Нил] выходит
Из сладости рук твоих,
Извергаешь ты воздух,
Пребывающий в горле твоем…
Упоминание о дрожащем, т.е. ожившем Осирисе намекает на его возрождение и посмертную эрекцию, от которой Исида, как это показано, например, на рельефах храма Сети I в Абидосе, зачинает, приняв облик соколицы, своего сына Хора. Осирис, оплодотворяющий Исиду-птицу, нарушившую «покой утомленного», изображен лежащим в «обители Сокара». Исида, трепещущая богиня-птица, предстает здесь как носительница жизни, парящая на рубеже сотворенного и несотворенного пространств, где все, что должно воссуществовать, истекает из ее супруга. Из тела Осириса проистекает божественное семя, которое ликующая Исида должна выносить в своем чреве.
Только лишь посредством «могучей Исиды», защитницы своего брата-супруга, неустанно искавшей божественные останки, простертый мумифицированный бог способен проявить себя как начало, дарующее жизнь. В этом союзе Осириса и Исиды как нигде более жизнь и смерть представлены в нерасторжимом единстве, которым движима вся жизнь космоса.
Словно вторя изображению, гимн на остраконе из Каира говорит о «дыхании жизни» и божественной влаге, которые возвращаются во вселенную из пор кожи Осириса, когда тот вновь приходит в жизнь. По словам гимна — Осирис — это позвоночный столб всего Египта, основа, на которой создана вся египетская культура; на его позвоночнике построены дома и храмы, памятники и святыни, созданы все поля и сооружены гробницы, причем в таком количестве, что на теле бога более нет свободного места:
Если созидают каналы,
Если строят подворья и храмы,
Памятники возводят, поля пашут,
Гробницы копают, могилы роют, —
То лежат они на тебе,
Ибо ты — тот, кто сотворил это.
Они — на спине твоей,
Больше их, чем описать возможно,
Ибо нет на спине твоей места пустого.
Все эти сооружения, разнообразные элементы цивилизации, возводимые по воле царей и простых египтян, были не только социально значимыми, но еще, что более важно отметить, сакрально значимыми объектами, которые воспринимались как необходимая жертва богу и, одновременно, украшения для его простертого тела, на поверхности которого все было подчинено Маат и не было пустого места для иного порядка или же его отсутствия.
Отождествление Осириса с богами Мемфиса основывалось и на этой роли божественной силы, несущей свет цивилизации, которую мы встречаем как в текстах осирического ритуала, так и в мемфисской теологии. Пребывание Осириса в теле земли, т.е. в царстве Птаха-Сокара, дает всему сущему стабильность, является глубиной тайной жизни, проявляющейся во всех аспектах материального мира египтян. Гимн говорит об огромном весе Египта, покоящегося на спине Осириса, для которого этот вес ничего не значит:
И все это длится на спине твоей,
И не [скажешь ты]: «Я обременен».
ПОЛНОЧНОЕ СИЯНИЕ
Важная роль в этом «земном» сне Осириса принадлежит Солнечному божеству. Изображения на стенах царских гробниц, иллюстрирующие тексты многочисленных книг о загробном мире, в целом, посвящены странствию Солнца через двенадцать часов ночи; главным эпизодом этого странствия становится посещение солнечным богом и его свитой покрытого мраком царства Сокара-Осириса.
Ра входит в это царство как Ба и на протяжении своего пути видит таинственный процесс трансформации земли и ее глубин в звездное пространство ночного неба. Глубины земли, таким образом, являются тем же самым, что и высоты неба, когда обе сферы являются вовлеченными в единый процесс существования и умирания, смерти и возрождения.
Перед Солнцем, в его ночной форме Иуф-Ра (jwf Rˁ), пространство земных глубин предстает полное телами, находящимися на различных стадиях умирания и нового рождения: тела обновляются, изменяются формы и облики, остается неизменной лишь сущность. Сам Иуф-Ра также подчиняется этому великому ночному закону трансформации, принимая облик яйца в навозном шарике скарабея, становясь личинкой, попадая в кокон и, наконец, перерождаясь в облике крылатого скарабея Хепри.
В четвертом часу ночи, согласно тексту книги «Амдуат», овноголовый Ра опускается в пустынное царство Ро-Сетау,² где пребывает Сокар «следуя тому же пути, что и тело Сокара, который на песке своем». Четвертый час ночи — это время перехода в самую темную ее часть, в состояние, противоположное зениту солнца. Солнечная ладья больше не плывет по потоку; ее приходится тащить волоком по песку в абсолютной тьме, которую преодолевают лишь языки пламени, вырывающиеся из пасти змей на носу и корме ладьи. Попавший в это глубокое пространство, близкое к истокам бытия, Иуф-Ра не может увидеть никого из тех, кто обитает в этом часу ночи и, словно умирающему, у которого на пороге смерти остается лишь слух, ему приходится ободрять обитающих во тьме словами:
Он не видит их формы, он обращается к ним, когда находится рядом с ними, это его слова они слышат.
Затем в пятом часу ночи наступает таинственный момент, когда нечто исходит от тела смерти, из овальной пещеры-яйца в самой глубине земли. В своих лучах Иуф-Ра видит сокологоловую фигуру Сокара, который с грохотом поднимается из змея, символизирующего землю и держит в руках огромные крылья, напоминающие о Хоре. Над таинственной пещерой, охраняя ее, находятся Исида и Нефтида. Таким образом, из того, что было погружено в смерть, рождается новая жизнь: это самый сокровенный момент пребывания жизни в смерти, когда Иуф-Ра освещает своими лучами «это яйцо, внутри которого слышен шум».
_________________________________
[2] r stȝw — Ро-Сетау (букв. «Уста протаскивания»), путь в загробный мир.
Во время ночного странствия Ра также видит судьбу мут (m[w]t) — «проклятых умерших», грехи которых не были искуплены и бесчисленное множество существ, поражающих своим внешним обликов, непознанных, ужасающих и таинственных. Здесь же, в глубинах пространства земли пребывают части сущностей всех покойных царей, некогда правивших Египтом. В ночи они ждут, когда солнечное божество озарит их своими лучами и они поднимутся из своих пещер в облике ах (ˁḫ) — просветленных духов, которые получают от Иуф-Ра жертвоприношения в шестом часу ночи:
Стоят они подле пещер своих и слышат они голос бога этого ежедневно.
В этом часу ночи происходило воссоединение Ра и Осириса, «завтрашнего дня» и «вчерашнего дня», Ба и божественного тела, через объятья, в единое Предвечное божество, воплощающее этим объединением таинство жизни в смерти и смерти в жизни. В процессе этого объединения Осирис являлся не как мертвое, лишенное движения тело, но как существо, в котором вновь и вновь возникает жизнь и в котором постоянно скрывается возможность нового возрождения. Именно Осирис является целью, к которой стремится Солнце в своем ночном странствии, в свою очередь, выступая в качестве Ба, обретшего свое тело, а следовательно — целостность и способность к новому творению, которое зиждется на временном воссоединении мертвого и живого. Кроме того, для тех, кто обитает во тьме, лучи Иуф-Ра, спускающегося в бездну — это могучий источник света, исцеления и спасения.
_______________________________
|
Метки: Египет Осирис |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
ВРЕМЯ И БЕЗВРЕМЕНИЕ |
В.В. Солкин
ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ
В древнеегипетском мировоззрении все сущее истолковывалось как совокупность понятий нехех (nḥḥ — «вечность») и джет (ḏ.t — «вечность»), обозначающих всеохватный, абсолютный горизонт целостности. Как временная категория, нехех — постоянно повторяющееся действие — связано с образом солнечного бога Ра, ежесуточно совершающим циклическое вращение по зримым и недоступным областям вселенной, и порой интерпретируется как «завтрашний день». Повелителем категории джет, обозначающей «застывшую» вечность или иногда «вчерашний день», является Осирис, владыка иного мира.¹
__________________________
[1] «Что касается вчера, — это Осирис, что касается завтра, — это Pa (ir sf Wsir pw ir dwȝw Rˁ pw)» (ТВ 17, 9. – Tf. XXIII Naville).
Понятия нехех и джет никогда не представляли какой-либо альтернативы; они входили в число противоположностей, дополняющих друг друга. Более того, ни джет, ни нехех не могут быть реализованы в отрыве друг от друга; только вместе они создают реальность, которую человек называет временем и в которой сочетаются изменчивость и завершенность. «Время жизни Унаса — это нехех, предел его — джет», — гласит 274-е изречение «Текстов пирамид». Кроме того, эти понятия имеют еще один скрытый смысл: на первом погребальном ковчеге Тутанхамона нехех персонифицирован в виде мужчины, а джет — в виде женщины.
Объединение нехех и джет египетская традиция представляет как взаимосвязь души ба и тела. Время от времени эти элементы соединяются, как соединяется птица ба с телом умершего, обеспечивая тем самым существование личности как единого целого. Эта модель стала для египтян универсальной и распространялась на всю вселенную: каждую ночь Ра погружается в загробный мир Дуат и воссоединяется с Осирисом, образуя единое Великое божество, воссоздающее вселенную и продолжающее существование всего сущего в «вечности и бесконечности», — бесконечной смене ночи и дня, покоя и движения, мира загробного и пространства земного.
Согласно сохранившимся источником измерение времени было исключительно храмовой привилегией; для остальных египтян время было враждебным свидетельством того, что именно быстротечные годы и смерть стали итогом человеческих прегрешений, разрушивших пауут — время «Золотого века», когда боги существовали вместе с людьми, а мир еще не был разделен.
Обычно дневное время устанавливалось по солнечным часам, гномонам, состоявшим из двух деревянных брусков, соединенных вместе. На одном бруске, располагавшемся на плоскости в направлении с востока на запад, имелись деления; другой был поставлен своей широкой стороной перпендикулярно к первому в направлении с севера на юг. Тень, отбрасываемая вторым бруском, попадала на деления первого и таким образом фиксировала дневное время. Время это, как и ночное, было разделено на 12 частей от восхода до захода солнца.
Большой популярностью в храмах пользовались водяные часы, названные греками клепсидрой (κλεψύδρα). Они использовались для определения ночного времени. Известен изобретатель усовершенствованных водяных часов Аменмес, носивший титул «хранитель печати» при фараоне Аменхотепе I (XVI в. до н.э.). В Египетском музее в Каире хранится клепсидра из храма Амона в Карнаке, относящаяся ко времени правления Аменхотепа III (XIV в. до н.э.). Это алебастровый инкрустированный лазуритом конусовидный сосуд с небольшим отверстием внизу, расположенным рядом с небольшой фигуркой павиана — священного животного бога мудрости, времени и луны Тота. Клепсидра наполнялась с наступлением ночи, к утру вода вытекала полностью. На внутренней стороне часов вырезаны двенадцать колонок текста и метки для двенадцати «часов» ночи. При нанесении меток учитывалось сезонное изменение продолжительности ночи. Внешняя сторона часов разделена на три регистра. Аменхотеп III изображен поклоняющимся Ра, Тоту, Птаху и богам двенадцати месяцев года. Определенная категория жрецов, носившая название унуит, производное от унут — час, должна была следить за часами; эти жрецы должны были сменять друг друга каждый час и, таким образом, непрерывно осуществлять свою божественную службу.
Протяженность человеческой жизни, или как ее называли сами египтяне ахау, разделялась на две неизмеримые и несравнимые части: жизнь земная и жизнь вечная. Жизнь земная, состоящая из часов, дней, месяцев и лет была в Египте недолгой. Средняя продолжительность жизни древнего обитателя долины Нила — тридцать лет, срок жизни одного поколения; рубеж, переход через который означал для египтянина начало качественно нового этапа существования, рубеж, который фараон отмечал празднованием юбилейной церемонии Сед, символические обозначения которой часто держит в руках на изображениях Хех (Ḥḥ) — бог миллионов лет.
дней, месяцев и лет была в Египте недолгой. Средняя продолжительность жизни древнего обитателя долины Нила — тридцать лет, срок жизни одного поколения; рубеж, переход через который означал для египтянина начало качественно нового этапа существования, рубеж, который фараон отмечал празднованием юбилейной церемонии Сед, символические обозначения которой часто держит в руках на изображениях Хех (Ḥḥ) — бог миллионов лет.
Исторические хроники, тем не менее, гласят, что очень многие цари и простые египтяне не только успешно миновали рубеж тридцатилетия, но и доживали до весьма преклонных лет. К примеру, Рамсес II скончался на семьдесят шестом году своего правления, пережив 12 собственных сыновей, а завершающий VI династию Пепи II, согласно античным авторам, правил страной около ста лет, что, впрочем, нельзя утверждать с полной уверенностью. Некоторые египетские чиновники на склоне лет продолжали исполнять повеления своего царя; так, некий капитан корабля Нечерухотеп утверждал в своей гробничной надписи, что руководил экспедицией за алебастром в Хатнуб в возрасте семидесяти трех лет. Бакенхонсу, верховный жрец Амона-Ра при Рамсесе II, совершил головокружительную карьеру и продолжал здравствовать в свои 85 лет. Проживший 86 лет, другой жрец Амона, Небнечеру, хвалился, что был все эти годы здоров и неутомим, благочестиво советуя желающему прожить столько же: «если хочешь жизнь длинную, подобную моей, моли о том богов». Мудрец Аменхотеп сын Хапу, после смерти обожествленный, в надписи на своей статуе утверждал, что достиг восьмидесяти лет в милости фараона Аменхотепа III и желал себе жизненный срок в сто десять лет. Этой цифре египтяне придавали особое значение, считая ее идеальным сроком человеческой жизни на земле.
В «Текстах саркофагов» говорится, что каждому человеку ведом идеальный срок существования в сто десять лет, из которых десять избавлены от ошибок, преступлений и грехов и являются даром богов тому, кто, будучи раньше глупцом, смог стать мудрым и просветленным. Ахау не заканчивается с кончиной человека, жизнь продолжается и после смерти, в мире ином.
_______________________________
ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ
В древнеегипетском мировоззрении все сущее истолковывалось как совокупность понятий нехех (nḥḥ — «вечность») и джет (ḏ.t — «вечность»), обозначающих всеохватный, абсолютный горизонт целостности. Как временная категория, нехех — постоянно повторяющееся действие — связано с образом солнечного бога Ра, ежесуточно совершающим циклическое вращение по зримым и недоступным областям вселенной, и порой интерпретируется как «завтрашний день». Повелителем категории джет, обозначающей «застывшую» вечность или иногда «вчерашний день», является Осирис, владыка иного мира.¹
__________________________
[1] «Что касается вчера, — это Осирис, что касается завтра, — это Pa (ir sf Wsir pw ir dwȝw Rˁ pw)» (ТВ 17, 9. – Tf. XXIII Naville).
Понятия нехех и джет никогда не представляли какой-либо альтернативы; они входили в число противоположностей, дополняющих друг друга. Более того, ни джет, ни нехех не могут быть реализованы в отрыве друг от друга; только вместе они создают реальность, которую человек называет временем и в которой сочетаются изменчивость и завершенность. «Время жизни Унаса — это нехех, предел его — джет», — гласит 274-е изречение «Текстов пирамид». Кроме того, эти понятия имеют еще один скрытый смысл: на первом погребальном ковчеге Тутанхамона нехех персонифицирован в виде мужчины, а джет — в виде женщины.
Объединение нехех и джет египетская традиция представляет как взаимосвязь души ба и тела. Время от времени эти элементы соединяются, как соединяется птица ба с телом умершего, обеспечивая тем самым существование личности как единого целого. Эта модель стала для египтян универсальной и распространялась на всю вселенную: каждую ночь Ра погружается в загробный мир Дуат и воссоединяется с Осирисом, образуя единое Великое божество, воссоздающее вселенную и продолжающее существование всего сущего в «вечности и бесконечности», — бесконечной смене ночи и дня, покоя и движения, мира загробного и пространства земного.
Согласно сохранившимся источником измерение времени было исключительно храмовой привилегией; для остальных египтян время было враждебным свидетельством того, что именно быстротечные годы и смерть стали итогом человеческих прегрешений, разрушивших пауут — время «Золотого века», когда боги существовали вместе с людьми, а мир еще не был разделен.
Обычно дневное время устанавливалось по солнечным часам, гномонам, состоявшим из двух деревянных брусков, соединенных вместе. На одном бруске, располагавшемся на плоскости в направлении с востока на запад, имелись деления; другой был поставлен своей широкой стороной перпендикулярно к первому в направлении с севера на юг. Тень, отбрасываемая вторым бруском, попадала на деления первого и таким образом фиксировала дневное время. Время это, как и ночное, было разделено на 12 частей от восхода до захода солнца.
Большой популярностью в храмах пользовались водяные часы, названные греками клепсидрой (κλεψύδρα). Они использовались для определения ночного времени. Известен изобретатель усовершенствованных водяных часов Аменмес, носивший титул «хранитель печати» при фараоне Аменхотепе I (XVI в. до н.э.). В Египетском музее в Каире хранится клепсидра из храма Амона в Карнаке, относящаяся ко времени правления Аменхотепа III (XIV в. до н.э.). Это алебастровый инкрустированный лазуритом конусовидный сосуд с небольшим отверстием внизу, расположенным рядом с небольшой фигуркой павиана — священного животного бога мудрости, времени и луны Тота. Клепсидра наполнялась с наступлением ночи, к утру вода вытекала полностью. На внутренней стороне часов вырезаны двенадцать колонок текста и метки для двенадцати «часов» ночи. При нанесении меток учитывалось сезонное изменение продолжительности ночи. Внешняя сторона часов разделена на три регистра. Аменхотеп III изображен поклоняющимся Ра, Тоту, Птаху и богам двенадцати месяцев года. Определенная категория жрецов, носившая название унуит, производное от унут — час, должна была следить за часами; эти жрецы должны были сменять друг друга каждый час и, таким образом, непрерывно осуществлять свою божественную службу.
Протяженность человеческой жизни, или как ее называли сами египтяне ахау, разделялась на две неизмеримые и несравнимые части: жизнь земная и жизнь вечная. Жизнь земная, состоящая из часов,
 дней, месяцев и лет была в Египте недолгой. Средняя продолжительность жизни древнего обитателя долины Нила — тридцать лет, срок жизни одного поколения; рубеж, переход через который означал для египтянина начало качественно нового этапа существования, рубеж, который фараон отмечал празднованием юбилейной церемонии Сед, символические обозначения которой часто держит в руках на изображениях Хех (Ḥḥ) — бог миллионов лет.
дней, месяцев и лет была в Египте недолгой. Средняя продолжительность жизни древнего обитателя долины Нила — тридцать лет, срок жизни одного поколения; рубеж, переход через который означал для египтянина начало качественно нового этапа существования, рубеж, который фараон отмечал празднованием юбилейной церемонии Сед, символические обозначения которой часто держит в руках на изображениях Хех (Ḥḥ) — бог миллионов лет. Исторические хроники, тем не менее, гласят, что очень многие цари и простые египтяне не только успешно миновали рубеж тридцатилетия, но и доживали до весьма преклонных лет. К примеру, Рамсес II скончался на семьдесят шестом году своего правления, пережив 12 собственных сыновей, а завершающий VI династию Пепи II, согласно античным авторам, правил страной около ста лет, что, впрочем, нельзя утверждать с полной уверенностью. Некоторые египетские чиновники на склоне лет продолжали исполнять повеления своего царя; так, некий капитан корабля Нечерухотеп утверждал в своей гробничной надписи, что руководил экспедицией за алебастром в Хатнуб в возрасте семидесяти трех лет. Бакенхонсу, верховный жрец Амона-Ра при Рамсесе II, совершил головокружительную карьеру и продолжал здравствовать в свои 85 лет. Проживший 86 лет, другой жрец Амона, Небнечеру, хвалился, что был все эти годы здоров и неутомим, благочестиво советуя желающему прожить столько же: «если хочешь жизнь длинную, подобную моей, моли о том богов». Мудрец Аменхотеп сын Хапу, после смерти обожествленный, в надписи на своей статуе утверждал, что достиг восьмидесяти лет в милости фараона Аменхотепа III и желал себе жизненный срок в сто десять лет. Этой цифре египтяне придавали особое значение, считая ее идеальным сроком человеческой жизни на земле.
В «Текстах саркофагов» говорится, что каждому человеку ведом идеальный срок существования в сто десять лет, из которых десять избавлены от ошибок, преступлений и грехов и являются даром богов тому, кто, будучи раньше глупцом, смог стать мудрым и просветленным. Ахау не заканчивается с кончиной человека, жизнь продолжается и после смерти, в мире ином.
_______________________________
|
Метки: Египет |
ПОГРЕБЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ |
В.В. Солкин
ПОГРЕБЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
Размышлениям о смерти посвящено огромное количество текстов и изображений, которые являлись частями грандиозной египетской концепции умирания и возрождения. Египетская культура говорила о феномене смерти несколько тысячелетий, начиная с «Текстов пирамид», которые прочили фараону восхождение по лестнице на небеса, и вплоть до греко-римского времени, когда в гробнице мудреца Петосириса, жреца Тота в Шмуну, тема перехода в другое пространство прозвучала как предостережение о неизбежном: «нет взятки для смерти». Спасением от смерти, как бы не парадоксально это прозвучало, было правильное погребение, выполненное согласно всем требованием многовекового ритуала; он уподоблял умершего божеству и гарантировал новую, вечную жизнь.
Форма и смысловое наполнение заупокойного ритуала неоднократно изменялись на протяжении тысячелетий египетской истории; тем не менее, на протяжении всего этого огромного отрезка времени речь шла об одних и тех же базовых составляющих человеческой сущности и божественном пространстве, в которое они инкорпорировались посредством ритуала.
Огромную роль в процессе изучения того «образцового» для египтян пути, по которому уходил царь в мир иной, сыграла находка гробницы Тутанхамона. Дважды потревоженное грабителями захоронение юного фараона дало возможность понять хотя бы в общих чертах схему, по которой проходило царское погребение, прикоснуться к произведениям искусства, служившими инструментами для великого ритуала перехода, к которому с таким уважением и вниманием относились египтяне.
Все, что было непосредственно связанно с личностью царя, было намеренно удалено из гробницы, как преходящее. Его земная жизнь была полностью заменена предстоянием перед вечностью, трансформацией в новое состояние существования через прохождение ритуалов смерти, обретением божественности через прохождение сквозь состояния божеств иного мира и, наконец, новым рождением в облике светоносного и действенного духа Ах (ȝḫ), спутника Солнечного божества на его Ладье Миллионов лет.
Отсутствие исторических документов в гробнице, так сильно разочаровавшее Картера, было намеренным актом, направленным на обеспечение благого посмертного состояния царя. Личность Тутанхамона была забыта; остался лишь Хор Небхепрура, который должен был в итоге воплотиться в Осирисе и возродиться как новое Солнце.
ГАЛЕРЕИ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ
Памятники из гробницы Тутанхамона, на систематическую перевозку которых в Египетский музей в Каир потребовалось шесть лет, помогают хотя бы отчасти представить то великолепие, которое некогда окружало похороны величайших фараонов Нового царства, по сравнению с которыми гробница, ставшая самой знаменитой в Долине царей, была лишь отблеском истинного величия и роскоши. Уходящие в глубь скал грандиозные галереи, покрытые расписанными рельефами, погружают зрителя в особый, нечеловеческий, мир сотворения и обновления сил вселенной. Забыв о монументальности пирамид прошлых эпох, фараоны придавали отныне куда большее значение внутреннему содержанию и отделке гробниц, расположенных в самой отдаленной долине фиванского некрополя.
На смену «Текстам пирамид» и «Текстам саркофагов» пришли богато иллюстрированные книги о запредельном мире, покрывающие семь или девять коридоров протяженных царских гробниц, непревзойденным шедевром среди которых стала усыпальница Сети I. В их число входили сцены «Ритуала Отверзания уст и очей», астрономические тексты на потолках погребальной камеры, многочисленные изображения божеств и, порой, изображения погребального инвентаря, который некогда находился в соответствующем помещении.
Первые два коридора, обыкновенно, украшал текст «Литаний Ра», отождествлявших царя с Солнцем; далее на все пространство гробницы простирались «Амдуат» и «Книга врат», в которых фараон был вовлечен в полное опасностей ночное странствие солнечной ладьи, вместе с божествами которой он побеждал силы хаоса и получал возрождение в предвечных водах океана Нуна.
На задней стене первого зала гробницы, потолок который поддерживают столбы, высеченные с соблюдением классической для Долины царей пропорции в 5 локтей, царь изображен вместе с Хором, который ведет его к Осирису, восседающему на престоле, как к цели всей грядущей череды царских отождествлений. Третье божество, которое принимает царя в свои объятья на изображениях в нижней части гробницы, — это Хатхор, представляющая собой саму суть принципа возрождения. Среди бусин сетки, которая написана поверх платья богини особе место занимают имена царя и знаки многих празднеств Сед, которые ему обещает милостивая богиня, «Владычица Жизни», предвечная мать и супруга царя.
Гробница Сети I еще не знает включения в декорировку текста 125 главы «Книги мертвых», предназначенной все еще лишь для частных лиц; лишь со времени Рамсеса II в гробницу стали помещать текстуальное свидетельство того, что отныне царь должен пройти загробный суд богов, которым раньше он был равен. При Мернептахе в царской гробнице появятся новые тексты о загробном мире — «Книга Пещер», «Книга Земли» и «Книга небес», описывающие все новые и новые детали потустороннего странствия Солнца. Последняя поистине царская гробница Долины была создана для Рамсеса VI; после нее начался недолгий процесс деградации, в результате которого великий царский некрополь был забыт, а фараоны поздних династий нашли себе места нового упокоения в стенах храмов городов Дельты — Таниса, Саиса и Мендеса.
Строительство царской гробницы начиналось сразу же после восшествие нового фараона на престол; на реализацию амбициозного плана порой не хватало времени и отдельные помещения царского «дома вечности» оставались незавершенными. Процесс подготовки к смерти и перерождению включал в себя не только разработку архитектурного плана, сооружение и декорировку гробницы, но и подготовку гигантского погребального инвентаря и, в центре всех дел, — царского саркофага. Завершением этой гигантской работы были оттиски печатей на штукатурке, которая покрывала кладку, запечатывавшую вход в подземный мир еще одного воплощения Хора, ставшего Осирисом.
Мумия царя, конечно же, была главной святыней погребения. Со времени III династии ее помещали в каменный саркофаг, внутри которого находились несколько деревянных саркофагов. В Новом царстве саркофаг чаще всего делали из «солнечного» кварцита или гранита, еще раз подчеркивая отождествления фараона с Ра-Атумом; бывали и алебастровые саркофаги, богато инкрустированные лазуритовым стеклом.
Первыми «спутниками» царя, изображенными на стенках его саркофага были Анубис и сыновья Хора, которые позже были заменены фрагментами из «Амдуат», других текстов о загробном мире, отдельными фрагментами «Книги мертвых». Над саркофагом покоились деревянные позолоченные ковчеги, покрытые самыми значимыми ритуальными сценами, иллюстрирующими этапы трансформации умершего царя. Там, в глубине ковчегов и саркофагов лежала царская мумия, повторяющая облик мумии убитого Осириса, выполненная лучшими бальзамировщиками страны.
Внутренности, изъятые при бальзамировании, помещались в сосуды-канопы, помещенные в ковчег, покровительницами которого со времени Аменхотепа II изображаются четыре богини-защитницы мертвых: Исида, Нефтида, Нейт и Селкет, тогда как в облике защитников самих сосудов представали четыре сына Хора.
Предметы инвентаря, которым был снабжен царь, исчислялись десятками тысяч; это были лампы, чтобы разогнать тьму и оружие против его врагов, пища и масла для его Ка и одежды для его тела, сундуки с его украшениями и ладьи для посмертного плавания по предвечным водам, скипетры власти и парадные колесницы. Здесь не было только царских корон, которые передавались новому земному воплощению Хора.
В гробнице Тутанхамона были найдены многочисленные деревянные, позолоченные изображения богов и священных животных продолжавшие божественные темы декорировки стен гробницы и защищавшие гробницу от злых чар, которые могли бы помешать царю пройти весь свой путь до конца. Сотни статуэток ответчиков-ушебти, многие из которых были выполнены в облике забальзамированного царя-Осириса, прижимающего руками к своей груди своего крылатого Ба, должны были оберечь его от любой работы загробного мира, будь то пахота на полях богов или расчистка каналов, по которым струились воды Нуна.
Изречения из «Книги мертвых» гарантировали действенную силу многочисленных амулетов, выполненных из драгоценных материалов; многие из них помещались между пеленами мумии, чтобы обеспечить их тесный контакт с телом умершего. Наиболее популярным среди них были Око Хора Уджат (wḏȝ.t), которое, по легенде, было повреждено, но исцелено в знак того, что умерший вновь обретет былую целостность и скарабей, могущественный символ созидательной силы творца, новой жизни и возрождения, сочетающий в себе принципы божественности Осириса и Ра, сливающихся в грандиозном облике Предвечного божества — основы существования вселенной.
Поразительный памятник из гробницы Тутанхамона изображает ту главную божественную сущность, для которой сооружалась гробница — тело царя в процессе трансформации. Это статуэтка, вырезанная из кедрового дерева, которая была найдена в т.н. «Сокровенной сокровищнице» гробницы Тутанхамона внутри деревянного саркофага, тщательно завернутого в полотно. На голову царя, тело которого «запеленуто» и подготовлено к погребению, надет платок-немес, увенчанный уреем. Скипетры, находившиеся в руках царя, не сохранились. С двух сторон от мумии сидят птицы, закрывающие забальзамированное тело своими крыльями в знак защиты. Сокол, сидящий справа от тела, символизирует собой возрождение, которое обретет царь после странствия через загробный мир, так как сокол — это Хор, сын и преемник Осириса, добившийся победы над смертью для своего отца, отдав ему свое Око. Слева сидит птица с человеческой головой, Ба, «душа» царя, вышедшая из тела и готовая к великому странствию в царство Осириса. Мумия царя лежит на ложе, украшенном львиными головами, которое очень похоже на реальные ложа, найденные в гробнице. Львиные головы у изголовья ложа символизируют собой Рути (rwty, «два льва»), — божественную пару львов, в образе которых воплощены божества Шу и Тефнут, хранители горизонтов, в которых, подобно Солнцу, вновь и вновь будет заходить, а потом возрождаться усопший царь.
Четыре иероглифические надписи, имитирующие ленты погребальных пелен, вырезаны на теле царя; в них призываются небесные сыновья Хора, несущие защиту умершему от четырех сторон света, а также и более значимые божества — Осирис, Хор и Анубис: «Почитаемый Имсети, Хепи, Анубисом в месте бальзамирования, Анубису, Дуамутефу, Кебехсенуфу, Хору и Осирису».
Надпись, идущая от скрещенных рук «мумии» к ее ногам, призывает Нут, предвечную богиню неба, защитить умершего, подобно тому, как она защищает своего сына Осириса, закрыть его своим небесным телом, покрытым звездами: «Слова, сказанные царем Небхепрура правогласным: «Снизойди, матерь Нут, склонись надо мной и преврати меня в одну из бессмертных звезд, которые все в тебе!»
Еще одна иероглифическая надпись, опоясывающая ложе, упоминает вельможу Майя, одну из самых интересных и значимых личностей при дворе Тутанхамона: «Сделано слугой, облагодетельствованным Его Величеством, тем, кто ищет хорошее и находит прекрасное, и делает это старательно для своего повелителя, который творит чудесные дела в обители великолепия, управителем строительных работ по сооружению обители вечности, царским писцом, хранителем сокровищницы Майя»; «сделано слугой, облагодетельствованным своим повелителем, который добывает превосходные вещи в обители вечности, управителем строительных работ на Западе, возлюбленным своим владыкой, совершающим все по слову его, не допускающим ничего ему неугодного, тем, чье лицо блаженно, когда он это делает с любящим сердцем, как вещь, угодную для его повелителя»; «Царский писец, возлюбленный своим повелителем, хранитель сокровищницы Майя».
Этот знаменитый вельможа и выдающийся архитектор, сын врача Ауи и «госпожи дома» Урет, который после смерти Тутанхамона, уже при Хоремхебе, возвысится до «носителя опахала справа от царя» и «главы празднества Амона в Карнаке», был донатором статуэтки, пожертвовавшим ее в память о своем рано умершем царе, для которого он готовил погребение.
«ЗОЛОТОЙ ПОКОЙ»
Гробница Тутанхамона — одна из самых скромных в Долине царей с точки зрения архитектуры и декорировки. Помещения гробницы были грубо вырублены в скале и лишь погребальная камера была расписана. На ее стенах изображено царское погребение и трансформация царя в облике Осириса. Путь царя начинается на восточной стене: вельможи двора тянут на салазках солнечную ладью-катафалк с мумией царя к гробнице; на носу и корме ладьи стоят джерит — статуэтки жриц, воплощающих собой Исиду и Нефтиду, оплакивающих нового Осириса, а также грозный охранник — сфинкс Туту. На головах вельмож — траурные повязки, ближе всего к ладье изображены, судя по одеяниям, два везира и военачальник, возможно, Хоремхеб. Над процессией сохранились девять столбцов надписи: «Слова, что говорят знатные из царского дома, те что идут в процессии с Осирисом, царем, Владыкой Обеих земель Небхепрура к Западу. Возглашают они: «О, Небхепрура, да придешь ты в мире, о бог — защита земли!»
Процессия «движется» по направлению к северной стене. Северная стена разделена на три сцены: справа церемонию «Отверзания уст и очей» для Осириса Тутанхамона совершает его преемник, престарелый «божественный отец» Эйе, изображенный здесь как молодой человек, весьма походящий внешне на своего предшественника; в центре Тутанхамона, одетого в земное одеяние, как «Владыку Обеих земель Небхепрура, которому дана жизнь в вечности и бесконечности» приветствует богиня Нут, его небесная мать; наконец, слева изображено «Объятие горизонта» — Тутанхамон в сопровождении своего Ка обнимает Осириса, «первого среди западных». На южной стене Хатхор Иментет, владычица тайн возрождения, символ Запада, протягивает символ жизни анх царю Тутанхамону, за которым изображен Анубис. На голове царя белая повязка афнет, ассоциирующаяся с погребением. Наконец итог пути царя изображен на западной стене: фрагмент книги «Амдуат» с солнечной ладьей, в центре которой скарабей Хепри, восходящее на восточном горизонте Солнце, почитаемый двумя образами Осириса, занимает верхнюю часть стены; под ним — двенадцать священных павианов, бау Востока, рядом с которыми выписаны заклинания, призванные защитить царя.
В стенах погребальной камеры, за исключением восточной, где был проход в другое помещение гробницы, были обнаружены небольшие ниши, предназначавшиеся для магических фигурок, которые должны были сориентировать погребальную камеру по сторонам света, включить ее в пространство ритуала и, одновременно, защитить ее от любого зла. Описание этих фигур есть в 151а главе «Книги мертвых». На виньетке к этой главе Анубис склоняется к мумии, лежащей на погребальном ложе, в ногах которого — Исида, а в изголовье — Нефтида. К западу от них находится столб джед, символизирующий стихию земли, к северу — фигура «тень Осириса», символизирующая воздух, к югу — факел, частица стихии огня и к востоку — фигура Анубиса, лежащего на вратах иного мира и сосуд с водой, дарующей очищение. Фигурки помещались в стены камеры в процессе особого ритуала, благодаря которому погребальная камера становилась не просто микрокосмом, но совершенно особенным защищенным пространством, в центре которого пребывал умерший, отождествленный с Осирисом. Эти фигурки всего лишь один раз были заменены изображениями на стелах, также размещенными по стенам погребальной камеры и помимо изображений содержащими наиболее полные заклинания — фрагменты ритуала по подготовке погребальной камеры к принятию подобия Осириса. К несчастью, эти стелы, происходящие из мемфисской гробницы военачальника Каса, современника Сети I, были изъяты из своего контекста и в настоящее время хранятся в собрании Музея средиземноморской археологии в Марселе:
АНУБИС И ВЕЛИКИЕ СИМВОЛЫ
Между стенами погребальной камеры гробницы Тутанхамона и внешним огромным ковчегом были найдены многочисленные ритуальные предметы и амулеты, которые должны были помочь умершему царю преодолеть смерть и опасности загробного мира: магические весла (дающие невидимость от врагов), сосуды хес (приносящие очищение), стилизованные перья страуса, посвященные богине Маат, фаянсовые сосуды, содержащие натрон и смолу, священный гусь Амона, выполненный из дерева и покрытый смолой, стоявший у восточный стены, должен был разогнать тьму своим криком, словно в момент сотворения мира, алебастровая лампа, найденная в юго-восточном углу, свет которой должен был разогнать тьму загробного мира.
В северо-западном и юго-западном углах погребальной камеры находились имиут — эмблемы Анубиса. Они подвешены к вертикальным лотосообразным шестам, установленным в алебастровых сосудах, покоящихся на циновках из тростника. Это эмблемы мира, куда погружается на ночь солнце и где почиют умершие. Они должны были помочь покойному пройти через владения загробного мира. Вместе с этими эмблемами обнаружены четыре позолоченных деревянных предмета, которые, вероятно, символизируют свернутые погребальные покровы. А.Гардинер указывает, что в иероглифическом письме изображение этого предмета обозначало «пробуждать». Возможно, символы имели отношение к представлениям о пробуждении усопших».
сосудах, покоящихся на циновках из тростника. Это эмблемы мира, куда погружается на ночь солнце и где почиют умершие. Они должны были помочь покойному пройти через владения загробного мира. Вместе с этими эмблемами обнаружены четыре позолоченных деревянных предмета, которые, вероятно, символизируют свернутые погребальные покровы. А.Гардинер указывает, что в иероглифическом письме изображение этого предмета обозначало «пробуждать». Возможно, символы имели отношение к представлениям о пробуждении усопших».
Мы очень мало знаем о символическом значении этих эмблем; как иногда пишут, «их куда легче описать, нежели объяснить». Каждая эмблема состоит из высокого стержня, завершающегося бутоном лотоса. Со стержня, прикрепленная к нему длинным хвостом, выполненным из бронзы и заканчивающимся распустившимся цветком папируса, свисает шкура обезглавленного животного. Символическая шкура выполнена из дерева и покрыта золотом. Каждый стержень в свою очередь укреплен в алебастровой основе, напоминающей своей формой сосуд, на которой имеется надпись:
Древнейшие известные аналоги подобной эмблемы датируются 1950г. до н.э. и состоят из настоящей шкуры животного, набитой льняным полотном; впрочем, первые упоминания титула «имиут» встречаются еще во время правления IV династии. Эмблемы Имиут издревле были связаны с заупокойным ритуалом, почитанием умерших предков; их изображения часто встречаются в заупокойных храмах фараонов Нового царства. С символической точки зрения, опираясь на тексты папируса Жюмильяк , хранящегося в Лувре, можно сказать, что эта эмблема — кожа, оболочка тленного тела, опустошенная смертью на этапе завершения посмертных трансформаций сущности умершего, по словам К.Дерош-Ноблекур, подобие хориона, — наружной зародышевой оболочки зародыша. Эта оболочка-шкура, по сути, принадлежит самому Анубису, и именно в ней некогда было собрано воедино тело Осириса; Солнце, обернутое в нее (а также и каждый умерший) обретает возрождение. Этот смысл заложен и в самом титуле бога «имиут» — «тот, кто завернут (в кожу)».
Эмблема Анубиса была на египетских изображениях непременным спутником Осириса, а также присутствует почти во всех царских заупокойных храмах, гарантируя защиту умершему царю во время его посмертных трансформаций на пути к Осирису, во время которых, наряду с Анубисом, его покровителями становятся Птах и Сокар. Представлявшийся в облике черной собаки или шакала, лежащего на холме некрополя, Анубис был проводником умершего через пространство иного мира. Священные животные Анубиса, обитающие среди могил были, по представлениям египтян, существами, обитавшими на границе пространств, существами ночи, которые исчезают на заре, увидев рождающееся солнце, и вновь появляются на закате, чтобы проводить светило по путям Запада.
В облике Анубиса, наконец, чтобы преодолеть смерть, воплощается и сам умерший на последних этапах своей трансформации. На кладке, которой был закрыт проход в одну из камер гробницы Тутанхамона, которая, по сути, представляет собой искусственную «пещеру» для трансформации его сущности, Алан Гардинер прочел надпись, которая позже была разрушена: «Небхепрура-Анубис торжествующий».
Наконец, сразу же за входом в самую отдаленную, восточную, камеру гробницы, т.н. «Сокровенную сокровищницу», находилось, пожалуй, самое поразительное изображение Анубиса в египетском искусстве. Вход в сокровищницу, в отличие от других дверных проходов, не был ни заложен камнями, ни запечатан. Напротив двери, загораживая вход в сокровищницу, на вызолоченном ковчеге, установленном на носилках с длинными ручками, покоилось черное изваяние бога Анубиса, закутанное в погребальные покровы. На полу, сразу же за порогом, перед постаментом Анубиса стоял маленький тростниковый факел на глиняной подставке в форме кирпича с магической надписью: «Да сгинет враг Осириса, в какой бы форме он ни явился».
Анубис покоится на съемной крышке деревянного позолоченного ларца. Увенчанный характерным египетским карнизом, ларец, имитирующий своей формой врата загробного мира, покрыт изображениями символов «джед» и «тет» (узел Исиды). Внутри ларца были найдены фаянсовые амулеты: четыре изображения коровьей ноги «ухем», имеющие значение глагола «повторять», два изображения мумии, изображение сокологолового Хора, две статуэтки ибиса, уадж — стебель тростника папируса, символизирующий вечную молодость, восковая «птица половодья» Бах, несколько кусков смолы, а также восемь ожерелий и два алебастровых сосуда. Эти предметы, изначально расположенные в специально предназначенных для них отделениях, были перемешаны, к сожалению, древними грабителями. Все эти амулеты, бесспорно, были связаны с ритуалами трансформации в Анубиса, призванными принести возрождение (ухем месут) душе царя.
Восхитительная статуя божества из гробницы Тутанхамона, скорее всего, некогда следовала в царской погребальной процессии, а затем была помещена в одно из самых значимых помещений гробницы, где находились канопы с внутренностями царя, стражем и охранителем которых, таким образом, выступал Анубис. В надписях, что покрывают ларец, Анубис восхваляется в двух своих ипостасях — как Имиут, сын Осириса, отдавший умершему отцу свою кожу, необходимую для его возрождения, и как Хентисехнечер — глава божественного навеса, расположенного при входе в гробницу, под которым совершалась церемония «Отверзания уст и очей», дающая возможность умершему видеть, ощущать, вкушать приношения и передвигаться, побеждая смерть.
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОВЧЕГИ И «КНИГА СВЕТА»
Четыре погребальных ковчега, сооруженные один в другом, над каменным саркофагом Тутанхамона, выполнены из дерева и обиты золотом. Эти памятники уникальны — все остальные ковчеги такого рода, которыми, бесспорно, снабжались в последний путь цари XVIII династии, были уничтожены грабителями еще в древности. Покрытые иероглифическими текстами и изображениями снаружи и внутри, ковчеги были важной частью религиозно-магического механизма, предназначенного для успешной трансформации царя в посмертное состояние.
Традиционно, ковчеги описываются последовательно, так, как их обнаружил в погребальной камере Говард Картер, от самого внешнего к внутреннему, четвертому. Однако, как показывают исследования текстов, первым ковчегом, с которого и начинается долгий процесс обожествления умершего царя, был как раз самый внутренний.
Внутренний ковчег (IV) выполнен в форме архаического святилища Нижнего Египта, именовавшегося пер ну, или «Дом огня»; царь короновался в этом святилище богини-змеи Уаджит божественным уреем. Крылатый солнечный диск, символ торжествующего царя Хора Бехдетского, присутствует как на крыше ковчега, так и над створками его дверей, под характерным карнизом. На дверях, как и на задней стенке ковчега, изображены Исида и Нефтида, распростершие свои крылья для защиты царя. Внутренние стенки ковчега покрыты текстом 17 главы «Книги мертвых», в котором солнечный Ра говорит о своем возрождении из вод предвечного хаоса Нуна, изображенного с распростертыми руками-крыльями на потолке, внутри ковчега, над телом царя.
Следующий ковчег (II) повторяет собой архаическое святилище Верхнего Египта, именовавшееся пер ур — «Великий дом» и посвященное богине Нехбет, представавшей в облике грифа. С архитектурной точки зрения ковчег отличается от предыдущего формой крыши, которая изгибается впереди, над дверями и плавно понижается назад. Как и на других ковчегах, под крышей стенки завершаются характерным изогнутым карнизом.
На внешних сторонах дверей ковчега представлены грозные духи загробного мира, вооруженные огненными ножами — «Великий голосом» с головой антилопы, «Тот, кто отражает нечестивого» с головой крокодила, львиноголовый «Тот, кто отрезает головы» и «Тот, кто приносит огонь» с головой овна. Сопровождающая надпись говорит о царе, как об Осирисе, пришедшем судить Хора и Сетха, спорящих за его наследство: «Осирис, царь, Владыка Обеих земель, Небхепрура, тот, кто прекращает кровь, кто разделяет двух братьев, пришел»…
На внутренних сторонах дверей — распростершие в позе защиты крылья богини Исида и Нефтида, стоящие на знаке нетленного золота. Внутри, на потолке ковчега помещено изображение крылатого солнечного диска, семи летящих самок грифа, сжимающих в лапах иероглифы бесконечности шен (одна из самок имеет голову кобры), а также сокола Хора, символизирующего царя. Сопутствующая надпись говорит о солнце, как о главной защите царя: «лучи диска солнечного — защита над тобой, ладони их держат жизнь и здравие»…
Центральное место в декорировке внешних плоскостей этого ковчега занимает странствие солнечной ладьи и ее спутников по пространству иного мира, в частности, шестой час ночи из текста «Амдуат», грядущее воссоединение Осириса с Солнечным божеством, которое дает новую жизнь божествам, духам и умершим царям: «Указание Величества этого великого бога царям Верхнего Египта и царям Нижнего Египта, которые в мире ином: да поднимут среди вас короны хеджет, да наденут короны дешрет… Да будут Величества Ваши благочестивы, да будут дышать горла Ваши»…
Особенно интересен следующий ковчег (II), вновь повторяющий своей формой пер-ур. Особое значение в уникальной декорировке придается солнцу и его свету, выступающему в качестве гаранта бессмертия царя-Осириса. На дверях ковчега Тутанхамон в сопровождении Исиды движется к Осирису и в сопровождении Маат — к Ра-Хорахте. «Даю я тебе существование как богу живому подле меня день каждый, как подле отца, Хор, сын Исиды»…, — обращается к царю Осирис. «Ты — сын мой, от плоти моей, мной возлюбленный»… — говорит Исида. «Приди в мире, сын мой возлюбленный, Владыка Обеих земель, — приветствует царя Ра. — Утвердил я место твое в Земле священной, чтобы был ты как один из богов, владык мира иного».
Внутри, на потолке ковчега, изображена Нут, стоящая на знаке золота и произносящая заклинания:
«Простираю я руки над этим сыном моим, Осирисом, в имени моем — Нут. Не отдалюсь я от этого сына моего, Осириса, царя, Владыки Обеих земель, Небхепрура, сына от плоти Ра, им возлюбленного, Тутанхамона, властителя южного Гелиополя».
Заднюю внутреннюю стенку ковчега покрывает иероглифический текст знаменитой 17 главы «Книги мертвых», содержащей слова бога Ра о мироустройстве и возрождении в водах Нуна.
Внешняя часть ковчега покрыта интереснейшими изображениями, иллюстрирующими заупокойный текст, аналоги которого до сих пор не известны. Текст близок по содержанию к «Амдуат».
Вся композиция состоит из двух частей, каждая из которых разделена на три регистра. Солнечная ладья в этой композиции отсутствует и присутствие солнечного божества выражено солнечными дисками и овноголовыми птицами-ба. Текст этой композиции, предельно сложный для интерпретации, выписан энигматическим письмом без комментариев обычной иероглификой. Начинается первая часть композиции с двух пограничных столбов на пороге иного мира — одного с головой овна («голова Ра») и второго с головой шакала («шея Ра»), после которых начинается пространство мрака, место таинства и трансформации; вторая часть композиции, наоборот, наполнена светом, дисками солнца, змеями, звездами и солнечными лучами, которые подобно потоку пронизывают всех существ и изливаются в пространство.
В начале, когда открываются таинства тьмы, в изображениях встречаются лишь два огромных солнечных диска, в каждый из которых помещена птица-ба с головой овна, т.е. душа предвечного божества, воплощенная в солнце и его энергии. Все происходящее здесь связано с концепцией обновления и трансформации солнца, а вместе с ним и самой сути жизни, проходящей сквозь тьму и смерть.
В центре пространства тьмы находится огромная фигура антропоморфного божества, пронизывающего собой все три регистра изображения. Голова и стопы гигантского божества окружены двумя кольцами, образованными телом змея времени Мехена: это первое известное по египетским источникам изображение змея-уробороса. Окруженное двойственностью времени, завершенной целостностью времени джет и времени нехех, предвечное божество, таким образом, является источником и завершением всякого существования.
Внутри тела, имеющего облик Осириса, помещен солнечный диск с душой-ба, что выражает основную концепцию египетского предвечного божества, творящего вселенную, в котором еженощно воссоединяются две его важнейшие составляющие — хтоническое пространство джет, воплощенное Осирисом, и солнечное время нехех, представленное богом солнца. Между фигурой предвечного божества, ближе к входу в иной мир в верхнем и нижнем регистрах изображено по восемь божеств: верхние «те, кто в пещерах Дуата», нижние — те, кто пребывает в «Месте уничтожения»; несмотря на это их ба могут находиться вблизи от бога солнца.
За колоссальной фигурой, составляющей центр композиции, в среднем регистре расположены семь антропоморфных божеств, поднимающих руки в позе восхваления и касающихся ладонями солнечного каната, соединенного с диском в утробе предвечного божества. Над ними в верхнем регистре предстают семь богинь, обращенных лицами в противоположную сторону и помещенных в саркофаги; их сущности остаются погребенными, в то время как их ба следуют за солнечным богом.
В нижнем регистре, меж двух стражей вновь изображено «Место уничтожения», самая далекая и неведомая часть загробного мира, которую Иуф-Ра освещает, «возвышая свой голос», давая тем самым дыхание обитателям этого пространства. В центре его — змей с человеческой головой многократно обвивает два саркофага с телами Осириса и Ра; рядом находится еще один открытый саркофаг с частями тела Осириса и головой овна, символизирующего присутствие солнечного бога близ Осириса.
Вторая часть композиции также разделена на три регистра, с тремя сценами в каждом. Присутствие солнечного божества демонстрируется здесь посредством солнечных дисков во всех трех уровнях изображения. В большинстве случаев диски связаны с фигурами божеств и духов лучами света, исходящими от Ра, которыми, согласно тексту, наполнены их тела.
Верхний регистр начинается с образа кобры, изрыгающей свет. Перед ней предстоят шесть богов; каждому из которых предстоит птица ба, сидящая на четырех столпах небесного пространства, и звезда, от которой отходит сияние, касающееся лба каждого бога. Первый бог, между тем, получает солнечный свет, а вместе с ним и энергию Ра непосредственно от священной кобры. Согласно сопровождающему тексту, — это свет Ра, который проникает в них.
Вторая сцена верхнего регистра начинается с изображения кошки; за ней стоят шесть фигур без голов. Головы помещены перед фигурами, каждая — между звездой и солнечным диском, от которого струятся лучи света. Солнечный свет поникает внутрь этих фигур через срезы шей, наполняя их.
Далее изображены еще шесть фигур, забальзамированных и с головами; свет стремится к ним от солнечных дисков, снабженных в знак своей мобильности ногами. Каждый из этих божеств стоит на теле змея огненного времени Мехена, который помогает возродиться и начать новый цикл существования.
В среднем регистре изображена фигура Осириса, в знак своей победы над смертью лежащего на животе и протягивающего руки к солнечной овноголовой птице ба. От ног бога поднимается в лучах света змея, обращенная к шести фигурам божеств с львиными головами; их руки скрыты, так как они несут к лучам солнце тайное тело Осириса — тело предвечного божества. «Таковы боги эти; входят лучи Ра в тела их, воздают они хвалы, когда видят душу его», — комментирует текст над ними.
Лучи, исходящие от солнечного диска, касаются уст каждого божества, наделяя всех жизнью. В нижнем регистре солнечная кобра изрыгает свет, который затем передают вглубь львиные головы и малые кобры; свет, таким образом, разливается над шестью образами Осириса, которые, согласно тексту, «одеты» в свет Ра, а их ба следуют за ними. Им даровано дыхание жизни, символически изображенное в виде паруса, наполненного ветром.
Далее лев, сидящий на земле, предстает перед шестью овноголовыми забальзамированными фигурами, стопы которых покоятся на постаменте с изображением змея Мехена; «таковы боги эти, — гласит текст над ними, — изливают они то, что скрыто… видят они»…. Далее следует то, что они — хранители умершего царя.
Далее следуют шесть богинь, каждая из которых вдыхает солнечный свет и изливает его из рук на голову выползающего из глубин земли змея, имя которого «Злобный ликом». Имена богинь говорят о них, как о существах, несущих гнев и наказание солнца, которым каждая из них беременна.
Завершается композиция дважды появляющимся солнечным диском с птицей-ба внутри; речь идет о циклическом движении солнца, которое поддерживают в бесконечном движении четыре пары рук. Змеи, головы четырех коров-негау, символов богини Мехетурет, и богини, стоящие меж их рогов и держащие руки в позе молитвы завершают двойное изображение, две части которого отличаются тем, что в середине одного — фигура Осириса, а другого — рука солнечного бога, благодаря единству которых умерший царь воссуществовал правогласным и солнечным духом среди других величайших божеств вселенной.
На внешних сторонах дверей ковчега изображены крылатые фигуры богинь-охранительниц Исиды и Нефтиды, стоящих на знаках нетленного золота и дающих умершему возрождение:
Наконец, внешний грандиозный ковчег (I) представляет собой копию павильона для царского празднества Сед, во время которого правитель должен восстановить свои силы, пройти сквозь символическую смерть и возродиться. В знак этого вся внешняя поверхность ковчега покрыта помещенным на лазуритовый фон орнаментом из золотых знаков Осириса джед и Исиды тет, которые в сочетании имеют значение сешета (sštȝ) — «таинство».
На задней внутренней панели ковчега запечатлена «Книга Коровы», повествующая о явлении из Нуна грозной солнечной дочери Ра и о воздаянии за грехи человечества. Брюхо небесной коровы покрыто изображениями звезд, ее тело поддерживают девять воплощений бога миллионов лет Хеха. У плеча коровы в небольшой ладье плывет солнечный Ра, который обращается к царю: «Приди, сын мой от плоти моей, мой возлюбленный, Владыка Обеих земель Небхепрура. Пребывай с отцом твоим Ра, как один из тех богов, что спутники его у Мехетурет»…
Образ коровы, «Великой пловчихи» становится залогом перенесения царя на небеса в места пребывания богов, отдаленные от мира. На створках ковчеге царь предстает уже в образе бога солнца в высокой короне хену, с символом анх в руках, повергнувшего все силы хаоса и окончательно восторжествовавшего над смертью в своем новом существовании: «Я отразил, я уничтожил, я обезглавил, я отрезал ноги врагов Осириса. Пали они! Не воссуществуют они! Все враги Осириса, царя Небхепрура, пали!»
САРКОФАГИ
Под огромными ковчегами таился каменный саркофаг царя, выполненный из кварцита; крышка, предназначавшаяся для саркофага, судя по всему, была разбита еще в древности и ее заменили при погребении на другую, гранитную, окрашенную в желтый цвет. Саркофаг представлял собой прямоугольный блок камня длиной 2.75m, шириной 1.5m, и высотой 1.5m. Верх саркофага был декорирован классическим египетским карнизом, а низ — фризом из символов джед и тет.
По бокам саркофаг защищали распростершие по его сторонам руки-крылья богини: у изголовья Исида (северо-запад) и Нефтида (юго-запад), а у изножья Нейт (северо-восток) и Селкет (юго-восток). Положение саркофага по сторонам света в целом совпадала с ориентацией знаменитого «Дома жизни» согласно тексту папируса Солт 825 и сопровождающей его виньетке, что свидетельствует о единой системе ориентации в ритуальном пространстве, издревле существовавшей у египтян:
Первый, внешний антропоморфный саркофаг, был выполнен из дерева и покрыт листовым золотом по штуку. Лицо и руки царя, сжимающего царские скипетр и плеть, были выполнены из чистого золота. На голове царя — повязка хат, его тело закрывали руками-крыльями рельефные изображения богинь, Исиды и Нейт.
Второй, средний саркофаг, также был выполнен из дерева, покрыт штуком и богато обит золотыми листами. Сверху саркофаг покрывала льняная пелена, поверх которой лежали цветы. Осирис-Тутанхамон представал в немесе во всем величии, сжимая царские скипетры. Поверхность саркофага, который был украшен изображениями крылатых богинь Уаджит и Нехбет, была инкрустирована тысячами кусочков стекла и полудрагоценных камней, имитируя перья божественных крыльев, защищающих плоть Осириса. Вниз от скрещенных рук шли столбцы заупокойной молитвы.
Третий, внутренний саркофаг, выполненный из кованого золота, был обнаружен завернутым в льняную пелену, поверх которой лежали бесчисленные гирлянды из цветов, фруктов и фаянсовых бусин. Царь был изображен в облике Осириса, плоть которого стала золотом в мгновение соприкосновения с лучами Ра, проникшими в иной мир. К сожалению, глаза саркофага рассыпались от воздействия благовонных масел, вылитых на него во время погребения.
На царе — головной убор немес, в руках — скипетры хека и нехеху, на его подбородке — длинная божественная бородка хебесут. Поверх рук простерли свои защитные крылья богини юга и севера — Нехбет и Уаджит, сжимающие в лапах солнечные знаки бесконечности шен; их тела были богато инкрустированы стеклом и камнем. Все золотое «тело» царя-Осириса покрыто орнаментом «риши»; с боков его охраняют распростертыми крыльями Исида (справа) и Нефтида. От скрещенных рук вновь вниз шли столбцы молитв, обращенных к богине Нут. Изображенная на изножье саркофага крылатая Исида , «великий горизонт», восседая на знаке золота, оберегала царя-Осириса от любого зла и вела его на запад сквозь все преграды иного мира.
МАСКА
Золотая маска Тутанхамона, созданная из нескольких кусков кованого золота, стала одним из образов Египта и величайших сокровищ его древности, национальным символом и предметом гордости египтян. Поразительное произведение искусства, она венчает собой собрание Египетского музея в Каире и в реальности невероятно превосходит все те бесчисленные фотографии, на которых изображена.
Золото царского лика, с его непередаваемой, едва играющей на губах улыбкой, поразительно сочетается с лазуритовыми полосами царского немеса, бородкой и выложенной тонкими полосками косметической подводки глаз. Глаза царя, отождествленного с самой сутью божественности, которую не может охватить смерть, представляют собой небесные светила — луну левый глаз и солнце — правый, выполнены из обсидиана и кварца.
Убор царя, повторяющий волосы солнечного божества и его плоть, из лазурита и золота, венчают Уаджит — священная кобра севера и Нехбет — великая самка грифа с юга — «Обе Владычицы», объединяющие под властью царя земли Египта. Плечи царя закрывает широкое ожерелье усех, инкрустированное лазуритом, кварцем, амазонитом, полевым шпатом, завершающееся на плечах головами священных соколов.
На задней части маски сохранились десять колонок текста молитвы о нетленности царя, созданной минимум за пять веков до Тутанхамона и вошедшей в свод «Текстов саркофагов», а позже — в «Книгу мертвых». В ней запечатлено таинство трансформации отдельных частей тела царя в богов, которые затем объединяются в сущности предвечного божества. Победоносный Хор, повергнувший врагов и давший Око свое отцу, и Осирис, владыка иного мира, объединяются в облике царя:
КОВЧЕГ ДЛЯ КАНОП
В центре «Сокровенной сокровищницы» стоял массивный ковчег для каноп царя. Он покоился на деревянном позолоченном основании, на котором были установлены столбы, поддерживающие над ковчегом подобие балдахина, украшенного, как и сам ковчег, карнизом и восхитительным фризом из полихромных уреев. Позолоченные стенки ковчега были покрыты надписями и рельефами, на которых различные божества-защитники умершего призывают четырех духов, сыновей Хора защитить Осириса Небхепрура: Исида заклинает о защите Имсети, Геб — Дуамутефа, Птах-Сокар-Осирис — Кебехсенуфа и Нефтида — Хепи.
Между столбов балдахина, распростря руки, стояли четыре статуи великих богинь охранительниц, в погребальных повязках афнет, обращенных лицами к ковчегу: Исида с запада, Нейт с севера, Нефтида с востока и Селкет с юга. Каждая из богинь имела власть над одним из сыновей Хора и над одной частью внутренностей царя: Исида — над Имсети (печень), Нефтида над Хепи (легкие), Нейт над Дуамутефом (желудок) и Селкет над Кебехсенуфом (кишки). Сыновья Хора, защитники внутренностей царя, ассоциировались, как и богини, со сторонами света; именно их воплощали четыре птицы, которых выпускали на разные стороны света во время царской коронации:
Богини и подвластные им духи, таким образом, окружают ковчег с внутренностями и «движутся» против движения солнца, осуществляя очищающий ритуал Сокара, ритуал умирания, центром которого является содержимое ковчега — внутренности Осириса.
Внутри позолоченного деревянного ковчега находился алебастровый, своей формой повторяющий пер ур — символический предвечный храм Верхнего Египта, заменивший собой четыре традиционных сосуда-канопы.
По углам ковчега были вновь изображены богини-охранительницы, низ был вновь отделан фризом из изображенных попарно знаков джед и тет. Внутри ковчега были выдолблены четыре полости, в которых находились миниатюрные золотые ковчежцы, содержащие забальзамированные и запеленутые внутренности царя. Своей декорировкой ковчежцы повторяли убранство второго антропоморфного саркофага, а сам ковчег — каменный саркофаг царя. Ковчежцы, надписанные именами богинь и сыновей Хора, были расположены так, чтобы соответствующий ковчежец лежал в полости близ соответствующей богини на внешней стороне ковчега.
Четыре поразительные скульптурные портреты царя в уборах немес, служили крышками для полостей ковчега. Портреты были выполнены из алебастра, глаза и брови царя при этом были подведены черной краской, губы — красной, с оттененными черным уголками рта. Крышки были расположены попарно, друг напротив друга, так что лица царя как бы «смотрели» друг на друга. Две головы на восточной стороне ковчега были обращены лицом к западу, а две другие — лицом к востоку.
Маленькие ковчежцы, находившиеся под крышками, были помещены в цилиндрические углубления стоймя, завернуты в освященное полотно и обращены лицами в том же направлении, что и прикрывающие их алебастровые крышки-головы.
Наряду с ковчегом для каноп, статуями божеств, многочисленными ладьями и другими предметами погребального инвентаря, в «Сокровенной сокровищнице» находился еще один памятник, крайне важный для достижения той цели возрождения царя, которой служила вся гробница. В большом прямоугольном ящике, который находился в юго-западном углу помещения, покоился запеленатый деревянный образ Осириса, поверхность плоского тела которого была покрыта нильским илом и зерном, которое начало прорастать. Такие «подобия бога» предназначались, чаще всего, не для погребений, а для ритуалов храма, где они хранились в течение года. Затем «подобие» погребалось в специальном храмовом некрополе, либо в гробнице царя, ушедшего в этот год в мир иной. Ритуал изготовления «мумий» из ила и зерна должен был поддержать цикл возрождения, даровать новую жизнь Египту, упрочить вселенский миропорядок и обеспечить умершего царя существованием в вечности.
_______________________________
ПОГРЕБЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
«Пришла я, наделила я Осириса, Владыку Обеих земель Небхепрура, правогласного, жизнью, постоянством, процветанием, так, что он не умрет»…
(из слов богини Нут на третьем ковчеге Тутанхамона)
Размышлениям о смерти посвящено огромное количество текстов и изображений, которые являлись частями грандиозной египетской концепции умирания и возрождения. Египетская культура говорила о феномене смерти несколько тысячелетий, начиная с «Текстов пирамид», которые прочили фараону восхождение по лестнице на небеса, и вплоть до греко-римского времени, когда в гробнице мудреца Петосириса, жреца Тота в Шмуну, тема перехода в другое пространство прозвучала как предостережение о неизбежном: «нет взятки для смерти». Спасением от смерти, как бы не парадоксально это прозвучало, было правильное погребение, выполненное согласно всем требованием многовекового ритуала; он уподоблял умершего божеству и гарантировал новую, вечную жизнь.
Форма и смысловое наполнение заупокойного ритуала неоднократно изменялись на протяжении тысячелетий египетской истории; тем не менее, на протяжении всего этого огромного отрезка времени речь шла об одних и тех же базовых составляющих человеческой сущности и божественном пространстве, в которое они инкорпорировались посредством ритуала.
Огромную роль в процессе изучения того «образцового» для египтян пути, по которому уходил царь в мир иной, сыграла находка гробницы Тутанхамона. Дважды потревоженное грабителями захоронение юного фараона дало возможность понять хотя бы в общих чертах схему, по которой проходило царское погребение, прикоснуться к произведениям искусства, служившими инструментами для великого ритуала перехода, к которому с таким уважением и вниманием относились египтяне.
Все, что было непосредственно связанно с личностью царя, было намеренно удалено из гробницы, как преходящее. Его земная жизнь была полностью заменена предстоянием перед вечностью, трансформацией в новое состояние существования через прохождение ритуалов смерти, обретением божественности через прохождение сквозь состояния божеств иного мира и, наконец, новым рождением в облике светоносного и действенного духа Ах (ȝḫ), спутника Солнечного божества на его Ладье Миллионов лет.
Отсутствие исторических документов в гробнице, так сильно разочаровавшее Картера, было намеренным актом, направленным на обеспечение благого посмертного состояния царя. Личность Тутанхамона была забыта; остался лишь Хор Небхепрура, который должен был в итоге воплотиться в Осирисе и возродиться как новое Солнце.
ГАЛЕРЕИ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ
Памятники из гробницы Тутанхамона, на систематическую перевозку которых в Египетский музей в Каир потребовалось шесть лет, помогают хотя бы отчасти представить то великолепие, которое некогда окружало похороны величайших фараонов Нового царства, по сравнению с которыми гробница, ставшая самой знаменитой в Долине царей, была лишь отблеском истинного величия и роскоши. Уходящие в глубь скал грандиозные галереи, покрытые расписанными рельефами, погружают зрителя в особый, нечеловеческий, мир сотворения и обновления сил вселенной. Забыв о монументальности пирамид прошлых эпох, фараоны придавали отныне куда большее значение внутреннему содержанию и отделке гробниц, расположенных в самой отдаленной долине фиванского некрополя.
На смену «Текстам пирамид» и «Текстам саркофагов» пришли богато иллюстрированные книги о запредельном мире, покрывающие семь или девять коридоров протяженных царских гробниц, непревзойденным шедевром среди которых стала усыпальница Сети I. В их число входили сцены «Ритуала Отверзания уст и очей», астрономические тексты на потолках погребальной камеры, многочисленные изображения божеств и, порой, изображения погребального инвентаря, который некогда находился в соответствующем помещении.
Первые два коридора, обыкновенно, украшал текст «Литаний Ра», отождествлявших царя с Солнцем; далее на все пространство гробницы простирались «Амдуат» и «Книга врат», в которых фараон был вовлечен в полное опасностей ночное странствие солнечной ладьи, вместе с божествами которой он побеждал силы хаоса и получал возрождение в предвечных водах океана Нуна.
На задней стене первого зала гробницы, потолок который поддерживают столбы, высеченные с соблюдением классической для Долины царей пропорции в 5 локтей, царь изображен вместе с Хором, который ведет его к Осирису, восседающему на престоле, как к цели всей грядущей череды царских отождествлений. Третье божество, которое принимает царя в свои объятья на изображениях в нижней части гробницы, — это Хатхор, представляющая собой саму суть принципа возрождения. Среди бусин сетки, которая написана поверх платья богини особе место занимают имена царя и знаки многих празднеств Сед, которые ему обещает милостивая богиня, «Владычица Жизни», предвечная мать и супруга царя.
Гробница Сети I еще не знает включения в декорировку текста 125 главы «Книги мертвых», предназначенной все еще лишь для частных лиц; лишь со времени Рамсеса II в гробницу стали помещать текстуальное свидетельство того, что отныне царь должен пройти загробный суд богов, которым раньше он был равен. При Мернептахе в царской гробнице появятся новые тексты о загробном мире — «Книга Пещер», «Книга Земли» и «Книга небес», описывающие все новые и новые детали потустороннего странствия Солнца. Последняя поистине царская гробница Долины была создана для Рамсеса VI; после нее начался недолгий процесс деградации, в результате которого великий царский некрополь был забыт, а фараоны поздних династий нашли себе места нового упокоения в стенах храмов городов Дельты — Таниса, Саиса и Мендеса.
Строительство царской гробницы начиналось сразу же после восшествие нового фараона на престол; на реализацию амбициозного плана порой не хватало времени и отдельные помещения царского «дома вечности» оставались незавершенными. Процесс подготовки к смерти и перерождению включал в себя не только разработку архитектурного плана, сооружение и декорировку гробницы, но и подготовку гигантского погребального инвентаря и, в центре всех дел, — царского саркофага. Завершением этой гигантской работы были оттиски печатей на штукатурке, которая покрывала кладку, запечатывавшую вход в подземный мир еще одного воплощения Хора, ставшего Осирисом.
Мумия царя, конечно же, была главной святыней погребения. Со времени III династии ее помещали в каменный саркофаг, внутри которого находились несколько деревянных саркофагов. В Новом царстве саркофаг чаще всего делали из «солнечного» кварцита или гранита, еще раз подчеркивая отождествления фараона с Ра-Атумом; бывали и алебастровые саркофаги, богато инкрустированные лазуритовым стеклом.
Первыми «спутниками» царя, изображенными на стенках его саркофага были Анубис и сыновья Хора, которые позже были заменены фрагментами из «Амдуат», других текстов о загробном мире, отдельными фрагментами «Книги мертвых». Над саркофагом покоились деревянные позолоченные ковчеги, покрытые самыми значимыми ритуальными сценами, иллюстрирующими этапы трансформации умершего царя. Там, в глубине ковчегов и саркофагов лежала царская мумия, повторяющая облик мумии убитого Осириса, выполненная лучшими бальзамировщиками страны.
Внутренности, изъятые при бальзамировании, помещались в сосуды-канопы, помещенные в ковчег, покровительницами которого со времени Аменхотепа II изображаются четыре богини-защитницы мертвых: Исида, Нефтида, Нейт и Селкет, тогда как в облике защитников самих сосудов представали четыре сына Хора.
Предметы инвентаря, которым был снабжен царь, исчислялись десятками тысяч; это были лампы, чтобы разогнать тьму и оружие против его врагов, пища и масла для его Ка и одежды для его тела, сундуки с его украшениями и ладьи для посмертного плавания по предвечным водам, скипетры власти и парадные колесницы. Здесь не было только царских корон, которые передавались новому земному воплощению Хора.
В гробнице Тутанхамона были найдены многочисленные деревянные, позолоченные изображения богов и священных животных продолжавшие божественные темы декорировки стен гробницы и защищавшие гробницу от злых чар, которые могли бы помешать царю пройти весь свой путь до конца. Сотни статуэток ответчиков-ушебти, многие из которых были выполнены в облике забальзамированного царя-Осириса, прижимающего руками к своей груди своего крылатого Ба, должны были оберечь его от любой работы загробного мира, будь то пахота на полях богов или расчистка каналов, по которым струились воды Нуна.
Изречения из «Книги мертвых» гарантировали действенную силу многочисленных амулетов, выполненных из драгоценных материалов; многие из них помещались между пеленами мумии, чтобы обеспечить их тесный контакт с телом умершего. Наиболее популярным среди них были Око Хора Уджат (wḏȝ.t), которое, по легенде, было повреждено, но исцелено в знак того, что умерший вновь обретет былую целостность и скарабей, могущественный символ созидательной силы творца, новой жизни и возрождения, сочетающий в себе принципы божественности Осириса и Ра, сливающихся в грандиозном облике Предвечного божества — основы существования вселенной.
Поразительный памятник из гробницы Тутанхамона изображает ту главную божественную сущность, для которой сооружалась гробница — тело царя в процессе трансформации. Это статуэтка, вырезанная из кедрового дерева, которая была найдена в т.н. «Сокровенной сокровищнице» гробницы Тутанхамона внутри деревянного саркофага, тщательно завернутого в полотно. На голову царя, тело которого «запеленуто» и подготовлено к погребению, надет платок-немес, увенчанный уреем. Скипетры, находившиеся в руках царя, не сохранились. С двух сторон от мумии сидят птицы, закрывающие забальзамированное тело своими крыльями в знак защиты. Сокол, сидящий справа от тела, символизирует собой возрождение, которое обретет царь после странствия через загробный мир, так как сокол — это Хор, сын и преемник Осириса, добившийся победы над смертью для своего отца, отдав ему свое Око. Слева сидит птица с человеческой головой, Ба, «душа» царя, вышедшая из тела и готовая к великому странствию в царство Осириса. Мумия царя лежит на ложе, украшенном львиными головами, которое очень похоже на реальные ложа, найденные в гробнице. Львиные головы у изголовья ложа символизируют собой Рути (rwty, «два льва»), — божественную пару львов, в образе которых воплощены божества Шу и Тефнут, хранители горизонтов, в которых, подобно Солнцу, вновь и вновь будет заходить, а потом возрождаться усопший царь.
Четыре иероглифические надписи, имитирующие ленты погребальных пелен, вырезаны на теле царя; в них призываются небесные сыновья Хора, несущие защиту умершему от четырех сторон света, а также и более значимые божества — Осирис, Хор и Анубис: «Почитаемый Имсети, Хепи, Анубисом в месте бальзамирования, Анубису, Дуамутефу, Кебехсенуфу, Хору и Осирису».
Надпись, идущая от скрещенных рук «мумии» к ее ногам, призывает Нут, предвечную богиню неба, защитить умершего, подобно тому, как она защищает своего сына Осириса, закрыть его своим небесным телом, покрытым звездами: «Слова, сказанные царем Небхепрура правогласным: «Снизойди, матерь Нут, склонись надо мной и преврати меня в одну из бессмертных звезд, которые все в тебе!»
Еще одна иероглифическая надпись, опоясывающая ложе, упоминает вельможу Майя, одну из самых интересных и значимых личностей при дворе Тутанхамона: «Сделано слугой, облагодетельствованным Его Величеством, тем, кто ищет хорошее и находит прекрасное, и делает это старательно для своего повелителя, который творит чудесные дела в обители великолепия, управителем строительных работ по сооружению обители вечности, царским писцом, хранителем сокровищницы Майя»; «сделано слугой, облагодетельствованным своим повелителем, который добывает превосходные вещи в обители вечности, управителем строительных работ на Западе, возлюбленным своим владыкой, совершающим все по слову его, не допускающим ничего ему неугодного, тем, чье лицо блаженно, когда он это делает с любящим сердцем, как вещь, угодную для его повелителя»; «Царский писец, возлюбленный своим повелителем, хранитель сокровищницы Майя».
Этот знаменитый вельможа и выдающийся архитектор, сын врача Ауи и «госпожи дома» Урет, который после смерти Тутанхамона, уже при Хоремхебе, возвысится до «носителя опахала справа от царя» и «главы празднества Амона в Карнаке», был донатором статуэтки, пожертвовавшим ее в память о своем рано умершем царе, для которого он готовил погребение.
«ЗОЛОТОЙ ПОКОЙ»
Гробница Тутанхамона — одна из самых скромных в Долине царей с точки зрения архитектуры и декорировки. Помещения гробницы были грубо вырублены в скале и лишь погребальная камера была расписана. На ее стенах изображено царское погребение и трансформация царя в облике Осириса. Путь царя начинается на восточной стене: вельможи двора тянут на салазках солнечную ладью-катафалк с мумией царя к гробнице; на носу и корме ладьи стоят джерит — статуэтки жриц, воплощающих собой Исиду и Нефтиду, оплакивающих нового Осириса, а также грозный охранник — сфинкс Туту. На головах вельмож — траурные повязки, ближе всего к ладье изображены, судя по одеяниям, два везира и военачальник, возможно, Хоремхеб. Над процессией сохранились девять столбцов надписи: «Слова, что говорят знатные из царского дома, те что идут в процессии с Осирисом, царем, Владыкой Обеих земель Небхепрура к Западу. Возглашают они: «О, Небхепрура, да придешь ты в мире, о бог — защита земли!»
Процессия «движется» по направлению к северной стене. Северная стена разделена на три сцены: справа церемонию «Отверзания уст и очей» для Осириса Тутанхамона совершает его преемник, престарелый «божественный отец» Эйе, изображенный здесь как молодой человек, весьма походящий внешне на своего предшественника; в центре Тутанхамона, одетого в земное одеяние, как «Владыку Обеих земель Небхепрура, которому дана жизнь в вечности и бесконечности» приветствует богиня Нут, его небесная мать; наконец, слева изображено «Объятие горизонта» — Тутанхамон в сопровождении своего Ка обнимает Осириса, «первого среди западных». На южной стене Хатхор Иментет, владычица тайн возрождения, символ Запада, протягивает символ жизни анх царю Тутанхамону, за которым изображен Анубис. На голове царя белая повязка афнет, ассоциирующаяся с погребением. Наконец итог пути царя изображен на западной стене: фрагмент книги «Амдуат» с солнечной ладьей, в центре которой скарабей Хепри, восходящее на восточном горизонте Солнце, почитаемый двумя образами Осириса, занимает верхнюю часть стены; под ним — двенадцать священных павианов, бау Востока, рядом с которыми выписаны заклинания, призванные защитить царя.
В стенах погребальной камеры, за исключением восточной, где был проход в другое помещение гробницы, были обнаружены небольшие ниши, предназначавшиеся для магических фигурок, которые должны были сориентировать погребальную камеру по сторонам света, включить ее в пространство ритуала и, одновременно, защитить ее от любого зла. Описание этих фигур есть в 151а главе «Книги мертвых». На виньетке к этой главе Анубис склоняется к мумии, лежащей на погребальном ложе, в ногах которого — Исида, а в изголовье — Нефтида. К западу от них находится столб джед, символизирующий стихию земли, к северу — фигура «тень Осириса», символизирующая воздух, к югу — факел, частица стихии огня и к востоку — фигура Анубиса, лежащего на вратах иного мира и сосуд с водой, дарующей очищение. Фигурки помещались в стены камеры в процессе особого ритуала, благодаря которому погребальная камера становилась не просто микрокосмом, но совершенно особенным защищенным пространством, в центре которого пребывал умерший, отождествленный с Осирисом. Эти фигурки всего лишь один раз были заменены изображениями на стелах, также размещенными по стенам погребальной камеры и помимо изображений содержащими наиболее полные заклинания — фрагменты ритуала по подготовке погребальной камеры к принятию подобия Осириса. К несчастью, эти стелы, происходящие из мемфисской гробницы военачальника Каса, современника Сети I, были изъяты из своего контекста и в настоящее время хранятся в собрании Музея средиземноморской археологии в Марселе:
«То, что помещено на стене северной: «О тот, кто приходит, чтобы схватить, я воспрепятствую, и ты не схватишь; о тот, кто стучится, я не дам тебе постучаться. Вот, я — магическая защита для Осириса, царского писца, начальника лучников Каса, правогласного». Произнести слова над бруском необожженной глины, на котором начертаны эти слова. Водрузить Образ из дерева имаа, высотой в семь пальцев; с отверзнутыми устами; прикрепить его на брусок. Поместить его в нише в стене северной, лицом — к югу, укрыть тканью.
Пребывает джед перед ним на западе, Анубис — на востоке, столб огненный — на юге. На севере же — пребывает Образ из дерева имаа, лицо его — на юг направлено.
Воздает хвалы деяниями земными Уннеферу Осирис, начальник лучников Каса, правогласный.
Писец царский, начальник лучников, Каса, сын от плоти Иаии, правогласного, рожденный госпожой дома Исидой».
«То, что помещено на стене южной гробницы Осириса, писца царского, начальника лучников Каса, правогласного. Говорит он: «Вот я, тот кто устраняет песок, приходящий засыпать гробницу. Тот, кто пытается проникнуть, я оттолкну его к огню некрополя, я отклоню путь его. Вот я — магическая защита для Осириса, царского писца, начальника лучников Каса, правогласного». Произнести слова над бруском необожженной глины, на котором начертаны эти слова. Прикрепить фитиль в центре, поджечь. Поместить его в нише в стене южной; лицом к северу.
Осирис, писец царский, начальник лучников Каса, правогласный. Он — дух почтенный, среди богов западных. Он в обители отверзнутых устами божеств. Нет опасности для него от них, от ножей их. Стал он Осирисом, Каса.
Писец царский, начальник лучников, Каса, сын от плоти Иаии, правогласного, рожденный госпожой дома Исидой».
«Царский писец, начальник лучников Каса, правогласный. Говорит он: « Тот, кто приходит в ярости, я отклоню тебя заблаговременно. Бог Ха над тобой! Я тот, кто находится за столбом джед в день, когда он уничтожает. Вот я — магическая защита для Осириса, царского писца Каса, правогласного». Произнести слова над столбом джед из фаянса с верхом из золота, завернутым в полотно превосходное; облить его маслом. Прикрепить его на брусок из необожженной глины, смешанной с ладаном и зернами пеха, на котором начертаны эти слова. Поместить его в нишу в стене западной, лицом к востоку. Покрыть его землей с семенем сикоморы.
Осирис, писец царский, начальник лучников, великий Каса, правогласный.
Писец царский, начальник лучников, Каса, сын от плоти Иаии, правогласного, рожденный госпожой дома Исидой».
«То, что помещено на стене восточной. «Будь бдителен, Осирис, писец царский, Каса, правогласный! Бдителен Tот, Kто на холме своем. Твое нападение отклонено: это я, кто отклоняет нападение твое, о, Ужасный! Я — магическая защита для Осириса, начальника лучников Каса, правогласного». Произнести слова над Анубисом из глины, смешанной с ладаном и зернами пеха. Прикрепить его на брусок из необожженной глины, на котором начертаны эти слова. Поместить его в нишу в восточной стене, лицом к западу, прикрыв лик его. Осирис, писец царский, великий Владыкой Обеих земель, Каса, почтенный перед Благим Богом.
Анубис на холме своем.
Писец царский, начальник лучников, Каса, правогласный перед Богом Благим.
Писец царский, начальник лучников, Каса, сын от плоти Иаии, правогласного, рожденный госпожой дома Исидой».
АНУБИС И ВЕЛИКИЕ СИМВОЛЫ
Между стенами погребальной камеры гробницы Тутанхамона и внешним огромным ковчегом были найдены многочисленные ритуальные предметы и амулеты, которые должны были помочь умершему царю преодолеть смерть и опасности загробного мира: магические весла (дающие невидимость от врагов), сосуды хес (приносящие очищение), стилизованные перья страуса, посвященные богине Маат, фаянсовые сосуды, содержащие натрон и смолу, священный гусь Амона, выполненный из дерева и покрытый смолой, стоявший у восточный стены, должен был разогнать тьму своим криком, словно в момент сотворения мира, алебастровая лампа, найденная в юго-восточном углу, свет которой должен был разогнать тьму загробного мира.
В северо-западном и юго-западном углах погребальной камеры находились имиут — эмблемы Анубиса. Они подвешены к вертикальным лотосообразным шестам, установленным в алебастровых
 сосудах, покоящихся на циновках из тростника. Это эмблемы мира, куда погружается на ночь солнце и где почиют умершие. Они должны были помочь покойному пройти через владения загробного мира. Вместе с этими эмблемами обнаружены четыре позолоченных деревянных предмета, которые, вероятно, символизируют свернутые погребальные покровы. А.Гардинер указывает, что в иероглифическом письме изображение этого предмета обозначало «пробуждать». Возможно, символы имели отношение к представлениям о пробуждении усопших».
сосудах, покоящихся на циновках из тростника. Это эмблемы мира, куда погружается на ночь солнце и где почиют умершие. Они должны были помочь покойному пройти через владения загробного мира. Вместе с этими эмблемами обнаружены четыре позолоченных деревянных предмета, которые, вероятно, символизируют свернутые погребальные покровы. А.Гардинер указывает, что в иероглифическом письме изображение этого предмета обозначало «пробуждать». Возможно, символы имели отношение к представлениям о пробуждении усопших».Мы очень мало знаем о символическом значении этих эмблем; как иногда пишут, «их куда легче описать, нежели объяснить». Каждая эмблема состоит из высокого стержня, завершающегося бутоном лотоса. Со стержня, прикрепленная к нему длинным хвостом, выполненным из бронзы и заканчивающимся распустившимся цветком папируса, свисает шкура обезглавленного животного. Символическая шкура выполнена из дерева и покрыта золотом. Каждый стержень в свою очередь укреплен в алебастровой основе, напоминающей своей формой сосуд, на которой имеется надпись:
«Бог благой, Небхепрура, сын Ра, Тутанхамон, властитель Южного Гелиополя (т.е. Фив), которому дана жизнь, подобно Ра, в вечности и бесконечности, возлюбленный Анубисом, владыкой навеса для бальзамирования» (на другом — «возлюбленный Анубисом Имиутом», также опущено сравнение «подобно Ра»).
Древнейшие известные аналоги подобной эмблемы датируются 1950г. до н.э. и состоят из настоящей шкуры животного, набитой льняным полотном; впрочем, первые упоминания титула «имиут» встречаются еще во время правления IV династии. Эмблемы Имиут издревле были связаны с заупокойным ритуалом, почитанием умерших предков; их изображения часто встречаются в заупокойных храмах фараонов Нового царства. С символической точки зрения, опираясь на тексты папируса Жюмильяк , хранящегося в Лувре, можно сказать, что эта эмблема — кожа, оболочка тленного тела, опустошенная смертью на этапе завершения посмертных трансформаций сущности умершего, по словам К.Дерош-Ноблекур, подобие хориона, — наружной зародышевой оболочки зародыша. Эта оболочка-шкура, по сути, принадлежит самому Анубису, и именно в ней некогда было собрано воедино тело Осириса; Солнце, обернутое в нее (а также и каждый умерший) обретает возрождение. Этот смысл заложен и в самом титуле бога «имиут» — «тот, кто завернут (в кожу)».
Эмблема Анубиса была на египетских изображениях непременным спутником Осириса, а также присутствует почти во всех царских заупокойных храмах, гарантируя защиту умершему царю во время его посмертных трансформаций на пути к Осирису, во время которых, наряду с Анубисом, его покровителями становятся Птах и Сокар. Представлявшийся в облике черной собаки или шакала, лежащего на холме некрополя, Анубис был проводником умершего через пространство иного мира. Священные животные Анубиса, обитающие среди могил были, по представлениям египтян, существами, обитавшими на границе пространств, существами ночи, которые исчезают на заре, увидев рождающееся солнце, и вновь появляются на закате, чтобы проводить светило по путям Запада.
В облике Анубиса, наконец, чтобы преодолеть смерть, воплощается и сам умерший на последних этапах своей трансформации. На кладке, которой был закрыт проход в одну из камер гробницы Тутанхамона, которая, по сути, представляет собой искусственную «пещеру» для трансформации его сущности, Алан Гардинер прочел надпись, которая позже была разрушена: «Небхепрура-Анубис торжествующий».
Наконец, сразу же за входом в самую отдаленную, восточную, камеру гробницы, т.н. «Сокровенную сокровищницу», находилось, пожалуй, самое поразительное изображение Анубиса в египетском искусстве. Вход в сокровищницу, в отличие от других дверных проходов, не был ни заложен камнями, ни запечатан. Напротив двери, загораживая вход в сокровищницу, на вызолоченном ковчеге, установленном на носилках с длинными ручками, покоилось черное изваяние бога Анубиса, закутанное в погребальные покровы. На полу, сразу же за порогом, перед постаментом Анубиса стоял маленький тростниковый факел на глиняной подставке в форме кирпича с магической надписью: «Да сгинет враг Осириса, в какой бы форме он ни явился».
Анубис покоится на съемной крышке деревянного позолоченного ларца. Увенчанный характерным египетским карнизом, ларец, имитирующий своей формой врата загробного мира, покрыт изображениями символов «джед» и «тет» (узел Исиды). Внутри ларца были найдены фаянсовые амулеты: четыре изображения коровьей ноги «ухем», имеющие значение глагола «повторять», два изображения мумии, изображение сокологолового Хора, две статуэтки ибиса, уадж — стебель тростника папируса, символизирующий вечную молодость, восковая «птица половодья» Бах, несколько кусков смолы, а также восемь ожерелий и два алебастровых сосуда. Эти предметы, изначально расположенные в специально предназначенных для них отделениях, были перемешаны, к сожалению, древними грабителями. Все эти амулеты, бесспорно, были связаны с ритуалами трансформации в Анубиса, призванными принести возрождение (ухем месут) душе царя.
Восхитительная статуя божества из гробницы Тутанхамона, скорее всего, некогда следовала в царской погребальной процессии, а затем была помещена в одно из самых значимых помещений гробницы, где находились канопы с внутренностями царя, стражем и охранителем которых, таким образом, выступал Анубис. В надписях, что покрывают ларец, Анубис восхваляется в двух своих ипостасях — как Имиут, сын Осириса, отдавший умершему отцу свою кожу, необходимую для его возрождения, и как Хентисехнечер — глава божественного навеса, расположенного при входе в гробницу, под которым совершалась церемония «Отверзания уст и очей», дающая возможность умершему видеть, ощущать, вкушать приношения и передвигаться, побеждая смерть.
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОВЧЕГИ И «КНИГА СВЕТА»
Четыре погребальных ковчега, сооруженные один в другом, над каменным саркофагом Тутанхамона, выполнены из дерева и обиты золотом. Эти памятники уникальны — все остальные ковчеги такого рода, которыми, бесспорно, снабжались в последний путь цари XVIII династии, были уничтожены грабителями еще в древности. Покрытые иероглифическими текстами и изображениями снаружи и внутри, ковчеги были важной частью религиозно-магического механизма, предназначенного для успешной трансформации царя в посмертное состояние.
Традиционно, ковчеги описываются последовательно, так, как их обнаружил в погребальной камере Говард Картер, от самого внешнего к внутреннему, четвертому. Однако, как показывают исследования текстов, первым ковчегом, с которого и начинается долгий процесс обожествления умершего царя, был как раз самый внутренний.
Внутренний ковчег (IV) выполнен в форме архаического святилища Нижнего Египта, именовавшегося пер ну, или «Дом огня»; царь короновался в этом святилище богини-змеи Уаджит божественным уреем. Крылатый солнечный диск, символ торжествующего царя Хора Бехдетского, присутствует как на крыше ковчега, так и над створками его дверей, под характерным карнизом. На дверях, как и на задней стенке ковчега, изображены Исида и Нефтида, распростершие свои крылья для защиты царя. Внутренние стенки ковчега покрыты текстом 17 главы «Книги мертвых», в котором солнечный Ра говорит о своем возрождении из вод предвечного хаоса Нуна, изображенного с распростертыми руками-крыльями на потолке, внутри ковчега, над телом царя.
Следующий ковчег (II) повторяет собой архаическое святилище Верхнего Египта, именовавшееся пер ур — «Великий дом» и посвященное богине Нехбет, представавшей в облике грифа. С архитектурной точки зрения ковчег отличается от предыдущего формой крыши, которая изгибается впереди, над дверями и плавно понижается назад. Как и на других ковчегах, под крышей стенки завершаются характерным изогнутым карнизом.
На внешних сторонах дверей ковчега представлены грозные духи загробного мира, вооруженные огненными ножами — «Великий голосом» с головой антилопы, «Тот, кто отражает нечестивого» с головой крокодила, львиноголовый «Тот, кто отрезает головы» и «Тот, кто приносит огонь» с головой овна. Сопровождающая надпись говорит о царе, как об Осирисе, пришедшем судить Хора и Сетха, спорящих за его наследство: «Осирис, царь, Владыка Обеих земель, Небхепрура, тот, кто прекращает кровь, кто разделяет двух братьев, пришел»…
На внутренних сторонах дверей — распростершие в позе защиты крылья богини Исида и Нефтида, стоящие на знаке нетленного золота. Внутри, на потолке ковчега помещено изображение крылатого солнечного диска, семи летящих самок грифа, сжимающих в лапах иероглифы бесконечности шен (одна из самок имеет голову кобры), а также сокола Хора, символизирующего царя. Сопутствующая надпись говорит о солнце, как о главной защите царя: «лучи диска солнечного — защита над тобой, ладони их держат жизнь и здравие»…
Центральное место в декорировке внешних плоскостей этого ковчега занимает странствие солнечной ладьи и ее спутников по пространству иного мира, в частности, шестой час ночи из текста «Амдуат», грядущее воссоединение Осириса с Солнечным божеством, которое дает новую жизнь божествам, духам и умершим царям: «Указание Величества этого великого бога царям Верхнего Египта и царям Нижнего Египта, которые в мире ином: да поднимут среди вас короны хеджет, да наденут короны дешрет… Да будут Величества Ваши благочестивы, да будут дышать горла Ваши»…
Особенно интересен следующий ковчег (II), вновь повторяющий своей формой пер-ур. Особое значение в уникальной декорировке придается солнцу и его свету, выступающему в качестве гаранта бессмертия царя-Осириса. На дверях ковчега Тутанхамон в сопровождении Исиды движется к Осирису и в сопровождении Маат — к Ра-Хорахте. «Даю я тебе существование как богу живому подле меня день каждый, как подле отца, Хор, сын Исиды»…, — обращается к царю Осирис. «Ты — сын мой, от плоти моей, мной возлюбленный»… — говорит Исида. «Приди в мире, сын мой возлюбленный, Владыка Обеих земель, — приветствует царя Ра. — Утвердил я место твое в Земле священной, чтобы был ты как один из богов, владык мира иного».
Внутри, на потолке ковчега, изображена Нут, стоящая на знаке золота и произносящая заклинания:
«Простираю я руки над этим сыном моим, Осирисом, в имени моем — Нут. Не отдалюсь я от этого сына моего, Осириса, царя, Владыки Обеих земель, Небхепрура, сына от плоти Ра, им возлюбленного, Тутанхамона, властителя южного Гелиополя».
Заднюю внутреннюю стенку ковчега покрывает иероглифический текст знаменитой 17 главы «Книги мертвых», содержащей слова бога Ра о мироустройстве и возрождении в водах Нуна.
Внешняя часть ковчега покрыта интереснейшими изображениями, иллюстрирующими заупокойный текст, аналоги которого до сих пор не известны. Текст близок по содержанию к «Амдуат».
Вся композиция состоит из двух частей, каждая из которых разделена на три регистра. Солнечная ладья в этой композиции отсутствует и присутствие солнечного божества выражено солнечными дисками и овноголовыми птицами-ба. Текст этой композиции, предельно сложный для интерпретации, выписан энигматическим письмом без комментариев обычной иероглификой. Начинается первая часть композиции с двух пограничных столбов на пороге иного мира — одного с головой овна («голова Ра») и второго с головой шакала («шея Ра»), после которых начинается пространство мрака, место таинства и трансформации; вторая часть композиции, наоборот, наполнена светом, дисками солнца, змеями, звездами и солнечными лучами, которые подобно потоку пронизывают всех существ и изливаются в пространство.
В начале, когда открываются таинства тьмы, в изображениях встречаются лишь два огромных солнечных диска, в каждый из которых помещена птица-ба с головой овна, т.е. душа предвечного божества, воплощенная в солнце и его энергии. Все происходящее здесь связано с концепцией обновления и трансформации солнца, а вместе с ним и самой сути жизни, проходящей сквозь тьму и смерть.
В центре пространства тьмы находится огромная фигура антропоморфного божества, пронизывающего собой все три регистра изображения. Голова и стопы гигантского божества окружены двумя кольцами, образованными телом змея времени Мехена: это первое известное по египетским источникам изображение змея-уробороса. Окруженное двойственностью времени, завершенной целостностью времени джет и времени нехех, предвечное божество, таким образом, является источником и завершением всякого существования.
Внутри тела, имеющего облик Осириса, помещен солнечный диск с душой-ба, что выражает основную концепцию египетского предвечного божества, творящего вселенную, в котором еженощно воссоединяются две его важнейшие составляющие — хтоническое пространство джет, воплощенное Осирисом, и солнечное время нехех, представленное богом солнца. Между фигурой предвечного божества, ближе к входу в иной мир в верхнем и нижнем регистрах изображено по восемь божеств: верхние «те, кто в пещерах Дуата», нижние — те, кто пребывает в «Месте уничтожения»; несмотря на это их ба могут находиться вблизи от бога солнца.
За колоссальной фигурой, составляющей центр композиции, в среднем регистре расположены семь антропоморфных божеств, поднимающих руки в позе восхваления и касающихся ладонями солнечного каната, соединенного с диском в утробе предвечного божества. Над ними в верхнем регистре предстают семь богинь, обращенных лицами в противоположную сторону и помещенных в саркофаги; их сущности остаются погребенными, в то время как их ба следуют за солнечным богом.
В нижнем регистре, меж двух стражей вновь изображено «Место уничтожения», самая далекая и неведомая часть загробного мира, которую Иуф-Ра освещает, «возвышая свой голос», давая тем самым дыхание обитателям этого пространства. В центре его — змей с человеческой головой многократно обвивает два саркофага с телами Осириса и Ра; рядом находится еще один открытый саркофаг с частями тела Осириса и головой овна, символизирующего присутствие солнечного бога близ Осириса.
Вторая часть композиции также разделена на три регистра, с тремя сценами в каждом. Присутствие солнечного божества демонстрируется здесь посредством солнечных дисков во всех трех уровнях изображения. В большинстве случаев диски связаны с фигурами божеств и духов лучами света, исходящими от Ра, которыми, согласно тексту, наполнены их тела.
Верхний регистр начинается с образа кобры, изрыгающей свет. Перед ней предстоят шесть богов; каждому из которых предстоит птица ба, сидящая на четырех столпах небесного пространства, и звезда, от которой отходит сияние, касающееся лба каждого бога. Первый бог, между тем, получает солнечный свет, а вместе с ним и энергию Ра непосредственно от священной кобры. Согласно сопровождающему тексту, — это свет Ра, который проникает в них.
Вторая сцена верхнего регистра начинается с изображения кошки; за ней стоят шесть фигур без голов. Головы помещены перед фигурами, каждая — между звездой и солнечным диском, от которого струятся лучи света. Солнечный свет поникает внутрь этих фигур через срезы шей, наполняя их.
Далее изображены еще шесть фигур, забальзамированных и с головами; свет стремится к ним от солнечных дисков, снабженных в знак своей мобильности ногами. Каждый из этих божеств стоит на теле змея огненного времени Мехена, который помогает возродиться и начать новый цикл существования.
В среднем регистре изображена фигура Осириса, в знак своей победы над смертью лежащего на животе и протягивающего руки к солнечной овноголовой птице ба. От ног бога поднимается в лучах света змея, обращенная к шести фигурам божеств с львиными головами; их руки скрыты, так как они несут к лучам солнце тайное тело Осириса — тело предвечного божества. «Таковы боги эти; входят лучи Ра в тела их, воздают они хвалы, когда видят душу его», — комментирует текст над ними.
Лучи, исходящие от солнечного диска, касаются уст каждого божества, наделяя всех жизнью. В нижнем регистре солнечная кобра изрыгает свет, который затем передают вглубь львиные головы и малые кобры; свет, таким образом, разливается над шестью образами Осириса, которые, согласно тексту, «одеты» в свет Ра, а их ба следуют за ними. Им даровано дыхание жизни, символически изображенное в виде паруса, наполненного ветром.
Далее лев, сидящий на земле, предстает перед шестью овноголовыми забальзамированными фигурами, стопы которых покоятся на постаменте с изображением змея Мехена; «таковы боги эти, — гласит текст над ними, — изливают они то, что скрыто… видят они»…. Далее следует то, что они — хранители умершего царя.
Далее следуют шесть богинь, каждая из которых вдыхает солнечный свет и изливает его из рук на голову выползающего из глубин земли змея, имя которого «Злобный ликом». Имена богинь говорят о них, как о существах, несущих гнев и наказание солнца, которым каждая из них беременна.
Завершается композиция дважды появляющимся солнечным диском с птицей-ба внутри; речь идет о циклическом движении солнца, которое поддерживают в бесконечном движении четыре пары рук. Змеи, головы четырех коров-негау, символов богини Мехетурет, и богини, стоящие меж их рогов и держащие руки в позе молитвы завершают двойное изображение, две части которого отличаются тем, что в середине одного — фигура Осириса, а другого — рука солнечного бога, благодаря единству которых умерший царь воссуществовал правогласным и солнечным духом среди других величайших божеств вселенной.
На внешних сторонах дверей ковчега изображены крылатые фигуры богинь-охранительниц Исиды и Нефтиды, стоящих на знаках нетленного золота и дающих умершему возрождение:
«Пришла я, чтобы стать защитой твоей, ты, сын мой, мой возлюбленный Хор, простерла я защиту над тобою, от того, кто против тебя. Да поднимешь ты голову свою, чтобы узреть Ра, чтобы стоять на ногах своих, чтобы двигаться в обликах, какие пожелаешь, как раньше»…
«Пришла я, чтобы защитить тебя сзади, мой брат Осирис, царь, Владыка Обеих земель Небхепрура. Установила я голову твою на шею твою, Анубис собрал для тебя кости твои, восстановил он члены твои во здравии, удалил он всякое зло, заставил исчезнуть все скорбное. Ты не разложишься!»
Наконец, внешний грандиозный ковчег (I) представляет собой копию павильона для царского празднества Сед, во время которого правитель должен восстановить свои силы, пройти сквозь символическую смерть и возродиться. В знак этого вся внешняя поверхность ковчега покрыта помещенным на лазуритовый фон орнаментом из золотых знаков Осириса джед и Исиды тет, которые в сочетании имеют значение сешета (sštȝ) — «таинство».
На задней внутренней панели ковчега запечатлена «Книга Коровы», повествующая о явлении из Нуна грозной солнечной дочери Ра и о воздаянии за грехи человечества. Брюхо небесной коровы покрыто изображениями звезд, ее тело поддерживают девять воплощений бога миллионов лет Хеха. У плеча коровы в небольшой ладье плывет солнечный Ра, который обращается к царю: «Приди, сын мой от плоти моей, мой возлюбленный, Владыка Обеих земель Небхепрура. Пребывай с отцом твоим Ра, как один из тех богов, что спутники его у Мехетурет»…
Образ коровы, «Великой пловчихи» становится залогом перенесения царя на небеса в места пребывания богов, отдаленные от мира. На створках ковчеге царь предстает уже в образе бога солнца в высокой короне хену, с символом анх в руках, повергнувшего все силы хаоса и окончательно восторжествовавшего над смертью в своем новом существовании: «Я отразил, я уничтожил, я обезглавил, я отрезал ноги врагов Осириса. Пали они! Не воссуществуют они! Все враги Осириса, царя Небхепрура, пали!»
САРКОФАГИ
Под огромными ковчегами таился каменный саркофаг царя, выполненный из кварцита; крышка, предназначавшаяся для саркофага, судя по всему, была разбита еще в древности и ее заменили при погребении на другую, гранитную, окрашенную в желтый цвет. Саркофаг представлял собой прямоугольный блок камня длиной 2.75m, шириной 1.5m, и высотой 1.5m. Верх саркофага был декорирован классическим египетским карнизом, а низ — фризом из символов джед и тет.
По бокам саркофаг защищали распростершие по его сторонам руки-крылья богини: у изголовья Исида (северо-запад) и Нефтида (юго-запад), а у изножья Нейт (северо-восток) и Селкет (юго-восток). Положение саркофага по сторонам света в целом совпадала с ориентацией знаменитого «Дома жизни» согласно тексту папируса Солт 825 и сопровождающей его виньетке, что свидетельствует о единой системе ориентации в ритуальном пространстве, издревле существовавшей у египтян:
«Что касается Дома жизни — будет сотворен он в Абидосе. Создай его из четырех частей… Что касается четырех пер и одного анх, что касается «живущего», то это — Осирис. Что касается четырех пер — это Исида, Нефтида, Геб и Нут. Исида у одной стороны, Нефтида у другой, Хор у одной стороны, Тот у другой. Это четыре угла. Геб — его пол, Нут — его крыша, и бог великий и тайный покоится в нем… Не будет он ведом, не будет он видим, только солнце узрит его тайну»…
Первый, внешний антропоморфный саркофаг, был выполнен из дерева и покрыт листовым золотом по штуку. Лицо и руки царя, сжимающего царские скипетр и плеть, были выполнены из чистого золота. На голове царя — повязка хат, его тело закрывали руками-крыльями рельефные изображения богинь, Исиды и Нейт.
Второй, средний саркофаг, также был выполнен из дерева, покрыт штуком и богато обит золотыми листами. Сверху саркофаг покрывала льняная пелена, поверх которой лежали цветы. Осирис-Тутанхамон представал в немесе во всем величии, сжимая царские скипетры. Поверхность саркофага, который был украшен изображениями крылатых богинь Уаджит и Нехбет, была инкрустирована тысячами кусочков стекла и полудрагоценных камней, имитируя перья божественных крыльев, защищающих плоть Осириса. Вниз от скрещенных рук шли столбцы заупокойной молитвы.
Третий, внутренний саркофаг, выполненный из кованого золота, был обнаружен завернутым в льняную пелену, поверх которой лежали бесчисленные гирлянды из цветов, фруктов и фаянсовых бусин. Царь был изображен в облике Осириса, плоть которого стала золотом в мгновение соприкосновения с лучами Ра, проникшими в иной мир. К сожалению, глаза саркофага рассыпались от воздействия благовонных масел, вылитых на него во время погребения.
На царе — головной убор немес, в руках — скипетры хека и нехеху, на его подбородке — длинная божественная бородка хебесут. Поверх рук простерли свои защитные крылья богини юга и севера — Нехбет и Уаджит, сжимающие в лапах солнечные знаки бесконечности шен; их тела были богато инкрустированы стеклом и камнем. Все золотое «тело» царя-Осириса покрыто орнаментом «риши»; с боков его охраняют распростертыми крыльями Исида (справа) и Нефтида. От скрещенных рук вновь вниз шли столбцы молитв, обращенных к богине Нут. Изображенная на изножье саркофага крылатая Исида , «великий горизонт», восседая на знаке золота, оберегала царя-Осириса от любого зла и вела его на запад сквозь все преграды иного мира.
МАСКА
Золотая маска Тутанхамона, созданная из нескольких кусков кованого золота, стала одним из образов Египта и величайших сокровищ его древности, национальным символом и предметом гордости египтян. Поразительное произведение искусства, она венчает собой собрание Египетского музея в Каире и в реальности невероятно превосходит все те бесчисленные фотографии, на которых изображена.
Золото царского лика, с его непередаваемой, едва играющей на губах улыбкой, поразительно сочетается с лазуритовыми полосами царского немеса, бородкой и выложенной тонкими полосками косметической подводки глаз. Глаза царя, отождествленного с самой сутью божественности, которую не может охватить смерть, представляют собой небесные светила — луну левый глаз и солнце — правый, выполнены из обсидиана и кварца.
Убор царя, повторяющий волосы солнечного божества и его плоть, из лазурита и золота, венчают Уаджит — священная кобра севера и Нехбет — великая самка грифа с юга — «Обе Владычицы», объединяющие под властью царя земли Египта. Плечи царя закрывает широкое ожерелье усех, инкрустированное лазуритом, кварцем, амазонитом, полевым шпатом, завершающееся на плечах головами священных соколов.
На задней части маски сохранились десять колонок текста молитвы о нетленности царя, созданной минимум за пять веков до Тутанхамона и вошедшей в свод «Текстов саркофагов», а позже — в «Книгу мертвых». В ней запечатлено таинство трансформации отдельных частей тела царя в богов, которые затем объединяются в сущности предвечного божества. Победоносный Хор, повергнувший врагов и давший Око свое отцу, и Осирис, владыка иного мира, объединяются в облике царя:
…«правый глаз твой — ладья ночная; левый глаз твой — ладья дневная; брови твои — сонм великих девяти богов; лоб твой — Анубис; шея твоя — Хор, а волосы твои — Птах-Сокар. Осирис перед тобой. Прозрел он благодаря тебе, поведешь ты его путями благими, ты, побивший ради него спутников Сетха, чтобы мог он повергнуть врагов твоих перед Девятью богами»…
КОВЧЕГ ДЛЯ КАНОП
В центре «Сокровенной сокровищницы» стоял массивный ковчег для каноп царя. Он покоился на деревянном позолоченном основании, на котором были установлены столбы, поддерживающие над ковчегом подобие балдахина, украшенного, как и сам ковчег, карнизом и восхитительным фризом из полихромных уреев. Позолоченные стенки ковчега были покрыты надписями и рельефами, на которых различные божества-защитники умершего призывают четырех духов, сыновей Хора защитить Осириса Небхепрура: Исида заклинает о защите Имсети, Геб — Дуамутефа, Птах-Сокар-Осирис — Кебехсенуфа и Нефтида — Хепи.
Между столбов балдахина, распростря руки, стояли четыре статуи великих богинь охранительниц, в погребальных повязках афнет, обращенных лицами к ковчегу: Исида с запада, Нейт с севера, Нефтида с востока и Селкет с юга. Каждая из богинь имела власть над одним из сыновей Хора и над одной частью внутренностей царя: Исида — над Имсети (печень), Нефтида над Хепи (легкие), Нейт над Дуамутефом (желудок) и Селкет над Кебехсенуфом (кишки). Сыновья Хора, защитники внутренностей царя, ассоциировались, как и богини, со сторонами света; именно их воплощали четыре птицы, которых выпускали на разные стороны света во время царской коронации:
«О Имсети, иди на юг и сообщи божествам юга, что Хор овладел короной хеджет и воссоединил ее с короной дешрет.
О Хепи, иди на север и скажи божествам севера, что Хор овладел короной хеджет и воссоединил ее с короной дешрет.
О Дуамутеф, иди на запад и скажи божествам запада, что Хор овладел короной хеджет и воссоединил ее с короной дешрет.
О Кебехсенуф, иди на восток и скажи божествам востока, что Хор овладел короной хеджет и воссоединил ее с короной дешрет».
Богини и подвластные им духи, таким образом, окружают ковчег с внутренностями и «движутся» против движения солнца, осуществляя очищающий ритуал Сокара, ритуал умирания, центром которого является содержимое ковчега — внутренности Осириса.
Внутри позолоченного деревянного ковчега находился алебастровый, своей формой повторяющий пер ур — символический предвечный храм Верхнего Египта, заменивший собой четыре традиционных сосуда-канопы.
По углам ковчега были вновь изображены богини-охранительницы, низ был вновь отделан фризом из изображенных попарно знаков джед и тет. Внутри ковчега были выдолблены четыре полости, в которых находились миниатюрные золотые ковчежцы, содержащие забальзамированные и запеленутые внутренности царя. Своей декорировкой ковчежцы повторяли убранство второго антропоморфного саркофага, а сам ковчег — каменный саркофаг царя. Ковчежцы, надписанные именами богинь и сыновей Хора, были расположены так, чтобы соответствующий ковчежец лежал в полости близ соответствующей богини на внешней стороне ковчега.
Четыре поразительные скульптурные портреты царя в уборах немес, служили крышками для полостей ковчега. Портреты были выполнены из алебастра, глаза и брови царя при этом были подведены черной краской, губы — красной, с оттененными черным уголками рта. Крышки были расположены попарно, друг напротив друга, так что лица царя как бы «смотрели» друг на друга. Две головы на восточной стороне ковчега были обращены лицом к западу, а две другие — лицом к востоку.
Маленькие ковчежцы, находившиеся под крышками, были помещены в цилиндрические углубления стоймя, завернуты в освященное полотно и обращены лицами в том же направлении, что и прикрывающие их алебастровые крышки-головы.
Наряду с ковчегом для каноп, статуями божеств, многочисленными ладьями и другими предметами погребального инвентаря, в «Сокровенной сокровищнице» находился еще один памятник, крайне важный для достижения той цели возрождения царя, которой служила вся гробница. В большом прямоугольном ящике, который находился в юго-западном углу помещения, покоился запеленатый деревянный образ Осириса, поверхность плоского тела которого была покрыта нильским илом и зерном, которое начало прорастать. Такие «подобия бога» предназначались, чаще всего, не для погребений, а для ритуалов храма, где они хранились в течение года. Затем «подобие» погребалось в специальном храмовом некрополе, либо в гробнице царя, ушедшего в этот год в мир иной. Ритуал изготовления «мумий» из ила и зерна должен был поддержать цикл возрождения, даровать новую жизнь Египту, упрочить вселенский миропорядок и обеспечить умершего царя существованием в вечности.
_______________________________
|
Метки: Египет |
Процитировано 1 раз







 «в-землю-гляд» (Καταβλέπον). По виду ее шкуры обычно полагают, что она похожа на дикую овцу; однако некоторые говорят, что на теленка. Ее дыхание будто бы столь сильно, что убивает всякого встречного. [На самом же деле] она имеет гриву, которая свисает со лба, закрывая глаза, и всякий раз, когда она встряхивает ею (а это тяжело и трудно), то не дыханием убивает, а неким излучением от особенной природы ее глаз.
«в-землю-гляд» (Καταβλέπον). По виду ее шкуры обычно полагают, что она похожа на дикую овцу; однако некоторые говорят, что на теленка. Ее дыхание будто бы столь сильно, что убивает всякого встречного. [На самом же деле] она имеет гриву, которая свисает со лба, закрывая глаза, и всякий раз, когда она встряхивает ею (а это тяжело и трудно), то не дыханием убивает, а неким излучением от особенной природы ее глаз.