-Рубрики
- Polska (14)
- ОТДЫх (12)
- «Не ту страну назвали Гондурасом!» (8)
- Резиновый занавес (3)
- А,Я КУРЮ!))) (13)
- Армения (7)
- АРМИЯ (22)
- Бирюлёво (4)
- Бывшие "Братья" (9)
- В МИРЕ (24)
- Власть. (7)
- ВОЙНА (80)
- ВЫБОРЫ (15)
- Дебилы бл..ь (10)
- ДЕБИЛЬНАЯ россия (312)
- Евро (77)
- Египет (16)
- Едящие Россию (70)
- ЖЕНЩИНА (61)
- ЖЗЛ (5)
- ЖИВОПИСЬ (1050)
- Жизнь Наша (162)
- интересно (153)
- искусство (154)
- ИСТОРИЯ (134)
- Креаклы-Либерошлепы (73)
- Любовь (16)
- Люди (210)
- МИГРАНТЫ (147)
- МОЁ (32)
- МОСКВА (53)
- МРАКОБЕСИЕ (12)
- МУЗЫКА (69)
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС (79)
- Новороссия (178)
- ОБЩЕСТВО (29)
- ОТНОШЕНИЯ (6)
- ПАМЯТЬ (71)
- Пиндосия (96)
- ПОЗИТИВ (99)
- ПОЛИТИКА,ЭКОНОМИКА (143)
- Природа (8)
- ПРОЗА (82)
- Религии (45)
- РОССИЯ (758)
- Сатира (18)
- Сирия (17)
- СПОРТ (123)
- СТИХИ (268)
- Точки Зрения (79)
- Украина (263)
- Укроруина должна быть разрушена! (736)
- ФОТО АРТ (61)
- ФУФЛО (30)
- Цветные революции (3)
- ЮМОР (134)
-Я - фотограф
Египет 04.18-3.
-Музыка
- Гори моя звезда
- Слушали: 25 Комментарии: 0
- ABBA
- Слушали: 94 Комментарии: 0
- Barbara Streisand - I Am A Woman In Love
- Слушали: 6258 Комментарии: 0
- Edith Piaf - Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes)
- Слушали: 90 Комментарии: 3
- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"
- Слушали: 1966 Комментарии: 6
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
Умные помалкивают...Умные здороваются первыми...Умные не ввязываются в драку...Умные уступают дорогу...А потом жалуются:- Почему нами правят одни ДУРАКИ ?
Василий Пешкун для каждого. |
Художник Василий Пешкун родился в 1978г. В г.Гомеле.
Учился в гомельском худ. Училище.
В 1999г. Был отмечен президентской стипендией. 1999-2005г.-Учеба в Белорусской Академии Искусств (Кафедра МДИ.).
В 2008г награжден медалью «Талант и призвание» международного фонда мира и согласия.
Работы находятся в музее современного русского искусства в Джерси Сити (США), белорусском посольстве в г. Будапешт (Венгрия) , частных коллекциях Беларуси, России, США, Израиля, Японии, Италии, Франции.



































Метки: живопись мое |
Процитировано 3 раз
Понравилось: 4 пользователям
Князь милосердия |
Последний сбор школьных друзей был лет десять назад, Васильков пошел, его уговорил Буксман. Еще пришли четыре пожилые тетки. Никто ни про кого ничего не знал. Немоляева последний раз Васильков видел в 92-м. Он крутился в какой-то мелкой фирме на третьих ролях.
Василькову совсем не хотелось видеть Немоляева. Тем более все эти трагедии типа «напоследок». Но не скажешь ведь школьному другу, что, мол, извини, я страшно занят, и отбой. Поэтому он сказал:
— Надо, старичок, конечно, надо повидаться!
Немоляев пришел в четверть девятого.
Он был в старом, но приличном костюме. Не курил и на коньяк не налегал. Но ел с большим аппетитом.
— Никого не осталось, — говорил он, жуя, поперхиваясь и откашливаясь. — Одни мы с тобой. Кутя от инфаркта, Груша тоже от инфаркта, Валечка Рудный разбился, летчиком. Зюзя спился.
— Да, — вздохнул Васильков. — Еще Леня Соколов, помнишь? Тоже умер.
— Говно был твой Леня. Больше парней вроде не было, одни девки. Да, еще Букс. Куда он делся? В Израиле?
— Что ты! Он тут. Процветает. «Буксман, Лавинский и партнеры».
— Вот сука! — возмутился Немоляев. — Я ему звоню, а мне: вы ошиблись! А голос, сука, знакомый. Ну и хер с ним. Одни мы с тобой остались, и это характерно.
— Почему? — спросил Васильков.
— А потому, что меня все били. Кроме тебя. Помню, стоял я в коридоре у стены, прислонился, а Леня Соколов мимо шел — и мне подсечку. Просто так. Я на ж…пу — бац! Заплакал. Обидно стало. А ты подошел, руку подал, помог встать…
Немоляев всхлипнул, положил ладонь на руку Василькова.
— А ты-то как живешь? — спросил Васильков.
— Накоплю, истрачу, — сказал Немоляев. — Накоплю, истрачу. Глупо живу.
Васильков вдруг увидел, что у Немоляева перстень с циркулем и угольником.
— Ты что, масон? — спросил он.
— Двадцать шестой степени, — усмехнулся Немоляев. — «Князь милосердия». Это все болтовня, про могучий орден. Сидят отставные полковники, вслух читают рефераты о символике циркуля.
Васильков отодвинул руку.
— Слушай, — сказал Немоляев. — Позволь мне остаться переночевать. Напоследок, — значительно добавил он.
— Минутку, — сказал Васильков и вышел.
Жена его сидела в спальне и читала книжку. Васильков попросил ее придумать какой-нибудь вежливый отказ. Но жена была верующая, и сказала, что это подвиг странноприимства, и выдала мужу пару простыней, шерстяное одеяло, подушку с наволочкой.
Наутро Немоляев отказался от завтрака, обнял Василькова и ушел.
Васильков зашел в гостиную, где ночевал Немоляев. Простынки были сложены стопкой, а сверху лежал пакет, перетянутый тонкой старой бумажной веревочкой. И записка: «Это тебе. А меня не ищи».
Васильков расковырял газету. Боже! Это были пачки сторублевок образца 1961 года, убитых павловской реформой. Тысяч 200, несусветное богатство по меркам брежневской поры. Две дачи, три кооператива, «Волга», пиры в ресторане «Арагви», путевки на курорты… А сейчас — дрянная сальная бумага. Васильков брезгливо взялся двумя пальцами за шпагат и, не сказав жене, вышел на лестницу и выбросил этот сверток в мусоропровод.
Откуда ему было знать, что там, в середине пакета, лежала кожаная коробка с брильянтовым колье этак в полмиллиона долларов?
Однако пакет, перекочевавший в помойный контейнер, расковыряла бомжиха Юлька Глазок и нацепила всю эту красоту на себя. Но потом по пьяни уронила в уличный туалет на станции Катуар. Потом этот сортир снесли и заровняли.
Еще через пару лет Васильков был по делам своей фирмы в Швейцарии и там в ресторане вдруг увидел Немоляева — за соседним столиком.
— Надеюсь, тебе немножко помог мой… эээ… подарок?
— О, да, да! — улыбаясь, ответил Васильков. — Спасибо большое!
Денис Драгунский
Метки: проза жизнь |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Роландо Куберо |
Роландо Куберо посчастливилось или угораздило родиться в маленьком центральноамериканском государстве Коста-Рика. Почему посчастливилось? Да потому, что страна маленькая и все талантливые люди там на виду. Почему угораздило? Да потому, что страна находится вдалеке от мировых художественных центров. В Европе, например, о ней знают только то, что  оттуда привозят кофе и бананы, а о тамошних художниках слыхом не слыхивали до того, как там взошла звезда Роландо Куберо. Его изысканные, тщательно исполненные картины сегодня пользуются неизменным успехом, как в Америке, так и в Европе.
оттуда привозят кофе и бананы, а о тамошних художниках слыхом не слыхивали до того, как там взошла звезда Роландо Куберо. Его изысканные, тщательно исполненные картины сегодня пользуются неизменным успехом, как в Америке, так и в Европе.
А начиналось все в маленьком городке у подножья вулкана Барва, где художник родился в 1957 году. Видимо, с ранних лет он питал склонность к рисованию, потому что родители отдали его в школу искусств уже в 1964 году, а в 1976 году он поступил в Национальный университет.
Творчество художника формировалось под воздействием старых мастеров, но в 80-е годы он испытал сильное влияние магического реализма, художественного метода, в котором магические элементы включены в реалистическую картину мира, правда, затем он вернулся к классическим истокам. Куберо, пишет портрет человечества во всех его проявлениях, воссоздавая их с поразительной точностью. Так говорят о нем критики. Картины его сами по себе довольно провокационные да к тому же он дает им провокационные названия - все это способствует немного скандальному ореолу вокруг его творчества, что, впрочем, в немалой степени способствует его популярности.
Его картины выставлялись не только в Коста-Рике, но и в Уругвае, Чили, Боливии, США, Испании и Италии. Сегодня работы Куберо находятся в частных коллекциях в Коста-Рике, Никарагуа, Сальвадоре, Гватемале, Панаме, Мексике, Колумбии, Венесуэле, Уругвае, Боливии, США, Италии, Испании, Швейцарии, Германии и Израиле. При этом художник по-прежнему живет и работает на родине.






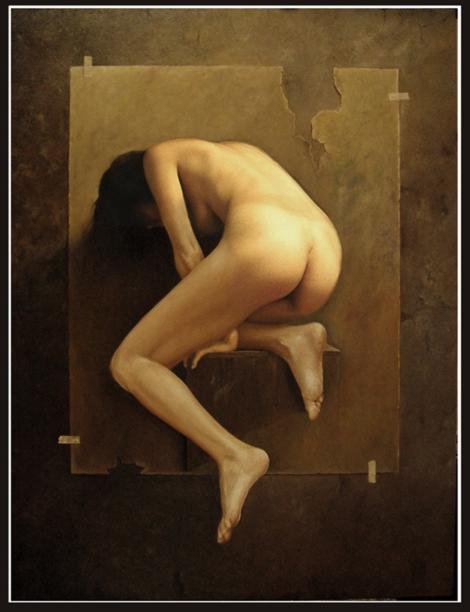




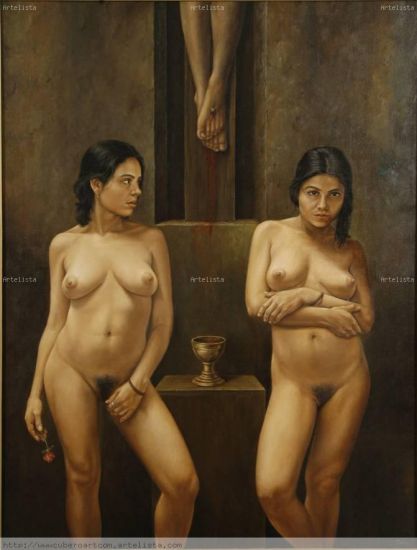





http://www.galeriavalanti.com
Метки: живопись интересно |
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
СЛОВА... |

Слова…
Те, которые вершат миры.
Мир реальный и мир вымышленный, два мира, таких близких и таких разных –
до грани, на грани, за гранью…
Тебе кажется, что Мир так и не смог заглянуть в её глаза? Или ты не смог? От этого и обида.
Но Мир не понимает и не принимает твоих обид, ведь ты сам и есть – этот Мир.
Извечная параллельность прямых, жуткая изогнутость пространства – и синяки на память.
Ей говорят: «Ты везучая! Ты так легко отделалась…»
И только слёзы прожигают две бороздки по щекам, невидимые всем прочим…
Промокнула салфеткой. Тон, пудра, белила, алый росчерк ироничной ухмылки:
«Мне неинтересно, что ты там себе напридумывал, раз я всё равно не смогу.
А на пороховой бочке мне, по крайней мере, весело!
Трон ведь всё равно давным-давно пропах нафталином…»
Теперь её ход, её очередь быть насмешливо-небрежной. Гламурной. Никакой.
Ни защищаться, ни делать выпадов, даже если в спину летит скомканный листок: «Исписалась!»
Не жалеть… Забыть всё, и братские чувства.
И небратские тоже.
Может, в этом и заключается высший гуманизм?
Полюбить лето, подарившее нежданно-негаданно два моря… варить варенье… узнать нечаянно, что давний друг был когда-то влюблён, радоваться тому, что она так и не догадалась тогда, и всё потихонечку минуло, и они по-прежнему остались друзьями.
Ближе к полуночи вспомнить с мужем об их дне, озадачиться вопросом: а сколько же мы вместе? Решить, что 83 года, дурачиться и хохотать до упаду, объедаться вишней в шоколаде, и знать, что именно это и есть аромат счастья.
Писать стихи… всё-таки писать… для себя, но о нём. О своём лирическом герое.
Потому что есть мир реальный и мир вымышленный, два мира, таких близких и таких разных –
до грани, на грани, за гранью…
О, да! Она эгоистка…
Разве она когда-то задумывалась каково ему, её ЛГ… Легко ли ему даются эти переходы между её Мирами? Холодно, тепло ли там, на том перевале… Что могла предложить она ему – стихостенный дом? Шарф, связанный из строф? Вальс осенних листьев? Кордебалет прошлогодних снежинок? Что?!!
И всё-таки… двуголосье их миров, переплетения рук, слов и выдохов… Его полёт, её фантазия.
Мир реальный и мир вымышленный, два мира, таких близких и таких разных –
до грани, на грани, за гранью…
InnA
Серия сообщений "Любовь":
Часть 1 - Огромная волна накрыла влюбленных во время предложения руки и сердца
Часть 2 - На лице живут глаза...
...
Часть 10 - Сука-любовь...
Часть 11 - О,этих клавиш звуки...
Часть 12 - СЛОВА...
Часть 13 - Можно и по отдельности
Часть 14 - а вот не про Украину. И не про сектор Газа. А очень даже наоборот.
Часть 15 - Ложится спать пустой трамвай...
Часть 16 - Любовь - оружию...
|
Метки: жизнь наша любовь |
Процитировано 6 раз
Понравилось: 8 пользователям
Российское общество ведет борьбу с ... |
18.12.2011

Фото: EPA
Это последняя прижизненная публикация Вацлава Гавела в российской прессе — 9 декабря 2011 года. Мы тогда не знали, что он, откликнувшись на просьбу газеты, писал эти строки, преодолевая страшную боль. Тело отказывало, но голова работала, как всегда, безупречно. Смеем предположить, что Вацлав Гавел торопился сказать людям что-то очень важное. Он успел — читайте.
— Думаю, что российское общество ведет борьбу с самой жесткой из всех известных форм посткоммунизма, с этакой особенной комбинацией старых стереотипов и новой бизнес-мафиозной среды. Возможно, политологи найдут связь сложившейся в России ситуации с нынешними арабскими революциями, но лично я слышу в происходящем, прежде всего, эхо крушения «железного занавеса», отзвук политических перемен 1989-1990 годов.
Поэтому я уверен, что необходимо, в первую очередь, убедить граждан России в том, что режим, который преподносится им под видом демократии, никакой демократией не является. Этот режим отмечен лишь некоторыми – крайне формальными – приметами демократии.
Не может быть и речи о демократии до тех пор, пока власть оскорбляет достоинство граждан, подминает под себя правосудие, средства массовой информации и манипулирует результатами выборов.
Но самой большой угрозой для России было бы равнодушие и апатия людей. Напротив. Они должны неустанно добиваться признания и соблюдения своих прав и свобод. Оппозиционным структурам следует объединиться, сформировать теневое правительство и разъяснять свою программу людям по всей России.
Оппозиции следует создать влиятельные правовые институты для защиты граждан от полицейского и правового произвола.
Оппозиция должна обратиться к соотечественникам, которые на личном опыте убедились в действенности демократических свобод на Западе, с призывом вспомнить о своих корнях и поддержать развитие гражданского общества на родине.
Специально для «Новой газеты»
Прага
Виталий Ярошевский
Метки: россия общество едорасты |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям
Без заголовка |

Просто брызгать водой тут и там ... Топиар, созданный Пэт Хаммер, директором по художественным работам в Ботаническом саду Сан-Диего. Для скульптуры употреблялась глина и немного металлической арматуры. Получилось замечательно. Это действительно произведения искусств.

Конечно, это высший пилотаж! Но, любуясь на эти работы, хочется что-нибудь и у себя создать. Тем более, что климат поменялся и лето сейчас жаркое…
Но, чтобы зимой теплолюбивые растения не погибли, не стоит их укоренять в грунт, наверно. Так, создать мобильную композицию, зимой все перенести в помещение.
Мне вот нравятся суккуленты. Это единственный вид растений , который у меня хорошо себя чувствует.

Суккуленты – сильные растения с разнообразными формами, создавая композиции из них, используя игру света, можно классно украсить свой сад или балкон. Многие по форме напоминают цветок, этакие розетки с мясистыми листьями! Добавить камушков и клумбы получатся просто театральными!



















perjoy.wordpress.com/2012/10/01/succulen
Метки: красота интересно природа |
Процитировано 2 раз
Понравилось: 5 пользователям
Подруга |

Сидим вдвоем на открытой веранде твоего дома. Как точно обозначить, что связывает нас?
Шесть лет - офисный кабинет на двоих. Свадьбы в одном августе.
Наша возрастная дистанция - два десятилетия. Ты транслировала жизненную мудрость, ненавязчиво, словом и делом. Я делилась свежими знаниями и инфой о передрягах в молодежном мире. Мы работали, уставая до одури и темноты перед глазами. Ссорились, мирились, наслаждались общением. Ездили в изматывающие командировки. Уволились в один год.
За долгие пятнадцать лет наша дружба развилась и окрепла.
Ты вЫходила меня, когда никто не знал, выживу ли, останусь ли прежней? Услышав от прооперировавших врачей, что опасность миновала и я дышу сама, ты расплакалась навзрыд - от счастья. Едва меня успели перевести из реанимации, ты появилась с сияющим лицом, праздничная, с уложенной, волосок к волоску, прической, в длинном летнем платье по фигуре, с наманикюренными пальчиками, нагруженная тяжелой сумкой с приготовленным тобой «детским» питанием.
Консультировалась с докторами. Молилась в ближайшем храме.
Уезжала домой. Варила, отжимала, измельчала. Стирала, собирала, забирала, отвозила. Утром снова появлялась в моей палате.
В залитом июньским солнцем больничном дворе, куда ты водила меня на прогулку, мы разглядывали бронзовых пеликанов, похожих на химер. Следили за передвижениями трех оранжевых рыб в мутной воде фонтана. Тогда же, сидя на скамейке, впитывая случайные образы и звуки, неожиданно открыли друг другу, что переполнены ощущением радости бытия...
"Дружба – это родство по выбору," - написали в кодексе "Бусидо" самураи.
"Дружба - высшая форма любви", - рассудили эллины.
"Любовь никогда не перестает", - сказал апостол Павел, почти за две тысячи лет до нас.
Мы теперь нечасто видимся. Читаю в твоих глазах: "Как ты жила это время - от прошлой до сегодняшней встречи? Что происходит в твоем внешнем и внутреннем мире?.. Люблю. Всегда о тебе помню. Твоя О."
Родная моя, почему в твоем ответе на вопрос, как дела, промелькнула суетливость желания скрыть неприятности?
Ты, как прежде, хороша собой. Как же хочу, чтоб мир всегда украшался твоей элегантной красотой и неповторимостью, уместной, чуть экстравагантной резкостью, остротой суждений и удивительным сочетанием женственности с несгибаемой волей к победе!
Что мне сделать, чтоб ты почувствовала себя хоть чуточку счастливее? Ты - воплощенная ипостась моей души...
Люблю. Твоя М.
Москва,
сентябрь 2010
Рубрика произведения: Миниатюра
©Маэми 20.09.2010
Метки: проза женщина |
Понравилось: 3 пользователям
Эндрю Уэйет и Великое Американское Одиночество |
У Рокуэлла Кента и Эндрю Уайета очень разные судьбы... Кент всю жизнь странствовал по свету, как будто кто-то за ним гнался, искал единения с природой в самых отдаленных уголках мира. А жизнь Эндрю Уайета протекала между родной Пенсильванией и штатом Мэн, куда он выезжал на лето. Он был убежденным домоседом. И все же есть нечто, что роднит этих двух художников, а еще и Хоппера, и многих менее известных американцев - это Великое Американское Одиночество. Культ индивидуальности - это боль Америки и одновременно ее слава. Каждый американец, самостоятельно решая свои проблемы, создавал тем самым фундамент американского общества. Без этого культа не было бы великой страны, как без Кента, Уайета, Хоппера не было бы Великой Американской Живописи XX века.

Эндрю Уайет родился в 1917 году в небольшом городе Чеддс-Форде, в Пенсильвании, в семье известного книжного иллюстратора и живописца Ньюэлла Конверса Уайета. Энди обучался искусству у отца. Почти безвыездно жил в родных краях (долина реки Брэндивайн), а летние месяцы проводил в Кушинге (штат Мэн).
Первая же выставка пейзажей 20-летнего Энди в Галерее Макбет принесла ему триумфальный успех - в течение одного дня все работы были распроданы. Успех сопровождал и следующие выставки акварелей, и привел к избранию Э.Уайета членом Национальной академии дизайна.
В 1955 году Эндрю Уайет стал членом Американской академии искусств и литературы, в 1977 году был избран членом Французской академии изящных искусств, в 1978 году становится почетным членом Академии художеств СССР, а в 1980-м его избирают в Британскую Королевскую Академию.
Каков же он, этот романтик ХХ века? "Я сознательно не люблю путешествовать, - пишет в своих дневниках Эндрю Уайет. - После путешествия вы никогда не возвращаетесь такими же - вы делаетесь более эрудированными... Я боюсь утратить что-нибудь важное для моей работы, может быть, наивность".
В 1940 году Эндрю женился на Бетси Джеймс, которой суждено было сыграть большую роль в его творчестве. Бетси была не только его моделью, но и секретарем, критиком, консультантом. Она придумывала сюжеты его картин, давала им названия,советовала ему отказаться от ярких красок. В 1943 году у них родился первенец Николас, а три года спустя - Джеймс, который тоже стал довольно известным художником.
В октябре 1945-го, отец Эндрю и его трехлетний племянник, погибли, когда их автомобиль застрял на железнодорожных рельсах перед движущимся поездом. Гибель отца подвела черту под юностью Уайета. Откликом на смерть отца стала темпера "Зима". Через два года в штате Мэн, на ферме Ольсенов была написана самая, пожалуй, известная картина мастера "Мир Кристины".
В 1948 Уайет начал писать Анну и Карла Куернер, соседей по Чeддс-Форду. Их ферма располагалась всего в нескольких ярдах от того места, где погиб его отец.
Поля, луга, леса и холмы Чеддс-Форда, стали для него не просто родиной, но местом встречи с самой большой любовью. Это произошло зимой 1985 года. В своей автобиографии художник пишет: "И тут на вершине холма показалась маленькая фигурка в зеленом немодном пальто с пелериной. Покрытый жухлой прошлогодней травой, освещенный слепящим зимним светом бесконечный этот холм вдруг приблизился. В этой худенькой женщине, рука которой повисла в воздухе, я увидел себя, свою мятущуюся душу".
По словам Уайета, "это был решающий, поворотный момент в его жизни". Он смотрел в ее серые задумчивые северные глаза и понимал, что вновь хочет жить и писать. Он спросил: "Как тебя зовут?". Но сердце уже знало - как бы ее ни звали, где бы она ни жила, - он не в его силах забыть эти светлые волосы, этот нежный пшеничный пушок над ее верхней губой, этот застенчивый румянец на бледных щеках. "Человек, освобожденный от случайных обстоятельств времени", вот, пожалуй, тема его работ с Хельгой.
Это самый известный цикл картин Уайета - всего их 240. Пожалуй, явление исключительное, если не единственное, в истории американской живописи. Свою любимую модель - немку Хельгу Тесторф с соседней фермы, он рисовал и писал в течение 15 лет, скрывая свою работу от всех, даже от жены. Это была его главная тема и главная любовь всей его жизни.
Интуиция и воображение - более верный способ познания истины, нежели абстрактная логика или научный метод. Вслед за Уитменом художник Уайет выводит американское искусство ХХ века на мировой уровень, потому что видит в каждом человеке черты, которые свойственны не только жителям Америки, но и всем людям Земли. В простой женщине Хельге, которая трудилась на соседней ферме, он открывает целый мир и воспринимает его как часть Вселенной. Даже рисуя ее обнаженной, он как бы понимает, что это всего лишь часть того материка, который называется душа. Глаза Хельги, ее неповторимая грустная улыбка пронизаны особым ощущением жизни. Через свою любовь художник размышляет о старости, юности, о смерти и жизни. Об их отношениях можно было догадаться по долгим прогулкам в окрестностях Мэна, которые так любили Эндрю Уайет и Хельга. Она шла, и все время глядела вперед, что-то высматривая, часто не могла разглядеть и оборачивалась на Эндрю. А он торопливо делал зарисовки. В его глазах Хельга видела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавлял что-то от себя. Что они искали на этом маленьком пятачке Чеддс-Форда под огромным снежным небом над головой? Здравый смысл? Счастье? Или мир и покой, в котором так нуждается человеческое сердце? Самые обыкновенные вещи: поворот головы любимой, ветер за ее спиной, открытое окно - Уайет с великой силой художника сумел поднять на необычайно эмоциональную высоту. Он, как сэлинджеровский герой Холден Колфилд, бережно охраняет свою девочку, играющую во ржи. Конечно, опыт поколений не прошел для Уайета даром, в его творческом сознании произошел своеобразный сплав, и в портретах Хельги можно с одинаковым успехом видеть и дюреровскую законченность, и ренессансные принципы картинного пространства. Но это только сумма слагаемых. Главное - не это. Главное - эти всегда живые глаза цвета студеной воды, это ласковое озорство в уголках пухлого рта, и еще ее нежность, как легкий снег, стремительная, летящая...
В творчестве Эндрю Уайета ощутимы черты, свойственные американской реалистической традиции: идеализация фермерской Америки, пристрастие к родным местам, к точности изображения видимого, порою близкое к топографической иллюзорности. Но все это в сочетании с присущим ему тонким поэтическим восприятием реальности позволяет связать его с направлением магического реализма. У ЭндрюУайета всегда чувствуется некая напряженность. Он, скорее, даже сюрреалистичен, нежели реалистичен.
Сегодня Эндрю Уайет уже очень пожилой человек, но все еще работает каждый день по много часов, и даже дает интервью журналистам.
В 2007 году художник был удостоен Национальной медали искусств, которую ему в Белом доме вручил президент США.
| Chris Rea - Freeway | 04:13 | |
|
|
||
Метки: живопись мое |
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
Символизм и романтика Мелитты Перри. |

Мелитта Перри родилась в Сиднее, в 1969 году. Она заядлая путешественница. Любовь к странствиям началась у нее с автомобильных поездок с семьей во время школьных каникул. Позже к этому увлечению дабавился альпинизм. В 90-е годы, путешествуя по Европе, она неизменно проявляла интерес к разнообразным культурам народов, населяющих Старый Свет. В 1997-2001 годах она жила в Уэльсе, где горы, окутанные туманом, и дорожные знаки на таинственном кельтском языке переносили ее в мир иной реальности. Годы, проведенные среди валлийских ландшафтов, где еще живы древние мифы, оставили глубокий след в ее сознании, позволили ей ощутить единство места и личности.
Сейчас Мелитта живет и работает в крошечном поселке Маллумбимби на севере австралийского штата Новый ЮжныйУэльс. Местность эта известна красотой вулканических пиков и густых лесов. Весь этот регион славится своим оригинальным фольклором – плодом слияния культур аборигенов и белых колонистов.
Здесь Мелитта Перри продолжает путешествовать, но эти путешествия уже не являются перемещением в пространстве. Она путешествует по своему внутреннему миру, и прилежно фиксирует все, что видит и чувствует. Ее пейзажи берутся из литературы и австралийского фольклора. Для нее это места, где могут сталкиваться сознательное и бессознательное. Она играет с пейзажами, населяя их плодами своих фантазий, зверями и человечками, которые очень напоминают детское творчество.
Ее картины пронизаны фантастикой, тайной детских страшилок, абсурдом. Их перспективы очень странны, подсветка иногда зловеща. Беглая манера письма и отсутствие трехмерности подчеркивают драматизм действия. Это своеобразные мистические постановки, в которых слабость человеческой природы подчеркивается присутствием различных существ, хорошо знакомых нам змей, овец и павлинов, а также экзотических - вроде дикой собаки динго, птицы с синим воротником, огромной черной кошки, неистового кабана в ярко розовом парике и танцующего вальс крокодила. Символика Перри вообще присуща интригеповествования. В своих картинах она часто использует маски, зеркала, антикварные безделушки. Мифические образы, которые складывались на протяжение тысячелетий в разных культурах, органично адаптируются в ее творчестве, становясь частью новых мифов.
Первоначальную профессиональную подготовку Мелитта Перри проходила в качестве архитектурного иллюстратора в студии Сиднея Амблера и Хейкрафте, в конце 80-х, а затем, после долгих лет скитания по Европе с рюкзаком за плечами, она в училась живописи в Университет Южного Креста. Зарубежной В 1997 - 2001 годах Перри жили в Кардиффе, где она преподавала в Валлийском университете (UWIC), участвовала в различных выставках и успешно выставилась в Галерее Олбани в Кардиффе. После своего возвращения в Австралию в 2002 году с маленькой дочерью, Мелитта была представлена в галереях Шуберта в Квинсленде и Екатерины Асквит в Мельбурне.














rockkent.narod.ru
Метки: живопись мое |
Процитировано 4 раз
Понравилось: 4 пользователям
Я ВАС ЦЕЛУЮ!!!)Моим друзьям женщинам! |

Хочу сегодня целовать женщин!
Вы прекрасны и умны,утонченны и энергичны,капризы и самоотверженны.
Вы Мать,Жена,Сестра,Любимая.Вы все лучшее,что есть в этом мире!
Я целую Вас,мои дорогие!Пусть счастье всегда будет с Вами!
Метки: женщина мужчина |
Понравилось: 6 пользователям
Jan Stanisławski (Olszana na Ukrainie 1860 - Kraków 1907 ) |
Метки: живопись |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 4 пользователям
За кулисами военных побед: офицеры царской армии в Гражданскую войну |

Да и с чего взяли нынешние «благородные господа», что дворяне в той великой русской смуте были обязательно на стороне белых? Иные дворяне, вроде Владимира Ильича Ульянова, для пролетарской революции сделали гораздо больше, нежели Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
В Красной Армии служило 75 тыс. бывших офицеров, в то время как в Белой около 35 тыс из 150 тысячного корпуса офицеров Российской Империи.
7 ноября 1917 года большевики пришли к власти. Россия к тому времени всё ещё находилась в состоянии войны с Германией и её союзниками. Хочешь или нет, а воевать надо. Поэтому уже 19 ноября 1917 г. большевики назначают начальником штаба Верховного главнокомандующего… потомственного дворянина, его превосходительство генерал-лейтенанта Императорской Армии Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича.
Именно он возглавит вооружённые силы Республики в самый тяжёлый для страны период, с ноября 1917 г. по август 1918 г. и из разрозненных частей бывшей Императорской Армии и отрядов Красной Гвардии к февралю 1918 г. сформирует Рабоче Крестьянскую Красную Армию. С марта по август М.Д. Бонч-Бруевич будет занимать пост военного руководителя Высшего Военного Совета Республики, а в 1919 г. — начальника Полевого штаба Рев. Воен. Совета Республики.
В конце 1918 г. была учреждена должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами Советской Республики. Просим любить и жаловать — его высокоблагородие главнокомандующий всеми Вооружёнными силами Советской Республики Сергей Сергеевич Каменев (не путать с Каменевым, которого затем вместе с Зиновьевым расстреляли). Кадровый офицер, закончил академию Генштаба в 1907 г., полковник Императорской Армии.
С начала 1918 г. по июль 1919 г. Каменев сделал молниеносную карьеру от командира пехотной дивизии до командующего Восточным фронтом и, наконец, с июля 1919 г. и до конца Гражданской войны занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет занимать Сталин. С июля 1919г. ни одна операция сухопутных и морских сил Советской Республики не обходилась без его непосредственного участия.
Большую помощь Сергею Сергеевичу оказывал его непосредственный подчинённый — его превосходительство начальник Полевого штаба Красной Армии Павел Павлович Лебедев, потомственный дворянин, генерал-майор Императорской Армии. На посту начальника Полевого штаба он сменил Бонч-Бруевича и с 1919 г. по 1921 г. (практически всю войну) его возглавлял, а с 1921 г. был назначен начальником Штаба РККА. Павел Павлович участвовал в разработке и проведении важнейших операций Красной Армии по разгрому войск Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, награждён орденами Красного знамени и Трудового Красного знамени (в то время высшие награды Республики).
Нельзя обойти вниманием и коллегу Лебедева, начальника Всероссийского главного штаба его превосходительство Александра Александровича Самойло. Александр Александрович также потомственный дворянин и генерал-майор Императорской Армии. В годы Гражданской войны возглавлял военный округ, армию, фронт, поработал заместителем у Лебедева, затем возглавил Всероглавштаб.
Не правда ли, крайне интересная прослеживается тенденция в кадровой политике большевиков? Можно предположить, что Ленин и Троцкий, подбирая высшие командные кадры РККА, ставили непременным условием, чтобы это были потомственные дворяне и кадровые офицеры Императорской Армии в звании не ниже полковника. Но, конечно, это не так. Просто жёсткое военное время быстро выдвигало профессионалов своего дела и талантливых людей, также быстро задвигая всевозможных «революционных балаболок».
Поэтому кадровая политика большевиков вполне естественна, им нужно было воевать и побеждать уже сейчас, времени учиться не было. Однако поистине удивления достойно то, что дворяне и офицеры к ним шли, да ещё в таком количестве, и служили Советской власти в большинстве своем верой и правдой.
Часто встречаются утверждения что большевики силой загоняли дворян в РККА грозя репрессиями семьям офицеров. Этот миф на протяжении многих десятилетий упорно муссируются в псевдоисторической литературе, псевдомонографиях и различного рода «исследованиях». Это только миф. Служили не за страх, а за совесть.
Да и кто бы доверил командование потенциальному предателю? Известно лишь о нескольких изменах офицеров. Но они командовали незначительными силами и являются печальным, но все таки исключением. Большинство же честно исполняли свой долг и самоотверженно сражались как с антантой, так и со своими «братьями» по классу. Действовали так, как и полагается истинным патриотам своей Родины.
Рабоче-Крестьянский Красный Флот—это вообще аристократическое заведение. Вот перечень его командующих в годы Гражданской войны: Василий Михайлович Альтфатер (потомственный дворянин, контр-адмирал Императорского Флота), Евгений Андреевич Беренс (потомственный дворянин, контрадмирал Императорского Флота), Александр Васильевич Немитц (анкетные данные точно такие же).
Да что там командующие, Морской генеральный штаб Русского ВМФ практически в полном составе перешёл на сторону Советской власти, да так и остался руководить флотом всю Гражданскую войну. Видимо, русские моряки после Цусимы идею монархии воспринимали, как сейчас говорят, неоднозначно.
Вот что писал Альтфатер в своём заявлении о приёме в РККА: «Я служил до сих пор только потому, что считал необходимым быть полезным России там, где могу, и так, как могу. Но я не знал и не верил вам. Я и теперь ещё многого не понимаю, но я убедился… что вы любите Россию больше многих из наших. И теперь я пришёл сказать вам, что я ваш».
Полагаю, что эти же слова мог бы повторить барон Александр Александрович фон Таубе, начальник Главногоштаба командования Красной Армии в Сибири (бывший генерал-лейтенант Императорской Армии). Войска Таубе были разбиты белочехами летом 1918 г., сам он попал в плен и вскоре погиб в колчаковской тюрьме в камере смертников.
А уже спустя год другой «красный барон»—Владимир Александрович Ольдерогге (также потомственный дворянин, генерал-майор Императорской Армии), с августа 1919 г. по январь 1920 г. командующий Восточным фронтом красных, — добивал белогвардейцев на Урале и в итоге ликвидировал колчаковщину.
В это же время, с июля по октябрь 1919 г. другой важнейший фронт красных — Южный — возглавлял его превосходительство бывший генерал-лейтенант Императорской Армии Владимир Николаевич Егорьев. Войска под командованием Егорьева остановили наступление Деникина, нанесли ему ряд поражений и продержались до подхода резервов с Восточного фронта, что в итоге предопределило окончательное поражение белых на Юге России. В эти тяжёлые месяцы ожесточённых боёв на Южном фронте ближайшим помощником Егорьева был его заместитель и одновременно командующий отдельной войсковой группой Владимир Иванович Селивачёв (потомственный дворянин, генерал-лейтенант Императорской Армии).
Как известно, летом-осенью 1919 г. белые планировали победоносно завершить Гражданскую войну. С этой целью они решили нанести комбинированный удар на всех направлениях. Однако к середине октября 1919 г. колчаковский фронт был уже безнадёжен, наметился перелом в пользу красных и наЮге. В этот-то момент белые нанесли неожиданный удар с северо-запада. На Петроград ринулся Юденич. Удар был настолько неожиданным и мощным, что уже в октябре белые оказались в пригородах Петрограда. Встал вопрос о сдаче города. Ленин, несмотря на известную панику в рядах товарищей, город решил не сдавать.
И вот уже выдвигается навстречу Юденичу 7-я армия красных под командованием его высокоблагородия (бывшего полковника Императорской Армии) Сергея Дмитриевича Харламова, а во фланг белым заходит отдельная группа той же армии под командованием его превосходительства (генерал-майора Императорской Армии) Сергея Ивановича Одинцова.
Оба — из самых потомственных дворян. Итог тех событий известен: в середине октября Юденич ещё рассматривал Красный Петроград в бинокль, а 28 ноября распаковывал чемоданы в Ревеле (любитель молоденьких мальчиков оказался никудышным командующим…).
Северный фронт. С осени 1918 г. по весну 1919 г. это важный участок борьбы с англо-американо-французскими интервентами. Ну и кто ведёт большевиков в бой? Сначала его превосходительство (бывший генерал-лейтенант) Дмитрий Павлович Парский, затем его превосходительство (бывший генерал-лейтенант) Дмитрий Николаевич Надёжный, оба потомственные дворяне.
Нельзя не отметить, что именно Парский возглавлял отряды Красной Армии в знаменитых февральских боях 1918 г. под Нарвой, так что во многом благодаря нему мы празднуем 23 февраля. Его превосходительство товарищ Надёжный после окончания боёв на Севере будет назначен командующим Западным фронтом.
Такая ситуация с дворянами и генералами на службе у красных практически везде. Нам скажут: всё вы тут преувеличиваете. Были же у красных свои талантливые военачальники и не из дворян и генералов. Да, были, их имена мы хорошо знаем: Фрунзе, Будённый, Чапаев, Пархоменко, Котовский, Щорс. Но кем они были в дни решающих боёв?
Когда решалась судьба Советской России в 1919 г., самым важным был Восточный фронт (против Колчака). Вот его командующие в хронологическом порядке: Каменев, Самойло, Лебедев, Фрунзе (26 дней!), Ольдерогге. Один пролетарий и четыре дворянина, подчеркну — на жизненно важном участке! Нет, заслуг Михаила Васильевича я умалять не хочу. Он действительно талантливый полководец и многое сделал для разгрома того же Колчака, командуя одной из войсковых групп Восточного фронта.
Затем Туркестанский фронт под его командованием раздавил контрреволюцию в Средней Азии, а операция по разгрому Врангеля в Крыму заслуженно признаётся шедевром военного искусства. Но будем справедливы: к моменту взятия Крыма даже белые не сомневались в своей судьбе, исход войны был решён окончательно.
Семён Михайлович Будённый был командармом, его Конная армия сыграла ключевую роль в ряде операций некоторых фронтов. Однако не следует забывать, что в РККА были десятки армий, и назвать вклад одной из них решающим в победе было бы всё же большой натяжкой. Николай Александрович Щорс, Василий Иванович Чапаев, Александр Яковлевич Пархоменко, Григорий Иванович Котовский — комдивы. Уже в силу этого при всей своей личной храбрости и военных дарованиях стратегического вклада в ход войны они внести не могли.
Но у пропаганды свои законы. Любой пролетарий, узнав, что высшие военные должности занимают потомственные дворяне и генералы царской армии, скажет: «Да это же контра!».
Поэтому вокруг наших героев возник своеобразный заговор молчания и в советские годы, и тем более — сейчас. Они победили в Гражданской войне и тихо ушли в небытие, оставив после себя пожелтевшие оперативные карты и скупые строки приказов.
А ведь «их превосходительства» и «высокоблагородия» проливали свою кровь за Советскую власть ничуть не хуже пролетариев. Про барона Таубе уже упоминалось, но это пример не единственный.
Весной 1919 г. в боях под Ямбургом белогвардейцы захватили в плен и казнили комбрига 19-й стрелковой дивизии бывшего генерал- майора Императорской Армии А.П. Николаева. Такая же участь постигла в 1919 г. командира 55-й стрелковой дивизии бывшего генерал-майора А.В. Станкевича, в 1920 г. — командира 13-й стрелковой дивизии бывшего генерал-майора А.В. Соболева. Что примечательно, перед смертью всем генералам предложили перейти на сторону белых, и все отказались. Честь русского офицера – дороже жизни.
То есть вы полагаете, скажут нам, что дворяне и кадровый офицерский корпус были за красных?
Конечно, я далек от этой мысли. Здесь просто надо отличать «дворянина» как нравственное понятие от «дворянства» как класса. Дворянский класс почти целиком оказался в лагере белых, иначе и быть не могло.
Но белым помощь от дворян была просто мизерной. Судите сами. В переломный 1919 год, примерно к маю, численность ударных группировок белых армий составляла: армия Колчака — 400 тыс. человек; армия Деникина (Вооружённые силы Юга России) — 150 тыс. человек; армия Юденича (Северо-Западная армия) — 18,5 тыс. человек. Итого: 568,5 тыс. человек.
Причём это, в основном, «лапотники» из деревень, которых под угрозой расстрела загоняли в строй и которые потом целыми армиями(!), как у Колчака, переходили на сторону красных. И это в России, где на то время насчитывалось 2,5 млн. дворян, т.е. не менее 500 тыс. мужчин призывного возраста! Вот, казалось бы, ударный отряд контрреволюции…
Или возьмем, к примеру, руководителей белого движения: Деникин — сын офицера, дед был солдатом; Корнилов — казак, Семёнов — казак, Алексеев — сын солдата. Из титулованных особ — один только Врангель, да и тот шведский барон. Кто же остался? Дворянин Колчак —потомок пленного турка, да Юденич с весьма характерной для «русского дворянина» фамилией и нестандартной ориентацией. В былые времена сами дворяне таких своих собратьев по классу определяли как худородных. Но «на без- рыбье и рак — рыба».
Не стоит искать князей Голицыных, Трубецких, Щербатовых, Оболенских, Долгоруковых, графов Шереметевых, Орловых, Новосильцевых и среди менее значимых деятелей белого движения. Сидели «бояре» в тылу, в Париже да Берлине и ждали, когда одни их холопы других на аркане приведут. Не дождались.
Но есть ещё нравственная категория — «дворянин». Поставьте себя на место «его превосходительства», перешедшего на сторону Советской власти. На что он может рассчитывать? Самое большее — командирский паёк да пара сапог (исключительная роскошь в Красной Армии, рядовой состав обували в лапти). При этом подозрение и недоверие многих «товарищей», постоянно рядом бдительное око комиссара.
Сравните это с 5000 рублей годового жалования генерал- майора царской армии, а ведь у многих превосходительств была ещё и фамильная собственность до революции. Поэтому шкурный интерес для таких людей исключается, остается одно — честь дворянина и русского офицера. Лучшие из дворян пошли к красным — спасать Отечество.
В дни польского нашествия 1920 г. русское офицерство, в том числе и дворяне, переходили на сторону Советской власти тысячами. Из представителей высшего генералитета бывшей Императорской Армии красные создали специальный орган — Особое совещание при главнокомандующем всеми Вооружёнными Силами Республики. Цель этого органа—разработка рекомендаций для командования РККА и Советского Правительства по отражению польской агрессии. Кроме этого, Особое совещание обратилось с призывом к бывшим офицерам Русской Императорской Армии выступить на защиту Родины в рядах РККА.
Замечательные слова этого обращения, пожалуй, в полной мере отражают нравственную позицию этой части русской аристократии:
«В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, <…> добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче- Крестьянской России вас не назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своею честною службою, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения».
Под обращением стоят подписи их высокопревосходительств: генерала от кавалерии (главнокомандующего Русской Армии в мае-июле 1917 г.) Алексея Алексеевича Брусилова, генерала от инфантерии (военного министра Российской Империи в 1915-1916 гг.) Алексея Андреевича Поливанова, генерала от инфантерии Андрея Меандровича Зайончковского и многих других генералов Русской Армии.
В абсолютных цифрах вклад русского офицерства в победу Советской власти выглядит следующим образом: в период Гражданской войны в ряды Красной Армии было призвано 48,5 тысяч царских офицеров и генералов. В решающем 1919 году они составили 53% всего командного состава РККА.
Закончить краткий обзор хотелось бы примерами человеческих судеб, которые как нельзя лучше опровергают миф о патологическом злодействе большевиков и о поголовном истреблении ими благородных сословий России. Замечу сразу, большевики не были глупыми, поэтому понимали, что, учитывая тяжелейшее положение России, им очень нужны люди со знаниями, талантами и совестью. И такие люди могли рассчитывать на почёт и уважение со стороны Советской власти, несмотря на происхождение и дореволюционную жизнь.
Начнём с его высокопревосходительства генерала от артиллерии Алексея Алексеевича Маниковского. Алексей Алексеевич ещё в Первую мировую войну возглавлял Главное артиллерийское управление Русской Императорской Армии. После Февральской революции был назначен товарищем (заместителем) военного министра. Поскольку военный министр Временного правительства Гучков ничего не соображал в военных вопросах, Маниковскому пришлось стать фактическим главой ведомства.
В памятную октябрьскую ночь 1917 г. Маниковский был арестован вместе с остальными членами Временного правительства, затем отпущен на свободу. Спустя несколько недель вновь арестован и опять отпущен на свободу, в заговорах против Советской власти замечен не был. И уже в 1918 г. он возглавляет Главное артиллерийское управление РККА, затем будет работать на различных штабных должностях Красной Армии.
Или, например, его превосходительство генерал-лейтенант Русской Армии, граф Алексей Алексеевич Игнатьев. В годы Первой мировой войны он в чине генерал-майора служил военным атташе во Франции и ведал закупками вооружения—дело в том, что царское правительство так подготовило страну к войне, что даже патроны приходилось закупать за границей. За это Россия платила немалые деньги, и лежали они в западных банках.
После Октября наши верные союзники мигом наложили лапу на русскую собственность за границей, в том числе и на счета правительства. Однако Алексей Алексеевич сориентировался быстрее французов и денежки перевёл на другой счёт, союзникам недоступный, да к тому же на своё имя. А денег было 225 миллионов рублей золотом, или 2 миллиарда долларов по нынешнему золотому курсу.
Игнатьев не поддался на уговоры о передаче средств ни со стороны белых, ни со стороны французов. После того как Франция установила дипломатические отношения с СССР, он пришёл в советское посольство и скромненько передал чек на всю сумму со словами: «Эти деньги принадлежат России». Эмигранты были в бешенстве, они постановили убить Игнатьева. И убийцей вызвался стать его родной брат! Игнатьев чудом остался жив — пуля пробила фуражку в сантиметре от головы.
Предложим каждому из вас мысленно примерить на себя фуражку графа Игнатьева и подумать, способны ли вы на такое? А если к этому добавить, что в ходе революции большевики конфисковали родовое имение Игнатьевых и фамильный особняк в Петрограде?
И последнее, что хотелось бы сказать. Помните, как в своё время обвиняли Сталина, вменяя ему в вину то, что он поубивал всех оставшихся в России царских офицеров и бывших дворян.
Так вот никто из наших героев репрессиям не подвергался, все умерли своей смертью (разумеется, кроме павших на фронтах Гражданской войны) во славе и почёте. А их младшие товарищи, такие как: полковник Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М. Василевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик Л.А. Говоров, — стали Маршалами Советского Союза.
Михаил Хазин, hvylya.org
Серия сообщений "АРМИЯ":
Часть 1 - Латание новых знамен
Часть 2 - *..убивать русских это морально.*...
Часть 3 - Попытки реформировать российскую армию никогда не заканчивались добром для их инициаторов. Пример — трагическая судьба императора Павла I.
Часть 4 - Чужие мальчики.Марта Кетро.
Часть 5 - За кулисами военных побед: офицеры царской армии в Гражданскую войну
Часть 6 - Подборка про оружие.
Часть 7 - Минобороны при Сердюкове: своим - миллионы, остальным - крошки
...
Часть 20 - О том, как в 1944 чуть не началась война между СССР и США
Часть 21 - Зачем на немецких касках рога?
Часть 22 - ЗАХАР ПРИЛЕПИН: «23 ФЕВРАЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
Метки: россия армия история |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Не устоял |

Чудная страна ты, Россия. Чего только не встретишь на твоих безбрежных просторах. Сильно побитый и давно не мытый гражданин решительно занимает центр вагона пригородной электрички «Москва – Петушки»:
– …Граждане, скрывать не буду. Я только из милиции. Мне надо до Богородска. Христом Богом прошу. На колени встану, – однако, не встает, видно, силы у него уже не те. – Помогите мне!..
Бедняга, вот уже месяц я его встречаю посреди этого скорбного и тяжелого пути. То ли Богородск переместился, то ли милиция останавливает его через каждый километр и бьет. Нам ли это понять, и как не помочь. Конечно, не устоял.
А вот тоненько заблеял мужик с мальцом и сундучком в руках со щелкой для денег: «Степь, да степь кругом…» На сундучке – сомнительная и сильно потертая надпись «175 замученных Чернобылем». В памяти всплыл апрель 1986 года и почти день в день рождение сына вместе с этим ядерным монстром. Вздохнул и не устоял.
Не успели глаза высохнуть от слез, как в вагон вбегает веселый грузин:
«Хатите, на пяти языках скажу «Купите лезвие "Lazer"». Замечательные лезвия, сам бреюсь. Видите, какой красивый». Посмотрел: и в самом деле, уж больно хорош. Не устоял, купил.
А вот по проходу, в грязном халате, отталкиваясь руками и волоча за собой совсем здоровые ноги, ползет восточный человек. Очевидно беженец, то ли оттуда, то ли отсюда. Кто сейчас на это может ответить? Он настойчиво и вопрошающе протягивает свои грязные руки. Почему бы и не дать. Вон как человек мается. Попробуй-ка проползи так хотя бы пол-вагона. Не устоял, однако.
А вот отделение контролеров и «Омон» с автоматами наперевес оцепили вагон, сгоняя «зайцев» к центру, как для расстрела. Кажется, моя очередь. Зажмуриваю глаза и сквозь шум в висках доносится: «По идее, вам штраф 126 рублей надо платить». «А если не по идее», – робко возражаю я. «Тогда 10 рублей». Туман слегка рассеивается, и я с облегчением отдаю свою кровную десятку. Разве устоишь здесь.
Тем временем, с другого конца вагона уже запел тоненьким и фальшивым голоском мальчуган лет двенадцати: «…Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москвее е е е е е…»
– На что собираешь, коллега?
– Это тайна. Не могу сказать.
Я уважаю чужие тайны. Как тут не дать. Не устоял.
С жалобно протянутыми 13-тью лапками, так что каждому досталось почти по лапке, просит на горючее до Альфы Центавра какой-то иностранец. Чудно. Не устоял.
А вот весьма интеллигентного вида молодой человек, виртуозно тасуя, как колоду карт, небольшие яркие книжечки: «…Салаты, консервирование, кроссворды…». Каждый раз, когда он проходит мимо меня, я слышу его тихое, но от чистого сердца послание всем сидящим. «Сволочи», – говорит он с тем особенным придыханием, после которого не остается сомнения в том, что это и я тоже. После минутной борьбы с самим собой (дать или не дать), все-таки не устоял.
«А вот петушки, да курочки, резные фигурочки», – пробасил мужик в ермолке и сапогах на босу ногу. Вспомнились преданья старины глубокой, ярмарки, барышни в кокошниках и как-то само собой вырвалось из груди: «Эх, давай мужик на всё, что есть».
Внутри похолодело, кое-кто перекрестился, дети заплакали, когда раздался зычный, как иерихонская труба, зов:
– «Пивооооооо!!!!!!!!!!!. Минераль?????!!!!!!!!. Орешки соленые? Фи-сташки». (пианиссимо) «Шоколад!»(форте).
По проходу, цепляя всех огромным рюкзаком за спиной, шел, судя по выдающейся шкиперской бородке, то ли бывший поэт, то ли моряк, подрабатывающий по совместительству еще и пароходным гудком.
Господи, это надо слышать. Рука сама метнулась к деньгам. Что такое? Вот досада. Деньги кончились. Граждане, подайте, чтобы подать этому гражданину.
Не устояли.
Евгений Доманский
Метки: проза россия |
Понравилось: 2 пользователям
Объявление! |
Метки: москва национальный кризис |
!!! |
Метки: национальный кризис |
Понравилось: 1 пользователю
Кавказцы, избившие байкера, арестованы на два месяца |

Кавказцы, напавшие на байкера, арестованы на два месяцаКомментарии: 18
В четверг в Кузьминском суде арестовали четверых уроженцев Чечни и Дагестана, обвиняемых в избиении байкера на Третьем Транспортном кольце. Анзор Мацагов, Кемаль Мамедов, Закир Исаев и Баграт Качаев проведут в СИЗО два месяца.
|
По версии следствия, эта компания вечером во вторник на юго-востоке Москвы избила мотоциклиста, имя которого не сообщается. Парень вступился за девушку-автомобилистку и ее подругу. Их кавказцы подрезали на «Жигулях», а затем пытались вымогать деньги за ДТП. При этом они угрожали изнасиловать девушек и «урыть». Примерно то же услышал в свой адрес и байкер. Возмущенные происходящим, около 300 мотоциклистов несколько часов «дежурили» у отдела полиции, требуя справедливого расследования.
|
Но на суд байкеры не приехали. Поддержать южан пришли несколько человек, в том числе мать одного из арестованных Баграта Качаева. По ее словам, парней «закрыли» только за то, что они кавказцы. На суде женщине стало плохо, она потеряла сознание, несчастной вызывали «Скорую».
|
Сами кавказцы продолжали настаивать на своей невиновности. Баграт Качаев заявил: мол, девушки сами спровоцировали конфликт, кинув окурок в открытые окна «Жигулей». И он изнасилованием никому не угрожал, потому что «голую женщину в жизни не видел».
У товарищей немного другая версия произошедшего.
|
- Мы ехали, девушки нас подрезали. А потом байкер подъехал, с ножом на нас напал. Поэтому битой один раз его ударили, - заявил Кемаль Мамедов. Версия, прямо скажем, неубедительная: кто в здравом уме нападет один на четверых?
Мамедов также сообщил, что к тому моменту, как подъехал байкер, конфликт был улажен.
- Они уже согласились заплатить... 3-5 тысяч рублей, - сказал он и тут же осекся.
При этом в следствии опровергли, что у байкера был нож.
Интересно, что все четверо южан в столице официально не работают. Один заявил, что трудится охранником, но название своей организации «забыл»... Баграт Качаев сообщил, что в Москве «бомбил».
|
К слову, несколько лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности. И получил два года условно за грабеж. Остальные уверяют, что чисты перед законом. Следователи проверяют эту информацию.
Мацагов учится в Московском университете управления, а Исаев - в Санкт-Петербургском университете путей сообщения. Все четверо живут у родственников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новое видео с места драки байкера и кавказцев: Чеченец бегал по асфальту босиком и кричал «Аллах акбар!»
В Сети появилось новое видео с места ЧП — на нем сам байкер рассказывает, что произошло
Видеоролик снят маленькой камерой Go Pro, установленной на шлеме одного из мотоциклистов. Он приехал на место в первые минуты после ЧП - но байкер к тому моменту уже лежал на асфальте без движения. К счастью, сознания он при этом не потерял.(читайте дальше)
видео-http://www.kp.ru/print/26103.4/2999520/
Метки: москва национальный кризис |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям
Ню. |
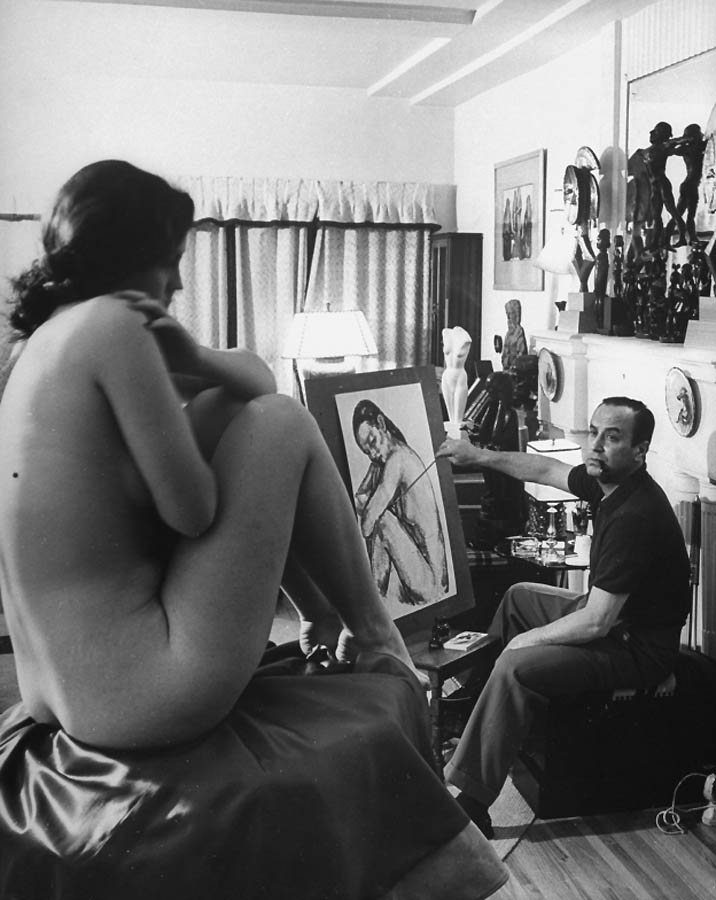
1.
- Я бы хотел тебя нарисовать. Можно?
- Легко…
Так я познакомился с Ню.
Ее звали Аня. Ню – потому, что рисовал я ее почти всегда – обнаженной, вернее – голой, понимаете, в чем разница? У профессионалов не принято говорить – голой, принято – обнаженной, полуобнаженной…Завтра у меня обнаженка…Натурщицы голыми не бывают. Со всеми до нее – так и было. И со всеми – после. И даже – во время. А вот – с ней…
Она сидела на лавочке – маленькая, зареванная, совершенно одна. Куча народу проходила мимо и никто даже не обращал на нее внимания, ее просто – не видели. Ни опухшего от слез лица, ни рук, теребящих сумочку, ни высоченных каблуков ее туфель.
Знаете, с чего начинаются войны? С необдуманных поступков. То-то и оно…
Я не просто ее увидел, я – подошел. Но, почему-то, вместо того, чтобы спросить, не нужна ли ей помощь или, на крайний случай, протянуть носовой платок, я вдруг произнес вот это самое:
- Я хотел бы тебя нарисовать…
Так все и началось…
Я звал ее по-разному, то – Нюрой, то – Нюшей, иногда, просто – Ню. Ей было - все равно.
Кто-то думает, что рисовать обнаженную женщину – обязательно с ней спать. Это не так. Врачи тоже довольно часто имеют дело с обнаженным женским телом, но никому и в голову не приходит…Конечно – профессия. Конечно, бывает – все. И даже – нередко, но художник – это тоже профессионал и его отношение к натурщице – отношение профессионала. И тот свет, то чудо, которое потом все мы видим на полотне, это не отражение – натурщицы, как таковой, а отражение того неуловимого - нечто, чем ее наделил - художник. Это – не она. Это – его ощущение ее. И это – совершенно разные вещи. Ну и - умение это нечто – изобразить.
Ню без одежды была неописуема. Она была – невероятна. Все эти рассуждения совершенно к ней не относились. Они любили друг друга – Ню и свет. Ее можно было рисовать в любой позе, при любом освещении, и в любом ракурсе – свет всегда падал на нее, ложился на нее, обтекал ее – так…в общем, она начинала светиться – сама.
Каким образом я смог почувствовать это неким верхним чутьем и подошел к ней, и – спросил, и – услышал в ответ…Не знаю.
Я почти никогда не просил ее принять определенную позу, она просто снимала с себя одежду, выходила из-за ширмы и вставала, садилась, или ложилась так, как хотела в данный момент – сама. И в мастерской становилось светлей.
А уж, если она молчала во время сеанса…
В своем обычном состоянии, она была ужасная болтушка. Аутист, который вдруг – заговорил и за все годы молчания…При этом – никаких авторитетов, никаких правил и совершенно точечный кругозор.
Но иногда, мне удавалось упросить ее помолчать. Или у нее вдруг было такое настроение…И на два часа я чувствовал себя равным Рембранту или Босху, или – Леонардо...
Любил ли я ее?
Я и сейчас ее люблю...
Но в тот год, я, в своем отношении к ней, оставался, прежде всего – художником. С ней я был способен на многое и понимал это. И желание, которое владело мной – положить ее на холст, написать ее. Написать ее так…
Ню стала моей моной Лизой, моей голубкой, моей девочкой на шаре. Моей мечтой – о себе…
2.
- Гоша, уже давно пора сделать перерыв, слышишь? У меня нога затекла. Левая…И в туалет. И рефлектор у тебя барахлит, почти не греет, холодно…
Сколько ни прошу не называть меня Гошей – бесполезно.
- Ну, почему – Гоша?
- А почему – Нюша?
- Так ведь ты – Аня!
- Ну, а ты?
- А я – Марк, но логика у тебя – железная. Женская логика…
Может, она и в самом деле забывала, как меня зовут…
Вначале, она приходила редко – раз в полторы-две недели. Плела что-то про строгого отца и занятия в институте. Я даже не помню наш первый раз. Наверно - тут же, прямо на полу, на брошенном на пол чехле от подрамника или в углу, на старом, продавленном диване…Как обычно. Девчонка – еще одна, только и всего…
Мне, на самом деле, было все равно и про институт, и про отца, и про личную жизнь. Она ведь тоже дистанцию держала и – вполне со знанием дела, вполне. Она, как ежик была – еще до меня, иголки – наружу и в свою жизнь – ни-ни…Да и у меня ни времени, ни желания не было на нежности всякие. Натурщица – от бога, одна на миллион, а остальное…Главное и единственное – только бы она продолжала приходить. Чтобы – снова увидеть игру светотени на ее груди и бедрах, прозрачность кожи, тень, заплутавшую в подмышечной впадине… И – рисовать, рисовать, рисовать…
Ее единственный каприз: с дороги - чай с баранками и сахаром вприкуску – чтобы похрустеть, затем, сразу же – за ширму, и – к станку…
А потом…С началом зимы, она стала появляться гораздо чаще, причем, без всяких видимых причин - наши отношения остались прежними, но…В общем, я постарался и кое-что о ней узнал. Ну, хотя бы, заботясь о собственной…безопасности.
Аня, как оказалось, жила с бабкой, родители умерли. Год назад бросила институт и…Что может молоденькая девчонка в ее положении и что вы об этом не знаете…А сейчас она встречалась с каким-то…и подрабатывала в ночном клубе. По крайней мере, пластика движений у нее была от природы - такая…
За это время я сделал с нее сотни эскизов – всем, чем только возможно - от угля до пера и акварели и два портрета маслом, в довольно необычной манере. Думаю, что в этом все дело. За манерой я потерял – ее. Настолько был уверен, что само ее присутствие на холсте и есть – чудо, что чуда – не произошло. Не случилось…
Я прислонил к стене оба портрета, а между ними поставил – ее. И раздвинул шторы…
…Пока она бегала в магазин, я изрезал их на куски. Потом мы сидели за столом и она смотрела на меня, как никогда раньше. На этом же столе, она впервые стала – моей. Я не оговорился, мы были любовниками уже несколько месяцев, но первый раз моей Ню стала именно – тогда…
Наутро, мы уехали в Крым, к морю…
3.
Две недели мы жили в старом, покосившемся теткином доме почти на самом берегу. Он достался мне в наследство и я с самого начала не знал, что мне с ним делать. Заниматься ремонтом – слишком дорого, продавать – слишком дешево. Я называл его – теткин дом. Так он и стоял…
Валялись на теплом песке, грызли семечки, покупали на рынке парное молоко и мохнатые персики. Вечером разводили костер и пекли картошку и молодую кукурузу. И – странное дело, Ню вдруг стала меня стесняться. Как только я это почувствовал, я захотел ее по-настоящему. Как не хотел женщину уже очень давно. Та чертовщина, которая возникла между нами…Не знаю, что это такое, может и…
- А маленьких чаек я называю - знаешь как? Чаинками…
- Что? Что ты сказала?
- Я говорю, что маленьких чаек…
- А-ааа…
- А ты умеешь ловить ртом виноградинки?
- Я…не знаю. А – зачем?
- Как – зачем? Чтобы – поймать!
- Нет, не умею.
- А я вот – запросто. Гляди.
- Ню-ю-юш…Я сплю, Нюша…
…- Гоша…
- Что?
- А почему ты уже не ругаешься, когда я тебя Гошей зову?
- Привык…
- Вот и я – тоже. Если привыкну к кому – потом не отдерешь. Хорошо, что к тебе привыкнуть невозможно, а то бы я, наверное, влюбилась…
- Почему – невозможно привыкнуть?
- Так ты – разный. Вот, как море. Ах, Гоша, Гоша, море ты мое…
…- Скажи…А ты часто влюблялась?
- А я все время влюблена.
- Как это так – все время?
- Вот так – все время, а что?
- И сейчас влюблена?
- Конечно.
- В кого, можешь сказать?
- Да, в парня одного. Так – ничего особенного.
- Ты спишь с ним?
- А как же. Тут самое главное – обмен жидкостями.
- Это как? Какими такими…жидкостями? – сон сразу, как рукой…
- Ну…всякими. Пот, сперма, слюна…Еще – вдохновение…
- А это еще что такое?
- Что-то типа оргазма, по-вашему.
- По нашему…
- Сложно объяснить, Гоша…Да и ни к чему тебе…
Она опустила голову на подушку и прижалась ко мне так крепко-крепко и – уснула. Прямо в старой, вылинявшей футболке. Улыбаясь.
А я - только под утро…
…Луна глядела на нас потому, что на море – ей уже, наверное, надоело.
Ню лежала рядом – обессиленная и нездешняя. И улыбалась, как-то – вовнутрь.
А мне вдруг страшно захотелось узнать, о чем она думает, когда, как сейчас – сразу после…
Прежде, мы никогда не спали вместе, в одной кровати – рядом. Мы спали друг с другом, но – в другом смысле, по-другому. А когда – засыпать и просыпаться…
Я подумал, что рай, очень может быть, существует…
Когда она перестала быть для меня – обнаженной натурой? Телом? Ню?
Иногда, сразу – после, мы болтали.
…- Гош, скажи…А вот ты, когда портреты мои резал…
- Ну?
- Ты сильно…переживал?
- Переживал…
- А как?
- Что – как? Переживал и все.
- Понимаешь, об этом лучше говорить…
- О чем – об этом?
- О смерти…
- О смерти? А кто умер? Не мы с тобой – это точно…
- Картины. Ты же их – убил. Значит, они умерли. А тех, кто умер, надо вспоминать, иначе, они умирают на самом деле…
Я поворачиваю к ней голову и вижу только ее силуэт на фоне ночного неба. Ну вот – откуда у нее…
- Ты же не хочешь, что они умерли – совсем?
- Наверно – нет…
- Тогда – говори…
- Ну…Как тебе объяснить…Было два момента. Первый – я никогда раньше не работал в такой технике. Очевидно, это в какой-то момент стало доминировать, а я не заметил. И получилось – техника ради техники…Это, конечно, упрощенно, но, тем не менее…И потом – это – не главное…
- А что – главное?
- Пожалуй, излишняя самоуверенность…Вот…ты приходила, позировала, я на тебя смотрел…Иногда – просто смотрел, даже ничего не делал, ни одной линии, ни одного мазка – ничего…Я тебя – впитывал, понимаешь…Ну, вот…Мне когда-то давно попались стихи, там строчка была такая, я ее запомнил. «Твоих мелодий гибельная суть, твоих шагов ленивое начало…» Лишь, когда ты в меня входила и наполняла меня, и твои мелодии начинали звучать, и я слышал эти шаги, я принимался - рисовать. И однажды, мне показалось, что в этом уже нет необходимости, что ты во мне – всегда, что я могу в любой момент, не глядя, передать этот свет – тебя и из тебя. И эту твою мелодию…Иллюзия…Мне показалось, что я до конца познал то, что познать нельзя. Свет – неисчерпаем. Но оказалось, что и ты неисчерпаема – тоже…Слишком сложно, да?
- Послушай, Гоша…А хочешь – мы это повторим, ну, еще раз. Я тебе помогу, подскажу…
- Ты – мне? Что ты можешь подсказать?
- Что надо сделать, чтобы все получилось.
- Да? И что же?
- Ты должен…сам меня раздеть. Попробуй – раздеть меня – сам. Вот увидишь…
- Как ты сказала? Раздеть?
Но Нюша уже спала…
4.
Я все никак не мог на нее наглядеться. Вот – просто…
Даже подглядывал, надеялся увидеть нечто такое, чего еще… Потому что было всегда – мало.
Она была невысокого роста, ямочки на щеках, румянец, совершенно беззащитные плечи. Копна каштановых волос. И, самое главное – у нее были потрясающе правильные пропорции тела. Она вся была, как – золотое сечение, идеальная соразмерность во всем и необыкновенный, только ее – оттенок кожи. А если до нее – дотронуться. Положить на нее ладонь. Провести - по ней…Порой, мне было жаль, что я не скульптор, только потому, что передать не только – форму, цвет, тепло, но – чудо прикосновения к - Ню…
Как-то раз, она уснула на берегу, а к ночи у нее подскочила температура – она, конечно же, обгорела. Порывшись в теткиных шкафах, я нашел какую-то, на мой взгляд, подходящую мазь, перевернул ее, сонную на живот и стал осторожно натирать ей спину и плечи. И вдруг поймал себя - на нежности к ней. В эту секунду, Ню – кончилась. Или, наоборот – началась…
…Утром, двигаясь на мне, она наклонилась и поцеловала меня в губы, и произнесла только одно слово:
- Марик…
Мы начинались – вместе. Ню и я…
- А ты уже приезжал сюда с женщинами?
- Приезжал.
- А ты был уже женат?
- Угу, был…
- А хочешь – еще раз?
- Жениться? Нет…
- Вот и я – нет.
- Ты еще молодая…Но, вообще-то, и молодые тоже хотят – замуж. Все хотят…
- А я – не все!
- Это я уже успел понять. Так почему – нет?
- Это больно.
- Что – жениться?
- Да нет. Ты – балда…Больно потом, когда хорошее кончается.
- Обязательно кончается?
- А как же иначе? Оно всегда кончается. Это только плохое тянется, тянется и никуда от него…
- Но есть же на свете счастливые люди…
- Я не встречала…
Солнце палило. И ее горячий живот под моей рукой. А губы – вот они, наклонись и - пей…И я – пил. Пожалуй, действительно, и я не встречал - тоже…
Так что, очень может быть, она…
Однажды, перед самым закатом, мы случайно набрели на заброшенный яблоневый сад. Покосившийся забор из прогнившего штакетника, и дыр – больше, чем этого самого забора. Но сад…А какой там стоял запах…
Нюша носилась между деревьями, хватаясь за стволы и радуясь, как ребенок. Подбирала валявшиеся повсюду яблоки и ела. А они - хрустели у нее на зубах…
- Смотри, сколько их тут, - она повела рукой вокруг. – Они же просто пропадут и все, сгниют, жалко. Давай возьмем с собой, ну, хоть немного, хоть на сегодня, а?
- А во что? У нас же ничего нет, Нюша…
- Я сейчас что-нибудь придумаю, подожди минутку…
Она шустро стянула через голову свою белую майку, простую, на резинке, юбку задрала до подмышек – получилось – платье. Не слишком длинное, до середины бедер…
- Вот, из этого можно сделать узелок, видишь?
- Вижу…- я смотрел на ее голые плечи. – Знаешь, что, верни-ка юбку на место…
- Но я…
- Я сказал - верни юбку на место, слышишь…
Она стояла передо мной, смущенная, враз покрасневшая и почему-то – беспомощная. Я ее такой…
- Ну…
- Я…Я стесняюсь.
- Кого? Здесь же никого нет.
- Ты есть. Я тебя стесняюсь…
- Почему? Я что, тебя голой не видел?
- Это совсем другое, это работа. А сейчас…
- А ночью? Тоже работа?
- Ночью – темно…
- Ну и что? Что изменилось?
- Ты не понимаешь…
- Ну, так объясни.
Она подняла на меня глаза и несколько секунд молчала. Потом – отвернулась.
- Если ты часто будешь видеть меня голой, я тебе надоем…тело мое тебе надоест. Я ведь для тебя – тело. Ты его – рисуешь. Ты его…-она запнулась. – А я не хочу…надоесть. Хочу, чтобы ты каждый раз – удивлялся мне, вот…
Передо мной стояла – смущенная и покрасневшая и – вся, целиком моя – Ню…
- Я понял. А теперь – верни юбку на место... …Ню медленно подняла руки, ухватила ткань и потянула ее вниз. Ее глаза были полны слез.
- Еще, - сказал я. – Сними ее совсем,..все сними...Вот так, да...
- Что… дальше? – спросила она, хлюпая носом.
- Подойди к дереву и прижмись к стволу…И не хлюпай ты, дуреха. Чуть опусти голову и чуть – вправо…левую ногу…все…замри и не шевелись…
Я знал ее тело. Я помнил каждый его изгиб и каждую ложбинку. И как она сказала – попробуй раздеть меня – сам…Я сделал это – ее руками и все, в самом деле – получилось. Я написал ее "Портрет в солнечном свете", хотя солнца почти уже не осталось – закат, закат, закат…Но она – светилась. И техника была особая, уникальная. Когда все мазки выполняются одной единственной кистью – нежностью. Такой же слепящей и обжигающей, как…
5.
Назавтра мы уезжали…
Умри мы вместе, одновременно в ту последнюю ночь, было бы легче потом, потому, что этого - потом – не было бы вовсе…
Город ждал нас. И жизнь резво взяла меня в оборот, так, что уже на следующий день Ню оказалась почти призрачным существом и жить без нее стало возможно. Не слишком весело, все-таки, я к ней изрядно привык, но – возможно. Да и куда мне ее – в заваленную подрамниками и старыми холстами мастерскую и завтраками на этюднике. И отсутствие стабильного заработка…Даже при моем нездоровом отношении к светящимся женщинам. Правда, не светилась больше ни одна из…Ни как – Нюша, ни – вообще…
Ее не было месяца три. На звонки не отвечала, сама не звонила, ее просто – не стало. Я, конечно же, мог ее отыскать, но когда представлял, как являюсь к ней нежданный-незванный…Возможно, застаю ее не одну, а с…
В один прекрасный день, она появилась и осталась аж на две недели. И, разумеется, это были совсем другие две недели, не те – крымские, морские, яблочные. Снегопад и сосульки…
- Нюша, где ты была все это время?
Она молча стояла, прижавшись ко мне всем телом и, по-моему, дрожала.
- Замерзла?
Несколько раз подряд судорожно кивнула.
- Ладно, потом расскажешь, проходи, чаю горячего, с баранками, да?
…- Ну? Теперь рассказывай все, слышишь? Все. Где была, что делала?
- Была…
- Я звонил, а ты не отвечала…
- Не хотела…
- Допустим. А что сейчас?
- Ничего особенного. Вот только, бабушка умерла. Теперь у меня – никого…
- Как это – никого, а я? – но этого я не сказал…
…- Слушай, Марик, можно, я поживу у тебя недельку, а то мне пока – некуда идти…
- Живи, разумеется. А почему – некуда идти? У тебя же, вроде, квартира была?
- Да. Там сейчас Алик…
- Кто это – Алик?
- Ну, тот парень. Который – ничего особенного. Помнишь?
- И почему он там, а тебе некуда идти?
- Не знаю. Не хочет уходить. Но я разберусь…
…Как-то, само собой, мы оказались в постели и резанула воспоминанием линия загара внизу ее живота…И нежность, тенью проскользнувшая на кончиках пальцев. И вкус яблок на ее губах. И что - не моя. А может, все это мне только…
Утро теперь состояло из омлета и кофе, день – из оформления очередной выставки в очередном доме культуры, вечер – из усталости, душа и легкого ужина, ночь – из Ню…Жизнь то ли остановилась, то ли еще не началась.
Чем она занималась дни напролет – я не спрашивал, но видно было, что дома – не сидела. Не то, чтобы меня это совсем не интересовало, но…Некое подсознательное мужское нежелание раздавать авансы…Чтобы – не подумала…Не строила иллюзий. Чтобы…
Встречала почти всегда одинаково – улыбкой и голыми плечами. Она знала мое отношение к ее телу и показывала мне его, украдкой, словно – случайно, ненароком, дарила – себя. И я перестал ее рисовать – совсем…
Вечерами мы болтали, даже не помню – о чем. О ерунде.
- Нюш, скажи…А вот ты пришла именно – ко мне. Почему?
- А что, мешаю, да? – и сразу испуганные глаза – вот-вот рванется вещи собирать.
- Да, нет, ну что ты в самом деле, я просто так спрашиваю, ну…Да живи ты сколько хочешь…
Она выдыхает и мгновенно успокаивается – верит.
- А что тебе непонятно-то? Что – почему?
- Ну…У тебя – своя жизнь, свои друзья. Мало ли. Неужели среди них – никого…
- Дело совсем не в этом.
- А в чем? Я и спрашиваю…
- Ты – хороший.
- Это ты ошибаешься, точно. Это не про меня…
Она уставилась на меня исподлобья, вот-вот полезет драться, защищать меня от самого себя.
- Ты добрый. Ты не врешь. Ты не такой, как другие.
- Я вру и еще – как! И – часто. А доброта моя…Ну, может, зла прямо такого, во мне и нет, но и – доброты особой…
- Ты – мне не врешь, понимаешь? Мне. И все, мне достаточно. И со мной ты – добрый. И – открытый. Я же для тебя – тело-картина-девочка. Не больше. Но и – не меньше. И ты этого никогда не скрывал, не требовал от меня больше, чем получаешь. Не пытался взять больше, чем я – отдаю. Ко мне ты добрый, а что еще надо…
Она пожимает плечами и я утыкаюсь ей в шею. И думаю о том, как я буду жить без нее дальше, если она…
Когда она снова пропала, я затосковал.
Сначала я пытался завалить себя работой, потом поехал к ней домой – в ее квартире жили незнакомые люди. А потом работа закончилась и я начал пить. Сначала – понемногу, но в одиночку, а - дальше…
Весна пришла серая и слякотная, жить – не хотелось.
Ню появилась в конце апреля – исхудавшая и какая-то встрепанная – как воробей.
Влетела и повисла у меня на шее.
- Гоша!
И увидела пустые бутылки…
Она набрала полную ванну и засунула меня туда. Следом – и себя. Так я и отмокал – постепенно. А когда более-менее отмок и попытался ей улыбнуться - заплакала…
- Почему ты пьешь?
- Мне пусто.
- Что такое – пусто? Чего тебе не хватает?
- Тебя.
- Ты врешь!
- Тебе – нет. Тебе я не умею…
- Больше не пей!
- Больше – не уходи…
- Раз ты просишь – не уйду.
- Я хотел тебя найти. Я пытался…
- Напрасно. Раз не прихожу, значит – так надо…
- А что с квартирой? И этот, как его, Алик? Что с ним?
- Все в порядке, Гоша. Квартиру я уже продала. А Алик…Его я – убила…
- …?!
- Что ты сказала?
- Что я его убила…
…- Нюша…
- Что?
- У тебя с головой – как?
- Как всегда. И вообще, теперь все хорошо…
- Теперь?
- Да. Теперь я смогу к тебе приходить, когда захочешь. Хочешь – рисуй, а хочешь…
- А раньше – нет?
- А раньше мне надо было долг вернуть. И много разного другого сделать…
- Вернула?
- Да, весь, до конца. И еще кое-что осталось, могу не работать. Так мне приходить?
- Нет, не надо. Не приходи…
- ?...
- Ты просто не уходи. Не уходи – и все. Совсем…
Она осталась…
- Нюша, я сегодня поздно…
- Хорошо, я дождусь.
- Не надо, ложись спать, я тут сам…
- Хорошо.
Вернувшись, я находил ее спящей, свернувшись калачиком на узкой кушетке, прямо у входной двери. Рядом, на этюднике - клубника и плитка шоколада.
Я брал ее на руки и нес в постель.
- А шоколад-то зачем?
- Чтобы грустно не было…
- А клубника?
Улыбается…
- Клубника для запаха.
- А почему у двери, тоже, чтобы грустно не было?
- Нет…- смотрит.
- А почему?
- Чтобы, как собака – хозяина…
- Ох, Нюша…Нюша…ты…
И никогда ни одного вопроса. Ничего…
Так не бывает…
А летом мы снова уехали в Крым.
6.
Я не хотел брать с собой этюдник и краски. Потому, что не хотел – писать. В том числе и ее – Аню. А может быть ее – прежде всего…Наверное, просто – боялся, что если еще раз…
Она меня, конечно, уговорила. И даже тащила на себе здоровый, тяжелый, полный кистей и тюбиков с красками, этюдник до самого вокзала.
Я не мог ее рисовать, я не мог ее подчинить. Она никогда не спорила, покорялась во всем, глядя на меня снизу вверх или, наоборот – сверху вниз преданными, только что не собачьими глазами, и всегда все выходило - по ее. Я это видел, понимал и – ничего не мог поделать. Она была сильней. Я был ей не нужен. Она светилась – сама…
…А сад нас помнил. Мы навещали его раз в два-три дня, уносили с собой яблоки и этот дурманящий плодовый запах…
Дней через пять после приезда, ночью, пришла гроза. По крыше и стенам дома застучали капли , потом начался настоящий ливень. Мы проснулись. Аня встала, чтобы прикрыть окно и в этот момент совсем близко сверкнула молния, на долю секунды, осветившая все. Впервые за долгое время, я увидел ее – снова. Снова и заново - другую Ню, Ню – незнакомку. Она вернулась ко мне в постель, прижалась и спросила:
- А теперь ты будешь меня рисовать, скажи?
- Может быть. Завтра…
- У тебя получится, все получится – вот увидишь.
- Откуда ты знаешь?
- Ты смотришь на меня – по-другому. И видишь – по-другому. Я и есть – другая. Попробуй, ну…
И я пробовал ее всю оставшуюся ночь – до утра…
Я снова начал рисовать ее, практически, постоянно. Везде. Дома, в саду, где-то еще… Словно, не мог напиться – ею, собой, светом, который – вернулся. И в каждом наброске, в каждом эскизе, в каждом этюде, Ню была, действительно, другая - моя…
…Потом еще три недели я писал ее портрет. Привез из города станок, холст и она позировала мне до изнеможения – ее и моего. Практически, я построил ту же композицию, которую увидел – тогда, в саду, в самый первый раз. Только смотрела она теперь с портрета – прямо в глаза. И – румяное, спелое яблоко в протянутой руке…"Яблоко Ню"…
…- Как ты не понимаешь, мы же не можем провести всю жизнь в этой развалюхе! И – на что? Денег хватит, максимум, еще на неделю-полторы…А что – потом? На базаре яблоками торговать?
- А почему ты не можешь работать здесь?
- А что я буду здесь делать? В городе у меня мастерская, какие-никакие связи, возможности, долги, наконец…
- Ты забыл, я же квартиру продала, у меня есть деньги. Я могу отдать твои долги и еще останется…Мы сможем еще довольно долго…
- Я никогда не возьму твои деньги, поняла? Никогда. И больше никогда не хочу об этом слышать.
- Почему?
- Потому. Ты – женщина, я – мужчина. С этим ничего не поделаешь. И забудь…
- Но…
- Забудь! И потом, я помню – Алика…Не знаю, что там у вас было и как, но – помню. И с этим тоже – ничего не поделаешь…
- Это же никак не связано, я тебе расскажу и ты поймешь. Ты ведь и не спрашивал никогда. Это совсем-совсем другое. Там – наркотики…
Я опешил. Некоторое время я смотрел на нее молча, а в голове прокручивались разные картины на эту вот тему - наркотики…и Нюша.
- Господи! Ты и туда влезла…
- Да нет, Марик, никуда я не влезла. Я к ним никогда даже не прикасалась, ни сама, и никак иначе – правда! А он…Понимаешь, он меня любил, мы долго были вместе – больше года. И помогал мне, когда…Ладно, неважно. Я просто очень долго не знала – что бы ты обо мне не думал. А потом мне рассказали. И я стала следить – потому что, не могла просто так – взять и поверить. И – убедилась. Сама убедилась. Увидела, что он, на самом деле, продает дозы. И – кому. Детям. Тринадцати-четырнадцатилетним детям. Я видела их лица…Однажды мы с ним были в гостях, он выпил и позвал меня на лоджию – проветриться. И я ему сказала, что все знаю, а он стал хвастать, что скоро купит виллу на Багамах и мы будем там жить. Он был пьяный, уселся на перила, а я…просто толкнула его в грудь. Несильно, слегка. И он упал с десятого этажа. Вот и все. Меня вызывали на допрос, потом отпустили, сказали, что хоть и случайно, но, в общем-то, вышло по справедливости. Так ему и надо…Вот и все…- она замолчала и повторила:
- Я видела их лица, понимаешь. Этих ребят. Он не должен был - жить…
Через пять минут она уже спала и улыбалась во сне…
Счастью всегда что-нибудь мешает. Всегда…
…Через месяц моя "Ню" прошла конкурс и я выставил ее в престижной галерее. Вскоре пришло предложение выставить ее на… У меня появились заказы, клиенты, деньги, не было только – Ню. С тех пор, как я оставил ее в моем-теткином доме, я не знал о ней ничего. А может – не хотел знать. Потому что – проще. Потому, что за счастье - надо платить. Потому что – всегда…
"Ню" попутешествовав по разным галереям и залам, вернулась ко мне в мастерскую. Продавать ее я отказался. Но и смотреть на нее, видеть ее изо дня в день тоже – не мог. Лишь изредка снимал чехол, ставил ее к стене и раздвигал шторы…
…Письмо я получил в начале августа. Текста не было, только фотография – Ню и два маленьких свертка у нее на руках. Слева и справа. Голубые ленты – мальчики…На обороте надпись: Яблочки Ню. 17 июня.
Счастливые глаза.
…И я бросился в аэропорт…
© 01.07.2013 Борис Берлин
Метки: проза |
Процитировано 6 раз
Понравилось: 7 пользователям
Над пропастью на велосипеде |

Этот рассказ я начала писать в трамвае. Я ехала домой седьмого мая две тысячи тринадцатого года, и в семь часов двадцать минут солнце ещё яркой полосой било в глаза, которые щурились от слёз. Хотелось утопиться в Цюрих лэйк. Настроение было такое, что слова сами ложились в предложения на экране моего айпеда. Сегодня – особенный день. Сегодня я чуть было не стала проституткой, но поняла, что даже этого мне не дано.
Приехав на собеседование в модельное агентство, я уехала уже из эскорт-агентства. И поехала сразу по данному мне адресу – к клиенту в отель.
Трамвай ехал по главной торговой улице Цюриха, и я представляла, как буду покупать себе здесь завтра сумку и туфли к ней. У меня была просто ужасная сумка, абсолютно не подходящая ни к чему в моём гардеробе. И жизнь у меня была тоже абсолютно не подходящая ни к чему – ни к здравому смыслу, ни к роскоши, ни к её прожиганию. Что я делала со своей жизнью – сложно было сказать. Смотрела словно на картину в музее, но не прикладывала особых усилий, чтобы мир вокруг стал лучше. Да что уж там, не то что жизнь, сумку я свою поменять не могла.
Так и маялась двадцать два года, пока в день икс не решила действовать и не записалась на собеседование в это чёртово модельное агентство, где по факту работали одни жирные проститутки.
В общем, трамвай ехал по Банноф Штрассе – главной торговой улице города. Мне нужно было купить презервативы и трусы в тон лифчику, потому что те, что были – были не в тон. Для мужа я давно перестала стараться. Да, я замужем. Замужем. И я люблю своего мужа, а он любит меня. В этих строчках мне нет смысла врать, он их всё равно не прочитает. И их нет смысла объяснять, потому что любви нет рационального объяснения, как и некоторым моим поступкам.
Вчера, например, мы делали дома барбекю. Он привёз эту огромную машину – барбекюшницу – и как ребёнок радовался, когда курица не подгорела на решётке. Он съел три куска, я – один. А потом мы вместе смотрели с нашей террасы, как садится солнце, и я заплакала. Обняла его и заплакала. То ли боялась идти на собеседование в модельное агентство, то ли боялась, что он умрёт раньше меня, потому что ему уже сорок семь.
Когда солнце садится, я часто думаю о смерти. Когда оно встаёт – тоже. Вот представьте себе, вас уже не будет, а солнце будет так же красиво уходить за горизонт, а мужчины будут все так же платить за секс, и даже девушки будут всё так же стыдливо покупать в аптеках презервативы и новые трусы в HM.
Трамвай проезжал Кунстаус. На окнах висела реклама экспозиции Шагала. Рядом была аптека с нужными мне презервативами и отель, где жил мистер Града, «который всегда даёт чаевые и хочет девушку семнадцати лет». Мне было двадцать два, но, похоже, ни для кого,к роме мистера Грады, это значения не имело. А как это часто бывает, именно он один никогда бы и не узнал всей правды.
Просто заплатил бы пятьсот франков за час и купил бы на этот час иллюзию счастья. Этот час он был бы не так одинок в стенах отеля Швайцерхоф, как остальные двадцать три часа.
Я опаздывала к мистеру Града, а он наверняка уже дважды принял душ и воспользовался парфюмом. А я ещё даже не сменила трусы. Чёрт, я жутко стеснительная от природы, ещё и перфекционистка. Я не могу позволить себе придти на свидание, пусть даже такое, в трусах другого тона, чем лифчик. А ещё я не знаю, как сказать по-немецки – презерватив.
Стою напротив музея в своих розовых кедах и мучительно вспоминаю весь курс немецкой грамматики. Аптека на другой стороне улицы. Перехожу дорогу, борясь с соблазном отключить телефон и пойти в музей. Стою у кассы, переминаясь с ноги на ногу. До меня вдруг дошло, что мне не нужно знать, как «презервативы» по-немецки. Мне нужно просто положить их на кассу и протянуть девушке семнадцать франков.
Точнее, мне вообще ничего из этого не нужно. Мне нужен бальзам для губ. Они здорово потрескались и даже кровоточили слегка. Мы с мужем слишком много целовались на улице, и я слишком часто покусывала губы, когда стеснялась, а стеснялась я всегда.
В кошельке у меня было тридцать франков.
Если бы я купила презервативы, мне не хватило бы на сигареты и бальзам для губ. А курить дико хотелось, и губы трескались от сухости. Когда я представила, что мистер Града окажется поклонником здорового образа жизни, без сигарет и будет целовать меня в эти иссушенные губы, мне хотелось бежать куда-то в сторону, куда садится солнце или просто зайти в музей и растворяться в одной из картин Моне.
Я купила бальзам для губ со вкусом какао и пошла в киоск за сигаретами. Они в Швейцарии стоят безумных денег. В киоске я купила красные «Мальборо» и воды. Франки кончились. Мистер Града ждал. А ещё ждали Пикассо, Шагал и Себастьян. Мой муж. Он любил меня, а я любила его, я кажется, уже говорила.
Денег на билет в музей у меня не было, а пойти отчаянно хотелось. Это, кажется, был первый раз в жизни, когда мне так сильно хотелось пойти в музей. Необъяснимо сильное желание для такого действия. Это вам не сексом заняться и даже не губы потрескавшиеся бальзамом намазать. И даже не сделать две глубокие затяжки красным «Мальборо», сидя на крыльце какого-то официального места. Это было нечто большее.
И вы представляете, музей в среду был бесплатным. Когда-то Пикассо и Дали продавали свои холсты за кусок хлеба, а сегодня даже я со своим бальзамам для губ, «Мальборо», водой и барбекюшницей дома была богаче их. Что уж говорить о мистере Града, названивавшего мне уже час без перерыва и готового заплатить за час пятьсот франков. Но в этот момент я была ближе к Пикассо, чем к мистеру Града по состоянию души. Хотя и бесконечно далека от обоих. В моих глазах застыли слёзы и замысел этого рассказа.
В этот день Себастьян хотел сделать мне сюрприз. Он хотел, чтобы этот день стал особенным для меня. И он стал таковым. Себастьян купил мне велосипед, о котором я мечтала весь год с момента нашего переезда в Швейцарию. Он купил его в секонд-хенде и оттирал и мыл как раз в тот момент, когда я стояла в аптеке у стенда с презервативами для мистера Грады. Или когда я стояла у картины Пикассо. Ведь это было почти в одно и то же время.
«Теперь ты будешь как настоящая швейцарская леди», – сказал мне Себастьян и показал на велосипед. Все швейцарки катаются на велосипедах. Здесь это очень модно.
«Нет, леди я уже никогда не буду», – сказала я и положила голову на его плечо.
Потом я бросила сумку прямо на асфальт, запрыгнула на велосипед и погнала прямо в кукурузное поле, которое каждый день видела и в то же время которого раньше не замечала. Я гнала велосипед по полю, быстро переключая скорости и стараясь прогнать из головы всю фальшь, всё лишнее, всё ненужное, а оставить только свою любовь к Себастьяну. Ветер словно стирал из памяти всю грязь сегодняшнего дня и оставлял лишь впечатления от картин.
Себастьян догнал меня. Я слезла с велосипеда, и он повалил меня на траву посреди кукурузного поля. И, кажется, ничего, кроме этого момента здесь и сейчас не существовало. Наша жизнь – не то, что было или могло бы быть, а то, до чего мы можем дотронуться рукой. Я держала в своей руке руку Себастьяна.
«Я женился на тебе, ты – моя жена, ты – леди. А то, что за первый секс с тобой я заплатил деньги – прошлое, факт, который знаем только мы и та мадам, что свела нас той ночью в борделе».
Мы лежали посреди кукурузного поля и смотрели на заходящее солнце. Держась за руки, мы молчали, переживая каждый свой момент истины.
Юлия Садовская
Метки: проза жизнь наша |
Понравилось: 2 пользователям
Английский акварелист Ричард Торн |
Английский художник Ричард Торн (Richard Thorn) родился в Девоне (Devon) в 1952 году, где он живет и работает в настоящее время.
Ричард Торн является инновационным английским акварелистом. Своей диинамичной техникой и насыщенными цветами он резко отличается от большинства британских художников, которые являются последователями традиционного стиля английской акварели.

Off hopes nose
В пятилетнем возрасте Richard Torn во время своей болезни начал увлекаться карандашными набросками, а акварель стала естественным продолжением этого увлечения. На творчество молодого художника большое влияние оказали импрессионисты, а затем работы американских акварелистов, таких как Уинслоу Хомер, Эдвард Хоппер, Филипп Джеймсон и Эндрю Уайет. Своим ярким и узнаваемым стилем Richard Thorn во многом обязан влиянию этих выдающихся мастеров. Художник получил известность благодаря своей способности замечательно передавать работу света, и его катины пользуются большим спросом у коллекционеров живописи по всей стране.

Force Of Nature

Flotilla On The Dart

Free

The race is on

Bantham in Blue

Across The Shining Bay

...and back to Dartmouh

Bay Goings On

Daisey Garden

Silent pool

The passing of time

Sun And Conversation

Rest A While

Off To Who Knows Where
All Washed Up

Siesta

After a good day (St Ives)
Uncertain weather

Lighthouse (St Ives)

Mevagissey Afternoon

Port Scathow

Workhorses

Wharfside (Teignmouth)

Refit Time

The Pool Dreamer

Berry Head

Clifftop Garden

Evening Solitude

Faltering Light

Goarse and Sparkle


Out beyond the head (St Marys Bay)
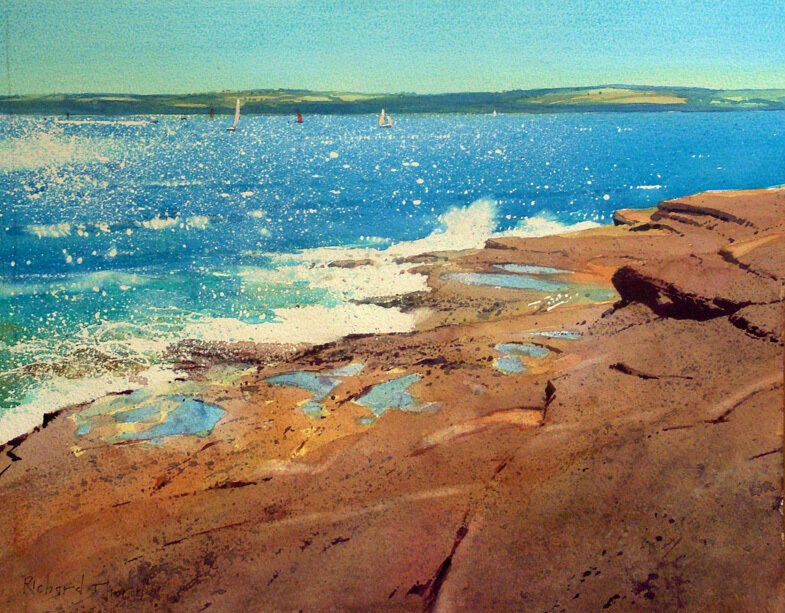
Out on the Promontory

Over Fields and Headland

Perfect Day

Playing All Day Long

The Late Show

Polzeath Surfers

Portwrinkle

Tranquility at St. Mary's.

Harbour Noon

Summer Began on August 1st. Лето началось 1-го августа

Along the cliff path (Berry Head)

Сайт художника - www.richardthornart.co.uk
Метки: живопись мое |
Процитировано 10 раз
Понравилось: 8 пользователям
Богатыри...не мы. |

Покорение Самарканда и всего Бухарского эмирата занимает в российской истории совершенно незаслуженное место - вернее, никакого места, ибо после ухода России из Средней Азии российские историки предпочли сделать вид, будто бы Российской империи там никогда и не было. Между тем, туркестанский поход генерала Кауфмана - это такой пример русской воинской доблести, по сравнению с которым все персидские походы Наполеона и Александра Македонского кажутся детскими играми. Все-таки за спиной французского императора и древнегреческого царя стояла армия, а вот за спиной Константина Петровича фон Кауфмана - 3500 человек. То есть, 25 рот пехоты, 7 сотен казаков и 16 орудий. А впереди - весь Туркестан.
И вот эта горстка храбрецов 1-го мая 1868 года вышла в поход против Бухарской армии, которая насчитывала 40—50 тысяч человек. Причем, генерал Кауфман по всем правилам военной дипломатии и офицерского кодекса чести отправил эмиру письмо, в котором великодушно предложил эмиру сдаться.
Тот лишь рассмеялся над дерзким неверным.
В ответ генерал Кауфман послал в атаку полковника Штрандмана с 4 сотнями казаков и 4 орудиями. Атака была стремительной: казаки на полном скаку прорвались сквозь заградительный огонь бухарцев и начали рубить шашками опешивших азиатов, которые бросились бежать куда глаза глядят, теряя оружие и пушки. А следом по армии эмира ударила пехота. Под сильным ружейным и орудийным огнем, русские солдаты по грудь в воде форсировали реку Зарявшан и бросились в штыковую атаку на врага. И тысячи азиатов в безотчетном ужасе перед этими непобедимыми демонами бросились бежать.
Победа была ошеломляющей: русская армия потеряла всего 40 человек убитыми и ранеными, бухарский эмир – потерял все. Самарканд сдался генералу Кауфману без боя.
Но это только Была половина победы. Как только генерал Кауфман уехал, в городе вспыхнул мятеж. И шесть десятков бойцов, заперевшись в городе, в течении недели отражала атаки сотен и тысяч
Сегодня "Историческая правда" публикует свидетельства очевидцев той эпохальной русской победы.

К.П. фон Кауфман.
Из воспоминаний художника Василия Верещагина
Все мы, «завоеватели» Самарканда, следом за генералом Кауфманом, расположились во дворце эмира; генерал — в главном помещении, состоявшем из немногих, но очень высоких и просторных комнат, а мы, штаб его, — в саклях окружающих дворов, причем приятелю моему, генералу Головачеву, пришлось занять бывшее помещение гарема эмира, о котором тучный, но храбрый воин мог, впрочем, только мечтать, так как все пташки успели, разумеется, до нашего прихода улететь из клеток.
Комнаты генерала Кауфмана и наш дворик сообщались с знаменитым тронным залом Тамерлана двором, обнесенным высокою прохладною галереею, в глубине которой стоял и самый трон Кок-таш, большой кусок белого мрамора с прекрасным рельефным орнаментом. Сюда, на этот двор, стекались государи и послы всей Азии и части Европы для поклона, заверений в покорности и принесения даров; на этом камне-троне восседая, принимал своих многочисленных вассалов Тимур-Лянг (в буквальном переводе — Хромое железо). Часто я хаживал по этой галерее с генералом Кауфманом, толкуя о местах, нами теперь занимаемых, о путешественниках, их посетивших, о книгах их и т.п.
Были слухи, что бухарский эмир собирается отвоевать город и с армией в 30-40 тысяч двигается на нас. Кауфман собирался выступить против него, а покамест посылал отряды по сторонам, чтобы успокоить и обезопасить население окрестностей новозавоеванного города — города, прославленного древними и новыми поэтами Востока, пышного, несравненного, божественного Самарканда, каковые метафоры, разумеется, надо понимать относительно, потому что Самарканд, подобно всем азиатским городам, порядочно грязен и вонюч.
Генерал Головачев ходил занимать крепость Каты-Курган; я сделал с ним этот маленький поход, в надежде увидеть хотя теперь битву вблизи, но кроме пыли ничего не увидел — крепость сдалась без боя к великому огорчению офицеров отряда. Начальник кавалерии Штрандман так рассердился на мирный оборот дела, что просил генерала передать ему послов, пришедших с известием о сдаче крепости и изъявлении покорности, для внушения им храбрости. Дело, которого так пламенно желал отряд, ускользнуло из рук, а с ним и награды, отличия, повышения, — грустно!
Пистолькорс, бравый кавказский офицер, послан был с отрядом поколотить массы узбекского войска Шахрисябза и Китаба, придвигавшихся с юго-восточной стороны. Побить-то он их побил, и по праву всех победителей даже ночевал на поле битвы, но когда двинулся назад, неприятель снова насел на него и, как говорится, на его плечах дошел до Самарканда. Генерал Кауфман и мы за ним выехали навстречу возвращавшемуся отряду, но уже в предместье города нас встретили выстрелами, а в окружающих садах завязалась такая живая перестрелка, что пришлось часть бывших с нами казаков тут же послать в атаку, чтобы отвратить опасность от самого командующего войсками; мы с некоторым конфузом воротились. Многие из офицеров отряда выражали неудовольствие на эту победу, смахивающую на отступление, и я слышал, что полковник Назаров, храбрый офицер и большой кутила, громко называвший последнее движение к Самарканду бегством, был посажен Кауфманом под арест с воспрещением участвовать в будущих военных действиях.

Картина В.В. Верещагина (из туркестанского альбома).
Туземцы ободрились этою как бы удачею, в сущности сводившеюся к тому, что неприятель, не будучи разбит наголову, а только поколочен, немедленно же снова собрался и заявил о себе, как это всегда на Востоке бывает. Как бы то ни было, стали настоятельно ходить слухи о том, что город окружен неприятелем. Мы, молодежь, впрочем, были совершенно без забот; мне и в голову не приходила мысль как о более или менее отдаленной опасности для всего отряда, так и о немедленной опасности для себя лично. Каждый день я ездил с одним казаком по базару и по всем городским переулкам и закоулкам и только долго спустя понял, какой опасности ежедневно и ежечасно подвергался. Еще до выхода командующего войсками, при проезде городом, невольно бросались в глаза по улицам кружки народа, преимущественно не старого, жадно слушавшего проповедовавших среди них мулл; в день возвращения отряда Пистолькорса проповеди эти были особенно оживленны, явно было, что народ призывался на священную войну с неверными. Когда мне вздумалось раз, для сокращения пути к цитадели, свернуть с большой базарной дороги узенькими кривыми улицами, на одном из поворотов открылся большой двор мечети, полный народа, между которым ораторствовал человек в красной одежде — очевидно, посланец бухарского эмира. В довершение всего я встретил моего приятеля, старшего муллу мечети Ширдари, идущего по базару и жестами, и голосом возбуждавшего народ.
«Здравствуй, мулла!» — сказал я ему; он очень сконфузился, но вежливо ответил и волею-неволею перед всеми должен был пожать протянутую ему руку
Как только генерал Кауфман выступил из города, стали говорить, что жители замышляют восстание. Но я уже давно с таким полным доверием вращался между туземцами во всякое время дня и ночи, что самая мысль о том, что это может измениться, не умещалась в моем понятии. В это время я ездил за город, по дороге к Шах-Зинде, так называемому летнему дворцу Тамерлана, где писал этюд одной из мечетей с остатками чудесных изразцов, ее покрывавших.
Еще через день, равно утром, забежал в каморку, которую я занимал во дворе самаркандского дворца, уральский казак, майор Серов, оставленный заведовать туземным населением. Он упрашивал не ходить более в город, кишащий будто бы вооруженным народом, уже открыто враждебным нам. Шахрисябзцы-де подходят к городу, надобно ждать бунта и, вероятно, нападения на цитадель.
— Бога ради, не выходите за крепостную стену, — уговаривал он меня, — вас наверное убьют, вы пропадете бесследно, нельзя будет и доискаться, кто именно убил.
Признаюсь, я все-таки и на этот раз не поверил существованию опасности и поехал бы опять в город, если бы не этюд с одного персиянина из нашего афганского отряда, за который только что накануне принялся.
Предсказания относительно подхода неприятеля со стороны ханств сбылись не далее как на следующий же день: выйдя рано утром из моей сакли, я увидел все наше крепостное начальство с биноклями и подзорными трубами в руках.
— Что такое?
— А вот посмотрите сюда! И в бинокль, и без бинокля ясно было видно, что вся возвышенность Чопал-Ата, господствующая над городом, покрыта войсками, очевидно, довольно правильно вооруженными, так как блестели ружья, составленные в козлы. По фронту ездили конные начальники, рассылались гонцы. Некоторые из бывших в нашей группе офицеров выражали уверенность, что будут скоро штурмовать крепость, другие не верили в возможность этого — я был в числе последних. Между говорившими были комендант крепости майор Штемпель, помянутые Серов, а также оставленный, как сказано, в Самарканде в наказание за злой язык, полковник Назаров, которого я в то время вовсе еще не знал.
Только что, на другой день, я сел пить чай, поданный мне моим казаком, собираясь идти дописывать своего афганца, как раздался страшный бесконечный вой: ур! ур! — вместе с перестрелкой, все более и более усиливавшейся. Я понял серьезность дела — штуомуют крепость! — схватил мой револьвер и бегом, бегом по направлению выстрелов, к Бухарским воротам. Вижу, Серов, бледный, стоит у ворот занимаемого им дома и нервно крутит ус — обыкновенный жест этого бравого и бывалого казака в затруднительных случаях.
— Вот так штука, вот так штука! — твердит он.
— Что, разве плохо?
— Покамест еще ничего, что дальше будет; у нас, знаете, всего-навсего 500 человек гарнизона, а у них, по моим сведениям, свыше 20000.
Я побежал дальше. Вот и Бухарские ворота. На площадке над ними солдати¬ки, перебегая в дыму, живо перестреливаются с неприятелем; я вбежал туда и, видя малочисленность наших защитников, взял ружье от первого убитого около меня солдата, наполнил карманы патронами от убитых же и 8 дней оборонял крепость вместе с военными товарищами, и это, кстати сказать, не по какому-либо особенному геройству, а просто потому, что гарнизон наш был уж очень малочислен, так что даже все выздоравливающие из госпиталя, еще малосильные, были выведены на службу для увеличения числа штыков — тут здоровому человеку оставаться праздным грешно, немыслимо. При первом же натиске ворота наскоро заперли, так что неприятель отхлынул от стен и, засевши в прилегавших к ней почти вплоть саклях, открыл по нас убийственный огонь: ружья у них, очевидно, были дурные, пули большие, но стрельба очень меткая, на которую к тому же отвечать успешно было трудно, так как производилась она в маленькие амбразуры, пробитые в саклях. У нас таких амбразур не было, приходилось стрелять из-за полуобвалившихся гребней стены, где люди были более или менее на виду и потеря в них поэтому была порядочная. Вот один солдатик, ловко выбиравший моменты для стрельбы, уложил уже на моих глазах неосторожно показавшегося у сакли узбека, да кроме того ухитрился еще влепить пулю в одну из амбразур, так ловко, что, очевидно, повредил ружье, а может быть, и нос стрелявшего, потому что огонь оттуда на время вовсе прекратился. Очень потешает солдатика такая удача, он работает с усмешкою, шутит, и вдруг падает как подкошенный: пуля ударила его прямо в лоб; его недостреленные патроны достались мне в наследство. Другого пуля ударила в ребра, он выпустил из рук ружье, схватился за грудь и побежал по площадке вкруговую, крича:
— Ой, братцы, убили, ой, убили! Ой, смерть моя пришла!

В. В. Верещагин
Скоро пришел майор Альбедиль и принял команду от своего младшего офице¬ра, осмотрел занятую неприятелем позицию, сделал кое-какие распоряжения, но прокомандовал недолго: помнится, я говорил с ним о чем-то, когда он вдруг при¬сел и сказал: «Я ранен». Принявши его на мое плечо, я кликнул солдатика и стащил его сначала вниз, а потом и далее до перевязки, которая была во дворце эмира за целую версту от ворот. Альбедиль браво отдал последние приказания, убеждал своих смутившихся солдат держаться крепко, не робеть и затем так ослаб, так беспомощно повис, что у меня не хватило духа сдать его солдатам, — пришлось дотащить до квартиры. Дорогою раненый страшно устал, но носилок под руками не оказалось, пришлось идти.
«Чувствую, — говорил он, — что рана смертельна, не жить мне более».
Я уговаривал, конечно, ободрял: рана в мягкую часть ноги, пройдет, заживет, еще танцевать будете! И, действительно, прошла, зажила, и Альбедиль даже танцевал; но все-таки проказница-пуля бухарская наделала больше вреда, чем я предполагал: не перебила, но задела кость и на многие месяцы, если не на годы, задала страданий и забот.
Сдавши Альбедиля доктору, я побежал назад к воротам, где перестрелка и рев снова разгорались. Не доходя немного, влево у поворота стены, вижу группу солдат: сжавшись в кучку, они нерешительно кричали «ура!» и беспорядочно стреляли по направлению гребня стены, где показывались поминутно головы атакующих.
«Всем нам тут помирать, — угрюмо толкуют солдаты. — О Господи, наказал за грехи! Как живые выйдем? Спасибо Кауфману, крепости не устроил, ушел, нас бросил»…
Я ободрял, как мог: «Не стыдно ли так унывать, мы отстоимся, неужели дадимся живые?» Очень пугали солдат какие-то огненные массы вроде греческого огня, которые перебрасывали к нам через стены.
Несколько далее подошел к стене небольшой отрядец солдат с офицером — это был помянутый полковник Назаров, который, в виду беды, стряхнувшейся над крепостью, благоразумно забыл о своем аресте, собрал в госпитале всех слабых своего батальона, бывших в состоянии держать ружье, и явился на самый опасный пункт. К нему бегут солдаты совсем растерянные.
— Ваше высокоблагородие, врываются врываются!
— Не бойся, братцы, я с вами, — ответил он с такою уверенностью и спокойствием, что сразу успокоил солдат, очень было упавших духом от этих беспрерыв¬ных штурмов, сопровождаемых таким ревом.
С этой минуты мы были неразлучны, за все время нашего восьмидневного сидения, хорошо памятного в летописях среднеазиатских военных действий. Снова крики ур! ур! ур! все ближе, ближе, и над нами на стенах показались несколько голов из числа штурмующих, готовившихся, очевидно, сойти в крепость. Солдаты, не ожидая команды, дали залп, головы попрятались, и все смолкло; толпа, очевидно, отхлынула от стены, встретивши пули там, где она надеялась войти безнаказанно, врасплох. Дело в том, что к этому месту снаружи стены вела тропинка, которую, вместе со многими другими, не успели обрыть, а с обрушенного гребня, по внутренней стороне, тоже спускалась дорожка; жители знали все эти неофициальные входы в крепость и водили по ним штурмующих.
Пришлось, оставивши здесь часть команды, идти в другую сторону, откуда прибежали к Назарову один за другим несколько запыхавшихся бледных солдат:
«Там, там врываются, ваше высокоблагородие!» — кричали они еще издали.
Мы бросились направо от ворот, где как раз накрыли в небольшом проломе стены несколько дюжих загорелых узбеков, работавших над разбором плохонько- го заграждения из небольших деревин — эти не дождались не только штыков, но даже и пуль и побежали при одном нашем приближении.
Проклятая эта крепость, в три версты окружности, везде обваливалась, везде можно было пройти в нее, и так как внутри прилегало к стенам бесчисленное множество сакль, то вошедшую партию неприятеля, даже и малочисленную, стоило бы большого труда перебить.
И жутко, и смешно отчасти вспомнить: только что повернулись отсюда, и Николай Николаевич Назаров стал уже поговаривать о том, что не худо бы поесть борщу, как бегут опять, разыскивая его, с нашего старого места:
— Ваше высокоблагородие, пожалуйте, наступают.
Мы опять бегом. Сильный шум, но ничего еще нет, шум все увеличивается, слышны уже крики отдельных голосов, очевидно, они направляются к пролому, невдалеке от нас; мы перешли туда, притаились у стены, ждем.
— Пройдем на стену, встретим их там, — шепчу я Назарову, наскучив ожиданием.
— Тсс…— отвечает он мне,— пусть войдут.
Этот момент послужил мне для одной из моих картин. Вот крики над самыми нашими головами, смельчаки показываются на гребне — грянуло ура! с нашей стороны, и такая пальба открылась, что снова для штыков работы не осталось, все отхлынуло от пуль.
Эти беспрерывные нападения действовали, видимо, удручающим образом на солдат, тут и там повторявших, что «видно, всем тут лечъ». Нужна была энергия и шутки Назарова, чтобы заставлять, время от времени, смеяться людей. Вообще мне бросилась в глаза серьезность настроения духа солдат во время дела. Атакующие часто беспокоили нас и в перерывах между штурмами: подкрадутся к гребню стены в числе нескольких человек, быстро свесят ружья и, прежде чем за¬хваченные врасплох солдатики успеют выстрелить, опять спрячутся, так что их выстрелы нет-нет да и портили у нас людей, а наши почти всегда опаздывали и взрывали только землю стены. Меня это очень злило, я подолгу стаивал с ружьем наготове, ожидая загорелой башки, и раз не удержался, чтобы не прибавить крепкое словцо — сейчас же солдаты остановили меня:
— Нехорошо теперь браниться, не такое время.
Сначала солдаты называли меня «ваше степенство», но когда Назаров стал называть: Василий Васильевич, то все подхватили, и скоро весь гарнизон до по¬следнего больного в госпитале знал «Василья Васильевича».
В это время начальник крепостной артиллерии, бравый капитан Михневич, всюду поспевавший, раздал нам ручные гранаты для бросанья через стены в не¬приятельские толпы. Между тем, шум что-то затих, так что мы не знали, куда бросать их, да к тому же подозревали, не затевают ли какой особой каверзы — надобно было посмотреть через стену, где неприятель и что он делает. Офицеры посылали нескольких солдат, но те отнекивались, один толкал вперед другого — смерть почти верная.
«Постойте, я учился гимнастике», — и прежде, чем Назаров успел закричать: «Что вы, Василий Васильевич, перестаньте, не делайте этого» — я уже был высоко.
«Сойдите, сойдите», — шептал Назаров, но я не сошел, стыдно было, хотя, признаюсь, и жутко. Стою там согнувшись под самым гребнем да и думаю: «Как же это я, однако, перегнусь туда, ведь убьют!» — думал, думал — все эти думы в такие минуты быстро пробегают в голове в одну, две секунды, — да и выпрямился во весь рост! Передо мной открылась у стены и между саклями страшная масса народа и в стороне кучка в больших чалмах, должно быть, на совещании. Все это подняло головы и в первую минуту точно замерло от удивления, что и спасло меня; когда уже опомнились и заревели: мана! мана! т.е. вот, вот! — я уже успел спрятаться — десятки пуль влепились в стену над этим местом, аж пыль пошла.
«Сходите, Бога ради, скорее», — вопил снизу милейший Назаров, и, конечно, повторять этого не нужно было; я указал место, где были массы народа, и наши гранатки скоро подняли страшный переполох и гвалт, т.е. достигли цели.
Так как Назаров был сам себе начальник и мог переходить с места на место по усмотрению, то мы переместились на угол крепости, откуда на далекое пространство видны были обе линии стены. Кстати сказать, стены Самаркандской цитадели были очень высоки и массивны, так что если бы годы, столетия не по-разрушили их, то за такой охраною можно бы отстаиваться; беда была та, что при существовавших везде проломах приходилось защищать это решето в одно и то же время сразу в нескольких местах, а защитников было мало, около 500 человек без больных и слабых, которых по возможности всех подняли на ноги. Многие были так слабы, что даже ура не могли кричать, а ружье насилу держали в руках; бывало, убьют или ранят соседа, крикнешь сердито: «Чего ты стоишь, смотришь-то, приди: помоги поднять!»
— Я-не-могу-у, — отвечает, — я-из-слабы-ых.
— Зачем же ты пришел, коли двигаться не можешь! — Не могим знать, приказали, всех к стенам согнали.
На новом нашем обсервационном пункте мы расположились отлично. Казак мой, разыскавший меня и не захотевший отстать «от барина», был послан за бывшими у меня сигарами, а Назаров велел принести хлеба и водки. Закусили и закурили по сигаре — что за роскошь! Сигары произвели такой живительный эффект, что я купил еще ящик и роздал по всем ближним постам — везде задымили. Тут принесли нам всем щей и мы подкрепились; это после утреннего стакана чая, да еще недопитого, было мне на руку. Назаров со всею своею командою расположился в тени сакли, а я с охотниками держался больше на стене, где тешился стрельбою — нет-нет да и имеешь удовольствие видеть, как упадет под¬стреленный зайчик. Одного, помню, уложил сосед мой, но не на смерть — упавший стал шевелиться; солдатики хотели прикончить его, но товарищи не дали.
— Не тронь, не замай, Серега!
— Да ведь он уйдет.
— А пускай уйдет, он уже не воин!
И точно тот ушел, но с хитростью и, вероятно, в полной уверенности, что перехитрил нас: упавши на перекрестке улиц, близ стены, он стал медленно переваливаться с боку на бок, чтобы не возбудить нашего внимания сильным движени¬ем, и так, переваливаясь понемножку, докатился до закрытия, где приняли его несколько рук, вполне вероятно, уверенных, что уруса надули, и никому, разумеет¬ся, в голову не пришло, что урус Серега и многие другие урусы могли бы добить, но не захотели, по правилу «лежачего не бьют».
Исключая, впрочем, такие отдельные случаи маленькой сентиментальности, наши спуску не давали; но и они угощали нас! Выстрелы все шли из сакль, откуда ружья были через маленькие отверстия постоянно нацелены по известным пунктам цитадели, где показывались наши. Очень часто пули их метко ударялись в самые амбразуры, только что понаделанные нами в этом месте саперами. Раз, помню, ударило в песок амбразуры именно в тот момент, как я готовился спустить курок — всю голову мне так и засыпало песком и камешками. Я не утерпел, схватился за лицо руками.
«Снимайте его!» — закричал Назаров снизу, думавший, что я ранен. Другой раз, нацеливаясь, я переговаривался с одним из соседей — слышу, удар во что-то мягкое, оглядываюсь — мой сосед роняет ружье, пускает пузыри и потом кубарем летит со стены…
Назаров с двумя молодыми офицерами, имена которых я забыл, расположился совсем по-домашнему. После одной чарки он велел обнести солдатам по другой, по обыкновению смеялся, забавлялся с ними, причем шутки его были часто очень скоромного свойства, если судить по тем непечатным выражениям, которые иногда долетали до наших амбразур, и громкому хохоту солдат. Можно было подумать, что опасность миновала.
Впрочем, эта крепостная идиллия продолжалась недолго. Скоро по направлению Бухарских ворот раздались и знакомые штурмовые крики и перестрелка, а затем прибежал и солдат с просьбою о помощи, «очень уж наседают». Назаров, оставивши на этой угловой квартире наблюдательный пост, сам беглым шагом направился к воротам; начальствовавший там офицер добровольно передал ему команду, точно так же, как и саперный штабс-капитан Черкасов со своими сапера¬ми. Штурм опять отбили. Стало вечереть. Поставили медный чайник, мы располо¬жились пить чай, не тут-то было — опять нападение. Мне невольно вспомнился утренний чай, стоявший еще, вероятно, недопитым в моей комнате, вспомнился и афганец, которому не пришлось дописать ноги и по всей вероятности и не при¬дется Этот раз враги наши отошли что-то очень скоро, но вслед за их уходом показался за воротами дымок. «Ах, подлецы, они зажгли их!» Так и есть. Скоро сильное пламя обрисовалось на потемневшем уже воздухе. Как только ворота рухнули, новое сильнейшее нападение, на этот раз долгое, настойчивое. Стреляли чуть не в упор. Шум и гвалт были отчаянные; в этом гаме я кричу солдатам, без толку стреляющим на воздух:
— Да не стреляйте в небо, в кого вы там метите!
— Пужаем, Василий Васильевич, — отвечает один пресерьезно. Помню, я застрелил тут двоих из нападавших, если можно так выразиться, по-профессорски. «Не торопись стрелять, — говорил я, — вот положи сюда ствол и жди»; я положил ружье на выступ стены; как раз в это время халатник, ружье на перевес, перебежал дорогу перед самыми воротами; я выстрелил, и тот упал, убитый наповал. Выстрел был на таком близком расстоянии, что ватный халат на моей злополучной жертве загорелся, и она, т.е. жертва, медленно горевши в продолжение целых суток, совсем обуглилась, причем рука, поднесенная в последнюю минуту ко рту, так и осталась, застыла; эта черная масса валялась тут целую неделю до самого возвращения нашего отряда, который весь прошел через нее, т.е. мою злополучную жертву. Другой упал при тех же условиях и тоже наповал.
«Ай да Василий Васильевич,— говорили солдаты,— вот так старается за нас».
Нет худа без добра: как только ворота прогорели, Черкасов устроил отлич¬ный, совершенно правильный бруствер, из мешков, к которому поставили орудие, заряженное картечью. Тут разговор пошел у нас несколько иной.
Было уже темно, упавшие бревна и доски ворот еще ярко пылали. Назаров разместил солдат так, чтобы их не было видно, лишь штыки блестели в темноте. На виду в середине было только орудие с прислугою и офицером, белые рубашки и китель которых ярко блестели, освещенные пламенем. Вот приближается шум ближе, ближе, обращается в какой-то хриплый рев многих тысяч голосов с воз-гласами: Аллах! Аллах! Вот показались передовые фигуры, они зовут других; никто из них не стреляет, в руках шашки и батики; как бараны с опущенными глазами, бросаются они на ворота и на орудие… Первая! раздается звонкий голос поручика Служенко. Ужасный гром орудия, слышно, как хлестнула картечь, затем молчание — ничего не видно, дым все застлал — и через минуту или две далеко вдали начинают раздаваться голоса; отхлынули, начинают, вероятно, сводить счеты, браниться, попрекать друг друга, а мы-то рады! Долго продолжались эти нападения, каждый раз с новым азартом; очевидно было, что они во что бы то ни стало хотели овладеть крепостью, но недисциплинированная масса каждый раз не выдерживала картечи на близком расстоянии и отступала. Впрочем, и было от чего отступать, хотя нам иногда и видно было, как они сразу подхватывали и подбирали своих убитых; но одних павших около самых стен и которых подобрать было невозможно — оказалось на другой день такое множество и на сильном солнце они подняли такое зловоние, что надобно удивляться, как у нас не завелось какой-нибудь заразной болезни.
Как поутихло, мы сделали вылазку, главною целью которой была невдалеке находившаяся мечеть; из нее, как из твердыни, направлялись все нападения на нас. Удостоверившись, что неприятель отошел, мы тихо вышли ночью прямо к этой негодной мечети; живо собрали сухого дерева, разложили костры и запалили. То же самое сделали мы и с несколькими близ самых ворот стоявшими саклями, наиболее нас душившими. В одной из них нашли мы рыжую туркменскую лошадь; решили подарить ее мне, но я отклонил эту честь, отдал лошадь артели, а у артели купил за 40 рублей. Здесь мы тоже живо запалили все, что могло гореть. Говорили шепотом, в темноте только и слышно было: «Николай Николаевич! Василий Васильевич! Вот сюда петушка, живо, живо!» Замечательно, что Назаров был на вылазке в туфлях и не столько, думаю, из забывчивости, сколько из полного равнодушья к опасности — стоит ли беспокоиться надевать сапоги, раз что вечером снял уже их.
Когда огненные языки взвились, мы наутек, да и пора было: пожар заметили, и стали приближаться голоса. Видно, пробовали тушить, но не могли одолеть огня, который разгорался все пуще и пуще.
Опять стали нападать на нас, но с еще меньшим успехом, так как теперь вся местность была освещена.
Поработала за эту ночь наша пушка и ее милый командир Служенко. Под звонкие выкрикивания его: «первая! первая!» — я так и заснул. Раздобывши досок, мы расположились вповалку на песке на улице; с готовым ружьем при бедре, несмотря на жесткость импровизированного ложа и великое множество солдатских блох, я заснул, как праведник.

Рассказ Комильбоя, сарта, уроженца города Самарканда, ныне сторожа в Троицкосавском полицейском управлении, названного по принятии им православия Константином Богдановым.
Отец мой был турок, поселившийся в Самарканде, мать — сартянка. Отцу моему было лет шестьдесят, а мне двадцать три года, когда прошел слух о том, что русские идут на Самарканд. Мой старший брат был в то время женат и имел двоих детей, мать умерла года за два до прихода русских. У отца была мясная лавка на базаре. Брат мой вел полевое хозяйство, я же помогал отцу в торговле. Я не любил торговли, мне нравилось лучше скакать на дикой лошади, драть козла (драть козла — одно из любимых развлечений сартов. В нескольких верстах от Самарканда, в местности, называемой Афросиаб, на равнине, окруженной высокими песчаными холмами, собирается удалая молодежь верхом на бойких лошадях. Старики взбираются на вершины холмов и с вершины самого высокого холма с отвесной стороны его бросают удальцам, ожидающим у подножия горы, живого козла. В данном случае козел изображал собою шайтана (чёрта). Козла подхватывают на лету удальцы. Счастливец, а иногда и двое или трое, овладев несчастным животным, преследуемые соперниками, мечутся по равнине в разные стороны до тех пор, пока козел не бывает разорван на мелкие части. Если удалец, охвативший козла, успевает сохранить в своих руках хоть часть животного, особенно голову, он получает приз. Со времени покорения русскими г. Самарканда “байга” или спорт этого рода не был уничтожен, но было запрещено драть живого козла. С вершины афросиабской горы присутствующие почетные гости-русские с командующим войсками Самаркандской области во главе бросают (исполнителями являются тут старшины аксакалы) уже убитого раньше козла. С вершины холма вся равнина, во время погони за козлом, кажется кипящего кашей. Ничего нельзя рассмотреть в сплотившейся двух-трехтысячной толпе, кроме движущихся, мечущихся голов всадников. Покойный граф Николай Яковлевич Ростовцев, незабвенный в летописях Самарканда, везде распространявшей своим присутствием свет, радость и блеск, сам раздавал призы, да не одному, а нескольким удальцам, и такие призы, которых сарты не поручали до него: роскошные шелковые халаты, серебряный вещи и др.), вступать в единоборство. Удалью я с детства отличался.
Конечно, весь Самарканд взволновался, узнав, что русские двигаются из Джизака к нам. У нас были два русских солдата, убежавших к нам, чтобы избавиться от тяжкого наказания, к которому они были приговорены, не знаю за какие преступления. Этих двух солдат я хорошо помню. Оба приняли магометанство и обещали обучать нас военному делу. Один из них высокий, худой. Его назвали Усманом. Другой невысокого роста, широкоплечий, очень сильный сохранил свою русскую фамилию Богданов. Их обоих назначили полковниками: Богданова командиром артиллерии (он был артиллеристом), а Усмана - командующим пехотой. Они учили нас стрелять, маршировать, приучали к дисциплине и порядку. И Богданов, и Усман говорили, что русских немного, что они усталые и голодные, и что бояться нечего.
Самаркандский бек колебался, защищать ли город или нет: он ждал распоряжения от бухарского эмира, а муллы напротив в мечетях, на базарах и на площадях горячо взывали к защите родного города и знаменитых мечетей, разгорячили народ, требовали войны. В медресе Тилла-Кали собрали совет из выборных участковых представителей, чтобы обсудить меры к защите города. Сделали это самовольно, не спросясь бека. Наш отец был на этом совете и рассказал дома, что там произошли страшные беспорядки. Бек рассердился, когда узнал, что вопрос решается без него, и послал на собрание своих приближенных и отряд сарбасов (местных солдат). Приближенные бека спорили и ссорились с муллами, дошло до драки, вмешались сарбасы, стали стрелять в народ. Горожане убили представителей со стороны бека и нескольких сарбасов. Произошла общая свалка. Более всех пострадали муллы. Солдаты не только многих убили и ранили, но и разграбили их имущество, а в самом медрессе досталось и живущим там ученикам, их выгнали из келлий и завладели их жалким скарбом.
Несмотря на такое противодействие со стороны бека, сарты волновались и готовились к войне. Их ожесточила присылка сарбасов на совет в Тилла-Кари, и они не обращались больше к беку. Решено было не подпускать русских к самому городу и для этого занять Чупанаты, песчаный холм у самой реки Зеравшана, не имеющей вследствие своей быстрины и летних разливов ни переправ, ни мостов. (Так как река эта не глубока, то сарты переправляются верхом в брод или на арбах). Местность эта находится верстах в восьми от города.
Мы полагали, что, во-первых, русские не посмеют переходить в брод незнакомую быструю реку, а, во-вторых, если бы и вздумали отважиться, то во время трудного перехода мы перебьем их с возвышенности всех поголовно. Позиция наша была очень выгодна. Богданов вызвался поставить артиллерию, собрал охотников, рыл окопы, делал траншеи, устанавливал пушки. Было больше двадцати пушек направлено на Зеравшан. Я был в числе охотников. Все мы воодушевляли друг друга и дошли до уверенности, что прогоним русских. Я был вполне счастлив. Я думал тогда, что самое лучшее дело в мире — это война, а люди воюющие — самые счастливые. Как я был глуп! Я был везде тенью Богданова и убегал только затем, чтобы узнать, что делает Усман. А этот собрал конную милицию и пехотинцев и предположил встать с нею за горой, чтобы напасть на русских с тыла. И Усмана, и Богданова нельзя было отличить от сартов. Они брили волосы и носили, как мы, чалмы и халаты.
Не знаю, прислал ли эмир свое согласие на защиту города, или все сделалось само собою, но только ко дню прихода русских самаркандский бек бежал из города, а бухарские войска, тысяч до пятнадцати, стоявшие лагерем в окрестностях города, присоединились к нам. И так мы заняли Чупанаты и равнину. У нас было все готово, мы ждали русских.
Посланный на разведки конный джигит прискакал на рассвете на Чупанаты, а затем в город и сообщил, что неприятель уже верстах в двадцати от города. Это было 1-го мая 1868 года.
Мы, защитники и охотники, а также и войска, ночевали на Чупанатах. Отец дал мне накануне пистолет и саблю, а сам вооружился ружьем. Известие джигита всех подняло на ноги и взволновало. Кажется, многие только теперь поняли, что наступает страшный час, что действительно нам предстоит встретить опасного врага и защищать от него родной город. Меня точно подмывало, я не мог стоять на месте, сбежал с горы в равнину и оттуда обернулся к своим. Вся гора была усеяна защитниками, пестрели красные, желтые, синие, белые халаты и белые чалмы. Издали гора казалась цветником или пестрым ковром. Еще прибывали защитники из Самарканда и становились кому, где угодно. Я воротился на вершину горы и занял свое место подле Богданова. Он и другие начальники были веселы, а, глядя на них, повеселели и все. Мы были уверены в победе. Мы говорили: чего не сделали ташкентцы, то сделают самаркандцы! Я не выпускал из рук пистолета. Я воображал, что мое оружие будет бить версты на две и уничтожит не одного человека, а десятерых за раз. Богданов (в последствии Богданов оказал русским громадную услугу и тем искупил свои преступления) наводил пушки на то место, где должны были расположиться русские.
Было часов десять утра. Появился неприятель и остановился на берегу Зеравшана. Русские, должно быть, тотчас же увидели нас, потому что все козырьки повернулись в нашу сторону. Из толпы неприятеля выделились несколько сартов в богатых одеждах и направились к нам на Чупатиаты. То были послы, отправленные эмиром к генералу Кауфману для переговоров. Я узнал потом, что эмир обещал впустить русских в Самарканд без боя, а в городе встретить их и подписать мирный торговый договор. Послов радостно встретили защитники, и командиры наши окружали их. Мы удивлялись, что они вернулись живыми из русского лагеря. Они говорили, что генерал послал их узнать, почему эмир обманул его, и почему вместо почетных лиц города его встречает войско. Так как эмира не было ни на Чупанатах, ни в Самарканде, то и некому было отвечать за него генералу. Я не помню, возвратились ли послы в русское войско или поехали прямо к эмиру в Кермине. Наши пушки дали залп. Должно быть, прицел был хорош, потому что среди неприятеля произошло волнение, и русские отодвинулись на другое место вне выстрела. Их верховые джигиты переправились на другой берег Зеравшана и, протянув за собою через реку канат, привязали конец его к деревьям. Русские начали переправляться, держась за канат и друг за друга. Все мы стреляли. Пушечные снаряды, кажется, перелетали через головы, но ружейные пули попадали, хотя немногие. Видно было, что-то тут, то там падал солдат, и Зеравшан быстро проносил трупы.
Но это не мешало русскому войску двигаться вперед. Мы удивлялись: Зеравшан разлился на несколько рукавов, русские переходили один, вступали на землю, стряхивали воду и тотчас же шли через другой рукав. Точно какая-то сила несла их вперед и вперед. С Чупанаты гремели выстрелы, а они часть за частью все шли. Вот первые вышли на равнину, бросились на спины, подняли ноги и начали ими болтать. (Выливали воду из сапог). А другие шли и шли за ними, выходили на землю и проделывали то же самое. Мы подумали, что они колдуют. Передние строились плотными рядами, к ним примыкали ряд за рядом другие. Наши ядра перелетали им через головы, ружейные пули не достигали. Казалось, что это не люди, а духи войны. И вот они построились и двинулись на нас. Идут плотною стеною. Мы стреляем, опять стали попадать. Я сам видел, как то тут, то там упадет солдат, а они сомкнуть ряд и не останавливаясь прут вперед, как будто наши выстрелы им нипочем. Идут и идут. Их шапки с большими торчащими козырьками (кэпи), их ноги, которые в виде частокола то поднимаются, то опускаются, наводили на нас страх. Я перестал стрелять, стою, точно окаменел. Они все ближе и ближе. Слышится глухой гул шагов: туп-туп, туп-туп. Казалось, шла неведомая сила, которую ничем нельзя ни остановить, ни рассеять, и которая сама раздавит и уничтожит все, что попадется ей на пути. Наши в ужасе стали отодвигаться назад. Я помню, что в панике бросил свой пистолет и пустился бежать, что было сил. Все бежали, стараясь опередить друг друга. Сзади слышалось ур-ра!.. Русские брали пустую гору, если не считать брошенных пушек, ружей, провианта. Нас некоторое время преследовали. Сарбасы бросали не только оружие, но и верхнюю одежду, так как боялись, чтобы жители, узнав в них солдат, не избили их за то, что они бежали. Они не смели появиться в Самарканде и рассеялись по кишлакам (деревням) и ближним городам. Мы же, ополченцы, бежали по своим саклям в Самарканд. Когда я пришел домой, отец был уже дома. Сначала он мрачно взглянул на меня, а потом подперся руками в бока и расхохотался. — Ай-да защитники! — крикнул он.
Молча стали обедать. Отец потрепал меня по плечу и опять сказал:
— Ну, что могли мы, неумелые, сделать, если бухарское войско первым пустилось в бегство?
Брат беспокоился о том, что теперь будет. У меня в душе кипели стыд и злоба, но я молчал. Мысли роились у меня в голове, я затаил их. Брат советовал нам бежать из Самарканда, он указывал на то, что многие бегут, кто в сады, кто в кишлаки. Но отец не был трусом и сказал, что нужно ждать каких-нибудь распоряжений старшин и кази. Многие действительно бежали, а другие ходили по улицам и чего-то ждали, как наш отец. Брат отправил в кишлак жену свою и детей еще накануне, а теперь и сам ушел, оставив нас с отцом ожидать событий. Большинство соседей полагало, что русские придут разорять город, и тут начинались споры: одни говорили, что нужно защищать свои сакли, другие уверяли, что это бесполезно, потому что русским помогает нечистая сила.
К вечеру пришел кази. Он сказал, что старшины совещались, что на совете решено выбрать почтенных представителей населения, отправить их чуть свет в русский лагерь на Чупанаты и через них просить генерала Кауфмана вступить в город мирным путем и расположиться в Самарканде, как дома, что он найдет жителей покорными и готовыми исполнять все его требования.
Старшины рассчитали верно, что такою покорностью самаркандцы спасут наши славные мечети, жилища, имущество и самую жизнь людей. Кази говорил, что иначе и поступать нельзя, так как войск в городе нет, а у жителей нет ни оружия, ни уменья воевать.
Моего отца выбрали также в число представителей, так как он был стар, умен и богат. На него наложили налог доставить русскому войску быка. Все избранные были богатые люди, и все должны были уплатить дань русскому войску в виде баранов, риса, муки для солдат, клевера и ячменя для лошадей. Часть убытка, конечно, приняло на себя население.
Часов в восемь вечера с Чупанат грянула пушка (заря), Да так, что, казалось, весь Самарканд дрогнул. Люди выбежали из саклей, и во всем городе поднялись крики и вопли. Все поняли, какая гроза может разразиться над городом.
С рассветом, отослав сперва провиант для войска, отправились в лагерь и сами старшины с выборными представителями.
Молодежь, мои сверстники и я, хотя и покорились судьбе, но не были довольны принятым решением. Нам казалось постыдным самим приглашать в город опасного врага.
Генерал Кауфман принял предложение старшин и выборных вступить в город и появился в нем торжественно. Впереди ехали представители, а за ними генерал и войско. Многие сарты при виде русских кланялись, другие убежали, убежал и я. Брат, бродивший в окрестностях города, пришел узнать, в чем дело. Отец рассказывал нам, что генерал Кауфман — очень добрый, хороший человек, что он через переводчика успокаивал население, просил сообщить всем жителям, что он пришел с мирными намерениями и приглашает всех бежавших из города возвратиться к своим занятиям.
Предложение генерала всем понравилось, люди успокоились, открылся базар, стали торговать и работать.
Вскоре я узнал, что Богданов пойман русскими на Чупанатах, и что он арестован. О моем отце не даром говорили, что он умен. Он сумел войти в милость у русских командиров и сделался поставщиком продовольствие для армии; он честно доставлял свежий товар и получал хорошие деньги, золотом. Обе стороны были довольны. В Самарканде вообще все шло благополучно: русские были добры и ласковы, за все щедро платили, сарты старались им угодить.
Но в соседних кишлаках и других городах сарты волновались. Они не участвовали в защите Самарканда, а теперь выражали нам свое неудовольствие и упрекали в том, что мы недостаточно храбро действовали на Чупанатах, а потом и совсем без боя отдали Самарканд. Они не хотели признать главенства русских и собирались восстать и освободить город от иноземцев. Китабский бек, или правитель, Джурабек, пользовался славою умного и храброго человека. Он-то и подстрекал к непокорности. Он собирал войско и через джигитов приглашал и самаркандцев под свое начальство. Я убежал к Джурабеку. Он повел собранное им войско на гору Каратюбе, верстах в сорока от Самарканда, куда ожидали прибытия еще отрядов ополчения из ближних кишлаков. Русские как-то узнали об этом. Генерал выслал отряд разогнать шайку Джурабека. Русским приходилось идти через реку Доргом. Тут было селение Мухалинской волости, и сады селения примыкали к дороге. Мухалинцы сломали мост через Доргом, чтобы задержать русских, но это их не остановило. Они перешли реку в брод и стали подниматься на Каратюбе. Мы увидели сверху опять плотную стену солдат, которая, казалось, дойдет до нас и раздавит. Наши наездники выскакивали врассыпную, стреляли в них и скакали назад заряжать ружья, а русские всё шли. Когда они подошли на выстрел и дали залп, когда кое-кто из наших упал или убитым, или раненым, — Джурабек ускакал, а вся шайка его рассеялась. Многие бежали в сады Мухалинской волости, в числе их и я. Мухалинцы ждали нас, как победителей, но узнав, что Джурабек бежал, возмутились его поступком и сами взялись за оружие. Они рассчитывали стрелять из засад в то время, когда отряд будет возвращаться, и уничтожить его. Мы присоединились к ним. Все засели, нас было человек до пятисот, кто притаился у щелей дувала (глиняного забора), кто вскарабкался на деревья и спрятался в густых ветвях, кто прилег на плоских крышах саклей.

Русские ничего не подозревали. Когда отряд возвращался, они шли весело, свободно, даже пели песни, а когда проходили мимо дувала садов, их осыпали выстрелами: убили переводчика, нескольких солдат и ранили двух офицеров. Я стоял у дувала, выстрелил в кого-то и хотел вновь заряжать ружье, как над самой моей головой раздались крики: ура! Русские лезли через дувал. Они не убежали и не рассеялись от наших выстрелов, а решились наказать мухалинцев. Они были рассержены и не щадили никого, не обращали внимания ни на пол, ни на возраст. Шла охота. Солдаты бегали по садам, ловили наших, били прикладами, кололи штыками, стреляли в тех, что сидели на деревьях. Было избито до трехсот человек, считая женщин и детей. Искали виновных по саклям, но кто успел убежать, был в это время далеко. Я попался офицеру, который хотел застрелить меня из револьвера, но я бросил ружье и сложил руки, став перед ним на колени. Он велел связать меня и вести в Самарканд. Я сознался, что я самаркандец, изъявивший покорность. Меня посадили в тюрьму.
Отец, узнав об этом, стал хлопотать и просить за меня, ссылаясь на мою молодость и глупость. Командиры, знавшие отца лично, сжалились и отдали меня ему на поруки.
Я дал отцу слово сидеть тихо дома и торговать в лавке. Я старался сдержать слово и в восстании других волостей, посылавших шайки, не участвовал.
Джурабек, хотя и был разбит на Каратюбе, но не оставлял своего намерения помериться с русскими. Он работал втайне. Вошел в сношения с чиликским беком, Омар-беком, с шахрисябским Баба-беком и с Омаром-Хаджой. Омар-Хаджа был имам, потомок святого Мартум-Азам. Его все уважали и слушались. Он жил в Дагбите (селение верстах в двадцати от Самарканда). Между ними шли тайные переговоры. В Самарканде жили персиянин Абдул-Самат, мирохур (полковник при прежнем самаркандском беке), и Шукур-бек (правитель, бывший давно в отставке). Этих двух влиятельных лиц Омар-Хаджа, должно быть, склонил на свою сторону, и все заметили, что к ним часто ночью приезжали джигиты от Омара-Хаджи. В Дагбите, в доме Омара-Хаджи, происходили совещания, куда съезжались беки и самаркандские Абдул-Самат с Шукур-беком. Мы ничего не знали, а только догадывались, что готовится нечто. Я сгорал любопытством, и во мне снова проснулся дух войны. Наконец стали распространяться слухи, что готовится большое общее восстание, и ждут только удобного случая. Я охотно стал сидеть в лавке целые дни, так как новости можно было услышать скорее всего на базаре. Новости чаще всего разносили диваны, или дуваны (юродивые). Они поют священные песни, говорят тексты из Корана, укоряют людей за грехи, проповедуют раскаяние и жизнь по Корану. Иногда рассказывают сказки религиозного содержания. Живут же они подаянием. Дивано носит такую странную одежду, что отличается от всех, и его можно издали узнать. Например, носит рубаху, сшитую из разноцветных лоскутков, шапку в виде колпака с сахарной головы, желтую, красную, иногда с бубенчиками на конце, халат половина желтый, половина синий, ходит дивано почти всегда босой, даже и зимою.
В то время, как готовилось восстание, особенно много появилось юродивых. Диваны запели совсем новые песни. Они стали проповедовать восстание, говорили горячо, настраивали жителей на воинственный лад, клеймили позором тех, кто колеблется принять участие в общем народном движении. Молодежь жадно слушала их, каждый сарт старался уловить такого дувано и заставить его говорить перед своей лавкой. Их угощали, им давали денег гораздо больше, чем обыкновенно. Может быть, тут были не все настоящие дуваны: так умно могли говорить только муллы да студенты, ученики, живущие в медресе.
Русские не знали ничего, они не понимали нашего языка и не могли прислушиваться к толкам на базаре. Иногда солдат или офицер проходил мимо дивана в то время, когда тот взывал к поголовному истреблению русских, но, не зная сартского языка, проходивший поневоле был глух. Иногда же, если горячая речь с восклицаниями и жестами обращала на себя внимание кого-нибудь из русских, и нас спрашивали, указывая на дувана, что он говорит, — то обыкновенно кто-нибудь указывал на небо и отвечал: Алла, Магомет. Мы, не зная русского языка, догадывались, о чем спрашивает русский, по жестам, а он, зная слова Алла и Магомет, понимал, что ему отвечают, и с улыбкой кивал головою. Бывало и так, что недогадливые ничего не отвечали, а только отрицательно качали головами. Русские и за это не сердились, они знали, что всякий из нас выучился говорить по-русски только то, что ему нужно было для торговли. Я, например, узнал: говядина, баранина, сало, пуд, фунт, рубли, копейки, а больше ничего; продавец материй знал: шелк, мата, адрас, аршин, рубли, копейки; также и другие. Проповеди юродивых пробудили чуть не во всем городе геройский дух и ненависть к русским, так как с базара новости разносились по домам и обсуждались в семьях. Но русским не давали заметить нашего настроения; с ними были вежливы и предупредительны.Я с отцом ничего не говорил о готовящемся восстании, а он притворялся, что ничего не знает, и продолжал доставлять русскому войску провиант.
Все ждали со дня на день объявления восстания.
Почти месяц прошел с тех пор, как русские заняли Самарканд. В это время генерал Кауфман вынужден был несколько раз высылать отряды для усмирения восстававших волостей и успевал в этом. Представив себе, что жители Самарканда совершенно покорны, а окружающие волости усмирены, генерал в последних числах мая отправился с войском в Катта-Курган, где должен был встретить эмира. В Самарканде же в крепости оставил только один (VI-й) батальон. Это было признано удобным случаем. Все понимали, что дело освобождения должно совершиться теперь, иначе мы не освободимся никогда. Тотчас по уходе генерала нам было объявлено, чтобы мы вооружались, что нами будет руководить Омар-Хаджа, сборный пункт назначен близ Чупанат, а день — 2-е июня. Муллы, объявляя такое решение главарей восстания, разъяснили при этом и план действия.
Они слышали, что генерал едет в Катта-Курган для подписания мирного договора, но думали, что эмир обманет, как это было перед Самаркандом. Они были уверены, что эмир вместо подписания торгового мирного договора в Катта-Кургане встретит генерала Кауфмана у стен города с войском и разобьет его. Мы же, в числе сорока тысяч человек, уничтожим оставленный батальон и двинемся в тыл неприятеля. Ну, что такое один батальон? — думали мы: — махнем рукой, и его не будет!
Приготовление кипело. Богатые сарты зарывали свои ценные вещи в ямы, скот угнали в камыши и сады, жен и детей отправили на арбах в соседние кишлаки или сады. Люди вооружились, кто чем мог. Мы снова были уверены в победе. Я ног под собою не слышал, а летал, как на крыльях.
Перед отъездом генерал Кауфман собрал участковых и волостных старшин и объявил им, что он оставляет город спокойным и возлагает на них обязанность смотреть за порядком в своих участках. В случае же появления какой-нибудь шайки немедленно давать знать барону Штемпелю, коменданту крепости, чтобы он мог рассеять её. В противном случае участковым грозила личная ответственность. Те дали обещание строго следить. Вероятно, вследствие такого распоряжения генерала и обещания старшин, оставшиеся русские были уверены в своей безопасности и не обращали внимания на то, что тотчас же после выступления генерала в городе началось большое движение, люди сновали туда и сюда, скрипели арбы, отвозившие жен, детей и домашний скарб, блеял и мычал скот, прогоняемый за город. Скакали джигиты в разные концы.
Мой отец должен был доставить 2-го июня в крепость несколько баранов, но вечером 1-го числа скрылся. Все сарты заперли свои лавки на базаре, с тем, чтобы не отпирать их, пока всё не успокоится. Оставили русских без съестных припасов и в ночь на 2-е июня отвели от крепости воду. В ту же ночь всех, у кого не было оружия, собрали в мечеть Рухобод, и там Шукур-бек и мирохур вооружали народ. Кому досталось ружье, кому нож, кому палка с металлическим шаром на конце. Тотчас же после вооружения все отправились к сборному пункту.
Утром 2-го июня мы подошли к городу и, разделившись на три части, стали одновременно с трех разных сторон входить в Самарканд. Нами, самаркандцами, командовал Омар-Ходжа, Старшины, чтобы спасти свои головы, побежали в крепость предупредить коменданта тогда уже, когда мы входили в город. Вследствие этого предупреждения одна или две роты русских солдат вышли из крепости рассеять, как они думали, шайку, но, завидев входящую массу неприятеля, убежали назад в крепость и уже не выходили во всё время восстании (в Самарканде и особенно в VI-ом батальоне, стоящем ныне в г. Оше, защиту Самаркандской крепости со всеми лишениями, которые претерпевали осажденные и при громадном числе осаждавших, называют “семидневным сидением”.). Мы, однако же, стреляли в них, несколько человек упало, но упавших русские подхватили и унесли с собою.
Мы остановились в некотором расстоянии от крепости. Беки взобрались на медресе и оттуда командовали. Из нашей конницы выскакивали вперед человек по пятидесяти, стреляли в крепость и тотчас же скакали назад заряжать ружья. Их заменяли другие, там третьи, чтобы не давать русским покоя. Пешие также выдвигались вперед, стреляли и прятались заряжать ружья. Омар-Ходжа приказал нам, Самаркандцам, занять лавчонки, прислоненные к крепостной стене, и оттуда стрелять в щели стены прямо в крепость. В мирное время в этих лавчонках торговали мелочами, но теперь они были пусты. Нам велено было также, если возможно, просверлить с осторожностью, чтобы русские не заметили, ход через стену в крепость. Мы заняли все лавки и таким образом окружили крепость. Нам было очень удобно. Выстрелы нас не доставали, мы же свободно могли стрелять. В старой глиняной стене щелей было много.
В той лавке, где я сидел с товарищами, крепостная стена давала широкую и глубокую трещину. Мы перестали стрелять и занялись увеличением этой трещины и очисткою ее от глины. Наши ножи усердно работали. Около стены можно было перебегать из сакли в саклю, не боясь выстрелов. Из крепости нас не было видно. Товарищи заглянули к нам. У нас появилась железная лопата и китмень. Все понимали, какую важную работу мы начали. Мы хотя и торопились, а все-таки работали осторожно, чтобы нас не заметили и не услыхали из крепости раньше времени. Решили прорыть коридор, через который один за другим мы могли бы незаметно очутиться в крепости целою массою. Товарищи сообщили нам, что с противоположной стороны крепости сарты сломали ворота и уже овладели единственной бывшей там пушкой, и что русские все заняты там. Мы стали смелее постукивать лопатою. Все хотели с нетерпением броситься на русских с этой стороны. Стена в этом месте была сажени две толщиною. Мы работали попеременно. Я отдыхал в сакле, когда проход был готов. Вот поползли наши, и один за другим исчезали в проходе, было тихо. Мы думали, что русских тут совсем не было, и что наше дело удастся. Человек сто, должно быть, исчезло за стеною.
Я пробился через толпу и тоже пополз, но не успел я доползти какой-нибудь аршин до выхода, как услышал шум, крики, стоны. Я хотел двинуться назад, но ноги мои оперлись в чью-то голову, кто-то полз за мною. В ту же минуту один из товарищей, бывших в крепости, захотел спастись и бросился в проход, чтобы выползти назад, но стукнулся головою о мою голову и остался в таком положении. Его русские за ноги вытащили на расправу. Я дал пинка ногою в голову того, кто следовал за мною, и почувствовал, что проход освободился; пятясь я выбрался в лавку и увидел страшную картину. Через стену из крепости на площадь летели сарты. Стариков выбрасывали убитыми, а молодых живыми, и эти молодые все поделались калеками: кто руки сломал, кто ногу, спину, а некоторые разбивали череп и тут же умирали. Больше никто отваживался ползти к русским, да они и проход завалили мешками с землей. В саклях почти никого не осталось, но вскоре по распоряжению начальства лавчонки снова были заняты, но мы почти не стреляли, а жались к боковым стенкам, потому что русские догадались, в чем дело, сами высматривали щели и палили в нас.
К вечеру я сильно устал, да и все устали. После намаза мы стали отдыхать и не ходили больше к крепости.
Ночью наши сторожевые по дороге к Катта-Кургану поймали русского джигита, посланного к генералу Кауфману, вероятно, с известием, что в Самарканде восстание. Бумаги отобрали, джигита убили.
Утром, когда я проснулся, то увидел в крепости перемену. Все наши лавчонки кругом стены были уничтожены, а те пушки, что мы бросили на Чупанатах, виднелись теперь на крепостной стене. Мы поняли, что русские приготовились, и с ними будет трудно справляться. Они теперь следили за нами. Одиноких наездников, скакавших для выстрела, они ловко снимали с седла ружейными пулями, а пехотинцев, двигавшихся толпой, разбивали и рассеивали выстрелом из пушки. Наша уверенность пропала, и мы стали действовать осторожнее: близко к стене никто не мог приближаться.
Джурабек вызывал охотников подкопать с одной стороны стену крепости и повалить ее, но охотников не нашлось. Между ним и Омар-Хаджею произошла ссора. Омар-Хаджа назначил отряд из самаркандцев для этой цели. Я примкнул к партии. Нас повел Усман. Мы пробрались благополучно к стене и принялись рыть на большом протяжении, расселись, может быть, на полуверсту. Ружейные выстрелы нас не хватали, и дело шло сперва успешно, но потом русские стали бросать в нас отвесно со стены ручными гранатами (крепость спас тогда Богданов. Он все еще находился под арестом. Несколько раз он порывался встать в ряды защитников, крепости, но его не выпускали, ему не доверяли. Когда же сарты стали подкапывать степу, и осажденные стали поговаривать, что прогнать их вылазкой по малочисленности невозможно, a выстрелы со стены бесполезны, и стали готовиться умереть поголовно с оружием в руках, Богданов выпросился из-под ареста, дав слово рассеять сартов, подкапывавших стену. Он взял ручные гранаты, поднялся на выступ стены настолько, чтобы не быть мишенью для выстрелов снизу карауливших сартов с готовыми ружьями, и принялся бросать гранаты отвесно за стену. Так прошел он от бухарских ворот к самаркандским сажен триста, на всем протяжении, где работали сарты. Рабочие действительно частью были перебиты, частью убежали. Устрашенные сарты работ своих не возобновляли. Этим поступком Богданов загладил свою вину в прошлом. Его не только простили, но и наградили Георгием. Эпизод этот передан был мне отставным унтер-офицером 6-го батальона, Василием Петровым, рассказ которого я поместила в “Туркестанском Литературном Сборнике” в 1899 году. – прим. Л. Симонова.). Я помню, что схватил одну такую гранату и бросил в арык, но я помню также, что Усман и многие другие были убиты, многие ранены, только нескольким человекам удалось убежать и в том числе мне. Более никто не хотел идти на верную смерть, продолжать начатое дело.
Джурабек говорил сначала, что будто бы старший сын эмира, который был в ссоре с отцом, идет к нам на помощь с войском, что он возьмет Самарканд и станет самаркандским эмиром. Но это оказалось неверным. Мы узнали, что сын эмира, поссорившись с отцом, убежал в Персию.
Джурабек очень сердился, что никто нейдет к нам на помощь, что самаркандцы действуют не довольно энергично, и что, наконец, его сарбасы (солдаты) ропщут на бесплодную войну. Бабабек во всем соглашался с ним. Я не помню: на третий день или на четвертый оба бека со своими войсками ушли. Но перед уходом сарбасы их разграбили город. Они бегали из сакли в саклю и забирали с собою все, что попадалось под руку: ишаков, лошадей, верблюдов, одежду, провизию. Не обошлось без драки и без убийств. Самаркандские ополченцы и те жители, которые не принимали участия в восстании и оставались в городе, сопротивлялись сарбасам, защищали свое имущество, так что на это утро война была перенесена в самый город и сарты били сартов. Крики, суматоха, шум, я думаю, были слышны в крепости.
После ухода беков Омар-Хаджа разделил нас по частям и выбрал начальников, а сам остался во главе движения.
Почти каждую ночь наши сторожевые по дороге в Катта-Курган ловили русских джигитов, посланных к генералу Кауфману. Мы заботились, чтобы до генерала не дошли вести о том, что делается в Самарканде. Хотя русские держались твердо, но у них не было ни воды, ни провианта, и рано или поздно они должны были или умереть с голода и жажды или сдаться. Еще Джурабек посылал им предложение сдаться и обещал всех оставить живыми, но ни при Джурабеке, ни после него они не сдавались.
Дня три под командою Омар-Хаджи мы подходили к крепости и стреляли в русских, а они по-прежнему отстреливались, и не заметно было, чтобы они унывали или делались вялыми.
Секретный джигит, которого посылал Омар-Хаджа в Катта-Курган, привез известие, что генерал Кауфман и эмир бухарский заключили мир и подписали торговый договор, и что генерал Кауфман собирается возвратиться с войском в Самарканд. А вслед за этим известием возвратился и сам генерал. Омар-Хаджа убежал в Бухару, и многие начальники разбежались. Оставшиеся в Самарканде ополченцы, не хотевшие сложить оружие, дрались с русскими на улицах города.
Да, воевать с горстью русских, которых мы думали смахнуть рукою, оказалось не так-то легко! В городе генерал водворил спокойствие. Муллы нам сказали, что хотя Самарканд и усмирен, но вредить русским еще можно иным способом: ходить небольшими отрядами по дорогам, отбивать их провиант и уничтожать тех солдат, которые будут сопровождать этот провиант. Не знаю, сколько составилось таких отрядов, только партия сартов, к которой я присоединился, состояла из семнадцати человек.
Мы узнали, что около Каршей казаки скупают клевер и другие продукты. Мы отправились к Каршам с намерением не дать этому обозу дойти до русских. Мы засели в кишлаке (деревне) Шурча, мимо которого должен был проследовать обоз, и стали ждать. Жители кишлака боялись впустить нас к себе, чтобы потом не отвечать за это дело перед русскими, но позволили поставить шалаш вблизи кишлака у самой дороги и дали нам лепешек. У всех нас были заряженные ружья. Мы надеялись дело свое выполнить в точности, тем более, что слышали, будто бы обоз будут сопровождать пять — шесть казаков, не более.
Целый день мы караулили, наступила ночь, мы боялись заснуть, чтобы не пропустить русских. Вот наконец показался обоз. Мы услышали скрип арбяных колес и голоса русских. Впереди ехали верхом трое казаков. В темноте нельзя было рассмотреть, сколько всех казаков было при обозе. Мы выскочили из шалаша и выстрелили в передовых. Кто-то из товарищей схватил под уздцы первую лошадь и остановил обоз. В нас посыпались выстрелы. Казаков оказалось человек двадцать пять. Семеро из нас успели убежать, а десять были убиты и ранены.
Это была последняя затея против русских, в которой участвовал сарт Комель-бой. Рассказчик был осужден на каторжные работы в Сибири за ограбление и убийство одного богатого сарта.

Рассказ Магомета Суфи, самаркандского жителя, ткача шелковых материй.
Мне было лет двадцать, когда русские брали Самарканд. Отец мой Магомет-Джон был муллою и имамом в мечети. Я только что женился. Мы жили безбедно. Отец мой получал с каждого дома прихожан по 2 рубля в год и, кроме того, за требы: обрезание, свадьбы и проч., особо. Я сеял хлеб, косил клевер. Молоденькая жена моя, ей было всего четырнадцать лет, вела наше небольшое хозяйство и разводила шелковичных червей. Она пряла шелк, а я ткал материи и продавал баям, скупщикам. Я умел красить шелк и составлять узоры. Все мы трое смотрели за садом и летом выбирались на житье в сад, верстах в трех от города.
За несколько дней перед приходом русских отец приехал (верхом на ишаке) из города в сад, крайне взволнованный. Он рассказал, что был на сходе в медресе Тилла-Кари, Там узнал он, что бухарский эмир Музафар вместе с самаркандским беком Шир-Али-Инаком продали Самарканд русским и не хотят защищать свою родину, веру и святые мечети, но народ собирается собственными силами помериться с неприятелем. Решено, что всякий честный человек должен вооружиться и идти по первому зову вместе с другими на Чупанаты встретить непрошеных гостей, и что мы, как и другие честные люди, также идем.
Продолжение-http://www.istpravda.ru/research/4207/
Метки: россия история люди |
Процитировано 1 раз


















































