В поисках Беловодья - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Река по имени Лена. Часть 1: Осетрово - Киренск |
Из показанного в прошлой части старинного Верхоленска у Шишкинских писаниц спустимся по Лене сразу на полтысячи километров - в Усть-Кут, второй по величине город (40 тыс. жителей) на этой реке, водникам известный как Осетрово, а железнодорожникам - как станция Лена. Логично было бы сейчас о нём и рассказать, но я уже показывал Город Трёх Имён полгода назад. Тут стоит вспомнить, что среди величайших российских рек наша героиня - самая изолированная и малолюдная. На её берегах, за вычетом огромного Якутска, живёт дай бог сотня тысяч человек, а дороги к этим берегам редки, плохи и очень молоды. Особое место на Лене во все времена занимал Верхний порт, наиболее доступный из большого мира. По мере роста тоннажа судов он неуклонно смещался вниз: из Качуга, где строились одноразовые деревянные паузки и карбазы, в Жигалово, ставшее на прошлом рубеже веков главной базой ленских пароходов, и наконец в Усть-Кут - старинное торговое село у волока, куда в 1951 году подошла Байкало-Амурская магистраль.
Если Качуг в судьбе красавицы Лены похож на первый поцелуй, то Осетрово в тысяче километрах от истока - уже явная потеря невинности: отсюда начинается плотное судоходство, и в том числе сквозная цепь пассажирских судов аж до самого Тикси. Теперь наш путь - не вдоль Лены, а по Лене, и мне страшно сказать, на сколько частей растянется серия о 3400 километрах самой красивой реки на Земле. 12-часовой бросок на скоростном "речном автобусе" от Усть-Кута до границы Иркутской области я опишу в 3 частях, первая из которых не впечатляет красотой пейзажей. Поэтому дополню сегодняшний материал рассказом о ленских судах вообще и о нашем "Полесье" в частности.
Два имени Усть-Кута разделяет огромная привокзальная площадь, к железнодорожным путям и течению Лены обращённая сталинскими зданиями двух вокзалов. Отбросив идею прорываться в Усть-Кут напрямую из Качуга через Жигалово, мы добрались сюда поездом из Иркутска - это больше суток гигантским крюком через Тайшет. На станцию Лена поезд прибывает глубокой ночью, спускаясь по сопкам среди городских огоньков. С тёмного просторного перрона мы вошли в светлый, душный и тесный вокзал, в двух залах которого расположился такой контингент, что сидеть было даже чуть страшновато. Ведь не секрет, что большая часть пассажиров БАМа - не постаревшие романтики из его станционных посёлков, а вахтовики глухих месторождений, на такую работу нанимающиеся по большей части из нищего захолустья. Но бояться их, даже если вы столичный хипстер, незачем: по пути на север вахтовик обычно погружён в мрачное ожидание, а по пути на юг так счастлив, что уезжает от зудящих комаров и орущего начальства, что его и специально-то разозлить непросто. Вот тёмная ночь сменилась хмурым дождливым рассветом, и взвалив на плечи рюкзаки, тяжёлые от припасов на случай долгого ожидания судна в каком-нибудь глухом приречном посёлке, мы побрели на Речной вокзал:
2.
Да обошли его пышное здание слева - с 1990-х годов это всего лишь торговый центр, по облику которого ни за что не догадаешь о том, что в Усть-Куте вообще остались пассажирские суда. На крутом заросшем откосе не так-то просто найти спуск к грязному и раскисшему берегу, однако внизу белоснежные "Полесья" у блестящего свежей краской дебаркадера - ждут:
3.
Тут есть сухой и тёплый зал ожидания:
4.
Вот только быть бы ему побольше раз этак в пять - хмурым утром под навесом скапливаются толпы людей и горы тюков:
5.
Самыми многочисленными существами, впрочем, тут были не люди: как в дешёвом ужастике, все поверхности дебаркадера покрыла какая-то усатая и крылатая нечисть. Это не комары, не бабочки и не стрекозы, а ручейники - отдельное семейство насекомых с личинками, живущими в воде. Они абсолютно безвредны, и более того - питательны, полезны и вкусны. В чём и заключается их опасность: главный ценитель подобной закуски - медведь, а потому в тайге от подобных сюжетов лучше держаться подальше.
6.
...При всей своей огромной длине, Лена протекает всего-то по двум регионам. В Якутии грузоперевозками занимается ЛОРП (Ленское объёдинённое речное пароходство), а пассажирскими судами - его дочернее предприятие "Ленатурфлот", которому принадлежат не только два круизных лайнера, но и пяток рейсовых линий. Вверх от Якутска до самого Осетрова ещё в первые годы 21 века курсировали колёсные теплоходы, на смену которым в 2005 году пришли скоростные суда. "Метеор", "Ракеты" и "Полесья" образовали "волну" - последовательную цепочку рейсов с короткими пересадками в крайних пунктах. От Усть-Кута до Якутска можно было добраться в 4 прыжка через Витим, Ленск и Олёкминск, однако в 2019 году сделать это стало несколько сложнее. Ведь не секрет, что границы отечественных регионов видны из космоса, а уж в Сибири с её бездорожьем - и подавно. Сам по себе убыточный, речной пассажирский транспорт всегда зависит от дотаций своего региона, в случае "Ленатурфлота" и ЛОРПа - Якутии. С Иркутской областью же в конце 2010-х у них явно началось какое-то взаимонедопонимание: "Полесье" всё чаще ломалось, порой долго не выходило на маршрут, а буквально в середине навигации "Ленатурфлот" стал грозить отказаться от этого рейса. В Иркутской области есть Восточно-Сибирское речное пароходство, которое я бы назвал одним из лучших в России по части пассажирских перевозок. У ВСРП удобный подробный сайт, ухоженные и надёжные суда, есть онлайн-продажа билетов и расписания на лето публикуются аж в январе... однако работает ВСРП лишь на Ангаре и Байкале. Изолированный бассейн Лены обслуживает Верхнеленское речное пароходство, созданное в 2007 году на базе ленских портов Иркутской области и приписанных к ним судов. Вот только с 2021 года оно - лишь логистическое отделение лесопромышленного гиганта "Segezha Group", который в свою очередь является частью АФК "Система" вместе с десятком компаний, среди которых, например, сотовый оператор МТС или производитель военных беспилотников "Кронштадт". В общем, таких людей "Полесье" могло заинтересовать разве что своим названием, а узнав, что это и не лес вовсе, а железяка советского производства, они, конечно же, вмиг поскучнели. Но не зря Иркутская область занимает первое место в России по запасам древесины, а её север - крупнейший в стране лесозаготовительный район: "Сегежа", "Илим-Палп" и прочие "москвичи" тут вовсе не монополисты. С 2003 года в Киренске действует компания "Витим-Лес", на фоне всех этих пертурбаций решившая ни от кого не зависеть и учредить своё пароходство. Ему и отошли в 2019 году две судоходные линии: одна соединяет райцентры Бодайбо и Мама на Витиме, а по другой предстояло отправиться нам.
7а.

Пассажирские суда "Витим-Леса" носятся по реке каждый день, кроме воскресенья, но - только в одну сторону: из Осетрова по вторникам, четвергам и субботам, а из Визирного - по понедельникам, средам и пятницам... Тут возникает вопрос - что за Визирный?! Но это есть и то самое "стало сложнее": навигацию-2019 "Витим-Лес" закончил по старому маршруту Усть-Кут - Пеледуй, но с 2020 года дотируемый Иркутской областью рейс не выходит за её пределы, обрываясь в глухом посёлке Визирный. 120 километров от него до Витима образовали единственный разрыв в пассажирской навигации между Усть-Кутом и Тикси, и стоя на дебаркадере, я ощутимо волновался, ещё не понимая, как это разрыв преодолеть. Онлайн-продажи у "Витим-Леса" нет, места на "Полесье" надо бронировать заранее по телефону +7 (395 68) 3-20-54 (причём трубку там берут даже не через раз!), и лишь цена радует: 1250 рублей за 12 часов пути - дешевле, чем на автобусах по асфальтовым дорогам. А уж по сравнению с тарифами "Ленатурфлота" и вовсе почти на порядок: если в начале навигации 2019 года "Полески" ходили почти пустыми, то в конце пассажирооборот ставил рекорды: смена оператора обернулась невиданным в постсоветской России снижение цен на билеты: с 8500 до 1600 рублей от Усть-Кута до Пеледуя. До Киренска билет стоит и вовсе 650 рублей против 2500 за маршрутку, и при том - в просторном салоне да по ровной поверхности: в общем, без предварительной брони на причал лучше не приходить.
7.
И вот стояли мы под навесом дебаркадера, глядя на хмурые лица и хмурые берега, а посадку всё никак не объявляли. Я уже начал морально готовиться, что рейс отменят, и не знаю, всегда ли тут так: вместо отправления в 8 утра посадка началась хорошо после 9. Три "Полесья" же стояли у пристани не просто так: одно было сломано и команда не первый день жила на нём в ожидании ремонта, другое готовилось к обычному пассажирское рейсу, ну а третье везло "спецрейс" из 25 мужиков на далёкие лесобазы. Видимо, то и решало начальство: обычный рейс было решено укоротить до Киренска, а всех, кто ехал дальше, человек 5-7 вместе с нами - пересадить на спецрейс. Вот наконец подошла кондукторша и стала называть фамилии по списку - сперва вахтовиков, затем пассажиров. И те, и другие занимали в салоне свободные места: кассы на берегу не предусмотрено, и на обычном рейсе деньги за проезд собирает кондукторша, а на спецрейсе (само собой, лишь с пассажиров) - капитан. Вот он, на другом конце пути, над подводным крылом, которое сверху кажется пугающе острым:
8.
Скоростные суда на подводных крыльях, способные разгоняться до сухопутных скоростей хотя бы в 60-80км/ч, разрабатывались с конца 19 века: первый "водолёт" испытывал ещё в 1906 году на швейцарских озёрах итальянец Энрико Форланини. Позже с этими технологиями экспериментировали несколько стран, в том числе Германия, выходец из которой Ганс фон Шертель после войны перебрался в Швейцарию и основал там компанию "Супрамар", в 1952 году построившую первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях. В США 1960-80-х годов патрулировали берег военные катера на поводных крыльях "Пегас", быстрые и довольно грозные. У советских же "водолётов" был один "отец" - гениальный инженер Ростислав Алексеев, большую часть жизни работавший в Горьком и соседнем Чкаловске. С 1950-х годов его творения разошлись по всему Союзу и даже активно поставлялись на экспорт, рассекая воды Эгейского, Карбиского, Северного морей, Меконга, Янзцы или Темзы. Первенцем Алексеева стали "Ракеты", а самым массовым судном (более 400 машин) - "Метеоры", на которых прежде и мне доводилось путешествовать по Оби, Ангаре и Амуру. Алексеев погиб в 1980 году на испытания экраноплана, но дело его - продолжило жить. Самым удачным из пост-Алексеевских "водолётов" и оказалось "Полесье", разработанное в 1980-е годы на замену коротким пузатым катерам проекта "Беларусь". Названия тут не случайны - первой рекой, воды которой они рассекали, была Припять, или вернее её приток Сож: разрабатывали суда в Горьком, а строили - в Гомеле, на верфи, возникшей в 1918 году как мастерские Днепровской флотилии и ликвидированной (да, и у Батьки такое бывает!) в 2012 году. В 1983-2008 годах там было спущено на воду 114 "Полесок" - маленьких (21,5м в длину, 5м в ширину) и юрких "речных автобусов", способных разгоняться до 75 км/ч и проходить до 400км без дозаправки. ЦКБ им. Алексеева создавало их для узких извилистых рек, где "Метеору" не вписаться в повороты, но дальше решающую роль сыграли, видать, транспортабельность и дешевизна: среди сибирских лесов "Полесья" тоже прекрасно прижились. Прежде я ездил на таком из Хабаровска в китайский Фуюань, ну а на Лене от Усть-Кута до Якутска они главный транспорт. Все три "Полески" с этих кадров строились в 1987-91 годах специально для Ленского пароходства:
9.
Вход на катер - через небольшой сквозной тамбур. Обратите внимание на конструкцию дверей - козырёк над ними откидывается для проветривания, но и фотографировать в него очень удобно:
10.
Справа -
11.
В зависимости от компоновки салона "Полеска" вмещает 50-60 пассажиров. Автобус автобусом, только сидения в 3 ряда:
12.
Сзади - хозяйственный отсек с гальюном и лестницей в люк, используемый для посадки с высоких причалов. На Лене таковых нет, а потому основное назначение люка - курилка для сибирских мужиков.
13.
Там всегда адский шум от двигателя, мощь которого даже далёкому от техники человеку видна прямо-таки невооружённым глазом. Если точнее - 800 лошадиных сил, что сравнимо с речным круизным лайнером. У "Полесья" такой мотор всего один, а не два, как у "Метеора":
14.
Все эти кадры сняты уже где-то по пути, а пока мы только отправлялись из Усть-Кута. Берег тут зарос так, что бывший Речной вокзал толком и не виден с реки, и куда больше привлекает взгляд 16-метровая Родина-Мать на воинском мемориале (1975). Старый БАМ сталинской эпохи заканчивался у Лены четверть века, пока в 1970-х уже всесоюзно-ударно-комсомольская Байкало-Амурская магистраль не потянулась дальше на восток. Одной из красивейших БАМовских традиций стало шефство разных регионов и республик над будущими станциями - нынешний центр Усть-Кута строил Ставропольский край:
15.
Усть-Кут - Город не только Трёх имён, но и Одной улицы, от въезда до выезда успевающий сменить десяток названий. Город вытянут узкой лентой на 25 километров вдоль Лены и ещё на 5 вдоль Куты, по которой десятник Василий Бугор нашёл в 1628-29 годах самый удобный волок с Илима. Ещё лет через десять там обосновался собственной персоной Ерофей Палыч Хабаров - выходец из смытой паводком деревни под Сольвычегодском, он преуспел между Тобольском и Мангазеей как сборщик пушнины. В 1639-41 годах Хабаров построил мельницу в Киренске и солеварню в Усть-Куте, и лишь после того, как всё это отжал у него воевода, попросил у государя саблю да мушкет и отправился за Становой хребет покорять Даурию. Солеварня, однако, продолжила жить, снабжая далёкий Якутск, а к ней и народ потянулся. В следующие полвека вдоль Лены вырос шлейф деревень, ставших Усть-Кутской волостью, а к 1954 году слившихся в город. И сам Старый Усть-Кут - он где-то сзади, выше по мелкой Куте, а история нынешнего Усть-Кута была связана в первую очередь с селом Осетрово. К началу индустриализации слишком тесными для современных судов казались не только Верхоленск и Качуг, но и процветавшее на рубеже веков Жигалово, и уже в 1929 году в Осетрово было выбрано под строительство нового порта с трактом от Ангары. Напротив причала привлекает взгляд нефтебаза, представляющая собой вкопанный в землю танкер - на самом деле там длинный затон, который был обустроен в 1932 году для зимовки судов из Киренска и Жигалово:
16.
Дальше порт лишь разрастался вниз по течению Лены - от речного вокзала город тянется вдоль реки ещё километров на 20. Над старой частью порта, на месте бывшего села Осетрово, раскинулся район Речники, а за ним могла бы быть видна живописная красноватая скала Мир, но увы - вершины сопок тонули в низких тучах.
17.
В основном город тянется по левому берегу, который здесь гораздо выше, чем правый. За Леной - низменный район РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базы), состоящий из Старой РЭБ у первого затона и Новой РЭБ у автомобильного моста (1989):
18.
Дальше начинается полузаброшенная Осетровская судоверфь (1951-55). Сквозь её краны, вверх по течению - и лучший вид Речников с длинным белым зданием Осетровского речного училища (1970):
19.
Первоначально верфь ограничивала порт ниже по течению, а теперь находится в его середине: в 1961-70 годах ещё ниже был построен Северный район Осетровского порта, ставшего после этого крупнейшим речным портом во всём СССР: 5 терминалов, 100 кранов, 1844 метра причалов, более 1000 сотрудников и грузооборот до 2,1 миллионов тонн - это масштаб уже ближе к морскому. Впрочем, всё равно на порядок меньше, чем в крупнейших речных портах мира вроде германского Дуйсбурга (133 млн. т.) или китайского Нанкина (91 млн. т.), но дело здесь в том, что гиганты Рейна, Янцзы или Миссисипи - это порты-узлы нескольких промышленных районов, в то время как Осетрово - узкоспециализированный порт "северного завоза" в огромный и почти полностью изолированный от дорог речной бассейн. После развала 1990-х, когда работали лишь 2 терминала из 5, упавший до 600 тыс. тонн грузооборот восстановился до 1,5 миллионов, но советских значений не достигнет, скорее всего, никогда: навигация на Лене длится дай бог 4 месяца, и куда лучше со снабжением севера справляются проложенные с 1980-х годов Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. Но Северный порт смотрится по сей день внушительно - как изнутри, так и издалека:
20.
Всё вышеперечисленное я показывал с берега в посте про Усть-Кут, однако длинный город в нём не поместился. С 1970-х годах стройки продолжились ниже Северного порта - только теперь не речные, а железнодорожные. Краснодарский край соорудил станцию Лена-Восточная и район Якурим на месте ещё одной старой деревни, лишь в 1996 году включённый в состав города. В 1975 году был сдан 350-метровый железнодорожный мост Байкало-Амурской магистрали, а в 1985 - и сама магистраль, в обзоре байкало-ленского участка которой я и показывал и эти районы. Обратите внимание, что балки моста чуть-чуть разного цвета: тот путь, что ближе к нам, был уложен лишь в 2019-м году. Но самое примечательное тут другое: на Лене до самого устья это последний мост:
21.
Мост как бы подводит черту кварталам Усть-Кута. Ниже по течению, однако, тянется ещё одна, кажется уже постсоветская промзона с многоярусной (на крутом берегу) железной дорогой, уходящей на десяток километров в тайгу к каким-то очень режимным складам:
22.
Выше по склону горит факел нового завода, перерабатывающего под транспортировку газ Ковыкты - крупнейшего от Енисея до Тихого океана газоконденсатного месторождения в тайге между Усть-Кутом и Жигаловом. Известное с 1983 года, пока оно только готовится вступить в строй, и именно под ковыктинский газ строилась "Сила Сибири".
23.
Ниже тянется на сотни метров лесобаза, наполнением которой и занимается большая часть флота на этом участке реки:
24.
Значит - поговорим об этом флоте, самое, пожалуй, впечатляющее свойство которого - количество. Сейчас я даже не припомню, на каких реках России я видел более активное грузовое судоходство - разве что на Волге, да и то только с берега. Ангара, Амур, даже Обь с Иртышом - все гораздо пустыннее: на Верхней Лене попутные и встречные суда чаще видишь хоть вдалеке, чем не видишь, а порой их в кадре даже больше одного:
25.
Вторая особенность - эндемизм, закономерный в самом изолированном из крупных речных бассейнов. У первых пароходчиков, иркутских купцов Ивана Хаминова (1861, "Святой Тихон Задонский") и Александра Трапезникова (1862, "Первенец") просто выбора не было, кроме как везти заказанные в Бельгии машины по частям и собирать в уездном Верхоленске. Господствовали на тогдашней Лене и вовсе одноразовые деревянные суда, - шитики, карбазы и паузки, - которые я показывал на старых фотографиях в своём посте про Качуг. Советы предпочли сделать Ленский бассейн максимально автономным, так что подавляющее большинство нынешних судов здесь вышли с 4 верфей - в Жигалово (начиналась в 1912 году как затон "Лензолота"), Качуге (1930-32), Осетрово (1951-55) и Алексеевске (1958) под Киренском, хотя последняя числилась не верфью, а РЭБ. Как паузки в 19 веке, в наши дни "лицом" ленского судоходства я бы назвал СК-2000 - в 1977-1991 годах в Качуге и Осетрово было построено 89 таких судов:
26.
По сути просто небольшие самоходные баржи, из-за расположения надстройки со стороны носа СК-2000 вместе с более крупной толкаемой баржей выглядит так, будто ушлые судовладельцы завалили грузом сам буксир:
27.
На самом деле надстройка у них располагается по-разному, в том числе и на корме. Но даже в классической схеме ленские суда выделяются своей архитектурой, провинциальная самобытность которой запомнился мне ещё в 2020 году на Витиме.
28.
Последний караван паузков сплавился по Лене в 1955-м, а мощности верфей на далёкой реке всё равно не хватало. Относительно небольшие суда везли на Лену издалека - как те же "Полесья" из Гомеля. Или вот буксир-тягач хоть и называется "Олёкма", а построен был в 1986 году на "Чешской Лоденице" в Праге:
29.
Как и земснаряд "Ленская-238" (1981), тут ведомый буксиром "Гребень" общего для советских рек типа РТ-300, построенном в 1972 году на Алексеевской РЭБ:
30.
Из изделий Жигаловской верфи мне попадались только "Путейские". В основе типовые катера с любой советской реки, на которых речники ездят обслуживать водную трассу, на Лене они впечатляют своим оснащением: проводя параллели с железной дорогой, тут это не просто рабочие поезда, а полноценная спецтехника.
31.
Суда по Лене ходят не только вдоль, но и поперёк - как и на любой крупной сибирской реке, с фарватера то и дело видишь паромные переправы:
32.
Ну и конечно куда же без лодок, которые в приречных деревнях не роскошь, а средство передвижения и отчасти даже пропитания. Хотя по сравнению с Амуром, Ангарой, Обью или Печорой на Лене их до странного мало, да и вид большинства лодок убог. Вот типичная картина: советский мотор, снятое ветровое стекло и лодочник без спасжилета.
33.
Ну а "Полесье" порой сбрасывает скорость посреди реки, и за окнами салона видишь лодку, идущую наперерез - сперва порожняком навстречу, а затем с каким-нибудь грузом к берегу:
33а.

Усть-Кут - последнее место, где Лену можно назвать Леночкой: река наливается буквально на глазах, уже через час пути становясь размером с Оку или Дон. До фирменных ленских красот же пока далеко: тайга и сопки по берегам живописны, но кого удивишь в Восточной Сибири сопками и тайгой?
34.
Первый час пути я проспал, мельком и сквозь сон увидев за окном другого борта избы и школу села Казарки - пассажирское "Полесье" там причаливает, но наш спецрейс шёл до Киренска без остановок. С другой стороны осталось устье Таюры, на которой выше по течению стоит Звёздная - первая "комсомольская" станция БАМа. По левому берегу мой взгляд привлекла явная насыпь, более всего похожая на недостроенную железную дорогу - но ни малейших сведений о ней я не нашёл:
35.
Возможно, она была как-то связана с Нефтеленском - так могло называться теперешнее Верхнемарково, левобережный посёлок (1,9 тыс. жителей) в 2,5 часах пути от Усть-Кута, встречающий обширным кладбищем над искусственной косой-волнорезом:
36.
Вдалеке, над его избами, ярко горит факел: в 1962 году под той сопкой, вверх по склону которой карабкается теперь трасса "Вилюй", которая в отдалённом светлом будущем свежет с Большой землёй Мирный, геологи выпустили наружу нефтяной фонтан. Надо заметить, тогдашний СССР нефтью был не то чтобы беден (Второе Баку уже встал на ноги, в Западной Сибири поиски шли полным ходом, да и не оскудела пока кавказская нефть), но и не сказать, чтоб сказочно богат. Открытие первого промышленного-значимого месторождения в Восточной Сибири, которая уже тогда имела репутацию главной геологической кладовой, конечно произвело фурор. Эту нефть показывали в своё время даже моей бабушке, в 1960-х годах ехавшей по Лене в круиз от Усть-Кута до Якутска, а надёжно задраив все вентили, туристам даже демонстрировали, как нефть горит. Но у такой беспечности имелись свои причины: запасы тут были вроде и большие, но трудноизвлекаемые для технологий тех лет, а потому в профильных институтах год за годом шли споры, заткнуть эту скважину или всё-таки начать осваивать новый нефтяной район. За это время фонтан успел наполнить в распадках целое бурое озеро, от которого невыносимо тянуло меркаптанами - это ими пахнет бытовой газ. 10 сентября 1977 года верхнемарковцев и вовсе разбудило землетрясение: в нескольких десятках километров от посёлка был проведён подземный ядерный взрыв мощностью в пол-Хиросимы (7,6 килотонн) под кодовым названием "Метеорит-4". Пласты он, конечно, сместил и скомкал... вот только совсем не так, как хотелось геологам: более извлекаемой нефть не стала, зато смешалась с грунтовыми водами, отравив на многие километры вокруг все родники и колодцы. В итоге геологи махнули рукой и уехали, а созданная ими экологическая катастрофа осталась: детские врачи из райцентра, приезжая сюда, хватались за голову от обилия врождённых заболеваний, а воду для питья завозили автоцистернами, для которых, может быть, и прокладывалась та дорога вдоль берега?
37.
Теперь, впрочем, с Усть-Кутом эти места соединяет пусть и недостроенная, но всё же проезжая круглый год трасса "Вилюй", а на воду пробурено несколько артезианских скважин. Возможно - на деньги "Иркутской нефтяной компании", которая в 2017 году всё же начала промышленную добычу на Марковском месторождении.
38.
О несостоявшемся Нефтеленске напоминает краснокирпичная школа (1968) да топонимика - первая от реки тут Фонтанная улица, а есть ещё улицы Геологов и Нефтяников. Теперь они вновь актуальны - в последние годы население поселка достаточно быстро растёт:
39.
На причале люди ждут пассажирского "Полесья", которое мы обогнали ещё на окраинах Усть-Кута:
40.
Ну а селение здесь стояло задолго до того, как в калитку его постучался косматый геолог. Верхнемарково и соседнее Заярново начинались как заречные выселки старинного куста деревень, центром которого было правобережное Марково, известное с 1669 года как заимка Киприяна Маркова, тамбовского крестьянина, приехавшего на Лену вместе с Ерофеем Хабаровым. У речного пути заимка потихоньку обрастала дворами, а с обустройством в 1740-х годах Якутского тракта превратилась в большое село:
41.
Но в годы надежд Нефтеленска большинство селян, часто вместе с избами, перебрались на другой берег. Теперь в старом Маркове осталось полсотни жителей да деревянный Троицкий храм (1898), живописный в своей заброшенности:
42.
Ну а "Полесье" продолжает путь:
43.
Мимо мелькают старые сёла, стоящие на эти берегах через 10-20 километров. Вот например Красноярово, название которому дал, видимо, обрыв с кадра выше:
44.
Напротив - руины причала:
45.
Чуть дальше - заброшенная деревня Потапова:
46.
Избы которой, однако, "при жизни" не успели покрыться сайдингом и ядовито-синими кровлями, а в заброшенности не рассыпаются сами и и не разбираются на дрова - хоть завтра делай тут музей сельского быта!
47.
К правому берегу то и дело подходит автодорога, летом и в межсезонья - тупик до Киренска, по крепкому льду продолжающийся зимником в Мирный. В июне шли по ней целые трубопроводы на колёсах - Нефтеленск не состоялся, но дело его живёт, и в Киренском районе строятся трубопроводы к Чаяндинскому (на юге Якутии) и Ичёдинскому (за Леной) нефтегазоконденсатным месторождениям.
48.
На левом берегу - лесобаза, не первая и не последняя на нашем пути:
49.
В правобережном селе Макарово - ещё один полуразрушенный деревянный храм Ильи Пророка (1901):
50.
Современности в этой части Лены больше, чем старины, а старины - больше, чем природы. Но просто фоном быть - не в обычаях дикой Сибири! И вот среди красных и жёлтых обрывов вдруг удивляет фиолетовый яр:
51.
А по искусственным косам, намытым у поворотов реки, прогуливаются статные цапли:
52.
Самое, пожалуй, примечательное место между Усть-Кутом и Киренском - левобережная Кривая Лука, у которой река очерчивает почти полный круг. В центре радиуса - одинокая нефтяная вышка, оставшаяся ещё от советских геологов:
53.
С "нижней" по течению стороны Кривой Луки пристроилась и одноимённой деревня (300 жителей) с Никольской церковью (1898-1905), которую в 1950-х обкорнали под ДК Геологов:
54.
Первый чуть ли не от Верхоленска каменный храм, в таком виде она смотрится как бы не интереснее, чем в изначальном:
54а.

Достопримечательностью Кривой Луки могла быть Старо-деревянная Никольская церковь (1796) абсолютно поморского облика, стоявшая в центре села. Её разобрали за ветхостью в 1851-52 годах, тогда же построив на замену Ново-деревянную Никольскую церковь, сруб которой пока ещё цел. Вот только он совершенно невзрачен: хотя в 17-18 века на Верхоленье обильно строились деревянные церкви, достойные Русского Севера, к середине 19 века традиции поморских мастеров тут бесследно забылись.
54б.
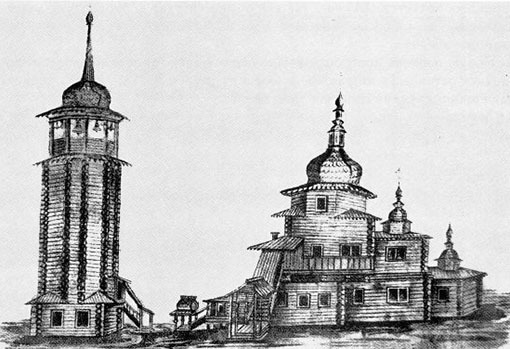
Кривая Лука - часть другой излучины, более вытянутой, однако тоже очерчивающей дугу круче 180 градусов. На повороте - очередная искусственная коса: по спутниковой карте видно, что в таких натурально всё русло.
55.
За поворотом встаёт как волна очень красный обрыв - он же и на вводном кадре:
56.
Справа за деревьями проплывает яркий аэропортовский "колдун", а на опушках жильё всё чаще выходит к берегу. Мы уже в предместьях Киренска...
57.
...но про сам Киренск и ещё пару сотен километров пути - в следующей части.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Давыдово.
Давыдово - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: Атомная быль Сибирь Вечность пахнет нефтью дорожное по Лене Усть-Кут транспорт суда и корабли Иркутская область деревянное индустриальный гигант речной транспорт |
Два исправления |
...и оба касаются путей сообщения.
1. Таинственная заброшенная железная дорога в полях у Георгиевска, как пояснили мне на Яндекс-Дзене (среди тамошней бесконечной ругани попадаются и толковые комменты а ля ЖЖ времён расцвета), не была разрушена ни Гражданской, ни Великой Отечественной войнами. Просто сама конфигурация железнодорожного хода МинВоды - Незлобная - пост Неволька, проложенного в 1875 году, оказалась неудачной, и мощный паводок 1913 года, серьёзно повредивший насыпи у Подкумка, стал поводом проложить линию по-новому, непосредственно через Георгиевск.

2. Шелашниковский тракт с Ангары (Балаганск, Усть-Уда, Тыреть) до Лены (Жигалово), который я упоминал несколько раз в контексте Качуга и Верхоленска, проложил не некий купец Шалашников, которого не знает гугл, а губернатор Иркутской губернии в 1864-80 годах Константин Шелашников. Неофициально, впрочем, дорога существовала и до него и в начале 19 века действительно была проложена неким купцами, но Шелашниковским тракт стал после капитальной реконструкции и официальной приёмки. За подсказку спасибо egor_13.
egor_13.

Комментарии отключаю, так как они уместнее не здесь, а к постам по ссылкам.
1. Таинственная заброшенная железная дорога в полях у Георгиевска, как пояснили мне на Яндекс-Дзене (среди тамошней бесконечной ругани попадаются и толковые комменты а ля ЖЖ времён расцвета), не была разрушена ни Гражданской, ни Великой Отечественной войнами. Просто сама конфигурация железнодорожного хода МинВоды - Незлобная - пост Неволька, проложенного в 1875 году, оказалась неудачной, и мощный паводок 1913 года, серьёзно повредивший насыпи у Подкумка, стал поводом проложить линию по-новому, непосредственно через Георгиевск.
2. Шелашниковский тракт с Ангары (Балаганск, Усть-Уда, Тыреть) до Лены (Жигалово), который я упоминал несколько раз в контексте Качуга и Верхоленска, проложил не некий купец Шалашников, которого не знает гугл, а губернатор Иркутской губернии в 1864-80 годах Константин Шелашников. Неофициально, впрочем, дорога существовала и до него и в начале 19 века действительно была проложена неким купцами, но Шелашниковским тракт стал после капитальной реконструкции и официальной приёмки. За подсказку спасибо
 egor_13.
egor_13.Комментарии отключаю, так как они уместнее не здесь, а к постам по ссылкам.
|
|
Шишкинская писаница и Верхоленск |
За Качугом, близ которого стоит показанная в прошлой части Анга с её потрясающим новым музеем, дорога становится набережной Лены, которая пока ещё Леночка - чистая, быстрая, маленькая река, так не похожая на свои низовья. Сухопутный Якутский тракт здесь сменялся речным путём, а древние курыкане перерождались в якутов. О первой метаморфозе напоминает в 30 километрах от Качуга старинное село (540 жителей) Верхоленск, в котором сложно разглядеть бывший уездный город, а о второй - Шишкинская писаница на полдороги к нему, важнейший в Восточной Сибири комплекс петроглифов, где есть даже герб Якутии.
В детстве я любил приключенческие книжки про первобытных людей, и в том числе - "Листы каменной книги" Александра Линевского. Этот роман был написан по мотивам Бесовых следков в Карелии, но к Шишкинским писаницам это название тоже подходит сполна: красная скала высится над большой дорогой, и гладкие, как бумага, вертикальные обрывы испокон веков манили что-то на них написать. Не тайное святилище в глухих горах, не укромная долина одинокого племени, а гостевая книга Восточной Сибири, где старейшие записи оставлены 4-6 тыс. лет назад. Охотники каменного века, уже умевшие желаемое выдавать за действительное, но ещё не прокачавшие абстрактное мышление, рисовали мясистых быков, кабанов и лосей в натуральную величину. Люди бронзы, предки эвенков, предпочитали оленей и рисовали их маленькими, но не зря весь мир теперь знает эвенкийское слово "шаман" - тогда на каменных листах появились драконы, странные человекоподобные фигуры и плывущие по Мировой реке лодки, полные душ. Тюрки курыкане (см. здесь) пришли сюда 1500 лет назад с Саян и, благодаря металлургии и коневодству выставлявшие войско, грозное даже для Китая, рассеяли эвенков по тайге. Курыкане были преисполнены гордости от своих побед, изображая знаменосцев на резвых конях да свою добычу - караваны. Не забывали, видимо, и про жрецов - пеших людей в длинной одежде. Примерно то же, плюс юрты и знакомые по ольхонскими молебнами атрибуты шаманов, рисовали и монгольские племена, в 11-14 веках вытеснившие курыкан, или скорее их заместившие: те курыкане, что остались тут и были ассимилированы пришельцами - это предки бурят, а те, что ушли вниз по Лене, ассимилируя тамошних аборигенов, и превратились в якутов. Память об оставленной прародине и воплотилась в 1992 году в гербе Республики Саха:

Русские, глянув на всё это в 17 столетии, почесали бороду, да сказав "а мы чем хуже?!", чертили на камнях кресты, телеги и парусники из своих экспедиций. Их потомки предпочитали не выскабливать рисунки, а наносить их краской - петроглифы последней эпохи опознаются по надписями с повторяющимися элементами и фаллическим символам. Заезжий немец Герхард Миллер и его штатный художник Люрсениус в 1733 году решили не на скалах рисовать, а на бумаге - они впервые сняли копии с этих петроглифов да представили в Академии Наук. Позже исследователи не раз возвращались к Шишкинской писанице, но по-настоящему прославил её Алексей Окладников - сам уроженец деревушки Константиновка отсюда километрах в полтораста, с 1929 года он изучил памятник подробно, как никто до него. Науке известно 1762 рисунка на 298 плоскостях скалы - в разы меньше, чем казахстанский Тамгалы (4 тыс. рисунков), азербайджанский Гобустан (6 тыс.) или Саймалуу-Таш в глухих горах Киргизии (более 10 тысяч), но в разы больше, чем на скалах карельских Бесовых Следков, алтайского Калбак-Таша или амурского Сикачи-Аляна.
2.
Лучший способ попасть на Шишкинскую писаницу - экскурсия от Качугского музея: у неё символическая цена (что-то вроде 500 рублей, включая трансфер), а любые петроглифы штука такая, что без подсказок там и десятую часть не увидишь в упор. Вот только собственная машина у музея всего одна, без дела она не простаивает, и узнав об экскурсия непосредственно музее, узнали мы и то, что свободной она не будет ещё несколько дней. Общественный транспорт тут представлен парой рейсов маршрутки Жигалово - Иркутск, ехать на которой придётся в лучшем случае стоя. Так что лучше на такси (около 600 рублей до писаниц) или попутке - ведь дорога вдоль Лены неимоверно красива:
3.
То неплохой асфальт, то тряская и пыльная грунтовка, она местами идёт по самому берегу, а местами необычайно круто поднимается на бугры, обращённые к реке отвесными ярко-красными обрывами. Вот под обрывами появляется узкий карниз - значит, мы приехали:
4.
Перед скалами Шишкинской писаницы перпендикулярно реке уходит тёмная падь с парой деревянных домиков - с 1948 года, стараниями Окладникова, Шишкинсая писаница охраняется государством, которое тут представляет сторож, сменяющийся раз в пару недель.
5.
Вроде бы на скалах близ сторожки стоит искать русские петроглифы с крестами и кочами, но кажется, своими глазами их видели лишь учёные, а в основном о них известно то, что они есть. От сторожки с полкилометра до следующей пади, где в траве вытоптана парковка, а в воде - место, куда может лодка пристать. Я встал на доску и начал шарить по скалам ультразумом, сочтя, что это видовая точка, но это оказался фрагмент плота из пенопласта и досок, которым в то лето какие-то энтузиасты сплавились из самого верхнего на Лене села Бирюлька.
6.
Хотя у парковки тоже хватает плоских каменных "листов", всё же большая часть писаниц находится в паре сотен метров дальше. Лучшие главы каменной книги зачитаны до дыр - у скал причудливо сплетаются натоптанные тропы:
7.
Скалы так гладки, что в комменты ко мне наверняка придёт какой-нибудь городской сумасшедший срывать покровы с додревних цивилизаций. Ведь мы раскопали сенсацию - сюда пристал Ноев Кочвег!
8.
Плоские обрывы Шишкинской писаницы чередуются с причудливыми каменными фигурами, настраивающими на мистический лад:
9.
Первый петроглиф, что мы увидели, выглядел так:
9а.

А самая натоптанная из троп вывела нас прямиком к Якутскому Всаднику. Да столь чёткому, что по всему своему опыту поездок на петроглифы я сразу же вынес вердикт - новодел:
10.
Ведь петроглифы наносили по-разному: где-то краской (сохранившейся сквозь тысячи лет в основном в пещерах, как башкирский Шульган-Таш или монгольский Гурван-Цэнхэрийн), где-то - глубокими чертами, а вот на Шишкинских писаницах применялся самый неудачный для туриста метод - выскабливание. Проще говоря, здешние петроглифы - это слегка пошарканные участки гладкой скалы, даже в упор едва различимые. А те, за кем не доглядел сторож, превратили эти скалы в подобие экрана с помехами:
10а.

Приметив ещё пару рисунков новодельного вида, мы спустились не то что разочарованным, а я бы сказал - приунывшими: разумнее было бы, наверное, смириться да ловить попутку в Верхоленск. И всё же больше для очистки совести я решил постучаться в сторожку. Сторож, интеллигентного вида пожилой человек в огромных болотниках, примостился на отбойнике и молча смотрел в ясное небо. Я устал, солнце припекло, а потому и разговор наш потёк неспешно: вопросы о петроглифах быстро отошли на второй план, и вот уже я сам не заметил, как излагаю своё путешествие. Сторож слушал, кивал, а потом из приречных кустов появился обаятельный паренёк лет 18 в таких же сапогах, с удочкой и ведёрком. Нам повезло: в те дни у сторожа гостил внук Никита, который и так лазал по скалам каждый день с подсказками деда, и вот теперь не прочь был показать свои сокровища двум заезжим туристам.
11.
По пути он рассказал, что Якутского Всадника мы видели настоящего - в доковидные времена на Шишкинскую писаницу раз в год приезжали археологи, изучали состояние рисунков, а особо ценные подводили белой краской, чтобы и туристам их находить было легче, и вандалы не калякали поверх них хотя бы случайно. Белые фигуры выглядят отвратительно новодельно - но иначе мы бы просто не смогли их рассмотреть:
12.
На кадре выше слева - пара фигур из неолита: бык с аппетитными рёбрами и похожая больше на зайца голова лосихи. Справа - лоси бронзового века и загадочная фигура, которую здесь называют Шаман. На кадре ниже - сплошь бронзовый век, и судя по странным фигурами в лодках, то не эвенки на рыбалке, а души на пути в запределье. На средней строчке обратите внимание на то, как отличаются подкрашенные и неподкрашенные петроглифы, причём добавьте сюда то, что они как правило на фото видны лучше, чем глазом. Внизу же, пожалуй, самое впечатляющее изображение Шишкинских писаниц - Дракон, пожирающий Солнце:
13.
Вот бежит неолитический бык и гонит верблюдов настоящий Якутский Всадник - на кадре №10 конь не тот, что на гербе, зато здесь совпадение полное:
14.
Рядом - загадочные символы, включая кресты - не русское ли наследие, выбитое рукой суеверного купца в попытке обезвредить бесовские письмена перед дальней дорогой?
14а.

Снова всадники на курыканских конях, "с морды похожих на верблюда":
15.
Даже с помощью Никиты, который водил нас часа полтора, а после не взял за это денег, мы увидели далеко не всё - многие ценные изображения, как например огромный караван с гужевыми повозками, сделаны так, что снизу их не разглядишь, а вплотную к ним не залезешь.
16.
Что же до надписей, то иные уже начинает облагораживать время - теперь это не вандализм, а наскальные рисунки поздне-парового и ранне-электрического веков:
17.
Кто-то из современных людей пытается продолжать дело древних:
17а.
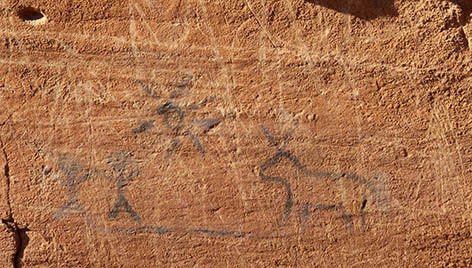
Прошедшее лето выдалось в Сибири неимоверно жарким, и на спуске со скал нам не хотелось уже ничего, кроме воды и прохлады. Леночка тут лишь с виду тёмная из-за глинистого дна и порядочной глубины, а вблизи - ледяная и прозрачная, как горная река. По словам Никиты, вода тут питьевая, и не смутившись тем, что в 15 километрах выше стоит Качуг с его 6 тысячами жителей, мы с радостью поверили на слово: жажда валила с ног. Дальше мы решили искупаться, но я, зайдя по щиколотку, сразу забыл о жаре: в арктических низовьях Лена куда теплее. Попрощавшись с Никитой, мы пошли дальше в сторону Верхоленска, куда ещё сторож махнул нам рукой, сказав, что петроглифы тянутся "до Ажирая":
18.
Хара-Ажирай, он же Ажрай-Бухэ и Ажрай-Нойон, был мне знаком по Ольхону - в числе 13 Северных Владык он являлся на Большой тайлган, главный бурятский молебен. В легендах Ажирай обладал такой силой, что ударом ноги вышибвал дверь Царства Мёртвых, но ольхонские шаманы представили как "духа гибкости ума" и хранителя Лены. Особо чтили Ажирая эхириты - самое северное племя бурят с налимом в качестве тотема. Алтарём Ажрай-Нойона считался скальный столб, на который обвинённые соплеменниками в тяжких преступлениях буряты пытались в знак своей невиновности забраться в темноте без факела и страховки. Скалу зарисовал в 1733 году Люрсениус, но в 1847 году царские инженеры, тянувшие колёсный тракт, на всякий случай решили её опрокинуть:
18а.
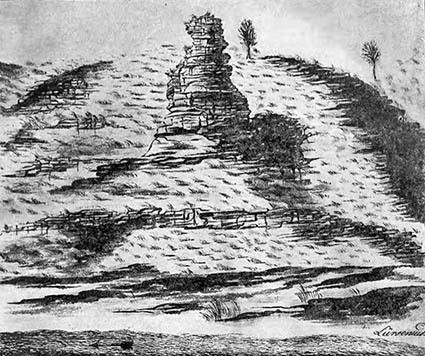
Теперь буряты вряд ли помнят, что столб Ажирая стоял, но зато помнят, где. У скал ниже писаницы прибрежный луг расширяется, и трава на нём притоптана, а сэргэ (ритуальный столб) в голубых хадаках (лентах), бочки для мусора да одинокая деревянная беседка выдают поле тайлгана: хотя бурят в Верхоленье почти не осталось, представители здешних родов раз в год съезжаются к подножью Ажирая на молебен. Инструкция, как проводить обряд, изложена в петроглифах с кадра №2, которые, однако мы не сумели рассмотреть в контровом свете. Мы выглядывали 5 шкур жертвенных быков, о которых рассказывал сторож - но как оказалось, шкуры эти не растянуты по скалам, а посажены на шесты на другой стороне поля, за поворотом, где я увидел их мельком уже на обратном пути. А ещё интересный момент, явно уходящий куда-то в курыканское прошлое: якуты тоже знают Ажирая, но у них Адьарай - это дьявол.
19.
Поход к Ажираю так вымотал нас, что в ожидании обратной попутки мы валялись в траве у обочины. Но путь оправдал чёрный аист, хлопавший крыльями в тёмной воде:
20.
Дорога под Шишкинской писаницей неожиданно оживлённая, хотя трафик на ней странноват. Тут мало легковушек и много грузовиков, среди которых есть как явно местные лесовозы и самосвалы, так и могучие дальние фуры, порой с какой-нибудь техникой под брезентом. Не меньше тут ярких блестящих автобусов и минивэнов с тюками на крышах, вот только не пассажиров везут они, а рабочих на дальние вахты. Например, в Ковыкту - открытое в 1987 году газоконденсатное месторождение, крупнейшее по запасам от Енисея до Тихого океана: это под неё строилась "Сила Сибири". Постоянная добыча на Ковыкте ещё даже не началась, но одного лишь её освоения в 2010-е годы хватило, чтобы Иркутская область воспрянула на глазах. Ещё дальше строится второй путь Байкало-Амурской магистрали, в мерзлоте гор бьются железнодорожные тоннели, а в самом-самом тупике этой дороги и вовсе Ленские прииски манят блеском золота недалёких работяг. Охота, набеги, торговые экспедиции, великие стройки, вахты на месторождениях - во все времена люди ехали мимо Шишкинских писаниц на поиски лучшей доли...
21.
На закате мы поймали лесовоз и вернулись в Качуг, а утром вновь отправились этой дорогой в Верхоленск. На выезде из Качуга нас подобрал большой джип с бойкой женщиной за рулём. Она была торговым представителем фабрики мороженного "Cooltook", и работа её заключилась в поездках по дальним районам, да и хобби было сурово-сибирским - одинокая и не бедная, в своей квартире она мастерила чучела зверей вплоть до медведя, да и живых медведей на этом тракте видела не раз... Вот промоталась мимо Шишкинская писаница и остался над головой "пень" Ажирая...
22.
За поворотом дорога пересекает крошечную, но явно старую деревню Шишкинскую, где попадаются и очень красивые дома, а дальше вновь прижимается к берегу под красными обрывами:
23.
Серпантин через них приводит в широкую долину, высокие травы которой скрывают и нашу цель:
24а.

Верхоленск манил меня названием - вроде простым, но таким мелодичным. Первые землепроходцы вышли на Лену в 1620-х годах куда ниже по течению, у теперешних Усть-Кута и Киренска, а потому совсем не мудрено, что если в низовьях уже в 1632 году был основан воеводский Якутск, то верховья таили неизведанные волоки. В 1641 году отряд пятидесятника Мартына Васильева в прямом смысле слова вмёрз в лёд из-за ранних и необычайно мощных заморозков. Казакам не оставалось ничего другого, кроме как быстро возводить острожек и оставаться зимовать. За зиму, однако, они неплохо изучили окрестные горы и долины, пройдя Лену практически до истока, а может быть даже увидели с Солнцепади замёрзший Байкал. Сменивший Васильева на следующий год Курбат Иванов из Тобольска не только перенёс Верхоленский острог в более подходящее место напротив устья Куленги, но предпринял новую экспедицию. Близ нынешний Бирюльки свернув из Лены на её приток Иликту, казаки перешли за Приморский хребет в ущелье Сармы и вот уже первыми из русских людей пили воду Байкала. Путь по Ангаре с её могучими порогами и кочевьями воинственных булагатов казаки освоили лишь через десятилетия, а в 1640-х годах Верхоленский острог стал первыми воротами на Байкал, и даже разорение эхиритами в 1647 году ему в этом не помешало. Сфера влияния Верхоленска оставалась неизменно и позже, когда буряты по-буддийски смирились и приняли русскую власть, а Иркутск разросся до центра половины России. В 1816 году Верхоленск стал слободой, а в 1857 году - уездным городом Иркутской губернии. Образуя на карте почти правильную трапецию, Верхоленский уезд расширялся от Жигалова и Верхоленска на юго-восток, одним концом выходя к Ольхону, а другим - на Северный Байкал. По плодородным долинам жили русские, ещё в 17 веке образовав одну из крупнейших в Сибири старожильческих пашен, а в горах и за горами хозяевами оставались буряты, составлявшие в уезде более трети жителей.
24.
К уездному городку сходились гужевой тракт, конные тропы и малые речки: если Качуг оказался идеальным местом для изготовления одноразовых несамоходных судов, отправлявшихся в половодье, то Верхоленск в 19 веке считался крайней точкой уже полноценной навигации. Именно здесь в 1861-62 годах были собраны из бельгийских деталей первые ленские пароходы - "Святой Тихон Задонский" байкальского судовладельца Ивана Хаминова и "Первенец" бодайбинского золотопромышленника Александра Трапезникова. Но развитие пароходов увеличивало их тоннаж, и вот уже новым судам, отвозившим работяг и оборудование на Ленские прииски, в местной гавани сделалось тесно. Главным портом Лены стало безликое Жигалово, куда с начала 19 века добирались от Ангары более коротким путём из Балаганска, а где-то в 1864-80 годах тогдашний иркутский губернатор Константин Шелашников обустроил тракт официально. По переписи 1897 года с населением 1,3 тыс. жителей Верхоленск уже был меньше многих сёл в своём уезде. Последним, кажется, аккордом уездной истории стал Верхоленский Совдеп, 15 большевиков которого были расстреляны белыми 21 июля 1918 года в пади под горой Марян:
25.
Над их братской могилой в 1978 году соорудили неожиданно симпатичный памятник из красного ленского плитняка, советский флаг над которым привлекает взгляд за избами в южной части Верхоленска. Но пройти к нему можно только через луга.
26.
Совдеп запомнился потомкам лишь своей гибелью, однако успел пробудить Упырей, коими молва считала банду Черепановых. Атаманом её числился Андриан, купчина из села Картухай, крутым норовом известный и прежде - так, свою жену он забил насмерть, а наказания за это так и не понёс. Вторая жена его самого держала в страхе: Анна Черепанова, даром что работала в школе учительницей, в девичестве ходила в одиночку на медведя. В делах она быстро потеснила мужа и научилась командовать мужиками, когда возила товары в Иркутск - говорят, проштрафившихся Анна избивала сама, причём зверски. Подозреваю, кто-то из них вступил в Совдеп и, конечно, не упустил возможности с ней поквитаться. Дальше норов взял своё: лишившись пристани, особняка и капиталов, купчиха стала атаманшей. Ставкой Черепановых служила некая Офицерская сопка в тайге, ну а были новоявленные разбойники не столько грабители, сколько мстители. Работали просто: переодевшись красноармейцами, черепановцы входили в село, а затем внезапно доставали оружие и устраивали расправу над вышедшими встречать "своих" коммунистами. О жестокостях Упырихи слагали легенды - тут она семерых лично забила обухом топора, там привязала учителя к коню и протащила через всю деревню, а потом изрубила тело. Самой именитой жертвой черепановцев стал председатель СибЧК Иван Постоловский, которого Анна не стала четвертовать, а отдала на суд белым, чьи покровительством пользовалась. Крупнейший рейд черепановцев на Нижнеангарск в союзе с восставшими эвенками в декабре 1921 года оборвал жизни 38 человек. Упырихой, однако, Анну Черепанову называли не только за жестокость, но и за живучесть: ЧОНовцы охотились на неё, как на зверя, а она, опять же подобно зверю, запутывала следы. Говорят, однажды Анна несколько дней сидела в болоте, дыша через трубку из камыша. Лишь раз чекисту удалось подстрелить её в бедро... но затем погиб от рук её соратников, а вынутую пулю Упыриха позже носила на шее как талисман. В конечном счёте красным так и не удалось изловить ни её, ни мужа - поняв, что война проиграна, Черепановы сложили оружие и достали поддельные паспорта. Говорят, уже в 1970-х в Красноярске милиция задержала некую хромую старуху Корепанову с пулей-талисманом на шее, но доказать, что она и была Анной из Верхоленска, а не пострадала, по её словам, в боях с Упырихой, так и не смогли.
27.
Верхоленск, добитый Гражданской войной, в 1925 году лишился статуса города. Тогда та же участь постигла десятки городов, носивших этот статус по инерции, как Соликамск или Свияжск. Но я не припомню другого уже-не-города, в котором про урбанистическое прошлое бы не напоминало до такой степени ничего. Можно вспомнить десятки сёл или станиц, никогда не бывших городами, но куда как более похожих на маленькие старинные города. Вытянутый вдоль полутора улиц, Верхоленск потянет максимум на село - центр волости, причём волости бедной и глухой.
28а.
Вот однако, самое настоящее уездное казначейство - где-то такие бывают с лепниной и в 2-3 этажа:
28.
Здесь нет даже улицы Ленина! Центральная в Верхоленске улица, на которую он нанизан от въезда до выезда, названа в честь молодого вятского революционера Николая Федосеева. Он один из первых в России проповедовал марксизм вместо народничества, дружил с тогда ещё мало кому известным Владимиром Ульяновым, переписывался с целым Львом Толстым и наконец в 1898 году угодил в верхоленскую ссылку. Где 27-летнего юношу, а с ним заодно и оставшуюся на воле невесту, довёл до суицида другой ссыльный большевик Иван Юхоцкий, который считал, что негоже настоящему марксисту собственность иметь, тем более если вся эта собственность - книги.
29.
На улице Федосеева стояли административные здания и особняки купцов, в первую очередь Большедворских, Купцовых, Соловьёвых и Шульгиных. Домик с флагом на кадре выше, кстати, в списке памятников архитектуры называется домом Черепановых, а значит не из него ли вышли Упыри? Деревянной школы, которую я видел в чужих заметках, мы то ли не заметили, то ли уже не застали. Самый солидный в старом городе дом Харитона Соловьёва выделяется идеальным состоянием - с 2002 года его занимают библиотека и небольшой музей:
30.
Улица Федосеева и ныне имеет хоть минимально городской облик. А вот так выглядит параллельная ближе к реке улица Константина Пуляевского, названная в честь местного героя Великой Отечественной:
31.
На ней уцелела столовая политических ссыльных (1897-98), где Юхоцкий изводил Федосеева, а ещё несколько лет назад можно было найти и развалины деревянной тюрьмы:
32.
Ссыльные в крошечном Верхоленске слагали немалый процент населения, но ещё больше смутьянов оказывались здесь на этапе. Например, Александр Радищев в 1790 году, или Феликс Дзержинский, в 1902-м отсюда и сбежавший. Первыми именитыми ссыльными Верхоленска были вездесущие декабристы Андрей Андреев и Николай Репин, а из тех, улица имени кого была в каждом советском городе, через Верхоленский уезд прошли Михаил Фрунзе, Валериан Куйбышев и Серго Орджоникидзе. Нестор Каландаришвили в здешней ссылке из грузинского националиста превратился в анархо-коммуниста и возглавил красных партизан. Было в городе и по полсотни человек поляков и евреев, возможно имевших синагогу в какой-нибудь избе. Но какие дома на полузаброшенных улицах каких ссыльных помнят - боюсь, не знает уже никто. Заброшек и пустырей в потерявшем за сто лет половину жителей Верхоленске как бы не больше, чем жилых усадеб, и многие из них явно опустели давно, быть может ещё до распада Союза...
33.
Заброшенный особняк в самом центре села, к которому сходятся улицы Пуляевского и Федосеева, ныне известен как Дом Троцкого... известен, правда, больше краеведам, чем местным жителям, но в 1900-02 годах ссыльного Лейбу Бронштейна действительно переводили несколько раз между Верхоленском и Усть-Кутом.
34.
С домом Троцкого соседствует Воскресенский собор (1903), воздвигнутый на средства ссыльного мещанина Стефана Захарова. Храм выглядит как пусть и солидная, но всё-таки сельская церковь:
35.
Колокольню над ней не успели поднять, да и нынешние реставраторы вряд ли это потянут. По-своему впечатляет вышка-звонница, про которую у меня было записано, что она осталась от предыдущей церкви с 1760-х годов. Увы, я так и не смог вспомнить, откуда я это взял и сколь это достоверно, но правда то, что пока вышки не стали ассоциироваться с чем-то сугубо утилитарным, на Руси было множество таких звонниц. Само собой, архитектурной ценности в них никто не видел (да и сейчас, увы, не видят!), а потому уцелевшие русские столбово-каркасные звонницы теперь можно сосчитать по пальцам одной руки. Так что в теории солидный возраст этой вышки возможен:
36.
Ещё два деревянных храма не пережили 1930-х годов:
37а.

Старый Воскресенский собор (1795-96), на замену которому нынешний храм и строили - весьма неожиданный в этих краях образец деревянного зодчества Украины. В принципе "украинское барокко" не такая уж и редкость в Сибири, но - в каменных храмах городов и монастырей: ведь в 18 веке Малороссия была кузницей кадров высшего духовенства. Здесь мог отметиться разве что какой-то ссыльный запорожец:
37б.

Ещё раньше тут стояла шатровая Воскресенская церковь 1650-х годов, остававшаяся от острога:
37в.

Но главным памятником Верхоленска был Богоявленский собор (1718) с уникальным завершением. Крещатые бочки - штука и так очень редкая (навскидку вспоминается пара церквей на Урале и пара на самом севере - в Кимже и Варзуге), а двухъярусных крещатых бочек в пол-оборота друг к другу я не припомню более нигде!
37г.

Ещё можно вспомнить показанные в прошлых частях на таких же чёрно-белых фото церкви в Бирюльке, Качуге, Знаменке да храмы Илимского острога: пашни Иркутского Севера представляли собой такой же целостный район поморского деревянного зодчества, как Онега, Карелия или Двина... но весь этот пласт сгинул в ХХ веке.
38а.

Улица Федосеева за домом Троцкого сама становится набережной. У реки - сельский воинский памятник:
38.
Хорошее, крепкое, старинное село - но какой же это бывший город?
39.
Хотя вот в сельском магазине у двух столь же сельских тётушек играла не эстрада, а отличный старый англоязычный рок-н-ролл.
39а.

Черту под центр Верхоленска подводит наплавной мост:
40.
За ним начинается просёлка к несколькими деревням, самая дальняя из которых носит звучное название Магдан. Где-то там, далеко за рекой - и зловещая Офицерская сопка.
41.
Как село в кристальном воздухе сибирской глуши Верхоленск чрезвычайно живописен:
42.
Последний взгляд на центр уездного города:
43.
Присёлки под красными обрывами тянутся дальше:
44.
А жизнь в глуши полна своего колорита:
45.
46.
47.
48.
49.
Ну вот и северный выезд. Дальше до Жигалова ещё сотня километров, но дорога такая, что билет на маршрутку дотуда стоит раза в 2-3 дороже, чем до Качуга. Вдоль дороги, судя по чужим фото, те же красные обрывы, без петроглифов, но даже более высокие и зрелищные, чем скалы Шишкинской писаницы. Само Жигалово, ещё один районный ПГТ (с 1936 года) с 5-тысячным населением, зародилось в 1723 году как заимка Якова Жигалова, а в эпоху золотой лихорадки на Бодайбо превратилось в главный порт Лены, где даже свою верфь построили в 1907 году. Но глядя на чужие фотографии и списки памятников архитектуры, я не нашёл ни одной причины того, зачем туда добираться. За Жигалово путь раздваивается, и сама Лена течёт мимо пустеющих деревень, некогда процветавших у водного-ледового тракта. В тех деревнях есть заброшенные церкви, купеческие дома и сталинские лагеря, а километрах в 80 от Жигалова уходит в землю Ботовская пещера, в которой ещё эвенки прятались от непогоды. Открытая геологами в 1948 году, на данный момент она считается самой длинной в России: все крупные пещеры неуклонно "растут" по мере исследования новых ходов, и в 1992-2010 годах спелеологи иркутского клуба "Арабика" так "удлиннили" Ботовку с 6 до 67 километров, и это явно ещё не предел. В Ботовской пещере нет особых природных чудес, в основном одноярусный густой лабиринт, часть которого исследовать помогла древняя карта - плоский камень с вырезанной схемой ходов, которую в настоящих ходах повторяли следы 3-4-тысячелетней копоти.
49а.

Но те места - по-настоящему глухой тупик, и в какой из деревень окончательно затухает дорога, зависит в первую очередь от того, на чём едешь по ней. Ещё в Жигалово можно свернуть на запад, на тот самый Шелашниковский тракт, ведущий мимо горы Кит-Кай, для бурят священной как шаманская святыня, а для коммунистов как место первой ссылки Сталина, к Усть-Уде и далее вдоль Ангары в Иркутск. Третья дорога за Жигаловом уходит от Лены и тянется на 300 с лишним километров (почти как до Иркутска) к посёлку Окунайский на БАМе. Она невзрачная, пыльная, вхлам разбитая строительной техникой Ковыкты, на ней вообще нет сёл, а знакомые автостопщики рассказывают, как каждый водитель норовил им сообщить, что тут кишат медведи, после чего захлопывал дверь и гнал прочь. Поначалу я думал не поворачивать в Верхоленске, а прорываться этой дорогой, но в итоге решил, что да ну его нафиг: даже из Усть-Кута автобусы в Иркутск ездят не через Жигалово, а раза в полтора более длинным маршрутом через Братск. Частный минивэн Иркутск-Северобайкальск едет 12 часов и берёт по 3500 рублей с человека независимо от точки посадки. Те же автостопщики от БАМа до Жигалова продирались 9 часов чистой езды, так что весь путь от бывшего главного порта Лены до нынешнего занял бы у меня пару дней. Полтысячи километров течения Лены ниже Верхоленска для меня так и останутся белым пятном.
50.
В следующей части... по-хорошему следующая часть должна быть про Усть-Кут, с 1950-х годов и поныне главный порт Лены, до постройки Амуро-Якутской магистрали бывший крупнейшим речным портом всего СССР. Но Усть-Кут я посетил ещё в Байкало-Амурском путешествии 2020 года и написал о нём не так давно (вот, ниже, в оглавлении). Так что в фактической следующей части отправимся из него вниз... уже не вдоль Лены, а по Лене!
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Давыдово.
Давыдово - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: невольничье Качугский район Сибирь Иркутская область дорожное деревянное этнография |
Анга. От Форт-Росса до Сергиева Посада |
Уналашка, Ситка, Форт-Росс; алеуты, тлинкиты, кашайя; Иркутск, Якутск, Благовещенск и святыни далёкой Москвы - что объединяет всё это с тихой сибирской деревенькой Анга (800 жителей) в 20 километрах от показанного в прошлой части Качуга в верховьях Лены? Конечно же, судьба земляка - на излёте 18 века здесь родился Иван Попов, он же Иоанн Вениаминов, он же святитель Иннокентий Московский, наследием которого стали Благовещенск, Храм Христа Спасителя и лес на Алеутских островах. Я ехал сюда посмотреть на его 300-летнюю избушку, а обнаружил то, чего в глуши никак не ожидал увидеть.
В Качуге нет сетевых такси, а местные берут за 20 километров до Анги то ли 600, то ли 800 рублей, ссылаясь на то, что там очень плохая дорога и они вообще согласны ехать чисто чтобы вам помочь, так как машину чинить выйдет дороже. Зная, какая дорога за Качугом дальше на север, им даже веришь... но денег жалко, да и зачем же тогда мужиков напрягать? Мы взяли такси до околиц райцентра и стали ловить попутку. Вскоре нас подхватил праворульный драндулетик, состоянием и содержимым кузова похожий на старые добрые "Жигули", и в компании доброго сельского дядьки мы поехали на восток. Кругом тянулись поля и луга, за которыми виднелись крыши деревенек: Верхоленье - одна из последних "сибирских пашен", обжитых русскими людьми ещё с 17 века, но в отличие от столь же изобильных уголков Ангары и Илима, сюда не дошёл Гидрострой.
2.
Под колёсами, между тем, шуршал почти идеальный асфальт, даже получше, чем на большей части Качугского тракта. Тарифы таксопарка, равно как и легенды таксистов, кажется, просто слегка устарели: Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия открылся в Анге всего-то в 2017 году как совместный проект "церкви и области" (по словам водителя), которым явно был известен афоризм про непростые отношения храмов и дорог. О том же, кому паломники, туристы и селяне обязаны возможностью ездить тут без ухабов и пыли, напоминают деревянные часовни и кресты:
3.
Кадр выше снят, кажется, близ деревни Малые Голы на полпути, а кадр ниже - на стыке Анги и её длиннющего присёлка Рыкова:
4.
Деревни эти небогаты и полны заброшенных домов, но всё же что-то неуловимое, незыблемо-сибирское, отличает их от призрачных в своём упадке деревенек Средней полосы или Русского Севера:
5.
Ну а дом святителя тут даже не сказать, чтоб уникален - 200-300-летние избы, срубленные, быть может, ещё теми, кто пришёл сюда пешком с Вологодчины и Приуралья, мелькают у дороги тут и там. Их облик очень характерен - маленькие, вросшие в землю, изначально может быть даже курные, они строились до того, как в обиход русских крестьян вошла пила, и потому под самый конёк сложены из брёвен:
6.
У более молодых изб на уровне чердака брёвна сменяются досками, а на окнах - резные наличники в бело-голубых тонах:
6а.

Ангара, Ангоя, две Анги (другую я показывал год назад в Приольхонье) - в байкальской стороне это буквально одно из самых распространённых названий. С эвенкийского "анга" переводится примерно как "щель" - этим словом тунгусы называли и пасть животного, и речной каньон. Каньонами, возможно, Большая Анга и течёт в горах Байкальского хребта почти параллельно Лене, и хотя в равнинной части это речка тихая и маленькая, именно после её устья Лена становится хотя бы в паводок судоходной.
7.
Анга стоит на двух берегах, но капитальный мост между ними построили лишь в 1996 году. Правее моста (кадр выше) видна укатанная в сайдинг школа и высокая деревянная церковь, отмечающая нашу цель, а низинка у речки была в 18-19 века известна Поповские Утуги - запомните её! Левее моста - венчающий скопление изб деревянный Дом культуры:
8.
К ДК и тяготел ещё 5 лет назад центр селения - тут и мемориал Победы, самой красивой частью которого я бы назвал высокие ёлки:
9.
И "Крестьянский торговый дом" с характерными деревянными кружевами - удивительно, но так выглядят все магазины этой сети (!), существующей с 1999 года в Качугском районе:
10.
Новый центр Анги манит за кривыми заборами:
11.
Вокруг старинной избы в 2013-17 годах образовался целый мемориальный комплекс с десятком построек, осматривать который можно несколько часов. Издали его доминанта - Иннокентьевская церковь, однако фактически главное здание комплекса - хорошо заметный на кадре выше Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия, сруб которого вмещает новый дом культуры, музей, гостиницу на полсотни постояльцев да офис всего этого великолепия. Первым и приятным сюрпризом стал сам масштаб мемориала: созданный уже по окончании золотого века ЖЖ, он не успел стать достоянием трэвел-блоггеров, по сайту КПЦ же ни за что не догадаешь о том, что здесь встретит что-то более солидное, чем новодельная церковь и вечно закрытый музей, ключ к которому надо спрашивать в церковной лавке. Из слабости сайта же обнаружился и второй сюрприз, на этот раз неприятный: выходной у КПЦ не только понедельник, но и вторник, на который и пришёлся наш визит. И в населённом пункте покрупнее это бы значило лишь запертую дверь и хмурого сторожа, однако в глухой деревне большинство сотрудников Культурно-просветительского центра приезжают сюда из Иркутска вахтами, живут здесь же, и в те дни, когда нет посетителей, всё равно на рабочих местах. Охранник позвал директора, мы показали директору рекомендательные письма от проекта "Живое наследие" при Общественной палате РФ, и вскоре к нам спустилась девушка-экскурсовод с приятным голосом...
12.
Большая часть Иннокентьевского мемориала расположена на зелёном, идеально постриженном холме. Справа - старая изба и новая церковь, левее виднеется звонница над руинами старой церкви, а домики справа вдоль лестницы... расскажу о них позже, а пока что запомните ещё и их!
13.
Первым делом мы поднялись в храм Святителя Иннокентия (2013-17) - издали почти типовая деревянная церковь из оцилиндрованного бревна, какие в 21 веке строятся от Калининграда до Сахалина, она гораздо интереснее внутри:
14.
Внутрь, а не наружу, обращены и расписные наличники:
15.
Сюжеты и техника росписи кажутся очень знакомыми и очень какими-то северным, вот только региональную школу я не могу опознать. Строили Иннокентьевский храм плотники из Иркутска, а расписывали мастера из Троице-Сергиевой Лавры:
16.
Но самая, пожалуй, яркая деталь - икона-штурвал на апсиде:
16а.

Старинная изба в окружении газонов, мостиков и тротуарчиков кажется музейным экспонатом, небрежно положенным на блестящую витрину. Она действительно стоит не в изначальном месте, да и родным домом святителя не была, но дело тут лишь в том, что история этой избы так же нелинейна, как и судьба самого Иннокентия:
17.
Будущий святитель родился в Анге в 1797 году, и первым именем его было - Попов Иван Евсеевич. Предки его по отцовской линии к тому времени жили в Иркутской земле уже как ровно 99 лет, все были священниками, и в 4 поколениях из 5 носили одно и то же имя: Иванами Поповыми были и наш герой, и его прапрадед, в 1698 году присланный невесть из каких краёв, и прадед, служивший в одной из церквей Иркутска, и дед, в 1738 году переведённый епархией в далёкое, но богатое село Ангинское. Вероятно - за какое-то смутьянство, уж по крайней мере в славном роду Поповых он вышел экспериментатором, сыновей своих назвав Дмитрий и Евсей. Первый унаследовал эту избу, а второй обустроился по соседству - так в Ангинском возник уголок на берегу речки, те самые Поповские Утуги. Дом Евсея Иваныча, где в 1797 году, младшим из семерых детей, большинство из которых умерли в младенчестве, родился будущий святитель, благополучно простоял до советской эпохи. В 1913 году в нём даже открыли музей земляка, но проработал он, по понятным причинам, дай бог несколько лет, а дальше тесная старая изба вновь стала чьим-то домом, и где-то ближе к середине века хозяева без сожаления её снесли.
17а.
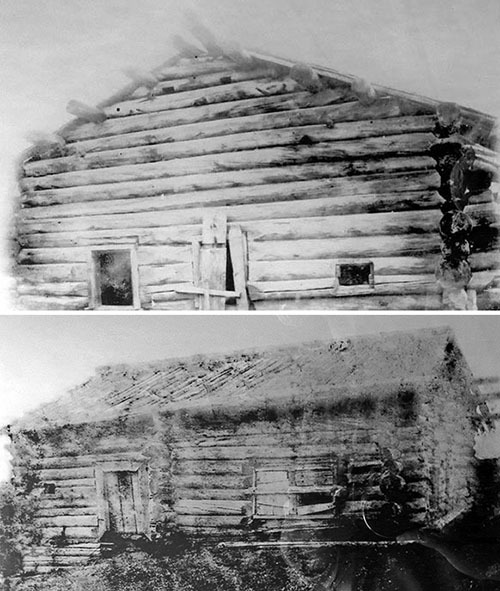
Ту избу, что стоит теперь подле церкви, построил в 1738 году дед святителя, а к концу 18 века там жил его дядя Дмитрий Иваныч. К дяде и перебрался маленький Ваня Попов в 1805 году, когда умер Евсей, так что в итоге тут не родной дом нашего героя, но всё-таки - дом, где он жил. В 1806 году Дмитрий с племянником уехали в Иркутск, а дом продали односельчанам Скорняковым, чей род и жил здесь полтора столетия, в 1876 году перевезя избу с Поповских Утугов на бугор.
18.
Время, однако, шло, и если в атеистическом Советском Союзе святителя Иннокентия забыли, то на том берегу Мировой лужи помнили как, ни много ни мало, Апостола Америки. В 1977 году Иннокентий Московский был канонизирован Православной церковью в Америке, что поддержали и при дворе патриарха в Москве. В Перестройку сюда даже приезжали некие православные американцы, уж не знаю, индейцы или белоэмигранты, и предлагали несколько тысяч долларов за обветшалый заброшенный сруб - чтобы вывести на Аляску и создать там музей. Председатель Владимир Бутаков тогда наотрез отказался, но видимо, и собакой на сене оказаться не хотел: так американцы своим визитом вынудили иркутских чиновников заняться сохранением избы. В 1997 году, к 200-летию рождения святого и 20-летию его канонизации, при поддержке Церкви в этой избушке открылся дом-музей Святителя Иннокентия, а создание нынешнего Культурно-просветительского центра началось в 2013-14 годах с её реставрации.
19.
Аутентичен в избе только сруб да может быть половицы из полубрёвен. В сенях её висит родословная святителя Иннокентия, нынешние потомки которого живут в Москве под другими фамилиями. В комнатах же воссоздан абстрактно-собирательный интерьер поповского дома с позапрошлого рубежа веков:
20.
Чуть в стороне от избы и нового храма - фундамент старой Ильинской церкви (1804), строительство которой почти совпало с детством святителя. Её разрушили в 1930-х годах вместе с церковным кладбищем:
21.
Теперь фундамент церкви аккуратно раскопан и законсервирован, а на его кирпичах лежит язык колокола, откопанный вместе с ним. У входа - псковская звонница, а над апсидой - прозрачная часовня, и кресты за ней напоминают о сельском кладбище, где покоились в том числе предки святого:
22.
Примерно таким Ваня Попов видел Ангинское накануне своего отъезда - Ильинская церковь на холме да усадьба деда у речки. Последний элемент мемориала - те самые 5 павильонов у лестницы, которые представляют собой фактически залы музея: каждый - про отдельный этап жизни Светителя Иннокентия. Первый, что про детство, представлен лишь диорамой:
23.
Второй зал символизирует Иркутск, его самый-самый центр на месте деревянного кремля - с Московскими воротами, барочными храмами и Иркутской духовной семинарией, изначальное здание которой (1780-88) простояло до 1846 году, когда его заменили нынешние корпуса. Туда и повёз Дмитрий Попов в 1806 году племянника Ивана на 8-летней обучение. А так как количество Поповых среди потомственных попов зашкаливало, и в одном только потоке нашего героя числилось 7 однофамильцев, настоятели решили дать им другие имена. Иван Попов из Ангинского как лучший ученик семинарии на выпускном в 1814 году стал Вениаминовым - и это был явный намёк, ибо накануне отошёл в мир иной иркутский епископ Вениамин (Багрянский). Определили выпускника в Градо-Иркутскую Благовещенскую церковь, тогдашнее барочное здание которой тут изображено за кустами справа - сначала дьяконом, а с 1821 года и настоятелем. В 1817 году дьяк Иван Вениаминов обзавёлся женой Катериной и потому не поехал в Москву, где в православную академию при Троице-Сергиевой Лавре семейных людей не брали. Совсем другая судьба ждала его...
24.
Третий павильон встречает экзотическим пейзажем Русской Америки - пожалуй, самого необычного угла как тогдашней Российской империи, так и теперешних США. И как в Канаде задолго до Колумба высаживались викинги, так и на Аляске у Русско-Американской компании были полумифические предшественники - колония Кынговей, основанная то ли крещёными чукчами и эскимосами, то ли казаками Семёна Дежнёва, то ли и вовсе новгородскими ушкуйниками, фигурировала в документах начала 18 века, но до сих пор не известна археологам. Говоря "Русская Америка", обычно мы имеем в виду Аляску, однако как бы не большее значение имел Алеутский архипелаг, разделяющий Тихий океан и Берингово море. По числу островов (110), их общей площади (17,7 км²) и протяжённости (1748км) Алеуты почти вдвое превосходят Курилы, и сами делятся на несколько архипелагов поменьше - с запада на восток Ближние, Крысьи, Андрияновские, Четырёхсопочные и Лисьи острова. Американская география относит сюда ещё и Командорские острова, ну а в совокупности гряда казалась странным бродом через океан. Там жили люди, по языку родственные эскимосами, а в культуре, быту и верованиям в чём-то похожие и на эскимосов, и на камчадалов, и на индейцев, но в полной мере ни на кого из них. Русские называли этот народ алеутами, но теперь никто толком не знает ни откуда это слово взялось, ни кого обозначало раньше - острова или островитян. Себя островитяне называли унанаки, и главные в Лисьем архипелаге острова Унимак, Умнак и Уналашка обозначали явный центр их земли. В посвященном 18 столетии, когда Россия пыталась быть морской державой, по европейскому обычаю заморские колонии осваивал частный капитал - в первую очередь купцы из уездных городов Вологодчины. Сейчас это кажется странным - ведь Вологодчина лежит далеко от любых морей, однако именно эта удалённость сделала её кузницей кадров для северного мореплавателя. Если поморы просто жили у берега и артели их ходили на промысел по сезону, то выходцы из Поверховья, также знакомые с богатством северных морей, охотнее отправлялись в многолетние экспедиции. В таких экспедиция и разбогател вплоть до постройки своих кораблей Степан Глотов, мещанин из Яренска, в 1758 году обосновавшийся на Лисьем архипелаге. Купцов, однако, в отличие от государевых людей, интересовала лишь прибыль, и Джек Лондон, расписывая русские изуверства в рассказе "Потерявший лицо", был в общем-то не так-то и далёк от истины. В 1763 году алеуты Лисьих островов подняли восстание, вырезав экипажи 4 русских судов, а год спустя Глотов вернулся во главе карательной экспедиции, перебившей тысячи алеутов. Обескровленные острова промышленники забрали себе, к 1773 году обустроив первое в Америке постоянное русское поселение на Уналашке, в заливе Голландская гавань, названном так по каким-то старым следам голландских кораблей.
25.
Заморская экспансия, меж тем, лишь набирала обороты, и помимо одиноких купцов к ней всё чаще подключались крупные торговые компании. Самой успешной из них оказалась Северо-Восточная компания с весьма нетипичными основателями - купцами Григорием Шелиховым и Иваном Голиковым из нынешней Курской области, хотя "на местности" с 1790 года командовал купец Александр Баранов из Каргополя. Раскидав конкурентов, к 1799 году Северо-Восточная компания стала Русско-Американской компанией и под началом Баранова продолжила экспансию в Тихий океан. Экспансия эта шла тяжело: эскимосы и особенно индейцы невзлюбили "бородатых людей" натурально с первого взгляда, кровавые мятежи раз за разом вспыхивали тут и там, а карательные рейды не столько устрашали туземцев, сколько усиливали ненависть и отчуждение. Но и интересовала промышленников не столько таёжная пушнина, сколько мех "морского бобра" (калана), а потому и постоянные поселения колонисты предпочитали строить на островах, предварительно и под предлогом какого-нибудь мятежа истребив на них большую часть населения. РАК продвигалась вдоль побережья - с 1784 года её главной базой стал крупнейший в нынешних США (не считая Гавайев) остров Кадьяк, а с 1799 года - остров Ситка (он же остров Баранова) в Александровском архипелаге близ нынешнего Джуно, где был основан городок Новоархангельск, ставший официальной столицей Русской Америки. Под управление Русско-Американской компании отошла и Уналашка, к тому времени наиболее обрусевшая и остававшаяся экономическим центром Русской Америки. Туда в 1823 году и отправился с разросшейся семьёй Иван Вениаминов, из городских попов подавшийся в миссионеры.
25а.

Путь из Иркутска за океан занял 14 месяцев - сперва до малой родины и вниз по Лене в Якутск, затем сухопутным трактом в Охотск, далее кораблём в Новоархангельск, а оттуда уже на Алеутскую гряду. Уналашка поначалу произвела на священника тягостное впечатление произволом купцов и нищетой забитых, запуганных, с начала колонизации лишь окончательно одичавших туземцев. К 1825 году Вениаминов построил на острове Вознесенскую церковь - впрочем, не ту, что на макетах и иконах: нынешнее здание, уже американских времён, на этом месте третье. Параллельно Иван Евсеевич выучил алеутский язык и к 1826 году разработал для него письменность, а разъезжая по стойбищам с проповедями, знакомил унанаков заодно и с благами цивилизации. Не знавшие прежде со стороны пришельцев ничего, кроме обмана и насилия, в пришельце, который говорит с ними на одном языке и лечит от прежде неизлечимых болезней, алеуты, конечно же, не могли не увидеть мессию. Десять лет спустя на Уналашке не осталось ни одного язычника, алеуты получили русские имена и вообще возлюбили Россию - миссионеру стало некого крестить.
26.
В 1834 году Ивана Евсеевича перевели в Новоархангельск и вверили ему куда более сложную паству - колошей, или тлинкитов, уже вполне себе настоящих индейцев языковой семьи на-дене. Многочисленные и непокорные, тлинкиты и соседей держали в страхе, а русско-колошская война в 1802-05 годах закончилась фактическим изгнанием Русско-Американской компании на острова и резнёй в материковом селении с громким названием Славороссия на заливе Якутат. После этого даже на остров Баранова Русско-Американская компания предпочитала завозить алеутов. Из Новоархангельска Вениаминов объехал натурально всю Русскую Америку, собрал о тлинкитах подробнейший для тех времён научный материал (опубликованный в 1846 году в Петербурге), но в деле их крещения не сказать, чтобы продвинулся. Он понимал, что тут нужна системная работа, а потому в 1838 году поехал (причём - через Америку и океаны!) в Петербург просить помощи у государства. По пути он овдовел, и в 1840 году в Москве принял монашеский постриг, а с ними и третье по счёту имя - Иннокентий. То не случайно: ведь как раз в те годы, когда Ваня Попов поступал в Иркутскую семинарию, к лику святых был причислен Иннокентий Иркутский, в миру Иван Кульчицкий, запорожский казак Черниговского полка, который окончил Киевскую коллегию и Славяно-греко-латинскую академию, возглавил духовную миссию в Китай, а в итоге стал первым епископом Иркутской и Нерчинской епархии. Канонизировал Иннокентия тот самый Вениамин, в честь которого нашего героя переименовали впервые. Среди бурят Иван Евсеевич вроде бы не проповедовал, но краем уха наверняка слышал о реинкарнациях, и уж точно, что боготворил Иннокентия Иркутского и наверное мечтал повторить его жизненный путь. Вместе с постригом новый Иннокентий получил хиротонию, также став первым епископом новой Камчатской, Курильской и Алеутской епархии. Но география обязывает: жизнь владыки Иннокентия проходила не в роскоши, а в бесконечных разъездах, маршруты которых были замкнуты на Новоархангельск. Там он в 1844-48 годы выстроил кафедральный собор Михаила Архангела (в 1966 году сгоревший, хотя и воссозданный после этого в точности), а в 1845 основал Новоархангельскую семинарию - вторую за Уралом после Иркутской.
27.

Однако география разъездов владыки Иннокентия неуклонно смещалась на запад, то бишь на Дальний Восток: освоение Русской Америки застопорилось, и он видел с одной стороны тщетность своих трудов там, а с другой - плодородные и непаханые духовные поля в родной Азии. В 1852 году он перенёс камчатскую кафедру и семинарию в Якутск, где тоже время даром не терял, например сделав переводы Нового Завета на якутский. В 1858 году владыка снова переехал - теперь в Благовещенск, который сам же основал вместе с экспедицией Михаила Муравьёва-Амурского за несколько дней до Айгунского трактата об отказе Китая считать Приамурье своим. Про этот период в жизни святителя рассказывает экспозиция в следующем павильоне с морозными пейзажем Якутска:
28.
Между тем, странствующему архиепископу давно исполнилось 60 лет - пора было и на покой... В 1865 году владыка Иннокентий уехал сперва в Петербург как член Синода, а с 1868 - в Златоглавую как митрополит Московский и Коломенский. Здесь же в 1869 году он был принят в Русское географическое общество и осыпан орденами да медалями, в том числе от самого царя. В 1871 году Иннокентий основал Православное Миссионерское общество, которое должно было стать мощным инструментом "мягкой силы"... вот только пользоваться ей Государство Российское не научилось и полтора века спустя. Последним детищем Иннокентия (Попова-Вениаминова) стал Храм Христа Спасителя, или вернее - его алтарь, заложенный в 1876 году меж возводившихся с 1837 года стен как отдельное здание. В 1879 году Иннокентий Московский (как его канонизировали 98 лет спустя) преставился и был погребён в Троице-Сергиевой Лавре.
29.
Кадр выше, как вы уже догадались, снят в пятом павильоне. За павильонами - роща молодых кедров, которые гости музея сажают 8 сентября, в день рождения Ивана/Иннокентия (26 августа по старому стилю) в память о кедровой роще, что Вениаминов высадил на ветреной Уналашке, привозя саженцы с материка.
30.
Теперь зайдём в основное здание музея. В фойе - макеты трёх церквей: Ильинской (1805) в Ангинском, Благовещенской в Иркутске (1785-1804, она сгорела в 1870-х годах, была отстроена в "кирпичном стиле" и в 1930-х снесена окончательно) и Вознесенской (1896) на Уналашке:
31.
На стене - фото собора Иннокентия Иркутского (1994) в Анкоридже, теперешнем центре Аляски. Основанный в 1914 году как станция изолированной железной дороги, этот городом размером с Якутск или Благовещенск похож на американские мегаполисы в миниатюре. Материковую часть Аляски освоили, купив в 1867 году, уже американцы, и проекцией Новоархангельска на материк стал маленький Джуно - теперешняя столица штата. Там тоже есть деревянная Никольская церковь (1893-94): русские ушли, а православные алеуты, эскимосы, тлинкиты - остались. И это - наследие Святителя Иннокентия.
31а.

Справа от фойе - основная экспозиция, посвящённая русским миссионерам. Странноватое оформление тут служит аллегорией: с иконы льётся водопад, растекающийся реками духовных миссий, по которым плывёт поморский коч.
32.
Здесь же запечатлены три сюжета про Иоанна Вениаминова: как он уплыл на Уналашку, как посадил на ней кедры и как приручил белоголового орла - а судя по чужим заметкам, там эти птицы и ныне вместо голубей и ворон.
33.
Места его богослужений теперь выглядят так:
34.
Круглые витрины повествуют о прочих русских миссионерах, крестивших как сибирские народы...
35.
..так и Монголию, Китай, Корею, Японию:
35а.
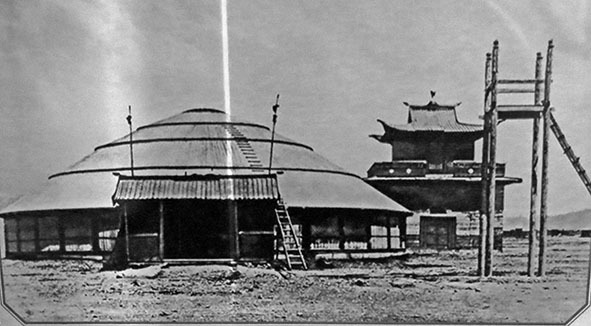
Слева от фойе - выставки, одна из которых фактически уже стала постоянной экспозицией. Открывшийся на излёте благословенных доковидно-довоенных времен, музей в Анге успел застать немало иностранцев, среди которых была калифорнийка Робин Джой Веллманн. Или - Иннокентия Веллманн в православном крещении: отлично владеющая русским языком и чувствующая себя в России словно дома, эта женщина более 30 лет работает в Историческом парке Форт-Росс в дальних окрестностях Сан-Франциско. Впервые наведавшись в Ангу, она всему здесь порадовалась, и лишь одному возмутилась - а про наших-то почему ни слова?! Сказано-сделано, и вот область и епархия выделили средств, а Веллманн прислала экспонаты вроде вот этого макета часовни от калифорнийского мастера Джека Костелло: в 2021 году в Анге открылась небольшая экспозиция, посвящённая самой дальней точке, которая когда-либо была у России.
36.
...Незавершённая колошская война поставила Баранова перед неприятным фактом: на холодных островах не прокормиться. Именно по вопросам закупок продовольствия ездил в 1807 году в Сан-Франциско командор Николай Резанов на своих судах "Юнона" и "Авось". Но сюжетами рок-опер сыт не будешь, о чём-то конструктивном с испанцами договориться не удалось, и Баранов принял единственное верное решение - пройти на юг вдоль побережья, и найдя подходящее место, подружиться с местными индейцами и выращивать всё необходимое самим. Возглавил ответственное задание Иван Кусков, мещанин из Тотьмы, прежде управлявший несколькими поселениями Русско-Американской компании, включая Кодьяк и Славороссию до её разрушения. С юга зону поисков ограничивал Сан-Франциско, северный форпост Испанской империи, и вот в 1808 году в сотне километров до него в 1808 году Кусков присмотрел бухту Бодега, которой дал название Залив Румянцева. Там и возникло первое в Калифорнии русское поселение Порт Румянцева:
37а.
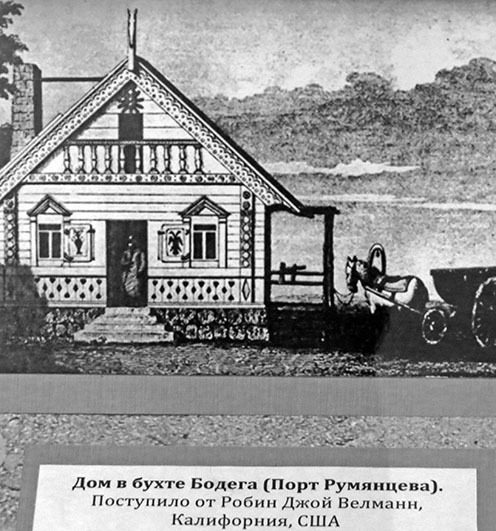
Проведя на заливе Румянцева зиму, колонисты добывали калана и морского котика (их мех слева), налаживали контакты с местными индейцами кашайа и вели разведку в окрестных горах. В 24 километрах от Бодеги Кусков присмотрел устье реки, которую назвал Славянкой - рядом обнаружились хорошо защищённое плато, пышные луга и строевой лес, а что вместо сосен и лиственниц там секвойи - то не беда. После всех согласований, в 1811-12 годах, Кусков во главе экспедиции из 25 русских и 90 алеутов вернулся на Славянку и построил из этих секвой крепость Росс:
37.
Индейцы кашайа из языковой семьи помо были не чета тлинкитам - совсем не воинственные, угодья в устье Славянки они продали за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько бус. Но и русские, научённые горьким опытом, всячески старались показать туземцам, что дружить с ними можно и нужно. С Испанией же у самой России тогда были прекрасные отношения, и хотя вице-король имел задание выжить русских из Калифорнии, обязательным условием ему ставилось - не провоцировать прямой конфликт. В 1821 году Испанию за Сан-Франциско сменила независимая Мексика, но на первых порах ей было не до того, а переговоры затягивались по причине отсутствия дипотношений. И всё же срубленный из красноватой секвойи Росс представлял собой вполне боеспособную крепость с 12 небольшими пушками, на форты Дикого Запада похожую внешне куда больше, чем на остроги Сибири. К концу 1830-х годов на Славянке жило уже две с половиной сотни колонистов - несколько десятков русских, сотня-полторы алеутов, креолы из смешанных браков, крещёные индейцы, немного якутов и финнов с материка и полинезийцы с Гавайев, где русские пытались закрепиться в 1816-17 годах и даже построили Елизаветинскую крепость (Паулаула) на острове Кауаи. Но если учесть, что во всей Русской Америке жило около тысячи русских, и не более 2,5 тысяч российских подданных - получается, что на Калифорнию приходилась десятая часть. Росс дополнили три удалённых ранчи (фермы) Костромитиновское, Черных и Хлебниковские Равнины - заделы несостоявшихся деревень. Колонисты преуспели в скотоводстве (держали до 3500 голов коров, лошадей и овец), садоводстве и промысле каланов на Фараллоновых островах, а вот для землепашества просто не хватало рук: на материке чиновники решали, негров для плантаций лучше прикупить или мужиков под Курском. Отец Иоанн в истории Росса не сыграл никакой особой роли, но всё-таки бывал здесь дважды - в 1836 как миссионер и этнограф, а в 1838 был проездом в Петербург. Наконец, в 1839 году Русско-Американская компания договорилась о поставках продовольствия с Компанией Гудзонова залива в Канаде, и потерявший значение Росс в 1841 году купил по дешёвке американо-швейцарский магнат Джон Саттер (Зуттер), вскоре прибравший к рукам весь север Калифорнии. В 1846 американцы и южную (вернее, среднюю) часть Калифорнии отвоевали у Мексики, вряд ли зная, что полтора века спустя тут будет центр мировых высоких технологий, кинематографа и всяческих горизонтальных селф-спешиал-фрик-веган-ЛГБТплюс-френдли-идей.
37.
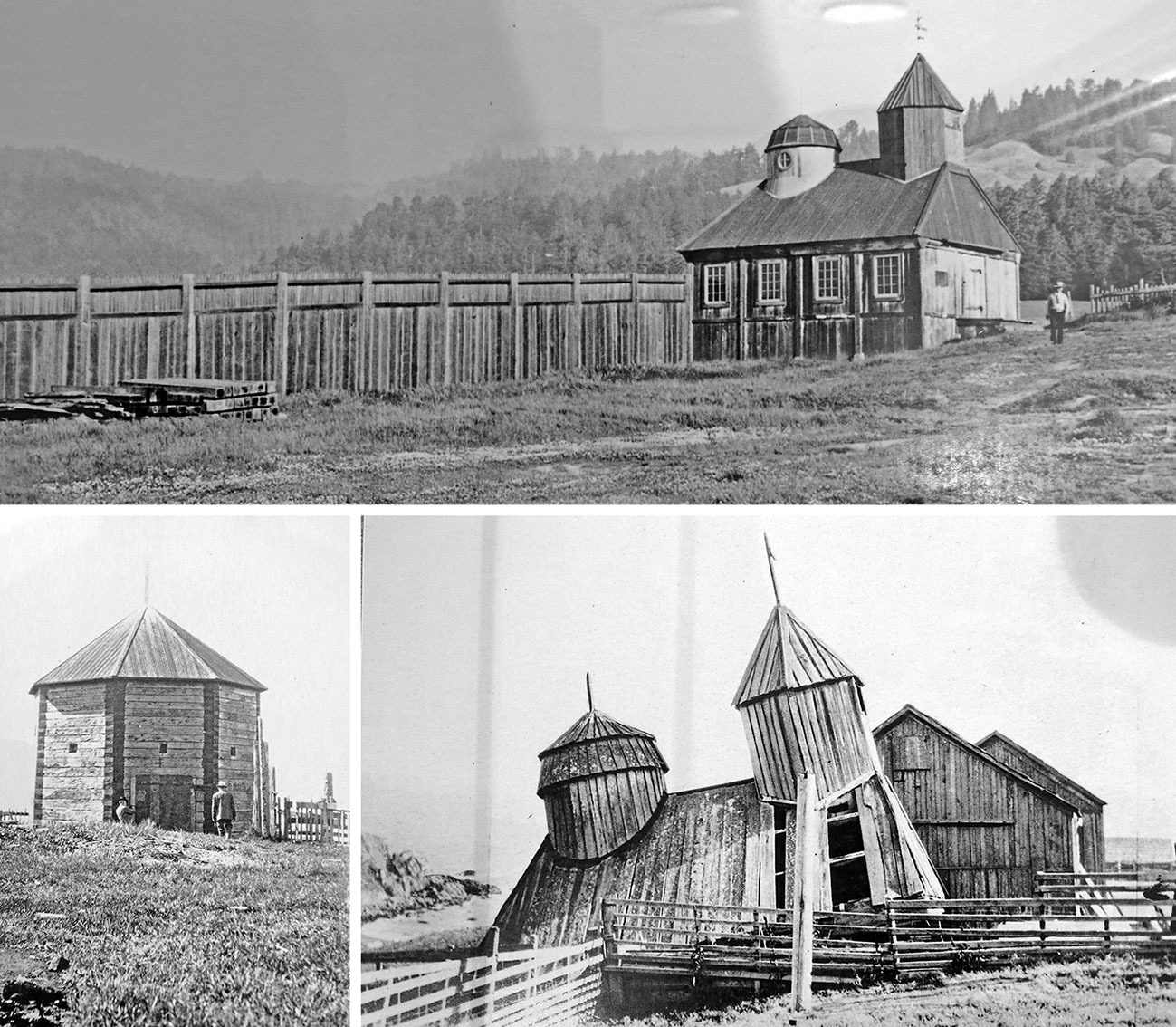
Славянку янки переименовали в Рашен-Ривер, а Росская крепость стала резиденцией управляющих Саттеровыми имениями Форт-Росс. В 1873 году она перешла в частные руки, а в 1906 наконец была передана штату как музей. Общее место многих статей о Форт-Россе - оды Америке, сохранившей чужое наследие, предстающее чуть ли не последней аутентичной русской деревянной крепостью. Это прямое враньё: мало того, что Форт-Росс не похож ни на что в русском зодчестве, так и сохранность его на самом деле даже по российским меркам весьма условная. В том же 1906 году крепость была разрушена землетрясением, основной удар которого пришёлся на Сан-Франциско, а часовня и вовсе сгорела дотла в 1970 году. Существующие ныне стены, храм, контора и дома двух комендантов (первого Кускова и последнего Александра Ротчева) - реплики с аутентичными элементами, кроме дома Ротчева, у которого аутентичен хотя бы сам сруб.
38.

Никуда не делись зато индейцы кашайя, язык которых в быту вытеснен английским, но в словарях его осталось немало странных слов вроде япалка, лоджка, кошкак или синица (пшеница). О современной жизни их глухой резервации есть большой и вероятно предвзятый текст от РИА "Новости": официальных кашайа (то есть имеющих специальные документы, дающие право на льготы) осталось около тысячи человек, их ранчерия (слово "резервация" они не любят) Стюарт-Пойнт стоит в глухой тайге за 70 километров от больших трасс, дорогу туда регулярно перекрывают поваленные ураганами секвойи, работы в общине нет, а вот алкоголизм и наркомания лютуют. Расположение вдали от дорог не даёт индейцам устроить привычные во многих резервациях придорожные казино, поэтому основной их заработок - народные промыслы. "Визитка" кашайя - украшения из раковин "морское ушко", которые музею любезно предоставили мастера Колин и Честер МакЛауды:
39.
Зато из того же текста можно узнать, что у индейцев остался ритуальный Круглый дом, а на кладбище стоят кресты - но не христианские, а равновеликие по 4 перекладинам: якобы, этот символ индейцы знали испокон веков. Вениаминов лишь изучал кашайцев, но не пытался крестить, и в итоге последним оплотом их идентичности осталось родное шаманство.
40.
А вот просто детское творчество с той стороны океана. Примечательно, что сама Иннокентия Веллманн связей с Россией не рвала, и буквально пару дней назад вновь посещала Ангу.
40а.
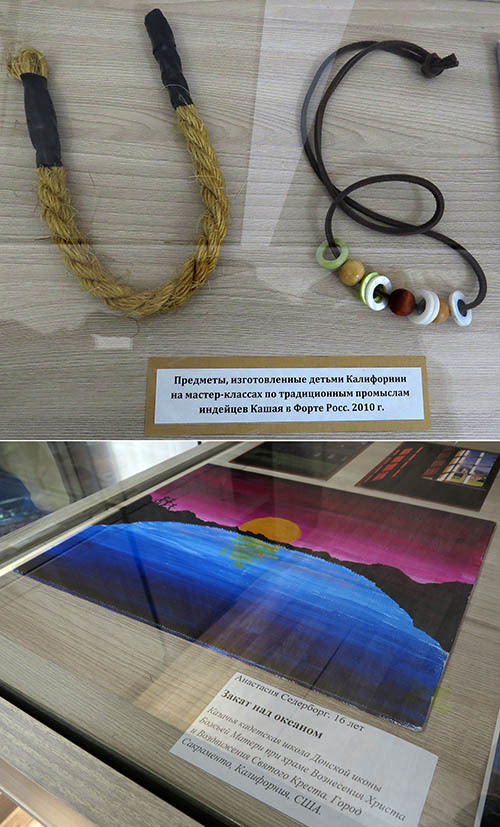
Напоследок покажу зал уже явно временных выставок - в августе это были русские народные костюмы:
41.
Плетение из серого льна:
42.
43.
Берестяные картины иркутской художницы Галины Откидач:
44.
И почтовые марки по мотивам истории Иннокентия Московского:
45.
На втором этаже музей есть ещё небольшая экспозиция, посвящённая Шишкинской писанице, которую можно тут же осмотреть в шлеме виртуальной реальности... но шлем, увы, предательским разрядился, успев показать мне лишь общий план.
46.
Так что настоящую Шишкинскую писаницу покажу в следующей части, как и лежащий ещё дальше старый Верхоленск.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Давыдово.
Давыдово - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: Качугский район Сибирь дорожное Дальние страны Русская Америка Иркутская область индейцы этнография деревянное русские (этнография) |
Качуг. Где Лена была Леночкой |
Качуг - районный ПГТ (6,5 тыс. жителей) в 260 километрах от Иркутска, старинному тракту из которого через этнографичный Баяндай была посвящена прошлая часть. Нынешний Качуг выглядит колоритным и крепким сибирским селом без выдающихся достопримечательностей, однако в истории Сибири он занимает особое место: хотя Лена здесь больше похожа на Леночку, на протяжении сотен навигаций именно из Качуга начиналось судоходство вниз по великой реке.
На въездном знаке Качуга с вводного кадра - в общем-то, его исчерпывающий исторический обзор. По меркам Верхоленья, которое русские начали заселять уже в 1640-е годы, основанный в 1686 году Качуг скорее молод, чем стар. На берегах Лены он даже не самый верхний: примерно в 30 километрах восточнее на правом берегу реки стоит крепкий куст деревень вокруг села Бирюлька, совершенно важскую по своей архитектуре деревянную церковь в котором я показывал (увы, лишь на архивном фото) в конце прошлой части. Первой по течению Лены можно считать входящую в этот куст деревню Малая Тарель. Однако к дате на въездном знаке прилагается герб, на котором изображён паузок - такой же символ ленского судоходства, как у варягов драккар, а у эллинов трирема. Именно Качуг оказался идеальным местом, чтобы год за годом строить тут одноразовый флот, накапливать его в защищённом от ледоходов месте и отправлять вниз по течению во время короткого половодья. Издали Качуг выглядит горой домов, похожей на правильную полусферу, но то - лишь половина Качуга: у посёлка Лена распадается на два рукава, между которыми на 3 километра в длину и на 1,5 километра в ширину раскинулся совершенно плоский остров. Как я понимаю, на нём и рубились суда, а затем их просто подхватывал паводок и уносил со всем добром иркутских купцов и самими купцами в Киренск, Олёкминск, Якутск, а то и в Жиганск и Булун за полярным кругом...
2.
Первыми судами Лены были эвенкийские лодки, вторыми - струги казаков Пантелеймона Пянды и Василия Бугра, проникавших сюда в 1620-30-х годах ниже по течению из Илима и Нижней Тунгуски. Уже в 1640-х годах, однако, на Лене появились остроги и купеческие города, в том числе воеводский Якутск, из которого Россия покоряла Дальний Восток от Чукотки до Приамурья. Как забираться в изолированный бассейн Лены - волоками через Илимск и Усть-Кут или сухопутными трактами из Балаганска и Иркутска, - история тогда ещё не показала, но организация судоходства на огромной реке уже выглядела необходимостью. Ниже Якутска с ней справлялись поморские кочи, фактически бывшие судами класса "река - море". В Верхоленье же царь переселял не только пашенных крестьян из северных губерний, чтобы те заготовляли хлеб для новых воеводств, но и волжских плотников, мастеривших здесь привычные им барки и расшивы. Именно с волжских судов начиналась и русская деревянная резьба, так что видимо рукой волгаря сделана вот эта очаровательна русалка из музея в Олёкминске:
3.
Однако волжские суда для ленского судоходства были слишком дОроги и недостаточно прочны, и практически без изменений тут прижились разве что шитики - длинные ладьи с крытой палубой:
4а.
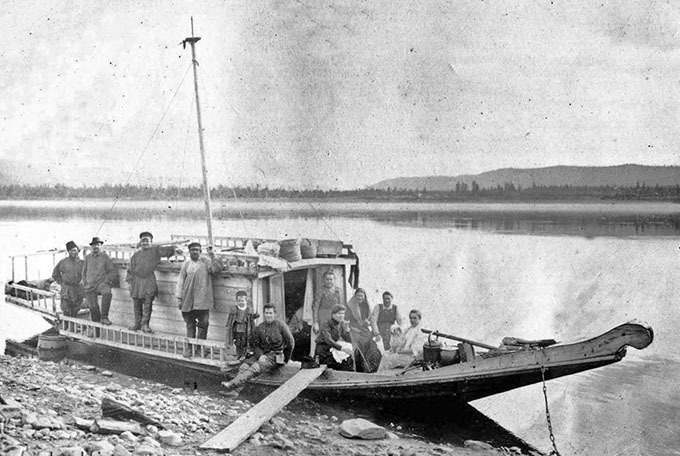
Волжская барка же эволюционировала в два типа ленских судов - карбаз и паузок:
4б.
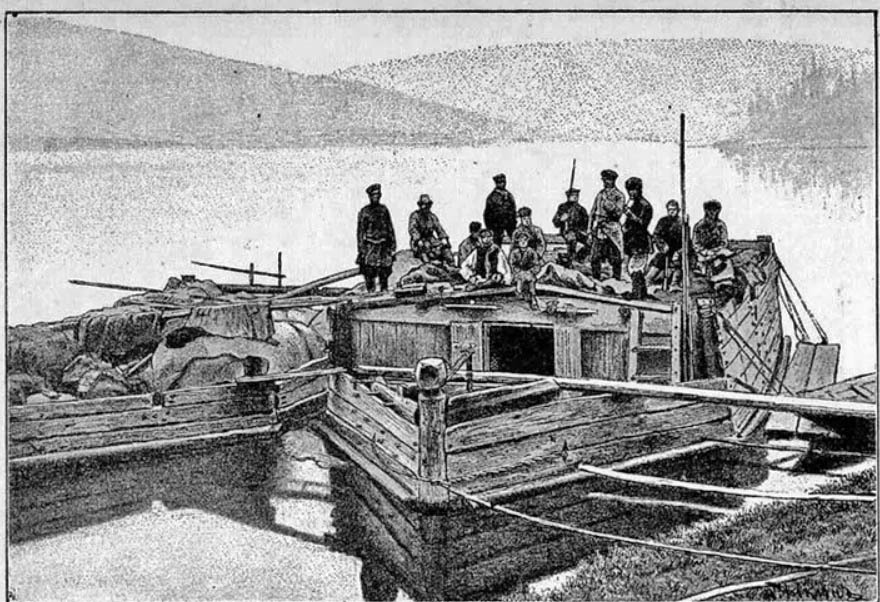
Пятиугольные, низкобортные, очень широкие, сбитые словно нарочито грубо, на без малого три века они стали главным транспортом Лены. Карбаз (пишется именно так, ибо к поморским лодкам-карбасам никакого отношения не имеет!) представлял собой по сути обычную баржу:
4в.

Паузок же, запечатлённый на гербе Качуга, отличался от карбаза в первую очередь крытой палубой, заодно удваивавшей полезную поверхность:
5а. фото из музея в Олёкминске.

Сами паузки делились на 4 типа: проходные (для перевозки товаров в ящиках, мешках и бочках), хлебные (у него под крышей были два сусека, засыпавшихся сверху зерном или мукой), кладовые и торговые - последние два типа работали как правило в связке и представляли собой самые что ни на есть плавмагазины с прилавками, каютами счетоводов и вынесенными на отдельное судно складами.
5б. фото из музея в Олёкминске.
Ну а в совокупности срубленная между навигаций флотилия превращалась в Ленскую сплавную ярмарку, которая с половодьем покидала Качуг и медленно шла вниз по Лене в Якутск, надолго останавливаясь в купеческих городках вроде Киренска или Олёкминска. Карбаза и паузки двигались одним караваном, порой сцепленные крытыми переходами над водой, и лес треугольных мачт привлекал взгляд издали. В Якутске большинство судов заканчивали путь, и лишь часть из них, этакий "северный завоз" царской эпохи, спускались до Жиганска и Булуна:
5в.
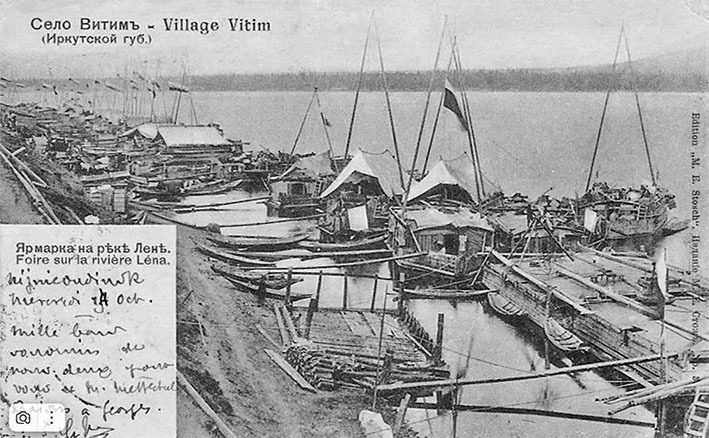
Карбаза и большая часть паузков были одноразовыми - как и на Волге, на Лене верховья куда богаче лесом, чем низовья, и сплавившись к конечному пункту, суда разбирались на стройматериал и дрова. Единственным исключением были торговые паузки - во-первых, они сами по себе более сложные и дорогие в строительстве, а во-вторых, иркутские купцы ехали на Лену не только продавать, но и покупать. Рыба и меха с низовий, конечно, имели многократно меньший объём, чем зерно, овощи, промтовары верховий, и всё же транспортировка против течения выходила куда более сложной задачей, чем сплав. Для этого паузкам и нужны были мачты - по северному ветру они шли под парусом. Вдоль низких берегов с мелководьями их тянули бурлаки, труд которых на Лене был куда тяжелее, чем на реках Европейской части - бечевников (оборудованных бурлацких троп) здесь никто не прокладывал. Зато работу бурлака упрощали треугольные мачты - через них, с выходами на нос и корму, 70-метровая бечева была пропущена так, что рабочие могли идти по берегу буквально на одной линии с судном. Чаще же единственным способом буксировки был завоз: к каждому паузку прилагался каюк, мелкая быстрая лодка, и вот на ней бурлаки забрасывали вперёд по течению якорь, а затем подтягивали судно к нему. Якоря на Лене использовались простейшие - тяжёлые камни, обвязанные верёвкой: своего производства металлических якорей на Лене не было, а доставить такой якорь сушей выходило дороже, чем построить само судно. Ну а в итоге против течения паузки двигались в лучшем случае со скоростью пешехода:
5г.
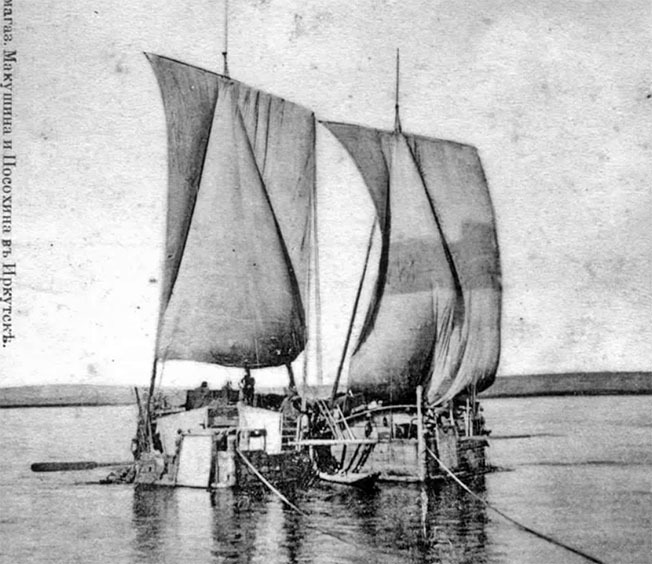
И в общем ленское судоходство, об истории которого есть отличная, но ГИГАНТСКАЯ статья, крепко засиделось во временах Садко, и лишь золотая лихорадка Олёкмы и Витима вывела его из Средневековья (см. здесь). В 1861 году, после трёх лет изготовления на бельгийском заводе Джона Коккериля, доставки по частям на подводах через всю Сибири и сборки в соседнем Верхоленске, на волны сибирской реки вышел первый пароход "Святой Тихона Задонский" байкальского судовладельца Ивана Хаминова. В 1863 году с той же верфи Коккериля был доставлен пароход "Первенец" Александра Трапезникова, иркутского купца, основным бизнесом которого были уже непосредственно Ленские прииски. Эпоха пароходов пришла на Лену поздно, однако - стремительно, а в облике их было что-то неуловимое от тех же от паузков:
5.
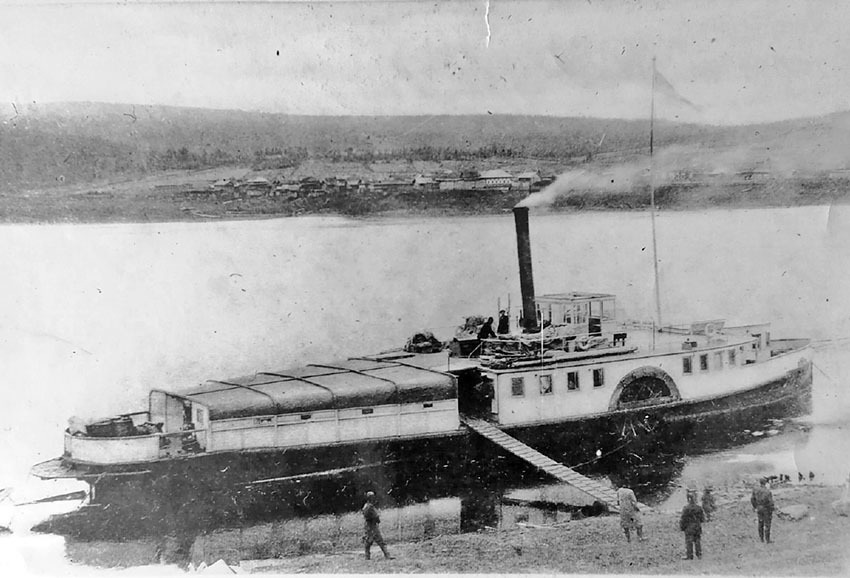
Что же до Качуга, то его расцвет пришёлся на вторую половину 18 века: в 1738-72 годах по случаю Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, был обустроен Якутский тракт длиной 2788 вёрст, короткая сухопутная часть которого вела из Иркутска сюда. Уже в начале 19 века соперником ему стал Шалашниковский тракт - о том, кто такой этой Шалашников, яндекс с гуглом ничего не знают, но рискну предположить, был он купцом, проложившим частную дорогу на более выгодных, чем у государства, условиях. В разных местах этот тракт называли так же Балаганским или Тыреть-Жигаловским: началом его считался либо уездный Балаганск на Ангаре, либо станция Тыреть на Транссибе близ Заларей, а в наши дни - и вовсе Усть-Уда. Как бы то ни было, со стороны Москвы этот тракт начинался за пару сотен километров до Иркутска, а сам выходил на треть короче Качугского тракта: менее 200 километров почти по прямой от Ангары до Лены. Концом тракта же в любом варианте выходило Жигалово - ныне ещё один ПГТ (4,9 тыс. жителей) в 130 километрах севернее Качуга, с 19 века бывшее его более успешным конкурентом. На сотню лет Жигалово стало главным портом ленских пароходов, но самыми многочисленными их пассажирами были рабочие, ехавшие на Бодайбо, а важнейшим грузом - оборудование для золотых приисков. Качуг, как и прежде, остался портом иркутских купцов и базой северного завоза - последний караван карбазов ушёл отсюда в 1955 году, а вот такие вот суда их обгоняли:
6.

Левобережный Качуг, прежде деревня Куржумова за двумя руслами Лены и островом, разросся вокруг Качугской судоверфи "Дальстрой" - она была основана в 1933 году, а уже в 1935 году принесла селу Качуг статус посёлка городского типа. Полвека она строила суда всех речных типов от танкеров до пассажирских теплоходов, и в том числе землечерпалки - большинство "изделий" могли покинуть Качуг не просто в половодье, а лишь после работ по углублению дна. Тоннаж судов неуклонно рос, и уже в 1950-х годах главный ленский порт сместился ещё ниже - в Осетрово (Усть-Кут), ставшее крупнейшим речным портом всего Союза. Большую часть своей истории Качугская судоверфь существовала просто по инерции, которую и погасил приход капитализма: производство мебели тут осваивать начали ещё в Перестройку, а окончательно и бесповоротно верфь умерла уже в начале 1990-х. Её площадка за островом густо заросла лесом, среди которого, как храмы в дебрях Камбоджи, стоят уцелевшие цеха середины ХХ века:
7.
Поодаль дымит новое главное предприятие Качуга - там китайцы делают "евродрова" из прессованных опилок:
8.
Левобережный район я видел лишь из окон попутных машин. Центр Качуга - на правом берегу, и нашим пристанищем тут стала гостиница с карикатурно-громким, как и полагается в глуши, названием "ИМПЕРИЯ". По сути даже не гостиница, а раскинувшийся на пол-квартала постоялый двор с номерами, кафе, автосервисом, баней и детской площадкой. Ещё один живой преемник почтовых станций Якутского тракта:
9.
Гостиница выходит на транзитную Красноармейскую улицу, по которой пара кварталов вверх до местной площади Ленина. На ней есть Дом культуры имени Светланы Рычковой, о которой я смог нагуглить лишь то, что лет 15 назад она была его директором:
10.
Да куда больше похожее на типовой сталинский ДК здание, на викимапии отмеченное как ДЮСШ, а фактически занятое районной библиотекой:
11.
С его крыльца нас пригласили внутрь, и я не стал отказываться:
12.
В фойе - фотографии и целый цикл цитат модных современных авторов о Сибири:
12а.
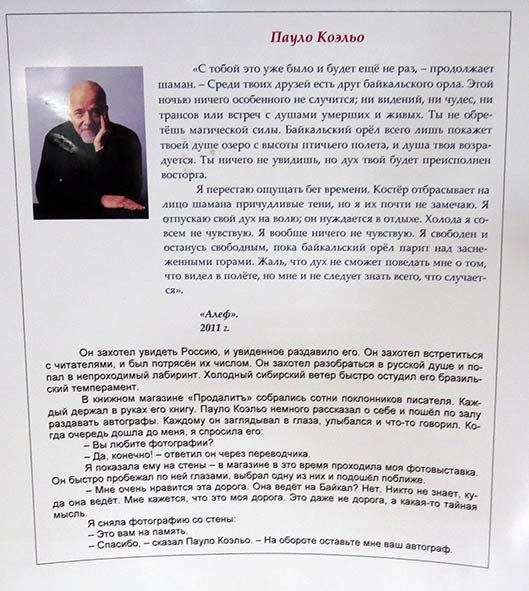
По сути дела ДК в Качуге отвечает за "динамическую" культуру (песни, танцы, ремёсла и т.д.), а библиотека - за стационарную: помимо собственно книгохранилища здесь находятся сувенирная лавка, туринфоцентр, где можно заказать экскурсию на Шишкинские писаницы (за смешные 500 рублей с человека вместе с дорогой... но минимум за несколько дней - единственная машина библиотеки не стоит без дела)... а в первую очередь - музей, обустроенный в 2016 году в бывшем спортзале:
13.
Его экспозицию я бы описал как "всего понемногу" - квартира времён расцвета Качугской судоверфи:
14.
Старожильческая изба:
15.
Дополненная предметами сельского быта:
16.
И даже небольшая экспозиция, посвящённая местным эвенкам - в районе с 17 тысячами жителей их осталось две-три сотни человек в селениях Тырка, Чинонга и Вершина Тутуры, которая была основана в 1934 году как культбаза.. Впрочем, с внешним миром этот угол в 60км от Качуга связывает только зимник, и судя по вот этой статье 2006 года, по крайней мере 15 лет назад эта община, в отличие от подавляющего большинства эвенков, ещё не утратила себя окончательно. Эвенки Верхоленья живут таёжной охотой и заготовкой мехов, а старики в позапрошлом десятилетии даже помнили родной язык и ругали школьную учительницу за то, что детям преподают совсем уж мёртвый литературный эвенкийский вместо здешнего диалекта, из которого отдельные слова (например, названия охотничьих предметов) оставались тогда в обиходе.
17.
Помимо эвенков, тут есть и буряты - как привычные в Прибайкалье эхириты, так и хоринцы, ныне составляющие основу забайкальских бурят. Ведь ещё в Средние века хоринцев выжили из Прибайкалья булагаты (ныне два этих племени составляют примерно по 1/3 от всех бурят), и если большинство из них ушли на юг и описали причудливый круг через Монголию и Маньчжурию, то несколько родов откочевали на Лену, подобно якутам, которых их предки ещё раньше выжили вниз по реке. Якуты здесь тоже представлены - но сугубо косвенно: на скалах ниже по Лене начертана лошадь, теперь попавшая на герб Республики Саха. Ну а в целом присутствие иных народов в Качугском районе почти не ощущается - освоенное русскими давно и глубоко, и не ставшее Сибирской Атлантидой, в отличие от таких же старожильческих углов Ангары и Илима, Верхоленье кажется филиалом Русского Севера. В том числе - по обилию деревянных церквей типично поморской архитектуры, ни одна из которых, увы, не сохранилась до наших дней, но многие попали в объектив дореволюционных фотографов:
18а.

Не знаю точно, где в Качуге располагался храмовый комплекс из двух Вознесенский церквей - деревянной Старой Вознесенской (1784) и неказистой каменной Новой (1890-93), перед возведением которой куда-то исчезла отдельно стоявшая колокольня.
18б.

От площади Ленина до Лены на длинных качугских улицах осталось много старых домов:
18.

С типичными для Иркутской области наличниками в духе барокко:
19.
Попадаются, однако, и деревянные кружева, и даже их современные вариации:
20.
В особенности - местные сетевые (!) магазины "Крестьянский торговый дом" в резных деревянных домиках:
21.
Сама эта сеть, вроде бы не выходящая за пределы Качугского района, существует с 1999 года, однако на вентфасады и сайдинг не перешла и за четверть века.
22.
В целом, Качуг выглядит крепким и зажиточным сибирским селом. Жизнь тут мне кажется довольной бедной, но старожильческая основательность не оставляет места зримой нищете.
23.
Деревянная в Качуге и церковь Иннокентия Московского (1997), само посвящение которой показательно - этот святитель, миссионер и иерарх 19 века, причастный к крещению Аляски, основанию Благовещенска и строительству Храма Христа Спасителя, родом из деревни Анга по соседству.
24.
В церковном дворе - самодельный мемориал Победы, самый скромный и простой, что я когда-либо видел:
25.
Дальше по той же улице Каландаришвили - детская школа искусств, в окнах которой жизнь заметна:
26.
Улица Каландаришвили - вторая от Лены после улицы Ленина и очевидно главная в посёлке. Она приводит в исторический центр, где огрызки брандмауэров напоминают о прежде стоявших на этой улице куда как более капитальных домах:
27.
По архитектуре торговых рядов, словно купленных по дешёвке у какого-нибудь остепенившегося ковбоя на американском Диком Западе, можно предположить, что центр Качуга сгорел в Гражданскую войну и отстроился в эпоху НЭПа.
28.
Самое примечательное здание этого центра - натуральный острог. Причём не такой, какими были Иркутский, Братский или Илимский остроги, а такой, в который сажали борцов за счастье народа, ну и всяких душегубов ещё иногда. Что особенно впечатляет, острог используется по прямому назначению - ныне тут
29.
Напротив, до улицы Ленина, за которой балконом над Леной расположился мемориал Победы, раскинулась площадь - вероятно, на месте снесённых церквей:
30.
Судя по памятнику, единственный дом на ней - это Штаб Каландаришвили, в списке памятников архитектуры, впрочем, отмеченный по другому адресу. Бородатый грузин Нестор Каландаришвили родом из солнечного Кутаиса успел побыть эсером, умеренным националистом (вернее, социалистом-федералистом), а попав после Гурийского восстания 1905-06 годов в Сибирь, проникся идеями анархо-коммунизма. Густо заросший и уже не молодой среди 25-летних революционеров, в 1917 году он обзавёлся партийной кличкой Дед и примкнул к Центросибири. В октябре 1918 году его отряд был разгромлен под Кяхтой, но укрывшись в Монголии, вскоре суровый сибирский грузин собрал верных людей и подался в красные партизаны. Летом 1919 года отряд Деда работал вдоль Транссиба, пустив под откос 8 поездов и взорвав мост через Китой у нынешнего Ангарска. Осенью анархо-коммунисты ворвались в Александровский централ и выпустили на волю его заключённых. В здании на качугской площади Каландаришвили обосновался зимой на 1920 год, когда Верхоленье превратилось в настоящую партизанскую республику посреди распадавшейся Белой Сибири. К лету его партизанский отряд встретил Народно-освободительную армию Дальневосточной республики и стал частью красных войск. В 1921 году грузин отправил в Свободный возглавлять корейских партизан, которые в итоге устроили локальную корейскую войну между националистами (рвались освобождать родину от японцев) и коммунистами (рвались освобожадть весь мир, включая и родину, и японцев), и под началом Каландаришвили Северная микро-Корея тогда победила Южную. Наконец, в 1922 году Каландаришвили двинул отряд подавлять восстание в Якутии, где и погиб - по странной иронии своей судьбы, от партизанской пули. Ну а в наши дни редкий населённый пункт от Иркутска до Якутска обходит без улицы Каландаришвили. Что же до портретов на здании штаба, то удивляться им не приходится - в Качугском районе позиции коммунистов были сильны всегда, а в последние годы весь российской восток интенсивно алеет.
30а.

Ещё несколько зарисовок окрестных улиц с архитектурой безвременья:
31.
32.
33.
Обойдя по ним круг, вернёмся на площадь острога и штаба. Рядом с ней два рукава Лены вновь сходятся в единое русло, над которым нависает тонкий пешеходный мост, из центра (на фото) ведущий к маленькому сиротливому кварталу за рекой:
34.
Вот она, Леночка - подросток великой сибирской реки:
35.
Руины промзоны справа - это всё, что осталось от пожалуй главной достопримечательности посёлка: Качугской башни. Так называли грандиозный для своего стройматериала деревянный элеватор 1910-х годов, дополненный такой же деревянной мельницей. Увы, в 2012 году всё это великолепие сгорело:
36. скриншот из вот этого видео на Ютубе.

Так что пойдём за реку, чтобы посмотреть вон на тот жёлтый дом, а вернее - различимую отсюда чёрточку между левым и средним окошками. Она отмечает уровень воды во время паводка в 1934 году, а заодно объясняет, как по Леночке, которую, кажется, местами вброд перейти можно, сплавлялись паузки, колёсные пароходы и дизель-электрические танкеры. Видимо, по той же причине рядом с этим домом в 1961 году поставили памятный знак столетию Ленского объединённого речного пароходства:
37.
Стоило нам спуститься с мостика в низменное заречье, как нас атаковали натурально полчища комаров из приречных плавней. На правом берегу - красные слоистые обрывы, характерные в пейзаже Верхоленья:
38.
И немало таких обрывов будут в следующих частях - проходя посёлок насквозь, Качугский тракт продолжается дорогой в Жигалово. В кварталах Качуга дорога порядком набирает высоту, открывая красивые панорамы левобережья. Но окраины Качуга я опять же видел только из окон попуток и почти не снимал. Вот разве что школа необычного проекта, типового кажется для райцентров на севере Иркутской области (что-то похожее я прежде видел в Бодайбо):
39.
И орёл на ограде очередного постоялого двора у самого выезда:
40.
Впрочем, прежде, чем ехать дальше вниз вдоль Лены, ненадолго отклонимся от маршрута - в следующей части покажу Ангу, родное село Иннокентия Московского и благодаря такому земляку - просто очень впечатляющее место.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница.
Качугский район. Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Давыдово.
Давыдово - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: эвенки Качугский район Сибирь дорожное транспорт Иркутская область суда и корабли этнография деревянное речной транспорт |
Качугский (Якутский) тракт. От Ангары до Лены |
Географически Лена начинается на безымянной горе (2023м) близ перевала Солнцепадь (1245м) в 7 километрах от Байкала. В путеводителях любят писать, что один-два поворота - и Лена была бы не великой сибирской рекой, а одним из множества горных ручьёв, впадающих в Славное море: анти-Леной можно считать речку Шартлай на другом склоне. Вот только Байкал лежит между отвесных хребтов: чтобы достичь его, Лене пришлось бы крепко нарушить законы физики, направив свои воды вверх через гору. Однако первые две сотни километров она не могучая Лена, а легкомысленная Ленка, мелкая порожистая горная река, на 5% своей протяжённости сбрасывающая 3/4 высоты.
Для людей отправной точкой Лены можно считать Качуг, райцентр в 260 километрах северо-восточнее Иркутска. А может быть - и сам Иркутск, откуда выходил Якутский тракт, большей частью проходивший по воде в различных её агрегатных состояниях. Его сухопутный участок, менее десятой части исторической длины, ныне известен как Качугский тракт, и с него я начну свой рассказ о долгом путешествии к морю Лаптевых.
Сейчас мне даже сложно посчитать, сколько раз я покидал Иркутск Качугским трактом! Впервые это случилось в 2012 году, когда в -45 градусов я отправился с молодым спесивым поляком посмотреть на Вершину - польское село в глубинах Усть-Ордынского округа. В 2020-х годах той же дорогой я трижды ездил на Ольхон - хрустальной осенью смотреть сам этот крупнейший в России пресноводный остров, дымным летом посетить шаманский тайлган и вновь зимой гулять по льду Байкала. Чаще всего путь начинался с автовокзала, и я успел выучить наизусть мелькавшие мимо кварталы и церкви Старого Иркутска, мрачное Радищевское предместье вдоль бесконечной улицы Рабочего Штаба и нанизанные на неё же бесчисленные авторынки и автосервисы объездной дороги за поворотом на Иннокентьевский мост. Конец Иркутска - мрачноватая падь Топка, над которой эффектно нависает Топкинский микрорайон: из всех въездов в город этот, пожалуй что, самый эффектный.
2.
Первые полсотни километров Качугский тракт сложно отличить от какого-нибудь Щёлковского шоссе - пробки, торговые центры, стелы колхозов и деревеньки в прозаичном среднерусском пейзаже:
3.
Среди которых особенно примечателен Оёк - одно из цикла "декабристских сёл" с Успенской церковью (1812-45), первоначальный купол которой, уничтоженный пожаром в 2006 году, имел конструкцию бурятской юрты.
4.
В Оёке от Качугского тракта ответвляется дорога к Вершине, а ещё через дюжину километров, за селением Жердевка (запомните его!) прозаичный в своей пригородности Иркутский район сменяется загадочным в своей бессмысленности Усть-Ордынским Бурятским округом. На 22 тысячах квадратных километрах которого вот эта стела - без преувеличения, одно из самых примечательных сооружений. В 1937-2008 годах числившийся отдельным регионом, фактически Усть-Ордынский Бурятский автономный округ был среди регионов России этаким поручиком Киже: лишённый крупных производств, важных месторождений, выдающихся достопримечательностей, а в последние полтора десятка лет даже городского населения (в 1992 году его райцентры, числившиеся ПГТ, разом сделались сёлами), УОБАО фактически существовал лишь на бумаге. Буряты, для которых он создавался, не были тут большинством: хотя округ охватывал 3/4 их прибайкальской общины (77 тыс. человек), среди 139 тыс. его жителей на титульный народ приходилось лишь 40%. И даже большинство его райцентров лучше всего сообщаются через Иркутск. Без слова "автономный" статус округа сделался ещё загадочнее: это уже не регион, а "территория с особым статусом", вот только в чём же этот статус заключается - кажется, не сможет объяснить никто.
5.
Но при всём том граница бывших регионов на Качугском тракте вполне наглядна - в нескольких километрах от стелы тайгу словно разносит ветром, обнажающим просторную степь. Или, быть может, ополье - в таких же участках лесостепей среди лесов Оки и Верхней Волги зарождалась когда-то Россия. Не впечатляющая красотой пейзажей или обилием древностей, эта степь, вместе с соседним Приольхоньем за Приморским хребтом - на самом деле ключевое место всей Восточной Сибири, откуда разошлись по степям, тайге и тундрам три её крупнейших коренных народа.
6.
Первыми были эвенки, в китайских хрониках известные как увань, в 6 веке вдруг объявившиеся в диких степях Забайкалья. До того же тунгусские племена жили именно в Прибайкалье, а когда и как они в этой степи оказались - наука не знает до сих пор: то ли с Алтая пришли, как и народы половины мира от индейцев до тюрок, то ли (и даже вероятнее) здесь и самозародились. 1500 лет назад, однако, тунгусы покинули родную степь, отступив на восток. Те из них, что обошли Байкал с юга, позже были известны как мурчены, конные эвенки, грозные степные кочевники, в российском Забайкалье растворившиеся среди русских (гураны) и бурят (хамниганы), но остающиеся большинством эвенкийской общины в Китае. Другие переселенцы обошли Байкал с севера, став душой тайги - орочоны, оленные эвенки, из языка которых разошлось по всему миру слово "шаман", хоть и малочисленны (50 тыс. человек), а расселены от Енисея до Сахалина на пространстве размером с Австралию. Ну а выжили тунгусов с их родной степи самые что ни на есть хулиганы: как народ гулигань в китайских хрониках фигурируют воинственные кочевники курыкане. В арабских хрониках они называются кури и награждаются эпитетами вроде "необузданные варвары" и даже "людоеды". Традиционно их считают тюрками, одним из племён енисейских киргизов, с родных Саян ушедших не в Среднюю Азию, а на Байкал. Ещё они известны как Уч-Курыкан, то есть Курыканское Трио: схожие в религии, образе жизни и материальной культуре и выступавшие в любой войне с чужаками как единая орда, курыкане состояли из трёх обособленных общин - утвердившихся здесь тюрок, подчинившихся им эвенков и первых монголов, только начинавших проникать в эту степь. Во главе каждой орды стояли вожди-тегины, один из которых во время больших войн избирался Великим Тегином. Всего курыкане могли выставить около 5 тысяч всадников, но конница эта приводила в ужас даже арабов и их среднеазиатских союзников. У курыкан была особая порода лошадей, "с головы похожих на верблюда", о которых при дворе Танского императора слагали поэмы. Курыкане строили простейшие крепости, стены и дозорные посты из каменных плит без раствора, но доктрина их явно была наступательной - в первую очередь преуспели они в металлургии. В сыродутных горнах с кожаными мехами курыкане получали почти чистый (99,4%) металл, позволявший оснастись все пять тысяч всадников первоклассным оружием. Не удивлюсь, если бог стали Кром из "Конана Варвара" был вершиной курыканского пантеона, но след курыканских предков и потомков по всей Сибири выдают сэргэ - ритуальные коновязи как для земных лошадей, так и для бесплотных коней дружественных духов.
7.
Ну а кто ставит у домов сэргэ? Алтайцы, буряты и якуты. Первые в своих горах немногочислены, а вот другие - это два крупнейших народа Восточной Сибири, каждый по 400 тысяч человек, ставшие не то чтобы даже потомками, а наследниками курыкан. На прошлом рубеже тысячелетий в Прибайкалье всё настойчивее проникали молодые и потому более агрессивные монголоязычные племена икересов (эхиритов) и хори-тумэтов, которые вряд ли сразили курыкан в бою: скорее, к 11 веку монгольский компонент просто стал господствующим в курыканском трио. Принявшие такой порядок вещей курыкане смешались с пришельцами, превратившись в бурят, а остальные ушли вниз по Лене, где сойдясь с таёжными народами вроде эвенков дали начало якутам. Переселение же из Великой Степи в уютную степь Прибайкалья продолжалось: в Чингисхановы времена сюда пришло ещё одно племя булагатов, и степь сделалась слишком тесной для трёх племён. Малочисленные эхириты подчинились булагатам, а хоринцы - снова ушли несколькими волнами, и описав причудливый круг через Монголию и Маньчжурию у границы с Кореей, в 16-18 веках обосновались в Забайкалье. Отсюда, впрочем, их предки ушли не совсем: в некоторых сёлах Усть-Орды и Верхней Лены по сей день живут буряты с фамилиями хоринских родов. Наконец, в 17 веке в эту степь пришёл ещё один, совсем уж неожиданный для сердца Азии народ - разумеется, русские. Булагаты, которые прежде теснили тюрок и неуклонно двигались в сторону Енисея, приняли господство саганхаана (Белого царя) лишь после нескольких коротких войн. Хоринцы и вовсе увидели в русских защитников и стали опорой России в байкальской стороне. И дело тут в том, что русские не стали никого выживать, по крайней мере в масштабах всего народа: в прибайкальском ополье впервые появились земледельцы, которым было нечего делить со скотоводами. Ныне забайкальские хоринцы и прибайкальские булагаты спорят за главенство среди бурят - на каждое из этих племён приходится по трети народа, но булагатский тотем Буха-нойон (Князь Бык) слывёт всебурятским заступником.
8.
Два прошлых кадра сняты у поворота на Усть-Ордынский - ныне заурядный районный посёлок, в котором ничего не напоминает о том, что когда-то он был центром региона. Усть-Ордынский вытянут вдоль тракта и прекрасно с него виден, вот только по большей части отделён от дороги речкой Куда - от поворота до центра посёлка порядка 7 километров. Всадник (1972) отмечает поворот, а Буха-нойон (2020) - позную (бурятское кафе) на другой стороне дороги. В 2020 и 2021 годах я видел её строящейся, а в 2022 она не просто открылась, а готовилась встречать с песнями и плясками делегацию какого-то форума, ехавшую на Ольхон:
9.
Фольклорную команду представляли бурятки, русские и кажется татарки - в ХХ века Прибайкальскую степь заполонили совсем уж экзотические народы вроде волжских татар, чувашей, украинцев, белорусов, литовцев, евреев или поляков.
10.
Усть-Ордынский стоит всего-то в 60 километрах от Иркутска, а значит - ехать ещё далеко. Просторные степи и уютные долины рек способствовали тому, что изначальный путь на Лену через волоки Илима и Куты уже к концу 17 века сменился сухопутным трактом. Поначалу - скорее народным, накатанным теми, кто не хотел на пути от Иркутска до Якутска делать тысячевёрстный речной крюк. В 18 веке, однако, именно в Иркутске как самом развитом городе Восточной Сибири готовила беспрецедентная по масштабам тогдашнего мира Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга. Гвозди, скобы, снасти и паруса для кораблей изготовлялись на заводах Тельмы, и именно их транспортировка стала для государства поводом обустроить Якутский тракт официально. Трасса длиной 2766 вёрст, из которых более 9/10 приходилось на ленские воду и лёд, была размечена в 1738 году, а в 1743-72 годах на ней было организовано 35 почтовых станций. В неплохо обжитых верховьях Лены ямщиками стали местные жители, а в среднем течение 33 семьи из других мест стали второй волной русского переселения в Якутию после казаков, и к 1810-м их станции разрослись до деревень. Ну а расцвет Якутского тракта принесла золотая лихорадка Ленских приисков, которую в 1862 году лишь ускорило появление пароходов, отправлявшихся из Качуга и Жигалова. Туда старатели добирались от Иркутска пешком да на попутных повозках, и с придорожного кабака крещёного бурята Петра Татаринова (Бадмы Хахалова) в урочище Харгана начинался и сам Усть-Ордынский.
11.
Реинкарнацией этих почтовых станций и кабаков я бы назвал Баяндай - "столицу" Качугского тракта, село-райцентр (2,6 тыс. жителей) в самой его середине, в 130 километрах от Иркутска. Вдоль тракта здесь тянется дюжина просторных кафе с позами, чебуреками и пирожными, и мне сложно теперь посчитать, сколько раз я в этих кафешках обедал: все автобусы, едущие по тракту хоть в Качуг и Жигалово, хоть в Бугульдейку и на Ольхон, обязательно делают тут получасовую стоянку. Зимний кадр я снял 24 февраля 2022 года, около 11 утра по Иркутску (6 по Москве или 5 Киеву), а потом зашёл в столовую и в ожидании своей очереди достал телефон глянуть новости...
12.
Жилая часть Баяндая, как и Усть-Орда, тянется по низине левее тракта - там он проходил до реконструкции в 1970-х годах:
13.
А новые здания школы и спорткомплекса напоминают, что название Баяндай в переводе значит "богатый простор":
14.
В 1922-25 годах именно Баяндай был центром Эхирит-Булагатского аймака (вокруг которого и собрался к 1937 году Усть-Ордынский Бурятский округ), и на роль центра малого региона явно годился куда как лучше Усть-Орды. В советское время посёлок развивался как центр агропромышленности:
15.
А на тракт вышел уже при капитализме - неожиданно красивый въездной знак у поворота теперь стоит в глубине застройки, а жилые дома у дороги если и попадаются - то редко и сплошь новые:
16.
Над трактом нависает сопка с довольно необычным храмом Михаила Архангела (2017), которая делит придорожный Баяндай на две явные части: со стороны Иркутска тянутся кафешки, со стороны Качуга - автосервисы:
17.
А потому без своей машины сложно осмотреть главную достопримечательность Баяндая: на дальнем краю села, там, где от Качугского тракта под прямым углом отходит Ольхонский тракт, быстро взбирающийся на таёжные сопки, в развилке двух дорог с 2011 года формируется небольшой музей деревянного зодчества. В 2020-22 годах я трижды (вернее, 6 раз, если считать туда-обратно) видел его из окон машин и автобусов, и лишь с четвёртый попытки, августовским утром по дороге в Качуг, наконец смог посетить:
18.
Пока что открывшийся в 2014 году Баяндаевский этнографический музей (это его официальное название) совсем не велик, особенно в сравнении с огромными Тальцами или Ангарской деревней: тут всего несколько построек, сгруппированных в 2 усадьбы. Ядро музея - конечно же, усадьба прибайкальских бурят, о сущности которой напоминают ворота с национальным орнаментом:
19.
Тут стоит сказать, что прибайкальские буряты обособлены от забайкальских настолько, что если бы не их исходная роль в бурятском этногенезе и убеждённость в том, что это они тут самые-пресамые буряты - они бы наверняка давно выделились в отдельный народ. За исключением хонгодоров из Аларской степи за Ангарой, они даже не знали буддизма - первые дацаны в Прибайкалье появились уже в постсоветское время. Шаманство тут, напротив, как нигде сильно, и даже в усть-ордынском музее настоящий шаман есть в штате экскурсоводов. В маленьких степях Прибайкалья не разгуляешься так, как в сухопутном океане Великой Степи, но зато по краям этих степей - тайга, большие реки и целый бездонный Байкал. Так что прибайкальские буряты - не очень-то и кочевники: как с нескрываемой гордостью скажет любой местный гид или краевед, здесь не держали даже войлочных юрт. Скотоводство эхиритов, булагатов и хонгодоров было больше отгонным между летними и зимними пастбищами, а сравнимую с ним роль играли охота и рыболовство. На далёкие пастбища или промыслы здешние буряты ходили с простенькими переносными жилищем вроде чума, а базовой их единицей были аилы (семейные хутора с угодьями) и улусы (родовые владения), к которым прилагались уже более сложные сущности - шаманы и святыни, календарные тайлганы (обряды) и родовые предания, ведущие к удха-узууру - первопредку. Жён брали только из других родов, а когда один род разрасталась так, что заполонял всю степь до горизонта, шаманы читали обряд разделения, по итогам которого отпочковывался новый род, старейшина которого становился удха-узууром. Название Баяндай возводят к такому удха-узууру крупного эхиритского рода, улусом которого с 1941 года стал небольшой, но самый богатый в УОБАО Баяндаевский район. Аил баяндаевского рода эхиритского племени и собран здесь из трёх построек. У входа - срубленный на прошлом рубеже веков амбар Михаила Мильхеева, привезённый в 2012 году из улуса Бахай в 20 километрах отсюда:
20.
Напротив - деревянная юрта (хурэ) Андрея Нохоева из села Отонхой Эхирит-Булагатского района. Построенная в 1880-е годы, она пока что главный экспонат в этом музее:
21.
Такое жилище буряты изобрели задолго до знакомства с русскими: приходя из монгольских степей в сибирские долины и понимая, что тут нет надобности кочевать, они строили юрты как привыкли, но только - не из жердей и тонкого войлока, а из сосновых и лиственничных брёвен, которые так хорошо держат тепло. По традиции, сруб юрты и её опоры из 4 столбов (тээнги) и балок (хараса) сооружались за один день всем улусом, а дальше, проставившись соседям угощением, семья своими силами наводила крышу и обустраивала интерьер. У бедняцких юрт было всего 4 стены, но канонична 8-гранная юрта с дверью (урда) на юг. Фундаменты из мощных "земляных брёвен" (газарай-модон) закладывалась лишь под четыре стены, в то время как другие 4 "сироты-стены" (унилэн-хана), сориентированных по сторонам света, лишь закреплялись между ними. Крышу клали лиственничной корой (холтохон) и дёрном, оставляя урхэ - отверстие над очагом из трёх камней дуле, которые, особенно северо-западный камень, становились домашней святыней хурэ. Уклон крыши тоже не был случаен: им определялся баланс между температурой (чем выше - тем холоднее) и качеством воздуха (чем ниже - тем больше в юрте дыма).
22.
Само же пространство в деревянной юрте было организовано точно так же, как в войлочной. На севере, сразу за очагом от входа расположена "чистая сторона" (хойто-тала или хоймор) с онгоном (духом-покровителем, кадр ниже) и северо-западным богатым углом, где стояли абдары (расписные сундуки с самым ценным). Онгона, между прочим, тут сделали в 2012 году преподаватели Баяндаевской школы искусств в подарок на 65-летие районной библиотеки, и я не знаю точно, почему он в итоге из библиотеки попал в музей:
22а.

На западе, слева от очага - мужская часть юрты, в музее отмеченная конской сбруей:
23.
Справа, на востоке - женская сторона, где представлены всякие прялки, бадьи да корзины, и в том числе самая крупная омулёвая бочка:
24.
Встречалась же семья в южной части юрты перед входом, где накрывался обеденный стол. Ну а в самых богатых хурэ, к коим относилась и юрта Нохоевых, были ещё и пристройки, здесь уже в чистом виде привнесённые русским влиянием, как например продолжающая женскую половину комната с печью, служившая пекарней и баней. Дата на врезке же - моя ошибка: она нацарапана не на юрте, а на омулевой бочке:
25.
Но богаче и удобнее юрты - изба, к началу ХХ века полностью перенятая прибайкальскими бурятами и ставшая их основным жилищем. Здесь дом привезён из улуса Шардай, и видимо был его последней уцелевшей постройкой в чистом поле - нынешние карты не знают такого села.
26.
Впрочем, какие-то отличия бурятской избы от русской всё же есть - так, её помещение делилось на две половины по печке.
27.
А предметы тут собраны, кажется, просто из разных богатых бурятских домов, будь то европейского вида шкафы, старые фотографии, буддийские гравюры или вездесущие онгоны:
28.
Да голова изюбря - тотема баяндаевцев с районного герба. По совместительству изба служит мемориальным музеем Владимира Борсоева - боевого бурята другой эпохи, Героя Советского Союза и гвардии полковника Великой Отечественной войны. На тех фронтах бурят-артиллерист сражался с июня 1941 года, прошёл Курскую дугу и из конца в конец всю Украину, брал Краков и Сандомирский плацдарм за Вислой, а вот на Одерском плацдарме герой закончил свой путь: при штурме Ратибора он был ранен в третий раз с начала войны, и эта рана оказалась смертельной: Борсоев умер 8 марта 1945 года, два месяца и день не дожив до Победы. Похоронили его на Холме Славы во Львове, а значит теперь его прах выброшен псам... Но родина - помнит.
29.
Вторая усадьба музея - внезапно, белорусская из основанного в 1908 году "столыпинскими" переселенцами села Тургеневка на Ольхонском тракте в 7 километрах от Баяндая. Возможно благодаря ссыльным полякам, которые неплохо обжились в Сибири и в следующих поколениях не особо стремились уезжать, Прибайкалье пользовалось особой популярностью у переселенцев из бывшей Речи Посполитой. Я уже упоминал по сей день польскую Вершину, а с месяц назад показывал Пихтинск - три деревни целого маленького народа голендров, происхождение которых по сей день загадка, в которой однозначно только то, что в Сибирь они ушли из под Бреста.
30.
Белорусская усадьба выглядит подзапущеной и какой-то недоделанной: не то что инфостендов, а даже простейших табличек тут нет. Два дома в ней кажутся явными новостройками и их занимают какие-то подсобки, а вот третий вполне аутентичен:
31.
Особенно в белёных и кружевных интерьерах:
32.
Причём сравнивая этот дом с постройками Строчицы (скансен близ Минска) или Румшишкеса (в Литве), могу констатировать, что жили сибирские белорусы по сравнению с соплеменниками на исторической родине не то что неплохо, а почти роскошно.
33.
И пока только сооружаются ещё две постройки, которых я не видел в прошлые приезды - почтовая станция (слева) и степная дума (справа). Я не нашёл никакой информации о том, откуда их перенесли, так что может быть это и новоделы, но - очень много говорящие об истории этих мест. Ведь почтовые станции с постоялыми дворами и конюшнями были основой Якутского тракта, вокзалами старинного пути...
34.
...а Степные думы - важной частью реалий тогда ещё не сформированной в отдельный регион Бурятии. Их система была учреждена в 1822 году на основе "Устава об управлении инородцев", принятого в далёкой столице Михаилом Сперанским. Тут стоит сказать, что национальные автономии в России появились задолго до советской эпохи, вот только, не создавая национальных регионов уровня губерний, царские чиновники всякий раз демонстрировали индивидуальный подход. В Астраханскую губернию наравне с уездами входили Калмыцкая степь и Внутренняя Киргизская орда, в Ставропольской губернии то же место занимала Территория Кочующих Народов из Трухменского и Дербетского приставств. В Сибири кочевники жили не то что с русскими чересполосно, а порой буквально на одних и тех же местах, разделив их по сельскохозяйственной специализации - даже волости, не то что уезды, тут были бы слишком грубым делением. А вот Степные думы оказались в самый раз: всего в разное время существовало 12 бурятских, 6 хакасских, 1 якутская (в 1827-38) и 1 эвенкийская (фактически тоже бурятская для хамниган Забайкалья) степные думы. Качугский тракт проходил через владения учреждённой в 1824 году Кудинской степной думы эхиритов и булагатов, которая заседала в Жердевке - следующем от Иркутска селе после Оёка.
35а.

Думы управлялись советом выборных или наследственных старост, во главе которых стоял тайша. Изначально этот титул означал не Чингизидов, но потомков чингисханова рода Борджигинов по женской линии, а среди калмыков тайшами называли просто князей. Бурятам этот титул почти не известен, и именно русская администрация ввела его в обиход. Но судя по старому фото на кадре выше и атрибутам из Усть-Ордынского музея с кадра ниже, бурятские тайши исправно вжились в роль князей. И, конечно, были очень недовольны, когда государство начало отбирать у них власть: с конца 19 века самоуправление Степных дум сменялось инородческими управами, полностью унифицированными с административно-территориальной системой русских губерний. Кудинская дума была упразднена одной из первых, в 1890 году заменившись Кудинской, Ординской и Абаганатской управами, а дольше всех сопротивлялась реформе Агинская степная дума, упразднение которой в 1903 году обернулось партизанским вылазками и массовым исходом бурят в китайский Шэнэхэн.
35.

...Итак, трижды я поворачивал у этого музея на Ольхонский тракт, теперь же нам дорога прямо. В нескольких километрах от Баяндая лежит село с говорящим названием Половинка - мы почти на середине Качугского тракта:
36а.

Через полсотни километров начинается и Качугский район "материковой" Иркутской области, отделённый от Усть-Ордынского округа невысоким, но весьма живописным хребтом на водоразделе двух главных сибирских рек - Енисея (Ангары) и Лены. На фото, слава богу, не она (даже в верховьях великая сибирская река куда солиднее), а её приток Манзурка, вдоль которого спускается тракт:
36.
Из таёжных склонов порой проглядывают скалы:
37.
А у села Харбатов водитель показал нам Горку Фрунзе, на вершине которой хорошо заметен белый обелиск. Водитель из Ангарска, на своём грузовичке регулярно возивший в Качуг какой-то товар, долго и тщетно расспрашивал местных о том, что это за обелиск, и местные озвучивали ему не очень-то правдоподобную версию, будто на этом месте бежавший с вечной каторги к Байкалу Михаил Фрунзе был настигнут царскими солдатами и убит.
38.
Википедия и викимапия имеют на этот счёт другое мнение: в 1914 году, после революционных дел в Петербурге и на мануфактурах Иваново-Вознесенска и Шуи арестованный Фрунзе действительно отправился в ссылку в эти края, в первую от водораздела деревню Манзурка. Ссыльных в Сибири, однако, набиралось на любой кружок по интересам, и эту гору большевик присмотрел для маёвок, а год спустя и вовсе сбежал в Читу. Обелиск и флаг же поставили лишь в 2003 году местные коммунисты, что явно тянет на "когда это ещё не было мейнстримом": к тому времени изначальный Красный пояс в чернозёмных областях почти распался, а Новый Красный пояс Сибири и Дальнего Востока начал формироваться лишь в 2010-х годах с экспансией московского капитала.
38а.

За Харбатовом земля понемногу разглаживается, но здесь уже не степь, а совсем классическое ополье с полями в низинах, сенокосами на склонах и десятками старинных русских деревень:
39.
Водитель указал нам ещё и на Хромовский ключ - бурный ручей с целебной водой, про которую местные говорят, конечно, что она уникальная потому, что очень богата хромом. На самом деле богата эта вода серебром, и к тому же ключ не замерзает даже в лютые морозы. С другой стороны от дороги - заброшенный деревянный мостик, по виду скорее середины ХХ века, чем эпохи Якутского тракта, и всё же я очень жалею, что не успел его заснять.
40.
Отсюда уже рукой подать до Качуга, и на заднем плане кадра выше виден коренной высокий берег Лены. Вот так выглядит будущая великая река с первого моста по течению:
41.
Её верховья, в отличие от соседних бурятских степей и мамонтовых якутских низовий - это классическая старожильческая Сибирь, в отличие от пашен Ангары и Илима не тронутая советским Гидростроем. Да и вообще, кажется, ничем особо не тронутая: заселявшаяся с 1640-х годов, к началу 18 века она достигла идеальной плотности населения наподобие вагона метро, где вроде некуда сесть, но вроде и никто не едет стоя. Почти оставленная бурятами и якутами, не задетая столыпинскими переселенцами, Верхняя Лена превратилась в странный филиал Русского Севера, где до советских времён достояло множество деревянных церквей, словно привезённых с Двины или Онеги. Вот например Покровский храм (1790-95) в селе Бирюлька выше Качуга по Лене, первыми жителями которого стали 16 семей государственных крестьян, переселённых в Сибирь обеспечивать тамошние воеводства хлебом. Не знаю точно, откуда они были, но архитектура храма явно намекает на Вологодщину или Вагу:
42а.
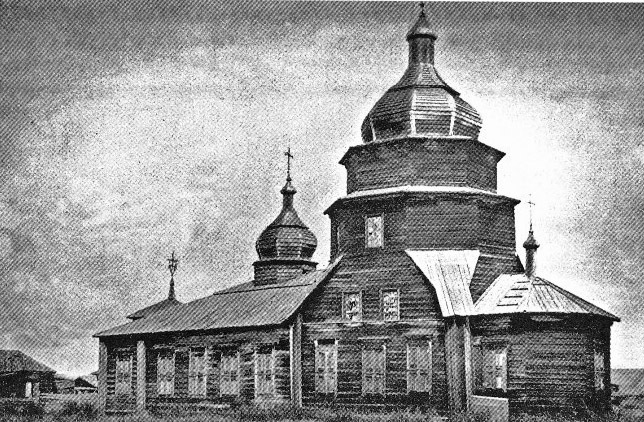
В Усть-Илге ниже Жигалова похожая церковь даже смогла уцелеть, но в одном ряду с Кимжей, Нёнокской или Красной Лягой вполне могла стоять Знаменка - основанное в 1644 году село, центр Илгинской волости, до революции известное работавшей с 1736 года винокурней:
42б.
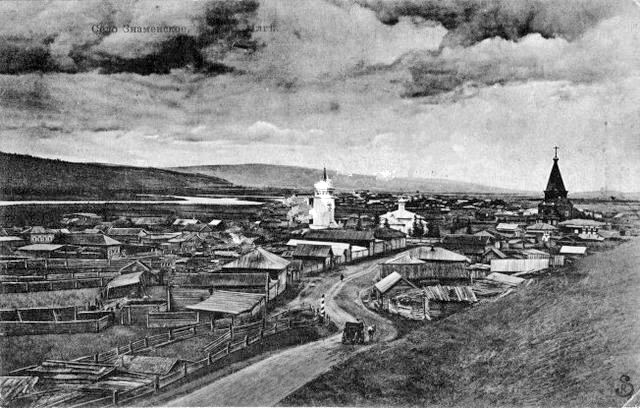
Здесь ровно 201 год простояла шатровая Богоявленская церковь (1731), вместе с колокольней тех же лет и приземистым зимним Знаменским храмом (1862-64) слагавшая классический погост-тройник. Она не потерялась бы, определённо, ни в Карелии, ни в Архангельской области, а для Сибири и вовсе была шедевром.
42в.

Не знаю точно, кто и как её разрушил, но думается, и к 1932 году это был "последний из могикан" - на Верхней Лене до советских времён стояли ещё и десятки куда как более простых деревянных церквей рубежа 19-20 столетий, но в сёлах, существовавших к тому времени не первый век. Построенные взамен старых, когда те обветшали, а традиции Русского Севера позабылись...
42г. Петропавловский храм (1877) в селе Головское под Качугом

В следующей части погуляем по Качугу.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница.
Качугский район. Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Давыдово.
Давыдово - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: Великая Степь Сибирь скансен дорожное белорусы Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область этнография деревянное буряты русские (этнография) |
У Моста. Пятый Международный фестиваль Мартина МакДонаха в Перми |
Как гласили плакаты, весной развешанные по центру Москвы, "ОНИ изымают из библиотек Достоевского, а МЫ по-прежнему любим Диккенса". Не знаю, сколь достоверна первая половина высказывания, но я очень рад, что русская культура в этот страшный год не закукливается в себе, а по-прежнему открыта миру. Да и сам ирландский драматург и режиссёр Мартин МакДонах выступил в наши времена тем мудрым человеком, который однажды не сказал ничего. И вот я в компании Натальи  pamsik оказался в Перми, своём городе детства, на единственном в мире театральном фестивале Мартина МакДонаха, который проводится единственным в России мистическим театром "У Моста" в 5-й раз. Вконтакте и яндекс-дзене я оперативно писал о каждом дне фестиваля, а сегодня обобщу весь этот материал, да дополню череду персоналий и спектаклей описанием самой своей поездки.
pamsik оказался в Перми, своём городе детства, на единственном в мире театральном фестивале Мартина МакДонаха, который проводится единственным в России мистическим театром "У Моста" в 5-й раз. Вконтакте и яндекс-дзене я оперативно писал о каждом дне фестиваля, а сегодня обобщу весь этот материал, да дополню череду персоналий и спектаклей описанием самой своей поездки.
.
 pamsik оказался в Перми, своём городе детства, на единственном в мире театральном фестивале Мартина МакДонаха, который проводится единственным в России мистическим театром "У Моста" в 5-й раз. Вконтакте и яндекс-дзене я оперативно писал о каждом дне фестиваля, а сегодня обобщу весь этот материал, да дополню череду персоналий и спектаклей описанием самой своей поездки.
pamsik оказался в Перми, своём городе детства, на единственном в мире театральном фестивале Мартина МакДонаха, который проводится единственным в России мистическим театром "У Моста" в 5-й раз. Вконтакте и яндекс-дзене я оперативно писал о каждом дне фестиваля, а сегодня обобщу весь этот материал, да дополню череду персоналий и спектаклей описанием самой своей поездки..
От Москвы до Перми два часа лёту - это была одна из аксиом моего раннего советского детства, как и то, что воздушный путь от Москвы до Камчатки продолжается 9 часов. Позже самолёт стал транспортом избранных, и мы пересели на поезд: старые зелёные вагоны, колоритные попутчики в затхлых плацкартах, наивные и прекрасные в своей незамутнённой бездарности песни путейского радио слагали одну из главных локаций моего детского мирка. Но последний раз я ездил к своей пермской бабушке в 2004 году, а дальше лишь изредка заглядываю в город детства в ходе своих путешествий. Последние годы - снова пересев на самолёт, и вот "Аэробус" вынырнул из серых туч над рабочей окраиной. Внизу - километровое русло Камы, которая, как известно, впадает в Каспийское море, приняв Волгу как главный приток, а над Камой пара мостов - старый железнодорожный (1897-99) и новый автомобильный Красавинский (2005-08, 1737м). Последний медленно-медленно строился большую часть моего детства, и я с грустью глядел на стоящие в камском русле быки: за мостом виднеется Закамск, его уголок Водники, мой родной район. Я писал о нём в ЖЖ в далёком 2010-м году, застав в окончательной нищете и разрухе. Вновь оказавшись там в 2018-м - просто не узнал знакомых улиц, и не уверен теперь, стоит ли ещё мой родной дом. Перед многоэтажками Водников можно различить доки и цеха судозавода "Кама", основанного в 1931 году. Всё детство я видел, как он умирает, и совсем мёртвым казался он мне в последние приезды 2010-х годов. Но вот теперь, говорят, что завод таки жив и док его ещё пригодится Отечеству. Пермь всегда была городом заводов, и в эту осень горожане вне театра только и говорили о перезапуске многих из них...
2.

Самолёт приземлился в Большое Савино - действительно весьма обширный аэропорт, на лётном поле которого с пассажирскими самолётами соседствуют вертолёты МЧС и истребители МиГ-31, которые мне очень хотелось сфотографировать, но я понимал, что нынче не те времена. Они здесь старожилы: военный аэродром в Большом Савино был основан в 1952 году, и лишь в 1965 дополнился пассажирской инфраструктурой. Ныне с почти двухмиллионными трафиком он открывает третью десятку крупнейших аэропортов России, но огромный новый терминал (2017) не станет тесен, даже если трафик вырастет в пару-тройку раз:
3.

Зал аэропорта запоминается странной часовней с левитирующей главкой:
4.

И пермским звериным стилем на стеклянных дверях: со своими древней Пармой, ещё более древним Пермским периодом и прозой Алексей Иванова нынешний Пермский край явный пример для подражания другим регионам в популяризации своих локальных брендов.
4а.

Пермь - один из самых длинных городов России, вытянувшийся на 60 километров вдоль русла Камы, или километров на 40 по прямой. Индустриальный район, лежащий между центром и аэропортом - самый загадочный для меня: в детстве я не бывал в этой стороне натурально ни разу. Зато я регулярно видел колоссальную гостиницу "Урал" (1983), нависающую над одной из площадей в самом центре города. Вот мальчик вырос, и пришло время в ней пожить:
5.

2.
Самолёт приземлился в Большое Савино - действительно весьма обширный аэропорт, на лётном поле которого с пассажирскими самолётами соседствуют вертолёты МЧС и истребители МиГ-31, которые мне очень хотелось сфотографировать, но я понимал, что нынче не те времена. Они здесь старожилы: военный аэродром в Большом Савино был основан в 1952 году, и лишь в 1965 дополнился пассажирской инфраструктурой. Ныне с почти двухмиллионными трафиком он открывает третью десятку крупнейших аэропортов России, но огромный новый терминал (2017) не станет тесен, даже если трафик вырастет в пару-тройку раз:
3.
Зал аэропорта запоминается странной часовней с левитирующей главкой:
4.
И пермским звериным стилем на стеклянных дверях: со своими древней Пармой, ещё более древним Пермским периодом и прозой Алексей Иванова нынешний Пермский край явный пример для подражания другим регионам в популяризации своих локальных брендов.
4а.

Пермь - один из самых длинных городов России, вытянувшийся на 60 километров вдоль русла Камы, или километров на 40 по прямой. Индустриальный район, лежащий между центром и аэропортом - самый загадочный для меня: в детстве я не бывал в этой стороне натурально ни разу. Зато я регулярно видел колоссальную гостиницу "Урал" (1983), нависающую над одной из площадей в самом центре города. Вот мальчик вырос, и пришло время в ней пожить:
5.
По гостинице рассеялись и почти все участники фестиваля, так что порой в бесконечных коридорах и непропорционально маленьком ресторане мы натыкались то на организаторов, то на артистов.
6.

А вот изнутри здание "Урала" оказалось весьма интересным:
7.
И как видите, с популяризацией локальных брендов в Пермской области было всё хорошо ещё в брежневские времена - просто с тех пор об этих символах узнала вся Россия.
8.
Отель "Урал" стоит в самом центре Перми, но по факту - на местном аналоге Нового Арбата: из окон открывается советско-новостроечный пейзаж. Напротив - ЦУМ (1965), в 2010-м году украшенный тем же "звериным стилем", а за ним на Компросе (Комсомольский проспект с бульваром) притаился маленький магазин "Пермские конфеты", куда мы захаживали порадовать себя изделиями местной кондитерской фабрики: большинство брендов на ней за 20-30 лет сменились, однако вкус детства пока не пропал. За ЦУМом виднеется Спасо-Преображенский кафедральный собор (1793-1832), основанный как храм монастыря, переехавшего в губернский город из строгановской вотчины Пыскор. Пермяки знают собор как Художественную галерею, куда ходят в первую очередь взглянуть на Пермских Богов - уникальную коллекцию деревянной церковной скульптуры. Всю постсоветскую эпоху церковь пытается выселить галерею куда-нибудь, и вроде бы в этом году начался её переезд в новое здание.
9.
Левее виден краешек Заксобрания Пермского края (1973) - это с другой от него стороны Тёма Лебедев положил буквы "Власть", а за ними простирается совсем уж бескрайняя Эспланада, не ставшая крупнейшей площадью России, кажется, лишь потому, что просто не имеет статуса площади. На другой её стороне, в километре от нас - невидимый отсюда Театр-Театр (1981), в моём детстве бывший просто Драмтеатром: туда мы ещё дойдём. Ну а правее, между высоткой и парой флагов, можно различить шпиль пожарной каланчи - к нему мы и ходили каждый день, как на работу:
10.
Сама пожарная часть (1888) с недавних пор занята складом и общежитием театра "У Моста", сам же он расположился в бывшем здании её конюшен, в советские времена служивших Клубом работников торговли. Оно запечатлено на заглавном кадре, и не случайно украшает его портрет Мастера: Сергей Павлович Федотов в своём авторском театре основатель, бессменный руководитель и единственный постоянный режиссёр. Он родился в 1961 году в Перми, а в 1983 году основал первую Молодёжную театральную студию в маленьком райцентре Нытва, который между прочим тоже город моего детства, где пролегал путь на дачу у берега Камы. Нытвенская студия Федотова, впрочем, действовала ещё до моего рождения, а в 1984-86 годах Сергей Федотов служил в армии под Хабаровском, где тоже время даром не терял, создав первый в Советском Союзе солдатский театр. Затем солдат вернулся домой, где и свёл опыт двух "черновиков" в "чистовик", в 1988 году открыв авторский театр в ДК "Телта". Принадлежавший телефонному заводу, бетонный советский Дом культуры располагался у моста, а потому и детище Федотова обрело название "У Моста". Ну а зачем перенесли ударение? Я точного ответа на этот вопрос не знаю, однако дело явно в том, что концепцией Сергея Павловича стал "единственный в России мистический театр": в названии речь не о бетонном мосте через Каму, а бесплотных мостах через Реку Времён. Дальше "Телта" приказала долго жить, и в 1992 году театр занял своё нынешнее здание. 30 лет спустя ему снова угрожает переезд то ли в освободившиеся старые цеха Завода имени Шпагина, то ли в бывшее трамвайное депо. Но пока что мы видим "У Моста" как есть, а интерьер в лабиринте его неожиданно многочисленных, словно тут потрудился над расширением пространства мрачный Воланд, помещений сам стал творением Сергея Федотова.
11.
Первой постановкой "У Моста" 7 октября 1988 года был "Мандат" Николая Эрдмана. Спектакли-символы репертуара за долгую историю театра сменялись не раз, как постапокалиптический "Зверь" в последние годы советской эпохи или "Панночка" (по сюжету "Вия"), сыгранная с 1991 года более 3000 раз. Надо сказать, цифры, в которых выражается энергия Мастера, тут вообще поражают: в своих трёх залах небольшая (чуть больше 30 человек) труппа умудряется сыграть до 12 спектаклей за выходные. Счёт фестивалей, в которых участвовал "У Моста", и вовсе идёт уже на третью сотню, и вот в 2004 году на фестивале в Праге пермский театр обзавёлся ещё одним именем, пусть даже его обладатель физически здесь не был никогда - это ирландский драматург Мартин МакДонах:
12.
Вернее, географически скорее британский: хотя родители его, уборщица и работяга, были из открытого всем ветрам графства Голуэй, Мартин родился в 1970 году в Лондоне. В России он больше известен как кинорежиссёр - по картинам "Залечь на дно в Брюгге" или "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Но кино - это лишь вершина айсберга в творчестве большого патриота маленькой Ирландии. И именно Сергей Федотов открыл российской, а отчасти и мировой публике глубины этого творчества: в первую очередь Мартин МакДонах - драматург. "У Моста" поставил все 8 его пьес и раз в два года, на годовщину своего возникновения, проводит единственный в мире фестиваль, целиком посвящённый творчеству ирландца. Название театра же заиграло в расколотом мире новыми красками: первый мост с Камы в Коннемару навели в 2014 году. В 2016, 2018 и даже 2020 годах театр был полон гостей из самых разных стран от Испании до Ирана, а уж рыжие ирландцы - те и вовсе в фестивальную неделю стремительно вытягивали весь виски из окрестных баров. Сам МакДонах, которого Федотов однажды случайно встретил в Голуэе в воротах паба, так же обещал приехать в Пермь. Пока этого не произошло, а в 2022 международность V фестиваля оказалась представлена, помимо России, лишь Беларусью и Казахстаном по театрам, и Россией, Беларусью, Арменией, Израилем и Южной Кореей по жюри. Изъявляли желание приехать тогда многие, но как было сказано мне, русские гастроли для европейских театров теперь чреваты лишением господдержки. В недельной программе, так же облегчённой по сравнению с прошлыми годами - полтора десятка постановок, по 2-3 в день, и множество других действ от многочисленных лекций до открывавшего фестиваль Парада Рыжих.
13.
Мы с предельно рыжей Наташей Памсик на этот парад не попали - фестиваль стартовал 1 октября, а мы прибыли в Пермь только 3-го. И буквально из аэропорта понеслись на спектакль "Калека с Инишмана" в постановке самого Федотова. В колоритнейшем фойе молодые актёры перед спектаклем исполнили зажигательный ирландский танец:
14.
В театре три зала - Большой в очень классическом стиле:
15.
Малый, в дни фестивале оставленный про запас, и Новый зал, так же известный как Зал МакДонаха. Путь к нему - длинный и извивающийся в трёх плоскостях, а оформлял его в прекрасные былые времена Сергей Пантелейчук, заслуженный художник-постановщик Украины.
16.
Репертуар "У Моста" и ныне довольно разнообразен. Символом его стал МакДонах, но преобладает всё же русская классика, так что и коридор этот оформлен по мотивам "Мастера и Маргариты".
17..
На балюстраде - светильники из бутылок от виски:
17а.

Двери коридора ведут то в пошивочный цех, то в гримёрки, то в хранилища декораций. В конце - развилка, и обаятельный скелет указует зрителям путь:
18.
Перед каждым спектаклем Сергей Павлович в своей неизменной кожаной куртке произносит короткую вступительную речь. Здесь он рассказал в том числе и о том, как сам побывал на острове Инишман и какие после этого внёс коррективы в образы и декорации.
19.
Ну а "Калеку с Инишмана", как уже говорилось, можно назвать квинтэссенцией творчества и МакДонаха, и Федотова. В своём неповторимом, очень человечном и вместе с тем полном чёрного юмора стиле МакДонах открывает миру сиротливое ирландское захолустье и потрёпанные на ветру, загрубевшие, но не растерявшие красоты души живущих в этом захолустье людей. В общем-то, если мысленно заменить паб на лавочку у подъезда или на завалинку огромной покосившейся избы, да чуть подкорректировать имена, то мир МакДонаха становится родным городом Н. или селом Степанчиково. Сиротливый запад МакДонаха прекрасно ложится на русскую почву, а потому немудрено, что для отечественных режиссёров МакДонах - почти что русский драматург.
20.
Действие "Калеки..." происходит на крошечном островке в Арранском архипелаге у западных берегов Ирландии, среди людей, знающих друг о друге всё, порой ненавидящих друг друга, но не способных друг без друга жить. Людей маленьких, странноватых, несчастных, поломанных жизнью, очень одиноких, но не разучившихся мечтать - ведь что, кроме мечты, здесь остаётся?
21.
Кто-то слаб умом, кто-то ущербен телом. Кто-то доканал всю деревню, а кого-то вся деревня боится. Но ближе к финалу все они видятся добрыми людьми, а само сплетение их судеб предстаёт совсем не таким, каким казалось поначалу.
22.
После спектакля проходит его обсуждение достопочтеннейшими членами жюри во главе с израильтянином Виктором Шрайманом (в центре кадра), начало творческой карьеры которого было связано с кукольным театром в Магнитогорске. Маститые, солидные, утончённые профессора театрального дела произносили где-то восхищённые, а где-то возмущённые речи - каждый свою и с высоты своих знаний. Такими обсуждениями продолжались большинство спектаклей, но я откровенно не поспевал за графиком и заходил на обсуждения всего пару раз.
23.
Для приглашённых гостей фестиваль включает не только спектакли, но и ещё ряд мероприятий. Например, пресс-завтраки, на которых актёры, журналисты, организаторы беседуют в разноцветном и полном художественных образов Новом фойе театра "У Моста". На заднем плане давал на камеру интервью обаятельный Чун Дон Хи (для своих просто Донни), жюри из Южной Кореи (на кадре выше - слева), которому незнание русского языка ничуть не мешало. С нами же беседовал коллектив Республиканского театра белорусской драмы из Минска. Они привезли в Пермь свою постановку "Калеки с острова Инишмаан" режиссёра Александра Гарцуева. О сходстве ирландцев и русских сказано прежде было немало, ну а минчане заметили, что произносимая по разу каждым персонажем "Калеки..." фраза "Наверное, Ирландия не такое уж захолустье..." - она и белорусам близка.
24.

24.
Минчане, впрочем, выступали вечером, а в середине дня я увидел ещё и спектакль "Безрукий из Спокена" в постановке "У Моста". Тут действие происходит уже не в ирландской деревне у моря, а в таком знакомом по ужастикам и мелодрамам маленьком американском городке.
25.
Там в обветшалом номере убогого отеля сошлись таинственный маньяк при чемодане с жутким содержимым, чёрный раздолбай-наркодилер (причём "У Моста" - единственный театр, которому МакДонах письменно разрешил брать на эту роль белого актёра с блэкфейсом), его шумная подружка и чудаковатый портье, который терпеть не может, когда его называют по должности.
26.
Полный фирменного МакДонаховского юмора и коллизий, "Безрукий..." берёт (пардон за каламбур) своё колоритом и драйвом, местами заставляя вспомнить криминальные комедии Гая Ричи и Квентина Тарантино, а то и вовсе "Саут-Парк".
27.
Ну а белорусский "Калека с острова Инишмаан" оказался совсем не таким, как пермский "Калека с Инишмана". В постановке Федотова я видел людей из захолустья, у которых под лохмотьями скрывается израненная, но тонкая душа, а у Александра Гарцуева - хорошо одетых, даже благообразных персонажей из наших представлений о Британских островах.
28.
И не сказать, что спектакль этот плох: о таких произведениях один мой знакомый философ говаривал, что в них есть третьей измерение, а вот четвёртого - нет. Зато есть очень колоритные реплики и сцены, которые Федотов у себя предпочёл опустить (поскольку и без них сработал прекрасно) и несколько действительно остроумных находок. В общем, нам белорусский "Калека..." показался таким крепким лощёным середняком с атмосферой советских детских фильмов... а потому я был порядком удивлён, уже на следующий день поняв из разговоров, что для жюри это явный фаворит фестиваля.
29.
Третий (а для большинства участников пятый) день фестиваля обернулся культурой отмены. Нет, не той, про которую можно подумать: просто по ряду причин оказалось отменено несколько мероприятий. В первую очередь - выступление Государственного театра русской драмы им. М. Горького из казахстанской Астаны: кто-то из актёров по неким далёким от всякой политики причинам не смог пересечь границу. Так что героями сегодняшнего дня стали артисты воронежского театра "Кот". С этими молодыми яркими людьми мы познакомились ещё на пресс-завтраке. "Коты" во главе с руководительницей и режиссеркой Анастасией Проскуряковой выглядели энтузиастами своего дела, обустроившимися в бывшем складе на окраине своего чернозёмного города. КОТ - это Концептуальный Оперный театр: их мечта - мюзиклы и рок-оперы, но пока что она остаётся мечтой. И хотя некоторые слова "котов" вроде "мы - горизонтальный коллектив" слегка настораживали, всё же у меня осталось смутное ощущение, что эти ребята не подкачают.
30.
Тем более и из Воронежа, и из Астаны в Пермь везли самый сложный, самый неоднозначный, самый пугающий спектакль МакДонаха - "Человек-подушка". От этого сладкого названия уже веет каким-то психиатрическим нездоровьем, а по отдельным деталям, мелькавшим ещё в разговорах на пресс-завтраке, я понимал, что здесь не стоит ждать даже мрачной комедии: предстоит тяжёлый сюжет, где исход половины зрителей в антракте - не позор, а повод для гордости. "Человек-подушка" - единственный спектакль МакДонаха, который не решился ставить Сергей Федотов, и даже моноспектакль Леона Кляйна в "У Моста" быстро покинул репертуар. Из зала, как и ожидалось, в антракте ушла половина зрителей, а те, кто досидели до конца 3-часового спектакля, сомнамбулами шатались по фойе да шарахались от репортёра. "Я ничего не понял", - говорили при нас буквально все. А вот я, как недобитый писатель, кажется понял всё и сполна.
31.
Ведь для себя я давно сформулировал, что творчество - суть превращение энергии в материю. По вывернутой наизнанку эйнштейновской формуле M=e/c², где m - материя, e - энергия и с² - квадрат скорости света. И вот поистине чудовищная история в некой абстрактной восточно-европейской стране эпохи тоталитаризма, где сошлись в одних застенках молодой писатель Катурян, его умалишенный брат Михал, мрачный коп-садист Ариэль и его надрывно-жестокая начальница (в пьесе, впрочем, это был мужской персонаж) Тупольски - история эта повествует именно о том, КАК энергия превращается в материю. Энергия страданий и множества сломанных судеб - в ящик с листами бумаги, спокойно помещающийся на краешке письменного стола. В данном случае - сугубо тёмная энергия, из которой и материя родилась ещё темней. Ну а "коты" - те сыграли блестяще! Шокированные увиденным и не понявшие его зрители сходились в одном: спектакль был великолепен.
32.
Вернее, с таким ощущением мы покидали театр. Как я узнал в следующий дни, культура отмены таки имела место быть в самом что ни на есть прямом смысле слова: жюри просто отказались обсуждать "Котов" и более нигде, кроме как в кулуарах, о воронежцах не было сказано ни слова. Те, кто разделял наши восторги, говорили их шёпотом, чтобы не прослыть изгоями. Ведь решение жюри - это Закон, непререкаемый ни для актёров, ни для зрителей, ни для хозяев театра.
33.
В четверг пресс-завтрак разросся до полноценной пресс-конференции, на которой гости расположились в несколько рядов. В этот раз мы беседовали с труппами сразу двух театров: Кинешемского драмтеатра имени Николая Островского и Новокузнецкого драмтеатра.
34.
Кинешемцы оказались довольно пёстрой, я бы даже сказал, разношёрстной компанией, где были и артисты старой закалки, и симпатичная молодёжь, и обаятельный режиссёр Вахтанг Харчилава, которого и прежде судьба изрядно покидала по театрам страны. Новокузнечане всем своим видом и каждым словом подтверждали стереотипы про суровых сибиряков. Но и те, и другие располагали к хорошим ожиданиям.
35.
Кинешемцы ставили уже третьего на этом фестивале "Калеку с Инишмана". Вернее, у них спектакль назывался "Билли с острова Инишмаан", так как калекой его герой был лишь фигурально - скорее, просто неустроенным чудаком, которого не понимают другие островитяне. Зато в уголке сцены сидел на стуле Максим Цепелев с гитарой - молодой человек с тем самым заболеванием, что у главного героя пьесы, но ещё и с гитарой, красивым голосом и пусть устаревшими лет на 20, но душевными песнями, чистейшими образцами моего любимого Русского Рока.
36.
Сюжет "Калеки..." в "Билли..." оказался упрощён и укорочен раза этак в полтора, ирландский колорит сознательно отброшен, но всё покрывала вполне годная актёрская игра и песенные паузы Цепелева.
37.
Актриса Наталья Машаткова, игравшая роли объединённых в одного персонажа двух тётушек Билли, сравнила Вахтанга со светлячком, который не стремится победить тьму, но всё равно светит, так как просто не умеет не светить. Пожалуй, она попала в точку: кинешемский "Билли с острова Инишмаан" - приятная и светлая вещь, не гениальная и не великая, но и не претендующая таковой быть. Не то что спектакль, а детский мультфильм, сыгранный на театральной сцене, и даже одежда его героев в нарочито мультяшных тонах. Если у Вахтанга всё такое, то совсем не мудрено, что в театре маленького старого волжского города всегда яблоку негде упасть. Главное лишь понимать, что здесь, как и у белорусских гостей - не МакДонах.
38.
Новокузнечане выступали не в камерном "У Моста", а в огромном бетонном "Театре-Театре" на другой стороне бескрайней пермской эспланады. Но и там собрали полный зал на полтысячи мест. Их актёры были при микрофонах, а на непривычно огромной сцене нашлось место даже для спецэффектов. Но брали своё новокузнецкие "Палачи" (так называется пьеса МакДонаха) отнюдь не спецэффектами: игра, костюмы и в особенности голоса сибирских актёров также были на высоте.
39.
Сюжет "Палачей" весьма нелинеен и в их исполнении мрачен - о жизни государственного палача, который после отмены в его родной Англии смертной казни задаётся сложными вопросами и так и не находит на них ответ. Чёрно-белые трансляции сцен за стеклом, странный хор с чернокожим пастором, ангел смерти в оленьей маске из ирландских мифов, неизменно чёрный фон - всё это нагнетает ангста, эмбиента и нуара, и лишь последняя сцена, в которой уже произошло необратимое, напоминает, что все эти ангст, эмбиент и нуар - лишь в голове у персонажей.
40.
"Палачи" из сибирской Кузни хороши... но всё же их выстрел - буквально в миллиметр мимо цели. То ли фирменного макдонаховского чёрного юмора им не хватило, то ли большая сцена лишила действие ирландской камерности. Но игравший главную роль палача Андрей Ковзель, заслуженный артист Российской Федерации, запомнился мне среди гостей лучшим актёром фестиваля.
41.
Пермь накрыл ирландский дождь, вроде и тёплый, но бесконечный. И подходя сырым утром к театру, я невольно высматривал, не привязан ли где-нибудь конь: героями последнего дня фестиваля, юбилейной для театра пятницы 7 октября, стали, безусловно, казахи. Корректнее говоря – казахстанцы: далёкие от этой степной страны люди редко задумываются о том, что Казахстан многонационален, и значение двух слов не идентично. В Пермь из Казахстана приехали сразу два коллектива русских драматических театров – астанинский и акмолинский. Тут некоторые, вероятно, вспомнят, что Акмолинск – это одно из многих бывших имён Нур-Султана, который с момента печати фестивальных афиш успели переименовать назад в Астану. Но всё хитрее: есть стольная Астана, а есть окружающая её Акмолинская область, центром которой служит городок Кокчетав (Кокшетау). Там и обитает Акмолинский областной русский драматический театр.
42.
Два коллектива, впрочем, сформировались в тесном сотрудничестве, и за длинным столом на пресс-завтраке глядели друг друга с большим уважением. Когда команда Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького из-за каких-то бюрократических причин не попала на авиарейс, первым делом они предупредили о своей ошибке акмолинских коллег, и те вылетели пару дней спустя благополучно. В итоге астанчане поехали в Пермь автобусом, и вот два коллектива всё же встретились в цветастом фойе "У Моста". И хотя не было при них ни коней, ни юрт, ни даже бурдюка с кумысом, всё же казахстанцы несли свой особый колорит. Выражавшийся, например, в ласковой восточной вежливости, в непререкаемой субординации младших и старших, в строгих костюмах директоров-казахов. Но если и русские, и белорусы из прошлых фестивальных дней подмечали своё сходство с ирландцами, то на казахстанцев я глядел с любопытством: как воспитанного атлантическими ветрами МакДонаха прочтут люди Великой Степи?
43.
В образе Сергея Федотова к извечной кожаной куртке добавилась вдруг тюбетейка, и вместо "здравствуйте!" он говорил "салам!". Мне очень хотелось увидеть оба спектакля: акмолинцы привезли "Сиротливый запад", который я прежде не смотрел, а астанчане – "Человека-подушку". Теперь же оба казахстанских спектакля шли одновременно, и максимум, на что мы могли рассчитывать – перебежать с финала на финал. Предпочтение мы отдали всё-таки "Сиротливому западу".
44.
И казахи (в данном случае - именно молодые казахи!) не подвели. Простая история про захолустье ирландской Коннемары, про двух враждующих братьев, загадочную гибель их отца и про тихо офигевающего со своей паствы священника по имени Уолш Уэлш была исполнена во-первых талантливо, а во-вторых – с каким-то неповторимым, и не ирландским, и не казахским, а скорее просто постмодернистским колоритом.
45.
Порой театральная труппа становилась рок-группой (да и жанр был заявлен как "рок-опера"), а обаятельнее всех "человеческих" персонажей оказался молодой казах в образе чайки, вся роль которой сводилась лишь к тому, чтобы мерзко орать на заднем плане. Минимализм реквизита компенсировался остроумием вроде забавных подписей к предметам, сделанным на сцене из подручных средств. Не знаю, минус это или плюс, но в итоге этот колорит затмевает саму сюжетную линию: в какой-то момент я понял, что не помню начала истории и не жду её окончания, а просто любуюсь странным действом на маленькой сцене.
46.
На "Человека-подушку" же мы прибежали буквально в последние 5-7 минут, однако чтобы понять отличия астанинской и воронежской версий, и этого оказалось достаточно. У астанчан всё получилось гораздо цветастее, страннее и вычурнее, и даже следователь Тупольски предстал не ледяной женщиной в кителе, а надменным чиновником в манжетах и кружевах (в пьесе, впрочем, он и был мужчиной). Действо оказалось наполненным деталями из флэшбеков и прозы главного героя, а герои этих флэшбеков сами выходили на сцену.
47.
Но плюс ли это в контексте рассказанной истории? У "Котов" были четверо и тьма, и не слишком ли красочной вышла "...Подушка" у астанинского коллектива? На этот вопрос я не отвечу, так как пока что не увидел её целиком. Впрочем, мы выкрали у режиссёра Игоря Седина (с его согласия, конечно) секретную запись спектакля, так что может к этой теме я ещё вернусь.
48.
Закрывали фестиваль, как водится, хозяева, и вот последними на этом фестивале на сцену вышли "Палачи". На камерной сцене "У Моста" стояли куда как более живые декорации, и в паб, который держит жена последнего английского палача Гарри Уэйда, хотелось внаглую зайти.
49.

Но только в тот день не стоило этого делать: мало того, что в Англии отменили смертную казнь, так ещё и тихоня-дочь палача куда-то подевалась, а в паб захаживал странный человек из Лондона, то ли маньяк, вместо которого Гарри когда-то казнил невиновного, то ли просто позёр. И у новокузнецких гостей логичнее выглядела первая версия, а у хозяев фестиваля – вторая. В таких полутонах, оттенках, перекличках смыслов и заключались основные различия двух постановок, а объединял их всё тот же глубокий нуар.
50.

49.
Но только в тот день не стоило этого делать: мало того, что в Англии отменили смертную казнь, так ещё и тихоня-дочь палача куда-то подевалась, а в паб захаживал странный человек из Лондона, то ли маньяк, вместо которого Гарри когда-то казнил невиновного, то ли просто позёр. И у новокузнецких гостей логичнее выглядела первая версия, а у хозяев фестиваля – вторая. В таких полутонах, оттенках, перекличках смыслов и заключались основные различия двух постановок, а объединял их всё тот же глубокий нуар.
50.
После спектакля зрители не покинули зал: на сцену взошёл сам Сергей Павлович и объявил церемонию награждения. Победителей в дюжине номинаций выбирала комиссия жюри, маститых профессоров театрального искусства, причём в части этих номинаций сам "У Моста" остаётся вне конкурса. Что, в общем, и немудрено - лучше, чем Федотов, МакДонаха не поставит никто в России, а может быть и в мире. Сами же итоги награждения комментировать не буду, ибо не согласен с ними без преувеличения диаметрально.
51.
Дальше был фуршет за красиво сервированным длинным столом, отличные закуски и белое вино. В прошлые годы такие фуршеты проходили в настоящем ирландском пабе, но теперь другие времена.
52.
Я доволен новым для себя опытом освещения театрального фестиваля, и огромное спасибо всем организаторам, коллективам, жюри и лично Сергею Павловичу Федотову за это яркое, поистине незабываемое действо.
53.
8 октября мы вернулись в большой мир, где мосты разрушают...
54.
С завтрашнего дня начну наконец главную в этом сезоне серию постов из своего летнего путешествия по Лене.
|
Метки: рок литература Пермь транспорт дорожное авиация Пермский край |
У Моста |
Несмотря ни на что, завтра я улетаю в последнюю поездку этого сезона. Мягко говоря, для меня не типичную: под началом Натальи  pamsik я еду в Пермь, в театр "У Моста" на V международный фестиваль Мартина МакДонаха. Международость в этом году представлена Россией, Беларусью и Казахстаном, ну и ирландским авторством драматургии. Всё это было спланировано и организовано ещё летом. Долго думал о том, этично ли всё это в нынешние трудные дни, но повесток мне приходило и не придёт, а культурная жизнь в стране пока продолжается.
pamsik я еду в Пермь, в театр "У Моста" на V международный фестиваль Мартина МакДонаха. Международость в этом году представлена Россией, Беларусью и Казахстаном, ну и ирландским авторством драматургии. Всё это было спланировано и организовано ещё летом. Долго думал о том, этично ли всё это в нынешние трудные дни, но повесток мне приходило и не придёт, а культурная жизнь в стране пока продолжается.

Ежедневные посты по горячим следам буду публиковать ВК, а обзор фестиваля и рассказ о самом театре напишу по возвращении. После чего перейду уже, наконец, к длинным сериям из долгих путешествий. Сосредоточусь на них.
Комментарии, на всякий случай, скринятся!
 pamsik я еду в Пермь, в театр "У Моста" на V международный фестиваль Мартина МакДонаха. Международость в этом году представлена Россией, Беларусью и Казахстаном, ну и ирландским авторством драматургии. Всё это было спланировано и организовано ещё летом. Долго думал о том, этично ли всё это в нынешние трудные дни, но повесток мне приходило и не придёт, а культурная жизнь в стране пока продолжается.
pamsik я еду в Пермь, в театр "У Моста" на V международный фестиваль Мартина МакДонаха. Международость в этом году представлена Россией, Беларусью и Казахстаном, ну и ирландским авторством драматургии. Всё это было спланировано и организовано ещё летом. Долго думал о том, этично ли всё это в нынешние трудные дни, но повесток мне приходило и не придёт, а культурная жизнь в стране пока продолжается. 
Ежедневные посты по горячим следам буду публиковать ВК, а обзор фестиваля и рассказ о самом театре напишу по возвращении. После чего перейду уже, наконец, к длинным сериям из долгих путешествий. Сосредоточусь на них.
Комментарии, на всякий случай, скринятся!
|
Метки: литература Пермь дорожное Урал |
Волгодонск. Часть 2: Новый город и Ростовская АЭС |
Молодые бетонные советские города ассоциируются с глухими углами Сибири и Средней Азии, однако и в многолюдных южнорусских степях есть место для великих строек. С важным отличием: если на перифериях создавались моногорода с негласным девизом "география - это судьба", то в Средней полосе одни индустриальные гиганты часто прирастали другими. Волгодонск и соседний Цимлянск были основаны при Сталине как посёлки ГЭС и судоходного канала, и жило в них тогда по 9 тысяч человек. При Хрущёве близ гидроузла вырос химический завод "Кристалл", и Волгодонск стал городом на 40 тысячами жителей. В брежневскую эпоху партия одарила его грандиозным заводом "Атоммаш", и за десяток лет население Волгодонска выросло уже до 180 тысяч. На закате советской эпохи здесь начали возводить ещё более колоссальный завод "Энергомаш", а что-то проектировщики явно держали в уме: Прекрасный Волгодонск Будущего должен был вмещать 750 тысяч жителей и администрацию новой чернозёмной области, простиравшейся этак от Маныча до Урюпинска. Старый город, район первых двух строек, я показывал в прошлой части вместе с самим гидроузлом. Сегодня же покажу воздвигнутый третьей стройкой Новый город, правда без самого "Атоммаша", на котором мне довелось побывать год назад. Ну а четвёртая стройка, как вы понимаете, не состоялась.
Старый и Новый города Волгодонска разнесены не столько во времени, сколько в пространстве: 4-кратный рост за 10 лет не мог не изменить облик и более старых районов, где выросли причудливые памятники и многоэтажки улучшенных серий. Граница двух частей Волгодонска - это Сухо-Солёновский залив Цимлянского водохранилища, который вдаётся в берег на 6 километров, прорезая город насквозь. Начнём сегодняшний рассказ всё же в Старом Волгодонске: хотя прошлая часть начиналась с того, что мы прибыли в город на поезде, я так и не показал в ней собственно вокзал. Железная дорога тянется вдоль залива, от центра Старого города порядком в стороне:
2.
Тупиковая ветка длиной 66 километров была проложена в 1949-51 годах от станции Куберле на магистрали Волгоград - Новороссийск. Одновременно другой тупик от станции Морозовской на магистрали Москва - Ростов подвели к будущему Цимлянску, а в 1952 две тупиковых ветки соединились по плотинам гидроузла в сквозную. Станция Волгодонская до 1964 года называлась Добровольской, и с тех времён поодаль уцелела водонапорная башня (кадр выше), а вот так выглядел первый вокзал (1951):
2а.

В 1977 году заменённый нынешним вокзалом в стилистике не в меру развитого социализма:
3.
На фасаде его - Атомные часы, в текущих реалиях напоминающие о Часах Судного дня из голливудских фильмов:
3а.

В зале ожидания - тихо и пусто. Настолько, что даже камера хранения здесь не модная автоматическая по цене скромной гостиницы, а старая добрая с ключом у дежурной за 150 рублей в день. К тому, что она вдруг кому-то понадобится, здешний персонал жизнь не готовила: однопутная линия Морозовская - Куберле столь малодеятельна, что её рельсы в бурьяне легко принять за заброшенный путь. Транзитным пассажирам в Волгодонске просто неоткуда взяться: трафик тут сводиться к паре дальних неежедневных поездов (Екатеринбург - Кисловодск курсирует через день круглый год, а Петербург - Адлер только летом) и электричкой через Сальск до Ростова.
4.
Проще попасть в Волгодонск через станцию Зимовники в 40 километрах от города на всё той же магистрали Волгоград - Новороссийск, которая соединяет Урал и Сибирь с всесоюзными здравницами Кавказа. Здесь только с 21 до 22 часов на моих глазах прошло три поезда с конечными в Кисловодске и Адлере, вот только сели на них буквально несколько пассажиров, а в симпатичном старинном вокзальчике (1899) даже кассы нет, или по крайней мере она не работала в это время.
5.
Во внешний мир волгодонцы предпочитают добираться самолётом из Ростова или (последние полгода) Волгограда, а на привокзальной площади и в городе, и в Зимовниках жизни куда больше, чем на платформах. Основной трафик волгодонского автовокзала, для которого недавно построили отдельный павильон - это "газели" в Цимлянск и огромные междугородние автобусы, едущие в Москву из Калмыкии и Дагестана. Кажется, где-то ближе к выезду есть ещё автостанция "Дон-Экспресс" для связи с Ростовом, но я видел её лишь на карте. Вокзал отделяет от кварталов Старого города Морская улица, за которой магазины и кафешки да вечно переполненная автобусная остановка: пешком в Новый город идти далеко.
6.
...Связь между Волго-Доном и Атоммашем - на самом деле совершенно прямая. Атомная энергетика в 1950-х годах раскачалась от по сути экспериментальной Обнинской АЭС до крупных потребительских электростанций, в 1970-х строившимся на просторах Союза одна за другой. Ещё активнее СССР строил атомные подводные лодки, и вот два производивших реакторы завода в пристоличных Подольске и Колпино неумолимо подходили к пределу своих мощностей. Да и располагались не очень-то удобно: ядерный реактор - штуковина слишком громоздкая для железной дороги и слишком герметичная для транспортировки по частям. Для перевозок крупного промышленного оборудования незаменимой оказалась Единая водная система Европейской части России, создававшаяся в сталинские времена ценой бесчисленных сломанных судеб и необратимых экологических катастроф. Речных портов, конечно, в этой системе было множество, но Волгодонск глянулся госплану ещё и возможностью воткнуть крупный город в самую середину гигантского аграрного ромба между Ростовом, Воронежем, Ставрополем и Волгоградом. В 1972-74 годах был спроектирован ВЗТМ (Волгодонский завод тяжёлого машиностроения), вскоре, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Всесоюзная комсомольская стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась поистине УДАРНОЙ: от закладки фундамента до сдачи первых цехов прошло всего около года. В 1977-м дала первый ток Волгодонская ТЭЦ-2 (420 МВт) с 270-метровой трубой, достигшая проектной мощности к 1989 году, а в 1978 году и сам "Атоммаш" приступил к работе над первым заказом. Со штатом более 20 тысяч человек это был едва ли не последний советский завод столь грандиозного масштаба. В верховьях Сухо-Солёновского залива видно начало промзоны, которая тянется буквально за горизонт, примерно на 3 километра в каждую сторону. На "Атоммаш" приходится лишь половина этого простнатсва, но издали виден его корпус №1 - крупнейшее во всей России промышленное здание размером 750 на 380 метров и в полсотни метров высотой:
7.
Через Сухо-Солёновской залив, ширина которого 300-500 метров, перекинуто два моста: низенький Красноярский (по станице Красный Яр, примыкающей к Старому городу) ведёт напрямую в промзону, а высокий безымянный связует центры Нового и Старого городов. Ниже по заливу с 2019 года идёт стройка третьего моста, ну а объекты "Атоммаша" с обеих сторон замыкают панорамы. Выше по заливу стоят стеной зелёные цеха, а ниже хорошо видна жёлтая кракозябра в окружении синих бочек: это Спецпричал Атоммаша, на котором упакованные для транспортировки реакторы и парогенераторы ждут погрузки на речные суда. В первый раз кран Спецпричала работал в 1981 году, когда баржа увезла вниз по Дону реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Разработанные в 1970-х годах водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭРы) представляли собой новое поколение атомной техники, несравнимо более эффективные и безопасные, чем их предшественники РБМК, вошедшие в историю как "реакторы чернобыльского типа". Но разве будет вчитываться в аббревиатуры перепуганная толпа, на которую свалилась Гласность? Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не получали зарплату. Волгодонск 1990-2000-х плотно вошёл в новостные сводки как рассадник оргпреступности и терроризма. На деньги с продажи миллионов тонн металлолома можно было купить не то что виллу в Испании, а всю, наверное, Испанию целиком... однако начальство пренебрегло этой возможностью и в трудные времена упорно боролось за сохранение гиганта. К началу 21 века "Атоммаш" освоил производство оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но смута прошла, а "Росатом" сумел не повторить судьбу "Роскосмоса" и сохранить мировое лидерство, помехой которому снова грозил дефицит производств. В 2012 году корпорация взяла "Атоммаш" в долгосрочную аренду, а уже в 2013 году объём заказов на заводе увеличился пятикратно. В 2015 году на Спецпричал привезли первый за 30 лет реактор - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС.
8.
За Сухо-Солёновским заливом поднимается Добровольский бугор, по которому в 1951 году получила названия железнодорожная станция. Не застроенный и не благоустроенный, пока он остаётся кусочком дикой степи в центре города, лишь в постсоветское время начавшегося вклиниваться в бурьян. Ниже моста - белая ротонда Набережной, которая тут представляет собой скорее круглый сквер у Кургана Казачьей Славы (2008) - довольно необычного памятника, для меня ставшего пожалуй главным упущением в Волгодонске: хорошие фото есть, например, здесь. С другой стороны - Троицкая церковь (2011-13), при взгляде с моста полностью закрывающая миниатюрный Ильинский храм (1992) в её дворе.
9.
Мост продолжается проспектом Строителей, у начала которого почти подряд расположены стела Строителям Волгодонска (2011), симпатичный въездной знак и ещё одна странная стела-цветок (1982), до недавнего времени завешанная рекламой. И в "лепестках" её теперь сложно представить 15 гербов некогда братских республик. За стелой едут троллейбусы - их система появилась в Волгодонске в 1977 году.
10.
Широкий и шумный, проспект Строителей врезается в микрорайоны на 1,5 километра, и машины на нём несутся как поток заряженных частиц, пытающихся расщепить Мирный Атом. На полпути к нему, у перекрёстка с улицей Энтузиастов, удобнее всего выходить:
11.
Здесь левее проспекта, у подножья трёх многоэтажек (1979-86), архитектура которых хорошо знакома всякому по панорамам Припяти, раскинулась безымянная, но огромная и людная площадь среди магазинов и ларьков. На другой стороне улицы Энтузиастов - зановоделенный кинотеатр "Комсомолец", а перед ним монумент (1981) со звучным названием "Корчагинский поход продолжается!". Что за поход - теперь и нагуглить не так-то просто, но в общем вполне умозрительно ясно, что это отсылка к Павке Корчагину из романа "Так закалялась сталь". Корчагинцы - это, в общем-то, те же стахановцы, только в следующем поколении: основателями движения считаются молодые комсомольцы военного времени, дни и ночи у мартеновских печей не смыкавшие за родину очей. Позднесоветские комсомольцы становились уже третьим поколением, и самое, пожалуй, впечатляющее в монументе - выписанные в столбик великие стройки, которые его авторы считали, видимо, самыми славными в истории СССР: БАМ, Атоммаш, Камаз, Целина, Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Боярка. Последняя, что совсем не очевидно из нынешних времён - это посёлок под Киевом, где Павка Корчагин со товарищи прокладывали узкоколейку сквозь Гражданскую войну.
12.
Пройдёмся чуть дальше по улице Энтузиастов, мимо гостиницы "Атоммаш" (1979) с на редкость стильными часами на фасаде:
13.
За бульваром Великой Победы - рынок "Олимп" с мозаиками, напоминающими о том, что прежде в здании был спорткомплекс:
14.
В сквере перед ним - ротонда (1995) весьма неожиданного в таком облике памятника афганцам:
15.
Вернёмся на проспект Строителей, за которым привлекает взгляд впечатляющая майолика:
16.
Но интереснее, перейдя проспект, углубиться во двор, от пейзажа которого на меня странно повеяло БАМом:
17.
Квартал пятиэтажек - пожалуй, самое невзрачное место во всём Новом городе. Но зато - исходное: первый дом (1976) "атоммашевской" стройки опознаётся по стеле "Ключи" (1982) у торца:
18.
Впечатляющий сюжет - дождь из ключей как аллегория города новостроек:
19.
Дальше по улице Энтузиастов - сквер с советским названием "Дружба" (1977) и совсем не советским дизайном:
20.
Мне в нём запомнились не корчагинцы за шахматами на заслуженном отдыхе, а аллеи с надписями из плитки:
21.
Новый Волгодонск состоит из микрорайонов с номерами В№ - цифры в них доходят до 22 (правда, не знаю, подряд ли), а вот буква "В" неизменна. В отличие от многих других городов, построенных в ту эпоху, дома тут нумеруются всё же классически, по улицам, да и приставка "микро" явно лишняя: внутри районов проходят целые улицы, а сами они огромны, как атоммашевские цеха. И Первый дом, и сквер "Дружба" - часть, причём даже в совокупности меньшая часть, самого обширного микрорайона В2, раскинувшегося на километр до залива. В1 с другой стороны улицы Энтузиастов заметно меньше, а внутри почти от угла до угла пересечён наискось широкой аллеей. По ней, вместо проспекта Строителей, я и направился в сторону Мироного Атома:
22.
На аллее обнаружились - скульптура "Весна" (1985):
23.
Мозаика на торце школы №13 (1978):
24.
И Донской казак с пушкой (1986):
25.
26.
От него уже рукой подать до Мирного Атома (1981):
27.
Расположенный на кольце в Т-образном перекрёстке проспекта Строителей и проспекта Курчатова, это главный памятник Волгодонска, композиционный центр города, примерно как Собор Василия Блаженного в Москве или Медный Всадник в Петербурге. Атом, видимо, принадлежит какому-то очень экзотическому, наблюдаемому в ядрах квазаров изотопу цимляния-100500, у которого электроны образуют пучки наподобие гроздей винограда:
27а.

С другой стороны проспект Курчатова упирается в зелёную стену цехов "Атоммаша":
28.
К концу 2010-х годов завод наконец превзошёл советские показатели: в 2021 тут было в работе 6 реакторов и 32 парогенератора (их к каждому реактору прилагается 4) против 4 реакторов в 1989-м, а вот рабочих на нынешнем "Атоммаше" порядка 6 тысяч, немногим больше, чем в смутные времена. Современные станки, в основном конечно же импортные, не требуют такого количества рабочих рук, как старые, и по словам местных, жизнь Волгодонска давно уже не завязана на "Атоммаш". В городе развита сфера услуг и хватает других предприятий: например, прямо на площадке "Атоммаша" немногим уступающий Первому цеху корпус №4 с 2018 года арендует компания "Нова-Винд", развернувшая там производство ветроэлектростанций. Ну а лучший вид на промзону открывается, наверное, с вот этих двух свечек, их крыш и балконов на верхних 17-х этажах:
29.
Между Свечками и Мирным Атомом раскинулась ещё одна безымянная площадь, отвечающая в Новом Городе за центр культуры и власти. Над площадью нависает огромный Дворец культуры имени Игоря Курчатова (1989):
30.
Барельефы которого напоминают о том, что изначально это был Дом культуры "Строитель":
31.
Органы государственной власти Волгодонска все в Старом городе, на том берегу Сухо-Солёновского залива. В Новом Волгодонске же за власть "Росатом", тем более "Атоммаш" не единственный его объект. С учётом всех сложностей в транспортировке ядерных реакторов, логичным решением было бы их использовать здесь же: в 1979 году в 20 километрах от Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища была заложена Ростовская АЭС о 4 энергоблоках, которая должна была стать третьей по мощности СССР после Запорожской и Ленинградской. Однако дальше грянул Чернобыль, и почти достроенная станция оказалась в центре внимания экоактивистов, а с ними и просто всех тех, кому хотелось хоть с чего-нибудь сорвать покровы. Город бурлил митингами, казаки при шашках и ногайках перекрывали дороги строительной технике, инженеры робка предлагали вынести вопрос пуска АЭС на референдум, а дети стояли с плакатами "Спасите нас!". В 1990 году, ещё до распада Союза, стройка было остановлена. Жертвой "чернобыльского синдрома" стало целое поколение атомных станций, как например в Горьком, Воронеже, Татарстане, Башкирии, Крыму, Одесской, Минской или Харьковской областях. Но если Крымскую АЭС или Воронежскую атомную ТЭЦ бросили готовыми на 75-80%, то готовность первого энергоблока РоАЭС оценивалась в разных местах в 95-98%. По сути готовую атомную станцию почти сразу законсервировали до лучших времён, которых ждать пришлось не так уж недолго. Стройка возобновилась в 2000-м году, и хотя без казаков и экоактивистов вновь не обошлось, уже к 2001 году Волгодонская АЭС из одного энергоблока всё же дала первый ток. Ещё три энергоблока были один за другими введены в строй в 2009-18 годах, сделав теперь уже полноценную РоАЭС 6-й по мощности (4070 МВт) электростанцией России - после Саяно-Шушенской, Енисейской и Братской ГЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Ленинградской АЭС. Но трудное рождение и близость Кавказа (а теперь и Украины) сказываются: о строгости местной охраны, которая вполне может не пропустить заранее согласованных корреспондентов из-за не указанных в заявке проводов или батареек, промоблоггеры слагают легенды. Но - всё-таки пишут и про РоАЭС.
32.
Идём дальше. За домом культуры, как принято в Волгодонске, скрывается парк - на этот раз подзапущенный Сквер Машиностроителей (1984):
33.
Обратите внимание, что он старше своего ДК, ну а старше сквера - фонтан "Любовь" (1981), пожалуй самый интересный из бесчисленных волгодонских памятников:
34.
Хотя бы потому, что фактически это ни что иное, как первый в мире памятник Владимиру Высоцкому:
35.
Напротив парка в парад памятников и многоэтажек вклинивается ещё один элемент - церковь Василия Блаженного (1994-95). Ещё одно отличие казачьего Юга от Сибири - тут действительно немало верующих людей, а потому церкви то и дело сверкают позолотой в серости микрорайонов:
36.
Дальше на восток уходит улица Кошевого - но не подпольщика Олега Кошевого из "Молодой гвардии" (см. Краснодон), а генерала Петра Кошевого, героя той же великой войны, отличившегося при освобождении Крыма. Родом с Херсонщины, к Волгодонску он не имел отношения, а необычный, прямо таки конструктивистский памятник ему поставили в 1985 году просто по названию улицы.
37.
Ну а в общем, за парадом многоэтажек и памятников в моём рассказе легко не заметить людей. Хотя стройки, каждая из которых учетверяла население, должны были сделать Волгодонск городом пришлых, по ощущениям тут вполне себе казачий Дон. Больше скажу, казаки-пролетарии - это оооочень гремучая смесь! Даже по самому поверхностному общению волгодонцы оставили впечатление людей вспыльчивых, жёстких, но очень открытых, и самое пожалуй точное слово - лихих. В одном месте гопницкого вида паренёк нарочито медленно, даже с остановками, переходил на красный свет многополосную шумную улицу, криво ухмыляясь и пуская сигаретный дым, а в другом месте мальчишка лет 10 со звонким голосом кого-то крыл по телефону таким матом, что уши бы повяли даже у прожженных работяг. Но с резкостью этой соседствуют отзывчивость и какая-то особая коммуникабельность: так, мужик, объяснивший мне дорогу и увидевший, что я пошёл не туда, не поленился меня догнать за пол-квартала, а покупка винограда с дачи на одном из многочисленных уличных рынков превратилась в милый диалог. Сами базарчики опять же напоминают, что мы хоть и среди многоэтажных домов - но в самом сердце плодородного черноземья. И может из-за этой открытости и лихости каждый человек тут словно преумножен: хотя в нынешнем Волгодонске 168 тыс. жителей, "на глаз" я был дал ему тысяч 250-300.
38.
Улица Кошевого выводит на пустыри так и не состоявшегося парка "Молодёжный" - заложенный в 1981 году, он должен был, раскинувшись на 23 гектар, стать крупнейшим в городе... и всё же меньше атоммашевского цеха №1. Парк в итоге так и не прижился, и там, где могли шуметь листвой аллеи, теперь машины поднимают пыль. Не удались ни аллея Победы, ни даже аллея Крымской весны, заложенные в середине 2010-х, и даже Рождественский собор так и строится с 2001 года, а открыт в нём пока лишь малый храм в подвале:
39.
Дальше сходят на нет и памятники, а за следующим проспектом Мира начинаются отголоски 4-й стройки заложенного в 1979-м завода "Энергомаш". Он мог бы превзойти "Атоммаш" числом рабочих (25 тысяч человек против 21 тысячи) и размером площадки, фактически став его второй очередью: "Атоммаш" в получившейся системе должен был сосредоточиться на изготовлении реакторов, а "Энергомаш" взял бы на себя заготовки для них, как и другое оборудование вроде парогенераторов. Второй его специализацией планировалось сделать оборудование для нефтегазовой промышленности... но стройка буксовала все 1980-е годы. Буксовала в самом прямом смысле слова: сколь идеальна для тяжелого машиностроения была география Волгодонска, столь и фатальна - его геология. В советских описаниях "Атоммаша" с гордостью пишут, что если на КамАЗе или АвтоВАЗе под каждую сваю цехов закладывалось 10-15 кубометров бетона, то здесь аж в полсотни (!) раз больше - 750 кубов. И дело было не только и даже не столько в исключительной капитальности и масштабности цехов, а в том, что весь Волгодонск стоит на лессовых "просадочных грунтах". Такой грунт как бы пышный, под микроскопом напоминающий соты, крошечные полости в которых начинают схлопываться под действие тяжести или воды. Каждая из великих строек здесь превращалась в борьбу логистов с геологами, и вот на "Энергомаше" геологи наконец взяли верх. Фактически работы на заводской площадке не велись с 1981 года, а в 1991 проект был похоронен официально. И лишь "энергомашевские" микрорайоны выросли за проспектом Мира и заселились людьми. В микрорайон В-У между проспектом Мира и Октябрьским шоссе я и направился ближе к закату:
40.
Здесь дома не случайно убраны в сайдинг, а один из них надстроен верхним этажом и как бы укорочен: ранним утром 16 сентября 1999 года следом за привычными уже нищетой, наркоманией и преступностью в Волгодонск пришла ещё одна беда смутных времён - терроризм. Причём даже не сказать, чтобы чеченский: одной из самых опасных террористических организаций тогдашнего Кавказа стала Карачаевский джамаат под началом Ачимеза Гочияева и Юсуфа Крымшамхалова, которых увлёк идеями ваххабизма окопавшийся в Ичкерии Чёрный араб Хаттаб. Тот самый, в бою с которым на выходе из Аргунского ущелья пал Сергей Молодов, памятник которому я показывал в прошлой части. Если чеченские террористы преуспели в захватах заложников, то карачаевские ваххабиты сделали ставку на взрывы жилых домов, даром что до увлечения ваххабизмом в 1997 году Гочияев дома не разрушал, а строил. Серия взрывов началась 4 сентября 1999 года в Буйнакске, продолжилась 8 и 13 сентября в Москве и завершилась ещё 3 дня спустя в прежде не затронутом терактами Волгодонске. Здесь карачаевские ваххабиты купили грузовик у азербайджанца Аббакули Искендерова, с вечера загрузили его картошкой и предложили владельцу с утра отогнать машину на рынок, где можно будет, пока корнеплод торгуется, и все документы подмахнуть. Аббакули не знал, конечно, что под картошкой спрятана взрывчатка, по обычаю Карачаевского джамаата расфасованная в сахарных мешках, и что взрыватель должен сработать через определённое время после запуска мотора. Террористы предполагали, что взрыв случится на рынке, однако не учли того, что драндулент у Искендерова был слишком стар и требовал основательного прогрева: выйдя с утра, Аббакули завёл машину и ушёл домой пить чай. А в 5:57 утра город проснулся от взрыва... Там, где стоит теперь памятник, изначально находилось три подъезда красного дома с кадра выше - разрушение были такие, что их осталось лишь сломать, а оставшуюся часть дома временно расселить, так как восстановление её затянулось на годы. Мощность взрыва оценивалась до 2 тонн в тротиловом эквиваленте, что сравнимо с ударом тяжёлой авиабомбы: обломки грузовика разлетелись по всему микрорайону, а в доме на другой стороне квартала ударной волной прогнуло внутрь железную дверь. И всё же взрыв снаружи дома не сравним по разрушительной силе с взрывом внутри: если московские теракты унесли сотни жизней, то в Волгодонске в то утро погибло 19 и было ранено 89 человек.
41.
Ну а откуда я знаю подробности? Двое возрастных мужиков, культурно выпивавших рядом на лавочке, сперва довольно агрессивно потребовали меня подойти, а дальше мы хорошо разговорились. Один воевал в Первой Чеченской, другой - во Второй. Один жил в той зелёной многоэтажке, что на кадре выше обращена к нам торцом: хотя тогда она была закрыта от взрыва секциями ближнего (ныне красного) дома, сотрясение земли перевернуло всю квартиру и разбило оконные стёкла. Другой товарищ оказался пенсионером "из органов", в расследовании теракта принимал самое непосредственное участие, а позже, по странной иронии, и квартиру в том же красном доме получил. Рассказать они успели многое, причём не только страшного. За спинкой лавочки был забор РУВД, и вот в ту ночь один коллега рассказчика нёс ночную смену, а под утро не удержался и лёг на диван подремать под вентилятором из кабинета начальника. Проснулся он от грохота и тряски, обнаружив себя уже не в кабинете, а в коридоре, среди обломков и пыли. Первая мысль его была "Нифига себе вентилятор бахнул!", а вторая - где его табельный пистолет?! Найдя ствол, вылетевший вместе с обладателем чуть дальше, милиционер успокоился, а выйдя на улицу, увидел, ЧТО на самом деле произошло. Из всех служб мужики больше всего хвалили пожарных, объявившихся на месте взрыва буквально через несколько минут: спасли они, наверное, многих, так как в повреждённой части дома многие квартиры были охвачены огнём. Больше всего же из всех жертв теракта мои собеседники вспоминали самую младшую, 17-летнюю Юлю Ананьеву, которая вообще из другого района приехала, а в ту злополучную ночь осталась в гостях у подруги...
42.
Дальше Михалыч (так звали того мужика, что из органов) позвал меня в гости: в восстановлено доме теперь ТСЖ, строгая консьержка и идеальная чистота в подъездах. В просторной холостяцкой квартире с пушистым котом он показал мне китель и награды да плёночные фотографии с Чеченской войны. Там были горные пейзажи, вертолёты в мутном небе, обветренные лица сослуживцев, тела двух боевиков на снегу, окрасившемся неестественно красной кровью, да всяческие суровые ребята из чеченцев пророссийских тейпов и дагестанских силовиков, один из которых был Михалычу столь близкий друг, что не смог отказать, когда тот попросил разрешения "хазануть" (ни за что б не догадался, что это значит "поцеловать"!) его жену в губы. Михалыч заварил чрезвычайно вкусный чай из смеси зелёного и каркаде, да положил туда домашнего мёда, а на мои намёки, чтобы пора бы мне уже идти, отмахивался "не тарахти, мы, казаки, такое не любим!". Наконец, мы всё-таки вышли во двор и в компании беженки из Чернигова стали ждать такси, которое он заказал мне до вокзала.
43а.
Напоследок - несколько видов Ростовской АЭС через простор водохранилища со стороны Цимлянска. Как на ладони все четыре энергоблока и колоссальные градирни по 171 метр высотой - наряду с такими же градирнями строящейся Нововоронежской АЭС-2 они крупнейшие в России.
43.
С завтрашнего дня Ростовская АЭС будет уже не 2-й в России (после Ленинградской), а третьей - у Запорожской АЭС мощность 5700 МВт. И с другого берега Днепра последняя выглядит так же...
44.
Так что слова "в следующей части" пока не рискну написать.
Волгодонск и окрестности (2021-22)
Обзор поездки и другие посты из неё.
Цимлянск.
Гидроузел и Старый город.
Новый город.
Атоммаш.
|
Метки: Зона заражения Атомная быль железнодорожное Волгодонск дорожное транспорт злободневное индустриальный гигант Ростовская область Русский Юг |
Волгодонск. Часть 1: Гидроузел и Старый город |
Волгодонск - большой город (168 тыс. жителей) в Ростовской области, в самом сердце бескрайних степей Русского Юга. И хотя степи эти с их полями и станицами не похожи на сибирскую тайгу, от любых ориентиров Волгодонск далёк вполне по-сибирски. До Ростова-на-Дону отсюда 230 километров узких убогих дорог, а до Волгограда - все 300, и нет рядом ни аэропорта, ни скоростной трассы, ни магистральных железных дорог. Советская власть видела сам Волгодонск будущим центром притяжения, на исходе своего существования построив в нём колоссальный завод "Атоммаш", который я увидел на год раньше города. Что же до транспорта, то как нетрудно догадаться из названия, основной путь сюда должен был пролегать не по воздуху, асфальту или рельсам, а по речной воде. Главная достопримечательность Волгодонска - его гидроузел с Доном и двумя каналами, завершивший соединение Пяти морей. С одной его стороны расположен маленький и очень колоритный Цимлянск, который я показывал в прошлой части, а с другой - старая часть Волгодонска, которую покажу сегодня вместе с самим гидроузлом.
Волга и Дон - две главные реки Русского Юга, текущие почти параллельно, однако - в разные моря. Примерно на одной широте Волга сильно сдаёт на запад, а Дон - на восток, в нынешней Волгоградской области образуя самый настоящий Волгодонский перешеек порядка 60 километров шириной. И конечно, во все века все жившие между Пяти морей цивилизации пытались соединить две голубые дороги. С незапамятных времён известна Волгодонская переволока, на порядок более простая, чем многочисленные русские волоки: на всём её протяжении, кроме волжских яров - плоская голая мягкая степь, где не надо было корчевать лес и строить сложные судоподъёмники. Переволока исправно работала при Хазарском каганате и Золотой Орде, а вот с её распадом в 14-15 веках опустела надолго. Даже когда Россия овладела всей Волгой, перешеек виделся скорее рубежом, который лучше перепахать для надёжности: низовья Дона удерживались Крымским ханством и Османской империей, в 1569 году пытавшейся экстренно восстановить переволоку для переброски флота на помощь татарским ханствам.
1а.
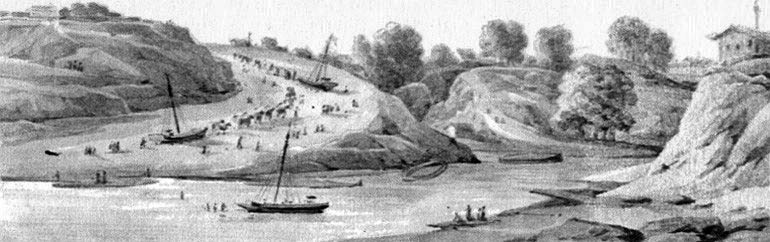
Вновь о прямом выходе в Дон задумался Пётр I, в своих Азовских походах столкнувшийся с тем, что верфи и оружейные производства под эту кампанию пришлось создавать с нуля (см. Воронеж). По чисто логистическим причинам: потенциал оружейных заводов Москвы, Тулы или Казани не мог быть использован из-за этих несчастных 60 степных километров! Так возник Петров Вал: государь пытался соединить Волгу и Дон не перевалкой, а полноценными судоходными каналами, правда не напрямик, а через притоки Иловля и Камышанка. Первый канал длиной 15 километров и шириной 27 метров с 10 шлюзами и 4 плотинами в 1697 году начали строить голландский адмирал норвежского происхождения Корнелий Крюйс и немец Иоганн Бреккель, но кажется, в проект их закралась ошибка. К 1698 году строители прошли 4 километра, но стоило было запустить воду - как она смыла большую часть их трудов. Приглашённый на роль кризис-менеджера английский инженер Джон Перри, которого царь приметил ещё в своём Великом посольстве, предложил новую трасса канала шириной уже 40 метров, и к 1702 году стройка, на которой было задействовано до 15 тыс. человек, продвинулась на 8 километров. Затем, однако, внимание Петра I полностью переключилось на Балтику, сухие русла двух каналов казаки и крестьяне последующих веков принимали за валы и рвы, и даже нынешний город Петров Вал был основан в 1942 году там, где их пересекла Волжская рокада. Основным транспортом переволоки так и остались тяжёлые телеги, называвшиеся хорошо известным современным человеку словом "фуры":
1б.
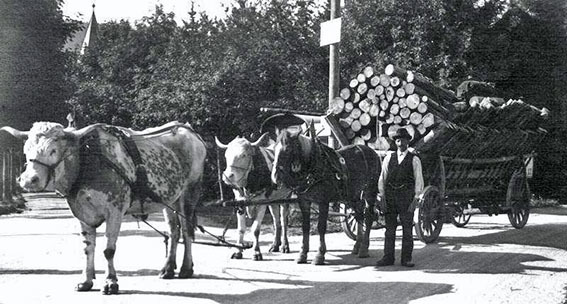
Идея канала меж Волгой и Доном оказалась забыта надолго, а новую попытку хотя бы улучшить переволоку предприняли полтора века спустя псковский помещик Дмитрий Васильчиков, тамбовский декабрист Александр Сабуров и советник коммерции Николай Попов, в 1843 году учредившие "Компанию железно-конной дороги между Волгой и Доном". К 1846 году была проложена Дубовско-Качалинская конно-бычья железная дорога длиной 63 километра. Сами по себе железные дороги на гужевой тяге к тому времени плотно вошли в обиход и порой, как например на рудниках Змеиногорска, были впечатляюще сложны. Вот только звать рудничных мастеровых для прокладки магистрали - идея явно не лучшая: на большей части пути рельсы были уложены даже без насыпи, так что линия регулярно выходила из строя в распутицу. Большинство из 142 вагонов, рассчитанных на 3,2 тонны груза, пришли в негодность в первый же год. Но самым фатальным недостатком ДКкбЖД оказалось то, что проходила она лишь по ровному плато - 4 километра спуска к Дону и 350 метров яра перед Волгой оказались не под силу конно-бычьей тяге. Таким образом, товары между Волгой и Доном приходилось перегружать аж четырежды, и потому совсем не мудрено, что успехом дорога не пользовалась. В первый год она перетянула на себя лишь 15% грузооборота переволоки, убыток превышал прибыль как бы не втрое, и уже в 1852 году проект был закрыт, а рельсы проданы, и вновь от насыпей близ Дубовки остались валы. Однако Васиьчиков и Сабуров были на верном пути: уже в 1858 году нефтяной магнат Василий Кокорев из бакинского Сабунчи и судовладелец Николай Новосельский, владевший в Баку пароходством "Кавказ и Меркурий" и мечтавший о выходе в Чёрное море, организовали новое акционерное общество. К проекту был привлечены ведущие инженеры Петербургско-Московской и Петербургско-Варшавской железных дорог, и хотя хищения и произвол на стройке были таковы, что в 1859 году здесь случился мор, а в 1860 настоящее восстание рабочих, к 1862 году изолированная Волго-Донская железная дорога длиной 78 километров с 5 станциями связала Калач-на-Дону и Царицын. Большая, по сравнению с Дубовско-Качалинской линией, длина компенсировалась гораздо более удобными выходами на речные порты. Насыпи и пути были уложены по всем магистральным стандартам, да и составы тягали не кони и быки, а паровозы. В 1878 году ВДЖД соединилась веткой до станции Грязи с общероссийской сетью железных дорог, однако географы, чиновники и предприниматели по-прежнему мечтали о пути меж двух морей без перевалок. Достаточный для этого ресурс удалось консолидировать лишь при Советах...
2а.
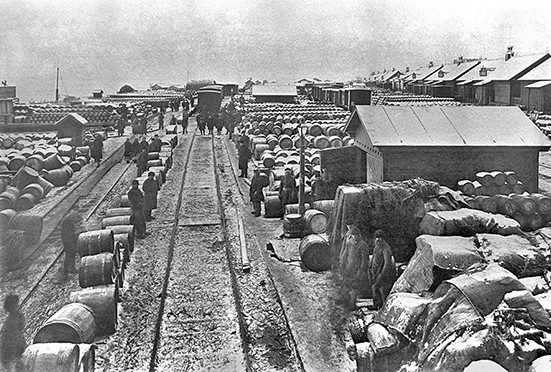
Собственно, советские инженеры быстро поняли ошибку всех своих предшественников: те пытались взять перешеек "в лоб", проложив канал меж двух рек напрямую. Хотя сама трасса Волго-Донского канала намечалась там же, между Калачом и Царицыном (к тому времени успевшим превратиться в Сталинград), ключевым элементом проекта должно было стать водохранилище на Дону, которое бы обеспечило нужное соотношение уровней воды, да и на не слишком могучей реке улучшило бы условия для судоходства. И пока "заключённые каналоармейцы" соединяли Москву с Каспием, Каспий - с Балтикой, а Балтику - с Белым морем, инженеры и госпланщики искали оптимальное место для плотины, чтобы прицепить ко всему этому ещё Азовское и Чёрное моря. Окончательный проект под руководством Сергея Яковлевича Жука был представлен в 1944 году, а в 1948 году, чуть только оправившись от войны, Страна Советов начала его реализацию. Среди руководителей которой были такие личности, как Карп Павлов, (прежде начальник "Дальстроя") или Василий Барабанов (прежде строил Трансполярную магистраль): на стройке было задействовано 100 тысяч пленных немцев, 20 тысяч заключённых и десятки тысяч вольнонаёмных работяг. В глухой голой степи работ был непочатый край: ближайшая крупная станица Цимлянская - и та попадала в зону затопления. В 1950-52 годах в под Сталинградом был сооружён сам канал длиной 101 километр (из них 45 по водохранилищам) с 13 шлюзами, а в Ростовской области выросли Цимлянская ГЭС, сложный гидроузел и города Цимлянск и Волгодонск для их обслуживания. Чуть раньше, в 1949-50, была проложена железная дорога, изначально представлявшая собой две разные линии: Морозовская - Цимлянск (89км) от магистрали Москва - Ростов и Волгодонская - Куберле (66км) от линии Волгоград - Новороссийск. Соединившаяся к 1952 году по 12-километровой дамбе гидроузла, линия Морозовская - Куберле так и осталась малодеятельной однопуткой: единственный (!) дальний поезд Петербург - Адлер проходит Волгодонск раз в два дня летом и раз в неделю зимой. И вот на рассвете этот поезд вёз меня берегом Цимлянского моря, навстречу башням и колоннадам античного облика:
2.
Дон - река не сказать чтобы мощная: с расходом воды 680 м³/с он в 12 раз уступает Волге и вдвое - Оке. Однако не просто так Дон прозвали тихим: течение его медленное, пойма широкая, а уклон русла небольшой. Как результат, даже весьма средняя по размерам Цимлянская ГЭС образовала на нём пятое по площади водохранилище России: крупнее искусственные озёра лишь у Жигулёвской, Братской (на Ангаре), Рыбинской и Волгоградской гидроэлектростанций. При площади 2702 км², Цимлянское море вытянулось 310 километров до Калача-на-Дону и Пятиморска огромной лентой с почти постоянной шириной около 15 километров. Если в большинстве случаев гидроэлектростанции строились для получения тока, а водохранилища становились неизбежным злом, в котором госплан был вынужден искать хоть какую-то пользу, то здесь всё выходило иначе: Цимлянская ГЭС строилась в первую очередь для регулирования воды в Доне и питания Волго-Донского канала, а электрическая мощность (211 МВт - меньше средненькой ТЭЦ в облцентре) выходила скорее приятным бонусом.
3.
Со стороны Цимлянска его ГЭС встречает первой из объектов гидроузла. До 2006 года по ней проходило соединяющее два города Цимлянское шоссе, но расширять его здесь было некуда, а потому новую дорогу меж двух городов проложили ниже по течению. Теперь проехать по ГЭС можно только на поезде, с верхней стороны она лучше всего вида из Цимлянска (см. прошлую часть), а вот чтобы полюбоваться снизу - нужно сделать 20-километровый крюк почти что через Волгодонск. От старого шоссе остался тупик среди дачных товариществ, где ещё стоят заброшенные придорожные кафешки. Ближе к Дону дачи сменяются базами отдыха, и ниже базы "Теремок" я вышел на тинистый берег:
4.
Бетонная плотина Цимлянской ГЭС в общем-то невелика по меркам советского гидростроя - 45 метров высотой, 496 метров по гребню. Но как и многие сооружения Волго-Дона, это архитектурный шедевр своего жанра:
5.
Даже в сугубо утилитарных частях - настоящий "высокий сталианс", как в вокзалах городов-героев или московских высотках.
6.
На башне главного здания же не меньше советского герба впечатляет современный логотип: Цимлянской ГЭС владеет не "РусГидро", не территориальная генерирующая компания, не какой-нибудь из окрестных заводов, а "ЛУКойл", которому принадлежит ещё пяток мини-ГЭС в Краснодарском крае и Адыгее: для добычи углеводородов вполне можно использовать и безуглеродные источники энергии.
7.
Но - вернёмся на главную дамбу, тянущуюся из Цимлянск в Волгодонск. ГЭС остаётся позади, однако гидроузел только начинается, и впереди, в просторе Цимлянского моря, хорошо видно ещё пару дамб. Северная дамба уходит на 1,5км перпендикулярно берегу и не примечательна в общем ничем, а Восточная дамба представляет собой искусственный остров длиной 1580м, увенчанный небольшим маяком со стороны моря:
8.
Дамбы образуют аванпорт, на берег которого можно выехать опять же лабиринтами дачных товариществ, столь причудливыми, что иные встречные говорили таксисту, что проезда тут вовсе нет, а кругом бдит охрана. Но таксист помнил, что проезд существует, и не с первой попытки, накрутив рублей 100 лишних по счётчику, таки вывез меня на бетонный берег залива Цимлянского моря:
9.
На кадре выше - ненадолго оставшаяся без железной дороги береговая дамба, через которую перекинуты трубы водозабора, и Северная дамба на заднем плане. За Восточной дамбой - кварталы "атоммашевского" Нового города с заложенным в 2001 году собором Рождества Богородицы:
10.
Ближе высится монумент "Соединение Пяти морей":
11.
Канонически подразумевающий Балтийское, Белое, Чёрное, Азовское и Каспийское моря, но думаю, этот список не у меня одного вызывает вопросы? Оставим за скобками спор, считать ли Каспийское море озером, но что тут делает Чёрное море? Волга-Днепр - это не канал, а грузовая авиакомпания, и ни одна из связанных Единой глубоководной системой рек в Понт не впадает. Если мы считаем Чёрное море как продолжение Азовского, то где же тогда Мраморное и Средиземное моря? А если речь идёт только о морях, омывающих берега России, то где же Баренцево море, в которое суда неизбежно приходят из Белого моря? Самый, пожалуй, логичный критерий - это доступность для судов "река-море": одно и то же судно может пройти берегами да каналами из Махачкалы или Севастополя в Калининград или Архангельск, а вот из Тартуса в Мурманск путь только в обход Европы, ибо такой класс судов не пролезет в канал.
11а.

Ну а место для памятника выбрано не случайно. К 101 километру и 13 шлюзам Волга-Дона под Волгоградом добавляется ещё 5,5 километров и 2 шлюза здесь. Фактически, конечно, это не канал, а судопроход Цимлянской ГЭС, однако нумерация шлюзов сквозная. Первоначально шлюзы планировалось сделать двухниточными, но в итоге канал так и остался однопутными: кадры выше сняты с края мрачного, похожего на заброшенный док недостроенного шлюза №14а:
12.
Рядом - сам Четырнадцатый шлюз с огромной аркой, лучший вид на которую открывается опять же из поездов:
13.
С моста, который в 1951-52 годах замкнул линию Морозовская - Куберле:
14.
Лучший вид на него, в свою очередь, открывается с автодорожного моста (1998-99), предшественник которого (1951-52) был повреждён в 1993 году ударом не попавшей в габарит судовой мачты. Теперь от него осталась лишь арка такого вида, словно не Дон тут течёт, а Танаис:
15.
Вниз вдоль канала по правому берегу тянется странная однополосная дорога - в смысле у неё не одна полоса в каждую сторону, а одна полоса всего. В сентябре, однако, по ней весьма активно ездят рыбаки, порой пропускающие друг друга на специальных "карманах":
16.
Где-то в 1,2км от Цимлянского шоссе над лесом появляются Казаки - две скульптуры с заглавного кадра, в 1953 году увенчавшие последний волго-донской шлюз №15. Такой кадр, думается, в свете нынешних событий уже не сделать: шлюз обнесён высоченным забором, из-за которого только статуи и видны, и я внаглую просунул объектив через ворота прямо под камерой.
17.
А после изрядно напрягся, когда на хвост нам сел неспешный полицейский джип... Дорога тянется ещё 3,5 километра, упираясь в ворота детского лагеря "Маяк":
18.
Слева, за полосатый шлагбаум - ещё несколько сотен метров до настоящего маяка у выхода в канал из Дона:
19.
Высота ныне заброшенной башни - 25 метров, а архитекторы явно вдохновлялись маяками Античности. Подойдя к основанию, я подёргал за железную дверь, и дверь, к моем удивлению, открылась. Внутри оказался тёмный пыльный зал и усеянные голубиным помётом крутые шаткие лестницы без перил, с которых страшно упасть не столько самому, сколько вместе со всей конструкцией. Но разве я мог не влезть под ротонду?
19а.

Сперва оглянемся назад, на арки и пилоны обоих шлюзов:
20.
За Казаками виден элеватор в речном порту: почти через весь Волгодонск врезается Сухо-Солёновский залив, получивший своё название по двум затопленным мелким речкам. В устье залива и расположен немаленький по речным меркам порт, а сам залив делит Волгодонск на Старый город гидротехников и химиков и Новый город атомщиков и машиностроителей.
21.
Канал и русло Дона сходятся к маяку почти равнобедренным треугольником, и повернув голову левее, полюбуемся на сам тихий Дон:
22.
Вдали видны обе нитки Цимлянского шоссе, ныне представляющего собой что-то вроде буквы Y. Старое, как уже говорилось, шло по плотине ЦимГЭС, а новое проходит по открытому в 2006 году мосту длиной 775 метров:
23.
Левее виднеется Камшацкий бугор, в 1950-52 годах покрывшийся Цимлянском - станица, в честь которой назван этот городок, стояла в 30 километрах выше. Издали хорошо заметны обрывы и ротонда Приморского парка и сталинки Городка Энергетиков на площади Победы, включая ДК и высокую башню бывшего управления гидроузлом. Я прозвал её Белая Вежа - ведь этот древний город, основанный в 834 году хазарами и византийцами как Саркел, покорённый в 965 году Святославом, разрушенный в 1117 году половцами, а населённый во все времена аланами и тюрками, лежит под водой где-то рядом.
24.
Левее в мареве просматриваются ещё две белых вежи: 30-метровая Стела памятника гидростроителям (1952) и далёкая башня Цимлянского винзавода (1962) - всё это я показывал в прошлой части:
24а.

Ещё левее - собственно, стрелка Дона и Волга-Дона, которые здесь примерно одной ширины:
25.
Стрелку отмечает деревянный обветшалый "Челн Степана Разина" (1981), в котором можно заподозрить ещё и памятник главному инженеру строившегося гидроузла Николаю Разину.
26.
Полюбоваться памятником можно и с берега... но только лучше с другого берега или фарватера, на который и глядят речные пираты. Больше всего же меня удивили бакланы - судя по всему, ренессанс этой прожорливой напасти переживает не только Байкал.
27.
И совсем не очевидно, что из Цимлянского водохранилища выходит не один, а два канала: в километре ближе к Волгодонску начинается ещё и Донской магистральный канал. Он длиннее Волго-Дона (195 километров), но гораздо мельче и извилистее - тот рассчитан на проходы судов длиной до 145м, шириной до 18м и осадкой до 4,5м, а этот лишь орошает засушливые Сальские степи, жарким летом выгорающие до состояния полупустынь. Он тянется вдоль Сал-реки, заканчиваясь в Весёловском водохранилище на Маныче:
28.
Дороги к ЦимГЭС, аванпорту и устью канала расходятся почти что от въездного знака на шоссе, который на этом фото слева. За ним мост через судоходный канал, далее начинается неприметный внешне посёлок первостроителей Шлюзы между двух каналов, а окончательно Волгодонск вступает в свои права за оросительным каналом. Об этом напоминает ещё один въездной знак - Мирный Атом:
29.
Итак, Цимлянск и Волгодонск начинались синхронно как даже не города-братья, а города-коллеги: первый строил и обслуживал ГЭС, второй - каналы. И цимлянской белой площади Победы вторит тёмная волгодонская площадь Ленина, застроенная в те же времена. С одной её стороны - бывшее Управление Гидросооружений (1951), ныне ставшее мэрией:
30.
К крыльцу которой кто-то поставил Мирный Атом как напоминание, что Новый город - тоже Волгодонск: это уменьшенная копия монумента, который я покажу в следующей части.
30а.

Главный памятник на площади - "Гидростроитель и речник" (1952). На другой стороне - Здание-под-Шпилем (1953), занятый всяческими организациями, старейшая из которых - почтамт. Замыкает ансамбль Дворец культуры "Юность" (1957), до 1962 года клуб лесоперевалочной базы:
31.
На краю площади, за ДК - памятник "Пётр I и Антиох Кантемир", поставленный в 2018 году по случаю визита в Россию молдавского президента Игоря Додона, на которого Кремль тогда возлагал большие надежды. Пояснительный текст гласит, что господарь Антиох Кантемир, искавший у России защиты, а в итоге бежавший сюда после поражения Петра I в Прутском походе, привёз с собой в том числе молдавских виноделов, помогавших цимлянским казакам (см. прошлую часть) в этом деле.
32.
От площади на юг тянется улица Ленина, арка на которой ведёт в парк "Юность" (1952) за ДК:
33.
Его аллея упирается в удивительно красивый фонтан в виде жемчужниц (1979):
34.
А чуть в стороне от неё в облике Социалистического Ангела запечатлён Виктор Лецко (1978) - советский ас, живший, однако, в наимернейшее время, а потому прославившийся как чемпион мира по высшему пилотажу и разбившийся на одной из тренировок.
35.
Уходим из парка. Вот так выглядит фига в кармане:
36.
Улица Ленина, уходящая дальше на юг, представляет собой изумительно тенистый, хотя и странно узкий бульвар:
37.
Ближайшие к площади кварталы застроены сталинками знакомых по Цимлянску проектов. Первые из них сданы в 1950 году, то есть это старейшие здания двух городов:
38.
Среди них стоит памятник Пушкину (1982) с кадра выше, а вот местная то ли больница, то ли аптека, судя по барельефу, лучше всего лечила от червей:
38а.

Но в общем сталинок хватает дай бог на пару кварталов, а дальше пейзаж Волгодонска становится абсолютно заурядным и простым. Даже позднесоветское здание кинотеатра "Восток" (он же с 2003 ДК "Радуга", с 2017 - Волгодонский молодёжный драмтеатр) тут кажется откровением:
39.
В основном же глаз цепляется за многочисленные памятники 1980-х годов...
40.
...и узорчатые балконы хрущёвок:
40а.

И сейчас уже совсем не очевидно, что изначально в паре Волгодонска и Цимлянска ведущим выходил скорее Цимлянск. Вернее, тогда, в начале 1950-х, это были посёлки городского типа Цимлянский и Волго-Донский, оба с населением по 9 тысяч человек. Портом Пяти морей быть, конечно, почётно, но всё же советский город по-настоящему шёл в рост лишь с появлением крупной промышленности. И Волго-Донский обязан превращением в город уже не гидрострою, а Большой Химии: в 1955 году близ города началось строительство Комбината синтетических жирозаменителей - советская власть резонно рассудила, что используемые для технических целей продукты сельского хозяйства лучше техническим же способом и получать. Позже специализации завода менялись, и к 1976 году КСЖЗ превратился в Волгодонский химический комбинат имени 50 лет ВЛКСМ, специализирующийся на синтетических моющих средствах, а в 2006 получил звучное название "Кристалл". И именно с этой стройкой, уже в 1956 году, ПГТ Волго-Донский стал городом Волгодонск, а к середине 1970-х разросся до 40 тыс. жителей. Центром города химиков стала площадь Победы с высокой воинской стелой (1970)...
41.
...неплохим, говорят, Волгодонским историко-экологическим музеем (1969) и ДК "Октябрь" (1967), столь невзрачным, что я его не то что не снимал, а тупо не увидел: лишь задний план вот этого кадра с военной техникой напоминает мне, что он тут вообще есть. Рядом - памятник "Детям войны" (2020):
42.
И всё это - на опушке обширного парка "Победа", разбитого в 1965 году:
43а.

В середине его - перекрёсток аллей с монументом Воину-Освободителю (1985):
43.
От него направо (если идти с площади) уходит Аллея Материнской Славы:
44.
Налево - Аллея Воинской Славы:
45.
С довольно необычным памятником Городам-Героям:
46.
Дальше в парке - прогуливающийся народ, открытые кафешки и аттракционы среди живописных форм искусственного рельефа:
47.
48.
И пилоны с факелами, отмечающие начало и конец главной аллеи:
49.
Вернёмся на площадь. В гостинице на ней я жил ещё в прошлогодний приезд на "Атоммаш", а в ресторане за искусственным водопадиком наш блог-десант обедал. Ну а параллели двух площадей завершает памятник: если на площади Ленина был увековечен молдаванин Кантемир, то на площади Победы - болгарий Георгий Димитров (1982), вроде бы никакого отношения к Волгодонску не имевший.
50.
Улица Ленина тянется дальше на юг, и я фотографировал даже не все её памятники:
51.
В одном из скверов есть ещё и Аллея Семейной Славы, на которой висят фотографии "золотых пар", проживших 50 лет вместе:
52.
По мере удаления от гидроузла Волгодонск всё больше делается обычным южнорусским городом с его толчеёй, шумом машин, громкими разговорами, стихийными крестьянскими базарами, хитрыми взглядами армян, цепкими руками цыган, хэканьем и шоканьем. Один из самых индустриальных городов страны, Волгодонск не впечатляет индустриальной атмосферой, как столь же чернозёмные города Донбасса. Нет, здесь ни дать ни взять окраина Краснодара или Воронежа!
53.
Улица Ленина приводит к площади Молодова, которая в Старом городе отвечает за третью градацию центра (после административной и культурной) - торговую. К ней примыкают советский ЦУМ "Радуга" (кадр выше), новодельный "Донской привоз", торговые ряды, ларьки и просто развалы фруктов и овощей на лотках и ящиках. А посреди всего этого буйства жизни - молодой герой безнадёжного боя русских десантников в Аргунском ущелье:
54.
Здесь я свернул на улицу 30 лет Победы среди высоких домов уже следующего, "атоммашевского" периода волгодонской истории. Среди них - стела 40 лет Мира:
55.
Улица привела меня на площадь Дзержинского со стелой Штык (1981), поставленной в честь пограничников:
56.
Фактически всё это уже Новый город: в 1970-80-х, с появлением "Атоммаша", Волгодонск снова разросся в 4 раза - теперь до 180 тысяч жителей, и с той поры, как водится, немного сдал. Но будем верны устоявшейся географии: Старый город - всё, что на этом берегу залива, и когда я спросил, как ехать до Нового города, удалой донской мужичок проводил меня к автобусной остановке.
56а.

Конечно, в Старом Волгодонске я увидел далеко не всё: памятники (обзор их есть здесь), а так же две церкви Елисаветы Фёдоровны (1995-96) и Крестовоздвижения (1997) почти равномерно рассеяны по микрорайонам. Не успел я и в Красный Яр - район на самом юге, до 2004 года отдельная станица, в 1949 году перенесённая из зоны затопления. Перенсённая, отчасти, в прямом смысле: там есть казачий курень 19 века, в 2003 году оборудованный под музей. Но сентябрьского дня на Волгодонск и Цимлянск едва хватило, а за Сухо-Солёновским заливом есть ещё и Новый город. О котором будет следующая часть.
Волгодонск и окрестности (2021-22)
Обзор поездки и другие посты из неё.
Цимлянск.
Гидроузел и Старый город.
Новый город.
Атоммаш.
|
Метки: Волгодонск дорожное Молох казаки транспорт деревянное индустриальный гигант Ростовская область Русский Юг |
Цимлянск. Красное вино у Белой Вежи |
Южнорусские степи в четырёхугольнике между Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Волгоградом и Воронежем - столь же густонаселённые, сколь и глухие места. Тут много станиц, хуторов и сёл, да и городов хватает - но города эти невелики и с виду те же станицы. Под конец своего существования СССР задумал сделать центром этого пространства Волгодонск, само название которого намекает на расположение, так и требующее соорудить завод чего-нибудь слишком габаритного для перевозок по железной дороге. Таким заводом стал "Атоммаш", под металлическом небом колоссальных цехов которого я побывал почти что ровно год назад. Ну а теперь, по пути на Кавказ, добрался и до самого Волгодонска, однако рассказ о нём начну с другого берега, где стоит весьма колоритный и очень симпатичный городок (14 тыс. жителей) с почти библейским именем Цимлянск.
Дата основания Цимлянска столь же условна, как и сам его въездной знак, странно расположенный на захолустной окраине среди пустырей и пыльных тупиковых улиц. На самом деле эту дату можно сдвинуть как на тысячу лет назад, так и на три века вперёд: первый город на этом месте строили ещё византийские зодчие для Хазарского каганата, а нынешний - гулаговские зэки для советского гидростроя.
2.
Ведь сама аббревиатура з/к означает "заключённый каналоармеец" - подобно древним фараонам, советская власть использовала подневольный труд для прокладки каналов. Ещё до войны появились пути от Балтики к Белому морю (1931-33), от Москвы-реки к Волге (1932-37) и по мотивам царских ещё водных систем - с Волги на Балтику. "Легко сказать - разбор скалы, а вот посмотрите, КАК её разбирают", - запомнилась мне подпись к чёрно-белой фотографии толпы людей в робах и с ломами в какой-то перестроечной книге. Но трудились зэки не только среди холодных скал и комариных топей: три из пяти морей, портом которых сделалась Москва, лежат на юге. Там, посреди степи, где Волга всего на полсотни километров сближается с Доном, ещё еврейские купцы-раданиты возили товары по Шёлковому пути и турки пытались перебросить свой флот на подмогу ханской Астрахани. Россия пыталась соединить две главные реки своего Юга не единожды, ну а советские инженеры быстро поняли ошибку своих предшественников со дворов царей, султанов, каганов и василевсов - те неизменно заходили "в лоб", планируя стройку из района нынешнего Калача-на-Дону к опять же нынешнему Волгограду. Советский гидрострой поступил хитрее: основой канала должно было стать водохранилище, которое бы поддерживало в нём напор и на самом Дону порядком улучшало условия для судоходства. Где перекрыть Дон, инженеры и госпланщики спорили все 1930-е годы, в итоге найдя оптимальное место в трёх десятках километров ниже устья Цимлы. В 1949-51 годах здесь была построена единственная на Дону, и не слишком в общем-то большая Цимлянская ГЭС (211 МВт), однако в плоских степях она подпёрла 5-е по величине (после Братского на Ангаре и Куйбышевского, Рыбинского и Волгоградского на Волге) водохранилище России. Цимлянское море раскинулось на 2702 км², вытянувшись на 310 километров до Калача-на-Дону и Пятиморска широкой лентой с почти постоянной шириной около 15 километров. Его воды поглотили Цимлянскую станицу со старейшими в России виноградниками, городище древнего хазарского Саркела, участок железной дороги Ростов-Сталинград и многое другое, но сделались узлом путей пяти морей и двух океанов. Для гидростроителей и выселенцев в 1950-52 годах на высоком Кумшацком бугре был построен "под ключ" ПГТ Цимлянский, в 1961 году превратившийся в город Цимлянск.
3.
В 1952 году, к запуску Цимлянского гидроузла, над Кумшацким бугром поднялась 30-метровая белая Стела, как называют цимляне памятник гидростроителям. Издали она смотрится гордо, а вот вблизи у монумента жалкий заброшенный вид:
4.
Въездной знак среди тупиковых улиц на депрессивной окраине вовсе не случаен: до конца 2000-х именно здесь находился главный въезд в город из Волгодонска. Первоначально соединяющее два города Цимлянское шоссе проходило прямо по плотине, но в 2008 году открылся новый путь в обход. Техническая трасса, которую было тупо некуда расширять между откосом дамбы и железной дорогой, по сей день хорошо видна от Стелы:
5.
До первых кварталов Волгодонска отсюда дай бог десяток километров, но заслуживают эти километры целого отдельного поста: дорога пересекает сам Дон с гидроэлектростанцией, Волго-Донский канал с арками шлюзов и Донской магистральный канал для орошения манычских полупустынь. ГЭС во всю длину видна на кадре выше, а вот её основное здание на фоне 14-го шлюза Волго-Донского канала и кварталов Старого Волгодонска за ним:
6.
Правее виднеется последний 15-й шлюз на фоне химзавода "Кристалл", пущенного в 1955 году и ставшего крупнейшим предприятием Старого Волгодонска. Ныне он производит стиральные порошки и моющие средства под маркой "Фэнси", а труба принадлежит Волгодонской ТЭЦ-1 (1958), с 2011 года используемой как зимняя котельная:
7.
Правее, за аванпортом с маяком на характерной дамбе, откуда начинаются и судоходный, и оросительный каналы, виден Новый Волгодонск, построенный в 1970-80-х вместе с "Атоммашем", к которому прилагается ТЭЦ-2 (1977-89, 420 МВт) с довлеющей над городом 270-метровой трубой:
8.
От Стелы пойдём в центр, за пределами которого Цимлянск представляет собой типично южное море частного сектора:
9а.

Среди которого выделяется пара новодельных церквей - Никольская (1996-2000):
9.
И Пантелеймоновская (1992-97), построенная как её времянка:
10.
Рядом с церквями, на Морской улице, уже попадаются первые сталинки Городка Энергетиков - этакие советские коттеджи с верандами:
11.
О многих зданиях и планах городов раннего СССР пишут в учебниках и путеводителях, что они строились в форме серпа и молота. Я, натыкаясь на такое при подготовке к поездке или написании поста, обычно долго вглядываюсь в карту или спутниковый снимок, но рабоче-крестьянских инструментов не вижу обычно в упор. Цимлянск тут - исключение: его серп-и-молот хоть и растворён в обычных улицах, а всё же на карте отлично читается. Морская улица служит прямой ручкой серпа, а продолжающая её за поворотом (вернее, аж тройной развилкой) у Пантелеймоновской церкви полукольцевая Набережная улица - лезвием:
11а.

На сгибе лезвия - колонны Цимлянской гидрометеорологической обсерватории (1951), обеспечивавшей прогнозами судоходство Волго-Дона. Теперь вид её полузаброшенный:
12.
По левой стороне Набережной улицы тянутся белые домики:
13.
13а.

По правой - запущенный Приморский парк:
14а.

В дебрях которого ещё стоит заброшенный бювет "Атлантида" (1986) над 300-метровой скважиной минеральной воды:
14.
Вскоре улица Набережная выводит на площадь Победы, представляющую собой боёк геральдического молотка. На опушке парка - памятник воинам-освободителям, небольшой отряд которых во главе с хакасом Георгием Сульберековым ворвался в Цимлянскую станицу на Новый 1943 год, совершив лыжный бросок через мёрзлую степь из руин Сталинграда.
15.
Над площадью высится самая настоящая Белая Вежа бывшего управления гидроузла (1952), позже занятого вечерней школой:
16.
По другую сторону Советской улицы, отвечающей в плане Цимлянска за ручку молота - бывшая гостиница для командировочных. В 1981 году её занял Цимлянский санаторий - тихий городок над морем оказался идеальным курортом для трудящихся с заводов Волгодонска и окрестных колхозов. Но потому и заброшен бювет, что теперь санаторий не действует:
17.
Напротив памятника Освободителям - типовой, но от того не менее монументальный Дворец культуры "Энергетик" (1955-56):
18.
Советская улица же на позапрошлом кадре глядит аккурат на колоннаду Приморского парка (1954-55), за которой начинается его небольшая, но ухоженная часть у центральной аллеи:
19.
По разные её стороны стоят памятники афганцам и чернобыльцам, столь простенькие, что я решил не перегружать пост их фотографиями.
19а.

200-метровая аллея выводит к Ротонде на высоком берегу:
20.
Над простором Цимлянского моря:
21.
Берег Камшацкого бугра тут неожиданно крут и высок: заходя в парк, рассчитываешь выйти на пляж с зеленоватой цветущей водой, но не замедлив вовремя шаг, можно улететь с отвесного обрыва:
22.
Справа видны все те же ГЭС, шлюзы Волго-Дона и трубы "Кристалла":
23.
В их ракурсах изменилось разве что взаимное расположение:
24.
Напротив просматривается аванпорт, где помимо маяка виден ещё и огромный четвероногий кран - это Спецпричал "Атоммаша", где "изделия", то есть пока ещё не знавшие топлива ядерные реакторы, грузят на баржи.
25.
Новый Волгодонск отличается вертикальностью:
26.
Но больше труб ТЭЦ-2 впечатляют крупнейшие во всей России цеха "Атоммаша" - в них только по потолку 45 метров, а по кровли они существенно выше, чем многоэтажные микрорайоны и строящийся с 2001 года собор Рождества Богородицы. Ещё поразительнее горизонтальные размеры - крупнейший цех №1 раскинулся на 30 гектар (750 на 376 метров), что сравнимо с Московским кремлем или Киево-Печерской Лаврой.
27.
Почти напротив Цимлянска, где дальний берег становится тонкой чертой между водой и небом, видна Ростовская атомная электростанция. Вторая по мощности в России после Ленинградской (пардон, теперь уже третья после Запорожской и Ленинградской), она же и самая, пожалуй, несчастливая. И нет, сколько-нибудь опасных аварий на ней не случалось, но заложенная в 1979 году, с эпохой гласности и чернобыльской радиофобии она оказалась в центре внимания различных активистов. Резко замедлившаяся уже в конце 1980-х стройка окончательно встала в 1992 году. Ростовская АЭС имела все шансы повторить судьбу своих Крымской, Татарской, Башкирской родственниц, но спасло её видимо то, что она находилась в куда более высокой степени готовности. К 2000 году стройка возобновилась под крики народных протестов, речи депутатов и стихийные митинги, но менее чем через год первый энергоблок с сделанным тут же на "Атоммаше" реактором ВВЭР-1000 дал ток. Он долго оставался единственным, и в те времена атомная станция фигурировала под известным мне из школьного курса географии названием Волгодонская АЭС. Наконец, в 2009-18 годах заработали ещё три энергоблока - мощность теперь уже Ростовской АЭС достигла 4070 МВт. Трудное рождение и ныне о себе напоминает: охрана РоАЭС лютует так, что согласованного корреспондента или блогера могут не пропустить из-за какого-нибудь провода или батарейки, если он не указал их в заявке.
28.
Теперь же посмотрим левее, на правый берег Дона, где индустриальные пейзажи сменят простор степей. И как много в окрестностях городка с почти что библейским названием скрывают мутная вода и высокие травы!
29.
Сейчас уже мало кто помнит, что помимо Pax Romana, Pax Mongolica или Pax Americana был и Pax Khazarica, по-русски говоря - Хазарский мир. Порядка полутора тысяч лет назад между Волгой и Доном объявились огуры - степняки, отпочковавшиеся от тюрок ещё до того, как те стали тюрками, не говоря уж о разделении на кипчаков и огузов. Самыми долговечными из огур оказались булгары, ныне известные как чуваши, а самыми успешными - хазары, к 650 году построившее крупное государство. Оно называлась Хазарским каганатом, но каган уже в 8 веке сделался священной фигурой без реальной власти, так что если дела в стране шли плохо - его полагалось ритуально умертвить. Фактически Хазарией правили беки (хамалехи), образовавшие в 8 веке самостоятельную династию Буланид. При этом основоположником её во всех документах числится Обадия, а почему умалчивается сам Булан - толком не ясно: есть версия, что во власть он пришёл из купечества. Столицами Хазарии, возможно каганской и бекской соответственно, были Итиль у дельты Волги и Семендер в нынешнем Дагестане на Каспии. А за Каспием, в Иране, лежит остров Абескун (Ашур-Ада), представлявший собой крупнейшую факторию раданитов - странствующих еврейских купцов без подданства, на которых держалась торговля Великого Шёлкового пути. Как хазары соотносились с раданитами - история до сих пор не знает ответа, но судя по всему, связь их была совершенно прямой: расцветы и упадки Хазарии и раданитства почти совпадали по времени, а из всех религий бек Булан, в отличие от остававшегося язычником кагана, принял не ислам (как татары или булгары), не буддизм (как монголы или маньчжуры), не христианство (как найманы или аланы) и даже не манихейство (как уйгуры), а иудаизм, получив в нём имя Савриил. Не обладая столь развитой цивилизацией, как византийцы или персы, и столь могущественной армией, как арабы, пару веков хазары был как бы не влиятельнее них. В современном мире Буланидскую Хазарию можно сравнить, наверное, с Саудовской Аравией - в общем-то весьма отсталая страна, способная одним движением руки обрушить всю мировую торговлю. Подчёркивала эту особую роль география: отделённая от высоких цивилизацией морем и Кавказскими горами, Хазария как бы нависала над Шёлковым путём, вынесенная в Великую Степь и остававшаяся неотъемлемой частью Турана. По сути хазары сделали с Диким полем ровно то, что европейцы полтысячи лет спустя с океаном - превратили его из непреодолимой преграды в простор для торговых путей. А потому влияние Хазарского каганата простиралось далеко-далеко за пределы его фактической территории, до Армении, Хорезма, Булгарии, Крыма, Карпат... И не случайно старейший из известных науке документ Руси - это письмо, отправленное в Каир еврейской общиной Киева. Подписавшиеся представителе которой носили мягко говоря не слишком семитские имена - Кабар, Савар и Гостято.
30.
Там, на западе, у края Хазарского мира, тьма веков как тёмные воды донских и днепровских водохранилищ, скрывают Русский каганат. Сущность эта загадочна примерно как тёмная материя Вселенной: о Русском каганате нет ни малейших прямых свидетельств, которые бы объясняли хотя бы, где он находился, какие вмещал города или реки и к каким историческим событиям был причастен, однако осталось множество вполне достоверных свидетельств косвенных. Каган русов то мелькает в переписке греков с франками, то "селится" арабскими географами на таинственном болотистом острове среди холодной воды, упоминается то в древнерусских трактатах и панегириках, то в граффити на стенах Киевской Софии. Тут же можно вспомнить и предположение, что русы - не славяне вовсе, а варяги, и даже лично Тура Хейердала, который искал Асгард то на Азове, то в Азербайджане, утверждая, что Один и Тор со товарищи - обожествленные вожди некой степняцкой династии, добравшейся до северных земель. Меж Пяти морей в 7-9 веках происходило нечто таинственное, пока не понятое и не объяснённое исторической наукой, но достоверно здесь то, что русский каган старше русского князя: впервые "chacanus gens Rhos" упоминается под 839 году в хронике Бертинского монастыря на севере Франции. Более того, там же упоминается, что "народ Рос" - часть народа свеев, то есть скандинавов, которые, видать, и бросили вызов хазарам в контроле над мировой торговлей. До Великого Шёлкового пути дотянуться, конечно, русам было слишком далеко, хотя в 10-м веке их набеги на Персию по Волге и Каспию происходили регулярно. Но русы быстро сделались частыми незваными гостями на Дону, естественном западном рубеже "основной" Хазарии, в "буферных" землях салтово-маяцких аланоязычных племён - оседлых скифских потомков. Из Приморского парка отлично видна увенчанная обелиском Белая гора, скрывающее Правобережное Цимлянское городище:
31.
Там археологи нашли хорошо заметные остатки стен из белого камня, воздвигнутых в 8 веке, когда Хазария твёрдо стояла на ногах. Судя по всему, крепость контролировала важную переправу, но была разрушена и опустошена в 820-е годы.
31а.

В 834 году же в Херсонесе сошёл на землю с византийского корабля Петрона Каматир - спафарокандидат императора Феофила (правил в 829-42 годах), приглашённый хазарскими каганом и беком строить новую крепость Шуркил ("Белый дом"), более известную под греческим названием Саркел. Впрочем, миссия Петроны была скорее политической - стены и башни из обожженного кирпича, слагавшие правильные прямоугольник размером 193 на 133 метра, выглядели памятником вполне себе хазарского зодчества, где явно византийской оказалась лишь небольшая полосатая базилика, колонны для которой Петрона привёз с собой. Крепость была именно крепостью, форпостом на опасном рубеже, где тюркский гарнизон проходил ежегодную ротацию, а посад был представлен лишь юртами кочевников да круглыми полуземлянками алан, где даже мастерские едва покрывали местные нужды. К руинам на Белой Горе хазары даже не приближались, полагаясь не столько на укрепления, сколько на естественную преграду Дона: с Саркелом отождествляется Левобережное Цимлянское городище. И кого же за рекой так боялись хазары?
31б.
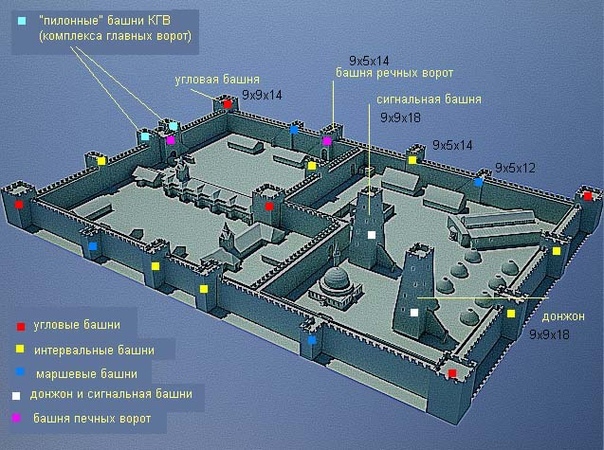
Видимо, славян, которые, кажется, и стали главными выгодополучателями таинственных процессов между Пятью морями. Колонизируя будущую Русь, русы-варяги так и не построили империю с центром где-нибудь в Фюне или Сконе, но создали новое государство вдоль Пути из Варяг в Греки, где их вожди за пару поколений растворились без следа. Походы русских князей то за Балтику, то за Понт, то на Каспий выглядят тут уже неким лавированием между старыми центрами силы, из которых Хазария оказалась самым слабым звеном. Олег, Святослав и Владимир втоптали могущественный каганат в степную пыль, сделав добычей для кочевников, и где то в 11 веке Хазария тихо и навсегда пропала из хроник. Почти одновременно зачахла раданитская торговля, но и Дикое поле, лишившись центра притяжения, снова начало дичать. Саркел, видимо по старой памяти о правобережной крепости, славяне называли Белой Вежей, и под таким именем он стал частью Киевской Руси, в 965 году взятый Святославом. Отделённый от Змиевых валов бескрайними степями Дона и Северного Донца с их аланским населением, Беловежье стало самой что ни на есть заморской (если считать морем Великую Степь) колонией Киева. Славяне, кажется, даже не жили тут постоянно: гарнизон крепости по-прежнему составляли тюрки, а порядком разросшийся при новых хозяевах посад - аланы. Вот только иудейство в Белой Веже потеряло актуальность, заместившись христианством - причём ещё до Крещения Руси. О здешнем укладе кто-то нацарапал целый рассказ на стене Киевской Софии - из граффити следует, что в Саркеле был поп с тюркскими именем Тятькюш, а богослужения вели и эпитафии писали беловежане на своих языках. По сути Белая Вежа так и осталась Саркелом: славяне не заселили далёкий город, а последний гарнизон, выставленный в 1103 году Владимиром Мономахом, состоял из лояльных Киеву печенег. Которые в 1117 году не одолели своих главных врагов - половцев, окончательно разоривших крепость. Руины Беловежья, никому не нужные и пустые, пролежали на донских берегах более полутысячи лет, пока здесь не утвердились Войско Донское, а с ним и Российская империя. Белый камень Правобережья и хазарский кирпич Левобережья разошлись на строительство Крепости Дмитрия Ростовского (ныне Ростов-на-Дону), куреней Старочеркасска, храмов казачьих станиц. Единственные серьёзные раскопки на Левобережном Цимлянском городище проводились накануне строительства ГЭС, да столь спешно, что к ним привлекли даже 180 женщин-заключённых. Но двух лет оказалось слишком мало: 2/3 бывшего Саркела, так и оставшихся необследованными, поглотила мутная вода.
31в.

Перезагрузка здешней истории началась в 1672 году, когда донские казаки основали чуть выше бывшего Беловежья городок Усть-Цимла. Значение его было таково, что уже в 1695 году лично Пётр I устроил там пороховые склады, когда же вокруг городка выросла станица Цимлянская - точной даты нет. Она располагалась где-то там, за поворотом, и если бы существовала ныне - то из неё был бы не виден Цимлянск:
32.
Входившая в Области Войского Донского в 1-й Донской округ с центром в Константиновске, Цимлянская представляла собой очень донскую, крепкую и богатую станицу с обилием двухэтажных домов-куреней:
32а.

И совсем городской главной улицей:
32б.
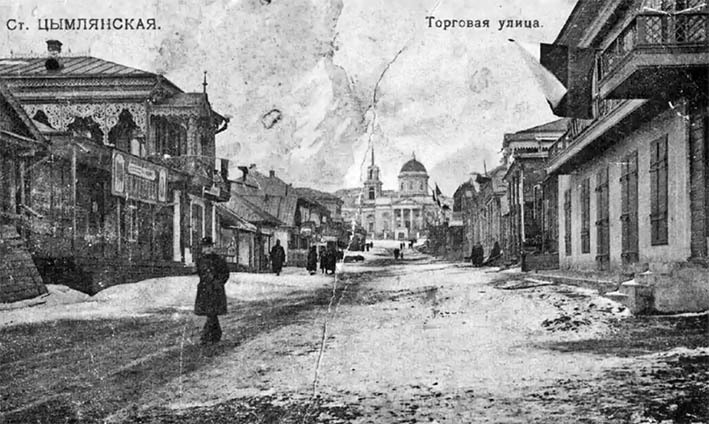
Замыкавший её перспективу Никольский храм (1839) построили вроде как по проекту Ивана Старова, автора Потёмкинского дворца в Екатеринославе, Екатерининского собора в Херсоне или церкви Сурб-Хач в Нахичевани-на-Дону. По преданию - из камней Белой Вежи:
32в.
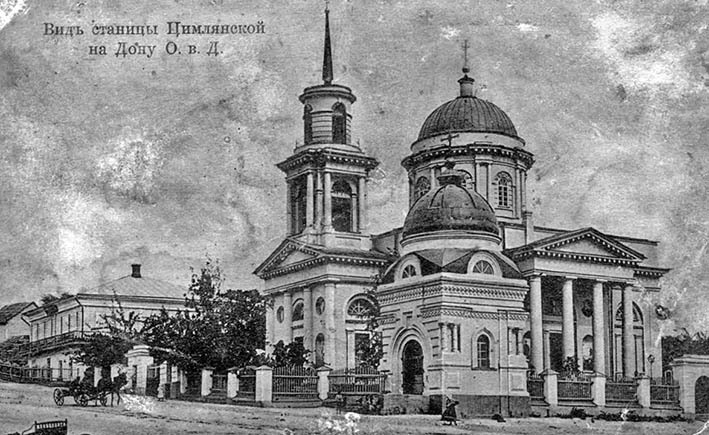
К храму примыкала часовня-памятник Александру II (1884), а на околице села стоял "Памятник в память проезда Е. И. В. Вел. Кн. Цесаревича Александра Александровича" (1869):
32г.

Теперь всё это под водой, и нам остаётся лишь продолжить прогулку по Цимлянску. К Приморскому парку примыкает стадион:
33.
Мимо которого я вернулся на площадь:
34.
Чтобы пойти по Советской улице вдаль от берега:
35.
Сталинки советской Белой Вежи продолжаются и здесь:
36.
Я свернул на боковую улицу Нахимова, чтобы выйти к острию "серпа", где расположена больница. Там обнаружился сквер с зеркальным глобусом:
37.
И модного вида детской площадкой:
38.
Параллельной улицей Карла Маркса, мимо пожарного депо...
39.
...я вернулся на Советскую. Улица Маркса буквально поводит черту Городку Энергетиков - дальше тянутся пятиэтажки с полосатой, словно в память спафарокандидата Петроны, кладкой:
40.
Вскоре Советская заворачивает, но за поворотом тянется через весь городок. В квартале от последних сталинок - Пионерский парк с обелиском Цимлянской дружине:
41.
Так называлась местный орган советской власти: 66 человек в него были набраны в августе 1917 года и все до единого перебиты казаками 2 апреля 1918 года на Щегловом хуторе близ нынешней РоАЭС.
41а.

Поодаль от Городка Энергетиков - ещё один квартал сталинок, построенный, видимо, как административный комплекс Цимлянского района. На Советской улице - кинотеатр "Комсомолец":
42.
На перпендикулярной улице Ленина - пара административных зданий напротив друг друга:
43.
44.
Между - Аллея Героев Цимлы, как войны, так и труда. Самый же неоднозначный из увековеченных здесь людей - это Иван Добробабин. Патриотам он известен как один из 28 панфиловцев, героически оборонявших Москву у разъезда Дубосеково. Либералам - как полицай: хотя сформированная в Алматинской области панфиловская дивизия одержала немало достойных побед, конкретно Дубосековский бой всё же скорее собирательный образ. Добробабин где-то в Подмосковье был контужен и пленён, а из плена, когда родственники-украинцы подкупили венгра-коменданта, уехал в родное село Перекоп под Харьковом, где действительно подался в полицаи. Дальнейшая его история же рвёт шаблоны вне зависимости от политических взглядов: при отступлении фашистов Добробабин бежал под Одессу, а с её освобождением вновь примкнул к Красной Армии. После триумфальной Ясско-Кишинёвской операции он стал Героем Советского Союза и в звании сержанта дошёл до австрийского Инсбрука. В 1949 году Добробабина таки вычислили как полицая, арестовали и лишили всех наград, но в военных преступлениях он замечен не был, а потому уже в 1955 году освободился и уехал жить к брату в Цимлянск. Здесь он до конца жизни боролся за свою реабилитацию, для многих окончательно скомпрометировав себя огромным количеством вымышленных подвигов. Так и не реабилитированный, Добробабин умер в 1996 году, а в 2006 местные жители поставили ему памятник, который новые активисты так же через суд теперь пытаются разрушить.
45.
С другой стороны - Сталинградский сквер, разбитый в 2012 году к 70-летию битвы, в ходе которой была освобождена и Цимла.
46.
Дальше центр заканчивается, а Советская улица набирает высоту:
47.
Здесь узнаётся пейзаж станицы:
48.
И деревянные курени вполне могли быть перевезены сюда как из Цимлянской...
49.
...так и из станицы Кумшацкой: именно она, в 1950 году также перенесённая на 20 километров севернее, стояла ближе всего к нынешнему Цимлянску. На склоне бугра высился Богоявленский храм (1869), однако обратите внимание на другую деталь - виноградники.
49а.

Местное предание гласит, что в 1695 году к казаку Клемёнову заехал переночевать некий офицер необычайно высокого роста. Казак с офицером засиделись до ночи, хорошенько выпили и долго спорили о том, до какой ручки отечество доведёт новый царь, который как раз вот со дня на день приедем сюда для подготовки Азовского похода. Каково же было удивлением Клемёнова, когда царь приехал и оказался ни кем иным, как его постояльцем. Легенда легендой, а Пётр Великий и правда бывал здесь не раз. Вряд ли зная о том, что виноград в Беловежье растили ещё хазары, Пётр I увидел в Долине Дона подходящие условия для развития русского виноградарства и виноделия. По другой версии, виноград тут расти и не прекращал, а император завёз на Цимлу скорее какие-то новые технологии его выращивания, селекции и переработки. Вскоре в Долине Дона оформился старейший русский автохтонный сорт "цимлянский чёрный", а уже в 1717 году Пётр I презентовал 20 бочек русского вина королю Франции. Позже появились и другие сорта с забавными названиями красностоп и плечистик: первый известен с 1814 году и выведен был в станице Золотовской, а второй везде упоминается как "древний сорт" так, будто остался ещё от хазар. К 1786 году казаки опытным путём научились делать шампанское из плечистика, и в общем уже в 19 веке цимлянское вино плотно вошло в культурный код России. Отдельную рекламу ему сделал, конечно, Матвей Платов, со своими казаками торжественно распивший 3000 бутылок в покорённом Париже, после чего французы, видать, и узнали слово "бистро!". Не чужды цимлянского были и герои Пушкина и Чехова (вот тут цитаты), а на сайте винзавода и вовсе сказано, что оно стоило 15 рублей за ведро, в то время как крымские вина редко стоили дороже 2 рублей. Подобно нынешним псевдонемецким брендам (Erich Krause, Thomas Münz), располагало цимлянское и звучной нерусскостью своего то ли средиземноморского, то ли закавказского названия. Почти два века вино Долины Дона было исключительно домашним, и лишь в 1880 году великий князья Константин Николаевич построил первый винзавод. При Советах на Дону работали совхозы, отправлявшие виноматериал в Ростов, а строительство Цимлянской ГЭС сопровождалось Великим переселением виноградников: черенки кустов из зоны затопления кропотливо пересаживали в подходящие балки на плато. В 1962-66 годах на окраине, ближе к Саркелу, заработал Цимлянский завод игристых вин:
50.
В 2017-19 годах он был на грани закрытия, но теперь выглядит безупречно:
51.
За забором - бочки и винодавильни наподобие тех, что использовали казаки. В ограде - фирменный магазин, половину ассортимента которого не купишь в "Пятёрочке" и "Магните". Названия здешних вин весьма колоритны - "Хазарское" или "Крепость Саркел", цены же варьировались от 300 до 1500 рублей. Большинство вин - купажи с местными сортами. Не особо разбираясь в вине, я просто спросил, какое здесь самое автохтонное и взял за 600 рублей бутылку цимлянского чёрного.
52.
Виноград Долины Дона же я попробовал в Волгодонске - на стихийных уличных базарчиках его продают местные женщины, и судя по цене (меньше 100 рублей за кино, а солидных размеров гроздь я взял за 30) он честно выращен ими самими на даче. Сорта на фото, правда, не автохтонно-донские, но по вкусу не хуже, чем в Средней Азии:
53.
Напоследок - пара остановок у дороги на Волгодонск, по дизайну которых нетрудно отличить, где старое Цимлянское шоссе, а где открытое в 2008 году новое. Но при всей близости, Цимлянск не стоит считать дальним районом Волгодонска: два города держатся особняком, и даже цимлянские таксисты в Волгодонске едва ориентируются.
54.
О дороге к Волгодонску через гидроузлы и о его старых районах расскажу в следующей части.
Волгодонск и окрестности (2021-22)
Обзор поездки и другие посты из неё.
Цимлянск.
Гидроузел и Старый город.
Новый город.
Атоммаш.
|
Метки: Великая Степь Атомная быль Волгодонск дорожное Черта оседлости казаки Русский Юг Ростовская область |
Кавказ. Работа над ошибками |
Немногие из моих путешествий обладали такой нелинейной предысторией!
Осенью 2020 года меня занесло в Краснодар, где я осмотрел всё, кроме самого главного - Красной улицы. Ведь гулять по ней надо в выходные, когда она делается пешеходной, однако выходные я провёл с "Неизвестной Россией" на Апшеронской узкоколейке. Дальше я собирался ехать в Адыгею, но за полсотни километров до Майкопа понял, что всё спланировал неправильно и повернул.
Следующей осенью 2021 года я попал в блог-тур "Росатома" на завод "Атоммаш" в Волгодонске, однако город за пределами грандиозных цехов увидел лишь из окон такси.
Той же мирной прошлой осенью я собирался посетить и Волгодонск, и Краснодар, и Адыгею, да ещё до кучи Армавир, но за неделю до поездки словил ту почти забытую ныне хворь, от которой пропадает обоняние, и остался дома.
Наконец, весной уже нынешнего года я отправился на Центральный Кавказ - по Карачаево-Черкесии самостоятельно и по Кабардино-Балкарии с "Неизвестной Россией", устроившей на майские три выезда подряд по её главным ущельям. И я, и "Неизвестнач" всё спланировали вроде бы идеально... однако на нашем пути встала погода, такого тотального невезения с которой у меня не было за все 20 лет путешествий: из-за небывало затянувшейся весны я в горах не увидел много озёр, водопадов и перевалов, а кое-где - и самих гор.
Теперь в сентябре я наконец-то наверстал упущенное, проехав через Волгодонск, Армавир, Адыгею и КЧ/БР. Не сложилось только с Краснодаром: веселье на Красной улице осталось в довоенном прошлом. Как и многое, кажется, другое уйдёт в это прошлое: начало поездки выпало на Балаклейский прорыв, а окончание - на первый день мобилизации.
Дурная примета - ехать в ночь с Восточного вокзала! Ведь в прошлый (он же первый) раз я садился здесь на поезд в середине февраля:
2.
Самый новый вокзал Москвы, впрочем, я тогда не увидел - это и не нужно, если приезжаешь на метро, где из вестибюля сделан выход на платформы. Теперь же мой поезд из Петербурга на юг проходил Москву глубокой ночью, и приехав на такси, я осмотрел сам вокзал да скоротал часок в зале ожидания. Здание Восточного вокзала только кажется маленьким - на самом деле оно уходит на пару этажей вниз и вместимостью вполне достойно вокзалов в крупных облцентрах.
3.
Ехать мне предстояло около суток, но после Воронежа я почти не смотрел в окно, а ночь прошла тревожно и почти бессонно. Окно мне мне заменили каналы военкоров в телеграме, а сон - мучительные раздумия над тем, не сойти ли на ближайшей станции и не уехать ли в Москву встречным поездом, пока война не ворвалась на юг. Но за раздумьями этими я всё же заснул, а на утро в тусклом рассвете мимо потянулись Цимлянск и Волгодонск - два города по разные стороны Цимлянского водохранилища, Дона и Волго-Дона:
4.
Цимлянск примечателен нетривиальной сталинской архитектурой и винзаводом на старейших русских виноградниках, где я даже обрёл бутылку сухого вина к намеченному на конец поездки дню рождения. Волгодонск - могучий советский город с интересной архитектурой 1970-80-х и обилием колоритных памятников. А поверх всего этого - такой не похожий на атмосферу знакомых по Сибири городов-новостроек бойкий колорит казачьего Юга:
5.
Гулял по Волгодонску я опять же поминутно глядя в телеграм и пытаясь строить прогнозы. Прогнозы были мрачные, но к моему ужасу - сбывались буквально по часам. К вечеру я обозначил для себя критерии ситуации, при которой на следующий день всё же уеду домой, а пока что рванул на такси в соседний городок Зимовники, из которого мне предстояло ехать дальше. В забегаловке у вокзала хозяева-дагестанцы меня покормили бесплатно - я хотел взять последний чуду за сто рублей, имея в кармане лишь 5000-ю купюру, а у них не было ни терминала, ни сдачи. По станции же шатались небольшими кучками молодые цыгане, которых курировал странный, полный смутным чувством опасности, долговязый русский дед, то и дело проезжавший прямо сквозь вокзал на велосипеде. Цыгане прикидывались дагестанцами, рассказывали, что ехали из Ростова в Махачкалу, потеряли все деньги и машину и вот бомжуют тут третий день. Один даже добавил "у нас деньги есть дома, но мы туда позвонить не можем - мама у нас старая, у неё инсульт был недавно, пугать её не хотим". Я сочувственно кивал и советовал ехать в Махачкалу автостопом: поехали бы сразу - уже были бы там. Цыгане просили то денег (но у меня всё равно не было мелких наличных), то еды, а когда я предложил им яблок и хлеба, они ответили, что лучше будет, если я куплю им минералки и ещё чего-нибудь в соседнем магазине. В общем, сидеть на пустом вокзале в таком окружении было не слишком комфортно, но я сидел и всё так же глядел в телеграм, просто не имея моральных сил придумать маршрут релокации. Потихоньку в зал начали подтягиваться пассажиры: вечером Зимовники прошли три поезда подряд. Я ждал самого позднего из них поезда Тында - Кисловодск, который прежде знал по другой оконечности его почти недельного маршрута. Зайдя в душный, словно усталый и взмокший вагон, я расположился в плацкарте с благообразной на первый взгляд семьёй кавказского вида. Ложась спать, я по сибирской привычке спокойно оставил на столе часы и телефон на подзарядке, а с утра обнаружил, что Юг - не Сибирь: часы (купленные в Москве рублей за 200) исчезли, а телефон лежал хоть и на месте, но с активированной точкой доступа вай-фая, пароль которой кто-то заменил на несколько единиц.
6.
Я покинул вагон на станции Армавир, где встречал меня Сергей
 armavi - историк-регионовед, умеющий видеть в улицах своего города пейзажи других эпох. Это умение тут очень кстати: нынешний Армавир не лишен достопримечательностей и колорита, однако его прошлое с крепостью кровожадного генерала Засса, аулом черкесоязычных армян, удивительным национальным составом, торгово-промышленным бумом начала ХХ века и статусом села с 4-этажными домами и 60-тысячным населением было колоритнее стократ.
armavi - историк-регионовед, умеющий видеть в улицах своего города пейзажи других эпох. Это умение тут очень кстати: нынешний Армавир не лишен достопримечательностей и колорита, однако его прошлое с крепостью кровожадного генерала Засса, аулом черкесоязычных армян, удивительным национальным составом, торгово-промышленным бумом начала ХХ века и статусом села с 4-этажными домами и 60-тысячным населением было колоритнее стократ.7.
За полтора дня Сергей показал мне центр и окраины да свозил по окрестным сёлам с развалинам мостов железной дороги, которая дошла только до Туапсе, а в фантазиях её акционеров должна была вести через Берингов пролив в Америку. Сергей сетовал, что приезжать в Армавир мне надо было дня на три: таких плотных экскурсий по своему городу он ещё не проводил. И мы этот темп выдержали, а вот мой фотоаппарат - нет: под вечер у него сдохла матрица. К счастью, вот уже пару лет я всегда беру с собой два фотоаппарата, но запасной - он потому и запасной, что картинка с него заметно хуже.
8.
Украденные часы же и поломка техники мне тогда казались знаками судьбы: утром из канала "Два майора" я узнал, что сформулированная ещё в Волгодонске ситуация на фронте таки наступила строго по графику, и недолго думая, буквально на ходу да с телефона, я взял билет на завтра из Армавира до Москвы. Наташа, которая через несколько дней должна была присоединиться ко мне на КавМинВодах, согласилась принять любое моё решение. День экскурсии по Армавиру прошёл в раздумиях, и поняв, что ситуация непредсказуемая, а рациональные аргументы тут бессильны, я стал просто прислушиваться к ощущениям. Ощущение же нарисовали мне совсем не ту картину, что разум: я отчётливо представил, как льющийся с фронта поток печальных новости через пару дней замедлится и сменится стоячим болотом разбора полётов, а я буду, сидя в Москве, кусать себе локти, что мог бы в этот день видеть Эльбрус. В общем, билет на поезд я сдал, и к полудню направился на автовокзал, чтобы ехать в Адыгею. На проходящий автобус Ставрополь-Майкоп не было свободных мест, так что основным вариантом выходило ехать в Лабинск и далее пробираться в Майкоп автостопом. Для очистки совести я всё же подошёл к шоферу и спросил, не возьмёт ли он меня стоя, а услышавшая наш диалог молодая кондукторша сходу придумала, как мне помочь: добрая половина пассажиров майкопского автобуса выходили в Лабинске, а на автовокзал прибыл опаздывавший автобус на Псебай, который поедет по трассе быстро и без остановок и прибудет в Лабинск даже чуть раньше. Втроём с водителем майкопского автобуса мы разработали план действий, и вот с короткой пересадкой в Лабинске я таки добрался в Meinkopf:
9.
Несколько часов в котором, впрочем, использовал довольно бестолково - прошёлся с рюкзаком по безликими советским районам между вокзалом и центром, пообедал в (почти не) национальном адыгейском кафе "Дышепс", купил на рынке сладкого инжира да уехал с этого же рынка маршруткой в Каменномостский. Впрочем, такое название знают в Адыгеи разве что чиновники, а простой житель может даже не понять, что ты имеешь в виду - в обиходе этот посёлок у начала плосковершинных лесистых гор известен под черкесским именем Хаджох. Приехав в сумерках, я сразу же направился в семейную гостиницу "Надежда" - большой дом среди частного сектора, откуда на машине выезжают в посёлок кружным путями, а пешком ходят по висячему мостику через тёмный овраг. В Хаджохе меня ждали ароматный воздух широколиственных горных лесов, пряное тепло южной ночи и по-птичьи громкие трели сверчков. Страх и отчаяние вдруг отпустили меня, и я крепко спал тихой ночью, по утру же не будильник меня поднял, а крик петуха.
10.
Утро встретило дождём, к которому я даже был готов морально - все прогнозы погоды гласили, что на плато Лаго-Наки будет солнечно. Оставалось лишь попасть на это плато, и первым делом я пошёл на автостанцию, размышляя по пути, такси мне вызвать или ловить попутку от поворота у соседней станицы Даховской. В итоге поехал на редком в Хаджохе яндекс-такси, да не один, а (скинувшись на троих) в компании двух украинок. Да, именно так: две женщины средних лет приехали в отпуск из Ялты, но обе когда-то, ещё в 1980-х, попали в Крым "с материка": про одну я узнал, что она родилась на Волыни, а про другую - что училась в Донецке. У них были звонкие голоса и певучие интонации, мелодичный суржик, так что к концу дня я сам зашокал и загхэкал, какая-то почти детская наивность и такая же почти детская наглость - компанию я обрёл сразу и без спроса на два дня. В Ялте мои новые спутницы работали в администрации то ли города, то ли района, но мысленно жили по-прежнему на Украине, в её Автономной республике Крым. Они почти дословно цитировали Арестовича, были преисполнены чувством неизбежной перемоги и несколько раз доказывали мне, что украинская армия уже взяла Херсон, только от незадачливых росiян это пока что скрывают. Найдя в такой компании этнографический интерес, я почти не спорил, а лишь задавал наводящие вопросы, слушал и кивал. Тем более что были у них и правдоподобные мысли: например, что Медведчук, Азаров и другие персонажи из "Комитета спасения Украины" жили на российские бюджеты, поставляя в Кремль ту информацию, которую хотели услышать там. Например, что Киев сдатстся за три дня, а население встретит русскую армию цветами... Впрочем, говорили мы не только о политике, вспоминая то Трускавец, то Киев, то Карпаты. И к моему удивлению, мои собеседницы даже не спорили с тем, что кабы не Евромайдан - не было бы и всего последующего кошмара... Такси довезло нас по асфальтовой дороге до Большой Азишской пещеры, в которую мои спутницы гордо не пошли, вспомнив свои Мраморную и Мамонтовую пещеры. Я прежде был и в той, и в другой, ну а эта оказалась их достойна:
11.
Яндекс-такси на 30 километров от Хаджоха до пещеры стоило 850 рублей. Такси-УАЗ на 7 километров от пещеры до начала плато обошёлся в 2000, и это была явная разводка - дорога, ужасы которой нам перед посадкой расписывал шофёр (в зависимости от сезона чередующий роли гида на Кавказе и промыслового моряка на Дальнем Востоке), оказалась вполне себе сносной. Один я бы точно поехал автостопом, но втроём счёл, что скинуться проще и быстрее. Такси привезло нас на плато Утюг, от которого мы сперва спустились в долину Курджипса к естественным лестницам пересохшего по осени водопада Ступени Мудрости и естественному тоннелю Овечьей пещеры, сквозь который на наших глазах прошла с рюкзаками целая группа туристов:
12.
А за Курджипсом - и само Лаго-Наки с его высокой травой альпийских лугов и головокружительными видами с обрывов Каменного моря. По лугам этим натоптано много маршрутов, уходящих к самому Туапсе, но ими интереснее ходить в июне, когда травы зелены и сочны, а между ними обильны цветы. Сквозь луга мы прошли всего лишь пару километров за КПП заповедника, к огромным карстовыми воронками, в одной из которых, как где-нибудь в Якутии, скрывается круглогодичный ледник:
13.
Напоследок закупившись у колоритного горца адыгейским сыром, мы спустились в Хаджох на попутке:
14.
С прогулки по Хаджоху я и начал следующее дождливое утро. Новый день я решил посвятить ближайшим окрестностям посёлка, изобилующим совершенно сюрреалистическими формами рельефа. Вот например Хаджохская теснина, которую сотню лет назад можно было перейти через естественный мост:
15.
Хаджохский замок - это всего-навсего заброшенный известковый завод, действующие карьеры которого оглашают своим грохотом окрестные горы:
16.
В компании всё тех же крымских украинок я съездил в посёлок Победа со старинным Михайло-Афонским Закубанским монастырём, надземные храмы которого весьма необычны для России по своей архитектуре, а подземные доступны для экскурсий:
17.
В лесу по пути к Хаджоху мы зашли к весьма малоизвестной достопримечательности - пока ещё не рухнувшим естественным мостам:
18.
Там нас накрыл такой ливень, что с одной стороны дороги едва просматривался лес на другой стороне. Таксист из Хаджоха приехал только с окончанием дождя и очень впечатлился нашим мокрым видом, равно как и я - сухим асфальтом в в Каменномостском, ниже всего-то в несколько километрах по горизонтали и в паре сотен метров по вертикали. Сухим остался и мой фотоаппарат, который уберегла мембранная куртка, а потому напоследок я заехал ещё и в ущелье Руфабго с каскадом водопадов и причудливых скал. Тем временем в Кисловодске заселялась на снятую через "Суточно.ру." квартиру Наташа...
19.
Крымчанки
20.
И во всём этом тихом, зелёном, очаровательно уютном городе лишь одна площадь с мечетью, монументом и национальным музеем отвечает за адыгский колорит. А в основном Майкоп - вполне себе русский, или скорее общероссийский город, где самые красивые постройки - винный и пивной заводы из красного узорчатого кирпича:
21.
Купив на центральным рынке пары кило адыгейских сыров и переночевав в гостевом доме "Дольмен", в огромном двухкомнатном номере с бесконтактным заселением, утром я ещё немного покатался на такси по отдельным достопримечательностям города да поехал на автостанцию на маршрутку Майкоп - Черкесск. Мой путь на ней занял без малого 4 часа с 20-минутными стоянками в Лабинске, Мостовском и Псебае, а миновав границу Карачаево-Черкесии (границу почти реальную, судя по тщательности досмотра на посту ГИБДД), я сошёл в первом же за ней селении Курджиново:
22.
Основанное в 1930-х годах у лесозавода, руины которого впечатляют по сей день, и расположенное в сказочно красивых пейзажах, это русское село в кавказской республике впечатляет не прошлым, а настоящим. Так повелось, что Курджиново, а в первую очередь его присёлок Ершов - всероссийский центр вайшнавизма, более известного как кришнаизм. И стройные бритые люди в деревянных бусах часто встречаются на здешних улицах, а точки их притяжения - два храма в обычных с виду хатах, небольшой ашрам на краю села да современная и комфортабельная клиника восточной медицины и гимнастики. Преданные (так кришнаиты называют себя и братьев по вере) оказались очень дружелюбными и открытыми людьми, охотно проповедующими заезжему блогеру своё учение:
23.
Ночевать, однако, они меня не пригласили, да и в мои планы это не входило: два дня Наташа осматривала Кисловодск и Пятигорск, мне знакомые с 2014 года, а дальше пришло время нам встретиться. Спустившись из Ершова на трассу, я ждал автобус, курсирующий из далёкой Москвы в станицу Суворовскую, от которой рукой подать до КавМинВод. Но чуть раньше его предполагаемого прибытия меня подхватил "Камаз" до станицы Преградной, а заглянув в интернет, я понял, что автобус этот ходит только через день, причём - не тот день, когда мне было надо! Я понимал, что в сгущавшихся сумерках успею доехать в лучшем случае до Черкесска, и даже написал Наташе, что с 99% вероятностью мы встретимся только на следующий день. Но 1% вероятности - это не 0%: не успел я покинуть Преградную, как поймал машину с парой карачаевцев, пересекавших свою республику буквально из конца в конец, от присёлков Курджинова до Учкекена, который отделяют от Кисловодска 20 километров по дороге и 500 рублей за такси!
24.
Так я поставил своеобразный рекорд, за один день побывав в 4 регионах - Адыгее, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. И вот поздним вечером Наташа угощала меня приготовленной курочкой и купленной чурчхелой в маленькой квартирке запрятанного в уютный южный дворик конструктивистского дома, где нет батареи, но есть печь. Вот прошла короткая ночь, а хмурым утром под непроглядными, но очень высокими тучами мы пошли на вокзал Кисловодска, чтобы доехать электричкой в Ессентуки, на платформу Белый Уголь у трассы. Туда, хоть и с получасовым опозданием, вскоре подъехал Смешной Машинк - так я прозвал чёрный лупоглазый Nissan Note, который мы взяли в аренду у рекомендованного несколькими читателями прокатного сервиса "Автостиль-26" с базой в Минеральных Водах. На следующую неделю тесноватый салон "Ниссана" стал нашим домом в большей степени, чем все сменявшие друг друга квартиры и отели. В них мы ночевали, а в Смешном Машинке - жили, я за навигатором, Наташа за рулём.
25.
Ну а карачаевцев, подбросивших меня от Преградной до Учкекена, я благодарил не только за сам подвоз, но и за путь который они мне показали. Прежде я был уверен, что с КМВ в КЧР ведут всего две дороги - хорошая, но очень длинная по равнине через Суворовскую и Черкесск и очень плохая, хотя и красивая, через перевал Гумбаши и Карачаевск. Как оказалось, есть и третья дорога от Усть-Джегуты между ними, на карте отмеченная как просёлка, а на деле - сносная по качеству, не перегруженная трафиком и населённым пунктами, в меру серпантинистая и живописная. В итоге я проехал по ней пять раз, а Наташа за рулём - четырежды.
26.
Сперва мы махнули в Домбай, по пути отведав осетинских пирогов в осетинском же Селе имени Косты Хетагурова. На Домбае весной было солнечно, но снег ещё не сошёл ни то что с окрестных гор, а даже из ущелий с их лесами и водопадами. Осмотрев тогда аланские Шоанинский и Сентинский храмы, конструктивистские дома Карачаевска, деревянные аулы Большого Карачая, тихую Теберду и сам посёлок Домбай с канатной дорогой на близлежащую гору Муса-Ачитара, я остался не доволен тем, что почти не увидел домбайских окрестностей.
27.
Но так себе идея начинать в 10 утра путь длиной 180 километров в каждую сторону по горам и аулам. По тёмному ущелью Аманауза под горой Домбай-Ульген (в переводе Убитый Зубр) мы успели дойти лишь до водопада Чёртова Мельница, а от пути дальше, к куда более зрелищному Суфруджинскому водопаду, нас отговаривали хором встречные - по километрам до него столько же, а вот по времени в 2-3 раза дольше. Не попали мы и на канатную дорогу, заканчивающую работать в 16 часов, и в ставшее последней надеждой не продолбать день Гонахчирской ущелье, куда заповедник перекрывает въезд после 17. От полного разочарования спас лишь придорожный развал, где у карачаевки, которую Наташа прозвала Рыжей Ведьмой, мы купили колбасы из мяса яка и неимоверно вкусной черничной халвы.
28.
На следующий день мы поставили несколько менее амбициозные планы съездить в Архыз, стартовав к тому же не в 10, а в 7 утра. В Архызе весной даже лучше, чем осенью, вот только заложил я тогда на него один день, чего явно было мало. В апреле я осмотрел Нижне-Архызское городище с его тройкой аланских храмов да съездил с Еленой
 maurisio в небольшую обсерваторию, откуда она следит за космическим мусором. Однако обсерваторий в этих горах находится целых 5 штук, и в том числе две рекордных - крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600, который легко перепутать со стадионом:
maurisio в небольшую обсерваторию, откуда она следит за космическим мусором. Однако обсерваторий в этих горах находится целых 5 штук, и в том числе две рекордных - крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600, который легко перепутать со стадионом:29.
И крупнейший в России оптический телескоп БТА в самой высокой в мире обсерваторной башне. На РАТАН я договорился об экскурсии заранее, а БТА по выходным фактически становится музеем, куда группы ходят одна за другой.
30.
Выше обсерватории же я весной и вовсе не поднимался, а осенью мы обнаружили дальше по ущелью современный, построенный с нуля горнолыжный курорт Романтик:
31.
Суматошную поляна Таулу, напоминающая майдан (в исходном смысле этого слова) между цивилизацией и горами:
32.
И похожий на мелкие курорты Крыма или Байкала посёлок Архыз, где есть свои мелкие достопримечательности вроде скрытого в лесу древнего камня с крестом или забавного крутящегося домика на тракторной рессоре. И - множество кафе, в одном из которых, над тёмной водой быстрой речки Зеленчук, я ел самые вкусные, что когда-либо пробовал, карачаевские хычины.
32а.
Что из Домбая, что из Архыза мы выезжали затемно, а в Кисловодск возвращались на ночь глядя. Спали недолго, но крепко, и просыпались до странного легко. Третий день на колёсах должен был стать кульминацией путешествия: мы собирались на Джилы-Су. Так называется долина в 80 километрах на юг от Кисловодска, у северного подножья Эльбруса на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а по факту - снаружи всех измерений: на дороге хороший асфальт, но нет ни единого населённого пункта. Дорога проложена поперёк хребтов, чередуя головокружительные виды с перевалов и тяжёлые крутые серпантины глубоких долин. То ли из-за этих серпантинов, то ли просто по самодурству "Автостиль-26" требует за поездку на Джилы-Су ещё и дополнительную плату в 3500 рублей независимо от арендованной машины, причём менеджер сразу припугнул нас, что оплачиваемая зона начинается от выездного знака Кисловодска. Помня о риске поехать в горы, но не увидеть гор, мы договорились принять решение утром в день выезда по фактической погоде. Погода, прежде хмурая, вдруг оказалась ИДЕАЛЬНОЙ:
33.
Джилы-Су с его альпийскими лугами, головокружительными каньонами, острыми скалами, разноцветными нарзанами и огромными водопадами, бьющими из расщелин под напором, стал сильнейшим впечатлением всего путешествия. Я надеялся забраться наверх, в висячую долину Немецкий Аэродром, прозванную так за гладкое горизонтальное дно и легенды о самолётах "Аненербе". Но туда от водопадов набор высоты 500 метров, а воздух Джилы-Су сухой, словно в пустынях, и вскоре, видимо от обезвоживания, я напрочь выбился из сил. Через скальный Калинов мост над одним из водопадов мы дошли лишь до средней ступени - Поляны Эммануэля с целебными серебряным ключом, а затем стали спускаться, понимая, что серпантины проезжать лучше засветло.
34.
Четвёртый день, отоспавшись и выселившись из квартиры, мы решили посвятить самим КавМинВодами. Гуляли по Кисловодску, где я осмотрел несколько мест, упущенных в 2014-м году и весной:
35.
В Ессентуки не углублялись, а лишь осмотрели на окраине Рио-де-Кавказ - так некоторые в шутку называют комплекс современных, и крайне необычных для России храмов, построенных на окраине города местными греками.
36.
В станице Суворовской - купались: здесь есть горячие источники, удивительные в первую очередь тем, что избавляют жителей Кавказских Минеральных Вод от участи "сапожника без сапог".
37.
В Железноводск я решил заехать в первую очередь ради советского Нового города, но и по Старому городу мы чуть-чуть погуляли, пока не наступила ночь.
38.
А в Пятигорске поели отменного шашлыка в рекомендованной моим другом Сергеем шашлычке "У Бормана" посреди армянского района Гора-Пост. Оттуда на ночь глядя поехали в гостиницу "Жара" в Горячеводске, при выборе которой я руководствовался единственным критерием - поближе к выезду по трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарию. Полюбовавшись с утра озером Тамбукан с его лечебными грязями да заглянув в знакомый мне с весны Баксан снять денег в банкомате...
39.
...мы свернули в Баксанское ущелье. Проще говоря - в Приэльбрусье, и сами не заметили, как оказались посреди высоких гор.
40.
Именно в Приэльбрусье в весеннем путешествии невезение с погодой достигло апогея: на вторых майских тучи над Баксанской долиной стояли так низко, что мы, без преувеличения, просто не видели гор. Обрезанный низким небом, Кавказ напоминал в лучшем случае Хибины, а то и вовсе что-нибудь вроде Мещёры. Тогда мы осмотрели мрачный Тырныауз и колоритное ущелье Адыр-Су ниже по долине, а вот в окрестностях Терскола, последнего посёлка по дороге вверх, погодой оказалось испорчено буквально ВСЁ. По канатным дорогам и ущелью Адыл-Су мы катались тогда просто в тумане, а к водопаду Девичьи Косы было вовсе ни проехать ни пройти из-за глубокого снега. Вернувшись в сентябре, на Девичьи косы мы и отправились - за неимением "буханки", пешком:
41.
А в итоге взошли на пик Терскол (3120м), набрав от посёлка 900 вертикальных метров. Этот пик на километр выше моей прошлой, по совместительству первой вершины - горы Поп Иван в украинских Карпатах. Но что роднит обе горы - это обсерватории на вершинах: там - заброшенная с 1940-х годов, тут - построенная в 1970-е годы.
42.
Путь наверх же отмечало странное Знамение:
43.
На вершине Терскола мы проводили тревожный закат и уже в потёмках спустились по широкой, проезжей для квадриков и "буханок", тропе обратно в посёлок. Там нас ждала гостиница "Терскол" с номерами квартирного типа - между прочим, самая дорогая гостиница, в которой я когда-либо ночевал за свой счёт. Но причины раскошелиться были: я приехал под Эльбрус встречать на его склоне свой 36-й день рождения. И вот собрались на столе вино из Цимлянска, адыгейские сыры из Майкопа, ячья колбаса с Домбая и самодельный торт из купленных в пятигорском "Магните" ингредиентов, а в кадр попал ещё и ремень - подарок Наташи.
44.

Изначально я хотел отмечать день рождения непосредственно на Эльбрусе, но зайдя в интернет утром своего дня рождения, я в коем то веке был огорчён отнюдь не новостями с фронта. На фронте всё было именно так, как подсказал мне внутренний голос: поток поражений замедлился и сменился болотом разбора полётов. Актуальнее каналов телеграма для меня стал сайт Поляны Азау: зайдя проверить веб-камеры со склонов Эльбруса, я обнаружил, что канатная дорога закрыта, и будет закрыта ещё 3 дня. Канатка на соседнюю гору Чегет сломалась ещё днём раньше, и было не ясно, починят её или нет. Да и погода не радовала - над горами сгущались тучи и порой налетали мелкие дожди. Но Кавказ всё-таки подарил мне праздник: дойдя на Поляну Чегет без особой надежды, мы обнаружили открытой для пассажиров запасную канатку, которой обычно возят пограничников и рабочих, а наверху вдруг ненадолго выглянуло Солнце.
45.
Так и сидели мы на гребне горы, и столом для тех же блюд стал плоский камень. Наташа припасла воздушного змея и запустила его на ветру:
46.
На кадре выше видно горное озеро Донгуз-Орунбаши в естественной дамбе ледниковых отложений, куда спустились мы, налюбовавшись долинами да выпив вина с сыром и тортом.
47.
А вот такой вид открывался в другую сторону: на дне долины - посёлок Терскол и поляна Азау, напротив - пик Терскол с куполами обсерватории, где мы были вчера, а позади - Эльбрус. Если весной я увидел на нём лишь вершины, выступавшую над верхней станцией канатки из низких облаков, то осенью вышло наоборот: мне открылось всё, кроме вершин, так и уходивших в серое облако.
48.
Потом из долины поднялся туман, а с наступлением темноты началась гроза, и я прежде не видел такого, чтобы молнии сверкали и громы гремели через каждые пять минут пять часов без перерыва. Гром разбудил меня глубокой ночью, и я вдруг осознал все те новости, которые мозг блокировал днём, чтобы не портить день рождения - конечно же, речь о мобилизации... До утра я не спал, снова глядя в телеграм всю ночь до подъёма.
49.
Так наступил последний день. Со вздохом выселившись из уютной гостиницы, мы погнали на Смешном Машинке вниз по долине, вскоре снова выехав под ясное синее небо. Заглянули на Поляну Нарзанов:
50.
В опустошённое селем 2017 года ущелье Адыл-Су, над которым проступили те вершины, что в мае прятались в облаках:
51.
И в посёлочек Нейтрино, название которого читается именно так, как вы подумали: здесь гигантский подземный телескоп, уходящий на километры вглубь горы, ловит субэлементарные частицы.
52.
В предгорьях над дорогой вновь сомкнулась мгла, совершенно такая же, как была весной:
53.
А мы заехали в соседнее Чегемское ущелье - я хотел посмотреть на Малый Чегемский водопад, до которого весной так и не доехал:
54.
Да показать Наташе основные Чегемские водопады и напоследок пообедать балкарскими хычинами, жаубауром и форелью в знакомом кафе "У Курмана". Глядя на часы в телефоне, я понимал, что мы всерьёз рискуем опоздать на самолёт, однако самолёт "Уральских авиалиний" великодушно согласился подождать нас - вылет перенесли с 20:30 на 21:20.
55.
Самолёт повёз нас домой, в неизвестность... Но Домодедово встретило не толпами беженцев, а гулкой пустотой в огромных залах терминала.
Теперь о дальнейшем. Если не случится совсем уж тотального ППЦ типа ядерной войны, то я продолжу вести журнал. В моё военном билете записано "негоден" (именно так, в одно слово!), и если диплом вуза я быстро и благополучно потерял, то военный билет так и пролежал без малого 20 лет в ящике стола. Если не встанет вопрос а ля "подмосковное ополчение в 1941-м", призвать и даже взять добровольцем меня могут только в нарушение закона и устава. А потому не стоит искать меня ни на Украине, ни в Казахстане и Грузии. В конце концов и в Великую Отечественную Шостакович писал симфонии, а на эвакуированных в Алма-Ату и Ташкент киностудиях снимали добрые светлые фильмы. С лета же у меня остались обязательства как минимум перед Якутией, которую я посещал при поддержке тамошних властей и лично депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, а значит ближайшие месяцы я не то что буду, а обязан вести этот блог. Что дальше - не знаю, да и никто не знает. Но как сказал, кажется, один американский генерал во время Войны Севера и Юга, когда к нему пришли мормоны сообщить про намечавшийся Апокалипсис, "Если завтра случится Конец Света - пусть он застанет меня на рабочем месте".
Так что примерный план рассказа:
- Волгодонск и Цимлянск (3 поста на 2 города)
- Армавир (2-3 поста)
- Майкоп (1-2 поста)
- Хаджох и окрестности
- Лаго-Наки
- Курджиново
- Домбай (детали к постам на весеннем материале)
- Архыз (1-2 поста + весенние)
- Джилы-Су (2-3 поста)
- Кисловодск (1-2 поста вместе с весенним материалом)
- Желеноводск, Ессентуки, Суворовская (1 пост либо дополнения к постам 2014 года).
- Приэльбрусье (3-4 поста)
- Чегемское ущелье (дополнение к постам на весеннем материале).
P.S.
Отдельная личная благодарность Виталию, который на день рождения перевёл мне 10 000 рублей в Варандей-Фонд. Это крупнейший перевод за последние два года, и я уже не верил, что такие ещё когда-нибудь мне придут. Но это очень своевременно, учитывая, что в 2022 году Яндекс-Дзен сильно просел и не может полностью покрыть мои дорожные бюджеты.
Вершина, которую так и не покорил |
Вчера я взошёл на вершину. Не Эльбрус, конечно, не Шхельда и не Домбай-Ульген, а всего-то пик Терскол (3150м), нависающий над одноимённым посёлком. Взошёл от начала до конца на своих двоих, без коней и джипов.

А вокруг манили другие, как бы НАСТОЯЩИЕ вершины.

И что однажды и на них сделаешь селфи, легко верить в 16 или 26 лет. А когда исполняется 36?! Но за последнее время я совершенно избавился от чувства топтания на плато и непреодолимого потолка. И может быть, это главный итог прошедшей части жизни: к 36 годам я не потерял мечту, веру и поиск.
Самому себе я хотел бы пожелать не терять их и впредь, даже во мгле этой новой отнюдь не прекрасной эпохи.

А вокруг манили другие, как бы НАСТОЯЩИЕ вершины.

И что однажды и на них сделаешь селфи, легко верить в 16 или 26 лет. А когда исполняется 36?! Но за последнее время я совершенно избавился от чувства топтания на плато и непреодолимого потолка. И может быть, это главный итог прошедшей части жизни: к 36 годам я не потерял мечту, веру и поиск.
Самому себе я хотел бы пожелать не терять их и впредь, даже во мгле этой новой отнюдь не прекрасной эпохи.
|
Метки: с человеческим лицом |
Георгиевск. Часть 2: окрестности |
Георгиевск, старейший русский город Кавказа и "пятый элемент" Кавказских Минеральных Вод, за свою историю оброс весьма впечатляющей системой станиц и посёлков. Если в самом городе живёт лишь 65 тысяч человек, то в агломерации - 120 тысяч. И я бы сказал, окрестности Георгиевска как бы не более интересны, чем сам показанный в прошлой части город: тут есть деревянные церкви, старинные усадьбы, заброшенная железная дорога, крупнейшее и старейшее дерево всея Руси и одно жутковатое заведение из стереотипов тёмного Средневековья.
Наш сегодняшний маршрут образует кольцо, южная сторона которого - 30-километровая трасса, ведущая в Георгиевск из Пятигорска. По улицам она проходит как бы не больше, чем по полям, но предместья двух городов разделяет Лысая гора - самый плоский и невзрачный из 17 КавМинВодских лакколитов. Я даже толком её не заснял, как и куда более эффектные виды - за Лысой горой маршрутка буквально пикирует в долину Подкумка, вдоль которого лежит станица Лысогорская (12 тыс. жителей). В отличие от большинства станиц, расставленных по степи волей императоров и атаманов, Лысогорка возникла спонтанно и не от хорошей жизни: в 1836 году кабардинцы из аула Бабуков внезапно устроили ночной набег на станицы Александрию и Подгорную, где пожгли хутора и околицы. Станицы к тому времени разрослись, многие казаки имели наделы поодаль, а потому и отстроились к ним поближе - против Лысой горы на левом берегу Подкумка. К 1860 году станичникам стало тесно и там, а кто-то заметил, что на правом берегу под горой гораздо больше воды в колодцах, и вот к началу ХХ века Лысогорская почти полностью переползла на правый берег. Историю наглядно отражает планировка - в отличие от большинства станиц, планы которых напоминают тетрадный лист в клеточку, улицы Лысогорской извилисты, как в среднеазиатских кишлаках. Станица вытянулась вдоль реки на 9 километров, однако трасса пересекает её поперёк. У маршруток в сторону Георгиевска в Лысогорской долгие стоянки и посадка как бы не больше, чем в Пятигорске - станичники едут в райцентр:
2.
В сотне метров от остановки - и основная достопримечательность станицы: деревянная церковь Рождества Богородицы, срубленная в 1875-77 годах воронежским мастерами:
3.
Местная легенда гласит, что атаман был против самовольного переселения казаков даже между соседних станиц, и когда те пришли к нему с прошением построить церковь, поставил условие - уместить её "на шкуре барана", которого ему привезли. В результате шкуру нарезали на тонкие ремни и выложили ими периметр храма... но это явно пересказ каких-то горских архетипов: с русскими чиновниками в 19 веке дела так не делались.
3а.

А может быть, под "атаманом" скрывается турецкий паша, а под "казаками" - болгары или армяне? Вполне вероятно, что легенду пересказал кто-то вернувшийся с русско-турецкой войны: строили церковь проштрафившиеся казаки, а отличившиеся - увековечены в её зале.
4а.
Где лишь в 1937-42 годах не проводились службы. Открыл храм председатель колхоза Архип Пискарёв в полгода немецкой оккупации. Позже он отправился под суд как коллаборационист (тем более это могло быть не единственным его деянием под фрицем), но вновь закрывать храм не стали.
4.
А в качестве альтернативы воздвигли рядом монументальный Дворец культуры (1961):
5.
Где-то в полях вокруг Лысогорской остались заброшенные бюветы: прежде из под Лысой горы сочились нарзан и термальные воды, вот только я узнал об этом лишь при написании поста. От Лысогорской всего 7 километров до следующей станицы Незлобной, а на полпути между станиц до недавнего времени путника ждал "Автобус". Как-то в нулевых годах армяне из Незлобной поехали в Пятигорск торговать шашлыком, да только между станицами их микроавтобус сломался. День был знойный, с помощью вышла какая-то накладка, и от безнадёги армяне поставили мангал и начали готовить шашлыки прямо на обочине дороги. Делали они это явно в ударе, цену занизили, чтобы хоть что-то продать... и в общем зашло дело так хорошо, что на следующий день отремонтированный микроавтобус приехал не в Пятигорск, а сюда же. "Шашлыки из автобуса" стали настоящей достопримечательностью дороги в Георгиевск, и "автобусом" местные по старинке называли павильон, построенный всё на том же месте через несколько лет успешной торговле. Ну а в итоге дорогу сделали скоростной и оснастили физическим разделением, да и шашлык, скорее всего, успел стать "не тот" - теперь от "Автобуса" даже следа не осталась. Последнее напоминание - тропка в лес, на высокий берег невидимого в своей пойме Подкумка, где прежде народ отдыхал за шампурами.
6.
Чуть дальше начинается сама Незлобная - гигантская (20 тыс. жителей) станица, другим концом фактически приросшая к окраинам Георгиевска. История её сошлась в 1862 году из двух линий, начинавшихся в 1780-х годах. В 1783 году под стены Георгиевской крепости перекочевал с Чегема целый кабардинский аул Бабуков, основным населением которого, впрочем, быстро сделались абазины - северокавказские абхазы, ещё в 10 и 15 веках двумя волнами заселившие предгорья нынешней Карачаево-Черкесии. Они и по сей день живут там, помнят язык и происхождение, но культура и быт их за века полностью унифицировались с черкесскими. В 1821 году Бабуков аул был преобразован в станицу, а горцы приняты в казаки, но как показала история о появлении Лысогорской, соседство их с русскими казаками оказалось отнюдь не мирным. В 1861 году бабуковцы вернулись в Кабарду и Абазинию, а на их места переехала из Кабарды станица Незлобная, зародившаяся в 1786 году на реке Золке. Первопоселенцы поняли это название как "злюка", а так как злюкой быть нехорошо, село своё нарекли Незлобным. Переселенцами этими были в первую очередь однодворцы - так называлось то ли упразднённое в 1866 году сословие, то ли ещё живой по курским и воронежским сёлам субэтнос. Потомки служилых дворян, охранявших границы Русского царства, с концу 17 века они обеднели настолько, что в хозяйстве и быту не отличались от крестьян, однако имели право владеть не то что землёй, а теми же крестьянами. И, конечно же, держались особняком, стараясь не родниться с мужиками. С покорением Кавказа власти вспомнили, что однодворцы были стражами границ, и активно приглашали их на новые границы с перспективой перехода в казаки. В 1833 году Незлобное село стало станицей Волгского полка Кавказского линейского казачьего войска, а в 1862 его жители перебрались на Подкумок.
7.
С собой казаки перевезли деревянную церковь Михаила Архангела, но её фотографий, кажется, не сохранилось в природе. Новый Михайло-Архангельский храм освятили в 2009 году:
8.
И вышел он, я бы сказал, просто неожиданно удачным - легко принять его за памятник "кирпичного стиля" 1860-х:
8а.

Сам Михаил Архангел во дворе присматривает за порядком:
8б.

В основном Незлобная - это море частного сектора с высокими заборами, аляповатыми фасадами и кислотными цветами крыш. Кабардинцы и абазины сюда не вернулись, а вот армяне - без малого четверть жителей. В бескрайнем пространстве станицы есть и несколько старых зданий - вот, скажем, школа:
9.
А это больше похоже на станичное правление, отмеченное в списке памятников архитектуры по другому адресу:
10.
И в общем, как и всё незлобное, была станица эта небольшой и бедной, но жизнь изменилась в 1875 году - сюда пришла железная дорога. Была это одна из самых прибыльных в России частных линий Ростов - Владикавказ. Ну а значение Незлобной переоценить было трудно: окружённая плодородными полями, станица сделалась воротами Ессентуков, Пятигорска и Кисловодска. По сути дела она заняла то же место, что сейчас Минеральные Воды, где действует крупнейший аэропорт Северного Кавказа. Незлобная сделалась главной промежуточной станцией Ростов-Владикавказской магистрали, по объёмам пассажирского трафика и перевалки грузов уступавшей лишь самому Ростову. Коммерсанты везли сюда товары всей страны на ярмарку к станичникам и горцам, курортники пересаживались на фаэтоны, и без преувеличения для нескольких народов (!) Незлобная сделалась главным окном в мир. И при взгляде с объездной, выныривающей из Георгиевска по северным околицам станицы, над Незлобной старый элеватор высится как кафедральный собор:
11.
Одну из самых современных в тогдашней России механическую мельницу построил в 1908 году торговый дом "Кащенко и сыновья", основатель которого Василий начал торговать хлебом в 1860-х годах в воронежской Бутурлиновке, а здесь дело отца продолжил младший сын Александр. Тут стоит заметить, что магнаты из народа всегда по особому смотрели на народ, то убегая от него как безжалостные эксплуататоры, то воздавая долг как меценаты. Кащенко были из вторых, а потому Незлобную Александр Васильевич обогатил школой с кадра №9 и больницей практически в ограде мелькомбината:
12.
Теперь здесь что-то административное - больницу в огромном селении явно построили и поновее. Александр Кащенко после революции бежал в Иран, но там, где хлеб всему голова, мельница продолжила работать.
12а.

С возвращением капитализма, напротив, мелькомбинат с его устаревшим энергоёмким оборудованием оказался на грани закрытия. В 2009 году производство здесь остановилось, но дальше - Крым, санкции, обвал рубля, импортозамещение.... К 2016 году мелькомбинат прошёл модернизацию и заработал вновь:
13.
А в глубине его так и стоит старая мельница Кащенко:
14.
На комбинате заканчивается и железная дорога, чуть дальше образующая странный тупик, перпендикулярный основному направлению:
15.
Ржавые рельсы, бурьян между шпал, пасущиеся прямо на путях бараны - так выглядит теперь некогда крупнейшая станция Кавказа:
16.
В домах у насыпи ещё можно опознать если не вокзал, то какие-нибудь путейские казармы, товарные конторы, железнодорожные больницы:
17.
18.
Табличка на одном из дворовых сараев прямо извещает, что это Железнодорожные дома, а улицы вокруг - Узловая, Вокзальная, Станционная:
18а.
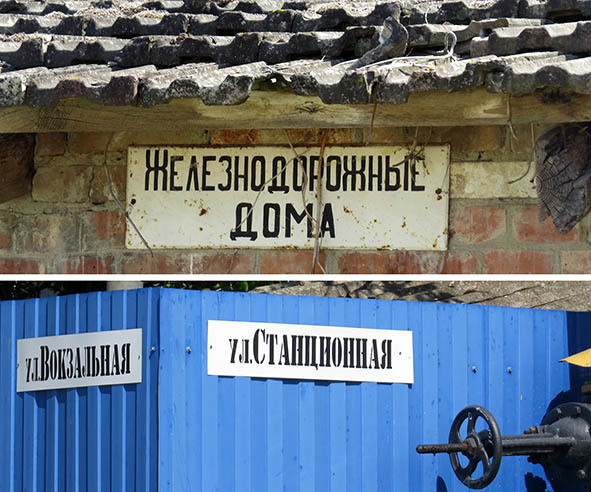
С улицы Ленина, ведущей в Георгиевск, хорошо видна путейская будка. В 1913-15 годах отсюда была проложена на север железная дорога - сперва 11 километров до дальней окраины Георгиевска, затем - ещё 94 километра до Святого Креста, что Советы переименовали в Будённовск. Вокзал в Георгиевске, где теперь останавливаются поезда что до Ростова, что до Владикавказа, я показывал в конце прошлой части: ветка от Незлобной к Георгиевску превратилась в ветку от Георгиевска до Незлобной, а магистраль в ХХ веке каким-то странным образом поменяла ход, сместившись буквально на несколько километров на север. Но распутать этот железнодорожный узел мне пока не удалось - рунет молчит о датах и обстоятельствах тех реконструкций.
19.
Станичная улица Ленина незаметно переходит в городскую улицу Калинина, приводящую на показанный в прошлой части автовокзал у центральной площади Победы. Теперь проедем Георгиевск насквозь, но чтобы он не выпадал из маршрута - покажу несколько фотографий утраченных зданий, не попавшие в прошлую часть. Вот например церковь Пантелеймона Целителя (1902-12), стоявшая на полпути до центра города от нынешнего Георгиевского собора:
20а.

Хуже, чем церквям, в Георгиевске не везёт кинотеатрам. Если "Аврора" просто стоит заброшенной на главной площади, то начинавшийся в 1912 году как синематограф Кривозубенко "Ударник" и вовсе исчез без следа - в 1985 году его собирались реконструировать со сносом, но осуществить успели только первую часть.
20б.

Дом культуры, построенный в 1930-е годы, из-за каких-то ошибок строительства сразу пошёл опасными трёщинами, и с его сносом Георгиевску пособили немцы.
20в.
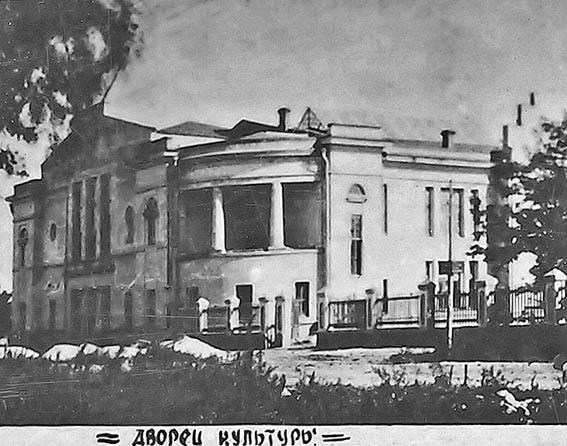
Самым же ценным, пожалуй, из утраченных памятников Георгиевска был Казённый мост (1853), к которому спускалась от Водяных ворот крепости Святого Георгия показанная в самом начале прошлой части Шоссейная улица. Тогдашний Подкумок был мощный шумной рекой, плеск волн которого был слышан даже в центре города. Крепость стерегла единственный брод, становившийся непроходимым в половодья и паводки. С упразднением крепости местные жители соорудили деревянный мост, но и на нём вода порой перехлёстывала через полотно, сбивая с него экипажи. Наконец, кавказский наместник граф Михаил Воронцов пошёл на радикальное решение проблемы, соорудив капитальный каменный мост длиной порядка 800 (!) метров - рискну предположить, крупнейший в тогдашней России за пределами Петербурга. В 1930-х годах он ещё стоял, а что сгубило его - Великая Отечественная война или плановая реконструкция дороги, - я опять же не смог разобраться.
20г.

Нынешний прозаичный бетонный мост выводит к двум прудам в пойме Подкумка:
20.
От прудов можно повернуть к Георгиевской бальнеолечебнице - пятым элементом КавМинВод я назвал этот город не только потому, что он ровесник Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Кисловодска и даже старше их, но и потому, что здесь тоже есть минеральные воды. Текут они, правда, не из природных ключей, а из пробуренных в советскую эпоху скважин:
21.
Причём воды здесь не железистые, как в Железноводске, не сероводородные и радоновые, как в Пятигорске, не хлоридно-гидрокарбонатные, как в Ессентуках, и даже не сульфатно-гидрокарбонатные, как в Кисловодске, а йодобромистые. На российских курортах такой тип воды, кажется, самый редкий, да и пить их нельзя - только купаться. Вместе с Георгиевском получается, что на КавМинВоды оказались представлены как бы ли не все основные типы целебных вод. Однако что-то не сложилось - открывшаяся в 1976 году бальнеолечебница так и осталась на этом курорте единственной, и кажется, даже не менялась с той поры.
22.
Бальнеолечебница стоит в лесу, за которым в паре километров от моста дорога выводит к окраинам Георгиевской станицы. Сам этот лес некогда был крупнейшим на равнинах Предкавказья, и именно обилие дичи, грибов и ягод, дров и стройматериалов предопределили роль Крепости Святого Георгия как флагмана в колонизации Кавказа. Потихоньку лес свели, от чего и присмирел Подкумок, и всё же довольно крупный массив, частично восстановленный в советское время, тянется от Незлобной на 15 километров вниз вдоль реки. Вглубь этого леса мы и направились дальше, вернувшись в Георгиевск и проехав его по пыльным, полузаброшенным окраинам:
23.
В тенистую чащу здесь уходит грунтовка, по которой весной как ни в чём ни бывало гуляют фазаны. Самца с длинным хвостом я заснять не успел, но пусть хоть курочка будет в кадре:
23а.

Где-то в километре за опушкой от дороги ответвляется направо хорошо заметная, даже проезжая, тропа. И вот куда она приводит:
24.
Патриарх Георгиевского леса - серебристый тополь, возраст которого оценивается то ли в 400, то ли в 800 лет. Вроде бывают деревья и постарше, однако ствол его у основания достигает в обхвате 12 метров, и кора напоминает кожу космогонического слона. Это самое большое дерево как минимум Ставропольского края, а может - и всей нашей северной страны:
25.
Вернее, было таковым до 2014 года - в Крыму есть дубы и помощнее. Уверенно могу сказать, что это самое могучее дерево России из тех, которые видел я лично, хоть Чудо-тополю Георгиевска далеко до Стельмужского дуба в Литве и совсем уж колоссального, крупнейшего во всём бывшем Союзе, платан Тджре в Карабахе.
26.
Ещё километр, и лесная дорога выводит на Сафонову дачу - в лесу скрыт романтического вида:
27.
Изначально, впрочем, усадьбу называли Ильинкой: терем в глубине чащобы построил в 1895-99 годах генерал Илья Сафонов, выйдя здесь на покой. Был это потомственный казак и отчаянный вояка, прошедший все крупнейшие кампании Кавказской войны и под конец её командовавший дивизией. Дивизия это была вооружена не просто берданками, а сафоновскими берданками - генерал лично усовершенствовал конструкцию винтовки и добился её внедрения в войска. Принимая гостей в обличие светского графа, Илья Иваныч порой удивлял их, например, разрубая шашкой на лету кусок сукна или за считанные минуты разбирая и собирая пулемёт Максима. Обосновавшись близ КавМинВод, и их отставной генерал пытался улучшить, например проспонсировав (видимо, не единолично) новый курзал в Кисловодске. На коронации Николая II Илья Иванович нёс балдахин, а на похороны генерала в 1896 году приходил целый Чехов.
28.
Всё подготовив для безбедной старости, распорядиться Ильинкой старый Сафонов уже не успел, так что основным владельцем имения стал его сын Василий. Так Ильинка и сделалась Сафоновой дачей - пианист, дирижёр и преподаватель жил в основном в Петербурге, а сюда приезжал отдыхать. В 1905 году он "не принял демократических преобразований", а потому и вовсе махнул в цитадель демократии: в 1906-09 годах Wassily Safonoff был главным дирижёром филармонии в Нью-Йорке. В память о нём на башне усадебного дома начертаны ноты:
29.
Ну а третьей поколенье владельцев этой дачи было представлено Анной Васильевной, верной женой Верховного правителя России Александра Колчака. Более известна она как Анна Тимирева, но эта фамилия досталась Анне Сафоновой в 1911 году от первого мужа адмирала Сергея Тимирева, от которого у неё родился сын. Влюбившись в 1918 году в другого адмирала, Анной Колчак она так и не стала - в лихое время было не до свадеб. И хотя в январе 1920 года Тимирева добровольно пошла с Колчаком под арест, расстреливать её вместе с Верховным правителем не стали. Третий брак за инженером-строителем Книппером оказался у Анны Васильевны самым долгим (муж умер в 1942 году), и за это время она многое пережила. Например, тюрьмы Иркутска, Новониколаевска и Москвы, бараки Бамлага и Карлага, ссылки в Рыбинске и Вышнем Волочке, бесконечный поиск работы, а в 1938 - расстрел сына. Но воля к жизни у "мадам Колчак" (как знали её в бараках) оказалась потрясающей - она дожила до реабилитации, а умерла в 1975 году в квартире на Плющихе. Интеллигенция знала Анну Книппер как художницу и поэтессу, а на старости лет ещё и актрису, успевшую сыграть эпизодические роли дворянки на балу в "Войне и мире" Сергея Бондарчука и туристки на теплоходе в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая.
30
Помнила ли она эту дачу? Хотела ли снова её посетить? С 1934 года терем стал главной усадьбой Подкумского лесничества, но сейчас его вид скорее заброшенный. Вокруг - мехбаза, на которой кипит уже другая, рабочая жизнь. На машине типа УАЗа можно было бы уехать ещё дальше в лес, где лесничество разводит маралов.
31.
Более короткий путь на Сафонову дачу - через Краснокумское, ещё одно огромное село (19 тыс. жителей), плотно приросшее к Георгиевску за железной дорогой и простирающееся аж до слияния Подкумка и Кумы. Как ни странно, оно даже чуть старше города - в 1776 году здесь был основан, как сказали бы в советскую эпоху, "временный посёлок строителей" крепости. Позже от него остался госпиталь, вокруг которого разрослась Госпитальная слободка, или Красная Слободка в 1919-34 годах. Вот только смотреть там особо не на что, кроме новодельной Троицкой церкви (2015), а к Сафоновой даче ведёт оттуда только пешеходный мост. На машине мы снова поехали по тенистой дороге в Георгиевск, на этот раз пересекая его практически через центр. И чтобы снова отметить присутствие в городе, покажу столь нетипичную для моего блога вещь, как магазин и музей антиквариата. Дело в том, что в гостях у человека, который меня встречал, я приметил всякие рогатины, кадки да тележное колесо, и он рассказал, что коллекционирует старые вещи. Часть из них он отдал другу, который держит антикварный магазин, и вот привёз меня туда показать вещи из своей коллекции. Надо сказать, в антикварных лавках я обычно не бываю, и даже сравнить-то толком мне "Георгиевского Антиквара" не с чем, но всё же пяток кадров я сделал и тут:
32.
33.
34.
Больше всего озадачил столбик с цитатой Дзержинского - присягу на нём чекисты дают, что ли?
35.
С вещами, которые можно купить, соседствует память, которая не продаётся:
36.
По Октябрьской улице, на которой старые домики из прошлой части заканчиваются довольно быстро, снова покидаем Георгиевск. Изначально проходившая через Александровские ворота крепости, которые вели на Москву, в дорогу к столице Октябрьская переходит и ныне. Георгиевск провожает руинами промзон, печальным даже по меркам остальной России:
37.
У перекрёста - станица Подгорная (6 тыс. жителей), примечательная тем, что каждый пятый житель в ней - цыган. Но искать что-то похожее на цыганские трущобы Румынии и Болгарии там не стоит - это цыгане оседлые, с участками, домами и работой сторонящиеся своих кочующих соплеменников, и разве что в праздники выдающие себя пышностью нарядов и танцев. На фоне Подгорной же видна нынешняя магистраль Северо-Кавказской железной дороги. Обратите внимание на кладку: судя по тому, что на карте 1918 года железные дороги имеют ещё старую конфигурацию, а на карте 1940 уже современную, этот участок был отстроен в 1920-е годы взамен разрушенного Гражданской войной.
38.
На кадре выше чернеют тоннели транзитной дороги, уходящей в бескрайние поля Ставрополья:
39.
...но мы сворачиваем в другую сторону и едем по тихой просёлке, загибая круг обратно к лакколитам КавМинВод:
40.
Здесь притаился крошечный после буйства окрестных станиц посёлочек Терский (700 жителей):
41.
Местами он не отличим от парка или пышного советского санатория для номенклатуры, и лишь явно конспиративное название (до Терека ещё целая Кабардино-Балкария!) смутно предупреждает, что здесь что-то не так. Дальней стороной посёлок упирается в заборы и подсобки, где стоит тоскливый запах лежалого белья и кислых щей.
42.
И объехав забор, невольно цепенеешь от иррационального, первобытного страха перед вывеской на неприметных воротах. От слова "лепрозорий" веет смрадными каменными улицами и докторами в птичьих масках, но здесь это слово значит то же самое, что значило и в Средние века. Сейчас проказу относят к так называемым "забытым болезням" - не исчезнувшим без следа, но отступившим куда-то на край человечества. В средневековой Европе существовали тысячи лепрозориев, а прокаженные, даром что отпеты и символически погребены, расхаживали по улицам укутанные в плотные одежды и увешанные трещотками. В СССР действовало 14 лепрозориев, ну а в нынешней России осталось 4 - научный в Сергиевом Посаде, тюремный в Астрахани и жилые в краснодарском Синегорске и здесь. Основанный в 1897 году неким батюшкой и названный по тогдашней губернии, Терский лепрозорий - крупнейший, и к тому же при нём находилась единственная в бывшем Союзе психбольница для лепробольных. Местные с мрачным юмором называют Терский "республикой прокажённых" - и сотня работников с семьями, и несколько десятков больных живут обособленно от внешнего мира, для которого на них клеймо. Жители, однако, не болеют лепрой: в отличие от другой "забытой болезни" чёрной оспы проказа отступила не под натиском медицины. Её возбудитель передаётся воздушно-капельным путём, но во-первых лишь при очень длительном контакте (вполне закономерном в тесных средневековых городах), а во-вторых - только тем, кто изначально генетически к ней расположен. Изоляция прокажённых в конечном счёте сделала своё дело - генетические линии лепроуязвимых в большинстве своём попросту пресеклись. Теоретически, современный прокажённых может жить в крупном городе, ездить в метро, ходить на работу, не опасаясь никого заразить... но не не зря выражение "убегать как от прокажённого" означает непреодолимый и панический бойкот. Лепрозорий защищает не здоровых от больных, а больных от здоровых - здесь они живут замкнутой общиной, иные по полвека и больше, и даже образуют семьи и рожают детей. Дети их в большинстве случаев здоровы, но детей этих мало: почти все пациенты лепрозория - старики. От старости здесь в основном и умирают: непрерывные профилактика и лечение позволяют не доводить лепру до знакомых по книгам симптомов. Мы заходить в лепрозорий не стали хотя бы по этическим соображениям (люди всё ж таки не живность в вольере), а в общем-то журналисты тут совсем не редкий гость: проникновенные тексты о Терском можно прочесть, например, здесь, здесь или здесь.
42а.

Чуть дальше дорога начинает закругляться уже к Лысогорской, и по правую руку отлично видны лакколиты Пятигорья, похожие на странный архитектурный ансамбль. В кадре, слева направо, Бештау (1400м) о 5 вершинах, миниатюрные лакколиты Железноводска (до 767м), лежащие с другой стороны от него Железная (853м) и Развалка (926м), перед которой - Змейка (994м) с её карьером во весь склон. Правее и поодаль видны Бык (817м) и Верблюд (885м), первыми встречающие со стороны Ставрополя:
43.
Особенно эффектна Змейка, нависающая голыми скалами над степью от Минеральных Вод до Георгиевска:
44.
На кадре выше, однако, обратите внимание на поросшие кустами полосы перерытой земли, которые пересекает и грунтовая дорога:
45.
Поравнявшись с ними, мы покинули машину и пошли в сторону Минеральных Вод по краю между кустами и полем. Жирный чернозём налип на ботинки тяжеленными калошами, в которых было сложно не то что не поскользнуться, а не упасть, потеряв равновесие. Шли долго, километр или около того, держа полосу кустов по правую руку, а над нами, словно приглядывая, кто влез на поле, пролетел небольшой вертолёт:
45а.

В какой-то момент я нашёл тропку в кустах, и тропка вывела меня на ровную поляну, с двух сторон обрывавшуюся отвесно. Чуть отойдя вбок, я понял, что это мост, или скорее дренажная арка: кусты - ни что иное, как насыпь железной дороги Ростов-Владикавказ, проходившей с 1875 года через тот тупик в Незлобной.
46.
С полей видно, как она спускается в предместья Минеральных Вод, по которым гремят поезда нынешней магистрали:
47.
И я надеюсь, что вновь увижу эти степи очень скоро - сегодня ночью я выезжаю на юг. В Волгодонск, Армавир, Адыгею и далее на Центральный Кавказ увидеть то, что весной (ОБЗОР и ОГЛАВЛЕНИЕ!) не увидел из-за погоды и отметить день рождения на склоне Эльбруса.
|
Метки: железнодорожное дорожное казаки Георгиевск транспорт КавМинВоды цыгане курортное армяне Русский Юг |
Георгиевск. Часть 1: Пятый элемент |
На Кавказских Минеральных Водах "5" - число почти магическое. Крупнейшая из здешних 17 лакколитов гора Бештау имеет 5 вершин, 5 гор-спутников и 5 гор-соседей, а среди Пятигорья люди построили Пятиградье. И столь устойчиво клише "пяти городов КавМинВод", что как-то даже и не задумываешься о математике: всего городов тут семь, а популярных курортов четыре (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск о пяти железнодорожных платформах). За пятого в большинстве рекламных проспектов и путевых заметок тут Минеральные Воды, аэропорт и вокзал которых видел почти каждый, кто бывал в этих краях. Вот только сам образ Кавказского Пятиградья старше, чем поезда, самолёты или городок Лермонтов на урановых рудниках. Скрытым Пятым элементом КМВ я бы назвал Георгиевск - довольно крупный (65 тыс. жителей, а в агломерации и все 120 тысяч) и довольно старый (тут присоединяли к России страну Georgia) город на Подкумке в 20-30 километрах от Минеральных Вод и Пятигорска, подобно Моздоку или показанному в прошлой части Екатеринограду имевший шанс стать столицей Кавказа.
Я расскажу о нём в двух частях - о городе и окрестностях, которые как бы не более интересны.
В предгорьях Центрального Кавказа за последнюю тысячу лет сменился ещё и пяток государств: "золотым веком" в памяти горцев осталась эпоха Алании, когда на плоскости под охраной лояльных кочевников колосились пышные поля. Затем пришли сюда кочевники нелояльные и втоптали Аланию в пыль веков - её уцелевшие жители скрылись в труднодоступных голодных ущельях, а предгорья взяла себе Золотая Орда. Недолговечная, как и все степные империи, в 15-16 веках и она начала слабеть и дробиться, и первыми из горцев на бесхозную равнину пришли черкесы. Никогда не бывшие частью Алании, они были кочевниками не привольных степей, а непроходимых лесов Западного Кавказа, и боевого клича их боялся ещё древний грек. Вот только как и подавляющее большинство лучших в мире воинов, адыги совершенно не умели договариваться между собой. Непобедимые для народов извне, черкесы истребляли друг друга в бесконечных войнах племён, ни одно из которых не могло взять всю власть над другим. Сами они порядком отличалась укладом, разделяясь на "аристократические" (где у власти стояли князья "пши") и "демократические" (где всё решались народные сходы и тлекотлеши - старейшины). И вот некоторые пши задумались о том, что не стоят жизни уорка (воина) и тфокотля (землевладельца) эти дождливые горы, когда рядом только и ждёт хозяев непаханный чернозём. Так и возникла где-то в 15-16 веках Кабарда - черкесская колония на плоскости, вскоре сцепившаяся с Крымским ханством и в 1561 году объединившаяся против него с покорившей другие татарские ханства Россией. То как часть Кабарды, то отдельно от неё в русских документах известны "пятигорские черкасы", сущность которых нынешним историкам так до конца и не ясна. Рискну предположить, что это были другие, возможно "демократические" племена адыгов, так же рвавшиеся в Кабарду, окопавшись среди лакколитов. Но в итоге организация всегда побеждает отвагу: в 1570 году Кабарда проиграла войну с Крымским ханством. На два века Северный Кавказ стал фактически окраиной Османской империи, её Дальним Востоком и Крайним Севером, где кабардинские князья, как встарь, воевали друг с другом и порой брали власть над племенами горцев. Так прошло два века, а затем на Кавказе уже не посланниками, а войсками объявилась Россия, которой не терпелось исполнить давние союзные обязательства перед Кабардой. А так как мнения самих кабардинцев на этот счёт особо не спрашивали, в 1777 году по краю их степей прошла Азово-Моздокская укреплённая линия, укомплектованная казаками с Волги, Хопра и Днепра. Ключевым её звеном стала крепость Святого Георгия:
2.
Надо сказать, что в большинстве своём крепости Кавказа не сохранились просто потому, что в них и нечему особо было сохраняться. Каменные стены и башни Назрани или Ведено были воздвигнуты позже, когда России пришлось буквально вгрызаться в глухие горы. Первоначальные же крепости предгорных линий, как тот же Грозный, представляли собой многогранники земляных валов с каменными воротами, за которыми что казармы солдат, что дом коменданта, что лазарет и арсенал, что полковая церковь представляли собой корявые турлучные хаты. Крепости Святого Георгия повезло куда больше - она стояла над единственным на много вёрст вокруг, да при том весьма тяжёлым бродом через Подкумок, вдоль которого тянулся крупнейший во всём Предкавказье равнинный лес. Ну а лес - это не только дичь, грибы и ягоды, лес - это в первую очередь стройматериал: из брёвен можно было делать срубы, а на древесном угле обжигать кирпич. Расположение практически напротив середины Кавказского хребта вкупе с возможностью соорудить комфортабельные и презентабельные здания предопределили значение Георгиевской крепости - именно она стала центром всей Азово-Моздокской укреплённой линии, резиденцией её командующего, внешне больше похожей на форты Дикого Запада из тогда ещё не снятых вестернов. В пятиграннике крепостных стен было трое ворот - Бештаугорские к Пятигорску, Александровские к далёкой Москве и Водяные к Подкумку. Через последние и ныне поднимается Шоссейная улица (кадр выше), представляющая в нынешнем Георгиевске пусть и второстепенный, но самый эффектный въезд. И если подлинность стен и ворот вдоль неё вызывает большие сомнения (я встречал разные мнения на этот счёт), то выше, на параллельной высоком берегу Красноармейской улице, остались и подлинные здания крепостного двора:
3.
В первую очередь это Никольская церковь, освящённая в 1780 году - старейшая русская постройка Ставрополья. На самом деле она может быть даже старше: большинство деревянных церквей в этих предгорьях когда-то стояли в станицах Хопра и Волги, но перебравшись к новой границе, казаки увезли свои храмы с собой. Конкретно в случае Георгиевска с его обилием леса это лишь предположение, ничем не опровергнутое и не подтверждённое. Ну а достоверно то, что казаки сюда действительно приехали с Хопра - там, на Червлёном Яру, ещё в 14 веке из народа бродников, куда входили и славяне, и татары, и чиги (зихи, то есть опять же черкесы) образовалось первое подобие казачьего войска, охранявшего границы Великого княжества Рязанского от набегов Великой Степи. На рубеже 16-17 столетий Хопёрское войско вошло в состав Донского войска, но всегда держалось особняком. Много людей с Червлёного Яра сражались и за Стеньку Разина, и за Кондратия Булавина, но в 1770-х, видя судьбу Запорожской Сечи, хопёрцы решили не ссориться с государством. В 1775 году Хопёрский полк вошёл в состав Астраханского казачьего войска и за несколько лет был переселён на Кавказ, со временем распределившись между Кубанским и Терским казачеством.
4.
В Красноармейскую улицу с годами сжалась Никольская площадь, начинавшаяся как крепостной плац. До советских времён его отмечала таинственная "колонна у гауптвахты", о которой никто толком не знал, когда и в честь чего она поставлена - молва, конечно, говорила про визит "матушки Екатерины", которая в реальности никогда не была на Кавказе. Вот здесь приводится дореволюционный текст с предположением о том, что колонна была возведена в 1816 году вместе с самой гауптвахтой, так как у обеих построек был одинаковый кирпич. В таком случае это мог быть, например, памятник 40-летию крепости. Но уже к началу ХХ века не знавший реставраций колонна была на грани обрушения, ну а конец её истории так же не ясен, как и начало.
5а.

На плац, площадь, улицу глядит суровый бревенчатый фасад в сотне метров от церкви - на самом деле главный исторический памятник города. Кое-где это здание называют даже домом наместника Кавказа, и может быть наместник правда жил здесь, под защитой мощных укреплений, выдержавших в 1779 году даже не набег, а месячную осаду кабардинцев, пока на Малке царские власти безуспешно строили Екатериноград. На самом деле тут располагался штаб Азово-Моздокской линии и резиденция её командующего, которого навещали порой то Суворов, то Потёмкин. В 1783 году же в Крепость Святого Георгия пожаловали посланники из Страны Святого Георгия, Картли-Кахетинского царства по ту сторону Кавказского хребта. Георгиевский трактат, о котором подробнее расскажу позже, так и остался черновиком русско-грузинских отношений и, на мой взгляд, сомнительным поводом для гордости.
5.
Но дом, где его подписали, вроде как стоит, хотя и здесь я слышал разные версии, сходящие в дате "1983": одни говорят, что Георгиевский штаб был разобран давно, и к 200-летию трактата его условно воссоздали, другие - что тут цел вполне себе подлинный сруб, отреставрированный тогда по вольной фантазии авторов. Вот так "предполагаемый дом наместника" выглядел на старом фото:
5а.

Ну а в бурном Подкумке за эти две сотни лет много воды утекло. К 1786 году приросшая несколькими слободами крепость стала городом Георгиевском, которому на тогдашнем Кавказе явно готовилась вторая роль после Екатеринограда. Тот 4 года числился столицей Кавказского наместничества, Георгиевск же в 1802-24 годах был центром вытянувшейся от Кубани и Лабы до Каспийского моря Кавказской губернии (в последние два года - области), пока в этом качестве его не сменил Ставрополь. Ещё на 6 лет Георгиевск остался уездным городом, что тоже было немало - вся губерния делилась тогда на 4 уезда. Однако под защитой Крепости Святого Георгия расцвёл ближний тыл, где на целебных водах лечились раненные в стычках с горцами солдаты и отдыхало богатое "водное общество" со всей необъятной страны. В 1830 году Георгиевский уезд стал Пятигорским уездом, а городу, откуда фактически присоединяли Кавказ, достался лишь заштатный статус. От крепостных валов к середине 19 века не осталось следа, однако шанс на реванш у выскочек-курортов Георгиевску дал другой инфраструктурный объект - пущенная в 1875 году Ростов-Владикавказская железная дорога. Фактически, Георгиевск тех лет занимал в Пятигорье то же место, что теперь Минеральные Воды - главные ворота в нарзанный рай. Здешние ярмарки не уступали прохладненским, а на бывшей эспланаде крепости швейцарский купец Рудольф Лейпцингер воздвиг в 1902 году пивзавод, солодоварня которого теперь перекликается с Никольским храмом:
6.
К 1894 году, однако, железная дорога от Илларионовской (нынешних Минеральных Вод) была проложена непосредственно до курортов, и догнать их в развитии Георгиевску было не суждено. В ХХ век он вступил крепким середняком (12 тысяч жителей в 1897 году), столь знакомой по окраинам Российской империи "купеческой республикой". Центр города разросся из Мещанской слободы, и открывает его просторная площадь Победы примерно в километре от бывшей крепости:
7.
Украшенная Ильичом (1980) и неказистой скульптурой Святого Георгия (2020) чуть ли не из папье-маше, в жаркий полдень она превращается в сковородку, а ближе к сумеркам обретает неповторимый южный уют:
8.
Застроенная в позднесоветское время, красотой окрестных зданий площадь не впечатляет, и лишь переливающаяся мозаика кинотеатра "Аврора" по сей день радует взгляд меж глазниц заброшенного здания. "Аврору" в Георгиевске действительно любили, а мечта о её восстановлении тянется в городских пабликах из года в год:
9.
Площадь Победы - это бывшая Базарная площадь, так и не застроенный участок крепостной эспланады, с приходом железной дороги превратившийся в крупнейший на Кавказе торг. На радостях от возрождения старого города тут построили в 1881-83 годах Вознесенский собор, который я бы назвал апофеозом русской эклектики. Даже сквозь время видно, что со своими фронтонами и окнами в духе то ли рококо, то ли маньеризма, с армянскими главками звонниц и луковичным куполом по центру это был китч и абсурд... но китч и абсурд абсолютный, а абсолют нельзя не уважать.
10а.

Его снесли в 1934 году, а в 1960-80-х и саму эту сторона площади поглотили многоэтажные кварталы. Примерное место, где стоял собор, теперь отмечает часовня, сооружённая "в год семисотлетия [2014] со дня рождения преподобного Сергия Радонежского как знак покаяния о разрушении храма". Она неплохо смотрится в паре с другим монументом, поставленным в 1983 году в конце короткой пешеходной Горийской улицы - и думаю, из даты и названия вполне понятно, что это за монумент:
10.
Православная Грузия, в Средние века долго и мучительно собиравшаяся воедино под властью Багратионов (см. Ардануч) и в 12 веке на равных сражавшаяся с сельджуками и персами, к концу Средневековья представляла собой россыпь небольших монархий - пешек в партии султана и шаха. Тем не менее, формально царства и княжества оставались независимыми, а затяжная смута в Иране и появление в Передней Азии войск ещё одного православного царства вселяли в сынов Сакартвело надежду. В 1762 году царь Ираклий II объединил Картлийское и Кахетинское царства, то есть больше половины нынешней Грузии, и всерьёз задумался о собирании земель, в котором были хороши все средства. Внутри страны он реформировал законы и суды, загонял в рамки продажную знать, и не забывал даже про такие удивительные в нынешних "странах западного выбора" вещи, как образование и промышленность, поднимать которую позвал в свои приделы греческих мастеров (см. Алаверди). Во внешнем мире же все действия Ираклия II имели одну цель - дать стране покой и выиграть время. 24 июля 1783 года в штабе крепости Святого Георгия встретились Григорий Потёмкин и грузинские посланники Иоанэ Мухранбатони и Герсеван Чавчавадзе. Они подписали Георгиевский трактат, условия которого казались для Грузии более чем выгодными: Россия размещала на её территории два батальона своих бесконечных войск, но при этом обещала не вмешиваться во внутригрузинскую политику. В тот же год в Моздоке началось строительство Военно-Грузинской дороги, затянувшееся, однако, на 16 лет. Которые для Грузии оказались фатальны: не имея желания жертвовать батальонами за непреодолимой горной стеной, Россия не заступилась за вассала ни в одном из его конфликтов с соседями, а в 1786 году и вовсе, под предлогом переговоров Ираклия II с протурецкой Самцхе-Джавахетией, отказалась от обязательств и вывела войска. В 1795 году Тбилиси утопили в крови персы, в 1798 умер Ираклий II, а в 1799 году открылась наконец Военно-Грузинская дорога, по которой картлийские послы отправились на север просить уже не протектората, а подданства. Дальше же Россия сделала то, чего не делали с гордыми картвелами никакие захватчики - низложила царя, оборвав тысячелетнюю династию Багратионов. С точки зрения Советов, впрочем, царя низложить - всегда благое дело, и уж точно не помеха для русско-грузинской дружбы. Георгиевск же так и остался местом, где дружба эта переросла в нечто большее, и по монументу видно, что построили его зодчие, приехавшие сюда из-за гор:
11.
Площадь Победы с окрестностями представляет собой фактически отдельный район, обособленный и от крепости, и от старого города. На Горийской мне запомнилось здание детского садика:
12.
Судя по скульптурам, также 1980-х годов:
13.
"Аврора" и лежащий за ней Головинский сквер отделяют от площади школу №1:
14.
В которой сложно признать бывшее Реальное училище (1911):
14а.

В спину же нынешней мэрии глядит с соседней улицы Калинина старая Городская дума, судя по каланче над крышей вмещавшая заодно полицию и пожарных:
15а.
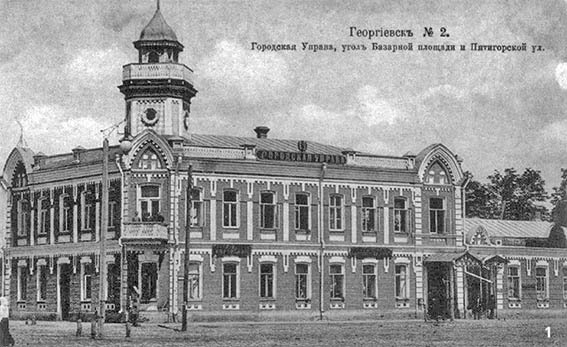
В итоге власть и торговля в Георгиевске поменялись местами: нынешняя мэрия стоит на месте лавок, а лавки (пардон, бутики) ждут посетителей в кабинетах дореволюционных чиновников. Здесь же - кафе "Лакомка" с очень вкусными пирожными и тем недостатком, что кроме пирожных там ничего и нет: с "перекусить" в Георгиевске туго.
15.
Улица Калинина же - преемница Бештаугорских ворот: здесь находится автовокзал, большую часть трафика которого составлют маршрутки в Пятигорск. К автостанции примыкают рынок и гостиница, а жилой 12-этажный Дом-с-Короной (1997), ставший символом постсоветского Георгиевска, довешает атмосферу делового центра:
16.
Исторический центр Георгиевска - даже в другой стороне, вытянутый вдоль улиц Лермонтова и Октябрьской вдаль от крепости и пятигорской дороги. На их первой перемычке по улице Луначарского стоит Народное собрание (1900), таблички на котором извещают, что в 1921 году тут выступал с речью Сергей Киров, а с 1961 года действует Народный драматический театр:
17.
Улица Луначарского ограничивает Армянский край - небольшой район частного сектора вдоль параллельной улицы Шаумяна. Не знаю, сколь армянский он в наши дни, однако именно купцы народа хай стали первыми селиться за эспланадой. Улица Шаумяна до революции была Армянской площадью - аж с 1793 года тут стояла деревянная церковка Сурб-Петер-Погос (Святых Петра и Павла), разрушенная в 1930-х годах. Надо заметить, Северный Кавказ в 19 веке был, натурально, заповедником такого оксюморона, как армянское деревянное зодчество - из дерева был и апостольский храм в Екатеринодаре, а в Моздоке такая церковь, хоть и переданная православным, даже уцелела до наших дней. В нынешнем Георгиевске армян по меркам Пятигорья немного - всего-то 11%, и куда как более типичный для своего зодчества собор Сурб-Геворк они построили к 2012 году далеко на окраине, у дороги на Ставрополь и Москву.
17а.
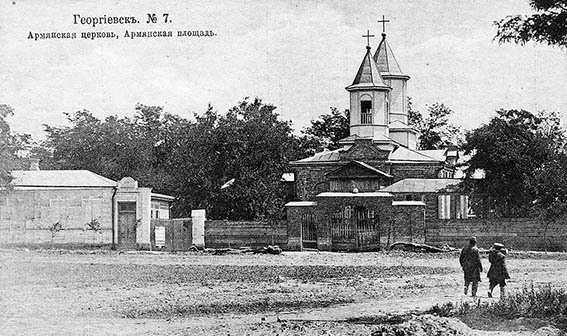
Впрочем, дорогами на Ставрополь и Москву были и две главные улицы Старого города: Октябрьская называлась Александровской по крепостным воротам, а улица Лермонтова и вовсе была Московской. Бульвары по ним проложил в начале ХХ века градоначальник Александр Головин, чей заброшенный дом и ныне стоит на Октябрьской:
18.
Октябрьской улица стала, видимо, в 1920 году, когда на ней похоронили останки 26 большевиков, расстрелянных белыми на 9-й версте Прикумской железной дороги. В 1922 над могилой поставили железную колонну в неповторимой земшарско-техногенной эстетике первых послереволюционных лет, а в 1976 году рядом зажгли ещё и вечный огонь в честь героев Великой Отечественной:
19.
С разных сторон от мемориала - пожалуй, самые красивые здания Георгиевска. Слева, если идти из центра - Общество взаимного кредита (1912), по факту первый городской ТРЦ, вмещавший также несколько кафе и магазинов:
20.
Ныне здесь Дом детского творчества:
20а.

Напротив, за узкой проезжей частью - Азово-Донской банк, ныне ставший ЗАГСом:
21.
Красивая лепнина у него, говорят, не только снаружи, но и внутри, однако я гулял здесь уже после закрытия:
21а.

Мемориал тянется по бульвару и дальше, продолжаясь аллеей героев, и лишь через квартал проезжая часть появляется и с другой стороны:
22.
Старая застройка тут теряет цельность, разбавленная советскими "коробками" и неказистым новостроем. Но кое-что есть - как например гостиница "Лувр":
23.
Или конструктивистская двухэтажка 1920-30-х годов. А вот домик на переднем плане я сфотографировал из-за его типичности - такие вот фронтончики с двумя арками внутри третьей я видел в Георгиевске не раз и не два:
24.

Вот Октябрьская пересекает тенистую улицу Гагарина - небогатую на старые дома, но остающуюся в Георгиевске одной из главных магистралей.
24а.

За ней раскинулся ещё один парк, на опушке которого встречает памятник Международной Солидарности. Так его назвали после реставрации в 2020 году (благо, то правда был год едва ли не последней на нашем веку всемирной солидарности), а прежде, с 1960-х годов, это был старый добрый монумент комсомольцам:
25.
Рядом в парке - ещё один мемориал Победы с тридцатьчетвёркой, пушками и стелой городов-героев:
26.
И тем обиднее знать, что парк и близлежащий стадион "Труд" располагаются на месте кладбища, где когда-то стояла весьма интересная внешне деревянная Покровская церковь (1841):
26а.
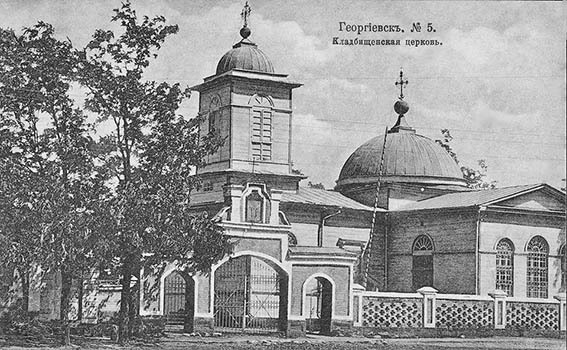
И было много именитых могил. Вот так например, покоился Дмитрий Лисаневич, который в 1806 году убил семью карабахского хана в Шуше, а в 1825 сам был застрелен чеченцем.
26б.

Рядом в улицу Гагарина упирается бывшая Московская, по которой пройдёмся в обратную сторону:
27.
Бульвар здесь не столь тенист, но куда более широк, а потому прохладным вечером особенно уютен. На аллее примечательны фонтан "Каменный цветок" (2018), воссозданный вместо предшественника 1950-х годов, доведённого в постсоветские времена до абсурда:
28.
И памятник Лермонтову, установленный и того позже - в 2020-м году. Что само по себе странно: в детстве, в 1820-25 годах, будущий поэт со своей властной бабушкой Елизаветой Арсеньевой проездом гостил здесь более дюжины раз, практически в каждой её поездке к своим кавказским родне и имениям.
29.
Вдоль бульвара - те же старые дома. Вот этот например, жителям известен как Дом со шпилем, а краеведам - под ещё более звучным названием Дом Дара. В данном случае имеется в виду деловитый грек Александр Дар, который торговал тут зерном и ставил любительские спектакли в Народном доме. С 2010 под шпилем обитает краеведческий музей, основанный в 1967 году энтузиастами и в 1983 утверждённый официально. Судя по чужим фото - туда стоило зайти, но я то ли не успел, то ли поленился. Что же до шпиля, то летом Дом Дара становиться вещью в себе - самый красивый вид с угла (см., например, здесь) скрыт непроницаемой зеленью:
30.
Дальше по бульвару - женская гимназия (1912), ныне обычная школа:
31.
Многоэтажка, похожая на ещё один подарок архитекторов солнечной Грузии:
32.
И дом Тумасова (1903), владельца галантерейных магазинов, куда в некоторых путеводителях "селят" уже знакомого нам Рудольфа Лейпцингера, на самом деле жившего в Пятигорске:
33.
Путаница вышла от того, что оба купца построили в разных городах два Дома со львами:
33а.

Люди на бульваре:
34.
С которого теперь сойдём. Среда старого Георгиевска продолжается и на других улицах, но за пределами бульваров она либо очень уж рядовая:
35.
Либо старых домиков не найти больше пары штук подряд:
36.
37.
Пожалуй, самое примечательное место за пределами двух бульваров - это перекрёсток улиц Ленина (перпендикулярная аллеям) и Пушкина (параллельна Октябрьской с другой, относительно улицы Лермонтова, стороны), в прошлом - Большой Мещанской и Великой княжны Ольги. На одной - особняк Тарасенко, в стенах которого многие георгиевцы потеряли родных: в 1942-43 годах его занимало гестапо.
38.
На другой - пара корпусов старой гостиницы "Лондон" (1910):
39.
Которые, вместе с внутренней частью квартала, в 1931 году занял Георгиевский винзавод. Не знаю, славился ли он вином в советское время, но спроса на алкоголь в подбрюшье всесоюзного курорта не могло не быть, а в 1986, говорят, здешние вино даже поставлялось для профилактики радиационных болезней в Чернобыль.
40.
С приходом дикого капитализма неизбежность спроса поняли и местные дельцы, которые свели в окрестностях большую часть виноградников - последние 30 лет гнали здесь ту неописуемую химическую дрянь на красителях, которую на волне своей эйфории незадачливые туристы возьмут да и купят где-нибудь на поляне Азау или склоне Мусса-Ачитары. Наконец, в 2021 году завод сгорел, и владельцы не стали его восстанавливать.
40а.

Надо сказать, и то был один из последних работавших в Георгиевске заводов. При Советах старинный город обзавёлся десятком предприятий от известного на весь Кавказ арматурного завода до маслозавода, начинавшегося ещё до революции, но постсоветская эпоха не пощадила почти ничего. Нынешний Георгиевск, особенно по контрасту с КавМинВодскими курортами - очень бедный и увядающий город. К северу от улицы Гагарина и Городского парка лежит тоскливая промзона, за которой, однако, начинается невзрачный на местности, но очень красивый на карте район частного сектора с правильной веерной планировкой. Веер расходится от уже третьего в моём рассказе монумента Победы (1974), у которого особенно красив "секретный" барельеф с обратной стороны ниже уровня площади:
41.
В густой зелени за ним скрывается вокзал, почти не видимый со стороны города:
42.
Но неожиданно красивый со стороны путей:
43.
Кадр выше снят с поезда, которым я ехал из Прохладного в Минеральные Воды по той самой магистрали Ростов-Владикавказ. Вот только станция её, в 1875 году давшая новый толчок Георгиевску, располагалась не здесь, а в продолжающей город на юге станице Незлобной. Этот вокзал открылся лишь в 1913 году на протянутой оттуда 11-километровой ветке, представлявшей собой отнюдь не тупик - к 1915 году заработала Прикумская железная дорога, уходившая на 94 километра в степь, к городу, который тогда назывался Святой Крест, а ныне - Будённовск. Не очень понимаю, куда эта линия, в историю вошедшая в первую очередь "белым террором" на 9-й версте, должна была вести в итоге - может, на Астрахань или Царицын? Она в любом случае осталась малодеятельным тупиком, а вот у станции Георгиевск судьба сложилась иначе: не знаю точно, когда был и как заброшен участок от Минеральных Вод до Незлобной, но ныне линия проходит буквально в нескольких километрах севернее, напрямую через Георгиевск.
44.
Железнодорожный узел Георгиевска мы попробуем распутать в следующей части, а пока для полноты картины наведаемся в микрорайоны, разросшиеся в направлении Незлобной от зародившейся ещё при крепости Тифлисской слободы. И внешне они в общем-то ничем не примечательны, но главная достопримечательность тут - топонимика. Каждый район в Георгиевске имеет народное, и вполне ходовое название - например, Магадан, Уругвай или Палестина. Происхождения этих названий в большинстве своём забыты, хотя можно предположить, что Шанхай прозвали так за трущобность, а Санта-Барбару - за богатство. Где-то народ припоминает, что Берёзка обзавелась своим именем по то ли магазину, то ли кинотеатру, а Минное Поле - по военным складам, на месте которых возведён. Прилегающий к центру район частного секторы Планы молва возводит к засилию наркоманов, хотя скорее речь идёт о генпланах царской ещё эпохи. Что соседняя Рязанка стала таковой потому, что там могли и зарезать - как-то больше верится. В Магадане, можно предположить, давали квартиры переселенцам с Крайнего Севера, а стройка Палестины выпала на очередной арабо-израильский конфликт. В другом месте пишут, что Палестину застроили, но не успели озеленить, и как результат - она напомнила георгиевцам знакомые по репортажам с ближневосточных войн пустыни. И лишь откуда в Предкавказье взялся Уругвай - никто даже версий не строит...
45.
Последняя достопримечательность сегодняшнего рассказа - между Планами и Берёзкой:
46.
Как ни странно, в дореволюционном Георгиевске не было храма Георгия Победоносца, и лишь с религиозным возрождением местные верующие решили это наверстать. В 1991-94 годах была возведена церковь-времянка, в 2017 году закрывшаяся для прихожан, но история самого этого места куда интереснее:
47.
Не секрет, что Ставропольский край сыграл свою роль в гибели СССР - из станицы Привольной на другом его конце был родом новопреставленный Михаил Горбачёв, а вот в Кисловодске появился на свет Александр Солженицын. Георгиевск, однако, в судьбе будущего диссидента сыграл особую роль - здесь упокоились его родители. В 1918 году в городской больнице умер отец Исаакий Семёнович, благополучно прошедшую Первую Мировую войну и павший жертвой несчастного случая на охоте. Его похоронили на том самом кладбище у Покровской церкви, где теперь воинский памятник и стадион. Мать Таисия Захаровна перебралась к своему брату Роману Щербаку в Георгиевск уже в старости, и умерла здесь в 1944 году. Её похоронили на советском кладбище, разбитом тогда ещё за городом, и в последний раз Солженицын ухаживал за материнской могилой в 1956 году. Дальше город вырос, кладбище закрыли для новых захоронений, и вернувшись на родину в 1994 году, Александр Исаевич понял, что могилу уже не найти. Конечно же, он не хотел, чтобы его мать покоилась на заброшенном кладбище, а потому сделал всё от него зависящее, чтобы в это место снова вернулась жизнь:
48.
Ну, или по крайней мере здешняя молва считает Солженицына главным... ну, не фундатором, конечно (денег у него столько не было), но инициатором строительства Георгиевского собора, заложённого в 2001 году и освящённого в 2012-м, через несколько лет после смерти диссидента. Теперь это один из самых удачных образцов церковного зодчества постсоветской России:
49.
А про окрестные станицы будет следующая часть.
Обзор поездки и (в перспективе) оглавление - ЗДЕСЬ.
|
Метки: Кавказ Георгиевск транспорт железнодорожное КавМинВоды дорожное деревянное |
Екатериноград и станица Прохладная. Вернее, наоборот |
Екатериноград - крупный город (430 тыс. жителей, а с агломерацией раза в полтора побольше), центр Северо-Кавказского федерального округа у слияния Малки и Терека. Проспекты, дворцы и соборы в стиле высокого классицизма тут соседствуют с безмерным восточным колоритом Черкесской, Горской и Калмыцкой слобод, роскошные парки - со змеевиками и трубами старейшего в мире нефтезавода, а крупнейший на Северном Кавказе аэропорт - с вокзалом в Прохладной, где магистраль из Ростова-на-Дону разветвляется на Грозный, Астрахань и Баку. И мой рассказ о Екатеринограде будет аж в 7 частях... вернее, был бы, если бы история сложилась иначе: основанный на острие территориальной экспансии, столицей всея Кавказа этот город пробыл лишь 4 года, а затем превратился в небольшую станицу Екатериноградскую (3,3 тыс. жителей) в северо-восточном углу нынешней Кабардино-Балкарии. И лишь соседний Прохладный (55 тыс. жителей) не только в альтернативной истории узел железных дорог, второй по размеру и самый русский город кавказской республики. В весеннем путешествии по которой меня сюда и занесло.
Кабардино-Балкария состоит как бы из трёх огромный ступеней. Самая верхняя, самая малолюдная и самая знакомая туристам - это Балкария, головокружительные ущелья которой служат домом для тюркоязычных горцев. Ниже раскинулась Кабарда - перенаселённая равнина с ломанным краем кавказских гор на южном горизонте, по которой расселились потомки грозных черкесов, колонизировавших плодородную степь. Ну а третья ступень, откуда и гор-то уже не увидишь, звучного названия и вовсе не имеет, а живёт в ней по преимуществу третий народ Кабардино-Балкарии - русские, в более узком значении - терские казаки. Что хорошо видно и по контингенту в прохладненской маршрутке, отправляющейся из Нальчика по заполнению не с автостанции, а с площади у железнодорожного вокзала. Молодой водитель сразу признался, что на маршруте первый день, и пассажиры, с каким-то очень южным беззлобным ехидством, всю дорогу подсказывали ему, где и куда повернуть.
2.
От Нальчика до Прохладного полсотни километров по прямой, но в Кабарде густая сеть дорог, а маршрутка едет какой-то извилистой траекторией, словно тяготея к русским сёлам, так что даже не замечаешь момент, когда мусульманский культурный ландшафт сменяется на казачий. Путь пересекает речки Урвань, Чёрную и Черек, то сходясь, то расходясь с железной дорогой, ещё в 1913 протянутой к Нальчику от станции Котляревская на магистральной линии Ростов-Владикавказ. Из станции Докшукино на этой тихой ветке вырос к 1955 году городок Нарткала (30 тыс. жителей, 65% кабардинцы), а соседний Майский (26 тыс. жителей) в междуречье Черека и Терека - это и есть Котляревская, которую в 1925 году объединили со 101-летней станицей Пришибской. Именно Майский тогда имел все шансы стать центром русской части Кабардино-Балкарии, в 1925-28 годах выделенной в Казачий округ, где кабардинцев и балкарцев жило меньше, чем осетин. Но затем от национального деления внутри республики отказались, да и ветка к Нальчику не баловала обилием трафика, так что в итоге даже городом Майский сделался лишь в 1965 году. И тем не менее в Майском этнический состав уже иной: тут 75% населения - славяне.
3.
Из окна маршрутки я заснял тихий вокзал да какую-то сталинку близ него, а больше ни в Майском, ни в Нарткале взгляду зацепиться не за что.
4.
Перед Прохладным дорога пересекает Малку, небольшую в общем реку, для кабардинцев имеющую примерно то же значение, что для вайнахов Сунжа. На соседнем железнодорожном мосту вся история читается в облике: от изначального виадука (1875) Ростов-Владикавказской железной дороги после тяжелейших боёв Великой Отечественной остались лишь опоры да единственный пролёт, а остальные воссоздали в 1940-х годах из железобетона с эмблемами победителей:
5.
Вскоре я покинул маршрутку на восточном въезде в Прохладный, на развилке автомобильных и железных дорог. Здесь впечатлила меня диалектика памятников - с одной стороны тонкий обелиск Освободителям Кавказа (1965), с другой... ну вы сами понимаете, бойцам каких незримых войн.
6.
Прохладный вытянут на 12 километров вдоль Малки и железной дороги, разделяющейся надвое у его восточных окраин. Направо, к Тереку и вверх вдоль него, уходит старая Ростов-Владикавказская линия (1872-75) с ветками в Нальчик от Майского и в Назрань от Беслана. Последняя когда-то продолжалась к Гудермесу через Грозный, куда приехал по ней нефтяной бум, но так и не была восстановлена после Чеченских войн. Зато левая линия Прохладного, проложенная в 1915 году к тому же Гудермесу через Моздок, ныне стала частью магистрали из Москвы в Баку, по которой, глядишь, пойдут через несколько лет поезда из Ирана. Вдоль правой ветки я приехал, вдоль левой - продолжил путь:
7.
Впрочем, в эту сторону Прохладный обращён в основном промзонами, а потому куда актуальнее его объездная, пару километров до которой меня подвёз удалой русский дядька на джипе. На повороте почти сразу же притормозила "Лада" с большим багажником, в которой сидели двое весёлых кавказцев. Они пригласили в салон, но, смеясь, предупредили, что сейчас поедут обратно в Прохладный: обернувшись, чтобы прикинуть, куда посадить пассажира, они обнаружили, что забыли стремянку, и были рады мне хотя бы за то, что обнаружили пропажу не слишком далеко. Проехав Прохладный буквально насквозь, мы оказались в неожиданно симпатичных районе новеньких малоэтажек наподобие Немецкой деревни в Краснодаре и Американского городка в Южно-Сахалинске, где лишь широкий плац выдаёт гарнизонную сущность:
8.
Но затянувшаяся дорога даже обрадовала меня: спутники оказались интересными собеседниками. Ехали они в Серноводск, но не тот, что в Чечне, а тот, что в Ставропольском крае близ Моздока, и были они кабардинцам, да при том - кабардинцами неожиданно разговорчивыми. Что в Карачаево-Черкессии, что в Кабардино-Балкарии адыги запомнились мне людьми очень закрытыми и не склонными распространяться чужакам, тем более про свой народ. Здесь же только и было разговоров, что про Хабзу - национальную философию адыг. Сейчас от неё остался, как мне объясняли, в основном этикет, включающий базовые правила вроде уважения к старшим или ответственности за слова. Уорк-хабза, кодекс чести воина (да, воины у адыг - это уорки!), ушла в прошлое с тех пор, как непокорных черкесов царь изгнал в Османскую империю, а те, кто покорились, стали служить в регулярных войсках. От древней религии, так же бывшей частью Хабзы, осталось чуть больше - по словам моих попутчиков, близ их села есть старое, расщеплённое молнией дерево, которое старики иногда тайно кропят молоком, а в прошлом - и кровью жертвенных животных. Дальше пошли неизбежные по обе стороны Кавказа разговоры про тьму веков: если ингуши, не размениваясь по мелочам, возводят историю аж к шумерам, а чеченцы считают своей древней империей Урарту, то у адыг - хатты и хетты мелкие второстепенные племена с периферии. Под эти разговоры мы доехали до Екатериноградской - второй станицы от Прохладного и последней перед границей Северной Осетии. Отсюда 30 километров до Моздока и 15 до Новоосетинской: мой маршрут почти сомкнулся с прошлогодним.
9.
Что ж до адыгов, то родство с хаттами - вопрос, конечно, спорный, но факт в том, что жили они на Западном Кавказе неописуемо давно. В широколиственных горных лесах, похожих на джунгли Сайгона, они были непобедимы, и древние греки покупали у зихов рабов, а русские князья приглашали касогов на службу. Византийцы пытались обращать горцев в православие, а генуэзцы - в католичество. Они и прозвали адыг черкесами, но сами того не желая, привели и в ислам: с итальянцами черкесы всё чаще попадали в Средиземноморье, охотно служили мусульманским султанам как мамлюки, а в 1382 году и вовсе подняли восстание в Каире да сами стали династией Бурджитов во главе султаната. На родине госстроительство шло тяжелее: самым опасным врагом адыга был другой адыг, и в горах вели бесконечные войны многочисленных племена. Племена эти делились на "демократические" и "аристократические" - у первых всё решалось на народных сходах и советах старейшин, а вот у вторых во главе стоял пши (князь), чаще всего возводивший родословную к полулегендарному объединителю адыг Иналу Светлому. И вот, в 15-16 веках, когда цветущие при Алании и вытоптанные Золотой Ордой предгорья Центрального Кавказа оказались как бы ничьи, кто-то из этих князей придумал покинуть лесистые горы. Так возникла Кабарда, вскоре схлестнувшаяся с Крымским ханством, и по принципу "друг моего врага мой друг" уже в 1561 году объединившаяся с Россией, послав Ивану Грозному жену. К 1570 крымчаки и турки взяли верх, но - со всем уважением к братьям по вере: кабардинские пши роднились с Гиреями, а подчинённость их сводилась к небольшой дани и нейтралитету в войнах. Княжьи роды же ветвились, им делалось всё теснее, и порой гордые пши говорили друг другу "Выйдем?" - если на Малке стояла более-менее монолитная Большая Кабарда, до за Тереком на Сунже возникла Малая Кабарда, являвшая собой конгломерат враждующих княжеств. К 1739 году Кабарда сбросила крымское иго, но тут на Кавказе объявилась войско русского царя, с которым никто не разрывал подписанного два века назад договора. Проще говоря, Кабарду не собирались даже присоединять к России, а просто взяли как давно уже свою. В 1763 году была основана первая в Кабарде русская крепость Моздок, вскоре приросшая целой линией укреплений по Малке и Тереку. Близ устья двух рек появилась в 1777 году Екатерининская крепость, само название которой явно намекало на нетривиальную судьбу.

В 1781 году крепость была преобразована в город Екатериноград, в 1786 году ставший центром Кавказского наместничества. Границы его проходили, мягко говоря, не очевидно: на северо-запад наместничество простиралось до Таганрога и Хопёрска, на северо-восток - до Уральска и Гурьева (Атырау), разделяясь на Кавказскую и Астраханскую губернии и "жилища донских казаков". Екатериноград и Екатеринослав в своём созвучии названий стали центрами крупнейших регионов, покорённых при Екатерине II, и можно только представлять себе город, который бы здесь разросся. На Терек глядел бы колонными портиками Наместничий дворец со скульптурами по мотивам "Аргонавтики" и легенды о Прометее. Кто-нибудь из мэтров классицизма пытался бы совместить в соборе Святой Екатерины афинский Парфенон и римский Пантеон, но из-за вредности Павла I всё свелось бы к пятиглавию и шпилю над колоннами, которые успели завершить. Екатерининский проспект переходил бы в Военно-Грузинскую дорогу, у начала которой, на эспланаде бывшей крепости, выросла бы Осетинская слобода с церковью. Дальше вдоль дороги по правую сторону селились бы черкесы, по левую - чеченцы и ингуши, но тем и другим мечеть бы построил Синод. Поближе к центру обосновались бы вездесущие армяне, в православных церквях нередко звучала бы и грузинская речь, ну а кирха, костёл и синагога и так строились в любом крупном губернском городе. На западе к Екатеринограду примыкала бы Донская станица, а на востоке - Терская, с севера же шумел бы Калмыцкий базар с кибитками да деревянным хурулом, так что на улицах города запросто могли повстречаться священник, мулла и лама. Однако самые роскошные особняки Екатерининского проспекта, шедевры русского модерна и мавританского стиля, принадлежали бы не генералам и не горским князьям, а купцам ветвистой династии Дубининых, основатели которой, крепостные братья-смолокуры, построили в 1822 году в соседнем Моздоке первый в мире нефтеперегонный завод. Конечно, расцвет Екатеринограда к началу ХХ века был бы достоянием прошлого - никто не отменял Тифлиса, - и всё же тут мог быть хотя бы Владикавказ и Грозный в одном лице. Однако уже к концу 1780-х ВНЕЗАПНО выяснилось, что не все кабардинские пши рады быть вассалами царя гяуров, и набеги на строящуюся столицу не оставляли в ней актуальности ничему, кроме крепостных стен. К 1790 году у наместника лопнуло терпение: фельдмаршал Иван Салтыков, любитель роскошных балов, домашнего театра и славной охоты, перенёс свою резиденцию в Астрахань. Екатериноград остался уездным городом, к 1802 году был понижен в заштатный город Моздокского уезда, а к 1822 году окончательно превратился в станицу.
10.
Вот здесь приводится дореволюционный текст: "В Екатеринограде построен был Потемкиным дворец наместника с необыкновенной для Кавказа роскошью. В нем была целая амфилада комнат с залом, посреди которого величественно возвышался императорский трон, у ступеней последнего стояло кресло для наместника. Здесь Потемкин принимал при торжественной обстановке послов Шамхала Торковского и приводил их к присяге императрице Екатерине II". Но мне кажется, это скорее легенда - сомнительным выглядит и столь быстрое возведение дворца, и исчезновение его без остатка. Учитывая скоротечность столичной истории Екатеринограда, удивляться стоит не тому, как мало тут осталось, а тому, что вообще что-то есть: въезд в станицу от трассы упирается в Каменные ворота, как называют здесь самую что ни на есть Триумфальную арку. Построили её в 1782-83 годах по велению Григория Потёмкина, видимо как первый элемент Наместничьего города "под ключ". Воротам, однако, и в станице нашлось применение: в 1799 году они стали официальным началом Военно-Грузинской дороги, и надпись "Дорога въ Грузiю" полуметровыми медными буквами провисела на арке до 1847 года. Снял их при реставрации Михаил Воронцов - к его эпохе дорога в Грузию начиналась из Владикавказа.
10а.
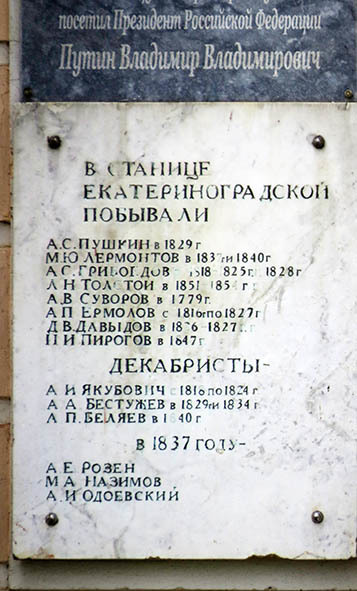
Теперь Каменные ворота - что-то вроде станичной реликвии: к моему удивлению, о былом величии тут знает даже детвора. Рядом - памятник с Вечным огнём:
11.
А вокруг Триумфальной арки - акации, заборы, хаты:
12.
По главной улице, близ Каменных ворот изгибающейся под прямым углом параллельно трассе, я направился в центр станицы:
13.
Где с покосившимися хатами перемежаются крепкие, даже если заброшенные, кирпичные дома:
14.
Не только в Сибири красивы наличники:
14а.

Пройдя около километра, я вышел к площади, где с одной стороны высится стела 200-летия станицы, а с другой - невзрачный ДК хрущёвских годов, напоминающие всем своим видом о том, что в 1920-92 годах станица называлась Красноградской. У ДК со мной заобщались мальчишки, проезжавшие мимо на великах. Потихоньку они уехали дальше, и лишь один, самый въедливый, расспрашивал меня о том о сём минут 20, но напоследок попросил сто рублей на шоколадку. Вспомнив все азиатские "мистергивмидоллар", я отказал ему, да добавил, что стыдно просить у чужих.
15.
В кустах по соседству испуганно съёжился Ленин:
16.
Напротив ДК - заброшенные стенды колхоза:
17.
Однако сам основанный в 1930 году колхоз имени Петровых пока живой, хоть дикие капиталисты капиталисты и стараются ликвидировать этот "последний очаг коммунизма в республике".
17а.

А за колхозной усадьбой высится храм Евфимия Нового, в абрисе которого чувствуется что-то совсем не станичное, а городское, губернское. В Екатериноград успели прислать из Петербурга деньги на строительство собора Святой Екатерины, которое, однако, не продвинулось дальше закладки. Тем не менее, об этом подарке был осведомлён Николай I, и посетив в 1837 году Кавказ да обнаружив в Екатериноградской типичную для станиц деревянную церковь, распорядился: деньги - отыскать, а храм - построить. После проверки и расследования, затянувшихся на несколько лет, удалось выяснить, что след екатерининской фундации обрывается в Астраханской епархии, которой и пришлось выполнять поручение прошлого века. Инфляция, конечно, была и в ту эпоху, да и столичных архитекторов никто беспокоить не стал, но всё же в 1845-50 годах в Екатериноградской станице возвели храм масштабов конечно не наместничьего, но твёрдого уездного города. Теперь это старейшая церковь во всей Кабардино-Балкарии:
18.
Хотя не покидает меня ощущение, что и проект тут тоже был времён Екатерины II, лишь при строительстве доработанный под "православие-самодержавие-народность". Редкое же посвящение скорее всего возникло просто по календарю (по крайней мере я не нашёл ничего о его появлении), однако оказалось весьма уместным в уже не наместничьем городе, но воротах Военно-Грузинской дороги: афонский монах Евфимий был из фамилии грузинских эриставов (феодалов-губернаторов) и прославился переводами священных писаний на родной язык.
19.
В соборе я застал одинокую смотрительницу, которая, конечно, приняла меня за странника-богомольца. Да поведала о том, что её сын когда-то уехал в Москву, закончился университет, занялся бизнесом и вроде даже неплохо в нём преуспевал... а потом надломился, запил горькую и потерял всё. Не владеющая интернетом, меня она попросила узнать, в каких церквях Подмосковья спасают людей "от недуга пьянства".
19а.

Выйдя из храма, первым делом я приметил слона - кажется, на территории местного детского садика:
20.
Поодаль обнаружились памятник Пушкину и музей, с 1987 года занимающий старую церковно-приходскую школу. Вроде как действительно неплохой, но увы - я попал на обеденный перерыв, окончание которого как раз совпадало с отъездом маршрутки в Прохладный:
21.
А на задворках усадьбы колхоза - обветшалый обелиск (1981), на постаменте которого упомянуты 11-я Армия (воевала за Кавказ в Гражданскую войну) и куда более загадочные "Балтийские рабочие". Я смог выяснить лишь то, что километрах в 15 от Екатериноградской есть посёлок Балтийский, совхоз в котором комплектовался с 1929 года рабочими с ленинградского Балтзавода, и видимо с колхозом связан некий знаковый для Екатериноградской эпизод битвы за Кавказ. Ну а под розовыми звёздами - те самые Петровы имени колхоза, убитые "кулаками" в 1930 году.
22.
Обойдя станицу, я сел на остановку с любовно выставленными кем-то креслами из ДК - до маршрутки оставалось около получаса, за которые, однако, со мной успел познакомиться и о чём-то побалакать пьяненький мужик.
23.
Маршрутка привезла меня в Прохладный по уже знакомой объездной - в длинный город с неё поворачиваешь буквально посередине. На въезде встречает невесть откуда взявшийся казахский Байтерек:
24.
Автовокзал Прохладного утоплен в рынок, но внутри сохранил интерьер с футуристическими окошками касс. В одном из них мне было сказано, что последний автобус на КавМинВоды отправляется через полтора часа (около 15), а уже сам я посмотрел, что после 17 будет ещё и поезд.
24а.

История Прохладного не столь яркая, как у Екатериноградской, но даже чуть более длинная: слобода Моздокской линии тут была основана уже в 1765 году. По легенде, конечно, Потёмкиным, ехавшему по знойной степи в Екатериноград закладывать Триумфальную арку да нашедшего прохладу в роще у реки, но в той же ситуации мог оказаться и безвестный офицер новой границы. В 1824 году слобода стала станицей, в 1875 пополнилась станцией, а на станцию, последнюю перед крутым поворотом магистрали на юг вдоль Терека, начал стекаться торговый народ - здешняя Воздвиженская ярмарка к началу ХХ века слыла чуть ли не крупнейшей на Кавказе.
25.
Теперь о торговом-станичном прошлом напоминают россыпь "уездных" домиков:
26.
27.
Современный памятник Терским казакам:
28.
И огромный белоснежный Никольский собор, нависающий над западной половиной города:
29.
На первый взгляд он выглядит удачным новоделом, однако - построен в 1882-86 годах. В 1901 к нему добавилась колокольня, в 1997 - крестильная церковь Иоанна Предтечи в каком-то прицерковном домике, а уж совсем недавно - памятники героям Первой Мировой войны и жертвам репрессий. Они стоят у входа в тесный переулок: школа напротив храма явно построена на месте станичной площади.
30.
А потому и кажется собор неописуемо огромным, хотя на самом деле в нём даже 30 метров нет:
31.
В трапезной обнаружились бутафорские куличи в человеческий рост и свойский батюшка в камуфляже:
32.
С благословения которого я заснял витражи - самую яркую деталь огромного зала собора:
33.
Выйдя из собора, я попробовал вызвать Яндекс-Такси, и машина откликнулась почти сразу, однако вместо того, чтобы ехать ко мне, начала словно писать мне некое тайное послание траекторией вокруг кварталов. Отменив заказ, я спросил женщину на остановке, как ехать в центр, а та, разговорившись, наглядно продемонстрировала мне, что в станичных домах по сей день живут казачьи потомки - буквально впихнула мне в карман 50 рублей. Я почти не отнекивался: не первый раз на моей памяти люди именно в казачьих регионах, увидев путника, не от зависти зеленеют, а пытаются дать денег в путь. Вскоре появилась и нужная маршрутка, на которой я вновь проехал мимо автовокзала в толчее рынка и мимо площади Ленина с Ильичом, коробкой администрации и сталинкой ДК - на ещё одну, безымянную площадь у самого крупного в городе старого дома:
34.
Ведь от собора дальше на запад тянутся лишь приземистые прямоугольные кварталы станицы, в итоге упирающиеся в "Кавказкабель" - крупнейший завод Кабардино-Балкарии, основанный в 1958 году и чуть не угробленный несколько лет назад. Он изначально был заложен на окраине: с превращением станицы в станцию на рубеже веков Прохладная потянулась на восток. В 1937 году, сменив окончание в названии, она сделалась городом, и я бы сказал, по своей атмосфере в нынешнем Прохладном больше рабочего, чем казачьего. О чём напоминает хотя бы памятник лихому комсомольцу, поставленный не абы когда, а в 2020 году, и не кем-нибудь, а местной комсомольской организацией:
35.
О том, что это Кавказ, напоминает Магомед Нурбагандов - милиционер из Дагестана, предсмертная фраза которого в плену у террористов в 2016 году ушла в народ:
35а.

На стыке же кавказского и советского - мозаика (1965) у подножья стелы 200-летия города:
36.
На другой стороне площади блестит стеклом кинотеатр "Маяк", основанный видимо в том же 1965-м, но недавно построенный с нуля на старом месте. Перед ним - неожиданно симпатичная скульптура "Преодоление" (2021):
37.
За "Маяком" скрыт небольшой парк, один из нескольких в Прохладном. Вход в него отмечен рамкой старых футбольных афиш:
37а.

А в подзапущенных глубинах скрыта ещё пара мозаик:
38.
В том же 1965 году был основан музей на одной из окрестных улиц, привлекающий взгляд необычным расположением вывески:
39а.

От площади 200-летия Прохладного я побрёл дальше на восток, пока ещё сохраняя надежду успеть на автобус. Станица тут сходит на нет окончательно, но пятиэтажки радуют тёплым уютном дворов:
39.
И артефактами былой эпохи:
39б.

Я шёл посмотреть на местный монумент Победы (1984), в свою казённую эпоху получившийся просто на редкость "с человеческим лицом":
40.
За лицам виднеются простенькие памятники наподобие мемориальных досок - чернобыльцам, милиционерам при исполнении, репрессированным Терским казакам и солдатам, павшим в Южной Осетии и Чечне. БТР чуть в стороне не просто так в камуфляже "пустыня": каждый валун рядом с ним - символическая могила земляка, не вернувшегося из Афганистана. Там тоже есть задел для продолжения - стенд у памятника повествует о Сирийской кампании. Ну а патриарх здешних монументов - увековеченный в 1965 году Арсений Головко, терский казак из Прохладной станицы, в войну возглавлявший Северный флот, а в 1950-52 годах руководивший Морским генштабом. Всё вместе же числится ни чем-нибудь, а кабардино-балкарским филиалом парка "Патриот".
41.
До автобуса оставалось порядка 20 минут, и я снова вызвал Яндекс-Такси. Машина нашлась почти сразу, но вновь не поехала ко мне, а принялась писать своей траекторией что-то вроде "иди на фиг". Отменив заказ, я повторил попытку - и увидел то же самое в третий раз. Уж не знаю, что тут за прохладная история, но стало ясно, что на автобус уже не успеваю. Напротив "Патриота" обнаружилось кафе с осетинскими пирогами, но в нём я в первый раз за 3 недели кавказской поездки не получил удовольствия от еды. Утолив голод, я побрёл невзрачными советскими районами в сторону вокзала. Обратите внимание на лица прохожих: русские тут составляют 80% населения, но пятая часть иных народов - это тоже немало. Причём состав этой пятой части впечатляет: 4,5% - кабардинцы, по 3,5% - армяне и турки, ещё 3% - корейцы и по 1% немцев и цыган.
42.
Топать предстояло километра 3, и на всё это расстояние я сделал всего несколько кадров. Вот у местного АТП, напротив весьма колоритных цехов, оказавшихся обычным заводом железобетона, нашёлся памятник воинам-автомобилистам:
43.
Привокзальный район открывает Покровская церковь (2013):
44.
За которой тянутся белые путейские дома:
45.
Я не успел дойти до Дома культуры железнодорожников - самой солидной в городе, хотя и полуразрушенной, сталинки. Рядом с ней - опять же впечатляющий человечностью лиц памятник юным братьям-подпольщикам Вичиркиным и Мельниковым. Но это всё примерно в километре дальше вокзала и столько же не доходя до обелиска Освободителям из начала поста. До поезда оставалось около получаса, и я решил, что рискую не успеть. Привокзальная площадь в Прохладном похожа на двор, отделённый от ближайшей улицы Головко пятиэтажками и магазинами:
46.
На фоне станционных зданий неясного возраста - парящий орёл. Это ещё один памятник основателям станицы (2018):
46а.

Приземистые и невзрачные станционные здания полны народа - не в тупиковом Нальчике, а именно здесь главная пассажирская станция Кабардино-Балкарии:
47.
На прошлом и следующем кадрах обратите внимание на синие горы вдали - это Терский и Сунженский хребты, предгорные гребни вайнахии, колыбель терских казаков, возводящих свою родословную к ушедшим на Каспий ушкуйникам. И очень забавно в одной поездке видеть издали места из другой.
48.
На этот раз мой путь - в другую сторону:
49.
В Георгиевск, о котором - в следующих двух частях перед новым отъездом в сторону Кавказа.
|
Метки: Кабардино-Балкария Кавказ казаки транспорт железнодорожное дорожное |
Земля голендров |
На заре 1990-х годов экспедиция, уточнявшая в Иркутской области список памятников архитектуры, обнаружила в глухих деревнях, - Пихтинске, Среднепихтинске и Дагнике в 300 километрах от Иркутска и в 70 от ближайшей станции Залари, - совершенно необычные дома, не похожие ни на русские избы, ни бурятские деревянные юрты, ни на зодчество сибирских белорусов, поляков или татар. Старожилы этих деревень говорили на чужом, хоть и явно славянском, языке, носили кружевные чепцы, готовили совсем не сибирские блюда, а в их домах хранились книги, отпечатанные готическим шрифтом в Берлине и Кёнигсберге. В переписях эти люди числились как украинцы, однако фамилии носили сплошь немецкие - Людвиг, Гимборг, Гильденбрандт... Или - Зелент, как Иван Зигмундович, тогдашний председатель иркутского заксобрания. Уроженец этих мест, он видел много углов Необъятной, но так и не встретил нигде ничего похожего на свою малую родину. Придя в 1994 году во власть, Зелент твёрдо решил докопаться до своих корней силами этнографов и краеведов. "На земле" активнее всех этим занялась директорша заларинского музея Галина Макогон, которая буквально вывела из забвения целый небольшой народ голендров.
С Галиной Николаевной созванивался и я - в 2020 году её телефон дал мне
 pavel_petukhov в Иркутске. Но тогда поездка в Пихтинск не состоялась из-за вспышки коронавируса, который занесли туда репортёры с "Культуры". Лишь в 2022 году, в прошлой части доехав по Ангаре до Балаганска, мы снова отправились на поиски Сибирской Голландии.
pavel_petukhov в Иркутске. Но тогда поездка в Пихтинск не состоялась из-за вспышки коронавируса, который занесли туда репортёры с "Культуры". Лишь в 2022 году, в прошлой части доехав по Ангаре до Балаганска, мы снова отправились на поиски Сибирской Голландии.Иркутская область - первая в России по запасам леса, и всё-таки тут есть не только лес. Особенность Приангарья - многочисленные ополья, которые здесь называют степи, и именно с этих степных островков, а вовсе не из Великой Степи, разбрелись по Сибири буряты, якуты и эвенки. Поймав в Балаганске попутку с четой иркутян, возвращавшихся из-за Ангары с базы отдыха, мы и оглянуться не успели, как вокруг нас расступилась тайга:
2.
Близ Балаганска через Ангару перехлёстывает Усть-Ордынский Бурятский (уже не автономный) округ, его Нукутский район. Ведь Балаганск - он на самом деле Булагатск: острог был заложен в 1654 году в землях крупнейшего в Прибайкалье бурятского племени булагатов. Сами покорители новых земель, булагаты воевали с русскими несколько десятилетий, а их тотемный бык теперь покровитель всех бурят Буха-нойон. К концу 17 века булагаты склонились перед белым царём, но в своей степи остались хозяевами и в 21-м веке: среди высоких трав колышутся стада, сверкают сэргэ и ступы, а на улицах сёл видишь сплошь азиатские лица.
3.
От Балаганска до Заларей порядка 70 километров, и на полпути слева расстилается мелководное озеро, на самом деле являющееся заливом Унга в затопленной в 1961 году Братским морем пойме одноимённой речки. За Унгой вскоре замечаешь однопутную железную дорогу, вьющуюся по степным холмам - это подъездной путь основанного в 1958 году гипсового рудника, при котором вырос и райцентр этой степи Новонукутский (3,8 тыс. жителей).
4.
Границей Балаганской степи служит федеральная трасса "Сибирь", к которой примыкают Залари - райцентр (9,5 тыс. жителей), разросшийся к 1957 году в ПГТ у основанной в 1897 году станции Транссиба.
5.
Центр Заларей с храмом Елизаветы и Варвары (2019) лежит в паре километров от станции. Что за лари тут стояли, история умалчивает, но село на этом месте впервые упоминается под 1734 годом по случаю пожара уже не новой к тому времени церкви.
6.
Мы так и не добрались (почему - расскажу позже) до музея, который Галина Макогон основала в 1994 году и возглавляет с той поры бессменно. Наша точка притяжения была прозаичнее - столовая "Берёзка". Открытая с 8 до 15, в районе 14 часов она явно уже готовилась к закрытию. Встречены мы были отборным гавканьем в стиле "вас много, я одна", и как оказалось позже, о здешнем хамстве знает весь район. Так что лучше полюбуемся стоящей напротив огромной новой школой с неожиданно красивым в своей наивности памятником войне и миру:
7.
От Заларей до Сибирской Голландии порядка 80 километров в сторону Саян, вдаль от Ангары и Транссиба. Собираясь туда, стоит заранее созвониться с Еленой Владимировной Людвиг - это директор сельского ДК, через который и ездят к голендрам многочисленные краеведы и репортёры и немногочисленные туристы. Вот только начинать звонить ей (+79526193062) лучше как следует заранее: связи в Пихтинске нет, а усилителя сигнала хватает дай бог на пару комнат. Дороги в те края образуют на карте фигуру наподобие буквы "Р": у развилки стоит село Троицк, а на круге - крупные сёла Тагна и Хор-Тагна, через которые пару раз в неделю даже ходит прямой автобус из Иркутска. На прямой же участок нанизана Сибирская Голландия: местные называют эту дорогу "через Черемшанку", хотя сама Черемшанка (320 жителей) стоит от неё в стороне. Она была основана в 1909 году татарскими переселенцами, в 1914-15 годах даже срубившими себе мечеть, но главная достопримечательность Черемшанки - узкоколейка в Харагун (12км, а ещё на 38км линия уходила в другую сторону), по которой местные ездят на "бешеных табуретках" да возят туристов охотиться, рыбачить на жирного тагнинского хариуса и любоваться выступающими над тайгой гольцами Саян. Из Заларей мы доехали до Троицка на маршрутке, пассажиры которой, узнав, куда мы держим путь, одобрительно закивали, восхищаясь зажиточностью и опрятностью голендровских сёл. Мы встали на развилке, гадая, в какую сторону уедем, и в итоге нас подхватил грузовичок до Хор-Тагны, который вёл самый что ни на есть мужик с яйцами:
8.
Игорь, сам родом из крепкого старого Бельска, преуспел в тамошнем агрокомплексе как зоотехник, а поссорившись с начальством, взялся делать бизнес - выписывает яйца с птицефабрик да продаёт цыплят. Поставщиков он предпочитал зарубежных: не каждое яйцо плодовито, и закупая 1000 яиц в Канаде (как было до санкций), он получала порядка 500 птенцов, в Словакии (на которую переключился ныне) - около 300, а из Ярославля - менее 200, что выходило ниже самоокупаемости. Он много рассказывал нам о нюансах фермерства и о том, что бюрократия и санэпидемические требования в России таковы, что настоящих фермерских продуктов в городах не найти - это в лучшем случае продукция мелких фабрик. Но меньше всего в планы Игоря входило унывать - грузовичок пылил по грунтовкам, а из клеток в кузове доносился птичий писк.
9.
Что же до зажиточности голендров, то я бы сказал, что весь этот угол неожиданно живой: деревни вдоль грунтовок и тихой речки Тагна хоть и прорежены заброшками да пустырями, а всё-таки опрятны, трезвы и крепки. Здесь ещё жив дух переселенцев, уехавших за тридевять земель не за тем, чтоб ждать помощи барина. Далёкая и неожиданно обширная Хор-Тагна (740 жителей), основанная в 1892 году переселенцами из разных уголков России, в 2019 году и вовсе вошла в список "Самых красивых деревень России". Над зеркальной Тагной, где мост замыкает круг дороги, гостей поджидает медведь:
10.
В Хор-Тагне грунтовые, но очень чистые улицы, резные наличники на домах, высокие деревья над крышами и подвесные мосты. Игорь уехал в дальнюю часть деревни и встал напротив магазина, а вскоре машину окружили селянки, пришедшие забирать цыплят. Разобравшись за полчаса, уезжал Игорь крайне недовольным: мало того, что три заказа от разных людей из Хор-Тагны оказались на самом деле одним для всей деревни, так у машины ещё и потёк бензобак - поездка теперь выходила в убыток.
11.
Обратно в город Игорь ехал коротким путём, и вот за мостом через Тагну мимо снова замелькали въездные знаки. Названия на них с названиями на карте, мягко говоря, не совпадали:
12.
Голендры, как мало какой из малых народов России, сохранили свою культуру, будь то язык, обычаи или кухня. И тем удивительнее, что вплоть до изысканий Макогон и Зелента они даже не задумывались о своей инаковости, а просто жили как привыкли. В 1994 году в Новынах прошёл съезд земляков под красноречивым названием "Кто мы, откуда мы?", вот только на этот вопрос до сих пор нет окончательного ответа. Безусловно, что началась история голендров где-то в Северной Европе чуть меньше полутысячи лет назад. На время указывает их религия - лютеранство, а на место - название: напрашивается мысль, что предки жителей этой тайги бежали из Голландии от зверств испанской пехоты. По другой версии голендр - это "haulander" ("житель вырубок"), как в Прусской чащобе называли крестьян, сводивших тогда ещё обильные леса под угодья. В старых бумагах голендровских кирх имелась пасторская печать 1564 года, поставленная в одном из приходов близ Данцига. Ну а окружали вольный город Жулавы - глухие плавни низовий Вислы, где было что и по-голландски мелиорировать, и по-прусски корчевать. Всем этим владела на правах сюзерена Речь Посполитая, бывшая тогда на пике своего могущества, и вот в 1617 году магнат-протестант Рафаил Лещинский уже вполне достоверно переселил из Жулав 14 лютеранских семей то ли голландцев, то ли немцев-пруссаков, то ли славян-кошубов на Западный Буг, в окрестностях своего имения Влодава. Родину предков в пихтинских деревнях теперь называют Волынью, но по факту это был чуть другой регион - Подляшье на стыке границ современных Польши, Беларуси и Украины, органично смотревшееся бы в составе любой из них. Сёла бужских голендров Нейбрау и Нейдорф располагались в 30 километрах к югу от Бреста, и вот так выглядела кирха в одной из них:
12а.

В 1791 году Подляшье оказалось в составе Российской империи. Волынь была полна немецких колоний, а потому кирхи вместо костёлов ничуть не удивили царских чиновников и офицеров, да и среди окрестных селян бужские лютеране слыли "немцами". Селяне эти были в большинство своём униаты, то есть греко-католики, молившиеся по восточным обрядам, но признававшие власть Папы Римского. Таким способом польская корона пыталась извести православие в Восточных Кресах, теперь же Россия взялась обращать этот процесс вспять: к середине 19 века католичество здесь осталось уделом шляхты и чёрного духовенства, а типовые православные церкви-"муравьёвки" (от генерал-губернатора Михаила Муравьёва-Виленского) прочно вошли в пейзаж. Но вот маятник времени качнулся вновь: граница теперь уже Советской России откатилась на восток, а в 1921 году Нейбрау и Нейдорф в составе II Речи Посполитой были переименованы в Мосцице Гурное и Мосцице Дольное. В 1939 в Подляшье явились уже настоящие немцы, как и их будущий главный противник подошёл с другой стороны. Западный Буг стал советско-германской границей, и хотя селения голендров стояли на восточном берегу, большая часть угодий лежали на западном. Голендрам было предложено выбрать страну, но оба варианта фактически означали конец небольшой, чуть более 2 тысяч человек, общины. Те немногие, кто остались в Советском Союзе, вскоре были интернированы как "лица немецкой национальности", а сами их сёла сгорели буквально в первые минуты Великой Отечественной войны. Те, кто перебрались в Третий Рейх сперва уехали в Лодзь, затем во временный переселенческий лагерь Эрланген под Нюрнбергом, и наконец в конце 1940 года - в окрестности Познани, в изъятые у поляков дома. По окончании войны их выгнали уже поляки, и рассеявшись по Германии (в основном западной), две тысячи бужских голендров были обречены на ассимиляцию. Всё, что ныне осталось от них - городские культурные организации да землячества. В Беларуси же на месте Нейбрау и Нейдорфа теперь лишь поля да зарастающее кладбище с немецкими фамилиями на могилах.
13.
Так же были вырваны из родной земли с корнем тогда и многие другие народы, будь то карпатские лемки, балтийские курши или сахалинские айны. Но голендры успели дать второй побег: в 1908 году на станции Тыреть близ Заларей к начальнику переселенческой конторы Адаму Рейнарту явились четверо ходоков с Буга - Андрей Гимборг, Иван Гильдебрант, Пётр Кунц и Иван Бытов. К 1911 году голендры получили наделы у речки Тагна чуть выше её устья на Оке Саянской, а к 1917 году здесь уже стояло 4 деревни, в которых жило 36 семей. Большинство из них носило 4 фамилии: Людвиг, Зелент, Гильденбрант и Кунц, реже встречались Гимборг, Бендик и Пастрик. Столь же распространённые на Буге фамилии Бытов и Розин тут представляли по одной семье. Те же фамилии носят голендры и ныне, а население их деревень с момента переселения остаётся почти неизменным - от 200 до 300 человек.
14а.

В Среднепихтинском (Новыне) тогда собирались построить кирху, но пастор Цыбуль не приехал сюда, испугавшись таёжных разбойников, а дальше грянула Гражданская война. На отведённом под кирху участке Советы построили сельский клуб, рядом с которым и высадил нас Игорь. Неподалёку строился дом, и я зашёл на двор спросить дорогу к Елене Владимировне. Ответил мне человек совершенно не сибирской внешности - высокий, даже изящный мужчина с тонкими чертами лица и нереально голубыми глазами. Лица здешних женщин - на позапрошлом кадре. Голендры чем-то похожи, хотя бы потому, что все без исключения они здесь дальняя родня. И как заметила Наташа, лица их вполне органично смотрелись бы на полотнах Северного Ренессанса.
14.
Ну а Вторая Мировая война могла уничтожить и здешнюю общность: как рассказывали местные, с её началом в пихтинские деревни зачастили какие-то бродяги, подёнщики и торговцы, на самом деле оказавшиеся чекистами. Если бы эти разведчики услышали "хоть одно" немецкое слово, местных ждали бы депортация куда-нибудь в Среднюю Азию и лагеря. В итоге дело обошлось трудармией, из которой большинство голендров пусть не скоро, но вернулись по домам. Им посвящён второй памятник на кадре выше и фотовыставке в фойе ДК. Три века в Подляшье сделали своё дело: в культуре голендров причудливо сплелись немецкое со славянским, а лютеранское с православным. Родной язык они называют хохлатским или даже хохландским, и в наши дни старики на нём ещё говорят, а молодёжь - хотя бы их понимает. И все поют привезённые с Волыни песни - как украинские и польские, так собственно голендровские. Елена Владимировна, радушная хозяйка, за обедом рассказала, что вечером в доме культуры будет репетиция народного хора. Пару часов посидев в её доме, мы пошли в ДК, где собирались женщины средних лет из всех трёх селений. Они шли и ехали сюда с огородов, коровников и мастерских, даже не принарядившись, а потому записать пару-тройку песен я смог лишь с условием не снимать их самих. Вот он, голендровский язык, по ощущениям - явно западно-славянский:
С материальной культурой голендров стоило бы ознакомиться в краеведческом музее Заларей, где Галина Макогон любовно собрала лучшие предметы их селений... если бы в 2002 году тот музей не сгорел. В 2005 году новый музей голендры собрали уже в своей Новыне, в соседнем с Домом культуры деревянном здании, другую половину которого занимает детский сад:
15а.

На веранде - ремёсла и хозяйство, и в том числе в правом нижнем углу дореволюционная ещё веялка, которую рабочие по недоразумению установили вверх дном. Над окном - серпы и одинокий бур, а на стене - то, чем эти деревни строились, включая продольную пилу с непривычной длинной ручкой. Ниже - обувь, и башмаки на деревянной подошве тут называют рэпы, а глухие сапоги - чобуты:
15.
С другой стороны - огромный деревянный верстат: в украинском это слово означает любой станок, а в голендровском - только ткацкий. Справа в нижнем углу курвиток (прялка), в на столе за верстатом лежат щётки и чесалки для обработки льна, в том числе похожая на расчёску "граце".
16.
В целом, сама крестьянская техника голендров не отличается от русской, но в музее здорово придумали все экспонаты подписать так, как их здесь называли:
16а.

Самым живучим производством у голендров, своеобразной их визиткой, и в наши дни осталось плетение корзин. Я ещё не раз покажу современные корзины из лозы, а вот в музее несколько старых корзин, сплетённых из ржи - эта традиция, увы, оборвалась:
16б.

Штельвага для плуга - уже не из музея: такую я увидел на стене одного из домов.
16в.

В следующей комнате - интерьер ушедшей эпохи: у современных голендров дома не отличить от городских квартир. И дыван здесь - это коврик на полу, а диван называется лышко, на котором лежат пошивки и пшистирадло, бывшие обязательной частью приданого. Рядом висит плетёная кулишка (колыбель) с огромной подушкой "ясичек":
17.
Ещё вещи:
17а.

Рядом - национальные костюмы с блюзками и хустками (платками), для хранения которых использовался куфер (сундук):
18.
Популярное украшение голендровских домов - вышитые картины. Рядом с такой висит кашкет, не сильно отличавшийся от русского картуза, ну а символом голендров, как феска у турок или кокошник у русских, считался голландский чепец, имевший отчасти магический смысл. Надевать такой незамужней женщине считалось дурной приметой, а вот для замужней было неприлично появляться на людях без чепца. Кульминацией свадьбы, длившейся три дня, было надевание чепца, когда на второй день молодожёны переезжали из дома невесты в дом жениха.
18а.
Третья комната посвящена домашнему хозяйству:
19.
Самая привлекательная часть коего - кухня, столь восточно-европейская, сколь это возможно. Голендры готовили несколько видов борща на квасе с копчёным мясом: бурачный (то есть обычный), щавущечный (с щавелем) или польский, он же весильный (с мукой; на фото). Все голендровские борщи делаются без картошки, а вот суп из картошки и капусты - то уже щи. На врезке - картофлянка: тёртая картошка в муке, сваренная и после обжаренная на сале. Есть ещё почти такой же внешне фушер - там те же ингредиенты запаривают. Ещё тут любят вареники, сырники, кровяную колбасу и копчёное сало, а праздничное блюдо - бэтки: варёные или жаренные ломтики свиного желудка. И только пирог слева - уже сибирское изобретение: привычные в Подляшье яблоки и груши тут заменила черёмуха.
20.
Но самая, пожалуй, удивительная грань Сибирской Голландии - религия, которую впору называть голендрианством. Голендры считают себя лютеранами, но пользуются польской (то есть католической) церковной литературой и служат по юлианскому колендарю. У них нет почитания святых, но отмечаются праздники вроде Петрова дня. На Буге у голендров были кирхи и пасторы, а сибирские голендры в своей глуши ещё дальше ушли от канона: для боженств (служб) тут выбирают какой-нибудь жилой дом, где раньше ставили небольшую, привезённую с Буга кафедру, а теперь просто собираются за столом при свечах и кресте без распятия:
21.
Главным реликвиями в голендровских домах были церковные книги: библии, ксёнжки (собрания молитв и духовных песен) и казания (жития и проповеди):
22а.
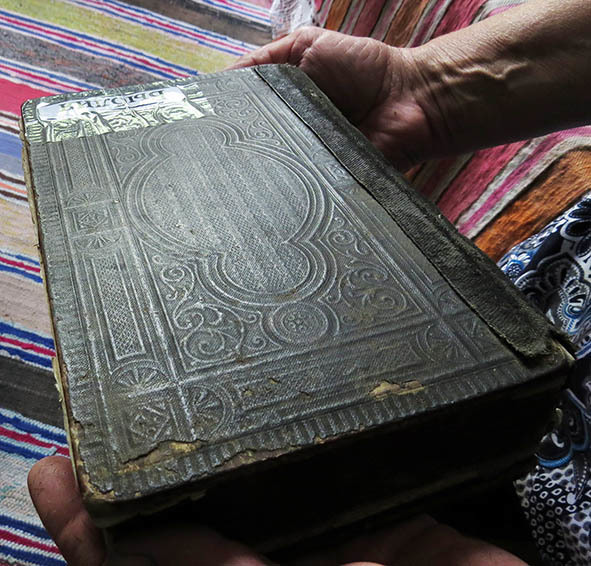
Языком богослужений у голендров был и остаётся польский, но печатались книги готическим шрифтом в немецких типографиях. Вот например ксёнжка, изданная в 1897 году в Берлине:
22.
А этой книге, которую мне показали уже не в музее, а в доме - и вовсе более полутора веков:
23.
Под обложками богословских книг скрываются и другие листы - картинка с петухом, например, из фыбли (азбуки):
24.
Здесь же писали семейные хроники, причём прежде - на польском: кажется, за неимением собственной письменности, голендры просто использовали для письма язык той страны, где живут.
25.
Главным праздником голендр оставалась Пасха, на которую здесь красили яйца и менялись ими. На "вербабну нидилю" (вербное воскресение) дети с утра забирались в дома к спящим односельчанам, будили их хлопками верб и желали здоровья. На рождественские коленды (колядки) дети брали в руки гвязду, которую крутили под окнами, распевая "Пани господаржо, пани господыню, позвольте нам коленды заколендовать". Но в целом голендрианство ушло столь далеко от канонов ещё и потому, что голендры сами по себе не очень-то религиозны: на боженства редко собирается более десяти человек, пастор из Омска приезжает несколько раз за год, ксёндза из Иркутска тут не видели давно и освящённый в 1990-х католический молельный дом пустует, зато немало выходцев отсюда приняли баптизм.
26.
На кадре выше - и сопровождавшие в музее Елена Владимировна (поодаль) и Нина Ивановна Кунц, которая здесь "русская": если когда-то голендры признавали браки только в пределах общины, то теперь в деревнях есть и полукровки, и приезжие из других мест вплоть до горожан, купивших домик в тихом месте. В последнем зале музея - сельхозинвентарь, старые фотографии, истории отдельных голендров, а в первую очередь - пара отличных макетов, которые сделал в свободное время иркутский дальнобойщик Владимир Зелент. Один макет изображает всю Сибирскую Голландию на 1925 год: вытянутые вдоль одной дороги Замустече, Новыны и ныне опустевший хутор Тулусинэ ближе к Хор-Тагне да стоящий в стороне Дахник. Рядом на стене - полный список домов по именам глав семей с указанием, что стало с каждым домом ныне:
27.
Второй макет, с портретом автора - собирательный образ голендровского "длинного дома":
28.
Отдельная "фишка" макета - в том, что его можно открыть: внутри проработана каждая комната. Но всё же интереснее макетов - настоящие дома, те самые, по которым в 1994 году было определено присутствие здесь неизвестного прежде народа. Всего по трём деревням осталось 14 "длинных домов", о каждом из которых в зале рассказано отдельно:
29.
Вообще, хотя туристов в Сибирской Голландии бывает немного, гостеприимство здесь явно поставлено на поток и отработано на десятках учёных и журналистов. Нас передавали буквально по эстафете - раньше, чем Нина Ивановна закончила рассказ, я заметил, что в музей пришёл красивый рослый долговязый мужчина с сединой. Звали его Пётр Мартынович, а Елене Владимировне он приходился свёкром и отчасти коллегой - если она принимает здесь официальных гостей, то через Петра Мартыныча в Сибирскую Голландию приезжают на отдых. Он и повёл нас знакомиться с голендровским зодчеством:
30.
На кадре выше - здание музея. Будка перед ним - не туалет, а вензарня - традиционная голендровская коптильня для мяса, без которой тут не обходится ни один уважающий себя двор. При музее вензаря тоже музейная, то есть давно не использовавшаяся по назначению, а потому Елена Владимировна показала нам такую и у себя во дворе. А также угостила салом - правда, совсем чуть-чуть, ибо сало из вензарен съедается быстро:
30а.

Главная улица Новыны была застроена брусовыми домами уже в советское время. Длинные дома же стоит искать в стороне, причём друг от друга весьма далеко - изначально селения представляли собой скорее россыпи хуторов, располагавшихся за деревьями. Один из исходных в Новыне дом Гимборгов (1912) на сотый год своего существования стал Среднепихтинским филиалом музея в Тальцах, и именно туда повёл нас Пётр Мартынович. Через ворота характерной конструкции - вместо створок тут доски в специальных пазах:
31.
Длинные дома - действительно длинные: дом Гимборгов вытянут на 30 метров. Фактически этом дом-двор, как на Русском Севере, и тем удивительнее, что на такую конструкцию голендров сподвигли отнюдь не морозы Сибири: очень архаичные, чуть ли не средневековые дома такого типа встречаются в польском Подляшье, а прежде их можно было увидеть и в Полесье, и на Волыни. Ближайший их аналог - "жилые риги" Прибалтики, у которых просто стали благоустраивать обращённый к солнцу конец. На инфостендах музея жилая часть обозначена как "изба", а Пётр Мартыныч и Елена Владимировна называли её "хата":
32.
Всего же длинный дом включал три части: белёную брусовую хату, срубленную из полубрёвен стайку и дощатый ток:
33.
Вход в дом располагался между стайкой и током. В последнем находились зерновой амбар, стуруна (хранилище снопов) и наверху - гура (сеновал). В стайке хлев служил шлюзом, отделявшим избу от морозного внешнего мира:
34.
Между хатой и хлевом хранился всяческий скарб:
35.
Сама же изба состояла из нескольких комнат, отапливавшихся относительно небольшой печью во внутренней стене:
36.
В комнатах с дощатыми полами и белёными стенами - совершенно европейский, и даже не сказать чтобы крестьянский, интерьер:
37.
А главными украшениями служили всё те же кружева на покрывалах и занавесках:
37а.

Ещё один длинный дом - самого Петра Мартыновича:
38.
Он же, вместе с хозяином, на заглавном кадре - Пётр Мартынович плетёт из лозы не только корзины, но и скульптуры:
38а.

Целая коллекция их стоит на веранде - жилой тут советский дом на другой стороне двора:
39.
В токе "длинного дома" у Петра Мартыновича амбар, в стайке - кухня, ну а хата превратилась в семейный мемориальный зал:
40.
И такому отношению к себе, своим традициям и предкам можно лишь по-белому завидовать. Вдвойне странно то, что голендры до сих пор официально не выделены как отдельная национальность. А потому неизвестно и то, сколько их.
41.
В каждой из трёх голендровских деревень прописано по сотне жителей. От Среднепихтинского (Новыны) в разные стороны 3 километра до Дагника (где находится самое крупное голендровское кладбище) и 4 километра до просто Пихтинского (Замустече). Первая со стороны большого мира, эта деревня в одну улицу и более открыта во внешний мир - несколько домов в ней сдаются туристам для сельского отдыха, и в один из таких, по 600 рублей с человека, Елена Владимировна определила и нас. Вот так вот спали мы - без городских удобств, но в звенящей тишине и прохладе, а хозяйка Валя с вечера принесла нам домашних ватрушек.
42.
Её дом - буквально напротив, и в доме этом журналисты да этнографы так же частый гость - ведь здесь живёт Альвина Адольфовна Зелент, одна из старейших голендров. Она родилась в 1938 году, а в 1942-м её отца мобилизовали в Трудармию, откуда он вернулся только через 10 лет. К тому времени дочь стала взрослой - в 11 лет она потеряла мать и практически в одиночку, успев окончить только начальную школу, тянула на себе хозяйство. В 1950-х годах она вышла замуж за голендра из Тулусине, и за 20 с небольшим лет у них родилось десятеро детей. Затем супруг ушёл из жизни, и Альвина Адольфовна вновь осталась наедине с хозяйством и пятью несовершеннолетними.
43.
Теперь она вроде как на покое, вот только не привычен ей покой - во всей Сибирской Голландии Альвину Адольфовну знают по половикам и подушкам, которые она шьёт.
44.
К ней особенно часто ездят фольклористы и лингвисты - записывать голендровский язык, песни, пословицы и поговорки. Мне запомнилась присказка "черво не дерво" ("чрево не древо") - здесь нас тоже накормили борщом, бутербродами с домашним маслом и черёмуховым вареньем.
45.
За домом Зелентов Тагна делает излучину, известную как Бабцин Кут. Здесь в Сибирской Голландии находится зона отдыха, по облику которой легко подумать, будто эти три деревни уже приняли в Евросоюз:
46.
Но нет, голендрам тут не помогли ни заграница, ни Москва - просто свой маленький мирок они любят, ценят и обустраивают сообща. В деревнях голендров чисто, уютно и как-то при этом просторно: за все два дня мы не видели здесь ни матерящихся компаний, ни пьянчуг. Ну а чем живут тут? Отчасти, что логично в деревне - сельским хозяйством (например, поставляя мясо и молоко для столовой ближайшей школы в Хор-Тагне), но в первую очередь, думается, помощью родственников на "большой земле".
47.
Напоследок мы прошли длинное Замостече насквозь. На единственной улице запомнились начальная школа:
48.
Длинный дом покинутого вида:
49.
Да католическая икона в чьём-то окне. Собравшись уезжать попуткой, на выезде из Пихтинского, у травянистого ручья, мы простояли около двух часов и даже подремали в траве, но мимо так и не прошло ни одной машины. Вернувшись к Валентине, мы узнали, что в 7 утра из Хор-Тагны пойдёт автобус, до которого, однако, ещё надо доехать, а вот найдётся ли желающий везти нас в такую рань за 20 километров - ещё вопрос. Я потянулся в карман за деньгами, как вдруг раздался шум мотора и меня позвала Наташа: откуда-то из тайги выкатилась буханка, груженая техническим инвентарём и мужиками, ездившими что-то ремонтировать в глуши. По дороге нас угощали "сибирским коньяком" (неожиданно приятным самогоном) и водой из артезианского родника под мостом через тихую речку, а в Заларях на мосту через Транссиб мы увидели электричку, мчащуюся на вокзал. Мужики дали по газам, и мы приехали на станцию почти одновременно с ней... вот только подали электричку не на первый путь, и мы поняли, что не успеем ни взбежать на виадук, ни подлезть под грузовым составом. Рядом, однако, нашлась маршрутка, ехавшая в какую-то деревню, и этой маршруткой мы выехали к трассе "Сибирь", где ещё минут через 20 нас подхватил автобус, ехавший в Иркутск из далёкого Усть-Кута...
49а.

...В 2020 году, расстроенные тем, что сорвался визит к голендрам, мы собрались ехать в Тунки. На выезде из Култука нас подобрала бойкая женщина средних лет с очень выразительными глазами и звонким голосом. На заднем сидении у неё лежали полусферические корзины, и когда я рассказал ей о несостоявшейся поездке к голендрам, она встрепенулась: "Так вот я - голендр!". Звали её Люда Людвиг, родилась она в одной из этих деревень, но выучившись, уехала в Слюдянку. Однажды ей нужно было решить некий вопрос с местными чиновниками, и отчаявшись было добиться от них чего-то, она вдруг увидела на одном из кабинетов фамилию Людвиг... стоит ли говорить, что за дверью оказалась её землячка, и вскоре вопрос был решён. Три деревни, несмотря на ухоженный вид, понемногу пустеют, но в Иркутской области, а может уже и в далёкой Москве понемногу складывается диаспора голендров. Со своим набором фамилий и самобытной внешностью голендры легко узнают друг друга, и тем более - не бросают друг друга в беде.
50.
В Иркутске точкой их притяжения стала пекарня "Жито" - скорее магазин экопродуктов, чем кафе. Персонал тут разный, но голендры - шеф-повар и, видимо, директор. Интерьер подвальных залов полон всё тех же корзин:
51.
А размер голендровского хлеба можно оценить, сравнив с головой продавца. От каравая нам отрезали кусок, размером не уступавший обычной буханке. Хлеб этот мы купили в дорогу - в поезд на Усть-Кут и на катер вниз по Лене, которая и была основной целью начинавшегося путешествия. Но то - другая история, которую я продолжу только в октябре.
51а.

Пока же - вот другие мои посты о народах переселенцев.
Гальбштадт. Алтайские немцы.
Вершина. Сибирские поляки.
Дерсу. Староверы из Южной Америки.
Молокане в Закавказье.
|
Метки: Сибирь Иркутская область дорожное деревянное этнография |
Ангара. Часть 2: вдоль Большого Иркутска |
Последними постами, которые я написал перед началом сезона разъездов, были рассказы про Большой Иркутск - индустриальные Ангарск, Усолье-Сибирское и Черемхово и лежащую вокруг них россыпь старых "декабристских сёл". Теперь полюбуемся на всё это с волн красавицы-Ангары, с борта скоростного "Метеора", что ходит три раза в неделю из Иркутска в Братск, а мы доехали на нём до Балаганска. Лишь с третьей попытки: в 2020 году, когда я написал первую часть о поездке из Братска в Балаганск, этот посёлок был конечной, и выше по течению "Метеоры" уже несколько лет не ходили. В 2021, вместо того чтоб вовсе взять и отменить, линию вдруг восстановили до Иркутска, вот только к середине лета Сибирь накрыл дым грандиозных лесных пожаров, в котором порой было с фарватера не видать берегов. И лишь в 2022-м мы наконец провели на Ангаре своеобразую репетицию предстоявшего путешествия по Лене.
Так как Иркутская ГЭС непреодолима для судов, в столице Приангарья два речных вокзала. С верхнего, так называемой "Ракеты", ходят суда на Байкал, а нижний существует ради единственного рейса братского "Метеора". И если с "Ракеты" отправляются почти сплошь туристы или хотя бы отдыхающие иркутяне, то здесь примерно за час до отхода начинают собираться хмурые люди с большим барахлом: вахтовики, коммерсанты, охотники и просто жители далёких уголков. До Братска, второго по величине города Иркутской области в полутысяче километров ниже по Ангаре, можно добраться практически всеми видами транспорта, но автобусом ехать приятного мало, поездом - очень уж долго (ибо в обход через самый Тайшет), а в самолёте слишком много ограничений и вечно нет мест. Хотя работает "Метеор" в первую очередь ради глухих деревенек, в которые нет дорог, объективно это лучший по сочетанию цены, скорости и комфорта транспорт меж двух крупнейших городов Приангарье, и странно здесь не то, что он пользуется спросом, а то, что билеты возможно купить в день отправления. Собственно, в прошлые годы их только так и продавали, и лишь в 2022 появилась онлайн-продажа на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства (только между конечными пунктами) и касса (уже до любого пункта) в фойе отеля "Иркутск".
2.
По графику "Метеор" отходит в 8 утра. В в 2021-м мы больше двух часов ждали его на туманном причале, и не было ясно, рискнёт ли он вообще отправиться по такой погоде. Вниз по течению с дебаркадера хорошо виден затон в устье Иркута, напоминающий то ли ночлежку, то ли гнездо обветшалых судов. Белоснежный "Метеор" выходит из него нехотя, как злой и заспанный работяга. И сейчас я пропущу дежурные описание судна, историю скоростного флота и оды гению Ростислава Алексеева, а лишь посоветую прочесть первую часть. Теоретически, оба наших рейса могли быть даже на одном и том же судне, а различия двух братских "Метеоров", построенных в 1986-88 годах в Зеленодольске, сводятся к цвету стен в салоне. Обращу только внимание на дугу перед хвостом - это палуба, она же курилка, она же фото-турель:
3.
Дебаркадер расположен не просто в центре, а в самом центре, у подножья Глазковского, для своих просто Старого моста. Понтонный мост на его месте открывал ещё цесаревич Николай в 1891 году, а нынешний соорудили в 1931-36 годах как "мост-памятник Ленину" - якобы, лишь под такое дело Москва дала бюджет. Для своих времён этот мост был как для нынешних пока что гипотетический мост через Лену: крупнейшая железобетонная постройка довоенного СССР с самым длинным среди тогдашних отечественных мостов пролётом (80м). Общая длина моста - 1245 метров, помимо автомобильных полос по нему проходят теплотрасса и трамвайные пути, а в 1942-1995 годах действовала ещё и самая настоящая грузовая узкоколейка на Иркутский завод тяжелого машиностроения. За мостом виднеются постройки иркутского вокзала и миниатюрная Николо-Иннокентьевская церковь (1859-66) в Глазковке, ну а с этой стороны моста растёт по сути дела Иркутск-Сити. Высотка у набережной (2002) по первому владельцу известна иркутянам как Хонда, но как бы не более интересен виднеющийся за ней забор. Не секрет, что один из главных факторов социального недовольства в России - это "все налоги уходят в Москву!", и вот в 2021 году сразу несколько федеральных компаний решили перебазироваться из столицы поближе к своим основным производствам. В том числе - алюминиевый гигант En+, только в 2019 году переехавший в Москву с британского острова Джерси. Его появление в Иркутске более чем логично, ведь головное предприятие этой компании как раз на другом конце "Метеорного" пути. Известие о новых соседях вызвало по окрестным кварталам натуральный строительный бум, уничтожившийся десяток памятников архитектуры и выгнавший мою давнюю подругу со съёмной квартиры. Судя по рендерам, впрочем, де-факто это будет просто региональный филиал компании, а топы да начальство так и останутся в Москве. Ну а судя по местности, это и вовсе какая-то схема - признаков жизни за забором не видно.
4.
О прошлой жизни этого район напоминает лишь название Цэсовской набережной: справа налево вдоль неё видны остатки дрожжевого завода (1893, хотя до 1927 это был пивзоавод), остроконечная офисная башня времён зари капитализма, пара жилых домов в стиле постконструктивизма (1938) и стройка ЖК на месте Центральной электростанции (1929), которую в свой приезд в 2012-м я застал не только целой, но даже с высокой трубой.
5.
ЦЭС отделяла набережную имени себя от Нижней Набережной бывшего Иркутского кремля. Его заложил в 1661 году боярский сын Яков Похабов как острог на землях булагатского князьца Яндаша, и по исходному названию острога на этом месте сейчас вполне мог бы стоять город Яндашевск. К 1669 году, однако, значение крепости так возросло, что напротив устья Иркута был возведён уже 8-башенный кремль с высокими деревянными шатрами и воеводским дворцом. Он сгорел в 1716 году, кроме совсем новенькой тогда Спасской церкви (1706-11) - первой каменной постройки Прибайкалья. На её фоне - чёрный памятник Похабову (2012), а левее видны Богоявленский собор (1718-46) со второй колокольней (1815) да шпиль Успенского костёла (1881-84), ну а зелень поодаль - играющий в Иркутске роль центральной площади Сквер Кирова:
6.
Дальше по набережной - Московские ворота, пожалуй самое загадочное здание Иркутска. Дело в том, что в отличие от бесчисленных арок Цесаревича и даже Триумфальных арок Наполеоновской войны, их возвели аж в 1813 году, "когда это ещё не было мейнстримом". Официально - по случаю 10-летия коронации Александра I, вот только ни о каком вояже императора в Сибирь тогда было невозможно даже помыслить. Добавляют простора трактовкам бараньи черепа и рога изобилия в декоре: мне нравится легенда, что арку воздвиг по навету бурятских шаманов отчаявшийся губернатор, чтобы остановить катастрофический падёж скота. Внутри это полноценное здание, вмещавшее в 19 веке таможню и спасательную станцию, однако - здание не подлинное (2009-11): оригинал снесли в 1929 году. За арку уходит улица Декабрьских Событий, одна из самых красивых в Иркутске.
7.
Замыкают Новую набережную бывшее общежитие пединститута (1997-98), одно из самобытных красно-белых домов иркутского архитектора Владимира Павлова, по которым можно написать отдельный пост:
8.
Надо сказать, проезжает всё это "Метеор" куда быстрее, чем читается этот текст, а потому я так и не заснял с борта устье Иркута. За ним Ангара резко поворачивает, и центру противолежит Комсомольский остров с дачками и плавнями. Там иногда проводит свои ритуалы Местная религиозная шаманская организация "Байкал", известная в первую очередь как организатор тайлгана на Ольхоне.
9.
С правого берега же в Ангару впадает Ушаковка, едва заметный крест в устье которой напоминает, что на её льду в феврале 1920 года были расстреляны Виктор Пепеляев и Александр Колчак. В 1928-53 годах речка служила гидропортом для самолётов, летавших в Бодайбо и Якутск. На всё это взирал ещё один памятник иркутского барокко - Знаменская церковь (1757-62) основанного в 1689 году монастыря.
10.
Оставшись за кормой, центр стремительно уходит за Комсомольский остров, а плотность достопримечательностей спадает. Впереди Иннокентьевский мост (1973-78, 1615м) на транзитной дороге сквозь город:
11.
Под мостом, в левобережном районе Жилкино, синеет купол Успенской церкви (1780-83) - вместе с парой жилых корпусов это всё, что осталось от Вознесенского монастыря, некогда богатейшего как бы не во всей Сибири. Основал его в 1672 году некий старец Герасим, пришедший с казаками строить Иркутский острог. Разросшийся вместе с городом, монастырь владел богатыми угодьями и переправами через Байкал, а кульминацией его истории стали 1727-31 годы, когда здесь жил епископ Иннокентий (Кульчицкий), впоследствии Святитель Иннокентий Иркутский, за эти 4 года построивший по обе стороны Байкала десятки церквей и школ, в том числе - бурят-монгольских. К началу ХХ века в Жилкино сложился впечатляющий ансамбль из 5 церквей, включая главный Вознесенский собор (1863-73) и Сретенскую колокольню (1878-81) над входом:
11а.

Миниатюрная деревянная Тихвинская церковь (1692) была старейшим зданием Иркутска:
11б.

Смоленская церковь (1790-1805) же до реконструкции в 1837-41 годах имела 8 главок. Ещё в монастыре было несколько часовен...
11в.
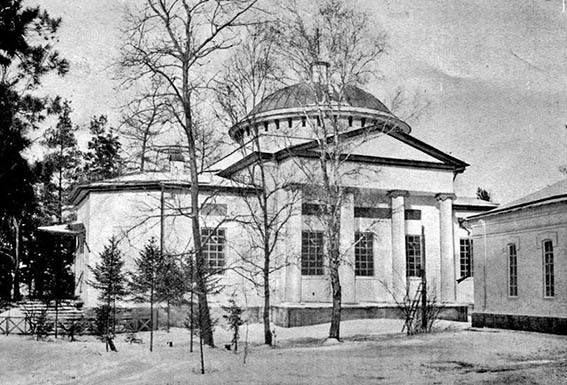
...но всё сравняли с землёй в 1930-х годах для строительства вот этой промзоны:
12.
Город тянется и дальше, но как бы уходит от реки, особенно по правому берегу, где начинаются дачи, живописно лепящиеся к подножью скал:
13.
По левому берегу хорошо видны новостройки вдоль Московского тракта - лишь туда, в сторону Ангарска, Иркутску и остаётся расти. Ниже видно главное здание Второго Иркутска - так называется аэродром, а по нему и весь район основанного в 1934 году Иркутского авиазавода, о котором я однажды напишу отдельный пост. Пассажирские самолёты сюда, само собой, не летают:
14.
Текущая в низких берегах меж лесистыми островами, Ангара выбирается из объятий города нехотя и не с первой попытки. Однозначно сказать, что Иркутск позади, можно тогда, когда на правом берегу засверкает белая Казанская церковь (1806-10) в селе Усть-Куда - одном из цикла "декабристских сёл" в окрестностях Иркутска:
15.
Или скорее - декабристских дач: чуть дальше от берега находится старинное село Урик, где в 1830-х годах обосновались после каторги такие именитые декабристы, как Никита и Александр Муравьёвы или Сергей Волконский с женой Марией, которая одна из первых отправился в Сибирь следом за мужем. Ясно, что так далеко на одной лишь любви не уедешь: где бы ни оказывалась Мария Николаевна - везде она разводила кипучую деятельность, натурально преображавшую те места. Урик не стал исключением - здесь Волконская основала школу (сперва для своих детей, а потом и для крестьянских), а в 1837-38 построила на свои деньги деревянный особняк, ныне ставший Музеем декабристов в Иркутске. Пока дом строился, Волконские расположились в Усть-Куде у жившего там с 1834 году декабриста Иосифа Поджио. Позже туда прибыли его брат Александр (с 1839, оба уехали в 1841 на Турку за Байкалом), а также Александр Сутгоф (1841-42) и Пётр Муханов (1842-48), и в общем до 1844 года, когда сами Волконские перебрались в Иркутск, Усть-Куда представляла собой натуральное дворянское гнездо среди Сибири. Ссыльные дворяне совместными усилиями высадили парк со странным названием Камчатник, где сидя на валунных диванах под развесистыми акациями можно было придаваться воспоминаниям о беззаботной юности в далёких поместьях. Располагался Камчатник вот на этом мысу, и вроде как там даже можно найти полторастолетние деревья и валуны в форме диванов:
16.
"Метеор" несётся дальше среди низких, как правило безлесных островов. Ангара тут в почти естественным русле, и мощное течение крутится водоворотиками. А вот редкий кадр - встречная баржа: грузового судоходства на перебитой четырьмя плотинами реке почти нет. Да и прежде почти не было - ведь ГЭС сооружены на мощнейших порогах. В основном тут возят что-то простенькое и на местные нужды: ближе к Братску лес, ближе к Иркутску - стройматериалы, но так или иначе, другие суда с "Метеора" видишь даже не каждый час.
17.
Правый берег Ангары невысок, но радует глаз скалами:
18.
А на очередным повороте вдруг понимаешь, что небо впереди затянул мутный дым:
19.
Ведь там, впереди - Ангарск, вроде и город-спутник Иркутска, а на самом деле Неиркутск, принципиально иной и по форме, и по сути. "Город, рожденный Победой" был основан в 1945 году как промышленный центр и построен в 1950-х годах по образцу Ленинграда. Среди промышленных гигантов СССР он один из самых красивых, продуманных и богатых. Что с Транссиба, что с Ангары форпостом индустриального величия Ангарска служит ТЭЦ-10 (1110 МВт, 1959-62), крупнейшая в Иркутской области:
20.
А за следующим поворотом раскрывается одна из самых грандиозных индустриальных панорам всей России. Из города масштаб ангарской промзоны толком не виден, так как жилые районы отделяет от всего этого смрадного великолепия километровая лесополоса вдоль Транссиба. Промзона же отделяет Ангару от Ангарска, и тянется вдоль неё 12 с лишним километров:
21.
Почти всю её занимает Ангарский нефтехимический комбинат, который вовсе не тождествен Ангарскому нефтеперерабатывающему заводу - это лишь первый по ходу нашего движения, южный сегмент. Завод и был "рождён Победой" - на трофейном оборудовании из Силезии планировалось гнать здесь бензин из черемховского угля. За время стройки, впрочем оказалось, что для удовлетворения потребностей народного хозяйства в Советском Союзе достаточно нефти, и со всеми реконструкциями да переоснащениями стройка затянулась до начала 1960-х годов. Ныне с мощностью 10,2 миллиона тонн в год и глубиной переработки 82% АНХК замыкает десятку крупнейших нефтезаводов России между башкирским Салаватом и московской Капотней.
22.
Над его змеевиками нависает колоссальная (280м) труба ТЭЦ-9 (1958-59, 540 МВт) - доминанта в пейзаже Ангарска:
23.
Ещё 5 труб принадлежат ТЭЦ-1 (1951), строившейся вместе с заводом:
24.
В какой-то момент промзона отступает, скрываясь за зеленью плавней - она представляет собой почти правильный прямоугольник, Ангара же обходит низменный мыс, на котором расположено несколько тюрем. Впереди - больше половины этих железобетонных джунглей:
25.
В основном это какие-то химические производства, сопутствующие нефтепереработке. На кадре выше, скажем, завод азотных удобрений, а на кадре ниже - сменяющие друг друга заводы полимеров и реактивов:
26.
Границу промзоны подводит Китой, на котором выше по течению стоят и жилые районы Ангарска. Мелкий, быстрый и извилистый, расходом воды он примерно с Москву-реку, а иркутянам известен как "злая река" - говорят, в Ангаре течение выносит к берегу, а в Китое затягивает в омут.
27.
Ангарск остаётся позади, но оглянувшись за корму, ещё долго видишь его дым и трубы. Так что будем смотреть вперёд, на крутые обрывы зелёных сопок:
28.
Как бы не более зрелищные там, где выгорел лес:
29.
По левому борту остаётся Тельма - старинное село, расцветшее задолго до декабристов. Собственно, Тельма - это прото-Ангарск, индустриальный центр Прибайкалья дотранссибовской эпохи. С 1730-х годов, первоначально для снабжения экспедиции Витуса Беринга, тут строились железоделательный и стекольный заводы. От них остались пруды, а вот суконная мануфактура в корпусах начала 19 века хоть и заброшена, но сохранилась. С Ангары, впрочем, видна лишь заброшенная водокачка Транссиба в примыкающем посёлке Железнодорожный:
30.
Да главный памятник былого величия - Казанская церковь (1816), явно претендующая на звание красивейшей в Сибири:
31.
За поворотом от Тельмы в пейзаж левого берега вновь приходят бетонные дома и корпуса заводов. Следующее звено Большого Иркутска - печальное Усолье-Сибирское:
32.
К Ангаре обращён деревообрабатывающий комбинат, распавшийся следом за СССР на пяток мебельных и фанерных заводиков. Но башенка со шпилем (1911) напоминает, что в основе его - крупнейшая в Российской империи спичечная фабрика "Солнце":
33.
Ниже тянется частный сектор с лодочными гаражами у воды и остатками изб Старого Усолья. Вот стоит заброшенным его красивейший дом - деревянный особняк купца Рассушина (1913):
34.
По соседству - Курорт Усолье, разросшийся в 19 веке на соляных ключах Варничного острова. И густой дым из котельной тут куда уместнее, чем кажется: дымы вились здесь большую часть русской истории. Ведь аж с 1664 году Усолье - первый промышленный центр Сибири, и именно здешняя соль, которую не вырастишь в поле и не привезёшь караваном с далёких морей, предопределила превращение Иркутского острога в воеводский кремль.
35.
Соль тут варят до сих пор, но только уже не на острове. Вдали дымит труба ТЭЦ-11 (1959, 350 МВт), а на Варничном ей вторит обелиск Славы русского флота (2011), поставленный какими-то местными энтузиастами опять же за тысячи вёрст от морей:
36.
Здесь же и первая остановка: всё показанное выше мы прошли чуть меньше, чем за полтора часа - быстрее, чем на автобусе и электричке! Место для причала в Усолье явно не слишком удачное - оба раза "Метеор" швартовался долго и тяжело. В 2021-м на швартовку и вовсе ушло минут 40, пока на помощь "Метеору" припыхтел буксир (тип "Костромич", построен в 1987 году в Рыбинске):
37.
Чуть ниже причала на Варничном острове - усольский ключ, тот самый, что нашли в 1664 году братья-казаки Анисим и Гаврила Михалёвы. Он до сих пор сочится, а местные набирают рассол, чтобы принимать с ним ванны:
38.
За островом скрыт затон:
39.
А ниже по течению я высматривал остатки "Усольехимпрома" - всесоюзного гиганта Большой Химии, разраставшегося с 1933 года. Тут было множество самых разных, в основном органических производств, регулярно случались ЧП с взрывами и выбросами, а штат шёл на десятки тысяч сотрудников. В 1990-х завод не сколлапсировал, а медленно пошёл вразнос, несколько раз пытался перезагрузиться (например, на выпуске поликристаллов для солнечных батарей) и окончательно встал в 2017 году. Почвы под ним на десятки метров пропитаны опасными веществами, и по крайней мере в 2020 году там полным ходом шла деактивация силами химических войск. Но то ли к 2022 году "Усольехимпром" снесли окончательно, то он в принципе не виден с реки... За Усольем же речной пейзаж становится другим - течение естественного русла замедляется, сменяясь зеркальной водой Братского водохранилища. Лес также отступает от берегов: ведь Ангара славилась самыми плодородными в Восточной Сибири полями, большую часть которых в 1961-м году поглотила вода.
40.
На этих полях и вырос мир Ангарской пашни, гибель которого так пронзительно изобразил родившийся чуть ниже по течению (см. первую часть) Валентин Распутин в своём "Прощании с Матёрой". Сердце сибирского старожильчества напоминает о себе обилием незыблемых деревень:
41.
Тут на трёх кадрах - Буреть в 40 километрах ниже Усолья. Вернее, глядят там друг на друга целых две Бурети - на левом берегу деревня с пятиэтажками, на правом - село с избами и строящимся храмом Иоанна Предтечи:
42.
До Усолья поезд, автобус и "Метеор" по сути дублируют друг друга, а дальше железная дорога начинает уходить от реки. На Транссибе стоит Черемхово - шахтёрский город с терриконами, ЦОФами, злой молодёжью ближе к вечеру и угольной пылью на домах. На Ангаре же за очередным поворотом встречает Свирск - самый маленький город (13 тыс. жителей) Большого Иркутска:
43.
Его название кажется более уместным в Прионежье и Приладожье, чем в Прибайкалье, а при другом раскладе тут мог бы стоять и вовсе Черниговск. Заимка на этом месте известна с 1735 года, и первым её хозяином был казак Фёдор Черниговский, сын мятежного шляхтича Никифора Черниговского, что попал в Сибирь через Смоленскую войну, убил обнаглевшего воеводу в Киренске и, сам того не ожидая, начал присоединять к России Дальний Восток, окопавшись в покинутом эвенками Албазине. Фёдор Никифорович отцовским норовом не отличался, а потому и не прославился особенно ничем, и даже заимка его с 1795 года упоминается как Свирская - по семье поселившихся рядом крестьян. Ещё за сто лет заимка разрослась до деревни, а форсированно индустриализованная деревня в 1949 году стала городом Свирск. К тому времени это был не сказать чтобы индустриальный гигант, скорее - индустриальный крепыш, промышленный размах которого странно не соответствовал размеру. Ключевым предприятием Свирска стал построенный в 1931-34 годах Ангарский металлургический завод, не имевший, однако, никакого отношения к чёрной металлургии. К моменту распада СССР завод уже был давно и основательно заброшен, а вот что за пыльные отвалы на его территории - даже местные толком не знали. Из его досок люди жгли костры, из кирпича - строили дома, а с отвалов дети катались, как с горок. Не думая о том, что АМЗ был звеном производственной цепочки, начинавшейся на Запокровском руднике в Забайкалье, а приводившей в нижегородский Дзержинск: здесь из полиметаллический руды получали мышьяк, поставлявшийся на тамошние химзаводы. В первую очередь - как компонент химического оружия, а потому секретность у всего этого была что у будущих атомградов. Даже дата закрытия АМЗ теперь не ясна однозначно - то ли 1949, то ли 1958, то ли 1970-какой-то годы. Краснокирпичные руины завода так и лежали в степи близ Свирска, привлекая всевозможных любителей заброшек и урбантрипа, информация же о том, что это и чем грозит, просачивалась во внешний мир лишь немногим быстрее, чем просачивалась в Ангару скопившаяся под заводом ядовитая линза. Исследовать территорию АМЗ начали лишь в 2001 году, а к 2006 году оказалось, что Приангарье в одном шаге от экологической катастрофы. Которую всё же успели предотвратить: в 2011-14 годах зона заражения площадью 13 гектар была полностью деактивирована, а отравленный грунт и обломки зданий вывезены на специальный полигон. Внимание общественности к борьбе с токсичностью же имело побочный эффект: город, прежде слывший в Иркутской области одной из самых мрачных дыр, тоже привели в порядок.
44.
Со стороны Ангары Свирск встречает здоровенным колесом обозрения, а ультразум различает скульптуры и инсталляции, заполонившие свирские улицы. Дальше по берегу - сквер моряков с горками в Ангару и катером-памятником "Фёдор Черниговский", новенький Благовещенский храм, а за ним ещё один парк инсталляций со звучным названием "Творимир":
45.
Сквозь который виден компактный послевоенной квартал с ДК "Русь". На Ангару он глядит с третьей от берега улицы, которая здесь и последняя: с реки Свирск как на ладони. И всё же главную его достопримечательность не осмотреть с "Метеора" - с 2016 года тут действует Музей Мышьяка, единственный если не в мире, то в России.
46.
Да и сказка кончается быстро: жилые кварталы сменяет промзона, необычайно мощная для городка с дюжиной тысяч жителей. К Ангаре обращён завод автомобильных аккумуляторов "Востсибэлемент" (ныне "АкТех"), основанный в 1938 и пополнившийся в 1941 году эвакуированным из Ленинграда оборудованием:
47.
Его площадка на впечатляющей естественной набережной кажется заброшенной, что изрядно контрастирует с бодрым сайтом "АкТеха" и предложениями здешних аккумуляторов "Зверь" на Яндекс-Маркете:
48.
Из-за заборов "АкТеха" торчат трубы других заводов: дальше от Ангары располагаются "Автоспецдеталь" (1949), где делают быстровозводимые мосты, и деревообрабатывающий комбинат "Байкал" (1991):
49.
За промзоной над "набережной" - остатки изб соседнего села Макарьево, с 1930-х годов обросшего промзоной и ставшего частью Свирска:
50.
По нему названа и тупиковая станция на проложенной в 1931 году ветке из Черемхово. Пассажирские поезда (в отличие от грузовых) в Свирск давно не ходят, но причал, как и прежде, соседствует с вокзалом:
51.
И речным портом, в котором работа кипит:
52.
Вот только где располагался АМЗ, я так и не смог разобраться - может, вон там, где перекопана земля? По производству мышьяка самыми токсичными странами прежде были Франция, Швеция и СССР (в первую очередь Грузия с парой месторождений), но первые в итоге вывели своё производство в Китай, Чили и Филиппины, а последний рассыпался сам.
53.
Трубы Свирска остаются за кормой, и теперь индустриальные пейзажи отступят до самого Братска:
54.
Вот разве что в правобережной Каменке, которая сама в прямой видимости Свирска, взгляд привлекают церковь (2014) и труба:
54.
Расположенная у залива Ида, Каменка и начиналась в 1669 году как Идинский острог, в конце 17 века соперничавший с Иркутском, а в начале 18 века бывший центром приангарской металлургии с десятками плавильных печей. Вокруг острога выросли Верхне- и Нижнеострожная слободы, чуть в стороне от которых стояли рядышком две церкви - Покровская (1752; в честь неё и новый храм) и Троицкая (1838). Всё это теперь под водой: залив Ида - ни что иное, как затопленные низовья одноимённой речки.
54а.
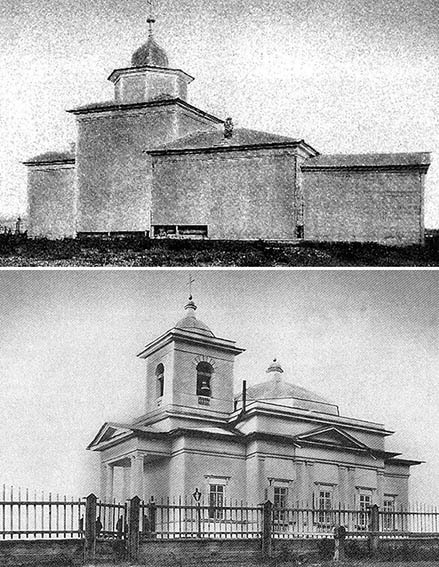
Вниз по течению пейзажи Ангары теряют живописность: таёжные сопки сменились полями, скалы оказались ниже уровня воды, а сёла, перенесенные наверх при заполнении Братского моря, сплошь прозаично-советские.
55.
Но вместе с тем и цивилизация с её большими городами и оживлёнными дорогами остаётся всё дальше за кормой, а значит тут становится всё больше колорита. Вот в глинистом берегу вдруг обнаружились хоббичьи норы:
56.
Неизменным украшением всего пути остаются птицы. В том числе - бакланы, не так давно заполонившие Байкал, а теперь осваивающие и текущую из него реку. Старожилы Ангары - чайки, цапли и журавли, порой сидящие на островах внушительными стаями: нам даже рассказывали про некий журавлиный остров, напоминающий птичий базар, однако сами мы ничего подобного приметили. Баклан на этой фотке справа, внизу - огарь, а вот в левом верхнем углу по-настоящему интересная птица - самый что ни на есть чёрный аист.
56а.
Берег здесь проваливается просторными заливами в затопленных поймах притоков. Залив Унга скрывает Старый Балаганск - в прошлом пусть и самый маленький в Иркутской губернии (1,3 тыс. жителей в 1897 году), но уездный город, основанный в 1654 году боярским сыном Дмитрием Фирсовым как острог в кочевьях воинственных бурят-булагатов. Его достопримечательностями были каменный Спасский собор (1787-1807):
57а.

Воротами которого служила уцелевшая башня острога:
57б.
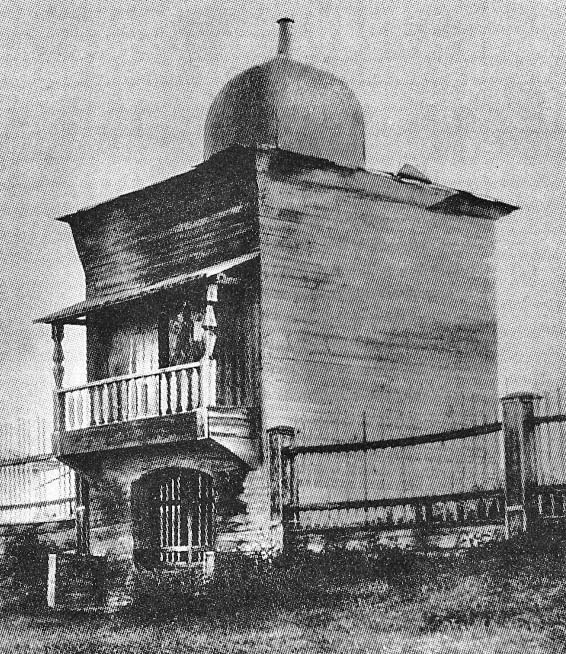
Но в первую очередь - Балаганская пещера в гипсовых породах с коридорами на нескольких уровнях, вечными подземными льдами, залами высотой до 15 метров и огромным входом, в который мог бы въехать грузовик. Теперь это красивейшая в России подводная пещера, ходы которой порой образуют воздушные карманы: вход в неё - в соседнем заливе Мельхитуй. Балаганск же ещё в 1920-х годах утратил городской статус, а в 1961 был перенесён на 40 километров вниз по реке. По этой ссылке вы можете узнать, что там, за поворотом, а я второй раз сошёл с "Метеора" на балаганский причал:
57.
Если в 2020 мы сразу же уехали в Иркутск на маршрутке, то теперь - побрели от залива наверх. Достопримечательностей в этом посёлке (4 тыс., до 2019 был ПГТ) вроде и нет, но думается, лет через 30-40 Балаганск могут взять под охрану как город-музей 1960-х.
58.
Мы брели по единственной в посёлке асфальтовой дороге ловить машину в сторону Заларей. В принципе отсюда в Иркутск вернуться было бы не сложно ("Метеор" причалил чуть за полдень), однако наша цель находилась ещё дальше в глуши. Балаганск же - вовсе не тупик: по правому берегу Ангары проходит тракт, в Усть-Уде сворачивающий на Жигалово в верховьях Лены, и машины у причала как бы намекали, что с той стороны вот-вот подойдёт паром. Ещё через полчаса пустынная улица вдруг оживилась, и вскоре нас подобрали двое иркутян, возвращавшиеся с отдыха на заречной турбазе.
59.
Об Ангаре будет и третья часть - выше Иркутской ГЭС до самого истока. Но её я напишу позже, а в следующей части продолжим путь в Залари и далее в глухие сёла, где живёт маленький народ, совершенно неожиданный в Сибири.
ПРИАНГАРЬЕ (2020-22)
Ангара. Братск - Балаганск.
Ангара. Иркутск - Балаганск.
Ангара. Иркутск - Листвянка.
Иркутск - будет позже.
Города и веси
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Декабристские сёла. Тельма и Бельск.
Ангарск. Колорит, промзоны и музей часов.
Ангарск. Старый город.
Ангарск. Микрорайоны.
Усолье-Сибирское.
Черемхово.
Среднепихтинск (Новына). Земля голлендров.
|
Метки: транспорт природа иркутск дорожное ангарск молох иркутская область речной транспорт усолье-сибирское индустриальный гигант вечность пахнет нефтью зона заражения суда и корабли |
Где вечным огнём сверкает днём Вершина изумрудным льдом |
В 2020 году я приезжал в Краснодар, но так и не погулял по его главной улице. Потому что это нужно делать в выходные, а выходные были заняты поездкой на Апшеронскую УЖД с "Неизвестной Россией".
В 2021 году я ездил в Волгодонск, но не увидел города - нашей целью были гигантские цеха завода "Атоммаш".
Опять же в 2021 я собирался и в Краснодар, и в Волгодонск, и заодно в Адыгею. Но - словил всем известную хворь и сдал билеты.
И как апофеоз: в 2022 на майские я ездил в крутейший тройной тур "Неизвестной России" по Кабардино-Балкарии, который оказался примерно наполовину испорчен аномально хреновой погодой.
В общем, уже даже и боязно сообщать, что буквально через неделю я снова еду на Кавказ в надежде наконец охватить всё перечисленное и отметить день рождения на Эльбрусе (без восхождения, само собой!). В планах Волгодонск, Краснодар, Армавир, Адыгея (Майкоп, Каменномост, Лаго-Наки), КавМинВоды (в основном как база), Джилы-Су, Чегемские водопады и Приэльбрусье.

Есть ли желающие встретить меня, приютить, покатать в любом из перечисленных пунктов?
Как всегда, буду рад любым советам. А если более точечно:
1. Майкоп. Где купить правильного адыгейского сыра, а где познакомиться с национальной кухней?
2. Каменномостский. Глаза разбегаются от красот; что бы вы посоветовали посмотреть в первую очередь, если в запасе день-полтора?
3. Лаго-Наки: есть ли смысл ходить туда одним днём, налегке? Можно ли за это время там увидеть что-то интересное, не рискуя застрять в горах на ночь?
4. Бермамыт: реально ли туда проехать на обычной (не внедорожной) машине, тем более арендованной на КавМинВодах?
5. А, ну и сервисы rent-a-car в тех краях посоветуйте: я сам не водитель, а вот спутница моя вполне себе автоледи, и по асфальту нам тоже будет, куда колесить.
Поддержки местных властей в этот раз не намечается, так что напомню о том, что вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311 (Сбер)
В 2021 году я ездил в Волгодонск, но не увидел города - нашей целью были гигантские цеха завода "Атоммаш".
Опять же в 2021 я собирался и в Краснодар, и в Волгодонск, и заодно в Адыгею. Но - словил всем известную хворь и сдал билеты.
И как апофеоз: в 2022 на майские я ездил в крутейший тройной тур "Неизвестной России" по Кабардино-Балкарии, который оказался примерно наполовину испорчен аномально хреновой погодой.
В общем, уже даже и боязно сообщать, что буквально через неделю я снова еду на Кавказ в надежде наконец охватить всё перечисленное и отметить день рождения на Эльбрусе (без восхождения, само собой!). В планах Волгодонск, Краснодар, Армавир, Адыгея (Майкоп, Каменномост, Лаго-Наки), КавМинВоды (в основном как база), Джилы-Су, Чегемские водопады и Приэльбрусье.
Есть ли желающие встретить меня, приютить, покатать в любом из перечисленных пунктов?
Как всегда, буду рад любым советам. А если более точечно:
1. Майкоп. Где купить правильного адыгейского сыра, а где познакомиться с национальной кухней?
2. Каменномостский. Глаза разбегаются от красот; что бы вы посоветовали посмотреть в первую очередь, если в запасе день-полтора?
3. Лаго-Наки: есть ли смысл ходить туда одним днём, налегке? Можно ли за это время там увидеть что-то интересное, не рискуя застрять в горах на ночь?
4. Бермамыт: реально ли туда проехать на обычной (не внедорожной) машине, тем более арендованной на КавМинВодах?
5. А, ну и сервисы rent-a-car в тех краях посоветуйте: я сам не водитель, а вот спутница моя вполне себе автоледи, и по асфальту нам тоже будет, куда колесить.
Поддержки местных властей в этот раз не намечается, так что напомню о том, что вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311 (Сбер)
|
Метки: Кавказ дорожное |
От Байкала до Хубсугула, от Сурхарбана до Сурхарбана |
Прошлые два поста носили заголовок "Её звали Лена": вдоль этой великой сибирской реки от Иркутска до Якутска с окрестными улусами и далее к морю Лаптевых на теплоходе "Михаил Светлов" при поддержке проекта "Живое наследие" и правительства Республики Саха пролегала большая часть нашего летнего путешествия. Но маршрут его образовал гигантское кольцо, которое мы, покинув Якутию, замкнули в Бурятии и Монголии. Теперь - одни, без опоры на местные власти, а потому в этом посте будет не только красивое, но и злободневное.
Если Якутию я открыл для себя впервые, то Бурятия и вообще весь пёстрый БурМир были мне хорошо знакомы. В 2020-21 годах я бывал в Усть-Орде и Агинском, на священном Ольхоне, в курортной Тунке и далёкой Оке, а в далёком уже 2012-м - и в Улан-Удэ с округой от Иволгинского дацана до староверческого Тарбагатая. Подъезжая к Улан-Удэ на скором поезде "Россия", я уже представлял, что меня ждёт за город. Через "Островок.ру." я забронировал отель "RED" близ вокзала, где мы останавливались и позже. Причины тому - расчётный час по факту (в 19 часов приехал - до 19 последнего дня оставайся) и близость одной из главных в Улан-Удэ трамвайно-маршруточных остановок. У остановки - отличная, даром что сетевая, позная "Шулэн-До" и фирменный магазин вкуснейшего иркутского мороженного "Ангария". Сам Улан-Удэ, этот Петербург Монголосферы, остался всё таким же соразмерно-уютным, ненавязчиво ориентальным и живописно расположенным в воронке крутых сопок, спускающейся к Старому городу на берегу Уды. В вечерних сумерках мы прогулялись по знакомым мне кварталам да пообедали на самом дне воронки в шэнэхэнской позной, где бурятские репатрианты из Китая готовят буузы по дореволюционным рецептам.
2.
С утра мы направились в самую кондовую глубинку Бурятии вдоль старого Сибирского тракта, с появлением трассы "Байкал" имеющего полузаброшенный вид. Ловить попутки после речного круиза и разъездов на джипе с водителем (см. прошлые части) было даже непривычно, и вот на выезде из Улан-Удэ нас подхватил микроавтобус. В Бурятии то редкая удача: ничего крупнее не возит пассажиров по дорогам республики, автостанций в глубинке почти нет, а места на бусики надо бронировать по телефону, и желательно за 2-3 дня. Маршрутка везла нас 200 километров - туда, где в живописной холмистой степи стоит Эгитуйский дацан:
3.
Его святыня - Сандаловый Будда, по преданию вырезанный ещё при жизни Гаутамы из дерева его медитаций:
4.
Дальше мы думали вернуться на пол-пути в райцентр Хоринск и оттуда в Кижингу на параллельной дороге, но этим планам сбыться оказалось не суждено. От поворота к дацану мы не могли уехать часа три и прошли пару деревень, в одной из которых были встречены криком из-за околицы: "Чего чужие дома снимаешь?! Сам поди с Украины приехал?!". В итоге нас подобрала та же маршрутка, на которой мы стоя доехали до Хоринска, где водитель-бурят лишь покачал головой: "Трудно вам будет нынче уехать, у нас другой менталитет". Слова его сбылись - мы так и не смогли ничего поймать на перемычке до Кижинги и решили возвращаться в Улан-Удэ. Подвезли нас двое русских дорожников, один из которых сам прежде много скитался. Я удивлённо рассказывал, что в прошлые годы прекрасно ездил автостопом по Аге, Оке и Тунке, а теперь подвозить стали хуже, и мужик со знанием дела сказал: "Да, боятся буряты...". А степь бурятская всё так же хороша.
5.
Вернувшись в Улан-Удэ, утро я посвятил делам: надо было сходить в СДЭК и отправить в Москву многочисленные подарки якутов, а заодно уже не актуальную одежду для Крайнего Севера - суммарно минус 7 кило. Лишь к полудню мы доехали в Верхнюю Берёзовку - скансен народов Забайкалья, по набору построек казавшийся мне одним из лучших подобных музеев России. Увы, он разочаровал - да, экспонаты тут великолепны, вот только содержатся они по остаточному принципу, а интерьеры их осматривать приходится сквозь решётки в дверях. Зато тут есть аж три кафе, пикниковая зона и мини-зоопарк с тесными клетками под палящим солнцем, где толчея похлеще, чем на рынке.
6.
Верхняя Берёзовка расположена почти у выезда на Баргузин, и до конца города нас подвезла маленькая и бойкая белокурая таксистка. Идее ехать на попутках она удивлялась, а когда я снова вспомнил, что "буряты боятся", разразилась тирадой о том, что это и немудрено: очень многих из Бурятии действительно отправили туда, и кто-то пал на поле боя, а кто-то повесился в своём доме, вернувшись скопцом. Люди в Бурятии, по её словам, и правда стали подозрительны и злы - опасаются то ли вражьих родственников, которые приедут мстить, то ли продажных журналистов, мечтающих найти здесь украденный из под Киева унитаз. И вот мы снова стояли у гладкой асфальтовой трассы, Наташа отходила от шока, я подвергал всё сомнению, ну а машины неслись мимо нас. Рядом русский паренёк чинил "Жигуль" салатового цвета, и починившись да спросив, сколько весят у нас рюкзаки, предложил ехать с ним - он собирался к отдыхающей семьей в Усть-Баргузин. И вот на закате мы мочили ноги в прозрачной воде Байкала:
7.
Нашей базой на бурятском берегу стала Максимиха, деревня-курорт в одну улицу, где есть позная, хипстерское кафе, пивнушка с шашлычкой, несколько киосков, тесное сельпо, десятка два-три гостиниц и пяток турагентств. Гостиницу с местами да за вменяемые деньги я искал заранее и долго: август - пугающе высокий сезон даже по сравнению с июлем. Мы остановились в "Радуге" - турбазе-музее, переполненной инсталляциями из выловленного из байкальских вод сора. За 1800 рублей нам дали капсульный номер с двуспальной кроватью и фанерными стенами, но вполне цивильными удобствами на этаже.
8.
Из Максимихи мы двинулись сперва не на Байкал, а в в таинственную Баргузинскую долину, которую многие считают лучшим местом Бурятии. Открывает её Янжима - в лесу за роскошным дацаном лежит валун, на котором проступил лик богини Сарасвати, а потому лес теперь полон паломников. Люди в кафтанах и с платками, на которых я заметил свастики - группа шэнэхэнских бурят, каким-то образом приехавших из Китая.
9.
До Янжимы мы добрались с русскими туристами, а дальше повезли нас две бурятки, - одна жила в Москве, а другая в Улан-Баторе, - собиравшиеся на аршаны (целебные ключи). Свернув на лесную дорогу, мы сразу сели днищем на камень, слезть с корого помог ехавший навстречу бурят с супругой. Они и довезли нас до райцентра Курумкана, но общаться явно не хотели и на все вопросы отвечали уклончиво. В Курумкане, за полторы сотни километров от Максимихи, мы осмотрели Баргузинский дацан да расположенный рядом Центр тибетской медицины, который организовали в позаброшенных домиках московский лекарь и его жена с Чукотки. Многочисленные их гости наперебой то ли советовали, то ли отговаривали съездить в конец долины, к горячим источникам Умхэя - там красиво и глухо, вот только затяжные дожди размыли все дороги. К 17 часам мы начали ловить попутку обратно, но быстро поняли, что шансов нет: в Максимиху или Усть-Баргузин местным ехать нет смысла, а в Улан-Удэ надо куда как раньше выезжать. Дождливым вечером нас приютили в дацане, где жило трое молодых лам, больше похожих на весёлых студентов. Но в просторной тихой комнате, где за окном феерия облачных гор, нам оказалось спать куда уютнее, чем на шумной и тесной турбазе.
10.
Курумкан мы покинули на автобусе, где место нашлось только до Барагхана - села у аршанов, где прежде стоял Баргузинский дацан. Нас напоил чаем смотритель аршана - мордвин с женой-буряткой, периодически очень смешно и совсем беззлобно пикировавшийся с ней на национальной почве. У дороги же нас едва ли не впервые за всю поездку подобрал бурят - как оказалось, художник. Он рассказал много интересного про окрестные места, но коснулись мы и наболевших вопросов. По его словам, многие в Бурятии действительно воюют... не за идею, а потому, что республика очень бедна, и здешние мужчины часто шли служить по контракту. Среди них - и его сын, совсем ещё юный и полный максимализма: пока что он в тылу, но хочет быть героем. Так мы доехали до Баргузина - старинного городка у начала долины:
11.
В историю Баргузин вошёл как место ссылки нескольких декабристов, а к началу ХХ века представлял собой Суровый Сибирский Штетл - за Уралом сложилась фактически Вторая Черта оседлости, и в этом городке евреи составляли больше половины жителей. На роскошном старом кладбище покоятся и декабрист, и иудей:
12.
Понимая, что автостоп в Бурятии пал жертвой спецоперации, я раскошелился на 3000 рублей, чтобы на такси осмотреть другую сторону долины. Там горы пологие и нет аршанов, но есть высоченные травы, птичьи болота и множество потрясающих скал, которые называют в народе Байкальской Саксонией. Отдельной достопримечательностью стал седой, но вечно бодрый водитель Иннокентий, который всю дорогу болтал и острил, как заправский актёр, а по разбитым грунтовкам непринуждённо и без лишней тряски гнал под сотню, мгновенно выбирая ровные места в кажущемся полном их отсутствии. На закате мы вернулись в Баргузин и застопили "Камаз", напротив, ехавший по колдобинам немногим быстрей пешехода.
13.
В третий день на Байкале мы отправились на Святой Нос - высокий горный хребет прямо посреди Славного моря, прикреплённый к материку болотистым перешейком. Тут, на кардоне Забайкальского нацпарка, нам вдруг улыбнулась редкая удача: в ехавшем мимо экскурсионном микроавтобусе водитель (работавший на себя, а не на фирму) и пассажиры (одна семья, занимавшая дай бог половину мест) внезапно пришли к консенсусу подвезти и нас.
14.
Тем более что это чуть удешевляло катер, которым из то ли села, то ли турбазы Монахово мы погнали в Змеёвую бухту с её горячими источниками:
15.
В августе та бухта напоминала больше Роттердамский порт, а каждый источник превращался в омулёвую бочку с отдыхающими вместо омулей. Водитель, конечно, об этом знал, а потому на обратном пути завёз нас на Кулиные болота, мне больше всего напоминавшие своей жутковатой красотой те топи, через которые шли в компании Голлума хоббиты Фродо и Сэм. Нас же посреди болот ждал секретный горячий аршан с дощатыми настилом, беседкой и раздевалкой. Так что, раз уж вышел у меня спонтанный блог-тур - то на правах рекламы:
15а.
Первоначально мы хотели съездить на Ушканьи острова - город нерп посреди Байкала. Однако экскурсия туда влетит в 12 тыс. рублей на человека, покажут единственный остров, а нерп там в августе может уже и не быть. Утром мы покинули Максимиху, причём в компании бурята - ощущение, что они больше не подвозят, понемногу стало отступать. На берегу Байкала водитель показал священный камень да пожурил, что не уважили его. Дальше мимо потянулось сплошное курортное побережье, центром которого служит посёлок Турка с живописным валуном Черепаха:
16.
И бутафорским маяком среди замусоренных галечных пляжей:
17.
Второй раз мы приехали в Улан-Удэ уже не так беззаботно, как в первый. Если в Якутии, Иркутской области, на весеннем Кавказе тема украинских событий сводилась к дежурным разговорам о том, что нацисты - нехорошие люди и их надо победить, то Бурятия ощущалась как прифронтовой регион.
18.
Наш путь лежал на юг, вверх вдоль Селенги. На маршрутке мы доехали в Гусиноозёрск - второй по значению город Бурятии, едва заметный у подножья призрачно-гигантской ГРЭС. На пыльных улицах веяло Монголией, а в ДК Горняков ко мне докопался охранник, что наверное я диверсант с Украины, раз в Подмосковье вчера сгорел склад.
19.
Так и не поймав ни один из нескольких микроавтобусов, мчавшихся в Закаменск и Кяхту, мы доехали, сменив две попутки, в Новоселенгинск - ныне это глухое обветшалое село, где пустырей больше, чем изб. А среди пустырей сохранились остатки некогда процветавшего купеческого города, где жили декабристы и английские миссионеры. В доме с колоннами - небольшой, но роскошный музей:
20.
Такси в Новоселенгинске нет, поэтому по окрестным урочищам нас покатал ночной сторож музея Георгий, красивый седой человек, от которого веяло спокойствием. Со скал у реки открывается вид на Староселенгинск, от которого остался лишь собор да две могилы, но ехать к ним в обход и только внедорожником:
21.
Время до вахты Георгия ещё оставалось, и мы поехали в Тамчинский (Гусиноозёрский) дацан в 20 километрах далее. В царские времена бывший фактически центром Бурятии, резиденцией главного российского ламы, он сохранил аутентичные здания и даже расписной "оленный камень" во дворе. Но меня облик дацана скорее разочаровал: самые впечатляющие буддийские монастыри России надо искать не в Бурятии, а на Аге.
22.
По пути мы вновь коснулись болезненной темы, и Георгий назвал цифру, сколько их район получил похоронок (немало), но почти все - ещё в феврале. То же самое рассказывал и таксист в Кяхте, куда мы на следующий день доехали на маршрутке, на блок-посту погранзоны узнав, что сюда с прошлого лета снова нужен пропуск и пропустить нас ещё пропустят, а вот в городе могут и задержать. И Георгий, и таксист, и ещё один паренёк, с которым мы прежде ехали в поезде, рассказывали об одном и то же - колонне снабжения, шедшей маршем на Киев и расстрелянной из лесу, когда передовые части оторвались далеко вперёд. Может то и вовсе была одна и та же колонна, укомплектованная солдатами из Бурятии? Ну а Кяхта, с советских времён переполненная воинскими частями, стала главным тылом "боевых бурят". И в переулках её двое русских солдат с обветренными лицами косились на меня, да один доказывал другому "Точно тебе говорю, украинец!".
23.
Мы гуляли по Кяхте весь день, и никто не пытался нас задерживать. "Песчаная Венеция" 19 века, главные ворота Великого Чайного пути из Уханя, Кяхта - пожалуй, самый интересный город Восточной Сибири. Здесь отличный краеведческий музей, а в пейзаж приземистого зелёного города вплетены грандиозные храмы, торговые ряды, таможенные здания, своим ветхим величием напоминающие о былом.
24.
И кадр выше я снял уже с территории Монголии, из заграничного предместья Алтанбулаг, возникшего в 18 веке как Маймачен, китайское продолжение Кяхты. Здесь сохранилось немало русского вида домов, бывших старейшими в Монголии банками, школами, госучреждениями европейского типа...
25.
А среди них высится роскошное советское здание Музея Дружбы - ведь именно из Кяхты наступал Сухэ-Батор, и от взятия красными Алтанбулага монголы теперь отсчитывают независимость страны:
26.
Алтанбулаг хоть и предместье, а сходить в него пешком на пол-дня не выйдет: границу можно пересекать лишь на авто. Иногда на это уходит весь день, но нам повезло - КПП был пуст, а около него одинокий мужик ждал пассажиров, и менее чем через час мы впервые с благословенного 2019-го оказались вне России. Впрочем, КАК нам повезло, я осознал лишь позже: нас подобрал не абы кто, а единственный русский житель Сухэ-Батора! Его отец осел в монгольской деревне Дуланхан после войны и женился на местной жительнице, и Борис (так его звали) вырос в Монголии, сам женился на монголке, и сыновья его не знали русского языка. Нам он обрадовался совершенно искренне, и хотя про оговоренную при посадке 1000 рублей он не забыл, помощь его явно стоила этих денег: в Алтанбулаге дядя Боря помог нам поменять рубли на тугрики (и я сразу стал миллионером!), подождал, пока мы смотрим посёлок, а напоследок покатал по Сухэ-Батору - ближайшему к границе монгольскому райцентру у слияния Орхона с Селенгой:
27.
Здесь же, в кафешке напротив пустого вокзала, мы поняли, что одним из главных впечатлений Монголии будет еда, точнее - мясо, точнее - МЯСИЩЕ. Настоящее, сытное, ароматное и обильное: неосторожно взяв по порции на каждого, впредь мы были осмотрительнее и брали порцию на двоих.
28.
Сытые и удивлённые везением, мы продолжили путь. Это оказалось не так-то просто: как и в прошлый приезд в 2017 году, главной проблемой в Монголии стал языковой барьер, особенно тяжкий в сочетание с массовым желанием помочь: пока двое бледнолицых голосовали на выезде из Сухэ-Батора, рядом успел остановиться наверное десяток встречных машин с предложениями то ли отвезти нас в Дархан за 100 000 тугриков (около 2000 рублей), то ли доставить на автовокзал, с которого отвезёт кто-то другой. В итоге лишь часа через полтора мы уехали на платной попутке по асфальтовой дороге через покатые горы, где за каждым перевалом делалось всё больше юрт. В Дархане, 3-м по величине городе Монголии, природа подарила нам красивый вечер с радугой. Облик Дархана донельзя постсоветский, а в парке даже есть построенная РЖД пару лет назад Детская железная дорога с песнями вроде "Катюши" в вагонах:
29.
Из Дархана мы могли бы рвануть в Улан-Батор, но столицу, за неимением времени, я решил оставить на следующий раз. Да и с дорогой проблемы: говорят, накануне ковида её решили реконструировать, и снять асфальт успели, а новый положить - нет. От Дархана мы начали двигаться параллельно границе, и пообедав в чебуречных (вернее, хошуурных) юртах у поворота на Эрдэнэт, сперва допрыгнули до городка Хутэл с дымящим цементным заводом, а там двое весёлых полицейских пристроили нас в машину до поворота к монастырю Амарбаясгалант.
30.
Перед поездкой в Монголию я морально готовился к встречам с иностранцам и неизбежным вопросам о политике. Сами монголы о политике спрашивали лишь в контексте того, когда у них наконец опять подешевеет бензин, а вот иностранцев мы толком и не видели. Ведь прежде в Монголию попадали в основном через Китай или Россию, так что теперь тут не осталось почти никого, кроме русских да корейцев. Но в стране, где на столицу приходится половина населения, достопримечательности не остались без гостей: в середине дня в воскресения навстречу нам из-за поворота ехали буквально кавалькады машин с номерами Улан-Батора. В степи у Амарбаясгаланта, безумно красивого монастыря эпохи китайского господства, пастушьи юрты незаметно переходят в туристические, и мы не устояли перед соблазном заночевать в одной из них.
31.
Ухабистая степная дорога оказалась лишь одной из двух на весь наш монгольский маршрут, а в основном ехали мы по узкому, но неплохому асфальту. Если в 2017 году я попал в самую глухую, неустроенную и потому колоритную часть Монголии, то теперь мы оказались в самой обжитой и благоустроенной: северные аймаки Сэлэнгэ, Булган и Хувсгел можно сравнить с нашим Краснодарским краем. Советских машин, обилием которых мне запомнились дороги Монгольского Алтая, тут почти не встретить, а вот российских товаров в магазинах даже больше, и в городах почти каждый может вспомнить по-русски хотя бы парочку слов.
32.
Тем более и Эрдэнэт, 2-й по величине и самый зажиточный город Монголии у кормящего страну медно-молибденового комбината был построен советскими специалистами "под ключ". Комбинат был совместным предприятием двух стран до 2016 года, на окраине ещё стоит русское консульство, и вроде как несколько сотен русских людей живут здесь и ныне.
33.
А потому Эрдэнэт можно назвать и самым русским городом Монголии, где нередко дублируются вывески и ресторанные меню, а во дворах могут встретиться Баба Яга с Черномором. И тем страннее понимать, что в Эрдэнэте провёл детство Зеленский...
33а.
От монастыря до трассы нас вёз немолодой уже послушник в штатском, неплохо говоривший по-русски (хотя и с извинениями, что за 30 лет всё позабыл) и певший русские песни. До Эрдэнэта нас подбросил Эрдэнбат, который когда-то вёл бизнес с Барнаулом и с тех пор тоже мог объясниться с нами на одном языке. И потому - объехал в Эрдэнэте три гостиницы, прежде чем с чистой совестью отпустить нас в приличную. За Эрдэнэтом, от которого нам надо было одолеть 450 километров до следующего городка Мурэн, началась девственная глубинка, где языковой барьер снова встал до небес. Сперва нас подвезли две очень красивые, почти анимешные монголки, видимо мать и дочь, с кошкой на переднем сидении. Затем - охотник на сурков-тарбаганов, ехавший в глушь в компании ружья и полнотелой пышноволосой девушки, скорее любовницы, чем жены. Они довезли нас до придорожного базарчика с хушуурами и айрагом (чебурками и кумысом), а там нас подобрала очень симпатичная, хотя и ни слова не знавшая на других языках, пара из по-монашески остриженного паренька в высоких остроносых сапогах и девушки в кружевной кофте. Они держали путь в Мурэн, и довольные этим, мы любовались потухшими вулканами среди степей, а потому нас сморил сон...
34.
...проснувшись же, мы поняли, что-то идёт не так. Опасения подтвердил взгляд на спидометр: 300 километров ребята ехали со скоростью 40-50 км/ч, лишь на совсем пустых и совсем прямых участках разгоняясь до 70. В Мурэн (вернее, произносится он скорее как Морон) мы добрались уже на закате, а ещё битый час я пытался объяснить уличным таксистам и администраторше гостиницы, куда нас нужно срочно отвезти туда-обратно. В итоге помог толковый седой дядька-бомбила: в последние полчаса режимного света мы всё же увидели главную достопримечательность Мурэна в степи за 20 километров от города - крупнейший сохранившийся комплекс оленных камней:
35.
С утра мы пошли ловить машину в Хатгал в конце асфальтовой дороги, и вдруг увидели встречную буханку, из которой торчали РОГА. Росли они из живого оленя, и когда буханка остановилась по каким-то своим делам, я подбежал к водителю и спросил "Цаатан? Духа?" - эти два слова обозначают крошечный тюркский народ на границе с Тувой, сохранивший древнее саянское оленеводство. Раньше к цаатанам частенько забирались европейские и американские фотографы, ну а теперь привыкшие быть в центре внимания цаатаны сами стали выбираться в объектив - у дороги на Хатгал мы видели несколько цаатанских чумов, а конкретно этих оленЕй зачем-то везли в Улан-Батор.
36.
Потом к нам подъехал таксист, и на хорошем английском предложил отвезти до Хатгала. Мы сказали, что едем в Ханх - эти два посёлка стоят на разных концах Хубсугула, огромного (размером с Онежское) пресного озера, которое называют ещё Младшим братом Байкала. И в Хатгал асфальтовая дорога ведёт из Улан-Батора, а в Ханх - из Иркутска, между ними же продираться грунтовками да буераками можно и сутки, и двое. Таксист не растерялся, позвонил другу в Ханх, после чего сообщил нам, что около 14 часов из Хатгала пойдёт "буханка". Сам он собирался забрать ещё одного человека с автовокзала и ехать в Хатгал через пару часов, и я сторговался с ним на 60 тысяч тугриков (1200 рублей), а он предложил эти два часа бесплатно скоротать в его гестхаусе. Мы, конечно, только бросили там рюкзаки, а сами ещё прогулялись по в общем-то довольно невзрачному и запущенному Мурэну:
37.
Хатгал же - натуральный монгольской Сочи, главный курорт страны. Таксист домчал быстро, и сперва повёз нас прямиком к мосту у начала дороги до Ханха: сойдёте здесь, а буханка приложится. Так как начинался дождь, мы запротестовали, попросив отвезти нас к буханочнику домой. Вместо этого водитель отвёз нас, к ресторану в центре Хатгала сообщил автономер "буханки" и предложил ждать здесь. Я уже не стал спорить...
38.
...а дальше потянулось состояние, которое как нельзя лучше характеризует вот эта монгольская надпись: и нудно, и свербит. Наташа вышла в магазин, где познакомилась с Ирой и Игорем - велосипедистами из Мурманска, месяц колесившими по Монголии вплоть до глубокой Гоби, где с высоты бархана звёздное небо кажется ближе, чем Земля. Они прошли разное, чуть не сгинули в безводной пустыне, но знали, что в каждой юрте найдут помощь и кров. И теперь тоже собирались крутить педали вдоль Хубсугула.
38а.
Разумеется, "буханка" не появилась ни в 14, ни в 15, ни в 16 часов, и я не знаю, таксист ли развёл нас за жалкую тыщу рублей или буханочники передумали ехать. На турбазах жлобастого вида владельцы просили по 50 000 тугриков с человека за место в юрте без удобств, и мы решили прорываться к Ханху сами. Вскоре нас подхватил грузовичок, а с него я сфоткал монгольский флот за заливом - и до сих пор жалею, что в ожидании буханки не рискнул сходить на тот причал.
39.
Увязнув в грязи и дождавшись джипа на подмогу, грузовичок довёз нас до понтовой турбазы Алаг-Цар в 30 километрах от Хатгала - это здесь край земли. Полюбовавшись озером, мы вновь вернулись на колеи степной дороги, и вскоре нас подвезла семья монголов, потратившая минут 20 времени на то, чтоб распихать свой скарб и наши рюкзаки.
40.
Мы неуклонно погружались в новый регион - Прихубсугулье, где мёрзлая земля покрыта мелкими буграми, в низинах лежат болота, на склонах сверкают луга, а по грядам сопок высится просторная тайга из столь же редких, сколь и гигантских лиственниц. Основной скотиной здешних пастбищ стали косматые яки:
41.
И творог, пенки, курут и айран из молока наки (ячьей коровы) - основная пища у жителей здешних юрт. В юрте мы и нашли приют в холодных сумерках, и поднявшаяся от речки женщина с двумя дочками пустила нас внутрь неохотно и неуверенно. Вскоре, однако, прискакал на коне её муж в ярком кафтане (кадр выше), по счастливой улыбке которого мы поняли, что да, монголы рады гостям. Судя по отсутствию мяса, мы пришли в бедную юрту, но внутри было свежо и чисто, и вскоре мы заснули в глубокой и холодной тишине.
42.
Утром ещё одна "буханка" перевезла нас за ближайшую гряду - вся дорога вдоль Хубсугула идёт поперёк речных долинок. Мужики в кафтанах показывали нам фотографии других туристов, в которых Наташа узнала вчерашних мурманчан. Дальше мы несколько часов, понемногу смещаясь вперёд, ждали, гадая, выехали ли наша машина из Хатгала. Я шарил ультразумом по той стороне долины, и в какой-то момент с удивлением заметил пешехода среди высоких трав. Затем показалась "буханка", спустилась на дно, постояла там минут 20, а нагнав нас, как ни в чём ни бывало поехала мимо. Я стал махать руками и прыгать, как Робинзон при виде корабля, а затем машина вдруг развернулась. Нас выручили те самые Ира и Игорь: они и были теми пешеходами вдали, их и подбирала буханка в низине. Водитель договорился взять с каждой пары по 5000 рублей, и вот мы расположились на тюках. За разговорами про Монголию, Индию, Вьетнам и конечно же геополитику дорога проходила легче, а была она реально тяжела - мы то вязли в болотах, то скакали по камням, то падали в колеи глубиной в пол-машины, и только кипела "буханка" 7 раз. Путь в 180 километров от Хатгала до Ханха у нас занял 16 часов чистой езды на всех машинах:
43.
В Ханхе на ночь глядя нас завезли на турбазу, где после недолгого торга (типа "мы же вас не выбирали") нам сбросили цену с 1600 до 800 рублей. Комната здесь была просторна и оснащена печкой-буржуйкой, а вот воду, чтобы помыться, пришлось на этой печке кипятить. И всё же мы остались на две ночи - уж очень чарующе выглядел Хубсугул, впечатливший нас не столько прозрачностью воды, сколько её лазурно-бирюзовым цветом:
44.
Цена в рублях - не перевод: Ханх живёт туризмом из России, даже конкретнее из Иркутска, и рубли тут куда популярнее тугров. А в кафешке на фото угощают позами из мяса яка...
45.
Утром мы так и не смогли ничего застопить и на такси приехали в Монды. На КПП уже стояла длинная очередь машин, но к нашему удивлению, через эту границу пропускают и пешеходов. Тут на наше счатье вниз как раз ехала после смены одна из сотрудниц таможни: у одной из въезжающих машин оказалось превышение по бензину в канистрах, которые она и согласилась забрать к себе на хранение. Бурятский пейзаж не сильно отличался от монгольского, исчезли только юрты и языковой барьер. В Мондах нас подобрали двое удалых бурят, рассказывавших не о страхах и ином менталитете, а о том, что только с их района двести человек записалось в контрактники - мстить за своих. Мы мчались по знакомому тракту с Хубсугула на Байкал:
46.
В Ореховую Падь - тихое место близ Слюдянки, где горная речка гасит шум товарняков Транссиба. Здесь уже не первый год проходят маленькие слёты Академии Вольных Путешествий, и вот мы снова (после Якутска) встретились с
 a_krotov, который параллельно с нами шёл тем же кольцом. На Сходе почти все либо только что приехали из Монголии, либо собирались туда - вот скажем художница-автостопщица Аделина рассказывает о том, как недавно попала туда на пленэр. В её иркутскую избу мы всей толпой и двинулись на электричке вечером следующего дня.
a_krotov, который параллельно с нами шёл тем же кольцом. На Сходе почти все либо только что приехали из Монголии, либо собирались туда - вот скажем художница-автостопщица Аделина рассказывает о том, как недавно попала туда на пленэр. В её иркутскую избу мы всей толпой и двинулись на электричке вечером следующего дня.47.
Из Иркутска, под занавес долгого путешествия, мы съездили в Качуг на верховьях Лены (см. прошлую часть), а вновь оказавшись на Ангаре погрузились выше Иркутской ГЭС на "Баргузин" - уникальный катамаран на воздушной подушке, курсирующий в Песчаную бухту:
48.
Которая хоть и удалена на полсотни километров от ближайших сёл, а всё-таки полна народом - тут есть две турбазы и кемпинг, в котором видно, за что берёт деньги Прибайкальский нацпарк: для палаток тут сделаны подиумы и столы, для костров - очаги, для мусора - урны, и на пляжах да в мезозойском бору без травы чистота безупречна даже несмотря на целые флотилии прогулочных катеров, сменяющие друг друга непрерывно. И Песчаная бухта с её скалами и ходульными соснами хороша, но окрестные тихие бухточки - лучше. Я бы сказал, кто не был здесь - тот не прочувствовал Байкала:
49.
В Иркутске мы заселились в гостиницу на самой окраине - больше отдыхать, чем гулять. И всё же прогулки были - сперва вдвоём:
50.
А затем и в одиночку: Наташа улетела в Москву, а я в ожидании вечернего поезда съездил на Второй Иркутск, как называют тут богатый на конструктивизм район авиазавода.
51.
Поезд же снова повёз меня в Бурятию - на станцию Заиграево, от которой я поскакал автостопом в следующий райцентр Кижинга. Но самая большая в России ступа, которую мы хотели там посмотреть, оказалась совсем не большой:
52.
Так что больше этот путь запомнился мне как трасса Хандагатайской узкоколейки - некогда крупнейшей в России, но исчезнувшей почти без следа. Под Заиграевом меня подвозил её машинист, а в Усть-Ороте мимо мелькнул гнилой мост через реку Койдун:
53.
Выбравшись в Хоринск, я съездил на такси к Аннинскому дацану, лежащему среди безлюдной степи совершенно монгольского вида:
54.
И уж не знаю, с чем это связано, а кондовая глубинка встретила меня совсем не так, как месяцем ранее. Теперь подвозили меня в основном буряты, подвозили охотно, а на околице одного из сёл местные даже оставили адрес, если я не уеду и мне будет негде ночевать. Не знаю, в моём восприятии тут что переменилась или же Бурятия сосредоточилась. С обочин глядели плакаты с запретом ходить в лес во избежание пожаров, а как раз в этот день Бурятия подтвердила репутацию центра ковид-паникёрста, введя масочный режим, который люди пока соблюдать не спешили. И как заметил один из водителей, не стоит искать в этом скрытых смыслов: просто на любую инициативу Москвы бурятские власти бегут впереди паровоза. К вечеру я снова был в Улан-Удэ:
55.
На кадре выше - вид из Заудинской слободы на дацан Ринпоче-Багша. Главным впечатлением же теперь стал музей, а точнее - его зал буддийского искусства. Вот например фрагменты Цугольского атласа - единственной полной копии главного трактата тибетской медицины, которую сняли в начале ХХ века в Лхасе ламы Цугольского дацана. Но фото атласа даже не добавить в прошлогодний пост - их более 30 после всех отбраковок.
56.
Улетал я и из Читы, тихого и пустынного аэропорта Кадала, увешанного рекламой работы на рудничных вахтах. Дешёвый билет отсюда имел и ещё один бонус - в Чите едва ли не самый красивый во всей России аэровокзал, больше фото которого я уже добавил в прошлогодний пост про этот город:
57.
Перед тем, как взмыть в облака, я увидел горы на водоразделе Амура, Байкала и Лены:
58.
Если о местах из прошлых двух частей я постараюсь полностью рассказать до Нового года, то эти края отложу на зиму и весну. Но всё же вот примерный план рассказа:
- Улан-Удэ и Верхняя Берёзовка (2-3 новых поста).
- Глубинная Бурятия (2-3 поста)
- Турка и Максимиха
- Святой Нос
- Баргузинская долина (2-3 поста)
- Гусиноозёрск и Тамчинский дацан
- Новоселенгинск
- Кяхта и Алтанбулаг (3-4 поста)
- Сухэ-Батор
- Дархан
- Амарбаясгалант
- Эрдэнэт
- Мурэн и дорога к нему
- Хубсугул (1-2 поста)
- Песчаная бухта (1-2 поста)
- Иркутск (несколько постов по материалам 2020-22 годов).
|
Метки: Монголия природа злободневное транспорт Иркутская область дорожное этнография Бурятия |






