В поисках Беловодья - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Нерюнгри и освоение Южной Якутии |
Не секрет, что уголь и алмаз - это почти одно и то же, разница только в структуре и примесях. Главное богатство Якутии - не золото показанного в прошлой части Алдана, а углерод в двух своих самых известных формах. За алмазы отвечает Мирный, куда в этот раз я не добрался, ну а уголь добывают в Нерюнгри - "южной столице" Республики Саха, её втором по величине городе (57 тыс. жителей) на реке Чульман в 820 километрах от Якутска.
Первый раз я увидел Нерюнгри на 4 года раньше, чем остальную Якутию - из иллюминатора самолёта Москва - Южно-Сахалинск. Нерюнгри - явный представитель того же семейства, что соседняя Тында или Усть-Илимск, Надым или маленький Кодинск: многоэтажный спальный район, построенный среди пустой тайги в 1970-80-е годы. На фото город повёрнут относительно карты градусов на 20 - главные улицы Нерюнгри проходят строго по параллелям и меридианам. Они делят город на кварталы, слева направо верхнем ряду Д, В и А (последний - неправильной формы), в среднем (за изогнутой улицей Маркса) Е, Г, Б и (у края правого облака) Л, в нижнем за широком проспектом Дружбы Народов - М, К, Н и левее них незастроенный И. В геометрическом центре города, на косой улице Маркса, можно различить белый собор с золотыми главками, а правее него проходит Южно-Якутская улица. По ней мы дошли на край города, а потом пересекли наискось второй слева в нижнем ряду квартал К, выйдя на проспект Дружбы Народов, к площади Ленина на первом слева перекрёстке. Облако в верхней части кадра скрывает Технопарк и Дворец культуры, которым мы посвятили большую часть времени в городе, а справа хорошо виден "Горняк" (2006-08) с красной крышей - не просто дворец спорта, а целый крытый стадион!
2.
В отличие от перечисленных в прошлом абзаце собратьев по жанру, Нерюнгри в своей тайге ещё и не одинок: вокруг города, как спутники вокруг планеты, расположились несколько ПГТ. В 7 километрах южнее - Беркакит (3,5 тыс. жителей), конечная станция советского Малого БАМа (1979), перпендикулярного "большой" Байкало-Амурской магистрали. Однако - это вполне полноценный БАМ, даже с шефством: Беркакит для братьев по забою строила Кемеровская область.
2а.
В 7 километрах восточнее Нерюнгри на тупиковой железнодорожной ветке Серебряный Бор (2 тыс. жителей) привлекает взгляд правильным полукольцом жилых кварталов и высокими (240м) густо дымящими трубами. Это Нерюнгринская ГРЭС (540 МВт), вместе с которой в 1979-83 годах посёлок и строился.
2б.
Наконец, самый дальний в этой системе Чульман (7,2 тыс. жителей) с обслуживающим Нерюнгри и Тынду аэропортом (1986) не был виден с того самолёта - он стоит в 25 километрах севернее. Но именно с Чульмана начиналась история освоения Южной Якутии. Испокон веков главной дорогой в этих краях служила Лена, причём дорогой скорее белой, чем голубой. Отделённая от Прибайкалья лишь невысокими холмами, она становилась чёрным ходом для степных народов, в итоге сложившихся в этнос саха, ну а в 17 веке туда проникли по волокам и русские люди. Лена выводит на Центральноякутскую равнину с её плодородными аласами, на которых ещё в дорусское время сложилась абсолютно самобытная цивилизация якутов, так и не успевшая стать государством. Россия, закрепившись там, стремилась к экспансии больше на восток и север, а вот южная Якутия от Станового хребта до Алданского нагорья во все времена оставалась углом в прямом смысле слова медвежьим. Сердцем потайного мира эвенков, с языка которых и Нерюнгри (не склоняется, а ударение на первый слог) переводят как Хариусная река. Эвенки знали о выходах чёрного камня, который, постаравшись, можно жарко поджечь, и уже в 1840-х годах об этом писал Александр Миддендорф по итогам своих экспедиций.
3а.
Но русских людей в эту тайгу смогло заманить только золото, к россыпям которого ещё до революции пытались подобраться промышленники с Амура. Они даже начали вскладчину строить колёсную дорогу от станции Большой Невер на Транссибе, в 1913-16 годах пройдя 293 километра (по другим данным - 327км), но с началом Гражданской войны та дорога заросла стланником и травой. При Советах поиски золота возобновились, и увенчались особым успехом в 1923 году на ручье Незаметном - там, где теперь стоит Алдан, в 1920-х дававший СССР почти половину добычи. В 1925-32 годах брошенная за время Гражданской войны дорога была возрождена и продолжена - теперь на 728 километров до Укуланской пристани (нынешний Томмот) с веткой к базе Чуран на Лене. Эта трасса и называлась изначально Амуро-Якутской магистралью, и со всеми станциями да постами представляла собой то ли последний русский ямской тракт, то ли эрзац железной дороги. Станция Якут в 1926 году сделалась центром Тимптонского района, но поворот в судьбе Южной Якутии случился у поста Чульман (изначально, в 1926-28 - Утёсный): в 1932 году в 12 километрах севернее дорожники с парой импортных тракторов "Кейс" наткнулись на угольный пласт. С 1936 года там наладили дОбычу для местных нужд, однако этого хватило, чтобы Чульман к 1941 году разросся до ПГТ и стал центром Тимптонского района. Выше хороший кадр годов так 1970-х - на переднем плане совершенно железнодорожный по архитектуре мост АвтоАЯМа, а поодаль дымит Чульманская ТЭЦ (1959-62) - небольшая (48 МВт), но первая работавшая на южно-якутском угле.
3.
Сам посёлок Угольный, где находилась первая штольня, теперь исчез без следа. Но судьбу каких-нибудь Сангара или Джебарики-Хая (входящими, между прочим, в совсем уж колоссальный Ленский угольный бассейн) с их одинокими шахтами для окрестных нужд Чульман не повторил, так как на Южную Якутию у СССР были свои большие планы. По аналогии с Украинским щитом, где есть Донбасс, Кривбасс, цветные металлы (включая уран) и огромное количество нерудных ископаемых, на Алданском щите советские геологи и госпланщики ожидали таких же несметных богатств. В 1950 году Чульман сделался базой читинских геологов: Чульманская экспедиция искала уголь, Эвотинская - железо, Аямская - нерудное сырьё. В 1951 году все они были сведены в Южно-Якутскую комплексную экспедицию (с 1980 - Южно-Якутская геологоразведочная экспедиция) и впоследствии полностью оправдали надежды. В основном в 1960-70-х ЮЯКЭ (ЮЯГРЭ) обнаружила крупнейшие в мире залежи флогопита (разновидность слюды), множество самоцветов вроде хромдиопсида и дианита (а вот чароит открыли близ Олёкмы чуть раньше), сравнимый с Криворожьем железорудный бассейн (освоение которого пока не началось), крупнейшее в мире (!) Эльконское месторождение урана, ещё какие-то явно упущенные мной богатства, ну и собственно уголь, наконец. Предание о его открытии слишком романтическое и чтобы быть правдой, и чтобы я мог о нём умолчать, хотя другая, не менее красивая версия, гласит, что угольный пласт случайно нашёл владикавказский студент-практикант Альфред Коваленко. Основная легенда же повествует о том, как ещё в 1951 году отряд геологов Чульманской экспедиции (базой которой был посёлок Чульмакан неподалёку) под началом 25-летней волжанки Галины Лагздиной повстречала в тайге старого эвенка Филиппа Лехнова. Тот ещё в 1910-20-х годах работал проводником и каюром со старателями, и хранил в своём чуме записку, которую много лет назад должен был передать по адресу, поехав за порохом и пулями в Алдан. Почему-то не сумев это сделать, старый охотник корил себя, но даже прочесть записку не мог в силу своей неграмотности. А вот Лагдзина прочла: "Здесь, на Нерюнгре, я нашёл уголь. Таких пластов я даже в Горловке не видел. Чистейший антрацит. Это вот и есть настоящее золото", и молодую (геолого)разведчицу вдохновили эти слова. Эвенк нарисовал ей карту, и вскоре вышедшая из Чульмакана партия нашла на Хариусной реки пласт с говорящим названием Пятиметровый. В 1953 выше по речке обнаружился пласт Мощный, так что у геологов не осталось сомнений - меж Алданским нагорьем и Становым хребтом вытянулся Южно-Якутский угольный бассейн. С него и было решено начать освоение здешних богатств.
3б.

В 1963-67 годах была налажена добыча на пласту Мощный, посёлочек которой, видимо, теперь погребён под отвалами. Город Нерюнгри начали строить лишь в 1975 году вместе с железной дорогой - это была полноценная часть Байкало-Амурского проекта, разве что без шефства на Большой земле. Первые деревянные дома Нерюнгри ещё стоят на Пионерной и Комсомольской улицах:
4.
Там же проходит проспект Геологов, ведущий в Серебряный Бор. На въезде в него можно увидеть панно, у пересечения с АЯМом - композицию "Олонхосут" (1985; одно из редких напоминаний, что здесь Якутия!), а примерно в километре от мест с этих кадров, на дальней стороне Старого города - памятник Первостроителям (1986). Но мы не увидели ни первое, ни вторую, ни третий - невыносимая жара и недостаток времени от поезда до поезда оставили в моём рассказе много дыр, которые придётся затыкать ссылками на чужие фото. В Старом городе же мы зацепились за грандиозный Дворец культуры имени 40 лет Победы... ну и 10-летия города (1985) заодно.
5.
Большую его часть занимает Театр Актёра и Куклы, вторая половина названия которого появилась в 1985 году, а первая - в 1992-м.
5а.

У второго подъезда ДК задорно щёлкал в воздухе кнутом парень в майке с Егором Летовым, не иначе как один из актёров. Увидев наши фотоаппараты, он сперва сказал "Ооой!" и нырнул в дверь под крыльцо, но вскоре вернулся и даже охотно спозировал.
6.
Девушка, смотревшая на него с крыльца, требовательно пригласил нас войти - вторую половину здания занимает Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии, учреждённый ещё в 1976, а в 1981 накопивший достаточно экспонатов, чтобы открыться. Понимая, что времени мало, а на жаре мы ещё и медлительны, я сперва вовсе сюда не собирался, а потом подумал - куплю из вежливости билет без фотосъёмки, пробегусь 10 минут по этажам и пойдём дальше. В итоге мы зависли тут на полтора часа - музеи Якутии, начиная со столичного кластера и продолжая Олёкминском, Майей или Чурапчой, и в этот раз не разочаровали.
7.
Часть кадров отсюда я включил в свои обзорные посты о Якутии, но не меньше экспонатов тут впечатляют интерьеры, разработанные (вместе со всей нынешней композицией) в 1992 году специалистами московского Исторического музея:
8.
На втором этаже - стеклянное панно с важнейшими палеонтологическими и археологическими точками на карте:
9.
Да витрина с атмосферой раскопок - первые зачатки интерактива в советской ещё экспозиции:
10.
Третий этаж с самоцветами украшает карта из разноцветных камней:
11.
Но больше всего впечатляет огромное берестяное пано в духе "Олонхо" над лестницей, через все 3 этажа:
12.
Так и не смог найти про него каких-либо подробностей, даже имени автора. Но вероятно (и вроде бы в музее нам так и сказали), это был иркутянин Евгений Ушаков, чьи творения я прежде видел в Усть-Илимске.
13.
Если говорить про экспонаты, то здешняя коллекция минералов, конечно, проигрывает Сокровищнице Якутии, но точно превосходит Якутский музей. В этнографическом зале по трём сторонам отличные витрины якутов, русских и эвенков. О последних как коренных жителях здешней тайги Нерюнгринский музей рассказывает больше, чем любой из музеев Якутска.
14.
Но самая насыщенная экспозиция - про собственно освоение Южной Якутии, и именно в ней пересняты все фотографии из начала поста, а ещё больше осталось на пост об АЯМе. Вот уголок о поисках угля с инвентарём геологов середины ХХ века. Самые интересные его предметы - макет кустарной буровой вышки и один из первых советских буровых станков КАМ-500, активно использовавшийся в 1930-60-х годах в геологоразведке:
15.
В общем, ради этого музея я пожертвовал осмотром нескольких памятников, но музей явно того стоит. Обиднее всего было не успеть в местный Парк Славы на стыке районов Е и Г с весьма необычным мемориалом "Ника" (2005) от скульпторов из братского Улан-Удэ. Вместо него мы увидели маленький памятник, видимо времён основания города, между ДК, гостиницей и полицией:
16.
Выйдя на Южно-Якутскую улицу, мы побрели в сторону центра. В этой части города ничего не цепляет взгляд, так что вот пока просто детали:
17.
Самая запоминающаяся мелкая деталь Нерюнгри - не на стенах домов или остановок, а под ногами. Алданский щит столь богат, что даже щебень тут похож на самоцветы:
18.
Осилив с полкилометра, мы поняли, что вот-вот помрём от жары, и завалились в кулинарию - как обычно и бывает в русской глубинке, перекусить в городе толком негде. Впрочем, пирожки в кулинарии оказались отменные, а интерьер её оснащён вот такой милотой:
19.
Нерюнгринский центр за улицей Кравченко начинается, внезапно, религией. В квартале А в прямой видимости друг от друга стоят две церкви - евангелистов (1995) в брутальном бетонном здании, похожем больше на ДК какой-то так и не наступившей для Союза эпохи...
20.
...и православная Казанская (1992-93), как бы не первая построенная в Якутии (кроме, разве что, музейной в Соттинцах) со времён революции.
21.
То в общем и немудрено: в шахте во время ЧП, как в окопах под огнём, атеистов не бывает, и уж во всяком случае как бы не большинство редких храмов советской эпохи были построены в 1940-50-х годах именно в шахтёрских посёлках. Здесь, конечно, уголь добывают открытым способом, но народ ехал за длинным рублём и московским снабжением из тех же Донбасса, Кузбасса, Караганды... Да и в наши дни едет: в последние годы неуклонно убывающее с пика в 77 тыс. жителей (1989) население Нерюнгри снова растёт за счёт организованного переселения квалифицированных шахтёров с Донбасса. Кроме того, Нерюнгри в Якутии - не только южная, но и русская столица: славян тут 85%, а якутов (2,5%) немногим больше, чем татар, бурят или эвенков (по 1,5-2%). Крест во дворе Казанской церкви не похож на якутские сурэхи, а пластиковую Рождественскую часовенку поставили в 2009 году "в честь всех строителей Южно-Якутского топливно-энергетического комплекса":
22.
Третьей культовой постройкой в Южной столице Якутии должна стать мечеть, которая строится теперь в несостоявшемся квартале И. Советские кварталы на прямых или плавно изогнутых (причём чаще всего - в вертикальной плоскости) улицах - это и есть большая часть Нерюнгре. В А, за церквями - гостинки:
23.
В Б за Южно-Якутской улицей - необычные пятиэтажки с высокими трубами на крыше и скруглёнными углами. Они запомнились мне "фишкой" не просто БАМа, а Малого БАМа - я видел такие в Тынде и на станциях южнее неё. Обратите внимание на корпоративный автобус: если сам Нерюнгринский угольный разрез разрабатывает "Якутуголь", то основанная в 2004 году частная компания "Колмар" в 2010-х годах построила в тайге поодаль несколько шахт и разрезов и целый Инаглинский ГОК.
24.
К и Н за проспектом Дружбы Народов застроены вот такими многоэтажками:
25.
Обводы их балконных окон запомнились мне архитектурным лицом Нерюнгри:
26.
Но при всём сходстве с Тындой, Северобайкальском или Новым Ургалом в архитектуре, планировке и самой истории строительства, атмосферой Нерюнгри совершенно на них не похож. Строить пути сквозь глухую тайгу, воспетую Иваном Ефремовым и Григорием Федосеевым, просто куда романтичнее, чем в который раз давать стране угля. Пожалуй, я бы сравнил Нерюнгри с кузбасским Междуреченском или карельской Костомукшей - зажиточный, в меру благоустроенный, далёкий в своей тайге от дрязг большего мира, но всё-таки живущий рабочими буднями обычный город горняков.
27.
На кадре выше - квартал Н, "свечки" у дороги к вокзалу и одинокая труба городской котельной. На сопке поодаль - не горнолыжка, а гранитный карьер. У перекрёстка Южно-Якутской и Дружбы Народов, на стыке кварталов Б, К, Л и Н, мы набрели на стихийный базарчик с дарами леса. В основном продавали то ли чернику, то ли голубику, в конце июля оказавшуюся незрелой и кислой. Засмотревшись на лотки, мы малость потеряли направление среди широких улиц и одинаковых домов, и вместо того, чтобы свернуть на Дружбу Народов, побрели по Южно-Якутской, пока не упёрлись в край города - гаражи на застроенном лишь с одной стороны проспекте Мира. Наша следующая цель лежала на противоположном углу квартала К, и мы пересекли его дворами. Дворы Нерюнгри переполнены машинами, приятно холмисты, а сосенки остались, видимо, от росшего тут прежде леса:
28.
В глубине квартала - симпатичное здание чего-то больничного:
29.
У перекрёстка проспектов Ленина и Дружбы Народов мы вышли к ДК имени Пушкина (1999) - главному общественному пространству в шахтёрском городе:
30.
Он выходит фасадом к площади Ленина, в пейзаже которой у здания администрации соседствуют Аал-Луук-мас и Матрёшка:
31.
Упраздненный в 1963 году и включённый в состав Алданского улуса Тимптонский район был возрождён в 1975-м уже как Нерюнгринский улус. Средний в якутских масштабах по площади (99 тыс. км², примерно с Кемеровскую или Ростовскую области), по населению (70 тыс. человек) он спорит с Мирнинским районом за первое место в Республике. И именно два района добычи двух форм углерода слагают в Якутии русское ядро - картина, удивительно знакомая по большинству стран Ближнего зарубежья! Перед администрацией - три сэргэ (якутские священные коновязи) и покровительница шахтёров Святая Варвара (2015):
32.
Ещё два памятника были изготовлены в уральском Касли (знаменитый центр чугунного литья) по заказу "Якутугля" как подарок городу - "Горняк и сын" (2017) и "Рудознатец" (2015). И если первый вполне себе наш парень, то второй на сибирского косматого геолога не очень-то похож - это копия работы немецкого скульптора Фридриха Ройша (1893), когда-то украшавшего Кёнигсберг.
33.
Мимо торца администрации мы и пошли по проспекту Ленина, высматривая какой-нибудь магазин - нам предстояла дальняя дорога на Улан-Удэ с пересадкой в Сковородино. В итоге мы снова дошли до улицы Маркса между кварталов А, Б, В и Г и там затарились в отличном магазине "Океан". По памятникам, до которых не успели дойти, я было думал покататься на такси, но вызванный водитель был угрюм, а на вопрос, где тут памятник Победы, ответил что-то вроде "понятия не имею, мне такое не интересно". На самом деле до "Ники" от "Океана" нет и полкилометра... однако не интересовался подобным в Нерюнгри и Maps.me, так что мы ни с чем уехали к вокзалу. Куда больше нам повезло с таксистом, который увозил нас с вокзала в город по утру - пожилой доброжелательный человек с мягким голосом и ориентировался прекрасно, и как нам дальше идти пешком очень хорошо объяснил. Всё показанное выше мы смотрели лишь после, а изначально с вокзала отправились к главной достопримечательности Нерюнгри - Технопарку:
34.
Так называют в обиходе Музей горнодобывающей техники, устроенный в 2010 году по соседству с больницей на сопке за пару километров от Старого города. Таксист посетовал, что всё это создавалось прошлым мэром (имя я не запомнил), при котором и на город было приятно смотреть, но с тех пор мэр ушёл и тут всё развалилось. В России, конечно, так говорят чуть менее чем про всё, и ореол созидателей водится только за бывшими мэрами, но в данном случае это выглядит похожим на правду. Вдвойне - в суровом городе шахтёров: набегам вандалов Технопарк подвергается чуть ли с момента открытия, а стоявший здесь изначально УАЗ и вовсе разобрали на запчасти. У входа - внезапная мантра:
34а.

Музей вытянут вдоль Аллеи Первостроителей, которую открывают Як-40 и экскаватор Э-2503, выпускавшийся до конца 1980-х в Воронеже. По сравнению с тем, что я видел издалека на, скажем, Ленских приисках - в общем-то даже и небольшой: объём ковша "всего" 2,5 кубометра, но можно представить, какие страсти видел этот ковш!
35.
Дальше на Аллее Первостроителей стоит среди сосенок нечто, пытающееся выдать себя за Сибирский острог:
36.
Прямо сказать - не слишком убедительно, но надо же детям, пришедшим сюда, хоть где-нибудь лазать?
36а.

Ведь дальше Технопарк вступает в права окончательно, и пожалуй самая потрясающая особенность этого музея - в том, что каждая машина тут не особь, а личность. Вот скажем колёсный бульдозер WD-600-1 справа был произведён в 1989 году японской фирмой "Комацу" специально для "Якутугля", до 2009 года работал на Нерюнгринском разрезе, а в бригаду его входили Евгений Иванов, Александр Титков, Иван Мизун и Владимир Коровин. За ним небольшой (на 30 тонн) "Белаз-75405" 1994 года выпуска с ярославским двигателем, который в 1994-2009 годах под началом Алексея Цымбала, Павла Молчанова, Джыргалбека Джидабаева и Александра Суковатого проехал по карьеру 1 084 067 км и наработал 72 313 моточасов.
37.
Справа на кадре выше - СБШ-250 (Станок буровой шарошечный) от воронежского завода "Рудгормаш": его вандалы лишили таблички, но я смог нагуглить, что само предприятие живо и такие машины производит с 1985 года до сих пор. По крайней мере производило до санкций, актуальных с учётом финских, немецких и украинских узлов. Рядом с СБШ похожей на какую-то машину из детских рисунков бульдозер-кабелепередвижчик D-355U, изготовленный в 1985 "Комацу". Он прокладывал высоковольтные кабеля и перемещал их для прохода тяжёлой техники вроде СБШ или экскаваторов, и наработал под управлением Виктора Медведева, Владимира Конюка и Сергея Щербаченко до списания в 2011 году 90 191 моточас.
38.
Миновав раскрашенный явно не вандалами "Белаз"...
39.
...выходим ещё к паре "Белазов". Вот это уже реально гиганты, и лишь непостижимостью размера в целом можно объяснить, что они кажутся почти одинаковыми. Левый "Белаз-75145" изготовлен в 2002 году, его длина 11,4м, высота 5,6м, ширина 6,2м, диаметр колёс 297 сантиметров (Наташа для масштаба!), мощность двигателя 1200 лошадиных сил, а грузоподъёмность 120 тонн при 88 тоннах собственной массы. До 2012 года он прошёл 868 752 км и наработал 63 258 моточасов под управлением Виктора Шевченко, Романа Кичула, Андрея Богомолова и Михаила Новикова.
40.
Но если вы думаете "нифига себе здоровый!", то давайте я расскажу про соседа. Правый "Белаз-75306" изготовлен в 2003-м, и его длина 13,4м, высота 6,5м, ширина 7,8м, грузоподъёмность 220 тонн при 156 тоннах собственной массы (на табличке, правда, указано 370 тонн, но как правили меня в комментариях - это с полной загрузкой). Диаметр шин - и вовсе 3,5 метра, то есть два человеческий рост. Сколько надо было проехать, чтобы так стоптать эти шины, я не знаю - табличка его висит недостаточно высоко и потому наполовину испорчена всякой мазнёй. Уцелел, однако, самый, яркий показатель работы - за 7 лет работы (2004-11) самосвал перевёз 13 миллионов 226 тысяч тонн горной породы.
40а.

Не сильно превосходя 120-тонника размером, 220-тонник тяжелее его в несколько раз. Подозреваю, что в первую очередь за счёт двигателя на 2538 лошадиных сил, в пространстве для которого мог бы поместиться салон автобуса. Вернее, собственный двигатель у "Белаза" в каждом колесе, а здесь висел фактически их общий дизель-генератор.
41.
Стоять в полный рост под брюхом автомобиля - незабываемое впечатление:
41а.

Дальше стоит штуковина, которую поиск по картинке Яндекса неизменно принимал за подбитые орудия или обломки самолётов. Немудрено - это шахтная крепь, совсем не умозрительная под открытым небом:
42а.

Шахтный комбайн, опознать модель (а с ней годы и место производства) которого вряд ли хватит компетентности и у меня, и у кого-либо из читающих эти строки. Сзади - обычный маневровый локомотив ТЭМ2, выпускавшийся в 1960-2000 годах в Брянске и Луганске.
42.
Дальше - странная конструкция из шин, на которые так и тянет забраться. Надо сказать, с человеческим ростом шина "Белаза" сравнима даже поперёк, и под моим 100-килограмовым весом они даже не сказать что прогибаются - только пружинят слегка:
43.
А в этой штуковине даже не сразу опознаётся "Белаз". Ведь "по умолчанию" этим словом называют самосвалы, которые вывозят породу при расширении и углублении карьера, а здесь - "Белаз"-углевоз для транспортировки того, что добывают. По сути это тот же 120-тонник, только с таким прицепом он вытягивается до 23 метров и набирает вес до 97 тонн. Под управлением Василия Пермякова, Михаила Назаркевича, Виктора Иващенко и Леонида Антипова машина в 1981-89 годах прошла 536 852 километров и наработала 35 641 моточас.
44.
Дальше Аллея Первостроителей выводит на круг, и по совету таксиста мы пошли этим кругом против часовой стрелки - направо тропы уходят в изумительный сосновый бор на краю косогора:
45.
Под ногами - скалы, мох да недозревшая брусника:
46.
А за опушкой - вид на долину Чульмана:
47.
Суровый и дикий сибирский пейзаж, на котором все дачки, мосты и рельсы кажутся чем-то вроде артефактов изображения:
48.
Железная дорога ведёт к Нерюнгринском разрезу, над которым клубится пыль и то и дело разносится грохот взрывов:
49.
Масштаб его проще всего оценить с самолёта - изувеченная земля вдоль речки Верхняя Нерюнгря тянется на 9 километров.
50.
Вернувшись на аллею и обойдя круг, мы вышли к пустой лыжной базе "Петровы Горы". Её территория открыта и летом, а Лыжный трон под колоннами сосен напоминает о том, что зима близко. В Якутии так всегда:
51.
Петровы горы - это мыс между Чульманом и Беркакитом, и за столь же глубокой долиной висят в мареве городские кварталы. В данном случае - Д и В:
52.
Плывущие в том же мареве горы поодаль - это Становой хребет, разделяющий бассейны двух океанов. За ним начинается Амурская область:
53.
Но интереснее виды, если пройти вдоль просеки перпендикулярно лыжному склону - она ведет к обрыву над слиянием Чульмана и Беркакита:
54.
Там дымит Нерюнгринская обогатительная фабрика (1984), очищающая поднятый уголь от примесей:
55.
Дальше по долине - какая-то ещё инфраструктура вроде автобазы или домостроительного комбината, а где-то на берегу речки немногочисленные нерюнгринские якуты отмечают свой Ысыах:
56.
Южно-Якутский уголь - один из самых качественных в России, а вот здесь показан процесс их добычи в Нерюнгри и Эльге. Около половины запасов Нерюнгринского месторождения приходятся на коксующиеся угли, а в 2012 году началась разработка их крупнейшего в стране месторождения Эльга: это в 400 километрах отсюда на восток и в 300 километрах на север от БАМа, с которого туда проведена опять же самая длинная в России (321км) частная железная дорога. Её операторы не лишены романтики - то уголь пытались возить паровозами (но увы - для их топок он не подошёл), то начинают строить Тихоокеанскую железную дорогу на 486 километров к Манорскому мысу на Охотском море. Причём - с целью организовать там частный экспортный порт, кажется ещё не зная, что для его обслуживания понадобятся ледоколы. Впрочем, Эльга - порождение уже нашей эпохи: Советы бы воздвигли там ещё один городок многоэтажных домов, помпезных ДК и улиц с красивыми названиями, а "Мечел" ограничился вахтовым посёлком, где совсем не ждёт праздных гостей. Освоение Южной Якутии продолжается...
57.
Настолько, что железные дороги тут строятся не только для угля, но и для пассажиров. В следующей части покинем самый большой регион по Амуро-Якутской магистрали.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр и Хараулахский хребет.
Ленская труба - остров Столб.
Остров Тит-Ары.
Амуро-Якутская магистраль
Алдан.
Нерюнгри.
Железная дорога Нижний Бестях - Беркакит.
|
Метки: Сибирь АЯМ дорожное Якутия шахтёрское индустриальный гигант |
Алдан. Последняя золотая лихорадка и первый город СССР |
"Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан" - эта цитата из "Двенадцати стульев" запомнилась мне ещё в школьные годы. И надо было проехать Якутию до самого севера (точнее, до острова Тит-Ары из прошлой части) и снова отправиться по Амуро-Якутской магистрали на юг, чтобы понять, с чем связано упоминание именно Алдана.
Ведь когда Ильф и Петров писали свой роман, на Алданском нагорье кипела последняя в России золотая лихорадка, здешние прииски давали до 45% золотодобычи молодого СССР, да и по времени основания Алдан (21,6 тыс. жителей), что стоит в 530 километрах южнее Якутска у дороги во внешний мир, можно считать первым городом если не всего СССР, то по крайней мере советской Сибири. В наши дни Алданский улус остаётся центром золотодобычи, ну а главное, что знают о нём путешественники - почему, чёрт возьми, город Алдан стоит НЕ на Алдане?!
Прежде, чем начать рассказ, полюбуемся его "главным героем" - вот они, золотые пески и самородки Алдана в Сокровищнице Якутии. Мудрый народ саха, ещё в дорусские времена творивший неземной красоты украшения из серебра, не доверял золоту, считая, что эти жёлтые камни приносят беду и проклятие. Да и ценности особой не видели - и золото, и медь в якутском языке назывались одним словом "алтан", к которому и возводят теперь название Алдана:
2.
А вот русский народ той мудростью не обладал, и с открытием в 1814 году на уральской речке Пышма первых россыпей пробудил дремавшие в их песках споры золотой лихорадки. С неумолимостью чёрной смерти, в 14 веке ползшей с востока на запад, эта хворь поползла с запада на восток через Кузнецкие горы, угрюмый Витим и каторжное Забайкалье, к 1860-м годам придя на Амур. Россыпи его притоков были, откровенно говоря, не богаты, но хитрый таганрогский грек Дмитрий Бенардаки, бывший ахтырский гусар, а теперь владелец заводов-газет-пароходов, свой бизнес делать рассчитывал на переселенцах и потому интерес к амурскому золоту всячески подогревал. Не смущало его даже то, что следом за старателями потянулись на Амур и конкуренты, множество мелких фирм и предпринимателей, в 1880-х даже выплеснувшихся в Китай в виде анархо-капиталистической Желтугинской республики. А вот как жёлтый металл добывали в те годы: промывали добытый в карьерах и шахтах песок на огромных деревянных конструкциях с эстакадами, лотками и желобами, где осаждались более тяжёлые золотые крупинки.
2а.

Основанная Бенардаки в 1865 году Верхне-Амурская золотодобывающая компания опутала обозначенный в названии регион огромной сетью относительно небольших приисков, самые богатые из которых лежали от Амура вдали, в верховьях Джалинды и Зеи. Понемногу золотоискатели уходили за Становой хребет, и в 1903 году была открыта россыпь на реке Тимптон - первая в бассейне Лены. В 1913-16 годах золотопромышленники вскладчину начали строить колёсную дорогу от станции Большой Невер на Транссибе (успели пробить 293 километра), а в 1917 году золото нашлось на алданском притоке Томмот... Золотоискатели явно подбирались к какому-то новому эльдорадо, и вполне понимавшая это советская власть буквально на излёте Гражданской войны возобновила поиски, которые возглавил красный латыш Вольдемар Бертин. Прочёсывая тайгу, однако, люди Наркомзолота столкнулись с тем, что вакуум бежавших в Китай золотопромышленников заполнили частные, почти что чёрные старатели, в большинстве своём якуты из центральных улусов и эвенки - коренные жители этих мест. Одну из таких чёрных партий, по сути обычное кочевое стойбище с чумАми и оленЯми, чумработницами и детьми, возглавил якут Михаил Тарабукин. Надо сказать, судьбы двух первооткрывателей, даром что принадлежали они к разным языковым семьям и расовым типам, были потрясающе схожи: оба были хуторянами и сыновьями батраков, даром что один из Курляндии, другой с низовий Алдана. Оба рано осиротели и подались в чернорабочие - один на стройку Транссиба, другой где придётся в Якутске. Оба прошли через "добровольные концлагеря" Бодайбо, откуда вынесли не столько золото, сколько ненависть к капиталистам. Оба не хотели воевать, но Бертин в итоге посидел в тюрьме для уклонистов, попал на фронт Первой Мировой и в Сибирь возвращался через пекло Гражданской, Тарабукин же в своей тайге вовремя уходил из горячих точек. И вот в 1923 году якут и латыш случайно встретились на речке Орто-Сало и впадающем в неё ручье с говорящим названием Незаметный. На нём-то Михаил Прокопьевич и нашёл золотоносную россыпь, а Вольдемар Петрович подключил к делу современные технологии да уладил все формальности с государством. Так началась последняя вспышка золотой лихорадки...
2б.

Человеческий мозг улавливает слухи о найденном золоте напрямую из воздуха, поэтому уже к осени 1923 года на Незаметном трудилось две сотни старателей. Год спустя их было здесь уже 5000, и с того же 1924 года советская власть начала брать этот процесс под контроль - сначала в виде треста "ЯГЗолото". Социалистический и капиталистический методы освоения Алдана поначалу шли параллельно: старатели легально работали здесь вплоть до отмены НЭПа, а в 1925 году прямо в центре разросшегося посёлка Незаметный монтировалась первая в этих краях Драга имени Дзержинского. Три драги, к концу 1920-х ставшие основой алданской золотодобычи, были доставлены, как и многие другие грузы, через Укуланскую пристань - теперешний Томмот. Вот только Алдан-река описывает на карте фигуру наподобие знака вопроса, и водный путь сюда из Качуга или Жигалова растягивался на 4000 (!) километров - сперва по Лене за Якутск почти что до Сорока островов, а затем по Алдану 2/3 длины реки против течения. Для крупных грузов, конечно, такому пути не было альтернатив, а для всего остального в 1925-29 годах под руководством инженера Иосифа Пилина, выбившего для стройка два трактора "Кейс", была восстановлена и продлена на Алдан брошенная в годы Гражданской войны колёсная дорога. В 1933 году её протянули к базе Чуран на берегу Лены, а годом ранее Незаметный разросся настолько, что сделался городом. С рядом оговорок - первым новым городом Советского Союза.
3а.

В отличие от Мурманска (последнего города царской России), Славутича (последнего города СССР) и Магаса (первого города постсоветской России), этот статус не так однозначен. Ведь на заре советской власти десятки разросшихся до городского уровня заводских посёлков, сёл, станиц и станций просто обрели этот статус де-юре, ряд основанных тогда посёлков при шахтах и электростанциях доросли до городов лишь спустя десятилетия, а очевидные Шатура и Волхов строились в советской России ещё до официального образования Союза. Здесь же мы имеем идеальный случай: в 1923 году основанный в чистом поле посёлок, уже в 1932 ставший городом. И уж во всяком случае это была первая советская стройка в Сибири, которую и стройкой социализма-то сходу не назвать. Странное для гремевшего на весь Союз городка название Незаметный продержалось до 1939 года, а вот выбор нового названия прекрасно объясняет цитата Ильфа и Петрова: Алдан в данном случае - не река в 80 километрах отсюда, а весь золотоносный район, разросшийся вокруг Незаметного.
3.
Золотые пески Алдана добывали в карьерах и шахтах. В 1961 году вошла в строй драга №41 с ковшами по 380 кубометров - на тот момент крупнейшая в Союзе (нижняя на позапрошлом кадре). Золотой век золотого Алдана, впрочем, на тот момент тоже прошёл: с восстановлением Ленских приисков и октрытием новых месторождений на Колыме Алдан превратился из всесоюзного центра золотодобычи в просто "один из". Однако вчерашним днём сделалась и сама по себе добыча золота в россыпях: куда больше жёлтого металла можно достать из руды. Поэтому открытие в 1957 году Куранахского золоторудного поля, простирающегося на десятки километров между городом и рекой называют ещё "вторым рождением Алдана". Куранахская руда очень бедная (1-1,5 грама на тонну), но её ОЧЕНЬ много, и потому пущенный в 1965 году рудник остаётся ведущим в Якутии. Правда, и тут скорее первым среди равных: всего Саха добывает порядка 40 тонн золота в год (в России уступая Красноярскому краю и Магаданской области), но добыча ведётся в десятке улусов, расположенных широкой полосой вдоль Алдана, Яны и Индигирки. Что-то добывают на Олёкме, что-то - в Нерюнгри по соседству с углём, однако само по себе выражение "поехать на Алдан" не теряет актуальности: богатейшие месторождениях Аллах-Юнь залегают в Усть-Майском районе в среднем течение Алдана.
4а.

В отличие от Бодайбо, где сам воздух трещит от ненависти к "москвичам", планомерно оттесняющих от золота местных жителей (сперва придушили старателей, потом стали привозить вахтовиков, а теперь и инженеров на манагеров меняют), на Алдане народ своей жизнью на золоте вполне доволен. Население городка, упавшее с пика в 27 тыс. жителей, стабильно с начала 2010-х. В артелях трудятся в основном местные, а на зарплату и социалку не жалуются - так рассказывал водитель, который подвёз нас часть дороги на Томмот. А вот эвенк, подобравший нас за Куранахом, был настроен несколько иначе: "тайга только кажется большой, - говорил он, - а на самом деле вы не знаете, какая она маленькая". Конечно, он имел в виду экологический аспект, ведь основной метод работы на Куранахе - "кучное выщелачивание". В специальных гидроизолированных ямах руду сваливают кучами и опрыскивают их цианидами, которые, просачиваясь сквозь минерал, вытягивают из него золото с дальнейшей подачей ядовитый жижи на золотоизвлекательную фабрику - и можно представить, сколь токсична будет даже малейшая утечка. С железной дороги хорошо видны тянущиеся по распадкам язвы карьеров, на дне которых копошатся экскаваторы и трактора:
4.
Прошлые кадры сняты с Амуро-Якутской железной дороги и трассы "Лена" в 10-15 километрах севернее Алдана. Сам город встречает со стороны Якутска и Куранаха необычайно вычурным крестом, или скорее якутским сурэхом:
5.
И весьма эффектной панорамой со спорткомплексом и полем Ысыаха на высоком берегу Орто-Сало:
6.
Трасса не сказать, чтобы обходит Алдан стороной, но чётко очерчивает его по самым окраинам, на юге за аэропортом соприкаясь с железной дорогой:
7.
По трассе, ближе к полудню, мы покидали Алдан, а прибыли сюда на рассвете белой ночи поездом. Амуро-Якутская магистраль - тема для отдельного рассказа, и ей будет посвящена часть "через одну". Пока лишь скажу, что прокладывали её тремя очередями, законченными в 1979, 2004 и 2011 годах. Станция Алдан начала строиться в 1992 году, но вокзал под старину на ней появился только в 2004-м, с запуском пассажирского движения.
8.
Со стороны Куранаха город будто нависает над трассой "Лена", а со стороны станции - наоборот: улицы со звучными названиями вроде Мегино-Хангаласская, Вторая Орочёнская или 10-летия Якутии круто спускаются в узкую глубокую долину Орто-Сало:
9.
Спустимся туда и мы. Кварталы близ трассы, зажатые между аэропортом и станцией, встречают вот таким вот нечто:
10.
Но в общем первое впечатление от Алдана после месяца в якутских улусах - насколько же он другой! После не то что низовий Лены, а даже Якутска эти места кажутся благодатным югом с буйной растительностью, разлапистыми соснами, мягким воздухом и домами без высоких свай. Из "мерзлотных" атрибутов - лишь трубы над поверхностью земли:
11.
Ещё разительнее национальные отличия - если в каких-нибудь Майе, Чурапче или Жиганске русского днём с огнём не сыщешь, то здесь, как в Витиме и Ленске, то же можно сказать про якутов. Обычная рабочая Сибирь:
12.
Где случайно заглянув в открытый подъезд, мы вдруг обнаружили Стену Цоя:
13.
Местный торгово-развлекательный комплекс привлёк взгляд совсем не торгово-развлекательной вывеской. Необычность АЯМа ещё и в том, что эта линия управляется не РЖД, а отдельными Железными дорогами Якутии со множеством весьма заметных отличий. Пока АЯМ строился, управление ЖДЯ располагалось в Алдане, и более того, оно и до сих пор не съехало в Якутск. Однако я напрочь упустил этот момент, и мы прошли примерно в квартале от железнодорожного офиса по соседству с аэровокзалом, не подумав к нему свернуть.
14.
Крутой поворот улицы 10-летия Якутии (названной так в 1932, когда Незаметный стал городом) мы срезали через двор, и лишь на обратном пути из окна такси я едва заснял "полуторку" ГАЗ-АА, в интернете почему-то фигурирующую как АМО. Её поставили здесь в 1989 году как памятник "Труженикам северных трасс" к годовщине строительства АвтоАЯМа:
14а.

Вдоль монументального пожарного депо улица спускается к центру:
15.
И всё выше над домами встаёт зелёный склон:
16.
Увенчанный вот такой композицией:
16а.

Центр Алдана открывает Дворец культуры (1974) с памятником Первооткрывателям:
17.
Якут и латыш... но братья навек ли - не знаю. Более чем уверен, что Тарабукин был совсем не рад, когда государев человек Бертин заметил его партию у Незаметного ручья.
18.

Интереснее самой скульптуры - барельефы с сюжетами таёжного края:
19.
Из парка напротив ДК доносился ор и мат недогулявших за ночь алколоидов, поэтому мы свернули на проходящую вдоль этих барельефов улицу Ленина:
20а.

Тут обнаружилась пара простеньких сталинок:
20.
Спонтанный дитя эпохи НЭПа, город Незаметный был обойдён вниманием конструктивистов, приглашённых немцев из баухауза и зубров сталинского ампира.
21.
Но вспоминая Новокузнецк, Магнитогорск, Ангарск и другие города, где всё перечисленное было, помним, что все они строились позже. Дальше по улице - администрация с Ильичом:
22.
А Старый Незаметный в Алдане - это пяток бараков и засыпнух у перекрёстка улицы Ленина с переулком Чекистов:
23.
На "горизонтальных" улицах Алдана - внезапно, арыки, как где-нибудь в Алма-Ате:
24.
Характерная местная деталь - решётки с гарцующими оленями:
24а.

Выше по переулку Чекистов - потрясающе лаконичный Никольский костёл (1994), словно бросающий вызов названию переулка. Хотя здесь не могло не быть спецпереселенцев из Прибалтики и депортированных немцев, это в чистом виде миссионерский проект, который начинали в 1991 году польский просветитель Ярослав Базель и двое ксендзов из Словакии. Все они принадлежат к Салезианской семье - благотворительно-педагогическому движению, несколько десятков организаций которого сплотились вокруг монашеского ордена, основанного в 1859 году в Турине доном Иоанном (Джованни) Боско. Делом своей жизни последний видел помощь брошенным детям и подросткам - их материальную поддержку, воспитание в благочестивом духе и выход во взрослую жизнь. Насчёт которой дон Боско не строил иллюзий - немалую часть его миссии занимали чисто юридические дела, в первую очередь борьба с эксплуатацией детского труда на фабриках. Хочется верить, что всеми этими благими делами салезианцы занимаются и в сибирской глубинке:
25.
Спустившись по переулку Чекистов, попадаем на Октябрьскую улицу, где находится, пожалуй, самое пронзительное место города - Тополиная аллея. Деревья на ней не зря растут парами - их сажали парни и девушки в 1941-45 годах, расставаясь перед отправкой на фронт.
26.
По Октябрьской мы вернулись к скверу у Дома культуры, где к тому времени настала тишина. У сквера вполне модный дизайн, включая лавочки с подстаканниками:
27.
А у входа со стороны Октябрьской с 1992 года в память о геологах Южной Якутии лежит карбонат-флогопит-диопсидовая глыба. Второе богатство Алдана помимо золота - это слюда, представленная здесь не мусковитом, а более редким флогопитом, его крупнейшей в мире группой месторождений. Вот только кому интересна слюда? Я так и не нашёл вменяемых данных об объёмах её добычи ни по месторождениям России, ни даже по странам: где-то (причём в англоязычных источниках) Россия названа лидером, дающим 1/4 мировой добычи, а где-то сказано, что все наши рынки утеряны и добыча в стране полностью прекращена.
28.
Так что вернёмся на улицу 10 лет Якутии и пойдём за Орто-Сало. Она оказалась образцовой речкой-вонючкой с заросшими и замусоренными берегами, а Незаметный ручей оправдывает своё название и по сей день. На том берегу начинается гораздо более крутой склон, и улица 10 лет Якутии превращается в лестницу к Парку Победы (1985) и храму Новомучеников Российских (1995-2000):
29.
Если храм в первом городе СССР впечатляет разве что красным цветом, то вот памятник в Алдане - удивителен. Три очень живые, при кажущейся примитивности, фигуры тружениц тыла с лопатой, кайлом и неводом да странная спиральная стела, форма которой не вызывает у меня натурально никаких ассоциаций:
30.
Рядом - небольшой военный музей:
31.
И памятник "афганцам", дополненный новой мемориальной доской, текст на которой можете различить сами. Оговорюсь, что это пока единственный подобный знак, который я видел в России, да и вслух в Якутии, в отличие от Бурятии и Иркутской области, об убитых и изувеченных в соседней стране нам не говорили ни разу.
32.
Выше Парк Победы становится обычным парком:
33.
С опушек которого и на город начинает открываться вид:
34.
Мы забурились в какие-то задворки и промзоны, петляя грязными дворами и тропами в высокой траве среди труб:
35а.

Но забравшись сюда, было бы странно не дойти до вершины:
35.
Там, где дорога выполаживается, встречает пара арок характерных форм: в последние годы из Алдана пытаются сделать горнолыжный курорт. То актуально и в Якутии (тут самый длинный в России сезон - с ноября по май), и для Якутии - в отличие от плоских и маловодных окрестностей Якутска, на Алдане крутые склоны, снежные зимы и такой же крепкий мороз.
36.
В окрестностях города действует пяток горнолыжных комплексов (например, Селигдар), а этот был построен в 2017 году на базе действующей с 1958 года школы олимпийского резерва:
37.
Причём если здание её выглядит "с иголочки", то трибуна явно была возведена ближе к дате основания школы - деревянные лестницы её в таком состоянии, что Наташа в своих босоножках поранила ступню торчащей щепкой.
38.
К спорткомплексу примыкают могол-урасы и Аал-Луук-мас (Мировое древо). Конечно же, это площадка Ысыаха, главного национального праздника народа саха, обустроенная в 2018 году, когда здесь проходил всеякутский Ысыах-Олонхо. Нависая над городом, эти сооружения напоминают жителям и гостям, в каком регионе находишься:
39.
На трибуны мы полезли, конечно же, ради видов на город, напоминающий распахнутую книгу в компактной долине Орто-Сало. Название Алдан может отсылать даже не к реке, а к Алданскому нагорью (до 2306м), лесистые склоны которого так радуют глаз после бескрайней Центральноякутской равнины. В пологих сопках - около километра, а за ними торчат полуторакилометровые гольцы с названиями вроде Батько, Шаман, Заметный, Дефективный... Поверхность древнего Алданского щита, нагорье сказочно богато полезными ископаемыми... но может дело тут лишь в том, что из всей бескрайней Якутии это просто самая изученная часть.
40.
Центр Алдана крупнее - вот внизу виден ДК, вокзал скрывает лес за аэродромом, а где-то перед аэродромом в левой части кадра стоит здание "Железных дорог Якутии", столь невзрачное, что издали его и не приметишь:
41.
Левее трасса "Лена" уходит на Куранах, Томмот и далёкий Якутск, а вдоль неё тянется вахтовый посёлок.
42.
Напоследок полюбовавшимся птицами, рассевшимися по окрестными проводам и столбами...
43а.

...мы стали спускаться, а у моста через Орто-Сало, примерно там, где в 1925 монтировали драгу - поймали такси с разморённым на утреннем зное шофёром да поехали обратно на вокзал.
43.
В следующей части отправимся в ещё один выросший на природных богатствах город со странным названием Нерюнгри.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр и Хараулахский хребет.
Ленская труба - остров Столб.
Остров Тит-Ары.
Амуро-Якутская магистраль
Алдан.
Нерюнгри.
Железная дорога Нижний Бестях - Беркакит.
|
Метки: Сибирь АЯМ дорожное Якутия |
Тит-Ары. Лиственницы и литовцы у порога Арктики |
Тит-Ары - крупный остров на Лене в 50 километрах до устья, и его более чем типичное для Якутии название (Лиственничный остров) странно смотрится на широте Новой Земли (71°59′). Пассажиров круизного лайнера "Михаил Светлов" не случайно привозят сюда лишь на обратном пути, после приморского Тикси, до которого по самым красивым местам самой красовой реки мы чуть-чуть не дошли в прошлой части. До поездки я знал, что на Тит-Арах находятся рыболовецкая база и кладбище финско-литовско-якутских депортантов, которые в борьбе за жизнь с зимней стужей свели самый северный лес на Земле. А при ближайшем рассмотрении Лиственничный остров оказались самой впечатляющей остановкой ленских низовий.
За сегодняшний рассказ стоит поблагодарить "Ленатурфлот", в круиз которого мы попали благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха: у рейсового "Механика Кулибина" на Тит-Ары просто нет полноценной остановки.
"Финишную прямую" Лены к острову Столб, за которым её единое мощное русло распадается на тысячи рукавов второй по величине в мире дельты, открывает колючая скала словно из тёмных земель какого-нибудь фэнтези:
2.
Так и не догадаешься в пасмурный день, что это Белые скалы. На теплоходе, впрочем, мне было сказано, что это Таба-Бастах, или Нижне-Ленские столбы - в прошлой части я показывал под этим именем другую скалу ниже по течению. Тут может даже и не быть противоречия: якутское название переводится как Оленья Голова, и вполне подходит обоим шедеврам природы.
3.
Напротив Белых скал, на фоне далёких сопок кряжа Чекановского, и раскинулся Тит-Ары, вытянутый на 14 километров по течению и на 4,5 километра поперёк. В промысловый сезон это вполне обитаемый остров:
4.
Теплоход за корму швартуется к катеру, который служит тут лодочным причалом и подсобкой, а за нос - к какому-то гусеничному прицепу, который зарывается в песок.
5.
Песка тут много, и это немудрено - дальше по пляжу лежат, пуская в Лену быстрые ручьи, странные груды чего-то:
6.
Вблизи понимаешь, что это не камень, а лёд, пускай и очень грязный:
7.
Прежде я не раз упоминал ледоходы Ленских низовий, сравнивая их мощь то с вулканом, то с селевым потоком. Ведь ширина реки в низовьях - порядка 5 километров (бывает и 8-10), глубина для такого масштаба относительно невелика (10-15 метров), а верховья Лены лежат на 20 градусов южнее низовий с соответствующей разницей температур. Иными словами, объёмы льда в реке огромны, и в мае в полярных широтах его панцирь не столько тает, сколько ломается под натиском уже пришедших в движение льдин. Из-за этих ледоходов от самого Олёкминска на Лене не строят причалов, а в низовьях у скал порой вылезают торосы до 30 метров высотой - вот тут можете посмотреть видео, которое нам показывали и на теплоходе. В конце июля остатки ледового панциря таяли на берегу:
8.
Над торосами - сэргэ, якутская священная коновязь, при виде которой я сразу вспомнил историю этого острова. Ныне самое северное село на Лене - Кюсюр, показанный в позапрошлой части, однако в советское время люди и ниже по течению жили круглый год. Село Тит-Ары существовало в 1942-99 годах, а до 1966 и вовсе значилось посёлком городского типа. Но как возник этот посёлок, да ещё и в разгар войны? Низовья Лены испокон веков были местами неописуемо рыбными, и советская власть решила накормить этой рыбой фронт и тыл. Сколько жизней спас здешний улов - вряд ли кто-то сможет посчитать, вот только и оплачен он тоже был многими жизнями. Поначалу сюда отправляли литовцев и финнов, депортированных с занятых в 1939-40 годах земель, в расчёте видимо на то, что опыт Балтики будет полезен и в Арктике. Но что-то пошло не так, помесячные планы не выполнялись, чиновники и чекисты Якутской АССР хватались за головы, и перед кем-то определённо маячили сорванные погоны, фронт да штрафбат... Дальше кто-то, видимо, вспомнил, что Чурапчинский район в Гражданскую войну показал себя оплотом контрреволюции и национализма, и хотя напрямую это обвинение никогда не озвучивалось, именно близ Чурапчи 41 колхоз был перепрофилирован со скотоводства на рыбный промысел. Колхозники, конечно, узнали об этом последними: 11 августа 1942 года в Якутии началась самая настоящая депортация. Собравшись за 3 дня, сколотив телеги, погрузив в них инвентарь да не более 16 кило личных вещей, 5459 (вместе с семьями) новоявленных балыксытов (прежде ловившие только карасиков в озёрах) двинулись к берегу Лены. По плану они должны были отбыть на пароходах и имели где-то месяц до морозов на обустройство. Но пароходы не пришли, и прождав их три недели, чиновники отправили людей вниз по течению на одноразовых баржах. К холодным берегам чурапчинцы прибыли в октябре-ноябре, по последней чистой воде и первым морозам, и более трети из них не пережили первую зиму. В 1945-47 годах выжившие вернулись к родным аласам, а в Сангаре, Жиганске, Кюсюре на самых видных местах стоят памятники Чурапчинской трагедии. А вот на Тит-Арах, как ни странно, нет: поставленный в 2003 году у берега сэргэ посвящён вовсе не депортантам, а советским первопроходцам - братьям Прокопию Даниловичу и Андрею Андреевичу Готовцевым из Усть-Алданского района, артели которых работали здесь в 1935-55 годах.
9.
Нынешний Тит-Ары - не посёлок, а база, корректно говоря - рыбучасток. В промысловый сезон сюда приезжает артель - 23 человека, из которых 10 рыбаки, а остальные - всякие повара да механики. И, конечно же, начальник всего этого - энергичный, даже удалой Алексей Маркевич, в своей спецовке и безразмерных сапогах утром поднявшийся на борт лайнера. Он родился и вырос в Тикси, но давно живёт в тёплой Феодосии, а бизнес развивал так и вовсе в Москве. В 2014 году, причалив вместе с полуостровом в родную гавань, он вернулся на Север и с тех пор обустраивает Тит-Ары. Первым делом Алексей почти полностью обновил артель, уволив даже колоритного механика старой закалки, который каждый день с утра заводил все без исключения двигатели, поскольку "машина должна работать, машина должна гудеть!". Получилась "оптимизация здорового человека": по своему оснащению рыбучасток Тит-Ары самый современный на Лене, а заказчики с материка, обычно брезгующие ленской рыбой (почему - расскажу позже) продукцию Маркевича берут на ура. Летом тут добывают сибирского осетра и нельму, осенью - ряпушку и омуля, и весь сезон - щуку и налима, всего по квоте 140 тонн. Всё это через дочерние ООО "Тит-Ары" (в Якутии) и "Муксун" (в столице) поставляется в три сотни ресторанов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Якутска, а малыми партиями - и на заказ.
10.
На базе перемешаны осколки былого...
11.
12.
13.
...и приметы современности. С ржавыми катерами соседствуют сверкающие новой краской трактора:
14.
И даже пара вездеходов - гусеничный и колёсный, причём второй подозрительно похож на знакомые мне усинские "Бореи" (для своих - просто "Xpen"). А вот на заднем плане парничок подсобного хозяйства:
15.
Рабочих я не фотографировал, но жизнь на базе кипит, и по тому, сколь часто народ снуёт из домика в домик, я бы предположил, что тут не 23 мужика, а хотя бы полсотни.
15а.

Гордость Маркевича - камеры шок-заморозки, создающие температуру до -35 градусов. Это даже холоднее, чем в рефрижераторах "Магдебург" и "Михаил Мельчиев", забирающих уловы с рыбоучастков (а я видел их в порту Якутска).
16.
И именно редкость шок-морозильников у здешних рыбаков - причина предубеждения столичных рестораторов к ленской рыбе. В основном на Нижней Лене по старинке используют мерзлотники, ну а на Тит-Арах таковой - за музей:
17.
Мерзлотник, как следует из названия - это то ли естественная морозильная камера, то ли искусственная ледяная пещера, вырытая в вечной мерзлоте. Крупнейший в мире мерзлотник я видел изнутри в Новом Порту на Ямале, а в мерзлотниках Якутска теперь обитает Царство Вечной мерзлоты. За шлюзом с тяжёлыми дверьми встречают ледяные стены:
18.
Мерзлотник состоит из двух ярусов - наверху -5 градусов:
19.
А внизу -10. Но и того, и другого мало: если при -35 рыба становится ледышкой за пару часов, то в мерзлотниках на это уходит несколько суток. Рыба успевает банально подпортится, да вдобавок медленное замерзание приводит к образованию кристаллов льда, которые рвут рыбье мясо, делая его рыхлым и липким. В общем, рыба из мерзлотников очень сильно теряет во вкусе, и если в магазине её продать ещё можно, то в понтовом ресторане не подашь.
19а.

Своды подземелья держат столбы и балки из лиственницы, а стены облицованы речным льдом:
20.
Летом, особенно в сезон круизов, когда на всё это осаждается теплая влага, тут растут ледяные кружева - но не столь обильные, как в мерзлотных подземельях Якутска.
20а.

А вот пол превратился в каток отнюдь не из любви к искусству - в начале лета тут случился паводок, какого Маркевич за 8 лет не упомнит, затопивший мерзлотник до крыши. Более того, вода повредила катера и, самое главное, шок-морозильники, для ремонта которых пришлось вызывать спецов аж из Новосибирска.
21.
На специальном ледовом подиуме можно увидеть и экспонаты - тех самых рыбов, которых не продают, а только показывают. Справа - чир из рода сиговых, достигающий 80см в длину и 16 килограмм веса: за пределами Якутии это, кажется, самая известная ленская рыба. На самом деле он водится в северных реках не только Сибири, но и Канады, и на Оби под название щёкур слывёт второй лучшей рыбой после муксуна. Муксун на Лене тоже есть, хотя и не в столь товарных количествах. Противоположный случай - небольшой в своём семействе сибирский осётр, достигающий длины в 2 метра и веса в 200 килограмм. Он встречается от Оби до Колымы, но лишь на Лене достаточно обилен, чтобы ловить его легально - у артели Маркевича в разные годы квота от 1,4 до 3 тонн. Более того, низовья Лены - в принципе последнее место в России, где осетровые промысловый вид (а в мире ещё есть каспийское побережье Ирана). Вся чёрная икра волго-каспийских видов (см. Астрахань), что продаётся в магазинах - с рыборазводных хозяйств, на Дальнем Востоке осетров и калуг ловить боятся даже браконьеры, а готовую к употреблению ленскую чёрную икру я показывал в позапрошлой части. Наконец, третий рыб на подиуме - омуль, ещё один представитель сиговых. В первую очередь, конечно, при упоминании этой рыбы представляют Байкал, но замкнутая популяция Славного моря - как раз исключение из правил. Здесь - арктический омуль, заходящий из полярных морей на нерест в реки Сибири, Аляски и Канады. У этой небольшой рыбы (до 60см длины, до 3кг веса) самая короткая и интенсивная путина - в Лену по осени омуль идёт всего 5-7 дней, но артель Маркевича добывает его до 10 тонн за сутки.
22.
Мерзлотники, впрочем, тоже не самая архаичная форма рыбохранения. В центре базы стоит длинный корпус из корявых досок, оставшихся от одноразовых карбазов и паузков, что до 1950-х сплавлялись по Лене из Качуга. И в том числе - в навигации 1942-43 годов, когда строился этот посёлок:
23.
До появления рефрижераторов от мерзлотников не было особой пользы - разве что держать в них рыбу до зимы, а потом везти санями с такой стоимостью доставки, что актуальна она будет разве только к царскому столу. Массово же рыбу не морозили, а солили в бочках, и хотя вернуть её из засоленного состояния можно было длительным вымачиванием, вкус, конечно, от всего этого менялся ещё сильнее. Длинное старое здание - это засолочный цех, который здесь так же держат в качестве подсобки и музея:
24.
Когда он строился, ленская рыба, напротив, выигрывала у прочих - благодаря вечной мерзлоте и околонулевой температуре вкопанных в землю бочек, засол проходил гораздо качественнее.
24а.

Всего в те бочки закладывалось до 20 тонн рыбы, ну а этими бочками её везли на материк:
25а.

В общем, определённо был бы не лишним какой-нибудь Тит-Аринский музей Истории нижнеленского рыболовства, особенно если на него грант дадут.
25.
Да и пассажиры "Ленатурфлота" - не единственные туристы, которые здесь бывают. На краю базы есть гостевые дома:
26.
Маркевич организует, конечно, мягко говоря не бюджетные рыболовные туры по ленским притокам и вертолётные экскурсии на Оленёк - тоже немаленькую (примерно с Дон) и очень безлюдную (всего 4 села) реку, которая могла бы оспорить у Лены звание красавицы №1.
26а.

У гостевых домов - кажется, последний в этой серии балаган, якутское зимнее жилище:
27.
Пусть и с буржуйкой вместо камелька. Его можно считать чем-то вроде ДК рыбоучастка:
28.
Здесь Маркевич угощает круизных гостей своей продукцией - строганиной из омуля, нельмы и осетра. Нам больше всего понравилась нельма - арктический подвид белорыбицы до 1,5м длиной и до 50кг весом. Она нерестится в полярных реках от Кольского полуострова до Канады, на Печоре известна как сявка, однако в большинстве регионов её ловить запрещено. Особенно богата нельмой именно Якутия, и если уж попал на Лену - в первую очередь стоит попробовать именно вот эту тройку: омуля, нельму и осетра.
28а.

Протиснувшись сквозь толпу пассажиров, мы схватили по три разноцветных ломтика строганины как бы не первыми, и уплетая их на ходу, поспешили за посёлок:
29.
Мимо ещё одной россыпи катеров, которые когда-то вытащили на зимовку и забросили. Суда словно заснули и не проснулись:
30.
Вдали - пологая гряда по середине Тит-Ары и сопки левого берега:
31.
А впереди - тонкие высокие кресты не в меру литовского вида:
32.
Впрочем, посёлок Тит-Ары существовал полвека, а значит, рискну предположить, здесь лежат не только спецпереселенцы:
33.
Поверх вечной мерзлоты усопших зарывали в песок, который теперь понемногу развеивается ветром:
34.
Само собой, не все спецпереселенцы погибли, и в том же Кюсюре литовцы были народом №3 после эвенков и якутов вплоть до конца СССР. Большинство прихожан костёла в Якутске родом из Булунского улуса, и не здесь ли отбывал ссылку "литовец, ставший легендой Сибири", который показывал нам шрамы медвежьих когтей в Радиокостёле Каунаса? Самый, пожалуй, известный из якутских литовцев - кардиохирург Витянис Андрюкайтис, министр здравоохранения Литвы и еврокомиссар того же профиля в доковидную эпоху. В истории своего народа он отметился тем, что в 1990 году подписал Акт о воссоздании Литовского государства. Не знаю, по его ли инициативе литовские экспедиции памяти зачастили на Лену уже в Перестройку, а в 1989 году над кладбищем поднялся обелиск, слегка похожий на памятник Сибелиусу - один из символов Хельсинки. С четырёх сторон - таблички на литовском, финском, якутском и русском языках. Последняя гласит "Насилием отторгнутые от земли родной. Павшие, но не забытые. В память погибших литовцев и финнов".
35.
Рядом - явно литовские могилы:
36.
Этот стиль не перепутаешь ни с чем, и среди тундр и голых скал он удивительно органичен. Вспомнить хоть Литовское кладбище под Воркутой...
36а.

Поодаль - пара обелисков с красными звёздами, и по отдельным словам на их проржавевших табличках можно понять, что здесь покоятся простые жители посёлка Тит-Ары, может быть приехавшие за длинным рублём где-нибудь в 1960-х.
37.
Замыкает кладбище одинокий чардаат - якутский деревянный мавзолей:
38.
Как много в Арктике постапокалиптических сюжетов!
39.
Пройдя кладбище насквозь, оглянемся в сторону посёлка:
40.
Оленья голова за литовскими крижюсами:
41.
Кисилияхи (столбы) Белых скал потрясающе эффектно нависают над посёлком:
42.
Где-то за тем утёсом - остров Столб, Америка-Хая, бескрайняя дельта с розовыми чайками, не достигнутый Тикси и атомные ледоколы Северного Морского пути:
43.
Ну а кладбищу противолежит тот давший название острову лиственничный лес, со страшных зим 1940-х годов успевший вырасти заново - быть может, не без помощи людей:
44.
Деревца его совсем не факт, что молодые - выше в условиях Арктики они и не растут. Мечта посидеть под самым северным деревом планеты вряд ли осуществима - разве что постоять рядом с ним:
45.
Вот только самым северным лес Тит-Ары считается лишь в Якутии. Близ Хатанги, в Затундре, представлявшей собой самый настоящий оазис среди Арктики, есть ещё Лукунский лес и роща Ары-Мас ("Лесной остров") примерно на пол-градуса севернее (72°29-31'). "Михаил Светлов", у острова Столб поворачивающий на юго-восток Быковской протокой, не доходит до их широты километров 20.
46.
Мне хотелось дойти в Тит-Аринский лес, но в тундре прямой путь не всегда самый быстрый - за базой и кладбищенской тропой начинается болото. Я долго петлял в кочках и тропках, а в итоге упёрся в длинное озеро, сменяющееся глубоким распадком. И понял, что я не успею выйти на опушку, не задержав весь теплоход.
47.
Так что понадеявшись когда-нибудь побывать ещё и в Затундре, будем просто любоваться Леной:
48.
Выше по течению - бескрайние отмели, за которыми лежит такой же плоский и куда более обширный (20 на 10 километров) Тас-Ары - Каменный остров. Слева видна сопка над оконечностью хребта Туора-Сис и далёкие вершины Хараулаха (оба хребта - часть Верхоянских гор), справа - кряж Чекановского, а между ними - Ленская труба, в которую мы сюда и вылетели:
49.
Пока я искал путь к лесу, Наташа тоже занималась флорой:
50.

Как я понял, искорки под ногами - это полярные маки разных цветов:
51.

Набрав букетик, мы поспешили к теплоходу: на Тит-Ары, вместе с экскурсией, отводится всего-то 3,5 часа, а по мне так тут целый день провести не скучно. И самое холодное лето на памяти Алексея Маркевича со всеми пронизывающими ветрами и низкими тучами лишь добавляет суровой и жестокой красоты:
52.
Бросив последний взгляд в сторону Края Света...
53.
...поспешим на теплоход, за которым солнце сделало Белые скалы соответствующими своему названию. Пять дней обратного пути я частично показывал прошлых частях, зелёные стоянки - в рассказе про Сорок островов, а культурные программы на борту, особенно активные именно по пути к Якутску - в обзорах теплохода и поездки. Но Тикси не достигнут, и значит, может быть, я вновь увижу эти берега с борта старичка "Кулибина". Из прочитанных ещё в школе географических энциклопедий я представлял Лену первой красавицей среди рек, и Лена меня не разочаровала. Не побоюсь сказать даже, что Лена, я тебя люблю!
54.
Ну а рассказ о Республике Саха в лето 2022 года ещё не закончен: если добирались в Якутск мы по реке, то возвращались - по железной дороге. Самой молодой в России железной дороге с пассажирским движением, вдоль которой отправимся в следующих 3 частях.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр и Хараулахский хребет.
Ленская труба - остров Столб.
Остров Тит-Ары.
Амуро-Якутская магистраль
Алдан.
Нерюнгри.
Железная дорога Нижний Бестях - Беркакит.
|
Метки: Зона заражения Сибирь природа дорожное Якутия Другая сторона Балтийские ветры по Лене литовцы вездеходы рыбацкое |
Река по имени Лена. Часть 14: Ленская труба и начало Дельты |
Я не раз называл Лену красивейшей рекой планеты, но из 4400 километров её течения как бы не половину всех красот вмещают последние двести: от показанного в прошлой части села Кюсюр через грозную Ленскую трубу к острову Столб, за который словно крепится вторая по величине в мире дельта. Якутск находится на широте Петрозаводска, Кюсюр и Тикси - на широте Хаммерфеста, ну а эти места - на широте ничего: в привычном западному жителю мире так далеко на севере есть лишь холодный океан. Здесь - столбы и пески, ущелья и пропасти, байджарахи и отуряхи, тундра и тайга... а ещё - туманы и бури, подарившие нам страшную красоту в Ленской трубе, но не пустившие наш белоснежный "Михаил Светлов" в Тикси.
От самого устья Алдана параллельно нашему курсу тянется Верхоянский хребет, в сотне километров от правого берега разделяющий Лену и Яну. Ещё - Евразию и Северную Америку, а точнее Евразийскую и Северо-Американскую тектонические плиты, на стыке которых он и возник. И "хребет" - слово относительное, точнее было бы сказать Верхоянские горы: длиной (1200км) эта система превосходит Кавказ, а высотой (2283м, гора Орулган в середине) сравнима с горами Норвегии. Далёкие синие горы можно увидеть с обрывов правого берега, и лишь дважды они подходят к воде - лесистым Усть-Вилюйским хребтом у Сорока островов и мрачными голыми куполами Хараулахского хребта (1429м) за Кюсюром.
2.
Фантастически красивыми закатными видами этих гор я завершал прошлую часть, но вечер перестаёт быть томным, когда с левого берега подходит невысокий скалистый кряж Чекановского. Теперь недолго вылететь в трубу:
3.
Я слышал прежде о Иерихонской трубе. Видел своими глазами Экибастузскую трубу. А впереди у нас Ленская труба - как Ленские щёки в верховьях и Ленские столбы в среднем течении, это самое зрелищное место низовий великой реки.
4.
На кадре выше обратите внимание на "ватерлинию" - кромка берега тут несовместима с высокоорганизованной жизнью, так как по весне на неё обрушивается, как селевой поток, ледоходы, а следом подобно цунами бьёт паводок. Если просто открыть список крупнейших рек Земли по расходу воды, в нём Лена со своими 16,5 тыс. м³/с едва замыкает десятку. Но статистику портит сезонность: хотя подлёдное течение Лены вдвое мощнее Днепра, всё же среднегодовой расход воды здесь - показатель не более актуальный, чем средняя температура по больнице. Если же сравнивать реки мира по самым многоводным месяцам, то явно больше Лены с её летними 40-60 тыс. м³/с только Амазонка, а сравнимы - зимняя Конго и летний Енисей. Вот только река с женскими именем ещё и не отличается постоянством характера: её режим подчинён своим циклам, и например в 1980-х Лена превосходила Енисей и в среднем за год (24 тыс. м³/с), и в июне (более 104 тыс. м³/с). Что это значит на практике? Ниже устья Алдана ширины Лены держится на уровне 3-5 километров, на отдельных плёсах она без всяких водохранилищ разливается до 8-10 километров, а с островами да протоками между крайних берегов бывает и более 30 километров. Глубины Лены тоже порядочны - 10-20 метров. И вот вся эта колоссальная масса воды втискивается в относительно (1,6км) узкую щель межд Хараулахским хребтом и кряжем Чекановского, а если навстречу дует ветер Арктики, Чекуровские щёки (другое название этого ущелья) становятся ещё и аэродинамической трубой. В общем, волнение под нашей гигантской плоскодонкой нарастало, а впереди определённо намечалась ПОЛНАЯ ТРУБА!
5.
Вот так это выглядит вблизи:
6.
А так - в динамике:
На Солнечной палубе ветер натурально сбивал с ног и угрожающе подтаскивал к борту тяжёлые кресла. Я не помню особого шума, но сказать друг другу что-то удавалось только криком в ухо - иначе слова улетали за корму. Над волнами носилась мелкая водяная пыль, порой образуя позёмку и даже какое-то подобие "пыльных дьяволов", то и дело, с косыми саблями радуг, кидавшихся наперерез теплоходу.
7.
Но мы терпели - ведь разве можно любоваться такой феерией через стекло?!
8.
С правого берега Верхоянские горы, уже не Хараулах, а следующий хребет Туора-Сис, стоят 400-метровой стеной, которую венчают зубцы и турели:
9.
Где-то и разрушенные замки:
10.
Или хотя бы просто башни горных князей:
11.
Над всем этим вонзается в низкую тучу голец Куорат-Хаята (586м):
12.
Впрочем, ещё до него хорошенько вглядитесь в скалистые цирки:
13.
На одном из них, с той стороны, что обращена вниз по течению, с 1963 года лежит своеобразная достопримечательность Чекуровских щёк - Упавший Самолёт. Слышал, что Ан-2 летел над ущельем в тумане, и когда пилоты поняли, что впереди склон горы и облететь его не удастся, они как бы плашмя влепили кукурузника в осыпь. Люди остались живы, и через пару дней их сняли со скалы спасатели, а груда обломков так и лежит вот уже как полвека с лишним, и с первого взгляда да издали в ней нелегко опознать самолёт:
14.
Бурный участок совсем короткий, но нам казалось, что теплоход пересекал его вечность. Кажется, это тот самый миг между прошлым и будущим, по силе впечатлений достойный целого дня пути где-то на других участках Лены. Ветер пробрал нас до костей, Наташу чуть не зашибло сорванным с капитанского мостика тюком, а мачты с флагами гнулись, как тонкие деревца. Однако в какой-то момент я заметил, что с волн пропала позёмка, а дальше вода стала понемногу разглаживаться:
15.
Ну а расслабиться и понять, что самолёт вы проглядели (я заснял его лишь на обратном пути, когда директор круиза Лариса Сергеевна мне пальцем его показала) можно, когда на левом берегу поравняетесь с Чекуровкой. То ли де-факто, то ли де-юре это ещё более последнее село на Лене, чем Кюсюр. И да, тут именно что взаимоисключающие параграфы: Чекуровка официально населённый пункт, опять же официально в ней прописан 0 жителей, но неофициально люди тут вполне себе живут по крайней мере летом, а может быть и круглый год. Со своей россыпью мелких домиков и лодочных гаражей она больше похожа на дачи, куда жители Кюсюра и Тикси ездят с удочками и сетями копать текущий мимо огород:
16.
И не по себе становится от мысли, что все этих красот мы сейчас могли бы не видеть. Лена - последняя среди крупнейших России, не тронутая советским гидростроем, перекрывшим даже такие эталоны глуши и удалённости, как Колыма и Вилюй. За то, что этого не случилось, надо благодарить, наверное, каких-нибудь якутских айыы (божеств) - в 1972 году был впервые представлен проект крупнейшего в мире Ленского каскада ГЭС. Первым его звеном, сделав энергообильную Иркутскую область ещё обильнее, должен был стать старинный Киренск, который бы превратился в городок энергетиков с парой плотин - Киренской ГЭС (570 МВт) на Лене и Шороховской ГЭС (750 МВт) на Киренге. Альтернативой им могли бы стать Верхне-Ленская ГЭС близ Усть-Кута и Коршуновская ГЭС в Ленских щёках. В среднем течение вариативно рассматривались проекты (каждая примерно с Братскую, Усть-Илимскую или Богучанскую плотины) Мухтуйской ГЭС около Лёнска, Жедайской ГЭС в районе села Чапаево, Олёкминской ГЭС (которая бы превратила ещё один старинный городок в посёлок энергетиков) и даже Якутской ГЭС на Табагинском мысе - она решила бы проблему Ленского моста, а Ленские стобы торчали бы из волн её водохранилища. Всё это, впрочем, было лишь приложение к главной в каскаде Нижне-Ленской ГЭС, которая и должна была перекрыть Трубу, похоронив Чекуровку под краешком своей колоссальной (2300м длиной, 118м высотой) бетонной плотины. По своей мощи (20 ГВт) она была бы на тот момент с большим отрывом крупнейшей электростанцией мира, а воплотить подобное в реале пока сумели лишь в 2003-13 годах китайцы со своей ГЭС "Санься" (22,5 ГВт). Они перекрыли Янцзы, третью по величине реку мира, по среднегодовому расходу воды почти вдвое превосходящую Лену. Да и название Санься не зря переводится как Три Ущелья: хотя ГЭС затопила немало красот и уничтожила целый вид крупнейших в мире пресноводных рыб псефуров (китайских веслоносов), само по себе её водохранилище лишь где-то в 3-й десятке. Совсем иное дело - Нижне-Ленское море, которому это слово вполне подходит! Искусственное озеро разлилось бы на 60 тыс. км², что вдвое больше Байкала, в полтора раза больше Азовского моря и в 6 раз больше крупнейшего в мире водохранилища Вольта в Африке. Ещё поразительнее кажется объём - 1900 км³, что в 11 раз больше полноводнейшего в мире водохранилища Кариба в той же Африке, в 6 (!) раз больше Азовского моря и на 1/5 - чем Иссык-Куль. Подпёртая вода дошла бы до Вилюйска, Хандыги и Яутска, превратив последний по образцу бразильского Манауса в морской порт....
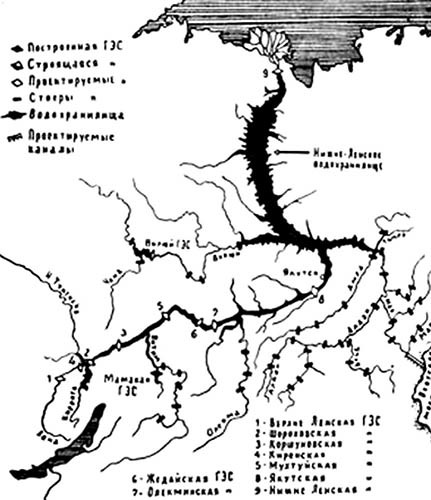
...но вот на этом месте проектирование и споткнулось. Красот гидростроевцы не щадили, невыполнимых задач не видели, а вот с целесообразностью начались проблемы. Если на 5-километровом просторе Лены гуляет белые барашки, на 70-километровом вздымались бы короткие волны высотой до 4 метров. Но самое худшее - ГЭС бы собирала на себя весь ледоход, за ней рос бы самый настоящий ледовый панцирь десятки метров толщиной и десятки километров длиной, который бы ещё сильнее выхолаживал север и сокращал навигацию как минимум на 25 дней. Более того, всё это время относительно тёплая талая вода не поступала бы в море Лаптевых, а значит и на нём затянулась бы Великая Сибирская полынья, и льды стояли бы до конца лета, а там как бы новый ледниковый период не запустить... В итоге проект ушёл куда-то в область мифологии, а вот таким естественное русло осталось бы чуть ниже ГЭС:
17.
Мрачные виды со свинцовыми тучами и относительно тихой водой я снял уже на обратном пути:
18.
Вдоль правого берега тянется Туора-Сис, чей отвесный фасад над рекой сменился сопками поодаль:
19.
А демиург Юрюнг-тойон вновь отложил кисть и стал творить мир штампом:
20.
Не, ну правда - зачем столько пространства, которое почти не видят людские глаза, делать разным?
21.
И пожалуй, именно цепочки повторяющих скал над бескрайней водой для меня теперь первая ассоциация Лены:
22.
Чекуровка стоит где-то на широте мыса Нордкап, а значит все последующие широты нашего пути можно сравнить в Европейской лишь с полярными островами. Кроме Вайгача - тот уже весь, включая так и не достигнутый мной в своё время север, остался южнее.
23.
Ленская труба принесла нас в самую настоящую, бескомпромиссную Арктику, где склоны гор похожи на рудничные отвалы:
24.
Мрачная, суровая, но невообразимая красота:
25.
26.
26а.

Вот целый склон без единого живого пятнышка:
27.
Однако проблема тут даже не в климате, а в уклонах - на сыпучих откосах просто не образуется почва. Ровные места вполне зелены и привлекательны:
28.
В обзоре Якутии я писал про аласы, тукуланы, булгунняхи и кисиляхи, а вот ещё одна якутская форма рельефа - отуряхи. Иначе "травяные реки" - полоски сочной растительности на принесённой талыми водами почве:
29.
Ну а кисиляхи - это лишь во вторую очередь Столбы, а в первую - такие вот скалы в преддверии Арктики:
30.
Описывая здешние пейзажи, я не раз вспоминал слово "мрачный". Наверное, подсознательно оно означает "непригодный для жизни человека"... и всё-таки жизнь здесь есть. У берегов тут и там попадаются одинокие домики, а под ними - лодки и народ. И что же манит людей в эти гиблые пади? Конечно, одно - рыба!
31.
В низовьях Лены основное место промысла - так называемые пески, ровные отмели левого берега, полого уходящие под воду. Ключевое слово - ровные: без ям, в которых может скапливаться топляк, без валунов, вообще без всего, препятствующего ходу невода. Рыболовными песками люди низовий пользовались испокон веков, и большинство из них имеют даже свои названия. Так, с Чекуровки вниз по течению ходили на левобережные пески Елена, Тюшиха, Чира, Надзиратель, Ляпунов, Василий и Нюнка-Серай - и вряд ли кто вспомнит теперь, чьи судьбы легли в основу этих названий. У песков и сидят рыбаки в ожидании хода нельмы:
32.
И таки да, в распадках на кадре выше - снег, к концу июля не успевший растаять на обращённом на север склоне. Первые снежники появляются сразу после Ленской трубы, а за 71-й параллелью становятся привычной деталью пейзажа:
33.
И надо сказать, на тех же широтах в Европейской части или Западной Сибири немало мест, где деревьев не то что нет, а сама мысль о них невозможна. Здесь же лишь на широте Карских ворот тундра вступает в права:
34.
Кряж Чекановского уходит за горизонт - дальше за левым бортом лишь бескрайние просторы:
35.
...Вернее, те кадры я снимал с правого борта - как уже говорилось, на обратном пути. А вниз по течению, вымотанные ветром как борьбой, мы свалились спать в каюте. Глубокой ночью я проснулся от того, что теплоход стоит, и выйдя на палубу, увидел трап, сброшенный к моторной лодке. На заднем плане - обитаемый (в промысловое время) остров Тит-Ары, с которого мы забирали (в особых случаях так делают и круизные суда) пассажира. Людей внизу мы ещё увидим в следующей части:
36.
Напротив Тит-Аров - совсем уж сюрреалистические скалы, вновь наводящие на мысль о том, что у демиурга был фотошоп:
37.
Впереди манило полуночное Солнце:
38.
До острова Столб и конца единого русла - менее 50 километров. Идём вдоль хмурых берегов Усть-Ленского заповедника:
39.
Где скрываются скалы Таба-Бастах (Оленья голова), которые называют ещё Нижне-Ленскими столбами:
40.
Их, впрочем, я заснял лишь на обратном пути, поэтому не уверен, расположены они до или после того, что на следующих кадрах. В путеводителях сказано, что от Таба-Бастаха до острова Столб 13 километров:
41.
Мы же двигались к полуночному солнцу, и я шептал Наташе "готовься увидеть Край Света". Мы считали, сколько видели морей и предвкушали прибытие в Тикси. Вместе с тем - сожалели о том, что будем там лишь несколько часов: а как же Новосибирские острова, дельта Лены, гидростоп на сухогрузах вдоль полярных берегов?! И в это время путь нам преградил туман, словно переливавшийся ещё одной рекой через сопки. Судно вошло в его полосу, и мы оказались в серой мгле, сквозь которую едва просматривался берег. Ещё через часок такого хода "Михаил Светлов" остановился, и в панорамном салоне задрожали пол и стёкла от грохота якорной цепи. К пассажирам-полуночникам спустилась растерянная Лариса Сергеевна с известием, что прогноз погоды не утешителен и прибытие в Тикси под вопросом. Я вспомнил, как ещё на траверзе Якутска нас предупреждали, что до Тикси "Михаил Светлов" не доходит стабильно раз в 8 лет.
42.
Между тем, на Maps.me расстояние до острова Столб нарастало: глубина здесь превышает 30 метров, якорь просто не достал до дна, а встречный ветер понемногу сталкивал громоздкий теплоход против течения. Мы ушли в каюту, и сквозь сон я снова слышал урчание двигателя. Утром за окном был всё тот же туман, но по тишине в машинном отделении и форме волн за бортом я понимал, что мы опять стоим. А потом вдруг увидел в тумане силуэт острова Столб:
43.
Внешне это скорее пирамида, но казаки, впервые увидевшие его без малого 400 лет назад, таких слов не знали. Василий Прончищев, впервые нанёсший на карту эти места в 1734-м, пирамиду от столба отличить всё же мог бы. С воды Столб кажется гигантским, словно Пирамида Болла, но на самом деле это аналог скорее египетских пирамид - 114 метров над Леной и 541 метр в ширину по основанию. Туман лишил нас главной эффекта острова Столб - возникая в ясную погоду далеко впереди по курсу, он несколько часов словно парит над водой, пока его основание не покажется из-за горизонта. Но ближе к полудню туман отступил, и мы отчётливо увидели обрывистый "фасад" острова, о который разбивается Лена:
44.
Разбивается почти что в прямом смысле слова - хотя первые протоки ответвляются на запад ещё у Тит-Аров, здесь великая река заканчивается как единое русло. Дальше лежит колоссальная (вот идеальное слово для описания чего-либо в низовьях!) Дельта Лены - раскинувшись на 46 тыс. км² (примерно с Московскую область!), то есть на 300км вдоль берега и 150 вглубь моря Лаптевых, она с большим отрывом крупнейшая в России (в 2,5 раза больше дельты Волги) и 2-3-я в мире: явно обширнее дельта лишь у Ганга (вмещающая целый Бангладеш), да может ещё у Амазонки и Миссисипи, где дельты просто не имеют явных границ. Сколько островов в Ленской дельте - вряд ли можно посчитать, но явно - тысячи и тысячи, и по островам тем бродят овцебыки, завезённые в 1996 году из Канады да гнездятся бесчисленные птицы. Среди которых - редкая, почти мифическая розовая чайка, зимой улетающая на плавучие льды. Она вполне реальная, вот только не очень-то розовая, и я вижу в ней такой полярный подвид Синей птицы.
45.
И очень жаль, что у "Михаила Светлова" не предусмотрена остановка на острове Столб - у подножья есть кромка пляжа, вот только пришвартовать тысячетонную махину не к чему, а если нагрянет шторм - есть немалый риск быть выброшенным на мель. Да и наверх не каждый влезет. Там, наверху - геодезический знак, памятный камень Фёдора Матисена (друг Колчака, в 1919-1920 годах проводивший гидрографические изыскания на тихом севере воюющей Белой России) и, конечно же, гурии, как называют в Арктике пирамидки из плоских камней. Суеверные якуты говорят об этом острове разное - может тут могила могущественного шамана, может - его дочери, а может просто обитель духа то ли Лены-реки, то ли студёного моря. Как бы то ни было, в якутских поверьях у Столба надо что-то оставить - если нет возможности положить наверху, то хоть выбросить за борт. Мы, увы, не знали о таком обычае... и в итоге по прибытии в Якутск Наташа забыла в каюте на самом видном месте отличную заколку для волос, купленную когда-то в Финляндии. Ну а я бы влез на Столб потому, что лишь оттуда можно оценить во всей красе пространство Дельты:
45а.

С уровня воды Дельта выглядит так, и на западе за её плоскими островами виднеется обрывистый бугор - мне хочется верить, что это остров Америка-Хая. Америка в данном случае - не якутское слово (прежде остров назывался Кюегель-Хая), а конкретные США: по-русски название значило бы Американская горка, даром что покоился на ней целый Джордж Вашингтон. Само собой, Джордж Вашингтон Де-Лонг - сын франко-американских гугенотов из Нью-Йорка, с детства мечтавший о море, но попавший туда лишь после Гражданской войны, прервавшей данную ему в семье карьеру адвоката. К тому времени американский фронтир докатился до Тихого океана, но сам дух бесконечной экспансии, покорения новых суровых земель, по-прежнему витал над горами и прериями. О мировой гегемонии тогда ещё вряд ли кто-нибудь думал, есть же в конце концов Англия Владычица Морей, но янки было хлебом не корми, а дай покорить что-нибудь неизведанное. В американском обществе жил огромный интерес к Северному полюсу, подогреваемый медиамагнатом Джеймсом Гордоном Беннетом. Он-то и приметил молодого капитана судна "Джуниата", который в поисках пропавшей экспедиции Чарльза Холла избороздил вдоль и поперёк море Баффина и достиг гренландского мыса Йорк на его дальнем краю. Дальше оставалось лишь найти для красивой истории повод, и повод этот дал в 1878 году швед Адольф Эрик Норденшельд, вознамерившийся первым из людей пройти весь Северный Морской путь за одну навигацию. Управился за две: у берегов Чукотки его барк "Вега" вмёрз в лёд, и хотя этот викинг нашего времени был к такому готов, почта на севере работала достаточно медленно, чтобы его экспедицию объявили пропавшей. А у Беннета с Де-Лонгом было всё готово: 8 июля 1879 года переделанный из канонерской лодки "Пандора" барк "Жанетта" с 24 тоннами пеммикана, 4 тоннами солёного мяса, 12 бочками смеси кумыса и лайма, таким же количеством пива "Будвайзер", опреснителем морской воды, двумя гарпунными пушками, 10 винтовками и 20 тысячами патронов, 100 тоннами угля и 32 людьми на борту отбыл из Сан-Франциско.
46.
Сенсации не случилось: Де-Лонг разминулся с оттаявшим Норденшельдом, идя на север вдоль Аляски, когда тот шёл вдоль Курил на юг. Новой целью экспедиции стали остров Врангеля и по возможности выход на северный полюс... но на Аляске Де-Лонга подвели с углём и собаками: и то, и другое оказалось бросовым. 4 сентября близ острова Геральд в Чукотском море "Жанетту" подхватили плавучие льды, в плену которых судно дрейфовало 21 месяц. В основном - 500-километровыми кругами, и даже в этом дрейфе команда открыла дальнюю часть Новосибирских островов, ныне известную как архипелаг Де-Лонга. Где-то около них 12 июня 1881 года "Жаннета" была окончательно раздавлена льдами и пошла ко дну. Не в пример такой похожей своим союзом медиамагната и романтика экспедиции Георгия Седова (см. Новоазовск) грамотный подбор припасов позволил американцам выдержать дрейф, однако без судна их положение стало критическим. Тем более когда собаки в упряжке показали себя так, что их осталось только пристрелить на шкуры и мясо. 17 июня Де-Лонг начал пеший ледовый поход, и 9 дней спустя таки достиг твёрдой суши - теперь это остров Беннета. Передохнув 10 дней, американцы пересели в 3 лодки и продолжили путь к материку, но 12 сентября почти у берега их разметало бурей. Море Лаптевых забрало 8 человек во главе с первым помощником Чарльзом Чиппом. С ещё одной лодкой, которой командовал старший механик Джордж Мелвилл, Де-Лонг потерял связь. Он высадился в середине сентября на Кубе - так называется один из самых северных островов Ленской дельты. То ли потеряв в шторме, то ли исчерпав запасы провианта, американцы продолжили прорываться на юг, но с октября один за другим умирали от голода и усталости. Двое матросов ушли вперёд за подмогой, и 9 октября добрались в Булун - тогдашнюю столицу низовий, ныне опустевшее старинное село напротив Кюсюра. 2 ноября туда же вышел в полном составе отряд Мелвилла, а в декабре американцев уже встречали в Якутске. 10 человек отбыли на родину, но трое во главе с Мелвиллом видели целью узнать судьбу капитана. Поиски продолжались всю зиму: часть погибших и некоторые записи, спрятанные под гурием, Мелвилл нашёл ещё в ноябре до отъезда в Якутск, а останки Де-Лонга и 5 моряков удалось обнаружить лишь 23 марта 1882 года на острове Барон-Белькёё в 17 километрах от Столба по Трофимовской протоке. Похоронив товарищей на приметном бугре, Мелвилл отбыл на родину, откуда в 1884 приехала экспедиция забирать останки. Стелу на Американском утёсе, в постсоветское время дополненную металлическим крестом, поставили в 1976 году "комсомольцы и молодёжь посёлка Тикси". Левее Америка-Хая виднеется нечто, похожее на вахтовый посёлок "Газпрома" - но на самом деле это российско-германская биостанция на Самойловском острове. Она одна из самых современных в Арктике, и дело тут даже в немцах: в нынешнем виде работавшую с 1998 года станцию построили в 2010-13 годах после того, как Усть-Ленский заповедник почтил визитом Сам.
47.
За островом Столб расходятся три
48.
Из-за сопки Крест-Хая (кадр выше) напротив острова Столб показалась ещё одна полярная станция:
49.
Основанная в 1951 году для наблюдений за погодой и водой, она имеет множество имён - "Столб", "Хабарово", "Сокол". Последнее - по сопке с кадра выше, ну а когда в 1985 году был учреждён Усть-Ленский заповедник, это название распространилось на его самый южный участок, другой стороной выходящий на скалы у Тит-Ары.
50.
С крыльца нас разглядывал в бинокль полярник, и в глазах его отчётливо читалось "куда попёрлись в такую погоду на своей плоскодонке?"
51.
Но в Тикси нас вела не только программа "Ленатурфлота" (в круиз которого мы попали сюда благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха), но и два пассажира, подобранных по делам рабочим да груз подарков для тиксинской школы.
52.
Слева от нас стоял непроглядный туман, справа тянулся Край Земли. Вот так он здесь выглядит - то тёмные скалы и мощные серые снежники:
53.
То луга в густых белых цветах:
54.
Как вскоре стало ясно, "Светлова" вёл маленький юркий путейский катер, показавшийся то перед носом, то за кормой:
55.
Пейзаж Быковской протоки достаточно однообразен, и устав мёрзнуть, я ушёл в каюту досыпать. В какой-то момент двигатель ненадолго смолк, а когда завёлся - я понял, что "Михаил Светлов" поворачивает. Вскоре пришла Наташа, и после её слов "Плохие новости!" я уже понимал, что она сообщит. Капитан получил новый прогноз и понял, что до Тикси мы может ещё и дойдём, а вот обратно не выберемся в приемлемые для пассажиров с их авиабилетами и отпусками сроки. До "нулевого километра" Лены, речного причала Неелово (отделённого Быковским полуостровом от открытой в море Лаптевых бухты Тикси) мы не дошли порядка 70 километров.
56.
Вы можете прочесть о Тикси, например, вот здесь. И как ни странно, жалеть об этой неудаче, случающейся у "Ленатурфлот" с вероятностью 2% (8 лет - это 40 круизов) я начал лишь потом, а тогда даже вздохнул облегчённо. Ну правда - где Тикси, а где круиз? Вот спуститься от Колымского тракта на барже в Чокурдах или Черский, там две недели ждать сухогруз с пересадкой в Нижнеянске и высадиться в Тикси просоленым, промёрзшим и своим - совсем другое дело! Своих-то, конечно же, северные люди приютят, а дальше можно ходить день за днём в контору Усть-Ленского заповедника, подружиться в ней со всеми и все книги прочесть, чтобы наконец попасть с оказией на какую-нибудь далёкую биостанцию. Ещё лучше - изыскать способ добраться на Новосибирские острова, а там, глядишь, быть может, и земля Санникова покажется из тумана...
57.
Пока же вернёмся немного назад - на остров Тит-Ары, который "Ленатурфлот" не зря ставит последним пунктом культурной программы!
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр и Хараулахский хребет.
Ленская труба - остров Столб.
Остров Тит-Ары.
Амуро-Якутская магистраль.
Нижний Бестях - Томмот.
Алдан - Могот.
Нерюнгри.
|
Метки: по Лене Крайний Север Сибирь природа дорожное Якутия рыбацкое |
Река по имени Лена. Часть 13: Кюсюр и Хараулахский хребет |
Не побывав в низовьях Лены, сложно представить, как она огромна и пуста. Ветреное русло в причудливых высоких берегах редко сужается меньше 3 километров, а на 1300 километров от впадения Алдана населённые пункты можно сосчитать по пальцам одной руки: Батамай у слияния рек, Сангар с брошенной шахтой, эвенкийский улусный Жиганск, неприметные Кыстатыам и Сиктях из прошлой части на широтах, соответственно, Онеги, Кандалакши и Мурманска. А на широте Хаммерфеста, у подножья Верхоянского хребта напротив остатков старинного Булуна, из которого искали Землю Санникова, стоит Кюсюр (1,3 тыс. жителей) - последнее обитаемое село на Лене. Для рейсового "Механика Кулибина" это важнейшая остановка, откуда он в конце лета забирает всю молодёжь, ну а круизный "Михаил Светлов" привозит публику в Кюсюр просто по факту того, что Кюсюр существует.
Весьма эффектным приближением к Кюсюру я заканчивал прошлую часть: вот за очередным мысом в "штампованных" скалах Лена поворачивает, и над её тёмной водой в сверкающих барашках поднимаются синие горы с куполами голых вершин. Где-то впереди среди волн глаз различает красную точку, постепенно становящуюся сначала красно-белым пятном, а затем - танкером "Тикси" проекта "Ленанефть", построенным в 1980 году в далёкой Болгарии (кадр выше). Из правого берега проступают дома и лодки:
2.
Да ржавый катер на высоком берегу лежит спонтанным памятником. Кюсюр в переводе с якутского - "место осенней рыбалки":
3.
"Михаил Светлов" представляет собой гигантскую плоскодонку, и потому подходит к берегу так близко, что, кажется, вода на этом месте не скроет человека с головой. На берегу уже ждёт швартовая команда:
4.
Дело в том, что ниже Сангара на Лене нет ни одного причала, и причиной того мы ещё полюбуемся в Тит-Арах - здешние ледоходы грандиозны, как и сама река, и в мае на эти пляжи обрушивается, без преувеличения, вулканическая мощь. В Жиганске роль причала выполняет баржа в сотне метрах от берега, к которой ходит паром, а в Кыстатыаме и Сиктяхе (см. прошлую часть) пассажиров "Кулибина" забирают моторные лодки. В Кюсюре всё сложнее: барже тут просто негде зимовать, а лодками не отделаться - посадка и высадка, погрузка и разгрузка теплохода обычно растягиваются на 2-3 часа. Поэтому здесь швартуются так:
5.
Канаты цепляют к двум грузовикам типа "Уралов" на злой резине, и те газуют, словно пытаясь вытащить на берег тысячетонный теплоход. Судно подруливает, чтобы не дай бог на самом деле не сесть на мель, а машины глубоко зарываются колёсами в рыхлый песок. Затем матросы наводят сложный 2-ярусный трап, за сгибом которого один из них так и стоит по колено в воде в сапогах-болотниках до пояса. Респектабельная публика круизов "Ленатурфлота" (среди которой мы оказались благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха) выходит на суровый берег:
6.
В Кюсюре, как ни странно, прибытие теплохода не кажется таким ярким событием, как в Жиганске, но в конце концов за неделю до нас тут дважды отметился "Механик Кулибин". В первую очередь он соединяет с Якутском именно Кюсюр: Сиктях и Кыстатыам слишком малы, до Жиганска и Тикси летают самолёты с вполне сравнимой ценой за билет. Через Тикси и добираются сюда зимой, когда 120 километров через пологие горы можно преодолеть на снегоходе или внедорожнике. А вот летом альтернатив "Кулибину" попросту нет, и прибытие первого в навигацию июньского рейса - пожалуй, главный праздник Кюсюра, его истинный Ысыах, когда с материка возвращается большая часть молодёжи. Но вот мальчишки явно живут здесь круглый год, а российский (выпускается с 1995 года в Коврове), или точнее российско-китайский (линия куплена "Лифаном") мопед "Пилот" - весьма популярный личный транспорт в нижне-ленских посёлках:
7.
Ширина реки здесь 2,3км, что заметно меньше, чем в Жиганске, но зато - без островов: чистое русло с заметным течением просматривается до отвесных скал на левом берегу.
8.
От холодного пляжа поднимается тропа через травянистый склон с жёлтыми искрами полярных маков:
9.

Как обычно бывает в Сибири, над Кюсюром капитальная школа нависает, как кафедральный собор. Так было при Советах, так есть и сейчас - нынешнее здание закончено в 2019-м году. Подъём с пляжа выводит к памятнику жертвам Чурапчинской трагедии, поставленному в 1992 году к её 50-летию. И казалось бы, где Кюсюр, а где Чурапча... но эти памятники - целый жанр в низовьях Лены. Сломанное сэргэ, одно из трёх, символизирует треть жителей Чурапчинского улуса (5459 человек), директивно переквалифицированных на фоне войны из скотоводов в рыболовы и отправленных вниз по Лене. Или - треть погибших переселенцев: из-за накладок с транспортом их привезли сюда не в августе-сентябре, когда можно было успеть построить себе какое-то жильё, а в ноябре по последней воде безо льда и началу морозов. В Булунский район в 1942 году перевели 12 колхозов - 1430 человек, 592 из которых составляли старики и дети. Вернулись из этой негласной депортации они лишь в 1947 году:
10.
Дальше, у висящего метрах в 20 над Леной озерка, сложены валуны без табличек и стоит одинокий сэргэ (якутская священная коновязь) с загадочным словом "Алампа". Загадочным, само собой, лишь для тех, кто не якут или хотя бы не читал мой пост про Татту: Алампа - национальное имя Анемподиста Сафронова, одного из основателей литературы на языке саха. В начале ХХ века он подрабатывал на судах рыбопромышленника Кирилла Спиридонова и в одной из экспедиций лично поставил сэргэ в устье Оленька. Я было понадеялся, что его и перевезли в Кюсюр, вот только помимо букв тут есть ещё и цифры - это просто памятник, поставленный в 2011 году к 125-летию писателя:
11.
За озерцом и наша цель - ДК "Чолбондор", пару лет назад капитально отремонтированный:
12.
Рядом с ним нарядные эвенки поставили для гостей Чичипкан - священную арку обряда очищения. Почти так же нас встречали в Жиганске, только там с Чичипкана взирал на гостей сэвэн (идол), а здесь каждый проходящий ударяет в колокольчик.
13.
Об эвенках я когда-то писал отдельный пост, а эвенкам Якутии была посвящена немалая часть обзора её народов. Прежде их называли тунгусы, а теперь это слово стало общим названием для эвенков, эвенов и негидальцев - северной ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Достоверно их история прослеживается в китайских хрониках где-то с 7 века, когда народ увань разбрёлся на север и на юг из Прибайкалья. Часть его ушла в степи Даурии, став мурчэнами - "конными тунгусами", классическими степными кочевниками, малочисленными, но лихими; ими представлены теперь в основном эвенки Китая. Другие откочевали в тайгу, превратившись в орочонов - "оленных тунгусов", составляющих теперь вместе с "пешими тунгусами" (промысловиками, которые вообще не держали скота) подавляющее большинство эвенков России - 38 тыс. человек. Живя на пространстве размером с Австралию, от Енисея и Таймыра до Сахалина, эвенки почти нигде не составляют большинства. В Восточной Сибири почти повсеместно господствует их мелодичная топонимика, да и тунгусское слово "шаман" понятно на всех континентах, но в быту эвенкийский язык почти вымер. Осталось лишь несколько сёл на Олёкме, где его сможет понять молодёжь (сама уже русскоязычная), ну а на северо-западе Якутии, где лежат Жиганский и Оленёкский эвенкийские национальные улусы, Анабарский долгано-эвенкийский национальный улус и Булунский улус, наполовину состоящий из эвенкийских национальных наслегов, родную речь не помнят даже старики. Вот только гость с материка вряд ли сможет об этом догадаться: на Нижней Лене, Оленьке и Анабаре эвенки говорят по-якутски. Причём - давно, как бы не с дорусской эпохи: мало того, что с якутами они в основном торговали, меняя рыбу и оленину на железо, так и сами якуты, занявшись оленеводством, быстро отрывались от своих корней и вливались в эвенкийское общество, при этом не забывая родную речь.
14.
Так люди саха невольно отняли у эвенков язык, а советская власть сломала им традиционное хозяйство, загнав полукочевых оленеводов в рамки колхозов, сёл с брусовыми домами и пособий для КМНС. И можно было бы сказать, что эвенки как народ почти исчезли, если бы не одно "но" - они всё же смогли сберечь самосознание, память о том, кто они есть. В 1924 году на Охотском море даже провозглашалась Тунгусская республика, а в теперешней Якутии эвенки очень заметно держатся особняком. Заезжим туристам они непременно скажут о своей национальности (ибо примут же за якутОв!), а в улусных музеях, сельских ДК и швейных мастерских при колхозах с 1980-х годов рождается, натурально, неоэвенкийская культура - хотя бы в одежде, украшениях или танцах. Кто-то, конечно, презрительно назовёт это этномодой и вообще толкинистикой, но воссоздавать эвенкам больше нечего, а единственная альтернатива - окончательная ассимиляция и забвение. В конце концов, на фолк-культуре построена вся Восточная Европа и даже такая серьёзная страна, как Турция, так и чем кумалан хуже вышиванки?
15.
По крайней мере это красиво, а цвета, узоры, материалы неоэвенкийских красавиц ни за что не перепутаешь с якутскими:
16.
Уважив духов на Чичипкане, мы прошли в тёмный старый зал Дома культуры:
17.
В Кюсюре, как и в Жиганске, живут и эвенки, и якуты, причём последних тут, кажется, даже побольше. Если в Жиганске во дворе музея пассажирам "Светлова" устраивают чисто эвенкийский концерт, то в Кюсюре выступают оба народа. Вот очень характерный вид - за фарфоровым чороном (обычно эти якутские чаши для кумыса деревянные) коллектив в эвенкийских нарядах:
18.
На них особенно красивы торбаса. Это слово, кстати, как и "шаман", в другие языки пришло из эвенкийского.
18а.

Как я понял, в крошечном Кюсюре просто не найти людей на два разных ансамбля, и чолбондорцы перевоплощаются по ситуации. То в якутов с медленным танцем "Просторы Севера"...
19.
То в эвенков, исполняющих хэдя - тунгусский "хоровод надежды", известный и эвенам, и негидальцам, а стало быть возникший ещё до якутской экспансии вдоль Лены.
А.
Наконец, неоэвенкийская культура может существовать и без прямого подражания старине - в таком прикиде не стыдно пройтись и по городу (на праздник, скажем... или на свидание), такую картину - повесить в доме с видом на проспект:
20.
А под такие вот эвенкийские песни можно хоть на дискотеке зажигать:
Б.
В.
Помимо "Чолбондора", на сцене выступило и несколько солистов или дуэтов. Вот например два Карякина (уж не знаю, родня или нет) - слева маленький Саян, справа основательный Спиридон:
21.
После концерта в фойе ДК накрыли небольшой фуршет, также с национальным колоритом - на столе брусничный и смородиновый морс, несколько ленских рыб вроде омуля или нельмы и различные фрагменты оленя, включая сырую печень в крайней слева тарелке:
22.
С другой стороны фойе развернулась выставка-ярмарка - вот слева якутские, справа эвенкийские предметы:
23.
Последних - существенно больше. В основном это украшения из разноцветного бисера, узорчатые торбаса и переливающиеся ковры из оленьих шкур, в первую очередь круглые кумаланы:
24.
На ярмарке мы не задержались, и сочтя, что лучший сувенир - впечатления, решили пройтись по посёлку. Напротив ДК - вертолётная площадка ("ковёр" в левой части кадра), а за ней магазин с неплохим для такой глуши (уровень сельпо в маленькой среднерусской деревне) ассортиментом и не совсем уж страшными ценами. Поодаль, с ребристым фасадом - спортзал, и по тону, которым нам это пояснили местные, сразу сделалось понятно, как много он значит в глуши:
25.
С другой стороны этой то ли площади, то ли поляны - покосившийся обелиск (1952) на красноармейской могиле. Это памятник вымышленному 273-му Петроградскому полку... но реальным событиям: на самом деле полк был 226-м, и его действительно сформировали в Петрограде из рабочих-полиграфистов. К концу Гражданской войны он оказался в Якутске, и летом 1922 года примерно 100 человек оттуда послали на Крайний Север - преследовать и добивать разрозненные банды, оставшиеся от прижатых к Охотскому морю войск Анатолия Пепеляева. Увы, масштаб этих банд командование недооценило, и к началу зимы петроградцы оказались окружены в селе Казачье в низовьях Яны. Потеряв двух своих командиров, красноармейцы оборонялись там, или скорее отбивали периодические атаки из тундры, несколько месяцев. И это былы самое северное в истории человечества сухопутное сражение! В конце апреля 1923 года 64 выживших красноармейца решили прорываться в Булун и ждать там первого судна в Якутск. Вот только столичные работяги не представляли себе якутского климата: за 25 дней преодолев Верхоянские горы, в конце мая они вышли на берег Лены и упёрлись в ледоход... Истощённые и замерзшие, солдаты видели за рекой огни и дымки жилья, но не имели никакой возможности к ним подобраться, равно как и селяне взирали на ждавших помощи людей не в силах спасти их. Здесь покоятся те, кого успели похоронить товарищи, но в конце концов у красноармейцев просто не осталось сил в мёрзлой земле копать могилы. До конца ледохода не дожил никто, а по его окончании оставшиеся лежать на берегу тела перевезли в Булун. Имён их история не сохранила, или вернее перемешала с именами других бойцов 226-го полка, павших за годы Гражданской. Когда в документы закралась ошибка с номером полка, история умалчивает, да и так ли важна цифра? К обелиску по сей день несут цветы...
26.
А вокруг - вот такие пейзажи. Облик сёл Крайнего Севера был хорошо мне знаком по Новому Порту, Антипаюте, Усть-Каре и Амдерме, и потому я понимал, какое неизгладимое впечатление этот неухоженный пейзаж может произвести на тех, кто его видит впервые:
27.
Когда же перестаёшь воспринимать его как единое целое - понимаешь, что больше всего тут впечатляет полное отсутствие дворов. В такой глуши все знают всех и никто не уйдёт не замеченным. Значит - нет смысла ставить забор: сараи, подсобки, какие-то бочки, сельские туалеты - всё стоит меж домов вперемешку.
28.
Возникнув давным-давно как предместье старинного Булуна на другой стороне переправы (судя по судьбе красноармейцев - обитаемое лишь в навигацию), в 1924 году Кюсюр был образован как село, а в 1930-57 годах даже числился райцентром, приняв эту роль у Булуна и передав Тикси. Старейшие здания поселка - видимо, из райцентровых времён, и даже архаичного вида сарай из корабельных досок может быть и не с того берега - одноразовые деревянные суда сплавлялись по Лене до 1950-х.
29.
На некоторых домах - симпатичные наличники, явно сделанные одной и той же рукой: судя по всему, в круглосуточные зимние вечера тут трудится какой-нибудь резчик.
29а.

Полосой в пару кварталов Кюсюр вытянут меж устей речек Еремейка и Куранах. Эта дорожка ведёт в сторону Куранаха, к больнице и аэродрому, но на самом деле интереснее было бы прогуляться к Еремейке: уже при написании поста я углядел на викимапии заброшенную стройплощадку АСММ "Елена", и аббревиатура эта значит "атомная станция малой мощности". В 1980-х годах Курчатовский институт активно экспериментировал с термоэлектричеством - то есть, прямым преобразованием жара в ток. КПД у такой системы (3%) выходил немногим выше, чем у паровой машины Ватта, но всё-таки это работало, а значит вполне могло сгодиться там, где много и не надо. Первую экспериментальную термоэлектрическую АСММ хотели соорудить во Владивостоке на острове Елены для нужд Тихоокеанского флота. Там чудо-агрегат и обрёл своё название, но в итоге было решено отправить его в Кюсюр. В готовом виде "Елена" представляла собой бункер глубиной 15 метров, диаметром 4,5 метра и весом 168 тонн, но могла быть разобрана на несколько 20-тонных блоков. Она вырабатывала за год до 100 кВт электричества и 3 мВт тепла, которым через 3 контура ("грязный" внутри реактора, переходный для теплообмена и "чистый" в системе водопровода) нагревалась бы вода для посёлка. Самым же впечатляющим свойством "Елены" было то, что её вообще не надо обслуживать - лишь заменять раз в 25 лет. Как я понял, в Кюсюре для неё успели подготовить площадку, но дальше Союз развалился, и всем сделалось резко не до того. "Елена" и Лена так и не встретились, а теперешний "Росатом" в этом направлении делают ставку на судовые реакторы "РИТМ" (см. здесь), как например на плавучей АЭС "Ломоносов" в Певеке или проектируемой Усть-Янской АСММ.
30.
Не очень понимаю, откуда Кюсюр берёт энергию ныне - дизель-станция на окраине посёлка выглядит так:
31.
И ржавые генераторы, попавшие на Крайний Север прямиком из самой южной точки развалившейся страны, теперь даже на металлолом не сгодятся - вывезти их отсюда будет дороже, чем продать.
31а.
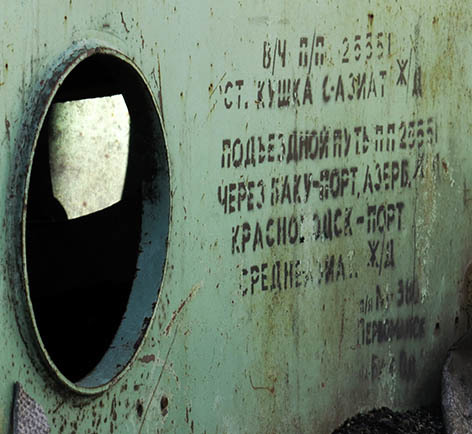
Со стороны, противоположной ленскому берегу Кюсюр ограничен полосой болот:
32.
В жиже которых плавают ржавые катера, а вдалеке встают Верхоянские горы. Вот и весь Кюсюр...
33.
У трапа мы обнаружили квадроцикл, из багажника которого двое местных в охотничьем камуфляже продавали самую настоящую пушнину. Продавали дёшево - 1000 рублей за лисью шкуру, 3000 за соболиную, но не продали, кажется, ничего - на меховом рынке в Сибири нынче кризис перепроизводства, и в городе закупочные цены немногим выше.
34.
Самый же необычный, пожалуй, товар Нижней Лены - это чёрная икра, вот такой стакан которой в Кюсюре или Жиганске предлагают за 1000 рублей. Безлюдье сказывается: Ленский бассейн - единственное место в России, где осетровых можно ловить легально и даже в промышленном масштабе (в мире же есть ещё и каспийское побережье Ирана). Но... то ли легальность и относительная дешевизна убивают вкус, то ли нам что-то не то подсунули, а рыхлая липкая ленская икра не пошла ни в какое сравнение с волжской:
35.

Отпустив грузовики, "Михаил Светлов" отправляется вниз по течению:
36.
В 5-7 километрах за рекой ниже Кюсюра хорошо видна округлая долина среди отвесных сопок:
37.
Там и стоял Булун - былая столица Якутского Севера... и, своего рода, Новый Жиганск. Последний возник ещё в 17 веке как ясачный острожек, а в 1783-1805 годах был самым что ни на есть уездным городом с армией чиновников и жалованным гербом. Но старый тракт оттуда в Верхоянск, Зашиверск и Среднеколымск к тому времени пришёл в упадок, а после разорения Жиганска беглыми каторжниками в 1803 году власти сочли, что проще его упразднить, чем восстанавливать. В 1805 году чиновники вернулись в Якутск, а рыбаки и купцы спустились вниз по Лене, к существовавшим с 18 века рыбацким становищам, где и построили новое село Булун. На Яну, Индигирку, Колыму, да ещё Оленёк, Анабар и Хатангу впридачу отсюда можно было добраться по низменным тундрам у моря, не залезая в горы и тайгу. Первые пароходы, дошедшие в эти низовья лишь в 1878 году (17 лет спустя от появления пароходов в верховьях!) сделали Булун самым настоящим арктическим хабом: к его пристани за тысячи вёрст, начиная с Таймыра и кончая Чукоткой, сходились колеи нарт в собачьих и оленных упряжках. Из тундры привозили в Булун рыбу, меха и мамонтову кость, а увозили из Булуна натурально всё остальное - в первую очередь товары далёких фабрик из тех мест, где даже в самом сердце зимы каждый день всходит Солнце.
37а.

Однако с правым берегом Лены сообщение тут было куда интенсивнее, чем с левым, и в 1924 года советская власть решила передвинуть посёлок за реку. К середине ХХ века Булун с его старыми избами из кругляка и резными наличниками окончательно опустел - осталась лишь пара ветхих балков да кладбище с заметным издалека обелиском петроградским красноармейцам. Судьба их, думаю, сыграла не последнюю роль в замене Булуна Кюсюром.
38.
Ещё остался ледник, которым пользовались, видимо, рыбаки из небольших артелей:
39.
Самый ценный памятник Булуна же и вовсе с Лены не видать - это маленький гранитный обелиск на могиле Якова Санникова. Так звали купца из Усть-Яны, что в начале 19 века промышлял мамонтову кость на Новосибирском архипелаге, открыв вполне реальные острова Столбовой и Фадеевский, а также - ещё кое-что. Севернее Новосибирских островов он разглядел за туманом высокие горы над морем, да и на самих Новосибирских островах не раз видел птиц, летевших ещё дальше на север и возвращавшихся оттуда с молодняком. Так родилась легенда о затерянной стране, с которой в русской культуре смогли бы потягаться популярностью разве что Китеж и Беловодье. Невидимым градом Арктики, попасть в который далеко не каждому дано, Земля Санникова и оказалась - ни сам первооткрыватель в 1810-11 годах, ни адмирал Пётр Анжу в 1824-м не смогли добраться туда ни на судах, ни на собаках. Таинственная недоступная земля обрастала всё новыми подробностями, и птичьи перелёты да клубившейся над морем туман вселяли надежду найти в сердце Арктики тёплый оазис, обогреваемый вулканами или термальными водами из недр земли. Из чукотских преданий появились и туземцы онкилоны, которых вождь Крехай когда-то якобы увёл за море - так куда же, если не туда? Иные в петербургских кабинетах и вовсе полагали, что там находится даже не остров, а целый континент Арктида. Для русских романтиков Земля Санникова всё отчётливее обретала черты Гипербореи...
40.
И скольких жизней этих романтиков стоила записка купца из Усть-Яны! Дело старого Санникова продолжил его внук и тёзка Яков Фёдорович, купец II гильдии, активно помогавший полярным экспедициям деньгами и советом, а главное, просто подогревавший интерес к неоткрытой суше. Но кажется, видел Землю Санникова только тот, кто в неё искренне верил: в 1886 году исследователь Эдуард Толль записал в своём дневнике "В направлении на северо-восток ясно увидели контуры четырёх столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землёй. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью". Вновь он видел эти горы в 1893 году, а вот Фритьоф Нансен на своём корабле "Фрам", продрейфовав почти тогда же и почти там же, не увидел вовсе ничего. В 1902 году экспедиция Толля сгинула во льдах, в 1908 году Яков Санников-младший умер и был похоронен в Булуне, а Кунсткамера так и не пополнилась онкилонскими украшениями из неведомых камней и обсидиановым плугом, в который запрягался шерстистый носорог. Поиски таинственной земли, в начале ХХ века даже наносившейся на международные карты, продолжили и в СССР, но ни ледоколы, ни самолёты, ни спутники не нашли по этим координатам ничего. И наверное Земля Санникова бы позабылась, как Сахалинский перешеек или вулканы Тянь-Шаня, если бы в 1926 году о ней не написал научно-фантастический роман Владимир Обручев (реально исследовавшие глухие места за Индигиркой и Колымой), а в 1971 году по этой книге сняли ещё и культовый фильм с прекрасной песней "Есть только миг...". Так не в науке, но в искусстве продолжила жить мечта о неизведанном и недоступном.
41.
Но всё же птицы летели на север, а Санников и Толь могли и правда что-то видеть у горизонта. На предполагаемом месте Земли Санникова обнаружилась обширная подводная банка, и согласно лучшей гипотезе по сочетанию достоверности и красоты, Банка Санникова - ни что иное, как растаявший остров. Ведь многие острова Арктики, и в первую очередь именно Новосибирский архипелаг, сложены не камнем, а реликтовым льдом - остатки панциря ледниковой эпохи успели покрыться песком и глиной, а потому их не растапливают ни солнце, ни вода. Вернее, растапливают - но очень медленно: в Новосибирском архипелаге отдельные острова постоянно меняют очертания, иные распадаются надвое, а отмеченные на старых картах мелкие островки Диомида, Васильевский и Семёновский превратились в такие же точно подводные банки. То есть в 19 веке Земля Санникова вполне могла существовать, хотя конечно же без гейзеров, мамонтов и онкилонов...
42.
Но вот уходят за корму и Булун с Кюсюром, черту под который подводит устье реки Куранах:
43.
Обратите внимание на безжизненный, словно в карьерах, берег да полосу плавника в десяти метрах над водой - такие на Лене паводки и ледоходы. Выше тянется даже не лесонтундра, а вполне себе тайга - пусть низкорослая и редкостойная:
44.
Но за тайгой этой встают мрачные голые вершины:
45.
С обилием причудливых скал, напоминающих колоссальные механизмы:
46.
Здесь заканчивается Верхоянский хребет, тянущийся на 1200 километров от самого Алдана, разделяя Лену и Яну... а заодно - Евразию с Америкой: не континенты, конечно, но литосферные плиты. По длине он превосходит Кавказ, по высоте (до 2283м на хребте Орулган в середине) сравним с Карпатами, ну а север будто добавляет высоты, уводя покатые вершины в несовместимые с жизнью условия. В основном горы стоят примерно в 100 километрах от берега Лены, подходя к ней лишь дважды - Усть-Вилюйским хребтом к Сорока островам и Хараулахским хребтом (до 1429м) к этим низовьям.
47.
Больше всего Хараулах впечатляет, пожалуй, отсутствием полутонов - тайга тут словно за невидимой чертой сменяется гольцами. И это даже правда так - в условиях лютой стужи и злых ветров растительность не выживает на склонах, и лишь по распадкам вьются отуряхи - "травяные реки" на принесённой талыми водами почве.
48.
Слева подходит кряж Чекановского - не столь высокий (до 529м), но зато выходящий прямо к берегу Лены:
49.
Белыми гребнями скалится из синих теней, если я не ошибаюсь, гора Керике (311м):
50.
Напротив - устье прорезающей Хараулах речки Укта:
51.
Отмеченное целой россыпью мелких останцов и одиноких скал:
52.
53.
54.
55.
Теплоход затягивает Ленская труба:
56.
Но о ней и низовьях до самого устья - в следующей части.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр и Хараулахский хребет.
Ленская труба - остров Столб.
Тит-Ары.
Амуро-Якутская магистраль.
Нижний Бестях - Томмот.
Алдан - Могот.
Нерюнгри.
|
Метки: эвенки якуты Атомная быль Сибирь дорожное Якутия Крайний Север рыбацкое этнография деревянное речной транспорт |
Река по имени Лена. Часть 12: от Жиганска до Кюсюра через Ленские текстуры |
Оставив за кормой показанный в прошлой части Жиганск, белый теплоход "Михаил Светлов" продолжает путь вниз по Лене. И что я могу рассказать про следующие полтысячи километров? Всё одно: барашки волн на тёмном 5-километровом русле, песчаные вихри на островах и отмелях, причудливые текстуры крутых берегов, красота, пустота, безлюдье, ненаселённость и нарастающая с каждой минутой пути атмосфера Крайнего Севера. Сегодня почти от Полярного круга, которым закончили позапрошлую часть, поднимемся в 70-е широты.
В позапрошлой части мы пересекали Сорок островов - самый унылый участок Лены, где она, распадаясь на бесчисленные протоки, становится больше похожей на Обь. И хотя традиционно Сорок островов тянутся за Жиганск на полтораста километров до устья реки Менкере, приблизительно от полярного круга пейзаж начинает меняться:
2.
Чуть выше Жиганска бесконечную тоскливую пойму сменяют высокие обрывы то левого, то правого берегов да почти чистый простор воды между ними. Над обрывами - частокол невысокой лиственничной тайги:
3.
А чёрные полосы в белом песчанике - это самый настоящий уголь, отголосок колоссального Ленбасса, раскинувшегося на территории размером с Турцию и способного покрыть нынешнюю потребность человечества в каменном угле на несколько сотен лет. Но пока здешним углём топят лишь котельные в глухих якутских сёлах:
4.
Белый песчаник, между тем, тоже обретает причудливость:
5.
Наконец, в зелёно-бело-чёрной текстуре появляется ещё и жёлтый цвет - у воды лежат неестественно гладки и округлые Ленские валуны:
6.
Конечно же, это конкреции, то есть камни, образовавшиеся вокруг некоего центра концентрации, например зёрнышка, давным-давно упавшего в ил, с тех пор слежавшийся в камень. При всём сюрреализме облика, в мире это не сказать чтобы редкость: я прежде видел Долину шаров на казахстанском Мангышлаке, а её аналоги можно найти в Новой Зеландии и Румынии, в Аргентине и в Калифорнии, в Республике Коми и на Земле Франца-Иосифа, откуда шары порой попадают и на Вайгач. Ленские валуны состоят из того же песчаника, что и склоны над ними - но спрессованного в твёрдый камень:
7.
А подняв глаза от береговой линии, вдруг понимаешь, что впереди стоит отвесная стена, и фарватер проложен так, будто теплоход намерен протаранить её носом. В 60 километрах от Жиганска встречает Кыстатыам - самый, пожалуй, зрелищный мыс на Лене:
8.
Подойдя к нему вплотную, судно резко поворачивает под прямым углом. Вдали виден остров в устье речки Кыстатыамки, выше по которой стоит одноимённое мысу село, совсем не заметное с Лены. Второе по величине (400 человек, из них 85% эвенки) с начала или третье с конца в Жиганском эвенкийском национальном улусе, где 4 тысячи человек живут на пространстве величиной с Бангладеш (140 тыс. км²).
9.
Но про сёла, даже эвенкийские, как-то не особо думается, когда над тобой нависает ТАКОЕ. Кыстатыам - стометровая стена, будто срезанная ножом гиганта:
10.
Лишь кое-где, как орехи в слоёном торте, Ленские валуны торчат из её склонов:
11.
Здесь они имеют форму классических "каменных грибов" (см. Алтай) - слежавшаяся под весом валуна порода чуть медленнее сыплется и размывается водой:
12.
Стена мыса тянется на 11 километров:
13.
Въездной знак Кыстатыама-села стоит не в устье Кыстытыамки, а с другой стороны мыса - и на самом деле он тут вполне на своём месте. Зимой в село можно доехать по льду, в межсезонье, хочется верить, летают из Жиганска какие-нибудь вертолёты, ну а летом у "Механика Кулибина" напротив этой надпись остановка с высадкой в лодку:
13а.

Кажется, пространства здесь так много, что даже у Юрюнг-тойона устала рука его рисовать, и вместо этого он просто поработал штампом:
14.
Начавшись на левом берегу у Полярного круга, за Кыстатыамом обрывы переходят на правобережье:
15.
Яр на кадре выше увенчан деревянной вышкой, и можно лишь воображать, какой неземной красоты с неё открываются виды:
16.
Между тем, со сменой берегов в текстуре обрывов исчезла чёрная полоса - Лена миновала угольный бассейн:
17.
18.
19.
И те, кто любят многобукафф (а иные, судя по всему, мой блог со времён Заката ЖЖ не читают) - скажите, ну вот что тут можно рассказать? Наверное, много букв тут было бы в статьях какого-нибудь геологического сообщества, а для всех остальных это просто причудливо и красиво:
20.

Вафельный торт "Лена" - может, кто придумает рецепт по мотивам этой текстуры?
21.
Тем временем, в зелёном пятне на склоне можно различить белый крестик:
22.
В бортовом инфостенде (листы которого команда каждый день меняет вручную) сказано, что здесь стоит памятник путейцам - на реках, как и на железных дорогах, это слово в ходу. Обычно путейцы на маленьких катерах объезжают речной путь, замеряют глубины, проверяют и при надобности двигают бакены и навигационные знаки. Здесь, пишут, в 1980-х сошёл обвал, накрывший двух человек из команды причалившего к берегу путейского катера. И - больше никакой общедоступной информации: ни даты, ни названия катера, ни даже имён. Может, на Дзене мне что-нибудь пояснит старый и желчный речник на пенсии, вставляя через слово пассажи про бездельников-туристов и жертву ЕГЭ. А здесь даже табличка - не мемориальная доска, а банальное "Запрещена охота!".
23.
Зато природа помнит своих случайных жертв и носит цветы к ним на могилу. Из следующего распадка показался розовый бугор:
24.
Гарь, покрытая цветущим иван-чаем:
25.
Юрюнг-тойон же явно исходил из того, что люди никогда сюда не доберутся - в ход снова идёт штамп:
26.
Читаете вы это всё минут 10-20? А шли в этих пейзажах мы долгие часы, и пожалуй, таким вот концентратом Нижняя Лена смотрится даже эффектнее, чем на самом деле. Даже от красот можно устать, и вот задремал в каюте, а вскоре прибежала Наташа и крикнула "Вставай! Там Кулибин идёт по правому борту!". Поздоровавшись гудками, на Лене встретились два белых теплохода - круизный "Михаил Светлов" (1986, Австрия) и рейсовый "Механик Кулибин" (1955, ГДР), о котором в порту Якутска я подробно рассказывал здесь. Маршрут "Ленатурфлота" вниз по Лене и обратно в Якутск занимает 10 дней что в круизе (куда попали благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха), что в рейсе, и "Кулибин" на всех парах шёл из Тикси в Якутск. Поравнялись мы с ним, кажется, у Могилы Ребёнка - так называется один из мысов, когда-то вдохновивший на стихи Евгения Евтушенко. По преданию, там рыбаки давным давно нашли брошенный чум с останками младенца в колыбельке - его родители, вероятно, вместе отправились за пропитанием и сгинули в тайге или реке. Впрочем, всё, что я знал про Могилу Ребёнка - это легенда да очень примерное время прохода, и потому совсем не факт, что перед носом "Кулибина" именно этот мыс:
27.
Ширина Лены в этой части в среднем порядка 5 километров: меж обрывов и островов она стискивается до 2-3 километров, а в устьях крупных притоков разливается до 8-10. Низкий дальний берег тут едва виднеется, а вдоль русла проваливается горизонт - и это без всяких водохранилищ! Я прежде даже представить не мог, что реки бывают столь широки, но ведь и движемся мы по то ли второй, то ли третей самой полноводной реке мира!
28.
И не надо сейчас открывать википедию и смотреть списки рек по расходу воды: там Лена со своими 16,5 тыс. м³/с едва замыкает десятку. Вот только большую часть года сибирские реки скованы льдом, и хотя одно лишь подлёдное течение Лены сравнимо с Северной Двиной или Рейном, всё же среднегодовой расход воды здесь - показатель не более актуальный, чем средняя температура по больнице. Если же сравнивать реки мира по самым многоводным месяцам, то явно больше Лены с её 40-60 тыс. м³/с только Амазонка, а сопоставимы - зимняя Конго и летний сосед-Енисей. Вот только Лена не отличается постоянством характера: её режим подчинён каким-то пока не просчитанным циклам, и например в 1980-х она превосходила Енисей и в среднем за год (24 тыс. м³/с), и в июне (более 104 тыс. м³/с). Мы оказались тут в довольно многоводное лето:
29.
Над речным простором ветер гуляет словно в степи, с подсохших на жарком круглосуточном Солнце островов поднимая песчаные бури:
29а.
А безлюдье - не сказать чтобы обманчиво, но всё-таки довольно условно. У берега порой мелькнёт то балок, то изба:
30.
Над их крышами - печные дымки, а где-то рядом пришвартованы лодки. Всё это заимки охотников и рыбаков, такие вот суровые сибирские дачи:
31.
Среди них не сильно выделяется Натара с со старым кладбищем и импровизированной заимкой-музеем, куда "Светлов" раньше прибывал на зелёные стоянки. Столь же неприметен Джарджан - последнее село Жиганского улуса, где прописан 1 человек. Следующий Булунский улус открывает Сиктях - основанное в 1934 году село (280 жителей; половина - эвенки, четверть - эвены) на широте южных окраин Мурманска. Название его, впрочем, было известно русским географам куда раньше: в 1728 году здесь зимовала экспедиция монаха Игнатия (Козыревского). В миру Иван, на заре 18 века он приводил в русское подданство камчадалов, в 1703 году основал на Охотском берегу Большерецкий острог, а в 1711 стал первым из русских людей высадился на Курилах. Однако дальше Иван Петрович свернул не туда, вместе с соратником Даниилом Анциферовым подняв бунт и убив "камчатского Ермака" Владимира Атласова. Позже бунтовщики сами пришли к государевым людям с повинной, и отлучённый от Камчатки, в родном Якутске Иван участвовал в строительстве Спасского монастыря и там принял монашеский постриг. Но метущаяся душа всё так же рвалась к новым берегам, и не попав в экспедицию Витуса Беринга (хотя и консультировав его), в 1728 Игнатий построил судно с заморским названием "Эверс" и направился в полярные моря. Он хотел пройти пролив Дежнёва, но в итоге корабль был раздавлен льдами у Сиктяха. Причём, как выяснилось лишь спустя без малого три века, всё же на обратном пути - дойдя до океана, плавание вдоль Чукотки монах-мореход решил отложить на следующий сезон. Потеряв судно и пережив зиму, Игнатий вернулся в Якутск и уехал оттуда в Москву, где в Николо-Угрешском монастыре его настигло возобновление "атласовского дела". В 1732 Козыревский был расстрижен и отправлен в тюрьму, где и умер два года спустя в ожидании казни. Ну а мимо этих берегов предстояло пройти ещё десяткам экспедиций:
32.
Кадры выше, которые после "Кулибина", сделаны на обратном пути, а вниз по Лене мы прошли эти места ночью. Само собой, не той, когда заходит солнце, а той, когда ложишься спать:
33.
Утро встретило новыми обрывами и скалами одна другой чуднее:
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Там, где берег делается лесным и пологим, в космическую пустоту вдруг вторгается техногенность. Это Приленск - не посёлок, а база снабжения, основанная в 1963 году Приленской геологоразведочной экспедицией...
40.
...а ныне принадлежащая "Алмазам Анабара". В Якутии эта компания, учреждённая в 1998 году "Алросой" и правительством Республики Саха, на слуху не меньше, чем сама "Алроса". Как следует из названия, основная добыча у них в глухом, я бы даже сказал наиглушайшем Анабарском улусе в северо-западном углу региона. Там находится несколько доступных только по воздуху месторождений, самое известное из которых - Эбелях, разрабатываемый с 1980 года. Компания обеспечивает 4% мировой добычи алмазов, и особенно везёт ей на необычные камни - так, в 2020 году в Эбеляхе добыли крупнейший в России цветной алмаз (236 карат) редкого "коньячного" цвета. До тех месторождений отсюда 500 километров, но ближе в летней сезон не подобраться ни водой, ни сушей:
41.
Ещё немного текстур. В инфостенде заявлена некая скала Юрдюк-Хая в 90км от Кюсюра по левому берегу, которая "выглядит мрачно". Быть может, вот это она?
42.
43.
44.
45.
Где-то здесь "Михаил Светлов" достиг 70 градуса северной широты:
46.
А значит и моя про Вайгач, вернее те его озёры и скалы, к которым я дошёл в 2017 году, остались где-то южнее. Так далеко на севере я ещё не бывал:
47.
Ветер тут всё пронзительнее, волна всё злее:
48.
За поворотом реки встают горы Верхоянского хребта, так и тянувшиеся в сотне километрах от правого берега ниже устья Алдана:
49.
К Лене это огромное (1200км длиной, до 2283м высотой) нагорье подходит всего в двух местах - Усть-Вилюйским хребтом на юге и Хараулахским хребтом на севере. Последний и виден из-за тайги:
50.
Высота этих гор - до 1429 метров:
51.
За поворотом я увидел красный танкер "Тикси" проекта "Ленанефть". Как и мы, собиравшийся швартоваться в Кюсюре:
52.
Но про Кюсюр, Булун и горы будет следующая часть.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр и Хараулахский хребет.
Ленская труба - остров Столб.
Тит-Ары.
Амуро-Якутская магистраль.
Нижний Бестях - Томмот.
Алдан - Могот.
Нерюнгри.
|
Метки: по Лене природа дорожное Якутия |
Жиганск. Без жиганов, но с неоэвенками |
Кого называли жиганами при царе - говорят разное: то ли "низшую касту" тогдашних тюрьм, то ли преступников без тормозов, то ли заключённых-картёжников, живущих одной лишь игрой. А вот в 1920-х годах тюрьмы молодой красной России полнились вчерашними "белыми". Многие из них были офицерами с опытом долгой войны, но узниками стали не за контрреволюцию, а за налёты и рэкет, которыми жили, не найдя места в новой стране. Были это люди по-настоящему опасные, к тому же окружённые молодой "пристяжью", и старые воры боялись их - но не уважали, и презрительно звали жиганами. Жиганы носили кресты в знак того, что признают закон только Божий, и имели своеобразный кодекс чести, куда входил в том числе запрет на семью и любые контакты с государством. Позже многое из жиганских понятий взяли себе ворЫ, ну а в тюрьмах революция случилась с запозданием: поднабравшись сил и образовав ещё одно сообщество уркаганов, с жиганами расправилась их бывшая "пристяжь". Но шороху офицеры-воины-бандиты задали изрядного, и в наши дни жиган - это отчаянный, конченный, прожженный преступник.
Ну а Жиганск, районное село (3,1 тыс. жителей) на Лене в 750 от Якутска почти сразу за полярным кругом через показанные в прошлой части Сорок островов.... не имеет к ним никакого отношения. В годы его расцвета таких называли варнаки, и они тоже оставили тут след. Название "Жиганск" восходит к эдигэнам, то есть "понизовцам" - местному племени эвенков, столицей которых в Якутии он и слывёт. И мой рассказ такой огромный потому, что треть его занимает фольк-представление, которыми эвенки встретили пассажиров белоснежного "Михаила Светлова".
Как в Средней России самая частая дата основания города 1146 ("на год старше Москвы"), так и в Якутии историю Жиганска возводят к 1632 году. Где-то даже пишут, что основал его сам Пётр Бекетов - как Якутск в том же году, Олёкминск, а впридачу ещё Нерчинск и Читу. Иные вспоминают, что Якутск в 1642 переехал, и объявляют Жиганск старейшим городом Республики Саха. Реальность, увы, как всегда прозаичнее и сложнее: в 1632 не сам Бекетов, а небольшой отряд его казаков под началом Алексея Архипова спустился не сюда, а на Красные пески в 20 километров ниже, и поставил, конечно, не грозный острог, а небольшое ясачное зимовье. Кое-где его называли острожек, но весь гарнизон за невысоким тыном был дай бог в дюжину сабель. На нынешнее место в устье Нуоры (Стрекаловки) теперь уже вполне всамделишный Жиганский острог переехал в 1714 году. Ведь за Леной начиналась сухопутная дорога через высокие хребты к Верхоянску, Зашиверску, Алазее, Среднеколымску. Она не была как таковым почтовым трактом - скорее, просто тропой, которую служилые люди, купцы и миссионеры проходили на свой страх и риск, и путь в одну сторону по ней занимал до 4 месяцев. К середине века в Жиганске числилось полтысячи жителей, что очень много для столь далёких краёв. В 1775 году Жиганск стал центром одного из 6 комиссарств в Якутской провинции, а звёздный час его наступил в 1783 году с образованием Жиганского уезда, статусом города и гербом. Но расцвет продолжался недолго: в 1803 году Жиганск опустошил как бы не последний в истории Сибири набег - только не тунгусов из тайги, а варнаков, беглых каторжан с солеварен Охотского моря. В 1805 году с него сняли городской статус и упразднили Жиганская уезд, а в 1820-х годах некая эпидемия окончательно превратила бывший Жиганск в захолустье. Но, конечно же, не варнаки и не микробы на самом деле подкосили город: просто с развитием Охотского тракта старая дорога заросла кедрачом, а держать административные центры ради присутствия в Арктике царские чиновники тогда не додумались. Уже в 1822 году, однако, был создан Жиганский улус, в 1930 году ставший Жиганским эвенкийским национальным районом. Гигантская и многонациональная Якутия имеет множество автономий второго (улусы) и даже третьего (наслеги) порядка, однако Оленёкский эвенкийский и Анабарский долгано-эвенкийский национальные улусы слишком далеко: хотя в Жиганске эвенки составляют лишь 42% жителей (ещё 38% - якуты), в Якутии он за центр их культуры. И даже герб в музее тут из рыбьей кожи:
1а.

Ну а за мой рассказ о заЖиганске от начала до конца стоит сказать спасибо "Ленатурфлоту", в круиз которого мы попали благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха. Помимо круизного "Михаила Светлова" сюда ходят рейсовый "Механик Кулибин" и торговый "Степан Аржаков", предназначенный в первую очередь для коммерсантов с товаром, однако доступный для всех. Но рейсы "Аржакова" начинаются только в конце июля, а причал "Механика Кулибина" выглядит так: фактически он не причаливает в Жиганске, а лишь пересаживает своих пассажиров на паром:
2.
С воды видны Никольская церковь (2007) между обелисков Победы (справа) и Чурапчинским переселенцам (слева):
3.
Правее - Туруу-мас и Сквер Речников с белоснежной стелой:
4.
Под которой, шаря вдоль берега ультразумом, я увидел странный камень, похожий на основание давно разрушенной пагоды, и нарядную компанию людей, явно ждавшую нас:
5.
Вот из устья Нуоры появился паром СПЖ-115, построенный в 1988 году в Жатае:
6.
С командой из двух человек, и судя по их диалогам, были то отец и "сына":
7.
Паром пришвартовался к борту "Михаила Светлова", причём матросы корректировали его, в прямом смысле слова, вручную:
8.
Круизный люд выходит на потёртую палубу:
9.
На которой, то ли вместо якоря, то ли просто для красоты, лежит каменный шар - "ленские валуны", природные конкреции, обильно рассыпаны по берегам вниз по течению:
9а.

Машинное отделение парома, по совместительству подсобка, где соседствуют канистры с топливом и мормыжки:
10.
Минут 10-15 пути - и паром опустил аппарель в устье Нуоры, где разгружалась здоровенная баржа с углём:
11.
Небольшая речка, у впадения в Лену образует внушительный залив метров 300 шириной, на том берегу которого лежит предместье с аэропортом и нефтебазой. Немалая часть этих моторных лодок - сродни автомобилям на парковках у офисных центров:
12.
Пешеходов возит через залив такая вот колоритная самоделка по заполнению:
13.
А автомобили переправляет "наш" СПЖ-115:
14.
Выше залива тянется пойма, по которой Стрекаловка выписывают причудливую синосоиду. На полуострове среди плавней очень зрелищно смотрится (кадр выше) нечто техногенно-заброшенное:
15.
"Основание пагоды", между тем - это действительно священный камень Содани. Близ него эвенки поставили Чичипкан - так называется обряд очищения и его главный атрибут - священные ворота. Сквозь них, в ароматном травяном дыму и мерных ударах унтувуна (бубна), проходят гости.
16.
Об эвенках я когда-то писал отдельный пост, а эвенкам Якутии была посвящена немалая часть обзора её народов. Прежде их называли тунгусы, а теперь это слово стало общим названием для эвенков, эвенов и негидальцев - северной ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Достоверно их история прослеживается где-то с 7 века, когда народ увань разбрёлся на север и на юг из Прибайкалья. Часть его ушла в степи Даурии, став мурчэнами - конными эвенками, классическими степными кочевниками, малочисленными, но лихими. Другие откочевали в тайгу, превратившись в орочонов - оленных эвенков, коих теперь 38 тыс. человек на пространстве размером с Австралию. Эвенки нигде не составляют большинства, в быту их язык вымер, но мелодичная эвенкийская топонимика господствует на половине Сибири. Сердце мира орочнов - на стыке Якутии, Амурской области и Забайкалья, в верховьях Витима, Олёкмы и Алдана, и вот откуда-то оттуда эдигенцы и пришли. Предание гласит, что когда-то (явно в дорусский период) на их землю обрушивались беда за бедой: то людей косили неизвестные хвори, то тёплая зима с глубоким рыхлом снегом забирала оленей, то пожары опустошали угодья и ягодники... Глава рода Боко держал совет в большом чуме, и обдумав всё, старейшины, вожди и шаманы пришли к выводу, что чем-то прогневали местных иччи, а значит - надо уходить. Так началось великое эвенкийское переселение вниз по Алдану, и одни роды, найдя себе место, вешали там суруук (берестяное полотнище), а другие, видя его, продолжали путь дальше. Нашлись и те, кто проскочили устье Алдана и спустились по Лене полтысячи вёрст, а так как были это отдельные люди и семьи из разных племён - образовали за полярным кругом новое эдигенское племя, первопредками которого считаются теперь богатырь-найдёныш Булунян и мать Уран-когун, покровительница творчества. Безлюдный край и обильные пастбища сделал эдигенов богатыми, а потому вниз по Лене тянулось всё больше якутов, которым становилось тесно на своих аласах. Подавшись в оленеводы, саха теряли связь со своим народом, перенимая эвенкийские веру и быт. Но - сохраняли язык, а как результат, теперь эвенки от Лены до Хатанги говорят между собой на якутском. Эвенкийского в Жиганске не знают даже старики, а детей с недавних пор учат не утраченному здешнему, а литературному енисейскому диалекту. Однако кто они и откуда, эдигенцы помнят вполне, а возрождение традиций - неплохой способ занять себя в глухомани: в костюмах и украшениях по мотивам музейных экспонатов, в постановочных обрядах по мотивом записей этнографов тут даже не вос-, а просто создаётся неоэвенкийская культура. Законодательница её в Жиганске - директор музея Людмила Егоровна Сивцева, на кадре ниже справа:
17.
Пройдя через Чичипкан, попадаем на ньымат - на самом деле так называют раздел добычи между всеми членами рода, ну а в обиходе - просто угощение дорогих гостей. Угощали, натурально, суровыми сибирскими сашими из строганины на куске ржаного хлеба. Дальше по крутой, откровенно страшноватой лестнице группа потянулась наверх - к Туруу-Масу:
18.
Беглым взглядом похожий на Аал-Луук-мас, якутское Мировое древо, что ставят на площадках Ысыаха, Туруу-Мас на всю Якутию такой один. Если Аал-Луук-масс - это стержень трёх миров, то Туруу-Мас имел совсем иной смысл: в тайге эвенки почитали естественные чичипканы из сросшихся верхушками лиственниц. Три корня, три покрытых сюжетами Севера ствола и одна на всех верхушка символизируют единство народов сурового края:
19.
Рядом с Туруу-Масом проходил следующий обряд Секалавун (в текстах) или просто Амака (устно) - дань уважения медведю, натянутую шкуру которого туристы гладят сверху вниз, по шерсти. Затем гостям раздают нулганни - так у эдигенцев называются разноцветные ленточки, что развешивают в священных местах на ветках:
20.
В данном случае - ветках Сквера Речников, разбитого в 2000 году вокруг стелы наподобие маяка. На табличке надпись "В честь путейцев-речников Лены-матушки величавой" и строчка Михаила Ломоносова "Там Лена чистой быстротой, как Нил, народы напояет..."
21.
Завершив обряды, идём по ленскому берегу:
22.
Мимо сельского вида ДК, рядом с которым планируется построить современный Дом Аарчи (якутский культурный центр с элементами храма айыы). Знакомый по чужим фото памятный камень перед фасадом то ли куда-то перенесли, то ли я его не приметил.
23.
По соседству - крест и сэргэ (якутская ритуальная коновязь), поставленные в 2007 году на 375-летие Жиганска. С лавочки между ними хорошо любоваться простором Лены - 4-километровое русло реки тут в 2-3 раза шире самого посёлка. Да и это только половина: за теплоходом - плоский остров Иосиф, а за ним ещё столько же воды.
24.
Мы поднимаемся на квартал от реки, к центральной Октябрьской улице. Там - сердце посёлка, Жиганский исторический музей, основанный в 1989 году при школе. Его деревянное здание построено в 1995 году в глубине сквера, на входе в который продолжается торжественная встреча:
25.
С процессией нарядных эвенкиек разных возрастов мы прошли на двор:
26.
Где с православной церковью соседствуют шаманские сэвэны (фигурки духов-помощников)...
27.
...а с башней острога - эвенкийский дю (чум) и якутский дьиэ (балаган):
28.
Обратите внимание, сколь искренне радостны лица, особенно у молодых: на идею концерта для богатых пассажиров я изначально смотрел скептически, однако вновь глухомань убеждает меня, что не стоит подходить к ней с мерками большого города. Жиганский улус размером примерно с Башкирию (140 тыс. км²), вот только в Башкирии живёт 4,1 миллиона человек, а тут - 4,1 тысячи, и лишь четверть из них из них - за пределами райцентра. Вверх по течению ближайший населённый пункт - показанный в прошлой части Сангар, до которого 400 километров. Вниз по реке селений чуть больше, но чего-то сопоставимого по размеру не будет до самого Тикси. Мобильная связь тут есть, а вот интернета мне хватило только на загрузку push-уведомлений. В общем, жизнь жиганчанина размерена и скучна, ему знакомы все встречные лица, а самое доступное зрелище - смена погоды над Леной. Так что белый "Михаил Светлов" 4-5 раз за лето действительно привозит сюда праздник:
29.
Первым выступил детско-юношеский ансамбль "Осиктокан" (в переводе - "Звёздочка") с танцем под явно современную песню на эвенкийском. Красивый язык:
И заметьте, какое на их лицах упоение:
30.
Совсем маленькая девочка в белом платьице трогательно исполнила танец-пантомиму "Оленёнок", а затем на сцену поднялась Анна Васильевна Петрова с семьёй - руководительница "Осиктокана":
31.
Последними вышли артистки из местного профессионального ансамбля "Хокто", на материке более известного как "Северное сияние":
32.
Их выступление мне запомнилось не столько песнями, сколько зрелищем: оленьи рога, бессловесные диалоги лисьей и песцовой шкур, кумалан (эвенкийский коврик из оленьего меха) и его изнанка...
32а.

Да всякие музыкальные инструменты из костей и когтей:
33.
Вот только почему-то я напрочь забыл снять видео с "Хокто":
33а.

Концерт закончился якутским осуохаем (хороводом) с кадра №27, а дальше пассажиры теплохода разделились на 3 группы, по кругу сменявших друг друга в сувенирном магазине, музее и церкви. Во дворике развернулась пара небольших выставок - вот скажем шкуры зверей, рога сохатого из тайги и снежного барана с Верхоянских гор за Леной, грузовые нарты охотника и эвенкийские лыжи, обшитые снизу мехом, который не даёт ехать назад.
34.
С другой стороны от сцены - чум с кумаланами и более крупными ездовыми нартами оленевода. Не знаю, стоит он здесь всегда, или сооружается только к визитам "Светлова":
35.
Но вот выставка бисерных украшений синньэ, туесков и народных костюмов (в которых, наверное, и сфотографироваться можно) - явно специально для нас:
36.
Куда ж в Республике Саха без балагана - якутского зимнего жилища характерной трапециевидной формы, устройство которого я подробно расписывал здесь.
37.
Внутри, впрочем, всё вполне современно, из традиционных деталей интерьера - разве что очаг-камелёк. На стенах - якутские чепраки, головы лося и снежного барана, а ещё - та самая аппликация с вводного кадра, вполне передающая, как устроен Жиганск:
38.
Сам музей - это буквально пара комнат, и честно говоря, я не приметил там ничего такого, чего не видел бы в музеях Якутска, Олёкминска, Майи, Тынды или Нерюнгри. Но если ваше знакомство с Якутией - это путешествие вниз по Лене, то сюда однозначно стоит зайти. Вот атрибуты тунгусских святилищ - сэвэны (идолы духов-помощники шамана) и сэргэ (ритуальная коновязь, явно позаимствованная у якутов и в отсутствии коней ставшая просто моделью 3-ярусной Вселенной), а рядом - вьючная сумка и идеальная в быту зимних кочевников тунгусская колыбелька:
39.
Кости и бивни мамонтовой мегафауны, украшения и охотничий инвентарь, обувь и вышивка, а в левом верхнем углу красно-жёлтый бисерный календарь "Семейный очаг" мастерицы Марины Анастаховой:
40.
Особенно хороши орнаменты - густые, тонкие и на явно исторических вещах. Не менее хороши украшения из кости - внизу работы Егора Ильинова, а на врезке "Уточка" Владимира Иванова, созданная в 1968 году. Здесь же - предметы с "большой земли" вроде серебряных московских ложек или ножниц из немецкого Золингена (видны на кадре выше).
41.
Для своей экспозиции музей явно тесен, так что разные темы приходится причудливо сплетать одну с другой. Вот панно (1995) в честь местных героев Великой Отечественной и самая настоящая цитата Сталина соседствуют с охотничьим и рыбацким инвентарём, лодкой для Нуоры или мелких озёр и сетями из конского волоса. Самый красивый лук изготовил в 1995 году для музея ветеран тыла и труда Семён Портягин, и в этом луке - вся суть: эвенки и якуты на фронте показали себя отличными стрелками, а заготовка рыбы и шкур - главный вклад жиганчан в Победу.
42.
Не менее, чем экспонатами, музей интересен стендами, представляющими собой натуральную выжимку библиотеки краеведа для заехавших на несколько часов гостей. Но и для местных кое-что найдётся - так, одним из атрибутов неоэвенкийской культуры стала мода на традиционные имена. Но орочоны в глухих чумах давали их безоценочно, а то и вовсе с целью запутать злых духов, и чтобы не дай бог не назвать сына Плаксой, Толстяком или Обиженным, родителям определённо стоит зайти сюда:
43.
Во всём Жиганске не нашлось экспоната о самом выдающемся земляке, так что расскажу о нём на фоне календарных картин местной художницы Айны Львовой. Земляк этот - Афанасий Яковлевич Уваровский, сын русской горожанки и мелкого чиновника-якута из местности Кельдемцы близ Якутска. С уездным Жиганском его связывает лишь факт рождения в 1800 году, а с упразднением уезда в 1805-м Афанасий начал странный путь на юг. Со смертью отца 14-летний метис устроился в Якутское областное правлении и объехал по рабочим делам весь северо-восточный край. Затем умерла его мать, сам он оставался холостым и бездетным, а потому в 1830 вышел в отставку и уехал в Иркутск. К 1839 Уваровский добрался до Петербурга, где и прожил 12 лет без работы и дома, подобно современным автостопщикам кочуя по друзьям - в основном путешественникам и учёным. Те были рады ему: как известно, если гора не идёт к Магомету - то Магомет сам идёт к горе, а если нет средств и времени организовать экспедицию в Якутию - что может быть лучше, чем образованный, но сохранивший связь с корнями якут, который сам пришёл в твой дом? И вот Александр Миддендорф, наслушавшись Уваровского, таки уверовал в вечную мерзлоту, прежде отвергавшуюся европейской наукой как то, чего быть не может потому что не может быть никогда, и вскоре заглядывал в шахту Шергина, а санскритолог Отто Бетлингк разработал якутскую кириллицу. В Татте я рассказывал о якутской литературе и Алексее Кулаковском, чьё стихотворение "Благословение Баяная" в 1900 году стало её отправной точкой. Но - с важной оговоркой: в 1840-е Бетлингк крепко взялся за Уваровского и требовал от якута что-нибудь написать. Сперва Афанасий Яковлевич записал по-якутски несколько загадок: "на крыше юрты рассыпана мелкая щепа" (звёзды), "на крыше юрты щербатая ложка лежит" (луна), "есть жеребец, что без ног ходит" (лодка), "кто неграмотен, а на всех языках говорит" (эхо) и ещё пяток в том же духе. Затем он впервые перенёс на бумагу "Олонхо", одну из его былин "Эр Соготох", которую хорошо помнил. Наконец, немец вытянул у якута "Воспоминания" ("Ахтыылар") - первый авторский, изначально письменный текст на языке саха. Издан в 1848 году он был не в журнале и не книгой, и первым делом переведён не на русский, а на немецкий - как часть публикации Бетлингка "О языке якутов" в многотомном "Путешествии на север и восток Сибири" Миддендорфа. Афанасий Яковлевич же устроился бухгалтером в Русско-Американскую компанию и в 1852 году вернулся в Якутск, где женился, обустроился, родил дочь и в 1861 году умер.
44.
По соседству с музеем - Никольская церковь. Обычно пишут, что она была построена в 1894 году на замену предшественнице, освящённой в 1784 как собор уездного города. Вот, однако, дореволюционный кадр с двумя церквями, и та, что слева, очертаниями больше похожа на конец 19 века, а то, что справа - на честный 18-й век.
45а.

Среди пассажиров "Светлова" была женщина-потомок последнего здешнего настоятеля. Дореволюционная церковь имела все шансы уцелеть до наших дней - в 1927 году её лишь обкарнали и превратили в ДК, но тот был уничтожен в 1950-х годах случайным пожаром. Воссоздали храм в 2007 году, но кажется - действительно близко к оригиналу:
45.
Внутри - резной иконостас без лишней позолоты:
46.
С разных сторон церковно-музейного двора - пара памятников. За главной Октябрьской улицей, дальше от Лены - типовая стела Победы, а на берегу реки стоит квадратный бетонный сэргэ и плита с надписью по-якутски "Жиганск - Чурапча. Никто не забыт, ничто не забыто". Целый жанр памятников в ленских низовьях посвящены жертвам Чурапчинской трагедии: осенью 1942 года в Чурапчинском улусе (который, что вряд ли совпадение, в Гражданскую войну отметился контрреволюционной активностью) около 40 колхозов, суммарно треть населения района, были директивно переведены из скотоводческих в рыболовецкие и посланы на Север. Отправка затянулась, обещанные пароходы так и не подошли, ожидание на берегу в Нижнем Бестяхе и сплав на несамоходных баржах отняли бесценное время до холодов, да вдобавок людей как-то забыли предупредить, что обустраиваться на холодных берегах они будут самостоятельно. В общем, в первую зиму из 5459 переселенцев погибло около 2000: по самому многолюдному якутскому улусу Чурапчинская трагедия ударила как бы не сильнее, чем сама война. В Жиганский район были определены 11 колхозов и 484 хозяйства, суммарно 1427 человек, 517 из которых были старики и дети. Выжившие вернулись на родные аласы в 1946 году, а памятники им - такой же обязательный атрибут посёлков в низовьях, как обелиски Победы:
47.
Теперь пройдёмся по посёлку. Жиганск гордится своим возрастом, но здесь нет зданий старше середины ХХ века:
48.
Жиганский пейзаж суров и неухожен, как и почти всюду на Крайнем Севере:
49.
Хотя и не без проблесков вроде симпатичного самодельного детского садика:
50.
Или огромной новой школы, которая смотрится здесь примерно как космопорт с генератором пространственно-временных континуумов:
51.
Дороги тут когда-нибудь сделают вряд ли - всё равно большую часть года на них чистый белый снег. По которому наводят зимник в Якутск - это 1000 километров против 750 по реке или 600 по воздуху. Останутся над дорогами и трубы, которые слишком сложно и дорого закапывать в мерзлоту:
52.
В вот облик домов и улиц потихоньку меняется. На прошлом и следующем кадрах - вторая главная в Жиганске улица Уваровского, ведущая от берега Лены к новостройке администрации с бюстом Николая Шемякова - почётного полярника и местного руководителя середины ХХ века.
53.
Ещё Жиганск запомнился едой. В музее среди всяческих украшений (особенно хороши бисерные!) и сувениров продавали быырпах (якутский молочный квас), черничное варенье и неимоверно вкусные щучьи котлеты по 30 рублей, которые мы не скупили все лишь за неимением в каюте холодильника. В поселковой столовой - добротные пюре и макароны с гуляшем, а в соседнем магазине был отличный хлеб. И - молочные пироги, ещё одна гордость Жиганска, пользующаяся спросом у речников и тех пассажиров "Светлова", что дружат с командой сопровождения. Последних немного, но пирогов ещё меньше - мы едва успели выхватить последний.
54.
На крылечке столовой - дети Севера:
55.
На сцене у музея продолжался праздник, лишь начатый гостями с реки:
56.
Но вот мы снова спустились к камню Содани и угольной барже, где наш паром разложил аппарель в ожидании пассажиров. Напоследок - утренний вид с теплохода на увенчанный нефтебазой мыс Пост за Нуорой. Белые берега с прожилками самого настоящего угля тянутся дальше вдоль Лены:
57.
И в следующей части отправимся дальше вдоль них.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр. Кастытыам.
Кюсюр.
Кюсюр - Тит-Ары. Ленская труба.
Тит-Ары - остров Столб.
Амуро-Якутская магистраль.
Нижний Бестях - Томмот.
Алдан - Могот.
Нерюнгри.
|
Метки: эвенки дорожное Якутия субкультуры переправы по Лене этнография деревянное речной транспорт |
Река по имени Лена. Часть 11: Сорок островов |
Хоть Лена и самая красивая река на Земле, а на всю её 4400-километровую длину красоты не хватает. В нижне-среднем течении, от последних Столбов до полярного круга, Лена больше похожа на Обь, где коренных берегов не видать за тальником на островах и поймах. Участок реки от устья Вилюя до устья Менкере так и называют в народе - Сорок островов, хотя по факту островов там во-первых четыреста, а во-вторых если это название растянуть от, скажем, Покровска до Жиганска - оно и этим местам вполне подойдёт. Первые 740 километров ленского круиза (почти половина!) на показанном в прошлой части белом теплоходе "Михаил Светлов" мимо конечных пунктов показанных в позапрошлой части судов - без преувеличения, самая скучная часть Лены. Хотя и здесь встречаются приметные места, как гигантское устье Алдана, шахтёрский посёлок Сангар, горы Верхоянского хребта, главный из Сорока остров Аграфены или самодельный полярный круг на утёсе.
Сам же круиз "Ленатурфлота", на который мы попали благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха, начинается не здесь: сперва теплоход идёт вверх по течению на Ленские столбы и Усть-Буотаму к бизонам, но это всё я уже показывал.
На последнем в этой серии кадре Якутского порта, да и самого Якутска с его трубами конструктивистской ТЭЦ-1 (1935-37) и обелиском Победы (1985) - отправление теплохода. Этот момента всегда торжественный, хоть с "Прощаньем славянки", хоть без. Вот тихое и отрешённое урчание двигателя становится будто настойчивее, над трубами поднимается чёрный дым, речники в своих ярких жилетах и касках снимают с кнехтов канаты в руку культуриста толщиной, и громада размером с немаленький дом приходит в движение. Между бортом и причалом ширится щель с переливающейся водой, и развернувшись, судно берёт курс к другим берегам. В нашем случае - к Краю Света:
2.
От причалов до открытой реки сперва надо пройти 4 километров Канала - так называется половина Городской протоки, которую в 1960-х годах дамба чуть выше порта превратила в залив. Канал за полтора месяца в Якутии я проходил 6 раз и уже показывал его в посте про переправу, но лишь единожды судно, выйдя из Канала, не заворачивало под острым углом к Нижнему Бестяху, а направилось вниз по реке:
3.
По левому борту остаётся Жатай (11,5 тыс. жителей), почти сросшийся с городом. Село на этом месте возникло в начале ХХ века, судя по тому, что не ясна точная дата - как бы не в Гражданскую войну. Специализацию же ему принесла война Великая Отечественная: мало того, что творилось на далёких фронтах, так ещё и ледоход в 1942 году покорёжил множество судов в Якутске. На следующий год для зимовки был выбран затон чуть ниже по течению, а уже в 1948 году Жатай получил статус ПГТ. Ныне это, наряду с Пеледуем, основная база судов ЛОРПа, в первую очередь работающих в низовьях. Переходящий в кладбище судов, Жатайский затон и летом представляет собой впечатляющее зрелище, но самое интересное там происходит зимой: судоремонт с якутской спецификой - это "выморозка". В ноябре выморозчики делают майны почти до воды (и это "почти" - особое искусство), чтобы лёд под днищем судна скорее промерзал до дна, а затем - вырубают и вытапливают в нём самые настоящие доки, за зиму вывозя из затона до 7 тыс. кубометров льда. В жатайскую спячку залегает на зиму и наш теплоход, а пока идём мимо цехов и кранов за густым тальником:
4.
Вот и первая остановка ниже Якутска - судно "Ереван":
5.
Это бункеровщик, то есть речная заправка - такие висят всю навигацию на рейдах крупных посёлков. "Михаил Светлов" подходит к "Еревану" дважды - в начале и в конце круиза: заправка длится несколько часов, но хватает её на 3000 километров пути туда-обратно или несколько плаваний к Ленским столбам.
6.
Стационарность "Еревана" хорошо видна - островитяне даже развели на борту огород:
7.
А с пассажирами "Светлова" переглядывалась очаровательная белая кошка:
7а.

По пути вниз, чтобы заправляться было не скучно, с бункеровкой совпадает Капитанский Коктейль, на котором пассажирам представляются герои прошлой части - сам молодой капитан Николай Баньков и команда сопровождения во главе с народным артистом Республики Саха Дмитрием Артемьевым.
8.
А вот на обратном пути за несколько часов до прибытия в Якутск во время бункеровки лучше неистово зажигать в баре или на Солнечной палубе - каюты по левому борту затягивает топливными парами, так что в последнее утро круиза я проснулся в раздражении и дурноте.
9.
Округу Якутска, левобережную долину Туймаада, замыкает Кангаласский мыс. В его обрывах отчётливо видны чёрные прожилки угля - отголоски грандиозного Ленского бассейна, они будут сопровождать нас ещё в трёх частях.
10.
Как можно понять по высоте над водой, мыс я фотографировал не с "Михаила Светлова", а с автопарома Кангалассы - Огородтах в начале недельного пути по Заречным улусам. Это единственные в сегодняшнем рассказе кадры не из круиза, но вот сам круиз, его 10-дневная часть в низовьях - путь в обе стороны. В хронологическом порядке я рассказывал о нём в обзоре Ленского путешествия, а теперь порядок вновь географический. Так что соседние кадры могут быть сняты с разницей в неделю - по пути то туда, то назад.
11.
Так, именно на обратном пути "Михаил Светлов" подходит к единственному на маршруте капитальному причалу:
12.
Оставшемуся от нефтебазы у села Тит-Ары, от которого всего пара километров до музея "Дружба" в Соттинцах. Этот обширный скансен в потрясающе красивом месте, где первые 10 лет до переноса в 1642 году в Туймааду находился Якутский острог, я уже показывал отдельно. За десять дней до круиза мы приехали туда по отличной погоде и нам провели индивидуальную экскурсию, так что я не видел никакого смысла вновь идти туда в толпе и серой дымке. Вместо этого я разложил прямо на палубе свой ноутбук, за 9 дней в глуши истосковавшись по интернету.
13.
Здесь сходят на нет и дороги - на правом берегу они заканчиваются в Соттинцах, а по левому тянутся ещё несколько десятков километров вдоль долины Энсиэли - последней по течению и самой обширной из Ленских долин, в 11-14 веках ставших этническую колыбелью якутов.
14.
"Столица" Энсиэли - крупное село, по сути скорее небольшой городок Намцы (10,5 тыс. жителей). Он назван в честь одного из сильнейших якутских племён, чей бенефис выпал на 1630-е годы. Тогда кангалассы во главе с Тыгыном-дарханом были покорены русскими казаками, а их давние соперники борогонцы любезно предоставили казакам плацдарм, и намский тойон Мымак решил, что остался за старшего среди саха. В 1634 году Ленский острог едва выдержал осаду под его началом, но и смирившись с русским подданством, намцы оставались для Якутии "не последней спицей в колесе". Из Намской столовой был приглашён в лучшие рестораны Якутска законодатель национальный кухни Иннокентий Тарбахов, а местная школа славится на всю республику своей математикой и физикой. Сказывается и то, что Энсиэли в тупике дорог - по левому берегу тянется Якутская Ривьера с десятками турбаз на Лене, включая роскошный Графский Берег. Да и достопримечательности есть: в Никольцах - музейные старый русский дом и гужевая мельница, в Хамагатте - новый тенгрианский храм, в Хатырыке - собирательная, но очень убедительная реплика сибирского острога и отличный музей... Но с реки ничего не видать, а вниз по течению "Михаил Светлов" ещё и минует эти берега глубокой ночью:
15.
Хмурым утром после которой я вышел на палубу и увидел поразительно бескрайний водяной простор: сквозь плоские острова разверзается устье Алдана. Это крупнейшая в России река, впадающая в другую реку: по длине (2273км) и среднегодовому расходу воды (5246 м³/с) он где-то на 20% крупнее Ангары или Камы. В первой половине лета Алдан, разбухающий до 19 тыс. ежесекундных кубов вдвое превосходит Волгу. Целиком располагаясь в Якутии, он описывает фигуру наподобие серпа по её южной части, через самые богатые разведанными полезными ископаемыми Алданское нагорье и подножья хребта Сунтар-Хаята у границы с Хабаровским краем. И этот холодный рассвет - не последняя наша встреча с Алданом:
16.
За слиянием двух рек, где Лена окончательно выходит на проектную мощность, примостилось село Батамай в пару сотен жителей. Школу им, однако, в порядок привели:
17.
И даже про модный знак не забыли:
18.
С реки просматривается даже парочка памятников. Ближе, видимо, мемориал Победы, а поодаль - три сэргэ Чурапчинским переселенцам, в 1942 году отправленным на эти берега ловить рыбу для фронта и тыла. Тогда из Чурапчинского улуса выселили до трети жителей, а из них примерно треть, 2 тысячи человек, погибли от голода и холода в первую зиму на необустроенных берегах. По Чурапче эта история ударила как бы не тяжелее, чем сама война, ну а памятники Чурапчинской трагедии - неизменный атрибут сёл в низовьях.
19.
За Батамаем мы ушли в полосу тяжёлого дождя, и я вернулся досыпать в каюту - до следующего населённого пункта 7 часов пути, порядка 140 километров.
20.
Вновь выйдя на палубу, первым делом я увидел на тёмном берегу блестящее нечто, похожее на отработавшую ступень ракеты с космодрома "Восточный". Они действительно падают в окрестную тайгу, но по "принципу зебры" всё же вероятнее, что это бак водонапорки:
21.
Сквозь пелену дождя проступил скалистый мыс под сопкой Баатылы, на гребне которого можно различить небольшое кладбище:
22.
За поворотом встречает индустриальный пейзаж:
23.
Вернее, то, что от него осталось:
24.
Это Сангар - центр славного своими карасями Кобяйского улуса и конечный пункт "Ракеты" не с Восточного космодрома, а из Якутского порта (см. позапрошлую часть). Сейчас тут живёт 3,2 тыс. человек, а в лучшее время жило более 10 тысяч. В Якутии с её мозаикой мононациональных земель Сангары (именно так, во множественном числе, название произносят местные) - один из немногих двунациональных русско-якутских посёлков. В общем, всё говорит о том, что это был городок одного предприятия.
25а.

На площади обширнее любой страны Европы (750 тыс. км²) в северо-западной четверти Якутии раскинулся колоссальный Ленский угольный бассейн, в России уступающий запасами (не менее 1650 миллионов тонн) лишь соседнему Тунгусскому бассейну. Пласты Ленбасса уходят на глубину до 600 метров, но первые тонкие слои видны прямо в обрывах ленского берега. Здешнего угля могло бы хватить на несколько веков всему человечеству, но пока что Ленбасс, слава богу, работает на нужды разве что поселковых котельных. Добычу ведут шахта Джебарики-Хая выше по Алдану да разрезы Харбалах на Татте, Кангаласский близ Якутска и Кировский в 800 километрах западнее около Нюрбы. Но все они были заложены лишь в советское время, а вот к береговым пластам приглядывались ещё учёные Камчатских экспедиций и ходившие по Лене купцы, в эпоху пароходов мечтавшие хоть чем-то заменить "золотой" уголь с материка. Богатейшие из них "Наследники Анны Громовой" (см. Витим) в 1913 году организовали экспедицию под началом штейгера Льва Либермана, который определил урочище Сангар лучшим местом для закладки шахты. В 1927 году к подножью Баатылы высадилась партия уже советских геологов и строителей под началом Евгения Некипелова, прежде работавшего на Ленских приисках, и вокруг пущенного в 1937 году рудника вся жизнь Сангара крутилась последующие полвека. К 1940 году Сангар разросся до ПГТ, а вскоре помимо русской, якутской, эвенкийской речи тут зазвучала финская - ещё до чурапчинцев на Лену прибыли депортанты из под свежеприсоединённого Выборга. В основном - ловить рыбу, заготовлять дрова и дары леса: местные ушли кто на фронт, кто в забой. Под лозунгом "наш рУдник - тоже крепость, наш уголь - бомба по врагу" шахты работали на полную мощность и даже выходя за неё: в июне 1942 года взрыв метана в шахте №2 оборвал жизни 22 рабочих. Но и после войны, в отличие от многих шахт, начавших деградировать уже в 1950-х, добыча в Сангарах только росла, достигнув пика в 1990-м. Крах был стремительным: в 1997 году шахту закрыли как нерентабельную, а пелена дождя скрывает порой весьма густой дым тлеющего с 2000 года подземного пожара:
25.
Судя по чужим фотографиями, улицы Сангара, зажатого между Леной, сопкой Баатылы и озёрами Алысардах и Абычча мрачны, но по крайней мере с реки он совсем не производит впечатление города-призрака. Где-то среди его домов стоят мемориал Победы, памятники Чурапчинским переселенцам и погибшим в 1942 году шахтёрам, а на Лену глядит бюст красного финна Отто Кальвица - полярного лётчика, пионера сибирских гидропланов (см. здесь), в 1930 году разбившегося у Сангар.
26.
Но главная достопримечательность Сангара - виды с Баатылы на бескрайний простор Лены с её многочисленными островами. Ещё дальше, за сопкой, стоят гигантские металлические конструкции заброшенной тропосферной станции "Дон", аналоги которой я видел под Салехардом и Амдермой. Может, они и с реки просматриваются, но явно не в проливной дождь:
27.
На пару километров от Сангара вниз по берегу Лены уходит автодорога, напрочь изолированная от других дорог:
28а.

Она ведёт к аэродрому, начинавшемуся в 1930-х годах как гидропорт, в котором и разбился Кальвиц. В советское время сюда исправно летали самолёты вроде Ан-26 (см. здесь), но теперь он принимает только вертолёты да кукурузники из Магана, да и то лишь в межсезонья, когда тает зимник по ленскому льду, но ещё не выходит в навигацию "Ракета".
28.
Огибаем скалистую "платформу", на которой лежит аэродром:
29.
И уходим дальше в пелену дождя:
30.
Глядя на дождь, я надеялся нормально переснять это всё на обратном пути, но не тут-то было! Мало того, что Сангары (кстати, последнее вниз по Лене место, где работает мобильный интернет) "Светлов" проходит вверх по течению глубокой ночью, так ещё и вместо дождя в эти дни пришёл дым. Апокалиптические картины прошлогодней Якутии, охваченной небывалыми лесными пожарами, помнят, наверное, все. Ещё крепче их запомнили, само собой, сами якуты, месяцами изнывавшие в едком дыму, а то и потерявшие свои угодья и ягодники (последние восстанавливаются дольше всего, иногда до века). Нынешнее лето было даже жарче прошлогоднего, но видимо благодаря сознательности в обращении с огнём подобной жути удалось избежать. Зато горел север Хабаровского края, и редкий в общем здесь восточный ветер задул в конце июля и на пару недель погрузил Центральную Якутию в дымную пелену. На других притоках Алдана в это же время хлестали небывалые дожди, и в совокупности всё это порядком подпортило "Светлову" последнюю зелёную стоянку. Обычно в предпоследний полный день круиза теплоход швартуется к Тайменному острову, куда по осени в паре с "Демьяным Бедным" ходит в специальный круиз "Love is Рыбка", но в июле река поднялась так, что острова скрылись под водой, а тальник на них стал подобием мангров. Коренные берега приобрели неприятно-неряшливый вид - паводок вынес с Алдана ещё и немерено топляка. Но зелёная стоянка есть в программе, программу надо выполнять, и "Светлов" причалил куда причалилось где-то между Сангаром и Батамаем. Мы с Наташей расположились на бревне и стали готовить обед на горелке (в круиз нас взяли без питания), и каково же было наше удивление, когда по берегу на запах гречки с пеммиканом прибежала пара собак! Пассажиры, тянувшиеся мимо нас сперва в одну, а потом в другую сторону, пояснили, что лаек зовут Ласка и Север, а там дальше ещё и мамашка их Маня и её хозяин Виталий - смотритель основанного в 1997 году природного резервата "Белянка"
31.
Зашли к нему пообщаться и мы. Кордон представляет собой россыпь лодок, блаков и сараев вокруг пары домиков - жилого (кадр не получился) и гостевого, который построили несколько лет как учебный центр из материалов разобранной баржи. Чуть в стороне в лесу - могила предыдущего смотрителя, ну а русский (или метис) Виталий безвылазно живёт тут уже несколько лет, подальше от родного Сангара с его дрязгами и водкой. Порой зелёный змий приползает за ним вместе с друзьями-рыбаками, но друзей этих год от года становится меньше: по словам Виталия, "Лена не любит пьяных" и забирает их в мутные воды порой. Его кордон - на периферии странного миниатюрного мирка, где Сагары подобны Вавилону, центры жизни - несколько турбаз на островах, Якутск лежит где-то в другом измерении, а Москвы не существует вообще. Или скорее Москва, как и Нью-Йорк или Шанхай - мифический город: на кордоне есть вай-фай, через который Виталий активно общается с миром. Нить эта столь тонка, что когда однажды поломался роутер, в ожидании ремонта единственной связью стали записки, которые Виталий передавал с лодками и машинами, проезжавшими мимо по воде или льду. У кобяйских рыбаков и речь своя - в диалоге с Виталием я несколько раз записывал непонятные слова. И если вывозок (длинная леска с крючками на осетра) или пешня (пика для пробивания льда) - всё-таки термины, то вот дальше пошёл откровенный жаргон: дошираки здесь - не лапша, а резиновая обувь, уховёртка - не насекомое, а птица "вроде пеликана" - её общепринятое название смотритель тайги не знал. Друзья привозят ему продукты из города, а дичь Виталий добывает сам - для личных нужд смотритель резервата может делать это легально. Да и не для личных тут стало нечего ловить... вернее, незачем: пушной промысел, весьма прибыльный в прошлые годы, столкнулся в Сибири с самым настоящим кризисом перепроизводства - за лисью шкуру нынче дают редко более 1000 рублей. Так что затворничество Виталия теперь мало кто нарушает.
32.
Тем временем у теплохода команда жарила для пассажиров шашлыки, а на берегу сложили дрова в Костёр Дружбы. Пока шли приготовления, мы успели сходить ниже по берегу и искупаться - вода оказалась неожиданно тёплой для широты Онеги, и даже топляк не помеха - очень весело оказалось плавать верхом на бревне.
33.
Наконец, под алгыс (благословение) Дмитрия Артемьева костёр полыхнул искристо и жарко, и народ начал водить вокруг него якутский хоровод осуохай.
34.
Но из дымного пути обратно вернёмся вновь в дождливый путь туда. В сотне километров после Сангара мы прошли устье Вилюя - последнего по счёту из 4 главных ленских притоков. По расходу воды (1480 м³/с) он слегка превосходит Оку, а по длине (2650км) среди всех рек второго порядка в России уступает лишь Иртышу и Нижней Тунгуске. Выше по Вилюю будут крупнейшие в Сибири тукуланы (барханы вроде Чарских песков, там грозящие слиться в пустыню километров так 100 шириной), старинный городок Вилюйск, самые глухие уголки Саха-Сирэ, в 17 веке ставшие убежищем для непокорных племён, и наконец - драги и кимберлитовые трубки Мирного, Удачного и Айхала, дающие четверть мировой добычи алмазов, и тройка ГЭС (причём две - на одной плотине близ посёлка Чернышевского), дающих этой добыче ток. Глухой Вилюй - тема отдельного путешествия, а сквозь Сорок островов не видать его устья:
35.

Напротив, по правому берегу, тоскливый пойменный пейзаж ненадолго оживляют лесистые горы Усть-Вилюйского хребта (до 998м):
36.
Это отрог Верхоянского хребта - огромного и безлюдного нагорья, тянущегося на 1200 километров между Леной и Яной от Алдана до полярных берегов.
37.
И надо сказать, за три недели на Центральноякутской равнине (явно входящей в пятёрку крупнейших российских равнин!) мы успели забыть, как вообще выглядят горы:
38.
Больше всего же меня озадачило вот такое явление - густой пар, тёплым дымным вечером клубящийся над студёными горными речками:
38а.

Усть-Вилюйский хребет вытянут на 70 километров, но Лена задевает его лишь по касательной - быстро и совсем не заметно горы тают в дожде или дыму. Но вглядываться в правый берег можно и дальше: если старая "Ракета" ходила из Якутска в Сангар, то для VIP-"Метеора"-235 из той же позапрошлой части конечным пунктом обычно становится Лямпушка, или Ляписке - база отдыха в устье одноимённой речки. Для якутян это название звучит примерно как для москвичей Барвиха, и так и манит журналистов, мечтающих с чего-нибудь сорвать покров: визит-центр Усть-Вилюйского заповедника теоретически принимает и коммерческих (очень коммерческих!) отдыхающих, но в первую очередь это место отдыха начальства Республики и её высоких гостей.
39.
С фарватера взгляд привлекает Никольская часовня, поставленная в 2006 году сплавной экспедицией миссионеров. Кое-где пишут, что её основании заложен валун с вбитым в него кольцом, к которому в старину цеплялись речники во время штормов. Но по крайней мере издали ничего подобного не видно:
40.
Теплоход идёт сквозь пустое пространство. Урчит мотор, шлёпает волна, в баре на Шлюпочной палубе играет музыка. За корму уходят километр за километром, поворот за поворотом, остров за островом, и со всеми островами ширина реки тут достигает немыслимых 35 километров. Среди островов выделяется Эбе-Арыта, более известный как остров Аграфены:
41.
Единственный увенчанный длинным холмом (фото вблизи есть у Карпухина), на повороте реки видимый за поймой издали, во все времена он служил ориентиром. Ещё - преградой: деревянные паузки (см. Качуг) предпочитали бурному плёсу узкие тихие протоки, а вокруг Аграфены на многие километры тянутся песчаные мели. Купцы традиционно угощали здесь свою команду и бурлаков водкой, якуты - оставляли дары местным иччи и сюлюккюнам. Да и силуэт его на 4-й месяц пути напоминал купеческой команде фигуру лежащей женщины. Конечно, вокруг такого мест не могло не родиться легенд. В одних преданиях их героиней была русская старуха-колдунья-отшельница Агриппина (тем более Эбе-Арыта и значит Бабушка-остров), в других якутка Аграфена Чуонах представляется злой старой шаманкой, которая мстит людям за своё похищение женихом-тунгусом и убийство им отца - старого шамана Киктэя, чья голова после смерти ушла на прядях волос куда-то в тайгу. В других версиях Аграфена Чуонах была красавицей-дочерью злого Киктэя, что влюбилась в русском купца и утопилась в реке, когда отец сгубил её возлюблённого, наслав шторм. На "Михаиле Светлове" есть традиция проходя Сорок островов на обратном пути ставить самодеятельный спектакль по этой версии легенды:
42.
Так как больше половины пассажиров обычно были иностранцы, в начале спектакля к Аграфене сватались какие-нибудь немец, араб и китаец. В этом году национальности пришлось заменить профессиями - дары шаманской дочери приносили оленевод, врач, музыкант и блоггер. Думаю, нетрудно догадаться, кто его сыграл:
Роль Аграфены исполнила фолк-артистка Алёна Абрамова, оленевода - певец Андрей Латышев, ну а старого шамана изобразил, конечно же, сам Дмитрий Артемьев, все знакомые нам с прошлой части. Но обратите внимание на ряд деталей: во-первых, Киктэй упоминался только как "шаман" и никогда как "ойун" - общепринятое эвенкийское слово, в отличие от якутского, людей саха ни к чему не обязывает. Одеяние на Дмитрии вроде и правильное ойунское... но только без металлических оберегов, и даже бубен круглый, в то время как настоящий якутский дунгур имеет по краям от 3 до 12 (в зависимости от силы ойуна) зазубрин. Да и играть такую роль якутский актёр не станет без благословения настоящих ойунов.
43.
Между тем, мы выходим из полосы дыма и дождей навстречу прекрасным закатам:
44.
Сорок островов тянутся и за Жиганск, однако по левому берегу здесь проступают обрывы. Один из них, километрах в 40 выше Жиганска, привлекает взгляд деревянным знаком с заглавного кадра - вот и тут его можно различить на вершине треугольного яра. По пути вверх по течению теплоход встаёт здесь на ещё одну (хронологически - первую) зелёную стоянку:
45.
Команда причудливо швартует его за мощные канаты к деревьям:
46.
У трапа пассажиров ждёт капитанская уха из закупленной на Тит-Арах ленской рыбы:
46а.

Берег тут живописен и сам по себе - в первую очередь за счёт разноцветных камней:
47.
И целых пластов угля, проступающих прямо из песка на пляже:
48.
Стелу Полярного круга поставили жители Жиганска, но перелопатив пол-рунета, я так и не смог понять, в каком году (а кто-то же сто процентов с первой попытки нагуглит!). Судя по утверждённому тогда гербу Жиганского района (от исторического герба Жиганска отличается цепочкой из 5 звёздочек) - не раньше 2005 года. Ставили без измерений, там, где полярный круг определяли старики, и промахнулись в итоге на пару десятков километров. На судне мне говорили, что настоящий полярный круг проходит чезе остров Аграфены, а на самом деле истина посередине - в самом прямом смысле слова.
49.
Стела покрыта автографами круизных пассажиров:
49а.

А за ней начинается низкорослый редкий замшелый лес, последняя стадия тайги перед лесотундрой:
50.
Внизу - не поддающийся разуму ленский простор: без всяких островов тут ширина реки порядка 5 километров.
51.
Столь же не поддаётся разуму и безлюдье - на 400 километров от самых Сангар позади ни единого населённого пункта:
52.
Поперёк русла виднеется Верхоянский хребет - он так и тянется вдоль всей Нижней Лены, но километров за сто от неё. Здесь в кадре его высочайший 2-километровый хребет Орулган, а где-то чуть севернее находится и безымянная высшая точка (2283м)
52а.
Вдоль берега уходят полосатые яры с чёрными полосками угля:
53.
За ними нас ждёт Жиганск.
54.
О котором - в следующей части.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр. Кастытыам.
Кюсюр.
Кюсюр - Тит-Ары. Ленская труба.
Тит-Ары - остров Столб.
Амуро-Якутская магистраль.
Нижний Бестях - Томмот.
Алдан - Могот.
Нерюнгри.
|
Метки: по Лене якуты природа дорожное Якутия этнография шахтёрское |
Река по имени Лена. Часть 10: "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный" |
...и не надо восклицать "щьорт побьери!": в "Бриллиантовой руке" роль "Михаила Светлова" сыграл океанский лайнер "Победа", а его тёзки на бриллиантовой реке тогда ещё и в проекте не было. Рождённый на далёком Дунае, в водах Лены огромные, белоснежные, до сих пор сверкающие новизной "Михаил Светлов" и двойник его "Демьян Бедный" - самые настоящие короли. В прошлой части я показывал экзотическую технофауну ленских низовий вроде последней российской "Ракеты" или рейсового "Механика Кулибина". Но судно, на котором мы прожили 12 дней, облазали всё от капитанского мостика до машинного отделения и чуть-чуть не дошли до Тикси, заслуживает отдельного рассказа.
Ну а как мы попали в круиз по Лене? Так же, как и во всей якутской поездке - благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, администрации Республики Саха и, само собой, управляющего всеми этими судами "Ленатурфлота".
Едва ли не каждый мой пароходопост содержит удивление тому, что большие пассажирские суда всемогущий Советский Союз обычно заказывал за границей. В основном, конечно в братских странах вроде ГДР ("Кулибин" или "Родина" и "Калашников" с Оби), Польши ("Игорь Фархутдинов" с Сахалина), Венгрии (колёсные пароходы, ходившие по Лене до 2004 года) или хотя бы нейтрально-социалистической Югославии ("Клавдия Еланская" с полярных морей). Но не забывали в Стране Советов и про рабочих буржуазной Австрии, изнывавших под гнётом обильного капитала на основанных в 1840 году Игнацем Майером дунайских верфях Österreichische Schiffswerften AG (ÖSWAG) в Линце и Корнойбурге - городе-спутнике Вены. По заказу СССР там было построено 11 теплоходов 3 разных типов, последними из которых в 1984-86 годах стали 5 судов Q-065 "Сергей Есенин". Позже они распределились между "Ленатурфлотом" и "Мостурфлотом", у которого на ходу осталось лишь один такой теплоход - головной "Сергей Есенин" (1984). "Александр Блок" в 2012 году был конвертирован (то есть разобран и построен заново с использованием исходных элементов) в Рыбинске в новое судно "Александр Грин", а "Валерий Брюсов" с 1994 года стоит как флотель у московской набережной. Совсем иначе дело обстоит в холодных водах Лены, где "Демьян Бедный" (1985) и мой ровесник "Михаил Светлов" (1986) среди бескрайних хмурых пространств, пустых берегов, обветшалых селений, редких танкеров и рыбацких моторок больше похожи на космические корабли, чем на речные. Этот контраст усиливает безупречность - ни малейших трещин в краске, вмятин или потёков ржавчины! "Демьян Бедный" изначально строился для Лены, а "Михаил Светлов" пару навигаций успел отходить по Обскому бассейну с припиской к Тюмени, попав в Якутск лишь в 1988 году. В 1999-2013 годах "Светловым" владела "Алроса", а затем он вернулся в "Ленатурфлот" и теперь выглядит его флагманом. "Демьян Бедный" раз в год в июне по высокой воде возит круиз от Усть-Кута до Якутска, причём маршрут его односторонний, а за несколько меньшие деньги (правда, без остановок) пассажирские места продают на перегон. Встречаются два теплохода на Ленских столбах, куда совершают рейсы выходного дня, для "Светлова" представляющие собой ещё и круиз-в-круизе: основная работа флагмана - 3-4 рейса в год от Якутска до Тикси.
2.

По сравнению с двухпалубным "Кулибиным" из прошлой части, оба трёхпалубных "австрийца" элементарно крупнее: 90 метров в длину, 15 в ширину, те же 12 в высоту и 1324 тонны водоизмещения. Последнее, впрочем, непропорционально мало: у Q-065 плоское дно и небольшая осадка.
3.
Для ленских условий это и минус, и плюс. С одной стороны, теплоход очень медлителен (21 км/ч) и не слишком подходит для выхода в полярные моря (из-за чего мы и не попали в Тикси), но с другой стороны это даёт ему возможность швартоваться к диким берегам без причалов.
4.
Знакомство с теплоходом начинается в фойе, обычном по сути гостиничном лобби за автоматическими дверьми. У стойки - Лариса Сергеевна Соловьёва, вот уже много лет бессменный директор нижнеленских круизов. Стопка листов перед ней - программы круиза на каждый день, которые раздают пассажирами. В картотеке за спиной администраторов хранятся ключ-карты от кают и именные бейджики: сдавать первые и забирать вторые имеет смысл при сходе на берег, чтобы перед отбытием судна команде было легче проверить, все ли пассажиры на борту.
5.
Здесь же - табличка "Акционерного общества Австрийских верфей" и портреты самого Михаила Светлова. Родившийся под фамилией Шейнкман в Екатеринославе, он прошёл Гражданскую войну, и в 1920-х блистал как один из важнейших поэтов молодого СССР. Из стихов Светлова по-настоящему ушла в народ, конечно же, "Гренада", перепетая за сотню лет десятками музыкантов и переписанная десятками поэтов под реалии текущих войн. Но по-настоящему удивительно судьба поэта складывалась в 1930-е годы, когда позволяя себе высказывания вроде "кроме пошлой официальщины, ждать нечего" (о Союзе Писателей) и ДАЖЕ "Коммунистической партии уже нет, она переродилась, ничего общего с пролетариатом она не имеет" он не то что репрессирован не был, а спокойно продолжал публиковаться и получать государственные награды. Особенно обильные по итогам Великой Отечественной, которую поэт прошёл военкором. Однажды Светлов сказал при встрече Варламу Шаламову "Я, может быть, плохой поэт, но я никогда ни на кого не донёс (....) для тех лет это немалая заслуга - потрудней, пожалуй, чем написать "Гренаду"". Умер Михаил Аркадьевич в 1964 году от рака лёгких, и первыми сделал его "человеком и пароходом" Леонид Гайдай, в 1968 снявший "Бриллиантовую руку".
5а.

В файлах вокруг портрета в отражении всякие расписания и инструктажи по технике безопасности, а ещё - обновляющиеся каждый день описания примечательных мест, мимо которых проходит судно. Надо сказать, отличные - о Нижней Лене я узнал из них в разы больше, чем из любого путеводителя. Интерактивная карта пути - тоже аналоговая:
6.
Схемы палуб и длиннющий судовой коридор, этим концом выводящий к парикмахерской и прачечной. Стиральными машинами в ней могут пользоваться и пассажиры, но я так ни разу и не сподобился туда заглянуть:
7.
Со стороны кормы коридор оканчивается рестораном:
8.
Здесь шведский стол и очень симпатичный интерьер:
9.
Сквозь фойе все три палубы соединяет винтовая лестница, а не столь эффектные прямые лестницы и выходы с обычными (не автоматическими) дверьми есть ещё у ресторана. Как и на "Кулибине", ярусов на "Светлове" чуть больше, чем палуб. В самом низу, разумеется, трюм с каютами команды - по словам администраторши, почти такими же, как у пассажиров, только с иллюминаторами вместо окон:
10.
Фойе - на Главной палубе с кнехтами, трапом и лебёдкой. Этот вид, как можно понять по заднем плану - с "Демьяна Бедного":
11.
А вот интересное устройство - люк с подъёмником, через который на одной из стоянок матросы спускали в трюм мешки с рыбой:
11а.

На Шлюпочной палубе я так и не обнаружил шлюпок, зато стоит ряд тяжёлых, но вполне переносных стульев. Эта палуба представляет собой судовой променад:
12.
В отличие от "Кулибина", где прогулочная галерея опоясывает судно, на "Светлове" для пассажиров закрыта корма, у поворота которой висят запасные винты. Со стороны носа - странная труба, то ли прожектор, то ли динамик:
13.
Сам нос с кнехтами, лебёдками и люкам в какие-то технические отсеки - почти такой же, как у "Кулибина":
14.
С носа открываются, конечно, и самые лучшие виды, вот только холодный ветер Арктики пробирает до костей, а то и валит с ног. Для тех, кому не нужны фотографии товарного вида, эту проблему решает панорамный салон:
15.
Он же - библиотека, он же - кают-компания, а за одиноким биллиардным столом проводятся всяческие мастер-классы для пассажиров. Вот тут например - по якутским настольным играм, о которых я прежде рассказывал здесь.
16.
Коридор Шлюпочной палубы:
17.
В кормовой её части, над рестораном - бар. Наливают там в долг и почти никак иначе - ведь наличкой тут мало кто пользуется, а безналичный платёж перевести можно только в самом конце круиза: 8 дней из 12 на маршруте нет сети. Ленты на креслах - конечно, наследство ковида:
18.
В баре происходит и большинство вечерних мероприятий, за которые в наш рейс отвечала вот эта вот великолепная семёрка - команда сопровождения, которая подсаживается в Якутске после Ленских столбов. Справа налево художник по костюмам Лилия Будищева (проводит основные мастер-классы), фолк-артистки Алёна Абрамова из театра "Олонхо" и Надежда Варламова с фольклорного отделения консерватории, главный в этой команде народный артист, солист театра танца и алгысчит (жрец) Дмитрий Артемьев, студент колледжа культуры Андрей Латышев...
19.
...помощница директора Анна Олисова (как преподаватель английского и французского в СВФУ, отвечала в первую очередь за работу с иностранцами, коих в этом году не завезли) и так много жившая в Китае, что сама стала похожей на китаянку Светлана Кобякова - серебряная чемпионка мира и 5-кратная чемпионка Европы по тайцзы.
20.
Все вместе, вечер за вечером, они добились погружения в якутскую культуру, с который мы, в отличие от других пассажиров, уже познакомились в красочном праздновании Ысыаха, долгих экскурсиях по музеям Якутска и недельной поездке по старинным сёлам за рекой. Вот звучит знакомый клич "Айхал! Уруй! Тускол!" - Дмитрий со товарищи провели алгыс (благословение) по 4 сторонам света:
21.
Вот Надежда Варламова в двух ипостасях - слева она в якутском кафтане кроя бууктаах (такой сложился уже в русские времена в подражание мундирам), а справа - в образе эвенкийки с оберегом в виде птичьей лапки и кумаланом (круглым ковриком) с Оленька:
22.
В якутском образе при ней уникальный хомус с двумя язычками и гирляндой бубенчиков. Такой был изготовлен в 1957 году для кремлёвском концерта по случаю Дней якутской культуры в столице, а его единственная копия звучит на борту "Светлова":
22а.

Вот так:
А.
Образ Надежды Варламовой - нежный и романтичный. Вот она поёт старую якутскую песню о любви:
Б.
Совсем иначе звучит исполнение Алёны Абрамовой - экспрессивно и даже чуть агрессивно. Она родилась в деревеньке на Татте, в очень бедной и к тому же пьющей семье, но пробилась своим путём, который вывел её на сцены театра "Олонхо" и "Михаила Светлова". Даже ржанию лошади подражать Алёна научилась сама, ещё в юности, много лет наблюдая за табунами:
В.
Дмитрий Артемьев сказывал нам "Олонхо", пел якутские песни, а в самодеятельном спектакле "Легенда об Аграфене", который ставится каждый рейс с участием пассажиров, исполнял роль шамана. В якутском обществе это не каждому дано: на такое лицедейство Дмитрия благословили настоящие ойуны (якутские шаманы). Тем более и алгысчит Дмитрий взаправдашний - так, после круиза он собирался ехать куда-то в Европейскую часть освящать мемориал на братской могиле красноармейцев из ЯАССР. А вот Дмитрий состязается с Надеждой в жанре чабыргах - якутских скороговорках:
Г.
Происходили тут вещи и более земные - вот скажем мастер-класс по строганине:
Д.
Русскую культуру в баре представлял вечер "Чай у самовара", а вот Светлана исполнила китайский танец с боевым веером:
23.
Поделки пассажиров, местами очень неплохие, по итогам мастер-классов Лилии Будищевой:
24.
Надежда демонстрирует на палубе свою фамильную реликвию - скрипку со струнами из конского волоса, которую, увы, пока не удалось правильно настроить. С командой мы тут в первую очередь и дружили. Наташа ещё опубликует у себя интервью, которые взяла у Дмитрия Артемьева и Алёны Абрамовой, а Дмитрий на прощание назвал нас "духовными людьми" и подарил пару оберегов да бутылочку якутского бальзама.
25.
Вообще же 55 человек команды - это на самом деле несколько разных команд: начальство и повара - местные, администраторы (они же горничные) - из Благовещенска, ресторанный коллектив - из Беларуси и "с юга", а матросы - молодые стажёры из Астраханской области с непривычными в Якутии именами вроде Алимхан или Селим.
26.
Кадры выше сняты на Солнечной палубе, вполне оправдывающей своё название - это главное общественное пространство на судне. Конечно, с учётом погоды - на пляжных стульчиках, шезлонгах и плетёных креслах хорошо сидеть, когда не заливает дождь и не пронизывает ветер. Тут обратите внимание на корму, где находятся спасательные шлюпки и плоты, в которые, надуваясь, развёртываются вот эти оранжевые тюки:
27.
По хорошей погоде Светлана Кобякова проводила здесь для пассажиров утреннюю зарядку и гимнастику с элементами тайцзы. По утрам её можно было застать тут за собственными тренировками с причудливыми кувырками и отработками приёмов тайцзы голыми руками, бутафорским мечом или боевым веером.
28.
Ещё выше Солнечной палубы - надстройки, из которых для пассажиров открыта одна - кинозал. Здесь весь круиз проходили лекции (например, о якутском шаманстве) от команды сопровождения и кинопоказы. Крутили как добротную документалку, в том числе советскую, так и ролики в Ютубе, и художественное кино. Например, "Первые" о покорителях Арктики в 18 веке или "Надо мною Солнце не садится..." - шедевр "Сахафильма" с местом действия на острове в море Лаптевых. Но первым делом, буквально на траверзе Нижнего Бестяха, в кинозале прошёл инструктаж по технике безопасности - капитан Николай Баньков с матросом Селимом учили пассажиров надевать спасательный жилёт и рассказывали о судовых тревогах - "человек за бортом", "общесудовая" (например, пожар или пробоина) и "шлюпочная" (оставление судна). Тут не секрет, что любой транспорт - средство повышенной опасности: за 36 лет нештатные ситуации на борту "Светлова" случались не раз, однако - без серьёзных последствий.
29.
В стандартный рейс "Светлов" может взять до 210 пассажиров. Фактически - меньше, так как круизы продаются покаютно, а значит где-то неизбежно остаются пустые места. В этом году флагман и вовсе шёл полупустым, работая на грани себестоимости: обычно до 70% пассажиров - иностранцы. Нам досталась самая типичная на судне 4-местная каюта, по которой мы без труда рассовали вещи и вполне комфортно жили все 14 ночей. Тут есть шкафы и гардероб, потолочная лампа и надкроватные светильники, розетки и приёмник внутрисудового радио. Часть кают оснащены вентиляторами, часть - кондиционерами. Окно приятно открывать на ходу - аэродинамика здесь такова, что даже в полярных широтах не слишком дует. А вот у берега лучше задраить его наглухо - первый раз не подумав об этом (вернее, судно пристало, пока мы спали), всю ночь мы истребляли комаров. Наименее приятная штука в каюте - диван: тесноватый и с жёсткой рамой, в которую утоплен матрас, чтобы не сползал во время качки. Самая впечатляющая вещь - шторы, рассчитанные на полярный день: однажды проснувшись в темноте, я был уверен, что и за окном глубокая ночь да чёрная вода, в которой отражаются огни теплохода... и каково же было моё удивление, когда я увидел лишь дождливые сумерки.
30.
На всём судне идеальная чистота, администраторы каждый день приходят в каюту с уборкой, а постельное бельё меняют раз за рейс штатно и когда угодно - по просьбе. А вот такой тут санузел - стены, пол и потолок обшиты какими-то очень приятным на ощупь упругим водонепроницаемым покрытием, а напор воды из душа валит с ног:
31.
Есть тут и трёх-, и двух-, и одноместные каюты, а одним из главных предметов сплетен круизного общества было - "кто же едет в люксах". Их тут всего три, и уже по прибытии в Якутск администраторши наспех прибрали один из них специально чтобы я там поснимал. Люкс напомнил 2-комнатную квартиру с прихожей:
32.
И спальней, похожей на номер в хорошей гостинице:
33.
Всё показанное выше, кроме чужих кают - локации общедоступные. В ещё пару мест на обратном пути водят экскурсии - например, в машинное отделение с шведскими дизелями, расположенное прямо под рестораном со шведским столом. На Главной палубе оно напоминает о себе непрерывными урчанием и вибрацией, которые быстро перестаёшь замечать. И лишь спустившись в трюм по узкой лестнице, понимаешь, как хороша на судне звукоизоляция - тут стоит адский шум:
34.
"Светлов" оснащён тремя двигателями общей мощность в 1341 лошадиную силу. Это меньше, чем у "Метеора", но и то с запасом: большую часть пути в работе лишь два. На прошлом и следующем кадрах - отечественные дизель-генераторы ДГ-200т, изготовленные в 2004 году то ли в Барнауле (везде так пишут), то ли в Тутаеве (судя по логотипу):
35.
Сами двигатели - "Вольво-Пента" из Дании, сделанные в 2017-18 годах. По пространству между ними можо оценить, насколько они компактнее "родных" немецких дизелей 1980-х годов:
36.
Отдельная гордость "Светлова" - системы очистки. Голландский сепаратор "Фрам" работает с подсланевыми водами, которые конденсируются внутри корпуса, и часто собирают в себя всякую техническую дрянь. Для стоков же есть шведский "Нептуматик", который полностью обезвоживает любые органические отходы, и очищенная вода используется повторно как техническая, а измельчённая в однородную массу грязь сжигается в инсинераторе - специальной герметичной печи.
37.
Пост управления находится в отдельном помещении за шумонепроницаемым стеклом, а жёлтая штуковина слева - это наушники, которые носят рабочие:
38.
Впрочем, даже здесь рассказ главного механика был слышен дай бог на расстоянии вытянутой руки, так что я почти ничего не уловил и не запомнил.
39.
Пульты машинного отделения:
40.
Осмотрев пугающей Аллараа-Дойду (Нижний мир) и суетливый Орто-Дойду (Средний мир), поднимемся теперь в Иесээ-Дойду - Верхний мир, роль которого играет капитанский мостик. Здесь экскурсантов встречает Юрюнг-тойон судового масштаба - капитан Николай Баньков за бескрайней приборной панелью. И не стоит спрашивать, где тут штурвал - современные суда давно уже управляются джойстиками. Да и теми больше подруливают на сложных участках - по глубоким местам и широким плёсам в хорошую погоду "Светлова" ведёт автопилот. Ещё тут есть GPS-навигатор, ГЛОНАСС-передатчик для аварийного сигнала (его Николай Владимирович обозвал "сырым"), эхолот (на чёрном экране), бумажная лоцманская карта и множество приборов, назначения которых неспециалисту вряд ли можно объяснить за отведённое на экскурсию время. Зато гостям разрешают дать гудок, чем особенно охотно пользуются дети:
41.
Основной пульт имеет дублёров по краям - на случай, если требуется соответствующий обзор:
42.
Аналоговые табло с обратной стороны:
43.
И если уж ГЛОНАСС сырой, то куда же без икон и талисманов?
44.
Рядом с ними - мемориальная доска Анатолию Пожарову, который успел поруководить некоторым количеством описанных в прошлой части судов, а в 2017-м скоропостижно скончался в должности капитана "Светлова". Текучка кадров тут изрядная: на каждую навигацию, примерно с мая по декабрь, когда суда уводят в Жатай и готовят к зимовке, "Ленатурфлот" набирает команду заново, и даже капитан до последнего момента не знает, позовут ли его в очередной раз.
44а.

Вид из ходовой рубки на ленский простор - идём на юг где-то между Кюсюром и Жиганском:
45.
Ещё раз оглядим "Светлов" глазами капитана:
46.
И пойдём знакомиться с вице-флагманом - "Демьяном Бедным":
47.
В порту Якутска и на Ленских столбах два теплохода здорово смотрятся в паре, и какая-нибудь "Неизвестная Россия" вполне могла бы выложить такой кадр Вконтакте с подписью "найди десять отличий!":
48.
Самого важного отличия, впрочем, на кадре выше не видно - это корма, увешанная моторными лодками и гидроциклами:
49.
Граффити с дельфинами на обоих бортах:
50.
И видимо оставшаяся со времён Царь-вируса разметка прогулочных палуб:
51.
В фойе тут другие картины и как будто бы более яркий свет. Обратите внимание на кадку с удочками - это не "Демьяновская" специфика, на "Светлове" во время зелёных стоянок такие тоже ставят. По словам более опытных в этом деле пассажиров, рыбалка на Лене идёт хорошо, особенно не с пляжа, а с борта.
52.
В фойе - портрет Ефима Придворова, более известного под своим псевдонимом, по которому и названо судно. Псевдоним этот он взял от своего родича, "мужика вредного" - острослова, безбожника и деревенского, как сказали бы в эпох интернетов, тролля. Начинал Ефим, впрочем, с патриотических стихов и лирических романсов, а в пролетарские поэты сманили его однокурсники из Петербургского университета с Кингисеппом (тогда ещё человеком, а не городом!) во главе. Но став Демьян Бедным, Ефим Придворов со своими чеканными ритмами, безмерной простотой картины мира и деревенским острословием попал в струю. Ещё до революции он успел прославиться среди большевиков и подружиться с молодым Сталиным, а уж после революции так и вовсе жил в кремлёвской квартире и разъезжал по стране в личном вагоне. Его славу в 1920-х годах можно было бы сравнить разве что со славой современных поп-звёзд, с той разницей, что обледигагаживание современной музыки не предлагается прямым текстом, а вот "одемьянивание русской литературы" предлагалось вполне. Слава, видать, и сгубила Придворова - в 1930-х он не угнался за конъюнктурой, и его насмешки над царской Россией на грани насмешек над русским народом совсем по-другому начали звучать после того, как лучший друг Демьяна провозгласил вместо Мировой революции "построение коммунизма в отдельно взятой стране". До ареста, лагерей и подвалов Лубянки, как и в случае Светлова, дело не дошло, но к концу 1930-х годов изгнанный из партии Демьян стал действительно бедным. Он изо всех сил славословил Вождя, в разговорах с друзьями ругая его последними словами, а Вождь тем временем черкал на придворовских рукописях резолюции вроде "передайте этому стихоплёту, что может больше не писать". Лишь в войну поэт вернулся в строй как Демьян Боевой, а умер от сердечного паралича через две недели после Победы.
52а.

У входа в ресторан с таким же точно, как и на "Светлове", интерьером - фотографии именитых гостей. Но принцип "как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" в очередной раз действует - главным, пожалуй, отличием двух теплоходов можно назвать контингент.
53.
Светловцы - люди респектабельные, порой высокомерные, и в большинстве своём - возрастные. На них даже спортивный костюм может стоить тысячу-другую нерублей, а самое главное слово их жизни - СТАТУС. И статусом этим они дорожат, тем более что многие из них не в первый и не в последний раз видят друг друга. Тут собирается настоящая круизная субкультура со своей атмосферой и ценностями. Они ходили на белых судах по Волге и Енисею, Амазонке и Янцзы, Карибам и Средиземноморью, Антарктике и Лофотенам. Каждый знает хотя бы один неочевидный способ купить круиз с хорошей скидкой. Многие бывали в каких-то редких и необычных круизах, случающихся единожды при небывало высокой воде - например, по Вятке или Мезени. А уж на тех, кто прошёл Енисей на теплоходе "Максим Горький" с вертолётной экскурсией к Путоранам здесь смотрели примерно так же, как олдскульные неформалы на своих товарищей, прорвавшихся в гримёрку любимой рок-звезды. На борту "Светлова" чинно, даже чопорно, и лишь немного некомфортно ощущать себя белой вороной...
54.
И совершенно иная картина - "демьяне"! В 2-дневные круизы народ, в том числе и вполне себе местный, ездит ОТДЫХАТЬ. Вдобавок, и продаются эти круизы не по каютам, а по местам, так что пассажиров на "Демьяне (духовно) Бедном" элементарно больше. Публика эта самого разного возраста, образования и достатка, но думаю, понятно, как выглядит её самая заметная часть - мат, гоготание и пьяный ор привычный фон "демьяновских" стоянок. В коридорах судна за мной волочился нетрезвый плотный лысый мужичок с вопросами в духе "А ты кто, я не поял?!" и "Хули гриву отрастил?!", причём в драку со мной (к счастью, не случившуюся) он явно пытался сбежать от пилёжек супруги. Такова плата за доступность: провести три ночи на борту, увидеть Ленские столбы и ещё пару мест по дороге обойдётся в 9-15 тыс. рублей с человека - не сильно-то и дороже, чем нанимать лодку по левобережным деревням.
54а.

Пути двух теплоходов разделяются ещё до возвращения с Ленских столбов в Якутск - шумный "Демьян" встаёт на зелёную стоянку у тукуланов, а тихих неспешных пассажиров "Светлова" везут на Буотаму к бизонам. И то, и другое, как и всё течение Лены от Усть-Кута до Якутска, я показывал раньше. Теперь же нам путь только вниз по великой реке:
55.
В следующей части пересечём Сорок островов - самый, пожалуй, тоскливый участок всей Лены.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Сорок островов.
Жиганск.
Кастатыам, или Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр.
Ленская труба.
Тит-Ары и начало дельты.
Амуро-Якутская магистраль.
Нижний Бестях - Томмот.
Алдан - Могот.
Нерюнгри.
|
Метки: якуты дорожное Якутия по Лене транспорт суда и корабли этнография речной транспорт |
Река по имени Лена. Часть 9: "Ракеты" и люди низовий |
После трёх недель на зелёных, но безводных (парадокс!) равнинах Центральной Якутии продолжим путь вниз по Лене. За это время мы успели отпраздновать Ысыах, осмотреть в 6 частях Якутск и проехать по колоритным Заречным улусам, в прошлой части закончив маршрут литературном селом Ытык-Кюёль за 270 километров от Лены. В другой прошлой части я показывал переправу в Нижнем Бестяхе, которой мы на закате вернулись в Якутск, и его речной порт с судами, курсирующими поперёк русла. Теперь же пора рассказать о том, что ходит вниз по Лене вдоль, как например последняя "Ракета", элитный "Метеор", танкеры "Ленанефти" и конечно же большой белый теплоход "Механик Кулибин", который старше большинства своих пассажиров.
Первыми судами ленских низовий были поморские кочи вроде того, что воссоздан в музее под открытым небом в Соттинцах. А вот паузки и карбаза, строившиеся всю зиму в Качуге и в половодье отправлявшиеся вниз по реке Ленской сплавной ярмаркой, пока, увы, никто не догадался воссоздать. Большинство из них были одноразовыми, оставаясь в конечных пунктах как дрова и стройматериалы. Чаще всего такими пунктами становились Якутск и Олёкминск, и лишь немногие суда сплавлялись дальше по Лене, в Жиганск и Булун. За Якутском, однако, кончался санный тракт с его почтовыми станциями, а потому в первую очередь для низовий предназначались самые сложные и дорогие торговые паузки с косыми парусами, кабестанными лебёдками и ватагой бурлаков на борту. Задачей таких судов было не только сплавиться вниз с товарами далёких мануфактур, но и вернуться до холодов с пушниной, рыбой и мамонтовой костью. Появившиеся на Лене в 1860-х годах пароходы редко спускались за Якутск - основным их назначением было снабжение через Витим Ленских приисков. На поставках старателям, однако, поднялся и купец-старовер Апексим Кушнарёв из Павловска, а в 1880-х он купил два парохода, дал им говорящие названия "Север" и "Полярный" и снарядил в сторону моря. Содержимое их трюмов было то же: вниз - промтовары далёких фабрик, вверх - мамонтова кость, рыба и пушнина. К концу 19 века пароходы стали привычной деталью пейзажа низовий, а владели ими купцы - торговцы (например, Анна Громова, создавшая целую сеть магазинов вдоль Лены; см. здесь) и рыбопромышленники. Наверное, доходили в низовья и суда первого на Лене "срочного пароходства", созданного в 1890-х годах в режиме частно-государственного партнёрства в Киренске заводовладельцем Николаем Глотовым. Формально это было лишь одно из многих частных пароходств, и даже не самое крупное, но стабильность государственной поддержки в обмен на государственные же обязательства выделяла его из всех прочих.
2.

В 1917 году наследники Глотова успели объединить флоты с наследниками Кушнарёва, а вскоре и те, и другие бежали в Китай. Для Советов "Объединённое пароходство" стало точкой конденсации осиротевших купеческих судов и флотилий Лены, Яны, Колымы и Индигирки в огромный "Якпар" - "Якутское пароходство". В 1929 году его вновь разделили - сперва по речным бассейнам, на главной реке оставив "Ленгоспар" ("Ленское государственное речное пароходство"), а в 1932 и вовсе по ведомствам вроде "Лензолота", "Алданслюды", "Севморпути" или "Ленанефти". Последняя сыграла ключевую роль в войну, подвозя топливо для американский самолётов, перегонявшихся в СССР своим ходом с Аляски, и вокруг неё в 1957 году Ленское речное пароходство пересобрали вновь. В 1972 году круг замкнулся - в название добавилось слово "объединённое", под которым скрывались суда упразднённого Колымо-Индигирского пароходства. Теперь офис ЛОРП гордо стоит на главной площади Якутска, в городском порту летом жизнь кипит, а зимой суда густо набивают в затоны Пеледуя (близ устья Витима) и Жатая (предместье Якутска), где их обслуживают методом "выморозки" - то есть, вырезают натуральные доки во льду. Сам по себе ЛОРП, флот которого насчитывает 328 судов, занимается обслуживанием речной трассы, грузовыми перевозками и паромами, а всё пассажирское судоходство вдоль Лены отдано его дочернему предприятию "Ленатурфлот". В том числе и вот эта очаровательная компания с заглавного кадра: от дебаркадера "Восход", "Ракета" и "Валдай".
3.
"Валдай", на котором я ехал мимо Ленских столбов - самое молодое скоростное судно: с 2017 года такие строятся в Нижнем Новгороде на замену "Полесьям", пятью годами ранее потерявшими свою материнскую верфь в Гомеле. Для далёкого от темы человека "Валдай" и "Полесье" отличаются лишь косметически, и на этих водных автобусах двух типов мы проскакали весь путь до Якутска от самого Усть-Кута. "Восход", на котором мне довелось проехаться по Байкалу, ассоциируется уже не с автобусом, а с самолётом, и это - изделие советских времён. В 1973-2008 годах завод "Море" в Феодосии построил полторы сотни "Восходов", причём последние 4 - по заказу Нидерландов. Оттуда же, с феодосийского "Моря" в холодные воды Лены попала "Ракета", и вот она-то не похожа ни на самолёт, ни на автобус. Однозначное, пусть и чуть странное, судно:
4.
Скоростные суда на подводных крыльях, способные разгоняться до сухопутных скоростей хотя бы в 60-80км/ч, разрабатывались с конца 19 века: первый "водолёт" испытывал ещё в 1906 году на альпийских озёрах итальянец Энрико Форланини. Позже в этом направлении экспериментировали несколько стран, в том числе Германия, выходец из которой Ганс фон Шертель после войны перебрался в Швейцарию. Там в 1952 году его компания "Супрамар" построила первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях. Так что мы в этом направлении были далеко не первыми - но оказались лучшими... У советских "водолётов" был один "отец" - гениальный инженер Ростислав Алексеев, уроженец старообрядческого Новозыбкова, большую часть жизни работавший в Горьком и соседнем Чкаловске. Первенцем Алексеева и стала "Ракета": её опытный образец был построен в 1957 годах в Красном Сормове, а на испытания приезжали такие личности, как Главный по ракетам Сергей Королёв, лётчик-герой Михаил Девятаев и даже лично Хрущёв. В 1959-76 годах в Феодосии было построено 389 "Ракет", разошедшихся не то что по всему СССР, а по всему миру. Советское чудо техники охотно эксплуатировали даже капиталисты: в Западной Германии Die Raketa носилась по Рейну из Кёльна в Дюссельдорф, в Англии обслуживала эстуарий Темзы, а встречались мне упоминания об этих судах даже в США и Канаде. Особой модификацией стали скоростные пожарные "Ракеты-П" со струёй до 90 метров. Но - всё это было слишком уж давно! На волнах, разгоняемых подводными крыльями "Ракет", подскакивали ещё деревянные баржи и колёсные пароходы, и в лапотных сёлах старушки с тяжёлыми коромыслами, видя "Ракету", сперва крестились, а потом верили в скорое наступление коммунизма. Учтя все ошибки и недочёты "Ракет", гений Алексеева создавал всё новые водолёты, а его первенцы с 1970-х годов начали сходить со сцены. По затонам и базам лежит ещё много "Ракет", где-то они вроде бы остались на прогулочных линиях, а в Литве не так давно запустили "Ракету" из Каунаса в Ниду, полюбоваться которой можно и с российском берега Немана. Последняя рейсовая "Ракета" России, на воду спущенная в 1970 году, ходила из Якутска в Сангар, и этим летом мы успели застать её последнюю навигацию:
5.
Мне, конечно, очень хотелось на ней прокатиться, вот только билеты у "Ленатурфлота" стоят немерено (до Сангар - порядка 5000 в одну сторону), а сами берега по всему маршруту "Ракеты" я и так увидел с теплохода. Тратить по 10 000 с носа я счёл не целесообразным, а потому мы просто пришли в порт в межрейсовое время и внаглую попросились посмотреть. Команда охотно согласилась - они и сами тогда снимали для Ютуба фильм на память о своём судне. Вход на "Ракету" - через корму, которая заодно и курилка, но при сколько-нибудь сильном волнении сюда захлёстывает вода из под крыльев:
6.
На правом борту - спуск в машинное отделение с высокооборотным дизелем М401 от ленинградского завода "Звезда". По мощности (порядка 1000 лошадиных сил) он превосходит всю силовую установку "Кулибина", разгоняя "Ракету" до 60-70км/ч - для водного транспорта это очень много.
7.
По левому борту - коридор мимо гальюна и помещения для команды...
8.
...в пассажирский салон на 64-66 мест. Места, кажется, просто по образцу сидячих вагонов сделаны как по ходу движения, так и задом наперёд:
9.
Ещё одна особенность "Ракеты", которой нет у других скоростных судов - маленькая носовая палуба. За годы эксплуатации сотен "Ракет" накопилась критическая масса уникумов, которые вскрывали эту дверь на полном ходу, а затем умудрялись вывалиться в клюз (и тогда их рубило пополам специально и остро заточенным подводным крылом), а то и сбросить якорь, что на скорости 60км/ч - примерно как сход с рельс пассажирского поезда.
10.
Другие минусы "Ракеты" - неудачная развесовка (пассажирский салон над поводными крыльями) и рубка, расположенная ближе к корме:
11.
Зато столь просторная, что 600 километров пути (12-14 часов с остановками) в ней можно провести вполе комфортно:
12.
Конечно же, мне хотелось посмотреть и на "Ракету" в движении, но это оказалось куда сложнее. Во-первых, у "Ленатурфлота" в принципе нет чёткой привязки судна к маршруту, и "Ракета", которая ходить только в Сангары - тут исключение. Тем более в Сангары ходит не только "Ракета" - на многие рейсы её подменяют то "Валдай", то "Восход", то "Полесье". Наконец, сам Якутский речной порт - не на открытой Лене, а в конце Канала, искусственного залива в разделённой дамбой протоке, который скоростные суда преодолевают "в водоизмещённом положении". Моя надежда была на то, чтобы увидеть "Ракету" с борта речного трамвайчика на переправе в Нижний Бестях - её прибытие почти совпадает с его отправлением:
13.
Но в итоге летящая "Ракета" показалась мне только издали. "Ракеты" на полном ходу я видел в своём детстве на Каме, вот только запечатлить их я тогда не мог ничем, кроме памяти.
13а.

Стояли в якутском порту, вглядываясь в поворот Канала в ожидании судна, мы не раз - то чтобы поснимать, то чтобы уехать. Однажды в порт пришло серое сверкающее нечто, в котором я далеко не сразу и с изрядными сомнениями опознал "Метеор":
14.
"Метеоры" стали шедевром Алексеева и рабочей лошадкой скоростного флота - в 1961-2007 годах в Сормово и Зеленодольске (город-спутник Казани) было построено более 400 таких судов. Их сходство с самолётом практически абсолютное - настолько, что на испытания Алексей Туполев попросил Ростислава Алексеева дать порулить, а Девятаев так и вовсе некоторое время был капитаном "Метеора". Судно на подводных крыльях "по умолчанию" - это именно "Метеор", и я сам ездил на таких по Оби из Ханты-Мансийска в Салехард, по Амуру из Комсомольска в Николаевск, по Ангаре от Иркутска до Братска, по Финскому заливу из Питера в Кронштадт, а в более давние времена по Волге из Казани в Болгар, по Ладоге из Сортавалы на Валаам и по Белому морю на Соловки из Беломорска. Штуковина с кадра выше же - "Метеор-235" с самой, пожалуй, необычной судьбой: собран в 1992 году в Красноярске, куплен в 2010-м куплен базой отдыха "Филаретов Ключ" близ Дивногорска и полностью реконструирован, а в 2016-м перевезён на Лену в ЛОРП. Теперь это VIP-судно, которое возит VIP-гостей Республики Саха на VIP-базы отдыха, в первую очередь в Ляписке за Сангарами. У него есть пара интересных особенностей вроде более эффективного газоотвода над выхлопными трубами или купален на подъёмниках, но даже больше, чем наружный вид, впечатляют интерьеры. Вот этот "Болид" (название сам даю в шутку) у причала слева, а справа - обычный пролетарский "Метеор":
15.
"Метеоры" из всех скоростных судов "Ленатурфлота" работают реже всего - иногда, благодаря большей вместимости (80-120 человек против 40-50 у "Полесья") обслуживает самую загруженную линию в Олёкминск:
16.
А вот у дебаркадера "Степан Аржаков" - архаичный "омик", спущенный на воду в 1958 году в Москве и названный в честь одного из отцов Якутии как автономной республики. По идее вместе с более молодым (в сынки годится!) "Виктором Рукавишниковым" он обслуживает переправу в Нижний Бестях...
17.
...однако вот он же деловито идёт куда-то вниз по Лене ниже устья Алдана. Наследники Ленской сплавной ярмарки - торговые суда, перевозящие в основном предпринимателей с товаром, а заодно и жителей далёких сёл, которые из отпуска "на материке" могут возвращаться с горой покупок. Под последних, судя по всему, и заточен график - большая часть таких рейсов делается в августе и сентябре. "Емельяна Ярославского", который ходит вверх по Лене, я видел в Олёкминске в середине июня, а вот ближе к концу июля "Аржаков" отправился в свой первый в эту навигацию рейс в Жиганск. Ну и таки да, это река, а не море - просто дальний берег застит дым лесного пожара:
18.
Однако главное судно Нижней Лены, её старейшина - вот. Без малого 70 (!) лет из Якутска в Тикси 1-2 раза в месяц с июня по сентябрь ходит большой неспешный белый теплоход "Механик Кулибин". Он ровесник тех колёсных пароходов, что курсировали до 2004 года из Якутска в Усть-Кут, а теперь лежат на лесобазе Давыдово. Но всё-таки даже не самое старое судно Лены - упомянутый "Емельян Ярославский" старше на год.
19.
По не вполне понятным причинам почти все свои пассажирские суда Советский Союз заказывал за границей - в основном в странах соцлагеря, реже в капиталистических Австрии и Финляндии. С 1948 года в ГДРовском Варнемюнде, пригороде Ростока, действует "Варноверфь", при социализме и капитализме построившая более 450 "изделий", в первую очередь - пассажирских теплоходов. Одним из первых её заказов стали 15 судов проекта №646 "Байкал", спущенных на воду в 1953-56 годах. Небольшие (65 метров длиной, по 12 метров в ширину и высоту), но ёмкие (до 355 пассажиров), быстрые (до 25км/ч) и остойчивые (могут выходить в моря, в том числе Ледовитого океана), "Байкалы" разошлись по всем главным рекам СССР, кроме разве что Амура, и это - даже не первая моя с ними встреча. На теплоходе "Короленко", стоявшем в Выборге как плавгостиница, я лет 20 назад ночевал, а в 2015-м прошёл от Омска до Тазовской губы на теплоходах "Родина" и "Механик Калашников". Но все они - в прошлом: "Короленко" сгорел в 2017 году в ходе спора хозяйствующих субъектов, а обь-иртышскую троицу (ещё был "Чернышевский") сняли с рейсов по случаю Царь-вируса в 2020 году, да так и не вернули обратно. Ленский "Механик Кулибин", спущенный на воду в 1955 году и доставленный сюда по СевМорПути годом позже - пока на ходу.
19а.

И по сравнению со скоростными линиями у "Кулибина" всё как-то более медленно и архаично. Там - онлайн-продажа на сайте речного вокзала, а тут - только бронь по телефону или е-мейлу ltf.lorp@mail.ru. И на звонки, и на мейлы отвечает не унылый колл-менеджер, а обаятельная русская Светлана, которая явно работает в порту давно, за словом в карман не лезет и, кажется, всех пассажиров "Кулибина" знает в лицо. Большую часть своего рабочего времени она скучает в кассе на белом дебаркадере - единственном месте, где билеты продаются заранее, причём "заранее" это весьма условное: ледовая обстановка в Дельте, шторма в низовьях и регулярные поломки старичка делают все даты расписания приблизительными. Так что в основном народ обилечивается в бортовой кассе, которой на причале становится один из иллюминаторов:
20.
Цена билетов выглядит угрожающе - в 2022 году, в зависимости от класса каюты, от 15 до 30 тысяч рублей до Тикси. Ещё сколько-то, хоть с собой, хоть в бортовом буфете, уйдёт на питание: "Кулибин" идёт 4 дня вниз по Лене и 6 дней вверх. По факту это грузопассажирское судно - там, где сходят на берег его пассажиры, не всегда есть даже продуктовый магазин. И пока ближе к носу стоит очередь в кассу, ближе к корме краном грузят багаж:
21.
Формально "Байкалы" - 2-палубные суда, но фактически их корпус разделён на 4 яруса: трюм, Главная палуба, Верхняя палуба и капитанский мостик над ней. На Главной палубе - вход по горизонтальному трапу и несколько открытых участков, доступных только команде. Например, корма за буфетом с романтичного вида штурвалом на случай ручного управления пером руля:
22.
На верхней палубе - заставленная багажом галерея с клёпанными креплениями балок, дощатыми полом и лавками:
23.
Она опоясывает корпус полторастаметровым овалом, которым можно выйти хоть на подбитый нос с швартовой лебёдкой:
24.
Хоть на заполненную тюками корму:
25.
На капитанский мостик пассажиров не пускают, а издали самые заметные его детали - архаичные деревянные шлюпки и сигнальные огни, похожие на фонари шахтёров:
26.
А уж внутри - так и вовсе настоящий музей 1950-х, пропахший дошираком из кают и кислыми щами с камбуза команды:
27.
Дизайн той далёкой эпохи, когда пинап не считался дискриминацией, а завтра было лучше, чем вчера. Впрочем, за более подробным рассказом об устройстве таких судов я могу отослать лишь в свой пост о "Родине" и "Калашникове" в 2015 году - "Кулибин" отличается от них лишь мелкими деталями и какой-то общей суровостью: там в коридорах висели картины, карты речного бассейна и советские плакаты, а здесь - ничего сверх того, что оставили рабочие Варноверфи.
28.
Разве что кают-компания превратилась в багажный отсек, наглухо запертый большую часть рейса:
29.
В каютах, варьирующихся от 2 (на Верхней палубе) до 8 мест - заметно иная конструкция полок:
30.
Главное, пожалуй, отличие ленского "Байкала" от обских - трюм: там это единое пространство с перегородками наподобие плацкартного вагона, а тут он разбит на каюты. Более чем правильное решение, учитывая, что народ тут сам по себе суровый, а у коренных народов Севера ещё проблемы с усвоением алкоголя - пьяные драки на судне случались во все времена.
31.
В общем, как вы уже поняли, путешествие в Тикси на рейсовом судне будет экзотическим, но слово "комфорт" в нём лучше забыть. Каюты с жёсткими койками и платным бельём тут куда теснее вагонных купе, и как и купе - не имеют удобств. Санузел (вернее, пара санузлов Мэ и Жо), как и душ за отдельную плату (150 рублей в 2021-м) - одни на палубу, но что ещё хуже - одна на палубу тут розетка. Подзарядка техники - главная проблема в долгом рейсе, и если мобильного интернета ниже Сангар всё равно нет (а телефонной связи - почти нет), то возможность фотографировать виды самой красивой реки на "Кулибине" в перечень услуг не входит. Мне рассказывали, что где-то в глубине корпуса, в каютах команды, есть специальная комната со множеством удлинителей и разветвителей - ими пользуется экипаж, ну а для пассажиров это вопрос дружбы с главным механиком.
32.
В общем, я готовился к тяжёлому пути в тесноте и со стратегическим запасом дошираков и консервов для себя, аккумуляторов для фотоаппарата и пауэрбанков для телефона. В итоге наш путь вниз по Лене сложился совсем иначе, и фотопробежка по палубам в Якутском порту так и осталась единственным визитом на старое судно. Проводив "Кулибина", на следующий день мы отправились следом за ним на круизном "Михаиле Светлове", и пожалуй единственное, о чём тут можно пожалеть - это несостоявшееся погружение в мир обитателей полярной глухомани. Эвенки таёжных деревень, оленеводы из тундры, портовики СевМорПути, военные транзитом на Новосибирские острова через Тикси - остаётся только гадать, что они бы рассказали нам, глядя на свой берег. И если вот - явные речники:
33.
34.
То на следующих кадрах - лица ленских низовий:
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Якуты, эвенки, русские. Предприниматели с товаром, военные с побывок. Дети к бабушкам и студенты к родителям, семьи из отпусков. Рыбаки на вахту, браконьеры и мамонтокопатели на дело... да взирающий на всё это турист:
41.
По расписанию "Кулибин" отправлялся в 12, и мы приехали в порт где-то в без-двадцати. Внутрь мы заходили по очереди - другой стоял на причале да следил, не убирают ли трап. Но что такое пара часов на фоне нескольких дней пути, тем более пути по бескрайней воде, где никогда и ничего не случается строго по графику? "Кулибин" может прийти в Тикси на полсуток раньше, а может где-то на самых подходах пережидать шторм пару дней. В общем, лишь ближе к двум над Якутским портом разнёсся тяжёлый гудок, а речники сняли трап буквально из под ног провожающих и приняли отвязывать швартовые канаты от кнехтов. Заиграло "Прощанье славянки", и между причалом и бортом начала расти щель блестящей воды. Отправление Белого Теплохода всегда торжественно, и не беда, что он пропах кислыми шами и дошираком. Маленький, тесный, буквально увешанный людьми, "Кулибин" отдалялся от причала:
42.
Совсем иначе, чем в пол оборота, он выглядит в борт:
43.
И глядя вслед, сложно поверить, что впереди у него самая настоящая Арктика:
44.
В низовьях на "Михаиле Светлове" я дремал в каюте, как вдруг Наташа прибежала со словами "Там Кулибин идёт по правому борту!". Наспех одевшись и схватив фотоаппарат, я выбежал в коридор и услышал гудок - как потом говорили мне другие пассажиры, сигналами обменялись оба судна. Выскочив на правый борт, я успел снять вот такой кадр:
45.
После надменная круизная публика ахала и разводила руками: "такой пароход, как в фильмах про ковбоёв показывают, а ведь на нём людям ездить приходится. Эх, что за страна?!". Но больше тут людей возить нечему, и хочется верить, что свою 70-ю навигацию "Кулибин" встретит в строю. Уже сейчас он возит внуков и правнуков своих первых пассажиров...
46.
Для полноты картины расскажу и про грузовые суда. Но в этом отношении Нижняя Лена не чета Верхней: если от Усть-Кута до Пеледуя почти каждый новый поворот реки открывает вид на очередной сухогруз, лесовоз или танкер. то в низовьях Лены бескрайние просторы девственно пусты. Ниже устья Алдана грузовые суда видишь дай бог пару раз за день, а то и не каждый день. Я ни разу не встречал в низовьях СК-2000, главных "рабочих лошадок" верхней и средней Лены, хотя и не берусь утверждать, что их тут нет. А вот попался СОТ - ленская модификация "всесоюзных" крытых сухогрузов СТ-2000, строившаяся с 1978 году в Жигалово:
47.
Но основное грузовое судно низовий - танкеры "Ленанефть":
48.
Огромные по речным меркам (109м длиной, 3216т водоизмещения - втрое больше, чем у "Кулибина") суда создавались специально под условия Якутии, а точнее - Ленского ОБЪЕДИНЁННОГО речного пароходства: вдоль полярных берегов они могут переходить из Лены в, скажем, Яну, Хатангу или Колыму, подвозя бесценный мазут далёким сёлам.
49.
Однако вышел проект столь удачным, что и чисто ленской спецификой их не назвать: "Ленанефть" рассекали волны Енисея, Оби, Волги, Дона, Днепра и даже зарубежных рек и морей под "удобными флагами". Более того, на Осетровской судоверфи в Усть-Куте в 1972-74 годах была изготовлена лишь головная серия из 5 судов. Остальные 78 танкеров двух разновидностей строились в 1974-97 годах на Дунае - верфью "Иван Димитров" в болгарском Русе.
50.
Не знаю, бороздят ли волны низовий рыболовецкие суда (на Оби вот - вполне) или справляются лодки расположенных на берегах рыбхозов. Промысловый флот мне представила вот эта колоритная парочка в Якутском порту - рефрижераторы "Магдебург" и "Михаил Мальчиев", спущенные на воду в 1990 году в тогда уже почти не ГДРовском Рослау на Эльбе. В низовья Лены они отправятся ближе к концу путины:
51.
На переднем плане кадра выше - ещё одно скоростное судно из Феодосии: "Марлины", которые делают там с 2012 года, в Якутске работают как аквамаршрутки по заполнению в Нижний Бестях. Туда, в Бестях, ведут все трассы и железные дороги из-за пределов Якутии, а значит речной порт остаётся её главным транспортным узлом:
52.
А над его кранами и дебаркадерами то и дело пролетают самолёты "Полярных авиалиний" - якутский аэропорт я уже показывал здесь. Самолёты двух местных авиакомпаний (ещё "Якутия", имеющая больше рейсов за пределы республики) - транспорт столь же дорогой (до Тикси, скажем, 25 тыс. рублей), но ими, в отличие от пассажирских судов, можно добраться хоть на Колыму с Индигиркой, хоть на Оленёк с Анабаром. Из первых рук, впрочем, я знаю немало историй о путешествиях на грузовых судах, скажем, из Черского в Среднеколымск или из Чокурдаха в Тикси...
52а.

Ну а о том, чем ленские просторы бороздили мы, отдельно расскажу в следующей части.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Сорок островов.
Жиганск.
Кастатыам, или Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр.
Ленская труба.
Тит-Ары.
Остров Столб.
Амуро-Якутская магистраль.
Нижний Бестях - Томмот.
Алдан - Могот.
Нерюнгри.
|
Метки: по Лене транспорт суда и корабли дорожное Якутия речной транспорт |
Ытык-Кюёль. Литературный скансен "Татта" |
Ытык-Кюёль - большое село (6,9 тыс. жителей), райцентр Таттинского улуса в 270 километрах от Якутска по Колымской трассе. Его главная достопримечательность - пожалуй, самый необычный в России музей деревянного зодчества. Необычный тем, что это едва ли не единственный в своём роде скансен без этнографии, и даже называется он Литературно-художественным музеем "Татта". Ведь саха - литературоцентричный народ, а как бы не весь цвет якутской словесности родом именно с Татты. В 1993-2001 годах их дома и юрты собрали в местности Хадаи на окраине улусного центра, ну а "отцом" этого проекта, как и показанного в прошлой части огромного скансена в Черкёхе, был всё тот же Дмитрий Сивцев - Суорун Омолоон, крупнейший якутский писатель и властитель дум на последнем переломе эпох.
Здесь закончился наш маршрут по Заречным улусом, начатый в третьем творении Омолоона - скансене "Дружба" в Соттинцах. Состоявшийся при поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, администрации Республики Саха и отдельных районов.
В позапрошлой части я показывал деревянную часовню у могилы Суоруна Омолоона на полпути из Черкёха в Ытык-Кюёль, а в прошлой части рассказывал о судьбе писателя, который в этих местах и родился в 1906 году, и обрёл вечный покой в 2005-м. Но раз речь зашла о его творениях - имеет смысл повторить её и здесь. Дмитрий Сивцев был из заурядной для этих мест семьи якутских крестьян-середняков, а ключевую роль в судьбе мальчишки сыграли двое почти что случайных людей: батюшка, который на первой исповеди раз и навсегда внушил ему, что нельзя воровать и лгать, да ссыльный Сергей Прокопьев, что подарил ему русский букварь. Так Суорун Омолоон, воспитанный на "Олонхо", якутских легендах и сказках, вошёл в мир православия и русской культуры. Культурой этой он проникся, прочувствовал её величие, но никак не противопоставил своей. "Русская литература - это наша литература, вместе мы богаче" - говорил он много десятилетий спустя. Что не мешало творить только и исключительно на родном якутском, благо перед автором в те годы лежала целина с парой тропок, робко протоптанных теми, о ком рассказывает сегодняшний музей. В 1932-м Дмитрий Кононович создал свою первую драму "Кюкюр-уус", а в 1947-м по его либретто была поставлена первая якутская опера "Ньурган-боотур Стремительный", основанная на крупнейшей из былин "Олонхо". На излёте сталинизма писатель ненадолго угодил в тюрьму, но с позднесоветской эпохи неуклонно превращался в живую легенду, мудрого старца народа саха. И точно не знаю, когда в его седой уже голове появилась идея творить не только на бумаге и сцене, но и на аласах и лугах. В 1977 году в Черкёхе, историческом центре Татты, у церкви, где был крещён, он основал музей "Якутская политическая ссылка". И пусть название не вводит в заблуждение: ведь именно ссыльные, сотни образованных и пассионарных людей, заброшенных царём-батюшкой в эту "тюрьму без решёток", стали просветителями Якутии. Есть легенда, что таттинский староста Роман Оросин дал взятку губернатору, чтобы тот самых образованных и толковых изгнанников присылал к нему, и что-то в этом правда есть: накануне революции в улусе было 250 людей с образованием, причём 7 - с высшим. В Черкёхе Дмитрий Кононович собрал домики известнейших ссыльных, а заодно - часовню, кузницу, мельницу, бабаарыны и урасы. Всё это создавалось методом народной стройки, на которую выходило раз в неделю от 150 до 400 человек. Воодушевлённый этим опытом, Суорун Омолоон задумал целую серию музеев. В эпоху нараставшей вражды он собрал в Соттинцах на берегу Лены огромный и красивый музей деревянного зодчества с говорящим названием "Дружба". Ну а в 1990-х и для третьего проекта настал черёд.
2.
За 15 лет ведение блога у меня "было всё, аж порой повторялося", и даже на букву Ы я прежде показывал Ыб и Ыгдыр. Ну а если вам кажется, что Ытык-Кюёль - это Иссык-Куль, когда произносишь его название задеревеневшими от мороза губами, то вам не кажется. В тюркской группе языков якутский - самый дальний, однако и в нём хватает вполне себе тюркских корней: название посёлка значит Священное озеро. Почему священное - нетрудно понять из прошлых частей, где я не раз затрагивал тему дефицита воды в Якутии. Да, тут есть грандиозная Лена и её могучие притоки, и пейзаж сплошь зелёный от зимы до зимы, вот только великие реки текут с дальних гор, а луга и леса на мерзлоте питаются талыми водами. Осадков на бескрайней Центральноякутской равнине немногим больше, чем в Средней Азии, десятками километров может не быть даже мелких ручьёв, а бесчисленные озёра в аласах застойны и загажены пасущимся у берегов скотом. Русские, увидев естественную запруду на Татте, назвали её Мутовкой за причудливость берегов, а вот для якутов резервуар чистой проточной воды глубиной 30 метров стал Святым озером. Оно и служило естественным центром расселившихся на Татте лишь в 17 веке племён, как Ленские долины у кангалассов или гигантский алас Мюрю у борогоцев. С 1793 года известно селение Ытык-Кюёль, в которое, скорее всего, чиновники просто на бумаге свели хутора по берегам Мутовки, а настоящим его основателем может считаться Димитриан Попов - протоиерей и учёный-тюрколог, в 1849 году ставший настоятелем здешней церкви. Татта тех лет была лишь дальним углом огромного Ботурусского улуса с центром в Чурапче, из которого в 1912 году выделилась в отдельный Таттинский улус с центром в Черкёхе. Последний, благодаря родившимся в его округе Платону Ойунскому и Суоруну Омолоону, так и остался культурной столицей Заречья даже после 1930 года, когда районное начальство переехало в Ытык-Кюёль. В отличие от Чурапчи, Майи или Борогонцев, больше похожих на маленькие городки, это вполне себе малоэтажное и пасторальное село - хотя и огромное для Севера:
3.
Места с кадров выше, впрочем, мы увидели позже - Хадаи лежит на южной окраине Ытык-Кюёля, и с Колымского тракта туда ведёт чуть ли не первый от въезда поворот направо.
4.
Николай Егорович, наш водитель от Якутска до Якутска, припарковал свой белый УАЗ-"Патриот" у высокого забора с картой:
4а. по клику откроется в большем размере.

Мы прошли не в ворота, а в боковую калитку - к музейной администрации в доме купца Теретия Слепцова:
5.
Там встретил нас молодой директор Владимир Дмитриевич Таппыров в чёрной шляпе из конского волоса, и напоив чаем да расспросив о делах блогерских и пройденном пути, повёл на экскурсию по своим владениям.
5а.

Главные ворота музея приводят на просторный луг перед занятой подсобками старой управой (1913), посреди которого сидит сам бронзовый Дмитрий Кононович (2011). Обратите внимание на книгу рядом с ним - это главная работа его жизни, "Санга кэстыл". По-нашему говоря - Новый Завет, а точнее - его одобренный Русской православной церковью перевод на якутский, и седому писателю выпала честь быть в этом деле литературным редактором.
6.
У входа встречает, конечно же, парочка из балагана и урасы - традиционных зимнего и летнего якутских домов. За их устройством, достоинствами и вопросами типа "А почему стены скошены" отсылаю в свой пост о "Дружбе", тем более здесь обе постройки новодельные.
7.
Балаган в "Татте" - даже не экспонат, а Дом Олонхо, где иногда проходят выступления сказителей, а чаще - всякие открытые уроки и мастер-классы для посёлковых детей.
8.
Ураса же, возведённая в 1999 году мастером Эрнстом Алексеевым, была на тот момент самой большой в Якутии - её стационарную основу образуют 14 сэргэ. Теперь крупнейшей в Якутии можно считать, наверное, Могол-урасу в Ус-Хатыне, где нам тоже довелось побывать и даже пообедать с видом на Главу республики. В "Татте" ураса - ещё и зал праздников и торжественных приёмов, и вон тот стол нам ещё предстояло увидеть накрытым, а тальниковые табуретки рядом с ним - забрать с собой в Москву.
9.
Под куполом, где не было накапливающих всякие хвори углов, а духота и гнус вытягивались в потолочное окошко, теперь уживаются сэргэ и иконы:
10.
А ещё - якутский календарь. Он вёлся по смешанной схеме: по лунным циклам, но с точками отсчёта от солнцестояний и равноденствий. Деревянные календари якуты вырезали под конкретные дела - где-то на год, где-то на месяц, где-то от весны до весны, где-то от лета до лета, а здесь ещё и праздники отмечены зарубками. Переводился календарь предельно просто - деревянная палочка каждый день переставлялась из лунки в лунку:
10а.
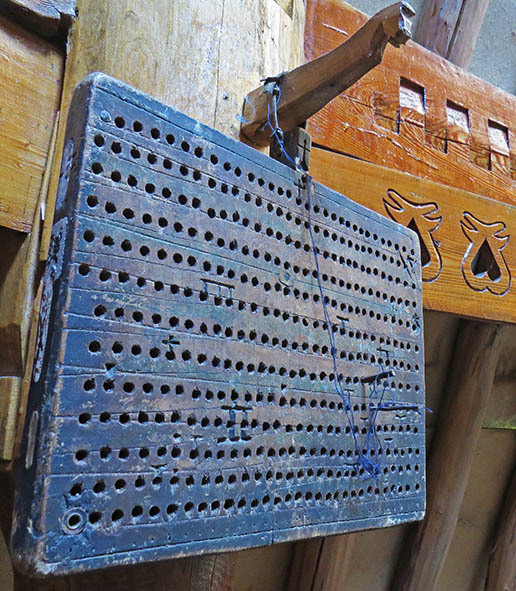
Рядом с урасой - основное здание музея, памятник у входа в который сразу привлекает взгляд совсем не якутским лицом. Отец Димитриан положил тут начало целой династии, быть может самому известному русскому роду Якутии, и национальность никак не мешает тому, что его внук Иван Васильевич Попов считается основоположником якутской живописи. Что интересно, внук не по отцу, а по матери - дочь священника Капитолина вышла замуж за однофамильца, на четверть алеута, чьи предки попали сюда из Рязани через Аляску.
11.
В залах музея - церковная и шаманская утварь, древо с портретами известных таттинцев, картины в основном современных художников (конкретно тут - по "Олонхо" и поэме "Сон шамана")...
12.
...самые интересные из которых созданы Иваном Ивановичем Поповым на рубеже 1990-2000-х. Вот тут у меня показан "Якутск в 17 столетии" Ивана Попова-старшего, а вот тут - "Бык зимы" Ивана Попова-младшего: династия потомков Димитриана продолжается. Ещё пара залов - о других выдающихся таттинцах, чьи дома мы сегодня ещё посетим:
13.
Вот например сценической костюм оперной певицы Анны Егоровой (портрет - на кадре выше рядом).
13а.

И, конечно, куда же в Якутии без декоративно-прикладного искусства - ведь народ саха в нём преуспел ещё в дорусскую эпоху:
14.
На кадре выше сурэх (на врезке; нагрудный крест, превратившийся в украшение) и соны (кафтаны) разного кроя. Слева - дорусский ещё тангалай с рогатой шапкой быстанга, справа под стеклом - бууктах, изобретённый уже под Россией в подражание мундирам. Детали костюмов и украшения:
15.
И сёдла, ведь не зря локальный бренд Татты для Якутии, примерно как "тамбовский волк" или "якутский мамонт" для России - это конь:
16.
В Кёрдеме, фактически четвёртом скансене Омолоона, созданном из не отданных в "Дружбу" построек, я показывал седло с жирафом и страусом, а вот - седло с кентавром!
17.
У выхода - просто очень симпатичная инсталляция:
17а.

Ещё одно отличие "Татты" от других скансенов - те как правило устроены на открытой местности, где постройки хорошо просматриваются друг от друга. Здесь же музей расположен в лесу, его здания стоят на полянах, соединенных тропинками, за 200-300 метров друг от друга. От урасы и балагана широкая аллея с тоненькими ёлочками, которые последние несколько лет сажают именитые гости музея, ведёт к его центру - Преображенский церкви. Первоначально она выглядела так и стояла у берега озера:
18а.

Но та церковь сгорела в 1895-м, и год спустя на её месте возвели новый деревянный храм. Который ещё в юности рисовал карандашом Иван Попов, а его брат Иннокентий стал здесь последним настоятелем вместо умершего в том же 1896-м Димитриана. Вторая церковь была разрушена при Советах, ну а в музее в 1994-96 годах построили её копию в масштабе 2:3.
18.
От изначальной церкви остался закладной крест, найденный на месте алтаря уже в постсоветское время:
19.
Да колокол, хранящийся теперь в музее:
20а.

В теперешние колокола, взойдя по тесным лестницам на колокольню, можно позвонить - их слышно лишь на территории музея:
20.
А невесть откуда взявшееся здоровенное гнездо дрозда на перилах беседки у храма...
21.
...странно вторит пуночкам из любовного стихотворения поэта Анемподиста Сафронова (Алампа) на ограде его могилы, перенесённой в 2012 году из Якутска:
22.
В лесу за могилой - пара сельских школ, начало рассказанной здесь истории:
23.
Первую школу в будущем Таттинском улусе организовал, только встав во главе прихода, конечно же Димитриан Попов. Русских людей в этой глуши было немного, да и те не столько рождались здесь, сколько прибывали по решению суда или начальства, так что учить Димитриан Дмитриевич и Капитолина Димитриановна собирались в первую очередь якутов. Через просвещение протоиерей-учёный рассчитывал привести инородцев и к православию, ну а государство оценило его старания лишь в 1867 году. Полученный тогда церковно-приходской статус обязывал разместить школу в отдельном здании, и под такое дело батюшка перестроил свою чёрную баню, срубленную в 1851 году. На кадре выше это серый домик за деревьями, и именно в этой комнате со следами банной копоти учился грамоте Алампа:
24.
В 1902 году школе подарил собственный дом (1896) Поликарп Слепцов - где-то он упоминается как богатый купец, где-то - как юрист, выучившийся в Московском университете, а в общем одно другому не мешает. Главное - был это человек при деньгах и понимавший ценность образования: позже он построил школы ещё в Черкехе и Чичимахе. Школа Слепцова - на позапрошлом кадре белый домик у опушки, и класс её куда просторней и светлей:
25.
А самым известным учеником в этих стенах стал Семён Новгородов, уехавший в Петербург на Восточный факультет Императорского университета и в 1917 году создавший для якутов новый алфавит на основе... даже не латиницы, а международных фонетических знаков. Очень простой, со строгим принципом "как слышится - так пишется", лишённый заглавных букв и знаков препинания, он идеально подходил для ликбеза, но использование выявляло всё больше неудобств. В 1929 году "новгородица" заменилась пантюркистской латиницей "яналиф", а он 10 лет спустя - и вовсе привычной якутской кириллицей.
25а.

От школ мы пошли через лес, который тут очарователен и чист, а его тени в жаркий полдень - спасение:
26.
За лесом встречает балаган Алексея Кулаковского (он же Ексекулях) - увы, лишь реплика, но обойти вниманием Ексекуляха в литературном музее Якутии - примерно как изложить историю русской литературы, проигнорировав Пушкина. Родившись на Татте в 1877 год, он выучился в 4-классной школе улусной Чурапчи и уехал в Якутск, где первым из народа саха с отличием закончил реальное училище. С таким портфолио Ексекулях был нарасхват в улусах, и от одного места работы к другому объехал всю Саха-Сирэ. Позже по опыту этих разъездов он ввёл в науку ряд якутских терминов (уж не аласы ли и булгунняхи?) и предложил советским аграриям ряд методов хозяйства в условиях экстремальных температур. Но больше науки Кулаковского манило искусство, и после пары эссе на русском Ексекуляха вдруг озарило - ведь можно писать на родном языке!!! Стихотворение "Благословение Баяная" (1900) стало точкой отсчёта якутской письменной литературы.
27.
У дальнейших творений Алексея Елисеевича - поэм "Портреты якуток", "Песнь столетней старухи", "Проклятый до рождения" и других, - красивые названия, а основным их мотивом были противопоставление бесправной архаики и гуманистического модерна. Носителями последнего в Якутии он видел русских, а тем более - советскую власть, которую горячо поддержал. Главным произведением Кулаковского стала поэма "Сон шаман", созданная в 1910 году в Качикатцах близ Кёрдема и к изданию в 1924-м разросшаяся с 500 до 1200 строк. Снились шаману из глухого наслега последних лет царской России глобальные проблемы и потрясения ближнего будущего, в которых можно разглядеть и изменение климата, и ядерную войну. Там же, в Качикатцах, Алексей Елисеевич написал в 1912 году "Письмо к якутской интеллигенции", ставшее своего рода манифестом саха: совсем вкратце смысл его можно свести к тому, что тюрки севера Евразии (включая казахов) обречены на ассимиляцию и вымирание, спасти от которых их может только модернизация, и во имя неё якутам нужно держаться России. 110 лет спустя можно сказать, что манифест этот выполнен на 110%, ну а что модернизированный народ просто перестанет размножаться, автор тех лет и представить не мог. Умер Кулаковский в 1926 году в Москве, чем-то заболев по пути домой из Баку, с I Тюркологического конгресса.
28.
Соседний дом (по-якутски такой называется "суруйааччы") уже знакомого нам Анемподиста Сафронова вполне себе подлинный:
29.
И небезынтересен с этнографической точки зрения: больше всего суруйаччы похож на курную избу, в которую встроили камелёк - ведь места он занимает немногим больше, чем печка-буржуйка.
30.
Алампа родился в 1886 году, рано потерял мать и в раннем детстве сменил несколько семей своих родственников. В 15 лет он поступил к Димитриану Попову, дальше занялся самообразованием, пройдя в том числе весь курс реального училища, и наконец в 1907 году сбежал в Якутск от отца, видевшего сына исключительно наследником-скотоводом. Литературный путь Сафронов начал чернорабочим в типографии, затем наборщиком, затем писарем у купца-рыбопромышленника Кирилла Спиридонова, с которым доходил на судах до устья Оленька. В 1912 году Алампа было пошёл по тропе, проторенной Ексекуляхом, но вскоре чуть свернул на целину, поняв что на родном языке ещё и пьесы писать можно! Созданный в 1914 году "Бедный Яков" стал отправной точкой якутской драматургии, ну а по достоинству всё это оценили уже при Советах: в 1926 году Анемподист Иванович возглавил якутские театр, киностудию и литературный журнал "Чолбон". Беда, однако, подкралась внезапно: по лесам Заречных улусов уже ходили конфедералисты, как называли представителей Младо-якутской национальной советской социалистической партии середняцко-бедняцкого крестьянства. Забористую аббревиатуру придумал юрист Павел Ксенофонтов, вернувшийся в 1922 году в Якутск из Харбина, и к мятежу подошедший со всей юридической дотошностью. Формально МЯНССПСБК не боролась с советской властью, а требовала буквального исполнения её обещаний и положений. Партизанское движение Ксенофонтов назвал "вооружённой демонстрацией": хоть и при оружии, конфедералисты входили в посёлки, устраивали там митинги, а при первых выстрелах открывали ответный огонь и вновь растворялись в тайге. Видя тщетность своих действий, да ещё и случайно расстреляв детей-пионеров в ночном бою, ксенофонтовцы сдались властям в надежде на амнистию и в большинстве своём кончили дни в лагерях и застенках. Но между делом чекисты узнали, что гимном своим конфедералисты поют написанную Сафроновым "Песню саха", и вскричав "Так ты с ними заодно!" упекли поэта на Соловки. Там и в ссылке в Архангельской области Алампа заболел туберкулёзом, от которой и умер в 1935 году, вскоре после возвращения в Якутск.
30а.

Плывём в знойном воздухе дальше вдоль медленной зеркальной Татты, пересекая спускающийся от церкви луг:
31.
За лугом - дом Неустроевых. Жившие там вместе Николай и Анна были не супругами, а братом и сестрой:
32.
Николай Денисович учился в Якутске вместе с Платоном Ойунским и Максимом Амосовым, которые позже вершили судьбу этой земли. Свой первый рассказ "Дикая жизнь" он тоже написал в 1915 году по-русски и опубликовал уже в 1920-х в журнале "Сибирские огни". Но придя к родному языку, Неустроев сделал ещё одно ответвление тропы Кулаковского и Сафронова - занялся не просто драматургией, а комедией, и его пьесой "Злой дух" открылся в 1925 году Якутский театр. Дальше он решил поехать в Москву в Литинститут, но вскоре бросил учёбу из-за проблем со здоровьем, который свели его в могилу в 1929 году.
33.
Анна Денисовна, пережившая брата на 18 лет, с 1920-х годов была учительницей, возглавляла в Якутской АССР женское движение и ликбез, собирала фольклор и "Олонхо". Но и в литературу саха вошла как первый детский писатель.
34.
Видимо, в память об этом за домом стоит галерея скульптур по мотивам сказок и Неустроевских пьес. Зимой деревянные фигуры дополняются ледяными:
35.
Отсюда можно сходить пешеходным мостиком за Татту, к дому Суоруна Омолоона (2001) - в его музеях это такой же неизменный объект, как и церковь. Теперь там размещают почётных гостей, а мечта Владимира Дмитриевича - перевезти в музей ямскую станцию Охотского тракта, воссоздав в ней действующие гостиницу и поварню.
36.
Но - вернёмся на правый берег. Чуть дальше стоит балаган, изрядно потрёпанный жизнью... а вернее, наводнением на Татте, в 2007 году поднявшейся до его крыши:
37.
С этнографической точки зрения это балаган последнего поколения - такие отличают "немецкие углы", прикрывавшие самые холодные места помещения и дававшие полезную в хозяйстве вертикальную стену:
38а.

В 1915 году в этой юрте родилась знакомая нам Анна Егорова - начав с состязаний сказителей на Ысыахах и продолжив как исполнительница песен на Якутском радио, прославилась она как оперная певица. Звёздным часом Анны Ивановны стали якутские сезоны 1957 года в Москве.
38.
Наконец, главный экспонат музея - юрта Поповых, построенная отцом Димитрианом близ церкви примерно в 1850 году. Здесь и прожил священник до конца жизни, и много ярких личностей побывали в этих стенах. В улусе протоиерей был известен, в том числе и другим пришлым людям - так, это Димитриан Дмитриевич предложил ссыльному поляку Эдуарду Пекарскому из прошлой части собрать якутский словарь и активно помогал в этом деле. Попадью Татьяну Фёдоровну молодые якуты видели ещё раньше, чем её мужа - тот детей крестил, а она как первая в улусе акушерка встречала их у ворот Орто-Дойду (Среднего мира). Здесь же в 1874 году родился Иван Попов-старший, и уехав сначала в Якутск, а потом в столицы, неоднократно возвращался в отчий дом. В 2001 году юрту Поповых воссоздал в музее уже знакомый нам Эрнст Алексеев... только вот и настоящий домик цел - он стоит на задворках центральной площади Ытык-Кюёля, в частном владении окончательно объякутившихся потомков. Владимир Дмитриевич дружит с ними, а они пускают в юрту его гостей - вряд ли обычных туристов, но уж наверняка - журналистов, учёных и краеведов. Я буду показывать фотографии оригинала и реплики параллельно - думаю, тут на глаз понятно, какие где:
39.
Сам балаган представляет собой странный синтез Запада и Востока. Крыльцо с верандой ведёт в сени, слева от которых вросшая в землю глиняная хижина, а справа - хозяйственная часть. В музее в сенях инфостенды, в доме - портреты отца Димитриана. За правой дверью соответственно - экспонаты вроде ручной мельницы и кожемялки или хозяйский чулан, где я даже не стал снимать:
40.
От обычного балагана юрту Поповых отличало разделение на несколько комнат и две печи. В центре - Мамин камин, первая русская печь улуса, сдобный хлеб из которой окрестные якуты почитали за лакомство:
41.
42.
В маленькой угловой комнате, напоминающей баню - якутский камелёк:
43.
44.
В оригинальном доме - сырой спёртый воздух и много необычных видов и деталей:
45.
В музейной реплике - запах свежей доски, репродукции картин и фотографии на стенах. Особенно меня впечатлили снимки якута Степана Бересека, который часто позировал Ивану Попову, а порой уходил в летаргический сон:
45а.
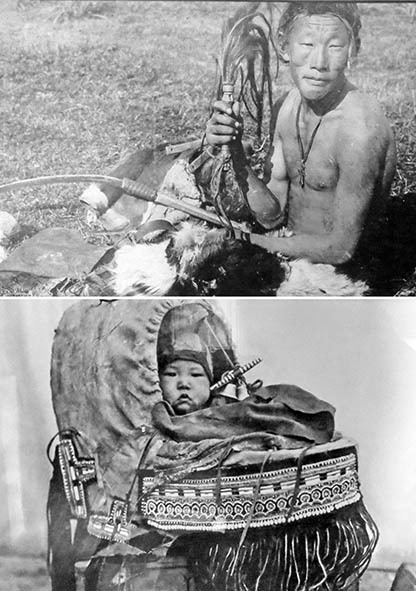
...После экскурсии по музею, между репликой и подлинником юрты Поповых, мы вернулись в урасу, где нас ждал самый настоящий званный обед в компании сотрудников музея и замглавы улуса по социальной политике Алёны Гаврильевны Гуляевой. Но я не запомнил ни лиц, ни разговоров - плывущая африканская жара окончательно доконала, и вот уже я полулежал, откинувшись на ороне, а мне клали мокрые тряпки на шею и лоб. Чуть придя в себя, я ещё и обнаружил, что потерял телефон, а это ставило под угрозу всю дальнейшую поездку - но к счастью, вспомнил, где мог его выронить, и вернувшись к берегу Татты, мы услышали знакомый рингтон в высокой траве.
Напоследок взглянем и на сам посёлок:
46.
Сердце Ытык-Кюёля - не то что мемориал, а скорее даже небольшой Парк Победы, к которому мы вышли по задворкам от юрты Поповых, из-за видимой на прошлом кадре покрытой эпитафиями стены:
46а.

Основанный в 1975 году, он продолжает разрастаться. Вот памятник явно навеян Ржевский мемориалом, а тот открылся пару лет назад:
47.
Вечный огонь и две стены: эпитафия "Они погибли в бою" и фотографии "Они вернулись с Победой". Столько лет спустя вернувшиеся почти все встретились с павшими:
48.
Барельефы над эпитафией:
49.
Новая колоннада у танка выводит на улицу Ленина, а поодаль видно скромное деревянное здание улусной администрации. Таттинский улус по якутским меркам маленький (19 тыс. км² - между Чувашией и Ивановской областью), но опять же по якутским меркам людный (17 тыс. жителей, то есть почти что 1 чел/км²).
50.
Напротив - Народный театр "Татта" (2012). Вернее, дата относится к зданию, а сам по себе он на родине якутской драматургии действует с 1959 года. Рядом - памятник Платону Ойунскому (2013), местам происхождения которого была посвящена позапрошлая часть.
51.
На параллельной улице - памятник якутским писателям (1990). Кулаковский, Сафронов и Неустроев - своеобразная "большая тройка" отцов-основателей. Снова проводя параллели, они здесь как Пушкин, Лермонтов и Гоголь, Ойунского как писателя-политика можно сравнить с Грибоедовым, ну а Суорун Омолоон - это якутский Толстой.
52.
Вернёмся на улицу Ленина. Здесь есть ещё несколько магазинов, по которым я искал лимонад в дорогу - но ассортимент их досадно убог. Напротив администрации - кажется, поселковый музей с макетом башни Якутского острога:
53.
Улица приводит на берег озера. Здесь стоит часовня Димитриана Саламинского (2008) - как вы уже догадались по редкому посвящению, над могилой Димитриана Попова на бывшем кладбище Преображенской церкви:
54.
За часовней видны местный "Сахателеком" (самое капитальное здание посёлка) и памятник Кулаковскому (2002):
55.
Да орёл у Священного озера. В Таттинском улусе можно было бы заехать ещё, например, в Харбалах, где с 1998 года действует музей братьев Мординовых - писателя Николая (Амма Аччыгыйа), героя войны Трофима и Авксентия - учёного-философа и первого ректора ЯГУ. Ну а по совместительству - просто целиком сохранённый якутский хутор. Или в Чичимах на Амге близ устья Татты, где местные жители организовали турбазу, а заодно - музей проходивших теми краями тракта (с 1730-х) и телеграфа (с 1909) в Охотск. Не говоря уж о том, что далее по трассе немногим более 100 километров до Алдана, и за паромной переправой начинается настоящий Колымский тракт - "дорога на костях" или "дорога мужества", вдоль которой ещё лежат чёрные остовы машин, заглохших на Полюсе Холода и сожженных хозяевами как последний источник тепла. Но это всё - другая история, которую я расскажу, может быть, через год.
56.
А пока нас ждала 4-часовая пыльная дорога до Нижнего Бестяха, закатная переправа через Лену и номер в лучшей городской гостинице "Тыгын-Дархан". Очередной раз поймав сеть, я увидел в почте билеты на теплоход - пора продолжать путь вниз по Лене. Прощаемся с миром аласов, урас, балаганов и булгунняхов, но в следующих двух частях будет много корабликов.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр.
Ленская труба.
Тит-Ары.
Остров Столб.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: литература якуты скансен дорожное Якутия этнография деревянное Таттинский улус |
Черкёх. Часть 2: музей "Якутская политическая ссылка" |
Показанный в прошлой части Черкех стал самым интересным селом Якутии не только как родина её ключевых личностей, но и при самом прямом их участии. Писатель Дмитрий Сивцев, он же Суорун Омолоон, творил не только на бумаге и сцене, но и на аласах и лугах. Его произведения, понятные вне зависимости от знания якутского - несколько музеев под открытым небом. В самом крупном из них, - "Дружбе" в Соттинцах, - мы начинали маршрут по Заречным улусам, но свой первый скансен Суорун Омолоон основал в 1977 году на малой родине. Под казённым названием "Якутская политическая ссылка" скрывается огромный и отличный музей народного зодчества, где постройки дополнены историями их обитателей.
За этот пост стоит поблагодарить заведующего музеем Николая Ефимовича Попова, научную сотрудницу Изабеллу Яковлевну Жерготову и главу Таттинского улуса Михаила Сорова, стараниями которому здесь идёт масштабная реставрация. Ну и конечно администрацию Республики Саха, депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву и проект "Живое наследие".
В прошлой части я показывал часовню над могилой Дмитрия Сивцева с видом на его родной алас километрах в 20 севернее Черкёха. Там он начал жизнь "на 906-й версте пути ко второму тысячелетию", там на 99-й версте своего пути и упокоился. Он был из заурядной для этих мест семьи якутских крестьян-середняков, а молва сложила легенду о том, как в детстве мальчик упал с колокольни, и приземлившись в траву невредимым, на всю жизнь понял - Бог есть. Сам Дмитрий Кононович описывал такую история произошедшей в 1970-х годах с другим человеком, а из детства вспоминал батюшку, который на исповеди раз и навсегда внушил ему, что нельзя воровать и лгать, да русский букварь, подаренный "на 13-й версте" неким Сергеем Прокопьевым. Так воспитанный на "Олонхо", якутских легендах и сказках, Суорун Омолоон вошёл в мир православия и великой русской культуры. Культурой этой он проникся, прочувствовал её величие, но никак не противопоставил своей. "Русская литература - это наша литература, вместе мы богаче" - говорил он много десятилетий спустя. Что не мешало творить только и исключительно на родном якутском, благо перед автором в те годы лежала целина с парой робко протоптанных тропок. В 1932 Дмитрий Кононович создал первую якутскую драму "Кюкюр-уус", а в 1947 по его либретто была поставлена первая якутская опера "Ньурган-боотур Стремительный", основанная на крупнейшей из былин "Олонхо". На излёте сталинизма писатель ненадолго угодил в тюрьму, но с позднесоветской эпохи неуклонно превращался в живую легенду, мудрого старца народа саха. Первый "скансен" Якутии он создал методом народной стройки: не прося средств у государства, на субботники по благоустройству территории, переносу и воссозданию построек выходило от 150 до 400 человек. Ну а название... с одной стороны, инициатива снизу должна была укладываться в генеральную линию партии, а с другой, тот русский, что дал маленькому Сивцеву букварь, скорее всего сам был из политссыльных. Якутскую область Российской империи называли "тюрьмой без решёток", но сотни образованных и пассионарных людей в её глуши вывели якутский народ из может и прекрасного, но очевидно затянувшегося культурного Средневековья. Этот даже не воздушный, а духовный мост "Якутия - Большой мир" и попытался показать здесь Дмитрий Кононович.
2.
Главная улица Черкеха тянется параллельно Колымской трассе, мимо новой школы и Музея Якутской государственности (см. прошлую часть), и упирается в заметный со всего села зелёный купол - основное здание Черкёхского музея. В двухэтажном корпусе находятся администрация и кухня, где мы пили чай в компании Изабеллы Яковлены, Николая Ефимовича и нашего шофёра Николая Егоровича. Там же и пара гостевых комнат - единственное место на много километров вокруг, где можно переночевать, и это большая проблема для музея в 4-6 часах (как паром пойдёт) пути от Якутска. За 600 рублей в день тут можно остановиться всем желающим, но негде размещать главный контингент отечественных музеев - школьные экскурсии. Мы жили в комнате одни и имели возможность гулять по огромной (дуга 600 на 300 метров) территории музея в любое время суток - например, ходили на закате смотреть эдельвейсы, которые я показывал в конце прошлой части. Экскурсия же рассчитана на полный день, а то и на два дня - речь якутских экскурсоводов неспешна и длинна, как рассказ у камелька зимним вечером...
3.
Новенький балаганчик отмечен на схеме как дом-музей почти современного (родился в 1949 году на Вилюе, но с 1967 года живёт на Татте) якутского поэта Василия Алексеева, фактически литературный салон при скансене:
4.
Рядом - и первый экспонат: дом Тимофея Алымова, революционера-анархиста из Средней Азии (родился в Капустином Яре, вырос в Перовске - теперешней Кызылорде), который в 1911-12 годах жил в ссылке в селе Баяга, а в 1918 на Бодайбо примкнул к большевикам и был убит в бою под Киренском. В этом же доме располагались первое в наслеге училище, откуда вышел якутский писатель начала ХХ века Николай Неустроев, и первая больница в улусе. Теперь дом, перенесённый в Черкёх в 1981 году, служит мастерской - на веранде ждут реставрации фрагменты скульптур, мебель, сани и нарты, которые Николай Ефимович настоятельно просил не снимать.
5.
Самовары же, вместе с якутской мебелью, гобеленами и всякой всячиной, знакомой по десятку музеев из прошлых частей - в круглом зале под зелёным куполом.
6.
У крыльца - вросший в землю УАЗик, последним владельцем которого, как нетрудно догадаться, был Суорун Омолоон. "Козлик" так и стоит здесь с 2005 года, негласно превратившись в полноценный экспонат - за машинкой явно следят, и лишь трава вокруг напоминает, что достигнута последняя верста.
7.
Главный вход в музей - у зелёного купола, но даже калитка на заднем дворе тут весьма симпатична. Как и сама Якутия, Черкёхский скансен делится на две части рекой - только не огромной Леной, а тихая болотистой Таттой. Мы пока на левом берегу:
8.
Над которым высится деревянная Никольская Таттинская церковь (1900-02) - исходная постройка музея. Название напоминает о том, что с момента образования Таттинского улуса в 1912 году и до 1930 года именно Черкёх был его центром:
9.
Не знаю, всё-таки падал ли Дмитрий Сивцев с колокольни. Но последней работой его, законченной в 2004-м, за год до смерти, в возрасте 98 лет, была литературная редакция "Санга кэстыл" - Нового Завета в благословлённом Церковью переводе на якутский. Вот и памятник писателю стоит у храма:
9а.

После церквей Кёрдема, Бютейдяха, Арылаха с такими же угловатыми формами и изящными наличниками как единственным украшением Никольская церковь воспринимается образцом местной школы деревянного зодчества. Абсолютно российской - но не сказать, чтобы русской:
10а.

В храме, где воссозданный иконостас дополняют портреты архиерев и миссионеров - музей якутского православия с иконами, утварью, изданиями "Санга кэстыла" и стендами про Якутский казачий полк (см. здесь в конце).
10.
Силуэт церкви в миниатюре повторяет Уолбинская часовня то ли Николая Угодника, то ли Иннокентия Иркутского (в разных местах), срубленная в 1850-х годах и перенесённая сюда в 1979-м:
11.
Сарайчик за храмами открывает тему ссылки. Это "сибирка" - сельская тюрьма-одиночка для местных смутьянов и проезжих каторжан:
12.
На кадре выше - та часть, где сидела охрана, а камера сибирки - вот:
12а.

Дальше в той стороне - навес с парой повозок:
13.
И наполовину скрывающая его в этом кадре деревянная ураса, не последняя в нашем рассказе и потому запертая. За ней - то, что можно было бы назвать Сектором ссыльных. Обилием которых, по преданию, улус обязан старосте Роману Оросину, который давал взятки губернатору за то, чтобы самых образованных изгнанников присылали на Татту:
14.
На кадре выше фигурки Наташи и Изабеллы Яковлены пестреют у входа балаган (он же юрта, он же капитальный якутский дом) Эдуарда Пекарского, перенесённый при создании музея из урочища Джеряннах:
15.
Этот поляк не столь знаменит, как Ян Черский или Александр Чекановский, в честь которых в Сибири называют города и хребты, да и путь его выглядел чуть иначе. Родившись в семье обедневшей шляхты под Минском в 1858 году, в польских восстаниях он не смог поучаствовать просто за малостью лет. Пекарский жил в Таганроге и Чернигове, проникаясь понемногу идеями социалистической революции. Приехав в Харьков учиться на ветеринара, вскоре Пекарский был отчислен политическим причинам, а после очередного эсэровского теракта его на всякий случай упекли в Сибирь. Но такова уж суть русской ссылки - "эту был энергию, да в мирных целях": на новом месте революционер стал учить якутский, и в 1895 году не очень-то заметил, что срок наказания вышел и он может вернуться домой. Лишь в 1910-х годах Пекарский уехал в Петербург, где и жил, заведуя сибирским сектором Кунсткамеры, до 1934 года.
15а.

В 1896-1930 годах он создал поистине фундаментальный труд - первый в мире словарь якутского языка.
16.
В чём помогал ему Всеволод Ионов, ссыльный народник из Астраханской губернии, попавший в Якутию в 1883 году после 5 лет каторги. Здесь он сменил несколько сёл, женился на якутской сказительнице Бэгэ Маарыйа, и везде учил грамоте местных детей. Следующий балаганчик - школа Ионова, работавшая в 1894-1901 годах:
17.
Сейчас там идёт реставрация, поэтому внутри мы не увидели ничего, кроме деревянных стен и одинокого камелька. Ионов же в 1901 году перебрался в Якутск, консультировал научные экспедиции, редактировал журналы и газеты, а в 1910-11 годах на основе трудов Пекарского создал первый якутский букварь. После чего отбыл в Киев и умер в феврале 1922 года в небезызвестной Буче.
18.
Совсем маленький балаганчик, лодка рядом с которым вроде бы (если я верно помню) осталась от съёмок какого-то кино - дом народовольца Василия Трощанского, которому якуты успели дать имя по-своему - Тараатай:
19.
Дворянин из Кишинёва, в столице он вступил в организацию "Земля и Воля", два года провёл в Петропавловской крепости за убийство жандарма и ещё 10 лет - на страшной Карийской каторге. Наконец, в 1886 году Василий Филиппович осел без права выезда в Черкёхе, где вместе с другими ссыльными издавал "Улусный сборник".
20.
Научные труды Трощанского посмертно опубликовал всё тот же Пекарский, и обереги под потолком напоминают, что важнейшим из этих трудов была "Эволюция чёрной веры шаманства у якутов", законченная в 1895 году.
20а.

В Черкёхе Тараатай прожил 12 лет, и неизменно впечатляет в этих балаганах то, что ссыльные почти не вносили корректив в найденную якутами конструкцию с наклонными стенами, лавками-завалинками (орон) и глиняным камельком (огох). Разве что придумали делать "немецкие углы", выступающие вглубь помещения:
21.
В 1898 году Трощанский здесь и умер, и его могила с раннесоветским обелиском и современным чардаатом (склепом) - на кладбище за Таттой с видом на музей:
22.
Самый дальний в Секторе ссыльных - дом Петра Алексеева, построенный в 1886 году якутскими бедняками Дмитрием Чохоровым и Никитой Хаптагаевым в местности Булгунняхтах. Вернее, его реплика, но - чрезвычайно убедительная снаружи:
23.
У юрты Алексеева была особенность - две печи: классический якутский камелёк и что-то вроде попытки его улучшить. Сын смоленский крестьян, Алексеев работал на ткацких фабриках Москвы и Петербурга, где примкнул к народникам и был арестован по "делу пятидесяти". Однако как истинный революционер, Алексеев превратил зал суда в свою трибуну, и сказанную им в 1877 году фразу "…Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда и ярмо деспотизма, ограждённое солдатскими штыками, разлетится в прах" взял на вооружение Ильич. Этого хватило, чтобы Таттинский улус, куда Пётр Алексеевич отправился в ссылку в 1884-м, назывался в 1963-90 годах Алексеевским районом.
24.
В ссылке герой-пролетарий экспериментировал с конструкцией камелька и учил якутов пользоваться косой-литовкой, пока в 1893 году на аласе Тюмэтэй его не прикончил случайный разбойник.
24а.

Теперь вернёмся ко входу в музей и перейдём по висячему мостику в Заречье, представляющее собой широкой остров меж таттинских рукавов. Эту часть скансена я бы назвал Этнографический сектор, а открывают её две урасы и сэргэ - священная коновязь, сочетавшая практические и ритуальные функции. Сэргэ в Якутии стоят всюду, но больше современные, а это - вполне историческое, поставленное в 19 веке тойоном Абрамовым из Булгунняхтаха.
25.
Огромный белый чум с чуть выгнутыми краями - это и есть ураса, или точнее могол-ураса (берестяной шатёр), летнее жилище зажиточных якутов. В данном случае, как я понимаю, просто реплика - ведь разве может якутский музей народного зодчества обойтись без главного символа этого самого зодчества?! Заодно тут выставлена утварь - кожаные бурдюки для изготовления кисломолочных продуктов, берестяная посуда для быта и чороны - резные деревянные кубки для торжественного кумысопития. Об этом всём я рассказывал здесь, а здесь показывал ещё и мастерскую чоронов.
26.
Равно как и за устройством урасы и балагана отсылаю в свой пост о "Дружбе". Между урасами двух музеев отличия только в деталях, да и то небольших. Вот например прикрытая хаппахчы - орон девушки на выданье:
27.
Рядом странная конструкция - всего лишь каркас урасы, в отличие от "целых" урас - подлинный. Кольцо из сэргэ с перемычками - круглогодичная основа, на которую летом ставились жерди и засыпались землёй ороны. Название "берестяная ураса" не вполне точное: прежде якуты делали из бересты ткань наподобие ХБ, но секрет её забылся с появлением брезента.
28.
Люди попроще ставили деревянные урасы, которые во всей Якутии я видел только в Черкёхе: конкретно эта сооружена в 1867 году. Более грубая и примитивная постройка "о 8 углах" оснащена таким же точно очагом и оконцем в крыше, но что особенно удивительно по своим временам - разделена на комнаты!
29.
Чуть дальше стоит классический якутский балаган, или зимняя юрта из местности Сасыл-Уйалааах. В Черкёхе он стал Домом Олонхо, о чём напоминают многочисленные лосиные рога, саламы (ленточки-обереги) и деревянные статуи:
30.
Внутри - обычный в общем интерьер с мощным камельком:
31.
В трубу которого я даже заглянул:
31а.

"Олонхо" - один из двух на всю Россию объект Нематериального наследия ЮНЕСКО, попавший в список в 2005 году. Якутский эпос повествует о трёх мирах - верхнем с 9 небесами богов, среднем Орто-Дойду с людьми и духами мест иччи и нижнем Аларраа-Дойду, где живут злые абасы. Ещё - о племени пралюдей Айыы-Аймагыы ("родня богов"), которое всемогущий демиург Юрюнг отправил (а не изгнал!) осваивать Орто-Дойду и изгонять абасов. "Олонхо" - это, без преувеличения, коллективная душа якутского народа: и космогония, и святое писание, и летопись. В нём чередуются рассказы, песни и театр одного актёра - речитатив с несколькими канонами: скажем, для боотура, для девушки, для разных животных вроде друга-коня или благовестника-стерха, или для мудрого старца Сээркэн-Сэсэна. Эпос слагают многочисленные былины длиной от 10 до 36 тыс. строк, исполнение которых занимало несколько суток чистого времени. То есть растягивалось на недели и месяцы - долгие тёмные зимние вечера, когда за окном несовместимая с жизнью температура, явно сыграли в якутской культуре не последнюю роль.
32.
Олонхосуты (сказители), знавшие эпос наизусть и читавшие его в подобии транса, в якутском обществе были и остаются одними из самых уважаемых людей. Свой сказитель, как кузнец или шаман, был у всякого уважающего себя рода. Олонхосутами, к которым приходили даже из других улусов, во все времена были богаты окраины Саха-Сирэ - Татта и Вилюй. В 19 веке такой славой обладали десятки имён, а слушали всё те же Пекарский, Трощанский или не отметившийся в Татте поляк Вацлав Серошевский - основоположник якутоведения. Пели "Олонхо" и "якутский Робин Гуд" Манчаары, и "красный шаман" Платон Ойунский, записавший "Ньурган-боотур" как поэму. Но в переломном ХХ веке ключевую роль в сохранении эпоса сыграл Сергей Зверев (Кыыл Уола) с Верхнего Вилюя. Потомственный сказитель, в Великую Отечественную войну он писал патриотические песни, а в 1947 году помогал Якутскому театру в постановке "Ньурган-боотура" по либретто Омолоона. Знакомый и с миром древней духовности, и с городской культурой, Кыыл Уола дал неоценимый материал фольклористам и этнографам, а главное - напомнил народу не забывать "Олонхо". Со смертью Зверева в 1973 году на передний план вышел Пётр Решетников из Черкёха - самый известный современный олонхосут. Точнее, ийэ-олонхосут - импровизатор, в рамках сюжета не воспроизводящий тексты по памяти, а сочиняющий их на ходу. Собираясь в Чёркех, я мечтал пообщаться с Пётром Егоровичем лично... но никто не сказал мне почти до начала поездки, что он ушёл в 2013 году. Лишь недавно у сказителя вдруг появилась наследница - дочь Розалия, большую часть жизни спокойно работавшая в черкёхская поликлинике и не понимавшая призвания отца. Пока в ней не проснулся некий голос: олонхосут, как и шаман - не выбор, а призвание. Николай Ефимович пригласил Розалию Решетникову выступить перед нами:
33.
Две её песни - вступительную и от лица зловредного абасы, я выкладывал в посте о духовной культуре якутов. Здесь - ещё несколько песен "Олонхо":
Голосом и мимикой Розалия Петровна здорово перевоплощалась из образа в образ. Вот например очевидный боотур:
А здесь чувствуется счастливый конец сказания:
А вот Изабелла Яковлевна в компании подрастающего поколения - внуков Розалии Петровны и просто таттинских детей, подающих надежды стать сказителями.
34.
Продолжает тему якутской мистики Аал-Луук-мас (Мировое древо), изготовленное по просьбе православного Суоруна Омолоона советским мастером Семёном Ычановым.
35.
В 21 веке Мировое древо пошло вразнос, и Николай Ефимович озаботился его спасением. Реставрация прошла в 2021-22 годах при поддержке депутатов Ил-Тумэна (якутского парламента) Якова Ефимова и Михаила Гуляева:
36.
Полюбовавшись на детали трёх миров...
37.
...вернёмся в Орто-Дойду. За древом стоят бабаарыны - ещё одна разновидность деревянных юрт. Судя по названию, похожему на русское "поварня", якуты не упростили до такого состояния деревянные урасы и не позаимствовали напрямую бурятские деревянные юрты, которые не могли не видеть по пути в Иркутск. Зато это сделали ямщики, устраивавшие в них кухни на оборудованных в 1740-е годы почтовых станциях Ленского тракта, и вот с них бабаарына уже разошлась по аласам. Урасу, более совершенную во всём, кроме простоты возведения, она почти вытеснила уже в 19 веке. Но и развалины бабаарын я видел лишь в сайылыках - временных хуторах у пастбищ и покосов:
38.
Дальняя (на кадре выше) бабаарына заперта, а в ближней, построенной в 1880 году старостой Тарсинского наслега, невооружённым глазом видны отличия от деревянной урасы - плоский глухой потолок и камелёк вместо очага.
39.
Обратите внимание на тонкие и корявые брёвна. В постах о Чурапче и окрестностях я много расписывал про совершенно неожиданный в Центральной Якутии дефицит питьевой воды: осадков тут очень мало, и деревья питается талой водой, которой мерзлота не даёт уйти глубоко в землю, людям же остаются лишь застойные озёра. Чуть менее неочевидно, что тут и с деревом не лучше - в основном якутская тайга низкорослая и корявая, а в наши дни брёвна в Якутск везут в основном из Витима.
39а.

В 19 веке якуты под русским влиянием начали строить избы - но своеобразные: с плоскими дерновыми крышами (осадков-то всего ничего!) и из тонкого бревна. За бабаарынами стоит дом-летник Марии Андросовой, которую мы тут уже встречали под именем Бэгэ Маарыйа - выйдя замуж за русского интеллигента Всеволода Ионова, сказительница превратилась в этнографа. После смерти мужа она не раз возвращалась в Якутию с экспедициями и помогала Пекарскому в работе над словарём. И только почему дома супругов разнесены так далеко, для меня так и осталось загадкой.
40.
Завершает тему ссылки дом Владимира Короленко, русского писателя и самого, пожалуй известного широкой публике из увековеченных тут людей. Выходец с Украины, в Амгинскую слободу он попал в 1881 году, впрочем, как революционер-народник, а писательский путь начал лишь в 1885 году, когда из ссылки прибыл в Нижний Новгород. Во многом - по якутским впечатлениям: Короленко жил в пристройке к избе крестьянина Захара Цикунова, из общения с которым и родился его первый рассказ "Сон Макара". Кое-где пишут, что это был якут Сакынов, ну а истина - посередине: "Макар (...) очень гордился своим званием и иногда ругал других "погаными якутами", хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбаса, питался в обычное время одною лепёшкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топлёного масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе". Да и разве якутская это мечта - "всё бросить и уйти на "гору". Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жёрнове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко, — так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику…"
41.
Рядом с юртой мы увидели памятник Короленко и кучу строительного мусора - здесь полным ходом шла реставрация. Сейчас камелёк украшает, может быть, выведенное угольком слово "СОЛЬ" - так Короленко напоминал себе, что не надо забывать солить пищу, и Николай Ефимович делился планами воссоздать эту надпись.
42.
Рядом, на опушке - тройка сэргэ, сделанных в 1927 году Платоном Ойунским:
43.
А за ним притаился в лесу охотничий домик размером меньше, чем наш УАЗ-"Патриот":
44.
Внутри те же лавки да камелёк. И специальная пробка в стене, вынув которую охотник мог сходить по нужде, не вставая:
45.
Последнюю, самую дальнюю и разреженную часть, я бы назвал Производственным сектором. Открывает его, конечно же, "башня Манчаары", корректнее - башня тойона или просто осадный амбар. На своей равнине якуты жили совсем как горцы - россыпью оседлых скотоводческих племён, а потому немудрено, что их тойоны, подобно горским князьям, сооружали защитные башни. Хранилось в них в основном добро, а хозяева укрывались лишь в случае набега. Возведение осадных амбаров продолжилось и в русскую эпоху, теперь не от междоусобиц, а от разбойников, и "виновником" последнего поколения якутских башен стал Манчаары, робингудивший й в 1830-40-х годах в теперешнем Мегино-Кангаласском улусе. В тамошней Майе я показывал самую красивую башню Пономарёвых, а это - срубленная в середине 19 века башня Марковичей из мегино-кангаласского селения Лампа:
46.
За башней - пара кузниц: в старину это были не менее чтимые места, чем святилища. Ведь предками якутов, их тюркским компонентом, считаются воинственные курыкане, в сыродутных горнах получавшие почти чистое железо и потому вооружённые до зубов. Уйдя из Прибайкалья на север, их потомки забыли письменность и колесо, но сохранили первоклассную для средних веков металлургию. Думается, именно выходы железных руд на притоках Лены определили место, где курыкане нашли новый дом. Кузнец у якутов слыл фигурой мистической, и в отличие от шамана, к которому относились скорее со страхом, пользовался безусловным почётом. Кузнецы делали и шаманские обереги, поэтому шаманы были бессильны перед их духами-покровителями, как и все айыы (боги) уважали Кудай-Бахсы - бога-кузнеца, жившего снаружи всех измерений. Всё это немудрено: именно железо обеспечило саха гегемонию в своём мамонтовом краю, как позже русским - порох.
47.
Якуты знали огнеупорную глину и строили из неё печи до 2 метров высотой и до метра в диаметре, укрытые от мороза в срубы с обычной глиной. В среднем на кило железа уходил воз древесины, поэтому заготовляли лес и добывали руду летом, а перевозили зимой, когда вставший лёд открывал нартенные пути. Одну плавильню строили и обслуживали 10-15 человек: гораздо раньше, чем на Урале, тут возникла пусть и сверх-архаичная, но - промышленность. Под навесом - реплика якутской плавильни, яма для пережигания дров на древесный уголь и печь летней кузницы вроде камелька. Последнюю подарил музею Борис Неустроев - Мандар Уус, одно из изделий которого я показывал в музее в Чурапче, а есть они и в якутском Музее Хомуса:
48.
Зимой кузнецы работали прямо в жилых балаганах, давая им дополнительное тепло, но тут зимняя кузница - в отдельном здании. Справа, обёрнутые шкурой - якутские меха:
49.
По всему помещению - инструменты:
50.
И кусок болгуо, то есть крицы. Её килограмм получался из 10 кило руды, ещё 1/3 шлаков и примесей выбивала дальнейшая перековка. На выходе получалось волокнистое железо или даже качественная сталь, но чаще - смесь того и другого. Её русские казаки и знали как "якутское железо" - гибкое, но поддающееся закалке. Качеством оно было сравнимо с уральским или даже европейским железом, а главное - у русских не получалось так же эффективно выплавлять его из местных руд, и зависимость от якутских металлургов вынуждала русскую власть быть сговорчивее в вопросах местного самоуправления и сбора ясака. Ленский тракт открыл Якутию для поставок уральского железа, но ещё в середине 19 века тут добывали порядка 50 тонн руды в год.
51.
Самое дальнее и самое уникальное сооружение музея - это миэлингсэ, мельница-топчанка. Её конструкция сложилась в 19 веке, когда якуты, посмотрев на русских, убедились, что если пахать землю, из неё не полезут абасы, и сами начали выращивать пшеницу и картофель. Эту топчанку построил в 1934 году в местности Усун-Куол Сыланского наслега Чурапчинского улуса мастер Семён Дьяконов (Сэмэн Уус) при участие братьев-кузнецов Энсии.
52.
В Якутии мало рек, да и те стоят 2/3 года; бывают ураганы, но в основном - штиль. Так что ни ветряных, ни водяных мельниц тут не было, а единсвенным источником энергии оставался гужевой. На топчанке бык не ходил по кругу, хотя сам того не понимал - животное топталось на месте по наклонной шестерне, заставляя её вращаться:
53.
Привод в здании мельницы:
54.
И жёрнов над ним, совсем маленький по сравнению со всей конструкцией:
54а.

Частью мельницы был амбар, где теперь вместо зерна - утварь. Обратите внимание, что нигде по всему музею мы не видели керамики - сделать металлическую посуду или вытесать её из дерева металлическим ножом якутам было проще, чем обжечь из глины.
55.
Ценность последней топчанки такова, что в 2019 году её реставрацию курировал лично Глава республики Айсен Николаев в рамках проекта "Сохраним памятники". Колесо, увы, пришлось заменить, но оригинальный каркас так и лежит в траве гигантской паутиной:
56.
...Суорун Омолоон планировал создать 6 музеев, но успел - только 3. По факту даже 4: небольшой скансен в селе Кёрдем собрали из построек, не отданных в "Дружбу". Музей Якутского тракта создали другие и не совсем там - Дмитрий Кононович хотел расположить его в Табаге, но в 2005 году старый ям в Еланке ближе к Ленским столбам восстановили местные жители братья Соколовы. В Якутске Суорун Омолоон хотел создать Музей естественной истории, посвящённый "природе Севера и человеку Севера", но в общем и действующие музеи вполне раскрывают эту тему. Обиднее всего за несостоявшийся музей народностей Севера, который Дмитрий Кононович хотел расположить поистине труднодоступно - в селе Тополиное за 200 километров от Колымской трассы, в тупике круглогодичной дороги вдоль Яны. Ну а последним лугово-аласным творением Суоруна Омолоона стал странный литературный скансен "Татта" в райцентре Ытык-Кюёль. Куда и отправимся в следующей части.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область) - см. оглавление №1.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: замки-крепости невольничье литература скансен дорожное Якутия Молох этнография деревянное |
Черкёх. Часть 1: село и окрестности |
Черкёх - небольшое село (1,1 тыс. жителей) в 230 километрах от Якутска по Колымской трассе, куда в прошлой части мы добрались из соседней Чурапчи, осмотрев таинственные надписи в её округе. Здесь начинается небольшой Таттинский улус, который в Якутии можно сравнить с Черноземьем. Не почвами и хозяйством, а культурой: если взять любого якутского классика от поэзии до кулинарии, он почти наверняка будет с Татты. Ну а Черкех - это гипер-Татта, Татта в квадрате: с её аласов вышли "красный шаман" Платон Ойунский (Слепцов) и Дмитрий Сивцев (Суорун Омолоон), духовные отцы Якутии на двух переломах эпох. Черкех - самое интересное село всей Республики Саха, и даже мой рассказ о нём, что крайне редко случается в сёлах, будет в двух частях. На вторую оставлю созданный Суоруном Омолооном музей под открытым небом, а сегодня расскажу про сам посёлок и памятники его окрестностей,
Восстановленные из руин стараниями главы Таттинского улуса Михаила Сорова, в основном они весьма труднодоступны, и за большую часть того, что я покажу сегодня, стоит поблагодарить заведующего Черкехским музеем Николая Ефимовича Попова и научную сотрудницу Изабеллу Яковлевну Жерготову. Ну и конечно администрацию Республики Саха, депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву и проект "Живое наследие".
На первый взгляд Черкех почти не выделяется среди прочих старых якутских сёл, которых мы уже повидали немало. Даже огромная Будённовка на пару со Штыком впечатляет, но не удивляет - к необычным памятникам советских войн в Якутии успеваешь привыкнуть:
2.
Будённовка - часть мемориала (1985), и у каменной Скорбящей матери необычайно тонкое и живое лицо:
3.
Чем, пожалуй, удивляет Черкех при самом беглом взгляде - это обилие визуального коммунизма:
3а.

Над брусовыми домами и хотонами, булгунняхами и сэргэ господствует новая школа с модным дизайном:
4.
И собственно музей деревянного зодчества с Никольской церковью (1902). Вернее, официальное названия музея "Якутская политическая ссылка", но пусть оно не вводит в заблуждение: такова была дань Дмитрия Сивцева советской идеологии и памяти о русских революционерах, которые воспитали "отцов-основателей" якутской государственности.
5.
В Музей государственности Республики Саха имени Платона Ойунского пока и зайдём. Его 2-этажное здание с прилепившимися по бокам балаганом и деревянной юртой стоит с 2011 года между основным музеем и школой.
6.
В полной уверенности, что подобные места всегда строят "для галочки", с той же целью мы сюда и зашли. Но якуты даже тут умудрились не разочаровать - начиная с кластера музеев в Якутске не устаю поражаться, насколько с этим делом хорошо во всей Республике Саха. Открывается официозный музей, конечно же, пантеоном с бюстом Ойунского на фоне Аал-Луук-маса (Мирового древа) и флагов Якутской республики в разные времена. По стенам - десятка три портретов и кратких биографий людей, хоть маленькими шажками (как Алексей Собакин, в 18 веке пригласивший в улус первого письмоводителя или первый якутский паломник на Афоне Пётр Андросов) двигавшие саха в прогресс.
7.
У правого краешка в зал словно просачиваются примеры российского государства - как например нарты и кюкюлей (ясачный мешок) или щепки русских кораблей - сверху от фрегата "Паллада", снизу - от поморского коча:
7а.

И как синтез - символы власти тойона: выкованные в 1771 году в Иркутске кортик и значок. Если в начале русской экспансии под чужаками горела земля, а место выбора для Якутского острога определялось лояльностью отдельных племён, то к концу 17 века якутские тойоны перешли к тактике "не можешь предотвратить - возглавь". С конца 1640-х в Москве всё чаще получали челобитные на имя государя от якутских "князьков", а в 1676 году тойоны Мазар Бозеков (внук стремившегося к объединению Якутии Тыгына-Дархана из племени кангалассцев), Нохто Никин (сын Мымака из племени намцев, которому в 1634 чуть-чуть не хватило сил взять Якутск) и Трек Осюркаев (из правобережных мегинцев) с богатыми дарами сами прибыли ко двору Фёдора Алексеевича. Вскоре тойонам дозволили самим собирать ясак, в 1763 и вовсе заменённый денежным оброком по размеру стада. В 1789 Алексей Аржаков из Борогонского улуса вновь добрался до столицы - теперь к Екатерине II, и добился у неё самоуправления для якутов.
8.
Живя на обломках СССР, сложно понять саму постановка вопроса: своя государственность, но не государство. У якутов никогда не было настоящего сепаратизма - ни в массовом сознании, ни в идеях властителей дум. Даже в 1920-х годах якутский националист Михаил Артемьев действовал от лица Тунгусской республики, а участники поднятой в 1927 году харбинским юристом Павлом Ксенофонтовым "вооружённой демонстрации" (ходили по тайге, устраивая в посёлках митинги) называли себя конфедералистами. Во все эпохи под Россией якуты стремились к автономии в её составе, а в том, чтобы эта автономия была не только на бумаге, им помогала мамонтовая самобытность природы. В 1920-х годах её становление возглавили ученики ссыльного большевика, забайкальского еврея Емельяна Ярославского Платон Ойунский, Максим Аммосов, Исидор Барахов и Степан Аржаков. Тут обратите внимание ещё и на надпись: в прошлой части я рассказывал о якутском алфавите, который создал в 1917 году в Петрограде якут-студент Восточного факультет Семён Новгородов на основе международных фонетических знаков. Ну а вот она, "новгородица" - официальная якутская письменность в 1921-29 годах:
9.
На втором этаже - флаги Советской Якутии. День государственности Республики Саха, впрочем, не 26-е апреля, когда ЯАССР была создана, а 27 сентября, когда она была повышена до полноценной ССР - как и большинство тогдшаних республик в составе России. И всё же летом 2022 года в здешних городах и весях трудно было найти точку, с которой не виднелся хоть один плакат в честь 100-летия якутской государственности.
9а.

Напротив флагов выставлены о стенды о постсоветских руководителях Республики Саха. Это амбициозный кангаласс Михаил Николаев из Покровска (1982-2002), русский Вячеслав Штыров из Хандыги (20-2-10), чурапчинец Егор Борисов (2010-18; при нём должности Президента заменилась на должность Главы Республики) и теперешний глава Айсен Николаев с Вилюя, с которым нам даже повезло чуть-чуть пообщаться на Ысыахе.
10.
В отдельной комнате, совсем как в Ельцин-центре или Назарбаев-центре - официальные подарки от иностранных друзей:
11.
Но - вернёмся на первый этаж: саха не были бы саха, если бы и в музей государственности не добавили этнографии. Это сочетание куда более тонкое, чем кажется: придя из Великой Степи в мамонтовый край, якуты укоренились в нём, создав на порядок более развитое, чем у таёжных народов, хозяйство с оседлым мясо-молочным скотоводством и первоклассной для Средних веков металлургией. Утратив колесо и письменность, они сохранили главное - умение не просто выживать, а достойно жить в условиях вечной мерзлоты и 100-градусных годовых перепадов температуры. Русские научили якутов множеству благ цивилизации, но вот тому, как тут не околеть - учились у них сами. Не спрашивая, а наоборот объясняя, как называется тот или этот предмет, якуты сохранили язык, а вместе с ним - предания, молитвы, стержень самосознания. Заимствуя что-либо у русских, якуты адаптировали это под свои нужды и представления о прекрасном. Саха остались хозяевами своей земли потому, что чужаки не смогли совладать с ней.
12.
В балагане под его косыми стенами представлены инвентарь охотника, рыбака и немного крестьянина, а на кадре ниже - вполне себе городская мебель "в якутском стиле", делавшаяся ещё в 19 веке:
13.
В юрту ведёт коридор с исчерпывающей инфографикой о сэргэ - ритуальных коновязях, без которых невозможно представить якутский пейзаж:
14.
Под сводами юрты - традиционная берестяная посуда и хорошо вошедшие в морозный быт русские самовары:
15.
Их комплект подарил музею Иннокентий Тарбахов, знакомый нам по рассказу о ресторанах Якутска. Уроженец села Чичимах на Амге, воспитанник Таттинского детдома, в 1960-80-х он тихонько работал поваром в столовой левобережного райцентра Намцы, а в свободное время путешествовал по ЯАССР в поисках народных рецептов. По сути Тарбахов создал ту якутскую кухню, что мы знаем теперь - издавать кулинарные книги он начал ещё в советское время. В 1994 году Михаил Николаев, ещё в министерских командировках оценивший Намскую столовую, позвал Тарбахова в Якутск шеф-поваром лучшего городского ресторана.
16.
На кадре выше - пара сервизов: тот, что справа, был разработан в 1990-х годах, видимо не без участия Тарбахова, для официальны приёмов, а левым, ещё советским, в Якутии встречали Бориса Ельцина. Не знаю, точно, в 1990 году, когда он первым из московского начальства добрался в Анабарский район и угощался строганиной в чуме у оленеводов, или в 1993-м, когда на 35-градусной жаре произносил речь в зимнем якутском костюме, испил до дна чорон с кумысом и кричал традиционные якутские кличи "Айхал! Уруй!". Но по итогам того визита же Николаев договорился о том, что 25% прибыли с алмазов, кто бы их ни добывал, будет оставаться в Якутии.
16а.

В музее государственности мы провели пару часов, и по крайней мере как дополнение к основному музею он стоит визита. Но встречал нас именно Черкехский историко-этнографический музей, в здании которого есть и пара гостевых комнат. Там же мы после экскурсий пили чай в компании Николая Ефимовича и Изабеллы Яковлевны. Первый в своей солидности, крепкой хозяйской руке и длинных речах о дружбе народов напоминал добротного советского руководителя старой закалки, а вторая - жрицу в своём служении музею, героям его экспозиции и вообще родной земле. Рано утром перед отъездом в Ытык-Кюель мы съездили на поселковое кладбище посмотреть на могилу одного из ссыльных:
17.
Но её саму оставлю на следующую часть, а пока - просто пейзаж якутского некрополя с сэргэ и чардаатами (деревянными склепами):
18.
Основная же экскурсия по окрестностям Черкеха прошла днём ранее после осмотра музея. По окрестным аласам ездили двумя машинами - впереди мы с Николаем Ефимычем на его "Ниве", следом - Наташа и Изабелла с шофёром Николаем Егоровичем на его "Патриоте", нашем транспорте на весь заречный вояж. И в общем кабы ни эти люди - здесь бы и заканчивался сегодняшний пост: как заметил давным-давно
 ymblanter, "чтобы посетить условную Тотьму, как минимум необходимо знать, что она существует", и вот о красотах окрестных аласов-то я ничего и не знал. Все они расположены вдоль Колымской трассы на Ытык-Кюёль, но не прямо на ней, а за лесами 2-5 километрах.
ymblanter, "чтобы посетить условную Тотьму, как минимум необходимо знать, что она существует", и вот о красотах окрестных аласов-то я ничего и не знал. Все они расположены вдоль Колымской трассы на Ытык-Кюёль, но не прямо на ней, а за лесами 2-5 километрах.18а.

Первым делом, километрах в 3 от Черкёха за мостиком через почти сухую речку Южная Наммара мы свернули влево. Николай Ефимович остановил "Ниву" у одинокой причудливой лиственницы:
19.
Когда-то на ней был кэрэх - жертвенник ойуна (якутское название шамана). С тех пор осталась "шаманская стрела", которая висела на ветвях острым концом на запад, а теперь лежит у корней.
20.
Но Шаман-дерево - лишь веха у дороги в алас Тохтобул за похожим на грандиозный курган булгунняхом:
21.
Слово Тохтобул можно услышать и в автобусах Якутска... из динамика: означает оно Остановка. Особая роль Таттинского улуса в Саха-Сирэ быть может связано с тем, что он относительно молод. Легенда гласит, что в 17 веке, устав от войн Тыгына-Дархана с другими якутами и предчувствуя вторжение чужаков, ойун Мунгхалаах Кээрэкээн (Караган) собрал вокруг себя шестерых боотуров и двинулся за Лену в необжитые края - "туда, где остановится его лошадь". Лошадь ушла за мегинские и хатылинские земли и встала как вкопанная в этом аласе. Но времена, когда земли хватало на всех, остались давно позади, и Каргыс-Уйэтээ ("веку резни" якутских междоусобиц) предшествовали войны с эвенками. Из эвенков, судя по имени, был и богач Бахсыгыр, владевший долиной Татты. Кээркэн отправил ему самонадеянное послание с предложением или приехать сюда мять ему торбаза, или прислать лучших воинов. Бахсыгыр позвал на помощь якутов-баянтагайцев из Оймякона, и вот на Тохтобуле вышли друг против друга Караганов сын Кэнгис и баянтагаец Тёрёнёй. Кто из них был сильнее - история уже не ответит: Кэнгис по небрежности оставил просвет в панцире, куда Тёрёнёй и поразил его копьём. Но униженный, разорённый и лишившийся сына ойун не смирился - он читал страшные заклинания и пускал стрелы к ночным небесам, и падали эти стрелы окровавленными. Ещё не дойдя до Оймякона раскаивавшийся из-за своего нечестного удара Тёрёнёй ранил в пылу ссоры Бахсыгыра, а затем в баянтагайское племя в образе женщины-сплетницы с бельмом на глазу явилась дочь бога распрей Илбиса, и вскоре враги Кээрэкэна перебили друг друга. Легенды отражает культурный код Татты: грубая сила - не здешний метод, тут - край мыслящих людей, открытых духовному миру. И сам Ойунский был из рода Кээрэкэна:
22.
Увы, я так и не спросил, когда этот памятник был поставлен, а интернет молчит. Но увековечили ойуна по всем правилам: на его одеянии - классический комплект оберегов (описание есть здесь), а столько рядов изгородей поставлено на пути живущих в этих оберегах духов.
23.
На дальнем конце аласа - хутор Слепцовых, с которого родом был Прокопий Сокольников - первый якут-врач в современном понимании этого слова. Он поступил в Томский университет, при поддержке Петра Семенова-Тян-Шаньского перевёлся в Московский университет, а там учился у таких светил, как Иван Сеченов, Нил Филатов или Николай Склифосовский. Там же в 1898 году Сокольников познакомился с Львом Толстым, который был озабочен судьбой сосланных в Якутию духоборов. Как врач Прокопий Нестерович сопровождал их в портовый Аян, а в 1902 уже сам приезжал в Ясную Поляну. Конечно же, со своими знаниями да при губернаторе Иване Крафте, который в 1907-13 годах натурально вытянул Якутию из 18 века, Сокольников совершил революцию и в родной медицине, а сам ушёл в революционном для страны 1917-м году.
24.
На переднем плане кадра выше образец такого специфического для Якутии жанра, как Трибуна Ойунского - подобные сооружения, с которых "красный шаман" обращался с речами к народу, стоят во многих улусах. Нередко - как символы, срубленное уже после смерти Платона-от-Саха. Здесь трибуна Ойунского подлинная - на аласе Тохтобул он провёл в 1920 году первый советский Ысыах, от которого остались коновязи скачек - аутентичная лежит на земле, а над ней пара реплик:
25.
Возвращаемся на Колымскую трассу. От Черкёха до Ытык-Кюёля, бывшей (до 1930 года) и действующей "столиц" Татты, она представляет собой натуральную Дорогу Памятников. Чуть дальше поворота на Тохтобул, но теперь с правой стороны стоит композиция "Птичий спор" (2013) по мотивам одноимённого стихотворения Ойунского.
26.
В рунете представленное лишь оцифрованной книгой (страница 60), оно неплохо в общем переведено на русский, и сюжет его в наши время трудно не понять: птицы собрались в лесу выбирать вожака, а в итоге перессорились и передрались, и остроумие сюжета в том, что потасовку устроили не лебедь, ворон и журавль, а мечтавшие видеть их своими господами утка, грач и бекас, и даже комар требовал поставить шмеля во главу леса. Финал пессимистичен: прилетел орёл и тоталитарно указал всем своё место.
27.
От "Птичьего спора" пара километров невыносимо тряской просёлки до местности Дэлбэрийбит, родных аласов Платона ещё даже не Ойунского, а Слепцова - под такой фамилией он родился здесь в 1893 году. У дороги встречает на первый взгляд обыкновенный якутский балаган с бревенчатым хотоном:
28.
Обычной выглядит и жилая часть - наклонные стены из вертикальных брёвен с оронами (лавками-завалинками), глиняный камелёк (или огох - якутский камин) на песчаной платформе, земляной пол да стол на трёх ножках:
29.
А вот в срубной части вместо хлева видишь парты. Это - первая в Жахсогонском наслеге школа Матвея Сивцева, открытая в 1906 году. Платон Слепцов поступил в неё первым набором, и в свои 13-15 лет демонстрировал незаурядную для сельского мальчишки свободу мысли, например давая оценки произведениям Толстого.
30.
В 1910 году он уехал в Якутск в 4-классное училище (фото здания есть здесь), и примерно таким, каким покинул дом, запечатлён памятнике (1961), в 1993 году перенсённом сюда из райцентра:
31.
Чуть поодаль в траве лежит гребной паром:
32.
А рядом угрожающе смотрится мост через тихую Татту:
33.
Тропинка от него идёт через луга:
34.
Мимо кольца сэргэ и перемычек, похожих на основание урасы. Их поставили в 1986 году для ежегодных Ойунских чтений, а позже горсть земли с тюремной могилы в Якутске превратила сцену в кенотаф.
35.
Чуть поодаль, за оврагом - родной дом якутского Платона, принадлежавший старому роду крестьян-середняков Слепцовых, ввергнутому в нищету долгой засухой:
36.
Здесь Изабелла Яковлевна зажгла камелёк, а Николай Ефимович произнёс длинную речь о судьбе Ойунского и его значении для якутов:
37.
Я параллельно разглядывал инфостенды (на кадре выше - за спиной) об открытыии музея в 1983 году по инициаитиве Суорун Омолоона и о визите по такому случаю делегации поэтов и литераторов из братского Казахстана.
37а.

Затем проведал хотон - хлев, пристраивавшийся к балагану с северной стороны для дополнительного обогрева. Почему-то в якутских скансенах этой деталью обычно пренебрегают:
38.
Вновь преодолев мучения просёлкой, возвращаемся на Колымский тракт. Дорога памятников продолжается:
39.
Если глубинка Мегино-Хангаласского и Чурапчинского улусов запомнилась мне деревянными Часовнями Победы, то в Таттинском улусе воинскими мемориалами стали Тюсюлгэ Победы - площадки Ысыаха, проведённого в 1946 году. Тем более дата праздника солнцестояния совпадает с датой начала войны. На прошлом и следующем кадрах - тюсюлгэ колхоза "Андреев":
39а.

Дальше над трассой гарцует Ньургун-боотур Стремительный (2012) - герой центральной былины якутского эпоса "Олонхо", по которой Ойунский в 1930-31 годах написал огромную поэму, а Суорун Омолоон в 1947 году - либретто для самой известной якутской оперы.
40.
Чуть дальше, практически в прямой видимости - "Ого Куйуурдуу Турара", дословно "Как мальчик сачком ловил рыбу". Тоже по одноимённому рассказу Ойунского с глубинами якутского мировоззрения и мистики в бытовой сцене про мальчика, который пошёл ловить рыбу в проруби и потерял сознанием от голода, ненадолго провалившись в потусторонние миры.
41.
Скульптуру, поставленную аж в 2004-м, изваял известный якутский скульптор Василий Сивцев - брат Изабеллы Яковлевны. Первому памятнику у дороги досталось самое красивое место - мыс среди аласов и озёр с многочисленными птицами и охотничьими укрытиями:
42.
Мимо пропылил джип с глиссером на прицепе - вероятно, с многоводного и многорыбного Алдана. Он уже недалеко, и в соседнем селе Боробул есть совершенной внезапный в Якутии памятник Ельцину (2012) на том месте, куда в 1993 году его привёз на вертолёте Михаил Николаев.
43.
Третий памятник в прямой видимости - камень жертвам репрессий:
44.
А заприметив красные флаги, снова сворачиваем направо. Ещё одним уроженцем Татты был крупнейший якутский писатель начала ХХ века Алексей Кулаковский, ну а дом его родича и однофамильца Михаила по прозвищу Майор стоит за аласом. И конструкция у дороги напоминает о том, как на этом аласе дважды встречали Ойунского - в 1927 и 1937 годах:
45.
...Закончив в 1914 году 4-классное училище, Платон Слепцов поступил в учительскую семинарию, а там познакомился с Максимом Аммосовым из Намцев да вместе с ним зачастил к Ярославскому. Вот уже двое ребят из аласной глубинки образовали "Союз чернорабочих-якутов", который тогда вряд ли кто-то воспринял всерьёз. Слепцов уехал учиться в Томск, но в 1918 году бросил всё и рванул на родину. В 1921 году, на съезде в Омске, именно Платон Алексеевич поднял идею создания в ней автономии. Он занял своеобразную роль - не брал себе реальной власти, но создавал идеи для неё. Идеи эти, увы, всё дальше расходились с генеральной линией партии. Свои сомнения и поиски Платон Алексеевич выразил в поэме "Красный шаман", заодно взяв новую фамилию, под которой остался в истории. Да, у нас есть "Доктор Живаго" о метаниях интеллигента в революционных бурях, "Тихий Дон" о дилемме казака, ну а Ойунский глядел на вопросы Гражданской войны глазами шамана. Авторитет его среди якутов по-прежнему был безграничен, а русскоязычные власти не особо вникали, что там пишут они на своём языке где-то у Края Света. По инициативе Платона Алексеевича были созданы Якутская национальная военная школа (в 1924-41 годах готовила кадры с учётом местной специфики и традиций) и первый в Республике НИИ языка и культуры (1935, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера), сыгравший ключевую роль в сохранении нематериального наследия якутов. Не принимая советскую власть в частностях вроде отношения к религии, в целом Ойунский полностью верил в неё, и впервые заявился в дом Кулаковского на Ысыах в 1927 году с "Великим столетним планом" - по сути дела эссе с образом будущего. Надо заметить, большая часть плана сбылась, причём иногда - с опережением графика: "...в 1967 году, по всей Якутии не найдете ни одной глиномазаной, с ледяными окошками юрты: везде восторжествуют русские дома с широкими застекленными окнами и покрашенными полами. (....) Исчезнут насовсем похлебка из сосновой заболони да лепешка на рожне, в каждом наслеге откроется по школе (....) и не будет совсем разницы, кто женщина, кто мужчина. Образованная, развитая женщина будет умело трудиться наравне с мужчиной в любой области" или "В 1987 году великое собрание примет постановление – в каждом роде выстроить железобетонные дворцы для совместного жительства всего народа". Другие совпали удивительно точно, например "С 2013 по 2017 год облик города Якутска похорошеет, он поменяется всей своей наружностью.", что весьма отражает строительный бум. Но многое так и осталось мечтой - как станции управления погодой (2010), омоложение всех стариков (до 2013) и уж тем более построение коммунизма к 2017 году. Не предсказал Ойунский и свою судьбу: в 1937 он вновь приезжал сюда за поддержкой народа, понимая, какие тучи сгустились над его головой. Считанные месяцы спустя Платон Алексеевич был арестован в гостинице Иркутска и этапирован в Якутск, где умер в тюрьме, чуть-чуть не дожив до расстрела. Домик Кулаковского мы застали в самый разгар реставрации, а трибуна и сэргэ остались от прошедшего в 1947 году Ысыаха, негласно посвящённого памяти Красного Шамана.
46.
Не предвидел, конечно, Ойунский и распада СССР, и войн между его осколками. На новом переломе эпох духовным отцом саха стал Дмитрий Сивцев, с 1930-х годов создававший прозу и драмы, а с 1970-х - ещё и музеи, начиная с родного Черкеха. Один из них так и назывался - "Дружба", и я уже показывал его. Страшно представить, что ждало бы Якутию и всю Россию, кабы властителем дум тогда был одухотворённый поэт-гуманист, сын академика-диссидента или "внезапно прозревший" заслуженный член Союза Писателей СССР. Суорун Омолоон не увлёкся антиколониальной романтикой, не сочинил "украденную русскими настоящую историю якутов", не грезил японскими инвестициями в добычу алмазов, а в неотвратимо наползавшем новом веке резни отчаянно призывал к дружбе народов. Родной народ услышал Суорун Омолоона, внял его речам, и тихо угасли те искры, из которых вполне можно было разжечь пламя русско-якутской вражды.
47.
Видя 30 лет спустя судьбы большинства экс-союзных республик, можно констатировать, что якутам повезло с интеллигенцией: за национальное возрождение народу саха не пришлось расплачиваться распрями и нищетой. Кто-то, конечно, вспомнит про богатства недр и утекающие в Москве миллиарды, вот только в Киргизии, Монголии и даже Казахстане они не очень-то принадлежат народу. Многолетние "страсти по Кумтору" на Тянь-Шане да роль китайский топ-менеджеров в восстании на Мангышлаке не дадут соврать, и нет причин думать, что в малолюдной стране между США, Китаем и Японией всё было бы иначе: "Алроса" и "Газпром" всё-таки хоть чуточку свои...
47а.

Примерно то же, хотя и без упоминания компаний, нам говорил Николай Ефимович в зале часовни, построенной в 2005-06 годах над могилой Суоруна Омолоона:
48.
Рядом с могилами его семьи:
49.
С видом на родовой алас:
50.
Сивцева часовня стоит уже ближе к Ытык-Кюёлю, чем к Черкеху, но Дорога Памятников не кончается и тут: вот ещё один Тусулгэ Победы (1946) на булгунняхе Хайдыбыт:
51.
Небольшое родовое кладбище, где в старейшей могиле покоится женщина, поранившаяся за ручной мельницей и умершая от заражения крови, а в самой заметной - репрессированный в 1939 году Пантелеймон Васильев, первый Народный артист Якутии:
52.
До Ытык-Кюёля уже не далеко, но пока вернёмся в Черкех. На подходах к посёлку мы с Наташей начали обсуждать бродивший по буграм табун, и Изабелла Яковлевна заметила, что это лошади её семьи. Впрочем, на фото вроде другие животные:
53.
Ночлег прямо в музее давал нам возможность гулять по его территории и на закате, и в белую ночь, когда мне не спалось из-за тревог о согласовании дальнейшего маршрута. О постройках музея я расскажу в следующей части, а пока...
54.
...пока посмотрим под ноги - до поездки я слышал о том, что в Якутии растут самые настоящие эдельвейсы! Те самые цветы, принести которые любимой женщине, собрав с высоких гор, почиталось за подвиг в Европе. Но Якутия покрыта, по сути дела, именно альпийскими лугами, остатками "мамонтовых саванн" ледниковой эпохи.
55.
Вот они - цветы, воспетые поэтами. Совсем невзрачные - кажется, росли бы они на газонах и грядках, их бы вряд ли кто-то так ценил. Но вместе с тем и по-якутски эдельвейс называется дьол - то есть, Счастье:
56.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: литература якуты Сибирь природа дорожное Якутия переправы этнография |
Арылах. Якутский "кодекс Войнича" |
Многие слышали о "кодексе Войнича" - таинственной рукописи из средневековой Италии, написанной неизвестным алфавитом на неизвестном языке, прочесть которые наука бессильна. Свои маленькие "кодексы Войнича", короткие надписи неизвестными буквами, таит и глубинка Якутии. Самая длинная и известная из таких надписей сохранилась на заброшенном хуторе за селом Арылах в 60 километрах от показанной в прошлой части Чурапчи по просёлкам.
В месте настолько глухом, что этот пост вообще не был бы написан, если бы нам не помогли проект "Живое наследие", депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева, администрация Республики Саха и отдельных её улусов. В сегодняшнем случае - заместитель начальника управления по организационным и правовым вопросам администрации Чурапчинского района Алексей Гаврильевич Ноев, глава Арылахского наслега Алексей Гаврильевич Лобанов и директор Чурапчинского музея Юрий Семёнович Толстоухов.
Ещё за пару дней до прибытия в Чурапчу, после песчаного бездорожья Курулуура, в белом УАЗе-"Патриоте", на котором мы выехали из Якутска, начало что-то бренчать. Шофёр Николай Егорович осмотрел колёса и обнаружил, что отлетела одна деталь, без которой ехать в принципе можно, а если удастся её купить, то замена - вопрос на полчаса. Детали, увы, ни оказалось ни в Нижнем Бестяхе, ни в Майе, а впереди лежало бездорожье Ломтуки и Бютейдяха. Егорыч - настоящий профи, и даже с неисправностью сумел это всё преодолеть, но вечером, заселивших с нами в квартиру на окраине Чурапчи и спустившись осмотреть машину, вернулся обескураженным: в довершение ко всему у "Патриота" треснул задний мост. Созвонившись со знакомыми чурапчинскими автомеханиками, Егорыч сказал, что работы тут на полдня-день, так что дальше в Татту мы доедем, а вот в Арылах теперь не попасть. Я смирился: в конце концов, у меня и так были сомнения, стоит ли ехать в глушь ради надписи на бревне - может, достаточно знать, что она там есть? Но всё же я написал людям, упомянутым в прошлом абзаце, и получив ответы вроде "что-нибудь придумаем", лёг спать. На утро под окнами встал здоровенный чёрный джип (увы, не помню марку) с молодым водителем: за нами приехал Юрий Семёнович с дочкой, 7-классницей Олей, которую тоже решил взять с собой в арылахский вояж. Осмотрев показанные в прошлой части Вознесенскую церковь, мемориал Чурапчинской трагедии, музей истории и этнографии им. Андрея Савина, музей спортивной славы им. Дмитрия Коркина при единственном в России сельском вузе, мы выехали за посёлок и взяли курс на север перпендикулярно Колымской трассе. Вот по такой дороге, непроезжей в дождь: Арылах - одно из самых распространённых названий Якутии, в одном только Чурапчинском уезде их два, и не зря в переводе это значит Островное!
2.
Вновь замелькали мимо сюжеты якутской глубинки - для местных обыденные, а я не уставал их снимать. Кладбище с чардаатами (деревянными мавзолеями):
3.
Сэргэ (ритуальная коновязь) у дороги не помню точно в честь чего:
4.
А о том, что вот это - трибуна Платона Ойунского, с которой "красный шаман" и идеолог Якутской республики выступал в 1920-х годах перед освобождёнными трудящимися, я узнал лишь на Татте. В якутской глубинке это целый жанр исторических памятников, зачастую - сугубо символических: конкретно эта поставлена в 1947 году, официально - в честь возвращения героев Великой Отечественной.
5.
И, конечно, мерзлотные формы рельефа - аласы и "бугры пучения" булгунняхи, которые здесь выросли достаточно давно и распались на байджарахи:
6.
По пути на Арылах - сёла Усун-Кюёль (Длинное озеро) и Килянки:
7.
Последнее, с полутысячей жителей, примечательно очень симпатичными въездными знаками:
7а.

И очередной Часовней Победы - про этот феномен Заречных улусов я уже рассказывал в прошлой и позапрошлой частях. Здесь интересна дата постройки - 2000 год, когда уже вполне могли построить и обычную православную часовню. Но якуты остались верны родившейся в глуши их наслегов традиции.
8.
Часовня эффектно нависает над главной улицей села, вдоль которой тянется загадочное длинное сооружение, обшитое блестящей термоизоляцией - то ли дизель-станция, то ли парник:
9.
За Килянками вездесущих чурапчинских коров сменяют кони:
10.
Но сам колорит сельской глубинки Саха продолжается, и даже брошенные колхозные хотоны (хлева) тут не такие, как в остальной России:
11.
А вот Аал-Луук-мас, символическое Мировое древо якутской религии айыы, под которым празднуют сельский Ысыах - главный якутский праздник летнего солнцестояния:
12.
Вот и наша цель - Арылах. По сильным дождям сюда не доехать вообще, по обычному лету 70-километровый путь растянется часа на три, ну а по аномально сухому и жаркому лету-2022 мы доскакали в пыли, тряске и лязге за полтора часа.
12а.

Дореволюционное название Арылаха - Хаяхсыт, также в Чурапчинском улусе не уникальное: если я правильно понимаю, восходит оно к местному якутскому роду-племени, населяющему несколько наслегов. За Арылахским озерцом открывается вот такой пейзаж - россыпь памятников вокруг Хаяхсытской Никольской церкви (1889-1890):
13.
И надо сказать, после храмов Кердема, Бютейдяха, Чурапчи и ещё не показанного Черкеха мне сложно отделяться от ощущения, что у всех деревянных церквей в старых сёлах Якутии есть что-то неуловимо общее. В конце концов, что бы якуты ни строили - они всё строят очень по-своему. Сельское зодчество всегда продукт климата, а климат тут мало того что ни на что не похожий, так ещё и ошибок не простит. Мощные угловатые срубы из лиственницы без внешней эстетики, за которую отвечают наличники и барабаны главок - так примерно выглядит якутская деревянная церковная архитектура. Российская - но не русская:
14.
У Арылахской церкви самые красивые из виденных мной в Якутии наличники, а рядом - обломки надгробий то ли священников, то ли благодетеля - построил Хаяхсытский храм купец Тихон Каженкин.
14а.

При Советах церковь занимал хотя бы не склад или хлев, а вполне культурные учреждения - изба-читальня, поселковая канцелярия и дом культуры. Однако, как видно по прошлому кадру, постройка порядком просела, и хотя над крышей храма новые главки, сруб требует серьёзной реставрации с применением техники.
15.
Но всё же Советы не разрушили церковь, и даже дополнили её совершенно потрясающей коллекцией памятников. Где ещё вы видели деревянный обелиск Победы?! Причём судя по табличкам на якутском, он посвящён не только фронтовикам, но и вынужденным переселенцам - в прошлой части я рассказывал историю о том, как три десятка колхозов с третью жителей района в 1942 году отправили поздней морозной осенью в низовья Лены ловить рыбу для страны, и больше трети "переселенцев" погибли там в первую зиму. Так военные годы уполовинили население некогда самого многолюдного в Якутии Чурапчинского улуса, восстановившееся лишь к 1980-м годам, и для современников, думается, смерть земляков на дальнем западе и суровом севере были равнозначны. Только про воинов-победителей - соседний маленький обелиск с символическим вечным огнём: судя по дате, поставили его в 2005 году. Правее - даже не часовня, а Чортак Победы: такие конструкции из 4 арок часто ставили в Средней Азии над святынями и могилами. Только там они каменные, само собой.
16.
С другой стороны напротив церкви - сельская школа, основанная в 1891 году при церкви на средства всё того же Тихона Каженкина. При виде деревянного здания легко поверить, что оно с тех времён и осталось, но нет - построено в 1972 году:
17.
И где-то здесь же, на упирающейся в церковь улице - Дом народного творчества "Туску":
18.
На крыльце которого нас уже ждал Алексей Гаврильевич - деловитый и вместе с тем очень свойский глава Арылахского наслега. Он родом из этих краёв, прежде занимался бизнесом в Якутске, а в 2021-м баллотировался на местные выборы - и выиграл их. На подответственной ему территории 297 жителей, тысяча лошадей, 624 коровы и единственная пасека, хозяева которой - самые зажиточные люди села, которых Алексей Гаврильевич бы познакомил с нами, если бы они не были в отпуске в Сочи. Самый актуальный проект Лобанова сейчас - построить в селе благоустроенный дом на несколько квартир и долгосрочно приглашать туда специалистов из города. Напротив ДК - маленькие приусадебные хотоны, почти не отличимый от них очертаниями новый балаган (традиционное якутское жилище) на холме и пара припаркованных УАЗов - дальше путь только на них. Впятером - с Алексеем Гаврильевичем, который сам сел за руль, - мы погрузились в "буханку":
19.
И поехали по улицам весьма обширного Арылаха - до цели ещё 8 километров, но даже буханка преодолевает их порядка 40 минут.
20.
Особенно - с остановками: если в экипаже рыжая кудрявая Наташа, то разве можно пропустить такой луг?!
21.
Это сардааны, полевые лилии, цветы счастья в якутских поверьях:
22.
К июлю они в основном отцветают, но нам повезло найти кочку, на которую лето пришло позже на пару недель:
23.
В сухости, безветрии и общей мамонтовости даже тени от деревьев и уклон относительно солнца могут давать такие эффекты. Ну а сардаанки безумно хороши:
24.
В лугах - своя жизнь, и где-то тут Алексей Гаврильевич притормозил, поравнявшись с встречной машиной, да о чём-то переговорил по-якутски с водителем. Жителей "своего" наслега он знает в лицо, и этот человек ехал куда-то на дальние аласы - то ли косить сено, то ли ловить карасей. К сайылыкам (хуторам) тут накатаны свои дороги, но наша цель с непроизносимым названием Хотогу-Чилгирие значится в списках и картах как "местность". Дорога к ней за лугом с сардаанками выглядит так:
25.
А километра за полтора до цели мы чуть не увязли в болотце и в итоге, пару сотен метров до развилки пятясь, предпочли в объезд:
26.
Вот и она, местность Хотогу-Чилгирие - заброшенный сайылык с бабаарынами (деревянными юртами) и амбарами на краю широкого луга:
27.
В травах которого раздолье коренастым и крепким якутским лошадям, летом теряющим свою знаменитую мохнатость. Ну а при виде жеребёнка тут не умиляются, а облизываются: главное мясо на якутском столе - жеребятина, на которую родившихся по весне жеребят забивают осенью.
28.
Проехав мимо бабаарын, мы встали у вросшего в землю сруба, который пару лет назад дополнили навес и инфостенд с вводного кадра. Старики помнят его как амбар Евстафия Сыромятникова, а когда он построен - не помнит никто: точно не позже середины 19 века, а может быть и 300 лет назад...
29.
Внутри - рассыпавшийся камелёк: вот так он выглядит без глины, и это очень странно - деревянный камин!
30.
На брёвнах - подношения иччи (духам места) и духам предков, и по вещам можно понять, какие люди чаще всего здесь бывают:
31.
Ну а вот и то, ради чего мы забурились в эту глушь - две надписи на брёвнах, одна (снятая без вспышки) из 49, другая (снятая с вспышкой с двух сторон) из 80 символов. И наука не знает, что это за символы. Надписи открыл в 2000 году местный уроженец Семён Попов, учёный-биолог, на склоне лет подавшийся в краеведы. С конца 1980-х, начав с поисков сэргэ, которые якуты ставили в 1940-е годы, уходя на войну, он изучил в своём наслеге натурально каждое бревно. 4-5 брёвен оказались с надписями: на одной из окрестных построек вырезано вполне себе по-русски "1775 год", а в лесу на соседнем аласе Нуучалах обнаружилась колода с ещё одним нераспознанным текстом и датой "184?". Ещё одну надпись у аласа Быллах нашли в 2003 году ученики местной школы, я в своём рассказе про Усть-Алданский улус упоминал Билирскую надпись близ труднодоступного селения Танда, а сколько ещё таких вот фрагментов "якутского кодекса Войнича" ждёт своих открывателей по далёким аласам? В Черкехе мне дали поговорить по телефону со старым кузнецом из глухого села (а кузнец у якутов - профессия глубоко мистическая), который знал о таких надписях на Татте. Выудить у него сколько-нибудь конкретные трактовки я так и не смог, но уходил от прямого ответа кузнец с такими интонациями, будто всё-таки знает этот ответ, просто не хочет говорить его непосвящённым.
32.
Ну а что мы имеем в сухом остатке? Если не к приходу русских, то к первым переписям и миссионерским экспедициям якуты не имели письменности... но знали, что такое письменность, и более того, помнили о том, что когда-то она была и у них. Легенда гласит, что во время исхода пращуров из Прибайкалья их нагнал монгольской отряд. В завязавшемся бою треснул лёд Лены, но поглотила река не врагов, а один из обозов, где лежал в том числе камень с надписями, по которому предки якутов учили свой алфавит. Дальше были смутные годы тяжёлого пути и обретения родины, и тут уж лишь бы выжить: те, кто помнили грамоту, не успели её передать. Скрижаль утопить предки правда могли, но вот последнее предложение однозначно не верно - в устье Синей реки (другой вариант) или на далёких писаницах Суруктаха есть вполне достоверные надписи тюркским руническим письмом. И вот в нём-то как раз нет ничего удивительного: предки якутов, воинственные тюрки курыкане, скорее всего пришли в Прибайкалье с Саян как одно из племён енисейских киргизов. Преемники последних - хакасы, а среди них действительно есть роды с названиями, напоминающими "саха". Тюркские руны давно расшифрованы, вот только - не они вырезаны на брёвнах у Арылаха! Надписи представляют собой очень странную солянку из правильных тюркских рун, неправильных тюркских рун, старославянских и латинских букв. Тюрколог Герасим Левин из Якутска, один из немногих исследовавший Арылахскую надпись, подправив непонятные знаки и унифицировав руны и буквы, получил вполне связный текст, хотя сам и не отрицает, что это только гипотеза: "Быстрый скакун, огромный телом, резвый, однако на сей раз вы слабы, устали, однако вы не виноваты" по длинной надписи и "мы когда-то были быстры как олени во время воинственных кангалассов" (последние - крупнейшее якутское племя, накануне русской экспансии пытавшееся встать во главе всех саха). Я слышал версию, что это некий батюшка, зная про опыты Месропа Маштоци (создатель армянской и грузинской азбук; см. Ошакан) или Стефана Пермского (крестив коми, создал им анбур - оригинальный алфавит на основе кириллицы, греческого и местных знаков) пытался проделать что-то подобное и для якутов, но дальше нескольких селян дело не пошло. Есть и ещё один важный момент - невооружённым глазом видно, что алфавиты разных надписей в Якутии не совпадают! Вот например Нуучулахская надпись:
32а. скриншот из видео Гераисма Левина.

И в общем, за дефицитом научных гипотез, подброшу-ка я ещё и свою. Итак, курыкане пришли сюда с письменностью, которая явно была достоянием очень ограниченного круга людей, каких-нибудь писарей при вождях или шаманов. Расселившись по аласам и утратив всякое подобие государственности, якуты просто не нуждались в письменности, не имея ни делопроизводства, ни хроник. Покоряли якутов также в основном неграмотные казаки, но в одном из документов 17 века, судебных дел о крупнейшем якутском восстании 1642 года, есть очень любопытная фраза: "И Огей посмотрел на память, да и бросил его". Проще говоря, якутский тойон прочёл некое послание и выбросил. Тут можно предположить, что якутская письменность всё же пережила и исход из Прибайкалья, и русскую колонизацию, вот только у саха не было ничего даже близко похожего на образование. Грамоте отцы учили сыновей в разрозненных родах за сотни вёрст друг от друга, и учили, судя по всему, тайно, с установкой не передавать эти знания кому попало, а в особенности - бородатым чужакам. Вот только много ли поводов воспользоваться письменностью было у людей с аласов? Тойоны, подружившись с русской властью и возглавив сбор ясака, делопроизводство вели на русском, а если по-якутски надо было что-то написать - пользовались той же кириллицей. Может, шаманы писали на бересте письма для духов и тут же отсылали их в огонь? Но скорее передача грамоты превратилась в некий родовой обычай с минимумом практики. Как результат, руны трансформировались, забывались, подменялись кириллическими и латинскими буквами, причём в каждом помнившем грамоту роду это происходило по-своему. Ну а в 1850-х с лёгкой руки немецкого санскритолога Оттона Бёнтлингка и русского миссионера Дионисия (Хитрова) появился собственно якутский алфавит на основе кириллицы, а с ним и образование для якутских детей, окончательно лишившие смысла передачу позабытых букв.
33.
Ещё пара фактов до кучи. Лиственница - дерево "вечное", тем более в сухом якутском климате, и отдельным брёвнам, уложенным в более поздние постройки, тут может быть и несколько веков. Самая запоминающаяся в Арылахской надписи руна в виде птичьей лапки есть и у германцев, и называется она, как бы вы думали, альгиз! Что крайне созвучно с алгыс - якутским священнодейством. По лугам и ухабам мы возвращались в "Туску":
34.
В фойе Дома народного творчества - собственно, народное творчество, да при том отличное для небольшого села:
34а.
В офисном помещении ДНТ нас ждал накрытый стол. В кадре - Юрий Семёнович, Оля и Алексей Гаврильевич, благодаря которым вы читаете этот пост:
35.
Нас угощали оладьями с суоратом (простоквашей) и настоящим домашним якутским деликатесом - кровяной колбасой хаан. Не очень-то похожа на кровяную? Дело в том, что хаан бывает двух видов - можно сразу смешать молоко и кровь, а можно дать крови отстояться и распасться на фракции: тогда наверх поднимется субай - "белая кровь". То есть, по факту хаан из субая - это колбаса даже не кровяная, а плазменная. И по мне так это очень вкусно.
35а.

С собой Алексей Гаврильевич дал нам баночку мёда с той самой пасеки - как позже убедились мы на ленском теплоходе, отличного. Но - пора было прощаться, и покинув гостеприимный Арылах, в хорошее будущего которого верится, наш чёрный джип с молчаливым молодым шофёром взял курс обратно в Чурапчу:
36.
Километров за пять до посёлка появилась сеть, и Николай Егорович сообщил, что "Патриот" починен и он будет ждать нас у Дома культуры. Завершился вояж, который я бы вряд ли смог осуществить своими силами, так что и все мои благодарности в текстах якутских постов - вполне искренние.
37.
С чёрного внедорожника пересев на белый, продолжаем путь по трассе "Колыма". Чурапча провожает сухим аласом Магаайы, как и майинский Урасалах занятым площадкой для празднеств:
38.
В том числе - Ысыаха-Олонхо 2015 года, когда видимо был построен непривычно лаконичный Аал-Луук-мас:
39.
В прошлой части я много раз упоминал чурапчинских коров - для Якутии они примерно такой же локальный бренд, как для всей России, скажем, астраханские арбузы или оренбургские пуховые платки. Но в посёлке о коровах напоминают лишь чрезвычайно сложные калитки в скверах, а вот Магаайы между празднеств спонтанно становится пастбищем:
40.
На выезде, как и на въезде - всадник, только не бронзовый, а деревянный. Но кто именно изображён здесь - не берусь предполагать:
41.
Заброшенный деревянный мостик остался не от Колымского тракта сталинских времён, до реконструкции местных просёлок на рубеже 1990-200-х начинавшегося лишь за Алданом. В прошлых частях я много рассказывал о совершенно не очевидных в Якутии проблемах с водой, очень малом количестве осадков и мерзлоте, которая позволяет накапливать в почве талую воду и поить ей леса и луга. Людям же пить нечего - рек на Центральноякутской равнине мало и они маловодны, бесчисленные озёра застойны и загажены пасущимся скотом, и единственным спасением если не от жажды, то от кишечных инфекций остаётся лёд, который якуты зимой запасали в подвалах (ну, и бутилированная вода, разумеется). В 1993-2004 годах от Нижнего Бестяха до Татты была построена сложная сеть водоводов - толстая труба из Лены подаёт воду в озеро Туора-Кюёль (показанное здесь в самом конце), канал из относительно полноводной Амги питает Татту в верховьях, ну а этот мостик - через пересекающий несколько озёр канал в Чурапчу из речки Татты:
42.
Памятник с фигурами коней у трассы - уж не знаю, по какой легенде или были:
43.
Сёла тут стоят не по-якутски часто - вот например последняя в Чурапчинском улусе Харабала 2-я, центр Болтонгинского наслега. Она тоже примечательна надписью, которую не каждый сможет расшифровать - сделана она якутской латиницей. А если точнее - "новгородицей": в 1917 году воодушевлённый революцией студент арабо-персидско-турецкого разряда Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, уже не юный к тому времени якут Семён Новгородов создал своему народу алфавит на основе международной системы фонетических знаков. В чём-то "новгородица" идеально подходила для людей, которым лишь предстояло массово обучиться грамотности: однозначное "как слышится, так и пишется" сочеталось с отсутствием заглавных букв и знаков препинания. Но первые коррективы в творение Новгородова внесла сама жизнь - в далёком Якутске да в разгар Гражданской войны было негде взять подходящее под новый алфавит типографское оборудование. С 1921 года на "новгородицу" стали переводиться учебники и газеты, но в общем распространение выявляло в ней всё больше неудобств, так что едва ли не каждый год в алфавит приходилось вносить коррективы. Наконец, в 1926 году в Баку прошёл Тюркологический конгресс, с которого якутская делегация привезла в том числе яналиф - универсальную тюркскую латиницу, на которую якутский и перевели в 1929-м. Дальше политика коренизации повернулась на 180 градусов, и с 1939 якуты используют ту сложную кириллицу о 38 буквах и 4 дифтонгах, что мы регулярно видим и ныне. Ну а въезд в Харабалу латиницей украсили от того, что сам Новгородов был из в Болтонгинского наслега. Только - не отсюда, а из местности Кыдала на полпути до Арылаха...:
44.
Вот и последний в нашем заречном вояже Таттинский улус, в 1912 году отделившийся от Ботурусского улуса, центром которого была Чурапча. Татту можно назвать Якутской Орловщиной, с которой родом как бы не большинство её литературных имён. Советский въездной знак не оставляет сомнений, что изображён на нём если не писатель, то олонхосут:
45.
В 2010-х годах стела обросла Аар-Багахом (святилищем), у которого мы припарковались в компании пары фур, явно державшись путь к Магадану. Алтарь из двух сэргэ обвязан саламами (лентами), полит кумысом и осыпан оладьями - эти маленькие жёлтенькие солнца якуты часто оставляют в святых местах.
46.
Первое таттинское село Кыйы встречает площадкой Ысыаха, которую я было принял за ещё один этнографический музей:
47.
Впрочем, как вы могли убедиться за эту серию, традиционного зодчества в Якутии полно и без всяких музеев:
48.
От Кыйи рукой подать до Черкёха - пожалуй, самого интересного села всей Якутии километрах в 40 от Чурапчи:
49.
Но о Черкехе - в следующих двух частях.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: якуты природа дорожное Якутия деревянное этнография Чурапча |
Чурапча. Столица якутской глубинки |
Чурапча - райцентр (10,4 тыс. жителей) в 180 километрах от Якутска по Колымской трассе, куда мы в прошлой части добирались из Майи глухими просёлками по колоритнейшим деревням. До поездки мне рассказывали о Чурапче как о месте из тех, где самый яркий и аутентичный Ысыах, но не все поймут, если к ним обращаться по-русски. Такие уголки есть у многих народов, будь то ирландский Коннахт, финская Остроботния, армянский Сюник или казахский Чимкент... Только вот нюанс: национальная культура в перечисленных местах как правило обладает изрядной спецификой, которую мощное самосознание настойчиво пытается превратить в эталон. Этого-то в Чурапче и нет: сохранность традиций, языка и просто некоего национального стержня в Саха-Сирэ примерно одинакова от улуса к улусу. Для якутов Чурапча - не цитадель исконного духа, а столица деревень, самой кондовой глубинки, славная обилием коров. И даже здешний институт гордо именуется "единственным сельским вузом России".
Нашему вояжу по Заречным улусам помогли проект "Живое наследие", депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева, администрация Республики Саха и отдельных её улусов, а в сегодняшнем случае - заместитель начальника управления по организационным и правовым вопросам администрации Чурапчинского района Алексей Гаврильевич Ноев и директор Чурапчинского музея Юрий Семёнович Толстоухов.
Колымская трасса - название легендарное, но сталинская "дорога на костях" начинается лишь за Алданом. Три сотни километров в Заречных улусах, между Алданом и Леной, присоединили к ней лишь на рубеже 1990-2000-х с реконструкцией из просёлок. Реконструкция идёт и ныне: все 170 километров до Ленской переправы тут чередуются участки нового асфальта и пока ещё грунтовок, где строительная техника поднимает плотную пыль. Впрочем, прочувствовали мы это лишь на обратном пути - как уже говорилось, в Чурапчу мы добирались по просёлкам. К трассе "Колыма" Чурапча выходит бесконечными магазинами, автосервисами и кафе, по вечерам закрытыми либо на ночь, либо на спецобслуживание. Поворот к центру посёлка отмечает памятник Боотур Уус (2013) по мотивам написанной в 1938 году картины якутского художника Петра Романова:
2.

Боотур Уус, здесь изображённый с невестой - это внук легендарного праякута Эллэя, что где-то в 11 веке привёл из Прибайкалья на Лену тюркский народ курыкан. Они закрепились в левобережной долине Эркээни, напротив богатых железом притоков, и так как соседняя долины Туймаады (где теперь Якутск) была обжита эвенками, с вождём которых Омогоем Эллэй заключил союз, пришлый народ стал расселяться вверх по притокам. Боотур Уус первым отправился вглубь правобережья, и вскоре заречные аласы заняли заречные улусы. Большинство из них, как Мегинский (см. прошлую часть) или Борогонский (не говоря уж про огромные правобережные Кангаласский и Намский!), занимали отдельные крупные племена, а дюжина племён слагали один Ботурусский улус, русским известный уже с 1637 года.
3.
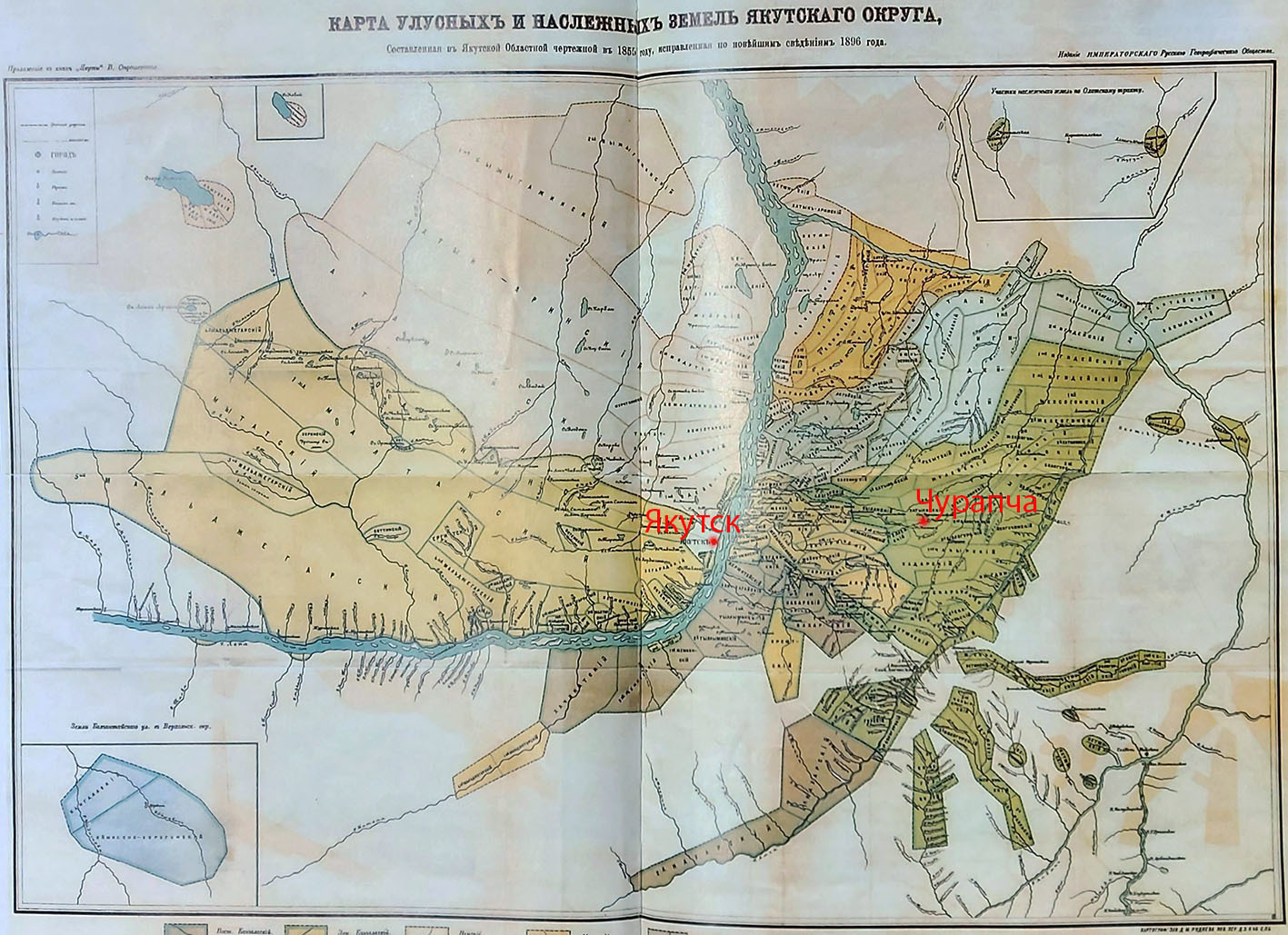
Под русской властью улусы остались в качестве национальных волостей, тем более сбором ясака (превратившегося постепенно из пушной дани в обычный оброк) у якутов с 17 века занимались сами тойоны (князья). Сетка улусов оставалась стабильной с дорусских времён, пока над ней сменялись комиссарства, округа, уезды в Якутской провинции, губернии, области. К началу ХХ века Ботурусский улус с населением в 30 тыс. человек объединял примерно 1/6 часть всех якутов, и население его росло, наслеги дробились, а для внутреннего сообщения всё острее не хватало дорог. Начавшиеся в 1901 году тяжбы кончились важным для Якутии событием - Разделением Ботурусского улуса: в 1911 году его южная часть выделилась в Амгинский улус, в 1912 северная стала Таттинским улусом, ну а середина носила старое название до 1930 года, когда была переименована в Чурапчинский улус. Его по сей день населяет десяток родов с не просто тюркскими, а откровенно огузскими названиями (болугурцы, чакырцы, сыланы и т.д.), а крупнейшее племя хатылинцев считается потомками разветвившегося рода Боотур Ууса. "Большой" Ботурусский улус дал Якутии добрую половину выдающихся имён (особенно богата ими Татта), но и в "малом" ярких личностей хватало. На кадре ниже, в местном музее - стенд о живописце начала ХХ века Иннокентии Сивцеве (Мытыйыкы), с чьим творчеством мы познакомились в прошлой части, и выкованный в Иркутске в 1771 году клинок (символ власти) телейского тойона Уот Сирэй Кыдаала, который позже переселился в Якутск и был там крещён как Федот Борисов. Из его рода, как я понял, происходит чурапчинец Егор Борисов - в 2010-18 годах последний президент и первый Глава республики Республики Саха. Ну а известная с 1648 года Чурапча была центром Ботурусского улуса, то есть фактической столицей почти мононационального якутского правобережья.
4.

От памятника Боотур Уус начинается улица Маркса, пересекающая посёлок из конца в конец. От трассы до центра по ней пара километров мимо живописного кладбища с целым городком чардаатов (мавзолеев):
5.

А где-то за заборами стоит с 1920-х годов вероятный прототип так удививших меня в прошлой части деревянных Часовен Победы - могила 17 жертв Чурапчинской колотушки. Столица Заречных улусов не могла не стать одним из очагов Гражданской войны.
5а.

С тех пор как в 17 веке были подавлены последние восстания, настоящего сепаратизма в Якутии не появлялось никогда. Куда ближе народу саха оказалось областничество - широкое местное самоуправление и возможность быть самим собой. Проще говоря - положение "государства в государстве". Более того, в силу удалённости и крайней специфики экстремальных природных условий, так Якутия в основном и жила под Россией - со всеми своими улусами, наслегами и тойонами. Якут вообще по натуре не идейные боец, а крепкий хозяйственник, а единственное "активное меньшинство" среди саха образовалось в начале ХХ века под влиянием ссыльных большевиков. В общем, с начала Гражданской войны якуты хранили скорее нейтралитет, более комплиментарный к красным, но красные в 1920 году совершили очевидную ошибку - ликвидировали Якутскую область, вновь подчинив её Иркутску. Чем не замедлили воспользоваться белые: осенью 1921 года в упразднённую область вошли прибывшие морем отряды корнета Михаила Коробейникова через Аян и есаула Валериана Бочкарёва через Охотск. К зиме восстание охватило весь Северо-Востока от Олёкмы до Камчатки, а в осаждённом Якутске пошли на дрова деревянные церкви, здания старой администрации и башни последнего русского острога. Главным оплотом повстанцев и сделалась Чурапча, где в марте Коробейников организовал Временное якутское областное народное управление и возглавил Якутскую народную армию. Вместо царского триколора они подняли флаг Сибирского областничества, с 1918 ходивший по недолговечным белым государствам, смещаясь неуклонно на восток:

Народная армия ушла к Якутску и даже успела ненадолго им овладеть, Советы же грамотно перехватили повестку, уже в апреле 1922 года провозгласив Якутскую АССР. Наводить в ней порядок отправились красные командиры Иван Строд (прежде здесь уже отличившийся) и Степан Вострецов (до того воевавший больше на родном Урале), и к лету отряды ЯНА были отброшены назад в Заречные улусы. Красные двигались к Чурапче, и охранявший её полковник Валентин Дуганов, бежавший в этот новый антисоветский оплот из красной тюрьмы в Иркутске, решил отыграться на пленных. 1 июля 1922 года 17 человек, в том числе четверо братьев-бедняков Готовцевых, виновная лишь в том, что её сыновья поддерживали красных Елена Яковлева и всего-то один красноармеец Алексей Тимофеев (причём не якут, а чуваш) были казнены белыми. Патронов у Дуганова оставалось в обрез, поэтому людей по одном уводили в лес, а там убивали дубиной и бросали в яму. Тут стоит сказать, что просто по причине малолюдья и суровости условий человеческая жизнь для якутов стала бесценной "ещё когда это не было мейнстримом" - психологически любые цифры потерь тут можно умножать на 100, а потому в местной памяти Чурапчинская колотушка - примерно как для Европейской части Бабий Яр.
6.
Остатки сил ВЯОНУ откатились дальше на восток, и в конце лета к ним пришло с моря подкрепление - порядка 750 вернувшихся из Маньчжурии белогвардейцев во главе с Анатолием Пепеляевым. Но основные битвы с ними развернулись на Амге, а Ботурусский улус крепко держали красные отряды. Защищал сожженную дугановцами Чурапчу и отстраивал её после Гражданской войны бывший красный партизан Николай Кривошапкин, более известный как Николай Субурусский по якутскому имени Уот Субуруускай.
7а.
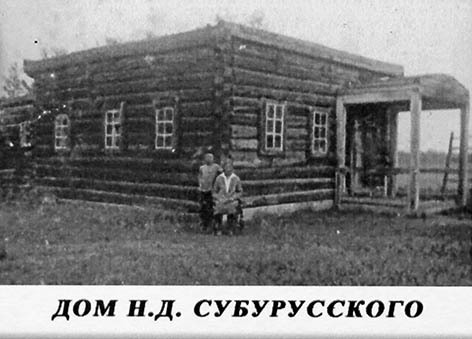
Расположенная практически в центре гигантского ромба между Леной, Алданом и Амгой, Чурапча и в раннем СССР осталась экономическим центром Заречья, из которого по окрестным улусам распространялись ликбез, электрификация всей страны и другие достижения социализма.
7.
И до сих пор Чурапча на своих 9 холмах и 17 аласах замыкает десятку крупнейших населённых пунктов Якутии, а уж в Заречных улусах превосходит все эти Ытык-Кюёль, Амгу, Майю, Борогонцы и даже Нижний Бестях в 1,5-2 раза. Хотя по статусу всё это сёла, визуально Чурапча явно небольшой городок - даже с муралами и новостройками:
8.
Тут есть даже стеклянный Дом Олонхо (2013) - такие в якутской глубинке сочетают функции Дворца культуры и храма, где на сцене могут проходить хоть концерт, хоть алгыс. И в то же время по сравнению с деловитым Бестяхом или пасторальной Майей Чурапчу отличает куда как более суровый, глинисто-мерзлотный пейзаж:
9.
Под вечер мы подъехали к администрации Чурапчинского улуса, где наш водитель Николай Егорович получил пакет с едой на вечер и ключи от квартиры на окраине, в которой нам предстояло ночевать.
10.
Перед администрацией - живописный наклонный сквер с Ильичом, доской почёта (кадр ниже) и отдельным памятником телеграмме Ленина с её текстом: "Чурапче через Якутск президиум конференции бедноты раскрепощённые от царского угнетения освобождающиеся от кабалы тойнов якутские трудящиеся массы пробудятся с помощью русских рабочих и крестьян выйдут на путь полного укрепления власти самих трудящихся".
11.
От администрации мы поехали на самую окраину, которую покажу в конце поста, и там расположились в квартире. Егорыч пошёл посмотреть свой белый "Патриот", в котором с позавчерашнего дня начались мелкие поломки, и вскоре вернулся обескураженным - бездорожье Курулура и Бютейдяха не прошло даром, и у машины полетел задний мост. Созвонившись со знакомыми автомеханиками, Егорыч оценил сроки ремонта в полдня-день, и я уже готовился к тому, что в бывший нашей целью Арылах мы не доедем и весь следующий день проведём в посёлке. Однако даже на ночь глядя я не замедлил сообщить про форс-мажор Алексею Гаврильевичу в администрацию, а на утро за нами приехал на чёрном джипе с выдернутым из отпуска молодым шофёром Юрий Толстоухов да повёз по посёлку и в Арылах. В общем, Чурапчу мы осмотрели в несколько приёмов, а потому не стоит удивляться разному освещению - вот этот маленький алас лежит в прямой видимости мест с кадров выше, а из многоэтажки поодаль можно читать бетонную телеграмму Ильича:
12.
Центр Чурапчи вдоль улицы Маркса буквально набит памятниками героям войн. В сквере через дорогу от администрации увековечен Гавриил Протодьяконов - сельский учитель, на фронте ставший героем-артиллеристом и даже запечатлённый в панораме "Сталинградская битва" на Мамаевом Кургане. К Звезде Героя он представлен почему-то не был, зато дошёл до Берлина и благополучно вернулся живым.
13.
Обратите внимание, как причудливо устроены входы в поселковые скверы - потому что чурапчинские коровы не пустой стереотип!
13а.

Продолжение мемориала Победы (1995) - с другой стороны дороги:
14.
И в его сэргэ и фигуре коня, портретах солдата и его родных, символическом кладбище с табличками-кенотафами чувствуется совсем не советский почерк. Но на камне, может быть более старом - силуэт и герб СССР:
14а.

Через дорогу - монумент борцам за власть советов с датами на обелиске. Кроме бутафорского пулемёта, который с каким-то уж очень прозрачным намёком был поставлен на 100-летие Октября:
15.
За монументом - колоритное деревянное здание детской школы искусств (1957):
16.
Ну а скрепляет всю систему памятников дорожник и мелиоратор Дмитрий Лазарев. Он строил трассу к Якутску и пущенный в 2004 году водовод Нижний Бестях - Татта, вдоль которого мы ехали в прошлых частях.
17.
Новостройку ДК "Айылгы" отделяет от него не алас, а медленная речка Куохара. Она течёт в широкое озеро, сменившее за свою историю несколько названий и в итоге ставшее озером Чурапча:
18.
За речкой ещё один памятник - локомобиль (1938), паровой генератор первой в Заречных улусах электростанции, тут поставленный в 2017 году:
19.
Близ него свернём с улицы Маркса вниз по Куохаре - туда, где с 1948 года стоит Чурапчинский музей истории и этнографии имени Андрея Савина - историка, этнографа и первого директора:
20а.

Нынешнее здание построено в 2008 году не без помощи Егора Борисова, и конечно, прежде чем ехать в глушь, Юрий Семёнович не упустил возможности показать гостям своё учреждение:
20.
В отличие от Майи или Олёкминска, о Чурапчинском музее я ничего не знал до поездки и даже не собирался его посещать. Но в Якутии просто на удивление хорошо с музейным делом - начиная от роскошного кластера музеев Якутска и заканчивая музеями улусов и даже наслегов, уровень которых может и не "областной", но явно выше, чем "районный". Понимая, что у нас впереди сложная дорога, очаровательная Василена Мохначевская провела нам экскурсию быстро, но в посты о материальной и духовной культуре саха я включил и несколько кадров отсюда.
21.
На кадре выше - якутские украшения, в том числе работы братьев Алексея и Константина Макаровых (Ини-бин Энсиилэр). На кадре ниже - точки приложения такого искусства: седло и сбруя коня, кафтан женщины и доспех боотура (конечно, новодел), подаренный музею знаменитым кузнецом Борисом Неустроевым (Мандар-Уус) с Татты:
22.
В уголке - ещё одна легенда Ботурусского улуса: вождь Кудангса Великий из Майибалы, шаман Чачыгыр-Таас и Чолбон - Утренняя Звезда, с которой в якутских легендах на Землю спускается холод. Кудангса действительно жил на рубеже 16-17 веков, и его эпоха осталась золотым веком Заречья, пока, быть может в тот же год, когда в России небывалые холода вызвали голод и Великую Смуту, сюда не пришла особенно страшная зима. По легенде, Куданса позвал Чачыгыра (судя по имени, кстати, эвенка!) сбросить Чолбон с небес и пообещал взять на себя всю вину перед богами. Не опрокинуть звезду, но хотя бы отогнать злую зиму ойун и тойон действительно смогли, ну а в начале ХХ века Платон Ойунский с соседней Татты написал по мотивам тех событий оперу. Костюм и бубен же принадлежали, конечно, не Чачыгыру, но вполне реальной удаганке (шаманке) Ульяне Платоновой, также известной как Усылджана:
23.
В экспозиции старого быта - чороны (деревянные кубки, об изготовлении которых я рассказывал здесь) от мастера Гавриила Егорова, лучшая коллекция якутских кос с характерными широкоугольными лезвиями и неожиданно симпатичный столик:
24.
А также столь редкая вещь, как якутская керамика - несколько горшков и светильник-окуриватель. Мир саха состоял в основном из дерева и металла: якуты знали много секретов обработки древесины и бересты, получая из неё например ткань наподобие брезента, и имели отличная по меркам Средневековья металлургию. А вот керамика тут чаще достояние археологии, чем этнографии. Но такова, видать, специфика Чурапчи, стоящей на голой глине:
24а.

Из-за этой глины без признаков песка тут вдали от больших рек случаются наводнения - талая вода просто стоит в низинах, пока не испарится. Снегопады же в Чурапче порой случаются очень сильные - уровень снега после одного из них, случившегося в 1859 году, отмечает вот этот сэргэ из местности Иэкээни:
25.
Это уже зал дикой природы, в котором лежит первобытного вида долблёнка, случайно найденная неким Афанасием Сивцевым в 1992 году во время рыбалки на Олимпийском озере:
26.
В долблёнку Юрий Семёнович (на заднем плане - его дочь, 7-классница Оля, поехавшая с нами) экспонаты подкладывал сам:
27.
Нам показав с телефона, какими их выловил в низовьях Лены. "Воооооот такую рыбу" в Якутии демонстрируют не разводя руки, а как бы поднимая добычу за жабры над полом.
27а.

От музея рукой подать до деревянной Вознесенской церкви (1899):
28.
Точнее, до Новой Вознесенской церкви - была ещё и Старая Вознесенская (1848), сруб которой, перенесённый с исходного места как общежитие врачей, до сих пор стоит где-то в посёлке.
28а.
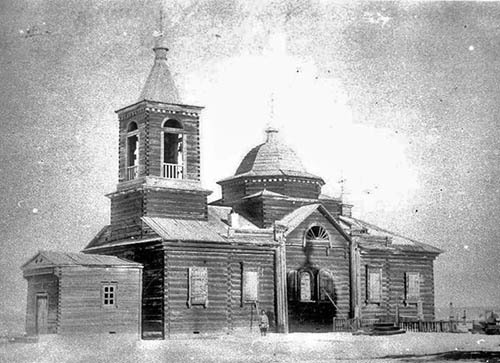
В новой церкви при Советах располагались организации вроде суда или прокуратуры, а теперь она возрождается - медленно и тяжело. Над крышей вновь поставлены купола, но вряд ли туда скоро вернётся колокольня - пока главной целью прихода остаётся иконостас:
29.
Смотритель храма попросил нас разместить где-нибудь реквизиты для пожертвований:
29а.
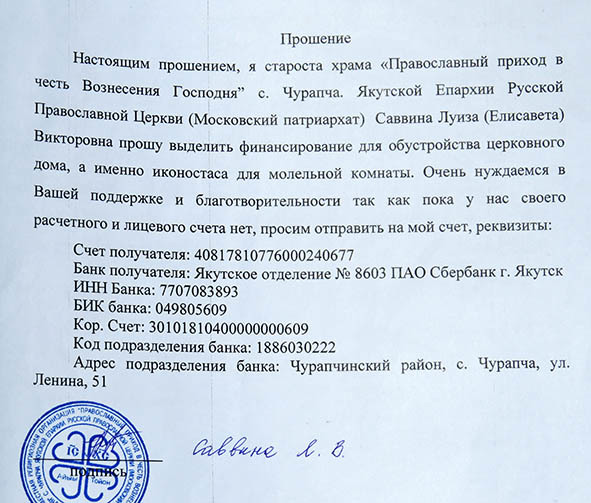
Да сказал фразу словно откуда-то из Руси домонгольской: "У нас приход очень бедный, мало людей в нём - тут большинство язычники..."
30.
Кадр выше снят с места, которое якуты чтут вне зависимости от вероисповедания - с мемориала Насильственно переселённым (2012):
31.
На церкви нет звонницы, а тут висит колокол с литыми датами Чурапчинской трагедии:
31а.

Холм венчает статуя "Мать и Дитя", он же и на вводном кадре:
32.
Целый зал посвящён тем событиям и в музее. Самой славной страницей Великой Отечественной войны в Якутии остаётся АлСиб - перегон ленд-лизовских самолёт в Красноярск с Аляски (см. здесь). Не менее важную роль ЯАССР сыграла в снабжении тыла продуктами - молоком, кониной, олениной, рыбой... С последней выходило сложнее всего: огромные биоресурсы моря Лаптевых и ленских низовий было просто некому добывать. Поначалу советская власть отправляла на гиблые полярные берега депортантов из Прибалтики и завоёванной части Финляндии. Многие из них погибли тогда от голода и мороза, но план всё равно не выполнялся, и вот якутские чиновники, припомнив заодно ЯНА и ВЯОНУ, обратили взгляды на Чурапчу. Несколько десятков небольших животноводческих колхозов были директивно преобразованы в рыболовецкие, и ловить они, конечно же, должны были не озёрных карасей. По исполнению всё это мало отличалось от депортаций народов Кавказа и Крыма: на сборы людям давали сутки, а с собой разрешалось взять не более 16 килограмм поклажи, не считая скота - 2904 коров и лошадей также отправлялись в низовья. В начале сентябре 1942 года 5318 человек, около 1/3 тогдашнего населения улуса, прибыли в Нижний Бестях. Дальше в дело вступила общая военная неразбериха, которую теперь мы и своими глазами имеем несчастье наблюдать. Обещанные пароходы так и не подошли, переселенцы 4 недели ждали их на берегу в шалашах и навесах, и потеряв бесценные дни перед холодами, отправились вниз по реке на неустроенных грузовых баржах.
33.
Колхозы расположились цепочкой от Сангар до острова Тит-Ары. Собраться переселенцам дали так, будто они едут на всё готовое, по изначальному плану у них было тёплое время построить себя жильё, а по факту чурапчинцы высаживались с барж в октябре-ноябре, когда над Якутией крепчали морозы... Выживали кто как мог - сооружая навесы и шалаши, восстанавливая заброшенные балаганы, обменивая фамильные реликвии у русских и эвенков на тёплую одежду и еду. Но чаще всего - просто не выживали: на холодных берегах погибла треть переселенцев, более 2000 человек, и в основном - в первую бесприютную зиму. Вот таким примерно было в низовьях Лены лето 1943-го: чурапчинцы, в основном женщины и подростки, ловят рыбу на фоне острова Столб в начале дельты.
34.
И всё же юридически это была не депортация: не обременённые антисоветскими обвинениями, в 1944-47 годах выжившие вернулись домой, по очереди из Кобяйского, Жиганского и Булунского районов. Чурапчинский улус в далёком тылу война опустошила так, как немногие районы, по которым прокатилась непосредственно. Из 50 тыс. голов скота тут осталось 14 тысяч, из 16964 жителей - 7934. Некогда с большим отрывом самый многолюдный район Якутии восстановил свою численность лишь в 1986 году, и ныне с населением 22 тыс. человек не выделяется среди соседей.
34а.

Но жизнь продолжалась, и за озером от памятника прекрасно виден ещё один символом Чурапчи - ЧИФКИС, который и называют "единственным сельским вузом России":
35.
Основанный в 1934 году как училище для подготовки сельских учителей физкультуры, вузом Чурапчинский институт физкультуры и спорта стал лишь в 1999 году, и здания с прошлого кадра его - кажется, из той эпохи. Но его учреждение не было плодом амбиций Михаила Николаева или Егора Борисова - как сказал олимпийский чемпион-самбист Александр Иваницкий (дончанин в Ленинграде), "Чурапча мощно вклинилась в большой спорт". Показав свой музей, Юрий Семёнович привёз нас к Чурапчинскому музею Спортивной славы (2003)...
36.
...имени Дмитрия Петровича Коркина. Под широким куполом, на символической борцовской арене нас встретил заведующий музеем Егор Васильевич Пудов. А с ним - гипсовый Коркин и четвёрка его лучших учеников: олимпийские чемпионы по борьбе Роман Дмитриев (1972, Мюнхен) и Павел Пинигин (1976, триумфальный для якутов Монреаль), серебряный призёр того же года Александр Иванов и чемпион "Игр доброй воли-1986" (эрзац бойкотированной соцлагерем Олимпиады-1984) Василий Гоголев, в юности приехавшие сюда из разных концов Якутии:
37.
Родившийся в 1928 году в семье колхозников, в 1952 году Дмитрий Коркин уехал из родного Кытанахского наслега в Ленинград - в пединститут имени Герцена. В Северной столице якут увлёкся борьбой самбо и даже выполнил разряд кандидата в мастера спорта. Дальше студента могла ждать спортивная карьера, но окончив вуз, он вернулся на родину преподавать русский язык в Ожулунской сельской школе в 12 километрах от Чурапчи. Тело, однако, просило борьбы, и Дмитрий Петрович организовал при школе секцию с самодельными матами, которые набивал соломой:
37а.

Вскоре о чудо-тренере прослышали в Чурапче, и поначалу Коркин ходил 12 километров до райцентра пешком три раза в неделю, а в 1957 свежесозданная на базе училища Чурапчинская школа-интернат предоставила ему жильё и построила спортзал по его требованиям. В сельской глуши Дмитрий Петрович думал о том, как связать в единый стиль самбо и якутскую борьбу хапсагай, а в райцентре его всё больше занимали вопросы возможностей и совершенствования человеческого тела. Особенно после 1964 года, когда слава якутского тренера дошла до Москвы и его отправили на Олимпиаду в Токио.
37а.
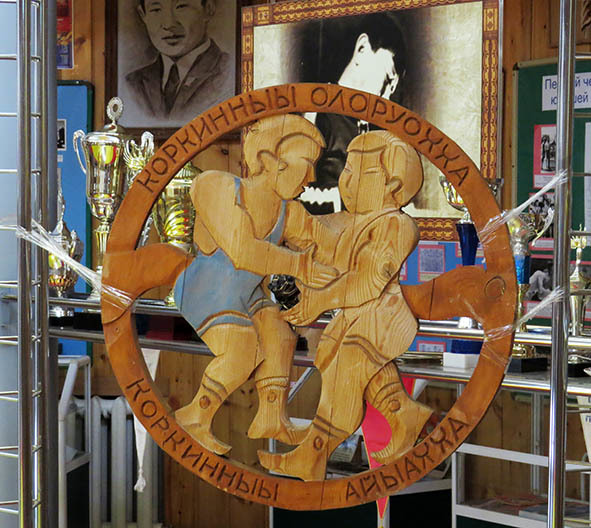
Изучив опыт западного спорта, Коркин оценил важность такой обыденной по нынешним временам вещи, как тренажёры, и в 1970-77-м годах создал целую их серию из подручных материалов. Основными техниками тренировки стали проходы под палкой без касания земли коленями, проходы под качающимся препятствием, прыжки по разновысоким столбам, ходьба по канату и по крутящейся бочке, лесенки с небольшим уклоном ступеней и стенки с отверстиями, по которым тренируемый карабкался с помощью клиньев в руках. Один из тренажёров получил даже собственно название "Нустр" - молодой воспитанник Нустр Дмитриев прекрасно делал броски через бедро, и как вскоре выяснил Дмитрий Петрович, нужные мышцы он развил в стройотряде, вращая ручное сверло.
38а.
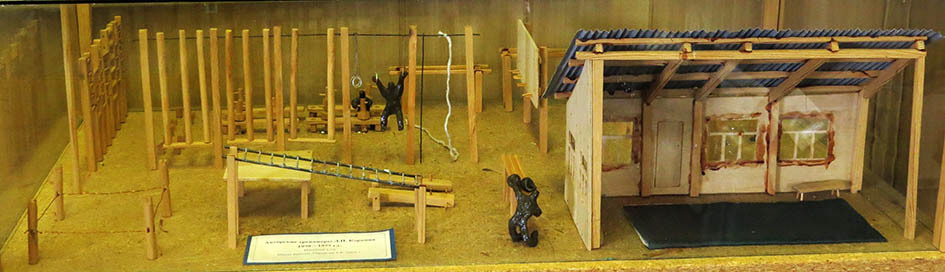
Макеты с кадра выше в масштабе 1:25 сделаны в 2005-м, а вот большинство машин Коркина в натуральную величину на фоне корпусов ЧИФКИСа:
38.
А вот так на них происходила тренировка:
38б.
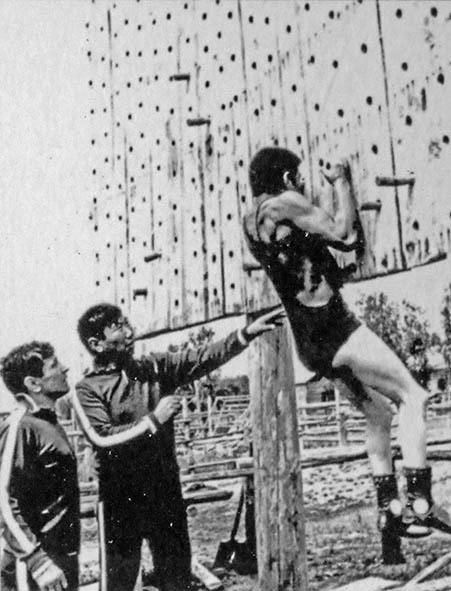
В общем, по факту в названии "Музей спортивной Славы имени Коркина" слово "имени" лишнее - почти целиком он посвящён великом тренеру (ушедшему в 1984 году) и его ученикам. Борцов в первую очередь поддерживал и Алексей Шадрин, с которым был связан расцвет Чурапчинской детско-юношеской спортивной школы в 1966-74 годах. Но в то же время - не борьбой единой: если у местных теннисистов и шахматистов успехи в основном внутриякутские, а отделение лыжных гонок и вовсе проработало недолго (1984-2000), то вот шашки таки прорвались в дамки. Основанное в 1974 году энтузиастом Семёном Жирковым, закрытое спустя 10 лет и возрождённое в 1992 отделение породило целую Чурапчинскую шашечную школу, выпустившую двух мировых гроссмейстеров (Матрёна Ноговицына и Гаврил Колесов) и более 100 мировых чемпионов и призёров.
39.
В основном в экспозиции музея - награды, личные вещи чемпионов, книги и показанные мной, кажется, полностью артефакты становления ЧИФКИСа. А есть тут и такая витрина - ученики занимались не только спортом:
40.
Пейзажи в окрестностях сельского вуза:
41.
Напоследок съездим на окраину, в район первой в заречной Якутии машинно-тракторной станции, основаной в 1932 году:
42.
В двухэтажке близ которой мы расположились ночевать:
43.
Тут главным, и мягко говоря не слишком приятным впечатлением стала вода - зеленоватая и пахнущая отходами коровьей жизнедеятельности. По зелёным лугам и бескрайним лесам сложно догадаться о том, какие проблемы с водой испытывают глубины Якутии. Но осадков тут выпадает около 300мм в год, а густота речной сети на уровне сухой степи или полупустыни: расстояния от речки до речки масштабов той же Куохары могут исчисляться десятками километров. Почвы и озёра поит талая вода, удерживаемая вечной мерзлотой, а вот людям пить нечего - Куохара слишком мала, и сколько бы не было кругом озёр - все они застойны. Что озёрная, что ленская вода из трубопровода - для технических нужд, а местные пьют талую воду, зимой запасая для неё озёрный лёд. Лишь в последние годы появилась техническая возможность бурить сквозь вечную мерзлоту глубокие артезианские скважины, но пока этим пользуются только частники.
43а.

Виды из окон квартиры - с одной стороны детская площадка псевдо-хипстерского вида:
44.
С другой - одинокий хотон (хлев) и поодаль алас Мээсэ за дорогой к Арылаху:
45.
Но дорогой этой отправимся в следующей части - в надежде разгадать "якутский Кодекс Войнича".
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Окрестности Черкеха.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: якуты дорожное Якутия деревянное этнография Чурапча |
Якутская глубинка. От Ломтуки до Бютейдяха |
Что рисует воображение при слове "Якутия"? Вероятно, трескучий мороз под низким солнцем и заснеженных мамонтов в тундре на фоне алмазно сверкающих гор. Республика Саха, конечно, невообразимо огромна, и что-то такое, включая мамонтов, наверное можно увидеть в её далёких улусах. Но для меня теперь Якутия - это в первую очередь кондовая сельская глубинка Заречных улусов с коровами в высокой изумрудной траве, мутными озёрами в круглых аласах и деревянными церквями среди вросших в землю хотонов. Покинув показанную в прошлой части Майю с её старинной башней, отправимся дальше по просёлкам Мегино-Хангаласского улуса. Самый густонаселённый район Якутии, - 3 чел/км, примерно как на Русском Севере, - скрывает немало чудес, будь то старейший в Саха деревянный храм, солёное озеро среди тайги или то, что я бы назвал своим открытием - Часовни Победы.
Ну а посетил я всё это благодаря тому, что ещё в Якутске нам дали УАЗ-"Патриот" с шофёром Николаем Егоровичем. За эти материалы стоит сказать "махтал!" проекту "Живое наследие", депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой, администрациям Республики Саха и отдельных её улусов.
На южной окраине Майи, крупного села (до 2007 даже райцентра), а внешне скорее маленького опрятного городка, над крышами домов нависает почти отвесный обрыв. По нему взбираются грунтовая дорога и странная (пока?) недокрытая лестница вдоль неё:
2.
Там наверху, вокруг Харанского аласа стоит большое село (1,1 тыс. жителей) с весьма нетипичный для этой глубинки названием Петровка. Учитывая, что в 40 километрах отсюда на берегу Лены есть ещё и Павловск, рискну предположить, что на карте она появилась в 1840-х годах как почтовая станция Аянского тракта, проложенного Русско-Американской компанией и зачахшего (не навсегда) с продажей Аляски. Но название осталось, привычка тут останавливаться - тоже, и ныне Петровка - вполне себе якутское село. У аласа в 2019 году построили новый квартал с школой и котельной:
3.
А мы ехали к воинскому мемориалу в верхней части Петровки: помимо вечного огня под бетонной аркой, плиты-эпитафии и двух бюстов героев, в ансамбль входит самая что ни на есть часовня. В списке памятников архитектуры она так и значится: "Памятник-часовня, посвященный воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны". Заложенная 10 мая 1945 года и законченная к 22 июня, после реставрации 2010 года она, пожалуй, даже слишком уж сверкает новизной:
4.
И потому мы едем дальше на юг этой же тупиковой просёлкой. У дороги - сюжеты якутской глубинки, будь то одинокий деревянный чардаат (склеп) явно дореволюционной эпохи:
5.
Небольшое придорожное святилище из загадочного брошенного сруба...
6.
И деревьев, растущих почти правильным кольцом, между которыми якуты вешают саламы (ленточки):
7.
В очередном аласике - озерцо с птицами и укрытием для охотника на них:
8.
На берегу - стадо коров то ли холмогорской, то ли симментальской породы. Не столь выносливые и жирные, как якутская порода, но более крупные и плодовитые, с появлением тёплых коровников они вытеснили рогатых аборигенок в лесотундру.
9.
Над аласом - небольшое сельское кладбище, где вперемешку русские могилы в оградках, деревянные кресты, каменные бюсты, обелиски с V-образными "рожками" и явно уже постсоветские чардааты:
10.
Вот и Ломтука, небольшое село (670 жителей) в 17 километрах от Майи. Ещё по дороге Егорыч нам советовал тут одним не гулять: по его словам, ломтукские мужики во всём улусе слывут хулиганами, и когда он жил в этом улусе по молодости, побывать в местах не столь отдалённых успела треть села. Так измельчал, видать, пассионарный норов: окружающий Ломтуку Тыллыминский наслег - один из самых богатых на яркие имена во всей Якутии. С окрестных аласов, например, первый якут-академик Владимир Ларионов (занимался износостойкостью материалов и даже возглавлял до скоропостижной смерти в 2004 году профильный институт в Якутске), первый в СССР мастер спорта по боксу Артём Никифоров или единственный якутский купец I гильдии Гавриил Никифоров. Манньыаттаах уола (таким было его якутское имя) в начале ХХ века платил налоги не только за себя, но и за всех односельчан, а после революции бежал не в Китай, как большинство сибирских купцов, а в Японию, где какой-то то ли дипломат, то ли специалист из Ломтуки видел его в 1950-е годы. В дореволюционные же времена вести дела в Якутске начал ещё его отец Василий, а дед и вовсе имел среди односельчан прозвище Тёкай-Сэргэй - Сергей Плутоватый. Совсем не типичную для якутской глубинки старую высокую избу у въезда в Ломтуку хочется считать домом Никифоровых:
11.
Мы же припарковались у дома культуры, впечатляющего необычностью форм:
12.
В его дворе - совсем маленькая эпитафия под навесом да памятник Алексею Ефремову. Первым Героем Советского Союза среди саха считается почти земляк Фёдор Попов из Майи, погибший в 1943 году под Гомелем в битве за Днепр, но тыллыминцы с этим не согласны. Артиллерист Ефремов бился под Москвой, и прежде, чем погиб 14 октября 1941 года на Бородинском поле, успел поразить 8 вражеских танков. Говорят, Алексея Афанасьевича даже успели посмертно представить к Звезде Героя, но все документы об этом сгорели в очередном бою. В центре мемориала же - наша здешняя цель, ещё одна часовня Победы (1946):
13.
Да, это в чистом виде деревянная часовня - лишь вместо креста над ней звезда, а вместо иконостаса - эпитафия. Гораздо более крупная, чем на улице - там увековечены лишь жители села, а тут - всего наслега. В Петровке часовня без окон, но где-то видел снимок её интерьера с фотографиями ветеранов, ещё более похожими на иконостас.
14.
И что память земляков увековечили именно так - на самом деле в Якутии не удивительно. С 18 века саха считаются православным народом, и алгысчиты (белые жрецы) в их обществе тогда полностью вытеснились священниками. Но ойуны и удаган, - чёрные шаманы и шаманки, - никуда не делись, и к ним якут по-прежнему ходил за лечением, предсказанием или советом. Православие утвердилось здесь лишь во вторую очередь как религия, а больше как стержень российской многонациональной идентичности, принадлежность которой для якута означали кресты, иконы, молитвы, писания на чужом языке. Дальше идентичность просто сменилась на интернационально-советскую, крест заместился звездой, Христос - Лениным, "Библия" - трудами Энгельса и Маркса, но герои-односельчане всяко понятнее древних далёких святых. Объект причастности видоизменился, но форма этой причастности осталась, и думается, кабы ни русская цензура в городах и райцентрах - мы бы увидели в Якутии и церкви в "высоком сталинском стиле" с красными звёздами, трубящими пионерами да портретами большевиков, как сейчас видим сэргэ на советских мемориалах. До поездки я знал лишь о Часовнях Победы в Петровке и Ломтуке, но вскоре оказалось, что они в этой глубинке в каждом втором селе. Вернувшись в Майю и проехав её насквозь, продолжаем путь вдоль Аянского тракта:
15.
Сначала - по Амгинской трассе, которая, как следует из названия, ведёт в Амгу. Так называется райцентр на одноимённой реке, вместе с Алданом и Леной ограничивающей то, что можно было бы назвать Малой, или Старой, или Внутренней Якутией, исконную землю народа саха, где он сложился в 7-14 веках из тунгусских, тюркских и монгольских потомков. На Амге, как и на Олёкме, плодородные почвы, за многообразие "всей Якутии в миниатюре" её очень любит "Сахафильм", а якутяне в жаркие викенды ездят загорать на песчаных пляжах вдоль реки. Достопримечательности здесь представлены домами ссыльных во главе с Владимиром Короленко и местами боевой славы Гражданской войны, где красный латыш Иван Строд бился с белым генералом Анатолием Пепеляевым, в особо тяжёлые морозные дни у аласа Сысыл-Сысыы укрываясь в редутах из окоченевших трупов. Ещё есть утёс Харама-Хайата с лицом шаманки у села Абага, но в общем Амга из тех мест, про которые в своём регионе никто не может сказать, что именно там стоит посмотреть, но все сходятся на том, что "хоть раз" съездить туда надо.
16.
Нам, однако, не хватало времени, и километрах в десяти от Майи наш белый "Патриот" свернул на боковую дорогу. И снова сюжеты Якутии - на кадре выше алас, на кадре ниже - булгунняхи:
17.
Удивительная сама по себе, эта мамонтовая земля, однако, не перестаёт удивлять и в деталях - через полсотни километров от поворота мы увидели за тайгой очередной большой алас, как-то странно не похожий на другие. Луга с высокими травами и тёмные леса - не то место, где ожидаешь найти солёное, да при том крепко солёное (135 промилле) озеро, но именно таков Абалах:
18.

Седой Егорыч вспомнил, как ещё в его детстве тут была грязелечебница, в которой работала даже какая-то его родня, и предложил свернуть к озеру. Не знаю, о чём якутский стих на камне у съезда, напрашивает мысль, что о раненных героях Великой Отечественной, эвакогоспиталь для которых действовал здесь в войну. Но мысль эта ошибочно - на самом деле это ода некоему другу Роману, который за раз добыл здесь 6 уток.
18а.
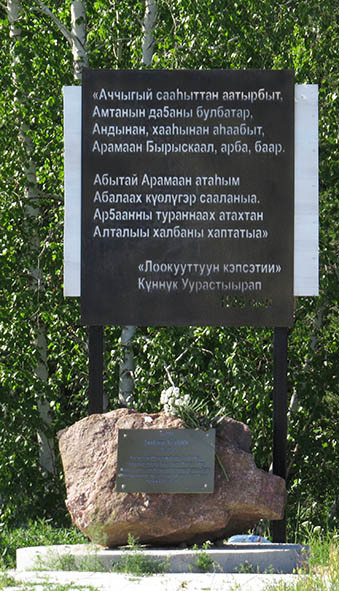
Откуда здесь солёное озеро? Со своими долгими лютыми зимами и 2-3 сотнями миллиметров годовой нормы осадков Якутия по всей логике должна была представлять собой мрачную холодную пустыню. Такие пустыни бывают на высокогорьях Памира или Тибета, да и Чуйская котловина на Алтае даёт неплохое представление о том, какой Саха-Сирэ повезло не стать. Но и будь Якутия чуть более дождливой - тут бы северные олени ходили по голой мокрой тундре: всё дело в вечной мерзлоте, которая удерживает весной талую воду. Воды этой в Центральной Якутии не слишком много и не слишком мало, а ровно столько, чтобы напоить луга и леса. Речная сеть здесь, однако, не сильно плотнее, чем в Средней Азии, а стало быть и солёным озёрам удивляться не стоит:
19.
Но если без геоморфологических экскурсов - то Абалахский алас кажется странным порталом, червоточиной пространства-времени, ведущей из якутской тайги куда-то в глубины Хорезма:
20.
В Абалахе хлоридно-гидрокарбонатная натриевая рапа и сульфидная иловая грязь, да при том неимоверно липкая и топкая. Наташа набрала бутылку этой грязищи с собой, а Егорыч вряд ли предложил бы сюда свернуть, если бы не имел в машине ведра, из которого мы добрых полчаса отмывали ноги:
21.
Абалахская грязелечебница была построена в 1935 году, но проработав 40 лет, в 1975-м, переехала в Нижний Бестях. Где, впрочем, по-прежнему называется Абалахской - с появлением дороги грязь и рапу возить оказалось проще, чем отдыхающих. Здесь остались лишь полуразрушенные деревянные корпуса наверху:
22.
Да руины насосной станции у берега:
23.
По глинистым косам мы бродили босыми ногами, наверное, час - тишина и дух безвременья тут затягивают. Абалах - из тех мест, где закрыв глаза и чуть задумавшись, можно не заметить, как прошла тысяча лет:
24.
Но больше всех Абалах любят птицы - озеро не замерзает и к тому же здесь охота строго-настрого запрещена. Причём - не из-за дичи, а из-за свинца, которому ни в коем случае нельзя попадать в целебную воду.
25.
В 5 километрах от озера дорога приводит в село Елечёй, центр Алтанского наслега:
26а.

Несовпадение названий сельсоветов и их центров порождает забавные коллизии. По словам Егорыча, в селе две школы - Алтанская и Елечейская, и вопрос "какую заканчивал?" совсем не small-talking: первая - общеобразовательная, а вторая - коррекционная.
26.
С дороги сквозь Елечей мы увидели ставший коровьим подиумом деревянный мост над оврагом да пару воинских памятников - стелу с журавлями на краю села и ещё одну Часовню Победы:
27.
Снова едем мимо сюжетов якутской глубинки. Вот кони пасутся у бабаарыны (деревянной юрты) в заброшенном сайылыке - на таких полевых хуторах якутские пастухи жили всё лето, пока не было транспорта и дорог.
28.
А нитью ариадны в этом пространстве служит толстая и неприглядная труба водовода, в 2004 году соединившего Нижний Бестях с Чурапчой и Таттой. Десятками километров на Центральноякутской равнине может не быть даже мелких ручьёв, а озёр в самом большом регионе страны хоть и больше, чем жителей, но около сёл они всегда лежат на дне аласов, а стало быть собирают летом весь навоз. Про лето оговорка не случайна, и заметьте, что труба лишена термоизоляции - зимой в озёрах чистый лёд, и нет нужды качать воду из Лены.
29.
Близ нашей дороги, однако, течёт тихая речка Суола с вполне среднеазиатским расходом воды менее 1м³/с, впадающая в одну из ленских проток чуть ниже Бестяха.
30.
В её излучинах и наша цель следующая цель - старинное село Бютейдях (600 жителей):
30а.

Мегино-Кангаласский улус потому и имеет двойное название, что в 1930 году по итогам народного схода в Павловске был образован из двух других улусов - Восточно-Кангаласского и Мегинского. Кангалассы - крупнейшее из нескольких десятков якутских племён, в дорусские времена стремившееся сплотить остальной народ под своей властью. В основном его вотчина - левый берег, долины Эркээни и Туймаада, в которой стоит Якутск. Было это племя достаточно сильно, чтобы иметь не заморские так хоть заречные колонии, в первую очередь на Буотаме и Лютенге, богатых железной рудой. Хангаласский район к югу от Якутска расположен на двух берегах, но часть заречных наслегов в 1930 году решила объединиться с жившим чуть дальше от берега племенем мегинцев, не то чтобы очень большим, но от жизни на Аянском и Охотском трактах - богатым и развитым. И Бютейдях - исторический центр Мегинщины:
31.
Дореволюционная Якутия была полна деревянных церквей почти как Русский Север. Деревянными были соборы уездных Вилюйска, Олёкминска или Среднеколымска, несколько церквей Якутска и заброшенные храмы на месте полярных острогов. Но Спасо-Зашиверскую церковь с Индигирки (1700) в 1971 увезли в музей в Новосибирск, а уникальная из-за своей треугольной апсиды и общего "корабельного" плана Алазейская церковь в урочище Шатоб была уничтожена в 1981 лесным пожаром. Храмы Якутска пошли на дрова в 1922 году во время осады красного города белыми, множество других церквей просто разрушили "воинствующие атеисты". И теперь старейший деревянный храм Саха-Сирэ - Мегинская Богородская церковь (1820-23):
31а.

Суровая в своей угловатой лаконичности, она сохранилась почти целиком, лишь утратила на южной стене деревянную лоджию. Во дворе православного храма - целый лес сэргэ, якутских ритуальных коновязей:
32.
Никакого синкретизма - они ставились как стелы по случаю знаменательных дат во дворе не храма, но музея:
32а.

До 1967 года, когда его основал местный учитель Михаил Капитонов, и эта церковь имела все шансы не уцелеть. Первые полвека после Октября её занимали то склад, то спортзал, а в войну - приют для голодающих: слышал от местных, что доски в её основании были сняты тогда на гробы.
33.
За храмом - несколько надгробий, проработанностью барельефов на камне заставляющих вспомнить даже не русские кладбища, а некрополи Армении. Здесь лежат богатейшие из мегинцев - династия купцов Поповых, в нескольких поколениях прославившаяся благотворительностью для земляков. Константин Алексеевич Попов 45 лет руководил Алтанским наслегом, 11 лет был тойоном всего Мегинского улуса, а на старости лет воздвиг этот храм Рождества Богородицы и умер год спустя после его освящения.
34.
Капитонов же, сложись судьба совсем чуть-чуть иначе, мог бы и сам встретить нас... но в 2020 году его забрал Царь-вирус. Нам же снова стоит благодарить Александра Брызгалова из администрации улуса и Александра Эверстова из музея в Майе, которые сообщили о нас Константину Константиновичу Родионову, теперешнему хранителю Мегинской церкви. Вот только в Бютейдяхе нет сети, точное время приезда мы не могли определить заранее, а потому первым делом Николай Егорыч оставил нас и пошёл в администрацию за явкой. Минут 40 мы бродили вокруг по тишине и зною, понимая, что сами бы не нашли никакого смотрителя просто потому, что тут и спросить-то было бы не у кого. Наконец, Егорыч вернулся не один: рослый жилистый Константиныч, похожий на образцового такого средневекового крестьянина из голливудского кино, нёс связку тяжёлых ключей.
35.
Мегинская церковь удивляет своей многофункциональностью - её грузный сруб с парой печей на двух этажах скрывает даже не пару, а тройку заведений. Нижний ярус занимает сельский клуб полузаброшенного вида (кадр выше), а на втором ярусе по-прежнему обитает музей, посвящённый в первую очередь православию в Мегино-Кангаласском улусе.
36.
Через стену от музея - собственно храм, новый иконостас в котором сделали для своего Учителя выпускники местной школы Валерий Дмитриев и Павел Слепцов:
37.
Под потолком странно смотрятся забавные советские лампы, при виде которых так и слышишь хруст вафель из Яшкино:
37а.

Но главное - тут сохранились удивительные для сельской глухомани фрески, написанные в начале ХХ века мастером Иннокентием Сивцевым - Мытыйыкы. Выходец из бедняков, выросший сиротой, он преуспел в самых разных искусствах от чеканки по металлу до архитектурных проектов церквей, но в первую очередь прославился как художник. Писать иконы Мытыйыкы пытался с 15 лет, а в 1896 году, когда было ему 26, получил благословение на это от Иркутского епископа - редчайший, если не единственный, случай среди инородцев! Что не мешало Иннокентию Иванычу писать портреты советских вождей в 1920-е годы.
38.
И это явно лучшие церковные росписи Якутии, если не единственные уцелевшие с дореволюционных времён:
38а.

Ну а сама Мегинская Богородская церковь - по всему пунктам образец хоть и российского, но не русского, а именно якутского национального деревянного зодчества. Четвёртая её часть - колокольня, построенная в 1875 году. Как я понимаю - из бруса, а не брёвен, но обратите внимание, сколько филигранно подогнаны и те, и другие.
39.
Выше - какой-то, кажется, музейный артефакт:
39а.

И вот мы вчетвером на просторной скрипучей площадке:
40.
Поодаль видна местная территория для Ысыаха:
41.
Кварталы села впечатляют обилием хотонов - традиционных якутских хлевов. Снаружи, надо сказать, они почти не отличаются от балаганов - традиционных якутских жилищ, а традиционно и пристраивались к ним с севера.
42.
Под самой колокольней - крепко сбитый амбар:
43.
Основанная в 1893 году церковно-приходская школа не сохранилась, но зато в нынешнем Бютейдяхе действует физико-математическая школа, известная на всю Якутию.
43а.

Что удивительно, это не церковь строилась в селе, а село разрослось вокруг церкви: Константин Попов выбрал для храма урочище Толоон на примерно равном удалении от самых людных мегинских наслегов. Хотя место обжито давно - показанный в прошлой части листовидный Сэндэлинский меч времён Гомера был найден в 1986 году именно под Бютейдяхом.
44.
На кадре выше, где слева машина - здание администрации, в которое отправился Егорыч на поиски смотрителя церкви. Мы же тем временем побродили вокруг и полазали по заброшенным домикам:
45а.
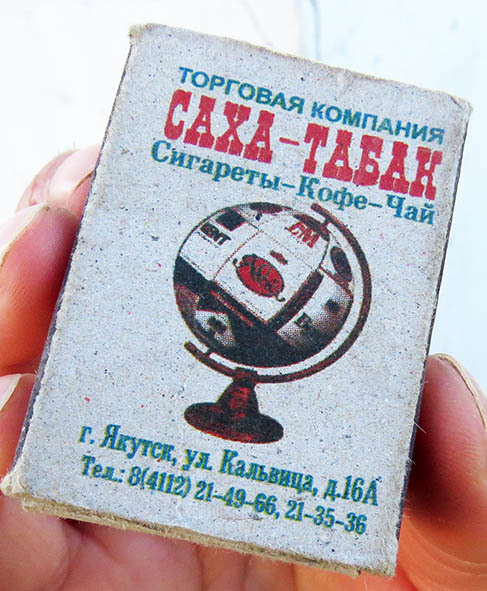
И как думаете, что могла найти в них известный театральный критик Наташа?!
45б.
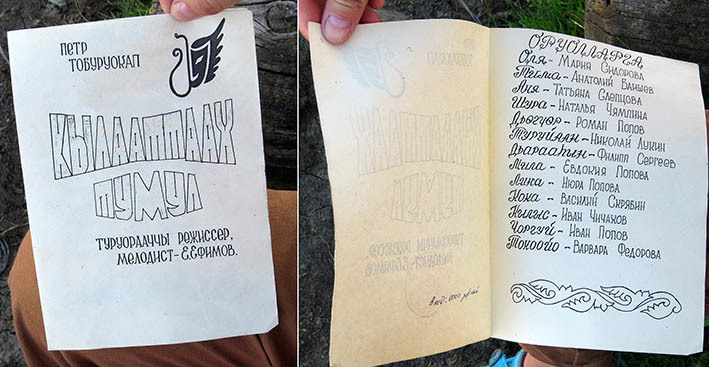
Покидаем село. И в общем, я не знаю, как бы я забрался в эту глушь, если бы не машина АГИПа. Более того, маршрут бы не сложился, не будь эта машина джипом: дорога в Бютейдях проходит равнодействующей между трассами "Амга" и "Колыма". На последней стоит Чурапча, и в объезд через Майю и Нижний Бестях до неё более 250 километров, по прямой же и 80 нет:
45.
Но - вот по таким дорогам:
46.
Где почти из под колёс убегали тетерева, но Егорыча бы точно не удивил медведь или сохатый. Да и мамонт, быть может, ещё бродит где-то по тайге, расшвыривая бивнями буреломы:
46а.

У границы двух улусов - гирлянды салам на кустах. Егорыч здесь остановился на десять минут, чуть отдохнуть и, видимо, просто выразить своё почтение:
47.
И вновь - типичная Саха-Сирэ:
48.
Её аласы, булгунняхи...
49.
...да площадки Ысыаха с сэргэ и мировым древом Аал-Луук-мас:
50.
На кадре ниже - озеро Туора-Кюёль, где заканчивается ленский водовод из Бестяха:
51.
Мы проезжаем сёла Туора-Кюёль, Юрюнг-Кюёль, Диринг и Дябыл уже в Чурапчинском улусе. В его наслегах тоже стоят Часовни Победы, а их возможный общий прототип я ещё покажу.
51а.
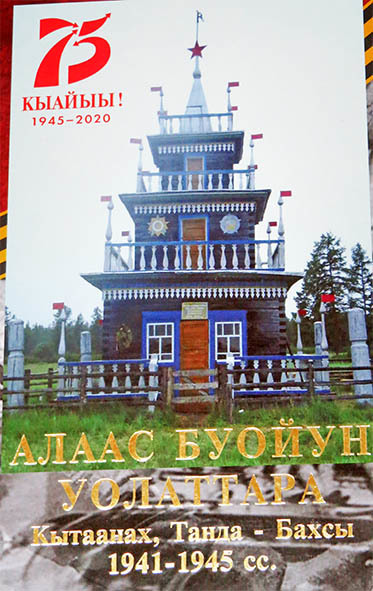
Вот такая вот она, Якутия без стереотипов...
52.
А о самой Чурапче, этой столице Заречных улусов и мнимом "якутском Львове", будет следующая часть.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Окрестности Черкеха.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: якуты Сибирь природа дорожное Якутия деревянное этнография |
Майа. Абреки и башни Сибири |
Майя - крупное село (7,2 тыс. жителей), визуально скорее небольшой городок в самом на всю Якутию маленьком (11,7 тыс. км² - меньше всех российских областей, но всё же больше Адыгеи) и густонаселённом (3 чел/км² - на уровне Карелии) Мегино-Кангаласском улусе. До 2007 года она была райцентром, но затем уступила эту роль Нижнему Бестяху у переправы в Якутск, оставшись в своём краю культурной столицей. Даже чуть контркультурной: главный здешний герой - разбойник Манчаары, "якутский Робин Гуд". Его имя приклеилось и к главному памятнику: на аласах старой Якутии, совсем как в долинах седого Кавказа, строились башни - вот только из дерева, а не из камня.
Здесь же немного расскажу о дороге с показанного в прошлой части гигантского аласа Мюрю: за вояж по Заречным улусам Якутии стоит благодарить проект "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву, администрации Республики Саха и улусов. В сегодняшнем случае - Мегино-Кангаласского улуса и тогдашнего руководителя его Службы управления персоналом Александра Романовича Брызгалова.
Пыльная грунтовка из Борогонцев километрах в 80 от них пересекает алас Тенгюлю - второй по величине в Якутии (а стало быть и в мире) после Мюрю и точно так же вмещающий несколько сёл - Тарат, собственно Тенгюлю и Тумул. Последние тянутся к Колымской трассе на другой стороне аласа, вот только громкое название обманчиво. Легендарная "дорога на костях" начинается лишь за Алданом, а реконструированный из просёлок участок в Заречных улусах пристыковался к ней лишь на последнем рубеже столетий. От Тенгюлю до Бестяха, сплошь неплохим асфальтом, мы проезжали дважды, причём оба раза - с востока на запад. В первый день маршрута мы гнали по белой ночи из Борогонцев в Бестях что есть сил, думая лишь про гостиницу и постель. Зато в последний день маршрута, ранним вечером по дороге в Якутск с далёкой Татты, наш водитель Николай Егорович на белом "Патриоте" сказал, что знает отличное кафе близ Тумула:
2.
Название "Нал" пусть не смущает - безнал тут тоже принимают вполне, а само место среди якутян легендарное. За каре приземистых корпусов с наклонными, как у якутских балаганов, стенами, придающем "Налу" сходство с гостиным двором на старой столбовой дороге, скрывается по сути дела загородное продолжение колоритных ресторанов Якутска. Как я понял, в разные годы "Нал" удивляет по-разному: в интернете пишут о деревьях и чучелах животных, Егорыч припоминал тут мини-зоопарк с северным оленями, ну а нас встретил парк деревянных скульптур:
3.
По еде "Нал" - просто очень добротная столовая, которая пользуется спросом: мы как-то удачно проскочили, встав в очередь вторыми-третьими, а вот дозаказать что-то я уже не смог, потому что у кассы скопилось человек 20.
4.
Касса на кадре выше - за спиной, а напротив неё - небольшой музей советской ностальгии, самым ярким впечатлением которого для меня стали не чемоданы и радиоприёмники, а разглаженные фантики знакомых по детству конфет:
5.
Ещё через 60 километров Колымская трасса приводит в Нижний Бестях, где администрация улуса пристроила нас в отличную гостиницу "Орда". Причём - на две ночи: во второй день маршрута мы отправились на юг по трассе "Лена" к красотам соседнего "просто"-Хангаласского улуса, который в Якутии не зря прозвали "диснейленд". С реки мне ещё только предстояло посетить там Ленские столбы и бизонарий в Усть-Буотаме, а Егорыч отвёз нас к не тающему летом леднику Булуус, слоистым скалам Курулура и в два старинных села - исконно-якутский Кёрдем с отличным музеем и деревянной церковью и некогда старообрядческий Павловск у дореволюционной ещё переправы к Якутску.
6.
Та переправа вела к Аянскому тракту, который в 1840-х годах проложила на свои деньги Русско-Американская компания для снабжения Аляски, а в итоге по этой дороге снабжал Якутскую область импортными товарами "Доброфлот". Обрубок Аянского тракта - третья выходящая из Нижнего Бестяха трасса "Амга", по которой мы и направились утром третьего дня. Нашей путеводной нитью стала толстая и грязная труба, с 2004 года снабжающая ленской водой Майю, Чурапчу и Татту: ведь осадков в Якутии чуть больше, чем в Калмыкии, сравнима с калмыцкой и плотность речной сети, а озёр хоть и больше, чем жителей, но все они в аласах, а стало быть - загрязнены навозом с пастбищ на травянистых склонах. Обратите внимание, что водовод лишён термоизоляции: он работает только летом - ведь зимой у якутов есть чистый лёд...
7.
Ехать километров тридцать. Майя встречает сэргэ да памятником Фёдору Попову - это первый якут-Герой Советского Союза, погибший в 1943 году, форсируя Днепр близ Гомеля.
8.
Майа основана в 1902 году, но я не приметил в ней ни единого старого дома. Зато, видимо как родина первого кисил-боотура (красного богатыря), она впечатляет количеством воинских памятников. Мимо крупнейшего мемориала на главной площади (1967) мы проезжали несколько раз, но заснять его толком у меня не вышло. За кадром осталась Мать-Якутия, а тут можно разглядеть барельеф, в котором я лишь на фото с большим удивлением узнал миниатюрную копию монумента панфиловцам в Алма-Ате!
9.
Под мемориалом - базарчик выходного дня и площадь с фонтанами и новостройками, на которой сворачиваем с Амгинской трассы:
10.
К белоснежной Санта-Барбаре, как называют в народе за характерные арки и сроки строительства первый постсоветский дом Майи:
11.
Напротив этого памятника раннего капромантизма раскинулся сквер с обелиском 50 лет Октября, в котором якутский зодчий явно пытался зашифровать сэргэ: чуть позже, к 1980-м, якутские ритуальные коновязи станут основной формой памятников в Республике.
12.
Ну а 1967-й год для Майи вообще был плодотворным: помимо двух мемориалов, тогда здесь появился краеведческий музей имени Романа Васильева, местного уроженца, возглавлявшего Якутскую АССР в 1953-56 годах. Как я понимаю, уже в постсоветское время к длинному корпусу пристроили павильон в виде юрты, ну а сейчас этот музей один из лучших в республике:
13.
На крыльце нас встретил главный научный сотрудник - молодой энергичный Александр Владимирович Эверстов.
12а.

И вкратце рассказав о том, как устроен Мегино-Кангаласский улус, повёл знакомиться с Василием Слободчиковым, более известным как Манчаары:
14а.

Сколь распространён по свету образ "благородного разбойника" - у чопорных англичан это Робин Гуд, у горячих мексиканцев - Зорро, у вайнахов - абрек Зелимхан, у гуцулов - Олекса Довбуш, ну а в российском фольклоре так и вовсе НЕблагородного разбойника надо ещё поискать. И все эти предания рождаются из одного и того же. В 17 веке якутские восстания угасли потому, что тойоны рассудили "не можешь предотвратить - возглавь" и начали слать челобитные и даже посольства в Москву. Цель их была одна - возможность самим собирать ясак, и цели этой они достигли. В 18 веке, после крещения якутов, ясак стал обычным оброком по числу голов скота, вот только размеры этого оброка сразу начали расти и дополняться всякими налогами, к 19 веку окончательно сделавшись неподъёмными. Русская власть положила конец междоусобицам, но не решила их причину - ещё в 16 веке в Саха-Сирэ закончились свободные аласы. Только теперь конфликты за них решались не огнём и мечом, а судом и долговой распиской. На богатых и бедных якуты и в дорусское время делились охотнее, чем на простолюдинов и знать, а теперь гнёт богачей стал нестерпимым. Ярким представителем таких баев-самодуров был другой Василий Слободчиков по прозвищу Чоочо, приходившийся рано осиротевшему Манчаары дядей. Собственно, в народных преданиях и осиротел наш герой по вине тёзки - Чоочо то ли не дал его матери три копны сена в голодную зиму, то ли и вовсе над ней надругался. Будучи безраздельным хозяином мегинского Арылаха (это название, как и Томтор, в Якутии есть почти в каждом улусе), Чоочо и правосудие тут вершил сам, и вот в 1822 году 17-летней Манчаары попал ему под горячую руку то ли за кражу кобылы на мясо, то ли за пьяную драку с супругом глянувшейся женщины в Якутске. Бросать непутёвого племяша в тюрьму, за неимением оной в улусе, Чоочо не стал, и потому публично высек его на глазах у всего наслега. Для якута такое наказание означало несмываемый позор, но не зря имя Манчаары в переводе значит Осока - невзрачная трава, режущая руки до крови. Василий ушёл в лес, а вскоре осознал, что ему вполне по душе жизнь разбойника. В 1820-х годах он ураганил больше в одиночку - угонял лошадей и коров, грабил дома, а в первую очередь всячески мстил своему дяде. Однажды перестарался - решив поджечь байские стога, спалил накануне зимы все запасы в наслеге, порядка 240 тонн сена, собранные десятками людей за несколько лет. После такого быть благородным разбойником Манчаары мог для кого угодно, но только не для земляков. Прежде судимый 3-4 раза, теперь схваченный жандармами разбойник был закован в кандалы и отправлен на солеварню в Охотск. Но каторга Манчаары продлилась считанные месяцы: в 1833 году он бежал, и устроив что-то вроде ставки на огромном булгунняхе (мерзлотном бугре) Одур, начал играть по-крупному.
14.
Теперь разбойники обирали богачей и тойонов, и как и всякие Робин Гуды, заступниками бедных прослыли просто потому, что ничего у бедных не могло заинтересовать их. Основным методом Манчаары стал даже не грабёж, а вымогательство, и в средствах воздействия на своих жертв "благородный бандит" не стеснялся. Связав жертву, он входил в некий экстаз наподобие шаманской болезни, даром что ещё и отлично пел и умел сказывать "Олонхо", а одна из легенд гласит, что по заговору шамана Тэппэха в него правда вселился абасы - злой дух из нижнего мира. Манчаары плясал, кричал страшные слова и каркал по-вороньи да размахивал батыёй ("таёжным мачете" в виде маленькой клинковой алебарды), нанося связанному богачу болезненные, но не смертельные раны. Или, если дело было в доме, сдирал с хозяина штаны да сажал в тлеющий камелёк голым задом. Над дочерью Чоочо, кажется в последний раз наказав старого обидчика, Манчаары надругался, но чаще похищал девушек за выкуп. Например, молодую вдову, вернувшуюся в дом своего отца Капитона Слепцова. Но возвращать Кьох-Катерин, то есть Зелёную Катерину, как прозвали её за цвет наряда, Манчаары быстро передумал: между похитителем и заложницей завязался роман. В преданиях она стала его верной спутницей, ждала из тюрем и следовала за ним по лесам и аласам, ну а достоверно то, что Манчаары и Зелёная Катерина провели вместе зиму с 1833 на 1834 год, а ближе к весне разбойник был вновь арестован. Теперь отправили его на Нерчинскую каторгу, но после нескольких лет на проклятых рудниках, в 1841-м, Манчаары снова бежал в родные края, где, конечно же, взялся за старое. Теперь - куда осторожнее: изловить его не могли ещё несколько лет. И всё же были у Манчаары некоторые особенности, не позволявшие считать его простым головорезом. Во-первых, симпатизировали ему не только бедняки, но и многие влиятельные якуты, радевшие за свой народ - например, старик Сэсэн Аржаков, в 1789 году ходивший в Петербург и добившийся местного самоуправления для якутов. Во-вторых, при всей своей прижизненной славе Манчаары оставался одиночкой: на каждое дело он собирал новую банду, кого-то привлекая подарками, а кого-то угрозами. Ну а самое, пожалуй, поразительное свойство этого разбойника - Манчаары никогда и никого не убивал. Отнимал имущество, честь, здоровье, но ни единожды - жизнь, и даже Чоочо пощадил, когда тот лежал связанным у его ног.
15.
Последний раз Манчаары поймали в 1847 году, а всего по вынесенному на областной уровень "делу Василия Слободчикова" проходило 43 человека. Большинство из них впервые увидели друг друга в зале суда - всё это были разовые подельники, получавшие из рук Манчаары награду. На этот раз суд решил обойтись без каторги, и следующие 12 лет, на два года дольше приговора, Манчаары провёл в тюрьме Якутска на цепи. О чём думал он в эти годы, иногда спасаясь пением "Олонхо"? Кто знает... В 1859 году Василий Слободчиков вышел из тюрьмы и отправился в ссылку на глухой Вилюй, где близ Нюрбы сам обзавёлся аласом, стадом, балаганом и семьёй. "Якутский Робин Гуд" тихо умер в собственном доме в 1870 году, а его поздний сын Бадьыай дожил до советской эпохи, когда образы благородных грабителей, конечно же, были в чести. Ну а что в вышеизложенной истории правда, что полуправда, а что откровенный фольклор тосковавшего по заступникам народа - теперь вряд ли кто-нибудь сможет сказать.
15а.

Да и наследие Манчаары - не главная здешняя ценность: музей в Майе называют иногда Музеем Одного Меча.
16.

Пожалуй, самые удивительные артефакты Якутии - это бронзовые мечи, по очертаниям и конструкции не похожие ни на что, известное науке. На кадре выше - 70-сантиметровый Сэндэлинский меч, найденный в 1985 году близ Бютейдяха и хранящийся здесь. На кадре ниже - полуметровый Укуланский меч, случайно откопанный в 1946 году на огороде близ Алдана и находящийся теперь в Якутском музее. Странно в этих мечах, что называется, "чуть более, чем всё". Клинок в виде ивового листа с мощным ребром настолько необычен, что скорее это был ритуальный предмет, чем оружие. Сама конструкция меча - сложносоставная: стержень клинка вставлялся в рукоять с оловянным припаем, а у Укуланского меча ещё и гарда и навершие крепились к ней отдельно. Сделаны эти мечи были неописуемо давно, примерно тогда, когда в Крыму появлялись первые колонии-полисы, в Европе был основан Рим, а в Средней Азии - Самарканд: 2500-2700 лет назад. Но как считается, они не были привезены в Якутию, а здесь и ковались - видимо, из местных руд, а значит и местными мастерами. Довершает интригу то, что есть и третий Харбинский меч, обломки которого были найдены в 1956 году в виноградниках у села Шанчжитан в 180 километрах юго-восточнее столицы Хэйлунцзяна. Когда ковались эти мечи, в Китае даже Эпоха Сражающих царств ещё не начиналась, но сами царства в тогдашнюю эпоху Чжоу уже представляли собой развитую среди прочего Древнего Мира цивилизацию. Правители княжества Янь со столицей Цзи в черте нынешнего Пекина тогда изгнали с Хуанхэ на Сунгари и Амур некий народ сушеней, из которого, вероятно, и разветвилась впоследствии тунгусо-маньчжурская языковая семья. Как расселялась она в дальнейшем - наука не даёт пока однозначный ответ, но с тунгусами отождествляют и Усть-Мильскую культуру Якутии, в эпоху которой были созданы эти мечи. А стало быть, уйдя в 7 веке из Прибайкалья от нашествия тюрок-курыкан, вдоль Лены эвенки расселились не впервые...
16а.

Ну а в Майе Александр Владимирович сделал всё от него зависящее, чтобы мы не называли его учреждение Музеем одного меча! Под сводами юрты тут компактная, но очень насыщенная этнографическая экспозиция, включающая, например, лучший из виденных мной костюм ойуна (якутского шамана):
17.
Или отличные макеты жилищ - летней урасы, зимнего балагана с хотоном (хлевом, который пристраивали с севера) и маленького летнего балагана.
18.
За стильными верёвочками из конского волоса и блеском витрин - чороны, посуда, мебель, крестьянский инвентарь, детские игрушки и всё прочее неповторимо-якутское, но повторяющееся от улуса к улусу из музея в музей. Экспонаты, которые показались мне самыми интересными из всей Якутии именно здесь, я показывал в постах о материальной культуре саха (фото №6-7) и о духовной культуре (фото №16-16а). Пока же пройдём по другим витринам и залам:
19.
Вот на другой стороне юрты - кортики и медали улусных тойонов, ковавшиеся в Иркутске атрибуты их власти. Тот, что на зелёной подставке, принадлежал Андрею Кычкину (Чурулаану), амбаром которого мы любовались в Соттинском музее под открытым небом в позапрошлой части.
20.
Надо заметить, дореволюционные улусы (по факту - якутские волости в уездах) по своему масштабу различались ещё сильнее, чем современные. Большую часть левобережья от Амги до Татты занимал Ботурусский улус, в котором жила добрая половина якутов в дюжине разных, в основном общетюркских по происхождению, племён. С ним соседствовали крошечные Мегинский и Восточно-Кангаласский улусы: мегинцы были небольшим, но развитым и зажиточным в силу своего положения у торговых путей племенем, а кангалассы - и вовсе крупнейшей племя якутов, чей вождь Тыгын-Дархан в 16-17 века пытался объединить всю Саха-Сирэ. В 1930 году по итогам народного схода мегинцев и правобережных кангалассов и был образован Мегино-Хангаласский район, который в нынешних реалиях можно назвать заречной округой Якутска. Символы отличия разных эпох: медаль тойона - подарок передовику механизации - значок Трудовой Доблести...
21.
В других залах - подлинные костюмы со съёмок якутского исторического эпика "Тыгын-Дархан":
22.
А аутентичное женское платье с серебряными украшениями:
23.
Советские игрушки - у меня в детстве были такие зелёные рыцари, а у Наташи - кукла-африканка:
24.

Мегинцы дали народу саха не только первого советского героя, но и первого академика: Владимир Ларионов был учеником великого Патона, занимался вопросами износостойкости металлов в условиях Крайнего Севера и под конец возглавлял Институт физико-технических проблем Севера в Якутске. Не стало его в 2004 году - от внезапного инфаркта в аэропорту Новосибирска.
25.
Что же до героев, то помимо павшего смертью храбрых Фёдора Попова отсюда был Семён Титов - пройдя войну живым, Героя он так и не получил, но по числу прочих наград был известен среди односельчан как Семён Семимедальный.
26.
Дальше выйдем на двор с деревянными скульптурами и бутафорской пушкой:
27.
Обветшалое здание за музеем - это приходской дом Васильевской церкви (1913): от неё самой, кажется, не осталось даже фото, а место её и территориально, и по сути в Майе занял музей. Впрочем, часть у крыльца пристроена в 1970-е годы, а стены царских времён едва выглядывают из-за кустов. Ну а поодаль - ценнейший архитектурный памятник Мегино-Хангаласского улуса:
28.
Существование "башенных культур" в самых разных уголках земли и самые разные эпохи, у таких непохожих народов, как без пары веков современные вайнахи, средневековые ирландцы или древние нураги с Сардинии, конечно настраивает на конспирологический лад. Но всё куда проще: до государств основной единицей человеческого общества служили племена, взаимоотношения которых регулировались в лучшем случае устными кодексами чести, а скорее - и вовсе ничем. И если эти племена кочевали - то всё в общем было просто и ясно: при столкновении с врагом надо его задержать, сковать боем, и за это время отвезти обозы и скотину достаточно далеко. Вот только оседлые народы тоже жили племенами, тоже копили добро, а друг к другу порой не с визитами вежливости хаживали, а в набеги. Особенно любили друг на друга набегать скотоводы: поля соседу можно сжечь, только самому какой прок с этого? Скотину же угнать - куда сподручнее, и вересковые пустоши Ирландии и Шотландии, долины Кавказа, аласы Якутии - все они были населены именно оседлыми скотоводами. Как правило, племя слишком мало, чтобы построить полноценную крепость, а те племена, которым это удавалось, вскоре стремились к созданию государства, как те же кангалассы во главе с Тыгын-Дарханом и ставкой на месте будущего Якутска. Чаще же сил племени или рода хватало только на башню, в которой жить не очень-то комфортно, но высоки шансы пересидеть набег. В Якутии, как всегда, вступает в дело специфика: Каргыс-Уйэтээ ("век резни") тут наступил лишь в 16-м столетии, когда земли перестало хватать на всех, и продлился около трёх поколений до русской колонизации. Якутский быт же, несмотря на одну из лучших в мире Средних веков металлургию, впечатляет почти полным отсутствием камня. Поэтому башни тут строили из дерева, а найти совершенную конструкцию, как на Кавказе, люди саха попросту не успели. Так специфически якутской фортификацией стал осадный амбар, он же башня тойона, он же башня Манчаары - все те из них, что сохранились, строились в 19 веке уже не от междоусобиц, а от разбойников.
29.
И в общем ни один музей деревянного зодчества в Якутии не обходится без подобной башни (см. Кердем, Соттинцы или пока ещё не описанный Черкех), а где-нибудь осадные амбары ещё стоят среди лугов. Но лучшая из них, самая средневековая по облику и духу - башня тойона Ивана Пономарёва - Чёкчёнго-кулуба из Мельжехсинского наслега на Лене напротив северных окраин Якутска. Богач Пономарёв соорудил её в 1833 году, при первых вестях о побеге Манчаары из Охотска. Тем более это не долго: если вайнахская бов строилась ровно год, то осадный амбар 95 человек (включая 25 плотников) собрали из 450 брёвен за 5 суток. В брёвнах они прорубили 64 отверстия, которые в случае набега становились бойницами, а в основном использовались как продушины.
30.
Принять бой 3-этажной башне Пономарёва так и не случилось, а с появлением музея её назвали башней Манчаары и под имя борца за народное счастье признали памятником архитектуры. Сюда башню перевезли в 1972 году, кроме основания, ворошить которое у якутов считается дурным знаком - в музее нижний венец сделан мастерами с Амги. И вот ещё странная закономерность: башня Манчаары и башня Тыгына в Якутии, крепости Шамиля на Кавказе, Татарский вал в южнорусских степях - как часто молва называет укрепления в честь тех, против кого они строились...
30а.

Покинув музей, прокатимся по посёлку - как уже говорилось, больше похожему на городок:
31.
Здесь немало и советских капитальных зданий, а новостройки приходят на смену баракам - кажется, как москвичи в Боровск или Переславль-Залесский, якутяне переезжают сюда на покой.
32.
Бизнес же явно не поспевает за ними - проголодавшись, мы столкнулись с тем, что во всей Майе в выходные нет ни одного работающего кафе! Одно нашлось - да и у тех лишь доставка по предзаказу.
32а.

И, конечно, куда же без памятников - летящий Манчаары да одинокий Аал-Луук-мас, Мировое древо, у которого отмечают поселковые Ысыахи:
33.
За сопкой от Мемориала Победы и парой километров дороги мимо свалки, упрятанной за высокий забор, встречает Урасалах - огромный алас с сухим дном:
34.
На викимапии его обозвали "многофункциональным аласом" - в тишине и зное там снуют трактора с косилками, а порой траву топчут гости самых разных событий от Ысыаха-Олонхо (главного в республике и второго по размаху после городского Ысыаха-Туймаада) до концертов якутского рока. Тусулгэ (площадки с алтарями и урасами) тут закреплены за различными организациями улуса, и вот в одной из урас отмечали корпоратив то ли библиотекари, то ли бухгалтеры:
35.
27-метровый Аал-Луук-мас тут возвели в 2013 году на Ысыах-Олонхо:
36.
И из всех, что я видел в Якутии, я бы назвал его самым красивым:
37.
"Курган" в основании символизирует Аллараа-Дойду - нижний мир тех самых абасов, что внедрили шаманы в Василия Слободчикова. Беседка на нём - это Орто-Дойду, то есть наш средний мир, ну а ветви - 9 небес, каждое с фигурой и символом своего айыы (божества) вплоть до всемогущего демиурга Юрюнг-Тойона на верхушке.
38.
Нижний мир спрятан надёжно, верхний - изображён искусно, а средний - проработан с любовью:
39.
Отдельные сюжеты каждый якут, наверное, узнает с первого взгляда, мне же остаётся лишь снять шляпу перед создавшим всё это мастером Фёдором Марковым.
39а.

На Ус-Хатыне, где проходит Ысыах-Туймаада, Мировое древо встречает у входа, а в Урасалахе стоит посреди Тусулгэ-Айыы - Божьей площадки, на которой глубокой белой ночью начинают обряд встречи Солнца. Знойным полднем же в урасы 9 богов захаживают кони - но им можно, они и так посланники неба...
40.
Дальше меня окончательно доканала жара, и погрузившись в кондиционированный УАЗ-"Патриот" да попрощавшись с Александром Эверстовым, мы с Николаем Егорычем отправились смотреть мегино-хангаласскую глубинку.
41.
Но об этом будет следующая часть.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Окрестности Черкеха.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: замки-крепости Мегино-Хангаласский улус якуты дорожное Якутия деревянное этнография |
Усть-Алдан - земля борогонцев. Часть 2: на берегу Мюрю |
Помимо тунгусов, ушедших с Байкала вниз по Лене в 7 веке от тюрок, и тюрок, ушедших вниз по Лене в 11 веке от бурят, был у якутского народа и третий компонент - хоринцы. Так и теперь называется крупнейшее бурятское племя, которое в 13-14 веках другие племена выжили из Прибайкалья. В основном - за Байкал, но были и те, кто ушли чёрным ходом вдоль Лены. Но новом месте хоринцы влились в уже вполне состоявшийся якутский народ, однако - явно не легко и не сразу: ещё у ныне живых стариков есть оборот "говорить по-хорински" в смысле "ругаться". И если крупнейшее на левом берегу якутское племя кангалассов похоже на ветвь древнего племени канглы, восходящего к возникшей задолго до тюрок первой степной империи Кангюй, то самые многочисленные на правом берегу борогонцы считают себя потомками монгольского племени борджигинов, из которого родом Сам. Известнейшим даже не тойоном (князем), а дарханом (царём) кангалассцев был Тыгын, пытавшийся объединить людей саха. Опорой его племени служили Ленские долины, в первую очередь отвоёванная у эвенков Туймаада, где теперь стоит Якутск. Антагонистом Тыгына в истории остался борогонский тойон Легой, в 1630-х годах ставший проводником русской экспансии в Якутию. Ну а главным активом борогонцев не речная долина была, а Мюрю - самый большой алас. По-научному - термокарстовая котловина: впадины с озерцом на дне и тучными лугами на пологих склонах и стали главными точками притяжения для пришедших из Великой Степи скотоводов. Старая Якутия была архипелагом аласов, но большинство из них могли прокормить семью, в лучшем случае род, в то время как Мюрю кормил целое племя.
Земля борогонцев - это Усть-Алданский улус, к слиянию двух величайших рек Якутии выходящий, впрочем, глухой тайгой. Главную его достопримечательность - скансен "Дружба" у берега Лены, - я показывал в прошлой части. Теперь же пересечём Борогонию насквозь, и спасибо за это нужно сказать проекту "Живое наследие", депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой, администрациям Республики Саха и Усть-Алданского улуса и пресс-секретарю Люции Бурцевой.
От Якутска до аласа Мюрю 120-140 километров пути, вот только самих путей - два. Можно переправить через Лену в Нижний Бестях и долго пылить по дорогам через второй по размеру алас Тенгюлю, а можно проехать на север до Кангаласского мыса, от подножья которого несколько раз в день ходит паром в Соттинскую долину. Обе переправы я уже показывал раньше. На своих колёсах да сильно напрягшись реально даже проехать это кольцо за день, что наш водитель Николай Егорович на белом "Патриоте" и сделал. За вычетом того, что ночевать мы остались в Бестяхе - могли успеть на последний паром, однако возвращение в Якутск не входило в наши планы. А вот так Лена у Кангаласского мыса выглядит с борта парома:
2.
Соттинская долина, этот Борогонской порт - самая нижняя в среднем течении Лены и самая маленькая, всего 22 километра вдоль берега. Центром её служит большое село (1,1 тыс. жителей) со звучным названием Огородтах, которое в обиходе называют Соттинцами местные жители:
3.
Туристы же говоря "Соттинцы" подразумевают "Дружбу" - у заброшенного кладбища с настоящими, а не музейными чардаатами (мавзолеями) к музею деревянного зодчества уходит тупиковая, но весьма неплохая дорога, отмеченная парой стел. Вот эта на полпути от развилки к музею поставлена в 2005 году в честь включения якутского эпоса "Олонхо" в список нематериального наследия ЮНЕСКО:
4.
У развилки, а не у переправы, за Огородтахом от неё, встречает и въездная стела Усть-Алданского района, на барельефе которой - панорама Соттинского музея с репликой Зашиверского острога и ветряной мельницей, сгоревшей в 2015 году от летучих искр далёкого лесного пожара.
5.
Ну а от развилки до нашей сегодняшней цели - порядка 70 километров. Дорога к Мюрю уныла: чахлый лес, густая пыль, редкие аласы и кладбища, напоминающие о двух-трёх скрытых за деревьями сёлах. Но вот грунтовка делает резкий поворот, буквально наскочив на сэргэ небольшого мемориала Победы (1985):
6.
И если учесть, что в среднем алас в Якутии выглядит как-то вот так...
7.
...то масштаб раскинувшегося за стелами пространства поражает: откуда взялось название Мюрю, теперь не известно, но сам якуты возводят его к русскому слову Море:
8.
Алас раскинулся на 13 километров с запада на восток и на 9 с севера на юг, его окружность 22 километра, площадь - 65км², и большинство своих собратьев Мюрю превосходит натурально в сотни раз. Тем не менее, это алас - на всём его пространстве от чего-то протаяла вечная мерзлота, и земля просела на пару десятков метров. 12 озёр на дне Мюрю намекают, что скорее всего это случилось не сразу - постепенно тут возникла дюжина аласов вплотную друг к другу, а дальше таяние мерзлоты и эрозия стёрли их границы. В котловину Мюрю вдаётся 9 мысов, самый заметный из которых - Чарастумса, или Клюв Чечётки:
9.
За мысом на кадре выше видна борогонская пыль - в сухом безветрии Якутии она везде над дорогами стоит густо и долго, но самой мелкой и вредной пылью на всю Республики славится именно Усть-Алданский улус. За Клювом Чечётки - другой берег Мюрю: дорога охватывает алас с трёх сторон. Левее, на ближнем к нам берегу, стоит нынешний райцентр Борогонцы:
10.
В 1936 году сменивший в этой роли старинный Томтор, руины которого лежат чуть ближе к нам и чуть левее в панораме. Он, впрочем, был основан только в 1805 году, и вряд ли теперь кто-то сможет сказать, где стояла показанная обителью зла в фильме "Тыгын-Дархан" ставка тойона Легоя.
11.
В Борогонцах, напротив, уже после нашего приезда открыли памятник Легою, а когда "Тыгын-Дархан" вышел на экраны якутских кинотеатров - тут выразили протест. Внутриякутские взгляды на события 17 века не совпадают по сей день, и если в Якутске и вообще теперешнем мейнстриме Тыгын предстаёт надеждой народа саха, встретившего русских в одном шаге от государственности, то в Заречных улусах, наоборот, Тыгын - кровавый самодур, своей гордыней и жестокостью так запугавший иные племена, что они были готовы искать защиты у чужеземцев. Достоверно же только то, что Якутский острог в 1632 году был поставлен в Соттинской долине и лишь через 10 лет, после подавления масштабного восстания и казни Тыгынидов перенесён на своё нынешнее место в Туймааду. Руками чужаков Легой победил Тыгына, и всю царскую эпоху именно борогонцы были опорой русской власти в Якутии. Алексей (Сэсэн) Аржаков в 1789 году лично дошёл до Екатерины II и представил ей план местного самоуправления якутов; прямой Легоев потомок Иван Мигалкин в 1827-37 годах руководил недолговечной Якутской Степной думой, и даже в 1918 году борогонец Василий Никифоров (Кюлюмнюр) был избран председателем земской управы, став первым якутом во главе всей Саха-Сирэ. Взять реванш кангалассы сумели лишь в позднесоветское и особенно в постсоветское время - из них был Михаил Николаев, возглавлявший республику в 1989-2002 годах и вновь прославивший Тыгын-Дархана.
12.
Это всё я знал и до поездки, а тут мне вскоре рассказали, что мы приехали по старой Дороге Архиепископа - это была часть накатанного в 17 веке и обустроенного в 1730-х годах Охотского тракта, но из всех его путников чаще всего задерживались в Борогонии миссионеры. Место для памятника Победы тоже выбрано не просто так: той же дорогой в 1941-45 годах борогонцы уходили на войну, и этот поворот - последнее место, с которого парни видели Мюрю. Дальше в лесу, говорят, многим чудилась танцующая дева, и все, кто видели это знамение - вернулись живыми.
12а.

Об этом всём мне поведала Зоя Михайловна Белолюбская, научный сотрудник Усть-Алданского историко-краеведческого музея имени Алексея Аржакова. Слева от неё - Люция Бурцева, пресс-секретарь районной администрации: она курировала наш визит, и забегая вперёд скажу, что лучше всего из 5 улусов по пути нас встречали именно на Усть-Алдане. Ну а справа - удалой Георгий Петрович Андреев, заместитель министра инноваций Республики Саха, в эти же дни оказавшийся по делам в Борогонцах. На их жёлтой "Газели" мы и продолжили путь:
13.
Но на полпути до Борогонцев как-то спонтанно свернули в Томтор: сначала возникла идея остановиться и сфотографировать его от поворота, затем - подъехать поближе к заброшенным зданиям, а в итоге мы углубились в пустое село.
14.
Томтор - одно из самых распространённых названий в Якутии, о происхождении которого, однако, я толком ничего не нашёл. Свои Томторы тут есть, кажется, в каждом улусе, а самый известный Томтор - конечно же, тот, который "полюс холода" близ Оймякона. Мюрюнское селение, как уже говорилось, было основано в 1805 году и опустело в 1930-х, ну а дальше в дело вступают долговечность лиственничных брёвен да якутский климат, где старые срубы не сгниют от бесконечных дождей и не разрушатся ветром - Томтор-на-Мюрю самопроизвольно превратился в музей, достойный Соттинцев, полностью сохранившееся якутское улусное село 19 века.
15.
На прошлых кадрах видны длинный балаган (традиционное якутское жилище) с хотоном (пристроенным с севера хлевом), а в основном Томтор состоит из почти одинаковых изб с плоскими дерновыми крышами. Одну из таких изб, первое в улусе Народное училище (1872), я показывал в прошлой части как экспонат музея "Дружба", а вот пара сэргэ - это Памятник Врачам открывшегося в 1900 году первого фельдшерского пункта Борогонии:
16.
По этим сэргэ можно понять, что Мюрюнское селение заброшено, но не забыто, и это вселяет надежду, что однажды тут будет деревня-музей:
16а.

В центре Томтора, обросшая покинутыми коровниками, ещё стоит полуразрушенная Вознесенская Борогонская церковь (1895):
17.
При жизни она выглядела так:
17а.

Внутри неё лишь голые брёвна, но - чистота: местные не дают храму покрыться коровьим навозом:
18.
В табиличке на стене сказано, что церковь построена в 1805-13 годах, но тут речь идёт скорее о старом храме, совсем маленьком и не уцелевшем даже на фото.
18а.

От церковного кладбища осталась могила комсомольца-партизана Иннокентия Слепцова:
19.
А рядом простор Мюрю, придающий руинам села какое-то особое величие:
20.
Если бы борогонцы имели свой флаг - на нём определённо были бы зелёные и голубые полосы. Мозаика воды и островов завораживает, и лишь на фотографиях я приметил хижины и навесы - это охотничьи укрытия:
21.
А к той далёкой урасе мы и будем двигаться фактически весь рассказ:
22.
Пока же едем в Борогонцы - районное село (5,2 тыс. жителей), по духу скорее ПГТ, вытянутое на десяток километров вдоль северного берега аласа:
23а.

Для меня оно стало первым увиденным райцентром Якутии после весьма нетипичных Ленска и Олёкминска, и в Майе, Чурапче, Ытык-Кюеле, Жиганске нас ждал примерно такой же пейзаж:
23.
Откровенно говоря, якутская глубинка неприглядна: грунтовые или бетонные улицы, только-только начинающие реновироваться каркасно-засыпные двухэтажки на сваях, трубопроводы над землёй и попадающиеся в самых неожиданных местах пустыри, болотца и микро-озёра. Конечно же, всё перечисленное обусловлено вечной мерзлотой, из-за которой сложно строить капитальные дома и закапывать под землю трубы. Да и долгая солнечная зима сказывается: все недостатки пейзажа скрадывает чистый белый снег, ну а лето Якутии слишком короткое и прекрасное, чтобы его могла омрачить грязь под ногами.
24.
Ещё одна особенность Якутии, совсем не понятная по Якутску и Олёкминску - в том, что многонациональная Республика Саха представляет собой фактически мозаику мононациональных земель. Если, к примеру, в Витиме и Ленске якута почти не увидишь, то в Заречных улусах доля саха от наслега к наслегу не опускается ниже 95%, а "на глаз" так и все 100%. Из отдельных зданий Борогонцев выделяется улусная администрация, солидный вид который явно намекает, что улус и район - всё же не вполне синонимы: согласитесь, сложно назвать районом единицу размером с крупную область где-нибудь на Урале или в Западной Сибири? У Усть-Алданского улуса размер скорее среднерусский - 18 тыс. км², и с 22 тыс. жителей это одно из немногих мест Республики Саха, где плотность населения больше 1 человека на километр.
25.
Кое-где в поселке уцелели деревянные здания 1930-50-х годов, самое заметное из них - библиотека:
26.
Улица мимо неё поднимается к памятнику Победы (1970):
27.
По-русски он называется Меч, а по-якутски - Батыя: обелиск и правда напоминает скорее клинок якутскиой пальмы (алебарды), в боевом варианте (батас) бывшей главным оружием междоусобных войн, а в охотничьем (собственно батыя) представляющей собой натуральный таёжный мачете.
28.
Другие элементы мемориала - Вечный огонь, Мать-Якутия, танк на косогоре и всё то же величие Мюрю:
29.
Гордость Борогонцев - ипподром на острове в ближайшем к посёлку озере Турахай:
30.
Здесь в летнее солнцесостояние празднуют Ысыах, а деревянная арка у входа появилась в 1996 году, когда в Борогонцах проходили первые спортивные Игры народов Якутии: в отличие от "Игр Тыгына", которые я фотографировал на центральном Ысыахе, здесь якутяне состязаются не в национальных, а во вполне олимпийских видах спорта.
31.
Многолюдье у ипподрома не случайно: в 2022 году проходившие раз в 3-4 года Игры народов через Покровск, Хандыгу, Олёкминск, Намцы и Амгу вернулись на своё изначальное место. На острове нас встретил Александр Васильевич Аммосов, начальник капитального строительства Усть-Алданского района, основным объектом которого в 20-х числа июня был ипподром. Там только-только заканчивалось возведение трибуны на 1000 зрителей с возможностью развертывания временных трибун ещё на 4000. Рядом ждал открытия замотанный брезентом памятник Майгатты Бэт Хара (Майгатты Очень Чёрному) - борогонскому силачу, что, по преданиям, ростом был выше двух метров и легко поднимал сто кило. Парень из беднейших рыбаков с некрасивым тёмным рябым лицом на давнем Ысыахе победил всех благородных боотуров и получил в жёны красавицу Айталы - дочь Тыгына, который, якобы, и затаил тогда злость на Легоя и борогонцев. Народ на ипподроме репетировал церемонию открытия, а Люция очень аккуратно намекала мне на идею задержаться в Борогонцах: мы были здесь 1 июля, а игры должны были начаться 4-го. Позже я узнал из новостей, что праздник омрачила погода: церемонию открытия захлестнул внезапный ураган, а уже во время игр кому-то из спортсменов поплохело от стоявшей в то лето жары, аномальной даже по меркам резко-континентальной Якутии.
32.
На краю ипподрома - новый олимпийский факел и Аал-Луук-мас (2009) - символическое Мировое древо. Сейчас такие стоят на всех полях улусных Ысыахов, но слышал, что именно борогонский Аал-Луук-мас был первым:
33.
Ипподром, впрочем, мы проведали лишь на закате, а первым пунктом визита к Борогонцам стала школа, или вернее мастерская на её дворе:
34.
Там за резной дверью...
34а.

...трудится Евгений Владимирович Пестряков:
35.
Потомственный плотник (подсадных уток под потолком мастерил ещё его отец), Евгений Владимирович с 1996 года работал в школе учителем труда, но и в свободное время, где для души, где на заказ, творил разные деревянные вещи. Например, чороны - якутские кубки для кумыса, который саха почитали священным напитком солнечной благодати (ведь Солнце - это небесный конь!). Кумыс пьют на большие праздники вроде Ысыаха и подносят, как у нас хлеб-соль, почётным гостям. Поэтому немудрено, что именно чороны стали главным объектом якутской резьбы по дереву, и орнамент, в который было зашифровано множество благопожеланий и символов, наносили на них в 3, 7 или 9 поясов "курдааьыын". Чороны с одной ножкой считаются женскими, с тремя копытцами - мужскими, но это разделение относилось не к тем, кому подносили чашу, а к тем, кто её подносил.
36.
Свой первый чорон Евгений Владимирович вырезал в 2009 году по вилюйским лекалам, а дальше дело пошло на поток и с 2016 года стало основным занятием Пестрякова. На весь Усть-Алданский улус у него всего двое коллег, а вот какую красоту он создаёт ныне:
37.
Если дома якуты строят из лиственницы, а мебель плетут из тальника, то дерево чорона - берёза. Заготовку Евгений вырезает на станке, но и ручной работы тут много: нужно обработать наружную и внутреннюю поверхности, определить форму и размер ножки, вытесать её ножом снаружи и высверлить внутри, разметить и нанести орнаменты, обработать всё это специальным раствором лиственничной коры, чтобы затем зернистой шкуркой проявить древесную текстуру, вновь пропитать получившее топлёным жиром для блеска - и вот лишь после будет готовый чорон.
37а.

Делает Евгений Владимирович и другую посуду вроде кытахов (плошек) или усайяхов (ковшей) - в прошлом они были повседневными, а теперь, конечно, это тоже праздничная посуда или сувенир.
38.
Стрелами с тупыми наконечниками в прошлом охотник добывал пушную дичь, а теперь спортсмен стреляет по мишеням:
39.
Ну а вот такую прелесть Евгений Владимирович подарил гостям из далёкой столицы:
39а.

Проехав Борогонцы насквозь и пообедав в столовой местного 2-этажного бизнес-центра, продолжаем огибать алас. На его восточной стороне стоят сёла Мындаба и Чаран (600 жителей) - центр 1-го Хоринского наслега. В Чаран и отправились мы после чоронов:
40.
Его достопримечательности жмутся к Берёзовой роще, тонкой, прозрачной и зловеще шумной от чёрных ворон, стаи которых висели на ветках, как ягоды. К дороге роща обращена мемориальным сэргэ (1986), на плитах у которого справа увековечены местные большевики во главе с Николаем Окоёмововым, а слева - "красный шаман" Платон Ойунский с Татты:
41.
Идеолог автономии Якутии, он стоял у истоков Якутской АССР и по-прежнему чтим здесь как отец-основатель. Странный жанр памятников в Заречных улусах - где сохранённые, а где воссозданные Трибуны Ойунского, с которых он выступал перед народом. На Мюрю "красный шаман" приезжал с речью в 1936 году, незадолго до страшного, как и у многих в те годы, финала.
41а.
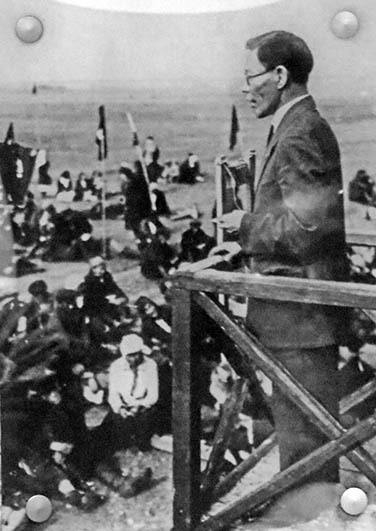
Но 1937-й был только впереди, и сам Ойунский понимал к тому времени, какие тучи сгущаются над его головой, а вот народ встречал Платона Алексеевича как пророка в своём отечестве. Пионеры по такому случаю насыпали дерновую звезду, которая хоть и поновлялась неоднократно, а ещё лежит на опушке:
42а.

Звезду, проведя пешком через рощу, нам показали сотрудники Литературного комплекса имени Василия Протодьяконова (Кулантая), расположенного у другой опушки со стороны села:
42.
Родившись в Хоринском наслеге в 1912 году, Василий Андреевич сделал политическую карьеру в Заречных улусах, а в 1948-50 и 1951-53 годах председательствовал в Совете Министров Якутской АССР. Однако якуты - литературоцентричный народ, и вряд ли политик удостоился бы такой чести, если бы с 1930-х годов не был ещё и писателем. Поруководив республикой, в 1950-х годах, Протодъяконов возглавил её союз писателей, а в 1969 основал в Якутске Литературный музей имени Платона Ойунского и стал его первым директором. Ну а на малой родине Кулантай удостоился музея в 1993 году:
43.
Литературный комплекс представляет собой двор, который от Берёзовой рощи отделяет оградка, а от Чарана - высокий забор. Деревянный тротуар ведёт к административному зданию и библиотеке, правее края кадра остался балаганчик, ну а оба прошлых кадра сняты с верхнего этажа башенки, фактически выполняющей роль сельского Дома культуры:
44.
В башне также полным ходом шла приготовка к празднику на открытие Игр Народов, в которой поддержать чаранцев приехали коллеги из других сельских музеев:
45.
В зданиях - небольшая экспозиция о Василии Протодьяконове и Терентии Аммосове - выдающемся резчике середины ХХ века по кости и рогу, чьи творения я показывал в Сокровищнице Якутии.
46.
Как я понимаю, только Теретий Васильевич мастерил белоснежные костяные чороны:
46а.

В балаганчике - собственно, интерьер балаганчика, дающий представление о детстве как героев здешней экспозиции, так и отцов и дедов посетителей музея. Сами предметы балагана в обще типичны для сельской Якутии - камелёк (камин), трёхногий стол и табуретки из тальника, кожемялки, жернова, металлическая посуда (керамику якуты с дорусских времён не жаловали) и как раз не типичный для других музеев оберег из медвежьей лапы у двери:
47.
Уже при написании поста я понял, что совершенно ничего не спросил о стоящей в ограде часовне, так что не знаю даже её посвящения. Да и внутри она больше похожа на музейный зал о деятельности миссионеров:
48.
Меня, конечно, больше всего озадачили "свитки" на старинной парте, но как я понял, это не древнеякутские рунические манускрипты, а какая-то вполне утилитарная вещь.
48а.

Рядом, в ограде - уцелевшая с 19 века от сельского кладбища могила под каменным русским надрогбием:
48б.

Дальше по часовой стрелке вокруг аласа есть ещё и село Маягас, а за ним - и та смотровая площадка, которую мы видели с другого берега Мюрю:
49.
Последний взгляд на его простор:
50.
Самым интересным местом Усть-Алданского улуса, помимо Соттинцев, представляется Танда, о которой Зоя Михайловна и сотрудники Литературного музея говорили не раз. Это крупное село (600 жителей) не на аласе Мюрю, а примерно в 40 километрах восточнее да по такой дороге, что даже в хорошую погоду туда доедет лишь внедорожник, а по плохой разве что трактор пройдёт. Там сохранилась деревянная Никольская церковь (1908), в которой сельский учитель Иван Готовцев в 1948-52 годах собрал неплохой музей (в 1980-х построивший себе отдельное здание). Рядом стоят небольшая угловатая часовня (1852), дом русского ссыльного Георгия Андросова и уникальная по пропорциям и сохранности деревянная юрта якута Алексея Шапова. Ещё дальше, в доступном лишь пешком через несколько километров урочище Билир лежат руины усадьбы, которую построил в начале ХХ века местный зодчий Семён Заболоцкий (Тыгыс) для старосты Петра Заболоцкого, а в усадьбе той на бревне есть таинственная надпись из 17 букв нигде больше не встречающимся алфавитом... Но из Билира будто и фотографий нет. Надписи, вырезанные на срубах неизвестными буквами, сохранились и в других местах Якутии, а до Танды, даже если бы я заложил дополнительный день, нам всё равно из Борогонцев было не на чем ехать. Так что - покидаем гостеприимный Усть-Алданский улус:
51.
По пути знакомясь с борогонской пылью:
51а.

О том, что пыль - это локальный бренд, нам поведал Георгий Петрович, уехавший с нами и здорово скрашивавший разговорами долгую дорогу по грунтовкам. По его словам, свой неофициальный бренд в Якутии есть у каждого улуса: в Кобяйском - караси, в Булунском - олени, в Горном - лоси, в Чурапче - коровы, в Татте - кони и писатели, ну а Хангаласский улус - так и вообще диснейленд.
52.
По красотам Хангаласского улуса мы планировали отправиться на следующий день - ниже в оглавлении это Булуус, Курулуур и Кердём, а ещё есть доступные только по Лене (опять же см. в оглавлении) Ленские столбы, Диринг-Юрях или бизонарий Усть-Буотама. Но сначала, пропылив сотню километров до Тенгюлю и выйдя на Колымский тракт, мы доехали по белой ночи до Нижнего Бестяха. Георгий Петрович вызвал такси и укатил на последний полуночный паром в Якутск, а мы поселились в гостиницу "Орда", которую нам организовала администрация Мегино-Кангаласского улуса. Сам его центр Нижний Бестях также есть в оглавлении, а о красотах глубинки расскажу в следующих двух частях.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майа.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Окрестности Черкеха.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: литература якуты Сибирь природа Усть-Алданский улус дорожное Якутия событийное ручная работа этнография деревянное |
Усть-Алдан - земля борогонцев. Часть 1: Соттинцы, музей "Дружба" |
На правом берегу Лены против показанного в прошлых частях Якутска лежат Заречные улусы, каждый из которых для бескрайней Якутии примерно как для бескрайней России Тверская или Рязанская области. Это - малая, старая, внутренняя Саха-Сирэ, колыбель якутского народа. На десяток постов мы погрузимся в мир аласов, аал-луук-масов, сэргэ, балаганов, чардаатов и таких имён, как Дмитрий Сивцев (Суорун Омолоон), Алексей Кулаковский, Платон Ойунский, разбойник Манчаары или тойон Легой. Начнём рассказ о заречье с музея "Дружба" в Соттинской долине - не последнего скансена на нашем пути, но пожалуй самого зрелищного. Добирались мы сюда через показанную ранее переправу от лежащей на горизонте заглавного кадра громады Кангаласского мыса.
За рассказ об этих местах стоит поблагодарить проект "Живое наследие", администрации Республики Саха и посещённых улусов (в сегодняшнем случае - Усть-Алданского) и депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву.
Эту историю я рассказывал не раз. О Ленских долинах - уютных карнизах вдоль реки, где плодородны луга, но не доходит вода страшных паводков. О долине Туймаада на левом берегу, за которую три поколениях вождей крупнейшего якутского племени кангалассов (тут сложно не заподозрить ветвь пантюкрского племени канглы!) воевали с эвенками, по ходу войны сплотив вокруг себя всё левобережье и поменяв титул с тойона (князя) на дархана (царя). О гордом Тыгыне, который мечтал сплотить единое якутское государство, если бы не строил козни вождь правобережья, тойон крупнейшего заречного племени Борогонцев коварный Легой..... впрочем, а почему это он коварный? Может быть, потому, что Якутск стоит на кангаласских землях, а там кровожадный самодур Тыгын-Дархан - свой? Внутриякутские взгляды на дорусское прошлое, от которого по причине отсутствия письменности остались только предания без дат, различаются так сильно, что когда "Сахафильм" выпустила исторический эпик "Тыгын-Дархан", в Усть-Алдаском улусе (где райцентр красноречиво называется Борогонцы) по этому поводу заявили протест. Всего же у якутов было 30-40 племён, и что у Тыгына, что у Легоя союзники имелись на обоих берегах. Но исход Каргыс-Уйэтээ ("века резни") решила третья сила, пришедшая сверху по Лене на стругах. И достоверно здесь то, что в Туймааду Ленский (Якутский) острог перенесён лишь в 1642 году, когда было подавлено крупнейшее восстание якутов и эвенков и казнены три Тыгынида. Предыдущие 10 лет же Ленский острог стоял в самой маленькой (всего 22км длиной) правобережной Соттинской долине, в нескольких десятках километрах ниже по течению, на землях как раз-таки Легоя. По факту, руками чужемцев, которые и принесли мир, Легой победил Тыгына, и даже существовавший в 1827-37 годах Якутской Степной думой руководил его прямой потомок Иван Мигалкин. Из Заречных улусов, правда не с Борогонцев, а с Татты, был родом и советский писатель Дмитрий Сивцев, одним из первых легализовавший якутские имена, которыми здесь неофициально называли детей со времён крещения: его литературным псевдонимом стало такое имя Суорун Омолоон. Что не мешало Дмитрию Кононовичу быть глубоко верующим христианином, ну а в Перестройку якуты вряд ли сами догадывались, как повезло им с властителем дум. Суорун Омолоон не рвался к власти (с 1989 по 2002 год республику возглавлял вполне себе кангаласс Михаил Николаев), а главное - не на словах, а на деле был сторонником дружбы народов. В его видении национального возрождения саха не противопоставлялись русским, и в рушащемся здании СССР он понимал, как важно не оказаться среди обломков. Выражением этой идеи и стала "Дружба" - второй из 3 созданных Дмитрием Кононовичем скансенов (по факту их, впрочем, 4: я уже показывал Кердем с постройками, которые Омолоону не отдали), в 1988 открытый в Соттинской долине, чуть ли не на изначальном месте Якутского острога.
2.
Соттинцами "Дружбу" и называют в обиходе. По факту ближайшее к музею село (всего 2км) - Ары-Тит, где на бывшую нефтебазу причаливает круизный "Михаил Светлов", ну а Соттинцы - второе название крупнейшего в долине села Огородтах, в которое выводит переправа. Там, у парома, нас лично встретила директор музея-заповедника "Дружба" Надежда Яковлевна Новоприезжая и повезла в свои владения по грунтовкам. У ворот ждала научный сотрудник музея Лариса Степановна, преданностью своему делу напомнившая мне жрицу. Её экскурсия заняла 3 часа, и это ещё сокращённая программа:
3.
Образ жрицы - ещё и от того, что материальная культура саха неотделима от духовной, и на входе в музей встречают сэргэ - ритуальные коновязи для коней духов. За тройкой у входа виден Тулаагын - подиум из реплик сэргэ Алексея Кулаковского (Ексекуляха) - основоположника современной якутской литературы.
4.
Те, что слева, он поставил в 1924 году на Ысыахе в урочище Урэх-Тэрде, буквально на полюсе холода близ села Томтор под Оймяконом. Ближнее справа было сделано в 1904 году на свадьбу в селе Арылах под Чурапчой, а дальнее (оно же крупным планом) - в 1905 году после праздника сенокоса в селе Онохой на Вилюе. Медведь на нём означает буор-кут (земную душу - всё, что в человеке от природы), бык на чурапчинском сэргэ символизирует ийэ-кут (материнскую душу - всё, что дано через воспитание), а конь и птица на оймяконских стелах - это салгын-кут (воздушная душа - всё, что человек обрёл своим умом и опытом). Поставленные писателем за тысячи километров друг от друга, сэргэ обозначили душу Якутии, ну а раз музей - её уменьшенная копия, то здесь они рядом.
4а.

Первые и по времени (перенесены в 1987), и по ходу экскурсии постройки - балаган и ураса, зимнее и летнее жилища, последнего хозяина которых звали Дмитрий Алексеев - Сукурдуур Миитэрэй. Балаган, как вы понимаете, русское слово, в современных синонимах звучащее примерно как "жилой киоск". Якуты как потомки степняков по-русски называют его юртой, а по-своему - дьиэ. И это жилище лишь кажется неказистой землянкой - на самом деле балаган Сукурдуура построен около 200 лет назад:
5.
И внутри явно комфортабельнее курных изб, в те времена по русским деревням ещё обычных. Якутам была чужда архитектурная эстетика, и снаружи балаган - это трапециевидные стены, обмазанные глиной, а зимой ещё и балбахом (кизяком) и усиленные огромной завалинкой. В основе, однако, он вполне себе деревянный и исключительно капитальный: лиственницу для балагана сперва подрубают, валят только через год, а потом ещё год-полтора вымачивают в коровьей моче. Достать её нетрудно: в музее балаган без хотона - почти такого же внешне хлева, который пристраивался с северной стороны, давая дополнительное тепло. С той же целью делались наклонными стены - снаружи они лучше нагреваются солнцем, а внутри обеспечивают циркуляцию тёплого воздуха от потолка к полу. Пол над мерзлотной землёй засыпали песком и на нём не сидели, используя резные столы (остуол), табуретки из тальника и орон - лавки, набитые землёй и конским волосом, который не давал пролезть в дом мышам. Окон, затянутых бычьим пузырём, всегда было нечётное количество. В юго-западном красном углу - иконы, а о вещицах на переднем плане нам было сказано "Если угадаете, что это - подарим!".
6.
Я угадал - это игрушки, а в корзинках - настольные игры (подробнее - в обзоре материальной культуры якутов), мастер-класс по которым нам показала смотрительница балагана:
Центр балагана - камелёк, или огох: камин в глиняной (с деревянным каркасом) трубе на песчаной подушке, который Лариса Степановна затопила для нас.
6а.

За камельком - северная стена без окон, и там выставлены предметы якутского быта вроде посуды берестяной (ыхрас) и металлической (а вот керамики якуты почти не знали), охотничьих луков или рыбацких сетей. Ближе - кумысная ступа и суоруна - ручная мельница, которую знай себе крути долгими тёмными страшными зимними вечерами.
7.
Эти вечера, мне кажется, не последняя причина того, что у якутов так развиты устный фольклор и ремёсла:
8.
Вплоть до матерчатых кукол сарыар:
8а.

Дверь балагана обращена на восток, и с юга была мужская половина, а с севера - женская, включавшая единственное обособленное помещение: девичник. Ведь дочерей на выданье хозяин не показывал случайным гостям.
9.
Дверь урасы, летнего дома, напротив, смотрит на запад. У Сукурдуура была самая богатая из нескольких видов могол-ураса. Обычно это переводят как "берестяной дом", но в старину якуты крыли их не берестой, а некой тканью из бересты наподобие ХБ, секрет выделки которой забылся с появлением брезента.
10а.

Снаружи ураса напоминает чум слегка куполообразной формы, но главное отличие сходу видишь внутри - она не переносная. У урасы всегда есть основа из сэргэ, которых здесь, как и столпов-"багана" в балагане, бывает 4, 8 или 12. На них фигурки коней, на поперечных балках - коров: и то, и другое обереги и символы изобилия.
10.
Конструкция юрты же оказалась идеальна для жаркого и сухого якутского лета: в углах не скапливается грязь и инфекции, а восходящий ток над очагом обеспечивает свежий воздух и выносит в потолочное окно насекомых.
11а

Святая святых в урасе - это орон девушки на выданье, которую хранят от незваных гостей двери и колокольцы:
11.
Балаганы и урасы встретятся нам в музеях ещё не раз, а вот дальше начинается специфика "Дружбы". За очередным сэргэ - балок "Кюкюкр-ус" с Татты, в котором Суорун Омолоон написал в начале 1930-х первую якутскую пьесу "Кузнец Кюкюкр":
12.
Тропа выводит на луг, как и всюду в Якутии поражающий своим разнотравием. Фактически эти луга - ни что иное, как остатки "мамонтовых степей", полярных саванн, в не столь засушливых местах с вымиранием мегафауны заместившихся тундрой. Ряд сэргэ над лугом несут табличка с цитатами о том, что якуты в 17 веке сделали в пользу России выбор во-первых добровольный, а во-вторых правильный. Например, письма русских воевод о том, как собирать у якутов ясак, не провоцирую конфликтов или благодарности тех же воевод князьцам Легою, Теренею и Капчину за помощь в подавлении мятежей. Или слова Алексея Окладникова: "подлинная трагедия Тыгына заключалась (...) не в том, что он был будто бы сломлен мощью русских завоевателей (...), а в том, что в кровавой и безнадёжной борьбе со своим собственным народом Тыгын шёл не вперёд, а назад!".
13.
За сэргэ и крестами встречает Семён Дежнёв - между прочим, дважды женившийся на якутках и оба раза бросивший их с сыновьями, уходя в очередной поход. Но свадьба Дежнёва с Абакай да Сичю (более известной как Абакаяда), дочерью борогонского тойона Онокоя в 1641 году стала как бы не первым русско-якутским браком.
14а.

Где мореход - там и корабль: большой коч, воссозданный в 1995 году якутскими казаками на средства Ленского объединённого речного пароходства. Известные на Белом и Баренцевом морях чуть ли не с 11 века, это были первые в мире суда ледового класса: стиснутый льдами, благодаря яйцевидному сечению корпуса коч не ломался, а выталкивался наверх и мог дрейфовать месяцами.
14.
Поморы же укрывались в его тесных тёплых каютах-заборницах, пока не кончится мороженая клюква, спасавшая их от цинги. Я, увы, видел только палубу и, кажется, даже не догадался дёрнуть за ручку люка:
15.
Коч стоит на берегу, но пойма тут подступает вплотную, а музей взбирается из Соттинской долины и на те холмы:
16.
Сердце "Дружбы" - реплика (1990) Зашиверского острога:
17.
Отбив первые набеги непокорных якутов, Ленский острог разросся целой сетью русских становищ и крепостей. В 1639-52 годах енисейские казаки поставили несколько зимовий на Собачьей реке (ибо отличный подлёдный лов позволял ездить по ней на собачьих упряжках) Индигирке, в её судоходных низовьях, куда со стороны Якутска попадали по бурным шиверам (порогам). По окрестным тундрам и горам, однако жили юкагиры - древнейший народ Северо-Востока, вытесненный на Край Земли ещё эвенками, они и казаков встретили с оружием в руках. Бесконечные набеги и мятежи вынудили в 1676 году свести зимовья в Индигирский острог с мощной срубной стеной и парой башен:
17а.
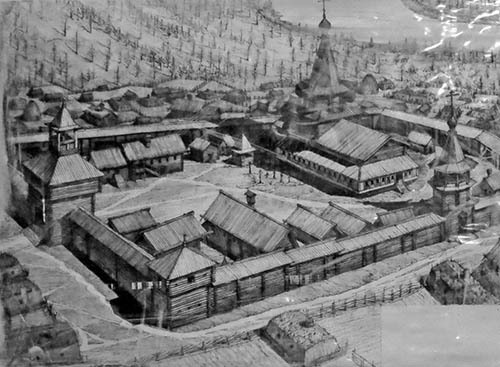
С 1721 года (а неофициально - видимо, с момента основания) он стал Зашиверским острогом, но юкагирские войны к тому времени стали делом прошлого. В 1783 году давно утратившая стены бывшая крепость стала городом, центром Зашиверского уезда по долинам Индигирки и Яны, а в 1790 даже обзавелась гербом:

Вот только слишком суровые тут были места - с населением около 120 человек Зашиверск оставался как бы не самым маленьким городом Российской империи, и в 1803-04 лишился этого статуса, а чиновники съехали в Верхоянск. Дальше путешественники, добиравшиеся сюда раз в несколько десятилетий, находили то пять, то семь, то три двора с избами и балаганами да высокую церковь, напоминавшую о былом. Последними жителями оставались якутские рыбаки брат и сестра Митрей и Евдокия Слепцовы, покинувшие Зашиверск в 1920-х годах - он на тот свет, она в другое селение.
17б.
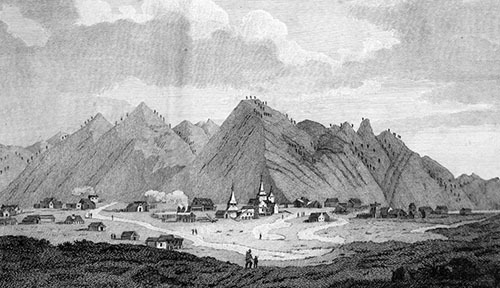
Куда интереснее истории - легенда, согласно которой Зашиверск был богатым цветущим городом, этакой Второй Мангазеей с могучим деревянным кремлём и бородатым воеводой-самодуром. Раз на ярмарке у стен как-то оказался бесхозный сундук, полный золота и алмазов, и шаман, почуяв неладное, пошёл к воеводе и умолял не открывая сундук утопить его в проруби. Но воевода сказал "Да я лучше тебя там утоплю", и на пару со священником распродал сокровища горожанам. На следующий день в остроге вспыхнула чёрная оспа, от которой не спасся никто. Эпидемии этой хвори, которую русскоустьинцы (см. по той же ссылке, что и про юкагиров) называли "зашиверской поганью", правда случались тут в 1773 и 1883 годах, но обе даты никак не стыкуются с историей Зашиверска. Однако сам образ полного заражённых тел мёртвого города среди пустой лесотундры - слишком сильный, чтобы раз услышав про него, забыть. Место, где стоял Зашиверск, у якутов и ныне считается проклятым, и Лариса Степановна рассказывала нам, что ходившие туда чёрные копатели неизменно болели и умирали.
18а.

К легендам располагала, конечно, Спасо-Зашиверская церковь (1700), якобы забытая в тайге до появления вертолётов. На самом деле до революции туда и батюшка приезжал несколько раз за год, а при Советах её мечтали спасти краеведы. Мечта их сбылась в 1969-71 годах, вот только за неимением в Якутии подобных музеев церковь вывезли в Новосибирск, где как раз собирали в Академгородке музей всея Сибири под открытым небом. Там и стоит она по сей день, а здесь - её почти (с оглядкой на то, что работали не профессиональный реставраторы, а просто хорошие плотники) точная копия:
18.
В лоджии, самой необычной детали этого храма, предназначенной видимо для всепогодных крёстных ходов - фотогалереи Зашиверска и православия в Якутии:
19.
Ведь до революции от Вилюя до Колымы было много старинных церквей почти поморского облика... но ни одна из них не сохранилась:
19а.
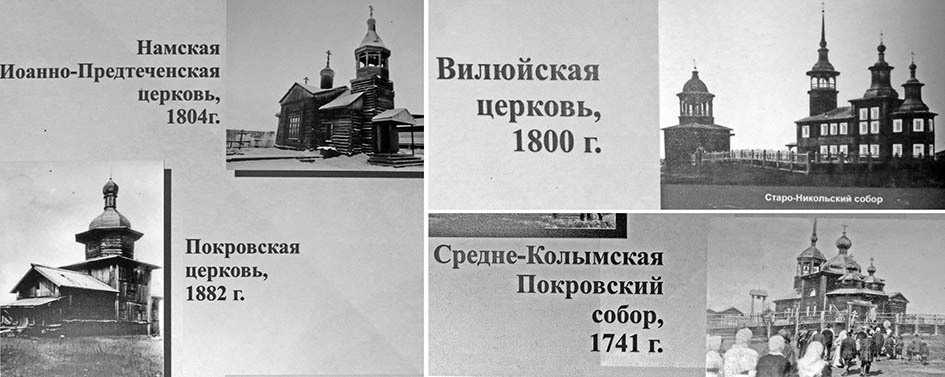
В крошечном зале, куда попадаешь даже не пригнувшись, а сгруппировавшись - портрет мастера Андрея Хабарова да загадочный "плод" на потолке, назначение которого до сих пор не разгадано:
20а.
Здесь - небольшая экспозиция церковных вещей, в том числе берестяные иконы мастерицы Саргыланы Рожиной:
20.
Теперь выйдем за тын (увы, срубную стену тут так и не воссоздали) и переместимся в другую эпоху: с острогом соседствует дом Басова, воссозданный в 1993 году на средства компании "Золото Якутии" по проекту конца 19 века.
21.
Имеется в виду, как я понимаю, Иван Басов, чаеторговец из Кяхты, который в 1892 вместе с партнёром Алексеем Коковиным перенёс свой бизнес в Якутск. Богатейшая фирма Якутской области, "Коковин и Басов", как и все ближайшие конкуренты, занималась колониальной торговлей, вывозя на материк меха, рыбу и мамонтову кость, а завозя всё остальное. Их каменный торговый дом стоял до 1970-х годов на главной улице Якутска, а это, видимо, особняк с окраины. Причём - летний: в доме нет большой печи, а завалинки набиты конским волосом:
22.
Дом Басова - это крытый музей внутри музея под открытым небом. Лишь в одной из его шести комнат - гостиная богатого дома в Якутске:
23.
Да и здесь с весами купцов соседствуют портреты этнографов, в большинстве своём поляков и народников Таттинского улуса: популярная легенда гласит, что его тойон Роман Оросин дал взятку губернатору Ивану Крафту, чтобы отправлял туда самых образованных людей. На самом деле сосланы они туда были в основном задолго до Крафта (его крайне продуктивное правление было в 1907-13 годах), но судя по удивительной концентрации - видимо именно так.
23а.

В других комната - фотогалерея старого Якутска и декоративно-прикладное искусство якутов:
24.
Включая костюмы мастерицы Елизаветы Протопоповой:
25.
И наследие эвенков, будь то одежда, оленьи сёдла, кумаланы (круглые ковры) или так любимые якутами "тунгусские колыбели":
26.
Декоративная упряжь оленя и шкуры бурого и белого медведей рядом - последней можно накрыть автомобиль! Ещё в паре комнат - временные выставки и история создания музея, но ими мы решили пожертвовать для экономии времени.
27.
Рядом с острогом и домом - сооружение наподобие трансформаторной будки, перевезённое сюда из местности Кукуна в Мегино-Хангаласском улусе. На самом деле это осадный амбар тойона Сергучева: оседлый народ, живущий маленьким племенами, всегда и везде, - хоть в Ирландии, хоть на Сардинии, хоть в Чечне, - начинал строить башни. Но лишь у якутов они были деревянными, или вернее деревянные башни сохранились до наших времён: в 18-19 веках под Россией тойоны и богачи строили их по старой памяти уже не от врагов, а от разбойников.
28.
Ещё в музее есть реплика башни Пономарёва, которую я ещё и в оригинале покажу. Вокруг неё целый Амбарный городок:
29.
На кадре выше справа амбар Копырина из местности Чубучана Борогонского улуса, срубленный аж в 1790 году:
30.
Слева - бабаарына, 6-гранный сруб, с 19 века потихоньку вытеснивший более комфортабельную, но сложную урасу в качестве летнего жилища. Так-то - типичная бурятская деревянная юрта, которые якутские путники не могли не видеть на финишной прямой перед Иркутском, но название (искаженное русское "поварня") говорит о том, что скорее так выглядели кухни и харчевни на почтовых станциях Ленского тракта.
31.
Рядом - кумысный амбар (что бы это ни значило) из местности Сатагай, похожий на сильно упрощённую и сплющенную башню тойона:
32.
Среди амбаров затесалось Народное училище (1872) из села Томтор, первое в Борогонском улусе:
33.
А за ним виден амбар писаря Кычкина из местности Билир Мегино-Кангалсского улуса, где сытый сельский чиновник, видимо любивший поохотиться, хранил своё добро:
34.
За перелеском от амбаров, на схеме отмеченная как "Гостевые дома" - усадьба Суорун Омолоона, в которой он жил, приезжая в Соттинцы:
35.
Дмитрий Кононович ушёл в 2005 году в возрасте 99 лет, и теперь тут его дом-музей:
36.
Всё как и должно быть в доме-музее писателя - рабочий стол у постели, рукописи под стеклом и издания в шкафу, фотографии на стенах да национальные костюмы, в которых властитель дум произносил перед публикой речи о национальном возрождении якутов и важности дружбы народов.
37.
Рядом - балаган Реасовны, одна из самых молодых построек музея:
38.
Он был построен в 2018 году как подарок на 80-летие Раисы Реасовны Кулаковской, которая, слава богу, жива-здорова и сейчас. Если Дмитрий Сивцов был инициатором этого музея, то непосредственного его созданием занималась и первым руководителем была именно она, внучка Ексекуляха.
39.
Ну а балаган, как видите, может быть и комфортабельным современным жильём. При том что тут даже камелёк есть:
39а.

Раньше в музее была ещё и ветряная мельница, построенная в 1990-х с нуля по образцу новгородских. Она знакомила скорее якутян с наследием старой России, а для этих мест была не очень-то характерна. И может быть поэтому сгорела 9 мая 2015 года, когда за Леной от весенних палов загорелся лес, а следом и трава в Соттинцах от долетевших через реку искр.
40а. отсюда.

Дальше музей потихоньку сменяется зоной отдыха:
40.
Упирающейся в Австрийский домик - мини-гостиницу, подаренную в 1992 году заморской фирмой "Маккуллан и Зелнер". К выбору мест для своих скансенов Суорун Омолоон подходил слишком уж художественно, а как результат - в них очень сложно съездить одним днём. Для нас "Дружба" была началом долгого маршрута, группы сюда обычно привозит "Михаил Светлов", ну а для более-менее стабильной посещаемости "Дружбе" приходится развивать ещё и сельский туризм. В пятницу утром мы гуляли тут одни, а большинство посетителей едет в Соттинцы из Якутска на выходные.
41.
У входа в кафе мы попрощались с Ларисой Степановной. Дальше нас ждал обед в компании Николая Егорыча (нашего водителя на весь маршрут) и Надежды Яковлевны, которая на своём джипе собиралась показать нам дальние углы своих владений. На прошлом кадре хорошо заметна вышка на яру - к ней можно подняться по лестнице, а можно доехать в обход. Сама вышка, срубленная ещё в начале 1990-х, обветшала и закрыта для подъёма:
42.
Но и с косогора впечатляет вид музея, поймы, ленского простора и далёкой стены Кангаласского мыса:
43.
С разных точек лучше смотрятся знакомые места:
44.
Тут в кадре белый УАЗ-"Патриот" Егорыча едет мимо Сэргэ ЮНЕСКО - ничего о нём не спрашивал, но рискну предположить, что поставили его в 2009 году по случаю включения "Олонхо" в Нематериальное наследие человечества.
45.
За рекой - райцентр Намцы (10,5 тыс. жителей) в долине Энсиэли, самой нижней из трёх левобережных долин. Назван он в честь племени, третьего по силе и влиянию после кангалассов и борогонцев, так что с падением Тыгынидов местный тойон Мымак решил сплотить вокруг себя якутский народ как борец с захватчиками. В 1634 году Ленский острог едва выдержал осаду под его началом, а смирившись с русским подданством, намцы оставались "не последней спицей в колесе" для Якутии. Из Намской столовой был приглашён в лучшие рестораны Якутска законодатель национальный кухни Иннокентий Тарбахов (см. прошлую часть), а местная школа славится на всю республику своей математикой и физикой. Сказывается и то, что Энсиэли в тупике дорог - это Якутская Ривьера с десятками турбаз на Лене, включая роскошный Графский Берег. И в общем на самом деле там и достопримечательностей хватает: в Никольцах - музейные старый русский дом и гужевая мельница, в Хамагатте - новый тенгрианский храм, в Хатырыке - собирательная, но очень убедительная реплика сибирского острога и отличный музей... В общем, ещё один узелок на следующий приезд в Якутию.
46.
Здесь же так хотелось посидеть на брёвнах, любуясь простором и величием... но впереди ещё множество пунктов программы и сотни вёрст пути.
47.
Главная достопримечательность верхней площадки - якутское кладбище, а вернее реплики самых выдающихся образцов надгробного зодчества, воссозданные по материалам этнографов.
48.
Впрочем, НАДгробный - тут слово не совсем точное: в твёрдую, как камень, вечную мерзлоту покойников не закапывали. По могилам саха хорошо видно их происхождение от пришлых тюрок и ассимилированных ими эвенков - одни испокон веков строили мавзолеи, в которых кочевник посмертно обретал вечный стационарный дом, а другие практиковали "воздушное погребение" на шестах и деревьях. Так появились чардааты и арангасы:
49.
Чардаат - это мавзолей, где усопшего клали в сруб и уже в нём засыпали землёй. Обычай этот пережил и христианизацию - над многими чардаатами стоят кресты, в то время как над другими - языческие сэргэ и конские головы. В дорусские времена сюда же клали и вещи покойника (скорее обереги, чем инвентарь загробной жизни), а позже руины чардаатов стали ценнейшим материалом археологов.
50.
Размеры и формы чардаатов могли много сказать о том, кто в нём покоился. Вот этот, маленький и какой-то вертикальный, скорее всего был могилой ребёнка:
51.
А причудливые пики и рога отмечали могилы шаманов, держа взаперти их духов. Обратите внимание, что одна из шаманских могил - с крестами: алгысчиты (белые шаманаы, а по факту жрецы) в 18 веке исчезли полностью, а ойуны и удаганки (чёрные шаманы и шаманки) остались как знахари. И если при жизни их не предали анафеме (а священники сами были не чужды страха перед колдунами), то хоронили шаманов по христианскому образцу:
51а.

Чаще же могилой шамана был арангас - гроб на шестах или дереве. Только эвенки предпочитали берестяные гробы, а якуты - срубы....
52.
...и колоды, как правило являвшиеся верной приметой именно шаманских могил:
53.
За воссозданным некрополем, ближе к дороге - остатки настоящего кладбища:
54.
54а.

Дальше по склону, в объезд - зона отдыха на косогоре:
55.
Помимо беседок (в этом кадре - за моей спиной) тут есть несколько инсталляций:
56.
И гордость Соттинцев - Зелёный театр с необычайно красивыми стерхами на шестах:
57.
Рядом - резные Теремок и Бабаарына, вместе с сэргэ (2014) символизирующие усадьбу Алексея Аржакова - Сэсэн Ардьякыапа. Родившийся в 1739 году как бедняк и ещё в молодости крестившийся, к концу 18 века он выбился наверх якутского общества, став неофициальным лидером борогонцев, а с следовательно и всего народа. Первых якутских тойонов-посланников принимал в Москве ещё Фёдор Алексеевич, ну а Сэсэн, два года проведя в Петербурге, в 1789 году дошёл до Екатерины II и представил ей "План о якутах с показанием казёной пользы и выгоднейших положений для них". Суть плана состояла в организации местного самоуправления с выборами общего князьца, учреждением суда по якутским обычаям и одобрения якутами русских чиновников, назначавшихся в их улусы. Госсовету всё это не понравилось, а вот генерал-губернатор Восточной Сибири, которому императрица спустила план Аржакова, его поддержал - так у людей саха возник первый прототип национальной автономии.
58.

Дальше дорога уходит в тайгу и ветвится между полянами, на которых стоят балаганы - музей имеет огромное количество "секретных локаций", часть из которых просто не охватить за день, а в других можно остаться на ночь. Что-то из не показанного не могло не относиться к другому выдающемуся борогонцу Василию Никифорову (2016), также известному как Кюлюмнюр. В 1891 году он возглавлял якутскую делегацию на встрече цесаревича Николая в Иркутске, в 1906 полгода провёл в тюрьме за организацию политического "Союза якутов", в 1912 основал первый якутский журнал "Саха сангата", а в 1918 возглавил Якутскую губернскую земскую управу, став первым якутом во главе своей земли. В создании ЯАССР он тоже участвовал, а репрессирован был в 1928 году, ещё до Большого террора.
59.
Самой дальней точкой, куда отвезла нас Надежда Яковлевна, стало просторное озеро. Под похожим на мифический Аал-Луук-мас (Мировое древо) лиственницами с нестандартным ветвлением, как та, что растёт на его брегу (кадр выше) возникали кэрэхи - святилища ойунов и удаганок. На озере тоже хотелось задержаться, но если в основной части музея не ловит сеть, то здесь на телефн Надежды Яковлевны всё настойчивее звонили из Борогонцев, где администрации также не терпелось нас принять.
60.
Но об это - в следующей части.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майа.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Окрестности Черкеха.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: эвенки замки-крепости якуты Сибирь природа Усть-Алданский улус скансен дорожное Якутия казаки суда и корабли этнография деревянное |
Якутск. Часть 6: Чочур-Муран |
Среди показанных в прошлой части окраин Якутска особое место занимает Чочур-Муран. Так называют холмы коренного берега Лены над самым широком местом долины Туймаада, что длинным карнизом вытянулась на 70км от Табагинского до Хангаласского мысов. Лучшая из десятка долин Средней Лены, Туймаада - естественный центр Якутии, где ещё до русских воевод обосновался её объединитель Тыгын-Дархан. Сопка в таком месте не могла не стать священной горой саха, и обросла сперва легендами, а потом и достопримечательностями, самую необычную из которых - подземное Царство вечной мерзлоты, - я уже показывал раньше. Другими красотами и вкусностями у начала Вилюйского тракта, которым в этот раз поехать мне не довелось, я закончу рассказ Якутске.
В нём вполне могла быть и 7-я часть про общий колорит столицы Республики Саха, но в итоге его разные грани я раскидал по другим частям: Старый город дополнили современные пейзажи и лица, красоты вечной мерзлоты - особенности градостроительства на ней, прогулку по центру - общественный транспорт, ну а сегодня расскажу о ресторанах, по которым (но не общепиту в целом!), как и по музеям, Якутск можно поставить в российский топ-5.
При всём колорите, Якутск не назвать удобным городом, и одна из причин тому - полное отсутствие сетевых магазинов. Может, где-то как-то тут и затесался какой-нибудь "Магнит" или "Дикси", но в основном магазины Якутска мелкие, душные и скудные. Спасают дело фермерские киоски, которыми город просто набит - в бойких местах они могут стоять по несколько штук рядами. Ряды эти сходятся к фермерскому рынку, куда я так и не добрался, но Наташа вернулась оттуда под впечатлением от обилия необычной с точки зрения материкового гостя еды. В основном в киосках продают что-то одно - мясо, рыбу или молочку, и почти всегда - с обыденным здесь с национальным уклоном. Мы брали в них кумыс и быырпах (сладковатый молочный квас), чохон (масло с кусочками хлеба) и кэрчэх (замороженный десерт наподобие взбитых сливок), колбасу из оленины или жеребятины (свежие появляются осенью), не говоря уж про обычные сметану, масло (отличные) и творог (непривычно сухой). А также конфеты "Сказки Туймаады", фасовкой и вкусом подозрительно похожие на птичье молоко от "Приморского кондитера" (но как пояснили в комментах - всё-таки действительно местного производства)
2.

Рядовой общепит Якутска в лучшем случае зауряден, и не пишу "плох" лишь потому, что толком с ним не ознакомился - заведений, куда хотелось зайти просто перекусить на бегу, я тут и не припомню. А вот рестораны Якутска - основательные, колоритные и существующие достаточно давно, чтобы стать частью городского культурного кода. Если сравнивать Якутск с Владивостоком, который для меня раз и навсегда останется эталоном города отличной еды, то здесь нет такого разнообразия: все лучшие рестораны Республики Саха так или иначе предлагают якутскую кухню. Но тем проще их сравнивать между собой, даром что качество везде достойно.
3.
В Старом городе, в реплике Мясных рядов Малого базара, со сносом реконструированных в 1998-2001 годах, обитает "Махтал" (в переводе - "Спасибо!"), в который как правило водят туристов. Но и солидные якуты в его резных интерьерах частые гости, особенно когда начинается обеденный перерыв в "Комдрагмете", "Алросе" и трёх Домах Правительства:
4.
К трапезе тут можно заказать алгыс - якутский обряд благословения, который при мне проводил молодой официант:
4а.

"Махтал" порадовал нас безупречной вежливостью персонала и качеством еды. Разочаровал - непомерно долгими ожиданиями и количеством: Якутия - из тех мест, где в обычае большие порции, но тут говорить "махтал" приходится за один кусь.
4б.

На улице Аммосова один напротив другого расположены "Река. Озеро. Лес" и "Тыгын-Дархан". Первый нам рекомендовала куратор нашего поездки (ведь я был в Якутии по линии проекта "Живое наследие" при поддержке администрации Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой), однако за вывеской с романтичным названием нас встретили такими хамским "Куда идёте? Мест нет!", что больше мы туда не заходили. "Тыгын-Дархан" же расположен на первом этаже одноимённой гостиницы, одной из лучших в Якутске, и проживая в ней, мы заходили туда не раз.
5.
На кадре выше - картина из конского волоса на рецепшене, на кадре ниже - аппликации в ресторане. Меню "Тыгын-Дархана" совсем небольшое, но разочарованы мы не были ни разу и ничем. Лишь по возвращении я узнал, что всё это держит живая легенда Якутии - Иннокентий Тарбахов. Паренёк из Уолбинского детдома, что на Татте, в 1963 году, окончив кулинарный техникум, он устроился в столовую райцентра Намцы - "столицы" соседней долины Энсиэли. Там Иннокентий Иннокентьевич и работал тихонечко, к концу советской эпохи параллельно преподавал в местном техникуме, а в свободное время ездил по Якутии да собирал рецепты - так, именно Тарбахов считается автором салата "Индигирка" из кубиков мороженной рыбы, который подсмотрел у индигирских рыбаков как сиикэй - "пятиминутку". К концу 1980-х о Намской столовой слагали легенды, а изыскания Тарбахова сложились в книгу "Якутские национальные блюда на твоём столе", которая стала своего рода каноном якутской кухни. Люди в Намскую столовую тем временем захаживали разные, и в том числе - Михаил Николаев, в 1979-85 годах Министр сельского хозяйства Якутской АССР, а в 1991-2002 годах - первый президент Республики. В 1995 году, когда была построена гостиница "Тыгын-Дархан" (название которой явно отражало его амбиции!), Михаил Ефимович и пригласил Тарбахова шеф-поваром её ресторана, а год спустя Иннокентий Иннокентьевич открыл ещё и свою кулинарную школу. В свои 79 лет он по-прежнему в строю - теперь как бренд-повар "Тыгын-Дархана" и ещё одного ресторана "Седьмое небо" (куда мы не захаживали): кухнями в обоих руководят его ученики, а сам Мастер-повар контролирует качество. И контролирует, по моим впечатлениям, вполне.
6.
"Муус-Хая" на краю центра назван в честь горы на хребте Сунтар-Хаята, официально высшей точки Якутии (2959 или 3011м), хотя в других источниках эту роль у неё оспаривает гора Победа на хребте Черского (3001м или 3147м).
7.
Огромный и состоящий из множества залов на двух этажах, этот ресторан славится своими бизнес-ланчами, ради которых нам и советовали сюда зайти. Ланч, увы, не впечатлил, но зато несказанно понравилась другая местная "фишка" - мороженное типа эскимо на основе кэрчэха.
8.
Сами якутяне лучшим местом города считают ресторан "Каре", почти не известный туристам. Да и якутская кухня в нём - лишь одна страничка из меню, но с парой блюд, которые я в других местах не видел, и безупречным качеством. Тут мы посидели вечерок в очень хорошей компании. Интерьеры "Каре" запомнились люстрой с сюжетами Севера:
9.
Но в общем мой список явно не полон, а ещё пара-тройка мест будет дальше по ходу рассказа.
10.
На кадре выше - самая окраина Якутска, которую за удалённость и проходящий рядышком Вилюйский тракт я прозвал Вилюйской ссылкой. На ДИП АГИП (Департамент информационной политики Администрации главы и правительства) Якутии мы свалились как снег на голову менее чем за месяц до приезда. Приезд же наш выпадал на Ысыах - крупнейший национальный праздник в России, на который в 2022 году, по жаре да впервые после ковида, съехалось 300 тысяч человек при миллионом населении Якутии. Словом, с гостиницами тогда был аншлаг, и если в другие дни нас поселили в шикарном "Тыгын-Дархане", то тогда в нём попросту не было мест. Так нашим приютом стал "Абырал" - тихий санаторий на окраине, забытый и ветхий, как его постояльцы. Здесь администраторы уходили после обеда, слова "вай-фай" не слышали ни гости, ни хозяева, но когда нам понадобилось постирать бельё - нас не только допустили к стиральной машине в подвале, но и позвали двух рабочих с дрелью, которые ввернули на балконе анкера для бельевой верёвки.
11.
Некогда "Абырал" явно имел свою территорию, но теперь это просто сквер, одинокий памятник в котором напоминает, что прежде заведение называлось Санаторием имени Чкалова. В двухкомнатном люксе, советский облик которого давно воспринимается как милый винтаж, мы прожили около недели, и выучили наизусть все виды из окна автобуса №7, которым до центра ехать что-то вроде 40 минут.
11а.

"Абырал" расположен на Сергеляхском шоссе, которое не ведёт в Сергелях, а, выписывая на карте полумесяц, нанизывает на себя этот обширный район западных окраин Якутска. Тут стоит сказать, что хотя дореволюционный Якутск размером и этажностью не сильно отличался от нынешних Тотьмы или Чердыни, всё же лето в земле Саха слишком короткое и прекрасное, чтобы проводить его даже в таком городке. Испокон веков и якуты, и сибиряки выбирались по теплу на таёжные заимки, пока купец-старовер Пётр Кушнарёв из заречного Павловска не прослышал про новую моду Европейской части - дачи. И построил себе загородный домик на длинном и причудливо извилистом озере Сергелях. Вскоре к нему присоседился якут Василий Никифоров, чей сын Гавриил позже вошёл в историю как единственный среди людей саха купец I гильдии. К началу ХХ века дачный посёлок разросся так, что в нём срубили Петропавловскую часовню, которая, конечно, не пережила советских времён.
12а.

"Абырал" же стоит буквально на месте Архиерейской дачи:
12б.

Купцов сменили старые большевики, тех - красные директора и национальная интеллигенция, затем - бизнесмены, бандиты и чиновники-силовики: любой якутянин, проезжая Сергелях в компании москвича, без раздумий скажет, что здесь - якутская Рублёвка.
12в.

Впрочем, действительно богатые дачи стоят, видимо, в стороне от Сергеляхского шоссе - мы увидели тут не кричащую роскошь, а просто очень уютный район среди сосен.
12.
Где вдруг обнаружился самый настоящий дацан! В прошлой части я показывал костёл и армянскую церковь и упоминал мечеть, но вот буддийские храмы в России за пределами буддийских регионов - редкость. Однако не зря якуты и буряты, - два крупнейших коренных народа Сибири, - возникли от общего корня прибайкальских курыкан. Странная связь, то ли притяжение, то ли соперничество, между ними ощущается и ныне, и даже на одной из пресс-конференций Ысыаха выступили две нарядных бурятки, пригласивших всех на Сурхарбан. Сказывается и то, что Бурятия - один из беднейших регионов России, а в Якутии хорошие зарплаты, да и цены не так страшны, если зарплаты эти увозить на юг. Бурят в Якутске много, из аэропорта раз в неделю летает прямой рейс в Улан-Удэ, а самым интересным неякутским общепитом города я бы назвал кафе "Кочевник" на улице Дзержинского, судя по набору блюд вроде аарсы основанную выходцами с Аги. Цены там скорее московские, а качество на уровне лучших заведений Бурятии. Ну а где позная - там и дацан: буддийская община "Лотос" с 2009 года строит свой храм на окраине. Видели мы его, увы, только наглухо запертым, но так бывает явно не всегда - по словам знакомых путешественников, буддийская жизнь во главе с Дандар-ламой тут бьёт ключом:
13.
Через пару километров, под сопкой, увенчанной трубами Якутской ГРЭС-2 (2017, 168 МВт), Сергеляхское шоссе соединяется с Вилюйским трактом. Последний выглядит совсем иначе - ведёт сюда из центра по прямой, но сплошь через промзоны, оптовые базы и стройки. Вокруг перекрёстка - важнейшие достопримечательности этой окраины: Царство вечной мерзлоты, Чочур-Муран и Ытык-Хая.
14.
С последним познакомиться мы банально не успели, и всё же я зашёл сюда на пять минут хотя бы для галочки. В путеводителях этот уголок часто значится как "Ытык-Хая (Три Мамонта)", и хоть немного понимая в тюркских языках, нетрудно догадаться, что это не перевод, а два разных названия: Ытык-Хая с якутского - Священная гора. Третье название - Усадьба Атласовых, и безжалостный "Ермак Камчатки" тут не при чём: создатели всего этого великолепия - вполне себе якуты, супруги Владимир и Валентина Атласовы. Всё началось в 1989 году с командировки в Соединённые Штаты, частью которой стал кантри-тур с погружением в жизнь американской глубинки. Вернувшись домой, тёзка казака решил воплотить что-то подобное - но только с якутским колоритом. Начинали Атласовы с сельского туризма, открыв в 1996 год этнокомплекс "Сото" близ райцентра Майа, в лихие 1990-х сменили несколько проектов, по сути просто набираясь опыта, и вот наконец в 1999 на окраине Якутска обосновались Три Мамонта.
15.
Посещать их, конечно, надо не так, как это сделал я: тут есть ресторан, этномузей и талисман с валуном в виде сердца со дна Лены, но как ни странно, хороших фоторассказов об Усадьбе Атласовых я не видел.
15а.

Для неподготовленного человека главным впечатлением Ытык-Хая становится, конечно же, ВОТ ЭТО:
16.
Третье имя в усадьбе - скульптор Владимир Аргунов из Намского улуса, и прежде с началом морозов превращавший Трёх Мамонтов в парк ледовых скульптур. Летом 2015 года он украсил Ытык-Хая огромными фигурами мамонта, Быка Зимы и дракона, в которых не менее размера впечатляет материал. Я пытался понять, что это, и заподозрил грешным делом даже балбах (кизяк), а оказалось, что Аргунов использовал дулгу - травяные болотные кочки!
17.
Надеюсь, подробнее об Ытык-Хая я расскажу в следующий раз, а пока навестим соседей - Этнографический комплекс "Чочур-Муран". Главный въезд в него - с Вилюйского тракта, а вот такой вид нам открылся с Сергеляхского шоссе. Обрыв на заднем плане - это, как вы догадались, сама Священная гора. За её край уходит Вилюйский тракт, а примерно под тропкой на склоне - входы штолен старого мерзлотника (природной "морозилки"), в которых с 2005 года обитает Царство вечной мерзлоты.
18.
Впереди начиналось длинное озеро, и поленившись его обходить, мы попали на узкую дорожку среди комариных топей, прямо по тине которых сновали очаровательные кулики. Тропа привела нас к калитке на заднем дворе...
18а.

...за которой начинается царство Германа Арбугаева - ещё одной живой легенды Якутии. В далёкие позднесоветские времена окончив биолого-географический факультет ЯГУ, он уехал с супругой Ириной преподавать в Тикси. Однако бескрайняя глухая земля так и манила воплотить свои биолого-географические знания на практике: после 10 лет на краю земли, с крахом Союза, а с ним и перспектив на Северах, Герман Прокопьевич вернулся в Якутск матёрым охотником. С ружьём и удочкой он объехал всю Якутию, добывал тайменя в быстрых реках, оленя в бескрайней тундре, волка в тёмной тайге, снежного барана на высоких скалах. Арбугаев стал тем человеком, что всегда мог ответить "места надо знать!", и на охоту с ним всё чаще напрашивались сперва друзья, потом друзья друзей, потом большие люди... К концу 1990-х Герман Прокопьевич счёл, что за такое дело можно и деньги брать, и в 2002 году основал компанию "Арктик-Трэвел" с репертуаром от катания на собачьих упряжках близ города до сплавов по труднодоступной реке Оленёк. Реки Якутии же со времён русской экспансии и продвижения самих якутов на север делились на "оленные" и "собачьи": у первых на берегах было удобнее копытить оленям, а во вторых лучше ловилась подлёдная рыба для собак. В особенности Собачьей рекой слыла Индигирка, так что вплоть до советских времён это почти официальное было её второе название. И вот в Русском Устье (см. здесь), в забытой до 1940-х годов колонии новгородских ушкуйников, поселившихся на этих берегах ещё до Ермака, Арбугаев приметил чистокровных ездовых якутских лаек. В 1995-98 годах он вывез оттуда 12 собак и организовал для них питомник в Якутске, на основе которого в 2005 году был утверждён стандарт этой породы. С тех пор лайки множатся, и теперь их порядка 6000. Сам Герман Прокопьевич теперь не только заводчик, но и каюр: в 2009 году он выдержал знаменитую "Беренгию" - гонки на собачьих упряжках, в тот год проходившие на 950-километровом маршруте по 15 камчатским сёлам. Упряжка Арбугаева пришла последней - якутским лайкам, всю селекцию которых определял лютый мороз, на тёплой сырой Камчатке оказалась слишком жарко. Поэтому дальше Герман Прокопьевич устраивал уже свои собственные экспедиции, крупнейшей из которых стала "Путями первопроходцев" - в 2013 году 5 человек (из которых три Арбугаева - Герман, его сын-режиссёр Максим и дочь-журналистка Евгения) на двух упряжках по 12 и 10 собак под началом бывалых каюров москвича Максима Любавина и якутянского эвена Михаила Кульбертинова отправились из посёлка Юкагир близ устья Яны по Новосибирским островам. В 2016 он вновь побывал там - теперь на катамаране от Тикси до Чокурдаха в рамках съёмок документального фильма "Великий Северный путь". Ну а в 2005-м Герман и Ирина открыли ресторан.
19.
Точнее говоря, ресторан-музей с десятком построек. Вот его сайт, где есть описания отдельных объектов. С болот за калиткой мы попали во двор у амбара Мигалкина (реплика утраченной постройки в Якутске)...
20.
...и здоровенного здания с мезонином, обозначенного на сайте как "двухэтажный дом якутских зажиточных скопцов 18 века". Ну, о том, что скопцы - это секта, решавшая проблемы плотских искушений самым радикальным способом, я рассказывал прежде не раз, особенно подробно - в Олёкминске. А зажиточными были они потому, что не имея возможности размножаться, наследовали имущество каждого адепта всей общиной. Оказавшись ссыльными в Мархе близ Якутска и Спасском селении близ Олёкминска, скопцы совершили в суровом краю настоящую аграрную революцию, и потому их здесь уважают, понимая, что не анатомия делает мужика мужиком. Вот только при чём тут 18-й век? В это время основатель секты Кондрат Селиванов только-только размежевался с хлыстами между Орлом и Тамбовом, а в Якутию "белые голуби" прилетели не по своей воле лишь в 1861 году. Но их совсем не якутские по духу дома с резными наличниками, высокими потолками, огромными подклетами, идеально подогнанными брёвнами без прокладки - действительно выглядели так.
20а.

Не догадались мы заглянуть в Дом Учителя, как называется вон та башенка слева: он был построен в 2016 году для подаренной Арбугаеву коллекции сестер Расторгуевых из 200-летней династии потомственных педагогов. Там же, видимо под двускатной крышей - Дом каюра, представляющий собой зал славы якутских лаек. Оба окружает забавный дворик с наличниками на заборе, которые, увы, не разглядеть издалека:
21.
С другой стороны, на фоне необычно расположенной двумя террасами Якутской ГРЭС-2 - ещё пара домиков и амбар:
22.
Увы, про них я не нашёл никакой информации:
23.
На поляне перед рестораном, меж двух длинных озёр, есть ещё якутский балаган (зимний домик), свадебный салон со стеклянными стенами, мангальная зона и целый музей старинной сельскохозяйственной техники:
24.
Поставки которой в своё время наладил Иван Крафт, за 5 лет своего губернаторства (1907-13) положивший конец явно подзатянувшемуся в Якутии 18 веку.
24а.
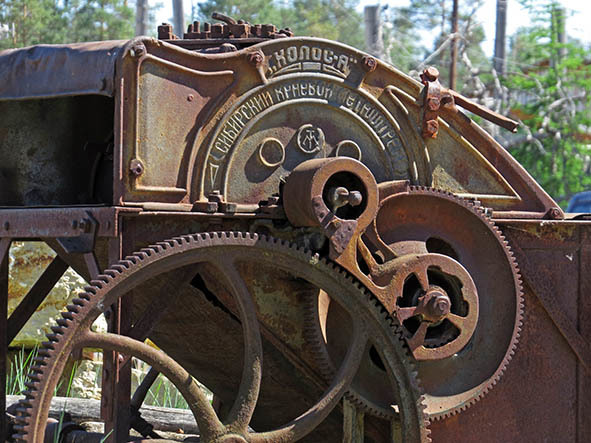
На полпути - вертолёт Ми-8, "рабочая лошадка" отечественного неба (в таком даже я сам летал четырежды!), судя по скульптурам у хвоста поставленный в память о вывозе лаек из Русского Устья:
25.
Три башни, олицетворяющие потерянный в ХХ веке якутский острог - это и есть основное здание ресторана. Все остальные постройки арендуются, а сюда можно просто зайти и поесть, главное чтобы свободные места были.
26.
А в ожидании заказа или свободного столика можно побродить по музею, который тут всамделишный музей. В кадре выше - ямские колокольчики и чепрак якутского коня, а вот - настоящие обломки "Аэрокобры", разбившейся в глухой тайге на трассе АлСиба (см. прошлую часть).
26а.

Статуэтки из мамонтовой кости (около корабля) и сурэх - нагрудный крест, у якутов с их традициями серебряной ювелирики ставший в 18-19 веках популярным женским украшением.
27.
Справа от входа - Малый зал с чинным интерьером купеческой гостиной:
28.
Слева можно полюбоваться коллекцией ружей (старейшие - 18 века) и собственным трофеями Германа Арбугаева:
29.
Из легендарной добычи на кадре выше снежный баран с Сунтар-Хаяты, а ниже - таймень, всем своим видом оправдывающей прозвища "северный крокодил" и "речной тигр":
30.
На втором этаже - трофеи палеонтологов: мамонтёнок, шерстистый носорог, морж, бизон, большерогий олень... однако называется это всё Зал Бабочек:
31.
С выходом на летнюю террасу:
32.
На третьем этаже музейная сущность окончательно побеждает ресторанную:
33.
Тут есть эвенкийский чум, ещё больше ископаемых костей:
33а.

И инвентарь экспедиций времён Олега Куваева:
34.
Отдельное украшение "Чочур-Мурана" - меню, а вернее - картинки внизу каждой страницы:
35.
Меню "Чочур-Мурана" обширно, и многое в нём мы не видели в других местах: например, хаса (строганина из брюшины жеребёнка), тансык (свежемороженные мясо и печень жеребёнка, измельчённые с жиром, луком и приправами), салаты "Ючюгей" (с говяжьим сердцем) и "Ямщицкий" (с ветчиной из жеребятины... которую, как и оленью, кстати, можно и купить с собой), не говоря уж про типичные для якутской кухни ойогос, саламат или салат "Индигирка". Отдельная "фишка" - современные вариации традиционных блюд: если в Ингушетии годом ранее я ел кукурузный бургер, то здесь подают бургеры с жеребятиной или олениной. Цены в "Чочур-Муране" вполне московские, качество отличное, порции большие, а главным впечатлением для нас стал "чай таёжный" из трав, включая рододендрон золотистый с какой-то секретной делянки за Верхоянским хребтом. Неимоверно вкусный, чай оставался таковым даже на третью заварку, а дальше у нас кончился объём:
36.
Так что и хорошо, что мы пришли в ресторан лишь со второй попытки - на первый раз не оказалось мест, и договорившись о столике через пару часов, мы решили обойти длинное озеро и подняться на вершину Чочур-Мурана:
37.
Как уже говорилось, со стратегической высотой над крупнейшей якутской долиной не могло не быть связано легенд и преданий. Согласно "Олонхо", здесь Эллэй-боотур (тюркский первопредок якутов) играл свадьбу с дочерью Омогой-бая (тунгусского первопредка якутов), и свадьба эта стала первым Ысыахом. Выгнав из Туймаады эвенков по итогам войны трёх поколений, сюда любил подниматься Тыгын-Дархан и глядеть вдаль, на земли саха, из которых пытался собрать единое государство. В легендах некая шаманка обратилась птицей да полетела отсюда в Якутский острог, чтобы усмирить русских воевод, измучивших якутов своим произволом. Теперь на вершине - сосновый бор и поляны, среди которых - беседки, мангалы и смотровые площадки: народ тут явно любит отдыхать. Но при всём том - безукоризненно чисто: уж не знаю, это якуты такие сознательные или Арбугаев следит. С площадок отличные виды на город и тайгу, подступающую по сопкам:
38.
Под сопками тянется длинное озеро Чочур-Муран, в котором сложно не разглядеть остаток древнего русла Лены:
39.
Тут бы самое место лодкам, но лодки мы видели только в траве. В июне главный минус этого озера - странные зелёные комары, которые кусаются очень больно и выдерживают удар ладони, пружиня, словно резиновые:
39а.

"Абырал" отсюда почти не просматривается, как-то теряясь среди неприметных домов, но хорошо видна жёлтая крыша дацана. Строго над ней за дачами Сергеляха виден белый покатый корпус Института мерзлотоведения (1962) и огромные новые здания Национального центра медицины:
40.
"Чочур-Муран" на перешейке меж озёр на фоне промзон Вилюйского тракта. "Ытык-Хая" - поляна у кроны сосны:
41.
Неопознанные домики за её стволом:
42.
Свадебный зал и балаганчик, поставленный, между прочим, в 2021 году к 65-летию Якутского университета как памятник его первому ректору Авксентию Мординову:
43.
Корпуса Северо-Восточного университета (как с 2010 года называется ЯГУ) - где-то там, за башней Дворца спорта "Триумф" (2012) над озером Сайсары. На его берегу была ставка Тыгын-Дархана, роль которой чуть поодаль и продолжил Якутский острог, перенесённый в 1642 году с правобережья - всё это я показывал в прошлой части. Дальше виден Зелёный Луг, остров Хатыстах за Городской протокой и только за ним - русло Лены, огромную ширину которого издали сложно понять. Ну а за Леной, в 18 километрах от нас - Нижний Бестях, из которого расходятся все без исключения наземные дороги за пределы Республики (их немного - трассы "Колыма" и "Лена" и железнодорожная Амуро-Якутская магистраль) и виден спуск к началу переправы.
44.
Левее - центр Якутска с телевышкой (1988), которая между прочим высочайшее в мире рукотворное сооружение на вечной мерзлоте (224м). Бизнес-центр 2000-х годов с зубчатой верхушкой же вполне может быть высочайшим на мерзлоте зданием - в бурно строящемся городе пока никто такое не определял.
45.
Сверху хорошо видно, что Якутск тянется узкой полосой вдоль поймы, и в общем со всеми присоединёнными посёлками и выросшими вокруг микрорайонами (ведь это один из самых быстрорастущих городов России - со 190 до 340 тыс. жителей за постсоветские годы) он вытянулся уже на 30 километров.
46.
Ширина же города в этом месте доходит до 8 километров, но большая их часть - лишь дачи да промзоны. У ГРЭС-2 живописны сплетения труб:
47.
А странное сетчатое сэргэ у подножья - как я понимаю, остатки альтернативного Царства вечной мерзлоты, которое пытались обустроить "Ытык-Хая".
48.
Между сопок уходит Вилюйский тракт, и он манит. Через 600 километров там будет старинный уездный Вилюйск, где по воле "сатрапов царизма" великим земляком стал Николай Чернышевский, а рядом в 1890-х держала лепрозорий неравнодушная англичанка Кэт Мардсен. Ещё через 200 километров - городок Нюрба, выросший из села на спущенном по каналу аласе, в 1952 году ставший базой Амакинской геологической экспедиции. Дальше - райцентр Сунтар, в 60 километрах от которого тайга скрывает солёную гору Таас-Туус и внезапные среди мерзлоты горячие источники. Село Тойбохой примечательно тем, что тамошние учитель биологии Георгий Бессонов в 1935-2005 годах основал 12 музеев и Ботанический сад. В Крестяхе у последней из нескольких переправ через Вилюй в 1870-73 годах батюшка Иван Невский из Вилюйска пытался основать монастырь там, куда река вынесла крест с размытого кладбища, а в 1949 году геолог Григорий Фейнштейн нашёл на Соколиной косе первую алмазную россыпь. В 1170 километрах от Якутска трасса приводит в Мирный - Алмазную столицу России, где за достопримечательность теперь бездонная воронка исчерпанной кимберлитовой трубки "Мир". Добраться туда было бы проще из Ленска - всего 220 километров по трассе "Анабар", которая хоть до Анабара и не доходит, а всё же тянется ещё на 400 километров за Мирный - к двум Вилюйским ГЭС на одной дугообразной плотине и алмазным карьерам заполярных Удачного и Айхала, которые и дают теперь большую часть российской добычи. Но если этим летом я пересёк Якутию по Лене с юга на север, почему бы не пересечь её когда-нибудь с запада на восток, по Вилюйской и Колымской трассам? И может быть я въеду вот этой дорогой в Якутск и сразу, не снимая рюкзака и пыльных шмоток, пойду отмечать завершение пути у Арбугаевых или Атласовых...
49.
Суммарно я провёл в Якутске пару недель, но всё же и тут остались пробелы вроде художественного музея или озера Сайсары. Вместе с окрестными посёлками вроде Магана, Жатая или Кангаласс этого наберётся и на 7-ю часть. Ещё, конечно, надо будет съездить на Синские столбы, мимо которых я так досадно пролетел по пути из Олёкминска (ссылка ниже). Но дальше вниз по Лене отправляться пока рано - у нас впереди ещё вояж по кондовой якутской глубинке Заречных улусов. Начнём его в Соттинцах - музее деревянного зодчества примерно там, где Якутск стоял первоначально.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майа.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Окрестности Черкеха.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.
|
Метки: Якутск якуты Сибирь дорожное Якутия буряты деревянное |






