В поисках Беловодья - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Усть-Илимск. Часть 2: Старый город и ГЭС |
Старый город Усть-Илимска - в России (если не в мире!) самый молодой. Тут нет не то что брусчатых мостовых и узких кривых улочек, тут даже сталинок искать не стоит! Просто два берега Ангары в Городе Четырёх Всесоюзных Комсомольских Строек заселялись независимо друг от друга с разницей в 7-8 лет, и если показанный в прошлой части Новый город возведён в 1980-х, то Старый город - в 1970-х годах. Там же, в прошлой части, я показывал три стройки из четырёх, а на сегодня оставил главную и исходную среди них - грандиозную Усть-Илимскую ГЭС.
Несмотря на заголовок, начнём сегодняшнюю прогулку в самом что ни на есть Новом городе, который вместе с подходящей с юга железной дорогой и уходящей на север линией таёжного трамвая просто не влез целиком в прошлую часть. На отвечающем за главную площадь Усть-Илимска перекрёстке проспекта Мира с улицей Мечтателей вдоль последней спускается Аллея Славы - чуть облагороженный участок тайги, росшей здесь до постройки всех этих микрорайонов.
2.
С севера к аллее прилегает микрорайон №2 Берёзовая роща - таковая правда скрыта в его глубине за домами, но мы до неё не дошли.
2а.
На Аллее Славы примечательны часовня иконы "Взыскание Погибших" (1998), крест-памятник жертвам репрессий, одинокий Солдат-Освободитель (2018) в дар от местного предпринимателя Ильи Шавырина...
3.
...и всякие танки да пушки, изготовленные за десятилетия до основания Усть-Илимска:
4.
Аллея упирается в воинский мемориал (1985):
5.
За которым мы вышли на улицу Карла Маркса. Она в Новом городе одна из трёх осей, идущих параллельно Ангаре в паре километров от берега. Но если средний проспект Мира - очевидная главная улица, а верхний проспект Дружбы Народов - тихие задворки у трамвайных путей, то нижняя улица Карла Маркса - объездная:
6.
За ней стоят уже не микрорайоны, а коттеджные посёлки в лесу над Ангарой, среди которых, напротив Берёзовой Рощи, высится храм Всех Святых, в Земле Российской Просиявших (1994-2002). Вокруг него - целый квартал приходских построек, напоминающих своей архитектурой то уездные домики среднерусских губерний, то коттеджи доброй старой Америки.
7.
Здоровенный собор довольно обычен снаружи:
8.
Но куда больше он впечатляет внутри. Причём - не только убранством: вот эта женщина шла не отругать нас за фотосъёмку без благословения, а поприветствовать от лица батюшки и показать, что ещё тут достойно попасть в кадр.
9.
Я бы сказал, создателям этого собора вполне удалось воссоздать атмосферу средневековых церквей Золотого Кольца:
10.
Особенно хороши царские врата, словно оставшиеся от какой-нибудь разрушенной церкви в зоне затопления Рыбинской ГЭС.
11.
За храмом мы вышли на улицу Героев Труда - перпендикулярная проспектам, она ограничивает с севера Новый город, за улицей Карла Маркса спускаясь к Ангаре. Здесь мы набрели на курорт "Русь", построенный в 1980-х годах для сотрудников Усть-Илимского лесоперерабатывающего комплекса:
12.
Своему названию он пытается соответствовать репликой стены Илимского острога:
13.
О старинном Илимске, который стал в 17 веке ключом от Восточной Сибири, а затем зачах, проиграв конкуренцию с Иркутском, я рассказывал в ближайшем к нему городе Железногорске-Илимском. Подлинные Спасская башня (1667) и Казанская церковь (1679) острога, украшенные местным воеводой Иваном Гагариным по образцу царского дворца в Коломенском, в 1969-73 годах были перевезены в Тальцы - музей деревянного зодчества около Иркутска. И сейчас уже совсем не очевидно, что именно Усть-Илимская стройка стала причиной создать тот музей.
13а.
За время расцвета старого Илимска вокруг него выросли десятки, если не сотни, русских деревень. Как в недолговечной империи Александра Македонского греки охотнее всего заселяли далёкую Бактрию, так и на заре покорённой Сибири крупнейшим центром русского переселения стала Илимская пашня - плодородные поймы среднего течения Ангары и её притоков. Именно здесь яснее всего оформился суровый, но богатый и справедливый мир сибирских старожилов, не знавших безземелья и крепостного права. И жизнь в этом мирке текла век за веком своим чередом, лишь в Гражданскую войну потревоженная бегавшими по тайге партизанами. А затем случился великий потоп, и Илимская пашня сделалась Сибирской Атлантидой: вдруг оказалось, что самое ценное на Ангаре - не плодородные поймы, а широкие пороги, прежде лишь мешавшие судоходству - ведь они открывали уникальные возможности для гидроэнергетики. Гибель Илимской пашни исчерпывающе описана её уроженцем Валентином Распутиным в романе "Прощание с Матёрой". Прежде я показывал с борта "Метеора" Братское водохранилище, 2-е в мире по объёму (169,3 км³) и 2-е в России по площади (5426 км²) - оно заполнилось в 1967 году. Но сердце Илимской пашни было ниже по течению, и накрыло его в 1974 году не столь огромное (длина 302 километра, площадь 1873 км², объём 59,4 км³) Усть-Илимское водохранилище, затопившее, как следует из названия, и сам Илим.
14а.
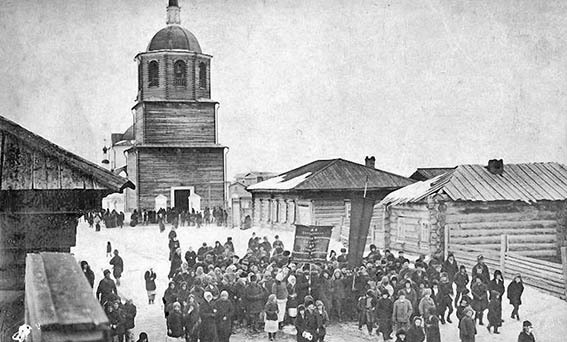
Под его водами скрыты десятки селений, в том числе, например, деревенька Зырянова - родина конструктора ракет Михаила Янгеля. Самым крупным селом дореволюционной Илимской пашни считался Нижнеилимск, основанный в 1655 году и до строительства советского Железногорска-Илимского остававшийся по сути преемником старого Илимска. Об этом напоминала Покровская церковь (1804-09) в традициях сибирского барокко:
14б.

Но подавляющее большинство нижнеилимских церквей строились в 1860-90-е годы и были почти типовыми - три сруба "волной", как в церквях Украины, да пирамидальная кровля на среднем. Вот едва ли не первая среди них (1853) церковь Кирика и Улиты в устье Тубы:
14в.

От курорта "Русь" рукой подать до простора водохранилища:
15.
Который ограничивает собственно Усть-Илимская ГЭС. В отличие от гидроэлектростанций в Братске и Иркутске, по совместительству являющихся мостами, она - строго режимный объект с собственной частью ПВО, и на гребень её посторонних людей не пускают.
16.
Мы направились вниз вдоль Ангары, надеясь увидеть плотину с фасада. Из леса к обочинам дорог то и дело выходит заброшенная железная дорога, по которой в годы стройки возили материалы и технику:
17.
Плотина нависает над дачами, и согласитесь, контраст её облика сверху и снизу поразителен:
18.
Вот только спуск к Ангаре и здесь преграждает промзона. Мимо дач мы продолжили путь:
19.
В какой-то момент мы обнаружили тропку, которая приводила к чрезвычайно крутому (пришлось карабкаться) спуску на каменистый берег у давно разгладившихся перекатов. Отсюда, пусть и в контровом свете, я увидел Усть-Илимскую ГЭС от края до края:
20.
Длина бетонной плотины - 1475м, высота - 105 метров от дна реки и около 90 над поверхностью. Называться же ГЭС вполне могла бы, например, Карапчанской или Невонской: в устье Илима её строить планировалось первоначально, но к 1960 году, после многочисленных доработок, проект было решено перенести на 20 километров вниз по течению. Выбор места определил Толстый мыс (он же - Толстый Бык), глубоко вклинивавшийся в течение Ангары и создававший в узком месте многочисленные перекаты. На кадре выше он прекрасно виден справа, а при взгляде с верхней стороны плотина кажется существенно длиннее - естественные скалы получили здесь рукотворное продолжение.
21.
Напротив места, откуда я фотографировал плотину, над рекой висит Старый город:
22.
Единственный мост (770м, 1969-73) соединяет два берега Ангары у следующего мыса в 3,5 километрах ниже ГЭС:
23.
Издалека не заметно, что у него есть и параллельная железнодорожная часть, оставшаяся всё от той же заброшенной ветки:
24.
За мостом и дальше тянутся рощи, промзоны и пустыри: логистически Усть-Илимск - это действительно два разных города совсем не в пешей досягаемости друг от друга.
25.
От места, откуда мы любовались ГЭС, до ближайших автобусных остановок идти выходило немногим меньше, чем до самого моста, но нас подобрала машина с обаятельной четой эвенков-протестантов, с далёкими таёжными корнями, но совсем обрусевших и городских. Они ехали куда-то в сторону Братска, а нас довезли до начала дамбы у основания Толстого мыса. Ещё полчаса пешком - и мы взошли на его вершину. Осмотримся с неё против часовой стрелки - каждый следующий вид левее предыдущего:
26.
За плотиной - необозримые просторы воды с парой мелких островков, уж не знаю почему известных устьилимчанам как остров Дураков и остров Надежды. Заливающие плодородные, но прозаичные низины, водохранилища среди гор всегда чарующе красивы, и здесь не хочется думать о скрытых в донном иле фундаментах изб, подклетах церквей, позабытых могилах...
27.
Вдали на сопках виден Новый город:
28.
Центр которого с красным корпусом курорта "Русь" и характерным скайлайном 14-этажных "свечек" просматривается ниже плотины:
29.
Из проекта которой и выросли Четыре Стройки Усть-Илимска: тогдашний СССР не полагался на вахтовиков, и для обслуживания плотины был нужен город, для подвоза стройматериалов и оборудования - железная дорога, а ещё для чего-нибудь полезного народному хозяйству сгодились бы электроэнергия и вода. Подготовительные работы на месте будущей ГЭС начались в 1963 году, а в 1968 году в строящуюся плотину был уложен первый кубометр бетона. В том же году посёлок строителей стал ПГТ, а к 1973 году - и городом Усть-Илимском. В 1968-74 годах от станции Хребтовая на Старом БАМе была проложена железная дорога длиной 214 километров, а в 1973-79 годах - сооружена первая очередь лесоперерабатывающего комбината. ГЭС же была из четырёх строек не только исходной, но и самой долгой - в 1974 году она дала первый ток, но лишь к 1980 году были введены в строй все 16 гидроагрегатов.
30.
С мощностью 3840 МВт Усть-Илимская гидроэлектростанция стала 4-й в России после Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС на Енисее и Братской ГЭС выше по Ангаре:
31.
На линии плотины Новый город заканчивается, а в 10 километрах далее, образуя с двумя районами Усть-Илимска почти правильный треугольник, раскинулась промзона. Слева - Северная ТЭЦ (1989, 525 МВт) с 250-метровой трубой, справа - лесоперерабатывающий комбинат. Он мог бы при ином раскладе стать крупнейшим в России: производство бумаги тут запустить не успели, а вот по товарной целлюлозе УИЛПК обеспечивает чуть ли не пятую часть производства в стране. Кислую органическую вонь несёт куда-то в другую сторону, а вот шум слышен даже здесь. Из Нового города к подножью цехов ведёт сквозь тайгу линия скоростного трамвая, которую я показывал в прошлой части.
32.
Но город, плотина, промзона - всё впечатляет не так, как красавица-Ангара в почти что естественном русле:
33.
Вдали река уходит за образующую ещё один мыс Невонскую сопку, буквально за которой начинается следующее Богучанской водохранилище, чуть превосходящее Усть-Илимское море размером (длина 375км, площадь 2326 км², объём 58,2 км³). Оно поглотило остатки Илимской пашни уже в 21 веке - начатая в 1974 году, Богучанская ГЭС у Кодинска в Красноярском крае встретила распад СССР в состоянии 60%-готовности и закончена была в 2006-14 годах. По мощности (3600 МВт) она в России пятая после всех перечисленных парой абзацев выше, ну а мне в 2015 году удалось побывать на ней в блог-туре "Русгидро". Пятой ступенью Ангарского каскада должна стать Мотыгинская ГЭС (1100 МВт) в сотне километров выше устья, но до реального строительства там дело пока не дошло. В совокупности же Ангара - самая зарегулированная гигантскими плотинами и самая загрязнённая промышленными стоками российская река после многострадальной Волги. И разве что судоходства здесь почти нет, кроме лесовозных барж, запертых между плотинами...
34.
Левее просматривается Невон - известное с 1689 года село (2,2 тыс. жителей), близ которого и вырос Старый город:
35.
Среди его крыш можно разглядеть Троицкую церковь (2012) - преемницу храма Иннокентия Иркутского (1877):
35а.

Напоследок погуляем по Старому городу, живописно и беспорядочно раскинувшемуся на склоне:
36.
При всей абсурдности временных рамок, Старый и Новый города Усть-Илимска удивительно соответствуют аналогичному разделению в Европе: первый построен хаотично, извилисто и плотно, второй - просторно, логично и по красивому плану. А если так - то важно ли, 7 или 700 лет их разделяют?
37.
Интересных зданий тут почти нет, но попадаются приятные детали:
38.
Центром Старого города служит Ромашка, как называют устьилимчане сквер с характерным узором бордюров. Который, впрочем, можно оценить лишь из окон многоэтажек, а не с земли.
39.
Но если это Старый город - тут, конечно же, должен быть Кафедральный собор!
40.
Его роль выполняет Дворец культуры энергетиков имени Ивана Неймушина (1982), руководившего ангарским гидростроем в годы основания УИГЭС.
41.
Здесь, в отличие от ДК "Дружба" в Новом городе, коронавирусные ограничения почему-то не мешали фотографировать: на двух этажах дворца расположились выставка и ярмарка. Роль иконостаса в этом кафедральном соборе выполняет роскошная мозаика "Молодёжь Сибири" над лестницей:
42.
На кадрах выше - её средняя часть, на кадрах ниже - крайние. Но судя по проработанности лиц и несовершенству фигур, у изображённых людей были реальные прототипы:
43.
На втором этаже обнаружилась небольшая этнографическая выставка о народах Байкала:
44.
Но она ничем не удивляет после Усть-Орды и Ольхона:
45.
Последняя достопримечательность Старого города - стела Четырёх Великих Строек на самом выезде перед витражным крестом. Вдаль уходит Братское шоссе, и надо заметить, звучит это словосочетание примерно как "шаурма на Петроградке": иркутяне очень гордятся тем, что для дорог в их топонимике используется устаревшее слово "тракт". Всё это наводит на мысль о некой чужеродности Усть-Илимска своему региону, и принадлежности его не столько Иркутской области, сколько Байкало-Амурскому миру.
46.
Этим шоссе, благополучно проспав утренний автобус, мы доехали в Братск на попутках - до него порядка 270 километров, а хороший асфальт заканчивается недалеко. Если Усть-Илимск казался после байкало-амурской глуши мегаполисом, то Братск - и вовсе центром мира, что не перебивала даже целлюлозная вонь. Поужинав в переполненном "Шашлыкоффе", мы ушли ночевать, а на утро уехали вверх по Ангаре скоростным "Метеором". Так закончился наш первый байкало-амурской вояж, так заканчивается серия о двух поездках разных лет по величественной магистрали, в новых реалиях становящейся "дорогой жизни" страны.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Старый БАМ (восток)
Ванино
Комсомольск-на-Амуре.
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Лена-Восточная.
Усть-Кут.
Старый БАМ (запад)
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск.
Тайшет.
Эпилог. "Метеор" Братск - Иркутск.
|
Метки: природа Усть-Илимск Иркутская область дорожное индустриальный гигант |
Усть-Илимск. Часть 1: Новый город и железная дорога |
Усть-Илимск - крупный по таёжным меркам (80 тыс. жителей) индустриальный город в Иркутской области, к северу от Байкало-Амурской магистрали. Формально он никак не связан с БАМом, а фактически - абсолютно органично смотрится в его контексте, так как создавался теми же методами, в ту же эпоху и в такой же пустынной тайге. Тогда Усть-Илимск называли Городом Четырёх Всесоюзных Комсомольских Строек - имея в виду сам город, железную дорогу к нему, лесоперерабатывающий комплекс и ГЭС. Сегодня осмотрим первые три: Ангара делит Усть-Илимск на Старый и Новый город, и вот к последнему с юга подходит железная дорога от показанного в прошлой части Железногорска-Илимского, а на север уходит колоритный таёжный трамвай до промзоны.
Мощные пороги, веками осложнявшие на Ангаре любое судоходство, заиграли новыми красками во второй половине ХХ века, когда советская власть научилась строить огромные гидроэлектростанции. Третьим звеном Ангарского каскада после Иркутской ГЭС и Братской ГЭС должна была стать Усть-Илимская ГЭС, первоначально проектировавшаяся действительно в устье Илима. Окончательно с местом её постройки определились в 1960 году, сместив его на 20 километров ниже, ну а вся школа советской экономической географии подводила к тому, что от одинокой плотины в тайге толку мало. К ГЭС надо было пристроить город тысяч на 200 жителей, всё это - связать с внешним миром железной дорогой, а электричество и воду пустить ещё на что-нибудь полезное народному хозяйству вроде лесохимии. Четыре стройки велись в тайге почти параллельно, и если первой (в 1963-м) заложена была Усть-Илимская ГЭС, то первой закончена проложенная в 1968-74 годах 214-километровая железная дорога. Она начинается от станции Хребтовая на Старом БАМе, что дотянули в 1951 году до Усть-Кута, а в постоянную эксплуатацию была сдана ровно в тот же год, когда стартовал Комсомольский БАМ. Помимо многочисленных товарняков, по ней ходит прямой поезд в Иркутск, свой причудливый маршрут аж через Тайшет преодолевающий около суток. А ещё, после электрификации в 1995 году - самые обыкновенные электрички, совершенно как те, на которых офисный планктон ездит в Москву из Балашихи. Они курсируют дважды в сутки (рано утром и в середине дня) от Коршунихи-Ангарской, что в Железногорске-Илимском, и едут на север без малого 4 часа.
2.
Утренняя электричка в сентябре отправляется ещё до рассвета, а потому мы не увидели Хребтовой - первой станции от Коршунихи на восток, где Илимская ветка отходит от Старого БАМа. Своё название станция получила от Илимского хребта - невысоко и пологого, но разделяющего бассейны двух великих рек: Енисея (Ангары) и Лены. Вдоль хребта, по ангарской стороне, и тянется линия, то и дело пересекая длинные заливы Усть-Илимского водохранилища, над которыми с утра клубился непроглядный туман. У первого из них встречает крупный ПГТ (9,5 тыс. жителей) Новая Игирма:
3.
Основанная в 1965 году, она строилась вокруг лесоперерабатывающего комлпекса, в 2010 году "прославившегося" масштабной забастовкой с перекрытием железной дороги. Тем не менее, с 1989 года, когда тут жило 13 тыс. человек, посёлок ужался даже не на треть, а значит - пилят здесь именно то, что нужно.
4.
Меньше повезло посёлку Янгель ниже по Игирме, название которого явно намекает на затопленную деревню Зырянова, откуда родом был Михаил Янгель, легендарный конструктор ракет днепропетровского "Южмаша". В посёлке его имени планировалось добывать чистый песок, но достроить комбинат в 1980-х годах так и не успели. Янгель расположен в стороне от железной дороги, а вот чуть дальше Игирмы поезд двадцать минут стоит на станции Рудногорск (3,6 тыс. жителей), тайга близ которого скрывает разрабатываемый с 1980 года второй карьер Коршуновского горно-обогатительного комбината. И про Янгеля, и про КГОК я рассказывал в прошлой части.
5.
Вагон электрички был не сказать чтобы набит битком, и всё же - многолюден: никто не ехал стоя, но и пустую лавку было не найти. Странные люди с рюкзаками, постоянно бегавшие к окнам фотографировать, конечно же порядком озадачили таёжных пассажиров, но добрый дюжий охранник в очках не то что не пытался нам помешать, а предупреждал перед красивыми местами, с какой стороны открывать окно:
6.
Самое, пожалуй, зрелищное место этой линии - Тубинский залив. Железная дорога спускается к нему крутой петлёй:
7.
И пересекает узкой дамбой:
8.
За дамбой виден посёлок Тубинский (1,9 тыс. жителей), основанный в 1989 году и не успевший обзавестись каким-нибудь ЛПК или ГОКом. С дамбы же просматривается Сибирская Атлантида, в которую превратилась стараниями гидростроя Илимская пашня. На плодородных землях в среднем течении Ангары ещё в 17 веке появились сотни русских деревень, образовавших сердце сибирского старожильчества. Теперь над ними сомкнулась вода, но в Тубинском заливе торчащие из волн древесные стволы напоминают, что ещё недавно здесь колосились поля и курились избы:
9.
Едем дальше. Подмосковный вагон странно контрастирует с пейзажем - вот скажем буквально из под насыпи мы спугнули пару лосей, в три прыжка ускакавших в тайгу:
10.
Тубинский расположен на одной линии с устьем Илима, и за ним железная дорога выходит на притоки самой Ангары. Тут местность явно повыше, и вместо длинных заливов поезд пересекает быстрые мелкие речки:
11.
В отличие от БАМовских посёлков, в подавляющем большинстве строившихся в полном отрыве от мира, Усть-Илимск вырос меж двух старых сёл Карапчанск и Невон на разных берегах Ангары. Правобережная Карапчанка в устье одноимённой речки была известна с 1699 года, и в 18 веке числилась даже не селом, а Карапчанской Нижне-Илимской слободой, чем-то вроде нынешних посёлков городского типа. Со строительством Усть-Илимской ГЭС слобода была приговорена к затоплению, но именно на сопках рядом с ней вырос в 1967 году посёлок первостроителей Северный, аналог БАМовских времянок. Он стал своеобразной перевалкой, из которой комсомольцы и вахтовики распределялись между четырёх великих строек, и в 1970 году по "своей" стройке стал ПГТ Железнодорожным.
12.
Живописно раскинувшийся на сопках, с населением 9,5 тыс. человек административную независимость от Усть-Илимска посёлок сохраняет и ныне:
13.
Станция, однако, называется Усть-Илимск. Типовой вокзальчик рубежа 1960-70-х годов примечателен совершенно БАМовской по духу стелой со схемой линии:
14.
Само здание было настолько унылым, что даже сайдинг тут украшение. А вот изящные витиеватые надписи на свалку отправили зря:
14а. фото Михаила
 mikka.
mikka.
На другой стороне привокзальной площади - центр посёлка:
15.
По большей части выглядящий как-то так:
16.
На холме просматривается церковь Киприана и Устинии (2007):
16а.
Ни посвящением, ни расположением не совпадающая с Никольской церковью (1879-80) старого Карапчанска:
16б.

О "независимости" Железнодорожного напоминает транспорт: автобусы в Усть-Илимск ходят не сказать чтобы часто, а к электричке если и подгаданы - то для толпы её пассажиров явно тесны. Мы встали на переполненной остановке и я было начал спрашивать у людей, как вызвать такси, как вдруг подъехал минивэн с обаятельным и очень общительным дядькой, предложившим по 100 рублей подвезти всех желающих в центр. От Железнодорожного до Нового города - несколько километров через лес:
17.
Город словно выпрыгивает из-за опушки, накрывая сразу и со всех сторон. Сотня тысяч жителей (если с посёлками-спутниками) - много это или мало? Весь вопрос в том, откуда сюда приезжать: после трёх недель в байкало-амурской глухомани Усть-Илимск кажется Манхэттеном. Статус города он получил в 1973 году - но то Старый город за Ангарой, что отсюда даже не виден. Новый город Усть-Илимска строился в 1980-х годах, в одну эпоху с БАМом и с тем же налётом романтики. Более того, тут даже было некое подобие шефства, которое держали Ленинград и братская Болгария:
18.
Местная легенда, опровержений которой я не находил, но и для достоверности она слишком уж красива, гласит, что Новый город спроектировала группа студентов Ленинградского архитектурно-строительного университета в рамках дипломного проекта "Город моей мечты". Во всяком случае в традициях советского градостроительства этот район действительно кажется совершенным. Размеры Нового города - 3,5 на 1,5 километра, и в сопки над Ангарой он вписан так, что всякие хозяйственные промзоны, склады, больницы, автопарки находятся вроде и в пешей досягаемости, но совершенно не портят вид на белые дома и заречные дали. Вдоль Ангары (до которой ещё пара километров) жилая часть вытянулась вдоль трёх осей - снизу вверх это улица Карла Маркса, проспекты Мира и Дружбы Народов. Короткие поперечные улицы делят Новый город на сегменты из парных микрорайонов по разные стороны проспекта Мира. По ходу нашего движения (сначала правые, потом левые) это безымянные №9 и №10 за первой улицей Энгельса, наиболее обширные №5 и №6 Приморский за Белградской, №7 Солнечный и №8 МЖК за улицей 40 лет Победы, №4 Ленинградский и №3 Димитровский за улицей Димитрова, №1 Первомайский и №2 Берёзовая Роща за улицей Мечтателей, к которым примыкает 11-й Молодёжный микрорайон за проспектом Дружбы Народов. Кадр выше снят на проспекте Мира между 5-м и 6-м микрорайонами, и на нём виден стоящий в 8-м микрорайоне автовокзал, трафик которого исчерпывается парой ежедневных рейсов на Братск и Иркутск. Мы же напротив него свернули в Солнечный, где на первом этаже многоэтажки нас ждала опрятная квартира, запомнившаяся мне самым мощным напором воды и самым скоростным вай-фаем из всех мест, где я когда-либо останавливался. Оставив вещи, мы пошли гулять, в первом же дворе приметили ещё одну достопримечательность: "изюминкой" ленинградского проекта стали участки тайги, сохранённые внутри города.
19.
7-й Солнечный примечателен стадионом, а вот 8-й микрорайон не очень-то МЖК. Его просто не успели застроить, и по факту здесь то ли парк, то ли пустырь между автостанцией и главным в Новом городе Дворцом культуры "Дружба" (1986):
20.
Почти типовой снаружи, внутри он примечателен панно из бересты от иркутского художника Евгения Ушакова. В самом Иркутске раньше было несколько таких панно, в том числе целых два в аэропорту, но все они были сняты при реконструкциях и теперь пылятся на складах.
21.
Фотографировать панно охранник нам строго-настрого запретил, сославшись на то, что короновирусные ограничения. Но когда меня такое останавливало, если глаза видят красоту?
22.
На заднем дворе "Дружбы" - печальный Як-40, который должен был стать аттракционом в так и не обустроенном парке:
23.
От ДК мы пошли дальше вдоль проспекта Мира. Фасад 4-го Ленинградского микрорайона слагают пять 14-этажек, издали кажущиеся высокой стеной. Вблизи стена распадается - по кадру №18 ни за что не догадаться, что стоят они вдоль проспекта!
24.
Третий Димитровский микрорайон примечателен не архитектурой, а памятниками - будь то характерные стелы-снопы (видна на кадре выше) по углам района или макет образцовой семьи в натуральную величину:
25.
На перекрёстке Мира и Мечтателей
Сошлись пути народов всей Земли
Здесь люди понапрасну слов не тратили
А Новый город дружно возвели.
Здесь молодость страны свой город строила
Где с Ангарой сливается Илим
На перекрёстке Мира и Мечтателей
Стоит наш юный город Усть-Илимск. - гласит надпись на камне: это строки местного активиста Юрия Чубикова.
Вот он, этот перекрёсток между первых четырёх микрорайонов, отвечающий в Усть-Илимске за главную площадь. Тут всегда людно и шумно, и есть даже такая потрясающая вещь, как общепит - безобразная пиццерия с оглушительно орущими мультиками, пульт от которых директор не доверяет персоналу. В сторону Ангары по улице Мечтателей спускается Аллея Славы, куда пойдём в следующей части:
26.
А пока углубимся в Первый Первомайский микрорайон, на углу которого высится "Яросама" (1989) - главный в городе кинотеатр, названный по близлежащему ручью. Ручей, впрочем, помнили первостроители, а для нынешних усть-илимцев он стал чем-то мифическим, примерно как для москвичей Неглинка: не так давно кинотеатр переименовали в "Supermax". Рядом - "Кандалы", главный памятник Усть-Илимска:
27.
Поставленный в 1991 году, он напоминает о том, что вместо Усть-Илимска здесь вполне мог стоять город Радищев. Своё "Путешествие из Петербурга в Москву", жанр которого заиграл новыми красками в эпоху русской блогосферы, калужский помещик и лейпцигский выпускник Александр Николаевич опубликовал в 1790 году анонимно. Но "тебя найдут!" - угроза так же не новая: роман прочла сама Екатерина II, обозвала его автора "бунтовщиком хуже Пугачёва", сперва возмущённо приговорила его к смертной казни, а затем помиловала и, подписав от руки "едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной", отправила в Илимск. Прибыв в ссылку 1791 году, трэвел-блоггер 18 века провёл в ней неполных 6 лет и создал трактат "О человеке, его смертности и бессмертии". В 1796 году новый государь Павел I просто в пику умершей матушке позволил Радищеву вернуться в калужское имение. При Александре I он и вовсе был полностью реабилитирован и привлечён к либеральным реформам... вот только оказались его идеи столь либеральными, что не вынеся травли титулованных коллег, в 1802 году Радищев умер. Об Илимске я рассказывал в прошлой части - затопленный в 1974 году водохранилищем, он стоял гораздо ближе к нынешнему Железногорску, а его уцелевшие памятники времён освоения Сибири были увезены в Тальцы.
28.
Выше по улице Мечтателей примечателен ещё универмаг "Юность", или вернее скульптура на его фасаде:
29.
Которую окружает грязноватый базар. В своем байкало-амурском вояже я проделал путь от Города Прошедшей Юности до Города Несбывшейся Мечты.
30.
И я бы сказал, главное отличие Усть-Илимска от БАМовских городов - это люди. Из встречных нам примерно половина - вполне БАМовские типажи общительных, дружелюбных, искренне симпатизирующих гостю романтиков...
31.
...но другая половина так и не дала мне полюбить этот красивый и необычный город. Усть-Илимск запомнился мне каким-то особым пролетарским остервенением, в котором радость и увлечённость предосудительны. Хамили нам тут много, хамили нам тут смачно, и главное - без каких-либо причин, кроме вполне читаемого по глазам и интонациям желания хоть немного испортить настроение явно неместному и потому беззащитному человеку. Если на БАМе как-то быстро расслабляешься и привыкаешь доверять людям, здесь это неизбежно проходит. Позже в Иркутске мы гостили у девушки из Усть-Илимска, и та от моих впечатлений о своих земляках даже порадовалась: "А я думала, когда приезжаю домой, мне только кажется, что там все злые". В комментариях к давним постам кто-то упоминал, как ездил в Усть-Илимск в командировки и вынес для себя, что сколько-нибудь конструктивно решать вопросы местные готовы только с местными. Ну а самый ненавистный город для устьилимчанина - даже не Москва, а соседний Братск: в 1990-2000-х Усть-Илимск крепко держали в кулаке братские бандиты, откровенно душившие здешних конкурентов. Главной их жертвой пал в 2001-06 годах аэропорт, основанный в 1980 году и к моменту распада СССР бывший самым современным в Сибири: теперь осталась от него лишь зарастающая взлётка.
32.
Первомайский микрорайон мы обошли буквально по периметру и наискось конвертиком - я хотел пообедать, и навигатор указывал нам на несколько точек общепита. Те оказывались либо просто закрыты, либо закрыты на спецобслуживание, так что в итоге кроме той пиццерии на перекрёстке Мира и Мечтателей не нашлось ничего.
33.
Ещё есть ресторан в гостинице "Илим" на противоположном углу микрорайона - но цены там даже не московские, а арбатские.
34.
Гостиница стоит на краю Нового города, а рядом стела указует путь на Усть-Илимский ЛПК:
35.
Улица Дружбы Народов, ограничивающая Новый город с востока, выглядит тихими задворками проспекта Мира. Тем удивительнее услышать на ней звон железных колёс. По дальней её стороне, у домов 11-го Молодёжного микрорайона, пролегают трамвайные рельсы, на самом юге Нового города заканчивающиеся разворотным кольцом:
36.
Усть-Илимск пока остаётся последним городом на территории России, в котором открыли трамвай - произошло это в 1988 году, а вот загородные трамваи есть и чуть моложе. По изначальному плану система должна был связать вокзал на юге и промзону на севере, став пассажирским дублёром железной дороги, огибающей Новый город за несколько километров по тайге. Однако построить успели только северную половину. Сама идея скоростного трамвая, связующего спальные районы с далёкой и грязной промзоной - в общем-то не редкая в бывшем СССР, но если в Салавате или Старом Осколе, Новополоцке или Мозыре трамвайные пути идут дачами, полями и обочинами трасс, то Усть-Илимск - как бы не единственное место в мире (ладно, ещё уральский Волчанск), где возможно столкновение трамвая и медведя.
37.
Машины Усть-Илимского трамвая суровы подстать линии - все 53 вагона здесь угловатые КТМ-5 из челябинского Усть-Катава, поставленные в 1988-89 годах. В час-пик в будний день они выходят на линию массово и слаженно едут в одну сторону с почти метрополитеновским интервалом, а потом столь же массово возвращаются в депо. В межпиковое время и по выходным на линии остаётся всего несколько машин, курсирующих по чёткому расписанию с перерывами и в час, и в полтора. Длина линии 15 километров, средняя скорость - 28км/ч, и в общем я бы сказал, по ощущениям трамвай тут действительно скоростной:
38.
Таёжность его, при ближайшем рассмотрении, оказалась сильно преувеличенной. Медведи в этих краях и в город порой забредают, а вот трамвай едет лишь по опушке - с одной стороны за окнами почти всегда видна автодорога.
39.
На линии 9 остановок - где-то с павильончиками:
40.
Где-то - с подобием низких платформ. Если в Волгограде и Кривом Роге трамвай кажется по ошибке заехавшим в метро, то здесь - свернувшим не туда и оказавшимся на полноценной железной дороге.
41.
На полдороги можно увидеть путевое развитие - за лесом спрятано огромное (на 100 вагономест) депо, до которого мы так и не добрались. От города до этой развилки трафик гораздо активнее - ведь здесь за вагонными окнами не столько тайга, сколько дачи.
42.
Дальше 4,5 километра, почти треть всей линии, трамвай несётся сквозь тайгу без остановок. Первая после депо "Агрофирма Ангара" у начала промзоны была до 1992 года конечной. Чуть дальше неё трамвайный виадук пересекает развязку, в перспективе которой за лесом встают индустриальные гиганты:
43.
Самым эффектным в системе я бы назвал её последний участок, где трамвайная линия сходится с железной дорогой, не выделяясь среди путей товарной станции:
44.
Здесь хочется закрыть окна, в которые проникает липкая органическая вонь целлюлозы и оглушительное даже за сотню метров шипение газа, вырывающегося из труб. Но увы, от шума и вони не спрятаться - трамвай прибыл на конечную остановку "Северная ТЭЦ":
45.
Здесь раскинулась пыльная площадь между разворотным кругом в низине и проходными Усть-Илимской ТЭЦ (1989, 525 МВт) с её 250-метровыми трубами. Фасадом промзоны служит пожарная часть...
46
...более всего впечатляющая своим барельефом - похожий на робокопа пожарный бесстрашно проходит сквозь стену:
47.
Усть-Илимский лесоперерабатывающий комплекс был построен в 1972-79 годах при участии небогатой собственным лесом Болгарии, о которой и напоминают теперь в городской топонимике Димитров и Дружба Народов. Вся промзона образует прямоугольник размерами 5 на 2,5 километра (то есть - обширнее Нового города!), но главное её здание, по совместительству главный источник шума и вони - Целлюлозный завод. Хотя почти синонимом лесохимии является целлюлозно-бумажное производство, как раз крупнейшее в СССР производство туалетной (и вообще гигиенической) бумаги, призванное решительно покончить с её дефицитом, тут так и не успели запустить. Основной продукт Усть-Илимского ЛПК - это товарная целлюлоза, по которой он обеспечивает четверть российского производства. Что в общем скромно в мировом масштабе: лидером целлюлозно-бумажной отрасли с большим отрывом даже от Китая остаются США, а лесообильная Россия балансирует на грани второй десятки.
48.
Рядом - недостроенный административно-инженерный корпус, который местные красноречиво называют Пентагон - даже на викимапии он именно так и подписан. Заморское слово тут куда актуальнее, чем кажется: УИЛПК входит в состав группы "Илим", владеющей несколькими заводами в Иркутской области (например, в Братске) и флагманом всей отечественной целлюлозно-бумажной отрасли - Котласским ЦБК в Коряжме. Самим же "Илимом" владеет зарегистрированный в Швейцарии "Илим Холдинг", крупнейшим акционером которого выступает (по крайней мере выступала до недавних событий) крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания "International Paper" из американского Мемфиса. Другие акционеры Илима - не слишком медийные олигархи со звучными именами: Захар Смушкин, Леонид Ерухимович, братья Борис и Михаил Зингаревичи: вся конструкция до боли напоминает "Лензолото" из Бодайбо начала ХХ века. Ещё интереснее то, что "Илим" они основали в 1992 году Петербурге, и поначалу вообще не занимались переработкой леса - только экспортом через Большой порт. По большей части лес везли из Иркутской области - превосходящая размерами любую страну Европы и почти полностью покрытая густой южной тайгой, она обладает крупнейшими в России запасами древесины. Есть и ещё одна деталь - в те времена областным прокурором служил небезызвестный Юрий Чайка. В создании же и становлении "Илима" немалую роль сыграл молодой перспективный питерский юрист Дмитрий Анатольевич Медведев, консультировавший тогда же председателя отдела внешних связей в Смольном, которого звали Владимир Путин. Как вы помните, в 2008-12 годах Медведев даже успел немного порулить страной, и именно в его президентство жертвой одной из первых оптимизации пала лесоохрана. Кресла генпрокурора страны и премьер-министра Чайка и Медвед потеряли в январе 2020 года почти одновременно, а ближе к осени Путин ввёл долгожданный запрет на экспорт из России непереработанного леса. Ещё чуть позже вдруг одна за другой пошли хорошие новости по высокотехнологичным проектам, буксовавшим с "нулевых" - полетели ракета "Ангара" и самолёт МС-21, оказались на космодромах модуль МКС "Наука" и станция "Луна-25", вакцина "Спутник V" распространилась по планете, материализовались забытые было процессоры "Байкал" и "Эльбрус"... Ещё год - и Россия начала вытворять на международное арене такое, что совсем недавно казалось немыслимым. Какими тайными нитями всё это связано?
49.
В следующей части о Старом городе за Усть-Илимской ГЭС закончим байкало-амурскую серию.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Старый БАМ (восток)
Ванино
Комсомольск-на-Амуре.
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Лена-Восточная.
Усть-Кут.
Старый БАМ (запад)
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск.
Тайшет.
|
Метки: Сибирь природа дорожное транспорт злободневное Усть-Илимск Иркутская область индустриальный гигант |
Железногорск-Илимский и Коршуниха-Ангарская |
Оба названия в заголовке поста относятся к одной точке на карте в сотне километрах по Старому БАМу от показанных в прошлой части Усть-Кута, Лены и Осетрово. 4 слова содержат исчерпывающее описание городка (22 тыс. жителей): Ангара локализует его в Иркутской области, Коршуниха - речка и железнодорожная станция, Железногорск описывает нынешнюю промышленную специализацию, ну а Илимск - это исчезнувший старинный город, в 17 веке бывший ключом от Восточной Сибири.
Начав покорение Сибири в конце 16 века, в 1620 году русские казаки закрепились на Енисее, построив крупный Енисейский острог чуть ниже устья Ангары. Последняя казалась самым логичным путём дальше "встречь Солнцу", вот только путь этот преграждали мощные пороги, преодолевать которые, тем более вверх по течению, было нелегко. К 1627 году казаки махнули рукой да свернули на Илим - небольшую по сибирским меркам реку масштабов Москвы или Клязьмы, текущую более спокойно почти параллельно Ангаре. К тому времени из отписок Пантелея Пянды было известно о том, что дальше на востоке есть ещё одна огромная река, тунгусское название которой было созвучно с русским именем Лена. Илим от неё отделяли всего лишь пологие сопки, и вот к 1630 году енисейский атаман Иван Галкин сыскал удобный волок между речками Мука и Кута. В их устьях он заложил зимовья, к 1640 году разросшиеся до острогов - так на карте Сибири появились Илимск и Усть-Кут. Но дальнейшие их судьбы были совершенно различны: Усть-Кут тихо и неумолимо обрастал деревнями, пашнями, плотбищами, мельницами и варницами, а Илимск в 1648 году сделался центром Илимского воеводства, первого прототипа Иркутской области. Раскинувшееся вдоль Средней Ангары и Верхней Лены, оно нигде не выходило к Байкалу, заканчиваясь на Приморском хребте, и не включало юг с нынешним Иркутском, север с Катангой и восток с Бодайбо, но местами границы без малого 400-летней давности читаются на карте и ныне. Ну а значение Илимска для покорения Сибири было трудно переоценить - в одну сторону путь от здешних волоков вёл через Якутию, Охотоморье, Камчатку и Чукотку до Америки, в другую через Забайкалье и Приамурье в Китай. Илимск проходили экспедиции братьев Лаптевых, Семёна Дежнёва, Витуса Беринга. Воеводами тут в разное время служили московский князь Иван Гагарин и предок писателя-однофамильца Григорий Грибоедов. Среди ссыльных выделялись шведский генерал Мартин Канифер и "бунтовщик хуже Пугачёва" Александр Радищев. Десятки, если не сотни деревень к 18 веку образовали Илимскую пашню - сердце сибирского старожильчества...
2.

...но сколь выгодным было расположение Илимского острога для освоения Сибири, столь же неудачным оно оказалось в Сибири освоенной и пронизанной торговыми путями. К концу 17 века центр жизни Прибайкалья неуклонно смещался в Иркутск, в 1682 году ставший центром отдельного воеводства. В 1695 году Илимское воеводство вошло в его состав как Илимский уезд, просуществовавший до 1755 года. С 1775 года Илимск числился заштатным городом Киренского уезда Иркутской губернии, неуклонно пустел и беднел, и всё же по старой памяти аж до 1925 года носил городской статус. К началу ХХ века, с населением полтысячи жителей, воеводская столица почти не выделялась среди окрестных деревень в одну улицу. Тут не было ни ярмарок, ни производств, и лишь уникальные в масштабах Сибири памятники деревянного зодчества напоминали о славном прошлом. Некоторые из них сохранились:
3.
Только прошлый кадр снят не с Илима, а с Ангары, причём - выше Иркутска: увидеть то, что осталось от Илимска, теперь можно в музее деревянного зодчества Тальцы. Первый Илимский острог (на позапрошлом кадре), срубленный в 1649 году, имел 255 метров по периметру и две башни - глухую и проезжую. Воеводе и посадским людям явно было в нём тесно, и думается, когда в 1666 году острог сгорел, они только вздохнули облегчённо. Новая крепость, заложенная в полутора километрах от первоначального места, больше напоминала деревянный кремль - в стены общей протяжённостью 680 метров было встроено 8 башен. Три проежие башни имели собственные названия - Спасская, Знаменская (она же Богоявленская) и Введенская (она же Никольская). Архитектура большинства сибирских острогов была проста и утилитарна, но уже упомянутый Иван Гагарин, илимский воевода в 1678-83 годах, привнёс сюда немного эстетики. На публике князь во всём старался подражать царю, и архитектура вверенного городка не стала исключением: по воспоминаниям современников, Илимский острог отдалённо напоминал дворец в Коломенском. От него осталась самая крупная Спасская башня (1667), когда-то отмечавшая главный въезд со стороны Енисейска, и домовая Казанская церковь (1679) - старейшая из сохранившихся в Сибири. Их и перевезли в 1970 году в Тальцы, а в 2010-х годах ещё и воссоздали участок тына с глухой угловой башней:
4.

Там же, в Тальцах - и множество находок из Илимского городища, среди которых мне больше всего запомнилась круглая пороховница-"натруска" начала 18 века:
5.

История Илимска продолжалась и в эти времена, а новой достопримечательностью села стал деревянный мост (1934-35) Ангаро-Ленского тракта:
5а.
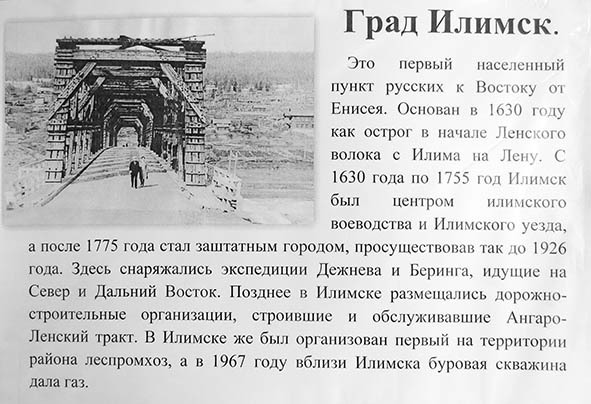
Но большая часть его памятников до музеефикации просто не дожили. Собор Спаса Нерукотворного (1787) напротив Спасской башни разрушили в 1930-е годы:
6а.

Введенская башня сгорела в 1905 году, но и напротив неё стояла одноимённая церковь - редчайший в России двуглавый храм. Точная дата её постройки неизвестна, но это определённо 17-й век, так что вполне возможно, что она была даже старше Казанской церкви, а внешне так и вовсе не слишком отличалась от церквей из глухих уголков Новгородской республики. Введенской церкви не стало в 1949 году, а вот при каких обстоятельствах - точно не ясно: это было время религиозной оттепели, когда храмы чаще возрождались, чем рушились... но кажется, просто местным жителям были нужнее дрова и стройматериал.
6б.

Не уцелела и церковь Иоанна Предтечи (1707) на выселках, по преданию построенная казаками, заблудившимися в тайге и поклявшимися, если спасутся, построить храм на том месте, где выйдут к людям. При Советах в ней обустроили мельницу, а когда и при каких обстоятельствах утратили - теперь также не вспомнит никто.
6в.
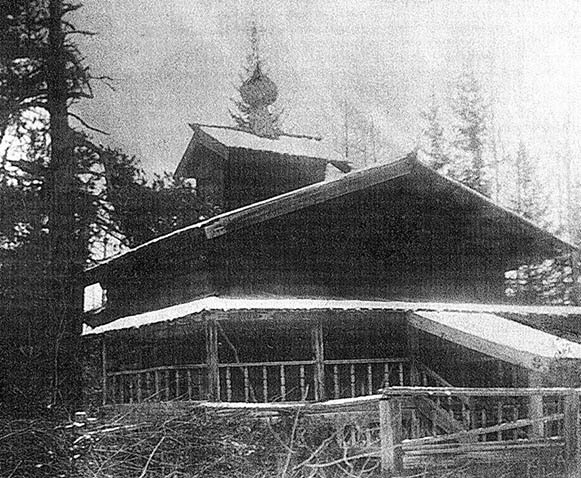
Практически над тем местом, где она стояла, теперь проходит автодорожный мост трассы "Вилюй", а сам Илимск покоится под плёсом ниже по течению, меж дачных кооперативов "Южный берег" и "Строитель" в 25 километрах от Железногорска по прямой. Старинный город повторил судьбу Мологи, Дедюхина, Балаганска, в 1974 году попав в зону затопления Усть-Илимской ГЭС.
6г.

Однако была в истории Илимска и вторая сюжетная линия, начало которой положил в 1647 году рудознатец Шестачко Коршунов, нашедший выходы железа и ставший на них единственным на сотню вёрст вокруг кузнецом. Это дорогого стоило: страшная удалённость Сибири при тогдашнем транспорте обрекала её города на автономность, а руда или соль шла в дело независимо от качества. Кузница на Коршунихе просуществовала до смерти Шестачко, но в 18 веке в низовьях Ангары и Илима был найден ещё пяток железных рудников, пригодных к разработке. В 1845-54 годах на Долоновском месторождении близ Братска построили Николаевский железоделательный завод, где выплавлялись чугун и кричное железо и ковались потребительские товары вроде оград, сундуков или чугунной посуды. В 1874 году завод приобрели братья Бутины из Нерчинска, чей Даурский Версаль я показывал не так уж и давно. Они оснастили средневековый по сути завод современными станками и мартеновской печью, освоив производство куда более сложный изделий вроде паровых котлов и деталей для судовых двигателей. В 1894 году, несмотря на то, что накануне дом Бутиных лопнул, завод прирос филиалом - Новониколаевским (или, по расположению, Лучихинским) заводом, который должен был снабжать металлическими изделиями строящийся Транссиб. Иначе говоря - рыть себе могилу: железная дорога открыла Сибирь для поставок качественных европейских товаров, и архаичные заводы, работавшие на низкосортной руде, были обречены. В 1899 году оба предприятия встали, и после нескольких попыток перезапуска в начале ХХ века, окончательно исчезли в 1924 году.
7.
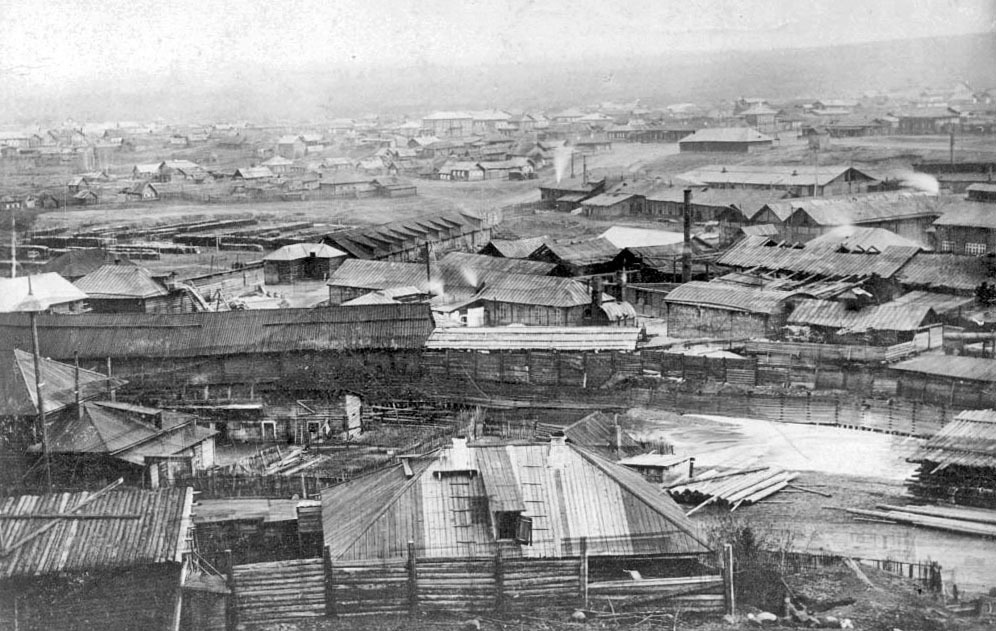
А равнодействующей железоделательных заводов и Илимска и стал Железногорск-Илимский. В 1940-х годах о кузнице Шестачко вспомнили геологи, зачастившие на Коршуниху. В 1948 году там возник посёлок экспедиции Коршуниха, по которому получила названия и железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали, западный участок которой дотянули в 1951 году от Братска до Усть-Кута.
8а.

Геологи обнаружили под кузницей Шестачко гигантское месторождение высококачественной железной руды, а железная дорога открыла возможности его промышленной разработки. В 1958 году, с началом стройки Коршуновского горно-обогатительного комбината, Коршуниха стала ПГТ Железногорском, а в 1965, с запуском производства - городом, получив в название второе слово. Тут стоит сказать, что Железногорсков в России и так три штуки - другой центр рудников на Курской магнитной аномалии и ЗАТО в Красноярском крае, и по мне так город Коршуновск смотрелся бы на карте интереснее. Заводской пруд, совсем как где-то на Урале - на самом деле водохранилище ТЭЦ-16 (1964) с толстенной трубой, напротив которой в низинке лежит станция Коршуниха-Ангарская:
8.
Большую часть Байкало-Амурской магистрали мы проехали в золотом сентябре 2020 года с востока на запад, в Коршунихе сделав ночную пересадку с поезда на электричку в Усть-Илимск. Сам город же мы осмотрели без месяца год спустя, по пути с запада на восток. Мы ехали тогда к холодным горам Кодара и заброшенной, но от того не менее фантастической Чинейской железной дороге, единственный поезд по которой вёз руду Чинейского месторождения именно на Коршуновский ГОК. Здесь мы оказались в первых числах августа, когда едва ли не всю Сибирь накрыл дым лесных пожаров в Якутии.
9.
Вокзальчик 1960-х годов вписан в склон, на перрон выходя двумя этажами, а на площадь - одним. Оля осталась в миниатюрном зале ожидания листать планшет и приглядывать за рюкзаками, а я отправился гулять.
10.
Привокзальная площадь Коршунихи-Ангарской - небольшая асфальтовая терраса между вокзалом и обветшалым щитом с полинявшими видами города. До первых кварталов пешком нужно подняться по лестнице, а на машине - проехать изрядный зигзаг.
11.
Город и комбинат лежат с разных сторон от станции, и я поначалу направился в сторону города:
12.
Жилые кварталы Железногорска открывает контора Коршуновского ГОКа, примечательная маленькими долото на столбах ограды и памятником с заглавного кадра. Он посвящён рабочим КГОКа, отстоявшим своё предприятие в 2003 году - и тут можно вспомнить, что звучное название "Коршуновский ГОК" я действительно смутно помнил из новостей, и ассоциировалось оно с чем-то тягучим и гадким. В условиях планового хозяйства ГОК был частью производственной цепочки - вся его руда поставлялась БАМом и Южсибом на Западно-Сибирский металлургический комбинат в Новокузнцеке. И вот в 1998 году взмывшие над первородным хаосом криминальных войн олигархи потянули эту цепь в разные стороны: владельцы ЗапСиба отказались покупать илимскую руду, и вскоре остановившийся КГОК обанкротился и перешёл под внешнее управление. Уничтожать его, однако, ни в чьи планы не входило - только купить по дешёвке: в ноябре 2002 года за комбинат и его долги развернулась борьба "Евраза" и "Мечела". Первый тогда завладел ЗапСибом и явно рассчитывал забрать себе всю цепочку, а второй оперативно погасил долги КГОКа и подписал с пока ещё самостоятельным предприятием договор о стратегическом партнёрстве. Юристы, видимо не без помощи "Евраза", тут же нашли в сделке какие-то нарушения, и между стальными гигантами завязалась полная грязных приёмов тяжба. Кульминация противостояния наступила 14 июля 2003 года, когда рабочие отбили рейдерский захват... отбили в прямом смысле слова: к конторе ГОКа подъехало около 60 вооружённых людей, и завязавшейся потасовке несколько десятков человек были избиты, а трое попали в больницы с опасными травмами, но кажется, хотя бы никто не помер. К осени "Евраз" и "Мечел" наконец смогли договориться, и в Железногорск вернулась стабильность. Ну а скульптура гордого пролетария у конторы так и осталась уникальным в нынешней России памятником тем, кто встал на пути "олигархического феодализма".
13.
За конторой начинаются кварталы - именно кварталы, а не микрорайоны: Железногорск стал одним из первенцев такой градостроительной концепции, когда это слово ещё не вошло в обиход. Всего тут 10 кварталов (при этом нет 5-го, но есть 6а) неправильной формы, охватывающих при этом не весь город - часть домов имеют нумерацию по улицам, как например по улице Иващенко, уходящей вдоль путей мимо конторы ГОКа.
13а.

Все их объединяет атмосфера пролетарской глуши, где мужик должен работать на заводе, внешний мир с его радостями бесконечно далёк, а герметичность уклада нарушают разве что многочисленные тоговцы с солнечного юга.
14.
Горняцкий город суров даже в попытках его украсить:
15.
Хотя всё это - лишь ощущение: за пару часов утренний прогулки у меня не возникло повода пообщаться с местными.
15а.

Центральный в Железногорске 2-й квартал на карте имеет форму очень широкого треугольника. В его углу стоит контора КГОКа, а основание очерчивает улица Строителей, которую можно считать главной в городе. Ближе к станции она застроена бараками на каменных подклетах, большинству из которых, судя по заколоченным окнам, недолго осталось стоять. В постсоветскую эпоху население Железногорска уменьшилась на 1/3, а в таких условиях бороться с ветхим жильём как-то легче.
16.
За улицей Строителей, в Первом микрорайоне, притаилась Казанская церковь, перестроенная в 1995 году из овощного магазина. Но посвящение её как бы намекает на преемственность к церкви Илимского острога, которая теперь в Тальцах.
17.
По соседству - безымянная главная площадь между ДК "Горняк" и ТЦ "Шанс":
18.
В низинке за торговым центром - Сквер Илимских партизан, где в 1974 году были перезахоронены четверо красных, погибших в 1919 году в стычках с колчаковцами:
19.
Сам памятник чуть помоложе (1985):
20.
Противоположный конторе угол 2-го квартала отмечает стела славы "Коршуновстроя" (1982) у краеведческого музея имени Михаила Янгеля (1977), здание которого непохо мимикрирует под дореволюционку.
21.
Напротив - детская горка в виде ракеты, а чуть дальше по главной улице стоит и памятник Михаилу Янгелю, открытый в том же 1977 году. Фамилия "Янгель" кажется настолько немецкой, насколько это возможно, но на самом деле это слово "Ангел" на полесский манер: семейная легенда Янгелей легенда гласит, что они - казацкий род с Черниговщины. И вот как-то ближе к концу 19 века Лаврен Янгель не стал молча смотреть на домогательства местного пана к его жене и подпалил тому амбар, за что был сослан с женой и сыновьями Кузьмой и Леонтием в глухую деревню Зырянова на Илиме. У Кузьмы Янгеля было 12 детей, из которых самым подающим надежды казался Константин Янгель - в 1920-х годах он уехал в Москву и поступил там в университет. К брату и отправился в 1926 году 15-летней Михаил Янгель, поначалу устроившийся работать на Вознесенскую мануфактуру. Позже он поступил в Московский авиационный институт, а там на его дипломный проект обратил внимание целый Николай Поликарпов, создатель самого массового в тогдашнем СССР самолёта По-2. В талантливом юноше из сибирской деревни он увидел нового Ломоносва, и вот уже Янгль ездил в командировки в Североамериканские Штаты, проектировал и дорабатывал истребители в бюро Поликарпова, ковал победу на московских авиазаводах... В авиации Михаил Кузьмич так и не успел возглавить собственного КБ, но с подачи Мстислава Келдыша он получил после войны шанс взлететь ещё выше: в 1950 году Янгель устроился в НИИ-88 (нынешняя "Энергия"), год спустя был уже замом Сергея Королёва, а в 1954 казак вернулся на Украину: Михаил Кузьмич возглавил конструкторское бюро "Южное" при заводе "Южмаш" в Днепропетровске, основной специализацией которого были баллистические ракеты.
22.
Первой самостоятельной разработкой Янгеля в "Южном" стала Р-11, благодаря новому составу топлива и устройству двигателя оказавшаяся вехой советского ракетостроения. Своей предшественнице Р-1 (читай - "Фау-2") она не уступала по характеристикам, но была в 2,5 раза легче и гораздо надёжнее. Самым массовым творением Янгеля оказалась Р-16, ставшая базовым оружием советских РВСН 1960-70-х. С её же испытаниями на Байконуре была связана самая кровавая в истории ракетостроения катастрофа - 24 октября 1960 года команда во главе с маршалом Митрофаном Неделиным устраняла внезапно возникшую неисправность на полностью готовой к старту ракете, заправленной десятками тонн гептила. При наладке токораспределителя внезапно запустился двигатель, в пламени которого исчезло 78 человек, и от самого маршала осталась лишь горстка праха да оплавленный орден. Янгель мог быть среди них, но за минуту до катастрофы он отошёл покурить. После разъярённый Хрущёв спросил его по телефону "А ты почему жив остался?!", и конструктора хватил инфаркт - первый, но не последний. Янгелю ещё предстояло создать свой шедевр, мощнейшее в истории человечества серийное оружие - ракету Р36М "Воевода", по западной классификации более известную как SS-18 "Сатана". Приводимая в полную боевую готовность за минуту, эта двухступенчатая ракета (34 метра в длину, 211 тонн собственной массы, 7,5 тонн забрасываемого веса) имеет дальность до 16 тысяч километров. Самые тяжёлые (и от того менее дальнобойные - "всего" 11 тысяч километров) её модификации несли или одну боеголовку в 20 мегатонн (это в 1500 раз мощнее, чем в Хиросиме, и больше 1/3 от Царь-бомбы) или 10 боеголовок по 750 килотонн каждая. Одной (!) такой ракетой можно нанести критический ущерб любой стране мира. "Воевода" была принята на вооружение в 1970 году, а 25 октября 1971 года, принимая поздравления с 60-летним юбилеем, Михаил Кузьмич в пятый раз получил инфаркт - на этот раз последний... Пару лет спустя не стало и его родной деревни, затопленной Усть-Илимской ГЭС:
22а.
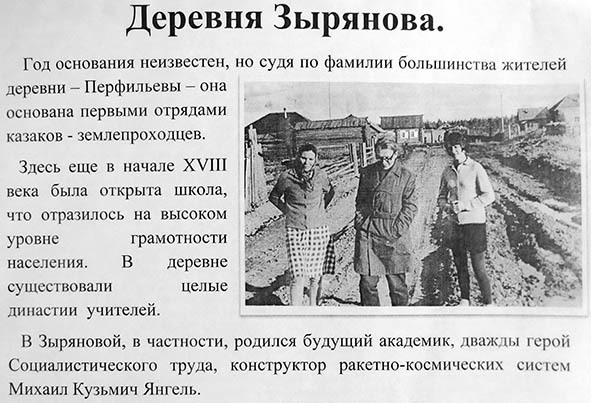
Бюст Янгеля стоит на площади Конституции между администрацией и рынком, куда улица Строителей приводит через пару сотен метров после музея.
23.
На ближнем конце площади - Триумфальная арка (2015) от "Мечела":
24.
Более всего примечательная своими барельефами:
25.
Улица Строителей тут сменяется улицей Янгеля, но мы сворачиваем вправо, в 6-й квартал. Здесь глядят друг на друга два мемориала:
26.
Один (1983) - героям Великой Отечественной:
27.
Другой (1996) - не людям, а затопленным селениям:
27а.

Илимская пашня, прежде чем почти без остатка уйти под воду, дала миру немало ярких личностей - если в науку отсюда вышел Михаил Янгель, то в культуру - Валентин Распутин, исчерпывающе описавший трагедию Сибирской Атлантиды в своём "Прощании с Матёрой". Но Матёра стояла на Ангаре, да и сама она собирательный образ. О реальных же деревнях Илима рассказывает инфостенд на коршунихинском вокзале:
28.
6-й квартал переваливает через гору, на дальнем склоне которой в день моей прогулки ломали заброшенную с 1990-х годов многоэтажку:
29.
Надо сказать - одну из самых унылых во всём Железногорске. Позднесоветская архитектура тут по большей части как-то пооригинальнее, да и сам Железногорск живописен - я бы сказал, это один из самых ландшафтных советских городов:
30.
За распадком Кузнецовского ручья встречает 10-й квартал, примечательный Троицкой церковью (2005). Не Введенской, заметьте, и не Спасской - Железногорск в ней словно ощутил себя самостоятельным городом, а не тенью затонувшего Илимска.
31.
У 10-го квартала совершенно БАМовский пейзаж:
32.
Хотя Коршуниха-Ангарская - достояние сталинского Старого БАМа, всё же всесоюзно-ударно-комсомольские веяния дошли и сюда:
33.
Как и новые тренды - в наше время. В суровой индустриальной глуши, где вода в лужах красная от рудничной пыли, а на остановках заедает мошка, тоже есть место для котиков:
34.
34а.

Описав круг по кварталам, я вернулся на вокзал и направился в другую сторону - ведь главную достопримечательность Железногорска я ещё не показал! И с поезда её не увидеть - западнее Коршунихи железная дорога ныряет в Коршуновский тоннель (950м, 1968-71 и 2004-08), а после него идёт у подножья высоких отвалов:
35.
До тоннеля, впрочем, железная дорога ветвится, и вдоль отходящих налево путей я вышел к проходной Коршуновского ГОКа:
36.
За которой привлекает взгляд Железнодорожный цех - проще говоря, вокзал рудничных веток:
36а.

Отсюда рукой подать до карьера, в который мне и хотелось заглянуть:
37.
Но это оказалось не так-то просто: размеры карьера 2 на 5 километров, а глубина - 510 метров: во всём мире есть всего несколько зданий, которые не скрылись бы в этой яме целиком. Самым глубоким карьером России считается Удачный на алмазном месторождении в Якутии (640м), а ещё несколько вгрызаются в землю наперегонки, и как я понимаю, Коршуновский карьер с попеременным успехом держится в первой пятёрке. Но то теория, а на практике выходит, что с края карьера не увидеть его дно!
38.
Я бродил по ступеням карьерной лестницы, даже почти не опасаясь, что меня могут задержать вохровцы - человек тут немногим крупнее песчинки. Стены карьера красные, по сути говоря - ржавые: ведь именно окислы железа придают им такой цвет. Толщина рудного слоя известна, и в перспективе глубина карьера достигнет 840 метров. Ну а лучший вид на него открывается с со скалы на краю той сопки, под которую уходит Коршуновский тоннель:
39.
Не знаю, дымом ли испорчены виды или над карьером всегда, кроме разве что дней после сильного ливня, висит пыль. Вдали виднеются цеха собственно Коршуновского ГОКа:
40.
Карьер - по сути дела воронка, в которую закручиваются автомобильные грунтовки и железная дорога. Не могу сказать, что жизнь тут кипит, но в дымке постоянно видно какое-то движение, слышны рёв моторов, гудки, громыхание:
41.
Где-то тут раньше проходила железная дорога, в итоге попавшая в зону разработок - отсюда совершенно не БАМовские (ни по старому, ни по новому) дату строительства Коршуновского тоннеля.
42.
Вот и дно:
43.
Дальше на запад Старый БАМ уходит к Братску и наконец впадает в Транссиб у Тайшета. Но в этой своей части он не сильно отличается от множества других железных дорог бывшего Союза - пейзажи тут не блещут красотой, в архитектуре вокзалов чередуются сталинки и нелепые новостройки, а на постаментах у перронов грузно стоят чёрные паровозы. Прежде я показывал братские станции Гидростроитель, Падун, Анзёби и Вихоревку и в другом посте - вокзал Тайшета . Поэтому в Железногорске куда интереснее свернуть с БАМа на север, к Усть-Илимску - и сам город, и ведущая в него железная дорога вроде и не относятся к Байкало-Амурской магистрали, а всё же - наследие параллельных БАМовской всесоюзно-ударно-комсомольских строек. Об Усть-Илимске - в следующих 2 частях.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Старый БАМ (восток)
Ванино
Комсомольск-на-Амуре.
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Лена-Восточная.
Усть-Кут.
Старый БАМ (запад)
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск.
Тайшет.
P.S.
Как видите, я всё-таки собрался с силами и по просьбам трудящихся пытаюсь продолжать вести блог. Напишу посты о БАМовском охвостье и посмотрю, есть ли сейчас в этом смысл. Отдельно оговорюсь, что политизированные комменатрии буду тереть и блокировать - не из соображений цензуры, а ради сохранения своих нервов.
|
Метки: замки-крепости Сибирь дорожное транспорт БАМ Иркутская область деревянное индустриальный гигант |
Varandej is turned off for some time (days or even weeks). Stay tuned. Explanation later. |
На полноценное ведение блога у меня сейчас нет моральных сил. Да и для кого сейчас его вести - не понятно. В иной жизни здесь был бы обзор недавнего путешествия на Байкал, посты из Иркутской области 2020, 2021 и 2022 годов, в том числе охвостье Байкало-Амурской магистрали, которое не успел описать до отъезда. Возобновится ли работа над этим блогом - я пока не готов сказать, но думаю, в текущих реалиях это не самая большая потеря.
|
Метки: с человеческим лицом |
Свои |
Не секрет, что в России много людей, выступающих не просто за мир, а от всей души желающих поражения своему государству. Менее очевидно, что вообще-то и по ту сторону украинской границы многие надеятся на победу России. За Украину воюет множество этнических русских из числа её граждан, да и добровольцев из РФ. Но и в Крыму, и в Донбассе в 2014-16 годах многие ярые патриоты России начинали при мне свою речь с пояснения "Да я сам украинец!". Вконтакте только-только схлынул целый вал рассуждений о том, кто такие "свои", которых "не бросают", и почему эти "свои" - вовсе не обязательно сограждане или соплеменники. Всё это наводит меня на мысли о том, что цивилизация восточных славян, в широком смысле Русская цивилизация (от Древней Руси) гораздо более едина, чем кажется. Её рассекает кровавый раскол, но только раскол этот не этнический (читай - объективный), а идейный. Мы наблюдаем сейчас горячую фазу противостояния не украинцев и русских, а западников и почвенников, в которой государства, религии, международные союзы, национализм и имперство - только форма, только инструмент.
Поэтому здесь, в России, не судите строго тех соотечественников, кто придерживается иных взглядов. Вспомните прошлую гражданскую войну. Владимир Маяковский был рупором красных, Николай Гумилёв пал за белое дело, Сергей Есенин разочаровался и повесился, а Иван Бунин и вовсе свалил за границу. Максимииллиан Волошин задавался вопросом, кто же расстреляет его - белые как красного или красные как белого. Будь у них соцсети, они бы точно все были друг у друга забанены. Но для потомков все они - наши люди.
Поэтому не спешите записывать во враги отечества урбанистов, борцов с домашним насилием и популяризаторов космонавтики. Кто-то из них по состоянию на 22.02.2022 искренне верил, что Россия ещё сможет войти в братскую семью европейских народов, не желая признавать, что нас там не ждут. Но даже самый оголтелый русофоб, желающий стране самораспуститься, а народу самозакопаться - он представляет абсолютно русский культурно-ментальный феномен: патриоты - их везде хватает, а вот фанатичные патриофобы, больная совесть грозной империи - это сугубо наша специфика. Так вышло, что сама русская цивилизация формировалась на периферии более могущественных цивилизаций, находясь с ними в постоянном измытывающем противостоянии, но только у них имея возможность черпать необходимый для противостояния опыт. Признание их превосходства - своего рода залог выживания, а вот дальше возникает главный, на мой взгляд, русский вопрос: стоит ли противостоять тем, кто совершеннее тебя?
Вот носители двух разных ответов и убивают сейчас друг друга на полях сражений и канцелят друг друга в мирном тылу.
....То философия. От неё не будет легче ни тем, кто пережидает обстрелы в подвалах и едет на запад в переполненных эвакопоездах. Кто проснулся в мирных городах от взрывов и кто слышашл их 8 лет. Кто застрял за границей без средств к существованию, кого вот-вот сократят с закрывшихся предприятий и забаненных блог-платформ. Но им не будет легче и от моих рассуждений о политике.
2014-й год приучил меня молчать: какой бы важной, умной, оригинальной не казался мне та или иная мысль, её и без меня озвучат тысячи людей, а единственным результатом этого будет ещё несколько капель в поток ненависти. У меня есть позиция, я не отрываясь слежу за новостями, и в общем кто знает меня давно - могут вполне представить, что я о происходящем думаю. Но кому станет лучше, если я это здесь изложу?

Поэтому скоро я оправлюсь от шока и начну вести блог в штатном режиме. Писать буду пока об ушедшей эпохе, чтобы продлить своё пребывание в ней.
К этому посту комменты не закрыты, но скринятся. Раскрою те из них, которые сочту умными.
Поэтому здесь, в России, не судите строго тех соотечественников, кто придерживается иных взглядов. Вспомните прошлую гражданскую войну. Владимир Маяковский был рупором красных, Николай Гумилёв пал за белое дело, Сергей Есенин разочаровался и повесился, а Иван Бунин и вовсе свалил за границу. Максимииллиан Волошин задавался вопросом, кто же расстреляет его - белые как красного или красные как белого. Будь у них соцсети, они бы точно все были друг у друга забанены. Но для потомков все они - наши люди.
Поэтому не спешите записывать во враги отечества урбанистов, борцов с домашним насилием и популяризаторов космонавтики. Кто-то из них по состоянию на 22.02.2022 искренне верил, что Россия ещё сможет войти в братскую семью европейских народов, не желая признавать, что нас там не ждут. Но даже самый оголтелый русофоб, желающий стране самораспуститься, а народу самозакопаться - он представляет абсолютно русский культурно-ментальный феномен: патриоты - их везде хватает, а вот фанатичные патриофобы, больная совесть грозной империи - это сугубо наша специфика. Так вышло, что сама русская цивилизация формировалась на периферии более могущественных цивилизаций, находясь с ними в постоянном измытывающем противостоянии, но только у них имея возможность черпать необходимый для противостояния опыт. Признание их превосходства - своего рода залог выживания, а вот дальше возникает главный, на мой взгляд, русский вопрос: стоит ли противостоять тем, кто совершеннее тебя?
Вот носители двух разных ответов и убивают сейчас друг друга на полях сражений и канцелят друг друга в мирном тылу.
....То философия. От неё не будет легче ни тем, кто пережидает обстрелы в подвалах и едет на запад в переполненных эвакопоездах. Кто проснулся в мирных городах от взрывов и кто слышашл их 8 лет. Кто застрял за границей без средств к существованию, кого вот-вот сократят с закрывшихся предприятий и забаненных блог-платформ. Но им не будет легче и от моих рассуждений о политике.
2014-й год приучил меня молчать: какой бы важной, умной, оригинальной не казался мне та или иная мысль, её и без меня озвучат тысячи людей, а единственным результатом этого будет ещё несколько капель в поток ненависти. У меня есть позиция, я не отрываясь слежу за новостями, и в общем кто знает меня давно - могут вполне представить, что я о происходящем думаю. Но кому станет лучше, если я это здесь изложу?

Поэтому скоро я оправлюсь от шока и начну вести блог в штатном режиме. Писать буду пока об ушедшей эпохе, чтобы продлить своё пребывание в ней.
К этому посту комменты не закрыты, но скринятся. Раскрою те из них, которые сочту умными.
|
Метки: злободневное |
Усть-Кут и три его имени |
Усть-Кут, Лена и Осетрово - всё это один город в Иркутской области, небольшой (40 тыс. жителей), но крупнейший на три тысячи километров пути от самого Комсомольска-на-Амуре. Первое название относится к городу, второе - к конечной до постройки БАМа станции, третье - к крупнейшему речному порту бывшего СССР. "Город одной улицы" Усть-Кут вытянут вдоль рек на 30 километров и представляет собой фактически цепочку сросшихся деревень со своими специализациями и судьбами. Самые нижний по течению посёлок Якурим со станцией Лена-Восточная я показывал в прошлой части вместе с последним участком "комсомольской" Байкало-Амурской магистрали, а сегодня проедем Усть-Кут до другого конца.
Закрепившись в 1620-х годах на Енисее, русские казаки уже знали о том, что восточнее есть ещё одна, не менее огромная река. Её первооткрывателем стал Пантелей Пянда, о жизни которого вне экспедиции, начатой в 1619 году, не известно толком ничего. Если четверть века спустя на Амуре под казаками горела земля, то Пянда со товарищи спокойно ходил несколько лет по тунгусской тайге от стойбища к стойбищу, меняя русские товары на меха, и именно от эвенков он узнал, что за сопками в верховьях Нижней Тунгуски скрывается "текущее море". В 1623 году Пянда вышел на Лену в районе нынешнего Киренска, и, осмотрев её между будущими Якутском и Жигаловом, вернулся в Енисейск по Ангаре. В 1628-29 десятник Василий Бугор нашёл куда более короткий путь по рекам Илим и Кута, в устье которой поставил зимовье. Наконец, идеальный для тогдашней эпохи маршрут выведал у эвенков в 1631 году енисейский атаман Иван Галкин, но и тут Кута осталась финишной прямой до Лены. На месте Бугровского зимовья Галкин заложил уже целый Усть-Кутский острог, от которого в 1640-х по рекам вытянулся целый шлейф деревень, образовавших Усть-Кутскую волость. Этой волостью, не особью, а колониальным организмом, по сути и оставался Усть-Кут все последующие века, когда деревни стали сёлами, а сёла - посёлками городского типа. В 1951 году они получили связующую нить - железную дорогу, конечной которой до 1985 года оставалась нефтебаза у станции Якурим из прошлой части. Сам Якурим вошёл в состав Усть-Кута лишь в 1996 году, а город образовался в 1954-м слиянием ПГТ Усть-Кут с ПГТ Осетрово.
2.
Если у Енисея наиболее обжиты верховья, то у Лены - среднее течение, где стоят старинные Олёкминск, Покровск, Якутск, Жиганск, важнее которых в 19 веке сделались Ленские прииски на Витиме. Река испокон веков оставалась для них самой надёжной дорогой, а потому особое место в жизни Лены занимал самый верхний порт в её течении. При царе таковым было Жигалово в двух сотнях вёрст от Иркутска, но тоннаж судов рос, и едва вышедшая на плёсы из состояния горной речки Леночка становилась для них слишком маленькой. Новую пристань обустроили в 1929 году в селе Осетрово бывшей Усть-Кутской волости, куда грузы доставляли зимой на санях с Ангары, а летом на плотах и мелких судах из того же Жигалово. Всё изменила железная дорога, усть-кутские станции которой составляли единое целое с причалами. К 1970 году Осетровский порт разросся до морских масштабов - 5 терминалов, 100 кранов, 1844 метра причалов, более 1000 сотрудников и грузооборот до 2,1 миллионов тонн. Всё это, конечно, на порядок меньше, чем в крупнейших речных портах мира вроде Дуйсбурга (133 млн. т.) или Нанкина (91 млн. т.), но больше любого другого речного порта в СССР. Гиганты Рейна, Янцзы или Миссисипи - это порты-узлы нескольких промышленных районов, в то время как Осетрово - это порт-ворота, перевалка зерна, овощей, сахара и мяса для людей, горючего для машин и котельных, оборудования и материалов для великих строек в мёрзлой тайге. В 1990-х стройки кончились, у котельных не было денег на оплату топлива, и из замерзающих квартир самые настоящие беженцы потянулись на юг. Ужавшись по грузообороту до 600 тыс. тонн, Осетрово потерял лидерство, уступив "русскому Дуйсбургу" Череповцу; полностью встали 3 терминала. С тех пор оборот восстановился до 1,5 миллионов, но советских значений не достигнет, скорее всего, никогда: навигация на Лене длится дай бог 4 месяца, и куда лучше со снабжением севера справляются проложенные с 1980-х годов Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. Главный в Осетрово Северный порт смотрится по сей день внушительно - как изнутри, так и издали:
3.
У Усть-Кута два стержня - железная дорога и главная улица, за свои 30 километров успевающая сменить десяток (!) имён: участки трассы "Вилюй", 2-й Железнодорожная, Заречная, Нефтяников, Шевченко (эта на пару километров прерывает улицу Нефтяников!), Пушкина, Халтурина, Речников, Кирова, Зверева, Береговая и вновь фрагменты трассы "Вилюй". Мы покинули маршрутку на улице Пушкина, в бывшем Осетрово, которое за пределами порта полностью исчезло из топонимики, превратившись в район Речники. Над его центром буквально нависает Осетровское речное училище (1970):
4.
Общаги с маяком и каравеллой на торцах глядят через пустыри на здание администрации
5.
От администрации мы начали спускаться к берегу Лены. В основном Речники строились в 1960-70-х годах вместе с портом, и единственное украшение здешних домов - узоры красным кирпичом по серому:
6а.

Кварталом ниже главной улицы тянется железная дорога, все участки которой из сегодняшнего поста пущены в 1951 году, то есть относятся к Старому БАМу.
6.
В Речниках через неё перекинуто несколько пешеходных мостиков (тот, с которого снят этот кадр - над платформой 724-й километр) и плита, превращающая участок выемки в 400-метровый тоннель:
7.
Мимо совсем невзрачного внешне ДК "Речники" и одинокого Ильича мы вышли к неожиданно симпатичной деревянной набережной, вьющейся в пустырях над Леной.
8.
Рощица у набережной официально называется Сквер Боевой и Трудовой Славы, и если о последней напоминал Ильич, то о первой - Василий Маргелов, памятник которому украшен цитатой "Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лёжа наступай".
8а.

Набережная приводит к простенькой, но неожиданно симпатичной церкви Спаса Нерукотворного (2008-11)...
9.
...стоящей у начала автомобильного моста (1989). Почти такой же издали БАМовский мост (1975) я показывал в прошлой части, а ниже по течению Лены мостов нет вообще.
10.
В створе моста над кварталами узкого города хорошо видна доминанта усть-кутского пейзажа - красноватая скала Мир, по абрису которой можно за пару дней научиться безошибочно определять своё местонахождение. С опушки на плоской вершине красивые виды, а в честь чего её так назвали - рунет молчит, но думается, тут не обошлось без романтики БАМа.
11.
Выйдя на мост, полюбуемся Леной, над которой только-только расступился туман после ночных заморозков. Леночка здесь вызывает примерно те же эмоции, что узенький Днепр в Смоленске. По среднегодовому расходу воды (17 тыс. м³/с) она на грани десятки крупнейших рек мира где-то между Миссисипи, Меконгом и Параной, вот только сибирским рекам портит статистику сезонность. Лена даже подо льдом сравнима с Северной Двиной и Рейном, а в июне со среднемесячным расходом воды 61 тыс. м³/с она становится 3-й по величине рекой мира после Амазонки и такого же сезонного Енисея. Однако ещё одно свойство Лены - грандиозные паводки до 200 тыс. м³/с, и в такие дни она может даже превосходить Амазонку в её маловодные периоды - единственная из всех рек на Земле. Но всё это где-то там, ниже устий Киренги, Витима, Олёкмы, Алдана, Вилюя, а в Иркутской области перед нами детство великой реки. Полноводность которой ещё и сильно меняется год от года - так, на рубеже 1980-90-х со среднегодовым расходом воды до 23 тыс. м³/с и июньским в районе 100 тыс. Лена определённо превосходила Енисей, но сейчас у неё маловодные годы. Есть соблазн сказать, что их причина - варварские вырубки и поджоги окрестных лесов, вот только страдающие от того же Ангара и Амур последние годы балансируют на грани выхода из берегов, а старожилы говорят о циклах с 10-12-летними маловодными и многоводными фазами. И если так - не находится ли Лена в противофазе с Ангарой и Амуром?
12.
На кадре выше - вид вниз по течению, на краны Северного порта и самый крупный в Усть-Куте заречный район ремонтно-эксплуатационной базы флота, состоящий из кварталов Старой и Новой РЭБ да дымящей промзоны. Вверх по реке - лесные причалы и та самая котельная, так неудачно вставшая в 2001 году. Она же на заглавном кадре, ну а судоходство тут, как видите, весьма активно даже в маловодный сентябрь:
13.
К котельной и переместимся дальше по улице Речников:
14.
где на краю промзоны привлекает взгляд сталинка управления Осетровского порта. Голубой торец слева принадлежит доске почёта, самая впечатляющая часть которой - "Семейные династии портовиков" из 3-5 поколений со стажем работы от пары-тройки лет до полувека.
15.
Промзона замыкает с запада бывшее Осетрово, и главная улица на пару километров превращается в тонкую нить между портом и депо, за которым раскинулась станция Лена:
16.
Позади осталась грузовая перевалка, а здесь - пассажирская: с платформы хорошо виден речной вокзал на другой стороне площади.
17.
Сталинская архитектура кажется удивительной после всего цикла БАМовских вокзалов. Более того, почти такой же вокзал на станции Гидростроитель есть в Братске, а если бы сталинский БАМ успели завершить, не сильно иначе выглядели бы вокзалы Северобайкальска, Новой Чары или Тынды.
17а.

Здесь же - стоянка больших автобусов, набирающих пассажиров в Иркутск. Они отправляются в 6 утра, а предыдущий день стоят, видимо, сочетая функции автобуса и автокассы. Билет на такой стоит более 2500 рублей, а дорога занимает 16 часов, причём прямой путь не всегда самый быстрый - вместо почти прямого Жигаловского тракта автобусы делают крюк через Братск. Ленская площадь Трёх Вокзалов переполнена людьми, на которых глядят камень Бамстроя и памятник Ивану Галкину (2011):
18.
От станции Лена до речного вокзала Осетрово тянется просторная эспланада, и во всём длинном Усть-Куте не найти места, более похожего на центр:
19.
Речной вокзал (1962) архитектурными достоинствами не уступает железнодорожному и явно образует с ним один ансамбль:
20.
Детали:
20а.

20б.

В здании теперь торговый центр:
21.
при виде которого я и представить не мог, что до 2019 года включительно отсюда было сквозное движение пассажирских судов аж до самого Тикси - прыжками на подводных крыльях через Пеледуй, Ленск и Олёкминск в Якутск и далее медленным теплоходом. С 2020 рейс из Усть-Кута укоротили по последнему в Иркутской области посёлку Визирный, так что подобно Дарьенскому пробелу панамериканских дорог образовался Пеледуйский пробел Ленского судоходства. Впрочем, в нём километров 100 по достаточно спокойным плёсам, так что привезя с собой канистру бензина, наверное, можно договориться о лодке с мужиками в Визирном - по крайней мере, у меня есть желание попытаться однажды так сделать.
22.
Дебаркадер, которым теперь ограничивается речной вокзал, болтается на фоне Старой РЭБ. Набережная же запомнилась мне вот такими рисунками на асфальте, фантазия которых наводит на мысль о том, что это ежегодная традиция:
23.
А в 9-й школе, судя по всему, учились те ещё заррразы:
24.
Выше по набережной - воинский мемориал (1975) с 16-метровой Родиной-матерью:
25.
И барельефами на двух сторонах стены памяти:
25а.
Площадь трёх вокзалов окружают многоэтажки БАМовской эпохи - хоть сама станция и старше, над её реконструкцией, вместе с районом, взял шефство Ставропольский край, строивший эти кварталы. На противоположном конце БАМа крайней подшефной станцией была Хурмули, которую строила Тамбовская область. А между ними потрудились 34 региона РСФСР и 13 союзных республик.
26.
Здесь был и штаб Западного участка стройки, от которого остался ДК "Магистраль":
27.
Он стоит чуть западнее эспланады, а с востока интересны три панно:
28.
За углом от вокзала нашлась небольшая барахолка, а бывалые туристы, отправляясь куда-нибудь на Кодар или реки Калара, знают, куда сбегать за время стоянки поезда прикупить газовых баллонов приличных марок вроде "Следопыта" или "Ковеи".
29.
Мимо "Магистрали" продолжаем путь сквозь бывшее село Холбос, где примечательна первая в постсоветском городе Успенская церковь, перестроенная в 1992 году из явной деревянной сталинки, какого-нибудь районного ДК или детского садика:
30.
Там, где скала Мир уже едва выглядывает из-за поворота, начинается Старый Усть-Кут:
31.
то есть - район бывшего острога, вокруг которого сложилось крепкое сибирское село, жившее больше торговлей, чем землепашеством. Ещё - судостроением: в устье Кута располагалось плотбище, где изготовлялись одноразовые деревянные суда для Лены. С лодок Ленского волока пересаживались на них исследователи, чьи пути расходились веером от Арктики до Японии: Витус Беринг, братья Лаптевы, Владимир Атласов, Степан Крашенинников, Григорий Шелихов и Геннадий Невельской. Последний начал присоединение к России Дальнего Востока, и вот уже новым главным плотбищем сделалась Чита. Теперь самыми именитыми гостями Усть-Кута стали ссыльные, и если дом Макрыгиных на Почтовой улице, где в 1910-12 годах жил Лев Троцкий, не сохранился, то соседний дом Прошак, где был проездом Серго Орджоникидзе, стоит до сих пор:
32.
В основном Старый Усть-Кут - это избы с резными наличниками:
33а.

за которыми жило немало по-сибирски больших и ярких людей. Купцы Николай и его сын Александр Алексеевские попали сюда как ссыльные, но в итоге стали одними из лучших в мире экспертов по пушнине, известными даже в Америке. Иван Касаткин в 1920-х годах слыл "сибирским французом" - с Первой Мировой он возвращался через Западный фронт и Марокко, и в доме его висела карта боевого пути, а сам он долгими зимними вечерами распевал под гитару песни французских солдат. Культурным центром Усть-Кута слыл дом Григория Чертока, где проходили все сельские праздники. Всё это подробно описано здесь, вот только вместо адресов там указаны известные, видимо, каждому устькутянину современные прозвища расположившихся в купеческих домах магазинов - "Высокое крыльцо", "Грушин", "Охотник"...
33.
Главная в Старом Усть-Куте Советская улица раньше называлась просто Большой. Она первая от реки вверх и вторая вниз от главной улицы всего города, которая здесь называется в честь красного партизана Даниила Зверева. Его штаб в 1919 году располагался вон в той избе с забитыми ставнями:
34.
Большая улица ведёт в бывший острог, в 17 веке представлявший собой квадрат палисадов с единственной угловой башней:
35.
Его укреплений не приметил тут уже Александр Радищев в 1796 году по дороге в Илимскую ссылку, а в конце 19 века доломали последнюю курную избу. Примерно на её месте к началу Гражданской войны стояли Коркутовские дома, где разместился штаб белых, на задворках которого были расстреляны и тут же закопаны 9 красных партизан. При Советах дом снесли, а вокруг могилы устроили скверик, главной достопримечательностью которой стала в 2001 году могила Первого жителя Усть-Кута. Тогда река размыла в береговом склоне захоронение 17 века, останки из которого торжественно перенесли сюда.
36.
Само местоположение острога выдаёт Никольская церковь (2018), не первая на своём месте:
37.
Правда, её историческое посвящение ушло в Речники - до 1934 года здесь находилась церковь Спаса Нерукотворного, последнее досоветское здание которой закончили в 1869 году:
37а.
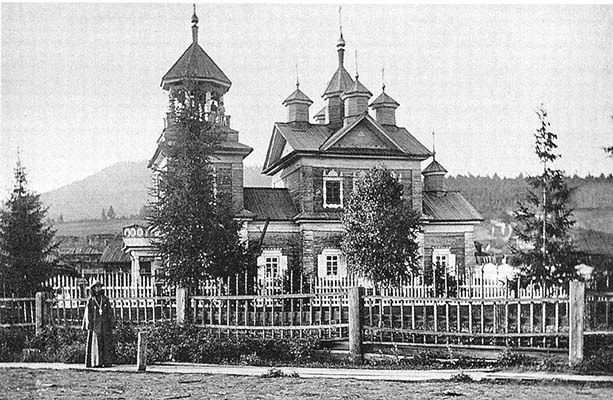
На месте кладбища теперь - какой-то проклятый, заброшенный горком (1950), потерявший актуальность в 1970-е годы, когда Осетровский порт и БАМ сделали Старый Усть-Кут окраиной.
38.
По соседству с ним - лицей неясных лет, но по форме окон хочется верить, что дореволюционный:
39.
Рядом течёт мелкая Кута, впадающая в Лену парой проток с разных сторон просторного Домашнего острова. Ту, что ближе к Старому городу, по осени легко перейти вброд:
40.
Где-то тут располагалось Ленское плотбище. Собственно устье на фоне предместья Зыряновка за Леной:
41.
И именно к тёплой Куте был обращён фасад Старого Усть-Кута. У холодной Лены - лишь бараки для работников полузаброшенного ныне Западного порта Осетрово:
42.
Да усадебки новых купцов:
42а.

Вдоль Лены Усть-Кут вытянут не на 30 километров, а лишь на 25 - за Старым город застройка поворачивает по Куте:
43.
И - ненадолго перемещается на другой берег, где расположился Усть-Кутский курорт - крошечный райончик под Варничной сопкой:
44.
На позапрошлом кадре виден автомобильный мост, но если ехать на маршрутке - удобнее сойти у пешеходного мостика чуть выше по течению:
45.
Полотно его выглядит угрожающе, придавая курорту элемент экстрима. Но последнее совсем не мудрено с таким-то основателем: ключевую роль в становлении Усть-Кута сыграл не кто иной, как Ерофей Павлович Хабаров. Тот самый, чья фамилия дала название дальневосточной столице, а имя-отчество - одной из самых колоритных станций Транссиба.
46.
Ерофей Хабаров, на современный лад Ерофей Добытчик, был крестьянином из деревни под Сольвычегодском, смытой паводком на Северной Двине. Он родился в 1603 году, в разгар Великой Смуты, и, может быть, поэтому на малой родине хабара не сыскал. Даже наоборот - оброс долгами, от которых в 1625 году и сбежал в Сибирь, где стал сборщиком пушнины между воеводским Тобольском и златокипящей Мангазеей. Но понемногу речные пути уводили его всё дальше на восток, и вот в верховьях Лены служба переросла в бизнес. Осмотревшись в молодом Усть-Кутском остроге, в 1639 году Хабаров возделал в окрестных лугах первые пашни, организовал ямскую гоньбу, но в первую очередь приметил в Солёном озере выше по Куте целебные грязи. Впрочем, целебные их свойства Хабарова интересовали не сильно - куда важнее было то, что через эти грязи выходил рассол, выпаривая который да сбывая вниз по Лене "белое золото" можно было озолотиться уже по-настоящему. Ерофей Палыч основал на Куте не курорт, а завод, а дальше случилась история, вполне знакомая и по нашей эпохе - на перспективный бизнес наложил мозолистую лапу якутский воевода Пётр Головнин, и враз лишившийся всего Хабаров несколько лет провёл за решёткой. Там он явно решил преуспеть в краях, где чиновников вовсе не водится, и освободившись при воеводе Дмитрии Францбекове в 1648 году, попросил не свои мельницы и варницы, а саблю да мушкет и ушёл с отрядом казаков за Становой хребет покорять новые земли. Его солеварня же проработала более 300 лет, за свою историю не раз переходя от государства к купцам и обратно. Неимоверная удалённость Сибири способствовала максимальной автономности производства, так что качество продукции было вторичным, а здесь и соль получалась действительно неплохой, уж точно лучше, чем где-либо ниже по Лене. В 1860-х годах на Усть-Кутском сользаводе трудились польские каторжане, в начале ХХ века старые варницы дополнила паровая машина. Наибольшей производительности (до 1500 пудов в год) солеварни достигли накануне революции, и даже в эпоху советских гигантов химиндустрии зачахли постепенно - в 1930-е годы, пусть и с архаичным оборудованием, на ремонт которого не хватало средств, и близкой к 100% текучкой кадров, завод ещё держался, окончательно закрывшись в 1953 году.
47а.
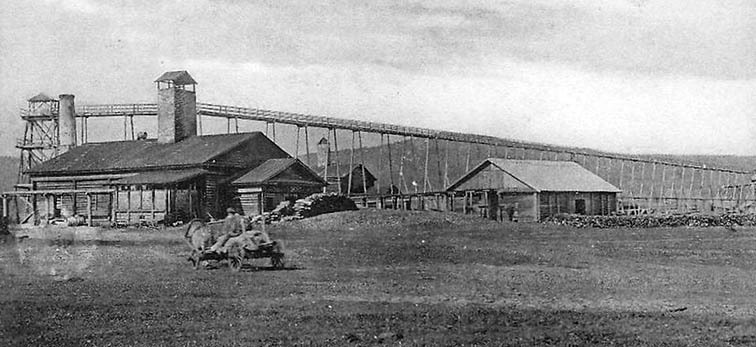
От Усолья, как называлась слободка завода, остались деревянный амбар:
47.
да печальный сруб церкви Прокопия Устюжского (1884):
48.
которая при жизни выглядела так:
48а.

Целебные же свойства здешних грязей первыми определили врачи открывшейся в 1926 году Усть-Кутской больницы. В 1928-м рядом с умирающим предприятием был организован небольшой курорт, по химсоставу и показаниям больше всего общего имеющий со Старой Руссой. Его забор охватывает узкое длинное Солёное озеро, а не вызывающий ни малейших мыслей об отдыхе корпус высится за лугами:
49.
Редкие маршрутки бегают мимо Усть-Кутского курорта до окраинного микрорайона Кирзавод, отсюда едва заметного выше по течению. Байкало-Амурская магистраль западнее Лены двухпутная, но строили её не комсомольцы-романтики, а заключённые мрачного Озерлага. На трассе отсюда хоть до Москвы - асфальт, а вдоль неё суетливый старый мир с казаками, воеводами, ямщиками, партизанами и дрязгами, накопленными за сотни лет. Там есть обжитость и комфорт, но нет того непередаваемого духа свободы и надежды построить честную, справедливую, новую жизнь в таёжном безлюдии. Есть всё то, чего не хватает на БАМе, - и нет всего того, чем привлекает БАМ.
50.
Об охвостье магистрали - индустриальных Железногорске-Илимском и Усть-Илимске - я расскажу в следующих частях. Вот только не решил пока, когда они будут - если моя намеченная поездка на зимний Байкал состоится, то без малого через месяц, а если не состоится - то ближе к следующим выходным.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Лена-Восточная.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь дорожное Усть-Кут Молох транспорт злободневное Иркутская область деревянное курортное |
БАМ! Часть 13: от Байкала до Лены |
Вопреки своему названию, Байкало-Амурская магистраль не заканчивается у Байкала, поморскому селу Горемыкино на берегу которого была посвящена прошлая часть. Её "комсомольскому" участку логичнее подошло бы название ЛАМ - Лено-Амурская магистраль: на этих реках стоят замыкающие её с разных сторон Усть-Кут и Комсомольск-на-Амуре. И сегодня завершим рассказ о всесоюзной ударной комсомольской стройке последним участком от Северобайкальска на запад до Усть-Кута. Проехал я его не только с запада на восток, но и в два приёма с разницей в год, а потому не удивляйтесь переменам растительности и ретроградному движению Солнца.
Становое нагорье с его остроконечными вершинами и головокружительными перевалами осталось позади, но чтобы перестать быть Горным, БАМу осталось пронзить ещё одну преграду - Байкальский хребет, что тянется на юг почти до Малого моря, нависая над озером-морем неприступной скалистой стеной. По окраинам Северобайкальска линия резко поворачивает от берега долиной речки Тыя, из которой уходит на приток Гоуджекит. Последний более всего известен своим горячим источником, который случайно нашли в 1989 году при бурении колодца, да обнаружили, что вода в нём "вторая по качеству в мире", то есть похожа на воду Дилижана. Вдоль Гоуджекита железная дорога поднимается на Дабанский перевал, разделяющий Бурятию и Иркутскую область. Другой вариант его названия - Даванский, но и то, и другое в переводе с бурятского - что-то вроде The Pass, перевал Перевал дословно. Так же двойственно называется встречающий здесь тоннель - в обиходе Даванский (по перевалу), а официально - Байкальский (по хребту).
2.
Да и тоннелей тут две штуки - пока столичная интеллигенция с умным видом рассуждает о ненужности Байкало-Амурской магистрали, вдоль неё полным ходом тянут второй путь. Строительство от Усть-Кута до Тынды идёт участками, ни один из которых пока не пошёл в полноценную эксплуатацию, поэтому чёткой границы того, докуда магистраль уже стала двухпутной, пока нет. Удвоение БАМа, однако, касается и тоннелей, из которых лишь Мысовые тоннели изначально строились под два пути. Начальство приглядывается к Северо-Муйскому хребту, то обещая в кратчайшие сроки удвоить под ним сложнейший в России тоннель, то откладывая это дело на неопределённый срок. А вот второй по длине в России (6682м) Байкальский тоннель (1974-85) в 2014-18 годах получил почти идентичного (6685м) дублёра, которым с лета 2021 года поезда теперь ходят с запада на восток. Мы ехали здесь буквально через пару недель после открытия, и в последнем тамбуре вместе с нами стояла бурятка-проводница, точно так же удивлявшаяся тому, как долго не кончается подземелье. Новый тоннель впечатляет яркими огнями, отсутствием пыли на всех поверхностях и количеством укрытий аж о трёх стенах.
2а.

И вот мы на той стороне, в Казачинско-Ленском районе Иркутской области - последнем регионе на нашем пути:
3.
Тоннель продолжает почти замкнутая Дельбичиндская петля, в самом узком месте разнесённая в ширину (130м) немногим более, чем в высоту (около 60м).
4.
На горах видны следы великой стройки, а что за сооружение блестит на прошлом кадре - теряюсь в догадках.
5.
За петлёй проносятся мимо руины временного посёлка тоннельщиков Гранитный:
6.
При свете дня пейзажи Давани показаны у
 periskop.su, который проезжал здесь в 2020 году почти одновременно со мной и застал Байкальский тоннель в состоянии 97%-й готовности. Я же осматривал эту часть БАМа в 2021 году по пути на Кодар и Чинейскую железную дорогу, и под все мои цели подходил лишь поезд, идущий по долинам Байкальского хребта в глубоких сумерках. Впрочем, мало ли было красивых гор в прошлых частях? А эти на нашем пути, как и многое другое - последние...
periskop.su, который проезжал здесь в 2020 году почти одновременно со мной и застал Байкальский тоннель в состоянии 97%-й готовности. Я же осматривал эту часть БАМа в 2021 году по пути на Кодар и Чинейскую железную дорогу, и под все мои цели подходил лишь поезд, идущий по долинам Байкальского хребта в глубоких сумерках. Впрочем, мало ли было красивых гор в прошлых частях? А эти на нашем пути, как и многое другое - последние...7.
Первая станция в предгорьях - Кунерма, которую поезд проходит без остановок. По своему шефству она, пожалуй, самая интересная на всём БАМе - стройку вели Северная Осетия, Чечено-Ингушетия и Дагестан, а так же студенческий отряд Университета Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы. Раньше на станции был очень красивый вокзал...
7а.

...но с тех пор с него исчезли надпись и скульптуры молодого Шарифа Шахмарданова "Дагестан - БАМу", само здание надёжно загорожено от пассажирских поездов товарняками, да и в посёлке осталось меньше 100 жителей.
7б.

Кавказ же на БАМе был как-то особенно активен, и если другие республики строили по одной станции (кроме Молдавии с её Алонкой и Дугди), то каждая страна Закавказья взяла себе по две. В том же посте, где и Мысовые тоннели, я показывал Кюхельбекерскую, которую строила Армения, и Ангою с вокзалом имени Гейдара Алиева. Ещё одна подопечная станция Азербайджана - Улькан в 2 часах пути от Северобайкальска:
8.
Здешний вокзал - один из самых красивых на БАМе. Его фасады, как в Ангое, облицованы гюшем (травертином) с Апшеронского полуострова, а мозаика олицетворяет азербайджанский витраж "шебеке". Внутри, пишут, есть (или раньше было) ещё и панно "Сказание об Азербайджане", но увы, стоянка слишком коротка, чтобы я смог туда заглянуть.
9.
По-хорошему Улькан заслуживает отдельной остановки - не менее интересен вокзал с обратной стороны, где стоит памятник то ли строителям БАМа, то ли герой поэмы Низами "Семь красавиц" Бахром Гур (см. Баку), у которого в могучих руках кирка вместо сабли.
9а.

Да и посёлок тут по БАМовским меркам большой (5,1 тыс. жителей) и красивый. Но глянув в мутное окно на ТОЦ (торгово-общественный центр) в одном с вокзалом стиле, продолжаем путь:
10.
Идущий здесь вдоль Киренги - недлинной (669км), но мощной (650 м³/с, масштаб Волхова или Свири) реки, в устье которой на Лене стоит старейший в Иркутской области (с 1630 года) городок Киренск. Правда, мы бы туда опоздали лет так на 80 - уникальный для Сибири Усть-Киренский монастырь, откуда мятежный атаман Никифор Черниговский унёс икону, впоследствии ставшую Албазинской Богоматерью, разрушен в советские времена.
11.
На скале над Киренгой виден посёлок Окунайский (900 жителей), мимо которого поезд проносится без остановок. А между тем, место это знаковое - впервые от самой Тынды здесь к БАМу подходит с юга перпендикулярная автодорога. Это Качугский тракт, ведущий из Иркутска через Баяндай у поворота к Ольхону, старинные Верхоленск и Жигалово и Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Когда-нибудь, надеюсь, я проеду эти трактом и пойду ждать поезда в Улькан:
12.
А пока, минут через 40 после Улькана, наш поезд прибывает на станцию Киренга в посёлке Магистральный (6 тыс. жителей):
13.
Здесь для нас начинается осень: всё показанное выше я заснял в августе 2021 года из окон дальнего поезда, а всё показанное ниже осмотрел в сентябре 2020 года, сев на пригородный из Усть-Кута.
14.
Здоровенный громоздкий вокзал украшен ажурными решётками, в которых чередуются буквы "БАМ" и "ДОН" - посёлок и станцию строила Ростовская область:
14а.

Зал ожидания увешан бамстроевскими фото, которыми явно гордится начальник вокзала, - увидев наши фотоаппараты, нам на полную мощность включили обычно приглушённый свет.
15.
В зале ожидания мы коротали вечер - из Усть-Кута мы поехали на восток для того, чтобы сесть в ночной поезд на запад, до Железногорска-Илимского, и в купе хоть немного поспать. Но в последних сумерках я решил погулять по посёлку, который здесь, как и в построенном Донецком Новом Ургале, отделяют от станции парк и косогор.
16.
Магистральный стоит в 18 километрах от райцентра, старого (с 1776 года) села Казачинского, с которым образует двойную систему примерно как Северобайкальск с Нижнеангарском: тут - благоустройство и вокзал, там - старина и аэропорт с рейсами до Иркутска.
17.
Центр Магистрального - обширная площадь, я бы даже сказал, эспланада с памятниками по краям:
18.
Более всего здесь озадачивают флаги на балконах - с нашим триколором я такое прежде видел лишь в 2014 году в Крыму.
18а.

Пара зарисовок:
19.
Киргизия была единственной из 15 республик, не имевшей подшефной станции на БАМе. В Киренге нашёлся хоть один подшефный Киргизии объект - рынок:
20.
На краю эспланады - громоздкий ТОЦ, при взгляде на который я не могу отделаться от мысли, что он замышлялся как новая администрация Казачинско-Ленского района.
21.
Два микрорайона Магистрального лежат по разные стороны Российской улицы. 1-й Микрорайон с её стороны ограничивает мощная труба в деревянном коробе:
22.
А со стороны обрыва над БАМом - гаражи и сараи с деревянными надстройками:
23.
Огороды у подъездов да шинные лебеди - наивные сюжеты БАМовской глубинки:
24.
Два микрорайона компактно стоят посреди обширного частного сектора. По изначальному плану Магистральный должен был стать городом с 20-тысячным населением, а промышленная специализация его видна невооружённым глазом - на иркутском участке БАМа станции впечатляют обилием древесины:
25.
От Киренги линия уходит вдоль речки Берая:
26.
Скалы над которой - опять же последние на нашем пути:
27.
В 40 минутах от Киренги встречает станция Небель - последняя на нашем пути "сирота", шефство которой мне так и не удалось выяснить. Вообще для меня так и осталось загадкой, были ли на БАМе посёлки с вокзалами без шефства, но если не было - то здесь, методом исключения, из списка на памятнике в Куанде могли отметиться Иркутская, Омская, Астраханская области и Кабардино-Балкария. Я бы предположил либо первую (поскольку на своей земле), либо последнюю (поскольку все соседние станции строил Кавказ).
28.
Вот, например Ния, куда поезд приходит через полчаса, встречает обелиском с надписью "Россия - Грузия":
29.
Прежде я уже показывал другое творение сынов Сакартвело - самую высокогорную на БАМе станцию Икабья у перевала Мурурин. Оба грузинских вокзала похожи своими очертаниями:
30.
Но нийский интереснее благодаря многочисленным деталям типично закавказской каменной резьбы:
30а.
Сам посёлок (1 тыс. жителей), однако, невелик и довольно невзрачен.
30б.

Мимо покатых гор, золотящихся лесов и бескрайних лесопилок минуем водораздел Киренги и Лены, по совместительству - воображаемый Безобдальский перевал, на котором Пушкин встретил покойного Грибоедова:
31.
Ведь перевал тот в Закавказье "отделяет Грузию от древней Армении", которая и строила следующую станцию Звёздную (850 жителей) ещё в получасе пути:
32.
Облицованный розовым туфом вокзал с резьбой наличников и циферблата выглядит так, будто архитекторы откопали забытый проект Александра Таманяна (см. Ереван).
33.
Выше - такой же розовотуфовый ТОЦ:
34.
А в основном на косогоре - типовые для БАМии малоэтажки с треугольными крышами:
35.
Первоначально эта станция называлась Таюра - по речке, протекающей внизу. Потом её почему-то решили переименовать, и самые популярные среди строителей варианты были Снежная (потому что осваивать её начинали в пургу) или Звёздная (потому что это просто красиво). В Байкало-Амурском мире она играет особую роль - это была первая станция ударной стройки, где уже в мае 1974 года высадился комсомольский десант. Его участники среди ветеранов БАМа - примерно как среди ветеранов Великой Отечественной защитники Москвы, дошедшие до Берлина. Здесь, на Таюре, в тогда ещё дикой тайге начинала складываться вся эта неповторимая общность бамовцев, и молодой режиссёр Анатолий Байков, так и не успевший поставить спектакль о зарождении БАМа, именно здесь основал свой театр "Молодая гвардия". Об особой роли Звёздной напоминает памятник Первопроходцам БАМа с вездеходом ГАЗ-71, поставленный на западном выезде из посёлка.
35а.

Первостроители забрасывались на Таюру кукурузниками, садившимися на утрамбованный снег - до берега Лены отсюда около 30 километров, которые поезд преодолевает почти час, и путь туда пробили далеко не сразу. Вот стела на опушке у реки - а без малого год назад я показывал подобную стелу за Амуром:
36.
Лену в этих краях мы не сговариваясь прозвали Леночка - до гигантской реки, единственной в мире хотя бы во время паводков способной потягаться с Амазонкой, ей течь ещё очень далеко. На БАМе она гораздо меньше, чем её притоки Олёкма, Витим и даже Киренга. В 1975 году был сдан 350-метровый мост на широких опорах, второй путь по которым проложили в 2019 году:
37.
Усть-Кут вытянут вдоль Лены тонкой полосой на 25 километров, немалая часть которых приходится на причалы крупнейшего в России речного порта Осетрово. Мост входит в город почти что у нижней оконечности, но именно что почти: ниже по течению видны лесные причалы и новое хранилище газа с Ковыкты.
38.
Впрочем, сам Усть-Кут дошёл сюда лишь в 1996 году, а прежде у моста стоял отдельный посёлок Якурим, центр которого с усайдингованным ДК и революционным обелиском хорошо узнаётся у конечной городских ПАЗиков:
39.
Большая часть Якурима - халупы да промзоны, а его ядром стал БАМовский район Мостотряд, построенный Краснодарским краем:
40.
Как и лежащая чуть дальше станция Лена-Восточная - фактически самая западная в комсомольской стройке, а потому здесь и последний типично БАМовский вокзал. За ним обратите внимание на электричку: на восток отсюда сидячие вагоны таскают электровозы, а на запад бегают такие же "эрки", как в Подмосковье или Ленобласти:
41.
В промзоне неподалёку - пара скучающих "Магирусов", а станция Якурим близ нефтебазы была пущена в 1951 году и на десятилетия осталась конечной:
42.
Напоследок - несколько зарисовок с длинных улиц Усть-Кута:
43.
44.
45.
О котором будет следующая часть.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Лена-Восточная.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Усть-Кут Сибирь транспорт Иркутская область дорожное Бурятия |
Байкальское (Горемыкино). Берег байкальских поморов |
От показанных в прошлых частях Северобайкальска и Нижнеангарска, столь непохожих друг на друга, но слагающих двойную систему у северной оконечности Славного моря, на две сотни километров на юг тянутся безлюдные берега. Байкальский и Баргузинский хребты обрываются в воду отвесно, лишь изредка расступаясь труднодоступными бухтами. Людей на Байкале вообще живёт меньше, чем нерп, и в большинстве своём предки этих людей ехали сюда на стройки Транссиба и БАМа. Куда как менее заметны старожилы, пустившие здесь корни в 17-18 веках, но лишь в последнее десятилетие вспомнившие о себе и назвавшиеся байкальским поморами. Центром этого "непризнанного субэтноса" считается Баргузинский район, где я пока ещё не был, а вот неповторимой атмосферой глухих поморских деревень меня впечатлило Байкальское, бывшее Горемыкино - небольшой старое село (600 жителей) в 45 километрах от Северобайкальска, последний очаг цивилизации перед глухой землёй.
В Северо-Байкальском районе есть такая удивительная вещь, как маршрутки. Не корейские бусики с откидными сидениями, места в которых надо бронировать по приколоченному к поселковой доске объявлений телефону, а обычные "Форды" и "Спринтеры" с оплатой водителю и фиксированным расписанием. Из Северобайкальска в Байкальское такой курсирует целых два раза в день, в 8 и 17 отправляясь то ли от вокзала, то ли от Центральной площади, где мы ловили её. Ехать около часа, и оба рейса - с возвратом в город, то есть на знакомство с Байкальским остаётся около 9 часов. На дороге по всей длине плохонький, но асфальт, а пассажиры-односельчане в большинстве своём друг друга знают и панибратски общаются весь путь. Нас час пути обогатил двумя эпическими фразами: "У вас тут что, мИсочный режим?" и "Да иди ты нафиг со своим вирусом!".
2.
Историческое названия села над устьем Рель-реки - Горемыкино, а то и даже просто Горемыки. Откуда оно взялось - есть несколько легенд, самая красивая из которых гласит, что когда-то здесь потерпела крушение попавшая в жестокий байкальский шторм баржа с переселенцами, вынужденными обживаться на холодном незнакомом берегу. Но вероятнее всех кораблекрушений и лепрозориев вариант, что просто первое зимовье тут поставил в 1640-х годах казак по кличке Горемыка из отряда Василия Колесникова, заложившего Верхнеангарский острог из прошлой части. Дальнейшая история села в общем-то ничем не примечательна - стояло и стояло себе оно на высоком берегу Байкала, и жители его добыли много омулей, бычков, тайменей, голомянок, бакланов и нерп. В 1942 же, когда вся страна стала горемыками, власти экстренно переименовали село в нейтрально-Байкальское. Потому, видать, и воинский памятник тут какой-то жизнеутверждающий:
3.
Облик Байкальского после Ворзогор или Чаваньги кажется столь знакомым, что словосочетание "байкальские поморы" звучит существовавшим здесь всегда:
4.
При всём обилии рыб, дичи и даров окрестной тайги, берега Байкала во все времена отличала удивительная малолюдность. Даже сейчас на всём Славном море живёт около 100 тыс. человек и стоит всего 4 города - южные Слюдянка, Байкальск и Бабушкин и далёкий Северобайкальск, единственный крупнее 20 тыс. жителей. Да и те относительно молоды: два из них порождены Транссибом, один - БАМом, а Байкальск - и вовсе печально известным ЦБК. Старые сёла у берегов зарождающегося океана - наперечёт, и за исключением Баргузинского берега, стоят на своих бухтах одиноко. Плугом для их жителей был невод, который забрасывали несколькими лодками, а вытягивали вбитым в песок конным воротом. Традиционные деревянные лодки здесь называют баркасы, хотя по виду это скорее карбасы:
5.
Добавляет поморского духа байкальская топонимика, в которой уживаются сибирские (падь, сопка), степняцкие (сор) и самые что ни на есть поморские слова, как губа, нос или тонь... Всё, однако, с чуть местной спецификой, с адаптацией под новые реалии. Так, в степях Казахстана сор - это солончак, а на Байкале - лагуна, мелководный залив за песчаной косой, где вода неплохо прогревается, но вряд ли пригодна для питья. Беломорская тоня - это рыбацкий стан, в то время как байкальская тонь - в первую очередь промысловый участок, куда артель забрасывает свой невод. У байкальского Святого Носа есть тёзка на Белом море, и там же нетрудно представить Упорную или Сенную губу. Название Посольский сор звучит забавно. а залив Шестандцати тоней или Миллионная тонь - по-своему романтично. Само же переплетение топонимики хорошо объяснимо - на Байкале нет луд (шхер) или бараньих лбов, а на Белом море не водилось соров.
6.
И тем удивительнее понимать, что байкальские поморы - концепция новая, впервые обозначенная лишь в 2011 году. Ведь для хозяйства на Байкале куда губительнее экономической политики - политика экологическая. Где-то оправданная - тех же нерп охотники, крадущиеся по льду за установленным на сани белым экраном, к середине ХХ века почти истребили (см. Ольхон), и лишь к 21 веку эти очаровашки расплодились вновь. Бакланы (на кадре выше) тоже бесследно исчезли с 1960-х годах, и так же внезапно стали появляться года с 2005, а сейчас их называют тут "чёрная смерть" - рыбы они съедают куда больше, чем люди. Но бакланов не посадят (пардон за каламбур) за браконьерство - в отличие от людей... К которым закон тоже не одинаков: представители коренных народов, в том числе отнюдь не малочисленных бурят, имеют льготы на байкальское рыболовство. И вот в 2011-12 годах, на излёте Медведевской оттепели, нашлись активисты, предложившие выделить местных старожилов в отдельный субэтнос "байкальские поморы" и тоже ловить рыбу льготно. Своей цели они тогда не добились, но помогли осознать самобытность и инаковость старых рыбацких сёл. Мёртвые катера рыбзаводов - примета байкальских берегов что в Нижнеангарске, что в Култуке, что в Хужире, а вот баркасы пока на ходу.
7.
Как и неповторимая атмосфера поморской глубинки. С севера над Байкальским нависает мыс Лударь, куда мы и пойдём по хорошо натоптанной тропе:
8.
С юга, за глубокой поймой Рели, высится Байкальский хребет, тянущийся отвесной стеной на 300 километров, напротив Святого Носа сменяясь Приморским хребтом. Где-то в его середине - высшая точка гора Черского (2588м) и перевал Солнцепадь, с которого стекает целая Лена - одна из величайших рек Земли оказалась бы безвестным ручейком, если бы зарождалась на другой стороне перевала. Но дело тут ещё и в том, что северная акватория Байкала моложе - мощный рифт зарождающегося океана, тянущийся от Саянских вулканов до Удоканских руд, расширяется постепенно, и к северу от Святого Носа земля расступилась по геологическим меркам не то чтобы очень давно - 8-9 миллионов лет назад. На возникшем 30 миллионов лет назад Приморском хребте реки успели размыть широкие пади, а вот на Байкальском хребте почти нет мест, куда можно поставить жильё. От Горемыкина до Онгурёна, ближайшего села в той стороне, порядка 230 километров:
9.
В центре села - Иннокентьевская церковь (1901-02), в ХХ веке пережившая обезглавливание (под поселковый клуб) и восстановление.
10.
Застройка Байкальского - небольшие избы-клети и огромные амбары. Всё это больше похоже на рыбацкую глубинку Белого моря, чем на приречные сёла Русского Севера и старожильческой Сибири.
11.
Многие избы заброшены, как и всюду в нечернозёмных краях. Но из иных глядят тени умерших предков:
12.
Попадаются и опрятные домики с резными наличниками и палисадами:
13.
Но абсолютно поморская деталь - могилы прямо на улицах и полях, в оградах исчезнувших усадеб:
14.
Прежде я видел такое лишь на Мезени, откуда, стало быть, и могли явиться предки горемык:
15.
Кадр выше снят уже за околицей, где помимо могил примечательны странные почти отвесные слипы. Грузятся в лодку, конечно, уже с пляжика, а сюда её затягивают подальше от штормов:
16.
Постепенно село расступается, а дорога выводит к мысу Лударь:
17.
Здесь проложен небольшой участок Большой Байкальской тропы, замкнуть которую кольцом длиной в полторы тысячи километров волонтёры и их кураторы пытаются уже лет 30. Жилое от заповедного отделяет необычная извилистая ограда из тонких брёвен:
17а.

Вот только она не достроена, и ворота, на которых, приглядевшись, можно различить "петроглифы", используются как инфостенд:
17б.

С мыса фантастические виды:
18.
Село красиво уходит за сопку, на самом деле простираясь достаточно далеко от Байкала:
19.
Как на ладони главная площадь и храм:
20.
Вдали рыбаки снуют в рельских плавнях:
21.
А за Релью - тайга. Обращённые от Байкала склоны хребта довольно пологие, вот только что на них делать? За горами земля почти необитаема до самой Лены.
22.
Мыс Лударь - не просто красивое место, а древнее городище, порядка 1500 лет назад ставшее центром шаманских обрядов. К этому располагает хотя бы сама форма - пологий склон, дальним краем обрывающийся в Байкал, служил отличной сценой, на которую древние эвенки или вытеснившие их осваивать тайгу курыкане (см. здесь) глядели снизу, от лесной опушки.
23.
Городище было открыто в 1963 году, но лишь в 1978, на волне БАМстроя, описано и изучено детально. Наметанный глаз археолога различит тут следы нескольких жилищ и стену, скромные размеры которой наводят на мысль не о крепости, а о загоне для скота.
24.
В одних скалах чудятся природные скульптуры, в других - явные алтари, с которых кровь давно смыта дождями:
25.
По подножью почти круглый, наверху мыс рассечён мощными падями, отделяющими два комплекса, археологами известных как Байкальское-1 и Байкальское-3 - но увы, я уже не могу понять, какой где, по кадрам выше. На третьем утёсе - простейший сетчатый маяк, где мы по пути и туда, и обратно встречали игравших детей из Байкальского.
26.
С него видны китообразные мыс Красный Яр и Богучанский остров на фоне синих гор Верхнеангарского хребта:
27.
На острове можно разглядеть крест - и ближе к концу поста я расскажу, в честь кого он поставлен:
28.
Третий хребет в поле зрения - Баргузинский на том берегу, примерно в 30 километрах отсюда. Там есть удобные бухты, но заселить их было, кажется, некому - на три сотни вёрст до Святого носа под горами стоят разве что турбазы и полудикие курорты. Единственное село Давша в 150 километрах от Нижнеангарска - и то почти опустело. Заморское побережье имеет своё историческое название - не Поморье, но Подлеморье, популяризированное в ХХ веке бурятскими писателем Михаилом Жигжитовым. Ну а по факту Подлеморье - это и Байкальское, и Нижнеангарск с Северобайкальском: ведь на промыслы и на отдых туда ездят с этого берега.
29.
Почти напротив Байкальского - знаменитые Хакусы, курорт на горячих источниках, доступный лишь по воде: иные местные даже считают его островом. Говорят, там очень хорошо, но неимоверно дорого, однако летом на Хакусы можно сгонять посветлу одним днём или поставить палатку. Выше, за хребтом, висит живописное озеро Фролиха, в котором водится даватчан ("рыба с красным мясом") - арктический голец, оставшийся здесь с ледникового периода.
30.
На Лударе - чистый лиственничный лес, в отличие от пожелтевших лесов Чарской долины, Патомского нагорья и даже брегов Ангары в середине сентября ещё зелёный. Ведь Байкал, как и положено морю, дольше накапливает холод и тепло, а потому любые сезоны в его котловине наступают позже примерно на месяц:
31.
Большая Байкальская тропа - изначально волонтёрский проект, и следы волонтёров тут хорошо видны: мусор убран, а кое-где попадаются симпатичные инсталляции.
32.
И духи, к которым взывали шаманы Лударских святилищ, стоят у тропы:
33.
Так и шли мы по краю:
34.
А галечный пляж и прозрачная вода манили нас за этот край. Вдобавок, я знал о двух священных пещерках где-то внизу, и почему-то не верил, что путь к ним - "всё по главной".
35.
В который раз уже я мог себе напомнить, что если не понятно, тропа под ногами или не тропа - значит, это не тропа, и в который же раз - не напомнил. Под вялые протесты Оли мы пошли вниз по крутому склону:
36.
Где даже ухитрялись любоваться растительностью, будь то похожие на кровь Хищника лишайники:
37.
Их более традиционные собратья:
38.
И странные соцветия, как где-нибудь в Капских горах:
39.
40.
Потратив битый час и не раз осознав, что это была плохая идея, мы спустились, описав вдоль склона несколько зигзагов:
41.
И таки правда вышли на очаровательный пляж с белой галькой, валунами и отблесками Солнца в прозрачной воде:
42.
Ничего общего со вчерашней чёрной мутью Ангарского Сора! Болтавшаяся на волнах доска - и та отбрасывала чёткую тень. Как мы знаем с детства, прозрачность байкальской воды достигает 40 метров - но такое тут бывает только в мае, когда лёд едва сошёл, а воду не успели заполнить ни водоросли, ни пыль.
43.
Почему-то именно с берега, а не с мысов, просматривается Северобайкальск, болезненно чуждый в здешнем пейзаже:
44.
Купаться было уже холодновато, не столько от воды, сколько от воздуха, и перекусив на бревне, мы стали думать, как выбираться. Карабкаться на склон не хотелось, и по валунам мы легко перебрались в соседнюю бухточку. Где очередной то ли мусин, то ли эжин (дух места у эвенков и бурят соответственно) состроил нам козью мордочку - из этой бухты тропы наверх вообще не было!
44а.

Так началось наше внеплановое купание в Байкале - мы решили пробираться к тропе дальше по камням у подножья мыса. Перелазы чередовались с бродами, и в какой-то момент я понял, что постоянные переодевания ботинок отнимают непозволительно много времени. Оля, впрочем, это поняла ещё раньше - нормальные туристы через броды ходят так:
45.
И в общем идти было не сказать чтоб тяжело, разве что мёртвая нерпа слегка огорчила. Куда больше меня беспокоило осознание, что единственного метра непроходимой глубины будет достаточно, чтобы весь поход оказался напрасным. В какой-то момент я заметил отвесный обрыв, под которым могло быть и 20 метров... но там оказалось неглубокое и почти ровное дно. На фото, впрочем, не он - большую часть 2-часового обхода мыса я вообще не доставал камеру.
46.
Подножье мыса привело нас к цели - тем самым Лударским пещерам, в которых археологи сделали множество находок курыканских времён (6-11 века) и предположили, что у курыкан они считались входом в царство мёртвых.
47.
К Малой Лударской пещере в высоководные годы нельзя подойти, не замочив ног, и наверное тут был особый секретный проход для шаманов.
48.
У Большой Лударской пещеры - 12-метровый портал, без труда доступный по суше:
49.
И представляющий собой отчётливое "женское начало" внутри - хоть на Кавказе, хоть на Урале, хоть в Арктике такие места неизбежно превращались в святилища.
50.
Рядом - ещё и стоянка каменного века возрастом порядка 4000 лет. Мы же где-то тут проглядели охристые петроглифы - часто пишут, что они видны только с воды, но вот однако явно сухопутное фото:
51.
По довольно крутым, но всё же отчётливым тропам мы вернулись к "магистральной" Лударской тропе. Которая продолжается и дальше, на 18 километров до тёплых и живописных Слюдянских озёр, представляющих собой оторванные от Байкала заросшими косами соры. Сейчас на них ездят рыбачить или купаться, но название напоминает о том, что так было не всегда - по другую сторону автодороги, под скалой Бастион, ещё лежат руины сталинского лагеря Богучан (фото есть здесь), заключённые которого в 1927-32 годах занимались в штольнях добычей слюды-мусковита.
52.
Но мы теперь едва успевали на маршрутку. Кадры с обратного пути я так же показывал в начале поста, однако потерять время и силы на внеплановое купание стоило хотя бы ради этого сюжета: вы когда-нибудь видели воду, на которой остаются следы? Но так чист и прозрачен Байкал, что принесённые пена и муть оставались заметны в нём час спустя после нашего брода.
53.
Вскоре мы спустились в Байкальское. Надо заметить, "на глаз" в нём осталось дай бог душ 50 - не считая пассажиров маршрутки, на улицах села мы ни разу не встретили человека достаточно близко, чтобы ему или нам захотелось начать разговор. Обильные стада (в том числе не попадавшиеся нам на глаза кони), однако, напоминают, что упадок Горемык не столь тотален - скорее, опустел открытый всем ветрам исторический центр над морем. Основная жизнь в брусовых домах вокруг огромной каменной школы - за сопкой, где маршрутка успевает сделать несколько остановок.
54.
Последним впечатлением того дня стала Ступа Дружбы "Ендун" над Онкочанской губой с потрясающими видами вдоль побережья. Увы, к краю подбежать времени не было - водитель, притормозивший не то что с согласия, а с уговоров всех немногочисленных пассажиров, дал нам буквально пару минут.
55.
В Северобайкальске мы заскочили в гостиницу "Северная" за рюкзаками и отправились сначала в бурятскую позную близ станции, а потом и на вокзал ждать поезда, отправлявшегося в Усть-Кут глубокой ночью. Целенаправленно я проехал последний участок "комсомольского" БАМа в обратную сторону и к тому же в два приёма с разницей в год. О нём и расскажу в следующей части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Лена-Восточная.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа Подлеморье дорожное рыбацкое этнография деревянное Бурятия |
Нижнеангарск на Верхней Ангаре. Столица Подлеморья |
В России есть не только Поморье и Приморье, но и Подлеморье - так полуофициально называют северо-восточный берег Байкала у подножья Баргузинского хребта. В своих традиционных границах Подлеморье необитаемо, но его синие горы служат задним планом для городов и весей Северо-Байкальского района Бурятии. Райцентр тут не Северобайкальск из прошлой части, а образующий с ним двойную систему ПГТ (4,1 тыс. жителей) Нижнеангарск за показанными в позапрошлой части Мысовыми тоннелями. Там была и пара кадров со станции Нижнеангарск, но посёлок выходит к Байкало-Амурской магистрали лишь краешком: задолго до её постройки он стоял на своём берегу у северной оконечности Славного моря.
Северобайкальск и Нижнеангарск удивляют близостью своего соседства - в бескрайних пространствах Сибири такие населённые пункты обычно тянутся друг к другу и срастаются в один. От Ленинграда-на-БАМе до Столицы Подлеморья нет и 20 километров, а маршрутки между ними бегают каждые полтора-два часа. Короткая дорога неожиданно интересна и вся представляет собой один сплошной мемориал строительству Мысовых тоннелей. Сами они мелькают слева над технической веткой, вдоль которой попадаются сюжеты вроде МоАЗа на постаменте и лозунга "Тоннели строят настоящие мужчины!" буквами из труб. С другой стороны - мозаичные остановки с целым эпосом тоннельстроя и простор Байкала за деревьями. Всё это я показывал в позапрошлой части, однако БАМовские сюжеты стали лишь основой, вокруг которой наросло много всего. И там, где кончаются тоннели, можно увидеть над озером чум и бубен композиции "Эвенки Северного Байкала", а чтобы украсить остановки, достаточно фанеры и масляной краски:
2.
Над эвакуированным сюда в 1942 году из Очакова рыбозаводом с остовами выбросившихся на берег катеров, мимо кварталов для его рабочих, маршрутка въезжает в Нижнеангарск, зажатый между крутым Верхнеангарским хребтом и болотистым Ангарским Сором:
3.
Как мы все знаем с детства, в Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна Ангара. Получив хотя бы минимальные знания по географии, я категорически не понимаю, почему на этом так акцентируется внимание: из Ладоги вытекает только Нева, из Великих озёр - только река Святого Лаврентия, а из Эльтона или Балхаша вовсе ничего не вытекает: уникальны в мире как раз таки озёра, порождающие более одной реки. А Ангара умудряется делать и то, и другое: близ северной точки Байкала в Славное море впадает текущая с Северо-Муйских гор Верхняя Ангара - река не слишком длинная (438км), но полноводностью (265 м³/с) достойная Терека или Днестра. Совпадают ли два эвенкийских названия случайно или же русские первопроходцы сочли длинный узкий Байкал гигантским плесом единой Ангары - я так и не смог разобраться. Как бы то ни было, первые из русских людей пришли сюда во времена, с БАМовских станций кажущиеся не очень-то далеко отстоящими от Большого взрыва. То были не комсомольцы 1970-х, не зэки 1930-х, не старатели 1910-х, а те, кто долго и упрямо шёл по неизведанной земле "встречь солнцу". В 1643 году енисейский казак Семён Скороход срубил где-то тут зимовье, в 1647 году расширенное атаманом Василием Колесником до острога. Где именно отметились Скороход и Колесник, теперь никто точно не знает - если на Верхней Ангаре, то не в устье, а если на Байкале - то в стороне от реки. На Верхнюю Ангару, в устье реки Светлой, острог был перенесён лишь в конце 17 века, а в 18 веке, с утратой оборонной функции, его жители перебрались поближе к горам, на тёплое озеро Иркана, где ещё долго называли Верхнеангарским нынешнее село Кумора.
4.
На Байкале же с невесть каких времён стояло село Чичевки, куда съезжались на пушные ярмарки эвенки из тайги и русские из-за моря. В 1931 году Чичевки, разросшиеся до крупного села, перенесли на несколько километров западнее, к присёлку Губа, и переименовали по такому случаю в Козлово - в честь большевика Ивана Козлова, убитого на Гражданской войне. Впрочем, по датам переименований я бы заподозрил скорее 1937-й: в 1938 году, получив статус ПГТ, райцентр вновь спешно сменил название, превратившись в Нижнеангарск. То есть Нижний он относительно Верхнеангарского, и в полном виде его название должно было бы звучать как Нижневерхненгарск. Градообразующими предприятиями райцентра стали рыболовецкая база (1930), лесхоз (1947) и охотхозяйство, заготовлявшее мех ондатры (1952). В общем, была здесь правильная сибирская глушь, доступная лишь по воде и воздуху, пока в 1974 году не грянул БАМ. Для тяжёлых барж здешний порт оказался слишком мелководным, поэтому центром стройки века на её Бурятском участке стал Северобайкальск, построенный с нуля за Мысовыми тоннелями. Однако старое село, подобно Чегдомыну или Тындинскому, сделалось тылом стройки, участникам которой было нужно больше стройматериалов, дров и рыбы. К 1991 году Нижнеангарск разросся до 7 тыс. жителей, и пустеет с тех пор равномерно год от года. Но - не унывает: потеряв производство, местные власти пытаются поставить во главу угла туризм, что и сделало Нижнеангарск достойным чего-то больше, чем взгляд из окна поезда на БАМе.
5.
На кадрах выше - старые избы с наличниками, едва ли не самые восточные на всём БАМе. Среди них стоит и краснокирпичный домик основанного в 2009 году краеведческого музея. Внутрь мы не пошли, так как оказались здесь уже после закрытия, да и самое интересное у музея - снаружи:
6.
Небольшую экспозицию техники на берегу Байкала открывает самый необычный агрегат - кислотно-жёлтый ППМ-3А, то есть породопогрузочная машина, собирающая в тоннелях обломки после буровзрывных работ. Конкретно этот породопогрузчик был изготовлен на Дарасунском заводе горного оборудования в тогдашней Читинской области и участвовал в строительстве не мелких Мысовых, а крупнейшего и сложнейшего в России 15-километрового Северо-Муйского тоннеля. Здесь машину поставили в 2019 году к 45-летию начала БАМа, окружив инфостендами как о ней самой, так и о важнейших тоннелях Бурятского участка магистрали. Как и следующий в ряду катер "Республика", построенный в 1964 году в Усть-Луге, сопровождают стенды о славном пути рыбхоза и рыбозавода, замолкающие, увы, на 2007 году. Промышленное рыболовство на Байкале умерло уже в 2010-х (см. Хужир), и не меньше экономики к этому привела экология.
7.
Вездеход ГАЗ-71 напоминает о геологах Северо-Байкальской экспедиции, с 1958 года открывших в окрестных горах богатые месторождения меди и никеля, свинца и цинка, редкоземельных металлов, графита и всяческих строительных камней.
7а.
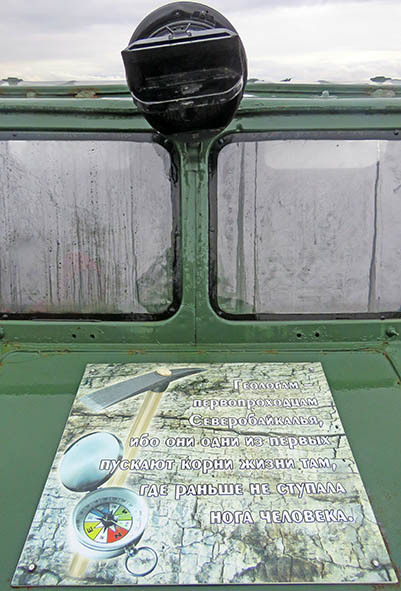
Ну а "кукурузник" тут поставили в 2014 году к 40-летию БАМа - такими забрасывали комсомольцев на быстро подготовленные в тайге грунтовые аэродромы:
8.
За музеем по обе стороны дороги расположился мемориал Победы. Неизвестный солдат среди честной советской символики глядит на байкальские волны:
9.
А напротив в 2009 году расположилась Аллея Героев:
10.
За очаровательной нерпой на камне сфера влияния музея сменяется сферой влияния Дома культуры:
11.
Над его крыльцом привлекает взгляд надпись "Эвенкийский центр", а рядом расположился и небольшой музейчик с парой чумов - очевидно туристическим дощатым и претендующим на аутентичность берестяным. Эвенки жили на Северном Байкале испокон веков, русские же тут не прятались за стенами острогов, а сами расселились по тайге и берегам. Это равенство сыграло с эвенками злую шутку - два народа сблизились и многому друг друга научили, ещё в 19 веке образуя скорее симбиоз (большинство старожилов тогда немного владели эвенкийским языком), но в ХХ веке русская культура взяла верх окончательно: ныне из примерно 700 эвенков Северо-Байкальского района родным языком не владеет ни один. Однако спрос рождает предложение - с развитием туризма тут многие вспомнили о своих корнях и даже стали возрождать оленеводство. Вот, например в программе тура "Неизвестной России" фигурируют эвенкийская турбаза за Байкалом и оленеводческое хозяйство "Юктэ" близ Ангои.
12.
Непрерывные оленеводческие традиции и даже живой эвенкийский язык сохранились на БАМе куда восточнее, между Тындой и Чарой, где нам довелось побывать на нетуристическом стойбище.
13.
Здесь же - скорее игровая площадка, чем скансен, и даже забор вокруг неё (как заметил
 patasak) будто говорит нам "ололо".
patasak) будто говорит нам "ололо".14.
Напротив вытянулась набережная, явно обустроенная ещё в эпоху открытого мира:
15.
16.
17.
А парочка сидящих на бревне влюблённых открывают Аллею семей БАМа, на которую уже не хватило средств:
18.
Здесь же расположились административные здания Северо-Байкальского района, за которыми, на второй от моря улице Козлова, стоит, пожалуй, самый колоритный образец советского деревянного зодчества, что я видел:
19.
Но я не нашёл ни малейшей информации о его сущности или хотя бы времени постройки:
20.
А по архитектуре заподозрил бы скорее БАМовскую эпоху:
20а.

Кварталом дальше - конечная северобайкальских автобусов между Владимирской церковью (2010)...
21.
...и Нижнеангарским мемориалом (1982) жертвам Гражданской войны, а точнее - банды Черепановых. Вожаком её был мужик Андриян Черепанов, а фактически - его жена Анна, в мирные годы обычная сельская учительница, на войне отличившаяся такой жестокостью и удачливостью, что в народе её считали чуть ли не вампиршей. В основном черепановцы орудовали на Верхней Лене за Дабанским хребтом, а сюда устроили единственный набег с 8 по 23 декабря 1921 года, объединившись с восставшими тунгусами и белыми партизанами Валентина Дуганова, который прошёлся в 1921-23 годах до самой Якутии и отступил в Китай. От Горемыкина (Байкальского) до Верхнеангарска (Куморы) они убили тогда 38 человек, больше половины из которых во главе с Иваном Козловым - в Чичевках.
22.
Братскую могилу сюда перенесли в 1954 году с ликвидированного поселкового кладбища, где стоял деревянный обелиск. Равно как и у Владимирского храма была предшественница в Чичевках - церковь Иоанна Предтечи (1869), "при жизни" никому не попавшая в кадр.
22а.

Завершает странную набережную Нижнеангарска инсталляция "Легенды Северного Байкала":
23.
И ладно хоть не "Легенда о динозавре" - аллея посвящена фауне Подлеморья в доисторические времена:
24.
От замыкающего аллею саблезубого тигра - лучший вид на Нижнеангарск. Хорошо заметны длинные причалы рыбозавода, к которым когда-то причаливала прямая "Комета" аж до Листвянки (с пересадкой на "Восход" в Иркутск), два месяца в году пару раз в неделю проходившая из конца в конец практически весь Байкал. С её борта можно было увидеть горы у истока Лены, таинственный Рытый мыс и глухой Онгурён, прибрежные скалы и острова-спутники Ольхона, не говоря уж о привычных Бугульдейке и Больших Котах. В 2012 году я собирался на ней проехаться, но в итоге вместо Сибири отправился в Среднюю Азию, а "Комету" отменили пару лет спустя.
25.
У начала пристани видны здания рыбозавода и пара действующих катеров:
26.
Правее заметен музей, в том числе само его здание с зелёным фронтоном:
27.
Но возвращаться в посёлок мы ещё не собирались. Хотя в моём блоге уже вышло немало постов про Байкал, всё же именно здесь я впервые оказался на берегу Священного моря. И берег этот манил вдаль:
28.
На восток от посёлка тянется Нижнеангарский пляж, примечательный самой тёплой водой (до +23 градусов) на всём Байкале, за исключением разве что Малого моря. Да, такой вот парадокс - Северный Байкал самый мелкий и наименее вовлечённый в круговорот течений, из-за которых на Южном Байкале вода даже в самое жаркое лето очень холодна. Говорят, тут есть места, где в километре от берега вода по грудь, как на Азовском море. Так что пляж в Нижнеангарске - он и правда пляж, со спасательной станцией, разобранными на зиму шашлычницами и отчаянными просьбами не сорить.
29.
Сам Байкал тут совсем не выглядел "озером, из которого можно пить" - берег в Нижнеангарске обильно цветёт...
30.
...а волны чёрные от щепок и опилок, уж не знаю откуда приплывающих сюда в таком количестве. В устьях ручьёв - целые пляжи из перегноя:
31.
Зато с обратной стороны - натурально, облепиховые джунгли:
32.
Целый пакет мы насобирали тут минут за 15:
33.
Мутная вода нисколько не смущала птиц, будь то вороньё, чайки или цапли:
34.
35.
35а.

Над головой же сновали вот такие птицы: для пассажиров Нижнеангарск как бы не актуальнее Северобайкальска, так как здесь находится аэропорт с рейсами в Иркутск и Улан-Удэ. Второй интересен тем, что большую часть пути самолёт летит над Байкалом (до Иркутска - скорее над горами), ну а билеты на них стоят дешевле (4,5-5,5 тыс.), чем на "Комету" в 2012 году.
36а.

Устав месить сырой песок, мы поднялись на дамбу:
36.
Издалека видно, как над посёлком нависает БАМ и поезда проходит выше изб словно на бреющем полёте:
37.
За дамбой уходит к горам бескрайняя топь - примерно такой я себе представлял Патагонию:
38.
В Байкале - высокая вода:
39.
От околиц посёлка до конца дамбы - около 3,5 километров:
40.
Конец дамбы отмечают лодочная станция и памятник двум рыбакам, в своей простоте пронзительный:
41.
Но вездесущие в Нижнеангарске инфостенды сопровождают и здесь:
42.
Коса упирается в устье Кичеры, небольшой речки, текущей с Верхнеангарского хребта. За 200-метровой протокой начинаются Ярки - ещё одна коса, уходящая в туманную даль на 20 километров... но так и не доходящая до тех гор. Ярки - это остров между устьями Кичеры и Верхней Ангары, отделяющий от Байкала мелководный Ангарский сор, общий эстуарий двух рек, вверх по течению переходящий в их общую дельту. Формально Ангарский сор - уже не Байкал, а отдельное озеро, и с "сорной" стороны у Ярков изобилующие птицами плавни, а с "морской" - великолепный песчаный пляж:
43.
Особенно хорошо контраст моря и сора виден с БАМа в ветреный день, вот только горы Баргузинского хребта на той стороне скрыты тучами. Там в водах сора есть залив Шестнадцати Тоней - это слово, которым в Поморье называют рыбацкий стан, прекрасно прижилось и в Подлеморье. И как в Поморье к заповедному Терскому берегу часто причисляют Кандалакшский берег, тянущийся до устья Варзуги - так и настоящее Подлеморье начинается лишь за устьем Верхней Ангары.
44.
Там, от точки напротив дальнего конца Ярков, тянется самый длинный (58км) из нескольких обустроенных участок Большой Байкальской тропы, ведущий безлюдными берегами и укромными бухтами в Хакусы - курорт на горячих источниках, транспортом доступный лишь по воде. От бухты со звучным названием Аяя можно подняться в горы на заповедное озеро Фролиха, примечательное не только живописностью пейзажей, но и чудо-рыбой даватчан - под этим эвенкийским названием ("рыба с красным мясом") скрывается арктический голец, оставшийся здесь с ледникового периода. С нижнеангарского берега же лучше всего видна гора Покойник с высшей точкой Нос Покойника (2654м), которую не древние эвенки и буряты, а современные любители Востока с недавних пор назначили могилой Чингисхана.
45.
Но мы не переправились через Кичеру - нашей целью был вот этот знак (2010), или, точнее, место, которое он отмечает. Своей формой Байкал напоминает кривую саблю, а потому его разнесённые на 636 километров крайние точки - северная и западная. Последнюю, у посёлка Култук, я показывал около года назад (хотя посетил её на месяц позже), а теперь мы на другом конце Славного моря. За спиной - Ангарский сор, а впереди сплошной плёс тянется на 200 с лишним километров, лишь у Святого Носа и Ушканьих островов начиная поворачивать на запад. Вся людская жизнь на Байкале - за тем поворотом, а здесь Баргузинский (слева) и Байкальский (справа) хребты двести километров отвесно обрываются в глубокую чистую воду, не оставляя места для жилья.
46.
В следующей части отправимся в село Байкальское поближе к тем горам.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа Подлеморье дорожное транспорт БАМ этнография деревянное |
БАМ! Часть 12: Северобайкальск, или Ленинград вне Петербурга |
Северобайкальск - городок небольшой (23 тыс. жителей), однако же второй по величине как в Бурятии, так и в БАМии. Для республики он Северная столица, для магистрали - Окно в Европу, да и стоит к тому же прямо у моря, Мысовыми тоннелями вдоль которого мы добрались сюда в прошлой части. И если Тынду как столицу БАМа строила Москва, то разве мог здесь потрудиться кто-то, кроме Ленинграда?
Проложить три с лишним тысячи километров железной дороги через безлюдную тайгу - задача, мягко говоря, нетривиальная. Строить БАМ в 1970-х годах начинали с нескольких точек, которыми были как конечные сталинских строек Комсомольск-на-Амуре и Усть-Кут, так и доступные с Транссиба места между ними. Возводить Новый Ургал, "восточную столицу" БАМа, комсомольцы Украины ехали по ещё сталинской железной дороге на шахтёрский Чегдомын. Чтобы подобраться к Тынде, восстановили Малый БАМ от Сковородино, разобранный в 1942 году для экстренного сооружения Волжской рокады. А на западе даже новых железных дорог не требовалось: в Култуке у крайней юго-западной точки Байкала до сих пор привлекают взгляд БАМовские причалы. Морем, проходя из конца в конец все его 636 километров, и отправлялись к этим берегам первостроители из Ленинграда со всеми материалами и техникой. В 1974 году на берегу Байкала вырос палаточный лагерь, год спустя ставший ПГТ Северобайкальск, а с 1980 - городом. Но, как и настоящий Петербург, Северобайкальск обращён к морю индустриальными задворками - в конце прошлой части я показывал остатки порта, подобие набережной с остановками-памятниками и роскошными видами на Северную Кругобайкалку. От города всё это отрезано бескрайней станцией, путепровод которой выводит прямиком на незастроенный косогор, к маленькому участку Большой Байкальской тропы, куда я, увы, не сподобился выйти. Так что начнём рассказ на виадуке да посмотрим с него на запад, где над путями нависают железнодорожные поликлиника и профилакторий со звучным названием "Подлеморье" - так, во избежание путаницы с Поморьем и Приморьем, называется этот прибайкальский уголок.
2.
С другой стороны от путепровода - вот такой вид. На заднем плане хорошо заметен
3.
Увы, я не нашёл точных дат его постройки, но первый поезд на эту станцию прибыл в 1981 году. Проектировал здание не ленинградский, а новосибирский зодчий - Владимир Авксентюк, уже нам знакомый по Восточному БАМу, где его родная область строила станции Тунгала и Постышево.
4.
Изнутри "Волна" не менее удивительна:
5.
И непривычно многолюдна. Если восточнее Тынды курсирует один ежедневный поезд, а от Тынды до Северобайкальска - два поочерёдных, то здесь к ним добавляется ещё пара-тройка: например, прямой до Москвы или региональный до (в разные годы) Улан-Удэ или Иркутска. Это не считая весьма активного пригородного движения от Кюхельбекерской (см. прошлую часть) до Киренги.
6.
На привокзальной площади, там, где в настоящем Петербурге стела Города-героя, стоит обелиск Ленинградским Строителям (1986). Его самая приметная деталь - адмиралтейский кораблик.
7.
Корюшку в Байкал не завезли, да и на дворе была осень, поэтому на площади торгуют рыбой покрупнее. Обратите внимание на косой дождь - Северобайкальск встретил меня совершенно питерской погодой:
8.
От вокзала расходятся три дороги. Увы, в топонимике ленинградцы оказались не столь изобретательны, как москвичи в Тынде, поэтому тут не стоит искать Лиговку, Коломну или Марсово поле. Но аналогом Литейного проспекта можно назвать проспект 60 лет СССР, параллельный железной дороге. Сперва сходим вдоль него на восток:
9.
С этой стороны он приводит на подобие Сенной - небольшой рынок с напоминающими о том, что мы в Бурятии, позными. Буряты в Хойто-Байгалай-хото (бурятское название Северобайкальска) явно не большинство, но весьма заметны:
10.
Позная шашлык, продолжим путь. На дальнем конце проспект пересекается с
11.
С другой стороны проспекта уходят к туманным горам Ленинградские кварталы, примета которых - дома-корабли:
12.
Только на балтийских берегах они скорее лайнеры, а на байкальских - не то ледоколы, не то плавбазы:
13.
Ещё в Тынде я отмечал, что живя в Москве или Питере, не задумываешься о том, насколько самобытной и обособленной от остального Союза была архитектура двух российских столиц. Но если спальные районы Москвы по степени непохожести на остальную Россию я бы сравнил с Прибалтикой или Средней Азией, то жилмассивы Ленинграда - разве что с Закавказьем. И даже больше, чем в архитектуре как таковой, это заметно в планировке с длинными прямыми улицами, бесконечными фасадами и широкими, словно площади, дворами - всё как Пётр I завещал.
14.
На местности не так заметно, впрочем, что дома Северобайкальска как раз не прямые - в основном они стоят парами, образуя почти замкнутые фигуры.
15.
Под их защитой - школы и детские садики:
16.
А во дворах сохранены участки лесов, росших здесь до высадки первостроителей:
17.
Ленинградскими кварталами выходим на Ленинградский проспект, вполне оправдывающий своё название. На самом деле в нём всего три пары домов (и первый в городе - тут второй слева), но это не мешает совершенно питерскому ощущению перспективы:
18.
От вокзала местный Невский выводит на местную Дворцовую, в обиходе Центральную площадь. Официально она с недавних пор площадь Владимира Бодрова, который строил этот город и первым возглавил его. Дворец тут, правда, не Зимний, а Культуры Железнодорожников, и это, пожалуй, самое солидное общественное здание на всём БАМе.
19.
Перед ним - памятник "Дорога дружбы" необычайно инклюзивного облика: на постаменте азиат, женщина и двое европеоидных мужчин. Ещё больше впечатляет дорога, которую друзьям пришлось проделать: изваял их скульптор Владимир Ткачёв аж в 1979 году, вот только отвезти монумент в Северобайкальск тогда было нетривиальной задачей. Скульптуру установили в Улан-Удэ у кинотеатра "Дружба", да так там и оставили. В 2007 кинотеатр снесли и начали строить на его месте гораздо более обширный Русский драмтеатр им. Бестужева. Памятник отвезли на склад и снова там позабыли. Когда же несколько лет спустя его снова извлекли на свет - сразу же упекли в далёкий район Энергетик. Причины такой ссылки общественность поняла, увидев скульптуру, - какие-то её части были отбиты и грубо приварены, какие-то и вовсе утеряны. Осталось лишь изготовить копию, доставке которой чуть не помешала дорожная полиция Качуга, лишь после вмешательства главы района поверившая, что это не контрабанда лома. И вот в 2014 году Четверо дружных наконец-то добрались на БАМ:
20.
Слева от них, если стоять спиной к вокзалу - местные Сенат и Синод. Пардон, Администрация и ЗАГС, соединённые, увы, не аркой, а сплошным переходом. Работают они, кажется, неплохо - убыль населения в Северобайкальске наименьшая чуть ли не на всём БАМе (с 29 тыс. в 1991 до 23 тыс. сейчас), да и та пришлась почти исключительно на 1990-е.
21.
С другой стороны - торговый центр, который огибают улица Полиграфистов и Пролетарский переулок. В последнем находится картинная галерея, которую привёз всё тот же Владимир Ткачёв, и в том же здании - второй музей БАМа (1981). Как я понял с чужих слов - более современный, чем в Тынде, но не обладающий той душевностью. Судя по чужим фото, из того, что есть здесь, но нет в Тынде, больше всего запоминаются макеты Мысовых тоннелей и барж, участвовавших в стройке, а так же бурятская (там была эвенкийская) этнография. Мы вполне могли туда дойти, но отчего-то поленились.
21а.

Ленинградский проспект за площадью Бодрова круто поворачивает, образуя своеобразный Старо-Невский:
22.
Эта его часть примечательна различными плакатами и инфостендами, включающими в том числе очень подробный рассказ о комсомольцах БАМа:
23.
Нас здесь вёз с вокзала в гостиницу пожилой таксист, приехавший в 1970-х годах из Ленинграда. И, кажется, если бы он сказал "из Питера", я бы ему не поверил: здесь ленинградская грань свободна от петербургской.
24.
Теперь снова вернёмся к вокзалу и пойдём проспектом 60 лет СССР на запад:
25.
За "Подлеморьем" стоит паровоз П36, изготовленный в 1955 году в Коломне. Обычно путешественники, глядя на него, говорят "фи!" и блистают своим знанием, что на БАМе паровозы никогда не ходили. Однако встречал упоминание, что этот "генерал" (народное прозвище П36) был передан в 1984 году УзБАМстрою - не как локомотив, само собой, а как передвижная котельная или парогенератор. Здесь его поставили в 2000 году к 20-летию Северобайкальского отделения Байкало-Амурской железной дороги. Последнюю упразднили в 1996, а вот отделение никуда не делось, только перешло Восточно-Сибирской железной дороге.
26.
Напротив - ещё один массив ленинградских кварталов, в который мы уже не стали углубляться, а лишь обогнули его вдоль длинных фасадов:
27.
Если Сан-Франциско - город в стиле "диско", то Питер/Ленинград - город, конечно же, в стиле "русский рок". А потому стоит ли удивляться, увидев в Северобайкальске Стену Цоя:
28.
Проспект 60-летия СССР здесь уходит от железной дороги, но промзона и дальше тянется по левой его стороне:
29.
А за промзоной встречают купола и парящие кровли. Расположенный слева от проспекта дацан "Туддэншаддубчойлин", конечно, поскромнее, чем в Петербурге, но есть:
30.
Цветастые ворота казались наглухо запертыми, но шедший мимо мужик (или, напротив, это была женщина? не помню полтора года спустя), увидев нас, произвёл какие-то манипуляции, и из глубин обители пришла смотрительница-бурятка, впустившая нас.
31.
Дацан выглядит маленьким, ветхим и существующим чисто для галочки, просто как напоминание о том, что здесь тоже Бурятия. С чужих слов знаю, что по крайней мере лама здесь есть, но кажется, не живёт постоянно - мы видели только смотрительницу и её детей в окнах сторожки.
32.
Точно так же я ничего не нашёл об истории дацана (кроме того, что община зарегистрирована в 2008 году) и расшифровке его названия. И даже о самом необычном объекте в ограде, окатанном валуне со следами подношений, мне толком ничего не смогли рассказать.
33.
С дацана зато лучший вид на Байкал - город стоит на пологом, но весьма ощутимом склоне:
34.
А на другой стороне улицы высоченный забор скрывает ещё более неожиданную сущность - самобытность БАМии такова, что здесь чуть не сложилась своя ветвь православия!
35а.

Комсомольцы-романтики на стройке века сооружали вокзалы и жилые дома, торгово-общественные центры и школы, церквей же генпланы БАМовских посёлков не предполагали. Однако среди бамовцев находились и верующие, и даже священники, имевшие "в миру" какие-то полезные, к примеру, медицинские специальности. Да и просто сюда прибыло много ярких неокрепших умов, остававшихся в жизненном поиске, а потому совсем немудрено, что ветер перемен принёс в Байкало-Амурский край религию. Первые общины станционных посёлков сплачивались вокруг священников, вот только в Северобайкальске отец Анатолий Жога был из катакомбников, как назывались, по аналогии с первохристианами римских катакомб, полутайные общины, не примкнувшие к РПЦ из-за её сближения с большевиками. Катакомбники и стали первыми православными в регионе, и вскоре их общины возникли по всему Бурятскому участку БАМа до самого Таксимо. В 1992 году они получили регистрацию как Апостольские православные общины, и вскоре примкнули, внезапно, к Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкое согласие). Тут, конечно, можно вспомнить староверов-семейских, с 18 века живущих на Селенге, но их окормляет другая Русская древлеправославная церковь (Новозыбковское согласие). Нескольких священников рукоположил епископ Силуян в Новосибирске, но за далёкой паствой было сложно уследить - сведения о том, что на Бурятском участке БАМа крестятся тремя перстами и не носят бород, дошли до РПСЦ лишь к 1999 году, после чего Апостольские общины были исключены из неё. Тем временем религиозная жизнь цвела пышным цветом в соседней Украине, где образовались небезызвестные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Её епископы в 1996 году рукоположили отца Стефана (Липницкого) архимандритом Русской истинно-православной церкви, а из неё в 2000 году выделилась Апостольская православная церковь. К ней в 2003 году, получив епископскую хиротонию, и примкнули официально Апостольские общины, фактически так и оставшиеся сами по себе, сведя контакты с АПЦ к минимуму. По описаниям, естественно с чужих слов, тут видится какой-то причудливый сплав староверия с баптизмом - дониконианские обряды, имея ряд оговорок (например, не оговаривается внешность и быт прихожан) сочетаются с песенными богослужениями под гитару. Впрочем, сочетались ли они? Пишут, что обрядовая сторона апостольских общин часто менялась и реформировалась. Их центром так и осталась церковь в Северобайкальске, у которой, кажется, даже нет посвящения - для немногочисленных адептов это просто Храм:
35.
С появлением здесь приходов РПЦ к ним ушла из Апостольских общин большая часть паствы, а оставшимся, кажется, вот-вот придётся снова уходить в духовные катакомбы. На пике АПО имели 10 храмов - на станциях Бурятского участка БАМа (Северобайкальск, Ангоя, Таксимо), в деревнях близ него (Уоян, Муя, Усть-Муя) и в соседних регионах (Куанда в Забайкалье, Улькан и стоящая в стороне от железной дороги Умбелла в Иркутской области, а также Тунка на другом конце Бурятии). Но с тех пор 6 из них (кроме Северобайкальска, Уояна, Таксимо и Усть-Муи) были "случайно" сожжены или под каким-то предлогом изъяты, а из 30 священников лишь 6 по-прежнему служат в России. Есть у АПО и своим мученики - 11 священников и активистов, убитых при разных и не всегда однозначных обстоятельствах в 1997 году. Нам же даже пообщаться с этой осаждённой крепостью не случилось. Забор вокруг Северобайкальского Храма высок, ворота крепко заперты, и стук в них, хотя по двору ходил человек, не дал никаких результатов. Вернее, кое-какие всё же дал - шедшая рядом пьяная парочка заметила нас и разразилась матерным монологом, суть которого сводилась к "нафиг вам эти сектанты, вон там у нас нормальная церковь есть!". А чем вызвана такая к ним ненависть и насколько она массовая - увы, не знаю. На форумах и соцсетях о религиозной жизни Бурятского участка БАМа не очень-то пишут.
36.
Мимо новых малоэтажек и ветхих времянок, на смену которым их строят...
37.
...мы вышли на Старо-Невский, то есть Ленинградский проспект. Он тянется здесь по опушке парка, отмеченной воинскими памятниками:
38.
Включая монумент Победы (1985):
39.
С тройкой образцов более поздней военной техники:
40.
Чуть дальше - Казанский собор (2009), хоть как-то напоминающий о Петербурге, но построенный в стиле Новгорода:
41.
Та самая "нормальная церковь", куда нас направила пьянь:
41а.

За улицей Мира Ленинградский проспект переходит в проспект Космонавтов - мы пришли во времянку, посреди которой до появления постоянки успели построить полудеревянный ДК "Байкал" с обелиском первостроителям (1977):
42.
Дальше начинается промзона:
43.
Куда мы заглядывали в основном потому, что там располагалась наша весьма неплохая и самая дешёвая за много дней пути гостиница "Северная".
44.
По дороге Оля заходила в магазины, ассортимент которых напоминал, что рядом не Балтика, а Байкал:
44а.

Напоследок - ещё немного зарисовок. Про Северобайкальск тоже можно написать "твоих оград узор чугунный" - так оформлены остановки около вокзала:
45.
Отдельная достопримечательность города - вывески, и если большинство из них просто колоритны, то вот на первой стоит остановиться подробно. Ведь Байкал, как известно, не просто море, а зарождающийся океан, и в его длинном рифте весьма высока геологическая активность. А потому совсем немудрено, что аршанами (горячими источниками) славится не только Тункинская долина на другом его конце, но и Подлеморье. Любимым местом отдыха бамовцев служила Дзелинда - горячий ключ (до 52 градусов) в пойме Верхней Ангары на полпути до Кичеры, теперь успевший обрасти турбазами. В наши дни не менее популярны Гоуджекит, Акули, Котельниковский источник. Однако гордость нынешнего Северобайкальска - Хакусы, которые первый раз бурятка-проводница в поезде представила нам как остров: этот курорт лежит за Байкалом, на необитаемом берегу без дорог у подножья Баргузинского хребта, куда попадают на лодке. Туда бычно продают пакетные туры, и мы думали скататься в такой одним днём, но путь на Хакусы не близкий (55км от Нижнеангарска), и по осени туроператоры не возят без ночёвки.
46.
А здесь я даже и подпись никакую не могу придумать:
47.
Так что можно объявить конкурс на лучший комментарий:
48.
Но только с одной оговоркой - комментарии к этим трём фото должны содержать обязательную отсылку с берегов Славного моря в Славный город Ленинград.
49.
Подлеморье же одним Северобайкальском не исчерпывается. Город образует двойную систему с колоритным старым ПГТ-райцентром Нижнеангарск, куда мы отправимся в следующей части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь Раскол транспорт Подлеморье дорожное Северобайкальск Бурятия |
БАМ! Часть 11: Верхняя Ангара и Северная Кругобайкалка |
После показанных в прошлой части головокружительных железнодорожных серпантинов Северо-Муйского перевала, Байкало-Амурская магистраль спускается к Северобайкальску вдоль реки Верхняя Ангара. Здесь интересны несколько очень симпатичных "шефских" станций и неизбежный в такой топонимике странный советский филиал Кругобайкальской железной дороги - Мысовые тоннели.
Туманные горы на заднем плане, осенняя разноцветная тайга да одинокий типовой вокзал посреди дикой стихии - как я успел привыкнуть к этим пейзажам! Сколь тонка ниточка БАМа - столь же самобытен вдоль неё мирок:
2.
Линия тут крепко стиснута горами - слева Северо-Муйский, справа Делюн-Уранский, а впереди и вовсе Верхнеангарский хребет:
3.
Первый посёлок за перевалом - Янчукан (270 жит.) со станцией Кюхельбекерская. По её названию я заподозрил "кукушкино" шефство (ведь в списке на памятнике в Куанде упомянуто несколько регионов, строивших неясно что), но кажется, дело тут лишь в том, что братья-декабристы Михаил и Вильгельм Кюхельбекеры после каторги в Петровске-Забайкальском жили в ссылке в Баргузине, который отсюда по сибирским меркам не так уж далеко. Теоретически, туда даже есть дорога, но такая, что в летнее время смельчаки её проехать находятся не каждую неделю. Что же до забытого шефства, то оно если и было - то второстепенным: основного строителя Кюхельбекерской с головой выдаёт розовый туф.
4.
И, пожалуй, лишь деревянные сараи напоминают о том, что мы в Сибири, а не в Армении - в горах Лори или Сюника хватает таких же полузаброшенных городков, с той разницей, что там они по большей части выросли на рудниках меди и молибдена. И кажется, что обернувшись, увидишь руины обогатительной фабрики и ржавые кабинки пассажирских канатных дорог, застывшие над каньоном.
5.
Янчукан замыкает каньон - дальше раскрывается широкая и плоскодонная Верхнеангарская котловина:
6.
Впечатляющая даже не столько островерхим абрисом гольцов Верхнеангарского хребта, сколько масштабами вырубок и количеством лесопилок:
7.
В самой её середине стоит ПГТ Новый Уоян (2,9 тыс. жителей), впечатляющий сочетанием несочетаемого по нынешним временам - в одном кадре профиль Ильича и автограф Литвы, строившей этот посёлок.
8.
Сюда мы приехали ночным поездом из Новой Чары, с мокрой обувью после бродов до Чарских песков и недосыпом, который не компенсировала вагонная ночь после суток бодрствования. Дальнейший мой план предполагал реверс - через Северо-Муйский перевал вернуться в Таксимо, а из него отправиться в Бодайбо и на Ленские прииски, словом - в места из прошлых 4 постов. Сотрудники вокзала подсказали мне два рабочих поезда-"бичевоза", которые на БАМе служат вполне привычным транспортом для местных жителей, с той оговоркой, что билеты на них продают не в кассе, а у проводников. Один отправлялся в середине дня, через пару часов после нашего прибытия, а другой - рано утром. От проводницы дневного поезда я узнал, что они едут в Таксимо через тоннель, а "через перевал" пойдёт утренний поезд. Так мы оказались в Новом Уояне на день, за который я прогулялся по посёлку дважды - сперва коротая время до дневного поезда, а затем - пытаясь найти ночлег
9.
Уоянский вокзал не назвать красивым, но в нём есть эта неповторимая литовская самобытность. Даже в утилитарных деталях:
9а.

Самое впечатляющее - контраст интерьера и экстерьера, отличающихся буквально всем от колористики до материалов.
10.
И 30 лет спустя мне трудно не видеть в этом фигу в кармане: "снаружи мы красные, а внутри белые", и вообще тут зашифрована Погоня на Грюнвальд.
11.
К вокзалу примыкает типично БАМовское здание - ТОЦ, то есть торгово-общественный центр, сочетающий в разных корпусах функции универмага, ДК и райкома:
12.
Форма его совершенно непонятна с земли, а вот по карте я бы охарактеризовал её как "полусвастику" с двумя лучами и сквозным проходом на вокзал:
13.
ТОЦ и сделался нашим пристанищем. Первое серьёзное препятствие на АвтоБАМе, если ехать по нему с запада на восток - это Северо-Муйский перевал, до Уояна же с большой земли ведёт вполне обычная грунтовка, на которой есть даже участки асфальта. Отсутствие изоляции, доступность на своих колёсах здесь ощущается. В том числе - по нескольким гостиницам, вывески которых манят тут и там. Особенно активно в продвижении заведение с внезапным здесь названием "Кайзер" - по сути мотель с огромной парковкой, где администраторы порядком удивились появлению безлошадного гостя. Но там не оказалось свободных мест, и, походив по посёлку ещё немного, я обнаружил гостиницу "Визит", вклинившуюся между бюрократическими и торговыми заведениями на первом этаже ТОЦа. Уютный холл и приветливая молодая администраторша здесь дополнили материковые цены - всего-то по 600 рублей с человека за очень симпатичный, и к тому же оснащённый электрочайником, номер без удобств. В общем, забравшись в гостиницу в середине дня, я решил больше не вылезать оттуда, устроив день отдыха на долгом пути.
14.
У входа в ТОЦ - при всей запущенности неожиданно экспрессивный памятник, где красноармеец как с плакатов РОСТА зовёт на бой, орудие которого - кирка, а не винтовка.
15.
Но даже больше вокзала и общественных зданий Новый Уоян впечатляет застройкой своих жилых кварталов без чёткого разграничения улиц и дворов:
16.
Литовцы в своё время чуть не объявили меня врагом нации и ещё долго преследовали с проклятиями в комментариях только лишь из-за того, что я преступно не назвал межвоенную архитектуру Каунаса лучшей в Европе. И вряд ли меня теперь реабилитирует то, что я бы назвал лучшей на БАМе архитектуру Нового Уояна:
17.
Ещё удивительнее то, что здесь литовцы строили даже интереснее, чем у себя на родине - Литва в своё время впечатлила меня архитектурой двух эпох независимости, но оказалась неожиданно бедна самобытным совархом. Науйяс-Уоянас показался мне даже более литовским, чем сама Литва, в которой вообще-то хватает такой же неухоженной глухомани:
18.
Но вот из-за угла выходят двое мальчишек в железнодорожных спецовках, и я понимаю, что здесь не стоит искать ни торт "Шакотис", ни резные кресты у дорог, ни даже музей оккупации. И магазины на первых этажах, вместо вездесущей "Максимы", сплошь носят названия вроде "Галина" или "Елена":
19.
С дальней от путей стороны микрорайон замыкает школа:
20.
Примечательная крыльцом с удивительно красивой решёткой:
20а.

Дальше виден временный посёлок, однако лишь горы в его пейзаже напоминают, что это не какой-то глухой угол Жемайтии или соседней Латгалии:
21.
Сосны да коттеджи - всё на своих местах, а гора - быть может, просто грозовая туча над Балтийским морем?
22.
Только вместо деревянного костёла с умопомрачительным барочным интерьером - новодельная церковь Сергия Радонежского из тех же материалов:
23.
А вместо соломенных крыш и крынок на заборах - юрта, где вместо цеппелинов да розоватого холодного борща подают позы да наваристый бухлёр... вернее, подавали раньше - кафе выглядит безнадёжно закрытым. На самом деле уместнее здесь был бы чум - новым Уоян назвали относительно Уояна Эвенкийского (300 жителей), маленького посёлка на Верхней Ангаре 6 километрами западнее.
24.
И типично балтийские дюны и сосны тут лежат на фоне высоких островерхих гор. Верхнеангарский хребет (2641м) иногда относят к Становому нагорью, по которому едем мы от самой Олёкмы, а иногда вместе с соседним хребтом Сынныр выделяют в отдельное Северо-Байкальское нагорье, на другой стороне отрезанное Витимом от золотого Патомского нагорья. А с земли это просто очень эффектные островерхие горы, рогатостью иных вершин достойные Кодара.
25а.

Горы красиво нависают над станцией, а нам, как оказалось, их увидеть ещё повезло - с утра откуда-то наползли низкие облака, сквозь пелену которых я бы даже не догадался об этих красотах. С байкальской стороны Северо-Муйского хребта погода испортилась всерьёз и надолго, и под свинцовым, совершенно балтийским небом, мы вернулись сюда через несколько дней, скатавшись в Бодайбо и на рассвете сев в Таксимо на поезд,
25.
где-то к полудню, через час после Нового Уояна, прибывающий на следующую станцию Ангоя (600 жителей):
26.
Здесь шефство выдаёт гюшевый камень с Апшеронского полуострова и "посвящение", появившееся у вокзала в 2008 году:
26а.

Тут надо заметить, что по масштабам культа отца-основателя Азербайджан ещё не превзошёл Турцию, но определённо не имеет себе равных в странах бывшего СССР. Да вдобавок с советских времён сохранил мощную школу "икорной дипломатии", то есть продвижения своих интересов по неофициальным каналам. Поэтому памятники Гейдару Алиеву или объекты, названные в его честь, обнаруживаются в самых неожиданных уголках планеты вплоть до Латинской Америки. Но здесь Алирза-оглы хотя бы уместен - между правлением Советским Азербайджаном в 1969-82 годах и борьбой за власть в Азербайджане независимом Алиев как зампред Совета Министров СССР успел побыть во главе правительственной комиссии, принимавшей Байкало-Амурскую магистраль. Вокзал его имени логичнее было бы сделать в Куанде, где он выступал на торжественном митинге по случаю сбойки магистрали, но ту станцию строил Узбекистан...
27.
Национальными мотивами в Ангое выделяется ТОЦ, один из самых красивых и ухоженных на БАМе:
28.
И, с натяжкой, островерхие дома... того же, кстати говоря, проекта, что и в Новом Уояне:
29.
А вдалеке уже видны туманы над Байкалом и северная оконечность Баргузинского хребта, вытянутого на 300 километров. Там, между прочим, есть гора Нос Покойника, коим был в преданиях местных эвенков целый Чингисхан.
30.
Железная дорога продолжается вдоль Верхней Ангары, но вскоре уходит с неё на параллельную реку Кичеру, текущую с Верхнеангарского хребта. От Ангои меньше часа до станции Кичера, которой завершается начатая в Таксимо Балтийско-Амурская магистраль - здесь потрудилась Эстония:
31.
Запомнившиеся мне народом интровертов-реалистов, эстонцы строили практично, но без огонька - больше самого вокзала меня впечатлили лавочки под навесами на перроне.
32.
Посёлок я из вагонного окна не разглядел, однако история его нетривиальна: Кичера - театральная столица БАМа. Увидев в Тынде театр без посвящения и сказав, что у бамовцев возникла своя традиция писателей (Иван Ефремов, Григорий Федосеев) и поэтов (Олег Головко, Владимир Гузий), а вот режиссёров выдающихся не нашлось - я малость покривил душой. Комсомольские поэты и приключенческие романисты-геологи - это как-то больше про Восточный БАМ, а вот Западный БАМ на ниве культуры более всего прославил именно режиссёр - Анатолий Байков. Уроженец чухломского села, на БАМ он поехал в 1974 году, в 24 года, с первых дней стройки. Ему было всё равно, на какой участок стройки попадать - парня манили романтика и возможность испытать себя. В первом от Усть-Кута посёлке Звёздный его взяли работать в клуб, где вскоре Байков стал заведующим и, утерев нос всем снабженцам, отстроил здание после пожара. Дальше Толя вернулся на запад, в Московский институт культуры, через который по каким-то делам его занесло в Краснодон. Там он познакомился с уцелевшими бойцами "Молодой гвардии" и семьями тех мальчиков из подполья, которые не дожили до Победы. Под впечатлением от этих встреч Байков и поставил свой первый спектакль "Молодая гвардия" по роману Александра Фадеева. С успехом первых постановок название спектакля стало названием театра, в который пошли актёрами комсомольцы бамовской стройки, в первую очередь - из легендарной бригады Александра Бондаря, ставившей под Таксимо мировые рекорды скорости путестроительства и завершавшей сбойку БАМа на Балбухте. Байков стал душой отряда, и вместе с ним переместился из Звёздного дальше на восток, в 1976 году обосновавшись в Кичере. "Молодая гвардия" и здесь была героической - день тяжёлых работ на путях часто продолжался у них репетициями до глубокой ночи. В 1981 году Байков сам вступил в бригаду Бондаря, но актёры и коллеги-строители всё чаще замечали, что режиссёр выбивается из сил. В 1983 году Анатолий Сергеевич поехал с семьёй в отпуск, из которого вернуться ему было не суждено - усталость оказалась первым признаком лейкоза, незаметно вышедшего на необратимую стадию, и вот 33-лётний режиссёр внезапно для всех слёг и быстро умер в Боткинской больнице. Путеукладчик Бондаря полтора года спустя вышел к Балбухте с большим портретом Байкова и надписью "Мы пришли к этой стыковке, Толя!". "Молодая гвардия" отыграла в Кичере последний сезон, а дальше кончилась стройка века и судьба разметала её участников по стране. Друзьям, приехавшим в столицу навестить его в палате, Байков сказал "Думайте о спектакле про БАМ, это моя мечта. И ещё… ребята, живите всегда так, как мы жили на БАМе, особенно в первые годы". Здание театра, коим был поселковый клуб Кичеры, как я понимаю, выглядело так, но вместо него построили капитальный ТОЦ:
33.
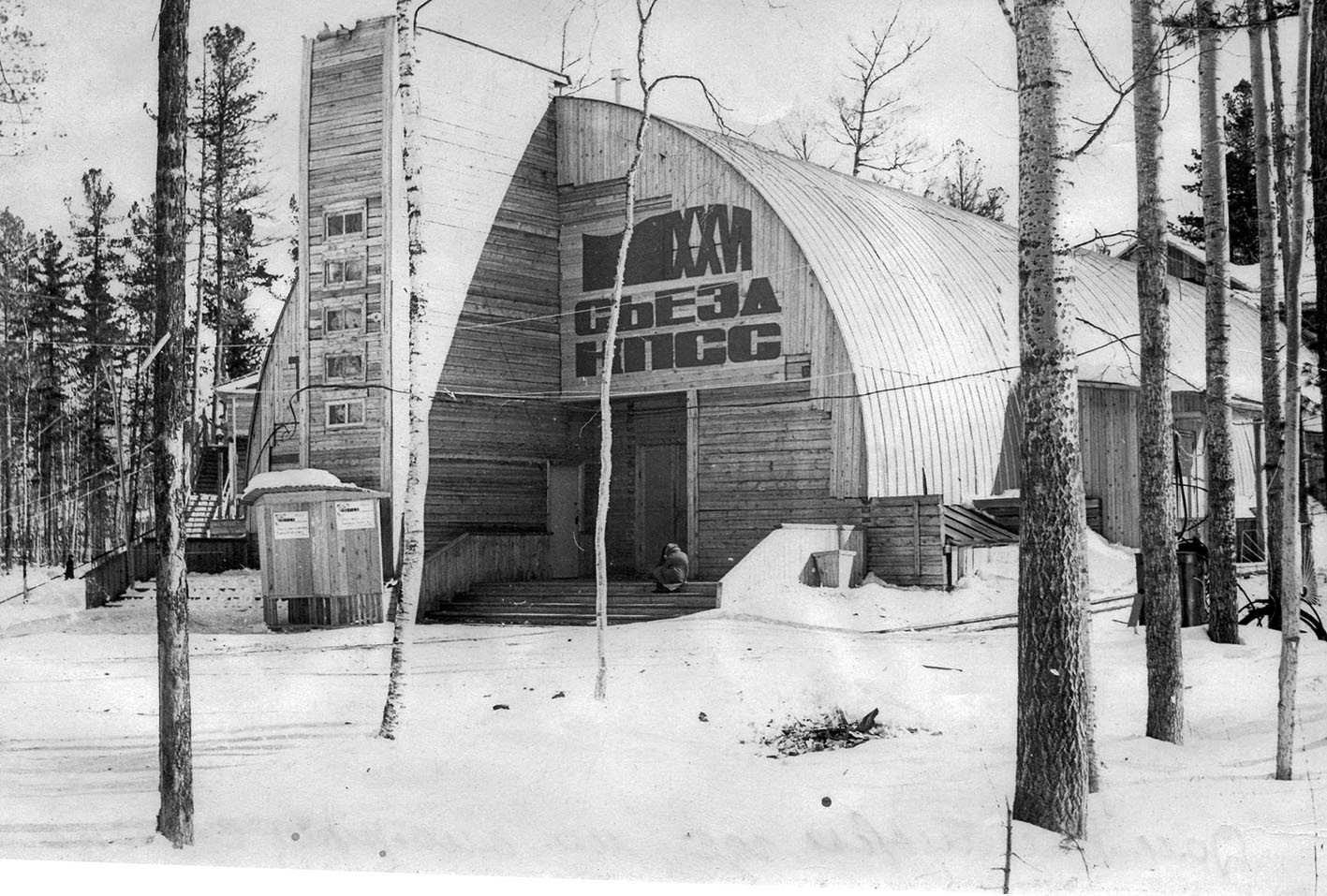
А за Кичерой в первый раз за много дней в вагонное окно не видишь горы - котловина расползлась в ширину до 40 километров, и половину этой ширины занимает неожиданно огромная общая дельта Верхней Ангары и Кичеры:
34.
Переходящая в такой же общий эстуарий Ангарский Сор, на карте выглядящий странным продолжением Байкала за длинным островом-косой Ярки. Мы сюда добрались магистралью от Амура, и хотя прежде я показывал Кругобайкальскую железную дорогу, именно здесь я впервые (и второй раз вообще после зимней Листвянки) увидел Байкал безо льда:
35.
У Нижнеангарска же, до которого от Кичеры ехать минут 40, есть ещё одно удивительное свойство - он был основан не комсомольцами в 1970-80-х, не гулаговцами в 1930-40-х, даже не старателями в 1910-х, а казаками в 1643 году. За прошлую пару десятков постов нетрудно было забыть, что Земля вообще существовала в это время:
36.
Но Нижнеангарск заслуживает отдельного поста, да и стоит он как-то изолированно от станции с маленьким типовым вокзалом (кадр выше). В условиях же соприкосновения Ангары (пусть Верхней) с Байкалом (пусть Северным) просто не могла не зародиться отходящая от этого места на запад Кругобайкалка - здешний советский её филиал слагают Мысовые тоннели, проложенные в 1978-86 годах:
37.
Короткий участок от Нижнеангарска до окраин Северобайкальска на 1/3 состоит из тоннелей, и их общая протяжённость (5307м) не так-то сильно уступает общей протяжённости трёх десятков тоннелей (9063м) 80-километровой Кругобайкалки. Нумерация идёт с запада на восток, и первым в 7 километрах от Нижнеангарска нас встречает 4-й Мысовый тоннель (1344м):
38а.

Первоначально тоннели планировалось сделать ближе к воде, по сути, скопировав опыт Кругобайкалки. Но исследования показали, что это потребует больших работ по укреплению берега, поэтому Мысовой участок БАМа подняли на полсотни метров над Байкалом. Ниже по склону проходит автодорога, превратившаяся в целый мемориал - стел на ней столько, что если ехать на маршрутке, то голова просто не рассчитана на такое количество оборотов в минуту. Даже остановки с мозаиками - и те напоминают о подвигах "настоящих мужчин":
38.
Из Четвёртого тоннеля за 370-метровым просветом поезд почти сразу влетает в Третий (1706м), а от него ещё 650 метров отделяют самый длинный (1843м) и самый первый по времени строительства Второй Мысовой тоннель:
39.
Из него дорога выходит на свет божий аж на 1200 с чем-то метров, и этот участок вмещает развалины базы строителей.
39а.

Первый Мысовой тоннель самый короткий (414м), но зато из Северобайкальска видно, как он от края до края прошибает скалу:
40.
Как и на Кругобайкалке, помимо тоннелей тут есть и весь остальной ассортимент железнодорожных сооружений - галереи, мосты, дренажи, подпорные стенки. Что интересно, весь этот участок сразу строился под два пути - больше таких тоннелей на БАМе не было.
40а.

Ниже тоннелей ещё лежит временная старая ветка в неожиданно хорошем состоянии - рельсы тут, конечно, ржавые, но целы и линия электроснабжения, и насыпь:
41.
Здесь же - памятники. Слоган про Настоящих Мужчин встречает у остатков стройбазы, как и МоАЗ-7405 - "шахтный самосвал" и "подземный автопоезд", изготовленный в белорусском Могилёве. Памятником он стал уже в 1982 году, к сбойке Второго тоннеля и 60-летию образования СССР. А стела в левой части кадра открывает Мысовые тоннели со стороны Северобайкальска:
42.
С окраины которого - отличный вид на половину этой Северной Кругобайкалки:
43.
Когда-то здесь был порт, куда везли строительные грузы с "БАМовских причалов" Култука, расположенного в прямом смысле слова на другом конце Байкала:
44.
Теперь на Байкале почти нет судоходства, и порт занимает Аварийно-спасательная станция РЖД, отвечающая в первую очередь за ликвидацию различных ЧП (вроде разлива нефтепродуктов) в экологической зоне Байкала. Подробный репортаж о ней есть у
 periskop.su.
periskop.su.45.
Неподалёку - учебный центр Росгвардии. Она, вопреки расхожему мнению, не только митинги разгонять нужна, но и имеет полный набор обязанностей Внутренних войск. В том числе, например, освобождать захваченные террористами суда, охранять водную инфраструктуру или ловить браконьеров и нарушителей морской границы. Ну а тренироваться внутренним войскам сподручнее на внутренних водах.
46.
Над учебным центром - памятник первостроителям Мысовых тоннелей и города. По совместительству - самая очаровательная автобусная остановка, которую я видел.
47.
Она же и на вводном кадре.
48.
Выше - оформленное в том же стиле кафе "Волна",
49.
напоминающее своими сюжетами о том, что мы в Бурятии:
49а.

Байкало-Амурская магистраль привела нас в очередной маленький колоритный мирок, у которого есть и своё историческое название - не Поморье, как на западе, и не Приморье, как на востоке, а Подлеморье. Байкал здесь неглубокий, мутный и тёплый, в необитаемых горах за ним множество горячих источников, почти утратившие язык и самобытность эвенки развивают этнотуризм, а русские - не только бамовцы с балтийских берегов, но и давно укоренившиеся здесь "байкальские поморы".
50.
Обо всём этом - в следующих 3 частях, в первой из которых погуляем по "бамовскому Ленинграду" Северобайкальску.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа БАМ транспорт Подлеморье дорожное Северобайкальск |
БАМ! Часть 10: Северо-Муйский перевал, или Кульминация БАМа |
На Становом нагорье мы уже проезжали Вершину Байкало-Амурской магистрали на перевале Мурурин и Середину БАМа между Новой Чарой и Таксимо, из которого в прошлых частях ездили на мрачные Ленские прииски. Теперь продолжим путь на запад - в 80 километров от Таксимо встречает Кульминация БАМа: Северо-Муйский хребет, где железная дорога вьётся серпантинами через перевал над самым длинным в России тоннелем.
От моста через Витим (см. Середину БАМа) железная дорога поднимается по Муйской долине между Южно- и Северо-Муйским хребтами. Название им всем дала речка Муя совсем не сибирского облика - тихая, мелкая и в низеньких песчаных берегах:
2.
В её старицах стоит Таксимо - крупнейший посёлок между Тындой и Северобайкальском, крайняя точка электрификации Байкало-Амурской магистрали. Линия, хоть и с электровозами, остаётся однопутной, однако на Муйском мосту хорошо виден задел под второй путь:
3.
Кадр выше, как нетрудно догадаться, не мог быть сделан с поезда: увидеть Кульминацию БАМа есть несколько способов, вот только самый простой, - купить билет и засесть у вагонного окна со стаканом чая, - не в их числе. Пассажирские поезда минуют Северо-Муйский хребет по тоннелю, который хоть и длинный, а зрелищности в нём не больше, чем в перегонах метро. Самый простой способ одолеть перевал - это АвтоБАМ, который здесь хоть и пыльная грунтовка, а всё же вполне проходим. Западнее Витима все реки на пути он пересекает мостами, а стало быть почти без приключений сюда можно доехать хоть из Иркутска, хоть из далёкой Москвы. Машины пылят по АвтоБАМу в среднем раз в полчаса-час, и по словам знакомых, подбирают хорошо и даже охотно. Другой способ - самый вдумчивый: перевал можно пройти пешком, причём как вдоль действующего Северо-Муйского обхода, так и по остаткам временного старого пути. Минусы этих вариантов в том, что АвтоБАМ проходит в стороне от доброй половины красот Северомуйского обхода, а на пеший поход, тем более в сентябре, когда в горах начинаются морозы, у нас не было ни времени, ни сил. Так что канонический способ пройти Кульминацию БАМа - это бичевоз:
4.
Официально - рабочий поезд из электровоза, одинокого вагона и грузовой платформы, дважды в день развозящий путейцев между Таксимо и Новым Уояном. Вот только и тут есть нюансы: потому поездов и две пары, что одна из них обслуживает тоннель. Через перевал поезд из Таксимо отправляется вечером, так что при свете дня увидеть с него что-то стоящее можно разве что в июне-июле. В остальное время единственным подходящим для путешественника вариантом становится рабочий поезд на восток, отходящий около 7 утра из Нового Уояна. Официально пассажиров он не берёт, но на практике его расписание без вопросов подскажут и кассир, и диспетчер, проводница не задаст лишних вопросов, а на билет есть стандартный, рублей 200, тариф. Камеры, конечно, "у нас же везде", но для бамовцев бичевозы - вполне привычный транспорт, и пара-тройка пассажиров едет среди путейских работяг почти всегда. Сам бичевоз своё название вполне оправдывает - по фото можно оценить состояние вагона, но ещё больше впечатляет пунктуальность: километров за 30 до Таксимо поезд встал как вкопанный на разъезде Улан-Макит. Прождав с полчаса, мы узнали от проводницы, что рабочка пропускает товарняк, окончательно выбивается из расписания однопутки, а потому вообще не пойдёт в Таксимо, а вернётся в Новый Уоян по графику вечернего поезда. В вагоне к тому времени остался пяток пассажиров совсем не путейского облика, один из которых вспомнил, что через полчаса на Таксимо пойдёт автомобиль-вахтовка.
5.
Так Северо-Муйский обход стал одним из двух участков БАМа, где осенью 2020 года мы ехали не с востока на запад, а с запада на восток. Более того, на восток сняты и все кадры вдоль путей, так что в логике моего рассказа мы на них как бы пятимся. И очень прошу не спрашивать, как это нам удалось. Тем более на перегонах по долинам, от Ангаракана до Окусикана, я снимал исключительно вбок.
6.
Два Муйских хребта - фактически, продолжения знакомых нам по Чарской котловине Кодара и Калара. Южно-Муйский хребет, как и Калар, издали кажется покатым и пологим, но на самом деле он куда больше похож на Кодар, чем являющийся его продолжением Северо-Муйский. Неподалёку от Улан-Макита из-за пологих ближних склонов ненадолго выглядывает Муйский Гигант (3067м), на считанные метры уступающий пику БАМа - высшей точке Кодара. Он образует целый массив острых гольцов, среди которых особенно хорош гордо стоящий в стороне пик Зорро:
7.
Впадина на кадре выше - это ущелье Муи, отделяющее Южно-Муйский хребет от Муяканского хребта. Который, в свою очередь, отделён от Северо-Муйского хребта речкой Муякан, вверх по которой и уходит БАМ:
8.
Впереди виден сам перевал:
9.
Перед которым встречает ПГТ Северомуйск (3,3 тыс. жителей), примостившийся в 1977 году под грандиозными гольцами:
10.
Считается, что его построила Беларусь, республика недооценено богатая нетривиальной советской архитектурой. Вот только фактически Северомуйск так и остался времянкой с обшитыми профлистом бараками: постоянный посёлок планировалось строить даже не на этом месте, а у разъезда Северомуйск (изначально Муякан) в нескольких километрах восточнее. И потому облик Северомуйска лишён какой бы то ни было специфики:
11.
Самый примечательный объект Северомуйска - въездной знак на АвтоБАМе: в реале я его не увидел, но переснял фото в музее Тынды.
11а.
Расположенная бли посёлка станция Казанкан числится разъездом, вот только здесь небольшой 2-путный участок, наоборот, сужается до 1 пути - всё остальное оползло вниз по склону в 1990-х из-за ошибок в проектировании на вечной мерзлоте. Тут даже крупного вокзала нет - лишь типовой усайдингованный павильончик. Вместо него мой взгляд привлекла самая настоящая Палатка Первостроителей - брезентовая, а не бетонная.
12.
Северо-Муйский хребет не может похвастаться той экспрессией форм, что Кодар, но явно унаследовал от него жестокий норов. Если Кодар мучил зэков и гоняет туристов, то Северомуй просто встал на пути у бамстроя и как бы сказал людишкам "Не волнует!" - для технологий тех времён он был почти непреодолим. Основным решением с самого начала предполагался тоннель, вот только было такое решение явно очень уж смелым. Это сейчас никого не удивишь 50-километровым тоннелем, а к началу здешней стройки в 1977 году длиннейшим в мире оставался Симплонский тоннель (19,8км), проложенный в 1906 году из Италии в Швейцарию через Альпы. Тут стоит добавить, что тоннелестроение в нашей Стране великих равнин никогда не блистало, и тем больше впечатляет решение Бамстроя пробить Северомуйский тоннель длиной 15 343м. При завершении по плану он вошёл бы, наряду с парой строившихся тогда же тоннелей под проливами Японии, в пятёрку длиннейших в мире. Но как заметил один киевский мудрец, расстояние измеряется не в километрах: в недрах Северомуйского хребта тоннельщиков, этих элитных бойцов бамстроя, поджидали вечная мерзлота и термальные воды, тектонические разломы, скопления радона и плывуны. По совокупности условий это и по нашим временам один из сложнейших тоннелей мира, и за штурмовщину пришлось заплатить дорого: уже в 1979 строители наткнулись на древнее русло Ангаракана, хлынувшее на них с такой силой, что 20-тонный породопогрузчик был отброшен на 300 метров, а погиб в той аварии 31 человек. Последствия аварии удалось преодолеть лишь к 1981 году, но в общем у бамстроя оставалось всё меньше иллюзий, что тоннель не удастся сдать в срок.
13.
В 1982-83 годах был проложен Временный Северомуйский обход длинной 24,6км, при упоминании которого всякий фанат железных дорог возводит глаза к небу и восхищённо произносит "сорок тысячных". Это уклон путей, достигающий 40 метров подъёма на километр длины, что не соответствует никаким стандартам постоянной эксплуатации - круче в России разве что трамвайная линия в уральском Усть-Катаве, строившаяся такой для обкатки "изделий". Сорокатысячный обход мне описывали так: "вот идёшь ты с рюкзаком конкретно в гору, и тебе не верится, что когда-то здесь мог ходить поезд". Временным обход замышлялся с самого начала: по нему перегнали технику, часть которой ушла на восток прокладывать пути, а часть двинулась на запад, вгрызаясь в гору. Грузы для стройки возили партиями по несколько вагонов, так как полноценный состав затащить по такому склону не сумел бы ни один локомотив. К 1984 году Александр Бондарь и Иван Варшавский сомкнули магистраль на разъезде Балбухта и правительственная комиссия во главе с Гейдаром Алиевым устроила торжественный митинг в Куанде (см. Середина БАМа). В тоннеле же трудилось до 4600 рабочих, стройка хоть и шла всесоюзно, комсомольско и ударно, а конца и края её было не видать. Приём Байкало-Амурской магистрали в постоянную эксплуатацию откладывался, и в руководстве словно кто-то понимал, что скоро может стать поздно: в 1985-89 годах над строящимся тоннелем был проложен новый, куда более сложный и длинный (64км) обход с более приемлемыми уклонами до 18 тысячных. 3 ноября 1989 года Байкало-Амурская магистраль наконец была принята в постоянную эксплуатацию, и ещё 14 лет все дальние поезда по ней ходили этим перевалом:
14.
До распада СССР тоннельстроевцы под началом Анатолия Подзарея успели пройти 13 057 метров, но дальше стране стало не до того. Идея разгрузки Транссиба, ради которой в первую очередь строился БАМ, в условиях упавших грузооборотов потеряла актуальность, горно-обогатительные комбинаты же тогда охотнее закрывали, чем строили. Официально прокладка тоннеля не прерывалась, но темпы упали в разы, и на оставшиеся 2216 погонных метров у строителей ушло 10 лет. Последняя крупная авария в 1999 году задержала их ещё на несколько месяцев, и вот наконец в начале 2001 года две партии, пробивавшие гору навстречу другу, встретились, а 30 марта тоннель прошёл насквозь первый технический поезд. В 1980-х на БАМе травили такой анекдот: "Сколько путей будет в Северомуйском тоннеле? Зависит от того, встретятся ли бригады". Доля шутки в нём приближается к 100% - отклнение от оси оказалось менее 1 сантиметра при диаметре 9,5 метров. До завершения, однако, было ещё далеко - тоннель нужно было оснастить освещением, вентиляцией и мощными воротами для поддержания микроклимата. В постоянную эксплуатацию Северомуйский тоннель был сдан лишь 5 декабря 2003 года, и в мире к тому времени уже не входил даже в десятку. В России и бывшем СССР, напротив, Северомуйский тоннель по-прежнему не имел себе равных - следующий по списку Памбакский тоннель в Армении короче почти вдвое (8,3км), и лишь позже, в 2016 году, китайцы пробили в Узбекистане Камчикский тоннель (19,8км) до Ферганской долины. Общая длина выработок Северомуйского тоннеля - 45 километров: параллельно основному ходу идёт техническая штольня, пробитая как разведочная, а ныне используемая для коммуникаций и дренажа. Но даже с учётом всех вентиляционных шахт и водоотводов, человеческими жизнями олпачен каждый километр тоннеля: без кандалов и конвоев, а только от двух крупных аварий и множества несчастных случаев, за 26 лет строительства здесь погибло 57 человек. На станции Окусикан в 2003 году поставили памятник в пошловатом историческом стиле:
15.
Ну а наш поезд едет над Окусиканом, неожиданно стремительно набирая высоту:
16.
На Северомуйском обходе есть свои Петлевые тоннели - по изначальному замыслу их должно было быть 3, но вместо тоннеля №2 было найдено более простое решение, так что у обоих номера нечётные:
17.
Третий Петлевой тоннель (752м) идёт внутри горы почти правильным полукругом:
18.
Долина Муякана на фоне Южно-Муйского хребта уходит в дымку. Петля внизу - часть основного хода БАМа восточнее станции Казанкан:
19.
Почти над Казанканом висит разъезд Горячий Ключ:
20.
Линия причудливо вьётся через галереи:
21.
И гигантскую выемку, которая, как я понимаю, и заменила Петлевой тоннель №2:
22.
Как на ладони Северомуйск, в котором и отсюда не видать белорусских мотивов:
23.
С очередного поворота вновь любуемся долиной Муякана - над Казанканской петлёй теперь виден путь, с которого снят прошлый вид долины:
24.
А вот - та же самая выемка: так выглядит она издалека.
25.
Самый настоящий серпантин, почти как на заоблачных перевалах Памира и Тянь-Шаня, но только с железной дорогой вместо асфальта шоссе:
26.
Окрестные гольцы сказочно красивы. Только на Северо-Муйском хребте я видел такие полосатые склоны с узорами песка, похожего на подтаявший снег:
27.
Над путями - множество вычурных скал:
28а.
28.
Особенно хорош Чёртов палец:
29.
За которым скрыта живописная висячая долина, постепенно раскрывающаяся к путям:
30.
31.
По мосту через Окусикан...
32.
...магистраль выходит на пологую седловину:
33.
За ней виден АвтоБАМ, проходящий куда ближе к Временному обходу:
34.
Выровненные площадки и домики отмечают вспомогательные шахты тоннеля:
35.
Максимальная высота Северомуйского обхода близ Окусиканского моста - 1213м над уровнем моря. Это слегка пониже, чем Мурурин, но и на Памирском тракте высочайший Акбайтал не сравнится сложностью с более скромными по высоте Кызыл-Артом и Хабурабадом. На главном ходу БАМа же все равны перед заброшенной Чинейской железной дорогой, к югу от Новой Чары имеющей сложнейший профиль и забирающейся на высоту 1624м.
36.
У Перевального озера, под которым пришлось строить отдельный дренаж, пути сходятся воедино - вот слева АвтоБАМ, справа Временный обход, а ещё правее под нами - постоянный.
37.
На самом верху - разъезд Перевал, где поезд стоит около получаса. Вдалеке - Южно-Муйский хребет, последний взгляд на долину Витима:
38.
Близ Тынды мы миновали водораздел Тихого и Северного Ледовитого океанов, иначе - Амура и Лены. Северо-Муйский перевал же разделяет притоки Лены и Енисея, бассейну которого принадлежит Байкал.
39.
На байкальскую сторону стекает Верхняя Ангары, спуск в долину которой не менее заборист:
40.
Его ключевое звено - Петлевой тоннель №1 длиной 2139м. Да-да, это не два разных тоннеля, а один - по прямой между его порталами 170 метров, а максимальное расстояние в глубине горы - более 700:
41.
От нижнего портала тоннеля рукой подать до Чёртова моста (347м), который давно стал символом всего Северомуйского обхода.
42.
Другое его прозвище - "мост на спичках" из-за характерной формы опор. Построенный в 1985-86 годах, он и самое слабое место обхода: под тяжёлыми поездами опоры конструкции раскачиваются, и если гонять такие ежедневно - долго не простоят.
43.
Что удивительно, на БАМе он лишь 2-й по высоте (35м) - 45-метровый мост перекинут через совершенно неприметную речку на границе Амурской области и Хабаровского края.
44.
На кадре выше - вид с моста: внизу плещется речка с похожим на последние слова царя морского названием Итыкит. По ней назван разъезд у бывшего посёлка Тоннельный, расселённого в 2004 году и ныне снесённого почти без следа. Он стоял у западного входа в Северомуйский тоннель - вот тут видна и основная магистраль с капитальными опорами контактной сети, и галереи на идущем параллельно ей, но выше по склону, обходе:
45.
Обходу, впрочем, надо сделать очередную петлю над порталом тоннеля. Прошлый кадры были сняты левее магистрали, а мы ненадолго оказались правее, у разъезда Осыпной в ещё одном расселённом посёлке:
46.
На борту долины галереи идут одна за другой:
47.
По очередному мостику обход вновь перепрыгивает главный ход БАМа и спускается к нему: последние 5 километров он идёт как второй путь.
48.
Обход воссоединяется с магистралью на станции Ангаракан. 64 головокружительных километра поезд преодолевает около 2,5 часов, по тоннелю же от Окусикана до Ангаракана (которые пассажирские поезда проходят без остановок) ехать минут 40.
49.
Напоследок - просто несколько кадров из верховий Верхней Ангары. Северо-Муйский хребет теперь от нас к югу:
50.
Нависает скалистой стеной:
51.
С севера - хребет Делюн-Уран, издали куда более живописный:
52.
53.
54.
Параллельно вьётся АвтоБАМ с надёжными мостами через речки. Впереди - долгий спуск к Байкалу:
55.
Но об этом будет следующая часть.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа БАМ транспорт дорожное Бурятия |
Лёд-2 |
В прошлом году в конце февраля я собирался на Байкал, чтобы, как полковник Аурелиано Бунэндиа в юности, посмотреть на лёд. Тогда поездка отменилась потому, что вместо льда смотреть пришлось бы на снег. В этом году я решил повторить попытку. И чтобы не доводить серию до Льда-9, настроен ехать при любой погоде (пока что не слишком благоприятной).

Традиционно, вопросы:
1. Кто ещё? Можно было бы объединить усилия, а если нас много наберётся - скинуться на "Хивус".
2. Посоветуйте, куда и на чём стоит съездить в этом сезоне?
3. Имел ли кто-нибудь в прошлые годы опыт поездок до ледовой станции Середина? Что представляет собой путь к ней от берега Байкала?
Ну и просто принимаю любые советы и предложения.
Ну а так как поездка в Сибирь - удовольствие по определению дорогое (билеты туда-обратно нашёл за 15 тысяч через Питер), а на ледовый Байкал в разгар сезона тем более - Вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Традиционно, вопросы:
1. Кто ещё? Можно было бы объединить усилия, а если нас много наберётся - скинуться на "Хивус".
2. Посоветуйте, куда и на чём стоит съездить в этом сезоне?
3. Имел ли кто-нибудь в прошлые годы опыт поездок до ледовой станции Середина? Что представляет собой путь к ней от берега Байкала?
Ну и просто принимаю любые советы и предложения.
Ну а так как поездка в Сибирь - удовольствие по определению дорогое (билеты туда-обратно нашёл за 15 тысяч через Питер), а на ледовый Байкал в разгар сезона тем более - Вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
|
Метки: Сибирь дорожное |
Бодайбо. Часть 3: Ленские прииски |
Ни одно место во всей России не оставило у меня такого тягостного впечатления, как Бодайбо. Дело даже не в разрухе (кого в бывшем СССР ей удивишь?) и не в остервенении жителей, не понимающих, как эта разруха сочетается с золотом, по которому они ходят. Скорее, тут просто в воздухе чувствуется память о том, скольких людей за это золото обманули, предали, убили. История Бодайбо - это история алчности и подлости, человеческих страданий и издевательства над природой. Бодайбо - точка напряжения, где всё худшее, что есть в русском капитализме, приобретало гротескные формы... в том числе и сейчас.
В первой части доехав сюда из внешнего мира и осмотрев посёлок энергетиков Мамакан, а в прошлой части погуляв по городку Бодайбо, сегодня отправимся дальше - на Ленские прииски.
Начавшись в 1740-х годах на Урале, золотая лихорадка понемногу смещалась по России на восток, и вот за сотню лет достигла Прибайкалья, где то у глухаря в зобу обнаруживались золотые крупинки, то эвенк приносил самородок на ярмарку. В 1846 году иркутский купец Константин Трапезников застолбил первый участок на речке Хомолхо в бассейне Олёкмы, а к 1860-м, пройдя Патомское нагорье насквозь, иркутяне поняли, что зашли с чёрного хода. Богатейшие россыпи нашлись в бассейне Витима у реки Бодайбо, и ныне впечатляющей мутно-жёлтым цветом:
2.
С "резиденции" (базы снабжения) на Витиме близ её устья в 1863 году начинался городок Бодайбо. Дорогу к нему с юга, от станции Таксимо, пробили лишь в 1982 году, параллельно строительству Байкало-Амурской магистрали. Дорога же на север появилась ещё в 19 веке. В 1895-1916 годах вдоль неё проложили узкоколейку (914мм), о которой (как и обо всём вышеописанном) я подробно рассказывал в прошлой части. Удалённая на сотни километров от любых других железных дорог, линия была разобрана в 1967 году, и, видимо, тогда же дорога Ленских приисков получила свой нынешний облик:
3.
Лишённая асфальта, разбитая на перевалах и топкая в низинах, она всё же немного лучше дороги на Таксимо - описанный в сегодняшнем посте путь можно проделать за 4 часа в одну сторону на нормальной машине. Однако туда мы, срезав пешком серпантин над Бодайбо, поймали, кажется, даже слегка заниженную "пузотёрку". Вели её посменно два весёлых, каких-то даже комедийных раздолбая, которые очень обрадовались возможности подобрать колоритных попутчиков. Ехали они в Кропоткин искать некую девушку - от одного из них она сбежала, а другой просто решил поддержать друга. Парни прямо за рулём пили пиво, постоянно беззлобно паясничали, но тормозили для нас в интересных местах. Обратно нас вёз очень толковый, бывалый предприниматель на фургоне... вот только шёл он с большим перегрузом - в каждую сторону путь занял по 6 часов. Автобусы тут и вовсе вымерли, однако приисковая дорога гораздо интереснее любого пункта на ней.
4.
А по бокам от неё то и дело попадаются бетонные мосты без конца и начала - Перестройка похоронила и мост через Витим, и реконструкцию дороги, и целый город Вачинск, куда она должна была вести.
5.
В начале ХХ века вдоль этой дороги жило 20 тысяч человек - гораздо больше, чем и сейчас, и при Советах. В Ближней Тайге, как называют бассейн реки Бодайбо, селения стояли каждый десяток километров, но в наши дни пяток заброшенных халуп в лесу - это первый от Бодайбо Кяхтинский. На "-ский" тут почти все названия: до недавнего времени прииском в этих краях, как аулом в Казахстане или юртом в Чечне, называли любой населённый пункт в стороне от Витима. Лишь в 21 веке это слово вышло из обихода, заменившись более привычным "посёлок". И только Балахнинский (1 тыс. жителей) в 20 км от Бодайбо посёлком был изначально:
6.
Его название восходит к Балахнинскому ключу, долину которого в конце 19 века приобрёл иркутянин Михаил Балахнин. Его прииск затесался между гигантскими владениями "Лензолота" и "Компании Промышленности", и, перебравшись в тайгу, купец озаботился местом не только для прибыли, но и для отдыха. Прииска здесь не было никогда, а вот в посёлке при Советах расположились контора дражного флота и завод взрывчатки. Но странным образом на Бодайбо лучше всего смотрятся именно те места, где не было золота - Балахнинский неожиданно симпатичен с дороги, да и население его с 1989 года сократилось всего лишь вдвое. На выезде из Балахнинского - ковш драги: здесь это такой же символ, как у железнодорожников паровоз, а у угольщиков - шахтный комбайн.
7.
Чуть дальше по дороге - родник Ежовка, у которого в любое время набирает вкусную чистую воду несколько машин:
8.
Ещё через десяток километров дорога минует опустевший Андреевский (запомните его!) и почти опустевший Васильевский (130 жителей) в устье речки с необычным для русского уха названием Накатами. И путешествуя лет так 120 назад, стоило бы свернуть вверх по ней - туда, где началось освоение Ближней Тайги. В 1864 году там застолбил Успенский прииск иркутский купец Иван Хаминов - крупнейший судовладелец Ангары и Байкала, по такому поводу и на Лену заказавший первый в её истории пароход. Год спустя он продал и судно, и прииск соседям - Михаилу Сибирякову с Благовещенского прииска и его зятю Александру Трапезникову с Иннокентьевского. Объединившись с ещё несколькими купцами, они основали "Прибрежно-Витимскую компанию", с 1885 году вошедшую в состав более крупной "Компании промышленности разных мест Восточной Сибири". Из 700 тонн золота, добытых за всю историю Бодайбо, Сибиряковские прииски дали более 1/3, и именно "Компания Промышленности" господствовала здесь в 19 веке. Бодайбо служил тогда лишь её перевалочной базой, а настоящим центром золотой земли стал Успенский прииск, от которого в наши дни не осталось и следа:
8а.
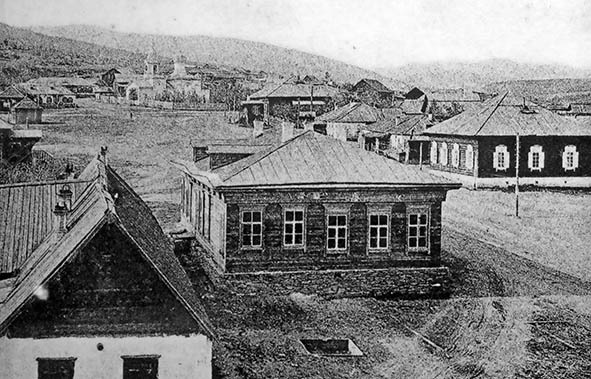
Он сросся с Благовещенским прииском, о чём напоминал первый в Ленском горном округе Благовещенский храм (1870), в 1895 году перестроенный и оштукатуренный под камень. Первым тут вообще было многое - например, школа (1881), больница (1884), метеостанция, фотоателье и даже театр. Те времена, по духу скорее докапиталистические, для Бодайбо остались первородной идиллией: приисками владели иркутские купцы, знакомые между собой и любой вопрос решавшие за чаем. Единоличные владельцы были у редких приисков, а господствовали на Бодайбо плавно перетекающие друг в друга товарищества. Более того, купцы ездили по одним глухим дорогам со своими рабочими, а потому и обращались с ними по-людски.
8б.
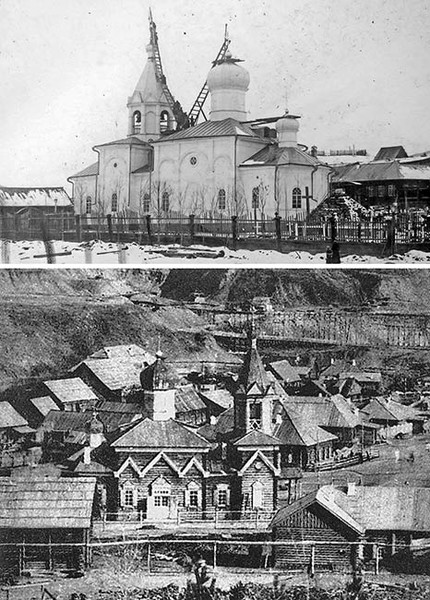
Но идиллия всегда длится недолго. Первым конкурентом "Прибрежно-Витимской компании" стало Ленское золотопромышленное товарищество Ивана Баснина и Петра Катышевцева, учреждённое ещё в 1855 году и вскоре обосновавшееся на Ваче. Богатые россыпи там исчерпались быстро, Баснин умер, а у Катышевцева всё хуже шли дела. Тут-то и обратил на него внимание Евзель Гинцбург - сын витебского реббе, разбогатевший в винных откупах, причём не где-нибудь, а в самом пекле Крымской войны. В 1859 году Евзель Габриэлович осел в Петербурге, где преуспел как банкир. Сын его Гораций и вовсе ухитрился стать консулом Гессена, и за какие-то финансовые услуги в 1872 году получил от тамошнего герцога Людвига III баронский титул, два года спустя подтверждённый Александром II на весь род. С конца 1860-х Гинцбурги активно кредитовали Катышевцева, расчётливо понимая, что тот не вернёт долги. В 1873 году они вошли в его бизнес, а к 1882 стали единоличными владельцами "Лензолота". Тогда - скорее убыточного: унаследовав оскудевшие россыпи, промышленный актив Гинцбурги держали на всякий случай, предпочитая и дальше делать деньги из денег. Исчерпывались и другие доступные россыпи, мелкие промышленники банкротились один за другим, а "Компания Промышленности" в 1895 году начала строительство железной дороги, явно готовясь к завозу оборудования для более капитальных шахт. С неё брал пример гинцбурговский управляющий (с 1891 года) Леопольд Грауман, отдавший приоритет электрификации приисков с первой в Сибири ГЭС и первыми в России ЛЭП (см. первую часть). В тех же 1890-х годах на Ваче было открыто богатейшее месторождение Сухой Лог, а банковское дело Гинцбургов вошло в тяжёлый кризис, и вот бароны подались в "хозяева тайги". Своих средств на освоение далёких богатств Гинцбургам не хватало, но всё это совпало с финансовой реформой Сергея Витте, обеспечившей "золотой стандарт" рубля. В 1902 году Госбанк выдал "Лензолоту" бессрочный кредит на 7 миллионов рублей (по нашим временам 10-20 миллиардов долларов!), но запросил свою цену. В совет директоров вошёл банковский инспектор Николай Бояновский, поставивший на место технократа Граумана своего человека, беспринципного исполнителя Иннокентия Белозёрова. На Ленские прииски пришла мрачная эпоха из советских книг...
9а.

Девизом Белозёрова было "Оставить от лошади хвост и гриву, а от рабочего - нос и глаза": хотя начатая Грауманом электрификация продолжалась, основным способом снижения издержек стало пожарче палить "новую нефть", от которой всё равно не было отбоя. Крупными (до 100 рублей) авансами и рассказами про "золотой фарт" рабочие привлекались со всей России - на год из сибирских губерний и на 5 лет из всех остальных. Здесь их ждала неплохая зарплата (в среднем 55 рублей) и возможность дополнительного заработка на "подъёмном золоте", то есть старательстве в отведённых местах - где-то за фиксированную аренду, где-то за скупку находок по фиксированной цене. Вот только искать "подъёмное" большинству горняков не хватало времени и сил - рабочий день на приисках официально длился 11,5 часов с двумя обеденными перерывами, а неофициально доходил до 16 часов: невыполнение "урока" (нормы) было чревато большими штрафами, которые и так тут были за каждый чих. Сменной одежды рабочим не выдавали, и представьте, каково идти в мокрой робе несколько вёрст по морозу? Травматизм на производстве достигал 70%, а в казармах перенаселение было такое, что негде было повесить рукомойник. Холостяки и семейные спали на одних нарах: проживание семьи на приисках никак не регламентировалось, но если таковая была - разве мог мужик её на 5 лет оставить? Врача, 1 на 3000 рабочих, "Лензолото" держало для галочки. Скотские условия сочетались с неприкрытым шулерством: вместо денег тут ходили талоны магазинов "Лензолота", принимавшиеся без сдачи, так что излишек сгорал. Цены в магазинах были одни для всех служащих, но рабочим продавали второй сорт: например, конину от павших лошадей вместо говядины. Даже добровольность труда на этой капиталистической каторге была условной: обратный билет не оплачивался, деньги же рабочий мог получить, только отработав все 5 лет контракта.
9.
Кого-то увольняли, кто-то сам бежал - но и те, и другие были вынуждены искать способы выжить. Одни шли в нелегальные старатели, которые были наименьшей головной болью приисковой полиции. Иные становились разбойниками, крышевали тех же старателей и грабили всех остальных. Особенно прославилась банда Полянского, не раз возникавшая из тайги, проходившая рейдом по приискам и так же бесследно уходившая в тайгу. Хуже разбойника был спиртонос - эти также шныряли по тайге неуловимо, за деньги от "подъёмного золота" продавая горнякам алкоголь. От семейных работяг оставались где вдовы, где дети. И те, и другие тоже привлекались к работе на приисках - но неофициально, а потому без каких-либо прав. Женщинам прибыльнее было податься в проституцию, "мамки" которой становились влиятельными людьми. У начальства же практиковалось сексуальное рабство и право первой ночи - бесправие рабочих было таково, что если чья-то жена глянулась начальнику, ей благоразумнее было не перечить, а мужу смириться и отойти. Добавьте сюда зимние морозы, летнюю мошку, медведей-шатунов и лесные пожары - условия тут были достойны ГУЛага.
9б.
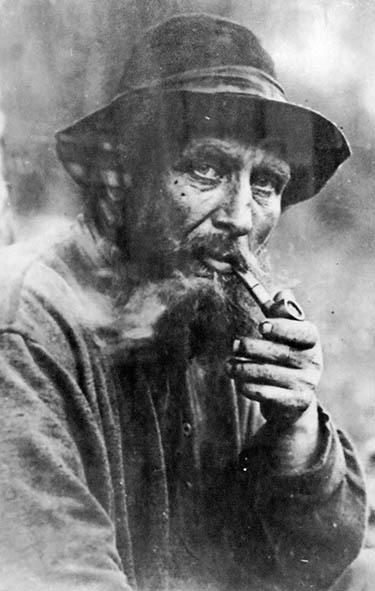
Как самый инертный металл, золото часто образует самородки, места залегания которых и называются россыпи. Самый большой самородок Ленских приисков весил 12 кг, но обычно это крупинки, рассеянные в речных песках. Первый слой таких песков на поверхности исчерпался стремительно - вот тут в нижней половине кадра китайский (круглый) и русский (квадратный) лотки, которыми песок промывался в реках, да совок и бидон для его переноски.
10.
Однако на глубине 20-30 метров начинался куда более толстый (50-60 метров) слой золотых песков с уникальным в мировом масштабе содержанием золота от 2 до 8 грамм на тонну. В верхней части кадра выше - техника горняка: фонари, кирки, бадья и колесо для подъёма песков, решётка для их просеивания... На кадре ниже - всё это в деле:
11.
Шахты отличала средневековая архаичность, когда людей спускали на верёвках по вертикальным стволам, а работали по колено в воде.
11а.

Но зачем было внедрять что-то более сложное, если у "Лензолота" и так хватало рук?
11б.
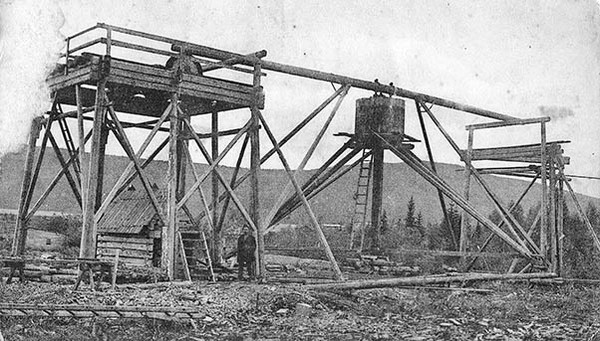
Лишь с 1886 года на смену примитивным лоткам стали приходить промывательные машины, куда песок завозился на лошадях по огромным эстакадам:
12.
Приезжавшие сюда иностранцы неизменно испытывали шок, сравнивая всё это с механизацией своих приисков. Североамериканские Штаты и Британская Австралия к тому времени вновь потеснили Россию с 1-го места, и Альфред Гинцбург, сын барона Горация, задумал с их помощью вывернуться из-под опеки Госбанка. В 1908 году в Лондоне было учреждено акционерное общество "Лена Голдфилдс Лимитед", превратившееся в самый настоящий клубок интересов - среди крупнейших акционеров были Алексей Путилов (владелец крупнейшего завода страны в Петербурге), бывшие министры Василий Тимирязев и Александр Вышнеградский, английские лорды, золотопромышленники из Южной Африки и даже императрица Мария Фёдоровна. Биржевые махинации приносили владельцам как бы не больший доход, чем сама добыча. Но выход на мировой рынок открыл доступ и к мировым технологиям: на приисках появились тепловые пушки для оттаивания вечной мерзлоты, паровые экскаваторы и американские драги "Бьюсайрус" (на фото) - монструозные то ли здания, то ли суда, то ли машины, то ли драконы. По задумке Гинцбургов они должны были вывести добычу, в 1910-х достигавшую 16 тонн в год, на иной уровень, но на пути капиталистов встала Гражданская война. К её окончанию Ленские прииски могли выдать лишь 4% довоенного объёма, и возрождать дело Советы в 1921-25 годах вновь пригласили уже ставшую чисто английской "Лена Голдфилдс". Но уже в 1930 году под предлогом того, что английские специалисты чуть не утопили новенькую драгу, буржуям показали на дверь - дальше коммунисты и сами могли справиться.
12а.

Тяжба с англичанами шла до 1968 года и кончилась их победой, но это вряд ли волновало простого рабочего из золотой артели. Советы пошли по пути механизации и создания небольшого, но постоянного квалифицированного населения. В войну под гарантии здешним золотом СССР получал английские кредиты, а к началу БАМовской эпохи драга, экскаватор и самосвал полностью вытеснили лоток, кайло и бадью. Геологоразведка копала всё глубже, и в 1963 году нашла беспрецедентную по глубине и богатству россыпь на реке Маракан. Раскопать такую могла только новейшая драга "Бьюсайрус" с 510-литровыми черпаками, но сделку на её поставку заблокировал Джон Кеннеди - не только мы живём под санкциями. Но и в импортозамещение предки умели: в 1969 году Иркутский завод тяжёлого машиностроения закончил изготовление крупнейшей в мире "Драги-601". Цифра - это ёмкость ковша, коих у неё было 169. Сама драга была размером с крейсер: 236 метров длины, 50 метров ширины, 54 метра высоты, 11 тыс. тонн водоизмещения при почти 4-метровой осадке, а 1000 кубометров песка просеивала за пару часов.
12б.

Дражная добыча преобладает и ныне. С мостика через Бодайбо чуть за Васильевским водитель фургона показал нам перевёрнутую драгу - её установили с какой-то ошибкой, и она кувыркнулась вверх дном.
13а.

Бескрайние прииски тянутся вдоль всей дороги:
13.
Чуть дальше мы увидели на них и действующую драгу:
14.
Принцип действия "дракона" прост - штуковиной, похожей на гигантскую бензопилу с ковшами вместо зубцов она черпает песок и промывает его внутри своего корпуса, оставляя золото и через длинную "шею" сливая пустую породу. Драга - это полноценное судно, только плавает она в грязной луже:
15.
Которую выкапывает её компаньон - шагающий экскаватор:
16.
Драги делал Иркутский завод тяжёлого машиностроения, шагачи мне попадались с эмблемами Новокраматорского машзавода в Донбассе и завода "Уралмаш" в Екатеринбурге:
17.
Работа колоссальных машин завораживает:
18.
18а.

Там, куда драгу запускать песка маловато, работают обычные экскаваторы и самосвалы:
19.
Они везут золотой песок промывательным машинам:
20.
Небольшие и быстровозводимые из подручных материалов, от дореволюционных предшественниц они отличаются разве что отсутствием конных эстакад:
21.
В 1910 году "Лензолото" купило Сибиряковские прииски. Условия труда на них резко ухудшились, зарплаты упали, а надо заметить, что бесправные протестуют редко - у них на это просто нет веры и сил. Богатая традиция забастовок и стачек на Сибиряковских приисках начиналась ещё на Хомолхо в 1850 году. Первый год рабочие просто тихо офигевали, что Белозёров с Теппаном ещё выкинут, пока в феврале 1912 года те в прямом смысле слова не показали им х..й. Конский орган в мясной лавке Андреевского прииска заметила одна из "мамок", и день рабочие носили его по казармам, а наутро весь прииск отказался выходить. Среди работяг нашлось и несколько политических ссыльных, которые тут же организовали протест в полноценную забастовку. Требования её касались в основном простого человеческого достоинства: повысить оклад, не допускать тухлятины в продуктах, селить семейных в отдельные комнаты, отменить штрафы, оплачивать уволившимся билеты до Жигалово, не принуждать женщин к труду и уважительно обращаться к работяге. И, конечно, отстранить от руководства список конкретных лиц. Но это сломало бы всю систему примитивных технологий при избытке рук. Протест рабочих был сугубо мирным, но прибывший на прииски ротмистр Николай Трещенков жаждал учинить показательную расправу. Жандармы арестовали руководителей стачки, и начальство заявило, что те принуждали рабочих к протесту. Кто-то предложил рабочим сделать расписки о том, что они бастуют добровольно и лично пойти их вручить прокурору. И вот 4 апреля 1912 года колонна из трёх тысяч голодных, озлобленных людей двинулась по снегам к главной конторе приисков. Такой картинки и ждал Трещенков, нагнавший страху, что это восстание. Солдаты открыли огонь - точная цифра убитых, от 170 до 270 человек (и примерно столько же раненых), не ясна до сих пор.
22а.
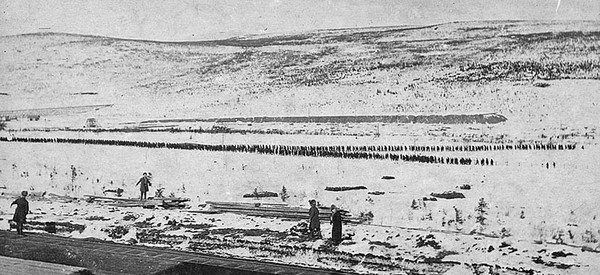
Позже прииски покинуло 80% рабочих - 4738 мужчин, 2109 женщин и 1993 детей. Альфред Гинцбург быстро нанял новых - на этот раз
22б.

Два мемориала Ленских событий построили в 1967 году, с годовщиной Октября и реконструкцией дороги. На кадре выше - братская могила, скрытая где-то в лесу между Васильевским и Апрельском. Местные, кроме официоза и интеллигенции, дорогу к ней не знают, а по слухам её и вовсе под шумок снесли при расширении очередного прииска. В любой другой точке страны я бы в последнее не поверил, но здесь и не такое легко вообразить. В общем, могилу я не увидел, а главный мемориал Ленских событий стоит прямо у трассы, на самой что ни на есть площади среди тайги и отвалов:
22.
"Их было три тысячи и всех сбросили в море", - говорил в бреду Хосе Аркадио из "Ста лет Одиночества". В тогдашнем мире ни сам Ленский расстрел, ни его предпосылки не были чем-то невероятным. Так, в 1921 году маленькая война с применением авиации и сотней погибших прокатилась по шахтёрским посёлкам в Америке. На Бодайбо в 1937-38 случился Второй Ленский расстрел - волна репрессий под началом киевлянина, иркутского чекиста Бориса Кульвеца. Тогда было арестовано 4 тыс. человек, в основном бывших предпринимателей, кулаков и азиатов, и 938 из них - казнены. А Третий Ленский расстрел устроил в 2008 году какой-то пьяный идиот, и следы его на монументе не залатаны.
23.
Обелиск стоит в прямой видимости почти опустевшего (90 жителей сейчас против 900 в 1959-м) посёлка Апрельск:
24.
Под этим названием скрывается основанный в 1872 году Надеждинский прииск - фактический центр горного округа, где в 1896 году расположилась контора "Лензолота". Вот к этому крыльцу рабочие несли свои расписки:
25а.
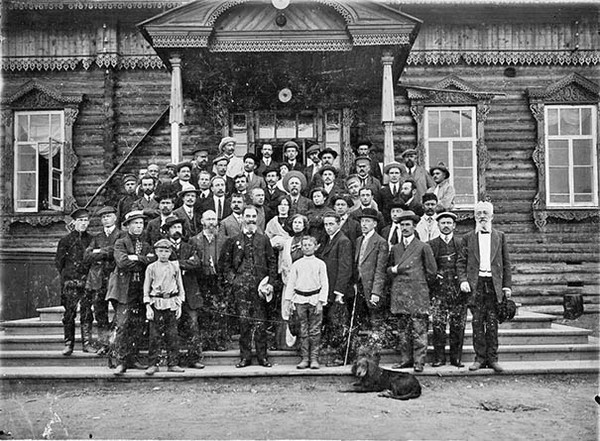
Дальше стояла Иннокентьевская церковь (1904):
25б.

И сиротский приют, в котором после всего вышесказанного сложно не искать подвоха:
25в.
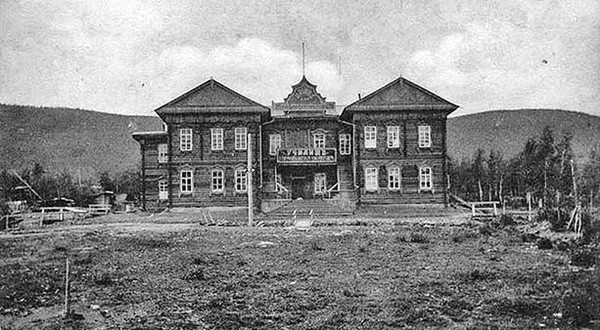
Купив Сибиряковские прииски, Гинцбурги протянули сюда железную дорогу:
25г.
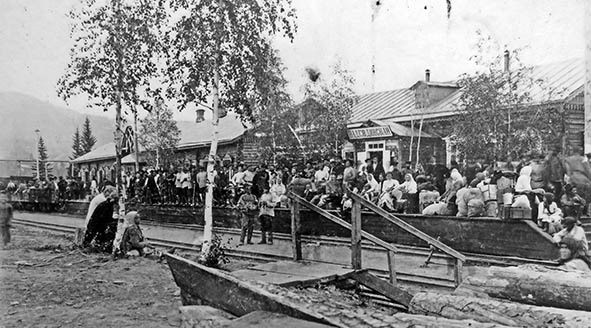
Но ещё до неё, в 1899-1900 годах, на прииски была проложена шахтная узкоколейка (760мм) с первым в России электровозом "Сименс", работавшим от Бодайбинской ГЭС (1897, 430 кВт).
25д.
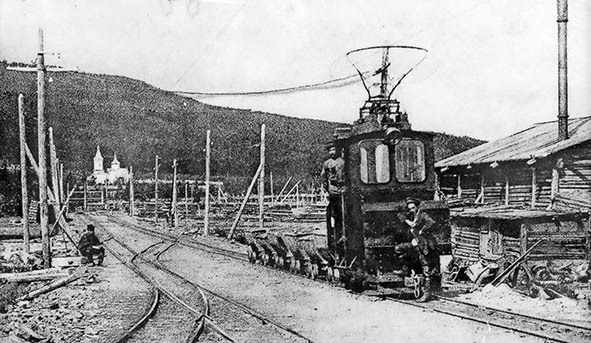
Пустыри Апрельска незаметно переходят в Артёмовский - относительно крупный посёлок (1,2 тыс. жителей), "столицу" Ближней Тайги. Его основал в 1872 году уже знакомый нам купец Балахнин как Федосеевский прииск:
26а.
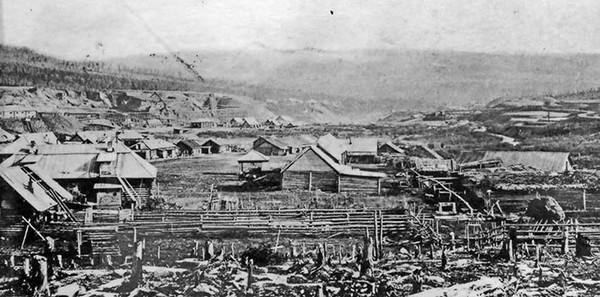
А разрастись в ХХ веке ему помогла конечная станция Бодайбинской железной дороги:
26б.
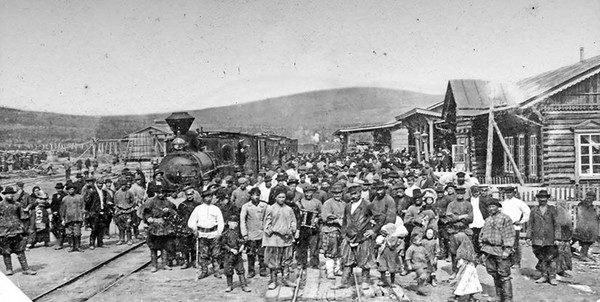
К 1959 году тут жило 9,5 тысяч человек, но уже к 1970 году, видимо, с ликвидацией железной дороги, население уменьшилось вдвое:
26.
...В 1992 году погибла Драга-601 - она работала и зимой, и вот на 46-градусном морозе кто-то придумал шпарить кипятком обледенелые фермы. Тогда обошлось без жертв, и драгу даже подняли на берег - но восстановить уже не было средств. Гиганта на Мараканском карьере сменила портативная драга размером с пылесос, конфискованная у нелегальных старателей. Они и писали, в соавторстве с бандитами, историю Ленских приисков в 1990-2000-х. Хотя старательство в России незаконно, наказанием за него в те годы был небольшой (относительно прибыли) штраф, а для сбыта открылось множество нелегальных каналов. Золото тогда здесь, натурально, копали в огороде, и по количеству стремительно озолотившихся людей Бодайбо не знал себе равных в Сибири. Многим становилось тесно в роли чёрных старателей, и они создавали маленькие серые артели, набирая рабочих извне. Золотой фарт, как и прежде, манил да заманивал - рабство, рэкет, грабежи с убийством, не говоря уж о простом русском кидалове, стали тогда привычной частью здешних реалий. Многие приезжие золатари, будучи обманутыми или просто уйдя в запой на первый заработок, уже не имели сил и средств вернуться обратно, а потому многочисленные заброшенные дома полнились бомжами. Иным везло больше, и наш водитель фургона, сам в те времена старатель, помнит, как тут сорили деньгами. Вот сцена, которую он наблюдал в магазине - два вахтовика по пути в аэропорт купили бутылку дорогого коньяка, по нынешним ценам тысяч за 8. Один её выронил и разбил, другой тут же купил новую - и тоже шваркнул об пол: "чтоб тебе, брат, не так обидно было!".
27.
То было время денег шальных, и достаточных, чтобы смертельные опасности воспринимать как часть игры. Каково приходилось тем, кто к золоту не имел отношения, всяким бюджетникам, таксистам, продавцам, сейчас уже никто не вспоминает. С той эпохи остались удручающие даже по меркам бывшего СССР разруха, запустение, бездорожье. Кто не нашёл золото - тому сойдёт и медь:
27а.

Под Мамаканом нас подвозил колоритный крепкий дядька с круглой бритой головой, нехваткой пальцев на руках и особым сладострастным взглядом. На мои вопросы о том, как тут в 1990-х жили и правда ли тут зашкаливал криминал, мужик хохотнул "Ну вот вас сейчас везёт его яркий представитель!", а когда в моём рассказе о прошлом путешествии случилась нестыковка (мы ехали по БАМу на запад, но один из участков - на восток), резко сменил тон на угрожающий, пока я не объяснил, как всё было. Наверное, он и сейчас крышует в тайге нелегальную артель или отжимает чей-то бизнес. Но для простого человека бодайбинские вестерны - в прошлом.
28.
Пока наши попутчики затаривались в магазинах на выезде из Артёмовска, мы размышляли, продолжать ли путь. Здесь заканчивается Ближняя Тайга, и до следующего посёлка - примерно те же 100 километров, что и до Бодайбо. Но если уж забрался в глушь - как не рискнуть идти дальше? Мы продолжили путь в глубины Патомского нагорья, взбираясь на ветреный промозглый перевал:
29.
Если в Ближней Тайге леса смешанные, то в Средней Тайге - до горизонта ничего, кроме золотящихся лиственниц на пологих склонах. В золоте серебрится Вача, что в своё время Высоцкого кидала то в смех, то в слёзы:
30.
Природа Средней Тайги кажется глухой и девственной - вдоль дороги не тянутся километры рукотворных язв, прииски в основном небольшие и опрятные. На полпути - развилка на Маракан, где ещё лежат руины легендарной драги. Населённых пунктов же нет здесь вообще - ни жилых, ни брошенных. Но вот тайга вновь расступилась, открыв нам Кропотки - так местные произносят название ПГТ Кропоткин (1,1 тыс. жителей):
31.
Стоящий на реке Ныгри, до 1930 года он назывался Тихоно-Задонским прииском, который молодой Пётр Кропоткин открыл в 1866 году в первой экспедиции на Патомское нагорье. Здесь в 1868-97 годах, до переезда в Надеждинск, располагалась контора "Лензолота", а рядом Грауман в 1896 году построил Павловскую ГЭС (300 кВт) - первую в Сибири.
32.
Памятником тех времён была крупнейшая церковь Ленских приисков, сгоревшая в начале ХХ века. Как считали местные - из-за святотатства: драки в алтаре. Но если здесь такое бывало, что уж говорить о банальных нарушениях ТБ? Позже на её месте поставили симпатичную в своей примитивности часовню-пятигранник:
32а.
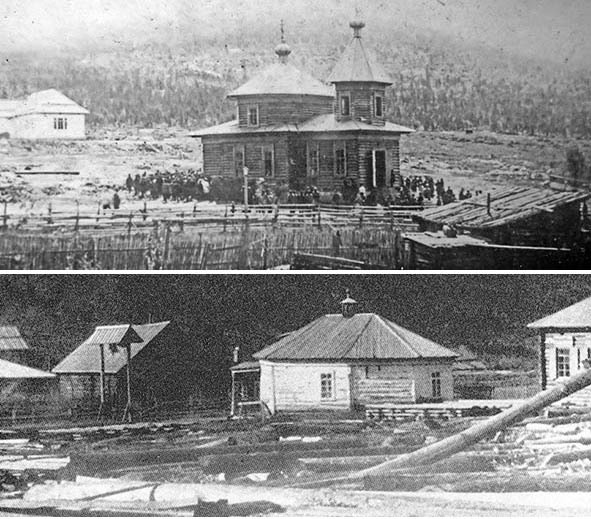
Новая часовня да памятник князю-анархисту стоят на площади у единственной в Кропотках пятиэтажки:
33.
Рядом - ДК:
34.
С пустой афишей и велосипедом-внедорожником у крыльца:
34а.

Пейзажи посёлка впечатляют глубинной суровостью:
35.
Привычный нам большой мир с его шумами и радостями - где-то очень-очень далеко:
36.
В одном из дворов нас подозвал мужик с мелким сынишкой - узнать, что за странные люди объявились в глуши. К нам он быстро проникся симпатией, и отсыпал и кедровых шишек, которые привёз из тайги, и лежавшего на столе глухаря.
37.
С избами и бараками соседствуют те же странные деревянные дома непонятного возраста:
38.
Со своими скандинавским мотивами они - явная архитектурная "фишка" Бодайбинского района:
38а.

Дворы Кропотков опрятнее, чем улицы:
39.
И подъезды их хороши. С непритязательностью облика соседствует какая-то особая, чисто сибирская незыблемость:
39а.

Но у дверей - резиновые сапоги, и самодельный вездеход припаркован напротив:
40.
Люди Ленских приисков, для которых нет грани между повседневной одеждой, лесным камуфляжем и горняцкой спецовкой:
41.
42.
Вместо ставших привычными дражных ковшей тут попадаются бадьи - для подъёма золотых песков из шахты?
43.
Они лежат и на задворках небольшой промзоны в центре Кропотков:
44.
Это мехбаза АО "Светлый" - одного из подразделений "Полюса":
45.
Советское "Лензолото" со всей своей механизацией так и не смогло достичь здесь дореволюционных объёмов. Сейчас Иркутская область добывает максимальные в своей истории 25 тонн золота в год. Вот только с этим показателем она спорит с ещё парой регионов за 4-е место, а большая тройка золотодобывающих регионов России ныне - это Красноярский край, Якутия и Магаданская область. Хотя Россия не имеет равных по богатству своих золотых россыпей, куда обильнее рудное золото, добычу которого освоили на Алдане и Колыме. Она не зрелищна - обычные шахты и горно-обогатительные комбинаты, по которым не скажешь на глаз, какой добывают металл. Однако советские геологи нашли, что и этого на Патомском нагорье вдосталь. Под рассыпным месторождением Сухого Лога, озолотившим в своё время Гинцбургов, в 1961 году было открыто крупнейшее в мире рудное - 1500 тонн золота, то есть 15% российских запасов, и именно для его освоения реконструировалась дорога и планировался Вачинск. С перевала перед Кропоткиным буквально на секунду показываются из-за гольцов белые цеха (не на фото!) - начиная с 2004 года, когда был пущен ГОК Высочайший, Средняя Тайга становится центром золотых рудников, а не приисков.
46.
Вот только местные этому совсем не рады. Конец здешнему вестерну положил крупный капитал во главе с компанией "Полюс", купившей "Лензолото" в 2003 году. Она начиналась в 1980 году с артели адыгейца Хазрета Совмена, работавшей близ полюса, на архипелаге Северная Земля. Но к 2002 году разрослась в дочку "Норильского Никеля", а с 2011 года - в самостоятельную компанию под началом Сулеймана Керимова. Теперь для русского золота "Полюс" значит примерно то же, что для нефтянки "ЛУКойл". Государство резко ужесточило ответственность за старательство вплоть до тюрьмы, а разгром здешнего криминала перекрыл лёгкий сбыт. Не нашлось вчерашним старателям места и в артелях: вахтовики набираются из небогатых регионов (то же Забайкалье ездит в артели целыми деревнями), легко взаимозаменяются, не отпрашиваются с работы, потому что у них пошла брусника, дичь или рыба и не пытаются тайком работать на себя. В последнее время и местные инженеры советской закалки всё чаще заменяются пришлыми "эффективными менеджерами", добычу золота видевшими только в кино. Тот же водитель фургона рассказывал нам про начальника, который требовал выставить забор вокруг драги и сильно удивлялся, поняв, что это невозможно. Местные, конечно же, убеждены, что варяги тут всё доведут до ручки...
47.
...а объёмы золотодобычи тем временем растут: за 10 лет Россия поднялась на 2-е место в мире (330 тонн в год), потеснив Австралию (320 т.) и нагоняя Китай (380 т.). Однако вместо дороги на Сухой Лог начальство планирует строительство здесь нового аэропорта для вахтовых чартеров. Бодайбинцы на всё это смотрят с отчаянием и бессильной злостью, да поговаривают, что ещё чуть-чуть - и Бодайбо расселят да снесут. Такой ненависти к "москвичам" я не встречал даже на Дальнем Востоке, где в общем-то творятся очень похожие дела, только вместо золота - рыба. Опасная тенденция последних лет по всем восточным и северным перифериям - оттеснение людей от ресурсов, лежащих у них под ногами. Потому и формируется теперь на востоке страны Новый Красный пояс - с точки зрения экономической эффективности в таких местах вообще не должно быть постоянного населения...
48.
Водитель фургона пожурил нас за то, что мы не поехали в Перевоз - за Кропотки это ещё сотня километров. Село (860 жителей) на реке Жуя (приток Олёкмы) в устье той самой Хомолхо, где в 1840-х годах возникли первые прииски, - единственное в Дальней Тайге, россыпи которой оказались относительно скудными. Зато там лучшая охота, нетрудно повстречать якутов (или якутоязычных эвенков), а за полсотни километров от Перевоза в горах есть "Гнездо огненного орла" - Патомский метеоритный кратер, столь отчётливый, что была даже гипотеза, будто выбил его в 1908 году Тунгусский метеорит (на самом деле кратер не сильно старше - лет 200-300). Дальше Перевоза дорога заросла, хотя именно с той стороны она начиналась - от ленского села Мача в Якутии, через которое в Дальнюю Тайгу входили первые купцы.
Утром под разговоры о кознях вездесущих москвичей мы покидали Бодайбо с чувством подавленности и опустошения. В следующих частях продолжим путь по Байкало-Амурской магистрали.
Обзор и оглавление.
|
Метки: Зона заражения Сибирь природа дорожное Молох Бодайбо Иркутская область индустриальный гигант |
Бодайбо. Часть 2: город жёлтого металла |
Бодайбо - маленький городок (12 тыс. жителей) на берегу Витима в 1500 километрах по дорогам от областного Иркутска и 220 от ближайшей БАМовской станции Таксимо. В прошлой части я рассказывал о нелёгком пути сюда и соседнем посёлке гидроэнергетиков Мамакан. Сегодня погуляем по райцентру - воротам и столице Ленских золотых приисков, где во все времена доходили до абсурда гримасы русского капитализма.
Трудная дорога из Таксимо, все 7 часов на которой трясёт так, что у меня саморазвязались шнурки, упирается в берег Витима. Весь его пейзаж как бы говорит "я и есть Угрюм-река". Вдоль недостроенного, как и весь советский коммунизм, моста за реку ходят паромы. Но дорогу и переправу я показывал в прошлой части, равно как и виды Бодайбо вон с той сопки с ретранслятором наверху:
2.
Городок вытянут вдоль реки от переправы до аэропорта на 7 километров при ширине 1-1,5 километра и изрядном, не меньше сотни метров, перепаде высот. Дорогу сюда пробили лишь в 1982 году, параллельно со строительством Байкало-Амурской магистрали, а аэропорт обустроили при Сталине, начиная с гидросамолётов, садившихся на серый, словно бетон взлётки, Витим. Прежде главным путём сюда из внешнего мира служила река, и выше по течению три ржавых крана напоминают о временах, когда Бодайбо жил речными завозами, а колоколенка - о том, что с реки и пришёл сюда русский человек.
3.
...Сейчас уже сложно представить, что когда-то Россия считалась страной очень бедной полезными ископаемыми. Особенно аховой ситуация выходила именно с золотом, которое искали по рекам и горам со времён избавления от ордынского ига. Иван III приглашал рудознатцев из Италии, но те, перекопав полстраны, нашли единственный самородок, которого хватило на нательный крест. Пётр I зашёл с другой стороны, объявив "горную свободу" - золото дозволялось искать кому угодно и где угодно, невзирая на принадлежность земли. Нашёл его, однако, не бородатый старатель, а "пробовальный мастер" Иван Мокеев, в 1714-19 годах изучавший в Москве породы Нерчинской Даурии: первое скудное русское золото получали из полиметаллической руды. Больше повезло в 1744-47 годах Ерофею Маркову, староверу с Урала, который хлеб добывал поисками самоцветов, но золотую жилу обнаружил, когда сооружал себе избушку на реке Пышма - теперь там город-спутник Екатеринбурга Березовский, выросший вокруг первого в России золотого рудника. "Золотой фарт" стремительно перерос в "золотую лихорадку", вскоре охватившую Урал. К концу 18 века русским золотом было уже никого не удивить, а вот закон Петра I об уголовной ответственности за сокрытие находок жёлтого металла продолжал действовать. Одним из осужденных по нему стал уральский старатель Егор Лесной, оказавшийся в ссылке сперва в Кийской слободе (нынешний Мариинск) Томской губернии, а затем в горах Кузнецкого Алатау. Там с его заимки на речке Берикуль в 1826 году началась новая, уже сибирская золотая лихорадка, охватившая Томскую и Енисейскую губернии. В Сибири на передний план вышли уже не старатели-одиночки, а купцы, состязавшиеся в бессмысленной и безудержной роскоши - один завёл оранжерею и выращивал зимой ананасы, другой лил визитки из чистого золота. В Прибайкалье же охотники то и дело находили золотые крупинки в желудках глухарей, и понимали, что где-то тут, в тайге у них под боком, скрыты несметные богатства - только надо их найти... И если название Берикуль молва возводила к "Бери куль!", то Бодайбо - к "Подай бог!": поиски были тщетны. В них успели поучаствовать даже беспощадные "князья Забайкалья" Кандинские (см. Нерчинский Завод), но россыпей, попадавшихся на притоках Олёкмы, раз за разом хватало в лучшем случае на несколько сезонов.
4.
Сам же район поисков представлял собой чрезвычайно глухой угол, который ранняя русская колонизация в 17 веке обошла стороной. В ромбе Патомского нагорья между Леной, Олёкмой, Чарой и Витимом не было ни острогов, ни деревень, а единственными жителями оставались "пешие тунгусы", то есть эвенки-промысловики. (об этом народе я писал здесь) с тремя оседлыми стойбищами (Мамакан, Толондо и Хомолхо) и крошечными оленьими стадами по несколько десятков голов.
5.
С севера эвенков теснили якуты, в последующие века куда более заметные в жизни Бодайбо - они гораздо активнее взаимодействовали с русскими. Под их влиянием бодайбинские эвенки, прежде чем обрусеть, перешли на якутский язык и поменяли оленя на лошадь.
6.
Но, как гласит предание, именно эвенк Афанасий Якомин, вожак стойбища Хомолхо на одноимённом притоке Олёкмы, однажды приехал на ярмарку в Жигалово и среди прочих таёжных даров показал городским купцам тускло поблёскивавший жёлтый камень. Как вы уже догадались, это был золотой самородок.
6а.

В 1844-46 годах на Хомолхо одновременно заявились две поисковые партии - крестьянина Петра Корнилова от иркутского купца Константина Трапезникова и тобольского мещанина Николая Окуловского от статского советника Косьмы Репнина. Они и размежевали два невиданных прежде по своему богатству участка, которые в 1851 году утвердил "азиатский Пётр I" Николай Муравьёв. Дальнейшие изыскания показали, что Патомское нагорье буквально насыпано золотым песком, и иркутские предприниматели исследовали да межевали речку за речкой. Первыми воротами золотой лихорадки стало селение Мача на Лене, где в 1867 году на средства золотопромышленников была построена Никольская церковь (на фото), не уцелевшая до наших дней.
7а.

К тому времени они уже знали, что зашли в "русское Эльдорадо" с чёрного хода: позже притоки Олёкмы стали известны как Дальняя Тайга. В 1861 году сын Константина Трапезникова Александр проник в Среднюю Тайгу, найдя куда более богатые прииски в самом сердце Патомского нагорья на реке Вача, впадающей в Чару. Там в 1868 году обосновалось Ленское золотопромышленное товарищество ("Лензолото") Петра Баснина и Петра Катышевцева, основанное ещё в 1855-м. А в 1863 году купец Михаил Сибиряков, зять Трапезникова, нащупал ядро здешних россыпей - бассейн реки Бодайбо, ставший Ближней Тайгой. На Патомское нагорье пришла странная недолгая идиллия - всеми приисками без исключения владели бородатые русские купцы из Иркутска, хорошо знакомые друг с другом, а часто и породнившиеся через браки детей, и потому имевшие возможность любой вопрос решить за самоваром. Равно как и со своими рабочими они ходили по одним улицам, а потому старались с ними обращаться по-людски. У здешних приисков редко были единоличные хозяева, чаще - плавно перетекавшие друг в друга товарищества, в самом успешном из которых объединили силы Михаил Сибиряков, Александр Трапезников, Иван Базанов и Яков Немчинов. В 1858 году, ещё в Дальний Тайге, они основали Желтухинское золотопромышленное товарищество, а застолбив участки на бодайбинском притоке Накатами (это название реки!) решили брать выше, тем более на Лену как раз прибыли заказанные ими пароходы. В 1863 году было основано "Ленско-Витимское пароходство" на воде, а в 1865 - "Прибрежно-Витимская компания" на суше. А на границе двух сред, где с 1863 года поисковая партия казака Ивана Новицкого пыталась освоить для Сибиряковых Стефано-Афанасьевский прииск, образовалась Бодайбинская резиденция:
7.
При этом слове сразу представляется мрачная бревенчатая усадьба посреди хмурой тайги, где алчный золотопромышленник на покосившейся башне тщится залить вином и засыпать кокаином воспоминания о своими руками зарезанных друзьях и страх повторить их судьбу. Но Громово из "Угрюм-реки" Вячеслава Шишкова - образ собирательный, и его прототип я покажу скорее в следующей части. Здесь же "резиденция" - вполне безобидное слово, современный синоним которого - "база". Сибиряковские прииски лежали выше, на несудоходных горных речках, и Бодайбо в этой системе был не более чем перевалкой с пароходов и барж на оленей, подводы и поезда. Сама резиденция явно выглядела скромновато для барина-самодура, но людоеды здешних приисков были отнюдь не самодуры...
8.
Вокруг резиденции селились всяческие купцы да мещане, не участвовавшие в золотодобыче, но готовые что-то продать тем, кто участвовал в ней. Одни занимались легальными поставками, но немалая часть бодайбинских поселенцев была погружена в чёрный рынок, женскую половину которого представляли в первую очередь проститутки, а мужскую - спиртоносы, неуловимо шнырявшие по тайге, меняя золотой песок на огненную воду. "Прибрежно-Витимская компания" (в 1885 году ставшая частью более крупной "Компании Промышленности разных мест Восточной Сибири") неуклонно утрачивала лидерство, а эпицентр Ленских приисков смещался на Вачу. Павел Баснин быстро умер, Иван Катышевцев не справлялся с золотопромышленным бизнесом, и в 1873 году отдал "Лензолото" за долги своему кредитору - Евзелю Гинцбургу, сыну витебского раввина, выбившемуся сначала в петербургские банкиры, а затем в германские бароны. Три поколения Гинцбургов - Евзель, его сын Гораций и внук Альфред - и возглавили обновлённое "Лензолото", в 1908 году в Лондоне учредив на его основе акционерное общество "Лена Голдфилдс лимитед", среди акционеров которого были и Алексей Путилов (владелец крупнейшего завода страны в Петербурге), и бывшие министры Василий Тимирязев и Александр Вышнеградский, и английские лорды, и золотопромышленники из Южной Африки. В 1910 году Гинцбурги скупили Сибиряковские прииски, сконцентрировав 94% золотодобычи в окрестностях Бодайбо. Купеческую идиллию смело вторжение циничного глобального капитала, девизом которого в современных терминах было бы "Снижение издержек любой ценой". Теперь крупнейшим золотопромышленным районом Земли, дававшим в год до 16 тонн "проклятого металла", владели акулы капитализма, вопросы привыкшие решать не в баньке и не на большой дороге, а в суде. Передовые технологии вроде первой в России энергосистемы (см. прошлую часть) у них сочетались с безжалостной и вполне сознательной эксплуатацией работяг, которых заманивали на прииски "золотым фартом" и хорошими авансами, а там кидали в условия, достойные нерчинской каторги и сталинских лагерей. Проживание семей на приисках и вовсе не было предусмотрено, но разве можно бросить семью на 5 лет без отпусков и побывок? Так на приисках появлялись женщины, рождались дети - вокруг резиденции росло поселение, в 1903 году официально ставшее заштатным городом Бодайбо Киренского уезда Иркутской губернии. В 1910 году тут жило без малого 7 тысяч человек - и ещё 20 тыс. на приисках...
8а.
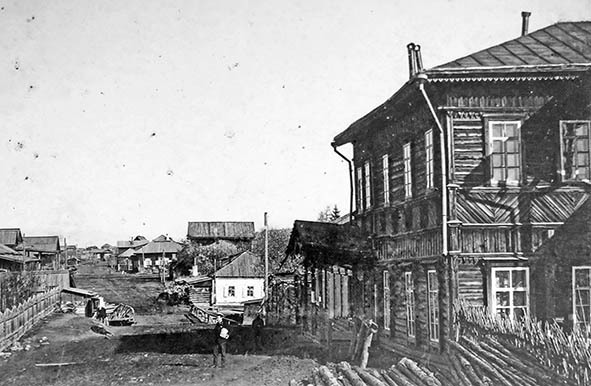
На кадре выше - здание Общественного собрания с гостиницей. Они стояли на первой от Витима улице Андрияна Стояновича - переименованная в честь красного партизана из мамских лесов, в те годы она называлась Сибиряковской. Исторические фото и витрины я переснял в стоящем на ней Бодайбинском краеведческом музее имени Владимира Верещагина - не краеведа, а местного председателя, основавшего музей в 1980 году. Экспозиция здесь небольшая, буквально пара комнат, но очень толковая, так что фотографии оттуда распределятся по 3 моим постам. Считается, что музей занимает дом Якова Фризера - баргузинского ссыльнопоселенца, золотопромышленника из Забайкалья, который и здесь владел парой судов и тремя приисками. Но, как объяснили мне музейные сотрудники, это новодел, причём весьма отдалённый.
9.
Прогулку, однако, начнём от него. По соседству стоит какое-то очень уж странное здание то ли поздне-, то ли постсоветской эпохи:
10.
И полузаброшенный почтамт, который вполне мог застать те времена, когда корреспонденцию из внешнего мира привозил гидроплан, а по Витиму её развозили деревянными баржами наподобие казачьих стругов.
11.
Почти напротив - Рождественская церковь (1876), которая изначально выглядела так:
12а.

Она закрывалась лишь в 1934-45 годах, но 9 лет хватило, чтобы обкорнать её, превратив в невзрачный сарай. Так что сруб тут подлинный, а вот формы, не говоря уж про сайдинг, уже современные. Куда лучше сохранил внешний вид Дом священника начала ХХ века:
12.
Здесь же, в церковной ограде, небольшой памятник жертвам Второго Ленского расстрела. Сам Ленский расстрел, когда доведённые до ручки рабочие пошли к директору "Лензолота" передать свои требования и были встречены огнём солдат, убившим более 200 человек - событие одного ряда с "Кровавым воскресеньем". Куда менее известно, что по золотому краю бульдозером прошлись сталинские репрессии - в 1937-38 годах здесь арестовали около 4 тысяч человек (в основном кулаков, китайцев и корейцев), и 938 из них были расстреляны. Руководивший операцией иркутский чекист, киевлянин Борис Кульвец вскоре повторил их судьбу - после ареста Ежова.
13.
Вплотную к церковной ограде на Витим спускается уютный Парк "Пристань" на месте причала "Ленско-Витимского пароходства", недавно благоустроенный на средства компании "Полюс":
14.
Технический символ Бодайбо, как шахтный комбайн у угольщиков или вышка у нефтяников, - черпаки драги, попадающиеся по всему району в самых неожиданных местах:
15.
Выше старой пристани Бодайбинскую резиденцию сменил уже советский офис "Лензолота" в "ободранной" сталинке 1950-х годов. Ленский расстрел и последовавшие за ним разбирательства и отставки ввергли компанию в кризис, который усугубила Первая Мировая война, обернувшаяся дефицитом рабочих рук. Владельцы ещё пытались завозить гастарбайтеров из Китая, Кореи и Туркестана, но дальше грянула Гражданская война. Вновь уже чисто английская "Лена Голдфилдс лимитед" зашла на Ленские прииски в 1921-25 годах как концессия, однако Советы лишь использовали буржуинов для возрождения добычи: в 1932 году англичан, будем называть вещи своими именами, кинули, национализировав прииски. Сделано это было столь откровенно, что в 1968 году советское правительство признало иск на 65 миллионов "старых" долларов и согласилось его возместить. Однако тогда цель была достигнута - "Лензолото" восстановилось, модернизировалось (получив, например, американские драги) и продолжило существовать уже как государственный трест. На Бодайбо пришли спокойные времена геологических экспедиций и механизации, но дореволюционных объёмов Советам так и не удалось достичь: центром русской золотодобычи в ХХ веке сделались Красноярский край, Якутия и Колыма, а Иркутская область спорит за 4-е место с Амурской областью, Хабаровским краем и Чукоткой.
16.
Капитализм вернулся сюда стремительно и беспощадно. 1990-е на Бодайбо были даже более лихими, чем в среднем по России, вот только местные парадоксальным образом вспоминают их как золотой (в прямом смысле слова!) век. Распад промышленности и государственного контроля обернулся расцветом "чёрного" старательства и маленьких "серых" артелей, когда бодайбинцы натурально "копали золото в огороде", а по числу стремительно разбогатевших людей район не имел равных в Сибири. Фактической властью тут стали, конечно, бандиты - но бандиты свои, с соседней улицы. Правила игры с ними были вполне понятны местным старожилам, да и нелегально добытое золото через кого ещё сбывать? Куда хуже приходилось тем, кто ехал сюда за "золотым фартом" - обмануть и ограбить чужака в Бодайбо стремилось, кажется, всё. Обманутый и ограбленный, да и просто невовремя напившийся и изгнанный с приисков чужак, если не всплывал ниже по течению Витима, оседал здесь же бродягой. Бодайбо 1990-2000-х, по описаниям, более всего походило на Желтугинскую республику близ Албазина с тотальной криминализицией всех сфер (в особенности - милиции), зашкаливающей преступностью и ватагами бомжей, среди которых местные мужики рассекали на толстых джипах. О том, как на этом Диком Востоке жилось тем, кто к золоту не причастен, всяким бюджетникам да продавцам, местные теперь не вспоминают.
17.
Но эта вольница не могла длиться вечно: в 21 веке на прииски стал заходить крупный капитал, и в первую очередь компания "Полюс", начинавшаяся в 1980 году как артель адыгейца Хазрета Совмена на полярном архипелаге Северная Земля. "Лензолото" она купила в 2003 году, будучи "дочкой" "Норильского никеля", но позже под началом Сулеймена Керимова "Полюс" превратился в самостоятельного игрока, лидера своей отрасли в России. Отрасль же пошла в бурный рост - в 2010-х годах наша страна по добыче золота вышла на 2-е место в мире (330 тонн в год), потеснив Австралию и наступая на пятки Китаю. Но рады ли этому на Бодайбо? Нисколько! Старательство в России вне закона, и под давлением крупных компаний государство сильно ужесточило за него наказание: прежде это был штраф, который успешный мужик мог платить как налог, а теперь - тюрьма. Разгром местного криминала сделал это наказание неотвратимым, но это было лишь начало. Затем для местных жителей стала закрываться и работа "на дядю" - "москвичи" (то есть начальники крупных компаний) быстро поняли, что выгоднее завозить сюда вахтовиков. В последние годы и инженеры из старой гвардии стали заменяться "эффективными менеджерами", добычу золота знающими по вестернам. Вместо дороги к крупнейшим приискам "москвичи" хотят строить аэропорт к ним поближе, как бы намекая, что бодайбинцам там не место. Такой ненависти к "москвичам" я не встречал даже на Дальнем Востоке: местные произносят это слово с той же интонацией, с какой году так в 1942-м произносилось слово "немцы", и предполагают, что скоро Бодайбо вообще расселят и снесут.
18.
Бутылкообразная площадь "Лензолота" упирается в Ильича (1987) и скверик с забавными клумбами в виде приисковых машин. Дальше площадь сужается в улицу Мира, прежде носившую неожиданное, но закономерное название Большая Коммерческая - здесь начиналась дорога от пристани на прииски. На ней уцелела даже парочка старых домов - в левом был магазин:
19.
В правом - что-то общественное (может быть, управа?), а ныне библиотека с чрезвычайно актуальной для таёжных мест рекламой:
20.
Ещё один домик стоит несколькими кварталами выше, на углу улиц Мира и Ленских событий у окраины старого города. Этакий последний кабак у заставы, где можно было заказать "Особый старательский":
21.
А самый красивый домик Старого Бодайбо стоит на третьей от Витима улице Урицкого (ранее Пожарная и Граумановская) и ныне занят типографией:
22.
У него очаровательные наличники:
22а.

В целом же красивой архитектуры на Ленских приисках не было никогда, что можно понять и по старым фото. Наверху виды Пожарной и Большой Коммерческой, посредине - реальное училище (1914, вроде бы сохранилось, но мы его не нашли) и золотосплавочная лаборатория, внизу - почтамт и таможня. Фотографий для такой глуши тут было сделано действительно много - образованные люди, всякие инженеры и предприниматели, были частыми гостями приисков. В лихих 1990-х бодайбинцев изрядно удивила инопланетянка-японка, чей дед, известный горожанам как Цуцука (на самом деле Цуруга), в 1907-18 годах работал в местном фотоателье.
23.
Участок улицы Урицкого на углу с улицей Мира называется площадь Победы, хотя никакой заметной площади здесь нет. Просто улица старше, чем воинский мемориал (1973) и районная администрация, по виду тоже годов 1970-80-х:
24.
Ниже, между улицами Урицкого и Стояновича проходит ещё и улица 30 лет Победы. На ней стоит одна из трёх на весь город сталинок (1959), Детская музыкальная школа:
25.
Глядящая фасадом в ещё один очаровательный парк, где стоят в том числе инфостенды с отличными по качеству историческими фото. Парки в Бодайбо здорово контрастируют с грязными неухоженными улицами и дворами: в бюджет района перепадают копейки, парк же благоустроить - хороший пиар для компаний.
26.
От парка и школы поднимается улица Розы Люксембург с островерхими многоэтажками, знакомыми мне по БАМовским посёлкам - после того, как Байкало-Амурская магистраль сделала Ленские прииски доступным по земле, советская власть явно имела на них большие виды. Воплощённые капиталистами - ныне Бодайбинский район добывает до 25 тонн золота в год, максимум в своей истории, но вместо домов здесь строятся времянки и бытовки.
27.
Улица Розы Люксембург упирается в памятник березнеровцам - рабочим Ленских приисков, в 1919 году под началом Николая Березнера восставшим против правительства Колчака. Было их, однако, совсем немного, и после подавления мятежа казаками 49 человек отправились на каторгу, а девятеро, включая самого Березнера, - под расстрел. Над их могилой и поставили стелу, не знаю только, в каком году.
28.
Всё это - компактный центр города. Выше уклон местности резко растёт, а многие улицы переходят в лестницы:
29.
Мы снимали квартиру в одной из пятиэтажек (которые здесь рекордно достигают 7 этажей). Её хозяйка рассказывала, как в те славные времена, когда жители отсюда уже начали разбегаться, а вахтовики ещё не начали приезжать, она по дешёвке, буквально за билет до Москвы, скупила пару десятков квартир, сдачей которых вахте теперь и живёт. Квартира оказалась грязноватой и изобилующей тараканами, а вот подъезд - вполне опрятным, причём - без кодового замка.
30.
И дети на площадке под окнами резвились без присмотра, а взрослые разговаривали с нами дружелюбно и спокойно, без той подозрительности, которой мне запомнилось, например, Забайкалье. Криминальная слава Бодайбо в прошлом, и злой тут народ по конкретным вопросам, а не сам по себе. Ныне это обычный тихий усталый северный город в ряду от Беломорска до Николаевска-на-Амуре:
31.
Панельная часть Бодайбо так же невелика, как и историческая, а большая часть городка - частный сектор с избами и хатами за высокими заборами:
32.
Исторические названия улиц напоминают, что за сто с лишним лет город не сильно разросся - хотя на пике в 1989 году его население достигало 22 тыс. человек. Пустеет Бодайбо с тех пор стабильно, что в 1990-х, что ныне - в отличие от Дальнего Востока, где убыль явно замедлилась в 2010-х.
32а.

А проклятый жёлтый металл, как и прежде, лезет отовсюду:
33.
И если в Таксимо и на переправе висят рекрутские объявления "Полюса", то здесь уже конкретнее: "Маракан", "Светлый", "Севзолото", "Дальняя тайга" - всё это его подразделения.
34.
Однако ситуация тут сейчас ближе к середине 19 века, когда половина добычи приходилась на "Лензолото", треть на "Компанию промышленности" и ещё сколько-то на мелкие товарищества и артели: "Полюс" - явный лидер, но пока что не монополист. Реинкарнацией Сибиряковских приисков можно считать старейшую в России (с 1974 года) непрерывно действующую артель "Витим", которая сама добывает в год полторы тонны золота, освоив шахтную добычу вдали от рек. Её "фишка" - теплицы на базах, где сотрудники круглый год выращивают для себя овощи, зелень и даже бахчу.
35.
Кто отгрохал себе Новую Бодайбинскую резиденцию - не берусь предполагать:
36.
Глухой и богатый город вообще изобилует странными сущностями:
37.
Но эхо глобальных трендов долетает и сюда:
37а.

Раскрашенный триколором валун на улице 30 лет Победы лежит не просто так:
38.
...а отмечает место, где казак Иван Новицкий во главе разведочной партии поставил в 1863 году свою избу, ставшую первым зданием города. В центре музейного зала - её макет на фоне вещей той эпохи:
39.
Двигаясь на восток от центра города, мы вышли к Горному техникуму (1938) в самом солидном здании всего Бодайбо:
40.
Вдоль его фасада проходит Железнодорожная улица с кварталом деревянных домов:
41.
Возраст их мне не понятен (рискну предположить - БАМовская эпоха), но на фасадах впечатляет прямо-таки скандинавская резьба:
42.
С другой стороны квартала - огромный заброшенный Дом культуры (1959):
43.
Культура явно не интересовала ни бандитов, ни вахтовиков:
44.
Но детали здания по-прежнему красивы:
45.
Выше, на улице Урицкого, стоит, пожалуй, самая необычная достопримечательность города - Самый Одинокий в Мире Паровоз... Ладно, не в мире, а только в России, или, например, на материках - подобные машины есть ещё как минимум в Исландии и на Шпицбергене, а может, и ещё на каких-нибудь островах. Это узкоколейный Гр-352, изготовленный в 1951 году в ГДРовском Бебельсберге и ставший памятником в 1967 году, когда была ликвидирована Бодайбинская железная дорога. Вроде бы ещё в порту то ли стоит, то ли стоял совсем недавно ТУ7 с 700-метровой ветки, сохранённой тогда и разбазаренной ныне. Как бы то ни было, ближайшими к этому паровозу станциями выходили Таксимо (200км; сейчас), Лена в Усть-Куте (500км; на момент его музеефикации) и Шилка (700км, на момент его поставки сюда), но и это не так уж далеко в сравнении с той изоляцией, в которой работали первые бодайбинские паровозы.
46.
Бодайбо можно было достичь по воде, а вот прииски лежали в горах на несудоходных реках. Первые рабочие не золото мыли, а корчевали тайгу и равняли дороги, по которым грузы, вещи и золотые пески возили на конных подводах. Там, где дорог не было, пригождался вьючный олень с эвенкийским каюром.
47.
В начале ХХ века тут появились автомобили, но на них разъезжало, конечно же, только начальство:
48.
Гинцбурги на своих приисках для снижения издержек нещадно жгли "новую нефть", от которой и так не было отбоя. На Сибиряковских приисках ещё был жив старый сибирский дух справедливости: планку зарплат и бытовых условий "Компания Промышленности" старалась держать несколько выше, а потому избрала другой путь - удешевление логистики. Когда от Бодайбинской резиденции к Успенскому прииску на реке Накатами была проложена конно-железная дорога - теперь не знает, кажется, уже никто: я встречал упоминания и 1880-х, и даже 1860-х годов, вот только их достоверность сомнительна. Ведь конку строили своими силами, а потому и сведения о ней не выходили за пределы прииска. Иное дело - полноценная железная дорога нередкой в "промышленных республиках" тогдашней России трёхфутовой (914мм), для которой в 1894 году генерал-губернатор подписал отвод земли, в 1895 были заказаны малые немецкие паровозы "Карл Страуз" (гугл, впрочем, такой марки не знает, но от них пошло здешнее народное прозвище паровоза - "Мараказ"), а в 1897 - английские магистральные "Керр Стюарт". Между их прибытием были проложены короткие линии Бодайбо - Зимовье вдоль Витима и Бодайбо - Верхний Прииск на перевал. К 1906 году "Компания Промышленности" дотянула узкоколейку до Васильевского прииска - длина линии составила 44 километра, а работали на ней 17 крытых вагонов, 9 полувагонов и 68 платформ.
48а.

Однако Гинцбурги, или, вернее, их директор в 1891-1901 годах Леопольд Грауман, быстро взяли пример с Сибиряковых и сами взялись за внедрение инноваций. Пока паровозы пыхтели по новым перегонам, на Надеждинский прииск "Лензолота" прибыл первый в России электровоз, запитанный от ГЭС. Прибрав к рукам Сибиряковские прииски, "Лензолото" дотянуло узкоколейку до Надеждинска и Федосеевского прииска. К 1916 году её длина достигла 89 километров, не считая временных боковых веток на прииски, а парк локомотивов пополнили немецкие "Маффеи" и бельгийские "Эн-Сен-Пьеры". В отличие от энергосистемы Граумана железная дорога пережила Гражданскую войну и исправно работала при Советах, пополнившись новыми "мараказами" из Сормова и Бебельсберга. Также здесь работали дрезины и автомобили на рельсовом ходу, а вагоны, в том числе пассажирские, встречались ещё дореволюционные. Но абсолютно внезапно для бодайбинцев всё это кончилось в 1967 году - "оптимизации" случались и при Советах.
48б.

Как и Граумановские ГЭС, Бодайбинская железная дорога исчезла почти без следа, оставшись лишь на чёрно-белых фотографиях. Вот так выглядела станция Бодайбо, на момент своего обустройства в 1894 году - единственная на 1500 километров вокруг, от Красноярска до Уссурийска:
49а.
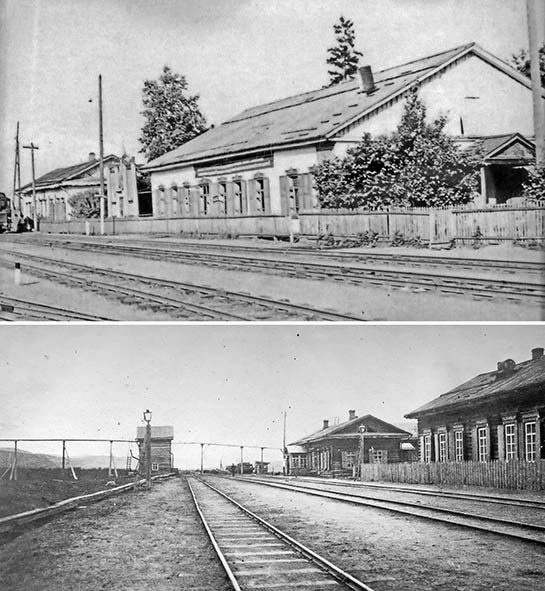
Железная дорога в черте города:
49б.
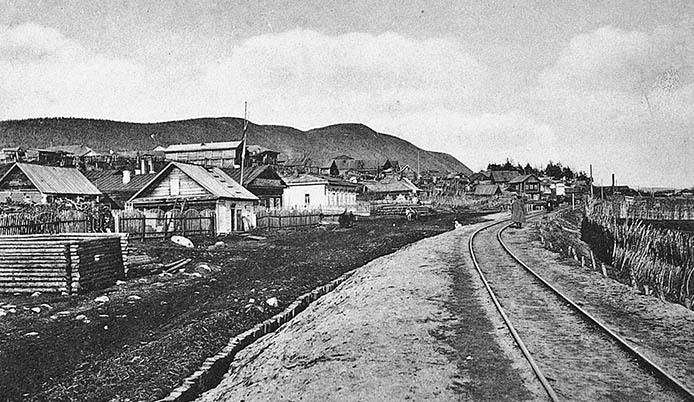
Линия на перегоне. Станций на ней было немного: Бодайбо, Перевальная (11км от него), Стрелка, или Михайло-Архангельская (16), Кяхтинская (22), Тетеринская (27), Ежовка (35), Утёсистая (38), Васильевская (48), Пророко-Ильинская (57, в нижней части кадра), Троновская (60), Александровская (65; на ней - деревянное депо в верхней части кадра), Надеждинская (68), Феодосьевская (71), Наклонная (73) и Весенняя (78). Путь "мараказа" от конечной до конечной занимал около 5 часов.
49в.
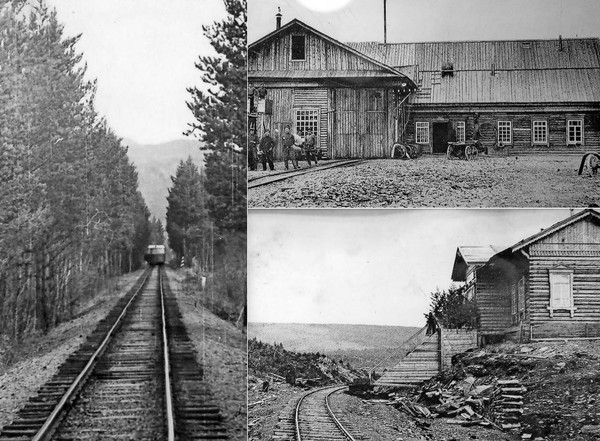
Станция Стрелка в живописном распадке:
49г.

Васильевская - конечная при Сибиряковых:
49.
Словом, Бодайбо - это только ворота, а за ним лежал целый мир, самобытный, самодостаточный и жестокий. В публикациях об этих местах часто пишут, что окрестные деревни по старинке называют "прииски", но, видимо, в последние годы это слово вышло из обихода, я слышал только "посёлки". Однако тождественность этих слов говорит о многом. И на каждом прииске-посёлке когда-то была деревянная церковь:
50а.

Ранним хмурым утром мы вышли из квартиры да пошли на перевал, чтобы, срезав пару километров по тайге, выйти к главной дороге Ленских приисков.
50.
О которых - в следующей части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Зона заражения Сибирь дорожное Молох Бодайбо транспорт Иркутская область деревянное |
Бодайбо. Часть 1: Мамакан и витимские переправы |
Как мы знаем из школьного курса биологии, многие птицы клюют мелкие камни для улучшения пищеварения. И теперь вряд ли кто-то вспомнит имя охотника, пару сотен лет назад нашедшего крупинки рассыпного золота в желудке глухаря, добытого где-то между Байкалом и Леной. В те годы ещё свежа была память о золотых лихорадках Урала, свои страсти кипели на Томи и Енисее, ну а по Прибайкалью быстро разнёсся слух о несметных богатствах таёжных рек, которые надо только найти... И косматые мужики искали, приговаривая "Подай Бог!", что со временем трансформировалось в клич байкало-ленских старателей - "Бодайбо!". Последнее, конечно, легенда, но откуда взялось звучное название реки, в бассейне которой вожделенные золотые пески обнаружились в середине 19 века, теперь даже наука не знает. Как бы то ни было, Ленские прииски на Патомском нагорье в междуречье Витима и Олёкмы оказались богатейшими в мире, во все последующие времена оставаясь эпицентром русского капитализма.
В том числе - и в XXI веке: Бодайбо - небольшой городок в Иркутской области на берегу "угрюм-реки" Витим в 220 километрах от показанной в прошлой части БАМовской станции Таксимо. Его округа - целый мирок посреди тайги, самобытный, самодостаточный и без романтизации этого слова - суровый. Я напишу о нём в 3 частях: во второй - про город Бодайбо, в третьей - про сами Ленские прииски, ну а начнём с рассказа о дороге сюда из внешнего мира и стоящем чуть в стороне ПГТ Мамакан (1,6 тыс. жителей) без золота.
На карте Иркутская область, в основном почти круглая, запоминается парой гигантских лопастей, выступающих в сторону Якутии. Северная лопасть - это эвенкийская Катанга с райцентром Ербогачён в верховьях Нижней Тунгуски, а восточная - это и есть Бодайбо. В логистическом отношении это эксклав - прежде сюда попадали по Лене и Витиму через Якутию, а с появлением Байкало-Амурской магистрали - через станцию Таксимо в Бурятии. В полусотне километров от неё, на мрачном голом перевале через Северо-Муйский хребет - стела на границе двух регионов:
2.
Обилие мусора напоминает, что рядом с ней едущие по трассе часто делают перекур - эти полсотни километров, для Бурятии являющих собой дорогу в никуда, самые разбитые и сложные. Не исключение тут и водители маршруток, корейских минивэнов с бронированием мест по телефону, которые из Бодайбо отправляются в обед, а из Таксимо подгаданы к поездам с запада. Поезд, на который мы ориентировались, приходил вечером, но когда я, не обнаружив маршрутку у навесов вокзала, уже смирился, что нас кинули, мне позвонил оператор и сообщил, что машина сломалась и застряла в тайге, и водитель позвонит нам, когда окажется в зоне доступа. И вот мы коротали часы в увешанном рекрутскими плакатами "Полюс-Золота" зале вокзала в компании щуплого грязноватого юродивого, который клянчил у Оли яблоки. Периодически я выходил на перрон, и даже обнаружил там маршрутку, набиравшую пассажиров до Бодайбо - но её номер не совпадал с заявленным, и хотя была она рублей на 500 дешевле, я всё же предпочёл дождаться ту, которую заказал. Однако от водителя я узнал, где точно она паркуется, и из зала ожидания мы переместились на перрон. Нашими попутчиками оказались молчаливый невзрачный мужчина, который мог с равным успехом быть и коммерсантом, и инженером, и двое вахтовиков с такими рожами, будто на собеседовании им задают вопрос "сколько будет дважды два" и услышав ответ "4", отвечают "вы нам не подходите". В обе стороны маршрутки шли полупустыми - избранный нами путь на Бодайбо далеко не самый популярный.
3.
Оно и немудрено - билет на маршрутку стоит 2-3 тысячи рублей, то есть по 10-15 рублей за километр, но уже на второй час пути я понял, что это вообще-то мало! Дорога Таксимо-Бодайбо, пробитая в 1982 году с постройкой БАМа являет собой очень странное зрелище: на ней есть мосты, отбойники, километровые столбы, указатели, съезды, парковки - словом, всё... кроме самой дороги! 7 часов пути через два перевала - это самое что ни на есть испытание: по дороге "туда" у меня от тряски шнурки развязались!
4.
Туда мы ехали ночью, и кроме тряски да остервенелого мата попутчиков-вахтовиков дорога не запомнилась ничем. На обратном пути мы хотя бы смогли оценить, насколько в этих горах красиво:
5.
А на одной из остановок в тайге повстречали самый настоящий "Магирус" - когда-то эта фирма из западногерманского Ульма разрабатывала для вермахта моторы, способные противостоять Генералу Морозу. В мирных капстранах, однако, такая технология оказалась не востребована, в соцлагере же ей не обладали. И вот в 1975-76 годах, на заре строительства БАМа Советский Союз развернул "Проект Дельта", заказав у барахтавшегося на грани банкротства "Магируса" 10 000 грузовиков. Их танковый рёв стал важной приметой стройки века, но немецкое качество сделало "Мигирусы" лакомой добычей дикого капиталиста - теперь таких грузовиков в БАМии остались единицы. Подробнее я писал о БАМовских "Магирусах" здесь, ну а водитель рассказал нам, что именно Бодайбо осталось теперь их крупнейшим гнездом - в городке и окрестностях на ходу 6 "Магирусов".
6.
В общем, дорога на Бодайбо - сама себе достопримечательность, которую и рад бы забыть, а не можешь. Бессонная тёмная ночь сменилась холодным неуютным рассветом. В какой-то момент тряска пошла на спад, а мимо потянулись ветхие избы и дворы, заросшие чертополохом. Это деревенька Бисяга, заречное предместье Бодайбо, и хмурым утром её улицами мы выехали на берег Витима, весь вид которого не оставлял сомнений, что только его Вячеслав Шишков мог обозвать "Угрюм-река" (хотя на Нижней Тунгуске думают иначе!). Самый верхний из 4 главных притоков Лены, длиной (1978км от истока Витимкана, то есть Вимтичика) и расходом воды (1520 м³/с) он чуть-чуть уступает Днепру. И золотые пески начинаются лишь за Витимом, а потому на нашем пути переправа. Вид назад с бодайбинского берега на крыши Бисяги и сырой песчаный пляж, на котором мы в предрассветных сумерках встали ждать первого парома:
7.
Серая мгла понемногу светлела и едва расступалась, открывая вершины сопок - одну из них можно различить на кадре ниже. Бодайбо издали кажется совершенно заурядным городком, но после тяжёлой дороги - манит. На переправе работают три парома - специализированный СП-9 (построен в 1985 году в Чистополе) и пара маленьких буксиров типа "Костромич" (вопреки названию, строились с 1949 года в Рыбинске). В общем-то, это скорлупки: даже летом Витим порой штормит так, что в Бодайбо можно застрять на несколько дней. С декабря по апрель наводится ледовая переправа, а в межсезонья на тонкий лёд выходит "Хивус" на воздушной подушке, на котором реку пересечь немногим дешевле, чем доехать от Таксимо до Бисяги.
8.
На всё это издевательски взирают опоры моста, ставшие рекламными щитами для вездесущего "Полюса". На круглогодичной дороге, на которой должны были появиться и капитальные мосты, и асфальт, а дальше, глядишь, и рельсовый "ус" с прицепными вагонами до Москвы... Но дорожникам не хватило буквально пары лет, и не достроенный в 1985-95 гожах мост так и остался памятником жертвам Третьей Смуты:
9.
Дождавшись парома, пересекаем Витим, ширина которого здесь примерно полкилометра. Это кадр с обратной дороги, и обратите внимание, какого размера сопка утром была скрыта в низких облаках. На фоне таёжных склонов - ржавые краны речного порта выше по течению реки:
10.
Ещё один кран виден ниже по Витиму за поворотом. Река и была основным путём в Бодайбо большую часть его истории:
11.
Но путь этот не был простым: что Лена в гористых верховьях, что Витим по всей длине - реки быстрые, не слишком глубокие, полные опасных мелей и скал. Основным транспортом на них оставались деревянные баржи наподобие казачьих стругов (кадр ниже) - почту такими развозили вплоть до ХХ века. Но для добычи золота это явно был вчерашний день: если сам металл на них бы поместился, то все желающие его добывать, тем более с инструментами, техникой, обстановкой домов - уже вряд ли. Да и в тайге, прослышав о золоте, не могли не завестись шайки разбойников, для которых деревянный струг определённо были слишком лёгкой добычей.
11а.

Поэтому уже в 1861 году из Верхоленска вниз по реке отправился первый пароход - "Святой Тихон Задонский" иркутского купца Ивана Хаминова, заказанный ещё в 1858 году на бельгийском заводе Джона Коккериля и по частям доставленный в Сибирь на подводах. Основной акваторией Хаминова, однако, оставался Байкал, а Лена была явно нужнее золотопромышленникам. В 1863 году конкурентом Хаминова, с заказанным у того же Коккериля пароходом "Первенец" (позже "Гонец"), стал другой иркутский купец Александр Трапезников. Его отец Константин в 1846 году первым из предпринимателей зашёл на здешние россыпи, двумя годами ранее обнаруженные старателями-одиночками - тогда ещё не на Бодайбо, а на другой речке Хамолхо за горой в бассейне Олёкмы. Трапезниковы, однако, понимали, что ни один купец во всём Иркутске не сможет создать что-то путное в такой глуши сам, а потому объединили силы и средства с Михаилом Сибиряковым, Иваном Базановым и ещё несколькими предпринимателями I гильдии. В 1864-65 годах бородатые сибирские купчины основали "Витимо-Ленское пароходство", "Прибрежно-Витимскую компанию" (с 1885 - "Компания Промышленности") и стоящую на границе их сфер Бодайбинскую резиденцию - по-нашему говоря, базу снабжения приисков, лежавших выше по несудоходным горным речкам. Следующие пароходы во главе со "Святителем Иннокентием" строилось в Тюмени на новейшем заводе англичанина Гектора Гуллета, и эти суда отличала необычная, но более подходящая здешним рекам форма - вытянутый корпус, понижающийся к носу и корме. Это были одни из самых совершенных речных судов своего времени, остававшихся в строю больше века - тот же "Иннокентий" как "Коммунист" прослужил до 1961 года. Логистика позволила "Прибрежно-Витимской компании" одержать верх над своими первыми конкурентами - основанным в 1855 году "Ленским золотопромышленным товариществом" Павла Баснина и Петра Катышевцева. Но разорившись, оно стало пищей для капиталистического хищника покрупнее...
11б.
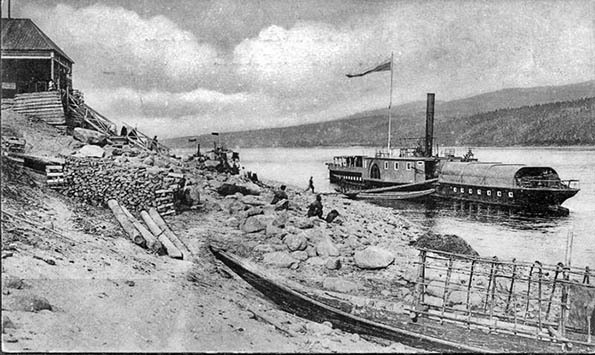
Евзель Гинцбург был сыном раввина из Витебска. Он преуспел на виноторговле и поставках фронту в Крымскую войну (причём Севастополь покинул одним из последних), после которой выбился в крупные петербургские банкиры, в те круги, где уже не имеет значение, еврей ты или не еврей. В 1872 году Евзель Габриэлевич по сути купил за какие-то финансовые услуги у герцога Гессен-Дармштадтского титул барона, подтверждённый два года спустя Александром II. К тому времени Гинцбург уже несколько лет как кредитовал барахтавшееся Ленское золотопромышленное товарищество, и вот наконец в 1873 году взял его себе за долги. Так на Ленских приисках наступила эпоха Гинцбургов в трёх поколениях - Евзеля, Горация и Альфреда. У "Лензолота", конечно, тоже появился свой, регулярно пополнявшийся и обновлявшийся флот, флагманом которого стал самый комфортабельный в Сибири пассажирский пароход "Альфред" (кадр ниже), спущенный на воду в 1909-м в нижегородском Сормове. К 1908 году "Лензолото" вышло на мировой уровень через учреждение транснационального акционерного общества "Лена Голдфилдс", куда входили, например, южноафриканкие золотопромышленники или Алексей Путилов - хозяин крупнейшего завода страны в Петербурге. В 1910 году международный капитал наконец подмял под себя и Сибиряковские прииски.
11в.
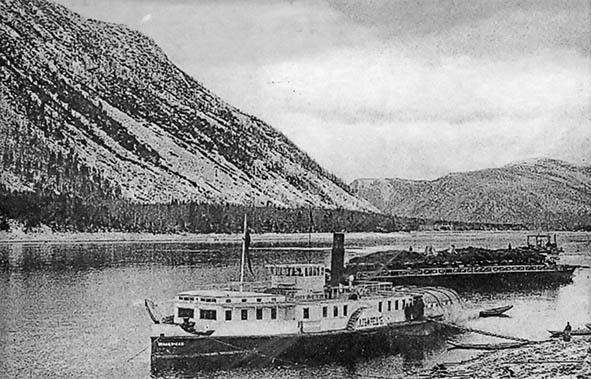
...С переправы маршрутка привезла нас в один из дворов бодайбинских пятиэтажек. Гостиницы в Бодайбо, конечно же, неимоверно дорогие, но на том же сайте, через который я бронировал маршрутку, было и несколько телефонов, по которым можно забронировать квартиру. Что я и сделал, а по прибытии обнаружил, что телефон хозяйки не отвечает. С полчаса мы просидели у подъезда, прикидывая разные варианты того, как поступить, а затем откуда-то из-за угла появилась мощная бойкая женщина с манерами и внешностью торговки и воскликнула "А я вас ищу!". Как оказалось, "наша" хозяйка ушла в тайгу, перепоручив нас коллеге, у которой к тому времени свободной была только одна квартира чуть подороже. Но она была дешевле гостиницы, а потому вскоре мы переместились в соседний квартал, на верхний этаж такой же хрущёвки. Хозяйка попутно рассказывала, как в лихих 1990-х по дешёвке скупила два десятка опустевших квартир, которые и сдаёт теперь вахтовикам, и как вышла она чуть ли не из детдома, но вот теперь успешный человек. Квартира выглядела грязноватой и кишела тараканами, но выбирать не приходилось. Симпатий к хозяйке же поубавил отъезд - в наше отсутствие, за полчаса до оговоренного времени, они с уборщицей и следующим постояльцем вломились в квартиру и начали там прибираться, выкинув в мусорное ведро приготовленный Ольгой заранее обед из вкуснейшего нута, да ещё и куда-то заиграли (не стырили, а скорее просто потеряли в неразберихе) оставленный в розетке зарядник. Ведь основной постоялец тут вахтовик-златарь, и отношение к нему за сотню лет не слишком поменялось...
12.
Ведь как и на Нерчинских рудниках в 18 веке, здесь промышленники столкнулись с тем, что золото само себя не добудет, а ехать жить в такую глушь дураков нет. Проверенным средством для такой ситуации была каторга, вот только купцы и банкиры, в отличие от государства, не могли гнать каторжан по этапу - их каторжане должны были сами прийти... Рабочих завлекали хорошими авансами, а дальше отправляли в скотские условия, достойные сталинских лагерей: с переполненными бараками, заледенелыми шахтами, штрафами за любой чих и системой чеков, по которым рабочие могли отовариваться только в магазинах "Лензолота" - просроченными продуктами и промтоварами ужасного качества втридорога и без сдачи. Добровольность же оказалась относительной - рабочим "Лензолота" не оплачивали обратный билет, а значит покинуть прииски они могли только тогда, когда заработают на него сами. Подобная эксплуатация, в самом ленинском смысле этого слова, была вполне расчётливым решением Гинцбургов, сочетавших с ней самые передовые технологии. Прокладывать узкоколейки и ставить на приисках переносные силовые установки на дровах начала ещё "Компания Промышленности", не столь безжалостная к рабочим и потому более внимательная к снижению издержек другими способами.
13а.
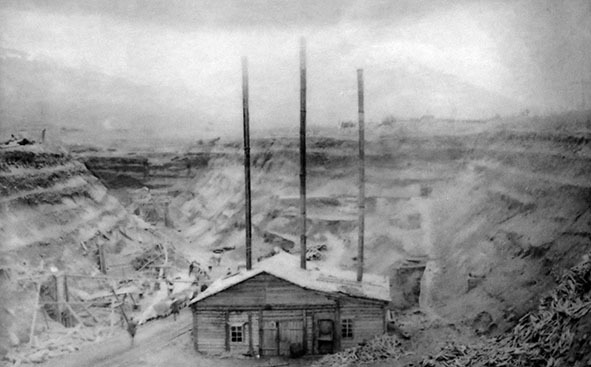
С них взял пример директор-распорядитель "Лензолота" в 1891-1901 годах Леопольд Грауман, за которым стояли куда как большие возможности Гинцбургского капитала. В 1896 году он построил на реке Ныгри Павловскую ГЭС (300 КВт) с немецкими оборудованием фирм "Лаймер" и "Шуккерт" - первую в Сибири и вторую в России как в тогдашних границах (после Зыряновской на казахском Алтае), так и в нынешних (после Даркменской в Калининградской области). От неё расходились первые в России линии электропередач напряжёнием 10 000 вольт к двум приискам за 9 и 14 километров. Гидроэнергия оказалась вчетверо дешевле паровой, и в 1898 году была пущена Бодайбинская ГЭС мощностью уже 430 КВт, а от неё запитана карьерная узкоколейка с первыми в России электровозом.
13.
И хотя Граумана ушли в 1901 году за попытки увеличить издержки на содержание рабочих, Гинцбурги поняли, что эксплуатация плюс электрификация лучше, чем просто эксплуатация. К 1917 году на Ленских приисках работала созданная под руководством иркутского инженера Якова Гаккеля полноценная энергосистема из каскада 5 ГЭС общей мощностью 2,8 МВт и Залесской дровяной ТЭС на 600 кВт.
13б.

Увы, всё это было разрушено и разграблено в Гражданскую войну и забыто: Ленский расстрел 1912 года для советской власти помнить было явно выгоднее, чем сделанные на средства тех же людоедов-капиталистов прорывы. От Бодайбинских ГЭС не осталось следа, ни единой их фотографии нет в городском музее, и его сотрудницы от меня про них услышали впервые. Но у граумановско-гаккелевской энергосистемы есть преемник - Мамакан в 10 километрах ниже по Витиму.
14.
Туда и поехали мы в первый день, узнав от хозяйки квартиры расписание автобуса, курсирующего, кажется, четырежды в день. Полупустой ПАЗик долго тащился по улочкам Бодайбо, а затем буквально нырнул к низкому мостику в глубокой долине Бодайбо-реки (кадр выше), которая впечатлила нас цветом своей воды - не золотым, а грязно-жёлтым. Дальше дорога тянется между лугов с пасущейся скотиной и нефтебазой в бывшем селе Колобовщина - совсем среднерусский пейзаж! Пока очередной поворот не выводит на берег Витима:
15.
С этого пляжа снят и заглавный кадр: Мамакан стоит на левом берегу, но дороги к нему нет, так что проехать туда можно только через две переправы. Здесь курсирует ещё пара паромов с буксирами:
16.
И рабочий, безукоризненно носящий медицинскую маску, поднимает и опускает их аппарели ручной лебёдкой:
17.
Тот берег полукилометрового Витима каменист, а посёлок расположен за третьей рекой - Мамаканом. Над его устьем стоят оба градообразующих предприятия - Мамаканские ТЭЦ (1932-36) и ГЭС (1957-62):
18.
С первой связано основание посёлка в 1932 году, со второй - его наделение статусом ПГТ (1960) и современная жизнь.
19.
Своей архитектурой Мамаканская ГЭС удивительно похожа на гигантов Ангаро-Енисейского каскада вроде Братской или Богучанской электростанций, и видимо, послужила для них прототипом. Она в общем-то невелика - 57 метров высотой от дна реки и 346 метров по гребню плотины, а мощность её всего 86 МВт - чуть меньше Угличской ГЭС на Волге. Уникальна МамаГЭС другим - это первая в мире крупная плотина, возведённая на вечной мерзлоте!
20.
Мамакан, однако, как и многие сибирские реки, с той поры изрядно обмелел, а потому на полную мощность ГЭС работает только летом, зимой же в иные дни практически стоит. Ещё одной жертвой Третьей Смуты в Бодайбо стала Тельмамская ГЭС (это не опечатка, Тельман не при чём!), которую планировалось соорудить выше по течению - также небольшая по выработке, она бы образовала куда более крупное водохранилище, "неприкосновенный запас" для Мамаканской ГЭС на маловодные месяцы.
21.
По гребню плотины мы возвращались пешком, и охрана с обоих концов совершенно не возражала, когда мы фотографировали ГЭС с берега (только предупреждали, что тут можно упасть с обрыва), но тщательно следили, чтобы мы не делали глупостей наверху. Поэтому вид устья Мамакана я снял из окна ПАЗика, а с водохранилищем у меня кадров и вовсе нет - но в общем отличается оно не шириной, а высотой.
22.
На спуске к посёлку - воодушевлённый перспективами электрификации Ильич:
23.
И композиция, которая любого патриота СССР приведёт в возмущение:
24.
Мамаканская ТЭС мощностью всего 12 МВт всегда оставалась в тени ГЭС, а теперь выглядит брошенной.
25.
Первоначально она работала, как и Залесская ТЭС, на дровах, коих потребляла в день до 400 кубометров. И лишь в 1943 году, когда заготовлять дрова стало некому, была переведена на якутский уголь.
26.
Впрочем, судя по горам этого угля во дворе, она может даже и не совсем мертва, а работает зимой как котельная?
27.
Как бы то ни было, это одно из самых живописных промышленных зданий советской эпохи:
27а.

Вокруг ТЭС - запустение и разруха. Население Мамакана с 1989 года сократилось вдвое, с 3,2 до 1,6 тыс. жителей, и рискну предположить - в первую очередь за счёт теплоэнергетиков:
28.
Когда строилась ТЭС, на работу ходили пешком, а когда взялись за ГЭС - привычным делом стали автобусы. Поэтому гидроэнергетики обосновались ниже по Витиму, дальше от Мамакан-реки. Центр посёлка открывает контора гидроэлектростанции:
29.
Главная улица Мамакана. Деревянные бараки, туманные сопки, мотоцикл с ящиком-коляской - можно ли представить более стереотипно-сибирский пейзаж?
30.
Дома с прошлого и следующего кадров - видимо, ровесники ГЭС:
31.
А эти - скорее, эпохи БАМа и открывшихся с ним перспектив:
32.
32а.

Однако в суровости сибирского быта есть и парадоксальным образом некий уют - за столиком во дворе барака представляешь не пьяную молодёжь, а несколько семей из соседних квартир, вместе отмечающих возвращение чьего-нибудь сына из армии.
33.
Но - именно что представить: вопрос "а где люди-то" приходит в голову не только по фото, так как улицы Мамакана и правда пустынны. В центре, между домом культуры, администрацией и домом детского творчества - парк Победы, сливающийся с сопками за рекой:
34.
И вот здесь флаг уже вполне правильный:
35.
Ещё в Мамакане есть Князь-Владимирская церковь (2017), которую кто-то догадался обшить сайдингом в виде брёвен:
36.
Но куда больше запоминаются детали - например, полинявшие советские плакаты, полвека висящие тут и там:
37.
Или - цветы, чрезвычайно обильные на многих участках. Хозяйка одного из них, заметив наши фотоаппараты, зазвала нас внутрь и даже предложила чай (на который у нас не было времени), а заодно дала явки-пароли другого участка, где ещё больше цветов и такие же приветливые люди.
38.
С первого взгляда суровый и даже мрачный, за час прогулки Мамакан начал казаться мне уютным и милым. Посёлок на Угрюм-реке запомнился мне какими-то очень дружелюбными, спокойными, целостными людьми, в большинстве своём работающими на ГЭС и довольными как зарплатой, так и размеренной жизнью. Об этой мягкости мамаканцев знают и бодайбинцы, но посмеиваясь над ней, сами будто боятся её нарушить. Мамакан - лучшее место на Бодайбо, и причина тому проста - здесь нет золота.
39.
Золото Мамакана - это краски сибирской осени. Оставив за спиной посёлок, мы вышли к берегу Угрюм-реки:
40.
Над её водой - сюрреалистические скалы в природных орнаментах:
41.
И высокие холодные обрывы:
42.
Отсюда до устья близ посёлка Пеледуй в Якутии порядка 250 километров. Там лежит следующий Мамско-Чуйский район, почти все 3,5 тысячи жителей которого сосредоточены на 30-километровом участке реки от села Мусковит до райцентра Мама. Туда дороги вообще нет, а единственный катер "Кристалл" курсирует без чёткого расписания, иногда заходя в Бодайбо. Мама богата уже не золотом, а слюдой, в новейшей же истории её прославил в ночь с 24 н 25 сентября 2002 года Витимский болид, своим полётом и взрывом над тайгой похожий на Тунгусский метеорит в миниатюре. Однако как ни странно, и о Маме есть чей-то рассказ.
43.
Но основной путь что в Бодайбо, что в Маму в наши дни - по воздуху. Ещё когда речные сюда были основным ленским транспортом, их путь от Жигалово (главный порт в верховьях Лены) до Бодайбо растягивался на 2-3 недели. В 1928 году была запущена авиалиния Иркутск - Бодайбо - Якутск, первопроходцем которой стал выдающийся полярный лётчик, финский швед на советской службе Отто Кальвиц. С промежуточными посадками путь сюда из Иркутска занимал всё же изрядные 30 часов, ну а аэродромом служил сам Витим - по сути дела здесь обкатывались те описанные в прошлой части сибирские гидропланы, впоследствии искавшие "трассу БАМа".
44а.
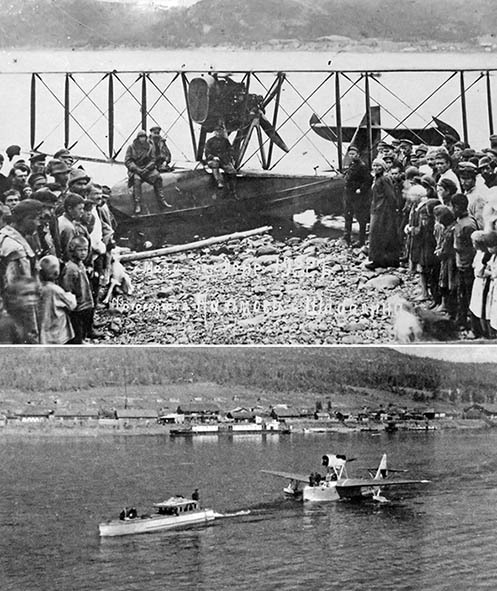
Полноценный сухопутный аэродром возвели в 1938-44 годах на восточной (верхней по течению Витима) окраине Бодайбо, и самолёты заходят в него так низко над крышами пятиэтажек, что от их рёва хочется пригнуться.
44.
По совету местных мы решили забраться на сопку на окраине города - ту саму, что на кадре №8 скрыта облаками, а на кадре №10 господствует в панораме Витима. Лес на её вершине предстал уютным и чистым городским парком:
45.
И за деревьями мы успели увидеть самолёт, летевший куда ниже нас над крышами города... приди мы на эту площадку минут так на 10 пораньше - и я бы смог его заснять.
46.
Жарким днём после затяжных дождей вытянутый вдоль реки Бодайбо тонет в дымке испарений. Пройдёмся взглядом справа налево:
47.
Правый край панорамы упирается в переправу у Бисяги, и пакгаузы речного порта напоминают о так и не построенной станции:
48.
Ближе центр, над которым нависают три ржавых крана. На них держался речной завоз, но с появлением дороги обслуживать их оказалось невыгодно. Левее кранов виднеется Рождественская церковь (1897) и Г-образная сталинка "Лензолота", которое теперь подмял под себя "Полюс". Ближе - центр городка, и в пятиэтажках у правого края кадра как раз в это время вышвыривали наш обед в мусор:
49.
Ещё ближе - Самый Одинокий в мире паровоз, оставшейся от закрытой в 1967 году узкоколейки. Это сейчас от него 200 километров до БАМа, а тогда от ближайшей станции Лена в Усть-Куте его отделяло более 500 километров. Сама же Бодайбинская узкоколейка определённо была самой изолированной железной дорогой мира - мало того, что до Транссиба почти 1000 километров, так ведь и в конно-рельсовом варианте она появилась ещё до его постройки. Впрочем, по слухам, у паровоза всё-таки есть дружок - после закрытия линии сохранился вплоть до распада Союза небольшой (700 метров) участок в порту, от которого вроде как уцелел тепловоз ТУ7.
50.
Выше по течению ещё один причал:
51.
Тот самый самолёт, который я не успел заснять над крышами. Трафик тут весьма активный - прямые рейсы до Иркутска за 8-12 тыс. рублей дополняют многочисленные чартеры золотопромышленных компаний.
52.
Напоследок взглянем вверх по Витиму. Там Угрюм-река почти безлюдна, опасна и живописна: Витим служит северной границей Кодара, близ которого вода идёт мощными порогами Парама, Делюн-Орон или Чёртова деревня. И на несколько сотен километров реки стоит лишь одна едва жилая деревенька Нерпо (18 жителей), а куда более людные Усть-Муя и Неляты уже совсем недалеко от БАМовского моста...
53.
В следующей части спустимся в Бодайбо и погуляем по городу.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Зона заражения Сибирь природа дорожное Молох Бодайбо транспорт Иркутская область деревянное |
Чинейская железная дорога. Часть 4, историческая |

Чинейская железная дорога - это Кругобайкалка 21 века: она в России самая сложная, самая высокогорная (1624м) и едва ли не самая зрелищная. Однако построенная в самое неожиданное время на дне постсоветского кризиса, она так и не вошла в строй и была не только заброшена, но и забыта. Большую часть информации для своего похода, описанного в 3 частях (Новая Чара - Удокан, Ингамакитская полка и перевал, посёлок Чина, а также визит к эвенкам) я брал из вот этой статьи Иннокентия Мызникова - ныне он профессиональный гид по Байкалу, но в 2000-01 годах он участвовал в этой стройке как геодезист и фотограф. И вот я пишу внеплановую 4-ю часть о Чине - Иннокентий прислал мне свои фотографии с той стройки.
Далее курсивом - цитаты Иннокентия, а обычным шрифтом - мой текст.
Сложнее ее может быть будет только дорога Бар — Белград и всякие китайские. (....) Кстати, участок Транссиба Слюдянка — Большой Луг сделан с худшиими параметрами, чем эта дорога. Например, в районе Ангасолки есть радиус 275 метров при минимальном допуске в 300 метров. И это на главном ходу Транссиба. На Чине всё было в норме. Китайская делегация приезжала [изучать опыт для строительства своей Цинхай-Тибетской железной дороги] при мне. На БАМе точно не было такого объема работ на километр пути. Разве что только Северомуйский тоннель будет сложнее..
2.

Панорама окрестностей 42 км и самого длинного моста дороги. - места со следующих двух кадров я показывал в первой части.
3.
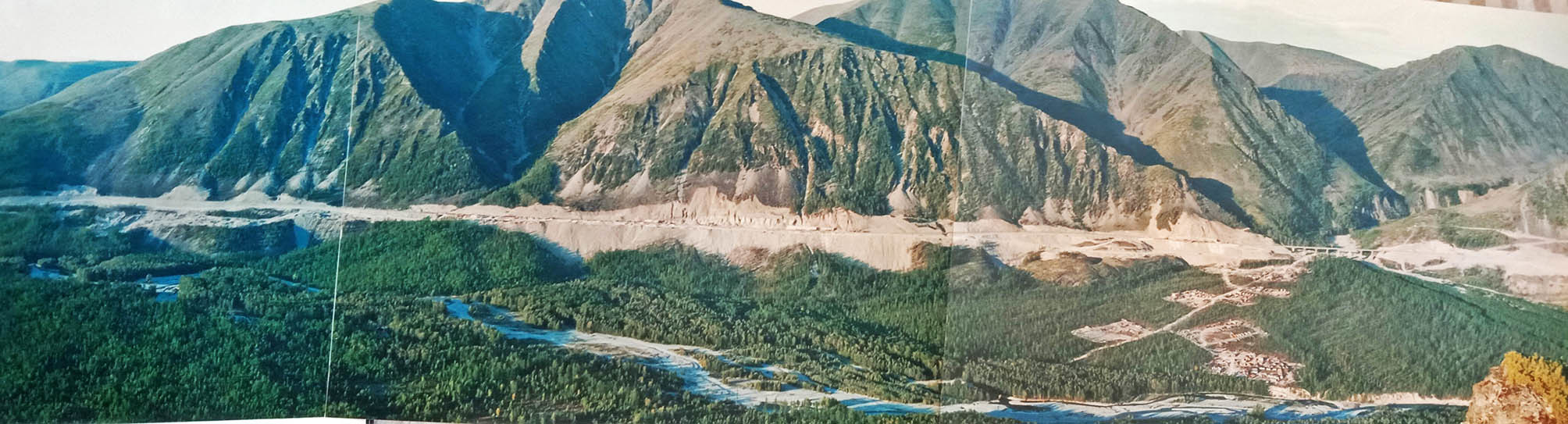
Верховья Нурунгнакана. Удоканское местонахождение [3-е по величине в мире]. Горы, которые прошиты штольнями [с 2020 года строится горно-металлургический комбинат].
4.

Далее - места из второй части, основной в моём рассказе. Нижний ярус облачности над Ингамакитом. 55 км
5.

Начало разработки полки на 43-53 км. (...) Вариант с тоннелем рассматривался, тогда бы дорогу вели от Новой Чары через поселок Удокан и через непосредственно само Удоканское местонахождение. Но в итоге выбрали по реке Нижний Ингамакит; также планировали провести дорогу по берегу ингамакитского каньона, но в таком случае она бы была круче, потому что по каньону расстояние короче, чем через озера в истоке Чины.
6.

Вид в сторону БАМа по Нижнему Ингамакиту. На склоне видно путеукладчик.
7.

Вид с Каларского хребта на 42-56км.
8.

Нижний Ингамакит разливался очень страшно. Один раз к нам целую неделю никто не мог проехать, и мы голодали. Жили летом 2000 года на 55 км около второй (самой высокой) насыпи. (...) Вид на Калар от 55 км
9.

Озеро в верховьях притока Ингамакита. Напротив 42 км. Река Этырко.
10.

Вид на 53-56 км. Насыпи эти высотой 75 и 120 метров. Именно они затормозили процесс стройки, потому что очень большой объём плюс к ним было сложно подлезть. (...) Первый поезд [26 cентября 2001 года, он же и последний] кое-как протащили по временной дороге; рельсы бросили абы как. Сделали картинку для прессы. Там ещё делать и делать. Должна была галерея от 42 км и до первой насыпи. Прямо при мне в работающий путеукладчик прилетали чемоданы сверху размером метр на метр. Никакая сетка не спасет от камней. Только галерея.
11.

Начало отсыпки самой высокой насыпи, бульдозеру потом пришлось съехать в самый низ, так как не смог подняться вверх.
12.

Вид на две высоких насыпи. Насколько мне известно, самые высокие железнодорожные насыпи в России.
13.

Почему построили две насыпи, а не мосты. Насыпи цельные, без каких-либо водопропусков под ними, нет никаких труб. Почему так? Потому что грунты там дренирующие, скалистые. Даже после сильных ливней не было ручьёв; вода бежала внизу в камнях. Дорогу строили не дураки, изыскатели вроде бы были из Иркутска из какого-то проектного института. Насыпям ничего не угрожает. Их не смоет. Почему построили мост на 50 км? Там очень крутой склон, зимой идут лавины. Пришлось строить мост прямо на склоне. Насыпь на крутом склоне не удержалась бы.
Путеукладчик штурмует 50-е километры. Вид с хребта Калар.
14.

Путеукладчик на насыпи, его периодически бомбят негабариты.
15.

Оно же, но с другой стороны.
16.

Плюс обилие буро-взрывных работ на участке от 43 до 60 км. Взрывали постоянно и каждый день.
17.

Взрыв в выемке между двумя высокими насыпями.
18.

Рабочие будни, буро-взрывные работы. Первая секунда взрыва.
19.

Разработка самой глубокой выемки.
20.

Около самой высокой точки всех ЖД России.
21.
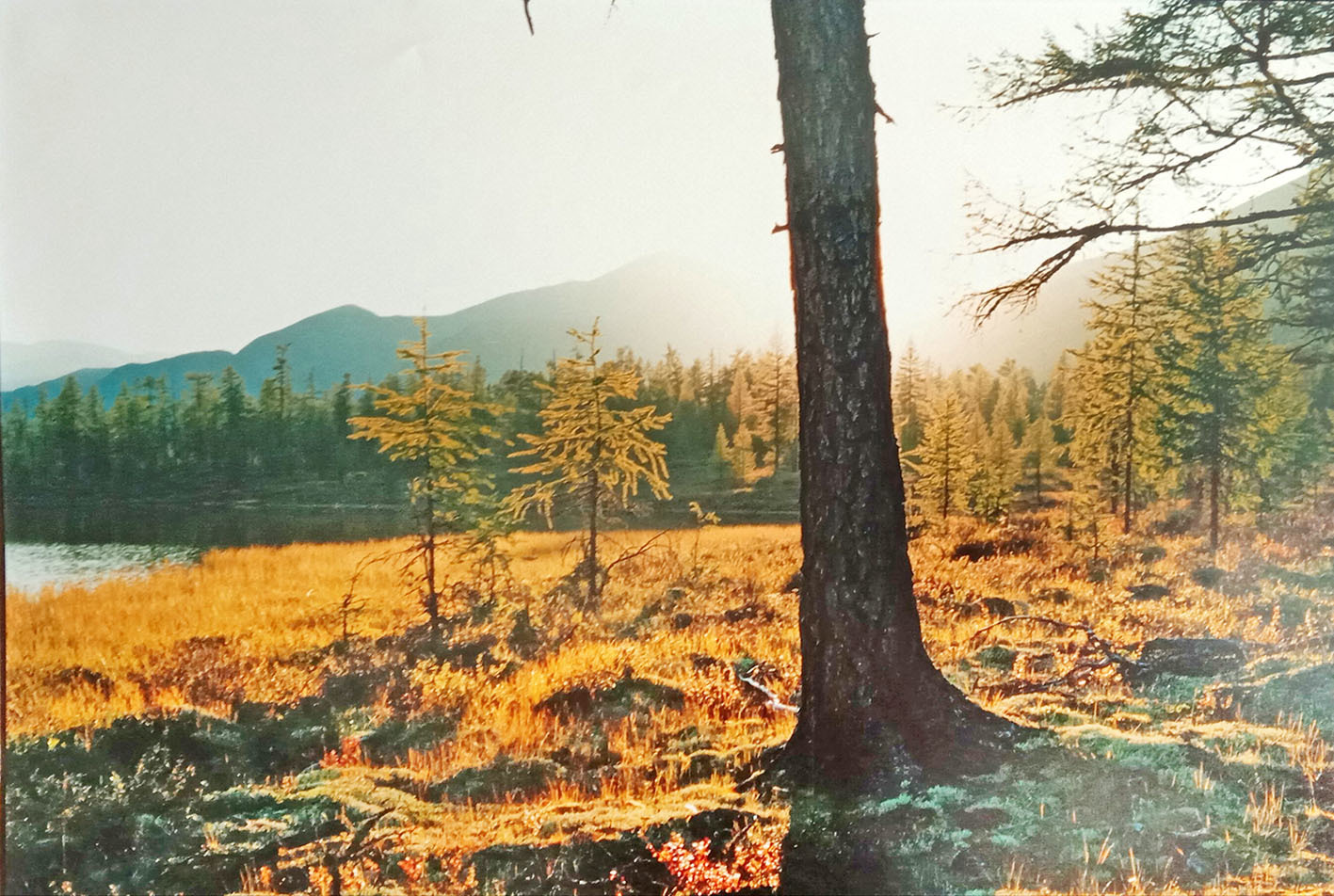
Около самой высокой точки.
22.

Далее места из моей третьей части. Вид на станцию Чина.
23.
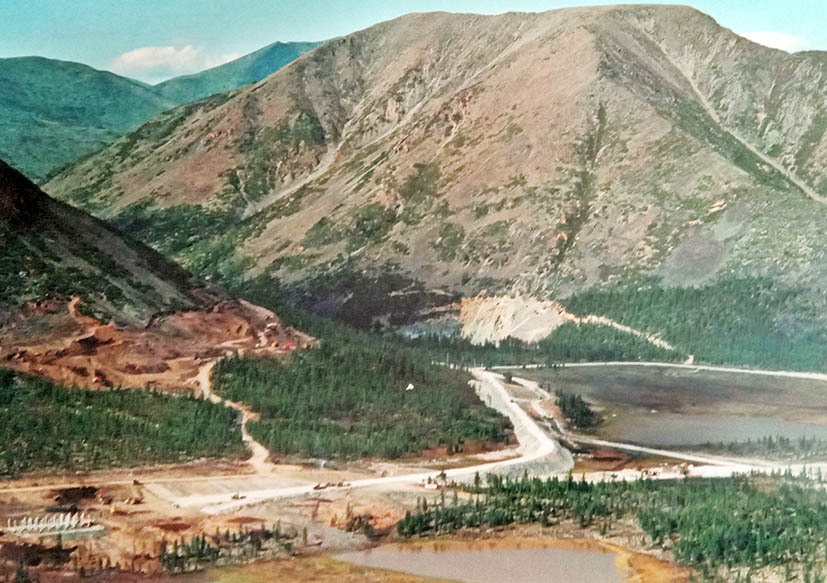
Чина, сентябрь 2001.
24.

Водопады и каньон Нижнего Ингамакита.
25.

26.

27.

28.

А до мест со следующих кадров я уже не доходил.
29.
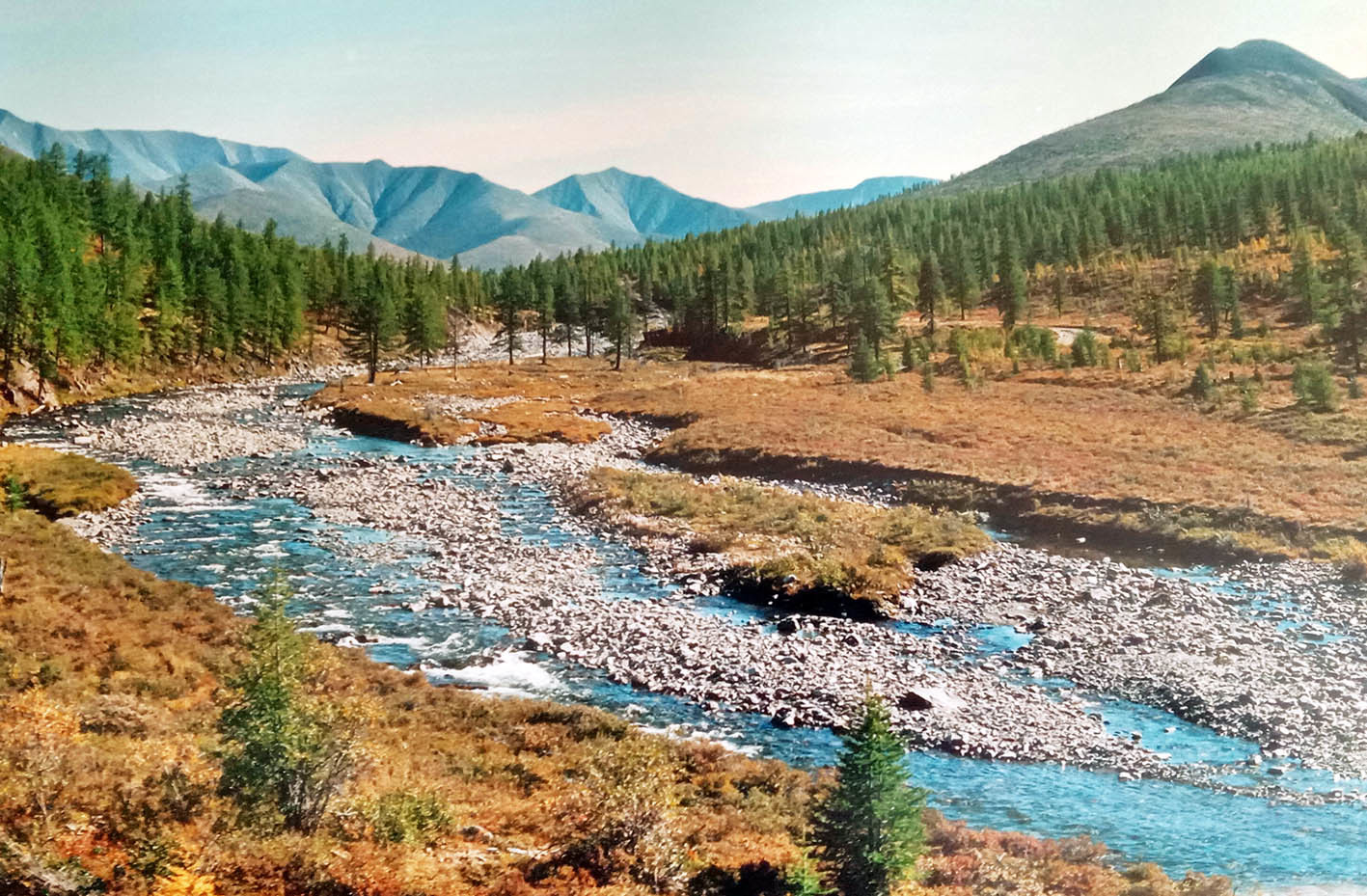
На обоих - река Правый Ингамакит.
30.

Водопад Каларского хребта.
31.
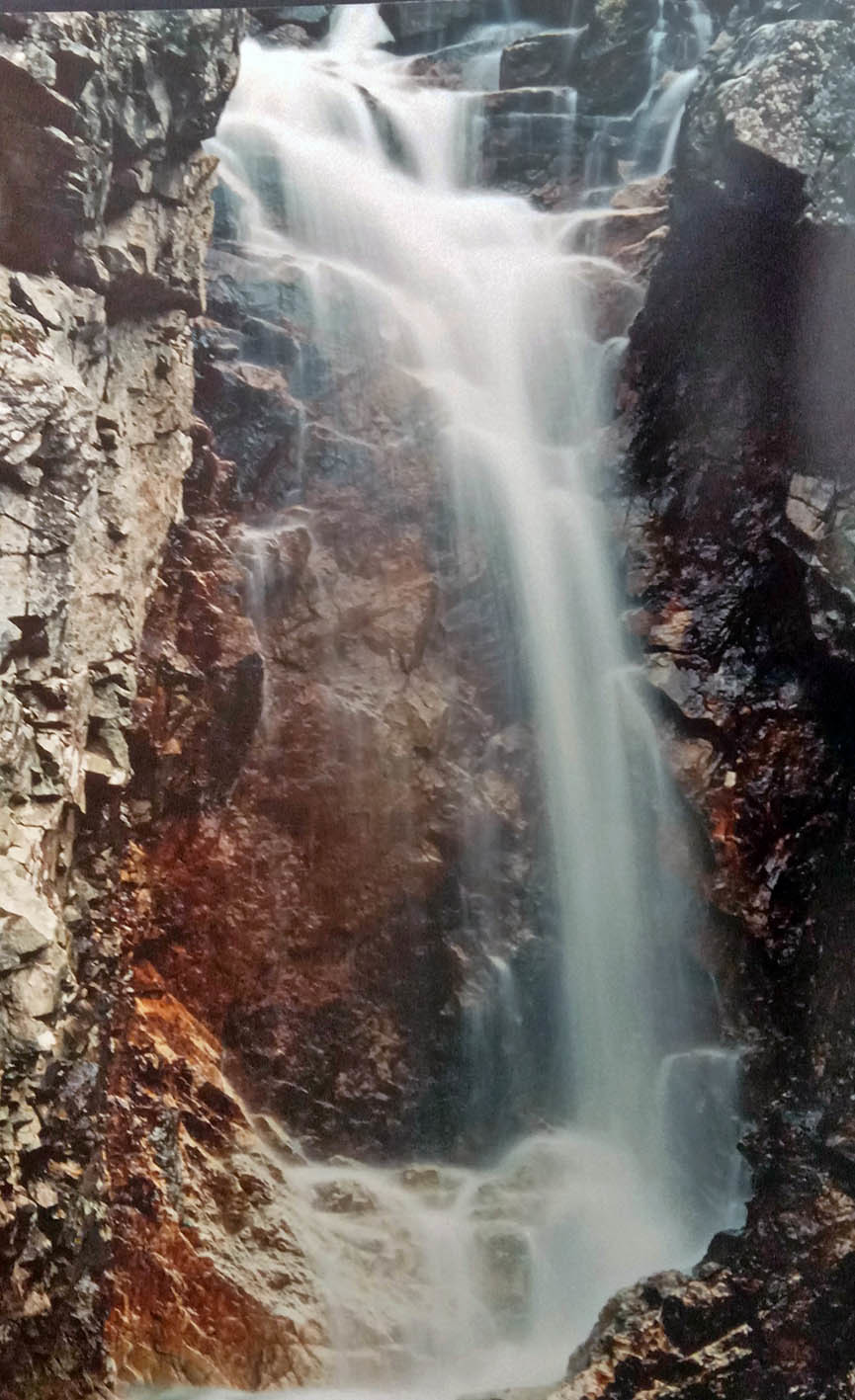
Чинейское месторождение.
32.

От тяжести чинейской руды разваливались оси вагонов. Хотя нагружали их только на 1/3 объема. Очень тяжёлая руда.
33.

Июнь, вид от Чинейского месторождения на 55 км.
34.

Плохо, что дорогу фактически похерили; опыт пригодился бы на строительстве дорог на севере в районе мерзлоты и гор. Меня всегда умиляют утверждения, что мерзлота, климат и рельеф препятствуют строительству дорог. Нет, не препятствуют. Всё можно сделать. Даже во время разрухи 90-х без опыта и технологий (...) В общем если восстановить дорогу — это долго и дорого, но это возможно.
А подвиг людей, труд которых пустили псу под хвост олигархи и политиканы, от этого не перестаёт быть подвигом. Как и от того, что совершён он был в те достопамятные времена, когда мальчики мечтали после школы стать бандитами. И я надеюсь дожить до того дня, когда эти горы вновь огласит стук железнодорожных колёс, в новостройках Читы появится Чинейская улица, а у западной горловины станции Новая Чара будет привлекать взгляд БАМовских пассажиров памятник строителям Чины.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа злободневное транспорт Забайкальский край Чинейская железная дорога Каларский район |
БАМ! Часть 9: от Новой Чары до Таксимо, или Середина БАМа |
На Забайкальский край приходится не такой уж большой участок Байкало-Амурской магистрали (330км), однако - едва ли не самый интересный. К востоку от Новой Чары находится Вершина БАМа - перевал Мурурин (1323м), высшая точка действующих железных дорог России. Ещё выше - уходящая на юг от Новой Чарый заброшенная Чинейская железная дорога, которую я показывал в прошлых 3 частях. Ну а на западе, у станции Куанда и разъезда Балбухта, лежит Середина БАМа, на которой магистраль сомкнулась в 1984 году. Продолжим путь туда и даже немного дальше, до посёлка Таксимо (7,7 тыс. жителей) за Витимом, где Латвия встречается с Бурятией.
Поезд набирает скорость, и гигантское корыто Чарской котловины с её крутыми горами и болотистым дном, барханами среди лиственниц, 100-градусными годовыми перепадами температуры, непроницаемой мошкой, затяжными холодными дождями и каракумской сушью ясных дней медленно уходит в дымку.
2.
С востока БАМ спускается в Чарскую котловину по склонам Удокана, сундукообразные горы которого на кадре выше синеют вдали. На сундуки они похожи не только формой, но и содержанием - рассказы о несметных рудах "Удоканского феномена" красной нитью тянутся через прошлые несколько постов. Ну а на западе Чарской котловины путь робко подбирается к Кодару, нависающему над ней с другой стороны. И здесь - уже не сундуки, к которым нет ключей, а грозные и неприступные Сибирские Гималаи:
3.
Главным богатством Кодара геологи считали уран, который пытались разрабатывать в 1949-51 годах для нужд "ядерного проекта". С тех времён среди рогатых гор и головокружительных ущелий, холодных быстрых рек и висячих болот, сохранились развалины лагерей, обогатительных фабрик, мостов и дорог. И спустившись с Чины, мы пошли на Кодар, чтобы всё это увидеть, но в итоге повернули назад - мощные дожди вынудили нас спускаться вместе с более сильной группой туристов, обходя реки по крутым сопкам без троп. На Кодаре есть сказочно красивые озёра и единственные в этой части Сибири ледники, до которых нетрудно подняться пешком, но нам довелось лишь пройтись туда-сюда по главной долине вдоль Среднего Сакукана. И увенчайся поход успехом, я бы написал о Кодаре ещё пяток постов, но пока могу лишь отослать к Михаилу
 mikka (путевые заметки) или Филу Леопарду (исчерывающий путеводитель по горам). И даже этого недопохода мне хватило, чтобы понять: Кодар - самые красивые горы, которые я когда-либо видел.
mikka (путевые заметки) или Филу Леопарду (исчерывающий путеводитель по горам). И даже этого недопохода мне хватило, чтобы понять: Кодар - самые красивые горы, которые я когда-либо видел.4.
Чарская котловина провожает парой озёр, из которых вытекает и сама Чара - еле заметная в этих верховьях, на самом деле это река масштабов Западной Двины, крупнейший приток Олёкмы. Вот по левую руку (если двигаться на запад) раскинулось Большое Леприндо размером примерно 12 на 3 километра:
5.
Вдали - сундуки Удокана, совершенно хибинский пейзаж:
6.
БАМ проскакивает крошечный, меньше многих мостов, перешеек:
7.
И вот уже Малое Леприндо (7 на 1,5 километра) тянется по правую руку:
8.
Наряду с Мурурином и Северо-Муйским перевалом я бы назвал его живописнейших местом всего БАМа.
9.
Над лазурной водой нависает Кодар, рогатый и злой, как рассерженный мамонт
10.
Прямо с поезда отлично виден водопад, впечатляющий своим напором:
11.
Добавьте сюда то, что на самом деле мы ехали с запада на восток (в обратном направлений Горный БАМ поезда пересекают ночью) и только предвкушали поход в эти горы, не зная про его предстоящий финал:
12.
Но вот и Малое Леприндо заканчивается. Как выездной знак Чарской долины - горка песка. В отличие от Чарских песков и ещё нескольких массивов поменьше, явно искусственная, но промоинами покрыться в здешнем климате успевшая быстрее, чем зарасти:
13.
Ворота котловины - Кодарский тоннель (1981м) с необычным порталом-зданием. Он пронизывает лишь небольшой отрог Кодара, но и здесь этот филиал планеты Пирр показал свой неукротимый норов. Из-за ряда ошибок, связанных с условиями вечной мерзлоты, начатый в 1982 году тоннель обрушился осенью 1984 года, заблокировав путеукладчик. Пришлось экстренно сооружать 7-километровый временный обход, а в самом тоннеле восстановительные работы затянулись до зимы на 1988 год, и видимо от них же остался бархан с кадра выше. На сроках сдачи БАМа в целом Кодарский обвал почти не сказался, зато повлиял на географию линии - чуть дальше мы увидим, как:
14.
Вновь вырвавшись свет и оглянувшись на уходящий Кодар, продолжаем путь на запад:
15.
Железная дорога спускается к Витиму вдоль речки Сюльбан:
16.
С юга выдвигается Каларский хребет - большой и относительно невзрачный, он в Становом нагорье напоминает степенного отца, которому богатый Удокан и неистовый Кодар приходятся сыновьями.
17.
И как-то незаметно, без остановки и торжественного гудка, поезд проходит разъезд Балбухта, отмеченный памятником у восточной горловины. 29 сентября 1984 года в 10 часов 10 минут здесь было уложено "золотое звено", а завершив работу и побросав инструмент, две бригады комсомольских строителей кинулись навстречу друг другу обниматься и пить сто грамм из пущенной по рукам каски. Во главе обеих бригад стояли украинцы, почти земляки из Подолии: Александр Бондарь родился под Винницей, Иван Варшавский - на севере Одесской области. Оба профессиональные железнодорожники, они прибыли на БАМ в 1974 году и 10 лет шли друг другу навстречу от Таюры (Звёздной) и Тынды соответственно. К концу стройки скорость их сближения составляла в среднем 20-25 километров в месяц, а последние 80 километров стали самым настоящим состязанием, финишем которого с равным успехом могли оказаться и Балбухта, и соседние разъезды Сюльбан (если бы задержался Варшавский) или Таку (если бы промедлил Бондарь). У места сбойки едва ли не в тот же год поставили простую, но очень красноречивую стелу - лестницы двух половин магистрали, сходящиеся к Балбухте:
18.
Середина БАМа, в отличие от вершины - понятие весьма условное. В логистическом смысле это, конечно же, Тында, а физически дальше всех от конечных станций (по 2143км от Тайшета и Советской Гавани) находится столь же неприметный разъезд Марихта между Лопчей и Чильчи. Балбухта же ощутимо смещена на запад - Бондарь и Варшавский встретились на 1602-м километре от Тайшета. Что в общем и немудрено: они строили Западный БАМ, в то время как восточная часть магистрали сомкнулась ещё в апреле 1984 года на разъезде Мирошниченко.
19.
От Балбухты менее 40 километров до Куанды, на въезде в которую один вид трубы перенёс меня в хлопковые поля и просоленные степи Хорезма - станцию строил Узбекистан:
20.
В тянущихся вдоль путей малоэтажках можно опознать "ташкентские проекты":
21.
Сама Куанда - довольно крупный (1,3 тыс. жителей) посёлок, второй центр Каларского района, одно из самых удалённых и труднодоступных мест на магистрали. Вид Куанды какой-то полузаброшенный - после укладки "золотого звена" финансирование самой сложной и дорогой из великих строек советской эпохи резко сократилось. В приоритете, конечно, оставалась доводка путей, затянувшаяся до 1989 года, а вот на строительство посёлков деньги приходили уже по остаточному принципу, ну а потом и вовсе рухнула страна. И Куанду как самый молодой посёлок БАМа попросту не успели закончить:
22.
Поезд прибывает на широкую платформу, где 1 октября 1984 года проходил торжественный митинг. Работяги отгуляли сбойку, выбили из себя строительную пыль банными вениками, и встречали здесь вертолёты высокого начальства во главе с Гейдаром Алиевым, который в те годы возглавлял правительственную комиссию по строительству БАМа. Поработать, впрочем, в этот день тоже пришлось: Балбухта для официозной церемонии явно не слишком годилась, а потому бригады Бондаря и Варшавского накануне разобрали пути у платформы и, на глазах у начальства, вновь их сомкнули "на бис". Памятник же и вовсе привезли да поставили заранее, и на его фоне толкал протокольную речь отец азербайджанского народа, а путейцы играли неофициальный спектакль по мотивам своих побед 3-дневной давности - благо, в бригаде Бондаря работал театральный режиссёр Анатолий Байков. Их памятник - на Балбухте, а не здесь.
23.
Куандинский памятник, однако, заинтересовал меня одной деталью - если его "рога" указуют на станции двух направлений, то внутри стелы перечислены все регионы, бравшие шефство над той или иной станцией. С частью из них всё понятно: Москва строила Тынду, Ленинград строил Северобайкальск. Из 15 республик в стройке участвовали 14 (кроме Киргизии) - Украина (Новый Ургал), Казахстан (Новая Чара), Азербайджан (Улькан и Ангоя), Молдавия (Алонка), Таджикистан (Солони), Туркмения (Ларба), Беларусь (Золотинка на Малом БАМе и Северомуйск), Узбекистан (Куанда), Грузия (Икабья и Ния), Литва (Новый Уоян), Латвия (Таксимо), Эстония (Кичера) и Армения (Кюхельбекерская и Звёздная), которую по случайному совпадению поставили в самый конец списка. Дальше идут регионы РСФСР, и вот с ними всё куда как сложнее. Во-первых, участвовали в великой стройке далеко не все из них: ни одного региона Европейского Севера, всего две области из средней полосы, зато почти в полном составе Урал, Кавказ и Поволжье. Среди "бездельников" были и такие весомые регионы, как Татарстан или Тюменская область. Шефство большей части списка упоминается в любом более-менее подробно описании БАМа: Дагестан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия (Кунерма), Краснодарский и Ставропольский края (две станции Усть-Кута), Хабаровский край (Сулук), Московская (Тутаул и Дипкун), Пермская (Дюгабуль), Саратовская (Герби), Тамбовская области (Хурмули), Башкирия (Верхнезейск), Алтайский (Эворон) и Красноярский края (Февральск), Волгоградская (Джамку), Куйбышевская (Этыркэн), Новосибирская (Постышево и Тунгала), Пензенская (Амгунь), Ростовская (Киренга), Свердловская (Кувыкта и Хорогочи), Тульская (Маревая) и Челябинская (Юктали) области. А вот дальше начинается интересное: на БАМе есть несколько станций-"сирот", шефства которых рунет не знает - это знакомые по прошлым частям Иса, Дугда, Огорон, Чильчи, Лопча, Олёкма и Хани, пока не знакомая Небель, а также большинство станций Малого БАМа, включая его конечную Беркакит. В списке на монументе же значится ещё несколько регионов, информации о шефстве которых мне также найти почти не удавалось: это лежащие вдоль БАМа Амурская, Читинская, Иркутская области, Якутия и Бурятия и выглядящие откровенными кукушками без гнёзд Коми и Кабардино-Балкария, Астраханская, Воронежская, Кемеровская, Омская, Ульяновская и Горьковская области. То есть у кукушек есть птенцы, а у сирот - родители!
24.
Соотношения их не всегда линейны: один регион мог построить две станции, или напротив два и даже три региона - одну. Станция Дюгабуль, чьё пермское шефство вполне известно, внешне столь никакая, что даже я, пермяк по рождению, её спокойно проспал. О станции Могот в северной части Малого БАМа я и вовсе находил информацию, что её строили Ярославская область, Мордовия и Чувашия, которых в куандинском списке нет. По автографам на станционных постройках я обнаружил, что на Малом БАМе станцию Беленький строила Горьковская область, а Аносовскую - Воронежская. Перелопатив пол-рунета, мне удалось найти упоминания, что Огорон строила Ульяновская область, Беркакит - Кемеровская, а станция Дугда и вовсе оказалась вторым подопечным Молдавии. Мемориальная доска замученному на Нерчинских рудниках декабристу Лунину наводит на мысли, что Хани строила Читинская область, а Олёкма своим пейзажем напомнила мне окраины Сыктывкара. И уж совсем неясно остаётся, кто строил Лопчу, Чильчи, Небель, что строили Астраханская, Омская, Иркутская, Амурская области, Якутия и Кабардино-Балкария. Вопросов куандинский список оставляет больше, чем ответов, но по крайней мере намекает, что эти ответы вообще есть. Вот только в каких они пыльных архивах?
25.
Так что лучше полюбуемся вокзалом. Один из самых зрелищных на БАМе, он вдвойне впечатляет потому, что в самому Узбекистане "докаримовская" вокзальная архитектура изведена без остатка.
26.
Огромное здание скрывает крошечный зал ожидания - как и всюду на БАМе, вокзал строился на вырост. С превращением Куанды в 30-тысячный город году этак к 2022-му большая часть служб съехала бы отсюда в другие постройки, эту целиком оставив пассажирам.
27.
А купол расписывал явно какой-то ценитель и завсегдатай нукусского "Эрмитажа-в-пустыне":
28.
Покинув Куанду, едем дальше сквозь болота на фоне суровых безлюдных хребтов:
29.
Которые прорезает Витим - та самая Угрюм-река Вячеслава Шишкова. Один из четвёрки главных притоков Лены, по длине (1978км от истока Витимкана, то есть Вимтичика) и расходу воды (1520 м³/с) он чуть-чуть уступает Днепру.
30.
А с поезда видна и главная, пожалуй, достопримечательность АвтоБАМа, такая же его кульминация, как для рельсового БАМа Северо-Муйский перевал - это Витимский мост, также известный как "Полкилометра ада". Его возвели в 1984 году как времянку для стройпоездов, но с пуском капитального моста он не был ни разобран, ни доведён до ума. Других мостов через Витим на АвтоБАМе нет, формально эта дорога и вовсе считается зимником, а как результат, Витимский мост уже даже в западных пабликах слывёт "самым опасным в мире". Судите сами - два берега соединяет полусгнивший дощатый настил без парапетов, на котором две легковушки не разъедутся, а грузовик и вовсе будет идти колёсами по самым краям - 565 метров над глубокой, быстрой и даже летом опасно холодной водой. В 2018 Угрюм-река решила повысить уровень сложности - ледоход погнул опоры, так что полотно местами накренилось и просело. Но как известно, в 49% случаев последними словами русского человека бывает "Зацени как я могу!", а в 51% случаев - "Да это ещё фигня!": полкилометром ада наш народ не испугаешь!
31.
Ну а решить вопрос мешает та же причина, из-за которой границы регионов России видны из космоса: мост вроде как ничей. Ведь на том берегу Витима заканчивается Забайкальский край, а на этом начинается Бурятия:
31а.

Над тайгой встаёт Южно-Муйский хреюет - он не столь знаменит, как Северо-Муйский, однако не уступает ему в суровости и даже превосходит в высоте (3067м, гора Муйский Гигант). Где-то здесь в августе 1984 года Александр Бондарь поставил никем до сих пор не побитый рекорд - его бригада уложила 5400 метров пути за сутки.
32.
Это примерно 1/10 часть расстояния от Витимского моста до следующей станции со странным для русского уха названием Таксимо:
33.
Ныне огромный для БАМии ПГТ (7,7 тыс. жителей) - кажется, первое от самой Тынды место, где населённый пункт стоял задолго до стройки века. Он начинался в 1910 году с заимки старого охотника Ивана Баранчеева, который 10 лет спустя уже упоминается как "дед Баранчей", неофициальный старейшина трёх изб с семью жителями. В 1920 году сюда перебралась из каких-то голодных краёв семья речника Феоктиста Суханова, а в коллективизацию две семьи организовались в промысловый колхоз "Таёжник", в конце 1940-х пополнившийся сталинскими спецпереселенцами и перепрофилированный в золотодобывающую артель. Ну а официально посёлок Таксимо был образован в 1964 году - однако сделано это было указом "О регистрации вновь возникших и ранее не зарегистрированных населённых пунктов и присвоении им наименований". На стройке века Таксимо с самого начала ждала особая роль - во-первых, стоявшие прежде в тайге населённые пункты неизбежно становились базами строителей, а во-вторых отсюда было удобно проложить дорогу к золотым приискам Бодайбо - сперва автомобильную, а позже, кабы не крах СССР, и железную. В 1981 году Таксимо стал ПГТ, а в 1989 - райцентром Муйского района между Южно-Муйским и Северо-Муйским хребтам.
34.
Поэтому Таксимо курировался даже не двойным, а тройным шефством - времянку строила и поляну готовила Бурятия, половину постоянного посёлка возводила Беларусь, ну а сам вокзал в виде палатки - Латвия. Палатка хорошая, с просторными тамбурами, где удобно ждать летним деньком поезда или автобуса:
35.
А зал смотрится не менее впечатляюще, чем в другой "палатке" Новой Чары. Дизайнеры словно знали о том, что через 40 лет РЖД маниакально переклинит на корпоративных цветах и сайдинге - тут, похоже, даже не придётся ничего менять!
36.
С вокзалом соседствует ТОЦ (торгово-общественный центр), вмещающий рынок, ДК и недешёвую гостиницу. Над ним эффектно высятся остроконечные гольцы Северо-Муйского хребта:
37.
Справа от площади - и главная достопримечательность Таксимо: памятник Изыскателям трассы БАМа. Тут стоит вспомнить о том, что Байкало-Амурская магистраль строилась со второй попытки, и за без малого полвека до комсомольских романтиков сюда ехали гнуть спины зэки. Они успели проложить Малый БАМ от Сковородино до Тынды и Старый БАМ от Тайшета до Усть-Кута на западе и от Советской Гавани до Ургала на востоке. Здесь, в середине пути, стройка века не знала подневольного труда, однако до лагерей трудовых в тайге стояли лагеря походные: в 1929-38 годах шли изыскания трассы для будущей магистрали. Но как обследовать в кратчайшие сроки более полмиллиона квадратных километров почти безлюдной тайги? Нетривиальная задача требовала новых технологий, первой из которых стала аэрофотосъёмка. Самолётам же нужно было откуда-то взлетать и куда-то садиться, где-то заправляться горючим и давать своим пилотам ночлег, и за невозможностью быстро развернуть в тайге сеть аэродромов, символом поисков трасса БАМа сделался гидроплан, резавший поплавками стальную воду. Под такое дело оснащались самолёты разных серий, получавшие здесь бортовой номер "Ж", и Ж1 стал в 1935 году отечественный МР-6 эстонского лётчика Леонарда Крузе. Главными базами железнодорожной авиации служили причалы Иркутска и строившегося Комсомольска-на-Амуре, а гидропорты были оборудованы в нынешних Братске на Ангаре, Нижнеангарске на Байкале, Нелятах на Витиме, на озере Иркана, в Среднеолёкминске, городе Зее и Норском Складе на Селемдже. Над трассой БАМа работали 16 лётчиков на 26 машинах, флагманами которых были два АНТ-4.
38.
Другое название этого самолёта - ТБ-1: созданные в КБ Андрея Туполева, это были первые в мире двухмотороные цельнометаллические бомбардировщики в серийном производстве. В 1929-32 годах было построено 215 машин, но уже в 1936-м АНТ-4 был снят с вооружения. Однако как из бронетранспортёров получаются отличные вездеходы, так и эти машины над полярными берегами Севморпути (как Г-1) и над гольцами Станового нагорья (как Ж) летали не хуже, чем над промзонами вражьих городов. Оба они погибли в окрестностях Таксимо: Ж-11 тёплым безветренным днём 15 августа 1940 года заходил на посадку на зеркальное озеро, поверхность которого оказалась куда ближе, чем пилот Сергей Курочкин оценил со своей высоты - на чрезмерной скорости самолёт просто разбился о воду. Второй АНТ-4 полгода спустя потерпел крушения на склоне горы, но там хотя бы выжил экипаж, вскоре благополучно спасённый. Обломки обоих самолётов были вывезены бамовцами в 1980-е годы... но как оказалось, лучше бы и дальше себе лежали: в Перестройку всё это бесследно исчезло. Кое-где пишут, что Ж-11 ныне находится в Монино, но это упрятанные глубоко в запасники немогочисленные покорёженные фрагменты, к тому же перемешанные с обломками другого самолёта ТБ-3. На фото за него иногда выдают уцелевший АНТ-4 в Ульяновском авиамузее, попавший туда с Таймыра. В Таксимо же в 1994 году был установлен макет масштаба 1:2, сделанный на Улан-Удэнского судозаводе.
38а. снимок из коллекции Игоря Волчкова, из журнала
 af1461.
af1461.
Так что вернёмся на главную площадь да погуляем по посёлку:
39.
Таксимо вытянут вдоль БАМа на 10 (!) километров, и по большей части представлен частным сектором среди сосен. Центр близ вокзала - даже не десятая часть городка, но ряды пятиэтажек на фоне высоких гор впечатляют:
40.
А ухоженность дворов, полных цветами, и правда заставляет вспомнить Латвию:
41.
Чем не, скажем, Кароста или Елгава?
42.
Пятиэтажки образуют странный V-образный квартал, в который вклинивается ромб деревянной застройки:
43.
Не знаю, что строили здесь латыши, а что белорусы, но деревянное зодчество Таксимо стильно и самобытно:
44.
Добавляет сходства с Латвией обилие песка, хоть насыпай авандюну:
45.
Бурятский (вернее, буддийский) ритуальный флаг хий-морин да макет югендистильного дома в окне... "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись" - наверное, это правда так, но тут они хотя бы попытались.
46.
Ещё привлёк взгляд магазинчик на опушке - в Латвии такое здание вполне могло быть автопортом: так дословно, - "autoosta", - по-латышски называется автовокзал:
47.
Естественной границей городка служит река Муя, на высоком берегу которой растут совершенно прибалтийские сосны:
48.
Под их сенью - сюжет, более привычный где-нибудь на Рязанщине:
48а.

Лесенка спускается к святому источнику:
49.
Который расположен не на основном русле быстрой Муи, а на старичном озере Булунда:
50.
Сосны на мнимом морском берегу...
51.
Обойдя кружок по посёлку, я вернулся на вокзал. Обратите внимание на ещё одну перемену в пейзаже - провода. Дальше на запад Байкало-Амурская магистраль электрифицирована:
52.
И дымящий тепловоз совершенно однозначно намекает, с какой стороны пришёл поезд. Оглянемся на восток в своём пути на запад:
53.
Но отправимся пока на север, в золотое Бодайбо, об окрестностях которого - следующие 3 части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа БАМ транспорт дорожное Забайкальский край Бурятия Каларский район |
Чинейская железная дорога. Часть 3: Посёлок |
Чина - маленький посёлок на одноимённой реке за Удоканским хребтом в 70 километрах южнее бамовской станции Новая Чара. Сюда ведёт Чинейская железная дорога, проложенная в 1998-2001 годах через показанные в прошлой части самый сложный участок и самый высокий перевал (1624м) всех железных дорог России. Вот только Чину не стоит искать в расписаниях поездов: за Удоканом мёртвая дорога приводит в затерянный мир, где сторожа двадцать с лишним лет караулят брошенный рудник, а по горам кочуют эвенкийские оленеводы.
История Чинейской железной дороги, проложенной в самые казалось бы неуместные времена, мутная и странная - я рассказывал её в первой части, но если совсем уж вкратце, то наверное не будет большим преувеличением сказать, что линию закрыл "лично Путин(тм)". Вернее, её основателя - амбициозного министра путей сообщения Николая Аксёненко, явного участника подковёрной борьбы за ельцинское наследство. Про саму Чину молодой президент, возможно, тогда и слыхом не слыхивал, но дело на Аксёненко завели буквально через пару недель после того, как первый поезд с Чинейского рудника ушёл на Коршуновский ГОК в Железногорск-Илимский. Без могучего покровителя великая, но не доведённая до ума стройка в полуразвалившейся стране сама быстро стала полуразвалившейся, и второй поезд увидеть Чине было не сужено. Она стала "Бураном" железнодорожников, и разве что китайцы, целыми делегациями посещавшие стройку, почерпнули здесь какие-то идеи для своей магистрали в Тибет. Куда красивее истории Чинейской железной дороги - её география: первые 20 километров линия тянется среди болот Чарской котловины, затем примерно столько же взбирается на пологий перевал Эмегачи с феерическим задним планом Кодара. За станцией 42-й километр, до которой теперь планируют восстановить движение, линия идёт вдоль каньона речки Нижний Ингамакит через выемки, выбитую взрывами "полку" длиной 15 километров и грандиозными насыпи на боковых распадках. Свернув с БАМа в Новой Чаре на высоте 780 метров от уровня моря, на перевале меж долин Ингамакита и Чины поезда взбирались на высоту 1624 метра - это высшая точка российских железных дорог (а вот в СССР повыше забирались в Закавказье). От перевала линия ещё 7 километров спускается вдоль речки Левая Чина, мимо болотистых озер входя в Чинейскую долину:
2.
Соседи Удокана по Становому нагорью - хребты Кодар и Калар за Чарой и Чиной соответственно. Пламенеющим Кодаром, похожим на увезённый куда-то в Сибирь фрагмент Памира, мы любовались с Чарских песков и перевала Эмегачи. Каларский хребет же встречает за озером - голый, покатый, и я бы сказал - некрасивый:
3.
Сама же Чинейская долина оставляет впечатление сказочного затерянного мира с безумно прозрачным воздухом, болезненно ярким солнцем и непуганой живностью, следами которой полны накатанные вездеходами серые грунтовки.
4.
Да, объективно места здесь не такие уж глухие: на достаточных злых колёсах сюда можно доехать от Новой Чары за 2-3 часа и даже обернуться одним днём туда-обратно. Но субъективно я разве что на Вайгаче чувствовал такую оторванность от остального мира.
5.
Здесь - тишина. Какая-то особая тишина, глубокая и чуть зловещая - как в мире, лишь недавно вновь зазеленевшем после ядерной войны или падения метеорита.
6.
Здесь водятся медведи, и эвенкийский пастух мне рассказывал, как выдержал поединок с одним из них. Но главный враг человека в горах Станового нагорья - мошкА. Если по запасам меди Каларский район третий в мире, то по запасам мошкИ - не иначе как первый. Та же Оля поначалу, пока не усилила манжеты на рукавах и крепления накомарника, напоминала мультяшного персонажа, попавшего в пчелиный рой. И даже испытанная тазовскими болотами и вайгачской тундрой "Дэта", которую местные называют "мазут", едва-едва помогала. На соседнем Кодаре мошек оказалось ещё больше - но туда мы пошли хотя бы уже понимая, что нам придётся терпеть.
6а.

В Каларские горы над Чиной врезаны серпантины дорог, на фоне осыпей поблескивают резиновые провода и остатки буровых машин. Обрывы хранят следы разработок:
7.
В прошлых частях я не раз упоминал Удоканский феномен - в квадрате размером примерно 100 на 100 километров (захватывающем Калар и Кодар) сосредоточено несколько гигантских месторождений всяческих руд, угля, стройматериалов и самоцветов. Чинейское титано-магнетитовое месторождение нашли в 1938 году супруги-геологи Михаил Петрусевич и Людмила Казик, а в 1954 году в Удоканской экспедиции была образована отдельная Чинейская партия. На соседней речке Катугин обнаружились ещё рассыпное золото, руды циркония и редкоземельных металлов, но в те времена, когда этот край лежал за сотни километров от железных дорог, об освоении всех этих богатств нечего было и думать. Но вот в 1980-х проложили БАМ, и это открыло перспективы сделать Становое нагорье одним из мировых центров горной добычи.
8.
Основной рудой Чины является титаномагнетит, как следует из названия, включающий титан и железо содержанием до 33%. Ещё - ванадий, которого в здешней руде, по разным оценкам, от 0,5 до 2% - даже меньшая цифра беспрецедентна, и это делает Чину крупнейшим ванадиевым месторождением мира. Тут, впрочем, стоит сказать, что больше, чем из рудников, элемент V добывает из отходов металлургии - это один из главных легирующих металлов. В России его получают в Туле и уральском Чусовом, а по добыче ванадия наша страна занимает второе место с большим отрывом как от Китая (лидера), так и от Бразилии и ЮАР: на эти 4 страны приходится более 90% мирового производства. В общем, богатства Чины заманчивы, однако проблема едва ли не всего Удоканского феномена в том, что руда большинства его месторождений довольно специфическая и не поддаётся переработке привычными технологиями. На соседнем Удоканском месторождении, где перемешано несколько видов медной руды с довольно низким содержанием металла (что не мешает ему быть 3-м по величине в мире), решение искали много лет и лишь в 2020 году приступили к стройке. Здесь пока ищут, но сторожа Посёлка очень не любят, когда Чинейскую железную дорогу называют "заброшенной": раз они её стерегут - значит, она нужна кому-то.
9.
Тем более что с осовением Чины линию можно продлить на Катугин, разработка месторождений которого может вывести Россию в лидеры по производству циркония. Пока таковым являются США, однако производителей этого металла так мало, что запуск одного-единственного завода в удмуртском Глазове обеспечил России четверть мирового производства. Но пока ключ от этой сокровищницы не найден, и мы пришли в девственный край.
10.
На кадре выше - кусок руды. Она здесь очень тяжёлая, и даже с загрузкой на 1/3 вагоны едва справлялись. На 68-м километре железная дорога разветвляется, образуя треугольник:
11.
Направо рукой подать до Вокзала, как называют тут руины главной станции:
12.
Грузное бетонное здание на сваях похоже на вокзал расположением и силуэтом:
13.
Но приглядевшись, понимаешь, что это это скорее административная постройка, какой-нибудь офис и диспетчерский пункт - единственный вход тут на уровне второго этажа, куда вела узкая лестница, а значит там явно не зал ожидания. Ведь стройка тут была уже не всесоюзная, а самая что ни на есть капиталистическая: постоянного посёлка на Чине вовсе не планировалось, а вахтовикам на пути от балков до вагонов не нужно было ни покупать билет, ни ждать.
14.
Однако всё это создаёт эффект машины времени. Если среди читающих эти строки есть те, кто тянули Байкало-Амурскую магистраль - не так ли выглядели все эти Ноый Ургал, Тында, Юктали на заре великой стройки, до возведения "постоянок"?
15.
Балки в контейнерах и вагончиках, несколько бараков для геологов и начальства, остатки мехбазы да котельная из подручных материалов - вот и вся Чина:
16.
Постоянно населения тут нет, но есть - непрерывное: в посёлке дежурят два сторожа, сменяющихся 1 и 15 числа каждого месяца. Они же по сути администраторы бесплатной турбазы - пустых балков тут множество, и обычно в них обитает ещё пара-тройка охотников, рыбаков или лесорубов. Всем хватает и электричества от генератора, который сторож выключает, когда ложится спать. Но с тем сторожем, у которого генератор, мы почти не контактировали - лишь разок он выглянул из своего барака и сквозь лай злющей псины показал, куда нам пойти ночевать. Другой сторож, с заехавшим подзаготовить дров товарищем слагавший тандем Два Александра, сразу же взял нас под прямо-таки отеческую опеку. Александры угощали нас супом с хлебом и чаем с конфетами, ориентировали по местам и подвозили на своём огромном коптящем "Камазе" - впрочем, в других постах я их упоминал уже не раз.
17.
Один из Александров попросил меня снять для него видео на фоне посёлка и переслать по воцапу. Мы договорились, что он сам мне напишет - однако так и не написал. Пусть хоть фото будет:
18.
Единственное, что выбивается в Чине из пейзажа БАМовской "времянки" - деревянная церковка. Её посвящения гости и сторожа не знают и вообще, кажется, не очень понимают, зачем она здесь. Однако и заброшенной церковь не выглядит.
19.
Нас определили в дальний балок по соседству с кернохранилищем:
20.
Сами керны лежат теперь под открытым небом - но во-первых что им сделается (это камни, причём твёрдые), а во-вторых, всё, что они могли рассказать геологам - они уже рассказали.
21.
Наш балок оказался грязноватым и затхлым, с оставшейся от былых постояльцев немытой посудой и заплесневелым хлебом, но даже в этом комфорта всяко больше, чем в палатке. Срамные картинки на стене соседствуют с иконами:
22.
...В одной из прогулок по окрестностям Чины мы спугнули важенку, а следом и оленя с внушительным древом рогов. Два Александра, услышав об этом, обрадовались - "Завтра постреляем!", после чего подробно расспросили нас, где именно мы встретили оленей и куда те ушли.
23.
Наутро, однако, энтузиазм Двух Александров поугас - в оленях был весь посёлок!
24.
Как в Тибете дикие яки называют дронги, так и местным русским досталось от эвенков два слова для одного зверя: оленИ - это домашняя скотина, а говоря о предстоящей охоте на их диких собратьев, Два Александра использовали слово "согжой". Но согжои - звери гордые и грозные, они себя так не ведут. Олени бегали по посёлку, прятались в тенях, и в общем вели себя столь нагло, что мы старательно запирали двери, опасаясь при очередном возвращении в балок увидеть в них оленью задницу: пожевать припасы вместе с рюкзаком оленям ничего не стоит.
25.
Ну а сам набег мог значит только одно - где-то рядом стоят оленеводы, и один из Александров вспомнило озерцо в 4 километрах от Посёлка, на которое мы не замедлили сходить. Об эвенках, исторических хозяевах БАМии, я написал отдельный пост, эвенки же первым делом спросили у нас, не видели ли мы оленей у посёлка.
26.
Пастухи попросили передать мужикам, что за каждого убитого оленя тех ждёт штраф в 100 тыс. рублей - это немало, учитывая, что средняя цена живого оленя - 40 тысяч.
27.
Но в общем мужики в посёлке сами знают, кого стрелять можно, кого нет, а вот олени такой сознательностью не отличаются. Если утром они носились по Чине резво, то вечером все до единого ощутимо хромали. Ещё олени нюхают горючее и едят пропитавшиеся им тряпки, что для них может и не смертельно, но и на пользу явно не идёт.
28.
В конечном счёте рогатые сбились в два небольших стада - одни кучковались в мехбазе, а другие... "И здесь олени!" - только и сказал я, заглянув под мерзлотные сваи Вокзала.
29.
С оленями на переднем плане как-то фотогеничнее смотрится и техника - по большей части ещё советская, из 1990-х годов, когда японские машины были местным промышленникам не по карману.
30.
Целое кладбище фрагментов машин свалено около насыпи:
31.
И есть на нём даже самая настоящая пушка - само собой, не для суровых бандитских разборок времён строительства Чины, а для контролируемого обрушения лавин.
32.
А вот - каракат, самодельный вездеход с подспущенными колёсами трактора, стоит у последнего дома на самом берегу Чины. Дом выглядит самым обжитым в Посёлке - кажется, кто-то просто устроил в нём дачу:
33.
Насыпь Чинейской железной дороги стоит над посёлком как крепостная стена с воротами моста над порогами Правой Чины:
34.
Линия уходит за сопку, по которой тянется наверх хорошо заметная зелёная полоса кустов, выросших на автодороге:
35.
Там, в паре километров от Посёлка, лежит конечная станция Карьерная. Взгляд назад: слева основной путь ЧинЖД от самой Новой Чары, справа - тупик, на котором в конце сентября 2001 года успели загрузить титаномагнетитовой рудой один поезд.
36.
Станция тянется дальше - по ощущениям спускается, а на деле поднимается вдоль истоков Правой Чины:
37.
На рельсах - клейма. И клали их в те годы, когда мой преподаватель географии с каким-то особым смакованием тлена и безысходности однажды задал нам вопрос, обеспечивает ли Россия себя рельсами. После повисшей паузы, он продолжил: "Думаю, ответ понятен, иначе я бы не спрашивал - не обеспечивает. Кое-что производят в Новокузнецке, но значительную часть импортируется из Канады". Канадские рельсы я ожидал увидеть на великой стройке капитализма, но нет - как и на другой Мёртвой дороге в ямальских тундрах, тут использовались "старогодние" рельсы со всей страны.
37а.

Вот и тупик, конец Чинейской железной дороги в 72 километрах от Новой Чары и 1540 метрах над уровнем моря:
38.
Итак, вдоль Левой Чины мы спустились сюда с перевала, а вдоль Правой Чины дошли до Карьерной. Единая Чина, сливающаяся у посёлка, привела нас к стойбищу эвенков, о котором был отдельный пост. Она течёт в сторону Олёкмы, но несёт свои воды в Витим, в конце долины становясь рекой Калар, спускающейся с гор по спирали. Калар размером с Москву-реку, хребет имени себя омывает аж с трёх сторон, и именно по нему в 1938 году назвали Каларским этот район на севере Забайкальского края. Ещё раньше, с 1932 года, здесь был Витимо-Олёкминский эвенкийский национальный округ, центром которого должно было стать так и не заселённое село Усть-Калакан на Каларе. Порожистый Калар в меру популярен у туристов-водников, а мы с Ольгой могли бы не городить огород с провальным походом на Кодар и сделать другой поход вниз вдоль Чины на безумно красивое длинное горное озеро Амудиса. Но вниз по долине мы дошли лишь до стойбища эвенков, а прежде прогулялись и наверх, за стену насыпи:
39.
Здесь тоже лежат болотистые озёра и сочные брусничники:
40.
С каменистой дороги отлично виден Вокзал. Правее серое пятно на склоне сопки - не что иное, как метеоритный кратер, причём очень свежий по геологическим меркам:
41.
А речка из озёр течёт, неожиданно, в другую сторону, ныряя в узкую щель среди леса:
42.
И совсем не очевидно, что впадает этот ручей в уже знакомый нам Ингамакит, вдоль которого мы ехали половину первой части и шли всю вторую часть. Он течёт в сторону Витима, а воды в несёт в Олёкму, куда впадает Чара. Насыпь же проходит прямо по водоразделу двух горных рек и двух притоков Лены:
43.
В эту часть долины нередко заглядывают туристы - от прохода под мостом километра 3 до водопада, тропу к которому отмечает висящая на лиственнице оранжевая каска:
44.
Тропа приводит на площадку с обветшалым столом и полурассыпавшимися лавочками. Вид отсюда поражает:
45.
Водопад не просматривается с площадки, как и тропа к нему, незаметно отходящая направо в зарослях стланника:
46.
Обратите внимание на залысину выше струи - в паводки тут хлещет целый Йосемити:
47.
С водопада и начинается Ингамакитский каньон, в верхней части представляющий собой узкую щель между обрывов:
48.
Словно древний титан, прежде чем связаться с магнетитом и сделаться рудой, рубанул топором эти горы.
49.
Водопадов здесь целый каскад общей высотой не одну сотню метров:
50.
Но каньон так узок, что большинство из них не видны с его берега. Каньон имеет форму буквы "Y" - слева спускается сам Нижний Ингамакит, ну а мы стоим на стрелке:
51.
В соединившийся каньон, как в подзорную трубу, прекрасно видна Чинейская железная дорога - конец Ингамакитской полки и меньшая из двух гигантских (1,2 миллиона кубов, 75 в высоту) насыпей над распадками, да автодублёр, обходящий её у подножья:
52.
Там и сейчас нетрудно представить поезд из пары десятков вагонов с неполной загрузкой рудой. И понадеемся, что однажды он там ещё поедет: к медным богатства Удокана ключ уже найден, а владеющий Чиной с 1993 года "Забайкастальинвест" недавно проводил тендер на закупки новой техники. Да и сторожа ведь не зря 20 лет это всё охраняют?
53.
За описание Чинейской железной дороги хочу поблагодарить Иннокентия Мызникова из Байкальска (профессиональный гид по Байкалу, автор вот этой статьи и непосредственный участник стройки, он много консультировал меня в переписке) и Михаила
 mikka из Иркутска, который ходил здесь в 2007-м. Ещё один отчёт, по мотивам похода, который состоялся этак на месяц позже нашего, выложен на канале "Другой путь" в Яндекс-Дзене почти одновременно с моими постами. Вот едва ли не всё, что знает Рунет об этом техническом чуде, Кругобайкалке 21 века...
mikka из Иркутска, который ходил здесь в 2007-м. Ещё один отчёт, по мотивам похода, который состоялся этак на месяц позже нашего, выложен на канале "Другой путь" в Яндекс-Дзене почти одновременно с моими постами. Вот едва ли не всё, что знает Рунет об этом техническом чуде, Кругобайкалке 21 века...В следующей части вернёмся на БАМ и поедем на запад до станции Таксимо через самую-самую его середину.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа транспорт дорожное Забайкальский край этнография Чинейская железная дорога Каларский район |
Чинейская железная дорога. Часть 2: на высоте |
Сложнейший железнодорожный участок в истории России и высшая точка отечественных железных дорог. Источник идей для Цинхай-Тибетской магистрали в Китае. И - дорога в никуда, по которой прошёл всего один грузовой поезд, а ныне даже мой рассказ о ней - 4-5-й из написанных в рунете. Всё это Чинейская железная дорога, проложенная в 1998-2001 годах на 72 километра к югу от БАМовской станции Новая Чара до гигантского месторождения титаномагнетитовой руды в суровых горах Удокана. Про сам Удокан с его несметными природными богатствами и про довольно мутную историю великой ударной капиталистической стройки я рассказывал в прошлой части. Но то был лишь подход по равнине: самые красивые и самые высокие места Чины - лишь впереди!
Первые 20 километров ЧинЖД уныло тянется среди болот на дне Чарской котловины. Дальше - 18 километров преодолевает пологий перевал Эмегачи, ведущий в долину речки Нижний Ингамакит. К ней же спускается водозабор Удоканского горно-металлургического комбината, что строится сейчас на третьем в мире по величине месторождении меди. На 42 километре - руины станции, до которой планируется возобновить движение поездов, ну а дальше, за мостом "на спичках" линия буквально взлетает по крутым склонам каньона. Здесь на 15 километров тянется самый зрелищный участок Чины, а может, и всех российских железных дорог - Ингамакитская полка:
2.
Шедевр отечественного желдорстроя создавался в мутную эпоху да под началом мутных людей - в первую очередь министра путей сообщения Николая Аксёненко, который явно был одним из игроков той комбинации, по итогам которой пришёл к власти Путин. А потому лепили Чину, фактически, из того, что было. Было же у нас, скажем прямо, немногое: русские железнодорожники преуспели в строительстве на вечной мерзлоте, а вот по тоннелям и мостам даже могучий СССР был очень далёк от лидерства. Да и сами эти технологии сделали качественный рывок не так уж давно - высокоскоростные магистрали Китая и Турции с зашкаливающим процентом пути по мостам и тоннелям вводятся в строй в наши дни. Наверное, сейчас да с привлечением китайских и турецких строителей подобную линию проложили бы по виадукам на дне каньона и вывели к цели через 10-15-километровый тоннель, но дело было в России на излёте лихих 1990-х, когда и советские-то технологии удержать казалось непростой задачей, а об освоении чего-то нового не приходилось и мечтать. А потому Чина удивляет какой-то нестандартностью, я бы даже сказал - немейнстримовостью своих решений с выемками вместо тоннелей и насыпями вместо мостов. На правом борту Ингамакитского каньона, примерно в 300 метрах над рекой, мощными (до 50 тонн!) взрывами был пробит длинный карниз, вмещающий железную дорогу с автодублёром:
3.
На последнем, в отличие от линии, движение сохранилось - за несколько дней нашего похода мимо в каждую сторону проезжала хотя бы одна машина в сутки - в основном местные на охоту и рыбалку. Мы забросились на самый верх нанятым джипом, а спускались пешком, и в конце концов были подхвачены "Камазом". Однако - ниже мест, описанных в этом посте, так что почти все кадры были сделаны в пешем походе. Как уже говорилось, шли мы сверху вниз, но рассказ интереснее строить в логике "снизу вверх", так что не удивляйтесь идущему вспять Солнцу.
4.
Узкий карниз в сыпучих скалах - всегда опасное место. Мостики здесь перекинуты над сухими падями, сквозь которые, однако, во время дождей хлещут водопады. Сами мосты покорёжены, со сбитыми перилами и поваленными столбами - зимой по ним регулярно долбят лавины. Вчерне законченная в сентябре 2001 года, буквально за пару недель до ареста своего основателя, Чина не была защищена от этих лавин, и установка противолавинных галерей на ней только-только начиналась. Со временем они должны были полностью накрыть Ингамакитскую полку, превратив её в такой эрзац-тоннель, но в итоге успели поставить всего две небольшие галереи в самой середине полки. Ещё одну, так и не доставленную сюда, я показывал в прошлой части на Детской железной дороге в Иркутске.
5.
Материалы их совсем не типичны для советской эпохи - гофра и габион:
6.
Начали явно с самого проблемного места - около первой галереи, единственной построенной полностью, особенно жестоко покорёжены пути:
7.
Вторая галерея и вовсе такая - гофровый навес над путями поставить успели, а вот габион над ним - нет:
8.
Но в отличие от первой галереи, где сетка габиона порвана, а гофра погнута, сюда ничего крупного пока ещё не свалилось:
9.
Рядом с галереями - какая-то брошенная техника и скопление балков: кажется, именно здесь осенью 2001 года оборвалась осиротевшая стройка. Балки сразу привлекли мой взгляд...
10.
Чарская котловина и прилегающие к ней хребты - это край, где природа ни в чём не знает меры. Зимой тут бывают 60-градусные морозы, летом - 30-градусная жара (последнее - чаще), дожди похожи на начало Всемирного потопа, а в ясные дни кажется, что вода исчезла во всём мире и навсегда. Когда нет дождя, воздух этих гор невыносимо сух, так что я чувствовал столь знакомую по Средней Азии неутолимую жажду, от которой сохнет не глотка, а дыхательные пути. В дождливые дни на Ингамакитской полке опасно - на ней может не то что завалить камнепадом, а элементарно смыть. Но в ясное время главная проблема отправившегося вдоль Чины туриста - полное отсутствие воды на протяжении двух десятков километров. Я прибег к самому простому выходу: в Новой Чаре мы купили баклажку с питьевой водой, и при заброске наверх я припрятал её в этих балках с запиской о том, что вода не бесхозная, очень нам нужна, и до 20 августа просьба её не трогать. Уверен, местные вняли бы такой записке, но куда вероятнее, что её никто не прочёл - на обратном пути канистра обнаружилась на своём месте и её хватило нам на ужин и завтрак.
11.
Сами балки изнутри выглядят так, как на кадре выше, а потому для ночлега совсем не годятся. Но мы вытащили из них несколько фанерных листов, соорудив на каменистой земле отличный подиум под палатку. Когда уже собирались ставиться - из-за поворота полки показались два УАЗа, "козлик" и "буханка", сделавшие небольшую остановку. Компания на них ездила в Чину забирать какую-то полезную в хозяйстве железяку, а заодно подышать горным воздухом, поесть брусники да грибов, а в идеале подстрелить что-нибудь мохнатое или пернатое. Нас они, конечно, предложили подвезти, но я хотел увидеть мост из прошлой части, да и знал, что на следующий день из Чины в Новую Чару будут ехать на своём "Камазе" Два Александра - сторож и его друг, у которых мы по сути гостили. Люди уехали, однако мы быстро поняли, что находимся здесь не одни - у балков есть свой хозяин!
12.
Мы приняли его за ласку, но Два Александра сказали, что это горностай - у него меньше голова, зато хвост длиннее. Совершенно непуганый, зверёк сновал вокруг нашей палатки, но мы понимали, что это наш союзник - ведь еду у туристов таскает его еда.
13.
Ну а сами балки - буквально на краю пропасти. Виды отсюда не лучше и не хуже, чем из любой другой точки Ингамакитской полки, но здесь, раз уж мы остановились ночевать, есть время снять рюкзак, присесть на косогор и просто любоваться.
14.
До дна каньона около 300 метров, так что виды отсюда примерно как с вертолёта. Внизу просматривается старая дорога, которой местные ездили до постройки Чины и до сих пор предпочитают её в зимнее время:
15.
Сам Ингамакит кажется сверху тщедушной речкой, иногда распадающейся на мелкие протоки, наверное, проходимые вброд. Но ширина каменистой поймы и обилие могучих стволов на её дне напоминают, как страшен он может быть в паводки. Каменистая земля, к тому же схваченная вечной мерзлотой, плохо впитывает воду, поэтому таяние снегов или мощные ливни неизменно приводят к потопу - вода в сибирских горных реках может подняться на метры за несколько часов, а после спасть за пару суток.
16.
Удоканский хребет стоит на северном конце Байкальского рифта, представляющего собой зарождающийся океан. В глубине этих гор, как и на другом конце рифта в Восточных Саянах, есть своя Долина Вулканов. Удокан сложен очень древними породами, но вздыбился над землёй не так уж давно по геологическим меркам - об этом напоминают как богатства руд, так и характерные формы крутых склонов и плоских вершин.
17.
Обратите внимание, что дальний склон более зелен. Хотя общее направление ЧинЖД - на юг от БАМа, Ингамакитская полка тянется почти строго с запада на восток. На южном склоне скапливается больше снега, отдельные пятна которого не тают даже в середине августа, а стало быть, видимо белеют в тени круглый год:
18.
Но по той же причине за деревьями южного берега местами шумят водопады:
19.
А сам вырезанный водой рельеф гораздо сложнее, с обилием колючих скал и узких тёмных каньонов, на дно которых не заглядывает Солнце. В общем - не лучшее место для железной дороги:
20.
Наш борт каньона прямой и ровный, как борт корабля. Продолжаем путь наверх, и стена над головой делается всё отвеснее:
21.
Впереди - капитальный мост, за 20 лет простоя почти не тронутый ржавчиной:
22.
Мост отмечает развилку - полка становится слишком тесна для автодублёра, и он ныряет на пару сотен метров вниз:
23.
Мост ещё крепок, и на его бесхозные фермы запросто можно влезть. С них снят и заглавный кадр.
24.
Но больше впечатляет вид вперёд. Посёлок Чина стоит прямо по курсу, вон за той горой, которую железная дорога огибает фигурой наподобие знака вопроса:
25.
Примета этой части полки - обвалы, поглотившие по несколько десятков метров путей:
26.
Кое-где столбы разбиты и повалены валунами:
27.
Причём больше всего удивляют одинокие валуны, лежащие на изрядном удалении от склонов. Они катились сюда, рикошетили или просто сползали по снегу?
28.
В других местах насыпь просела, а рельсы и шпалы висят над ней:
29.
Природа всегда приходит забрать долг, хоть в буйных джунглях, хоть в мрачных скалах. По сравнению с репортажем
 mikka 2007 года разрушение линии видно невооружённым глазом.
mikka 2007 года разрушение линии видно невооружённым глазом.30.
Ну а мы приближаемся к кульминации Чины - Двум Великими насыпям:
31.
Полку здесь прорезает пара сухих (большую часть года) каньонов, и строители Чины не решились сооружать виадуки на 70-метровых "спичках" в сейсмически опасной зоне на вечной мерзлоте. Поиски и воплощения решения отсрочили сдачу дороги на 13 месяцев (изначально первый поезд ожидался в августе 2000 года), ну а само решение опять же получилось нестандартным - каньоны перекрыли гигантскими насыпями, более всего напомнившими мне селевую плотину в алматинском ущелье Медеу. Нижняя насыпь поменьше - её высота 75 метров, а объём всего-то 1,2 миллиона кубометров:
32.
Она совсем не впечатляет, если идёшь сверху вниз и уже видел Верхнюю насыпь - в этой 120 метров от основания до гребня и без малого два (1,8) миллиона "кубов"!
33.
Лучше понятен масштаб насыпи со склонов над ней, и битый час мы скакали по валунам и сыпучкам, надеясь найти точку повыше.
34.
Ну а горы над насыпью... Почти такой же вид я однажды снял на Памире и поставил заглавным кадром обзора поездки в Таджикистан. Мы находимся на высоте всего-то полтора километра, и ни Чина, ни БАМ не дотягивают по этому показателю даже до построенных Российской империей и Советским Союзом железных дорог Армении (там есть станции выше 2000м), не говоря уж про железные дороги иных стран НЕ великих равнин. Вот только единственный фактор, который определяется непосредственно высотой - это кислородное голодание, для борьбы с которым в Китае или Перу используют особые герметичные вагоны. Всё остальное же на высокогорье так сурово не потому, что высоко, а потому, что на большой высоте - холодно. И 1,5 километра Станового нагорья со своими голыми сыпучими камнями и коварной вечной мерзлотой вполне соответствуют 3 километрам на Памире, 4 километрам на Тибете, 5 километрам на Альтиплано или уровню моря в Арктике. Гордость Китая, построенная в 2001-06 годах Цинхай-Тибетская магистраль длиной 1124 км почти не опускается ниже 4000 метров над уровнем моря, но лишь 550 километров её протяжённости приходится на зону вечной мерзлоты - в разы меньше, чем на БАМе. Чина же - это концентрированный БАМ, и у местных жителей ходят истории о китайских делегациях, приезжавших сюда изучать опыт, да и я знал об них от автора вот этой статьи, самой подробной о Чинейской железной дороге.
35.
Ещё более потрясающе дамба смотрится с автодублёра. Но не меньше масштаба сооружения (её высота около 70 метров) удивляет то, что за 20 лет она почти не размылась:
36.
На автодублёре под дамбой в первый, но совсем не последний раз, появляется вот такая вывеска, здесь приколоченная прямо к православному кресту неизвестного мне происхождения. Там дальше пастбища эвенков, и эта табличка напоминает русским мужикам, что не надо палить по всему, что с рогами.
37.
Посмотрим немного по сторонам. У путей попадаются красивые камни с рисунками мхом по породе:
38.
В стенах кое-где зияют небольшие гроты, конечно же, указывающие на то, что англичане сфальсифицировали историю Гипербореи:
39.
В иных сочится вода. Этот гротик да ручей под мостом с кадра №4 - все её источники на Ингамакитской полке. Вот только странное свойство здешней воды - она очень скудна и почти не утоляет жажду. Напиться чаем на здешней воде мне удавалось лишь на третьей чашке, в то время как на воде из покупной канистры я с трудом осилил вторую.
40.
Попытки влезть на скалу пофотографировать насыпь привели нас в роскошные заросли дикой смородины, по вкусу больше похожей на иргу - причём с двух соседних кустов вкус ягод чуть отличался. И мы, как звери, объедали их, может, полчаса, может, час - в ягодах были те элементы, которых в здешней воде так отчаянно не хватает.
41.
После насыпей линия уходит в более классическую выемку меж двух стен:
42.
Вот на ней и тот самый единственный поезд с рудой, 26 сентября 2001 года отправившийся на Коршуновский ГОК в Железногорск-Илимский.

Выемка приходится на край обрыва в конце широкой части Ингамакитского каньона:
43.
Дальше он сужается в тёмную щель, куда не заглядывает солнце - речка течёт сюда из проходящей на одном с нами уровне перпендикулярной долины Чины. В следующей части ещё полюбуемся с обратной стороны этим каньоном...
44.
...но пока идём дальше по рельсам, сворачивающим в падь бокового ручья:
45.
Здесь снова появляется вода, а с ней и в меру густая растительность:
46.
Автодублёр вновь сближается с железной дорогой, и вон там вдали по нему даже что-то пылит. Если точнее - та самая "буханка", с которой мы на обратном пути встретились в сумерках у балков. Весь путь вдоль линии на хорошей машине - это 2-3 часа, так что если не жалко скинуться 30 тысяч на джип или 50 тыс. на "Урал", Чину вполне можно осмотреть и за день.
47.
Гнутые рельсы, вереницы покосившихся столбов... и опалённые безжизненные склоны гор, больше знакомые по Средней Азии:
48.
Впереди же - альпийские луга и лазурные озёра. Так выглядит перевал, разделяющий не только долины двух речек, но и бассейны двух притоков Лены - Олёкмы (куда течёт Ингамакит через Чару) и Витима (куда течёт Чина). Это странно, так как Ингамакит течёт на запад, а Чина на восток: превращаясь в более крупный Калар, она спускается с гор буквально по спирали.
49.
Вдали уже видна гора, скрывающая Чинейский рудник. Ну а на берегу озера - разъезд 61 километр:
50.
Вот так выглядит высшая точка российских железных дорог - 1624 метра над уровнем моря. От Новой Чары мы поднялись на 840 метров:
51.
Такие же типовые вокзальчики стоят на двух прошлых разъездах 26 и 42 км, но только здесь мы осмотрели постройки вблизи. Внутри не нашлось ничего интересного и даже для ночлега усеянный обломками пол совсем не годился:
52.
Мы поставили палатку у ручья на мягком ягеле, но ещё до поездки я был предупреждён о том, что этой ночью на Землю будут падать персеиды. В темноте и холоде мы выбрались наружу - одни в долине, с небом наедине. И даже больше самих падающих звёзд с яркими огненными хвостами и медленно угасавшими следами нас впечатлила чистота неба - казалось, что вышли мы из палатки прямиком в открытый чёрный космос. За звёздами просматривался не просто Млечный путь, а настоящая панорама грандиозной спирали Галактики с заметными глазу рукавами, которые расширялись к лежащему ниже горизонта ядру. То была, пожалуй, красивейшая ночь моей жизни...
53.
От перевала железная дорога спускается до высоты 1540 метров вдоль речки Левая Чина:
54.
Мост через неё кажется воротами Чинейской долины:
55.
О которой, не только и даже не столько железнодорожная, будет следующая часть.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа транспорт дорожное Забайкальский край Каларский район |






