В поисках Беловодья - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Чита. Часть 1: ключ от Дальнего Востока |
Чита - небольшой (349 тыс. жителей) краевой центр в 6320 километрах от Москвы, то ли последний в Сибири, то ли первый на Дальнем Востоке. В прошлых частях мы путешествовали по Забайкалью, или Даурии, её старинным приискам и каторжным тюрьмам, мрачным степным гарнизонам, утлым деревенькам в дебрях высокой травы, завершив рассказ в селе Кондуй, где из руин монгольского дворца сложена русская церковь. Чита пару лет назад встречала одного моего знакомого граффити "Слава Великому Чингисхану!" во весь привокзальный забор. Вот уже полтора века она административный центр диких степей Забайкалья, а трижды в своей истрии ей довелось побыть столицей самопровозглашённых и недолговечных, но всё-таки государств. Чита колоритна - архитектурой, бытом, внешностью жителей, да и исторической архитектурой вовсе не обделена. Я расскажу о ней в 5 частях, в первой из которых - старейший район и непростая история, виды города с Титовской сопки и детали местного колорита.
В Читу мы добирались из Нерчинска автостопом по трассе "Амур", над которой сменялись феерии разноцветных облаков в голубом небе и страшные ливни из чёрных туч. На мокром зеркальном асфальте нас подхватила женщина, для начала попросившая дать ей перефотографировать чей-нибудь паспорт. Попутчиков она не подвозила прежде никогда, но теперь по пути из родного Кокуя (где у неё родители и дети) в Читу (где у неё работа) ей так отчаянно не хотелось ехать 3-4 часа одиноко, что опыт подвоза она начала сразу с двух рослых мужчин. Дальше мчались мы с сопки на сопку, из пади в падь, а я любовался названиями ручьёв вроде Шпотыкен или Дуралей - последнее явно бурятское или тунгусское слово, но мы с Петром в шутку предположили, что это какой-то странный, непредсказуемый ручей со снеговым питанием, который то пересыхает в ливень, то в засуху выходит из берегов.
2.
Трасса минует Читу по северному краешку, через несколько мощных автоколец с устоявшимися в народе названиями. Мы свернули на Угданском кольце, за которым стоит бурятское предместье Угдан, всей Чите известное своими позными (кафе бурятской кухни). Высадившись в одноэтажном посёлке со звучным названием Биофабрика, мы стали ждать, когда за нами приедет на такси Алексей
 atomic_alert, живущий, в буквальном смысле, на другом конце Читы. Пока ждали - забайкальский колорит вновь ухмыльнулся нам прокуренными зубами: ехавшая мимо огромная заниженная машина вдруг резко повернула, начав как бы описать вокруг нас кольцо. За правым рулём сидел грузный молодой бурят, на переднем пассажирском - долговязый курчавый паренёк с рябым лицом, нездоровым блеском в глазах и той особой сладострастной улыбкой, которую я уже не первый раз замечал у обитателей криминального мира. Паренёк поинтересовался:
atomic_alert, живущий, в буквальном смысле, на другом конце Читы. Пока ждали - забайкальский колорит вновь ухмыльнулся нам прокуренными зубами: ехавшая мимо огромная заниженная машина вдруг резко повернула, начав как бы описать вокруг нас кольцо. За правым рулём сидел грузный молодой бурят, на переднем пассажирском - долговязый курчавый паренёк с рябым лицом, нездоровым блеском в глазах и той особой сладострастной улыбкой, которую я уже не первый раз замечал у обитателей криминального мира. Паренёк поинтересовался:-Мужики, вам помочь?
-Не, всё нормально, стоим ждём.
-А сами откуда? - с лёгким вызовом в голосе.
-Да туристы мы, издалека. Автостопом сейчас приехали, скоро нас местные на машине заберут.
Весь диалог продолжался на малом ходу, и видимо убедившись, что подозрительные типЫ на районе опасности не представляют и скоро сами уйдут, наш собеседник замкнул круг и уехал в ту же сторону, откуда прикатил. Стало ли местным пацанчикам просто интересно, кто тут рюкзаки развесил или же их районный "смотрящий" прислал - я не знаю, но забегая вперёд скажу, что в центре Читы сложно представить такие сюжеты окраин. Вскоре Алексей вёз нас на юг мимо парка развлечений с парой настоящих самолётов, занятых авиасимуляторами:
3.
На главной площади Нерчинска я уже показывал короткую "пятиминутку ненависти к Чите" - красивый старинный райцентр до сих пор не смирился с тем, что "на её месте должен быть я!". Между тем, у двух городов был один основатель - сотник Пётр Бекетов, поздней осенью 1653 года переваливший с Хилка на Ингоду и вставший тут зимовать. Бекетов входил в огромный отряд воеводы Афанасия Пашкова, медленно шедший из Енисейска в Кумарский острог на Амуре, но в итоге, после разгрома амурских казаков флотилией Цинского Китая, осевший в другом Бекетовском детище Нерчинске. Зимовье близ устья Читинки (вернее, "по паспорту" это речка Чита) быстро опустело, но по мере русской экспансии в Забайкалья такое место не могло остаться необитаемым: с 1687 года здесь уже известно село с говорящим названием Плотбище. Его жители мастерили из леса окрестных сопок плоты, которыми казаки и их воеводы, рудознатцы да купцы сплавлялись вниз по Ингоде и Шилке. К 1698 году на Плотбище выросла Читинская слобода, в 1706 официально ставшая Читинским острогом. Оборонять его было особо не от кого, поэтому такое название отражало лишь статус - крепости с деревянными башнями и зубастыми палисадами в Чите не было никогда. В 1797 Читинск (под таким названием острог фигурировал в 18 веке) стал селом Читинским, жителей которого записали в горнозаводские крестьяне Нерчинского горного округа. Работали они на лесных делянках, но этот же статус позволил включить Читинское в Нерчинскую каторгу, которая, парадоксальным образом, и дала ему путёвку в жизнь. В январе 1827 года году сюда прибыли декабристы - Никита и Алексей Муравьёвы, Иван Анненков и Константин Торсон. Осенью к ним добавилось 8 "узников Благодати" в сопровождении Екатерины Трубецкой и Марии Волконской, а в итоге в село с 400 жителями свезли 75 мятежных дворян, не считая 7 (включая Трубецкую и Волконскую) добровольно поехавших за ними женщин.
4.
Первую четверку разместили в арендованных домах нерчинского купца Василия Макеева и отставного поверенного Александра Дьячкова, прозванных соответственно Малым и Дьячковским казематами. Последний находился в стороне, а вот Малый каземат с прибытием новых партий разросся на весь квартал - пристроенную часть стали называть Большим казематом. Ещё одной локацией была Чёртова могила - овраг у берега, врезавшийся в Сибирский тракт: каторга декабристов напоминала Сизифов труд - утром они его закапывали, а ночю река уносила все их труды. Также вчерашние аристократы равняли улицы, кололи лёд, мололи рожь и чистили конюшни. Большой каземат они полушутя называли Каторжной академией, где в кандалах и без них (после 1828 года) продолжали заниматься искусством и наукой, устраивать диспуты, литературные вечера и шахматные турниры. Большой каземат стал геологической лабораторией, поликлиникой Фердинанда Вульфа (который лечил крестьян и даже ставил им прививки от оспы), метеостанцией Сергея Трубецкого, биостанцией Дмитрия Завалишина... Которого не стоит путать с братом Ипполитом Завалишиным, персонажем крайне малоприятным - пытаясь выслужиться доносами на мнимых недобитых декабристов, в конце концов он сам угодил в острог к настоящим декабристам и жил среди них парией. Дмитрий же развёл сад и огород, выписывал семена из Европейской России и делился ими с местным крестьянством. В 1830 году декабристов отправили на Петровский Завод (Петровск-Забайкальский), но за 3 года они изменили жизнь Читинского слишком сильно. Вкупе с расположением на полпути между уездными Нерчинском и Верхнеудинском (Улан-Удэ) это и сыграло ключевую роль в 1851 году, когда генерал-губернатор Николай Муравьёв выделил два восточных уезда Иркутской губернии в Забайкальскую область, центром которой и стала Чита, получившая городской статус. Я бы сказал, что она была тогда и основана, как Астана рядом с Акмолой - старое село Читинское по-прежнему стоит в глубине города:
5.
Город начал вторгаться сюда лишь в начале ХХ века, но советское время прервало капиталистический бум. Среди изб - одинокий дом Энгеля (1914):
6.
На кадрах выше - улица Декабристов, сохранившая сельский пейзаж. Перпендикулярная ей Селенгинская застроена пятиэтажками, но в её дворах - достопримечательности Старого Читинска. Дом Елизаветы Нарышкиной (в девичестве императорская фрейлина Коновницына) - новодел 1964 года, по сути просто нестандартное здание районной библиотеки:
7.
А вот деревянная церковь Михаила Архангела - подлинная:
8.
Известная с 1698 года, в нынешнем виде она была срублена в 1776 году - для Сибири это очень солидный возраст, и хотя в Забайкалье осталось несколько деревянных храмов тех лет, эта церковь лучше всего сохранилась:
8а.
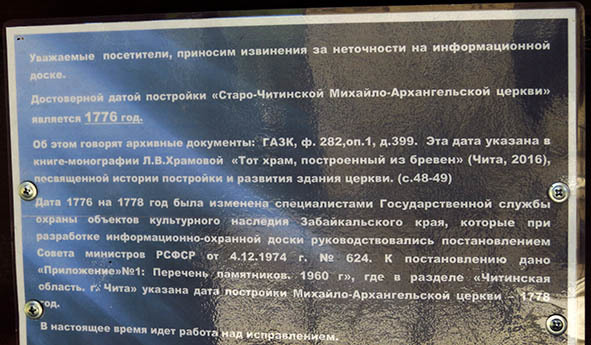
С советских времён известный как Церковь Декабристов, Градо-Читинский собор Михаила Архангела (таково было её полное название) имел все шансы не уцелеть. Закрытый в 1928 году, храм был занят всякой всячиной от соляного склада до общаги строителей. В 1971 году заброшенное здание перешло на баланс музея, и лишь в 1985 в Церкви Декабристов открылся сам музей. Сказать откровенно - не впечатляющий своими экспонатами, но какой-то красивый и уютный:
9.
В ограде церкви - могила Софии Волконской, малолетней дочери декабриста, рождённой и вскоре умершей здесь. В этом зале же 4 апреля 1828 года Иван Анненков под перезвон кандалов своих товарищей женился на Полине Гёбель - француженке-модистке из Лотарингии, которая ещё летом 1825 года влюбилась в него, вряд ли зная, что он готовится сломить самодержавие. Под видом объезда имений Гёбель провела лето с Анненковым в путешествии по России, по итогам которого у неё родилась дочь Александра. Когда же возлюбленный угодил на каторгу - Полина отправилась за ним, а добрый царь ещё и дал ей 3000 рублей (несколько миллионов по нынешнему курсу) на дорогу.
10.
Другую свадьбу в этой церкви играл в 1839 году Дмитрий Завалишин - к нему никто не приехал, и женой его стала дочь горного инженера Аполлинария Смолянинова. С ней Дмитрий Иринархович осел в Чите, активно участвовал в её становлении как города, а в 1862, за разоблачения местных коррупционеров, вновь отправился в ссылку - на этот раз из Сибири в европейскую часть страны.
10а.

То было не лучше время Даурии: старые серебро-свинцовые рудники окончательно изжили себя, плавильные заводы закрывались один за другим, а горнозаводских крестьян, немалая часть которых была потомками каторжников, Николай Муравьёв в 1851 году принял в новое Забайкальское казачье войско да послал, вместе со старыми казаками, колонизировать Амур. Два уезда к 1870-м годам были нарезаны на 8, и их центрами стали как старые города Кяхта и Баргузин, так и вчерашние сёла вроде Акши и даже Нерчинский Завод. В степях всё активнее мыли золото, а каторга не делась никуда и явно обретала политический оттенок. И всё-таки тут было захолустье, где Чита с 12 тыс. жителей оставалась лишь первой среди равный, не сильно превосходя Кяхту (9 тыс. жителей), Верхнеудинск (8 тыс.) и Нерчинск (6 тыс.). Но вот на рубеже веков сюда пришёл Транссиб, буквально взорвавший экономику и демографию Сибири. Чита оказалась последним городом перед развилкой Великого Сибирского пути (до 1912 году заканчивавшегося перевалкой в Сретенске) и Китайско-Восточной железной дороги, и пошла в рост со скоростью, которая могла бы потянуть на российский, а может быть и евразийский рекорд: к 1908 году в городе жило 43 тыс. человек, а к 1913 - 78 тысяч! Сколько народу тут жило в 1917 году - вряд ли кто-то считал, но Чита встретила этот роковой год развитым современным городом среди диких каторжных степей, что и определило её роль в дальнейшем.
11.
Ещё при Временном правительстве здесь объявился Григорий Семёнов - потомственный казак из караула Куранжа на Ононе, успевший повоевать в Польше, Персии и Румынии. В Даурию он уехал с разрешения барона Петра Врангеля (также служившего в Забайкальском войске) формировать бурят-монгольский батальон, чем продолжил заниматься и после Октябрьской революции. Большевики не сразу заметили, что в батальон массово записывают и русских, причём - по старым царским правилам. Вскоре Семёнов окопался на станции Даурия близ Борзи, четвертовал и сжёг живьём местного комиссара, и уже в январе 1918 года открыл первый фронт Гражданской войны. В сентябре, после нескольких месяцев ожесточённых боёв в степях по обе стороны китайской границы, Семёнов въехал в Читу на штыках белочехов и японских интервентов. Так возникла Забайкальская Казачья республика, она же Забайкальская белая государственность, формально подчинявшаяся правительству в Омске, а фактически бывшая личной диктатурой Семёнова, 9 мая 1919 года избранного атаманом сразу трёх казачьих войск - Забайкальского, Амурского и Уссурийского. На помощь Белой России отсюда не ушло ни эшелона, законы и государственные институты не работали, зато произвол семёновцев ограничивала лишь сила оружия. Изначально не очень-то белое забайкальское казачество перерождалось в красных партизан, на что атаман-самозванец ответил жесточайшим белым террором, в авангарде которого были служившие с царских времён в Забайкальском казачестве Роман фон Унгерн из Прибалтики и Артемий Тирбах из Туркестана. Каратели расстреливали семьи партизан и дезертиров, порой уничтожая целые станицы, а старая каторга, упразднённая ещё в 1917 году, возродилась Троицкосавской тюрьмой. Осенью 1919 года пал Омск, и в 1920 году была провозглашена белая Российская Восточная окраина, западную часть которой вскоре заняли красные, а дальневосточная превратилась в уже не белый, а Чёрный буфер. Видя, что дело дрянь, Семёнов попытался сделать из РВО какое-то подобие легитимного государства, созвав Временное Восточно-Забайкальское народное собрание. Но ему это не помогло - японцы отступили, под семёновцами горела земля, и в октябре 1920 года атаман, бросив своих казаков, бежал из Читы на аэроплане. В белой Маньчжурии он жил изгоем среди русских, но - уважаемым человеком у японцев, под началом которых сплотил из бывших подельников Дальневосточный союз казаков. В 1945 году Семёнов был настигнут Красной Армией в Харбине, увезён на суд в Москву и год спустя повешен.
12.
Из Читы же выбила его не Рабоче-Крестьянская Красная Армия Советской России, а Народно-революционная армия Дальне-Восточной республики, правительство которой вскоре разместилось в бывшем пассаже Второва, зелёный башни которого видны на кадре выше. В 1920 году красные партизаны, по большей части разбойники и беглые каторжники под началом молодого революционера-романтика Якова Тряпицына заняли Николаевск-на-Амуре и устроили резню японских купцов, на которых держалась экономика этого города. Японцы ответили полномасштабной интервенцией, и Советам только и оставалось сказать "я не я и лошадь не моя": 6 апреля 1920 года в Верхнеудинске начался гигантский спектакль на сцене площадью в 1,4 млн км². Там была провозглашена Дальневосточная республика, на самом деле полностью марионеточная, а внешне изо всех сил стремившаяся дистанцироваться от Советской России. Она и была-то даже не "красной", а так, "розовой" - её Правительство и Совет Министров (председатели которых были главами государства) слагала коалиция левых партий, где РКП(б) числилась лишь одной из прочих. Ещё здесь сохранялась религиозной свобода (которой активнее всего пользовались буддисты) и до некоторой степени - частная собственность. Республика делилась на старые Приморскую, Сахалинскую, Камчатскую, Амурскую и Забайкальскую области, из которой были выделены два региона с общими центром в Верхнеудинске - "русская" Прибайкальская область и состоявшая из нескольких анклавов Бурят-Монгольская автономная область (см. Агинское). И не беда, что НРА ДВР была образована из частей РККА с бывалыми красными командирами.
флаг и герб ДВР.
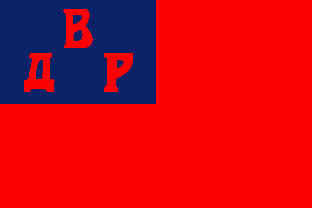

Главным зрителем этого спектакля были Соединённые Штаты, которые конечно не купились, но решили подыграть: Советская Россия казалась им образованием нежизнеспособным и недолговечным, а вот Японская империя виделась опасным конкурентом. Всё это сделало возможным сложнейший дипломатический торг, в котором японцы регион за регионом оставляли Сибирь, а НРА входила по следу интервентов и громила белых. К 1921 году японцы организовали своё марионеточное государство в Приморье (Чёрный буфер) и попытались путём переговоров превратить ДВР в свой протекторат, но начать масштабную войну уже не решились. 25 ноября 1922 года Народно-освободительная армия вошла во Владивосток, а 15 ноября республика без вопросов стала Дальневосточной областью РСФСР.
эмблема и флаги Народно-революционных армии и флота (де-факто только речного) ДВР.

Один из немногих её памятников - "буферки" в музее Нерчинска: это рубли ДВР, к моменту роспуска республики уже ставшие редкостью из-за гиперинфляции: 1000 таких рублей были меньше 1 советской копейки.
13.
Виды Транссиба и центра сняты с пешеходного виаудка за пятиэтажкой от Церкви декабристов. Впечатление об этом районе периодически портила мерзкая вонь, источник которой я позже увидел с поезда - почти в центре Читы находятся очистные. Близ них - основанная в 1936 году ТЭЦ-2 на стрелке Ингоды и Читинки:
14.
Гора с кадра выше - уже за Ингодой, а меж двух рек напротив центра высится лысая Титовская сопка (944м). Нам - на неё:
15.
Улица у подножья носит по старой памяти гордое имя Московский тракт, однако даже городской автобус увидеть здесь - удача.
16.
Одна из остановок отмечена датой "1905": на Титовской сопке началась и закончилась история уже третьего в моём рассказе читинского квазигосудартсва. Далёкий город был изрядно вольнодумским, здесь одних только народников жило на поселении 70 человек. Уже в 1902 году на Читинской сопке прошла первая маёвка, а в революцию 1905 года Забайкалье было охвачено тотальным восстанием. Осенью местные рабочие дружины во главе с большевиками Виктором Курнатовским и Антоном Костюшко-Волюжаничем при поддержке восставшего гарнизона и молчаливом согласии губернатора захватили город. Потенциально Читинская республика могла бы стать серьёзной проблемой для Российской империи - на складах и станциях Забайкалья скопилось огромное количества оружия русско-японской войны, и к концу года в распоряжении повстанцев было одних только винтовок 36 тысяч штук. Но чтобы выставить 30-тысячную армию, надо было её подготовить, а вот на это "царский режим" времени уже не дал - с подходом карательных войск Александра Меллер-Закомельского и Павла Ранненкампфа лидеры повстанцев решили перейти к партизанской борьбе и оставили Читу без боя.
17.
В усмирённом городе было арестовано несколько сотен активистов, 81 - казнили. Руководители Читинской республики Костюшко-Волюжанич, Эрнст Цупсман, Прокопий Столяров и Исай Вайнштейн были расстреляны первыми - в пади у дальнего склона Титовской сопки:
18.
В 1926 году на этом месте поставили весьма эффектный монумент, от которого и начали мы подниматься по пологому травянистому склону:
19.
Более канонический путь наверх начинается от ресторана "Старый Замок" и часовни Александра Невского (2001):
20.
Она особенно хорошо смотрится с сопки, меняя задний план в зависимости от точки обзора. На кадре выше это мосты через Читинку, на кадре ниже - Петропавловский костёл (1999-2002):
21.
Прежде на этом месте стояли часовня Святого Духа и обелиск (1891) в честь спасения цесаревича Николая от покушения в Японии:
21а.
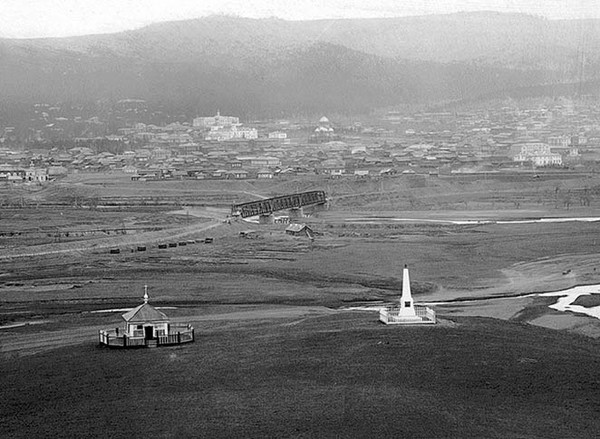
Мы к часовне, напротив, спустились, у подножья попав в жутковатый Лес Несбывшихся Надежд - на деревьях тут висят потрёпанные, выцветшие хий-морины. "Кони ветра", бурятские ангелы-хранители, изображаются на разноцветных платках, которые вешают в святых местах на удачу. Но поверие гласит, что пожелание сбылось только если конь улетел по ветру.
22.
Титовская сопка было явно чтима у местных народов, и где-то на её камнях даже можно обнаружить древние петроглифы. Выше по склону - одинокий сэргэ (ритуальная коновязь в бурятском шаманстве) да запечатлённый на заглавном кадре крест, впервые поставленный ещё декабристами на могиле их предшественника - Неизвестного солдата Семёновского полка, который в 1820 году в полном составе восстал против "аракчеевских" порядков.
23.
Сопка лежит к югу от города, стоящего амфитеатром на других горах. Виды с неё хороши почти в любое время, но вот единой смотровой площадки тут нет - что-то лучше видно с одних точек, а что-то с других. Пойдём против часовой стрелки - каждый следующий вид левее предыдущего:
24.
Первым делом взглянем на восток, вниз по течению Ингоды. Города эта длинная (702км) река размером примерно с Москву-реку (72,6 м³/с) касается краешком, однако значение её велико: Ингода сливается с Ононом в Шилку, а та с Аргунью - в Амур. Онон куда полноводнее и длиннее, Ингода в этой системе скорее приток, но именно вдоль неё Россия приходила в Забайкалье.
25.
На кадре выше вдалеке видна Антипиха - район у одноимённой станции, с 1920-х годов развивавшейся как центр военной логистики к гарнизонам Транссиба и КВЖД. Более всего она известна военным санаторием "Молоковка", устроенным в 1936 году на целебных ключах. "Молоковка" проигрывает "Куке" - я солидарен с
 periskop.su, что это самая вкусная минералка России, за пределами Забайкалья очень редкая. Зато в 1945 году "Молоковка" на две недели стала тюрьмой ни много ни мало последнего китайского императора Пу И: из Маньчжурии Красная Армия вывезла не только Семёнова. Но Антипиха едва видна с горы, а заметнее всего на востоке отмеченная трубами ТЭЦ-2 стрелка Ингоды и Читинки:
periskop.su, что это самая вкусная минералка России, за пределами Забайкалья очень редкая. Зато в 1945 году "Молоковка" на две недели стала тюрьмой ни много ни мало последнего китайского императора Пу И: из Маньчжурии Красная Армия вывезла не только Семёнова. Но Антипиха едва видна с горы, а заметнее всего на востоке отмеченная трубами ТЭЦ-2 стрелка Ингоды и Читинки:26.
Старый Читинск издали выглядит так - плотно зажатая пятиэтажками деревянная церковь смотрится необычно:
27.
Центр города раскинулся левее, на склоне горы Чита (1044м), незастроенная вершина которой поднимается в зону леса:
28.
Старые кварталы стоят на её почти ровном подножье у Транссиба. Но как часто бывает в российских городах, издали не догадаться о том, что здесь скрывается красивый и довольно целостный исторический центр. Многоэтажки, элементарно более высокие, просто забивают панораму, и лишь башенки пассажа Второва (1910), он же управление КВЖД, он же правительство ДВР, торчат с ними вровень. Торцами огромное здание выходит к улицам Амурской (ближе) и Анохина (дальше), а выше видны сталинские фасады улицы Ленина - это три главных оси Старой Читы:
29.
На улице Ленина - и высокий Шумовский дворец (1913-18) у правого края кадра, и новостройка-башня с куполом по центру, и белые колонны да золотые статуи Дома офицеров (1940) правее неё. За ним тянется небольшой, но очень ухоженный парк, упирающийся в улицу Чкалова, отмеченную красной пожарной каланчой (1903). В правом верхнем углу кадра виден Воскресенский собор, перестроенный в 1945 году из костёла (1851). Но куда больше в этом кадре привлекает взгляд нижняя половина - старый (1903-05) и новый (1975) вокзалы станции Чита-2, стихийный автовокзал на площади (официального же автовокзала в Чите, внимание, НЕТ!) и огромный Казанский собор (2001-04), словно в память о том, что Чите дал Транссиб построенный прямо напротив вокзала. Кусты же на переднем плане - это упрятанная в мощные дамбы Читинка:
30.
Золотые купола Читы - Казанский собор, храм Святого Луки при мединституте (2007) в бывшей мужской гимназии (1891, фасад правее) и управление Забайкальской железной дороги (1947), мощным портиком выходящее на площадь Ленина:
31.
С юга глядит на неё ещё и бывший ЗабВО, жёлтый торец которого тут виден рядом с надписью "Hotel". С севера же над площадью нависает Радиатор - так называется в народе администрация Забайкальская края, чей флаг в отчётливо панафриканских цветах заметен на кадре выше. Она стоит на месте Архиерейского квартала, от которого осталась зелёная семинария в здании училища миссионеров (1907-12):
32.
Западной границей центра можно считать улицу Богомякова, мощной осью ведущей от памятника Николаю Муравьёву (2014) у моста за Читу-гору к федеральной трассе. Правее неё наверху можно разглядеть жёлтую главку дацана "Дамба Брайбунлинг" (2002-10), левее внизу - длинные балконы Пентагона, как называют читинцы оригинальное здание 1980-х годов на площади Борцов Революции.
33.
От Революции с километр до Победы, парк которой был заложен в 1975 году:
34.
За ним Читинка резко поворачивает, а по берегу её тянется Малая Забайкальская железная дорога (1971-74). Сейчас в ней всего 3,7км, а ещё 2,5 в 2009 году отрезали под застройку. У берега - небольшая станция Поречье, до 2000 года Спортивная: тогда она была построена заново, да не просто так, а по проекту 1913 года с деревянными вокзалом и храмом.
35.
Ближе - огромная товарная станция Чита-1, в народе Дальний вокзал: она открылась в 1897 году, а вот первый поезд к Чите-2 задержало на 3 года наводнение на Ингоде и Хилке. Первая течёт в Амур, вторая - в Селенгу: Чита стоит у Великого Азиатского водораздела, и где-то на том далёком хребте высится гора Палласа (1236м), с которой ручьи текут в бассейны двух океанов (Тихого и Ледовитого) и 3 великих рек - Амура, Енисея (через Байкал) и Лену (через Витим). За горами лежат Арахлейские озёра - целый анти-архипелаг на высоте 930-940 метров из 6 больших (Тасей, Иван, Арахлей, Шакшинское, Большой Ундугун и Иргень) и 20 малых озёр. Они красивые, тёплые и пока ещё богатые рыбой, а потому вся Чита ездит туда отдыхать.
36.
В городе есть и своё озеро Кенон (5х4км), несмотря на загрязнённость по-прежнему богатое рыбой. Ну а трубы ТЭЦ-1 (1960-65) и с этой стороны ограничивают Читу.
37.
Круг почти замкнулся - вот снова Ингода, уходящая за Титовскую сопку, у которой на реке своеобразный фасад - живописные скалы Сухотино:
38.
Леса на склонах сопки же, да и многие деревья по окраинам запомнились мне вот такой гадостью. Не знаю точно, что это за червяк, но по словам местных, раз в несколько лет случаются его нашествия:
39.
Ещё одна деталь пейзажа лучше видна в перспективе улицы Ленина - это шахтный копер. Забайкалье богато углём, и прямо в предместьях областного центра лежит несколько шахтёрских посёлков:
40.
На улицах Читы не покидает ощущение пространственно-временного континуума. Город словно застрял в 1990-х, из которых пытается выйти теперь напрямую в 2020-е, и никогда не знаешь, какой гранью на следующем шаге Чита повернётся к тебе. Центр Читы уютный, даже хипстерский, а на окраинах не стоит злить "смотрящих", и родители, отправляя детей в школу, выясняют, не захвачена ли она АУЕ.
41.
Фасады старых домов Читы цветасты, опрятны и снабжены куар-кодами, но рядом - облезлые пятиэтажки да гнилые избы. Из двух соседних улиц одна может выглядеть почти безупречно, а на другой и асфальта не быть. Изношенностью инфраструктуры и откровенной бедностью большинства жителей Чита напоминает мне скорее областные центры Украины.
42.
И всё же это вполне русский город, и буряты тут заметны не так, как в Улан-Удэ или Иркутске. Хотя и лучшие места, где в Чите можно поесть - несколько позных и пара китайских кафе, которые мой спутник Пётр хвалил со знанием дела, отметив при этом, что кухня тут сугубо северо-китайская без малейших признаков юга. Самих китайцев до Царь-вируса было в Чите как бы не поболее, чем во Владивостоке или Хабаровске - всё-таки и Забайкальск главные ворота Поднебесной, и Маньчжурия - самый крупный и богатый из китайских городков, разросшихся в 21 веке на приграничной торговле.
43.
Грубоватый колорит земли казаков и каторжников проявляется в вывесках:
43а.

В инсталляциях есть что-то от куража старых купчин:
44.
А вместе с ними и такой подзабытый розовенький гламур "нулевых". Длинноволосые неформалы в Чите тоже совсем как из того десятилетия, и только чёрные косухи, берцы да банданы машина времени не дала им взять с собой:
45.
В центре Читы погожим днём неожиданно много уличных музыкантов:
46.
Только здесь это не коллективы, играющие почти что концерты, а просто юноши и девушками с гитарами, вышедшие спеть на миру да поймать немного монет в снятую кепку.
47.
Их приятно не только слушать, но и видеть: я бы включил в Читу как минимум в топ-3 российских городов с самыми красивыми девушками.
48.
Вернее, "красивые" - слово не совсем то, более подходящая характеристика - видные. Легко и заманчиво одетые, с громкими голосами и резким смехом, не стесняющиеся своей красоты в суровом краю, не боящиеся пошлости и не знающие слова виктимблейминг:
48а.

А ещё - не робкого десятка. Вот скажем особа с кадра выше, судя по теме разговоров учащаяся на медика, добрых 20 минут, что мы ехали с ней в маршрутке, рассказывала кому-то в телефоне байки в духе "нашли в голове нож" или "наблевал полную раковину крови и помер", но с таким огоньком, что можно было заслушаться.
49.
Маршрутки в Чите основной транспорт, и ехать в них часто приходится стоя, упираясь головой в низкий потолок. На кадре выше, однако, виден троллейбус - система пущена в 1970 году и пока живёт. Вероятно, потому что в Чите есть:
50.
Ну а красоту здешних девушек многие связывают с тем, что Чита была центром военного округа, столицей бесчисленных гарнизонов в даурских степях, где служили сотни тысяч военных со всего Союза, обновившие и раскрасившие местный генофонд. Военную ипостась Чита не утратила и ныне, и по крайней мере в дни нашей поездки то и дело сквозь шум машин прорывался рёв военных самолётов (в данном случае - бронированных штурмовиков Су-25 "Грач" вроде того, что в 2015 году сбили турки):
51.
Почти все места из следующих частей мы уже видели с Титовской сопки. И дальше погуляем у вокзала и по улицам Амурской и Анохина.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Чита. Колорит и виды.
Чита. Чита-2 и Амурская улица.
Чита. Площадь и улица Ленина.
Чита. Разное в центре.
Чита. Чита-1 и по Транссибу на запад.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности. Здесь же - о людях Забайкалья: исчезнувших мурченах, гуранах и этике общения с ними.
Нерчиский Завод. О рудниках.
По диким степям Забайкалья. Об исторической каторге и добыче золота в прошлом и настоящем.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.
Кондуй.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: невольничье Сибирь транспорт дорожное деревянное шахтёрское |
Кондуй. Церковь Чингисхана. |
Забайкалье - один из самых русских регионов Сибири, где коренные народы остались разве что топонимикой да памятью гуранов о своих предках. Нащупав здесь первые в стране серебряные рудники, ещё допетровская Россия вцепилась в этот мрачный угол крепко, заселив казаками и каторжниками. Но что-то ведь было тут и до них? В завершение рассказа о даурской глубинке отправимся в Кондуй - крупное (500 жителей) село в тупике дороги в 70 километрах от показанной в прошлой части Борзи. Там сохранилась церковь, сложенная из обломков монгольского дворца.
Самый дорусский пласт Забайкалья - это, конечно, природа. В июне, когда пади и сопки покрывают нежно-зелёные травы, а на лугах искрятся разнообразные цветы, она кажется вполне дружелюбной. Но это потому, что ездить в Забайкалье стоит, наверное, только в июне: как шутят местные, тут дерзко-континентальный климат. Лето Даурии жаркое и душное, в одни годы сырое, а в другие - с долгими засухами, когда с весны до осени не падает ни капли дождя. Зимой - морозы и ветра за 40 (градусов и метров в секунду), а суточные перепады температур могут превышать 30 градусов. При всём том, Даурия - самый солнечный угол России, где порядка 300 ясных дней в году. Только дни эти, кажется, как раз не в июне: над нами неизменно ходили безумно красивые облака, порой прорывавшиеся ливнями и грозами. Осадки здесь тоже не знают меры, и паводки вроде того, что преградил нам путь из Нерчинска в Нерчинский Завод, случаются на разных здешних реках регулярно. В общем, не стоит удивляться тому, что дорусское Забайкалье не было многолюдным, и даже его коренные жители мурчены (конные эвенки, о которых я подробно рассказывал здесь) - кочевники, но не скотоводы. Они разводили только коней, а еду добывали охотой: степи Забайкалья изобиловали живностью тогда, как саванны доколониальной Африки. Стада дзеренов порой забредают из Монголии и теперь, да и в принципе если кто и стал тут лучше жить после распада Союза и запустения деревень - то это дикие животные: в последние годы численность здешних копытных волки регулируют как бы не интенсивнее людей. В прошлом символом Забайкалья определённо считалась сибирская косуля, или гуран, и к местным старожилам это название приклеилось примерно по тому же принципу, что "тамбовские волки" или "русские медведи". Однако живой мир Даурии - это в первую очередь птицы: в Забайкальском крае встречается 40% всех видов пернатых России. Символом региона в ХХ веке стал даурский журавль, расцветкой головы и шеи напоминающий то ли шамана, то ли тунгусского князя. Их всего порядка 5 тысяч особей (причём основное их место зимовки - полоса отчуждения меж двух Корей), и мы видели этих птиц только в виде чучел под потолками музеев. Но потрёпанных да набитый опилками даурский журавль явно больше соответствует нынешнему Забайкалью, чем живой...
2.
И всё же люди пришли в этот неласковый край очень давно - с глубокого каменного века в даурских степях сменили друг друга десятки археологических культур, уже 12 тысяч лет назад освоив керамику. Незадолго до начала новой эры из них выделились две общности - монгольская и маньчжурская. Даурия переходила то к одним, то к другим, и на деревьях её лесов археологи находили следы древнеманьчжурских "воздушных погребений", а в степях - протмонгольские плиточные могилы, создатели которых так и называются теперь в науке - "культура плиточных могил". Вот в музее Нерчинска одна из их находок - ритуальный сосуд-трипод:
3а.

Главное наследие той эпохи - бронзовые зеркала, удивительно похожие на скифские амулеты от Крыма до Алтая:
3.
Китайцам все эти народы были известны как просто Дунху - "восточные варвары", самыми грозными из которых считались мохэ - древние маньчжуры, по образу хозяйства похожий на тех же мурченов, из всех животных полагавшихся лишь на коня. На западе их соседями были хунну, по-нашему говоря гунны - ещё один конгломерат племён, часть которых также говорила на монгольских языках, а часть стала предками тогда ещё не сформировавшихся тюрок. Городища и захоронения той эпохи археологи безошибочно узнают по берестяным туескам характерной формы:
4а.

Разгромленные первым гуннским императором Модэ во 2 в. до н.э., Дунху рассеялись по Маньчжурии. Самым крупным их осколком стало монгольское племя, известное из китайских хроник как Сяньби по ставшим для него убежищем горам Сяньбишань у корейской границы. С 45 года нашей эры они были известны как союзники гуннов в набегах на Китай, однако степные империи всегда отличала недолговечность: хунну слабели, сяньби - крепли, и вот в конце 2 века сяньбийский дажэнь (вождь) Таньшихуай объединил сяньбийских вождей и ненадолго стал гегемоном Великой Степи. Сяньби разгромили гуннов, остатки которых ушли на запад, собрав вокруг себя множество прототюркских, иранских и даже финно-угорских племён со всей Великой Степи, которые пару веков спустя обрушились на Европу. Покорить Китай Таньшихуай не успел, но сломал хребет его армии и надломил самую долговечную в китайской истории империю Хань. Даурия же в грандиозных войнах оставалась глубоким тылом, богатым захолустьем, а главными артефактами той эпохи стали наборные пояса - вот тут слева гуннский, справа сяньбийский:
4.
Империя Сяньби оказалась скоротечной даже по меркам Великой Степи. Да и государством она не являлась в полном смысле этого слова: в ней не было даже системы налогообложения, лишь добыча набегов, которую военачальники могли использовать для военных нужд. Сын умершего в 181 году Таньшихуая Холян был убит китайским самострелом у Великой стены. Его брат-регент Куйту не пожелал отдавать трон подросшему племянник Цяньманю, и их война в 240-е годы разрушила империю Сяньби и развеяла их самих по степных просторам. В 5-6 веках Евразию переворошило Великое переселение народов, в ходе которого монгольские кочевники ушли из Забайкалья. Остались лишь те, кто освоил земледелие - предки дауров, по которым эта земля и получила от русских казаков своё название (см. Албазин). Но те жили больше в Амурских прериях, где климат помягче, а почвы пожирнее. Степи Забайкалья же занял народ увань, по-нашему говоря - эвенки в своей конной, мурченской ипостаси. Их предки жили вокруг Байкала, откуда с нашествием тюрок-курыкан (см. Ольхон) разбрелись кто по тайге до Охотского моря, кто по степям за Аргунь. Подобно кавказским горцам, государство построить мурчены так и не сумели, однако шороху на соседей наводили порядочно, и даже грозные кидани, очередной монгольский союз, построивший в 10 веке за Аргунью империю Ляо, предпочёл отгородиться от тунгусов системой земляных стен с редкими 4-угольными крепостями. Теперь эти укрепления известны как Чингисхановы валы, и по степям вокруг стыка границ России, Китая и Монголии тянутся они на сотни километров. Тунгусы и оставались тут хозяевами вплоть до русской эпохи, ну а под властью славян да немцев монгольское начало вновь возобладало над тюркским. Ещё в 16 веке в Забайкалье пришли из глубин Маньчжурии хори-буряты, от которых отделилось фактически новое племя агинских бурят (см. Агинское), и в 18-19 столетиях мурчены без следа растворились среди двух народов, образовав среди них два субэтноса - русских гуранов и бурят-хамниган. И если Нерчинские рудники - угол чисто гуранский, то ближе к Борзе и Оловянной начинают появляться бурханы и ступы:
5а.

...Места на маршрутке Нечинский Завод - Чита бронируются заранее по телефону, и если народу много - из Нерзавода просто уходят два микроавтобуса вместо одного. Оплата, по крайней мере для очевидно неместных - только на весь маршрут, то есть порядка 1200 рублей, но познакомившись с тяжёлым (из-за бездорожья, пустынности и общей недоверчивости местных жителей) забайкальским автостопом, мы решили не экономить. Обычно маршрутка ходит через Нерчинск, однако то наводнение, из-за которого нам пришлось добираться до Нерзавода через показанный в прошлой части пограничный Приаргунск, тут оказалось нам в помощь - маршрутка ехала через Борзю. Километрах в 20 до неё, успев подружиться с половиной салона (подозрительность забайкальцев сменяется панибратством быстро), мы сошли посреди ветреной степи да забрались на огромную насыпь. Это часть описанной в прошлой части новой железной дороги Нарын - Газимурский Завод, проложенной в 2008-15 годах через старые Нерчинские рудники к новым ГОКам. На ней есть 5 станций, но пассажирского движения нет - это в чистом виде подъездной путь для вывоза полиметаллов. Для нас эта насыпь - как стена, отделяющая затерянный мир: здесь уходит почти параллельная трассе грунтовка в глубь степной долины, на которой стоят всего два села, дальнее из которых - Кондуй.
5.
Мы готовились к долгим зависам и даже купили в НерЗаводе две 5-литровые баклаги воды на случай внепланового ночлега в палатке вдали от источников. Однако к моему удивлению, в этой глуши автостоп оказался куда легче, чем на основных дорогах. А может просто дух Чингисхана был рад нам как своим гостям: все 3 водителя, подвозивших нас по Кондуйской долине, были не местными. Туда нас вёз сначала командированный землемер из Читы, потом - буряты-корнекопатели из Агинского. На обратном пути же рано утром машина сперва промчалась мимо нас, но метрах в 100 затормозила и вернулась задним ходом. В ней сидели две стройных девушки с приятными лицами, оказавшие матерью и дочкой. Старшая, звали её Наталья, была родом из Борзи, но несколько лет назад уехал в Кондуй - её муж и отец решили податься в фермеры, она сама же была ни кем иным, как представителем потомственной интеллигенции. И в Борзе её сестра Елена Чемусова стала районным министром культуры, а сама она в Кондуе занялась краеведением и организацией событий. Большинство сведений о том, что видели мы по дороге, я записал с её слов. Вот скажем крутой поворот, известный как Узкое место - ни что иное, как местный бурхан (шаманская святыня), где входящие в долину и выходящие из неё останавливаются, чтобы выразить уважение её духам.
6.
За Узким местом раньше был прекрасный лес, несколько лет назад сгоревший. В степях Забайкалья это частая беда - я уже показывал прореженный пожарами Цасучейский бор на родине Чингисхана. А вот чуть дальше у дороги странно выщербленный камень, у которого, по местному преданию, семёновцы расстреливали красных партизан:
7.
Километрах в 25 от поворота встречает Цаган-Олуй - крупное по местным меркам село:
8.
Его название можно было бы перевести как Белогорское, но дело в том, что по-бурятски это звучало бы Цаган-Уула. Казаки поставили тут пост в 1724 году, взяв у кочевников название, но переиначив его на свой лад - всю свою историю тут говорили по-русски. Русская здесь, увы, и демография - в 1902 в Цаган-Олуе жило без малого 2 тыс. человек, в 1989 - 1,5 тыс., сейчас - около 600.
9.
Об этом напоминают странные леса пеньков. Паводки на здешних ручьях не редкость, поэтому многие избы и лабазы в Цаган-Олуе ставили на небольших сваях. Их основания - всё, что осталось от исчезнувших домов:
10.
На водонапорной башне - чей-то крик души: почти нигде в Кондуйской долине не ловит мобильная связь, которую уже не первый год обещают сделать тут с года на год.
11.
На краю села - дом с пирамидальной крышей, где живёт явно солидный человек, уж не знаю, на чём тут преуспевший:
12.
А под высоким крестом на кладбище, висящем над селением...
13.
...покоится его сын, в 2008 году убитый на дороге.
14.
С другой стороны над Цаган-Олуем нависает несколько массивов скал, которые даже издали чрезвычайно живописны. А вблизи, судя по чужим фото, там можно найти даже каменную арку, как на Алханае или Нухэ-Дабане.
15.
Одна из этих скал называется Карымской, как и станция недалеко от Читы. Изначально гуранами считали только тех, чьими предками были тунгусы, русско-бурятские метисы же были известны в Забайкалье как карымы. В итоге первое слово стало обозначать всех русских старожилов Даурии, а второе практически сошло на нет. Но судя по названию скалы, старый процветающий Цаган-Олуй населяли именно карымы:
16.
Красивых скал в этой долине в принципе немало, а в пади Цорен есть пещеры и наскальные рисунки, которые ещё Окладников изучал:
17.
Там, где сопки расступаются, видны далёкие сёла соседних долин и станции Приаргунской железной дороги. Они куда ближе, чем Борзя, но это другой район, а значит прямой путь не всегда самый быстрый. Реже открываются виды на север, на трассу, которой мы приехали. Глядя туда, Наталья рассказывала нам о стоящем с другой стороны трассы селе Курунзулай с весьма впечатляющими руинами деревянной Преображенской церкви (1895):
18.
Но то было утром, а вечером корнекопатели высадили нас за пару километров до Кондуя, свернув куда-то к потайным делянкам в степь. Мы побрели вдоль дороги, у которой старинное село встречает неожиданно аккуратным кладбищем:
19.
И пьяной надписью на въездном знаке:
19а.

В степи колышутся стада, совсем как при монголах. Умирание тут соседствует с возрождением - так, отец нашей водительницы Николай Чемусов в 2013 году натурально основал на базе своей фермы "Чинам" село, официально включённое в список населённых пунктов. Оно так и названо - Чемусово, но прописанных жителей там пока нет.
20.
Ну а вот впереди и наша цель - Кондуй:
21.
С бурятского его название можно перевести как "конец долины" - это тупик дорог. Но может быть поэтому Кондуй стоит как-то особенно крепко, уж по крайней мере участки занимают в нём больше места, чем пустыри. По словам Натальи, народ в Кондуе "недружный" - на чужаков тут смотрят отстранёно, на жителей соседних селений - свысока, а друг на друга - помня старые обиды. Кондуйцы живут по принципу "мой дом - моя крепость", являя собой такую особую забайкальскую вариацию куркулей. Старых изб и красивых домов в селе мало, но и не ради них мы забрались сюда:
21а.
Ещё в 1675 году русский дипломат молдавских кровей Николай Спафарий проезжал этой долиной в Китай да приметил в ней руины каменного города со множеством заброшенных палат. О них же знали и хори-буряты, считавшие Кондуй-городок домом Бальджин-хатун, что привела их сюда из Маньчжурии и за это была убита маньчжурскими вассалами солонгутами. Первый план городища составил в 1798 году горный инженер Пётр Фролов (см. Змеиногорск), позже его изучали первый забайкальский журналист Василий Паршин (1835) да освободивший с каторги активист Алексей Кузнецов - тот самый, что убил в Москве студента Иванова и вдохновил Достоевского написать "Бесов". Наконец, в 1957-58 годах Монгольская археологическая экспедиция Сергея Киселёва однозначно установила, что это был монгольский город, населённый в 13-14 веках. Он разросся вокруг дворца, похожего на дворцы Удэгэя в Каракоруме и Хубилая в Дайду (Пекине), то есть тут жил какой-то очень крупный монгольский феодал. Скорее всего - Исункэ, племянник Чингисхана: его имя высечено на стеле, найденной в 1830 году в соседнем Хирхиринском городище и увезённой теперь в Эрмитаж.
22а.

Но больше всего впечатляет предание о том, что в Кондуйском дворце был и сам Чингисхан... правда, посмертно: 11 месяцев дворец служил временным мавзолеем Потрясателя Вселенной, пока на его малой родине в Делюн-Болдоке искали место для погребения да отводили в сторону русло Онона, чтобы устроить могилу на речном дне. Делюн-Болдок - родина Чингисхана наиболее достоверная, предположение о захоронении полководца по месту происхождения - сугубо логическое, так что это предание из серии "могло быть, а могло и не быть". И хотя Монгольская империя простояла впечатляющую по меркам Великой Степи сотню лет, всё же и её дворцы поросли бурьяном. Кондуйский дворец, к тому времени скорее всего служивший укрытием для пастухов, сгорел где-то в 15 веке. В нескольких километрах от него в 1720-х годах появился военный пост, к 1773 году разросшийся до селения. Первыми жителями его были братья Эповы - Иван, Фома, Прокопий, Василий и Афанасий, попавшие в Сибирь с Вологодчины. Для древнего города всё это было фатальным - об исторической ценности руин тогдашние казаки и крестьяне не думали, зато им было больно видеть, как пропадает такая куча стройматериалов! Бурятские ламы сложили из здешних белокаменных плит крыльцо Цугольского дацана и украсили своей резьбой капители дворцовых колонн, поставив их там же. Ну а в Кондуе казачий урядник Симеон Эпов завещал своей жене Марии и сыну Василию построить после его смерти храм. В 1805 году в село прибыл нерчинский зодчий Кирилл Суханов, и к 1815 году из обломков монгольского дворца была сложена церковь Кирика и Улиты с так и не достроенным приделом Рождества Богородицы на боку:
22.
Русская сельская церковь, построенная из обломков дворца Чингисхана - пожалуй, это точка, финальный аккорд, контрольный выстрел в борьбе Руси и Орды.
23.
Хотя, справедливости ради, визуально Кондуйский храм скорее разочаровывает. Во-первых, он очень маленький, немногим крупнее окрестных изб. Во-вторых, я ожидал почему-то увидеть белокаменную постройку с фрагментами орнаментов и драконами, но оказалось, что большая часть церкви всё-таки из кирпича:
24.
Лишь в её фундамент уложены плиты да основания колонн, причём последние - в основном на ребро: рискну предположить, что Суханов проектировал именно кирпичную часть, а основание клали селяне, ни разу в жизни не видевшие каменных зданий.
25.
Но больше всего впечатляют Ангелы. Не знаю, кого для монголов символизировали эти фигурки во фризах и балюстрадах Кондуйского дворца, похожие где-то на орлов, где-то на человечков со звериными головами:
25а.

Но на церкви это однозначно рой ангелов, благостное пение которых само отдаётся в ушах:
26.
Церковь совершенно заброшена, а разговоры о её реставрации тянутся год за годом:
27.
Хотя в трапезной стоят откидные кресла из продранного дерматина, а в нишах и на стенах иконы - в заброшенном храме тоже можно служить:
27а.
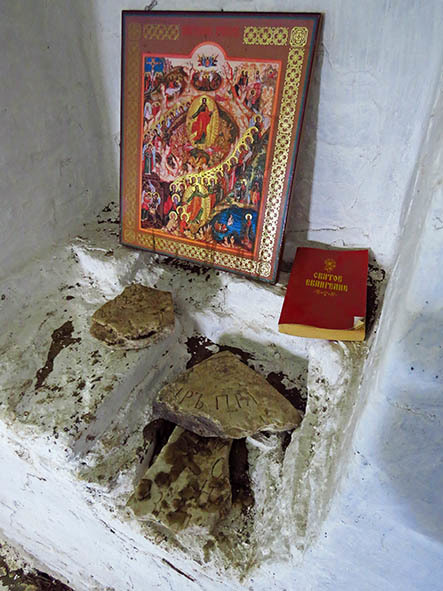
Алтарь на монгольской колонне:
28.
Не знаю, что было здесь в советское время, наверное какой-нибудь склад. Зал церкви разбит на два этажа:
28а.

И чтобы снять кадр выше, надо было подняться по лестнице:
29а.

Наверху мы даже подумывали заночевать, чтобы выбраться из Кондуя утром:
29.
Но сперва я всё же решился пройтись по селу:
30.
С холма над храмом впечатляющие виды. Вон, позади - дно долины, где-то посреди которого и стоял Кондуйский городок:
31.
Село же расположилось там, где долина начинает повышаться, и в том, что такой выбор места очень правильный, мы ещё убедимся:
32.
Вдали - и сам Конец Долины. Горка, на которую я поднялся, известна как Бурятская сопка - когда бурят и карымов тут было много, на ней порой проходили тайлганы (шаманские молебны). Теперь сопку венчает вышка, на которой, по словам Натальи, вот-вот заработает сотовый ретранслятор.
33.
И красноармеец на местном воинском мемориале - ни дать ни взять Гэсэр!
34.
Мемориал стоит в ограде не по-сельски огромного Дома культуры, куда местные жители начали приглашать и нас - внутри есть музей:
35.
А заодно указали ещё один "монгольский" камень, лежащий у забора перед руинами коровника:
36.
Пока мы брели по селу - местные демонстративно даже не глядели в нашу сторону. Но - всему своё время! По вторникам и пятницам утром и вечером из Борзи в Кондуй ходит маршрутка, которой тут ждут как теплохода в Антипаюте или вертолёта на Вайгаче. На площади между храмом и Домом культуры собралась, натурально, половина Кондуя от сельских гопников и забулдыг до интеллигентных женщин из дворца культуры и очень симпатичной детворы. Люди съезжались на мотоциклах, машинах и даже в телеге-двуколке. Провожающие и встречающие - я был уверен, что утром маршрутка едет в райцентр, а вечером возвращается сюда, но как оказалось - оба рейса совершаются туда-обратно из Борзи.
37.
Мы понимали, что в музей уже не успеем, а нас уже приглашали на "Кондуйское городище" - исторический фестиваль, что проходит с 2019 года в конце июля на руинах монгольского города. Фестиваль и приучил местных к тому, что чужаки безобидны, а как-то реагировать на них совсем не обязательно. Ну а организаторами его были всё те же сёстры Чемусовы - Елена в ведомствах и кабинетах, а Наталья, неофициально - на земле. До июля оставаться мы, конечно же, не собирались, но всё же после разговора с сотрудницами ДК я понял, что нам надо ехать на Кондуйское городище, а там, вдали от населёнки, ставить палатку да ночевать. Последним аргументом в пользу такой идеи стала загадочная полоса сотовой связи с каких-то окрестных сопок: в селе сигнала вообще нет, а вот в районе городища он почти идеален.
38.
Найти бывший город в голой степи не так-то легко - от Кондуя это 7 километров в сторону внешнего мира, и главный ориентир тут - крутой, почти под прямым углом, поворот. По правую руку (если ехать в Кондуй), то есть на юге, на фоне села Ковыли у станции Арамогойтуй, можно различить в степном пространстве одинокий обелиск:
39.
К ним и направились мы по раскисшей тропе с глубокими лужами, в иных из которых плавала рыба:
40.
Засохшими рыбками была усеяна и сама тропа - это последствия всё того же наводнения, прорвавшего в том числе рыборазводный пруд одного из местных фермеров.
41.
Городище, обычно сухое и уютное, паводок превратил в хлюпающее болото, из которого на нас как дикая орда налетела злющая комарилья. Покусанные, надышавшиеся дэтой да с мокрыми ногами мы взобрались на ставший островом вал и поставили там палатку:
42.
Тут стоял вполне серьёзный город - всё городище имеет размеры 1,5км на 900 метров. Дворец Исункэ в его середине был выстроен в виде креста на 2-метровой насыпи размером примерно 100 на 60 метров. Он состоял из парадных ворот, дворика перед входом, и трёх залов - входного длиной около 15 метров, поперечного для ждавших аудиенции посетителей, и тронного, где заседал хан с приближёнными.
42а.
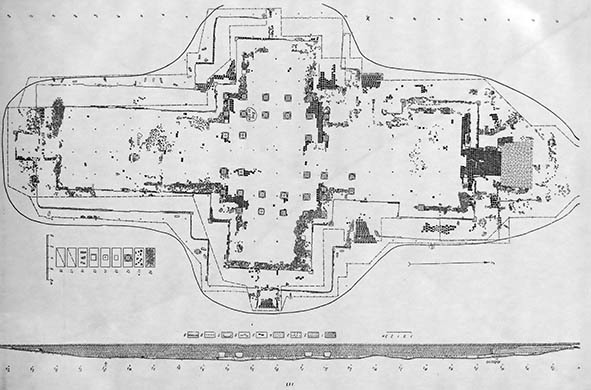
Примерно так всё это выглядело снаружи:
43а.
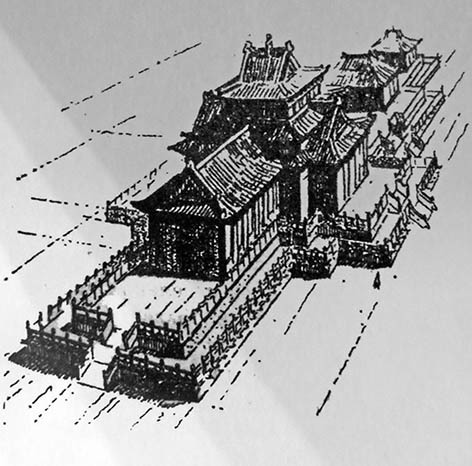
Строили дворец, само собой, китайские мастера, что в общем видно по его архитектуре - парящие кровли, изукрашенные водостоки и 125 скульптур, самыми примечательными из которых были головы драконов. Одна из них ещё в 19 веке попала в Нерчинский музей, а больше всего артефактов хранится, конечно же, в Борзе (фото есть здесь) - но тамошний музей в день нашего визита оказался без причин закрыт.
43.
От стен дворца следа не осталось, а вот под землёй археологи откапывают то полы из цветных плиток, то фундаменты колонн. Первые по окончании сезона закапывают обратно, а вот вторые белеют в высокой траве, выдавая расположение поперечного зала - в нём было 20 колонн, разделявших 6 нефов:
44.
Вокруг дворца остатки ещё нескольких построек, так же превратившиеся в травянистые бугры:
45.
А земля усеяна обломками былого:
46.
Следы краски на кирпичах и плитках напоминают, что когда-то залы дворца украшали богатые росписи:
47.
Крышу покрывала разноцветная поливная черепица - вот её фрагменты в музее Агинского:
48.
На городище опускались сумерки, а я, пользуясь отличной связью, писал письма домой да отправлял туда фотографии этой сказочно красивой степи. Утром в палатке Пётр рассказывал мне о каких-то ощущениях на границе сна и яви - кто-то словно тыкал ему в лицо волосатым клювом да по-каторжански обращался "Начальничек!".
49.
Такова Даурия, красивый и жестокий край. В завершение рассказа - её цветы, обильные по всем степям, и в том числе на этом городище:
50.
51.
52.
Дальше было бы логично рассказать про Агинский Бурятский (уже не автономный) округ, но я про него уже рассказал.
Безусловно, стоило сделать отдельный обзор по всему Забайкалью - по степени инаковости что в природе, что в культуре, что в реалиях оно достойно иных постсоветских стран или хотя бы очень самобытных регионов вроде Сахалина. Но теперь и в этом смысла нет - всё и так рассказано в других постах из оглавления.
И всё же не находите ли, что в описании Забайкалья мы кое-что забыли? Ах, да - в следующих 4-5 частях расскажу про Читу!
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Чита. Колорит и виды.
Чита. Вдоль Транссиба.
Чита. Улица Бутина.
Чита. Улицы Ленина и Амурская.
Чита. Разное.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности. Здесь же - о людях Забайкалья: исчезнувших мурченах, гуранах и этике общения с ними.
Нерчиский Завод. О рудниках.
По диким степям Забайкалья. Об исторической каторге и добыче золота в прошлом и настоящем.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.
Кондуй.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Великая Степь Сибирь природа дорожное |
Борзя и Приаргунск. Пограничное состояние. |
Первыми русскими людьми в диких степях Забайкалья были не каторжники, а казаки. Друг друга эти две категории граждан, мягко говоря, недолюбливали, но в единстве и борьбе противоположностей стали двумя гранями одного сурового угла. С каторгой в Даурии неразрывно связаны серебряные рудники и золотые прииски, преемником казачества же можно считать Забайкальский военный округ, чью аббревиатуру ЗабВО советские офицеры расшифровывали как "Забудь вернуться обратно". С даурским пограничьем я познакомился в городке Борзя (29 тыс. жителей) и ПГТ Приаргунск (7 тыс. жителей) по разные стороны показанного в прошлой части уранового Краснокаменска. Все они связаны сетью железных дорог, разросшихся в разные стороны от Китайско-Восточной магистрали.
Я почти всегда предпочитаю географический порядок сюжетному, но кажется нигде логика рассказа не была так далека от логики путешествия, как в Забайкалье. О наших с Петром похождениях по диким даурским степям я рассказывал в обзоре поездки, но если совсем уж вкратце, то из-за паводка на притоках Шилки мы добирались из Нерчинска в Нерчинский Завод через Читу, откуда ночным поездом уехали в Приаргунск и продолжили путь автостопом. Автостоп вышел столь тяжким, что покидать Нерзавод мы решили на читинской маршрутке, которая из-за того же паводка ходила в те дни не через Нерчинск, а через куда более актуальную для нас Борзю. И лишь из Борзи мы двинулись в Краснокаменск, откуда ночным поездом вернулись в Читу. Так что сегодняшние сюжеты Даурии я показываю не то что в обратном порядке, а просто вперемешку - по мере удаления от Читы.
2.
Борзя, что стоит в 350 километрах юго-восточнее краевого центра - самый солнечный город России, где ясных дней не менее 300 в году. Однако не этим она с недавних пор известна "всякому здравомыслящему человеку(тм)" - Борзю посетил целый Варламов и припечатал худшим городом России. Резкое, какое-то злое, неприятное уху название не добавляло позитивных ожиданий. Окраины Борзи встретили нас зелёными бульварами... без асфальта и тротуаров и с высокими заборами частного сектора по бокам:
3.
Но подъезжая к Борзе, я был настроен благожелательно - близ древнего Кондуя нас подобрала лучшая попутка всего забайкальского вояжа. Вела её интеллигентная симпатичная женщина, когда-то перебравшаяся в Кондуй отсюда, а в городе её сестра - районный министр культуры. Водительница рассказала нам много интересного, а привезла прямиком в краеведческий музей, расположенный в специально построенном в 1976 году деревянном здании. По её словам, музей тут действительно интересен своими археологической и палеонтологической коллекциями, где соседствуют динозавры и драконы - из Харанорского угольного разреза и руин Кондуйского дворца соответственно. Но музей без видимых причин оказался закрыт - то ли из-за начинавшегося локдауна Третьей волны, то ли просто потому, что здесь никого не ждали. Не сумев дозвониться сестре, обескураженная водительница попрощалась с нами, а мы побрели смотреть город.
4.
Мы оказались в самом что ни на есть историческом центре Борзи, который представлен десятком деревянных домов. И хотя до Нерчинских рудников отсюда сотни километров, история Борзи также индустриальна. В 1727 году, когда была утверждена та часть русско-китайская границы, которая теперь российско-монгольская, на Борзе-реке возник сторожевой пост. Вот только стоял он в сотне километров от границы, ближе к которой в степи лежат накрытые в 1987 году Даурским заповедником озёра - солёный Зун-Торей и горько-солёный Барун-Торей за узкой перемычкой. Соль тамошняя была не сказать чтобы очень качественная, но всё же это была соль - огромные пространства Сибири способствовали тому, чтобы не считаясь с качеством производить всё необходимое на месте. С 1756 года на озёрах появился соляной промысел, куда в 19 веке заходили даже братья Бутины из своего Нерчинского Версаля. К концу 19 века в Борзе числилось 226 жителей в 4 домах и 40 юртах.
4а.

Однако в 1892 году цесаревич Николай вернулся дикими степями Забайкалья из своего вояжа по азиатским странам, и как мечтатель во главе страны с кучей проблем, задумался о Большом Азиатском проекте. Два года спустя он взошёл на престол, и когда в 1897 году Транссибирская магистраль доползла до Забайкалья, в её план внезапно были внесены коррективы. Старый вариант вдоль Шилки и Амура кончился тупиком в Сретенске, а новую Китайско-Восточную железную дорогу из Читы (вернее, от станции Карымской в сотне километров восточнее) на Владивосток было решено проложить прямо сквозь сопки Маньчжурии в полной уверенности, что скоро там очередному генерал-губернаторству - быть! В 1899 году к борзинским юртам и избам добавились бараки путейских строителей, а открытие станции состоялось 9 мая 1900 года. Посёлок при ней изначально назвали Суворовским - в честь 100-летней годовщины смерти великого полководца. Вот только умер Александр Васильевич 6 мая 1800 года, а потому и название, видать "не прижилось", уже к концу года исчезнув даже из документов. В начале ХХ века в Борзе жило 1,5 тыс. человек, и эти дома - видимо, из той эпохи:
5.
Ещё интереснее, если это позднесоветские стилизации - как и музей, школа искусств с кадра выше открылась в 1976 году, а в списках памятников архитектуры не значится.
6.
Улица Пушкина, на которой они стоят, вывела нас на самую, пожалуй, пыльную и мрачную площадь Ленина, которую я только видел:
7.
С одной её стороны - администрация, с другой - внушительный ДКЖД с паровозом-"лебедянкой" из Коломны (1953). Построены, что характерно, здание и машина были почти одновременно, но встретились только в 2017 году:
8.
За ДК лежит местный парк Победы, куда нам стоило бы зайти - тамошний мемориал "Журавли" (1983) интересен тем, что во-первых журавли на нём конечно же даурские, а во-вторых - что взлетают они прямо с земли, словно вокруг Вечного огня приземлялись. Увы, всё это описание - по единственный на весь рунет фотки в "Одноклассниках", а мы то ли забыли свернуть туда, то ли оставили это на потом, ещё не зная, что "потом" не будет.
9.
От звёзд с кадра выше мы свернули направо, и мимо рынка направились на вокзал:
10.
На последней перед железной дорогой улице Лазо - сталинские ворота городского сквера:
11.
Церковь Сергия Радонежского (2014):
12.
Да ещё один мемориал, история которого с сайта Борзинского музея впечатляет как сюжетом, так и изложением (орфография сохранена): "9 мая 1975 года на улице имени С.Лазо в связи с 30-летием Победы был торжественно открыт памятник в честь 6-й гвардейской танковой дивизии. На высоком постаменте был установлен танк ИС-3. И барельеф с путем боевой славы прославленой дивизии. Сейчас на этом постаменте стоит танк Т-34. Все началось с того, что летом 2009 года стало известно о леквидации выставочной площадки 36-й армии, а впоследствии и о ее переводе в Бурятию. решением председателя городского совета, и входе судебных разбирательств танк был орестован, а 9 апреля он уже был установлен в парке ОДОРА г.Читы. В Борзе же на его место был установлен танк Т-34 как более достоверно отображающий технику 6-й гвардейской дивизии в годы войны."
13.
Танк стоит напротив ГОКа - тут это не горно-обогатительный комбинат, а Городской офицерский клуб 1930-х годов, изначально бывший штабом армии. Обстановка на здешней границе, со времён Нерчинского (1689) и Кяхтинского (1727) договоров спокойная, как мало где на границах России, начала накаляться ещё в 19 веке. Цинский Китай к тому времени неуклонно сползал в глубокий упадок, но при этом по-прежнему мнил себя империей маньчжур, запрещавших ханьцам селиться в своей вотчине. Те всё равно перелезали через Ивовый палисад, и к середине столетия составляли уже большинство населения Маньчжурии, при этом находясь в ней нелегально. Многие сбивались в разбойничьи шайки хунхузов, разгул которых можно было бы сравнить с набегами степняков. Не указ хунхузам была и русская граница, и для образованного в 1851 году Забайкальского казачьего войска они стали проблемой гораздо хуже беглых каторжан. Сама же Маньчжурия выглядела явно бесхозной землёй, судьбу которой Россия решила не с Китаем (разок введя в него войска при подавлении Боксёрского восстания), а с Японией, да и ту недооценивая фатально. И хотя по итогам русско-японской войны Северная Маньчжурия осталась в российской сфере влияния, было ясно, что полдень Страны восходящего Солнца лишь впереди. В 1918-20 годах японские интервенты дошли до Байкала, и изгнать их дипломатически, не дав casus beli забрать оккупированную зону себе, было весьма нетривиальной задачей. Тучи над границей ходили всё более хмуро, и уже в 1929 году, во время конфликта с "белокитайцами" за КВЖД Забайкалье оказалось тылом Красной Армии. Когда же в Маньчжурию вернулись самураи, готовые в любую ночь перейти границу у реки, стало ясно, что пора учреждать Забайкальский военный округ, образованный в 1935 году. Здешняя граница не отметилась таким количеством инцидентов и провокаций, как дальневосточная, и всё же за Хасаном (1938) в 1939 году последовал Халихин-Гол. В 1941-47 годах округ превратился в Забайкальский фронт, двинувшийся за Аргунь летом 1945-го. Свой окончательный вид ЗабВО принял к 1953 году, охватив две области (Читинскую и Иркутскую) и две республики (Бурятию и Якутию). Ещё говорят, что в округ входила Монголия - но речь тут, конечно же, не о стране и её вооружённых силах, а о многократно превосходивших их числом и оснащением гарнизонах Советской Армии. Расцвет ЗабВО наступил в 1960-е годы, когда Китайская компартия из "братьев навек" превратилась в "клику шовинистов". Зная склонность китайцев наступать малыми группами по 5-7 миллионов человек, Советы сделали Забайкалье одним из мировых центров военной силы. К концу 1980-х здесь стояли 4 армии (3 общевойсковых и 1 воздушная) и десятки военных соединений поменьше - всего 260 тыс. человек.
14.
Штаб округа располагался в Чите, ну а Борзя и соседняя Шерловая Гора в 1941 году стали сердцем 36-й армии, охранявшей большую часть диких степей Забайкалья. Говоря "ЗабВО" в обиходе, по умолчанию военные обычно подразумевали именно её, чаще всего - криво ухмыляясь. Худшим местом службы, чем Забайкалье, считались разве что полярные архипелаги да Афганистан. С первыми Забайкалье роднил климат - зимой эти степи немногим дружелюбнее Арктики, и к погоде "40 на 40" (мороз 40 градусов и ветер 40м/с) не каждый был в силах привыкнуть. Афганистан же Забайкалье напоминало тем, что под солдатами тут горела земля: в каторжном краю людей в погонах никогда не любили, но представьте, какой эффект произвело нашествие десятков тысяч молодых, в подавляющем большинстве холостых, а в случае офицеров ещё и образованных и не бедных мужчин. Даже внешность современных жителей Читы и гарнизонных городов порядком отличается от классических гуранов из рудничной глубинки. На танцы в сельский клуб тут ходили всей ротой, солдату в самоволочке было легче лёгкого словить нож под ребро, а грандиозные драки военных с местными жителями были вполне достойны стычек казаков с хунхузами. Впрочем, слово "были" тут напрасное - скажем, в 2018 году пьяная потасовка в кафе Петровска-Забайкальского продолжилась набегом бандитов на воинский эшелон, часовой которого в итоге застрелил тамошнего "смотрящего" Жданчика, а в 2020 году в Борзе случилась большая драка АУЕшников с солдатами-кавказцами. Последние были из "Голубой дивизии" гарнизона Борзя-3 - откуда взялось её прозвище, есть много версий, самая романтичная из которых гласит, что до постройки капитальных домов они спали под голубом небом, так как вететр всё время рвал их палатки. Борзя-3 - один из последних гарнизонов в этих степях: потепление русско-китайских отношений обернулось для Забайкалья гуманитарной катастрофой. В 1998 ЗабВО был ликвидирован чуть ли не первым из советских военных округов, а в 21 веке здешние гарнизоны закрываются один за другим, и для того же Сретенска "контрольным выстрелом" стал вывод дивизии. В 2009-м и 36-я армия передислоцировалась в Улан-Удэ, а гарнизонные посёлки-призраки в Даурии давно стали такой же реальностью, как в тундрах Заполярья или степях Казахстана.
15.
На кадре выше - вокзал, так капитально отстроенный в 1950-х годах явно для воинских эшелонов и их генералов. На площади перед ним есть памятник красным партизанам (1968) на братской могиле, а за путями стоит узкоколейная "кукушка" КП-4 на постаменте... но мы всего этого не увидели. У Дома офицеров мы приметили лавочку да расположились на ней пообедать консервами, а к концу трапезы рядом вдруг остановилась полицейская "Газель", причём не для плановой проверки документов. Увидев на рынке двух незнакомых мужчин с фотоаппаратами, некая бдительная гражданка стремглав помчалась домой и нажаловалась на нас не только в УВД, но и в ФСБ и прокуратуру. В общем, полицейские извинились перед нами, не хуже нас понимая весь идиотизм ситуации, и очень вежливо попросили проехать с ними в отделение для дачи объяснительной. На это, перемежаясь беседой за чаем, ушло ещё около часа, а дальше молодой лейтенант предложил отвезти нас на своей машине к выезду из Борзи. Было ли это изгнание из города или он правда хотел компенсировать отобранное у нас время - я не знаю, но спорить я не хотел, да и в отсутствии автобусов продолжить таким способом путь я предпочёл осмотру достопримечательностей. Фото всех перечисленных памятников есть на сайте музея, а вот напоследок - Борзя времён строительства КВЖД, чем-то неуловимо похожая на городки из вестернов.
15а.

Полицейский высадил нас на высоченной эстакаде, с которой виды открываются не хуже, чем с холмов:
16.
На одном из которых кто-то констатировал, что борзеет. В общем, не могу сказать, что Варламов был прав, особенно посмотрев на остальное Забайкалье, но и промахнулся он не сильно.
16а.

При всём том, Борзя - впечатляющий узел железных дорог, расходящихся отсюда по 4, а с учётом соседнего Харанора даже по 5 направлениям. От последнего в 1939 году начали тянуть линию на Приаргунск, о которой я расскажу отдельно. С другой стороны её ровесница уходит непосредственно из Борзи на 324 километра - глубоко в Монголию до станции Баян-Тумэн, сохранившей старое название нынешнего города Чойбалсана. Она была проложена летом 1939 года экстренно - на помощь советско-монгольским войскам, которые с весны до осени сражались с японцами на Халхин-Голе. Накануне строительства у железнодорожных войск не было ни проекта, ни сметы, ни разведанной трассы, а только приказ. Но ровная каменистая степь без лесов и крутых гор сделала выполнение этого приказа пусть и на пределе сил, но возможным - уложенная за считанные месяцы линия решила исход Халхин-Гольской войны, хотя до ума доводилось до 1941 года. Как странный тупик она существует и ныне, и более того, по крайней мере до ковида по ней даже ходили пассажирские поезда! Правда, конечной их со стороны Баян-Тумэна была не Борзя, а пограничный Эрэнцав, до Соловьёвска напротив которого отсюда нет даже автобусов. Ну а эстакада проходит над станцией Нарын-1, от которой начинается проложенная в 21 веке пятая линия:
17.
Она должна была дать новую жизнь Нерчинским рудникам, нежизнеспособным без железной дороги. По изначальному проекту начатой в 2008 году стройки линию длиной 425 километров планировалось вывести к станции Лугокан в горах над низовьями Шилки, нанизав на пути 5 горно-обогатительных комбинатов. Однако строилась железная дорога по модной схеме частно-государственного партнёрства РЖД и "Норильского никеля", и уже в 2010 году последний прикинул сметы да решил, что многовато будет. Линия укоротили до 225 километров, оставив два ГОКа и сделав конечной Газимурский Завод, но до него к 2012 году всё-таки дотянули. Затем на олимпийских стройках в Сочи прогрел главный подрядчик, и ещё на несколько лет одна из редчайших в России железных дорог постсоветской эпохи оказалась заброшена. Восстановили её лишь в 2015 году, и как видите по кадру выше, она вполне себе работает, в основном как подъездной путь Быстринского ГОКа. На линии 5 станций, но пассажирского движения нет даже в планах. По всей длине (участок у Александровского Завода я показывал в позапрошлой части) линия удивляет высотой и мощью своих насыпей:
18.
Ну а мы поймали на трассе машину да помчались на юг вдоль бывшей КВЖД. Товарные поезда в этой степи - почти константа пейзажа: движение здесь гораздо активнее, чем на Амурском участке Транссиба, а по вагонам нетрудно понять, куда едет поезд: если лесовозы, зерновозы или цистерны - значит, в Китай, а если контейнеры - значит, из Китая. Среди степи - руины гарнизонов с их котельными и ДОСами ("домами офицерского состава"). Чаще это пятиэтажки, но попадаются и явные сталинки из тех времён, когда тучи у границы ходили хмуро:
19.
Изумрудная степь тут совсем голая, а небо над ней как-то особенно огромно:
20.
На кадре выше - посёлок Даурия (3,9 тыс. жит.), как и многие станции Российской империи, названный по региону, границу которого пересекали поезда. Первоначально Даурией назывался весь левобережный бассейн Амура выше устья Зеи, теперь - лишь эти степи вокруг Краснокаменска, ну а на карте она представлена и вовсе единственным посёлком у стыка границ России, Монголии и Китая. Станция с вокзалом времён строительства КВЖД и храмом Спиридона Тримифутского (2008) разделяет частный сектор живого посёлка и гигантский заброшенный гарнизон Даурской дивизии:
21.
У трассы - одинокий обелиск. Может быть, под ним покоятся жертвы "семёновцев", может - умершие от ран солдаты Халхин-Гола:
22.
А может и никто не покоится, и это просто ориентир для караванов, до постройки железной дороги обильно ходивших в Китай. Тогда вместо контейнеров оттуда везли цыбики - ящики рассыпного чая, обёрнутые камышом:
23.
Основной Великий Чайный путь проходил через Кяхту, а его восточная ветвь вела из Нерчинска через нынешний Приаргунск, поближе к границе степи и леса, где были не так страшны ветра. До советских времён китайские купцы в их шёлковых одеждах были частью местных реалий. В 1990-2000-х их сменили бойкие китайские торговцы, в 2010-х - китайские туристы, ну а потом всё накрыла чёрными крыльями китайская летучая мышь.
24.
И вот впереди по трассе взгляд различает ветряки на сопках, а в мареве миражами появляются сказочные города. Так выглядит нынешняя граница Необъятной с Поднебесной. С нашей стороны она представлена мрачнейшим, судя по чужим фото, посёлком Забайкальск с роскошным сталинским вокзалом, а с китайской - городом Маньчжоули, основанным при строительстве КВЖД как станция Маньчжурия. Контраст их неизменно повергает русского человека в настроение "всё пропало" и вызывает безумные, порой доходящие до тошноты, галлюцинаций и высокой температуры приступы "стыда за страну". В последнее время, впрочем, тренд поменялся, и некоторые более прогрессивные люди рассуждают, что все эти небоскрёбы - лишь показуха, а надорвавшийся Китай всё так же нищ и обречён. В Маньчжурии - десятки высоток, ярко освещённые улицы, магазины со смешными вывесками вроде "Магазин отобранных товаров", музей русского искусства в виде православной церкви, площадь гигантских Матрёшек, Парк Восточной Европы с копиями собора Василия Блаженного, Медного всадника или Рабочего и Колхозницы... Куда менее известно, что во всём этом балагане уцелело немало путейских построек КВЖД и японский вокзал. Вернее, уцелели они по состоянию на 5 лет назад, а китайцы ведь строят быстро и не церемонятся со старьём... Вон даже по случаю закрытых границ отгрохали гигантскую башню для своих внутренних туристов - не съездить в Россию так хоть поглазеть на неё издалека.
25.
Эта башня видна с развилки, где под острым углом уходит в глубь Даурии дорога на Краснокаменск:
26.
Который я подробно показывал в прошлой части, но здесь всё же добавлю пару зарисовок. Тополиный пух, образующий целые сугробы, стал для нас с Петром отдельной достопримечательностью даурских городов:
27.
А у церкви в этом безмерно советском городе мы повстречали казака Забайкальского войска в его ярко-жёлтых лампасах:
28.
Станция Краснокаменск действует с 1970 года. Она расположена на северной окраине, по ощущениям - за городом, где железная дорога поворачивает в урановым рудникам:
29.
Её вокзал подчёркнуто унылый, и куда больше запоминаются длинные навесы вдоль платформ:
30.
С поезда виден грандиозный отвал - помимо урана и полиметаллов, Даурия богата ещё и углём, который добывают в нескольких огромных разрезах по обе стороны границы. Ту же Борзю кормит теперь Харанорский разрез у Шерловой Горы, а в Краснокаменске урановые рудники дополнились Уртуйским разрезом:
31.
С годовой мощностью 6 миллионов тонн угля, он обеспечивает 1,5-2% общероссийской добычи. И более всего впечатляет то, что всю эту гору в несколько десятков метров высотый насыпали тут всего лишь с 1989 года:
32.
Другие индустриальные гиганты Краснокаменска видны в степи издалека - будь то ТЭЦ:
33.
Или урановые рудники:
34.
Ну а железные дороги в этих степях нелинейны ни историей, ни географией. Даже ежедневный ночной поезд из Читы здесь "трёхглавый" - после Борзи часть вагонов уходит по КВЖД в Забайкальск, а часть сворачивает в Хараноре. Следующая развилка - на станции со звучным названием Урулюнгуй (ладно хоть не Ёроол-Гуй!), где одни вагоны продолжают путь на Приаргунск, а другие едут в Краснокаменск. Вся ветка к нему - один перегон в 15 километров, и РЖД не раз пыталась отменить эти вагоны... но всё упиралось в дорогу, типичную для Забайкалья размокшую ухабистую грунтовку. Опоздав на поезд в Краснокаменске, догнать его в Урулюнгуе можно, вот только такси влетит в добрую 1000 рублей.
35.
Сама же эта линия прокладывалась в 1939-40 годах как узкоколейка между гарнизонов, поначалу - до следующего за Урулюнгуем посёлка Досатуй посреди великого ничто, где поезда по старой памяти делают довольно долгую стоянку:
36.
За окнами вагона - совершенно среднеазиатский пейзаж. Кто скажет, что мы на РЖД, а не КТЖ или УТЙ?
37.
В нынешнем Досатуе около 1 тыс. жителей, но ещё в "нулевых" он был почти втрое крупнее - здешний гарнизон вывели в 2006 году в Борзю-3 к Голубой дивизии. На восток Досатуй провожает обглоданным скелетом пятиэтажки:
37а.

Дальше линию проложили в 1963 году, после прибытия в ЗабВО множества новых частей. У границы здесь стоит Цурухайтуй, основанный в 1728 году как сторожевой пост и до постройки КВЖД бывший воротами для караванов. В 1953 году его переименовали в непроизносимый Староцурухайтуй, основав чуть выше по Аргуни ещё более непроизносимый Новоцурухайтуй, близ которого в 1962 году и начал строиться Приаргунск - посёлок для людей в погонах. К тому времени здесь полным ходом шла стройка - вот например ТЭЦ, заложенная в 1961-м:
38.
Наконец, в 1972 году, после Даманского, генералы поняли, что узкоколейкой тут в случае ЧЕГО не обойтись, и к 1977 году линия от Харанора до Приаргунска была перешита на широкую колею, тогда же обзаведясь серыми вокзалами. Станция Приаргунск на 207-м километре от Харанора встречает раскишей площадью. За ней - контора и вокзал в одном здании, а ближе к путям паровоз-"лебедянка", поставленный в 2016 году по разнарядке - ведь в паровозную эпоху тут была другая колея:
39.
Народу в этой казалось бы глуши сошло неожиданно много, и кажется целый вагон выстраивался в очередь к ПАЗику до Нерчинского Завода. Один я поехал бы на нём, но в компании автостопщика Петра мы решили, что 170 километров интереснее преодолеть на попутках. Однако ещё в вагоне местные говорили нам, что тут всё погранзона вплоть до Нерчинского Завода, и вот на краю площади нас остановил немолодой, трясущийся от злости пограничник. Он начал напирать, что въезд без пропуска сюда запрещён и сейчас он вызовет наряд оформлять нас. Поскольку погранзона - это закон, который я чаще всего нарушал, я понимал, что потеряем мы максимум 500 рублей и минимум 3 часа времени, поэтому начал отпираться. На разные лады я повторял, что такой информацией мы не располагали, наша цель - Нерчинский Завод, а вон стоит автобус, поэтому мы просим разрешения покинуть пограничную зону. Раз на третий мужик успокоился, сел в УАЗик и укатил, предупредив, чтобы в посёлке нас не видел. Кондукторша автобуса, однако, была изрядна удивлена появлением двух неместных с рюкзаками, и велела нам подождать. Дождались мы того, что сидячие места кончились, и местных она пустила в салон стоя, а нас да ещё одну женщину с большой коробкой - нет, предложив ждавшее рядом такси. Изначально речь шла о том, что такси наняло АТП по цене автобусный билетов, и я не знаю было ли это прямое враньё или водитель решил заработать дополнительно - стоило ПАЗику уйти за поворот, как цена выросла до 3000 рублей за салон до НерЗавода. После небольшого торга таксист согласился доставить к нас выезду из погранзоны, вот только сперва заказ по Приаргунску отвезёт... и конечно же, пропал. На свой страх и риск, стараясь не приближаться к дороге, мы направились в посёлок.
40.
Среди полосы пустырей, отделяющей станцию от пятиэтажек, обнаружился воинский памятник (1985), в городе воинов построенный довольно интересно:
41.
Трактор с кадра выше занимается его благоустройством, а вот "полуторка", как и не попавшие в кадр Т-34 и пушка ЗиС-3 - вполне себе часть мемориала:
42.
Войны с Китаем так и не случилось, а вот в интернациональных конфликтах участвовали в том числе и ребята из ЗабВО. Им памятник поставили в 2012-м:
43.
Сам посёлок хоть и хрущёвской эпохи, а визуально всё же не совсем уныл:
44.
Пограничника у станции же вывело из себя то, что мы, не разобравшись, пошли вдоль путей - в сторону его части, которая вытянулась от железной дороги до главной улицы. У ворот я заснял сторожевой катер рубежа 1980-90-х типа "Аист" - такой же, как в Сретенске:
45.
Обойти часть дворами было невозможно, и вот навстречу нам выехал огромный коптящий "Урал" с целым взводом пограничников. Но эти оказались не в пример адекватнее, поизучали наши паспорта, выслушали о планах да напутствовали, что в Нерчинском Заводе народ опасный. У выезда старший офицер даже догнал нас на личном автомобиле, чтобы поделиться контактами главного нерзаводского прокурора - на случай чего.
46.
Ну а главная достопримечательность Приаргунска - конечно же, сама Аргунь, которую было забавно увидеть в один год с Аргунским ущельем Кавказа. Сливаясь с Шилкой, она образует Амур, вот только водное пространство с кадров выше обманчиво: на самом деле с расходом воды 186 м³/с Аргунь уступает Шилке втрое. Зато - куда длиннее (1620км против 550), начинаясь как река Хайлар на территории Китая и крутым поворотом входя в Россию чуть восточнее Забайкальска. У Шилки зато есть Ингода и Онон, от истоков которого до устья Амура 4272км против 4041 от истоков Хайлара. Однако есть ещё один нюанс: такая огромная на кадрах выше Аргунь потому, что в особенно многоводные годы к устью Хайлара прорывается протока из обширного озера Далайнор. В него же впадает река Керулен, и вот от его истока до устья Амура выходит уже 5052 километра. Мы застали Аргунь именно с Керуленом - не совсем каноничный, но более зрелищиный вид, когда река заполяет свою обширную топкую пойму.
47.
За Аргунью же, как наверное вы догадались - Китай, и как в Албазине или Джалинде, тот берег кажется таким же малолюдным, как и этот. А пограничники, конечно, не хотят, чтобы их стали сокращать вслед за военными, и потому - бдят.
48.
Мы двинулись вглубь России, и хотя наша дорога до НерЗавода заслуживает отдельного поста, в итоге она оказалась разделена между несколькими постами. Вот в 15 километрах от Новоцурухайтуя деревенька Улан, в переводе с бурятского - Красная:
49.
И лихой "смотрящий", подвозя нас, рассказал, что такое название - от целебного солёного ("уранового", по его словам) ручья, окрашивающего почву вдоль своего русла в красный. Вдоль тонкой красной линии тянется лес, поэтому заснять ручей у меня не вышло:
50.
"Смотрящий" довёз нас до деревеньки Талман-Борзя, куда подходит дорога из Краснокаменска. Следующая машина появилась почти сразу - её вёл опер, ехавший в деревеньку в стороне от дороги, в которой кого-то убили. Высадившись на степном перекрёстке, мы проторчали на нём часа 3, опасаясь ходившей поодаль грозы и изнывая от жажды. Дальше всё же случилась удача - двое мужиков и девочка-старшеклассница из Краснокаменска взяли нас до райцентра Калга (2,8 тыс.), основанного в 1771 году казаками... только не сибирскими, а яицкими, сосланными сюда за Пугачёвский бунт.
51.
Калга - столица окрестных совхозов, а главное - узел дорог к Приаргунску, Нерчинскому Заводу и Борзе. Мужики предлагали нам остановиться у них да сходить в баньку, а утром ехать на автобусе, но мы были непреклонны - и вот ещё часа 3, теперь хоть с водой из магазина, стояли на трассе за Калгой.
51а.
Нежно-зелёные степи, тёмные рощи, золотистая пыль дорог. Сопки, скалы, прииски, отвалы. Обелиски жертвам "семёновцев", серые крыши деревенек, высокая насыпь железная дороги Нарын - Газзавод...
По диким степям Забайкалья,
Где золото моют в горах
Бродяга, судьбу восхваляя
Гулял с рюкзаком на плечах...
52.
Но картина Забайкалья останется неполной без его древней истории. Между Борзей и Алекзаводом стоит село Кондуй, а в нём - один абсолютно нетривиальный объект. О котором - в следующей части.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности и колорит Забайкалья.
Нерчиский Завод.
По диким степям Забайкалья. Золото и каторга.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск.
Кондуй.
...и несколько постов о Чите.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
|
Краснокаменск. На урановые рудники! |
Краснокаменск - второй по величине (52 тыс. жителей) город Забайкальского края в 540 юго-восточнее Читы. Построенный в голой степи в 1970-е годы, он являет собой ни что иное, как третью эпоху Нерчинских рудников. Ведь после серебра, первенцем русской добычи которого был Нерчинский Завод, и золота, о котором, вместе с каторгой, я рассказывал в прошлой части, главным природным богатством Даурии стал уран - на Краснокаменск приходится 8% мировой и 94% российской добычи.
От мест, показанных в прошлых частях, до Краснокаменска порядка 200 километров, однако по пыльным убогим степным дорогам это хороший день езды. Из Читы же сюда ходит ночной "трёхглавый" поезд (его вагоны идут также до Забайкальска и Приаргунска), да и по трассам сплошь асфальт, причём весьма неплохой. То и немудрено - большая часть пути проходит по международному шоссе в Китай, от которого почти у приграничного Забайкальска под острым углом ответвляется другая, по сибирским меркам оживлённая дорога. Она проходит по самым ровным и голым местам Даурии, и через сотню километров вдруг упирается в Мирный Атом:
2.
...Нерчинская каторга была закрыта буквально в первые дни советской власти, в 1917 году, и что особенно удивительно - не возрождалась в лице какого-нибудь Заблага или Аргунлага. При всём своем жестоком прагматизме, сам Сталин не решился вновь повесить "оковы тяжкие" туда, откуда они пали. Поэтому даже Нерчинский полиметаллический комбинат на месте Нерчинского горного округа был образован лишь в 1956 году. Однако истинный преемник Нерчинского Завода возник ещё позже и за пределами старых рудников, хотя и стал явным продолжением их исторической нити. Со времён взрыва над Хиросимой советские геологи от мрачного Кодара до курортного Бештау отчаянно искали уран, понимая, что без возможности дать сдачу можно ожидать следующих взрывов над Ленинградом или Владивостоком. На строительство шахт, конечно же, бросали заключённых, и хотя сама по себе урановая руда почти не опасна из-за крайне низкого содержания радиоактивных изотопов, "на урановые рудники!" стало вполне актуальной заменой "на вечную каторгу!". К концу Великой Отечественной войны были известны относительно небольшие рудники Ферганской долины, в первую очередь Майли-Сай в Киргизии, близ которых вырос Чкаловск в Таджикистане, неофициально прозванный Атомабад. Что-то и вовсе везли из Восточной Европы, в первую очередь Болгарии и ГДР - совсем как в века до открытия Нерчинских руд, когда серебро и золото попадали в Россию только с иноземными купцами. В 1949 году ядерный взрыв прогремел над Семипалатинским полигоном, но для полноценного развития атомного проекта Стране Советов по-прежнему не хватало сырья. Лишь в хрущёвскую эпоху отечественная геология накопила достаточно знаний о том, где и как искать крупные месторождения радиоактивного камня, которыми и стали в 1960-х годах узбекистанский Учкудук, казахстанский Мангышлак и забайкальский Краснокаменск. Его история проста, как лозунг на красном плакате: в 1963 году Сосновская экспедиция (конспиративное название "Урангеологии") нашла в Стрельцовской кальдере в 40 километрах от китайской границы рудное поле, первое месторождение которого получило название Красный Камень из-за скал у полевого лагеря, которые красиво озарял закат. А при месторождении в 1969 году начал строиться город:
3.
Вид Краснокаменска и в наши дни футуристичен, а уж тогда он и вовсе напоминал базу колонистов на едва-едва терраформированном Марсе. И этот облик идеального города на чистом листе голой степи - главная и даже единственная достопримечательность Краснокаменска:
4.
Его лицом можно назвать ряд красных многоэтажек с характерными отверстиями, устроенными то ли для снижения парусности, то ли просто по фэн-шую, бессознательно проникшему в мозги архитекторов из-за китайской границы. Они слагают Центральный микрорайон, всего же микрорайонов в Краснокаменске 10 - 8 номерных и два (ещё Восточный) именных, а так же застроенный частным сектором Солнечный. По микрорайонам - вся нумерация города: 101 - это "микрорайон 1, дом 1", 30ц - это "микрорайон Центральный, дом 30".
4а.

Нашим пристанищем в Краснокаменске стал 4-й микрорайон, где по наводке
 manesterova мы с Петром остановились в просторной, уютной, цветастой квартире. Хозяйку её звали Розалия Бакировна, и по происхождению своему была она наполовину дунганкой (см. здесь) из киргизского Нарына. То не превратности судьбы: старожилы Краснокаменска похожи на гуранов (забайкальских креолов) внешне, однако предками их были не буряты и тунгусы, а киргизы и узбеки в смешанных браках - первые поселенцы ехали сюда в основном с рудников Ферганской долины.
manesterova мы с Петром остановились в просторной, уютной, цветастой квартире. Хозяйку её звали Розалия Бакировна, и по происхождению своему была она наполовину дунганкой (см. здесь) из киргизского Нарына. То не превратности судьбы: старожилы Краснокаменска похожи на гуранов (забайкальских креолов) внешне, однако предками их были не буряты и тунгусы, а киргизы и узбеки в смешанных браках - первые поселенцы ехали сюда в основном с рудников Ферганской долины.5.
4-й микрорайон, как и другие семь, застроен в основном пятиэтажками "улучшенных серий" с характерными козырьками подъездов, похожими на шлюзы космических кораблей:
6.
Как и положено "идеальному городу" времён "развитого социализма", Краснокаменск немыслим без панно и мозаик:
7.
Слагающими странную советскую космогонию великих строек на Земле и романтики Космоса:
8.
Не лишены хоть минимальной фантазии тут даже самые утилитарные общественные здания - вот скажем школа коробка коробкой, но какой вход!
9.
А детские сады Краснокаменска - они действительно сады. Давным давно в Ташкенте мне рассказывали про Навои, где советская власть в лице пронизавшего Кызылкумы Навоийского горно-металлургического комбината продержалась чуть ли не до начала 2010-х годов. Русские из самого Навои, Зарафшана или Учкудука не спешили в Россию, понимая, что там не будет той социальной защищённости, стабильности в работе и заботы о городских объектах. Потом НГОКу "пришёл Кувандык" - всё держалось на начальнике, и когда его ушли в пользу узбека, рок 1990-х взял своё и в песках Кызылкумов. А вот Приаргунское горно-химическое объединение - держится: по всему Забайкальскому краю о Краснокаменске ходят легенды, как о затерянном мире СССР с читающей молодёжью и колбасой по сколько-там-было копеек. Глядя на образцовые детсады, на никогда не превращавшиеся в барахолки кинотеатры и дома культуры, в это веришь. В 10-й коррекционной школе, по словам местных, даже пионерия есть!
10.
Ну а самое, пожалуй, главное, что сохранили тут в отличие от Навои или Учкудука - это озеленение, по-прежнему покрывающее большую часть тротуаров густой тенью. Тополиный пух в июне лежит здесь, как снег:
11.
О том же, что в Краснокаменске ПОРЯДОК, мы начали догадываться, лишь сев в автобус на дачной окраине у Мирного Атома. За всё время с начала пандемии я видел в России всего два города, где масочный режим на транспорте не просто есть, но и на самом деле соблюдается - это Москва и Краснокаменск. Жарким летним вечером тут в масках не просто весь салон автобуса - ещё и на того, кто стягивает маску на подбородок, пассажиры шикать начнут раньше кондуктора.
12.
Автобусов в Краснокаменске всего пара-тройка маршрутов, но это именно большие автобусы, курсирующие по расписанию.
13.
А советские остановки Краснокаменска - отдельный архитектурный пласт:
14.
Их павильоны оригинальны далеко не всегда, но оригинальными бывают здесь даже лавочки без павильонов:
15.
Малыми формами в Краснокаменске изобилуют и дворы:
15а.

Где-то целы ещё советские детские площадки:
16а.
А назначение многих объектов не всегда понятно с первого взгляда:
16.
Как видите по прошлым кадрам, в Краснокаменске не очень-то стригут газоны, давая им возможность превратиться в высокотравные луга. Специально это или нет - не знаю: в общем-то хватает в Краснокаменске и запущенных уголков. Как и контингент утром воскресения напоминает сюжеты времён антиалкогольной кампании: без преувеличения половина встречных мужиков либо уже на рогах, либо тащат бутылку, либо матерно пилятся жёнами. В редких граффити видна борьба энтузиастов и арестантов:
17а.
10 микрорайонов Краснокаменска весьма компактны - примерно 3 на 1,5 километра. Их делит на две явные группы проспект Шахтёров, от главного въезда ведущий сквозь город к урановым рудникам. Лежащие к югу 3, 4, 7 и 8 микрорайоны выглядят очевидно спальными - они обширны, уютны, но точечных достопримечательностей совершенно лишены. Вся дальнейшая прогулка пройдёт в северных микрорайонах, и маршрут её представляет собой начертанную дрожащей рукой букву "П" вдоль Молодёжной улицы, проспекта Строителей и проспекта Покровского. Начнём на краю Центрального микрорайона, у единственного в Краснокаменске нетипового жилого дома (1993):
17.
На лужайке перед ним - ставший новым символом Краснокаменска памятник Тарбаганам (2011), забавный только на первый взгляд. Ведь тарбаганы, жирные вальяжные монгольские сурки, большую часть года мирно спящие в глубоких норах - не только коренные жители Даурии, но и переносчики природно-очаговых инфекций, таких как бубонная чума. На самом деле это памятник жертвам геноцида - здешняя популяция сурков, около миллиона особей, была полностью истреблена накануне строительства города:
18.
За домом, уже в 6-м микрорайоне, скрыт старейший в городе ДК - конечно же, "Строитель" (1973):
19.
Он вмещает в том числе музей, по словам Розалии Бакировны довольно интересный. Дело в том, что музей это не заводской, а краеведческий, поэтому в залах его - не макеты рудников и фотографии комсомольцев в ушанках, а находки из монгольских городищ, Чингисхановы валы (на самом деле куда более древние, чем сам Чингисхан), минералы окрестных степей, следы Гражданской... Но увы - в воскресение ДК оказался закрыт.
19а.

Из 6-го микрорайона мы незаметно перешли в 1-й. Здесь примечательна Школа-больница - законченная в 1990 году, она сразу была отдана под роддом: как тогда казалось, временно, но по понятным причинам ремонт "настоящего" роддома затянулся на десятилетия. Теперь, как я понимаю, роддом вернулся в свои исконные стены, а вот школа сюда так и не въехала - население Краснокаменска ужалось с 70 до 50 тыс. человек, а по детям так и ещё сильнее. Позже здесь располагался детско-юношеский центр "Натиск", где было несколько кружков, и в том числе - "Зарница", от которой остались танк и БМП-1:
20.
Дворами мы понемногу вышли на тенистый уютный бульвар, в фонтан которого жарким днём так и хотелось окунуться:
21.
Чуть дальше и целая колония "малых форм" - всё намекает на близость объекта, к которому в городе рудников ведут все дороги:
22.
Конечно же, это ППГХО - Приаргунское производственное горно-химическое объединение, образованное в 1967 году. Тут можно вспомнить дореволюционные "города-заводы", где в ведомстве заводских контор было не только производство, но и, говоря современным языком, ЖКХ. Фактически эта традиция жила и в моногородах советской эпохи, где на балансе предприятия оставались всевозможные санатории, дома культуры, больницы, школы искусств, ПТУ или транспорт. Однако то, чему в Средней Азии "пришёл Кувандык", в России "купили москвичи" - размежевание администраций и контор, вошедших во всевозможные холдинги со столичными офисами, для многих моногородов обернулось социальной катастрофой. Краснокаменск пока держится, и контора тут по-прежнему куда заметнее администрации:
23.
Т-образный комплекс ППГХО построен в 1971-72 годах, однако история его нелинейна. В трёхэтажных домах первоначально располагались управления строительства и эксплуатации соответственно. Уже после распада Союза их объединили через располагавшийся между ними кинотеатр "Горизонт", ставший проходной и залом совещаний:
24.
Фасад ППГХО глядит на проспект Строителей, отделяющий 1-й и 6-й микрорайоны от 2-го и 5-го. Тут надо сказать, что старожилы Краснокаменска ориентируются в городе только по номерам микрорайонов, улицы же обзавелись именами лишь в 2008-10 годах, когда ППГХО вошло в структуру "Росатома". И лишь проспект Строителей назывался так изначально, напоминая среди безликих в своей футуристичности номеров, что здесь - исторический центр. Восточнее ППГХО - и старейшие здания города (1968-69): ряд деревянных общежитий в характерной "чешуйчатой" обшивке, который замыкает не попавшая мне в кадр пожарная часть.
25.
Во дворе же западнее ППГХО спрятан памятник строителям Краснокаменска (2012). Вроде как - на месте стелы 1970-х годов, но то ли она была совсем невзрачна, то ли здесь тогда была закрытая территория, а фотографий её я не нашёл. Строили Краснокаменск не зэки и не комсомольцы-романтики, а "армия Славского" - военный стройбат Минсредмаша.
26.
По легенде, первые 70 строителей прибыли на место будущего города вечером и разбили лагерь, а поутру выглянув из палаток - обнаружили, что прямо в лагерь приземлился орёл. В преддверии Бурятии и Монголии, где орёл считается шаман-птицей, даже социалисты-атеисты поняли, что это добрый знак:
26а.
Дальше на запад по проспекту строителей - кафе "Шахтёрское", изначально бывшее солдатской столовой, и самое интересное в городе панно с солнечными часами. Оно украшает ГАП - точно не знаю, как расшифровывается эта аббревиатура (вероятно - производная от ГАПОУ - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение), но скрывается под ней местный "университет" - ПТУ №11, основанное в 1977 году для подготовки рабочих Приаргунского комбината. Ещё есть ПТУ №34, основанное на окраине в 1985-м, но как я понимаю, учат там другому, а основные вакансии даёт мясокомбинат.
27.
В ГАПовском дворе же примечателен "Афганский излом" (1990) - ни много ни мало, первый ещё в СССР (!) памятник погибшим в Афганистане.
28.
Большинство "афганских" мемориалов возникли гораздо позже, а потому посвящены "воинам-интернационалистам" или "погибшим в локальных конфликтах". "Афганский излом" лишь в 2015 году дополнился композицией "Живым и павшим сыновьям России". Однако всё это один мемориал, и идя вдоль фотостендов в одну сторону - видишь павших "афганцев", а идя в другую сторону - лица убитых в Чечне.
28а.

Напротив панно ГАПа торцом к проспекту стоит и первая в городе капитальная пятиэтажка, заложенная в 1968 году - её краешек виден слева. Фото погибших солдат же на другой стороне проспекта продолжает Аллея почётных граждан, которую открывает сам Ефим Славский (почти бессменный глава Минсредмаша в 1957-86 годах), а продолжают - передовики производства нынешнего ППГХО. На камнях между ними - знаковые даты комбината и города. Ну а по аллее почётных граждан нам навстречу брёл позорный гражданин:
29.
Правее аллеи (на кадре выше) расположился Сквер Шахтёров, в глубине которого - отреновированный и укатанный в сайдинг Дворец спорта "Аргунь". Близ него, на одной линии с "Афганским изломом" - мемориал Победы (1980):
30.
Чуть поодаль - ещё один памятник "Живая правда", поставленный в 2020 году к 75-летию Победы. На нём стихотворение орловского поэта Александра Бывшева:
"Она пробитая осколком
Лежит в музее под стеклом
Рассказывая нам, потомкам,
Живую правду о былом
Пока ещё есть место войнам
Клянусь сражаться против зла
Чтоб хоть немного быть достойным
Того, на ком она была".
31.
Сам же Бывшев - поэт, мягко говоря, неоднозначный. Его книга о войне "Кровавая Память" была издана в 2015 году не в России, а в США, в родных Кромах он лишился работы и стал изгоем, а тут ещё и уголовное дело на него завели. За стихотворение "Посвящается расширению НАТО на Восток", где есть такие пассажи, как "по-другому с Рашкою нельзя", "Третий Рим уже от крови спятил", "лишь язык ракет ему понятен". И кажется очень странным, что такую дешёвую хамскую агитку и добрые, вдумчивые строки с памятника написал один и тот же человек... Между двух мемориалов репетировали войну со злом юнармейцы:
32.
На газоне по соседству внимали бывалому дядьке то ли юные спасатели, то ли суровый забайкальский турклуб:
33.
Странная конструкция за их спинами - памятник Первопроходцам (1988). Имеются в виду, конечно же, не бородатые казаки, а косматые геологи, и даже странно, что у стелы нет второго названия "Красный Камень":
34.
Высокая стена на заднем плане же - задворки ДК "Даурия" (1985), в социалистическом ансамбле Краснокаменска похожего на кафедральный собор:
35.
Что интересно, на чужих фото "Даурия" часто фигурирует снизу доверху покрытой муралами, а на нынешнем здании ещё видны следы краски. И пожалуй "Даурии" правда больше к лицу советские текстуры, но сама традиция муралов очень зря не продолжилась на каких-нибудь других домах:
35а.

На другой стороне площади - на первый взгляд просто магазин. Магазины Краснокаменска интересны тем, что уже в 1980-х обустраивались как супермаркеты с тележками, внешними кассами и ячейками для хранения сумок. Однако здесь нечто большее - Общественный центр Первого микрорайона. Такие строились и в других микрорайонах, а располагаются в них магазины, кафе, ателье, даже кинотеатры. Зная о происхождении краснокаменских старожилов, я не могу отделаться от ассоциаций с махаллями Средней Азии, где всегда есть квартальные чайхана и мечеть... Зиккурат же накрыл местную "миргородскую лужу", которая скапливалась на площади много лет и была так глубока, что в ней купались дети, а однажды, поговаривают, утонул пьяный мужик.
36.
За "Даурией" видна Первая пятиэтажка, а напротив Общественного центра, внезапно, стоит паровоз. Машина гораздо старше города - построен в Америке на заводах Болдуина и доставлен в СССР по ленд-лизу в январе 1945 года. Он успел поработать на снабжении фронта в депо Орши, а после войны отправился на Забайкальскую железную дорогу, в депо Могочи и Шилки. Списали "Ешку" уже в 1967 году, но не в запас и не в металлолом, а парогенератором на завод ЖБИ, строивший Краснокаменск. Оттуда и попал он в 2018 году на эту площадь, вот только на рельсы поставили да канонически покрасили его, на мой взгляд, зря - паровозов-памятников много, а вот парогенератор-памятник, тем более в не заставшем паровозного движения городе, мог бы стать уникальным.
37.
Дальше в створе Шахтёрского сквера и "Даурии" - универмаг, а за ним памятник (2013) первому директору ППГХО со звучным именем Сталь Покровский:
38.
Уроженец Харькова, он возглавлял комбинат, то есть по факту и город, в 1967-97 годах - от основания до своей смерти. Потомкам, слава богу, уже почти четверть века хватает ума и совести не распродать его труды "московским мальчикам".
38а.

Сквер Покровского выходит к проспекту Шахтёров - мы замкнули букву "П". Шахтёров и Строителей соединяет проспект Покровского, параллельно которому мы шли от ГАПа. За проспектом же - набор неизбежных в российском городе объектов, кажущихся не очень-то уместными в этом уголке СССР. Например, Спасская церковь (2001-04):
39.
Аляповатая снаружи - и впечатляюще брутальная внутри:
39а.
Напротив - бывший проектный институт, а ныне суд. Городской, районный и немного божий - в институтском ещё конференц-зале церковь была обустроена в 1997 году. Причём и это её здание не первое - с началом православного возрождения верующие начали собираться в Первом общественном центре. А вот мечети, несмотря на среднеазиатские корни старожилов, тут нет и не предвидится.
40.
Напротив универмага по торцу и напротив церкви по фасаду - администрация города и района. Она крупнее, чем контора ППГХО - но по сравнению с ней выглядит безжизненно:
41.
Ну а в середине пустыря на пологом холме, где стоят храм, суд и мэрия - памятник геологам. Это СГУП-10 - самоходная глубинная поисковая установка на шасси красноармейской самоходки СУ-76. Такими машинами было найдено Стрельцовское рудное поле, и одну из них в 1975 году поставили на постамент. Правда, не этот - сюда она переехала в 2003 году, а вот откуда - стоит рассказать отдельно.
42.
Пройдём город насквозь по Шахтёрскому проспекту да сядем на последней остановке 4-го микрорайона ждать автобуса. Только обычные автобусы с номерами маршрутов туда не заезжают - вместо них надо ждать автобус с логотипом ППГХО. Эти ходят строго по расписанию, в будние дни - каждые 10-15 минут практически весь день, а в выходные - делают по несколько рейсов утром и вечером. Проезд в них бесплатный, маски почти никто не носит, и тем не менее двери комбинатских автобусов открыты для всех. Мимо мощного, хоть и заброшенного, поста ГАИ, автобус уходит в Стрельцовскую кальдеру, буквально - на урановые рудники!
43.
Которые предваряет ТЭЦ ППГХО (это её официальное название!), работающая и на комбинат, и на город. Её мощность 470 МВт, топливом служит уголь близлежащего Уртуйского месторождения, а трубы видны в степи за десятки километров:
44.
Не так давно я писал о Долине вулканов в Саянах, но Стрельцовская кальдера - не тот случай: она возникла десятки миллионов лет назад, а последние извержения в ней видели динозавры. И для многих ископаемых гигантов это явно было последнее, что они видели - диаметр кальдеры около 9 километров, то есть извергалась она будь здоров. В ней-то и нашли геологи Сосновской экспедиции целое рудное поле, входящее в пятёрку крупнейших урановых месторождений Земли.
44а.

Формально это даже несколько месторождений, по первому из которых, ныне исчерпанному, кальдеру называют ещё Тулукаевской. Ну а красотами тяжёлой индустрии очень удобно любоваться в голой степи, по которой на десятки километров вокруг расставлены огромные здания:
45.
По запасам урана Россия занимает 4-е место в мире (8%), уступая Австралии (28%), Казахстану (15%) и Канаде (9%). По добыче мы лишь 6-е (5%) - сразу позади Узбекистан (4%), а впереди Нигер (6%), Намибия (7%), Австралия (10%), Канада (22%) и Казахстан (39%), в первые десятилетия 21 века нарастивший добычу в несколько раз. При этом в Казахстане добыча держится на множестве относительно небольших месторождений, России же, как и Канаде и Намибии, достался сверхгигант - за пределами Краснокаменска уран добывается в основном в полиметаллических рудах.
46.
Степь буквально опутана трубами. По ним подаются вода и реактивы: ныне основной способ добычи урана - выщелачивание, когда в подземные горизонты подаётся щёлочь, а потом выкачивается на поверхность получивший раствор.
47.
Но хватает и более классических шахт с крутящимися колёсами копров и густым паром из вентиляционных башен:
48.
Мы покинули автобус в самом сердце промзоны-кальдеры, посреди пустырей. Вот тут, как я понимаю, в 1975-2003 годах стояла СГУП-10 - предшественником Краснокаменска был Октябрьский, временный посёлок изыскателей и строителей, построенный в 1963-64 годах:
49.
К моменту образования Краснокаменска тут жило порядка 6 тыс. человек, но с 1970-х население Октябрьского неуклонно утекало в город. Распад СССР Октябрьский встретил с 4 тысячами жителей, а в 2011 году был расселён, и последняя тысяча остававшихся в нём людей переехали во 2-й микрорайон Краснокаменска. Частный сектор и бараки с тех пор были снесены, на их месте подрастает лес, среди которого лежат несколько заброшенных каменных зданий - например, школа.
50.
Сзади, между тем, на нас надвигалась самая настоящая буря - мокрый утренний зной к полудню сменили невесть откуда взявшиеся чёрные тучи, настроенные так серьёзно, что я был готов увидеть смерч. Далёкий город поглощала пелена дождя...
51.
...а первый порыв ветра поднял самую настоящую... нет, не пыльную, а пуховую бурю!
52.
С первыми каплями ливня мы увидели в кустах заброшенное здание и буквально прыгнули туда через груды бетонных обломков - полило вскоре как из ведра. Ну а что делает современный человек, когда делать нечего? Конечно - смотрит в телефон! Тут-то Пётр и обнаружил, что телефона при нём нет, и сперва не стал расстраиваться - ну забыл у Розалии Бакированы, наверное. Мы стояли, я с кем-то переписывался, снаружи висел занавес капель... и вдруг Пётр вспомнил, что в автобусе смотрел в телефоне время! И будь то городской автобус, наверное, телефон можно было списать в расход, а путешествие - прерывать до восстановления рабочих контактов, но мы ехали в комбинатском автобусе! Я набрал номер Петра, и через несколько гудков услышал в трубке мужской голос - это оказался водитель, который доехал до конечной у рудоуправления, где готов нас ждать хоть до вечера - его машина сломалась. Другой автобус должен был скоро выехать из города, и мы договорились, что доедем на нём. Заставив себя вылезти под дождь, мы быстрым шагом двинулись по бывшим улицам Октябрьского, ища ближайший выход на рудничный тракт. Выскочили на дорогу мы буквально в 100 метрах перед автобусом, и я как-то очень красноречиво объяснил языком жестов "ОЧЕНЬ НАДО!". Вскоре телефон воссоединился с Петром, и постояв минут 5 на площади у рудоуправления да полюбовавшись крестом, поставленным на внезапный в этом уголке советской власти "пенёк Ильича", мы поехали обратно в город и далее на вокзал.
53.
Который я покажу в следующей части, как и Приаргунск и Борзю. Завершив в Краснокаменске знакомство с рудничной ипостасью Забайкалья, в следующей части посмотрим на другую ипостась - пограничную.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности и колорит Забайкалья.
Нерчиский Завод.
По диким степям Забайкалья. Золото и каторга.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск.
Кондуй.
...и несколько постов о Чите.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Атомная быль Сибирь дорожное индустриальный гигант |
Горный Зерентуй. "По диким степям Забайкалья, где золото моют в горах..." |
Лишь побывав в Забайкалье, понимаешь, как точна та песня о бродяге, который тащился с сумой на плечах. Близ показанного в прошлой части Нерчинского Завода, первенца российской цветной металлургии в 330 километрах от Нерчинска, стоит Горный Зерентуй - умирающее село (800 жителей), когда-то бывшее столицей Нерчинской каторги. Начавшись как царский "дальстрой", снабжавший рабочей силой рудники и заводы, каторга пережила их, и к тому времени, как песни стали слагать на понятном для современного уха наречии, бежавший с неё человек и правда пробирался бы степями да сопками среди золотых приисков. О которых, как и современных рудниках Забайкальского края, так же расскажу в этот раз.
Чаще всего путь бродяги "По большому Сибирскому тракту далеко-далеко за Байкал" начинался в Москве, и теперь совсем не очевидно, что Энтузиасты, в честь которых названо шоссе на востоке столицы - это именно те, кто боролся с царизмом и за то угодил в кандалы. Великий Кандальный путь шёл по обочине Владимирской тракта, за полосой "екатерининских" берёз, предохранявшей его от заносов. Дорога арестанта делилась на этапы длиной в несколько десятков вёрст, на которых вместо почтовых станций стояли остроги, где сменялись этапные команды (конвой), и полуостроги, где делались ночные привалы. Все они были оборудованы кузницами для арестантских кандалов, самой распространённой формой которых был "канат" - длинный металлический прут, к которому приковывали несколько человек. "По этапу", периодически останавливаясь на 2-недельный карантин в тюрьмах-"централах", узники преодолевали порядка 500 километров за месяц, так что строчка "год почти он пылил по дорогам в холод, голод, полуденный зной" ещё приукрашивает реальность - путь от Москвы до Нерчинских рудников растягивался на полтора-два года. Дорога была самой трудной частью каторги, и вдобавок до 1869 года не засчитывалась в её срок. Но она и отбивала большинству освободившихся каторжан всякое желание возвращаться - так и заселялся эта гиблая степь на краю империи. С 1845 года освобождённые каторжане по закону становились ссыльнопоселенцами, которым государство отпускало лес на постройку избы и выплачивало стоимость конфискованного имущества, но не пускало домой.
1а.
Сама идея отправить провинившихся на принудительный труд кажется очевидной, но в Россию она проникла лишь в Петровскую эпоху из средиземноморских стран: "каторга" и "галера" - на самом деле одно и то же слово в разных языках. Однако в условиях огромных пространств и дефицита рабочих рук эта идея нашла себе плодородную почву - к концу 18 века каторжане гнули спины на рудниках, заводах (особенно солеварнях), в крепостях (как было с Достоевским в Омске), заготовляли лес и прокладывали дороги. В народной памяти и культуре не менший след, чем Нерчинская, оставила куда более скоротечная Сахалинская каторга на рубеже 19-20 веков. Россия не случайно стала первой страной, аж в 1753 году отменившей смертную казнь - заменой её стала "вечная каторга": зачем просто убивать осуждённого, если можно превратить его в машину без достоинства и прав? Порой - почти в буквальном смысле: самой мрачной категорией каторжан были люди, до конца своих дней прикованные к тачкам. Законодательство каторги менялось неоднократно, но в любой редакции каторжане и их работы делились на разряды, и например рудники предназначались для перворазрядных (пожизненных) каторжан, а всем остальным год в рудниках считался за полтора года. И именно Нерчинские рудники стали главным пунктом "вечной каторги", местом, откуда возврата нет.
2а.

Начавшись в 1739 году, Нерчинская каторга разрасталась вместе со всем горным округом, на пике в 1869 году включая десяток тюрем, сгруппированных, не считая распределительной тюрьмы в Сретенске, в три района - Зерентуйский (Зерентуйская, Кадаинская, Кутомарская и Мальцевская) вокруг Нерчинского Завода, Алгачинский (Алгачинская, Покровская и Акатуйская тюрьмы) вокруг Александровского Завода и Карийский (Нижне-, Средне- и Верхнекарийские) у Шилкинского Завода. Крупнейшими тюрьмами были Акатуй, Зерентуй и Кадая, где содержались в том числе "перворазрядники". Общее количество заключённых теперь подсчитать сложно - от года к году цифры могли скакать на порядок, но это наводит на мысли о каких-то чисто бюрократических сменах статуса, тем более из тюрьм каторжан бросали и на стройки вроде Амурской железной дороги. Единовременно в царском дальстрое трудилось 20-30 тыс. узников, что было вполне сравнимо с крупными лагерями ГУЛага, а всего за 180 лет нерчинскую каторгу прошло до миллиона человек.
2.
Первоначально это были исключительно уголовники, всякие конокрады, фальшивомонетчики и отцеубийцы. При Екатерине II к ним добавились повстанцы - например, яицкие казаки-"пугачёвцы". Их приняла основанная в 1757 году Кадаинская тюрьма, на сотню лет ставшая основным местом наказания политзаключённых - самым именитым её узником в 1864-66 годах был Николай Чернышевский. Вот такой увидел Кадаинскую тюрьму он, а более позднее здание (1907-08) сохранилось в Кадае и ныне.
3а.
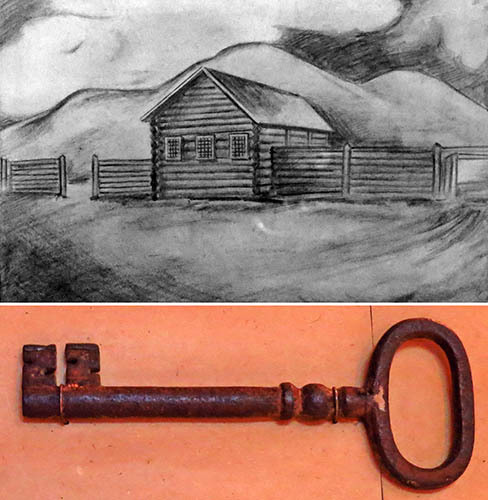
С 1873 года политзаключённых, в большинстве своём разные группы народников, стали отправлять на основанные в 1830-х годах Карийские прииски, о которых я уже кратко рассказывал в Сретенске. В 1880-х Кара ждала натурально всех политкаторжан, но в 1889 году в знак протеста против бесчестия и произвола здесь единовременно покончили с собой 6 заключённых - 4 женщины и двое мужчин. Всё это вызвало сильнейший общественный резонанс по всему миру с такой знакомой угрозой наложения санкций, и политических начали выводить с Кары, а в 1898 году Карийский район Нерчинский каторги был и вовсе закрыт. От его тюрьм теперь и следа не осталось:
3б.

Ну а герой песни Розенбаума не зря шёл "с двору от дому да в Акатуй-тюрьму" - последняя слыла самым страшным местом Нерчинской каторги. Основанная в 1829 году для разработки свинцового рудника, первоначально она предназначалась для рецидивистов, совершивших новые преступления уже на каторге. Таковым формально выходил и Михаил Лунин - самый непримиримый из декабристов, русский католик, события на Сенатской встретивший на службе в Польше, но арестованный как один соратников Пестеля, готовивших убийство Александра I. В Сибири большинство декабристов отошли от политики, но только не Лунин, в Иркутске продолжавший писать вольнодумские письма. За что в 1841 году и был он арестован да отправлен в Акатуй, где 4 года спустя умер. Первоначальное здание тюрьмы, где это произошло, успело дождаться фотографов:
3в.

Ещё до Лунина, впрочем, здесь содержались польские повстанцы и их лидеры. В 1889-90 годах Акатуйская тюрьма была по сути построена заново, став вместо Кары новым центром политической каторги. Теперь томились в ней эсеры, анархисты, коммунисты, в подавляющем большинстве - евреи. Как истинные пассионарии, бежали из Акатуя они с завидной регулярностью, так что с 1906 года сидели здешние узники по одиночкам в кандалах. Это, впрочем, тоже слабо помогало, и в 1911 году Акатуй стал женской тюрьмой, самой именитой узницей которой была, пожалуй что, Фанни Каплан. Большевики упразднили Нерчинскую каторгу одним из первых решений после Октября, и символ "тяжких оков" был тотчас разрушен словно Бастилия, а освобождённых узниц торжественно встречала Чита. Теперь в Акатуе напоминают о былом лишь фргаменты каменных стен да памятник Лунину на символической могиле.
3.
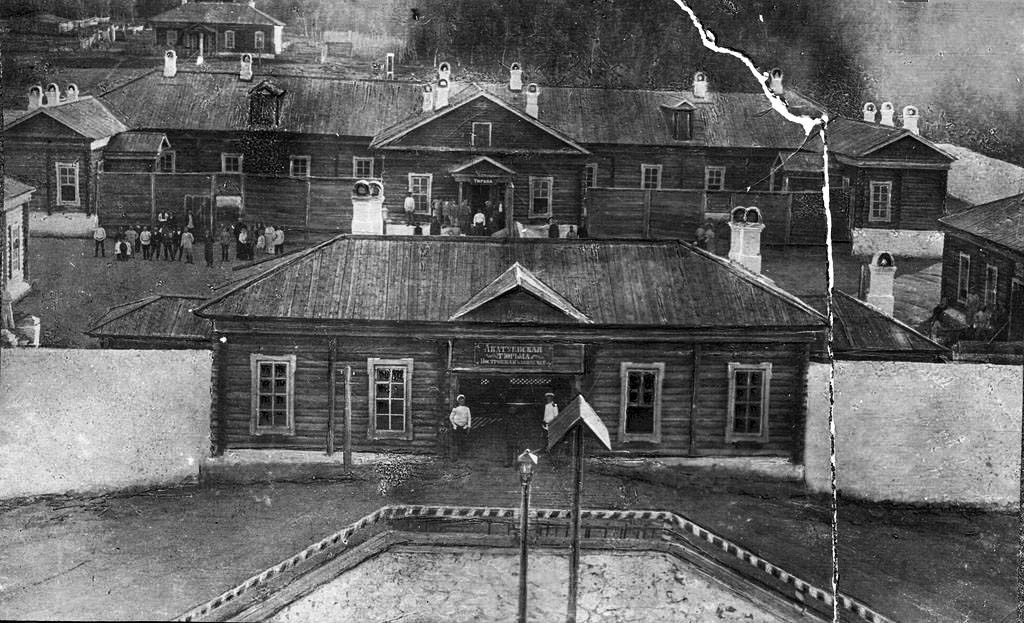
Дальше на смену кандалам пришла колючая проволока: ведь чем были сталинские лагеря, как не продолжением и развитием каторги? Они строились в куда более суровых местах (см. Трансполярка), и за десять лет пропускали через себя больше людей, чем Нерчинские тюрьмы за сотню. Где была выше смертность - сказать теперь сложно, поскольку в 18-19 веках она и на воле была куда выше, чем в ХХ веке. Но кое-что чекисты и правда искоренили - в отличие от сталинских лагерей, царские тюрьмы были сословны так же, как и вся страна. И если бараки для простолюдинов были такими...
3г.
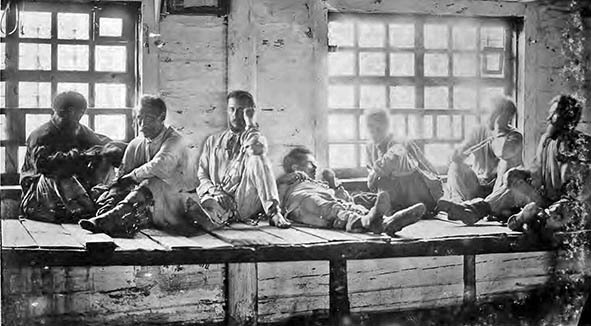
...то камеры дворян и интеллигенции не сильно отличались от номеров убогой гостиницы в современном Нерчинском Заводе, в которой ночевали мы с Петром.
3д.

От Нерзавода до Горного Зерентуя 17 километров. Полпути - по тракту на запад, полпути - боковой дорогой, уходящей в лес между руин Воздвиженского рудника и Ивановкой (см. прошлую часть). Вроде бы есть более короткий путь вдоль ЛЭП, но "туда" мы ещё в Нерзаводе поймали попутку, а обратно в надежде её поймать так и прошли все 17 километров пешком. Вот лесная дорога расступается широкой долиной с куском ядовитой пустыни на дне:
4.
Последней реинкарнацией Нерчинского горного округа стал Нерчинский полиметаллический комбинат, в 1956 году объединивший оставшиеся в строю рудники, которые по такому случаю прошли капитальную модернизацию. Добывали в них по-прежнему свинец, а вместе с ним - уже не серебро, а цинк и олово. Комбинат существует и ныне, но подавляющее большинство его предприятий закрылись в 1993 году. Как например Горнозерентуйский ГОК, руины которого и встречают на въезде:
5.
Он разрабатывал открытые ещё в 1745 году Благодатское и Екатерино-Благодатское (на кадрах выше и ниже) месторождения в 2 километрах друг от друга:
6.
Между ними же стояло горнозаводское село Благодатск, от которого теперь остался пяток домиков среди заросшего луга:
7.
Самый важный из них не пощадило время - вот в этой курной избе с брёвнами под венец жили Екатерина Трубецкая и Мария Волконская, те самые "Русские женщины" из поэмы Некрасова, ради своих мужей променявшие петербургский свет на каторжное захолустье. Екатерина Ивановна (между прочим, урождённая Лаваль - француженка) выехала из Москвы в октябре 1826 года, Мария Николаевна - в декабре, но два месяцы пути продолжились волокитой в Иркутске, откуда дальше на восток отважных женщин пропустили лишь после добровольного отказа от титулов и сословных прав (коих лишились их мужья) и согласия вести переписку с внешним миром только через офицеров. На Благодать первые декабристки прибыли почти одновременно, в начале февраля 1827 года.
8а.

Сами декабристы же стали первыми политическими каторжанами Забайкалья. Из 121 участника мятежа 7 суд приговорил к смертной казни, а 115 - к вечной каторге. Первые партии ушли из Петербурга летом 1826 года, последние были этапированы лишь в 1828-м. Путь их складывался по-разному - кто-то проделал его хоть и под охраной, но в санях и повозках, кто-то брёл в кандалах среди воров и душегубов. Для местных начальников же, привыкших видеть на каторге человекообразных, интеллигентные люди благородных фамилий стали явным разрывом шаблона - прибывая к месту наказания, декабристы вдруг обнаруживали, что начальники скорее на их стороне. Так, на солеварнях и винокурнях Усолья-Сибирского председатель Николай Горлов разрешил декабристам снять кандалы, допускал к ним в гости иркутскую интеллигенцию, и даже раскидал часть "урока" среди уголовников, за что вскоре сам пошёл под суд. Декабристов было решено отправить ещё дальше, в Забайкалье, и вот 25 октября 1826 года на Благодатский рудник прибыли 8 вольнодумцев - Сергей Трубецкой, Сергей Волконский, Евгений Оболенский, Артамон Муравьёв, Александр Якубович, Василий Давыдов, Андрей и Пётр Борисовы. Горный начальник Тимофей Бурнашев решил ошибок Горлова не повторять, поэтому общался с декабристами предельно грубо и запрещал снимать кандалы. Но в остальном декабристы быстро поняли, что и это их союзник: в казарме за ними никто не следил, двери её камер были открыты, на столах всегда имелись свечи, а надзиратели очень быстро превратились в верных слуг. Само собой, для Трубецкой и Волконской условие навещать мужей лишь под надзором и в строго регламентированные дни осталось на бумаге, сами же вчерашние дворянки наладили для узников снабжение хорошей едой и одеждой. Продолжалась вся эта Благодать недолго - в сентябре 1827 года декабристов этапировали в Читу, и тот поход, привыкнув к кандалам, они вспоминали как приятную прогулку по осенним лесам и степям, со стороны похожую на шествие пациентов сумасшедшего дома. В читинском музее декабристов - руда и инструменты Благодатки:
8.
И уж тем более стоит на своём месте изъеденная рудниками гора:
9.
У подножья её - руины ещё одного небольшого ГОКа:
10.
11.
От водителя же мы узнали, что где-то выше на горе спрятана Пещера Декабристов - старые выработки, где трудились узники Благодати. От ГОКа мы долго лезли наверх по сыпучим отвалам и каменистым лугам, и вот набрели на пещерку:
12.
Оказавшуюся каменной аркой над ямой:
13.
Стены выработки уходят вертикально вниз, где валяются обломки приставной лестницы:
14.
Ещё одна пещера нашлась дальше в лесу, практически над хорошо заметным с дороги кладбищем:
15.
И туда мы уже вполне могли влезть:
16.
Без вспышки хорошо заметны необычные цвета здешних камней, содержащих пол-таблицы Менделеева:
17.
Отсюда и название "полиметаллические руды" - Горнозерентуйский ГОК добывал свинец, сурьму, мышьяк, серебро и висмут.
18.
Куда-то сюда и лазали в своих кандалах декабристы. Рабочий день их начинался в 5 утра, заканчивался к полудню, а в казарме их ждали обед и самовар. Судя по воспоминаниям Оболенского "Работа была нетягостна: под землёю вообще довольно тепло, но нужно было согреться, я брал молот и скоро согревался". Ведь каждый декабрист работал в паре с опытным горняком, который и выполнял, видимо, большую часть урока - 3 пуда руды, доставлявшихся к выходу из шахты на носилках.
19.
Мы спустились на такую глубинку, до которой было видно солнце, и таки обнаружили в темноте остатки каких-то деревянных конструкций:
19а.

Вот так нерчинские рудники выглядят изнутри:
20.
Ну а от Благодатки пара километров дороги через лесистую гору приводит в Горный Зерентуй - старое село, живописно распластавшееся среди сопок:
21.
Основанный в 1732 году при разработке Старо-Зерентуйского месторождения, Горный Зерентуй большую часть своей истории слагал с Нерчинским Заводом двойную систему. Даже по размеру были они сравнимы - по 3 тыс. жителей в 1959 году. Население с тех пор неуклонно убывает, но если райцентр ужался в полтора раза, то село - почти вчетверо. А потому, как где-нибудь на Крайнем Севере, большая часть Зерентуя - руины:
22.
Особенно впечатляет бывшее кафе, из глубин которого на улицу глядит наивно-романтичная мозаика тех лет, когда казалось, что будущее прекрасно.
23.
Кое-где попадаются и явно старые постройки, причём не факт, что это были жилые дома - может, какие-нибудь мастерские или весовни:
24.
По соседству с первым заводом Нерчинских рудников зарождалась и каторга - именно в Горном Зерентуе в 1739 году была открыта первая в Забайкалье каторжная тюрьма. Позже она пережила несколько реконструкций, и минимум дважды строилась заново. Сначала - в 1825 году, с началом процесса над декабристами, когда предполагалась, что большая их часть отправится именно сюда. Первыми прибыли, чуть разминувшись с "благодатской восьмёркой", 3 участников восстания Черниговского полка - Венеамин Соловьёв, Александр Мозалевский и Иван Сухинов. Последний замыслил Зерентуйский заговор - расположив к себе некоторых офицеров, он обзавёлся оружием и думал поднять восстание, которое, конечно, должно было охватить все рудники и окончиться бегством декабристов в Китай, а оттуда в Европу. Мятеж намечался на 25 мая 1828 года, но в отличие от Кругобайкальского восстания поляков в 1860-х годах (см. Култук), тут дело не дошло даже до этого - всех сдал предатель, и арестованный Сухинов повесился, а пятеро офицеров и купцов, помогавших ему, пошли под расстрел. Мозалевского и Соловьёва признали непричастными к заговору и отправили в Читинский острог, а оттуда в 1830 декабристы были переведены на Петровский Завод, ставший основным местом их каторги. Туда же приехали и остальные 9 декабристских жён, так что и ныне главная улица Петровска-Забайкальского называется Дамской.
25.
Ну а тюрьма, при которой располагалось и управление Нерчинской каторги, от всего этого почему-то не провалилась под землю, и в 1889 году была даже отстроена в камне:
26а.
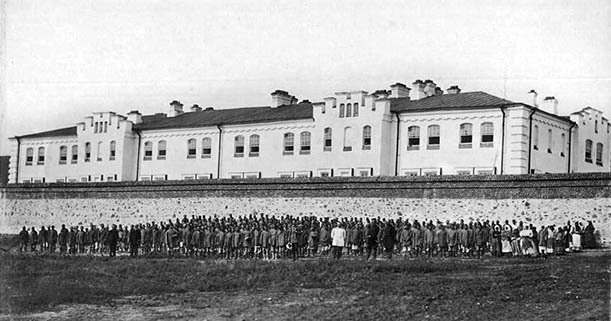
Сюда, как и в Акатуй, в 1890-х годах с Карийской каторги переселили политзаключённых. Жилось им поначалу неплохо - даже откровенно советские тексты признают "либеральный режим", при котором двери камер днём были открыты, арестанты свободного перемещались в пределах тюрьмы, ходили друг к другу в гости, покупали товары через потребительские артели, выписывали книги и журналы и продолжали те разговоры, которые их сюда привели. В 1908, однако, политзаключённые содрогнулись от вести, что в Зерентуй едет Иван Высотский - новый начальник, о зверствах которого в других тюрьмах в России знал уже любой неравнодушный человек. Опасения были не напрасны: вскоре политкаторжан разогнали по камерам и лишили права переписки. Окна камер были заколочены, а тюремщики с негласного одобрения начальства откровенно издевались над заключёнными и регулярно избивали их - времена, когда дворяне на каторге оставались элитой, давно прошли, и теперь надзиратель из низших сословий радостно делал с "барином" то, чего не мог сделать на воле. Характерной присказкой в ответ на возмущения тут было "А что не нравится - вон у тебя есть полотенце!", и вот 27 ноября 1910 года нашлись те, кто этому совету внял. Шестеро заключённых отравились, один из них - именитый эсэр-террорист Его Созонов, - умер. По городам страны прокатилась волна студенческих демонстраций, но закрывать Зерентуй, в отличие от Кары, не стали - лишь управление каторги вывели в 1912 году в Читу.
26.
К основному корпусу в 1905-08 годах пристроили ещё один - под одиночные камеры:
27.
Тюрьму закрыли в 1917 году, а в 1960 году здесь разместились ДК "Горняк", библиотека, столовая и средняя школа, постепенно заполнившая всё здание. И - покинувшая его считанные годы назад, может быть в 2020-м: новое белое здание стоит теперь по соседству, и мы даже зашли туда: я слышал о действующем при школе музее Нерчинской каторги. Увы, нам не повезло - ключ от музея есть только директора, директор уехал в командировку, учителя же встретили нас словами "Немедленно покиньте территорию учебного заведения!". В бывшем тюрьме зато нашлись открытые двери и разбитые окна, через которые мы не замедлили туда влезть:
28.
Школа-тюрьма - какой образ! Особенно если в своей школе ты был изгой... А уж в Забайкалье, на родине АУЕшничества, где во многих классах есть смотрящие, собирающие дань, всё это играет совсем уж особыми красками.
29.
Не знаю точно, когда школа была заброшена, но судя по всему - недавно и очень поспешно:
30.
По длинным коридорам, паркет которых помнит революционные идеи, мы обошли все 3 этажа:
31.
Но каторжных следов не приметили - лишь забытое оформление классов да матерные автографы бывших учеников, которые теперь и стереть-то некому:
32.
К бывшей тюрьме примыкает столь же бывший парк с братской могилой жертв "белого террора" и одиноким памятником Декабристу (1968):
33.
За парком обнаружились руины стен, совсем как на современных фотографиях из Акатуя:
34.
Вероятно, это остатки ещё одной, Мальцевской тюрьмы (1898), которая выделялся среди прочих тем, что всю свою историю была женской. Поначалу - уголовной, но с 1907 года сюда стали доставлять и политкаторжанок:
35.
А из окон Зенетуйской тюрьмы видна рудничная даль. Во времена расцвета рудников степь на полсотни вёрст вокруг была голойо, и та же Волконская предполагала, что лес свели, чтобы легче было ловить беглых каторжников. В тонкости производственных процессов она явно не вникала - конечно же, лес бы сведён на древесный уголь для заводских печей и горнов:
36.
Эти же цеха просматриваются с дороги, ведущей из Ивановки на юг, в Калгу, Краснокаменск и Борзю:
37.
По этой дороге и отправимся дальше, но сначала расскажу про ещё одну достопримечательность округи Нерзавода - марьины коренья:
38.
Так местные жители называют дикие пионы, в июне обильно цветущие на изумрудных лугах:
39.
О сказочно красивых цветах Нерчинской каторги писала ещё Волконская. Не в честь неё ли коренья стали марьиными?
39а.

По Забайкальскому краю они занесены в красную книгу, и в других районах действительно мне не встречались. Здесь же над редким лугом не стоит их аромат:
40.
Степи Забайкалья часто называют гиблыми - но тут важен сезон. Зимой здесь морозы в 30-40-градусов, бураны и злые ветра. Летом - штиль и удушливый зной. А вот июньская погода - в самый раз: степная трава в это время ещё не жухнет, а зелёные сопки кажутся плюшевыми.
41.
Во многих местах, впрочем, этот плюш продран карьерами и отвалами - за 300 лет тут разрабатывалось более 400 рудников, после упадка заводов в 1850-е годы многократно возрождавшихся и вновь умиравших. Вот скажем Алгачинская обогатительная фабрика 1880-х годов, на которую гоняли обитателей одноимённой тюрьмы (1869-1915) близ Акатуя:
41а.
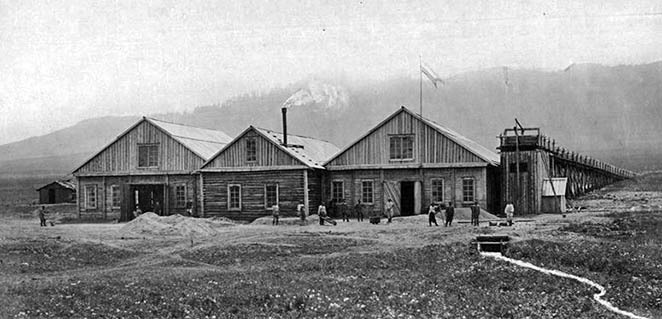
А вот у той самой дороги на Калгу раскинулся по сопкам Ильдикан - одно из крупнейших забайкальских месторождений:
42.
Октрытое в 1759 году, фактически оно представляло собой пару из полиметаллического и ртутного рудников, материалы из которых отправлялись на основанный в 1778 году Газимурский сереброплавильный завод за горами. Позже из ртути научились выделять золото, добыча которого и ведётся тут с 1990-х:
43.
Ведь из этих степей - и первое русское золото. Хотя найдено оно было не в Нерчинске, а далёкой Москве, где в 1714 году пробовальный мастер Купецкой палатки (вот ведь устаревшие, но совершенно понятные слова!) Иван Мокеев исследовать даурскую руду. Выплавить его удалось лишь в 1719-м, а вскоре Пётр I так символично отметил медалями из "злата домашнего" долгожданный Нинштадтский мир.
43а.
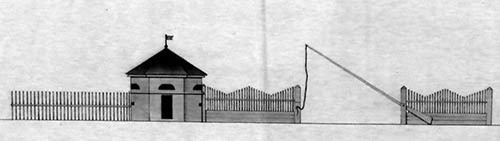
В последующую сотню лет "золотистое серебро", отправлявшееся в Петербург, было одним из главных богатств Забайкалья. Но рудники скудели, а новые месторождения ценных металлов открывались поближе к столицам, и вот в 1832 году горный инженер Александр Кулибин (сын знаменитого изобретателя и поэт) нашёл для Нерчинского горного округа новый смысл, открыв в Даурии золотые россыпи. Забайкалье охватила "золотая лихорадка"... но только какая-то странная - наводнённый тюремной стражей регион в прямой собственности императора не слишком манил старателей, зато в налаженной ещё в конце 18 века горным начальником Евгением Барботом де Марни геологоразведке начался настоящий бум. В короткий срок было открыто несколько крупных (как Казаковское или Карийское) месторождений, ко многим из них тут же подтянулась каторга, и в том же 1853 году, когда встал Нерчинский сереброплавильный завод, Даурия дала России 172 пуда золота. Дальше добыча начала снижаться, но вновь её подстегнул в 1865 году допуск частных фирм и старателей, многие из которых стремительно озолотились, как например Михаил и Николай Бутины, знакомые нам по Нерчинскому Версалю.
44.
На кадре выше - общий вид прииска, карьер по добыче золотой руды и рудоподъёмная машина над шахтой. На кадре ниже - карьерная машина для дробления руды и три золотопромывальные машины, на которые вагонетками завозился золотоносный песок. Рудное и рассыпное золото - принципиально разное сырьё, а здесь хватало и того, и другого.
45.
Большинство кадров со старым приисками я переснял в Бутинском дворце, а стало быть и сняты они в основном на приисках Бутиных вдали от Нерзавода и Зерентуя - на реке Дарасун, впадающей в Нерчу. Звучное название она дала сразу нескольким населённым пунктам, и в данном случае имеется в виду нынешний ПГТ Вершино-Дарасунский (5,1 тыс. жителей), статус получивший в 1932-м, а название в 1954-м. Первые прииски Бутиных разрабатывались там с 1865 года в пади Узур-Малахай, и их разрушение паводком в 1882 подкосило весь бизнес нерчинских братьев.
46.
На кадре выше - сам прииск Узур-Малахай, где была даже узкоколейка. На кадре ниже - стан (посёлок) Михайловского прииска там же:
46а.
Дачи Бутиных могли бы стать достопримечательностью Вершино-Дарасуна, но как я понимаю, они не сохранились - во всём Тунгокоченском районе, где находится этот посёлок, в списках не значится НИ ОДНОГО памятника архитектуры.
46б.
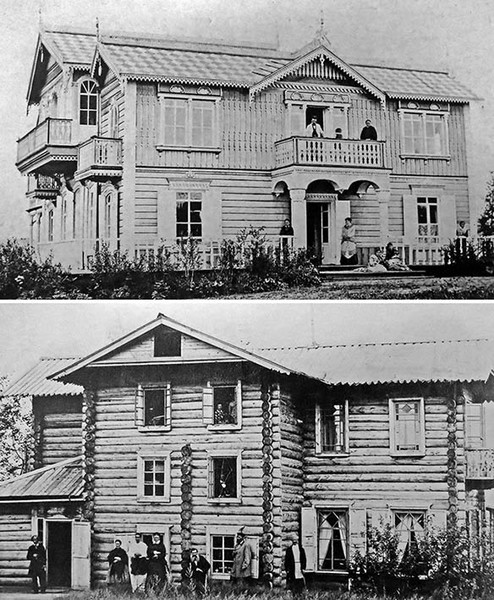
Наконец, в 1901 году в Лондоне было учреждено международное Нерчинское золотопромышленное общество, которое привело на свои прииски передвижные золотопромывальные машины, по-нынешнему говоря - драги:
47а.
Добыча золота продолжилась здесь при Советах, ведётся она и теперь. Забайкальский край замыкает пятёрку крупнейших производителей русского золота, но его особенность - отсутствие месторождений-гигантов в сочетании с доступностью небольших россыпей. Разрытые и размытые язвы приисков - типичная деталь в здешнем пейзаже:
47.
А золотари (тут это слово совершенно буквальное!) - натурально, специализация забайкальцев: на вахты в приисковые артели тут ездят целыми деревнями. Как в пределах края, так и куда подальше - на Колыму или Бодайбо.
48.
Небольшие русские и китайские артели легально и полулегально работают по всему краю тут и там. Причём китайцы запросто приводят через границу своих рабочих, а к русским не может не проникать вездесущий забайкальский криминал. Активно работают, в основном на брошенных приисках, и хитники, они же "чёрные старатели", они же "вольные приносители". Старательскую деятельность государство запретило ещё в 1954-м году, в 21 веке ещё и крайне ужесточило наказание, а теперь уже десяток лет идут разговоры о выводе этой деятельности из тени. В 2021 году в Бутинском дворце прошёл первый съезд золотопромышленников Забайкалья, который должен стать регулярным, и думается, такие съезды помогут навести порядок в отрасли. Пока договорились о самом простом - открыть Музей Золота в одном из реставрируемых корпусов дворца, ну а план-максимум у здешних золотопромышленников - строительство аффинажного завода, с появлением которого забайкальские руды впервые за три с лишним века начнут перерабатываться в пределах региона.
49.
А в общем не вся здешняя промышленность - про руды. Вот например Борщёвский винокуренный завод, основанный в 1865 году на Шилке таганрогским греком Михаилом Капараки, зятем Бутиных, которым предприятие и перешло в 1879 году.
49а.

От первоначальных рудников же на карте остались, помимо Нерчинского Завода, Газимурский Завод и Александровский Завод - оба теперь райцентры у дорог на Нерчинск и Борзю соответственно. Самый молодой в Нерчинском горном округе, Талманский сереброплавильный завод был основан в 1792 году, и лишь в 1825, пройдя переоборудование с серебра на свинец стал Александровским. Руду для него добывали на Акатуйском месторождении, а потому и именитых каторжан Алекзавод повидал немало. С закрытием завода в 1863 году здесь остались мастерские, снабжавшие кузнечными и литейными изделиями весь уезд.
50а.

Нынешний Алекзавод - типичный для Забайкалья маленький серый райцентр (2,3 тыс. жителей) посреди степи, где примечателен дом-музей Чернышевского, в котором писатель жил в 1867-68 годах. С дороги, его, конечно, не видать, поэтому самым примечательным объектом Алекзавода для меня стала мощная насыпь, которую не любая монгольская орда отважилась бы брать штурмом:
50.
Это - памятник уже новой, постсоветской попытки оживить Нерчинские рудники: частная железная дорога, ведущая в ГазЗавод от станции Нарын на окраине Борзи. Первоначальная стройка, начатая в 2008 году, должна была выйти в Лугокан восточнее Сретенска, но затем планы поменялись, и линию укоротили с 294 до 226км. Она была проложена в 2010-12 годах, затем брошена, и повторно открыта в 2015-м. Теперь железная дорога работает достаточно активно... вот только не стоит искать на ней вокзалов и расписаний поездов - это не более чем подъездной путь пущенного в 2014 году Быстринского ГОКа, добывающего медь, магнетиты и золото. Пассажиров здесь не ждут.
51.
Ну а советское время открыло на Нерчинских рудниках уже третье богатство. Какое? Отвечу на этот вопрос в Краснокаменске, о котором - следующая часть.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности и колорит Забайкалья.
Нерчиский Завод.
По диким степям Забайкалья. Золото и каторга.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск.
Кондуй.
...и несколько постов о Чите.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Зона заражения невольничье Молох Сибирь дорожное |
Нерчинский Завод. "Во глубине сибирских руд..." |
О Нерчинских рудниках и Нерчинской каторге большинство читающих эти строки знают со школьной программы: друзья Пушкина декабристы во глубине сибирских руд хранили гордое терпенье, а русские женщины Некрасова держали до Нерчинска долгий путь. Корректнее было бы называть те рудники и тюрьмы Аргунскими или Даурскими - показанный в прошлых частях Нерчинск был только центром обширного региона, в котором они находились. Мрачная колыбель русской цветной металлургии лежит в 200-300 километрах юго-восточнее, в основном на степных притоках пограничной Аргуни. Настоящим её центром был Нерчинский Завод - ныне районное село (2,3 тыс. жителей) на речке Алтача. Это - абсолютное Забайкалье, впечатляющее не столько памятниками прошлого (которые тут есть), сколько гнетущей атмосферой "проклятых рудников" и изложенным в прошлой части жестоким колоритом гуранов.
Степной юг Забайкальского края напоминает своей структурой Дон или Кубань - гнездовая сеть селений и связующая их паутина дорог. С той разницей, что сёла здесь меньше, расстояния - больше, рельеф сложнее, а на дорогах как правило даже асфальта нет. Сеть превращается в лабиринт: по карте пункт А с пунктом Б соединяет 5 маршрутов, но не убить подвеску или поймать попутку можно лишь одним из них. Лучшая подсказка - маршруты автобусов, а вот как транспорт автобусы имеют тот недостаток, что билет на них можно оплатить только на весь маршрут от Читы до конечного пункта. Добавьте сюда ещё и общую угрюмость забайкальцев, настороженное отношение к чужакам и убеждённость, что в такие края забираются или не по доброй воле, и со злыми намерениями - и можете представить, какой нетривиальной задачей становится забраться в эту глушь. Особенно когда к постоянным сложностям стихия подбрасывает временные: основной путь в НерЗавод - через Нерчинск и показанное в прошлой части Калинино с его руинами 300-летней церкви, у которых по изначальному плану мы с Петром должны были поймать автобус из Читы. Но ещё в Сковородино меня накрыл мощный ливень, не прекращавшийся почти сутки, а в Сретенске мне позвонил
 atomic_alert из Читы да предупредил, что притоки Шилки вышли из берегов, размыв дороги и сорвав с опор мосты, на восстановление которых уйдут ещё недели. Пришлось заходить с другой стороны: из Нерчинска мы уехали в Читу, а оттуда поездом в Приаргунск у китайской границы. Однако на стоявший у платформы прямой нер-заводский автобус мы не попали из-за решивших чуть-чуть повыносить нам мозги пограничников. Второй наряд, который мы встретили уже в центре Приаргунска, оказался доброжелательнее, но при слове "Нерзавод" у камуфляжных мужиков мгновенно потемнели лица. Уже на выезде пограничники догнали нас в третий раз, вручив бумажку с телефонами прокурорских чинов Нерчинско-Заводского района да предупредив, что "Там люди реально опасные...".
atomic_alert из Читы да предупредил, что притоки Шилки вышли из берегов, размыв дороги и сорвав с опор мосты, на восстановление которых уйдут ещё недели. Пришлось заходить с другой стороны: из Нерчинска мы уехали в Читу, а оттуда поездом в Приаргунск у китайской границы. Однако на стоявший у платформы прямой нер-заводский автобус мы не попали из-за решивших чуть-чуть повыносить нам мозги пограничников. Второй наряд, который мы встретили уже в центре Приаргунска, оказался доброжелательнее, но при слове "Нерзавод" у камуфляжных мужиков мгновенно потемнели лица. Уже на выезде пограничники догнали нас в третий раз, вручив бумажку с телефонами прокурорских чинов Нерчинско-Заводского района да предупредив, что "Там люди реально опасные...".2.
Автостопом по диким степям Забайкалья мы продирались натурально весь день, с тремя 2-3-часовыми зависами у обочин, где даже воды не попить. Машины ехали мимо, некоторые останавливались поговорить, но в благонадёжности нашей водители не убеждались, и мы продолжали стоять. Особенно охотно разговаривали с нами те, кому ехать до соседней деревни - вероятно, потому, что их такой контакт ни к чему не обязывал, а вот интерес к непонятным гостям разбирал. Гураны не сговариваясь выработали консенсус относительно нашей сущности - на жуликов, браконьеров, старателей или сектантов не похожи, на педиков тем более, туристы здесь не ходят, а значит остаётся только один вариант: мы - чёрные копатели. Те же, кто подвозили нас, напротив, проявляли редкое дружелюбие: ведь по каким-то своим причинам они были настроены к нам хорошо изначально. И кто только нас не подвозил! Местный "смотрящий" во главе растянувшийся колонны трёх джипов, оказавшийся и неплохим краеведом. Опер, ехавший в какую-то деревню "на труп". Двое золотарей, решивших с прииска смотаться в посёлок, и один нарвал в поле цветов, а другой поделился лайфхаком, что нерзаводские девушки отдаются за бутылку пива. 40 километров мы и вовсе проехали в кузове "зила", водитель которого сделал ради нас небольшой крюк.
3.
Так мы добрались до села Ивановка, куда сходятся с разных сторон дороги в Нерчинский Завод. На кадре выше обратите внимание на указатель - район старых рудников выдают стоящие треугольником на дорогах к Нерчинску и Борзе посёлки с характерными названиями - Нерчинский, Газимурский и Александровский Заводы, "для своих" соответственно Нерзавод, Газзавод и Алекзавод.
4.
Сама Ивановка - деревня в одну улицу (390 жит.), вытянутая вдоль соединившейся дороги. Первыми жителями её в 1747 году стали горнозаводские крестьяне и мастеровые Нововоскресенского рудника, и кажется, пара курных изб с брёвнами под конёк уцелели тут с той эпохи:
5.
5а.

От Ивановки до Нерзавода - всего 12 километров под гору. У дороги - руины крупнейшего в старые времена Воздвиженского рудника, основанного в 1746 году и сто лет спустя дававшего в Нерчинском округе почти четверть добычи. С 1951 года на нём уже советская шахта добывала полиметаллическую руду, но она закрылась в 1993-м, а в 2001 расселили и стоявший вокруг неё посёлок.
6.
Впереди уже видна нависающая над Нерзаводом двугорбая гора Крестовка (768м), но рассказ, как водится, начнём издалека:
7.
Историю русской экспансии в Даурию я излагал в Албазине и первой части про Нерчинск. В 1640-50-х годах казаки из Якутска через Становой хребет спустились на Амур, а в 1650-х отряд Афанасия Пашкова из Енисейска основал Нерчинск на левом амурском истоке - Шилке. Ведь помимо многочисленных народов, с которыми столкнулись тут казаки - земледельцев дауров и дючер и кочевников мурченов (конных эвенков), на Даурию претендовали маньчжуры, к тому времени из степной орды превратившиеся в империю Цин во главе покорённого Китая. Воевали с ними в основном на Амуре: маньчжурский флот не мог подняться в Шилку, а в степях от Шилки до Аргуни хозяином оставался тунгус. В 1667 году, однако, первым сразившийся с казаками тунгусский князь Гантимур внезапно пришёл под стены Нерчинска с немалым войском и попросился в русское подданство, таким образом превратив междуречье истоков Амура в русско-китайский буфер. И царь, отправляя послов к богдохану, наверное сделал бы из этой гиблой степи предмет торга, если бы в 1676 году тунгусы Аранжа и Мани не притащили нерчинскому воеводе Павлу Шульгину странные камни, найденные у Култук-горы в 12 верстах от берега Аргуни. К месту находки Шульгин отправил боярского сына Василия Милованова и рудознатца Филиппа Свешникова, которые вернулись с обозом руды и предположением, что речки Алтача и Мунгача (Золотинка и Серебрянка в переводе) свои названия носят не просто так. В Нерчинске мастер Козьма Новгородцев смог получить из 4 пудов руды 375 г металла - сплава свинца с серебром. Но этого было достаточно, чтобы воевода Фёдор Воейков в 1681 году на всякий случай поставил Аргунский острог на "китайском" берегу, в устье речки Маритки. В 1686 году, в разгар обороны Албазина, прапорщик Лаврентий Нейтер смог выделить из аргунской руды 13 золотников (65г) чистого серебра, после чего воевода Иван Власов отправил камни на экспертизу в Москву. Там, в лабораториях Стрелецкого приказа, рудоплавец Яков Галкин вынес 10 октября 1688 года окончательный вердикт - в Даурии есть серебро! И казалось бы, что тут такого в нашей переполненной природными ресурсами стране? Да вот сложно поверить, что вплоть до ХХ века Россия считалась страной, крайне бедной полезными ископаемыми, а наших первых серебряных рудников, найденных в 15 веке византийцами из рода Палеолог на притоках Печоры, хватило совсем ненадолго. Понятия "инфляции" в те времена не было, и твёрдой валютой, не зависящей от экспорта, располагали лишь те страны, которые чеканили монету из своего серебра. А потому совсем не удивительно, что в 1689 году Россия согласилась уступить по Нерчинскому договору Амур, лишь бы удержаться на Аргуни. Только Аргунский острог по новой границе пришлось перенести на левый берег к устью Кумары:
8а.

Село Аргунск и ныне стоит у границы, но как я понимаю, там нет теперь ничего интересного, кроме нескольких старых домов. Расцвет его пришёлся на первую четверть 18 века, когда Аргунск был главными воротами в Китай и вторым центром Даурии после Нерчинска, но в 1727 году новый пограничный договор отдал эту роль Кяхте. А вот заимки за рекой местные жители ставить повадились так активно, что прилегающий район Китая и ныне называется Шивей-Русская национальная волость. Последних чистокровных русских стариков с отбитой хунвейбинами памятью там можно было встретить ещё лет 5 назад.
8б.
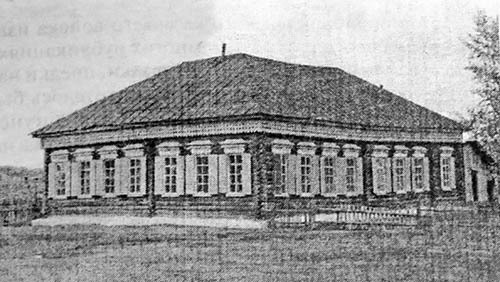
К весне 1689 года Галкин приехал в Нерчинск с указом о строительстве завода у Култук-горы, и к 1692 году на Алтаче были возведены первые горны. Но с отбытием Галкина стройка остановилась, и вновь взялись за неё лишь в 1700 году приглашённые (вероятно, из Аргируполиса, как в закавказском Алаверди) греки Александр Лавандиан и Спиридон Мануйлов за пятую часть от произведённой продукции. Которая после запуска завода 1704 составляла пол-кило серебра и чуть более центнера свинца ежегодно. В 1706 предприятие возглавил Семён Грек и сыном Иваном, но в общем дела на Аргунском заводе (так назывался он поначалу) шли ни шатко ни валко, да и работал он с апреля по октябрь, а зимой брался под охрану казаками. Развитие производства в столь далёком краю и в наши дни пускать на самотёк сами видите, а уж 300 лет назад - так и подавно. Первым делом, в 1720-22 годах, власти стали пытаться наладить систему управления. Из подчинения нерчинского воеводы завод был передан Берг-коллегии, в которой было учреждено Нерчинское горное начальство, или Бергамт. Сам завод под началом Иллариона Голенищева-Кутузова прошёл первую капитальную реконструкцию, освоив круглогодичный режим работы, и видимо примерно с этих лет из Аргунского стал Нерчинским. Производство серебра достигло нескольких пудов, однако в 1731-33 годах вновь остановилось исчерпанием имевшихся рудников. Заложить новые было не так-то просто - развитие упёрлось в дефицит рабочей силы. Тогдашняя Россия была ещё и очень малолюдной страной, по населению уступавшей иным европейским державам. На её просторах было много буйных голов, но мало рабочих рук, и вот кому-то в петербургских кабинетах пришла идея одних сделать вторыми. В 1739 году в Даурии возник первый "дальстрой" - Нерчинская каторга на рудниках и заводах, фактически бывшая и программой принудительного переселения. Ведь отбыв своё, каторжане редко решались идти тысячи вёрст туда, где их скорее всего уже не ждали. Потомки кандальных оставались в Даурии горнозаводскими крестьянами, сёла которых одно за другим возникали на притоках Шилки и Аргуни:
8в.

Тут стоит сказать, что у территориально-производственных комплексов советской экономгеографии был прототип - горные округа, представлявшие собой неделимые системы заводов, рудников, транспортных путей, приписных сёл, сельскохозяйственных и лесных угодий с общей администрацией. Округа могли быть частными, казёнными или кабинетными (то есть находящимися в личной собственности императора), и именно к последним относился Нерчинский горный округ размером с современную среднерусской область (35 тыс. км²), сформированный указами 1747, 1763 и 1787 годов. За эти 40 лет он сильно изменился: к первому указу тут было несколько рудников и всего 1 завод, к последнему - 8: следом за сёлами выросли Дучарский (1760), Кутомарский (1764; на кадре ниже), лежащий за границами округа Шилкинский (1767), Воздвиженский (1776), Екатерининский (1777), Газимурский (1778) и Александровский (1792) заводы. В разное время в округе действовало до 400 рудников (единовременно - до 40) в 9 группах - Урулюнгуйской, Аргунской, Средне- и Нижне-Борзинской, Нерчинской, Верхне-, Средне- и Нижне-Газимурской и Шилкинской. Следом запускались сопутствующие производства - например, крупнейший в Сибири Петровский железоделательный завод (1789, ныне Петровск-Забайкальский) в 800км западнее или суконная фабрика (1798) в Нерчинском Заводе. Для рабочих и мастеровых создавались госпитали, горные аптеки, учебные заведения... но производство упёрлось в новый "потолок".
8г.
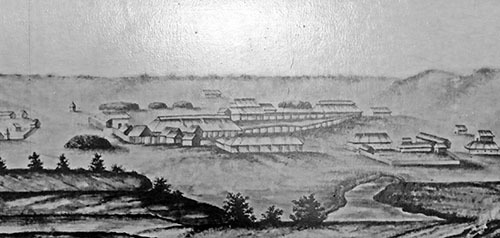
Расцвет Нерчинских рудников прошёл в 1764-76 годах под началом Василия Суворова (двоюродного брата великого полководца), когда добыча серебра достигала 600 пудов в год. Дальше она лишь снижалась, и ни внедрение новейшей геологоразведки французом Евгением Барботом де Марни, ни реконструкция заводов и реорганизация школ Степаном Татариновым и Тимофеем Бурнашевым не могли остановить этот процесс. Легкодоступные руды скудели, угар (потеря металла при плавке) рос, к середине 19 века превысив 1/3 (в 18в. было 12%), а то, что оставалось, было всё менее и менее выгодно везти за тридевять земель. Серебро отправлялось в Барнаул (где находился плавильный завод, а неподалёку и монетный двор в Сузуне) и напрямик в Петербург, свинец по большей части сбывался в Китай для обмена на промышленные товары. Геологоразведка же работала и в не столь глухих краях, находя серебро и свинец ближе к столицам. С 1830-х годов главным богатством Нерчинского горного округа стало золото, а с 1850-х, то есть ещё до Великих реформ, заводы начали закрываться. Первым, в 1850-м, выбыл Шилкинский завод (см. здесь), дольше всех, до 1907 года, держался Кутомарский - его вид накануне закрытия опять же на кадре ниже. Продолжалась и каторга, которую не смог на себя оттянуть даже Сахалин, и именно проклятые рудники, с которых клеймённым людям не было возврата, осталась в народной памяти символом первого в России района цветной металлургии.
8д.
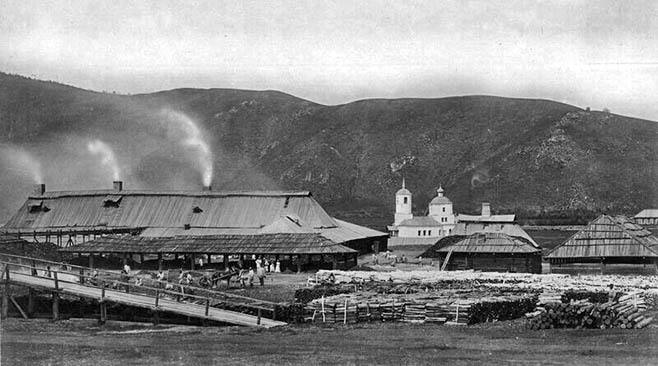
Нерчинский сереброплавильный завод, несколько раз менявший местоположение и на нынешнем месте построенный в 1764 году, встал в 1853-м. Но внутри округа он не зря назывался Большим или Первоначальным - его посёлок удержался на плаву как административный и торговый центр горняцкой округи. У подножья Крестовки (бывшей Култук-горы) ещё лежат два района, разделённых рекой, которые можно было бы назвать Горняцкой и Купеческой сторонами. Центр городка (пардон, селом его язык назвать не повернётся) теперь - именно купеческая сторона, и все дороги Нерзавода выводят на пыльную знойную площадь, над которой нависает Дворец Кандинских:
9.
Звучная фамилия тут не случайна: Кандинские были потомками вогульских князей с притоков Оби, давным-давно лишившимися своего Кондинского княжества и дворянских чинов. К началу 18 века судьба привела их в Якутск, где Пётр Кандинский промышлял воровством из церквей, за что в 1752 году ушёл в кандалах на Нерчинский Завод. Ещё лет через 20 он встретил на каторге своего сына Хрисанфа - тот перещеголял отца, став и вовсе разбойником тёжных дорог. Отбыв срок, Хрисанф взялся за старое, но только теперь видел цель: в Даурии у него родилось то ли 6, то ли 7 сыновей и 1 дочь, для которых разбойник занимался "первоначальным накоплением капитала". К 1817 году Кандинские вошли в купеческое сословие, а в 1834 стали купцами 1-й гильдии. Своего разбойничества Хрисанф от сыновей не скрывал, но видимо на свой лад пришёл к мысли, что ограбление банка ничто в сравнении с основанием банка: Кандинские преуспели как ростовщики и совладельцы, а заодно коррупционеры, быстро находившие общий язык с начальством вплоть до Михаила Сперанского, бывшего тогда иркутским генерал-губернатором. Помогали тут и родственные связи: плодились Кандинские вполне по-крестьянски, и уже к 1820-м годам представляли собой целый клан из 34 человек. Девушки из этого клана выходили замуж за крупных чиновников, а крупные чиновники охотно выдавали за Кандинских своих дочерей. С таким покровительством, конечно, вогулы стали настоящими хозяевами Забайкалья, на своё усмотрения устраивая даже порки и казни. К середине 19 века, кажется, во всём Нерчинском уезде не было человека, который не ходил бы у Кандинских в долгах. Центрами их империи стали Бянкино (аванпорт Нерчинска, где они освятили пару церквей) и Нерчинский Завод, где в 1830-40-е годы разрослась роскошная усадьба. И даже Бутинский дворец в Нерчинске был лишь её производным - ведь начинали золотопромышленники Бутины именно как приказчики у Кандинских...
10.
Дворец Кандинских стал неофициальным центром Нерчинского горного округа, где собиралась и его культурная элита. Например, литературный кружок, куда в 1820-х годах входили поэты Александр Кулибин (сын механика Кулибина), Фёдор Бальдауф и Алексей Таскин из числа горных инженеров. Здесь же останавливались в 1827 году Екатерина Трубецкая и Мария Волконская, приехавший к мужьям-дворянам-каторжанам на соседнем Благодатском руднике. Породнились Кандинские и с местным дворянством - потомками крещённых тунгусский князей Гантимуровыми и Катанаевыми, а дальше и сами постепенно прошли путь из пиратов в аристократы. Один из 7 сыновей Хрисанфа Сильвестр уехал в Москву, где в 1866 году родился его внук Василий Кандинский - впоследствии основатель русского абстракционизма, в чьих картинах потомки усматривают (и я бы на их месте усмотрел!) югорские и тунгусские мотивы. Другим правнуком Хрисанфа Петровича стал Виктор Кандинский, родившийся в 1849 году в Бянкино - он тоже уехал в Москву в университет, но только выбрал путь врача, а не коммерсанта. Жизнь изрядно покидала его туда-сюда, и вот в 1877 году на русско-турецкой войне, на борту миноносца, гурана накрыл странный психоз, от которого он даже бросился за борт. Незадачливого доктора спасли и в Севастополе списали на берег, и в попытках разобраться, что же было с ним, моряк стал великим психиатром Виктором Кандинским.
11.
Но простым крестьянам, охотникам, казакам в Забайкалье было с того не легче, и вот в 1851 году на местных цапков нашёл управу новый генерал-губернатор Николай Муравьёв. Его планы были амбициозны и в итоге воплотились - он возвысил Читу, основал Благовещенск, Хабаровск и Владивосток, заселил казаками Приамурье и присоединил к России те края, что были уступлены Китаю в 1689-м. Взятки местечковых бандитов его явно не могли впечатлить, и видя такое, влиятельная родня Кандинских отвернулась от них в страхе лишиться кресел. После короткой ревизии Муравьёв аннулировал все устные и откровенно кабальные сделки Кандинских да обложил их самих штрафами, и Вогульская империя пала - в 1853 году состояние клана рухнуло с нескольких миллионов до нескольких десятков тысяч рублей. Купцы Кандинские, конечно, продолжили свои дела по всей России, но к былым могуществу и подлости не возвращались уже никогда.
12.
В том же 1853 году закрылся Нерчинский завод, а в 1851 Муравьёв-Амурский организовал Забайкальское казачье войско, куда помимо старых казаков вошли и горнозаводские крестьяне, баржи с которыми вскоре ушли на Амур. Дворец Кандинских достался купцам Израилевым (это фамилия, ну а откуда она в Сибири, я давно рассказывал здесь), и при Советах в нём была всякая всячина от магазинов до столовой погранотряда. Магазины действуют на первых этажах и теперь, второй этаж же просто заброшен, и мы без проблем нашли туда лестницу со двора:
12а.
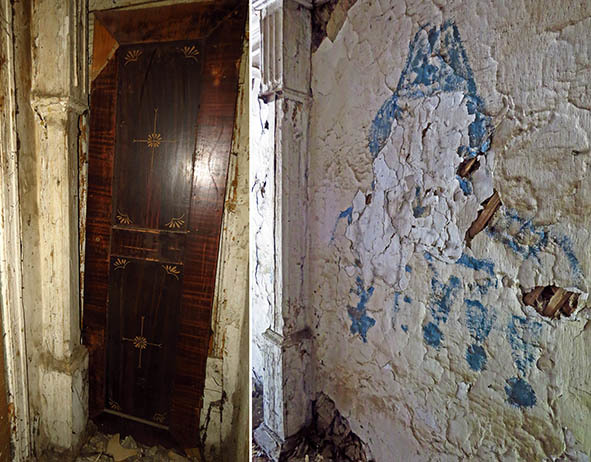
На другой стороне площади мы приметили гостиницу, где и решили остановиться. Гостиница стала отдельным впечатлением НерЗавода, так как по сочетанию качества и цены вполне можно считать, что нас в Забайкалье ограбили. В прокуренной каморке у входа сидела девушка со столь грустным лицом, будто ради этой работы ей приходится в лучшем случае сожительствовать с владельцем. Мы заселились в грязноватую комнатку с крошечным столиком и парой кроватей, которые застелили сами. Соседями были дальнобои и командировочные работяги, то с кем-то трёхэтажным матом решавшие вопросы по мобильнику, то с такими же матюками распивавшие спиртные напитки. На нашем втором этаже имелась ванная с рукомойниками, а вот удобства - деревенского типа, во дворе, причём туалетную бумагу предполагалось покупать где-нибудь в окрестных магазинах. Помыться нам разрешили за отдельную плату в нетопленой бане, нагрев воду в ведре огромным кипятильником. Путь к бане преграждала собака, и тропа сходила с дощатого настила за радиусом её цепи - на постояльцев псина не кидалась, а вот администраторшу была готова разорвать. Стирка белья здесь была бесплатная - но имелась в виду стирка в тазике со своими порошком, так как к стиральной машине хозяин никого не допускает. И всё же не имея альтернатив, мы отдали этому заведению за 2 дня 4000...
13.
Сбоку от гостиницы - мемориал Победы (1968), по разные стороны которого видна ещё пара купеческих домов:
14.
Кому принадлежал левый, уступающий тут только дворцу Кандинских, теперь толком никто не знает. Я слышал пяток купеческих фамилий, ни одна из которых вам в любом случае не скажет ничего. Так что остановлюсь на версии, что это был Второй особняк Кандинских.
14а.

Справа же - магазин Маркова (1840), куда в 1972 году переехал основанный двумя годами ранее школьный музей:
15.
Экспозиция в его тесном зале оказалось неожиданно подробна и велика, но ещё больше музей впечатлил меня гостеприимством. Его сотрудницы не стали объявлять нас чёрными копателями, а прекрасно поняли, что и зачем мы ищем. И пока Пётр бегал в сельскую библиотеку кое-что распечатать по своим делам, я сидел за столом с кадра выше и переснимал краеведческие материалы.
16.
Предметы каторги я оставлю для следующей части, а предметы металлургии покажу сейчас - вот например руда и изделия:
17.
А вотлотки старателей и примитивных обогатительных цехов, где промывалась дроблёная порода, и шлаки с места бывшего завода:
18.
Да работы местного кузница Александра Ёлгина не столь давних времён - а рунет о нём ничего и не знает:
19.
Попрощавшись с музейщиками, я пошёл искать Петра в соседнее здание библиотеки, а по ходу заснял и её интерьер:
20.
Печать трёх листочков оказалась делом не быстрым - согласовать её Петру пришлось пусть и устно, но на нескольких уровнях:
21.
Ну а сама библиотека - живёт. Как и в музее, здесь можно отдохнуть от косых тяжёлых взглядов:
22.
В прямой видимости площади, музея и библиотеки - полупереваренного вида памятник декабристам, возраст которого не опознать ни гуглением, ни на глаз:
23.
Начальная школа на заднем плане же то ли сложена из брёвен, то ли перестроена из обезглавленного здания Богоявленского собора (1895), главного на Купеческой стороне:
23а.
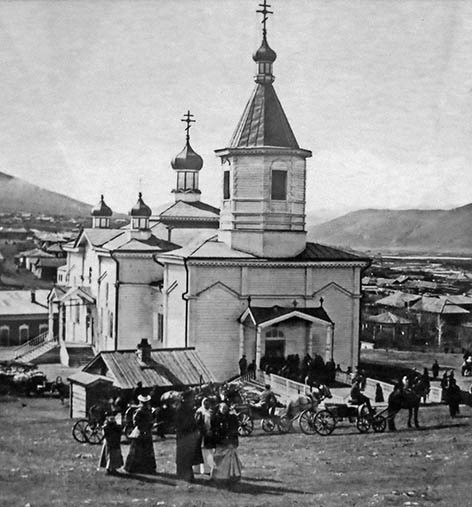
Из собора, как я понимаю, и вот эти люстры, хотя в музее было сказано, что они из тюрьмы на Благодатском руднике:
24.
Средние и старшие классы занимают бывшее реальное училище, построенное в 1914-15 годах по случаю 300-летия дома Романовых. История его куда длиннее - как Нерчинско-Заводская 1-я школа (с 1724), Главная горная школа Нерчинского округа (1764, с перерывом в 1788-1801, когда все здешние школы были закрыты), Нерчинское горное училище (с 1823) и низшее трёхклассное училище (с 1863) она готовила кадры ещё для старинных заводов.
25.
Которые, к тому же, сами обросли целым НИОКРом, куда входили, например, Нерчинская горная аптека (1762-63), ведавшая не только лекарствами госпиталя (с 1740-х), но и реактивами горных лабораторий (известных с начала 18 века) после их реконструкции в 1790-х при Барботе де Марни. В госпиталь и переехало училище в 1873 году, после того, как сгорело его старое здание - больницы были на всех заводах и в основном пришли в упадок вместе с ними, а вот школы - только на Нерчинском, Кутомарском и Петровском. Самым молодым объектом в 1832 году стала первая в Забайкальском крае метеостанция, по сей день работающая буквально на заднем дворе школы.
25а.

На углу школьной территории - обелиск революционерам, по виду - 1920-30-х годов:
26.
Выше площади примечателен новый и неожиданно симпатичный Дом культуры:
27.
Его предшественник был построен в 1958 погранотрядом:
27а.

А любительский театр в Нерзаводе образовался ещё в 1860-е годы, и с 1872 его спектакли проходили в Общественном собрании. Вроде бы даже неплохие для уровня самодеятельной труппы в глуши, и например отсюда проделала долгий путь до Малого и Александринского театров актриса Клеопатра Каратыгина.
27б.

Вдаль от площади центр тянется вдоль пересекающей её Красноармейской улицы, иногда заплёскиваясь на квартал выше. В основном - на восток, где стоит новая Богоявленская церковь (2001):
28.
Напротив третьего в Нерзаводе особняка с колоннами, на этот раз принадлежавшего купцам Лукиным, нам знакомым по Сретенску. Туда они пришли, став владельцами лучших на Амуре буксиров, из Читы, а начинали карьеру здесь, во глубине сибирских руд, ещё при жизни завода. В Гражданскую войну в их особняке был Совдеп, позже до 1960 - штаб погранотряда, и видимо поэтому во дворе стоит обелиск в память учительниц Марии Булгаковой и Натальи Черновой, убитых "семёновцами". Вообще, хотя отморозок-атаман Григорий Семёнов создал Забайкалью образ радикально белого региона, фактически оно, вплоть до большинства казаков, было скорее красным островом в Сибири. Отсюда - жесточайший белый террор, жертвами которого стали до 40 тыс. человек. И две учительницы с революционными взглядами - случай просто особенно вопиющий, а ещё 85 убитых нерзаводцев покоятся в братской могиле в лесу выше по сопкам, куда мы не дошли.
29.
Чуть дальше по Красноармейской - позднесоветская администрация, здесь похожая на приземлившийся космический корабль. С упадком рудников Нерзавод со всеми своими школами и метеостанциями выжил как административный центр - в 1872 году в составе Забайкальской области был образован Нерчинско-Заводский округ, с 1901 - уезд, при Советах ужавшийся до района.
30.
По сравнению с пиком Нерзавод сдал вдвое - вот только пик этот, когда тут жило 4,6 тыс. человек, выпал не на 1989-й и даже не 1959-й, а на 1939-й год и был обусловлен скорее инерцией демографического взрыва. В уездном Нерчинском Заводе жило порядка 3,5 тыс. человек, и подозреваю, со времён расцвета рудников он как минимум не вырос. В России не такая уж редкость города, которые сейчас меньше, чем 100 лет назад, но Нерзавод уступает себе 200-летней давности:
31.
Так что старые дома тянутся вдоль его неасфальтированных улиц далеко, но среди них не стоит искать шедевры:
32.
Вот эти дома сохранились, но я не смог соотнести их дореволюционные фото с моими. Верхними владели Птушкины и Богомяковы, главные торговые фамилии деиндустриальной эпохи, а нижний занимал Купеческий народный дом:
32а.
Но и думать, что здесь живая ткань той эпохи, не стоит. За сотню лет что-то сгорело, что-то рассыпалось и заросло быльём, что-то было разобрано на камень. В основном Нерзавод - советский райцентр в живописном пейзаже холмистой лесостепи:
33.
Отдельные опрятные дома, как и всюду в Забайкалье, выделяются в общей разрухе:
34.
Да и общественные пространства тут есть - даром что самодельные:
35.
Околицы Нерзавода плавно растворяются в степи, но и на этих околицах - явно старые избы:
36.
Широкая пойма Алтачи хорошо видна, а за ней - и остатки горняцкой слободки:
37.
Вот так выглядел Нерчинский сереброплавильный завод в 18 веке - горны, склады, важни вокруг Богоявленской часовни, а левее - рудник:
38а.

Вот то же место в начале ХХ века - как видите, изменилось многое. От цехов нет уже и следа, но ещё стоят какие-то административные здания - это могли быть, например, горная аптека или горный госпиталь. Часовня же к 1783 году разрослась в деревянную церковь, как-то незаметно к 1830-м годам ставшую Петропавловской. Она сгорела в 1876 году, и на её месте отстроили что-то очень странное, с барочным силуэтом храма и совсем уж неожиданным здесь "суздальским (то есть вогнутым) шатром" на колокольне:
38б.
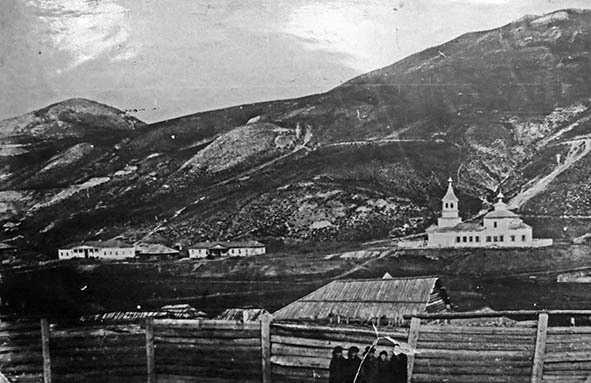
Но всё это не пережило ХХ столетия, и лишь абрис Крестовки, бывшей Култук-горы, вершину которой крест венчает с 1689 года, узнаётся:
38.
Усадьбу Кандинских огибает тропа, на которой стоит Дом горного начальника весьма почтенного возраста - первым его хозяином считается Тимофей Бурнашев, руководивший Нерчинским заводами в 1822-32 годах. Увы, уникальный памятник брошен, и теперь в покоях горного начальника крутят хвостами коровы:
39.
Ширина поймы напоминает, что Алтача может вытворять, но большую часть года это тщедушнейшая речка:
40.
А за домиками на той стороне виден шрам на теле Крестовки:
41.
Всё, что осталось от предприятия, с которого начиналась цветная металлургия России:
42.
Как я понимаю, выработки возобновлялись при Советах, и видимо с этим было связано разрушение каменных зданий внизу:
43.
Крестовка пронизана штольнями, входы в которые, по словам местных, были замурованы в 1970-е годы:
44.
Выше - зарастающие деревцами раскопки завода, где в 2014 году умудрились обнаружить и тут же поломать старинную печь:
45.
Со склонов Крестовки хорошие виды на посёлок. На кадре выше - дорога в остальную Россию, на кадре ниже - дорога в Китай: до второстепенного КПП к посёлку Шивэй всего 20 километров.
46.
Напоследок - просто пара зарисовок этого захолустья с великим прошлым:
47.
И портрет его весьма симпатичной жительницы:
48.
Что же до "реально опасных людей" - контакты, что дали нам пограничники, в итоге не пригодились, и у меня здесь было ощущение не столько опасности, сколько отчуждения. Глухой взгляд исподлобья - "что забыл, зачем пришёл?!". Мы для местных были явно не к добру, потому что к добру тут вообще ничего не бывает...
48а.

В следующей части погрузимся ещё глубже - расскажу о каторжных тюрьмах и приисках в диких степях Забайкалья.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности и колорит Забайкалья.
Нерчиский Завод.
По диким степям Забайкалья. Золото и каторга.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск.
Кондуй.
...и несколько постов о Чите.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: невольничье Молох Сибирь дорожное деревянное |
О микродонатах замолвите слово |
Вы, наверное, заметили, что в последний год я почти не напоминаю о том, что Вы можете поддержать этот журнал.
На самом деле - всё ещё можете, но речь сегодня не об этом.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
Хотя Яндекс-Дзен многими воспринимается как "убийца старого доброго ЖЖ", у меня всё ровно наоборот - мой канал "Субъективный путеводитель" на Яндекс-Дзене является залогом выживания блога Варандей в Живом Журнале. И вот же в чём проблема всех лет "упадка ЖЖ" - мне нравится этот блог и я не хочу его сворачивать. Однако для ведения хорошего трэвел-блога время и деньги отнюдь не взаимозаменяемы - нужно здесь и то, и другое. Нельзя создавать такие объёмы контента, если контент не приносит доход на сами путешествий и повседвнеую жизнь в дни работы над ним.
Сейчс такой доход приносит Яндекс-Дзен, и очень даже хорошо приносит, но что будет, если он закончится?
На Варандей-Фонд надежды невелики - моя аудитория в ЖЖ, достигнув пика в 2018-м, не падает, что уже немало, но и не растёт. С упадком платформы я вышел на некое плато, на котором и держусь. Все, кто мог прислать мне денег - уже это сделали, за это я вам очень благодарен и на эти деньги написаны посты 2017-19 годов, в том числе такие серии, как Вайгач, Алтай, Космическая программа, Дальний Восток, Закавказье. Но вот дальше...
В общем, я сейчас нахожусь в поиске "планов Б".
Слышал, что существуют сервисы микродонатов, на которых каждый заинтересованный человек может просто подключить регулярный небольшой автоплатёж в пользу интересного ему проекта. Буду признателен, если расскажете мне о таких сервисах и поделитесь опытом работы с ними.
Ну и вообще о том, как в наше непростое время монетизировать некоммерческий блог.
P.S.
Ни слова про видео! Я их не только почти не снимаю, но и даже почти никогда не смотрю. Это чужой для меня жанр, с тем же успехом можно советовать мне завести блог о проблемах отношений - тоже, между прочим, хорошо заходит. Относительно небольшая прослойка любителей текстов будет всегда, не говоря уж о том, что я хочу создавать долгосрочные полезные материалы, по которым люди могут готовиться к путешествиям, а тут текст намного удобнее видео.
|
Метки: с человеческим лицом Варандей-фонд |
Нерчинск. Часть 3: на краю диких степей Забайкалья |
Осмотрев в прошлой части Даурский Версаль, эту главную достопримечательность Нерчинска, колориту и истории которого была посвящена первая часть, выглянем теперь в дикие степи Забайкалья. Они подступают вплотную к околицам, и здесь есть свои исторические сокровища вроде старейшего здания доброй трети страны. Но куда больше запоминается идущая в этих степях своя, суровая и специфическая жизнь. Масштабами проблем и самобытности затерявшееся между Сибирью и Дальним Востоком Забайкалье напоминает не столько другие регионы России, сколько постсоветские failed states вроде Армении или Киргизии. И даже старожилы здешние, точнее говоря креолы, называются по-своему - гураны.
В бесконечных залах дворца Бутиных (который собственно Даурский Версаль) с 2003 года обитает музей, суть которого я бы описал как "всё о Даурии" - фото его экспонатов я использую во многих постах. В том числе - огромную коллекцию старых снимков коренных жителей, рудничных промыслов и городских зданий. Например, учебных заведений, которые в Нерчинске открывались в основном стараниями былых хозяев дворца и потому им посвящена экспозиция в отдельном зале. Там я увидел фотографию сельскохозяйственной школы в стиле модерн, которая прежде не попадалась мне в интернете, и спросив у музейщиков, сохранилось ли это здание, я узнал, что вполне - только стоит оно не в городе, а в посёлке Заречный в 8 километрах выше по Нерче. Недолго думая, я схватил такси за 250 рублей, и поначалу смотревший на это дело скептически автостопщик Пётр вскоре проникся моей идеей - что такое 250 рублей за открытие?! На фото - нынешний Нерчинский аграрный техникум в южных районах центра и въездная стела на севере города, подозрительно напоминающая бурят-монгольскую эмблему "соёмбо":
2.
В Заречный (900 жит.) ведёт неплохая дорога, через 30 километров выходящая на федеральную трассу "Амур":
3.
А в панораме села сразу обращают на себя внимание прямоугольные водонапорные башни 1960-х годов, для меня ставшие одним из символов Забайкальского края. В других регионах такие может изредка и попадаются, но здесь стоят в каждом селе:
4.
Есть в их абрисах что-то вайнахское, особенно когда вокруг целые валы из белазных колёс:
5.
Степное Забайкалье напоминает своим устройством Дон или Кубань - равномерная гнездовая сеть населённых пунктов, соединённых паутиной дорог. Вот только селения тут мельче, расстояния - больше, а сеть превращается в лабиринт - в теории из пункта А в пункт Б можно проехать пятью разными способами, а на практике не убить подвеску или поймать попутку можно лишь одним из них. Однако разреженная и рваная, но всё-таки сеть напоминает, что даже несмотря на мрачный климат с удушливым летом и лютой ветреной зимой, здесь - край вполне плодородный. Это понимали в уездном Нерчинске, у которого генерал-губернатор Николай Муравьёв-Амурский в 1851 году отнял роль столицы Забайкалья (в пользу Читы), а государь-император Николай II - роль восточных ворот (в пользу КВЖД). Ещё раньше зачахли рудники, и растеряв промышленность и торговлю, здешние купцы вспомнили про сельское хозяйство. В 1913 году в городе появилась аграрная школа, поначалу размещавшаяся в арендованной избе:
6а.

Но в 1912-16 годах для неё был построен отдельный посёлок выше по Нерче, миниатюрный аналог гигантских аграрных училищ в Омске, Воронеже или Москве. К его главному зданию нас и подвезло такси с совсем не забайкальским молодым шофёром - дружелюбным, общительным и проникшимся уважением при виде наших мега-рюкзаков.
6.
Увы, проработала Нерчинская аграрная школа недолго: в 1918 году, то есть при "белых", она переехала в Читу, и лишь в 1940 году тут заново открылся техникум. Правда, уже в городе - здание в Заречном заняла общеобразовательная школа.
7.
Во дворе её в середине июня да в выходной было тихо и пусто, и лишь одинокая крупная женщина-сторож приехала на велосипеде выяснить, что за люди с рюкзаками во двор пролезли.
8.
Всего у школы было 9 зданий, по большей части видимо таких:
9.
Учебные классы тут соседствовали с опытной станцией:
10.
Из которой при Советах сделали совхоз, центром которого и стал Заречный:
11.
Теперь это утлый посёлок в романтичном пейзаже Даурии:
12.
У школы мы приметили автобусную остановку, да у проходившего мимо паренька поинтересовались (слово "спросить" в Забайкалье забываешь быстро, да и банан предпочитаешь отламывать, а не кусать), ходит ли тут автобус. Паренёк пожал плечами - сам он видимо с машиной. Как я понял, из рейсового транспорта на 8 километров до Нерчинска - лишь междугородние автобусы, несколько раз в день проходящие тут между райцентрами и Читой.
13.
Ручей делит Заречный почти пополам и ближе к трассе школа, ближе к Нерчинску - руины ДК и несколько домов в архитектурном стиле "пленные японцы" (местный вариант "пленных немцев"):
14.
В общем, здесь - типичное забайкальское, то есть мрачное и неуютное село. Но представлять себе здешнюю глубинку совсем уж в духе Васи Ложкина не стоит - вот такие дома в крае тоже не редкость:
15.
Не понял я лишь то, за какой рекой стоит Заречный - как и сам Нерчинск, он на левом берегу Нерчи. Полноводностью она примерно как Москву-река, однако течёт без малого 600 с гор Яблонового хребта до устья на Шилке.
16.
Следующая достопримечательность, к которой мы отправились, расположена к югу от Нерчинска, по прямой - примерно в 12 километрах от центра. Вот только с двумя реками да бездорожьем логистика нерчинской округи - отдельный вопрос. Ведь единственный мост через Нерчу - на проходящей по северным окраинам города региональной дороге из Агинского в Сретенск:
17.
Формально ближайшая к Нерчинску станция Транссиба - Приисковая в устье Нерчи на другом берегу. Но от центра 7 километров по прямой превращается в 20 километров по дорогам, где вдобавок нет вообще никакого рейсового транспорта, а такси обойдётся в 400-600 рублей. Так что по факту железнодорожными воротами Нерчинска становятся не сильно более далёкие Холбон и Шилка на агинской дороге, куда хотя бы несколько раз в день ходит маршрутка. У моста Нерчинск провожает крестом и табличкой Победы:
17а.

Под мостом же при нас грузовик привёз к берегу лодку, на которой несколько мужиков готовились рвануть по реке охотиться или рыбачить. Сюжет, типичный для Сибири и Дальнего Востока, а Забайкалье - оно как-то очень причудливо расположено между одним и другим. С точки зрения физической географии это Дальний Восток - азиатский бассейн Тихого океана, куда несут свои воды Онон и Ингода, сливающиеся в Шилку, и Аргунь, сливающаяся с ней в Амур. Однако на западе Забайкальского края реки текут в Байкал, на севере - в Лену, а значит там уже Сибирь - азиатский бассейн Арктики. Исторически же Забайкалье с его воеводами, караванами, рудознатцами, бурятами да церквями в стиле барокко - к Тобольску или Енисейску явно ближе, чем к Сахалину или Владивостоку. Я бы сказал, что Забайкалье - ни что иное, как Старый Дальний Восток, где сопки помнят лихих атаманов и казаков на стругах.
18.
Историю русско-китайской борьбы за Даурию я уже рассказывал в Албазине и в первой части о городе, но сейчас всё же кратко её повторю. Какой бы суровой ни была Сибирь, русский казак оказался суровее, а потому за несколько десятилетий дошёл от Урала к Охотскому морю по таёжным рекам и болотистым волокам. На пути его жили малочисленные и почти первобытные племена, которые не составляла труда хоть покорить, хоть обойти за сотни километров. К середине 17 века форпостами колонизации стали северные Енисейск и Якутск. Из последнего экспедиции Василия Пояркова и Ерофея Хабарова ходили через Становой хребет к Амуру, где после долгих, похожих больше на геноцид индейцев, войн с земледельческими народами дючер и дауров, столкнулись с их сюзереном - маньчжурами, к тому времени покорившими Китай и ставшими его последней монархией Цин. За Амур и шла борьба в 1650-80-е годы: китайцы брали своё числом, а казаки - мобильностью. Первые раз за разом побеждали и уходили домой, а вторые возвращались со свежими силами на пепелища острогов. В 1652 году царь учредил Даурское воеводство, возглавил которое Афанасий Пашков из Енисейска, двинувшийся на восток с отрядом в 600 сабель. Шёл он медленно, проводя разведку местности и закрепляясь цепочкой острогов, и вёл с собой первого ссыльного - протопопа Аввакума, казнить которого царь не решался, а тот в тяжелейших условиях, не только сам выжил, но и многих казаков в староверие привёл. В 1653 пашковский сотник Пётр Бекетов перевалил Великий водораздел, выйдя в верховья Ингоды, а его десятник Максим Уразов заложил острог на Шилке против устья Нерчи.
19.
Назвал он ту крепость Нелюдской, ну а "нелюдью" прослыли среди казаки мурчены, или конные тунгусы. Они говорили на том языке, который теперь называют эвенкийским, и были частью древних тунгусских племён, переселившихся 2-3 тыс. лет назад с Алтая на Байкал, где с ними теперь отождествляется Глазковская культура. Те пратунгусы жили в таёжных и лесостепных горах вокруг Славного моря, кормились в основном охотой да разводили оленей. Однако в 5-6 веках Прибайкальем завладели тюрки-курыкане (см. Ольхон), и тунгусские племена начали отходить на восток. Те, кто привык жить в тайге, в итоге дошли до Охотского и Восточно-Сибирского морей, и именно к ним возводят свою родословную нынешние эвены и эвенки. Но помимо орочонов ("оленеводов"), как последние называли себе прежде, были и мурчены ("коневоды"), с Байкала ушедшие не в тайгу, а в степь, где поменяли оленя на лошадь. В Забайкалье, опустошённом Великим переселением народов, в 5-6 веков объявился народ, который китайцы называли увань, на 1000 с лишним лет ставший хозяевами степной Даурии. Схожие с орочонами по языку и духовной культуре, мурчены были классическими степняками, чьим домом была юрта, а хозяйством - сабля да колчан. Как я понимаю, их нельзя было назвать даже скотоводами - разводили тунгусы одних лишь коней, чтобы на них скакать, добывая пропитание охотой и набегом.
20.
Они были и военной знатью над земледельцами даурами и дючерами, но когда в 1638-40 годах князь Дулан Бомбогор проиграл сопротивление маньчжурам, его сосед Лавкай и преемник Албаза в Приамурье предпочли присягнуть богдохану. В 1655 году цинская флотилия выбила казаков с Амура, а в 1657 князь Гантимур из рода Дуликагир с реки Ганьхэ перешёл Аргунь и сжёг Нелюдский острог. Отстроен он был на северном берегу Шилки уже как Нерчинский, и именно там в 1659 году обосновался Пашков. Гантимур, видя, что такая крепость ему уже не по силам, ушёл в Китай, но в 1667 году вдруг вернулся оттуда, приведя в русское подданство 40 тунгусских родов. Требование Цинов выдать Гантимура (даром что одна из его 9 жён был сестрой покойного императора Абахая!) чуть не стало поводом к новой войне, однако лояльные кочевники в русском предполье намекали, что победа не будет лёгкой. В это же время казаки вернулись на Амур, в мурченскую ставку Албазин, и маньчжурам сделалось не до Нерчинска. В 1685 Гантимур и его сын Катан крестились как Пётр и Павел, дав начало фамилиями Гантимуровых и Катанаевых, распространившихся по трём сословиям - дворянству, крестьянству и казачеству. На Амуре оборонялся Албазин, в Пекине русские послы вели переговоры с богдоханом, а китайские купцы понемногу входили во вкус торговли с Западом через Нерчинск, и вот 1689 году Даурия была разделена меж двух держав по Нерчинскому договору. Царь велел казакам разрушить Албазин и уходить вверх по Амуру, богдохан обещал больше не претендовать на Забайкалье. Оставшиеся в степях мурчены образовали в 1761 году Тунгусский казачий полк.
21.
Вот только было в том полку всего пять сотен сабель, в то время как казаков, купцов, горнозаводских крестьян и каторжников в Забайкалье жили уже тысячи. Более того, из России сюда прибывали мужчины, а вот эвенки на своей земле были обоего пола. Словом, ныне о конных тунгусах неизвестно толком ничего, кроме заметок петровских географов, характеризовавших мурченов как ладных, вертлявых и разговорчивых людей с красивыми весёлыми девушками и похожими на головни старухами. Уже в 19 веке конные тунгусы исчезли почти без остатка. В Китае живут малочисленные (9,7 тыс. чел.) солоны, у которых есть даже Эвенкийский национальный хошуун во Внутренней Монголии. Но как я понимаю - и там увидеть солонский колорит можно лишь на фольклорных праздниках, а в повседневной жизни они не отличимы от соседей-дауров и ханьцев. В России же последний осоколок мурченов, около 400 человек - баргузинские эвенки, осевшие в горной тайге, но даже там продолжавшие разводить лошадей вместо более привычных оленей.
21а.

В Западном Забайкалье мурчены сблизились с бурятами, со временем переняв их язык и духовную культуру, традиции шаманства (порядком отличные от эвенкийских) и совсем уж чуждый эвенкам буддизм. Их потомки известны теперь как хамниганы - по сути отдельное племя бурят, вотчиной которого стал Кыринский район к западу от Агинского округа, а духовным центром - основанный в 1828 году Бырцинский дацан, до революции слывший тунгусским. Увы, и тут мурченов сопровождал злой рок: в СССР 1930-х годов закрылись все до единого буддийские храмы, но Бырцинский дацан был ликвидирован особенно жестоко - две сотни его лам убиты, а здания разрушены так, что теперь даже место их опознаётся лишь по памятному субургану.
21б.

Восточное Забайкалье же всё активнее обживали русские люди: ещё в 1677 году между Аргунью и Шилкой были найдены богатейшие запасы полиметаллических руд, которые, за невозможностью извлечь другие металлы, назывались просто серебро-свинцовыми. Тогдашняя Россия считалась очень бедной на цветные металлы, а значит даже в такой нереальной дали не мог не возникнуть горнозаводский округ. Тем более - после 1703 года, когда из здешних руд было впервые на территории России получено золото. Вот только кто бы согласился ехать в такую даль гробить себя в тёмных штольнях? Тунгусов и бурят к охране границ привлекали потому, что острый некомплект чувствовался даже у казаков, что уж говорить про всех прочих? Так в 1739 году был основан первый российский Дальстрой - Нерчинская каторга, в последующие полтора столетия наводившая ужас на всю Шестую часть суши. Силами каторжан во второй половине 18 века был построен десяток заводов, а большинство освободившихся не горели желанием идти тысячи вёрст в сторону дома. Их потомки, вместе с немногочисленными рудознатцами и квалифицированными мастеровыми, и стали первыми жителями большинства забайкальских селений.
22а.
Но к середине 19 века рудники оскудели, и Нерчинская каторга из Дальстроя начала превращаться в просто самую суровую кару для самых нежелательных людей. Безработным мастеровым вскоре нашлось новое дело: восточно-сибирский генерал-губернатор Николай Муравьёв решил взять реванш за Албазин, тем более китайцы за 2 века так и не заселили левый берег Амура. В 1851 году он выделил из Сибирского казачьего войска Забайкальское войско, куда вошли старые казаки, остатки служилых инородцев и даже горнозаводские крестьяне. Часть войска в 1854-58 годах сплавилась по Амуру, превратившись там в Амурское казачество, часть - осталась здесь, образовав Верхнеудинский, Читинский, Аргунский и Нерчинский полки (последнему принадлежало знамя с кадра ниже). Цветом забайкальских казаков, их знамён, погон, лампасов, рубах и фуражек стал жёлтый. С казачьей вольницей всё это не имело ничего общего - атаманом тут был губернатор.
22.
И тем не менее именно забайкальцы были последними из настоящих казаков, самых злых и отважных русских людей, живших в мрачной степи у тревожной границы. Им было, с кем воевать - например, подавлять Боксёрское восстание в Китае или оборонять Порт-Артур. Но и в мирное время казаки боролись с хунхузами - китайскими разбойниками, банды которых по границам Маньчжурии свирепствовали не хуже, чем орды кочевников в Средние века. В Забайкальском войске служили люди всей империи - например, остзейский барон Роман Унгерн фон Штернберг, проникшийся здесь идеями о возрождении под русским началом империи Чингисхана. На фронтах Первой Мировой командовать Нерчинским полком был назначен другой барон Пётр Врангель. Ну а Григорий Семёнов так и вовсе был сыном казака и староверки из караула Куранжа на берегу Онона. И хотя после революции едвали ли не наибольший из всех казачьих войск процент забайкальцев принял сторону красных, с такими одиозными лидерами Забайкальской войско сделалось одним из самых непримиримых противников для Советов. Уже в ноябре 1917 года Семёнов поднял мятеж в Маньчжурии, а в январе 1918 пересёк границу, чтобы изгнать "красную сволочь" со своей родины, где вскоре стал атаманом на японских штыках. 25 августа была провозглашена Забайкальская Казачья республика (она же - Забайкальская белая государственность) со столицей в Чите, номинально подчинявшаяся Временному Сибирскому правительству, а фактически не пославшей ему на помощь ни единого полка. Государством она была рыхлым, зато в условиях раскола среди казаков и произвола "семёновцев" стала эпицентром белого террора, уничтожившего до 40 тыс. человек, порой целыми селениями. Лишившиеся поддержки японских интервентов, "семёновцы" были разбиты красными, на стороне которых здесь сражалось 12 казачьих отрядов: в ноябре 1920 года грозный атаман бежал из Читы на аэроплане, бросив своих казаков. Позже Семёнов примкнул к русским фашистам в Харбине и Даляне и пользовался поддержкой властей Маньчжоу-го, с падением которой был арестован Красной Армией в 1945 году, а год спустя повешен. Уцелевшие семёновцы же в 1920-м ушли за Аргунь, и ныне именно забайкальцы слагают ядро казачества Австралии (где также осело немало амурских, уссурийских, уральских и семиреченских казаков).
23.
Нынешние забайкальцы не любят, когда их называют семёновцами - у половины местных старожилов предки сражались за него, но у другой половины - от него пострадали. Больше льстит забайкальцам, когда их называют каторжниками - потому что каторгой они называют свою теперешнюю жизнь. Историческое же название здешних старожилов, ныне почти вышедшее из обихода - гураны.
24.
Как оно приклеилось к ним, точно неясно: гуран - это косуля, и видимо "забайкальские гураны" были просто клише наподобие "тамбовских волков" или "русских медведей". По-научному же гураны - это креолы: тунгусы и буряты (метисы последних раньше имели своё прозвище - карымы) здесь не то чтобы исчезли, просто у каждого русского старожила в роду теперь есть степняк. Так, я знал девушку из Вершины-Дарасуна, у которой бабушкина прабабашка была тунгусской шаманкой, бабушка называла себя гуранкой, а сама она - дочь нескольких народов всей страны.
25.
Даже внешность забайкальцев узнаваема - средний рост, тёмные жёсткие волосы, высокие скулы, чуть восточный разрез глаз. Самые "чистые" типажи гуранов мне встречались между Нерчинском и Аргунью.
26.
Однако гуранов отличает не только внешность: какими могут быть потомки казаков и каторжан? Самое ёмкое слово, описывающее характер забайкальцев - тяжёлый. Люди в здешней глубинке угрюмы, молчаливы, подозрительны, и даже автостопом по диким степям Забайкалья путешествовать тяжело - останавливаются тут очень неохотно, ведь чужак может оказаться головорез, а то и того хуже - опущенный. Нет, само собой, отзывчивые и заинтересованные люди попадались нам и тут, и более того, с ним общение шло как мало где гладко - потому что подвозили нас только те, кто изначально был дружелюбен и открыт. Но в основном я понимал, что Забайкалье нам не радо, и меряя нас тугими взглядами, местные не спешили вступать с нами в какой-либо контакт. Нас часто принимали за чёрных копателей: для забайкальцев очевидно, что в эту гиблую степь приходят или не по доброй воле, или со злыми намерениями.
27.
Жестокий менталитет закрепляют реалии: Забайкалье - крайне бедный и неустроенный регион, богатства недр которого сочетаются с бездорожьем, дороговизной, разрухой в селениях, убогим бытом. Минимум в двух здешних райцентрах (Сретенске и Нерчинском Заводе) даже канализации нет! Тем более в Забайкалье нет и хорошей работы, и самой настоящей специализацией этого региона стали "золотари". Здесь это слово означает не то, что в Европейской части, а понимается буквально - работники золотодобывающих артелей. Старательство в современной России практически задушено, но крупным компаниям нужны рабочие руки, и в артели тут ездят целыми сёлами. Кто-то - подальше, на Бодайбо или Колыму, однако и само Забайкалье покрыто язвами размытых приисков:
28.
Те же, кто не хочет на каторгу, идёт в казаки: служба по контракту, в том числе в далёких войнах, и для нынешних гуранов частая путёвка в жизнь.
29.
Наконец, ещё одна местная специальность - корнекопатели, добывающие всякие целебные растения да продающие их в Китай. В июне это была солодка, она же солоха, она же сапожник растопыренный, и многие луга в это время полны людьми, как хлопковые поля Узбекистана в осенних хашарах. В основном, правда, корнекопательством занимаются буряты из Агинского - стоит ли говорить, что Забайкалье живёт по понятиям, параллельно государственной власти в любом посёлке есть "смотрящий", и своё место тут для каждого определено.
30.
В Забайкалье опасно, что подтверждает даже статистика - явно хуже криминогенная обстановка только в Туве. Но в сопоставимых по цифрам умышленных убийств Амурской или Иркутской областях мне было куда спокойнее: здесь я, натурально, каждый день радовался, что мы вдвоём и высокого роста. Преступность в Забайкалье особенная - жуликов да грабителей, равно как и пьяных дебоширов, тут если и больше среднего по стране, то не намного. Куда сильнее, чем его имущество, местных интересует сам чужак: правильный он пацан или мутный какой-то, бродяга он честный или же злато-серебро ищет? Забайкалье требует очень своеобразной манеры общения, которую
 atomic_alert из Читы метко сформулировал как "на расслабоне": говорить с местными надо напористо, уверенно, развязно, но при том держась одинаково далеко от страха или хамства. Слабого тут сожрут, борзого - обломают, и ладно если не убьют, а интеллигентного мямлю тут просто не заметят в упор. Разговор с местными, особенно если он завязался просто на улице, почти всегда включает в себя интуитивную проверку на прочность, какой-нибудь вопрос или смену интонации, реакций на которые покажет настрой чужака. Гибель байкера Алексея Барсукова, которого в 2010 году застрелили из ружья и сожгли труп за отказ бухать с местным, тут очень показательна - скорее всего он не просто отказал им, но и сделал это как-то не по понятиям. Как и у зарезанного 30 ударами ножа сквозь палатку японца Коити Онита в 2012 не забрали будто бы ничего - просто лицо его кому-то не понравилось. Тут вряд ли подбегут сзади и начнут бить ногами - но не умея "поставить себя", не стоит забираться дальше Нерчинска.
atomic_alert из Читы метко сформулировал как "на расслабоне": говорить с местными надо напористо, уверенно, развязно, но при том держась одинаково далеко от страха или хамства. Слабого тут сожрут, борзого - обломают, и ладно если не убьют, а интеллигентного мямлю тут просто не заметят в упор. Разговор с местными, особенно если он завязался просто на улице, почти всегда включает в себя интуитивную проверку на прочность, какой-нибудь вопрос или смену интонации, реакций на которые покажет настрой чужака. Гибель байкера Алексея Барсукова, которого в 2010 году застрелили из ружья и сожгли труп за отказ бухать с местным, тут очень показательна - скорее всего он не просто отказал им, но и сделал это как-то не по понятиям. Как и у зарезанного 30 ударами ножа сквозь палатку японца Коити Онита в 2012 не забрали будто бы ничего - просто лицо его кому-то не понравилось. Тут вряд ли подбегут сзади и начнут бить ногами - но не умея "поставить себя", не стоит забираться дальше Нерчинска.31.
Так что в Нерчинск пока и вернёмся: простояв с часок за мостом, мы вызвали такси и поехали в сторону Шилки. Пожилой водитель наотрез отказался нас ждать за полцены и уехал назад порожняком, хотя по ходу торга признался, что работает сам на себя. Нерчинск тянется по тому берегу, и у реки можно увидеть его градообразующее предприятие - колонию №1, переведённую сюда в 1936 году из Укурея. Она же и главное учебное заведение города: в 2011 году в соседнем Приисковом оперативники взяли банду грабителей, вломившихся на железнодорожный склад, избив сторожа. В той банде была пара матёрых уголовников, а в основном - подростки из благополучных по забайкальским меркам семей. Первые были лишь посредниками с арестантами ИК-1, вторые же занимались тем, что воспроизводили их понятия на воле - в своей школе они распределили "смотрящих" по классам, которые собирали с других учеников "общак", частью уходивший их наставникам за решётку. Так впервые заявило о себе АУЕ - не организация (слава богу, запрещённая в России), а целая субкультура, распространяющая блатные понятия в школах и училищах. То и дело проявляет себя эта зараза по всей России, в Забайкальском крае же школы впору делить на "красные" (то есть обычные, как везде) и "чёрные", чем и руководствуются адекватные родители, отдавая туда детей. Для жителей глубинки же и вовсе никакого АУЕ не существует, с их точки зрения это просто миф столичных газет: сами они жили так со времён царской каторги. Более того, они считают, что так и надо жить - подростки де знают, что говорить и кому говорить, а мимо зорких "смотрящих" не просочится в посёлок ни педофил, ни наркодиллер.
32.
Беда Забайкалья - в том, что здесь не было хорошо НИКОГДА. При царях тут не сложилось переселенческого рая, при Советах за длинным рублём ехали не сюда, а отсюда. Остервенение у местных жителей копилось несколько веков. И единственное, что хоть немного отвлекает от мрачных реалий - это природа: сказочная красота пейзажа, яркие сочные краски цветущих степей, плюшевые склоны сопок и нереальная прозрачность воздуха.
33.
В 7 километрах ниже Нерчинска стоит Михайловка, она же Старый город - лучшую часть своей истории Нерчинск располагался там, а переехал в 1812 году выше по Нерче из-за регулярных наводнений. Мы могли бы доехать туда на такси рублей за 150 да перейти по пешеходному мостику через Нерчу в Приисковый, вот только теперь в Старом городе нечего делать - воеводский Троицкий храм (1712-20) разрушили при Советах:
33а.

Как и Никольскую часовню в устье Нерчи (1892), где цесаревич Николай в своём Азиатском вояже закончил путь на пароходе вверх по Амуру:
34а.
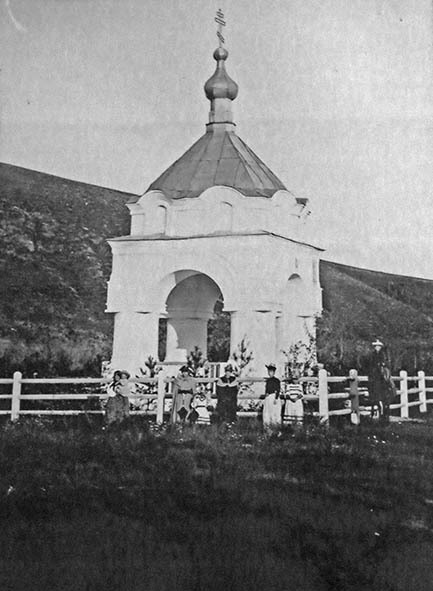
ПГТ Приисковый (1,2 тыс. жителей) с унылейшим вокзалом 1960-х - уже на правом берегу Нерчи, в узкой стрелке двух рек. С трёх сторон окружённый водой, он стоит в развилке мостов - железнодорожного через Нерчу:
34.
И автомобильного через Шилку - нам за него:
35.
Ведь за Шилкой село Калинино, до 1923 года - Монастырское, стоит на том самом месте, где в 1653-57 годах был Нелюдский острог.
35а.

Но и позже здесь начиналась дорога к Нерчинским рудникам и китайской границе. В дни нашей поездки закрытая из-за наводнения, она остаётся основным путём из Читы в НерЗавод, ГазЗавод, Шелопугино... Последним кабаком у заставы смотрится заправка местной сети "Нефтемаркет". От её описания на официальном сайте веет бритыми затылками, кожаными куртками и паяльниками в неподобающих местах: "предприятие образовано от 17 ноября 1992 года. С момента его создания пришлось преодолеть много трудностей, чтобы крепко встать на ноги, это обуславливалось, как наличием экономического кризиса в России в 90-е годы, так и дисбалансом в сфере отношений на рынке нефтехимической отрасли. Несмотря на это, следуя четким и отлаженным действиям руководства, удалось добиться внушительных результатов". Бензин в Забайкальском крае на 5-10 рублей дороже, чем в соседних регионах (что сказывается и на цене такси), с автомобилями же связан и популярный местный миф: если дальневосточники веруют в "лосося по 70 рублей в Москве", то забайкальцы убеждены, что японские машины на своей родине продаются по 50 тыс. рублей за штуку. Само собой, в долларах - в отличие от дальневосточников, здесь мало кто был в Японии.
36.
Само Калинино - врастающее в землю чёрное бревенчатое село. Здесь много старых изб, одна из которых меня впечатлила особенно - приземистая, курная и с венцами под конёк, она выглядит принесённой сюда прямиком из раскопок Старой Ладоги или Берестья. На деле ей и правда может быть 300 и более лет... .
37.
Изба заброшена, и я рискнул зайти внутрь. Там обнаружилась печь, но судя по размерам и металлической трубе над крышей, она была сложена позже.
37а.

На других избах попадаются красивые наличники:
38а.

А у кого-то - вот такой сюжет. Наперекор разрухе и остервенению, в Забайкалье хватает и по-южному домовитых людей:
38.
Здесь тоже есть ДК, пустой и деревянный:
39.
Но главная достопримечательность нерчинской округе надо искать на краю села. В 1706 году у дороги за Шилкой по указу аж Петра I возник Успенский монастырь. Бедный и малолюдный, он опустел к середине столетия и в 1772 году был закрыт. Однако ещё в 1712 году в монастыре освятили Успенскую церковь - первое каменное, а в наши дни и попросту единственное в России здание тех времён восточнее Байкала:
40.
И сказать, что она потрясает - не сказать ничего! Простой русский храм, как где-нибудь под Ярославлем - но только среди сопок, тайги, быстрых рек, глубоких руд и таинственных бурханов:
41.
Закрытая в 1929 году, церковь заброшена и иссечена мощными трещинами. Не знаю, возможно ли её отреставрировать, но это явно будет делом долгим и дорогим. Местные не стали ждать и соорудили рядом часовню без архитектуры:
42.
Считается, что строила церковь артель мастеров из Соликамска под началом Моисея Долгих. Уральское барокко тут и правда узнаётся - ведь сибирское барокко в те годы только начинало оформляться.
43.
Я видел церкви Армении - но так ли впечатляет их возраст в 1200 лет, если 1500-летняя церковь стоит в соседнем ущелье? Совсем иное дело тут: этому храму всего три века, но ближайшие здания сопоставимого возраста находятся в Иркутске - за тысячу вёрст по дорогам.
44.
Конечно же, мы зашли в пустой храм, встретивший нас закопчённым потолком и ещё одним порталом:
45.
Потрескавшаяся трапезная наполовину под открытым небом:
46.
Высокий зал по-прежнему величественный:
47.
Пётр предложил залезть на колокольню, и как скалолаз со стажем, придумал как преодолеть трещину, с которой сам я бы связываться не рискнул:
48.
Комната за дверью с кадра выше:
49.
Колоколов здесь нет уже без малого 100 лет - церковь брошена треть своей истории...
50.
Видно с колокольни немногим больше, чем от подножья, но эта церковь так удивительна, что мне хотелось осмотреть её всю:
51.
Впереди - Калинино и Шилка:
52.
С остальных сторон - лишь сопки и луга:
53.
Над зеленью которых нависают Шивкинские Столбы, доминирующие и в панорамах Нерчинска:
54.
Такая вот она - Даурия...
55.
Здесь, по изначальному плану, около 13 часов дня мы должны были поймать автобус из Читы на Нерчинский Завод, до которого ещё 300 километров по грунтовке. Но накрывший меня под Сковородино небывалый ливень вызвал наводнение на притоках Шилки, смывшее мост в Шелопугино. Восстанавливать его должны были не менее недели, а потому было решено из Нерчинска ехать Читу. На выезде из Калинино мы простояли не менее часа, и одна из машин притормозила, но после вопроса "Подвезёте до Нерчинска?" водитель дал по газам со словами "Конечно, нет!". В итоге нас подхватили трое золотарей из Балея (где свой прииск крупнее города), которых на трассе ждала вахтовка в Амурскую область. К вечеру, с бодрой женщиной из Кокуя, минуя множество ручьёв, один из которых носил название Дуралей, мы добрались в Читу. Там - пару дней погуляли, а потом уехали на поезде в Приаргунск, откуда всё-таки добрались с обратной стороны до НерЗавода.
Но тематический порядок я вновь вставлю выше хронологического, так что в следующей части отправимся прямиком во глубину сибирских руд.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
|
Метки: Зона заражения невольничье Великая Степь Сибирь дорожное Молох казаки злободневное этнография |
Нерчинск. Часть 2: Забайкальский Версаль |
Гуляя в прошлой части по улицам уездного Нерчинска, мы старательно не смотрели на его главную достопримечательность - Бутинский дворец, которую называют ещё Забайкальским, или Даурским Версалем. Построили его на краю страны не князья из крещёных тунгусов на захваченное предками китайское добро и не казачий атаман на тюремные взятки, а купцы-золотопромышленники Бутины, начинавшие приказчиками у легендарных Кандинских. Многие старые города Дальней России я называл "купеческими республиками", но Нерчинск уездной эпохи был, по аналогии с суперпрезидентскими, республикой сверхкупеческой. Раскинувшийся на несколько кварталов дворец не назвать шедевром архитектуры, но за фасадами его скрыто немало сюрпризов, будь то крупнейшее в мире зеркало или кажущийся бесконечным музей. Помимо дворца сегодня покажу ещё и верхние кварталы центра, не поместившиеся в прошлой части, и забавную деталь современности - "Нерчинскую социальную сеть".
В Нерчинске, как и в соседнем Сретенске, нет улицы Ленина, что довольно странно в краю освобождённых каторжан и подлежавших перевоспитанию казаков да купчин. От Нерчи центр города поднимается пологой лесенкой улиц Ярославского (она же - набережная и железная дорога), Советской (до революции была Большой), Погодаева, Первомайской и Красноармейской. Всю прошлую часть мы ходили между первыми двумя, осмотрев в том числе просторную площадь Борцов Революции с руинами Гостиного двора. Советская улица отделяет от площади стадион с весьма колоритном расположенным памятником Ленину:
2.
Перпендикулярно реке стадион и площадь ограничивают улицы Достовалова и Шилова - левее и правее кадра выше соответственно. У опушки стадиона на Шилова - советский центр с типовым кинотеатром "Нерча"...
3.
...и коробкой районной администрации, с которой я перепутал куда более футуристический роддом на другой стороне улицы:
4.
А с ограды стадиона глядят через Советскую улицу на Гостиный двор и памятник Борцам Революции (см. прошлую часть) два десятка белых щитов с лицами и старыми фото, которые я бы назвал современной достопримечательностью города:
5.
Вот наглядная иллюстрация того, что Нерчинск не смирился с ролью захолустного райцентра и сохранил память, что не выскочка-Чита, а именно он - подлинное сердце Забайкалья. Или, вернее, Даурии - в официозе, хотя и лишь в сфере культуры, это забытое название теперь в ходу только здесь. В прошлой части я рассказывал о Нерчинске как о городе суровых старожилов, живших по понятиям задолго до того, как столичная интеллигенция узнала такое слово. Но вместе с тем Нерчинск сохранил необычайную для 15-тысячного городка прослойку собственной интеллигенции, которая преемственность возводит к учителям бутинских школ и навигаторам Нерчинской секретной экспедиции, а переносом губернского центра в Читу недовольна так, словно это вчера случилось. И вдруг оказывается, что совсем не обязательно ждать, когда Москва перестанет забирать себе все налоги, чтобы сделать свой город живее: местные интеллектуалы в 2015-16 годах придумали "Нерчинскую социальную сеть", а население умудрилось за все эти годы не причинить ей ни малейшего вандализма:
5а.
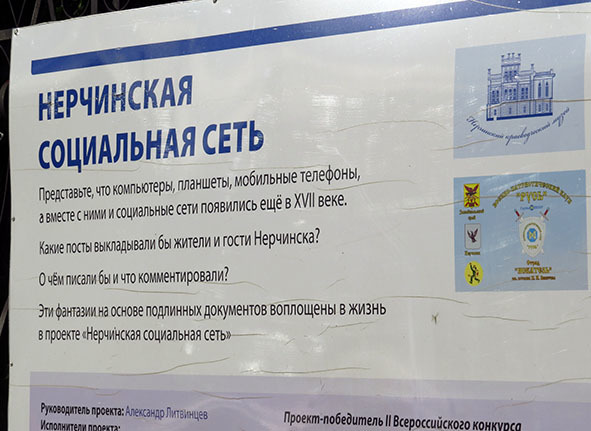
Нерчане, как и большинство забайкальцев, немногословны и недоверчивы к чужакам. Поэтому с туристами общается теперь сам город, причём делает это не занудно и высокопарно, а расслабленно и не боясь быть неправильно понятым. Два десятка инфостендов на ограде стадионы оформлены как посты и комменты, причём интерфейс не копирует ни одну настоящую соцсеть. Здесь Чехов предстаёт заезжим топоблоггером, которому нет времени читать, что пишет о нём местное общество - одна его фраза "Городок не ахти, но жить можно" на века вперёд будет весомее всех краеведческих статей. Сосланный в Забайкалье ещё до его присоединения протопоп Аввакум мирится с пытавшимся его уморить воеводой Афанасией Пашковым: вся экспедиция в Даурию, по итогам которого в 1653 году был основан Нерчинск, сопровождалась казнями солдат, обращённых Аввакумом в староверие, а грозный воевода на старости и правда ушёл в монастырь. Тунгусский князь Гантимур сжёг в 1657 первый нерчинский острог, а 10 лет спустя вернулся с ясаком, привёл в русское подданство 40 родов, и вместе с сыном Катаном крестился, положив начало дворянским родам Гантимуровых и Катанаевых - и вот послы да воеводы обсуждают его как живую достопримечательность города.
6.
Иностранцы здесь тоже бывали нередко - всё же до постройки КВЖД именно Нерчинск, на пару с Кяхтой, был главными воротами в Китай:
7.
Отдельный стенд - пятиминутка ненависти к Чите, которую генерал-губернатор Николай Муравьёв (впоследствии Муравьёв-Амурский) возвысил в 1851 году, конечно, по собственной прихоти:
7а.
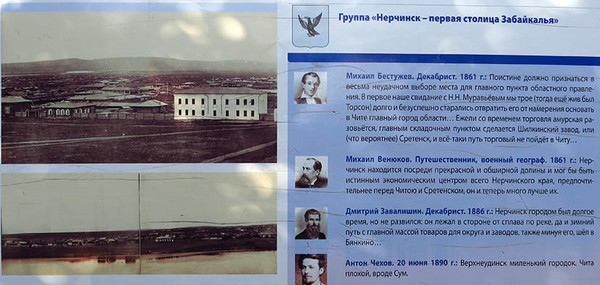
Тогда из Иркутской губернии выделились в Забайкальскую область два уезда с центрами в Нерчинске и Верхнеудинске, и новый центр Забайкалья было решено создавать на пол-пути между ними. Для Нерчинска это был удар - как центр воеводства, уезда, провинции, области он оставался главным городом в этом краю, и даже наводившие ужас на святую Русь рудники да каторжные тюрьмы назывались Нерчинскими весьма условно, так как располагались в сотнях километров от него. Рудники к тому времени пришли в глубокой упадок, проработавшие сотню лет сереброплавильные заводы закрывались один за другим, а безработных мастеровых Муравьёв записывал казаками новоявленного Забайкальского войска да отправлял на баржах колонизировать Амур. Из старых рудокопов были и Бутины, прибывшие в Даурию ещё на заре освоения её рудников в конце 17 века. В казаки их не взяли потому, что к 1850-м они уже выбились в купцы и жили крепкой семьёй-гильдией с неделимым (даром что было он невелик) общим капиталом. Занимались они не горной добычей, а мелкой торговлей, так как все рудники Нерчинского горного округа числились даже не казёнными, а "кабинетскими", то есть принадлежащие лично государю. То немудрено: в 1702 году именно под Нерчинском из серебряной (по современной классификации скорее полиметаллической) руды было получено первое русское золото, а с 1830-х годов "проклятый жёлтый металл" здесь всё настойчивее теснил серебро. Золото, однако, манило - в Забайкалье ехали берг-офицеры, приказчики, рабочие, а потому и купечество здешнее процветало - всем им можно было что-то продавать, причём - втридорога.
8.
Самыми цепкими купцами Забайкалья были Кандинские - по своей фамильной легенде, потомки вогульских князей с приобской Конды, к 18 веку выродившихся настолько, что подались в криминал. Пётр Кандинский обкрадывал церкви, сын его Хрисанф разбойничал в тайге, и вот в 1750-70-х годах сначала один, а потом и второй пришли в кандалах в Забайкалье. Отмотав сроки, однако, они остались здесь жить и взялись за старое, но только теперь разбой стал для них вполне осознанным "первоначальным накоплением капитала": поняв, что ограбление банка ничто в сравнении основанием банка, Кандинские подались в ростовщики и коррупционеры. К середине 19 века это был могущественный и беспощадный купеческий клан из нескольких ветвей, этакие Цапки своей эпохи: Кандинские не пытались выйти за пределы Даурии, но кажется, во всём Нерчинском уезде не было бы человека, который бы не ходил у них долгах. Попутно манси породнились с эвенками Гантимуровыми и Катанаевыми, и именно из этой ветви происходил основоположник Василий Кандинский, которому психиатр Виктор Кандинский был троюродный брат: как бывало в истории не раз, за несколько поколений род прошёл путь от пиратов до аристократов. В Забайкалье же на пиратов нашёл управу всё тот же Николай Муравьёв, всерьёз начавший разбирать жалобы тех, кого Кандинские пустили по миру, и совершенно равнодушный к их взяткам. За пару лет он аннулировал множество устных или откровенно кабальных сделок, от чего в 1853 году за несколько месяцев капиталы Кандинских рухнули в сотни раз. Вогульская империя в Забайкалье распалась, и один из её кусков достался братьям Николаю и Михаилу Бутиным. Семейную гильдию возглавил их дядя, а потому они работали приказчиками в нерчинском магазине Кандинских, который под шумок и выкупили себе. В 1864 же государство разрешило частную добычу золота, и вместе с зятем одного из братьев, ейским греком Михаилом Капараки, Бутины подались на Дарасун. Озолотившись к 1866 году, они учредили "Торговый дом братьев Бутиных", а к концу десятилетия были богатейшими людьми Забайкалья. И, выкупив участок у мещанина Михаила Суханова, начали строить дворец:
8а.

План дворца, раскинувшегося на добрую четверть (!) уездного Нерчинска, впечатляет. На кадрах выше - его главный дом на углу Советской и Достовалова, построенный на рубеже 1860-70-х годов. Но лидер клана Михаил Бутин усвоили урок Кандинских - подмяв под себя город, он стремился быть для нерчан не дельцом, а отцом.
9.
И, как оказалось, не прогадал в этом. От золотых приисков Дарасуна "Торговый дом братьев Бутиных" начал экспансию за Байкал. В 1874 году им перешёл Николаевский железоделательный завод, строившийся как казённый в 1845-54 годах на речке Долоновке под Братском, где Бутины провели реконструкцию и построили себе целое пароходство из 13 судов. Два винокуренных завода, - Ново-Александровский под Иркутском (с 1871) и Борщевский в Забайкалье (с 1879), - обеспечивали оба берега Славного моря товаром, на который в России всегда есть спрос. Другим таким товаром во все времена была соль, в торговлю которой Бутины зашли со второй попытки: соль взятого в аренду Боряинского озера в Забайкалье оказалась "дурной", но в 1880-81 годах предприимчивые нерчане построили новый завод на бесхозных Шестаковских ключах у Илима. Однако в чём-то они были подобны своему земляку Тимуджину, строия империю столь же стремительно, сколь и недолговечно. Первое же крупное наводнение, в 1882 году смывшие прииски Дарасуна, показало, что и дворец вчерашние приказчики отгрохали не по средствам - несколько лет "Торговый дом братьев Бутиных" вёл судебные тяжбы, банкротился, и наконец в 1892 году со смертью Николая Бутина был официально упразднён. Всё, что осталось у Михаила Бутина - роскошное имение, старые связи да уважение нерчан, но как оказалось - и это немало! Купец-потомок рудознатцев, Бутин зажил как стареющий граф в ветшающем замке, и не столько как фундатор, сколько как организатор и лоббист продолжил облагораживать город.
10а.

Бутинской неофициально назывался участок Большой улицы, проходящей вдоль дворца. С одной её стороны стояли Мавританский дворец Михаила Бутина и Деревянный дворец Николая Бутина, с другой - Городская дума, здание которой я показывал в прошлой части. В 1886 году там открылся музей, основанный не самим Михаилом Бутиными (исправно спонсировавшим экспедиции в Китай), но московским активистом Алексеем Кузнецовым, которого они пригласили сюда налаживать сельское хозяйство и фотографию. Путь музея на другую сторону улицы, однако, был долгим и тернистым:
10.
Патриарх Нерчинска, Михаил Бутин умер в 1907 году, завещав свою резиденцию народному образованию. Ещё в 1872 году он на свои деньги построил напротив дворца музыкальную школу, а в 1906, уже как попечитель, открыл в доме Капараки (см. прошлую часть) реальное училище. Оно и заняло в 1908 году корпуса вдоль Большой улицы. В 1921 году училище сменил Народный клуб, в 1926 сюда же переехал музей... но - совсем ненадолго: в 1932-м здание натурально отжали военные под клуб гарнизона, а экспозицию, почти в прямом смысле, выкинули на улицу - точнее, в заброшенный корпус дворцовых конюшен. Сколько экспонатов тогда было украдено или пришло в негодность - теперь вряд ли кто-то сможет посчитать, я видел цифры - до 12 тысяч, и среди них, конечно, не могло не быть уходящей даурской фактуры, какой теперь уже просто нет. Дворцу всё это тоже не пошло на пользу - мебель и ковры бравые офицеры не стеснялись растаскивать по домам, а когда тащить стало нечего - армия вернула дворец городу, толком не знавшему, что делать с таким подарком. С 1950-х годов Даурский Версаль занимали, где-то параллельно, а где-то сменяя друг друга, Дом Пионеров, техникум с общежитием, библиотека, Горсвет и Горгаз... В 1982 сгорел Деревянный дворец, в 1993 пожар случился и в Мавританском дворце, на восстановление которого у обнищавшего города не было денег. С 1997 дворец Бутина был просто заброшен, и видимо лишь жёсткий понятийный аппарат нерчан не позволил ему превратиться в бомжилище. Сказывалось и то, что ценность дворца к тому времени понимали и в городе, и в области, так что борьба за средства на его спасение вышла на федеральный уровень. Наконец, в 2003 сюда вернулся музей - хочется верить, что окончательно:
11.
Буквально из фойе мы прошли в Музыкальный зал - настоящую витрину Бутинской империи:
12а.

Свет 370-килограммовой люстры, 96 свечей которой зажигал специальный механизм, отражается в гигантских зеркалах:
12.
Главное зеркало из единой плиты площадью 16 квадратных метров - крупнейшее в мире чуть ли не до сих пор, и уж на момент изготовления - тем более. И при том - идеально гладкое, без малейших аберраций. Создала его (как, видимо, и другие зеркала во дворце) французская фирма "Сен-Гобен", которая существует с 1665 года, первой освоила производство зеркал крупнее настольных, и ныне остаётся одним из лидеров мирового рынка стройматериалов. Михаил Бутин увидел это зеркало в 1878 году, приехав в Париж на Всемирную выставку, и недолго думая вытащил из-за пазухи то ли пачку ассигнаций, то ли и вовсе самородок с Дарасуна, да веско сказал "Беру!". Из Франции зеркало везли морем до Николаевска-на-Амуре, специальной баржей вверх по реке до Бянкино (фактически - нерчинского аванпорта), а оттуда три десятка вёрст до города просто несли на руках. Транспортировка явно обошлась не дешевле, чем приобретение, и даже больше самого зеркала меня впечатляет тот факт, что на таком пути его смогли не раскокать.
13.
Рамы зеркал - типовые по всему дворцу, и те, кто изготовляли их для Всемирной выставки, вряд ли знали, что где-то на Земле есть Нерчинск...
14.
Музыкальным же зал назывался не только потому, что в нём устраивались торжества и играли оркестры, но из-за своего оформления. На стенах - мемориальные доски композиторов:
15.
На оркестровом балконе - барельеф "Ангелы и муза":
16.
Парадная лестница ведёт туда мимо гостиной на втором этаже с изящной кованной мебелью. Здесь с 1875 года встречает ещё одно стеклянное чудо: витраж "Архангел Михаил поражает Диавола", сделанный, как считается, в 1857 году в Мюнхене в мастерской Франца Цеттлера. Таковая правда существовала, хотя и не при дворе баварского короля (как пишут на некоторых местных ресурсах) и даже делала единственный в России витражный иконостас для церкви Иулиана Тарсийского в Царском Селе (увы, не уцелевший). Но вот с датами что-то не сходится: Цетллеру в 1857 было 16 лет, то есть либо витраж сделан позже, либо не им - а, например, всемирно известной мастерской Франца Мейера в том же Мюнхене, которому Цеттлер приходился зятем.
17.
На оркестровом балконе теперь экспозиция, посвящённая образованию в уездном Нерчинске. За кадром остались витрины, из которых даже я узнал про одну достопримечательность и по выходе из дворца помчался её фоткать.
18.
В следующем зале за дверью левее Большого зеркала - ещё одно зеркало, лопнувшее в том самом пожаре 1993 года:
19.
Помимо него здесь уцелели фрагменты интерьера, в том числе заметный в зеркале портал окна.
20.
И ещё одна изящнейшая люстра:
21.
Лозунг "мир хижинам, война дворцам" обернулся катастрофой для культурного наследия везде, где ступала нога большевика. Но может потому замкам и усадьбам Европейской России, Украины, Прибалтики хватило куда меньших испытаний, чем те, что выдержал Даурский Версаль - там такого много, там любить былых владельцев было не за что, а стало быть и что жалеть всю эту мишуру?
21а.

Судя по старым фото, особенно вычурными и пышными Бутинские интерьеры и не были - стены в обоях, растения в кадках да среди них роскошная мебель и диковинки со всей Земли:
22а.

Кое-какие из этих диковинок всё-таки сохранились, и вместе с картинами да личными вещами Бутиных слагают экспозицию Мавританского дворца:
22.
23.
А вот за дверью правее Большого зеркала - фотографии Бутинских фабрик, приисков и пароходов, изделия Николаевского завода (например, лестница), заслонка печи и кружки из Борщёвских винокурен...
24.
...и сейфы, в которых Михаил и Николай что-то хранили.
25.
Дальше тянется анфилада залов окнами во двор, к которым примыкают залы окнами на Советскую улицу:
26.
Красивые интерьеры тут лишь в последнем зале - бывшей библиотеке, хранившей до 30 тыс. книг:
27.
Экспозиция же столь обширна, что в этой анфиладе мы с Петром завязли часа на 2-3, так что у меня рука снимать устала, а последние залы смотрели мы почти бегом, понимая, что тут можно провести и весь день. Я бы переименовал Нерчинский краеведческий музей в Национальный музей Даурии - об этом полиамурном (ведь Ингода, Онон, Шилка, Аргунь - всё вариации Амура!) регионе в музее можно узнать действительно ВСЁ.
28.
Но именно поэтому большинство кадров отсюда я распределил по другим постам, начиная с Албазина:
29.
Сделан с душой, обширен и небанален тут даже зал советской эпохи... но сегодня мой рассказ всё-таки про дворец.
29а.

Тот же корпус со двора:
30.
Двор тут вполне официально называется Сад Даурского Версаля, и с 2003 года находится в состоянии неспешной, но всё же заметной реставрации. Небольшие ворота ведут сюда с Советской и Погодаева, но главный вход - через огромную "мавританскую" арку на улице Достовалова. Рядом ещё один корпус напоминает, что мы не в замке аристократа, а на вилле купца - здесь хозяева держали магазины:
31.
Немалая часть сада по-прежнему выглядит так - на переднем плане, кажется, руины оранжереи, а поодаль - столовая для служащих:
32.
Но хочется верить, что и до них дойдёт дело - вот воссозданная в 2020-м Мавританская беседка сверкает новизной:
33.
Открывая целый ряд беседок:
34.
Который завершает памятник даме в длинном платье - если на фасаде жили Михаил и Николай, то в глубине дворца хозяйкой была их сестра Татьяна.
35.
Руководить своей музыкальной школой напротив дворца Михаил Бутин пригласил в 1872 году чеха Маврикия Маурица - талантливого сироту, искавшего лучшей доли в России. Вскоре Мауриц стала и Татьяна Дмитриевна, позже два раза овдовевшая, но сохранившая звучную богемскую фамилию первого мужа. Она, судя по всему, была достойна братьев в своей энергии, вот только пока братья следили за ростом акций, она смотрела, как растёт листва:
35а.

И Михаил с Николаем не жалели денег на затеи сестрёнки, сама же она подходила к делу по науке, акклиматизируя здесь прежде невиданные растения. Тот же японец Ясумаса поражался тропическим кустам в оранжереях, за окнами которых был 40-градусный мороз. Мауриц вела переписку с Иваном Мичуриным и публиковала заметки в профильных журналах "Полеводство", "Плодоводство" и "Вестник Русского общества садоводов", в которое вступила в 1902 году. Ей в "Нерчинской социальной сети" посвящена отдельная страничка:
36.
У которой чуть-чуть другой интерфейс... вам тоже хочется согнать со своего экрана эту муху?
36а.
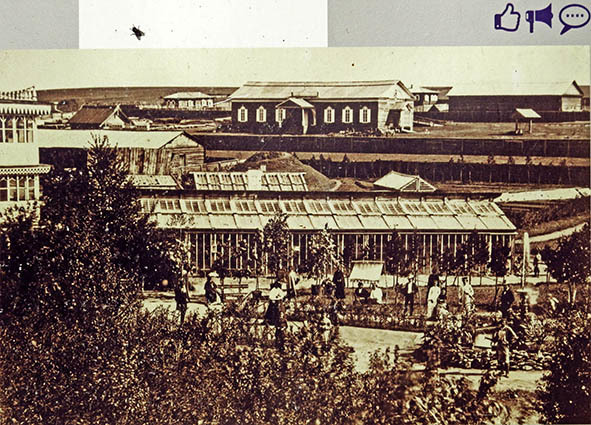
В саду располагалось ещё несколько построек - вот тут в кадре Деревянный дворец:
37.
А приземистый дом справа принадлежал Бутиным до их рывка наверх, и позже был перестроен в особняк Татьяны Мауриц, где она могла в любую погоду любоваться своим садом с деревянной башни:
37а.
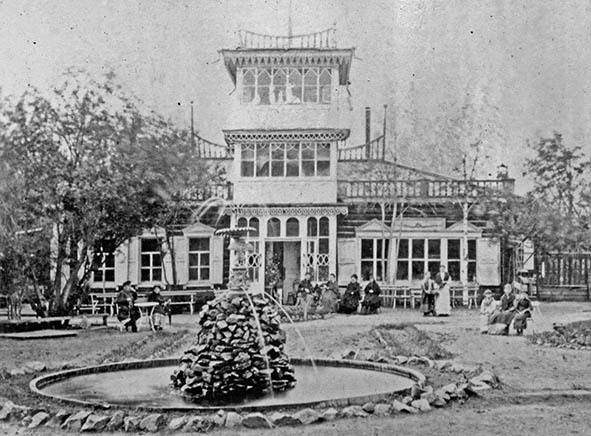
Теплицы, фонтаны, статуи под Античность... и всё же это куда больше напоминает дачи нуворишей, чем старинные имения дворян.
37б.
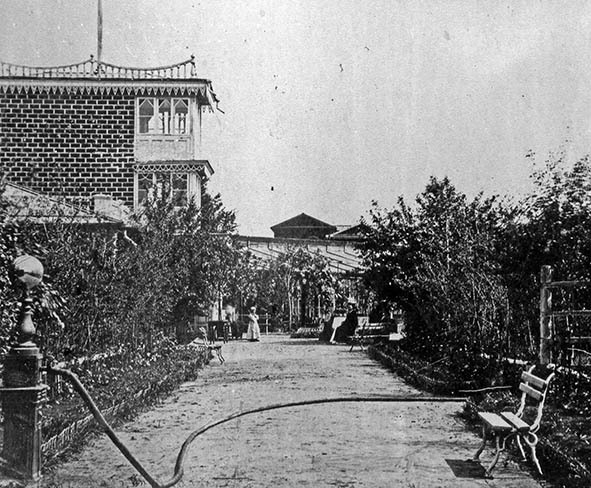
А вот где стояла эта часовня - я так и не разобрался, но видимо всё-таки не во дворце, а на сопках близ города:
37в.
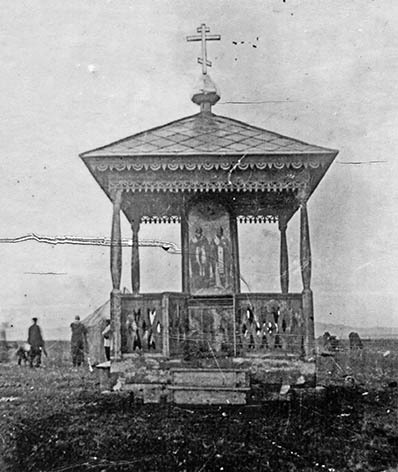
Деревянные постройки, увы, перипетий ХХ века не пережили, но выросшие на их месте сосны прекрасны сами по себе:
38.
Бывший сад занимает целый квартал, переходя в пустыри следующего квартала, где был городок бутинских служащих. К улице Погодаева дворец выходит конюшнями - тем самыми, куда военные в 1932 вышвырнули музей:
39.
Чуть дальше - задворки магазина Бутиных. Высокая часть здания была водонапорной башней:
40.
Вдоль улицы Достовалова же тянется Софийская женская прогимназия, основанная Бутиными ещё в 1868 году как всесословное женское училище в том же самом доме Капараки
41.
Первоначально тут была богадельня Сухановых (1820-29), владевших этим кварталом до Бутиных. Она состояла из двух зданий - большого и малого по разные стороны нынешней улицы Погодаева, и первое в 1903 году заняла прогимназия, второе с 1865 служило духовным училищем:
42.
Чуть дальше по улице Погодаева - дом купца Алексея Рыжкова, инфостенд на котором я забыл переснять и теперь кусаю локти - в интернете о нём ничего не найти:
43.
Но этот дом - один из самых впечатляющих в Нерчинске, ни дать ни взять средневековая палата с деревянным жилым этажом:
43а.

Школа же между домом Рыжкова и Духовным училищем запомнилась мне самодельным, но потому каким-то очень симпатичным воинским мемориалом. Я бы дал ему название - разумеется, "Меч и щит":
44.
Дальше по улице Погодаева, за стадионом, высится Воскресенский собор (1814-24), архитектуру которого трудно даже определить по стилю. Краем уха зодчие слышали про классицизм, в Иркутске видели барочные церкви вида "восьмерик на четверике", и в итоге слепили церковь из того, что было. С её закладки начался переезд города на 7 километров вверх по течению из устья Нерчи, где было хорошо обороняться от врагов, а вот наводнения постоянно наносили убытки. На месте воеводского Нерчинска теперь село Михайловское, где на сотню лет более старый Троицкий храм разрушили при Советах:
45.
С конца 1930-х и до 2003 года в Воскресенском храме располагался краеведческий музей, и я очень сомневаюсь, что хоть кто-то здесь жалеет теперь о его переезде:
46.
Центр Нерчинска продолжается и выше собора. На дореволюционных фотографиях этот район удивляет своей разреженностью - кажется, при переносе города у кого-то был план построить здесь "уголок Петербурга", но до возвышения Читы построить не успели ничего, кроме Гостиного двора и собора. Теперь это пространство заросло безликими частным сектором:
47.

Среди которого стоят отдельные памятники старины - например, казначейство (1884) с царской короной на воротах:
48.
Или дом купца Эпова, в 1904 году отданный им под начальное училище:
49.
Ещё выше, на завершающей исторический центр Красноармейской улице мы набрели на одинокие столбы, в которые упирается улица Достовалова. Под штукатуркой и лепниной виден шлакоблок - как я понимаю, это лишь советские ворота гарнизона:
50.
Ещё выше Красноармейское есть кладбище, куда мы не дошли, хотя там находится могила декабриста Александра Луцкого (1882). На нём же, видимо, стояла церковь Василия Блаженного (1845-47):
51а.
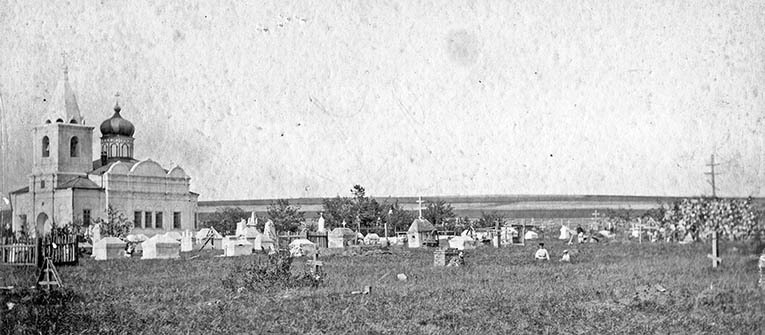
Хотя на 100% я не уверен ни в её расположении, ни в том, что именно она на кадре выше - упоминания церкви на кладбище и эта фотография вроде как из Нерчинска гуляют по сети, но нигде не увязываются прямо. Такая же ситуация и с деревянным храмом Александра Невского (1895-97) при тюремном замке, денег на который дал тот самый Алексей Рыжков:
51б.
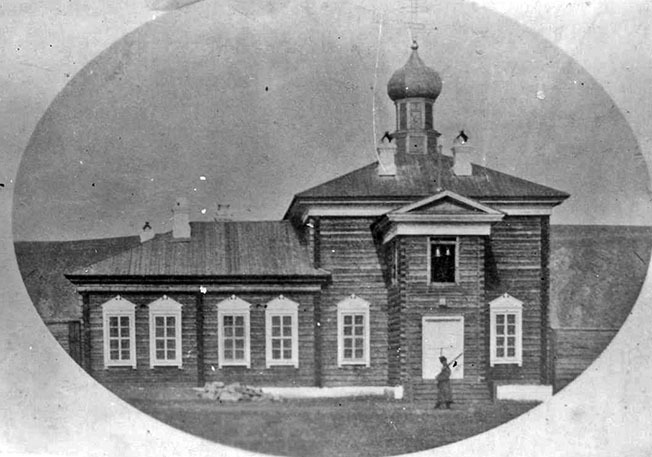
Замыкали город сверху Восточные ворота по нынешней улице Шилова - изначально типичная для Сибири арка Цесаревича (1892). Будущий Николай II поднялся по Амуру на пароходе до пристани в устье Нерчи, а в город въехал уже по земле, констатировав в своём дневнике, что комфортная часть путешествия кончилась. И попробуйте догадаться, где в Нерчинске ночевал будущий император...
51в.

С городом на этом всё, но свои сокровища скрывают и его окрестности, о которых расскажу в следующей части.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности и колорит Забайкалья.
По диким степям Забайкалья. Золото и каторга.
По диким степям Забайкалья. Нерчинский Завод.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск.
Кондуй.
...и несколько постов о Чите.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Молох Сибирь дорожное деревянное |
Нерчинск. Часть 1: жестокое сердце Даурии |
В нашей литературоцентричной стране название "Нерчинск" известно совсем не по размеру и удалённости этого маленького городка (14 тыс. жителей) в Забайкальском крае в 320 километрах восточнее Читы. Однако для жителей царской России это слово звучало примерно как для советских людей "Магадан" - нечто безмерно далёкое, безмерно богатое и безмерно враждебное. Золото и каторга - вот те образы, что перекочевали в ХХ веке с Аргуни и Шилки на Колыму. Расцвет Нерчинска давно позади - и всё же, особенно по контрасту с показанным в прошлых частях соседом-Сретенском, это удивительно живой городок с ухоженными фасадами, первоклассным музеем, бодрыми жителями и амбициями не просто культурной столицы Забайкалья, а центра "культурного кода" гуранов. Во всех аспектах - от былых побед до блатных понятий.
Я расскажу о Нерчинске в 3 частях, 2 из которых будут посвящены его важнейшим достопримечательностям. Но сначала - история, пейзаж, атмосфера.
Русская экспансия "встречь Солнцу", начавшаяся от Урала в конце 16 века, прошла Сибирь до рассветных морей навылет. Землепроходцы, сами в основном с Севера, в тайге ориентировались немногим хуже её коренных жителей, но на тысячи лет превосходили их в военном мастерстве. Куда труднее дело шло на юге, по краешку Великой Степи: местные кочевники, потомки грозных монголов и чжурчжэней, поначалу были настроены вполне благожелательно к пришельцам, но после первых же попыток обложить "туземцев" ясаком казаки нашли здесь грозного врага. И если в 1631 году на Ангаре был заложен Братский острог, то в 1653 на Шилке - Нелюдский. "Братскими людьми" казаки называли прибайкальских бурят, "нелюдью" - тунгусов, так же известных как мурчены или конные эвенки. Схожие с орочонами (таёжными эвенками) по языку и духовной культуре, это были самые настоящие степняки, да при том - особенно воинственные и жестокие. В Даурию (историю которой я подробно рассказывал здесь) русские попадали не столько с запада в обход Байкала, сколько из Якутска через Становой хребет, за которым в начале 1650-х годов было учреждено Даурское воеводство, первым центром которого стала казачья флотилия, ходившая туда-сюда по Амуру. В Даурию даже был назначен воевода - властный Афанасий Пашков, путь которого сюда из Енисейска отмечали кровавые следы: первый ссыльный в Забайкалье отправился ещё до его присоединения. Конечно же, то был мятежный протопоп Аввакум Петров (см. Пустозерск), которого Пашков должен был не убить, но уморить любым доступным способом. Кто кого мучил в итоге - Петров Пашкова или Пашков Петрова, - последний задавался вопросом в своём "Житии..." сам: многие казаки внимали проповедям Аввакума, а потому весь путь на восток сопровождался казнями раскольников. Шёл Пашков не спеша, проводя детальную разведку, закладывая новые остроги (первым был Балаганск на Ангаре), и вот в 1653 году сотник Пётр Бекетов перевалил из долины Селенги в верховья Шилки, а в 1654 десятник Максим Уразов заложил Нелюдский острог напротив устья Нерчи. Видимо узнав, как их называют пришлые, тунгусы во главе с князем Гантимуром сожгли тот острожек уже в 1657 году. При восстановлении год спустя казаки учли ошибки - новый острог был назван Верхним Шилским (а с 1659 - Нерчинским) и поставлен уже севернее Шилки на берегу Нерчи. Двумя годами ранее империя Цин обзавелась речным флотом и выбила казаков с Амура, и не успевший туда Пашков поставил воеводскую избу в Нерчинске.
2а.
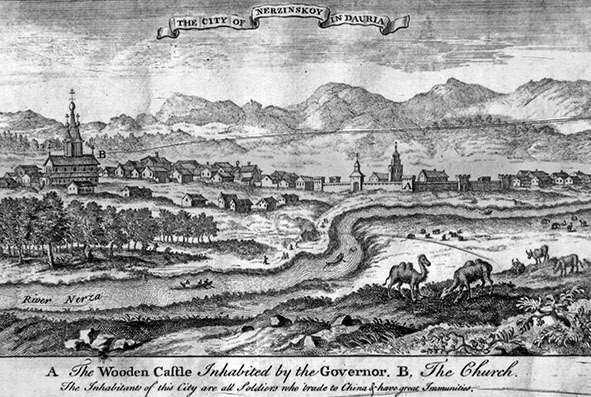
В последующие 30 лет Даурия оставалась спорной землёй - Россия удерживала Забайкалья и претендовала на Приамурье, Китай - наоборот. Однако огромная армия Цин проигрывала казачьим отрядам в мобильности, и если на Амуре всё сводилось к разовым экспедициям, то на Шилку маньчжуры и вовсе не доходили. Тем более тунгусы были к ним враждебны так же, как и к казакам, и даже Гантимур во главе 40 кочевых родов явился в 1667 году с ясаком под стены Нерчинска. В 1685 он вместе с сыном Катаном крестился - новоиспечённые князья Пётр Гантимуров и Павел Катанаев сделались первыми дворянами Забайкалья. Ещё важнее стало то, что в междуречье Шилки и Аргуни в 1669 году были найдены богатейшие запасы серебра, золота и свинца, которых мучительно не хватало тогдашней России. Здешние степи были вполне плодородны, а под стенами острога всё чаще появлялись китайские купцы... Судьбоносными для Забайкалья стали 1680-е годы, когда на Амуре держал оборону Албазин, а в Пекине русские послы вели долгие переговоры с богдо-ханом. Их итогом стала встреча двух делегаций в поле у Нерчинска в августе 1689 года - русскую сторону возглавлял петровский дипломат и местный воевода Фёдор Головнин, китайскую - министр, прежде визирь Сонготу. Посредниками и переводчиками выступили прибывшие с китайцами иезуиты - португалец Фома Перейра и француз Жан-Фрасуа Жербильон, которым русские подарки явно понравились больше китайских. За Шилкой стояло Цинское войско, направившее на острог целую батарею пушек, а на сопках за городом маневрировал небольшой русский отряд, изображая многочисленные подкрепления, прибывающие день ото дня. Сказывалось и то, что слово "китайцы" в данном случае условно: Цин была маньчжурской империей, Срединная страна - её стоящей на коленях колонией, и ханьцам вход в Маньчжурию был закрыт. Иными словами, заселить Даурию некем, война подтачивает трон, а через Россию можно торговать с Западом - нашёптывали иезуиты китайским послам, поглаживая халаты и шапки из русского меха. 27 августа 1689 года, после месяца противостояния, интриг и взаимоузнавания Головин и Сонготу создали настоящий шедевр дипломатического искусства - Нерчинский договор, который и 300 лет спустя обе страны считают своей победой. Россия уступила Приамурье (которое всё равно взяла в 19 веке), но сохранила Забайкалье с его рудами, проведя новую границу по Аргуни и Становому хребту с соединением по речке Горбице - первому притоку собственно Амура.
2б.
Нерчинск в том же 1689 году получил статус города, а на месте острога было выстроена мощная регулярная крепость, в 1760-е годы реконструированная по бастионном схеме. Но от реконструкции до реконструкции крепость ветшала - тут было не с кем воевать. Зато мирная жизнь бурлила: в Китай ходили торговые караваны за чаем и шёлком, а на реках один за другим строились рудники и заводы, продукция которых уходила на Монетный двор в Петербург. Рабочих рук в далёком краю не хватало, а потому с 1739 года наводить ужас на русских людей начал прото-Дальстрой - Нерчинская каторга, в 19 веке пережившая сами рудники. Разведку ресурсов с 1753 года вела Нерчинская секретная экспедиция отставного адмирала Фёдора Соймонова, с подачи которого в 1755-65 годах действовала Нерчинская навигационная школа, готовившая не столько морских штурманов, сколько сухопутных геодезистов и картографов. К 1787 году всё это сложилось в даже не казённый, а кабинетский (принадлежавший напрямую императору) Нерчинский горный округ. Вот так выглядело его управление, не уцелевшее до наших дней:
2в.

Рудники, однако, располагались за сотни вёрст от собственно Нерчинска, и "нерчинскими" были лишь потому, что город оставался центром Даурии в разных её ипостасях: воеводства, уезда гигантской Сибирской губернии (с 1708), Иркутской провинции (с 1764), собственно Нерчинской области (1783) из нескольких уездов, опять уезда Иркутской губернии (1805)...
2.
...вот только к нынешнему городу всё это не имеет почти никакого отношения! За 120 лет Нерчинск разросся и разбогател, врагов у его околиц не помнили даже прадеды, а вот регулярные наводнения раз за разом наносили убытки купцам. В 1812 году город был основана заново в 7 верстах выше по течению Нерчи, а на прежнем месте осталось лишь небольшое село Михайловка, до сих пор известное как Старый город. Ныне это заречная часть ПГТ Приисковый (1,3 тыс. жителей), разросшегося с 1897 года у одноимённой станции Транссиба:
3.
О великом прошлом напоминал Троицкий собор (1712-20), да и тот снесли при Советах:
3а.
Мы же приехали в Нерчинск со стороны Сретенска, и пол-дороги нас подвозили полицейские на УАЗике, а ещё пол-дороги - полубандиты: здоровяк Соёл из Агинского с парой сыновей, как и многие тамошние буряты, в июне ездит по всему Забайкалью копать целебный корень солодку и продавать в Китай. Десяток историй, что травил нам Соёл всю дорогу, неизменно заканчивался тем, как они кого-то хлопнули. Когда же из-за высокой длинной сопки показался Нерчинск - буряты вышли покурить, а мы с Петром - пофоткать. Прямая дорога спускается в нынешний центр:
4.
Но Соёл взял правее, к северной (верхней по течению Нерчи) окраине - отсюда вдоль реки километров 30 до трассы "Амур", а поперёк через мост ведёт региональная дорога через Шилку и Могойтуй на Агинское.
5.
Перекрёсток, главные ворота старинного города, окружён промзоной:
6.
В которой мой взгляд привлекло странное здание, похожее на японские казармы Сахалина - уж не от интервентов ли это привет?
7.
Здесь мы увидели заросшую, но блестящую накатом железную дорогу, вдоль которой и будем идти почти весь сегодняшний пост.
8.
Чёрным для Нерчинска стал 1851 году, когда Удинский и Нерчинский уезды были выделены из Иркутской губернии в отдельную Забайкальскую область, разбитую на уезды помельче. Спор двух старых центров Забайкалья - Нерчинска и Верхнеудинска (Улан-Удэ) генерал-губернатор Николай Муравьёв решил по-своему, сделав губернским городом расположенную между ними Читу. Местная интеллигенция с таким положением дел до сих пор не смирилась, да и к началу ХХ века размер двух городов (11 тыс. там и 6,5 тыс. здесь) был сравним. Окончательно точки над i расставило строительство Транссиба и особенно КВЖД: Нерчинск перестал быть воротами в Китай, а в качестве ворот Дальнего Востока расцвёл соседний Сретенск с его конечной станцией и портом. Как Томск или Благовещенск, Нерчинск остался остался в стороне от магистрали, в проект которой изначально закладывалась ветка к городу. Но хотя было в той ветке всего 9 километров, она ничего не спасла - к 1913 году в Чите жило 77 тыс. человек, в Нерчинске - 14 тыс., и на этом уровне (с пиком в 17 тыс. в 1992-м) его население держится вот уже сотню лет.
9.
По Транссибу в Нерчинск попадают через Шилку или Холбон - Приисковая вроде и ближе, но рейсовых автобусов туда не ходит, а такси добавляет 600 рублей к цене билета. Станция Нерчинск находится на северной окраине города, и пассажирского движения тут нет давно (а вот грохот товарняка мы разок слышали), но деревянный вокзал пока не разрушен:
9а.

Рядом уцелела пара путейских домов на фоне одинокого микрорайона:
10.
А заросшая колея - самый красивый путь к центру:
11.
Крупные улицы она пересекает мостами:
12.
Понемногу приближаясь к берегу Нерчи:
13.
Здесь стоит памятник Петру Бекетову, очень странно выглядящий в профиль. Первоначально, в 1978 году, его поставили у вокзала, а в 2016 перенесли к другим давно заколоченным воротам - бывшей пароходной пристани:
13а.

Пароходы сюда ходили попроще, чем из Сретенска вниз по реке - маленькие плоскодонки с боковыми колёсами:
14а.
Сама Нерча по расходу воды примерно с Москву-реку, но течёт с Яблонового хребта без малого 600 километров:
14.
Как и у Сретенска, у Нерчинска чрезвычайно живописный задний план лесостепных гор:
15.
А его доминанта - Шивкинские Столбы за Шилкой:
16.
Центр Нерчинска - там, где железная дорога и параллельная ей улица Ярославского образуют набережную. Уездный город встречает красными корпусом Нерчинской винной монополии (1903). Казённые склады горячительных напитков - в старых городах Сибири целый жанр:
17.
В советское время тут был ликеро-водочный завод, теперь в заброшенных цехах по старой памяти кучкуются пивнушки:
18.
Судя по всему, именно здесь произошёл знаменитый анекдот про ОН - в административном корпусе винных складов в Гражданскую войну был штаб Красной Армии:
19.
Пока у берега не наросли деревья, через Нерчу открывался вот такой вид. Что удивительно, почти все постройки в этом кадре сохранились - кроме арки Цесаревича (она же Восточные ворота) на той самой дороге с кадра №4.
19а.
За ЛВЗ железная дорога проходит по задворкам главной площади. С путей виден десяток старинных каменных и деревянных лавок, состояние которых варьируется от идеального до "зачем сносить, когда само вот-вот развалится?":
20.
Все они жмутся к Гостиному двору:
20а.
Построенный в 1840 году, особенно феерично он смотрелся поначалу - натурально, кусочек Петербурга среди диких степей Забайкалья, просторами которых сюда шёл торговать тунгус с пушниной или китаец на груженых чаем верблюдах:
21а.

Теперь Гостиный двор - главная нерчинская заброшка, и его не то что мрачный, а откровенно жуткий вид констрастирует с опрятностью площади Борцов Революции:
21.
Сами борцы покоятся под обелиском (1960) напротив. Здесь в 1920 году перезахоронили 137 арестантов нерчинской тюрьмы, расстрелянных белыми в Кирпичной балке. И до самого недавнего времени мало кто задумывался о том, что из них лишь 33 человека были политзаключёныне, а остальные 104 - обычные уголовники, среди которых был даже один педофил. Впрочем, связана такая неизбирательность была скорее всего только с тем, что различить найденные в траншеях останки было уже невозможно...
22.
Кадр выше снят с Советской, прежде Большой улицы, ограничивающей площадь параллельно железной дороге. За Советскую в этом посте заходить не будем, тем более там всё равно стадион, а куда интереснее застройка улиц перпендикулярных. Руины ЛВЗ плавно переходят во дворы улицы Достовалова:
23.
Которую открывает Общественное собрание (1865), ныне городской ДК:
24.
На углу, за Советской, высится фасад Даурского Версаля - дворца золотопромышленников Бутиных (1864-74), которому будет посвящена вторая часть. Но в те времена, когда сибирскими рудниками нельзя было управлять из Лондона, хозяева такого дворца просто не могли не поделиться богатствами со своим городом. Напротив своего дома Михаил Бутин построил удивительную в краю казаков и каторжников музыкальную школу (1872), через пару лет ставшую Нерчинским отделением Русского музыкального общества:
25.
Зайдя же по Советской за угол, можно увидеть бывшую Городскую думу, занимавшую, судя по размеру здания, буквально один кабинет - нижний этаж построен в 1860-х, верхний - в 1886, а помещались здесь так же библиотека (де-факто собралась с 1820-х), первый в Забайкалье музей (ныне заполнивший дворец Бутина) и аптека, где в 1895-97 годах работал Миней Губельман, более известный под партийной кличкой Емельян Ярославский. Возникла она потому, что этого читинского еврея судьба покидала по всей стране, и первым его успехом в деле революции стала стачка текстильщиков в Ярославле. Ещё он успел посидеть на каторге в Горном Зерентуе, возглавить совдеп в Якутске, а после победы социализма преуспел как редактор коммунистических журналов и "красный поп", то есть проповедник атеизма. Как один из самых громких почитателей Сталина он благополучно пережил 1937 год, и даже более того - его смерть от рака в 1943 стала одним из поводов к "делу врачей" спустя десятилетие.
26.
Но вернёмся на улицу Достовалова - на ней примечательны ещё пара памятников. Семён Достовалов из Бянкино - герой Великой Отечественной, воевавший за Крым и погибший в 1944-м в Польше. Он увековечен за Советской, напротив фасада Бутинского дворца. Пошленький ангелок на фоне симпатичной дощатой надписи "Нерчинск" сидит перед ДК. С одной точки их не увидеть, но ещё более пошлые слова "какая эпоха, такие и памятники" тут даже мне приходят на ум:
27.
Другую сторону площади образует улица Шилова с советскими стелами напротив универмага Колобовниковых (1903):
28.
Видимо - в напоминание о том, что в войну его занимал эвакогоспиталь.
29.
Рядом был магазин еврея Духая "Славянский", от которого уцелела дореволюционная вывеска:
29а.
Ближе к Советской - дом купцов Назара и Евграфа Верхотуровых (1812-24; по другой версии - 1844) внезапный в Сибири особнячок с мезонином, которому стоять бы в Замоскворечье, а не среди вот этого всего...
30.
Позже им владел купец-грек Михаил Капараки, в 1868-1903 годах особняк занимало Софийское женское училище (с 1872 - прогимназия) Бутиных, а в 1906-08 - реальное училище. Во дворе сохранился колоритный погреб:
31.
Кадр выше снят с Советской улицы. Когда она была Большой, с той стороны площади почти всю её занимали владения Бутиных, а с этой - частные дома купцов:
31а.
Некоторые из них даже сохранились:
32.
Причём иногда - целиком:
33.
Но главное сокровище этой части улицы - заброшенная гостиница "Даурия" (1828), примечательная не столько тем, что в 1890 году в ней останавливался Чехов, сколько тем, что в его времена она уже была старой.
34.
Теперь вернёмся на железную дорогу. На углу площади - платформа "8 километр", прилегающая к Кварталу Колобовниковых: если на площадь выходил магазин, то на реку - деревянный дом этих купцов из Нижнего Новгорода:
35.
Деревянные дома тянутся и дальше по улице Ярославского, но о происхождении их я ничего не нашёл:
36.
37.
38.
А за заброшенным каменным домом...
39.
....мы свернули во двор, над которым нависает монументальный амбар. Здесь находится гостиница "На берегу Нерчи", в которой и остановились мы по совету
 atomic_alert, сняв на двоих номер без удобств за 2400 рублей. Мне это показалось дорого, но я ещё не знал, что с гостиницами в Забайкалье плохо так же, как и с чем-либо другим, и 1000 рублей с человека - стандартная цена за простой номер. Ещё 200 рублей сверху же себя оправдали сполна: тут чисто, есть вай-фай, в стоимость включён в завтрак и безлимитные жевательные конфеты, в ванной горячая вода, хороший напор и всё отдраено до блеска, а соседи - не хмурые бухащющие по вечерам вахтовики, торговцы и дальнобои, а... да в общем мы и не видели соседей, кроме двух москвичей с собакой, ехавших на джипе куда-то на восток.
atomic_alert, сняв на двоих номер без удобств за 2400 рублей. Мне это показалось дорого, но я ещё не знал, что с гостиницами в Забайкалье плохо так же, как и с чем-либо другим, и 1000 рублей с человека - стандартная цена за простой номер. Ещё 200 рублей сверху же себя оправдали сполна: тут чисто, есть вай-фай, в стоимость включён в завтрак и безлимитные жевательные конфеты, в ванной горячая вода, хороший напор и всё отдраено до блеска, а соседи - не хмурые бухащющие по вечерам вахтовики, торговцы и дальнобои, а... да в общем мы и не видели соседей, кроме двух москвичей с собакой, ехавших на джипе куда-то на восток.40.
Железная дорога тянется дальше, удаляясь от Нерчи и обходя Старый город - Приисковый стоит на другом берегу:
41.
Так что снова переместимся на Советскую - её конец (по нумерации - начало) представляет собой самый целостный уголок деревянного Нерчинска:
42.
А по совместительству - Еврейский квартал: как и во многих городах Сибири, где ссыльные евреи образовали по сути Вторую Черту оседлости, в Нерчинске по переписи 1897 года это был народ №2, 8% населения. К числу важнейших еврейских центров Сибири Нерчинск не относился, но всё же, как можно понять из прошлой части, именно здешние купцы преуспели в соседнем Сретенске, вовремя кинувшись в тамошний бум. Дом со "звёздами Давида" я принял за синагогу:
43.
Но это оказалась усадьба Гольдбергов, попавших сюда из Польши, вероятно, после восстания, и державших деревянную лавку за Гостиным двором, от которой ещё остался чёрный кубический сруб с кадра №20. А настоящая синагога, вернее Еврейская изба-молельня (1875) стоит по соседству - при Советах тут была поликлиника, а теперь жилой дом:
44.
Дома с фронтончиками, наподобие Гольдберговского, мне запомнились "лицом" деревянного Нерчинска:
45.
45а.

46а.

Хотя вообще разнообразие форм тут большое:
46.
Тем более в уездном городе хватало и деревянных общественных зданий. Например, Михайловское приходское училище (1896-97), денег на которое прислал аж из Москвы родич жены Михаила Бутина Софии купец Михаил Зензинов:
47.
Неизменны лишь наличники с резьбой и каменные подклеты:
48.
Наличники тут, как и во многих старых городах Сибири - главное украшение непарадных улиц:
49а.

Хотя в целом, я бы сказал, резьба в Нерчинске поскромнее, чем в Сретенске.
49.
Но, особенно по контрасту со Сретенском, Нерчинск - город очень ЖИВОЙ. Да, население его тоже уменьшается, асфальт - роскошь нескольких улиц, работы нет, Гостиный двор заброшен, а в кафешки стрёмно заходить. Но здесь совершенно не ощущается упадка, скорее какое-то особое упрямство: "ну раз вы Читу областным центром сделали, а потом страну развалили - я пойду дальше один!". Нерчинск выглядит обжитым и незыблемым, с крепкой памятью о былом расцвете и желанием быть большим, чем заурядный райцентр. Сюда можно приехать без путеводителя и подготовки - инфостенды (самые интересные из которых я оставлю до следующей части) заменяют хорошего гида.
50.
В Нерчинске чувствуется, что здесь живут старожилы-гураны, у каждого из которых в роду есть казак, эвенк или ссыльный, и за этой обжитостью видна твёрдая, иногда даже тяжёлая рука. Здесь есть ощущение не временщичества, а строгого внутреннего порядка, где всему своё время и место. Вот, даже на домах висят значки, у кого какой хранится инструмент на случай наводнения или пожара...
50а.

Но если от этих строк у вас возникло желание бросить всё и сорваться в Нерчинск - вынужден категорически отговорить! Нерчинск - и эпицентр мрачного забайкальского уклада жизни, бесконечных жестоких "понятий", на которых и держится здешний порядок. Так именно местная исправительная колония №1 - рассадник печально известной субкультуры АУЕ (организация, запрещённая в России), впервые проявившей себя в 2011 году в Приисковом. Задержав тогда банду грабителей, оперативники обнаружили, что вся она состояла из ранее несудимых подростков, которые под патронажем местных арестантов устроили в своей школе "общак", который собирали "смотрящие" по классам.
51.
Нерчане запомнились мне людьми тяжёлыми в общении, молчаливыми и не склонными идти на контакт с чужаком. Разговаривал с местными почти исключительно Пётр - его речь, по сравнению с моей, более уверенная и бодрая, и как я позже убеждался, единственный способ общения в Забайкалье именно такой - "на расслабоне", с долей юмора, и равно далеко от агрессии или страха. Боящегося здесь будут дожимать, наглого - обламывать, а мямлю просто не увидят в упор. Условно, на "Подскажите, пожалуйста, тут такой вопрос - как бы нам в Холбон уехать?" ответом скорее всего будет "На такси", а на "Здоров! Как у вас в Холбон попадают?" - объяснение, где остановка маршруток. Первыми с нами заводили разговор разве что дети, да как-то подросток старшешкольного возраста поинтересовался, сколько стоит мой фотоаппарат. Я тогда подумал, что это может быть интуитивная, но явная проверка на прочность: начнёт чужак понтоваться или же испугается, что это начало грабежа? Я спокойно ответил, что фотик это недорогой, и к тому же б/ушный, в работе уже несколько лет, и продавать такой кому-то я бы не стал, так как он на последнем издыхании, да и самому нужнее. То же самое АУЕ местные считают мифом столичной прессы: это просто те законы, по которым строится их жизнь.
52.
В принципе, такое описание верно для всего старого Забайкалья. Но в других местах всё это переплетено с нищетой и неустроенностью, а потому кажется их следствием. В Нерчинске же это выглядит как такой колорит, особый суровый уклад старожильческого города, лежащего незыблемой глыбой в бурной реке времён.
52а.

В следующей части покажу Дворец Бутина и верхнюю половину центра.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности.
По диким степям Забайкалья. Гураны и золотари.
Нерчинский Завод и история рудников.
Горный Зерентуй и Нерчинская каторга.
Кондуй и Борзя.
Краснокаменск.
...и несколько постов о Чите.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Великая Степь Сибирь дорожное Черта оседлости казаки транспорт злободневное деревянное |
Сретенск. Часть 2: город в тупике |
История Сретенска - русская до абсурда. В 1648 году на берегу Шилки у границы степей и гор казаки основали зимовье, после раздела Даурии в 1689 году превратившееся в Сретенский острог. В 1775 году он получил статус уездного города, в 1790 ещё и герб, вот только жителей здесь едва набиралась сотня. В 1798 Сретенск разжаловали в село и приписали к Шилкинскому сереброплавильному заводу, а в 1851-м и он приказал долго жить. Однако генерал-губернатор Николай Муравьёв так хотел стать Муравьёвым-Амурским, что в тот же год учредил Забайкальское казачье войско, куда помимо старых сибирских казаков вошли и многие вчерашние крестьяне. Сретенск сделался станицей, но сквозь смены статуса так и оставался торговым селением средней руки. И оставался бы дальше, если бы в 1900 году сюда не подвели Транссиб, от конечной станции которого путь на Дальний Восток продолжался по рекам. Так наступил расцвет, шальной и неудержимый - на станицу свалилось столько денег, что их можно было хоть пускать на растопку, хоть есть со сметаной (причём не обязательно ртом). За несколько лет тут возникло 105 фирм, в том числе 3 банка, 3 пароходства и не знаю сколько отелей, борделей, синематографов и бань: деньги грёб лопатой банкир и грузчик, землевладелец-казак и ворюга-чиновник, еврей и эвенк. Но вот в 1907 году стройка Транссиба возобновилась на станции Куэнга, оставив Сретенск тупиком, а в 1916 бум оборвался паровозным гудком на мосту у Хабаровска. Ещё дважды - белыми в 1918 и красными в 1926, - Сретенск наделялся по инерции статусом города, а плановая экономика да концентрация войск у границы Китая худо-бедно держали его на плаву: весь ХХ век население города держалось на уровне 9-15 тыс. человек, достигнув пика в 1959-м, а в 1990-х уйдя в крутое пике. Нынешний Сретенск - странное зрелище: глухое захолустье, где пустырей больше, чем участков, а среди покосившихся изб и бурьяна одиноко стоят самые роскошные здания от Благовещенска до Читы.
В прошлой части я показал железную дорогу и станцию за Шилкой, а сегодня осмотрим город на правом берегу.
Первое и главное ощущение Сретенска - печать упадка. Потрясающе красиво расположенный, Сретенск кажется разреженным и растворяющимся в окрестных сопках, как опустошённая войнами Шуша, которую я назвал "город над бездной".
2.
Сюда не дошли в ХХ веке многие приметы благоустройства - например, центральные водопровод и канализация, и даже асфальт начал появляться только в последнее десятилетие.
3.
Каменных заброшек в Сретенске не так уж много - но это только потому, что на 9/10 город остаётся деревянным:
4.
И пожалуй самый распространённый вид этих заброшек - старинные амбары, где от навигации до навигации копился корабельный груз:
5.
Тут и там, не дальше квартала от реки, они попадаются по всему центру Сретенска:
6.
А две новостройки на весь город кажутся космическими кораблями, приземлившимися из иных миров. Южнее центра это детский сад:
7.
Севернее - районный суд:
8.
Но при всём том я бы сказал, в Сретенске нет столь характерного для Забайкалья остервенения, зашкаливающих подозрительности и агрессии, которыми нам запомнился казацко-каторжанский край. Здешняя атмосфера - забвение: город живёт тихо, медленно, люди движутся по его улицам словно в полусне.
9.
В прошлой части мы с другом-автостопщиком Петром прибыли поездом на станцию Сретенск - ту самую, по которой сюда пришёл экономический бум. Сейчас и станция так же призрачна и пуста, а расположение прямо напротив центра обманчиво - паромов через Шилку давно нет, а в обход через мост идти порядка 7 километров. Мост приводит примерно в середину узкого длинного города, и исторический центр лежит ниже по течению Шилки. Выше по течению же виднеется Муравьёвский затон - похожая на фьорд между скал гавань в устье Куренги, благодаря которой в начале ХХ века здесь и решили строить главный амурский порт. Теперь там стоит всего несколько катеров да одинокая "Заря" (про её аналог см. здесь), курсирующая по шилкинским деревням без чёткого расписания.
10.
С моста мы спустились на Набережную, которая в городе у речной дороги не могла не стать главной улицей. Как "улица Набережная" она и числится ныне - застройка её вроде и односторонняя, но на другой стороне - ни парапета, ни пляжа, ни дальнего вида, а только непролазные кусты:
11.
Буквально от моста вдоль неё тянутся красивые старые избы с наличниками, но первым привлекает взгляд огромный оранжевый дом Якова Андоверова (1902-08) - патриарха сретенских богачей. Он происходил из семьи ссыльных евреев, коих в Сибири 19 века накопилось столько, что впору было хоть Вторую Черту оседлости создавать. Или вернее настоящая Черта оседлости была по сути дела ссылкой, в которой евреи рождались, учились, женились, старели и отходили в мир иной. Некоторые из них понимали, что лучше быть ссыльным там, где золото и до Китая рукой подать, чем там, где ловить нечего и стрелять нечем, а потому сами искали способы угодить в ссылку... Как бы то ни было, ещё до постройки Транссиба Андоверов успел разбогатеть добычей золота на Сунтарских приисках в Приамурье, а уже в 1896 году построил в Сретенске коммерческий пароход, который назвал почему-то "Батрак". Он же привёл судостроение в соседний Кокуй, договорившись с Балтийским заводом в Петербурге о строительстве первой у будущей станции сборочной верфи. Сретенский бум Андоверов не только использовался по максимуму, но и приближал как мог, и на его волне построил у набережной роскошный дом с первой в городе электростанцией. Внутри сохранились какие-никакие интерьеры, включая изразцовую печку-голландку, и их можно даже осмотреть - тут теперь обитает гостиница. Но как водится, узнал об этом я лишь при написании поста:
12.
Вокруг Андоверовского дома же образовался, натурально, Еврейский квартал: на следующей от реки улице Луначарского стояла деревянная синагога, по адресу которой мы обнаружились лишь пустырь, а вот в Шилкинском переулке белое здание - в прошлом баня и синематограф "Гранд-иллюзион Меркурий" нерчинского купца Самуила Вейнермана.
13.
Соседом Андоверова был Соломон Мошкович, владевший на пару с братом Гершем пароходом "Варяг" да парой небольших заводов, включая актуальную здесь дроболитейню. Теперь его особняк занимает налоговая инспекция:
14.
Гибрид казачьей станицы с еврейским местечком - где ещё такое увидишь? На местной Арке Цесаревича совсем не удивляет шестиконечная звезда. Арка, само собой, современная, но сделана по мотивам исторической (1891) с заменой дерева на металл:
15.
В Хабаровске, Благовещенске, Сретенске "арки Цесаревича" неизменно глядят на воду - за неимением дорог, будущий Николай II амурскую часть своего азиатского вояжа проделал на пароходе. За аркой и ныне находится пристань речного вокзала, большую часть времени представляющая собой единственное общественное пространство в городке:
16.
Сейчас монотонное течение Шилки у пристани изредка разбавляет брызгами и шумом скоростная "Заря", а чаще - поезд из одного вагона под маневровым тепловозом, едущий узким карнизом по дальнему берегу. В начале ХХ века всё было иначе: у станции (её постройки видны справа на кадре выше) находился грузовой порт, а с городской стороны - пассажирский, где выстраивались в очереди "американские" пароходы с трубой над парой-тройкой палуб и гребным колесом на корме. Условия на их борту были ужасными, цены - заоблачными (50 рублей до Николаевска-на-Амуре - это как в наши дни несколько десятков тысяч), ход - медленным, с обилием внеплановых остановок из-за поломок и мелей. И не спасала никакая конкуренция: все пароходчики понимали, что при первой возможности народ пересядет на поезда, а потому предпочитали грести, пока гребётся.
16а.

И всё же именно речной вокзал был центром жизни Сретенска, а потому над ним начал складываться и местный "даунтаун". Теперь здесь огромная площадь с памятником Победы (слева), почти всю свою историю представлявшая собой песчаный пустырь, который при нас окончательно раскопали с целю наконец-то выложить чем-нибудь твёрдым. Названия у площади, как я понимаю, нет и не было никогда, но по улице, поднимающейся от Речного вокзала, я для себя называл её площадью Кочеткова. Её панорама с того берега - на заглавном кадре, а вот такой вид открывается из арки:
17.
Правая сторона площади - главный памятник давнего бума: продлись он дольше лет на 10-20 - и Сретенск напоминал бы если не губернский город, то обветшалые "купеческие республики" вроде Бийска, Троицка или Ирбита. Первым от реки стоит торговый дом Иннокентия Шустова - золотопромышленника из Кяхты, между Сретенском и Благовещенском подавшегося в чаеторговцы. Сюда он был ещё до постройки Транссиба, понимая, что когда поезд придёт - будет поздно. В 1895 году он обзавёлся первым в Сретенске пароходом "Бурлак" с двумя колёсами и деревянным корпусом, из которого, купив в 1901 году, братья Мошковичи сделали своего "Варяга". Верхний этаж дома на площади Иннокентий Евгеньевич сдавал Русско-Азиатскому банку, а на нижнем, как и в наши дни, торговали промышленными товарами... только весьма специфическими: здесь располагался оружейный магазин, явно востребованный в лихом Забайкалье.
18.
Выше - Банк взаимного кредита (1912) даже не губернского, а просто столичного уровня. Теперь тут сидит районная администрация, но властям в городе без канализации приходится быть ближе к народу - например, из своих кабинетов спускаться в дощатые "скворечники", стоящие на заднем дворе.
19.
Верхнюю сторону площади образует улица Луначарского, ранее просто Средняя, за которой ансамбль завершается домом купца Иосифа Эдельштейна (1910) из Нерчинска. Далеко не самый богатый из сретенских предпринимателей, одним из лучших домов он обзавёлся потому, что строил его не только для торговли, но и для себя, видимо рассчитывая остаться здесь и по окончании бума.
20.
Соседям Эдельштейнов были просто Штейны - отец Михаил и сыновья Максим и Никифор. Дорогу к своему дому от пристани они благоустроили и замостили, так что официально называлась нынешняя улица Кочеткова тогда Штейновский переулок, а в народе - Штейновский бульвар. По сути именно Штейны были главными купцами Сретенска: помимо особняка и магазинов они держали в городе лучшую гостиницу "Дальний Восток", театр в каменном здании, ресторан, фотоателье, пекарню, кузницу, прогулочный сад "Фантазия" и пожарную часть. Не очень понимаю, кому это всё помешало, но теперь дом Эдельштейна стоит посреди пустырей, гаражей и советских халуп, так что вот фотография его балкона:
20а.

С другой стороны площади на всё это иронично поглядывали казаки: купцы - суетятся, богатеют, разоряются, казакам же, многие из которых были внуками крепостных работяг, от каждого из этих действий сыпалась монета. Как и во многих других уголках Сибири и Кавказа, казаки занимали в Сретенске нишу дворянства - они были единственными землевладельцами, и экономический бум обогащал их просто по факту того, что они тут родились. Иногда хозяева не знали меры - так, Кокертайский цементный завод выше по Шилке закрылся в 1905 году после 9 лет работы из-за регулярно повышавшейся арендной платы. Но кое-что казаки успели сделать и на благо станицы - например, построить 7-классное училище (1912) для своих детей:
21.
Из окон которого открывался вот такой вид. За домом Эдельштейна виднелись деревянные дома и каланча Штейновского квартала, ну а ближе - каменный храм, посвящение которого в городе Сретенске нетрудно угадать:
21а.

Заложенный вместе с острогом в 17 веке и отстроенный в камне в 1782 году, он чуть больше столетия одиноко белел среди изб, оставаясь единственным памятником недолгой уездной эпохи. Хочется сказать - и самой восточной в Российской империи каменной постройкой 18 века, но нет - кое-что было ещё и в Якутске, однако и здесь, и там снесено.
22а.
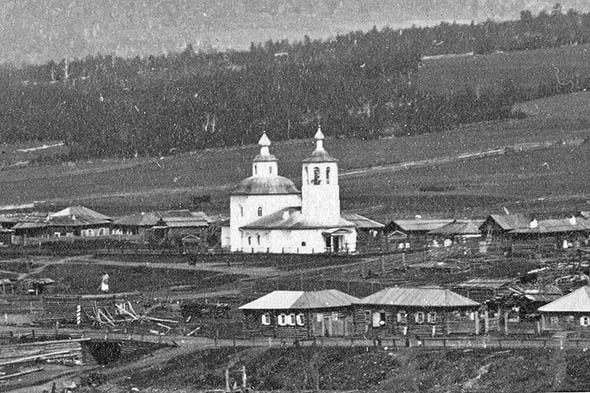
На месте разрушенного храма в 1930-х годах разбили сквер и поставили памятник Ленину, обличающий капиталистов в Банке взаимного кредита и районных чиновников, которые сидят на их местах:
22.
Ещё один памятник на площади - катер береговой охраны "Аист". Такие строились на Сретенском судозаводе в соседнем Кокуе на рубеже 1980-90-х. Базой дивизиона пограничных катеров служит Муравьёвской затон, из которого они спускаются на 200 километров к устью Шилки стеречь верховья Амура и низовья Аргуни. В нынешнем Сретенске погранотряд потянет на градообразующее предприятие, так что это памятник не только стражам границ, но и последним кормильцам. Что интересно, поставлен он был 25 мая 2018 года к 100-летию погранслужбы, а вот здесь висит архивное объявление от 14.05.2018. о продаже такого же катера на самовывоз с завода.
23.
Что удивительно, в Сретенске нет улицы Ленина - как уже говорилось, главная городская ось тут улица Луначарского. До революции она называлась ещё проще - Средняя между Береговой (ныне Набережной) и Верхней (ныне Партизанской) улицами. Прогуляемся по ней на пару кварталов от площади - сначала в сторону моста:
24.
Одиноко мощное деревянное здание, видимо, осталось от Штейновского квартала и до революции его занимало что-то из того солидного списка под фото №20. Например, гостиница "Дальний Восток", которая упоминается как 2-этажная. При Советах здесь была школа, позже Дом пионеров, а ныне обитает краеведческий музей, в своё время так разочаровавший
 periskop.su, что мы с Петром и сами туда идти не захотели. Дело в том, что музей тут возник со второй попытки: купцы, слетевшиеся в Сретенск делать деньги, не увлеклись собиранием древностей, а первый музей, созданный в 1928 году учителем Александром Белявским, проработал всего несколько лет, после чего экспонаты свалили на чердак дома культуры, где большинство из них пропали без следа. Нынешний музей был создан в 1949 году уже по разнарядке...
periskop.su, что мы с Петром и сами туда идти не захотели. Дело в том, что музей тут возник со второй попытки: купцы, слетевшиеся в Сретенск делать деньги, не увлеклись собиранием древностей, а первый музей, созданный в 1928 году учителем Александром Белявским, проработал всего несколько лет, после чего экспонаты свалили на чердак дома культуры, где большинство из них пропали без следа. Нынешний музей был создан в 1949 году уже по разнарядке...24а.

Напротив - маленький каменный домик Гизеля, какой-то особенно милый между дворцов и халуп:
25.
И почтамт (1906) в ещё одном доме Шустова - Иннокентий Евгеньевич построил его сам, но сразу же сдал почтовому ведомству в аренду:
26.
В другой стороне по улице Луначарского слева виден бывший Сибирский торговый банк, справа - нынешняя администрация города:
27.
Здесь бывшая Средняя не отмечена именами известных купцов, но куда более целостна и просто богата на симпатичные старые домики. В том числе - деревянные:
28.
С характерными рядами ажурных наличников и карнизов:
29.
30.
Наличники в Сретенске - и основное украшение непарадных кварталов вдоль второстепенных улиц. Но обратите внимание на их многообразие - тут тебе и барочные изгибы Иркутска, и строгие линии Русского Севера, и кружева Поволжья:
31.
Так что снова спустимся на Набережную, где в магазине (эта деталь нам ещё пригодится!) мы пристроили рюкзаки до полуденной пересменки. Последнее здание на площади Кочеткова - торговый дом Второва (1892). Богатейший человек Российской империи, уроженец Костромской губернии, начавший путь наверх в Иркутске, Александр Второв строил первые в России торговые центры - почти в каждом крупном сибирском городе "Второвский пассаж" остаётся одним из красивейших зданий. Однако помимо гипермаркетов он строил и сельпо по типовому проекту, и вот именно в Сретенске таковому повезло уцелеть - открылся этот магазин ещё в станице, а экономический бум промчался слишком скоротечно, чтоб здесь успели отгрохать пассаж.
32.
Дальше по набережной - Станичное правление, где обитал музей до 2001 года, а ныне располагается, кажется, прокуратура:
33.
И дом Герша Мошковича - брата знакомого нам Соломона Мошковича, судовладельца и торговца сахаром, имевшего буквально под окнами пристань своего "Варяга".
34.
Чуть дальше набережная выводит в сквер с мемориалом Борцов Революции (1927):
35.
Где больше типового обелиска впечатляет Тупик Смерти, символизирующий расстрельную стенку какого-нибудь белогвардейского каземата:
36.
В 1966 году рядом "обосновался" ещё и Федот Погодаев - местный красный командир, павший смертию храбрых от семёновской пули под Сретенском. Первоначально его похоронили у церкви, и после её сноса Аввакумыч стоял на площади рядышком с Ильичом. Но в 1960-х там решили сделать мемориал героям другой войны - Великой Отечественной, а прах революционера торжественно перенесли поближе к соратникам.
37.
От сурового революционного пафоса глаз отдыхает на очаровательном фонтане с дельфинами, который недавно то ли поставили здесь, то ли привели в порядок:
38.
А там рукой подать и до местного Дома на набережной:
39.
По косвенным признакам рискну предположить, что это дом Лукиных - отца Владимира и сына Константина, купцов-пароходчиков, владевших не пассажирскими судами, а мощнейшими буксирами Амура. Вот в этом тексте (на который я в основном и опирался) фигурирует 2-этажный деревянный дом на Береговой улице, где жило три поколения Лукиных, а на фасаде его висит облезлая табличка Минречфлота РСФСР с чудной аббревиатурой АБУП. Её мне лишь в комментариях расшифровали как Амурское бассейновое управление пути, то есть здесь курировали работу именно что катеров и буксиров.
40.
Теперь, впрочем, Дом на набережной всё равно заброшен... Но стоя на пустынном зарастающем берегу величественной Шилки, легко представить, как вода её кипела от вёсел, винтов и колёс, а сопки на том берегу застил дым паровозов:
41.
Границу Старого Сретенска подводит речка Филиппиха, практически напротив устья которой, через скалу от станции, стоит деревенька Моргул. Если озеро Келед-Зарам на перевале в Саянах прозвали так туристы-толкинисты, то здешний Моргул был задолго до того, как зловещий Король-Чародей вылетел из под пера британского лингвиста...
42.
За Филиппихой, однако, лежит Восточный микрорайон, в котором сплетаются царские казармы и гарнизонные панельки:
43.
За порядком в златокипящей станице присматривал 16-й Сибирский пехотный полк, прибывший на станцию Сретенск одним из первых поездов:
44.
Среди казарм стояла полковая церковь Михаила Архангела (1901):
45а.

Её руины теперь можно попробовать разглядеть в рощице на заднем плане, но мой взгляд полностью перетянула на себя колоритная детская крепость:
45.
Военные остались тут и по окончании портового бума, а их исход после распада Союза окончательно подкосил увядающий городок. Казармы глядят пустыми окнами, из которых даже рамы никто пытается выломать, а вот пятиэтажки Восточного не просто обитаемы, они в Сретенске элитные дома - ведь в них есть те самые водопровод и канализация!
46.
Вернувшись в центр, мы решили заглянуть ещё и на кладбище, однако я ошибся улицей, и затяжной подъём привёл нас в просторные зелёные луга, с которых открываются роскошные виды. Маленький город, большая река, высокие сопки и зловещий тёмный каменный обрыв, на котором и правда не трудно представить себе башни Минас-Моргула:
47.
За рекой - станционный посёлок, и отсюда лучше всего видно маленькое кладбище, висящее над ним:
48.
Ещё одно, двойное, кладбище висит над Старым Сретенском. Правее - Еврейское кладбище в краснокирпичной ограде, где виднеется даже небольшая молельня:
49.
Левее - православное кладбище, Георгиевская часовня (1890) посреди которого, ныне единственная церковь Сретенска, видна издалека. Мы поднялись к ней в надежде найти какие-нибудь старые надгробия, но не обнаружили ничего, кроме типовых советских стел: сретенский бум прошёл слишком быстро, чтобы городок оброс фамильным некрополями, да и хозяева всех этих роскошных домов кончили дни либо в эмиграции, либо в застенках. До пересменки в магазине, где мы оставили рюкзаки, оставалось минут 30-40, и мы было решили спускаться, когда Пётр увидел открытую дверь...
50.
В тесном низком зале храма с постсоветским убранством (церковь открыли в 1945 году, но снова закрыли в 1960-х) молились, подходя к иконам, две женщины: одна - миниатюрная и в изящных очках, другая - рослая и со стеклянным взглядом. Нам они сразу обрадовались, а узнав, что мы путешественники, так и вовсе пришли в восторг - туристы в Сретенске не каждый год бывают... Рослая женщина сказала, что нам повезло: та, что в очках - местный краевед и знает всё про город. Первым делом они решили рассказать нам о хранящейся здесь чудотворной иконе, но при этом старательно уходили от прямого ответа, когда я просил показать её нам. Зато подарили как величайшую реликвию две невыносимо зернистых фотографии некоего крестного хода, распечатанных на жёсткой бумаге. Я попытался перевести разговор на старые дома, их былых владельцев и историю города, но женщина в очках сочла, что сперва надо нам рассказать всю историю города, начиная от казачьих походов на Амур. В общем, наверное, мы могли бы получить тут целую экскурсию, вот только внизу стоял магазин, в магазине лежали наши рюкзаки, а согласившаяся приглядеть за ними продавщица вот-вот уйдёт на пересменку... Вежливо объясняя, что нам пора идти, мы отступали к выходу, а от крыльца направились в город так стремительно, что я напрочь забыл заглянуть на инородческое кладбище.
51.
Сменяли друг друга грязные раскисшие улицы, фасады и крыши площади становились ближе.... но вот у самой улицы Луначарского рядом притормозила "Нива", обрызгав нас желтоватой грязью. Из "Нивы" выпрыгнула та рослая женщина со стеклянными глазами, встала перед нами горой, да возвестила: "Мы подумали, и решили забрать свой подарок обратно! Вы - не достойны его! Верните нам фотографии!". Фотографии я вернул с облегчением, так как понимал, что даже если довезу их до Москвы - в лучшем случае они будут пылиться в комнате. Но обратно в "Ниву" женщина не села, а за стеклом её голубых глаз отчётливо просматривался гнев: "Какие вы путешественники?! Так, как вы, на 15 минут, в церковь кто ходит!? Та женщина очень расстроена вашим поведением! А ну рассказывайте мне, зачем вы на самом деле приехали в наш город?!". Я, в очередной раз молча обругав свою деликатность, заговорил о том, как нас впечатлил Сретенск, какой удивительной мне кажется его история, и видя, что наша странная собеседница успокаивается, спросил у неё дорогу к музею. Женщина вновь начала уходить от прямого ответа, советуя нам пойти то к площади, то от площади, то и вовсе на соседнюю улицу свернуть. Предположив, что она ничего не знает, я решил спросить чего полегче:
-Скажите, а на кладбище какие-нибудь древние надгробия сохранились?
Это была ошибка - женщина побелела от возмущения и сделала несколько шагов в мою сторону с таким видом, будто настроена сбить меня с ног и затоптать:
-Так вы путешественники или кто?! Вам история нужна - или злато-серебро?!
Промямлив о том, что мой вопрос и был про историю, и ещё не зная, что за чёрных копателей нас будут принимать по пять раз на дню, я понял, что разговаривать тут бесполезно. Мы с Петром пошли в сторону площади, а женщина выписывала синусоиду вдоль нашего маршрута, то пытаясь нам что-то рассказывать, то вновь начиная стыдить. "Вы не путешественники! Где вы остановились? Как это вы через час уезжаете?! Кто так ездит - в церковь на 10 минут, в город на 3 часа?! Вы здесь что-то задумали, я сейчас серьёзных людей позову!". Наконец, мы поравнялись с полицейскими, которые подозвали к себе не нас, а её. Вздохнув облегченно, мы разделились - Пётр побежал в магазин за рюкзаками, я же решил ещё походить вокруг площади.
52.
Где-то у памятника Победы, однако, странная женщина вновь появилась из кустов, да первым делом посетовала, что полицейские ей не верят, так как сама она недавно освободилась и в церковь теперь ходит на реабилитацию. От такого откровения мне многое стало понятнее: дорога сводила и с уголовниками, и я знал, что если такой что-то заподозрит - переубедить его словами нельзя. Женщина продолжала возмущаться тем, что мы приехали в их город совсем ненадолго - раз уж мы путешественники, значит мы должны не вынюхивать тут невесть что, а разговаривать с людьми, которые знают историю. Я ответил, что с радостью бы с таковым поговорил, если она подскажет, куда обратиться. Стеклоглазая тут же кому-то позвонила, и обратившись по имени отчеству, сказала в трубку, что приехали в город путешественники, а ничего не знают. Затем передала трубку мне, и я услышал мягкий приятный голос явно немолодой и явно интеллигентной женщины. На этот раз мне действительно хотелось поговорить: не растекаясь мысью по древу, новая собеседница явно знала город и готова была мне многое рассказать. Я успел расспросить её про Андоверовых, а затем договорился, что запишу её контакт и позвоню, когда буду готовить свои материалы. То же самое я сказал и стеклоглазой, возвращая телефон, но та в ответ снова разбушевалась: "А вы кто такой, чтобы я вам её номер давала?! Никогда нельзя свой номер давать непонятно кому! Вы подозрительно себя ведёте, откуда я знаю, чего ей от вас ждать! Сейчас я ей перезвоню и посмотрю, что она скажет!". Она приложила телефон к уху, так что я даже не понял, набрала она что-то или нет, но задав пару вопросов и убрав его в карман, вердикт вынесла однозначный: "Видите? Не хочет бабушка! Потому что НЕЛЬЗЯ так в церковь ходить!". Кажется, стеклоглазая уже не знала, в чём бы меня заподозрить, но сама мысль о том, что мы ведём себя неправильно, намертво заклинила у неё в мозгу. Я отступал к магазину, а она наотрез отказывалась верить, что у нас действительно там рюкзаки. Спровадить её смог лишь Пётр, поджидавший меня за бутылкой кефира - куда более бойкий и острый на язык, он просто заговорил ей зубы и засыпал встречными вопросами, от которых за стеклом её глаз перегрелись мозги, а для их охлаждения оставалось лишь ретироваться. Я ещё не понял тогда, что напористая речь - залог выживания в Забайкалье.
53.
Накинув рюкзаки, мы отправились к мосту через Шилку ловить машину до Нерчинска. О котором - в следующих 3 частях.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности.
По диким степям Забайкалья. Гураны и золотари.
Нерчинский Завод и история рудников.
Горный Зерентуй и Нерчинская каторга.
Кондуй и Борзя.
Краснокаменск.
...и несколько постов о Чите.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: казаки Сибирь дорожное Черта оседлости деревянное |
Сретенск. Часть 1: исторический тупик |
Сретенск - маленький, глухой и очень бедный городок (6,5 тыс. жителей) на Шилке в 380км восточнее Читы. Думаю, большинству читающих эти строки его название ничего не скажет. А между тем, десяток лет до постройки показанной в прошлых частях Амурской железной дороги именно в Сретенске заканчивался Транссиб. Мощная быстрая Шилка, по ощущениям уже полноценный Амур, отделяет станцию от города, и о двух берегах её я расскажу в двух частях соответственно.
Глубокой ночью я покинул поезд, которым выехал из Сковородино, на станции с красивым названием Куэнга. Мои соседи по купе - молодая мать с парой сыновей младшешкольного возраста, - выходили здесь же, и я вполне мог уехать с ними на такси, заказанном до какой-то деревни за Сретенском. В Сретенске вообще, несмотря на его нищету и удалённость, с транспортом неожиданно хорошо - по городку снуют маршрутки, а доехать туда можно не только каждый день, но и несколькими способами на выбор. В сам Сретенск и соседний ПГТ Кокуй ходят ежедневные автобусы из Читы и утренний дизель из Куэнги, а в 2021 году вернулся в строй после многолетнего перерыва ещё и ночной поезд Чита-Сретенск, "туда" отходящий по пятницам, а обратно по воскресениям. На нём вечером выехал из Читы Пётр, мой давний друг из автостопной среды, решивший составить компанию в диких степях Забайкалья. А так как железная дорога была ещё и частью культурной программы, я воздержался от ночного такси. На станции Куэнга - огромный вокзал, законченный в 2000-м году, а начатый видимо ещё при Советах. Вот только для пассажиров в нём открыта маленькая комнатка над высоким крыльцом, столь тесная, что я предпочёл ждать на перроне. Сев на лавочку под навесом, я извлёк ужин (или в 3 часа ночи это завтрак?) и совсем не по-забайкальски расслабился, созерцая, как мимо каждые 10-15 минут грохочут товарные поезда.
2.
Мой поезд отходил в 4:33, а в кассе было сказано, что билеты на него продаются в вагоне. По расписанию он стоит в Куэнге минут 40, и вот в означенное время я увидел яркий огонь, приближающий к станции с запада. Я вышел на платформу, и мимо прошёл электровоз, за ним почтово-багажный вагон, а потом - целый ряд вагонзаков. Пассажирского вагона я так и не обнаружил, стучаться в зарешеченные окна не стал, а что в каторжном Забайкалье пассажирские поезда такие, легче вообразить в Москве, чем на местности. Предположив, что поезд просто опаздывает, я вернулся под навес. Ещё минут через 20 вокзальный громкоговоритель возвестил что-то очень невнятное, но слово "Сретенск" я всё же сумел разобрать. Поодаль двое путейцев в оранжевых жилетах переходили станцию, и выйдя туда же, я увидел на последнем пути одинокий вагон под тепловозом. Всё бы ничего, да преграждал путь к нему плавно изогнутый товарняк, одним концом начинавшийся, кажется, в Подмосковье, а другим уходивший в волны Японского моря. Могучая путейщица, единственный увиденный мной человек на ночной станции, успокоила - скоро он отправится и я уеду. Постояв ещё минут 5, я понял, что рискую опоздать на свой поезд - обежать товарняк я уже просто не успею. Путейщица развела руками: "под вагоном пролезайте", и по тону её было понятно, что проделать мне она советовала всего лишь то, что регулярно делала сама. Могу лишь посочувствовать тяжкой доле путейцев: пролаз под поездом, который вот-вот тронется, да ещё и с рюкзаком в пол-вагона размером - опыт, который я бы не хотел повторять никогда. Ну а в тёплом вагоне обнаружились удивлённый кондуктор, крепко спящий на верхней полке Пётр и единственное свободное место на нижней боковой. Поезд тронулся, и вскоре вёз меня перпендикулярно станции:
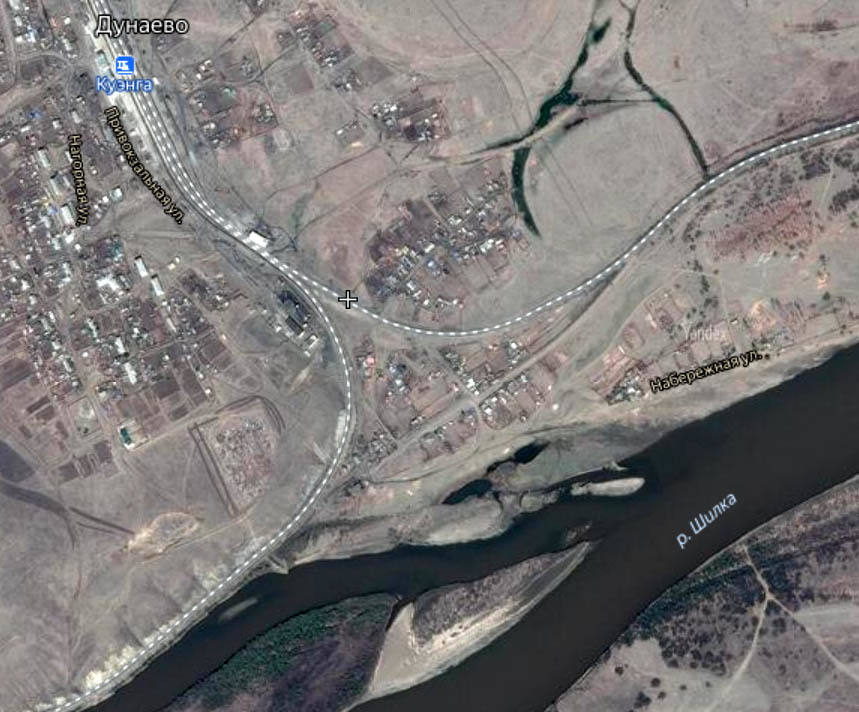
Историю всей этой линии нагляднее всего рассказывает карта. Станция Куэнга выглядит треугольником, стороны которого образуют Транссиб (приходящий с запада и продолжающийся из вершины) и малодеятельная ветка на Сретенск, уходящая на восток. Между ними отчётливо просматривается насыпь, показывающая, что когда-то линия шла по прямой вдоль берега Шилки, а станцию как бы приделали к ней сбоку. Всё это подтверждают и названия: Верхняя Куэнга - село со старинной Ильинской церковью (1791) в 7км отсюда, а станция находится в ПГТ Дунаево (1,1 тыс. жителей), разросшемся уже вокруг неё. Но тут стоит вспомнить историю последнего сегмента Транссиба, которую я не раз уже пересказывал в прошлых частях.
2а.

Большая часть строительства Великого Сибирского пути выпала на эпоху Александра III, императора хоть и реакционного, но толкового и в частности знавшего, что у России только два союзники - её армия и её флот. Начатая в 1895 году Забайкальская железная дорога поднималась от Селенги вдоль реки Хилок и спускалась в Даурию вдоль Ингоды. Ингода же сливается с Ононом в Шилку, а Шилка с Аргунью - в Амур, на котором ждали богатые торговые Благовещенск, Хабаровск и Николаевск, золотые прииски Ольдоя, Джалинды и Маго, богатые казачьи станицы на крутых берегах, ждущие переселенцев и фермеров плодородные прерии... По проекту времён Александра III вся магистраль от Читы до Хабаровска должна пройти по берегу, став круглогодичным дублёром реки. Однако Александра Миротворца в 1894 году сменил сын, которого, сложись история иначе, потомки вполне могли бы назвать Николай Мечтатель. В ХХ век Россия вступала с Большим Азиатским проектом, не видя никаких преград для территориальной экспансии в Северный Китай. Поднятие над Маньчжурией флага с двуглавым орлом казалось вопросом времени, которое чиновники да генералы решили не тянуть: в 1897-1903 годах Китайско-Восточная железная дорога соединила Читу и Владивосток прямо сквозь соседнее государство. Между станциями Карымская и Кайдалово в сотне километров восточнее Читы был устроен Китайский разъезд, от него брошен мост через Ингоду, и вот уже именно КВЖД стала основным ходом Транссиба. Конечной же же для первоначальной линии вдоль Ингоды и Шилки мимо старинного Нерчинска должен был стать речной порт для перевалки грузов между судами и вагонами. В 1900 году строительство Великого Сибирского пути остановилось напротив станицы Сретенской, которой такой поворот истории сулил не просто взрывной, а термоядерный рост. Ещё больше его ускорила русско-японская война, по итогам которой пользование КВЖД обрело много рисков. Но та же война отняла у Сретенска более дальнее будущее: царское правительство осознало необходимость строительства магистрали целиком по своей земле, не ближе 15 вёрст от пограничного Амура, и началом её был выбран неприметный степной разъезд Куэнга. В 1907 году к нему пристроили почти под прямым углом нынешнюю станцию, где был совсем не типичный для этих мест каменный вокзал, внешне куда больше напоминающий станции Оренбургско-Ташкентской магистрали. Но долговечный материал не спас его от сноса, а когда и при каких обстоятельствах это случилось - я так ничего и не нашёл.
3а.
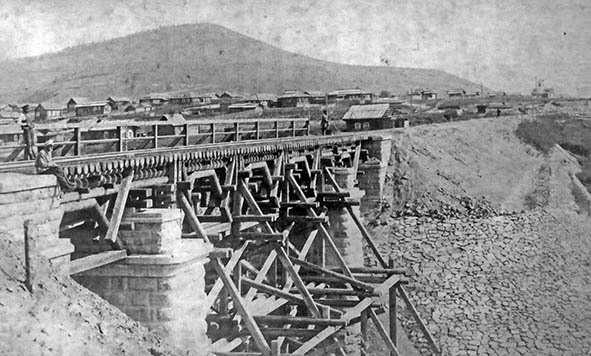
Так от Карымской до Куэнги старая Сретенская ветка стала частью Транссиба, а вот последние 52 километра - живописный малодеятельный тупик. Здесь поезд полтора часа идёт по узкому карнизу над Шилкой, так что в правое окно вид как из каюты многопалубного судна.
3.
Слева прижим иногда расступается просторными лугами, среди которых догнивают последние избушки опустевших деревень. Мы находимся западнее той границы, которую в 1689 году провёл Нерчинский договор, а в 1858 передвинул на восток до самого моря Николай Муравьёв-Амурский, и потому Забайкалье - давно обжитая русскими земля. В здешних сёлах нередки даже исторические церкви: Спасская в Курлыче - относительно молодая (1902-04), но весьма необычная; Троицкая (1823) и Никольская (1832) в Бянкино - заброшенные, но исключительно живописные; а невзрачная и обезглавленная деревянная Покровская церковь (1782) в Шелопугино - и вовсе самая восточная в России постройка 18 века. Увы, с поезда ни одна из этих церквей не видна - лишь призрачные деревни, расцвет и упадок которых были связаны только и исключительно с этой железной дорогой:
4.
А вот цементный завод в селе Кокертай работал для нужд Забайкальской железной дороги в 1895-1906 годах, но закрылся из-за того, что казаки вновь и вновь повышали арендную плату.
4а.
Мёртвые заводы выдают приближение опустевшего порта. В 15км до Сретенска встречает ПГТ с забавным названием Кокуй, ныне превосходящий сам город (6,8 тыс. жителей, на пике было 12 тыс.), а уж выходцев из него так и вовсе половина Забайкалья. Амуру был нужен флот, и если в Сретенске корабли нагружали, то в Кокуе - собирали их. С приходом железной дороги здесь было построено несколько сборочных верфей, филиалов крупнейших судозаводов России вроде Сормовского или Балтийского. Суда везли в Кокуй частями на поездах, собирали их (иногда - в деревянных корпусах из местного леса) да спускали на воду, а портом приписки этих судов мог быть хоть Благовещенск, хоть Николаевск. С Кокуйских верфей вышла и мощнейшая в истории пресных вод Амурская военная флотилия с базой в Хабаровске. В 1935 году всё это свели в Сретенский судозавод, ставший флагманом машиностроения Читинской области. Само собой - в те времена, когда заветы вот этого товарища чтили:
5а.
В позднесоветскую эпоху расположенные за 3000 километров от моря Сретенск строил сухогрузы и морские сейнеры, буксиры и бункеровщики, круизные лайнеры проекта "Ерофей Хабаров" (попадали мне в кадр здесь) и военные катера от дореволюционного "Штыка" до современного "Москита". Его заказчиками были Амурское пароходство, рыболовные флотилии дальневосточных морей и даже азиатские страны вроде Индонезии или Камбоджи. Душить предприятие раньше экономики начала экология - уже в конце 1980-х обмеление Амура серьёзно ограничило завод в тоннаже, ну а там и "невидимая рука рынка" за дело взялась. Последним судном из Кокуя стал грузопассажирский теплоход "Ительмен", отправленный в 2014 году на Камчатку, предпоследним - маломерный траулер "Кормчий", в 2001 году завершивший заказанную ещё при Советов серию таких судов. В 1990-х ССРЗ всё больше переходил на мебель, лодки и бытовые товары, ну а я увидел его в коматозе - формально, по состоянию на июнь предприятие было живо, но верилось это с трудом. В октябре 2021 года ССРЗ в очередной раз стал банкротом, и кризис-менеджер выставил цеха на продажу как металлолом, а общественность пока ещё надеется призвать инвестора.
5.
Символом же Кокуя вот уже 30 лет остаётся недостроенный сейнер проекта "Приморье", с 1992 года ржавеющий на зарастающем стапеле. Вот, сравните с фото из рассказа
 periskop.su 2007 года...
periskop.su 2007 года...5б.
В том же рассказе - и деревянный вокзал Кокуя, недавно "оптимизированный" бесследно, и более качественные фотографии при свете дня: всё же идея стартовать из Куэнги в 4:30 могла быть оправдана солнечным утром, но в пасмурных сумерках толком пофотографировать линию не удалось. За Кокуем выгибается излучина, с которой могли бы открываться интересные виды на руины судозавода, а буквально через 3 километра начинает натужно тянуться вдоль рельс узкий длинный Сретенск. В предместье, ранее старом селе Матакан портовая промзона продолжается "нобелевскими" резервуарами дореволюционной нефтебазы:
6.
А за Шилкой, в устье Куренги, виднеется Муравьёвская гавань - натурально, речной фьорд между крутых скал, идеально подходящий для судовых зимовок. Он, видимо, и предопределил судьбу Сретенска и Кокуя на прошлом рубеже веков:
7.
У платформы Матакан (вид с другого берега) над путями нависает здоровенный мост через Шилку (1986). С точки зрения туриста расположен он предельно неудобно - и станция, и исторический центр лежат ниже по течению, так что пешком между ними идти порядка 7 километров. Стоит ли говорить, что после Матакана мы с проснушвимся Петром остались единственным пассажирами в вагоне?
8.
И сейчас сложно вообразить, что творилось на этом узкой берегу-"карнизе" в начале ХХ века! Десятки вагонов на ветвящихся путях, паромы, баржи и пассажирские суда у причалов, облепленные домами склон горы да множественный, как хлопанье крыльев большей птичьей стаи, шорох ассигнаций.
8а.
Но расцвет оборвался так же стремительно, как начался, и вот уже сто с лишним лет на станции Сретенск тихо и пусто. Даже деревянному вокзалу (он же на заглавном кадре( режиссёр РЖДшного театра безопасности махнул рукой: "Хрен с тобой, живи!".
9.
Здесь всё пронизано странной архаикой - на стене ручной градусник, у пущенного за два месяца до моей поездки поезда чуть ли не рукописный плакат, а архаичный призыв не садиться на этот поезд в Куэнге заставит сжечь вокзал любого граммар-наци.
9а.

И даже отхожее место...
10.
...хранит в своих недрах биоматериалы белоказаков, красных партизан и японских интервентов:
10а.

За рекой - запоминающийся абрис двух сопок, а небывало высокая за много лет вода Шилки скрывает широкий и абсолютно ровный пляж, оставшийся от старой перевалки:
11.
Мы сразу направились по заросшим путям у берега:
12.
Мимо такой же заброшенной водоподъёмной станции:
13.
Скалу над ней венчает обелиск, и я не знаю, кто под ним покоится - красный партизан или заслуженный путеец. Скала же - ни что иное, как Минас-Итильское городище: за ней стоит деревенька с удивительным названием Моргул!
13а.

Мы пришли в Исторический тупик, едва не успев к прибытию в него красного локомотива. В 1900-1916 годах это был конец Транссиба:
14.
Не знаю, когда и зачем снесли водонапорную башню, а вот небольшое депо - стоит, и даже не выглядит совсем уж заброшенным:
15.
С другой стороны, у горловины - пара путейских домов и голые стены станционной конторы:
16.
Постройки железнодорожного посёлка карабкаются по склону сопки:
17.
Мы пошли наверх скользкими улицами по щиколотку в грязи, рассуждая, какая обувь тут удобнее - ботинки (на мне) или босоножки (на Петре):
18.
Серпантин поднимается почти что у окон депо:
19.
Наверху - форменно горский пейзаж:
20.
Людей тут требовалось много, в первую очередь грузчиков. Но тех, скорее всего, набирали сезонно, а вот путейцы жили на станции круглый год.
21.
Их дома отличаются необычными наличниками чердачных окон:
21а.
Среди домов выделяются школа:
22.
Состоящая из нескольких корпусов:
23.
И оставшаяся от больницы безымянная часовня - доминанта станционного пейзажа:
24.
А вот, видать, какая-то находка Третьей эпохи из Минас-Итильского городища:
24а.

Людей ранним дождливым утром мы не встречали, но посёлок явно живой:
25.
Отсюда - и лучшие виды на Сретенск:
26.
В почти сельском, прореженном бесчисленными пустырями пейзаже которого белеют отдельные капитальные здания - дореволюционные дома купцов, банки, конторы...
27.
...и пара новостроек словно из других миров:
28.
И над станцией, и над городом нависают кладбища. Городское отмечено Георгиевской часовней (1890):
29.
От посёлка к мосту ведёт несколько грунтовок, но все - поверху, так как карниз над рекой полностью занят железной дорогой.
30а.

По ней, однако, сперва решили идти мы:
30.
Отсюда - свои виды на город, куда теперь не ходит ни паром, ни лодка:
31.
Такой была станица Сретенская накануне прихода железной дороги, и её храм (1781), конечно же Сретенский, одиноко белел среди изб:
31а.
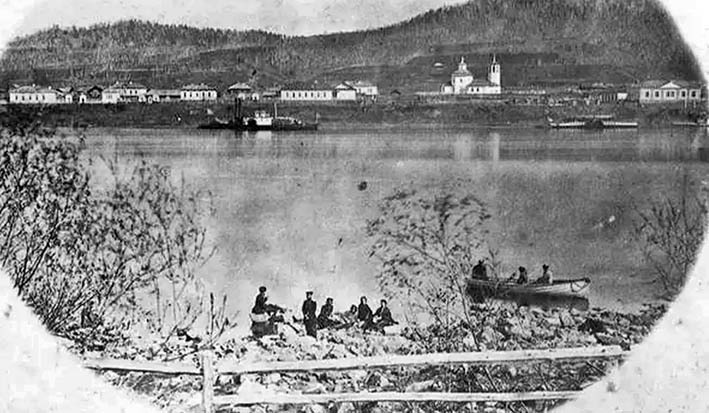
За десять лет перевалочного бума здесь успели построить площадь с тройкой самых роскошных от Читы до Благовещенска зданий, несколько особняков да инородческое кладбище в длинной ограде. Перед площадью - Речной вокзал:
32.
С которого какое-никакое движение есть и в наше время (об этом расскажу в конце поста), а вот в начале ХХ века жизнь била ключом (порой - по голове) и там. К станции примыкал грузовой порт, на городском берегу же находился пассажирский, а навигация по Амуру держалась на таких вот необычных для России, но типичных для американских рек пароходах с колесом у кормы. Курсировали они фактически без расписания, стояли на мелях и пристанях порой дольше, чем шли, а если каюта была похожа на ночлежку бродяг - то пароход считался "европейским", так как на обычных судах каюту можно было перепутать с угольной ямой. Всё это дополняли произвол и пьянство команд да самодурство капитанов, так что недовольный пассажир имел все шансы сойти на берег в какой-нибудь станице. Причём, ясное дело, без возврата денег за билет, который от Сретенска до Николаевска стоил в среднем баснословные 50 рублей, на нынешние деньги - несколько десятков тысяч. И никакая конкуренция (в одном только Сретенске было 3 пароходства) не спасала...
32а.

Судовладельцы просто понимали, что рельсы ползут на Восток, и шальные деньги спугнёт первый гудок паровоза. А потому расцвет Сретенска сопровождался столь типичным для ДэВэ временщичеством:
33.
Вообще, читая о Приамурье начала ХХ века, я часто ловлю себя на странном дежавю - временщики и рвачи, неадекватно дорогая рыба (если поймал не сам), бандиты-ингуши на приисках и промыслах, китайские браконьеры в тайге да ожидание неизбежной "жёлтой угрозы"... Не случайно именно на Дальнем Востоке сейчас складывается в России новый "красный пояс" - без управляемого, стратегического развития этот край просто по природе своей обречён на судьбу разграбляемой колонии:
34.
Прошлые кадры сняты явно не с берега. Если ближе к станции прямо сквозь шпалы растут грибы, то уже через полкилометра мы оказались по колено в мокром бурьяне:
35.
Поэтому найдя тропу, решили подниматься на косогор:
36.
Немного видов станции из-за Шилки:
37.
Проехав линию из Куэнги в сумерках, я упустил ряд интересных видов. Но зато ежедневный дизель Куэнга-Сретенск, отправляющийся около 7 утра, мы наблюдали на том берегу, уже придя в центр города:
38.
С другого берега лучше всего просматриваются и мосты, коих над ручьями и канавами немало:
39.
А вот местные бредут по рельсам скорее в пристанционный посёлок, чем на поезд:
40.
Кадр выше снят, конечно же с моста, ближе к полудню на обратном пути, когда вдруг распогодилось:
41.
Шилка не впечатляет в статистике - с длиной 560км и расходом воды 560 м³/с это река уровня Сухоны или Волхова. Но может из-за аномально высокой воды, а может из-за величия окрестных сопок "на глаз" Шилка кажется огромной рекой, не уступающей как минимум Оке или Дону. Это середина её течения... но 3/4 водосбора: позади остаются забайкальские степи со множеством длинных полноводных рек, а дальше Шилка течёт в основном каньонами через скалистые таёжные сопки.
42.
По красоте расположения среди виденных мной городов я бы твёрдо поставил Сретенск в первую десятку, наряду с Петропавловском-Камчатским, Курильском, Чердынью, Алма-Атой или Ереваном. Пейзаж Шилки здесь величественен, но одновременно прост до совершенства. Слева - станция между карнизом железной дороги и скалами Моргула:
43.
Справа - город в излучине на фоне горы:
44.
Мост, как уже говорилось, ограничивает его историческую часть, но взглянем всё же и вверх по течению. На ближайшей сопке живописно висит мрачнейшее здание, о назначении которого я не могу предполагать, тем более что Моргул в другой стороне:
45.
Матакан отсюда видится вполне самостоятельной деревней:
46.
А напротив Матакана снова заметен вход в Муравьёвский затон. Сейчас это в первую очередь база дивизиона пограничных катеров: почти вся граница России с Китаем - речная, по Аргуни, Амуру и далёкой Уссури. Низовья Аргуни и верховья "единого" Амура и патрулируют отсюда, а то, что до устья Шилки ещё 200 километров, на Дальнем Востоке никого не должно удивлять - удобных мест для такой базы где-нибудь поближе просто нет. Катера, однако, скрыты в глубине затона, а на выходе поблёскивает белая "Заря" - под Хабаровском я уже рассказывал о поездке на этом удивительном судне по притокам Амура. Сретенская "Заря" возит народ в деревни ниже по Шилке, вот только даже расписания её я не смог нагуглить - как я понимаю, каждый рейс назначается отдельно, а в дни нашего визита рейсов и вовсе не было просто потому, что капитан изволил заболеть.
47.
Ну а напоследок расскажу чуть-чуть о тех селениях, куда этой "Зарёй" можно попасть: ведь Сретенск - вполне себе Забайкалье, и даже расцвет свой встретил в статусе станицы Забайкальского войска, который получил в 1851 году. Прежде же Сретенск был горнозаводским селом Шилкинского сереброплавильного завода в сотне километров ниже по реке. Построенный в 1769 году, завод оброс к концу столетия каторжной тюрьмой, посёлком горных инженеров и потомков отбывших своё каторжан, парой церквей, школой и госпиталем, а закрылся в 1850 году по исчерпанию руд. Селение Шилкинский Завод, однако, стоит у реки до сих пор, и почти сразу по указу генерал-губернатора Николая Муравьёва-Амурского обзавелось новым предприятием - верфью. Ведь Забайкальское войско было учреждено в первую очередь для Амурских сплавов - колониальных экспедиций вниз по реке, благодаря которым её берег стал русскими уже к моменту подписания Айгунского договора, по которому Россия в 1858 году получила Дальний Восток. В Шилкинском Заводе собирали деревянные баржи, зёрна будущий станиц.
48а.
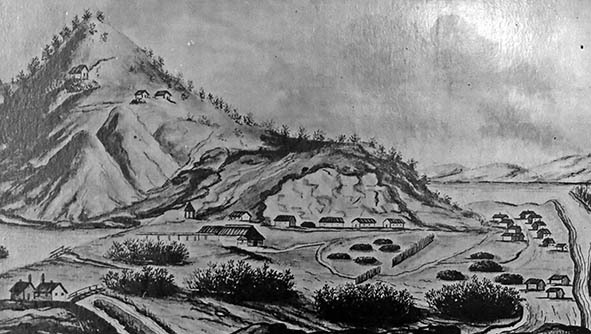
На реке Кара, впадающей в Шилку чуть ниже, ещё в 1838 году были открыты россыпи золота, частная добыча которого в середине 19 века по всему Забайкалью пришла на смену старым казённым серебро-свинцовым рудникам. Вот скажем подъёмная машина одной из золотоносных шахт и фасады домов управляющего и лекаря:
48б.
Карийские прииски, впрочем, отличались тем, что были именно что казённые, а потому в тени знаменитой Нерчинской каторги с 1849 года существовала куда менее известная, а потому как бы не более мрачная Карийская каторга. Её первый начальник Николай Разгильдяев действовал теми методами, которые сотней лет позже будут называть "сталинскими" - добыча при нём увеличилась в разы, но из 4500 заключённых только первую зиму не пережило более 1000. Поначалу тут работали лишь уголовники, но с 1873 года Кара ждала и политических, в основном народников, начиная с "нечаевцев". Всего таковых тут побывало две с половиной сотни - 212 мужчин в Нижнекарийской тюрьме и 32 женщины в Усть-Каре. С женской тюрьмой и была связана самая трагическая страница Карийской каторги: в глухом углу, естественно, царил произвол, и вот после очередного вопиющего случая революционерка-народница Надежда Сигида (в девичестве - Малаксиано, гречанка из Таганрога) в последний день лета 1889 года отвесила пощёчину коменданту. Кодекс чести офицера требовал после такого подавать в отставку, но комендант не только этого не сделал, но и в нарушение всех неписанных правил приговорил Сигиду к 100 ударам розгами. Ответом на такое унижение стало массовое самоубийство заключённых - 4 женщин (включая Сигиду) и двух мужчин. Жертв могло быть ещё больше, но морфий, которым они отравились, в мужской тюрьме оказался просрочен и потому подействовал только на тех, кто принял его очень много, а прежде морил себя голодом. Трагедия вызвала, как сказали бы сейчас, международный резонанс вплоть до массовых акций протеста в Англии и Америке, и к концу 1889 года политзаключённых с Карийских промыслов перевели в Акатуй, а в 1898 году была закрыта и уголовная каторга.
48в.
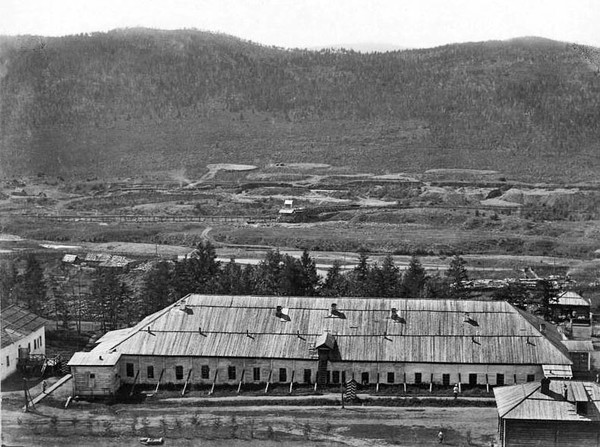
Вдоль Кары в 19 веке выросла целая цепочка деревень - Верхняя, Средняя, Нижняя Кары и Усть-Кара, ныне, видимо во избежание путаницы с тёзкой на Крайнем Севере, официально ПГТ Усть-Карск (1,5 тыс. жит.). Она успела побыть в 1934-58 годах райцентром, а драги на Карийсках приисках работают и до сих пор. Остальные деревни в ХХ веке опустели, но вот их пейзажи сверху вниз на старых фото. В Средней Каре была даже Никольская церковь (1851), а ещё один обезглавленный деревянный храм тех же лет уцелел в соседних Верхних Куларках.
48г.
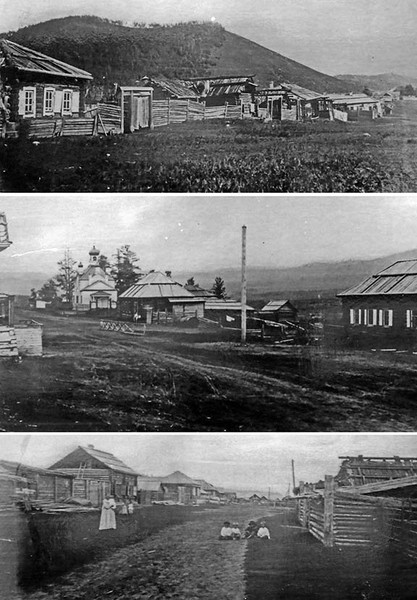
Дальше из чёрно-белого мира вернёмся в цветной - в следующей части погуляем по Сретенску.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Бутинский дворец и главная площадь.
Нерчинск. Город.
Нерчинск. Окрестности.
...и другое (будет позже)
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: невольничье Сибирь дорожное Молох казаки Дальний Восток транспорт деревянное |
Амурская железная дорога. Часть 3: от Дальнего Востока до Сибири |
"Бог создал Ялту и Сочи, а чёрт - Сковородино и Могочу", "У чёрта две дачи - Могоча и Магдагачи" - в шутку говорят про Амурский Транссиб. Сковородино с ветками на Тынду и Джалинду я показывал в прошлой части, Магдагачи - в начатой от Белогорска позапрошлой, ну а сегодня и на Могочу поглядим. Смысл же шуток про чёртовы дачи вполне прозрачен: за 2000 километров, двое суток пути от Читы до Хабаровска Амурская железная дорога не встречает ни единого крупного города, а её таёжные посёлки - одни из самых гиблых, мрачных, нищих мест всей России, куда лишь в 2010 году пришла сквозная автодорога.
В прошлой части я показывал ещё и Малый БАМ, к 2010-м годам разросшийся до Амуро-Якутской магистрали. По ощущениям она отходит от Транссиба в Сковородино, по факту - на неприметном разъезде Горелый, а официально её первый участок назывался во всех документах "железной дорогой Бам - Тында". Она была построена в 1975-77 годах со второй попытки - первая кончилась в 1942 году снятием уже уложенных рельс и отправкой их на Волжскую рокаду. Нанизанная на Транссиб в 1932 году станция Бамовская фактически находится чуть западнее развилки, но первоначально развилка была именно здесь, а на Горелый сместилась после электрификации Транссиба: Малый БАМ остался тепловозным, и локомотивы меняют в Сковородино. Путь к Бамовской сняли где-то в конце 2010-х, однако недостроенный мост - памятник другой истории: он остался от второго пути Малого БАМа, который так и не успели закончить из-за распада Союза.
2.
Сам же посёлок Бам (1,1 тыс. жителей) в крайней северной точке АмурЖД вполне оправдывает своё название - по архитектуре вокзала и облику кварталов он действительно выглядит как филиал БАМа на Транссибе:
3.
Год основания же сибирского Бама вполне красноречив: в 1932 было выпущено постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали и учреждён грандиозный Бамлаг, "столицей" которого так иронично был сделан Свободный. Приступив в 1938 году к стройке от Тайшета на восток и от Ванинского порта на запад, Бамлаг был разделён на 6 лагерей, а до того по сути дела курировал всё железнодорожное строительство на Дальнем Востоке. И пока серебристые гидропланы вели аэрофотосъёмку будущей трассы над витимской и ленской тайгой, зэки прокладывали второй путь Транссиба, законченный в 1936 году. Вот, ещё через десяток километров, один из построенных ими объектов - мост через речку Тахтамыгда:
4.
Одноимённую станцию за ней большинство поездов проскакивает без остановок, и всё же тут стоит посмотреть в северные окна вагона - на Тахтамыгде уцелел один из лагерей:
5.
В мирное время здешние узники строили железные дороги и валили лес, а в войну главным объектом их трудов стал аэродром, скрытый за лесом южнее железной дороги. Первоначально он служил "станцией" АлСиба - воздушной трассы ленд-лизовских самолётов, перегонявшихся над безлюдными пространствами из Анкориджа в Красноярск.
6.
В 1945 году зэков сменили пленные японцы, а ещё через несколько лет и их место заняли обычные уголовники - и в наши дни лагерь используется по назначению как зона строгого режима №5. Внешне постройки Тахтамыгды куда больше похожи на позднесоветский "последний лагерь ГУЛага" Пермь-36, чем на аутентичные сталинские лагеря, которые я видел на Трансполярке. На фотографиях же - лишь промзона: местом действия лагерных ужасов принято считать барак, но на великих таёжных стройках даже в бараке жить было роскошью, а "простой советский заключённый" мёрз и бил мошкУ в палатках да землянках.
6а.

Дальше поезд движется вдоль Малого Ольдоя, выше по которому уходит Малый БАМ. У станции Мадалан чуть ниже слияния с Большим Ольдоем - мост через "просто" Ольдой. Как и всюду на АмурЖД - двойной: под нами - 1930-х годов, рядом - дореволюционный. Но в обоих мостах исторические только опоры, на которые в 21 веке уложили новое полотно. Кран посреди бурной воды не спеша разбирает старые фермы:
7.
Историю Амурской железной дороги я пересказывал в двух прошлых частях, а здесь напомню её совсем кратко. Ведь первоначально последним сегментом Транссиба была Китайско-Восточная железная дорога, которую царь проложил в 1896-1903 годах в полной уверенности, что скоро и земля под ней станет русской. Но проект Желтороссии закрыла русско-японская война, по итогам которой "самураи" получили возможность в любой момент перерезать тонкую нить КВЖД. В 1907 году царское правительство поставило задачу проложить новую железную дорогу не просто целиком по территории России, а ещё в стороне от пограничного Амура. Ту стройку с трудом каторжан, первым применением грузовых машин и экскаваторов, преодолением вечной мерзлоты и вторжением в великое безлюдье я уже не раз называл "царским прото-БАМом", растянулась же прокладка без малого 2000 километров путей на без малого 10 лет. Открывшийся в 1916 году Амурский мост в Хабаровске замкнул Транссиб по территории России, ну а участок, по которому едем сегодня, построен в 1909-13 годах. Он не был самым сложным на Транссибе по рельефу (через Хинган на востоке пришлось бить 7 тоннелей, здесь - ни одного), но именно в этих покатых сопках Транссиб пересекает свой полюс холода и глуши. Опустевшие пятиэтажки ПГТ Уруша (3,3 тыс. жителей) стоят на сваях, вбитых в вечную мерзлоту:
8.
Зимовье Уруша известно с 1904 года, посёлок появился здесь в 1909, а в 1950 получил статус ПГТ - с заменой пары цифр эта история относится почти ко всем станциям, о которых сегодня пойдёт речь. Из советской станционной подсобки в 2004 году сделали церковь Бориса и Глеба у самых путей:
9.
Сам вокзал (2006) стоит чуть дальше, и он здесь довольно оригинален. Свайное строительство каменных зданий осваивала в 1930-х годах первая в мире мерзлотная станция в Сковородино, но большую часть истории Амурской железной дороги её архитектурное лицо определяли деревянные вокзалы. Сносить их понемногу начали с 1980-х годов, к 2020-м извели все до единого, и лишь на паре-тройке станций то, что построили им на замену, хотя бы останавливает взгляд:
10.
Относительно крупные посёлки и хоть чем-то примечательные станции здесь встречают раз в час-полтора. Вот сходят на нет домики Уруши:
11.
И по обе стороны Транссиба вновь смыкается бескрайняя тайга:
12.
Из которой через сотню километров пути появляется навстречу изумлённым пассажирам сам Ерофей Павлович - очередной ПГТ (4,3 тыс. чел.), основанный в 1909 году и получивший этот статус в 1934-м:
13.
Имеется в виду, конечно же, Ерофей Палыч Хабаров - казак-первопроходец, "дальневосточный Ермак", покорявший Приамурье в 1650-е годы (см. Албазин). Если бы это название уже не закрепилось за столицей Дальнего Востока в устье Уссури, здесь вполне мог бы стоять утлый посёлок Хабаровск. Самый же логичный вариант назвать станцию по реке не годился - каторжане да зэки явно улыбалась, выходя на берег Урки. В общем, получился топонимический курьёз, едва ли не единственный в России посёлок, названный даже не именем-фамилией, а именем-отчеством, и вдвойне удивительно, что это не Владимир Ильич. Ну а здешний вокзал (2002-04), архитектор которого явно перепутал сибирских казаков с варягами и ушкуйниками теперь явно самый интересный на всей АмурЖД:
14.
На путях - уже пятый (!) в моём рассказе паровоз-памятник. Правда, если на других станциях были сплошь "лебедянки" да "генералы" 1950-х годов, то здесь более архаичный Эм, построенный в 1933 году на "Красном Сормове", а выпускавшийся различными заводами и вовсе с 1912 года.
15.
На заднем плане - промзона с депо и эффектной дореволюционной водонапоркой, которую я удачнее заснял в 2018 году, впервые возвращаясь с Дальнего Востока:
16.
За вокзалом - небольшой обелиск борцам за власть Советов, столь же типичный для этих мест, где красные партизаны воевали с японскими интервентами:
17.
У вокзала осталось несколько путейских домов - они давно сняты с баланса РЖД, и потому теперь это ветхое жильё, изничтожение которого входит в обязанности района:
18.
Название же главной улицы Ерофей Павловича после площади Клинтона в Приштине, проспекта Буша в Тбилиси и улицы Маккейна в Киеве несколько озадачивает. По той же причине и нагуглить, кто такой этот Байдин, непросто, но рискну предположить, что его имя есть на обелиске с позапрошлого кадра:
18а.

На дальнем конце улицы Байдина стоит Петропавловская церковь, по странной иронии освящённая в 2014 году, а вот ближе к вокзалу - ДК, закатанный в сайдинг:
19.
Певроначальное его здание 1920-х годов было куда интереснее, но судя по всему сгорело оно давно - очертания того, что теперь в сайдинге, выдают позднесоветскую бетонную постройку:
19а.

На параллельной Политотдельной улице (!) сохранилось общежитие 1930-х годов:
20.
А между ними - кривые сараи, топкая грязь, продолжительные и напряжённые взгляды прохожих, косившихся на меня порой по пять раз:
21.
В перспективах улиц - таёжные сопки:
22.
В которые поезд уходит, как корабль в волны моря, покинув небольшой островок:
23.
Пейзажи Амурской железной дороги, конечно, куда зрелищнее среднерусских нив и плоских степей Западной Сибири, но всё же по меркам Дальнего Востока вполне заурядны. Самая живописная часть Транссиба - скорее, вблизи Байкала или на Урале, а здесь гораздо больше впечатляет пустота.
24.
Где-то за Ерофеем Павловичем поезд покидает бескрайнюю тихую Амурскую область, входя в жестокий Забайкальский край.
25.
Который открывает станция Амазар в очередном ПГТ (2,3 тыс. жителей, с 1938 года) в стрелке рек Амазар и Большая Чичатка:
26.
На последней сразу привлекает взгляд плотина, которая должна была создать пруд для здешней то ли стройки, то ли аферы века - Амазарского ЦБК, который с 2004 "пережил несколько официальных открытий, но не дал и кубометра продукции", сменив десяток инвесторов из материкового Китая и Гонконга.
27.
Амазар 1990-х годов же был известен как "столица транссибовского нищенства", где по вагонам побирались шайки беспризорников, отошедшего покурить слишком далеко пассажира вполне могли лишить ценностей или просто злобно избить, а пирожки на машинном масле слыли самыми ужасными не то что от Читы до Хабаровска, а от Лиссабона до Владивостока. Эти пирожки обозначали и некую ментальную границу Сибири с Дальним Востоком - от следующих станций и до Урала продать пассажиру тухлятину пристанционные торговцы могли разве что по ошибке.
Времена с тех пор изменились: амазарские беспризорники сторчались, спились и вымерли, омулем на Байкале народ травится только так, а деревянный конструктивистский вокзал 1920-х годов снесён как пожароопасный...
28а.

...но пирожки у торговок с надрывными лицами, как и прежде, остаются символом Амазара:
28.
Вид стоящего в лощине между сопок Амазара как-то особенно угрюм, но вместе с тем и особенно живописен:
29.
В общем пейзаже посёлка выделяются школа сталинской эпохи:
30.
Депо и водонапорка среди бесконечных путей:
31.
И целый квартал путейских домов за путями:
32.
Настигший здесь Олега Медведева Амазарский ястреб наверное отмечает низшую точку пути, дно отчаяния и страха, в котором вдруг наступает лёгкость и свобода от боязни потери.
33.
В створе станции виднеется трасса "Амур", строившаяся долго, как наверное ни одна дорога в мире. К началу 21 века на 800 километров от Чернышевска до Шимановска не было сквозных дорог, и только в 2004-м таёжные зимники и накатанные лихими автоперегонщиками грунтовки соединили хотя бы серией мостов. Финалом строительства асфальтовой дороги в 2010 году стал знаменитый пробег тогдашнего премьер-министра Владимира Путина на жёлтой "Ладе Калина". Последнюю, однако, сочли плевком в душу дальневосточники, которым чуть раньше повысили пошлины на любимые праворульки. Модный ЖЖ и подростковый ВК гудели от стишков вроде "Путин едет по стране / На серебряном коне / А народ живёт в г...не...", а рунетовский путешественник с видом "уж нас-то не обманешь" рассуждал, правда ли трассу сделали или это очковтирательство. Помню, что даже я сам поверил, что трасса действительно есть только после того, как
 victorborisov показал её всю в ускоренном 12-минутном ролике. Смирившись с неизбежным, народ начал ныть, что трасса пустая и страшная, на ней слишком мало заправок, без ГАИшников, пробок и коров ехать скучно и одиноко, и вообще вся эта тайга угнета-а-а-а-ет. Когда же один из её участков, известный теперь как "Амурские волны", пошёл вразнос - дальнобойщик и хипстеры слились в экстазе "Мы знали! МЫ ЗНАЛИ! МЫ ЗНААААААЛЛИИИИИИИ!!!!!!!!". И я на всю жизнь запомнил тогда то особое, кажется чисто русское упорство, с каким народ не желал просто порадоваться тому, что впервые в истории любая машина может проехать страну насквозь без приключений.
victorborisov показал её всю в ускоренном 12-минутном ролике. Смирившись с неизбежным, народ начал ныть, что трасса пустая и страшная, на ней слишком мало заправок, без ГАИшников, пробок и коров ехать скучно и одиноко, и вообще вся эта тайга угнета-а-а-а-ет. Когда же один из её участков, известный теперь как "Амурские волны", пошёл вразнос - дальнобойщик и хипстеры слились в экстазе "Мы знали! МЫ ЗНАЛИ! МЫ ЗНААААААЛЛИИИИИИИ!!!!!!!!". И я на всю жизнь запомнил тогда то особое, кажется чисто русское упорство, с каким народ не желал просто порадоваться тому, что впервые в истории любая машина может проехать страну насквозь без приключений.34а.

Ну а кадр выше значит вовсе не "Сталина на вас нет!" - главной достопримечательностью Амазара в 1935-56 годах был бюст Отца Народов. Вытесал его из скалы, что характерно, некий неизвестный заключённый - сейчас сложно поверить, что многие из тех, кого упекли за колючую проволоку, искренне верили, что попали сюда по ошибке и даже в лагерях пытались трудиться на благо коммунизма, страны и вождя. Взорвали памятник, наоборот, по разнарядке.
34.
Увидеть же скалу, оставшуюся от него, пытались многие путешественники, но кажется, с Транссиба она всё же не видна. По карте эта скала стоит там, где поезд выходит к берегу Амазара, над волнами которого легко представить и ястреба с белым крылом:
35.
Амазар - он и правда кульминация Великого ничто, полночь Транссиба, за которой тайга понемногу начинает расступаться:
36.
Но за тайгой открываются не только изумрудные луга - порой земля здесь покрыта как будто гигантскими язвами:
37.
Приближение Могочи выдаёт огромный золотой прииск, опустошивший целую излучину Амазара:
38.
С базы старателей начиналась в 1908 году и сама Могоча - с 1950 года даже не какой-то ПГТ, а город (13 тыс. жителей). Причём - самый крупный от Нерчинска до Шимановска, на всём том 800-километровом участке, где до 2010 года не было автодорог.
39.
И возвращаясь к чёртовым шуткам из начала поста: Сковородино и Могоча - единственные города в этом Великом ничто, а Могоча и Магдагачи - его западные и восточные "ворота".
40а.

Могочинский вокзал - на вводном кадре, и сменил он здесь не колоритную деревяшку, а коробку 1970-х годов (кадр выше).
40.
Получилось, на мой взгляд, нечто чуть более живописное, в первую очередь за счёт входа по мостику:
41.
Стоянка тут долгая, и по пути с востока сопровождает её какое-то странное, иррациональное чувство облегчения о том, что самые суровые места позади. Пассажиры разбредаются по магазинам:
42.
Я же полез на виадук фотографировать город:
43.
Больше всего в могочинском пейзаже меня озадачили, конечно, солидные деревянные здания, в которых очень хочется увидеть какую-нибудь контору старателей начала ХХ века, но скорее это просто недостроенный кабак. Более достоверная достопримечательность Могочи - конструктивистский ДК имени Воровского 1930-х годов:
44.
У Амазара Могоча напоминает скорее большое село, а вот за путями - вполне городские кварталы:
45.
Впереди - огромное депо:
46.
Скрывающее очередной паровоз-памятник, "лебедянку", построенную в 1955 годув Коломне . Мне в кадр она попала, судя по всему, в процессе ремонта:
47.
Станционная промзона тянется долго, и новое сверкающее здание администрации депо здесь смотрится приветом из другого мира:
48.
Но до большой земли пока что далеко, и вот за окном опять лишь таёжные сопки:
49.
Уже в сумерках, через пару часов от Могочи, мы достигли станции Ксеньевская, названием чуть-чуть не совпадающей со своим ПГТ (2,3 тыс. жителей, с 1939 года) Ксеньевка:
49а.
Официально имелась в виду великая княгиня Ксения, младшая сестра Николая II. Но видимо чтобы не возиться с переименованием, в советское время сложили легенду, будто Ерофея Хабарова в его походе сопровождали родные, и в том числе единственная дочь Ксения, которая тут заболела и умерла. На станции - вокзал сталинской эпохи, но куда интереснее памятник перед ним:
50.
Поставленный в 1994 году по случаю завершения электрификации Амурской железной дороги. Которая, надо заметить, не тождествена электрификации Транссиба - последней крупной станцией, куда электровоз пришёл лишь в 2002 году, было Ружино в Приморье.
50а.
Провожает Ксеньевка довольно капитальной и не совсем уж типовой церковью, которую логично было бы посвятить Ксении Петербургской, но нет - это храм Пантелеймона Целителя (2003) с красноармейским обелиском во дворе:
51.
Старая церковь с таким посвящением же больше всего впечатляет тем, кто именно сохранил её на фото - это сделал собственной персоной Фритьоф Нансен, в 1915 году посвятивший Ксеньевке неколько строк своей книги "В стране будущего".
51а.

Дальше стемнело окончательно, и я решил поспать до прибытия глубокой ночью. Ксеньевка стоит на реке Чёрный Урюм, следующая станция Зилово в ПГТ Аксёново-Зиловское (2,9 тыс. жителей) с необычным двухъярусным вокзалом - на реке Белый Урюм, ну а за Урюмом начинается уже следующий, самый короткий Головной участок АмурЖД, проложенный в 1907-10 годах. Его "столица" - ПГТ Чернышевск (12 тыс. жителей), которому автостопщики дали романтичное прозвище "город последнего хиппи": до начала 21 века здесь был конец автодорог, а на огромной станции Чернышевск-Забайкальский с единственным на всей АмурЖД историческим вокзалом (1933-40) "праворукие японки" выгружались с поездов. Что интересно, название посёлка не имеет никакого отношения к Николаю Чернышевскому: предшественниками "города последнего хиппи" были Алеуровская заимка (1670), разросшаяся в Поповскую слободу, с 1851 года - станицу. Рядом в 1908 году был заложен разъезд Пашенный, слободка строителей которого неофициально называлась Чернышёво. В 1928 году отсюда протянули ветку в шахтёрскую Букачачу, и разъезд повысили до станции, неуклонно разраставшейся следующие десятилетия в тупике автодорог. В 1938 году селения слепили в ПГТ им. Кагановича, в честь которого назвали и станцию. Каганович, однако, избежал репрессий и не думал помирать от старости, а потому когда в 1957 году вышло постановление о запрете называть города в честь ныне живущих, железнодорожники уже знали "Что делать?". Автор же второго из главных русских вопросов в Забайкалье и правда сидел - но только не здесь, а в Александровском Заводе.
Но я прозаично проспал город, который нынешние хиппи проскакивают без остановок. Глубокой ночью я покинул вагон на станции Куэнга и отправился в призрачный Сретенск. О котором - в следующих 2 частях.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Бутинский дворец и главная площадь.
Нерчинск. Город.
Нерчинск. Окрестности.
...и другое (будет позже)
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: невольничье Дальний Восток Сибирь природа транспорт дорожное |
Амурская железная дорога. Часть 2: через Сковородино от Амура до БАМа |
Сковородино - крошечный городок (8,7 тыс. жителей) в Амурской области за 600км от Благовещенска по Транссибу, колоритный участок которого от Белогорска до Магдагачи я показывал в прошлой части. Ещё Сковородино называют Восточной вершиной Транссиба, и несмотря на то, что неподалёку есть станции и посевернее, это правда так: рядом уходит на Якутск трасса "Лена" и находится точка наибольшего сближения Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Сковородино стоит на странной поперечной железной дороге: на юг, в Джалинду на Амуре (близ которой в старинном Албазине я начинал рассказ о Даурии) ведёт Рейновская ветка, на север в Тынду - Малый БАМ. С первой, ныне заброшенной, начиналось строительство Амурского участка Транссиба, со второго - строительство "большого" БАМа. И сегодня поедем от Джалинды до Тынды, поперёк всех трёх главных путей.
Половину 17 века русские казаки воевали за Амур. Противостояли им здесь уже не туземцы с луками и копьями, а регулярная армия тогда ещё молодой и агрессивной империи Цин, располагавшая большими кораблями, осадной артиллерией и пороховыми ракетами. Казаки сражались отчаянно, строили по наитию первые в России дерево-земляные крепости европейского типа, держали долгие осады в Кумарском (1655) и Албазинском (1685, 1686-87) острогах, но всё же не по силам им было тягаться с Китаем на его заднем дворе. Те войны полностью изменили облик Даурии, которую покинули прежде жившие здесь земледельческие народы - частью спасаясь от казаков, частью переселяясь в плодородные степи Маньчжурии, когда сами маньчжуры ушли на юг обживать покорённый Китай. На который, однако, смотрели они как европейцы на свои заморские колонии, за неимением морей и океанов построив от границы до границы Ивовый палисад. Отстояв Приамурье от "бородатых варваров", Цины обнаружили, что им некем его заселить, кроме малочисленных мурченов (конных эвенков), ушедших из российского Забайкалья. И в наши дни на китайском берегу Хэйлунцзяна (Амура) такая же точно глухая тайга, из которой лишь кое-где торчат то одинокий ветряк, то мощная бетонная пограничная вышка:
2.
Вновь даурский вопрос встал спустя без малого два века, когда солнце дома Романовых уже начало клониться к закату, а дом Цин вконец выродился и одряхлел. Мореплаватель Геннадий Невельской в 1850 году не спрося двух императоров поставил крепость в устье Амура, и Николай I лишь развёл руками, сказав "там, где был поднят русский флаг, он опускаться уже не должен". Инициативу Невельского не словом, а делом поддержал новый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв, позже ставший Муравьёвым-Амурским. В 1854 году он выделил из Сибирского казачьего войска Забайкальское войско и начал его силами серию Амурских сплавов - казачьи плоты со всем переселенческим скарбом четыре навигации подряд шли вниз по реке, частью зацепляясь за берега и превращаясь в станицы, а частью доходя до солдатских постов, линия которых росла вверх по Амуру от Николаевска. Для Китая же тогда главным врагом была Британия, и после Крымской войны Цины недальновидно сочли, что враг их врага - их друг. Они знали, что англичане нападают с моря, и в 1858 году по Айгунскому договору сдали "белому царю" не только безлюдные приамурские земли, но и тёплый Уссурийский край, таким образом полностью отгородив территорией России свою родную Маньчжурию от побережья. Четыре Амурских сплава стали началом русского заселения Приамурья, и первопоселенцы возникших станиц в 1858 году образовали новое Амурское казачье войско. В тех сплавах были основаны Благовещенск и Хабаровск и возрождён героический Албазин. В 20км выше которого в 1858 году появилась станица Рейновская, названная в честь участника сплавов Эдуарда Рейна, а ныне известная как Джалинда. То, как это название прикрепилось к ней, заслуживает отдельного рассказа:
2а.

Ведь на самом деле Джалинда - это река на востоке Амурской области, за Зеей, где в 1865 году горный инженер Николай Аносов (сын Павла Аносова, в уральском Златоусте повторно открывшего булат) нашёл богатые золотые россыпи. На что тут же обратил внимание олигарх Дмитрий Бенардаки - этот хитрый грек из Таганрога и отставной гусар из Ахтырки, владевший несколькими металлургическими заводами на Урале, флагманом российского машиностроения в нижегородском Сормове и золотыми приисками на Енисее в 1858 первым из крупного отечественного капитала зашёл на Амур. Поначалу его Амурская компания планировала заниматься поставками местным переселенцам товаров "с большой земли", вот только Россия здесь едва не повторила неудачный опыт Цинского Китая: кроме казаков и солдат заселять Приамурье снова оказалось некем! На остающуюся почти бесхозной землю откровенно положили глаз американцы, в своей экспансии на Запад упёршийся в Тихий океан. Через Николаевский порт заморские капиталисты буквально заливали амурских казаков дешёвыми виски и бренди, да и все прочие товары морем возить было дешевле, чем бесконечными ухабами сибирских трактов. За несколько лет Амурская компания вплотную подошла к банкротству, но разве может для любого места на Земле быть реклама лучше, чем "золотая лихорадка"? Так после открытий Аносова, нашедшего вскоре ещё более богатые россыпи на реке Ольдой, была учреждена Верхне-Амурская компания, возглавившая русскую экспансию в этот суровый край. Она обзавелась и речным флотом во главе с пароходом "Джалинда", по которому и причалы её в 2 верстах от Рейновской стали известны как пристань Джалинда:
2б.
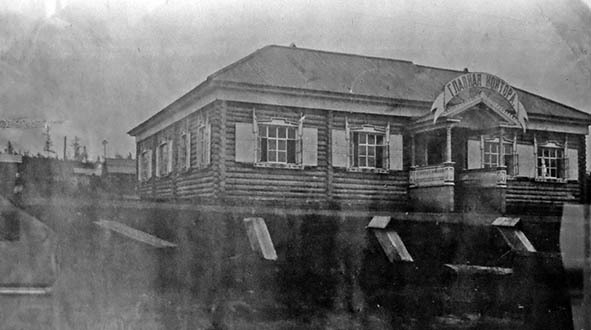
В конце 19 века прииски Верхне-Амурской компании обеспечивали до 1/5 добычи золота в России, а главное - дали импульс развития Приамурью, куда потянулись, не только и даже не столько за золотом, переселенцы и купцы. Главной дорогой при этом оставался Амур, вдоль которого даже колёсный тракт начинался только ниже Благовещенска, бывшего тогда крупнейшим русским городом Дальнего Востока. Железную дорогу на Владивосток в 1896-1903 годах царское правительство проложило, недолго думая, прямо через Китай в полной уверенности скорого появления Маньчжурского генерал-губернаторства. Из-за сопок Маньчжурии, однако, внезапно выскочили злые "макаки", как тогда презрительно дразнили японцев... оказалось - зря: после нескольких десятилетий стремительной модернизации Япония предстала современной и очень боеспособной страной. "Макаки" пустили ко дну два русских флота, разбили на сопках Маньчжурии сухопутную армию, взяли неприступный Порт-Артур и всем этим нанесли России едва ли не самое постыдное поражение в её истории. Оправившись от шока и вспыхнувшей революции, царское правительство осознало, что "проект Желтороссия" можно забыть, и думать пора не о том, как поживиться кусками Китая, а о том, как бы своим Дальним Востоком не поживился кто-нибудь. Ключевым элементом укрепления Приамурья должна была стать железная дорога, целиком проходящая по территории страны, "не ближе 15 и не дальше 130 вёрст от Амура". Так в 1907 году на востоке страны началась самая что ни на есть Великая стройка, куда больше похожая на стройки СССР - подробнее, с архивными фотографиями, я рассказывал о ней в прошлой части. На этом прото-БАМе царские инженеры впервые столкнулись с вечной мерзлотой и полным безлюдьем тайги, а в ход шёл труд каторжан, азиатских гастрбайтеров и даже первых в России экскаваторов. Ну а в 1909-11 годах для снабжения стройки в самых холодных и малолюдных краях была проложена изолированная железная дорога, началом которой стала станция Рейново у пристани Джалинда:
3а.

И те два года жизнь в Джалинде кипела не хуже, чем на нелегальных Желтугинских приисках за Амуром (см. пост про Албазино). Здесь точно так же открывались кабаки, бордели, музыкальные салоны и театр, а за рекой выросла китайская слободка, куда работяги и вернувшиеся с приисков старатели ездили за водкой и вином. Чиновники и купцы тем временем выдвигали проекты один другого заманчивее: Джалинда могла стать перевалочным портом для приисков, базой золотодобывающих компаний, всеамурским затоном зимовки судов... но не стала: первыми же поездами по Рейновской ветке рабочие и инженеры уехали на север прокладывать Транссиб, и бум здесь кончилась так же быстро, как и начался. В советское время Джалинда (название Рейново к тому времени забылось) стала центром лесоперевалки, ну а ныне это крупное (1,1 тыс. жителей) и совершенно невзрачное село, где пустырей как бы не больше, чем зданий.
3.
Рейновская железная дорога теперь не действует, да и деревянный вокзал, насколько я знаю, снесён. Убедиться в этом лично мне не довелось: хотя в здешнюю погранзону граждан России в последние несколько лет пускают по паспорту, пограничники по сей день крайне настороженно относятся к гостям. Да и не только пограничники: мой визит в джалиндинский магазин с вопросом, ездит ли что-то в Албазино, вызвал среди продавщиц лёгкую панику. В Албазино же я поснимал Амур с высокого берега у музея Албазинской обороны, а буквально через полчаса прямо с музейного крыльца меня выцепили люди в погонах. Настроены они были строго, но не враждебно, даже накормили меня в столовой комендатуры и обещали привезти назад в музей, однако после отсмотра фотографий, обыска, короткого допроса, написания объяснительной и пары часов ожидания ответа начальства, были вынуждены не сдержать обещания. Начальство распорядилось депортировать меня из погранзоны, и как заметил один из пограничников, "погоны никому не жмут". Я не стал спорить: депортация стала неплохим способом выбраться из глухого Албазина, да и в Джалинде меня сразу пристроили в машину до Сковородино. По пути пограничники рассказали, что "в таких местах" лучше сразу связываться с ними, согласовывать маршрут и объекты съёмки, а они и сами рады помочь с сопровождением (читай - трансфером) добропорядочным гостям.
4.
От Джалинды до Сковородино - 65 километров грунтовки. В местах её сближения с железной дорогой стоят посёлки мёртвых лесхозов Таёжный, Среднерейновский (по полсотни жителей) и Лесной (300 жит.), в которых, однако, глазу совсем уж не за что зацепиться.
5.
При Советах здесь ходил дизель Сковородино - Джалинда да лесовозки, на которых также ездил народ. Теперь - лишь автобус Сковородино-Албазино дважды в неделю, но мне он не годился, и я проехал эту дорогу на попутках. Местные сочли такое безрассудной смелостью - вот перед нами из леса выскочила косуля, а мог бы и медведь:
5а.
Сама же Рейновская линия теперь выглядит так - рельсы ещё лежат, кое-где начиная вспучиваться, но поезда не ходят здесь с 2001 года:
6.
И крошечный захолустный городок с забавным названием Сковородино (я в шутку произносило его на итальянский манер - СковородИно) посреди этой глуши кажется шумным сияющим мегаполисом. Посёлок Змеиный, проектируемая конечная Рейновки, был заложен здесь в 1908 году. В 1909, с началом строительства, станция была переименована по близлежащей реке в Невер, а с 1911, когда новую линию проинспектировал лично министр путей сообщения Сергей Рухлов - соответственно, в Рухлово. И хотя сам Рухлов был в 1918 году зарублен красноармейской шашкой в Пятигорске, в этой глуши его имя прожило ещё 20 лет. В 1925 году Рухлово стало ПГТ, в 1927 - городом, а в 1934-37 годах и вовсе было центром региона - Зейской области с населением 116 тыс. чел., раскинувшейся на 175 тыс. км² от Тыгды и Тынды до Могочи и Джалинды. И лишь в 1938 власти вспомнили большевика Афанасия Сковородина, который в феврале 1920 года созвал тут первый рабоче-крестьянский совет, но чуть поторопился - японские интервенты, прежде чем отступить, успели казнить его. На момент переименования в Сковородине жило 19 тыс. человек, и с тех пор его населения лишь уменьшается. До 2003 года помимо железнодорожников хозяевами города были военные 115-й гвардейской мотострелковой дивизии, в народе известной как "Мёрзлая голова" - среди советских офицеров Сковородино имело репутацию ссылки.
7.
Сердцем города остаётся, конечно же, вокзал очевидно 1960-х годов постройки. На его городском фасаде (кадр выше) - 4 мемориальных доски: Сергею Рухлову, Михаилу Калинину (выступал здесь с речью 31 июля 1923 года), маршалу Александру Василевскому (17-19 августа 1945 года тут была его ставка советско-японской войны) и заслуженной диспетчерше Идее Ульяновой. Со стороны путей платформа необычайно широка, а небывало долгий ливень, под которым я ездил в Джалинду, оставил на ней целые океаны:
8.
Между которых помещается железнодорожный музей, разросшийся вокруг "генерала" - установленного тут в 1989 году П36 (построен в 1955 в Коломне) из последнего поколения советских паровозов, появление которых на Транссибе по своему эффекту было сравнимо с реконструкцией путей. Здесь же - паровоз Черепановых, теплушка со стеклопакетами (!), гидрант, колёсная тележка, дрезина, памятный камень первостроителям АмурЖД и километровый столбик "69" с конца Рейновской железной дороги.
9.
От Старого Рухлова, в отличие от многих других амурских станций, почти не осталось дореволюционных фотографий. Но о былом напоминает грандиозное депо чуть западнее вдоль путей:
10.
Парная водонапорка давно занята кабаком, который смотрится в окрестном запустении как бар "Кручёная титька" из небезызвестного фильма Родригеса:
11.
Если деревянные вокзалы Амурской магистрали были на рубеже 20-21 веков изведены подчистую, то вот путейские дома 1910-20-х годов сохранились неплохо:
12.
Ведь по статусу они давно уже не путейские, а значит их изничтожать будет не РЖД, а район:
13.
От вокзала в центр Сковородино ведёт улица Калинина, пересекающая жутковатую полосу пустырей:
14.
Целый район здесь кажется уничтоженным то ли войной, то ли стихийным бедствием:
15.
На полпути встречает памятник Афанасию Сковородину на братской могиле 66 партизан, убитых в 1920 году японцами. Покосившийся крест на заднем плане отмечен табличкой о том, что здесь будет храм Андрея Первозванного, но сроки его строительство явно смещаются вправо так, будто это не РПЦ, а Роскосмос.
16.
Зато в 2017 году из уральского Касли прислали плиту со сценой рухловского расстрела, которую в Сковородино оказалось просто не к чему прикрепить:
17.
Улица Калинина выводит на площадь Победы, где перспективу от самого вокзала замыкает Скорбящая Мать (1975):
18.
Напротив посреди бескрайнего пространства плиточки, уложенной поверх пустыря, одиноко стоит бюст Георгия Сурнина (1992) - местного уроженца, героя битвы за Днепр:
19.
Площадь Победы продолжает одноимённая улица - всё это центр Сковородина:
20.
Здесь даже есть несколько сталинок и солидное здание школы:
21.
21а.
С другой стороны от Скорбящей матери - автокольцо, посреди которого стоит на постаменте локомобиль, в 1930-40-х годах снабжавший энергией стройку вторых путей Транссиба и сковородинские дома в годы войны:
22.
Здесь он был поставлен в 1989 году, а вот о том, где и когда его сделали - я ничего не нашёл:
23.
От локомобиля тянется Красноармейская улица, запомнившаяся мне тротуарами из шпал:
24.
Она ведёт к трассе "Амур", от которой у соседнего посёлка Невер отходит трасса "Лена" в сторону Якутска и Магадана. Это на ней были сняты те знаменитые фотографии тонущих в грязи машин, которые до сих пор тут и там всплывают как иллюстрация российского бездорожья. Вот только сделаны они были 15 лет назад, а нынешняя "Лена" представляет собой чередующие участки асфальта и качественной грунтовки.
24а.
Восточная окраина Сковородино примечательна прудом, на берегу которого стоит предназначенная в основном для автомобилистов гостиница "Платина". Заочно она привлекла меня терпимой по дальневосточным меркам ценой и симпатичным сайтом. Я забронировал за 1000 рублей номер без окна, но по прибытии под дождём да на ночь глядя меня ожидал сюрприз: сайт у гостиницы есть, вот только существует он лишь для вида, у администраторов же даже интернета нет. Сама гостиница состоит из трёх разделённых грязным пустырём подъездов, и администрация сидит в одном, горничные (у которых можно постирать бельё) в другом, а меня и вовсе определили в третий. 2-местный номер без окна оказался теснее вагонного купе и в нём невыносимо пахло краской, но более всего меня озадачил душ - от общественной кухни он здесь отделён только занавеской, причем крючки для белья не внутри, а снаружи! На следующий день я перебрался в корпус к администрации, где освободился одноместный номер, и там всё выглядело уже иначе - евроремонт, чистота и яркий свет в коридоре. Вот только под вечер в гостинице мало того что отключили электричество - так в номерах ещё и загорелись резервные лампы, которые, как оказалось, вручную погасить нельзя никак. И всё же по сочетанию цены и качества в Сковородино всё равно не найти ничего приличнее...
25.
Как я понял, примерно на месте гостиницы в 1927-75 годах стояла первая в мире Рухловская мерзлотная станция. На ней отрабатывались в том числе технологий строительства домов на сваях: верхний слой мерзлоты летом оттаивает, делая невозможным строительством каменных зданий непосредственно на земле. В 1934 году здесь несколько месяцев работал Павел Флоренский - учёный-естествоиспытатель, а по совместительству философов и богослов. С таким багажом он, конечно, попал сюда через лагеря в Свободном, а вскоре был этапирован на Соловки и там в 1937-м расстрелян. Со строительством БАМа мерзлотная станция переехала в Тынду.
25а.
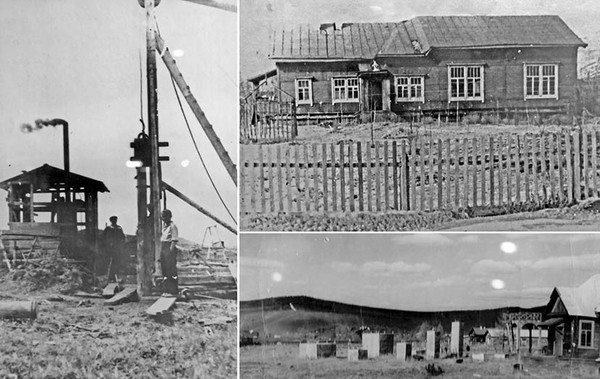
В сотне километров от Сковородино лежит и северная точка Китая, обход которой разделяет Восточную Сибирь и Дальний Восток. В местных магазинах соседствуют лимонад из Приморья и морс из Иркутска:
26а.

Так что - продолжаем путь:
26.
Последняя достопримечательность Сковородино - железобетонный мост (1913) через Невер. Из вагонного окна его можно увидеть лишь по пути с востока на запад - второй путь Транссиба проходит по куда более обычному советскому мосту:
27.
Гряда сопок на высоком берегу подводит черту этому Неверленду:
28.
А ещё через 25 километров за неприметным разъездом Горелый от Транссиба отделяется Малый БАМ:
29.
Или - Южный АЯМ: перпендикулярно Байкало-Амурской магистрали проходит законченная лишь в 2011 году Амуро-Якутская магистраль, которой географически и принадлежит этот участок. Первоначально же Амуро-Якутской магистралью называли колёсную дорогу, строительство которой от Большого Невера организовали золотопромышленники в 1913 году. Конечным пунктом стройки значился Якутск, однако без механизации и тех трудовых ресурсов, что были брошены на Амурский Транссиб, ничего вразумительного построить здесь тогда не успели.
30.
И всё же сам проект остался, и к нему в 1925 году вернулись уже Советы. В 1927-29 под руководством инженера Иосифа Пилина, выбившего для стройка два трактора "Кейс", была проложена будущая трасса "Лена". Но именно перед этой грязной грунтовкой с деревянными мостами впервые на огромном пространстве расступилась тайга, в глубинах которой, вдали от границы, там, куда так просто не долетит самолёт, советская власть задумала воплощение ещё более амбициозного проекта - параллельной Транссибу железной дороги на Дальний Восток.
31.
Постановление о начале работ над ней вышло 13 апреля 1932 года, а ещё полгода спустя в Свободном был организован гигантский Бамлаг, курировавший всё железнодорожное строительство Дальнего Востока. Первой, скорее пилотное задачей его стало строительство вторых путей Транссиба, а на севере тем временем развернулись работы по трассировке. Советская власть понимала, что сколько бы людей ни отправили в лагеря, масштаб проекта слишком велик для традиционных сухопутных изысканий, и как новинкой царской АмурЖД стали экскаваторы, так и новинкой Старого БАМа - аэрофотосъёмка, "первой ласточкой" которой был отечественный самолёт МР-6 под началом эстонского лётчика Леонарда Крузе. Не было у Советов и возможности быстро развернуть в тайге сеть аэродромов, поэтому символом Старого БАМа сделался гидроплан, садящийся на стальную воду тихих таёжных озёр. К 1937 году будущая трасса была проложена на картах - дальше оставалось перенести её на местность, которая тут выглядит так:
32.
Бамлаг в 1938 году начал Великую стройку, но вскоре его руководитель Нафталий Френкель, прежде прокладывавший Беломор, понял, что с организацией тут что-то не то. Бамлаг был разделён аж на 6 лагерей, и вплоть до войны стройка таёжной магистрали велась сразу по трём направлениям. Западный БАМ к 1941 году успели проложить от Тайшета до Лены, Восточный дотянули уже после войны от портового Ванино до Комсомольска-на-Амуре, выведя соединительную ветку к Волочаевке на Транссибе. Третьим же направлением стала ветка Бам-Тында, которая должна была выйти в самую середину будущей магистрали. Но стройку прервала война, и если Западный и Восточный участки остались, а на них выросли индустриальные гиганты Комсомольск-на-Амуре и Братск, то судьба Малого БАМа сложилась иначе: в 1942 году его пути были сняты и увезены на запад для строительства Волжской рокады.
33.
После войны у Страны Советов возникло множество куда более неотложных задач, чем прокладка таёжных магистралей. Транссиб с грузопотоками справлялся, за Амуром вместо милитаристической Японии лежал дружелюбный Красный Китай. Но шли десятилетия, Европейская часть и Сибирь обустраивались, грузообороты по Транссибу (в том числе - японских товаров в Европу) росли, а китайцы из "братьев навек" понемногу превращались в "муравьиных лжесоциалистов". В 1967 году ЦК КПСС постановил о возобновлении проектно-изыскательных работ, а в 1974 - дал по их итогам старт новому строительству БАМа. Как и в первый заход, вести его начали с трёх сторон: от Усть-Кута на восток, от Комсомольска-на-Амуре на запад и от Сковородино на север по линии Бам - Тында, которую предполагалось продлить ещё дальше, к угольным копям Нерюнгри. Прибывшие сюда в 1975 году комсомольцы, инженеры и военные строители лишь покачали головами - старая трасса Малого БАМа заросла тайгой так, что прокладывать её предстояло практически заново. Но они справились: в 1977 году Тында снова услышала стук колёс локомотива.
34.
И в общем эта линия длиной 189 километров - хоть и Малый, но настоящий БАМ. Здесь чувствуется то же величие победы Человека над Тайгой, та же тревожность ниточки среди чужой стихии. За вагонным окном тянутся те же леса без единого края и проблеска, покатые сопки, далёкие гольцы, топкие мари, зеркала озёр да каменистые речки, в которых не видать тихой воды.
35.
Пассажирское движение на Малом БАМе гораздо активнее, чем на Восточном: там - единственный (хотя и ежедневный) поезд Комсомольск - Тында, а здесь курсируют фирменный поезд "Гилюй" Благовещенск - Тында и Хабаровск - Нерюнгри с прицепными вагонами Владивосток - Нижний Бестях (читай Владивосток - Якутск).
36.
Кое-где вдоль насыпи видны недостроенные опоры мостов второго пути, стройку которого прервал распад Союза:
37.
Но "самым длинным памятником советской глупости" БАМ казался "прорабам Перестройки" лишь от того, что их стараниями упали и грузообороты Транссиба. В 2010-х годах Транссиб вновь начал подходить к грузовому коллапсу, а чахлый однопутный БАМ был так себе дублёр. На Западном БАМе строительство второго пути идёт полным ходом, на Малом БАМе - только набирает обороты:
38.
И даже новые разъезды тут представляют собой явные заделы - вместо 3 путей кладутся 2, но второй настолько длинный, что может вместить два состава. Такая схема хорошо видна на кадре ниже на открывшемся в 2016 году разъезде Мохортов, где наш поезд глядит исподлобья на встречный товарняк, стоящий на тех же рельсах. Этот же товарняк закрыл мне вид на памятник (есть здесь) Геннадию Мохортову - замминистру МПС, курировавшему стройку БАМа:
39.
Станций и посёлков же на 189км Малого БАМа всего три, и стоят на них типовые вокзалы, укатанные в сайдинг. Заповедником позднесоветского архитектурного романтизма основной БАМ стал уже в 1980-е годы, Малый БАМ же в остался наследием эпохи застоя.
40.
Тем не менее и здесь есть придавшая БАМу особый колорит традиция отдавать каждую станцию в шефство тому или иному региону. Кто строил Муртыгит (кадр выше) - не знаю, а вот Аносовскую, судя по надписи на водонапорной башне - Воронежская область:
41.
Здесь я успел увидеть почти изначальный облик вокзала в его "мохнатой" штукатурке. Но скоро её тоже поглотит сайдинг. Как и вот это панно - не шедевр, конечно, но всё же милую деталь эпохи...
41а.

Аносовская напоминает об изысканиях Николая Аносова, открывшего золотые копи в верховьях реки Ольдой. Вдоль неё и поднимается Малый БАМ, а сам посёлок Аносовский (200 жит.) стоит на водоразделе. Дальше линия спускается в бассейн Лены - вдоль речки Силип, впадающей в Тынду.
42.
В посёлке Беленький на Силипе тоже две сотни жителей, но многоэтажки его выглядят иначе:
43.
Его строила Горьковская область, и напоминающее об этом панно нынешние модернизаторы пощадили, не став закатывать в сайдинг:
44.
На мелких станция и разъездах вокзалы выглядят так:
45.
А дачи с обилием старых балков и "бочек диогена" выдают приближение крупного города... Тында вроде и невелика (33 тыс. жителей), а всё же на сотни километров вокруг остаётся главным оплотом цивилизации.
46.
БАМ я проехал из конца в конец в 2020 году, но до сих пор об этом не написал - путешествие 2021 года позволило мне сделать несколько важных штрихов к портрету. В основном - в августе, а в июне я заезжал в Тынду одним днём, чтобы посетить в ней музей БАМа, в прошлогодний приезд оказавшийся закрытым. Но первое впечатление о БАМе после Транссиба - насколько же тут легче дышать! Там - обветшалые деревни, где переселенцы не нашли лучшей доли, следы интервентов да впитавшиеся в сырую землю кровь и пот каторжан и зэков. Тут - энтузиазм комсомольцев, удалые командировки на болшую землю и ещё живые люди, в молодости строившие города, где сами теперь живут. На Транссибе - болотистая стабильность без перспектив к росту, на БАМе - осознание, что упадок позади, а впереди новые "расступись, тайга!". День в Тынде между Сковородином и Свободным запомнился мне как глоток свежего воздуха.
47.
Но в следующей части вернёмся на Транссиб - к западу от Сковородино его самые суровые места лишь начинаются...
48.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Сковородино - Куэнга.
Забайкалье - будет позже.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: невольничье Дальний Восток транспорт дорожное |
Амурская железная дорога. Часть 1: Белогорск - Магдагачи через Амурские прерии |
Транссибирскую магистраль не случайно называют стальным хребтом России - на неё нанизана добрая половина страны и почти вся обжитая часть Сибири. Но есть у Транссиба и совершенно особый сегмент - Амурская железная дорога. Самая поздняя (1907-16), самая длинная (1998км от Хабаровска до Куэнги), самая глухая (ни одного крупного города на 2326км от Хабаровска до Читы) и самая суровая, она представляет собой этакий прото-БАМ, на котором русские путейцы впервые столкнулись с вечной мерзлотой и безлюдьем бескрайней тайги, вовсе не спешившей расступаться. Позже Советы долго доводили АмурЖД до ума, свой след на ней оставила каждая эпоха, но к прочим эпитетам этой дороги в рамках Транссиба по-прежнему подходит и "самая колоритная".
Проехать при свете дня и заснять всю АмурЖД я даже не пытался, да и зачем, если всё это давняя вотчина
 periskop.su? Давным-давно я показывал восточный конец магистрали - Хабаровский мост да станции около Биробиджана, а в прошлых двух частях - её "столицу" город Свободный в середине Амурской области. Сегодня отправимся мимо него через плодородные амурские прерии от Белогорска до Магдагачи.
periskop.su? Давным-давно я показывал восточный конец магистрали - Хабаровский мост да станции около Биробиджана, а в прошлых двух частях - её "столицу" город Свободный в середине Амурской области. Сегодня отправимся мимо него через плодородные амурские прерии от Белогорска до Магдагачи.Как уже не раз говорилось, в тайгу да мерзлоту царские инженеры полезли не от хорошей жизни. В ХХ век Российская империя вступала с Большим Азиатским проектом, согласно которому нашими в обозримом будущем станут Корея, Маньчжурия, Монголия и Тибет, в степях за Амуром вырастет Желтороссия, а Китай превратится в протекторат под началом династии Ло (Романовых). Китайско-Восточная железная дорога, срезавшая путь до Владивостока, строилась в 1896-1903 годах в уверенности, что скоро над сопками Маньчжурии взовьётся двуглавый орёл. И европейские державы отстали от "птицы-тройки" в этой гонке, но вдруг на пути русской экспансии встала Япония, которую тогда мало кто был готов воспринимать всерьёз. Финалом русско-японской войны в 1905 году стало первое поражение белых людей от азиатов, и в Петербурге поняли, что оставлять Китаю железную дорогу на Восток- так же опасно, как век спустя было оставить Украине Севастополь, а Казахстану Байконур. Решить вопрос по-крымски уже не было возможностей, и как теперь на смену Байконуру строится Восточный (см. прошлую часть), так и в 1906 году царские чиновники и генералы обратили свой взгляд на приамурскую тайгу. Самый логичный вариант прокладки путей вдоль Амура останавливала угроза наводнений и огня японских пушек с той стороны реки. Прорабатывались разные варианты трассы, в том числе даже севернее нынешнего БАМа, но в итоге оптимальный коридор был установлен не ближе 15 и не дальше 130км от пограничной реки. С 1907 года рельсы поползли с запада на восток, от станции Куэнга к Хабаровску, но лишь 1916 году Амурский мост замкнул современную Транссибирскую магистраль. Участок, о котором речь пойдёт сегодня, был проложен в 1910-14 годах.
2.
Сама по себе стройка Амурской железной дороги была столь же необычной, как и она сама. Как верно заметили в комментариях в прошлой части, если уж я пишу о сталинских зэках, тянувших в 1930-е годы второй путь Транссиба, то стоит вспомнить и царских каторжан, тысячами трудившихся в этих гиблых сопках. Далеко не все из них были ворами и душегубами, хватало и политических - как например крестьянин-эсер Иов Гайдай из Полтавской губернии, у которого в 1923 году в Свободном родился сын Леонид. АмурЖД можно считать и родиной российского гастрбайтерства - в невиданных доселе масштабах сюда ехали люди из нищих азиатских стран, правда тогда это были не таджики, узбеки и киргизы, а корейцы, китайцы и японцы. И чужаков, и невольников особенно активно привлекали с началом Первой Мировой, когда армейский призыв обернулся дифицитом рабочих рук на стройке. На самом сложном и позднем восточном участке руководители под началом Александра Ливеровского поняли, что ни каторжники, ни гастрбайтеры не компенсируют этого дефицита лучше, чем машины. От Буреи до Амура стройка сопровождалась невиданной прежде в России механизацией - здесь работали американские грузовики и автобусы (в том числе рельсовые) на их основе, а в первую очередь - 3 одноковшовых и 7 многоковшовых паровых экскаваторов "Путиловец", производство которых по американским чертежам фирмы "Бьюсайрус" (основана в 1880 году в Огайо) было освоено ещё в 1903 году на крупнейшем петербургском заводе. Добавьте сюда непроходимую безлюдную тайгу, топкие болота с тучами гнуса, страшные морозные зимы, сменявшиеся паводками холодных рек - последние стройки царской России (позже в похожих условиях прокладывалась Мурманская магистраль) подозрительно напоминали о грядущей советской эпохе.
3.
Как отдельная единица Амурская железная дорога была упразднена в 1923 году и восстановлена в чуть других границах в 1936. В 1959 её вновь, и теперь кажется окончательно упразднили, разделив по станции Архара между Дальневосточной и Забайкальской железными дорогами - к последней и относятся станции, которые я покажу в ближайших постах. Я проезжал Амурский участок Транссиба не единожды, но восточную часть от Биробиджана до Белогорска (между прочим, крупнейшие города от Читы до Хабаровска!) - всегда по ночам. Там, судя по чужим фото, немало интересного - например, горы Малый Хинган (Ильхури-Алинь), сквозь которые пробито 7 старых тоннелей длиной от 75 до 1630м с новыми дублёрами (1990-2004, от 426 до 2030м).
3а.

Или, напротив - Амурские прерии. Это вовсе не вариация "диких пампасов", а уникальные для России ландшафты, вроде и похожие на степи, но всё же не совсем они. Ближайший их аналог - именно что аргентинская пампа: бескрайние сырые травянистые луга с участками болот и рощ. Бизонов по этим прериям не бегает, а вот судьба даур, солонов и дючер была немногим радостнее судьбы североамериканских индейцев. Те народы, выжитые за Амур казаками, в предшествующие века не случайно из кочевников подались в земледельцы: в этом краю сорокаградусных зим и холодных ветров умудряются выращивать даже арбузы. Главная, впрочем, культура Приамурья с 1920-х годов - соя, по производству которой Россия, внезапно, входит в десятку лидеров (4,3 млн. т. в 2019 году), имея под боком такого покупателя, как Китай. Это главный потребитель сои, а вот по производству Поднебесная почти что на порядок отстаёт от лидеров, коими являются Бразилия (116 млн. т.) и её сюзерен США (97 млн. т.), способные, если сильно припрёт, заставить китайцев вспомнить, что такое голод. В России на Амурскую область приходится больше половины урожаев сои, но и в Приморье я шёл к южноамериканским староверам через соевые поля.
4.
Впрочем, хорошо растёт в амурских прериях и многое другое, те же пшеница или картошка, а потому Амурская область, в особенности междуречье Зеи и Буреи, представляет собой самую восточную житницу России. Первыми осваивать её начали амурские казаки и благовещенские молокане, в 1917 году ставшие самыми непримиримыми противниками Советов. Но Амурская железная дорога открыла в путь в эти прерии и для переселенцев со всей страны: те же "тамбовские соеводы" с кадра выше - отнюдь не товарищи волку, а жители села Тамбовка под Благовещенском.
5.
История Амурской железной дороги с момента постройки напоминает мне текст в интернете, который уже после публикации много раз исправляли (что греха таить - сам так делаю порой). В 1930-х годах заключёнными Бамлага был уложен второй путь. После ссоры с Китаем на рубеже 1950-60-х Амурка вернула роль гигантской рокады, а её города и посёлки резко пошли в рост в интересах Минобороны. К 1980-м обороты Транссиба стали таковы, что на Забайкальской железной дороге начались регулярные "пробки" из товарных составов, опоздания пассажирских поездов исчислялись сутками, а общее перенапряжение сети отдавалось по всему Союзу, в том числе - чудовищными катастрофами тут и там. Лихие 1990-е же были тут особенно лихими, а учитывая, что ехали через здешние гиблые нищие посёлки автоперегонщики "праворуких японок" на платформах да челноки из Китая, даже странно, что рутиной амурских прерий не стало ограбление поездов. Начатая в 1980-х, прерванная 1990-ми и возобновлённая в 21 веке реконструкция коснулась в основном слабых мест - мостов и тоннелей. Но тогда же АмурЖД потеряла и своё неповторимое архитектурное лицо - прежде тут был заповедник деревянных вокзалов, построенных в основном в 1920-е годы после пожаров Гражданской войны.
6а.

Своеобразная примета этих бесконечных правок - какое-то немыслимое количество переименований. Так, Белогорск, второй по величине (66 тыс. жителей) город Амурской области и у начала ветки в Благовещенск в 120км от него, первоначально был селом Александровским, в 1926 стал городом Александровск-на-Томи, с 1931 назывался Краснопартизанск, с 1936 - Куйбышевка-Восточная, и только в 1957 получил пятое по счёту нынешнее имя. Нейтральность, обтекаемость, отсутствие чёткой привязки к месту выдаёт военный след: плоские прерии между Зеей и Буреей представляют собой отличную сцену для театра военных действий, и если в таёжном Углегорске из прошлой части сидели ракетчики, то Белогорск стал центром гарнизонов сухопутных войск. А потому и вокзал его отстроили в камне чуть ли не первым на линии - примерно тогда же, в конце 1950-х годов:
6.
Не так давно мы путешествовали вдоль Оки в Саянах, а вот на Дальнем Востоке есть своя река Томь. На её берегах в 1860 году крестьяне из Пермской и Вятской губернии основали село Александровское, а напротив в 1903 году разрослась малоросская Бочкарёвка. Поначалу они соперничали, но в итоге Бочкарёвка по сей день стоит за рекой, а город к 1926 году вырос именно из Александровки. О ней напоминает "Телега переселенцев", поставленная в 2010 году на привокзальной площади
7.
У этой телеги я схватил такси - ехать в Белогорск специально смысла нет, поэтому я предпочёл быстренько осмотреть город во время 45-минутной стоянки поезда. Таксист, толковый седеющий дядька, меня сразу понял, и за поездку в центр, полчаса ожидания и возвращение на поезд мы сторговались на 500 рублей. От вокала до центра - около километра, и меж типичных для этих краёв силикатных пятиэтажек такси выехало на центральную улицу Кирова:
8.
Из окна я заснял на ней давно не работающий цех Белогорской кондитерской фабрики (кадр выше) и сталинку городского суда:
9.
Отсюда уже видна центральная в городе площадь 30 лет Победы, вокруг которой я побегал (иногда в прямом смысле слова) с фотоаппаратом следующие полчаса:
10.
Но даже их мне хватило, чтобы понять, как непохож Белогорск на другие города и веси Амурской железной дороги! Ведь не зря говорят, что "Бог создал Сочи, а чёрт Могочу" или "У чёрта две дачи - Могоча и Магдагачи": вдоль Амурского Транссиба тянутся одни из самых позабытых, неухоженных, криминогенных мест всей страны. Типичный пристанционный городок здесь - это покосившиеся бараки, не знавшие асфальта улицы с рытвинами, убогие магазины и спившийся, остервенелый люд. Белогорск же опрятен, как Белгород, сравниться с ним в этом отношении может далеко не всякий большой город (Благовещенск, на мой взгляд, поскромнее) и совсем уж единицы среди малых городов. Не могу поручиться, что так благоустроен весь город, но точно гораздо бОльшая его часть, чем главная площадь с окрестностями.
11.
Администрация с кадра выше, судя по названию площади, построена в 1975 году. Другая сторона за улицей Кирова отвечает за исторический центр, Старую (заглядываю в список переименований) Куйбышевку-Восточную, где в 1938 году были построены кинотеатр "Россия" (большую часть постсоветской эпохи - ТЦ "Кристалл") и банк.
12.
У "России" же стоит самая, пожалуй, неожиданная достопримечательность города. Ведь когда в 2015 году я прочёл в новостях, что в Белогорске открылся памятник "Вежливым людям", я ничуть не сомневался, что речь идёт про крымский Белогорск. Конечно, меня удивило, что такая новость пришла не из Севастополя, Симферополя или хотя бы Керчи - бывший Карасубазар, который я посетил в 2014-м, но так и не выложил, запомнился мне захолустьем, где связать такое можно было разве что с попыткой крымских татар выслужиться перед новой властью. Адрес памятника я гуглил долго, и далеко не сразу понял, что речь про совсем другой Белогорск. Сам сюжет его не отсылает в Крымнаш напрямую - на знаменитой картинке "Спасибо за то, что я больше не кит" котик льнёт к сапогу солдата. Но видимо это намёк, откуда именно "вежливые люди" прибыли на Крымскую весну.
13.
В сквере за Вежливым человеком - храм иконы Божье Матери "Всецарица" (2003), ещё не успевший стать большим и златоглавым:
14.
А вот его колокольня строилась как часть мемориала в 2014 году. Причём мемориал тут не Великой Отечественной, а всей Второй Мировой войны с её дальневосточными боями.
15.
Но советско-японские войны была не столь масштабны, Великая Отечественная - слишком уж далека, а религиозностью дальневосточники не славились ещё с переселенческих времён. Так что посиделкам молодёжи среди плит с эпитафиями удивляться не приходится:
16.
С другой стороны от "России" проходит Аллея Героев, которые здесь запечатлены не бюстами, а звзёдами. Она упирается в памятник (1962) дюжему хлопцу явно малоросских кровей...
17.
...склонившемуся над крупнейшей в Амурской области братской могилой. Здешние "погибшие за установление советской власти" - это в первую очередь жертвы японской интервенции 1918-20 годов, и что интересно, поначалу на месте будённовки над их могилой был крест. Тут стоит сказать, что в Первой Мировой японцы были одной из самых симпатичных и благородных сторон, а клеймо прирождённых садистов заработали уже скорее в 1930-е годы. Поэтому совсем не удивляет миф об Амурской Хатыни - селе Ивановка, якобы сожжённом вместе с двумя сотнями жителей за укрывательство партизан. На самом деле население Ивановки уже тогда превышало 3,5 тыс. человек, а бой с партизанами хоть и действительно не обошёлся без случайных жертв, но из 231 погибших 215 (включая 7 китайцев) были мужчины, что не очень-то похоже на избиение беззащитных. Достоверно известно, что 36 оборонявшихся в деревне укрылись в амбаре и действительно были сожжены вместе с ним. Командовал той операцией Ямадо Отодза, в 1945 году стоявший во главе Квантунской армии. Японцы же в постсоветское время приезжали в Ивановку и даже поставили памятник погибшим мирным жителям - кажется, единственный случай их покаяния перед другими народами за былую вражду.
18.
За сквером проходит Набережная улица, от берега, впрочем, отделённая ещё одним кварталом с куда более типичным для этих краёв лабиринтом грязных рыхлых улиц. Тем не менее, квартал этот - не что иное, как уголок Александровского:
19.
Сквозь который можно выйти к остаткам причала на том месте, где в 1860 году высадились переселенцы, ехавшие с Камы и Вятки по Большому Сибирскому тракту, сплавлявшиеся по Ингоде, Шилке и Амуру да поднимавшиеся по Зее и Томи в надежде на лучшую жизнь.
20.
И как Саянская Ока гораздо меньше среднерусской, так и Дальневосточная Томь в два раза по длине (433км) и 10 раз по полноводности (103 м³/с) уступает своей сибирской тёзке. Выбравшись из заколуков Александровки, продолжить речную тему я сбегал на пару кварталов за площадь по улице Кирова. Здесь расположен Белогорский краеведческий музей, основанный в 1964 году и в 1985-м переехавший в новое здание. В 2010 году рядом с ним поставили памятник не абы кому, а амурскому ротану - эта сорная рыба, подводная крыса, способная выжить хоть в луже, встречается теперь чуть ли не по всем умеренным широтам Евразии, однако родиной её был именно Амур. Ну а так как ротан плодовит и вкусен, он спасал селян амурских прерий от голода в самые разные времена.
-Пожарника-то нашего видели? - спросил довольный таксист, когда я вновь прибежал к машине.
-Не, не видел. А что это? - подумал я, поняв, что видимо упустил ещё один памятник.
-Да рыба такая! Забыл, как у вас её называют...
А вот я теперь знаю, как ротана называют здесь.
21.
Объехав площадь, мы вырулили на улицу Ленина, проходящую между улицей Кирова и Транссибом. С площади видны одинокие ворота, которые я было принял за проходную снесённого завода, а оказалось - это арка зачахшего парка имени Дзержинского, который обещают возродить в 2022 году.
22.
При взгляде на остальной город в это даже верится. Рядом с парком - пара новостроек: Центр культурного развития им. Валерия Приёмыхова (2017), в котором я напрасно заподозрил усайдингованный конструктивизм...
23.
...и детская школа искусств, по проекту ученицы которой Ирины Лесниковой был сделан Железный Ротан.
24.
Успев на вокзал, я запрыгнул в ближайший вагон и до своего вагона дошёл по составу, когда он не только тронулся, но и набрал порядочную скорость. Поезд шёл в Хабаровск: в отличие от всей остальной даурской серии, по местам из этого поста я ехал не в июне с востока на запад, а в августе с запада на восток, с суровых гор Кодара на райский
25.
И вроде с Китаем мы снова "братья навек", но из вагонных окон, проезжая Белогорск, по-прежнему видишь множество воинских частей, комендатур, военной техники, солдат в камуфляже. Местные так же поглядывают за Амур недоверчиво, и поговаривают, что договор об отведении войск от границы китайцы поняли так, что надо просто переоформить все стомилльонов танков и их личный состав на пограничников. Военных я, конечно, не снимал, предпочитая станционные постройки, так же тянущиеся через весь город от края до края. На востоке тут находится товарная станция Белогорск-2, на западе - пассажирская Белогорск-1, между ними отделяется ветка на Благовещенск. Но исторический центр этой промзоны - от вокзала до моста через Томь: здесь есть и депо в явно старых корпусах, и провоз-памятник. Это "генерал" П36 из последнего поколения советских паровозов - появление таких машин на Забайкальской железной дороге улучшило её пропускную способность не хуже иных реконструкций. Паровоз построен в 1955 году в Коломне, до 1983 работал между Белогорском и Чернышевском, а здесь стоит с 1987 года:
26.
Транссиб пересекает Томь, за которой идёт почти строго на север. Но следующие 140 километров мы опустим, так как на них приходятся показанные в прошлой части места - мост через Зею, станция Михаило-Чесноковская, Амурская Детская железная дорога под Транссибом, колоритный Свободный с его великими стройками и Ледяная у ветки на Восточный космодром.
27.
Ну а в 40 километрах после Ледяной поезд прибывает в город Шимановск (18,6 тыс. жителей), что на реке Большая Пёра. Взгляд в сторону Свободного, на путях наш поезд с колоритнейшим маршрутом Нижний Бестях - Владивосток:
28.
О том, что здесь амурские прерии сходят на нет, напоминает история: Шимановск никогда не был переселенческой деревней, а основан был в 1910 году сразу как станция Пёра. В 1914 его переименовали в Гондаттиево - в честь московского сына итальянского скульптора, позже придворного шталмейстера (начальника конюшни), исследователя Дальнего Востока и наконец приамурского генерал-губернатора Николая Гондатти, который и соседний Алексеевск (Свободный) заложил. Конечно же, большевики стёрли имя "царского сатрапа" с карты уже в 1920 году, как только погнали отсюда белых и японцев. Думать, в честь кого назвать город, долго не пришлось - железнодорожник Владимир Шимановский, внук бобруйского священника и сын благовещенского врача, в 1917 году возглавил на станции Гондаттиево рабочий Совет. Ещё больше Шимановский прославился тем, что мобилизовал железнодорожников на борьбу с Гамовским мятежом, вспыхнувшим в Благовещенске ещё до начала Гражданской войны, в марте 1918 года. За что и расстреляли его белые, заняв в сентябре Приамурье. В прошлой части я показывал станцию Михаило-Чесноковскую, названную в честь другого убитого белыми революционера-железнодорожника, и видимо такая форма названия была знаком высшего уважения от коллег - в 1920 году станция на Пёре стала Владимиро-Шимановской, и лишь в 1950 укоротилась до фамилии: пристанционный посёлок был преобразован в город Шимановск.
29.
На кадре выше неплохо просматривается место старого вокзала, возможно заставшего всю эту чехарду:
29а. фото из архива
 periskop.su.
periskop.su.
Но РЖД как главные абсурдисты театра безопасности решили выжечь деревянные вокзалы России дотла, а пепел, видимо, развеять по ветру. И никакие статусы архитектурных памятников им не указ в святой борьбе за нашу и вашу безопасность. В Шимановске, впрочем, вокзал заменили ещё во вполне разгильдяйском 2002 городу, и одна из первых со времён распада СССР подобных строек напоминает, что здесь родился Геннадий Фаддеев, первый (2003-05) глава реорганизованной РЖД:
30.
Вокруг вокзала, как луны у планеты, расположены несколько памятников - бюст Шимановского (1958) у главного входа, "лебедянка" (то есть паровоз Л, построенный в 1951 году и поставленный тут в 2014-м) дальше по перрону...
31.
...а за вокзалом пара обелисков - красным партизанам (1967) и военным лётчикам (1950), разбившимся здесь во время тренировочного полёта перед отправкой на Корейскую войну.
32.
За вокзалом когда-то тянулся ряд деревянных путейских домов, на месте которых теперь силикатные пятиэтажки. Уцелел лишь один (1912) - в нём в 1917-18 годах жил сам Шимановский, а в 1969 расположился краеведческий музей:
33.
Другим чтимым земляком тут считается революционер Федот Сюткин, переехавший в Гондаттиево из Уфимской губернии - в частном секторе за километр от вокзала ещё стоит его дом (1910), среди прочих выделяющийся лишь мемориальной доской у жильцов над головами. Туда дойти времени не хватало никак, и описав кружок, я вернулся на отмеченную странной конструкцией привокзальную площадь:
34.
Прикинув, что в запасе ещё есть минут 20, я полез на пешеходный виадук. За станцией обнаружилась типовая для Амурской железной дороги водонапорная башня из бутового камня и бетона:
35.
Да мемориал Победы (1969), который и стал крайней точкой моего забега:
36.
Но необычностью облика он оправдал этот забег. В чём необычность? А вы приглядитесь внимательнее - за исключением огромных эпитафий и соцреалистических панно этот памятник деревянный!
37.
Там, за путями, лежит и большая часть Шимановска, кварталы многоэтажек, из-за которых кое-где выглядывают главки Спасской церкви (2005):
38.
Куда менее заметна стоящая чуть ближе к станции Успенская церковь, перестроенная в 1997 году из явно общественного и явно дореволюционного здания:
38а. Фото Натальи Бойко, с портала sobory.ru.

Обстоятельства же постройки этих новых районов сами по себе интересны - в 1970-х годах по не вполне понятным мне причинам именно Шимановск стал "тылом БАМа". Тогда здесь было создано сразу несколько заводов строительных машин и железобетонных конструкций, через Тынду и Новый Ургал отправлявшихся на великую стройку:
39.
Но БАМ построен, а от заводов с той поры остались лишь голые бетонные скелеты:
40.
Дальше пространство начинает как бы разуплотняться - от Шимановска ещё 120 километров до следующей хоть чем-нибудь приметной станции Ушумун в месте наибольшего в этой части сближения Транссиба с Амуром (30км). По Ушумуну в 1923 году Амурская железная дорога была разделена между Уссурийской и Забайкальской. Теперь тут стоит самый убогий вокзал, что я видел - пара контейнеров под навесом. Но если бы старое разделение сохранялось - можно было бы представить, что в них сидят сотрудники разных железных дорог:
41.
А вот когда понимаешь, какую красоту здесь уничтожили для нашей же безопасности - шутить уже совсем не тянет...
41а. фото 2008, автор неизвестен, отсюда.

Судя по дореволюционном фото, старый вокзал был 1920-х годов. Но историческое лицо Амурской железной дороги пока сохраняют путейские дома. Их прикончит рано или поздно не РЖД, а районные власти в рамках борьбы с ветхим жильём:
42.
-А ты куда едешь? - спросил я ещё в 2012 году удалого паренька в шапке-пидорке, рассуждавшего перед интеллигентной девушкой о китайской угрозе на весь вагон поезда, глубокой ночью взлетавшего над окраинами Улан-Удэ.
-В Ты....ду! - ответил он сквозь шум колёс.
-Тында ж вроде на БАМе? - переспросил я, ещё не зная, что из Улан-Удэ туда удобнее всего ехать как раз-таки по Транссибу через Сковородино.
-ТЫГДА! Амурская область! - пояснил парень, и в интонациях его читалось "эх ты москвич..."
Ну а 9 лет спустя москвич и сам доехал до станции Тыгда в 40км от Ушумуна:
43.
Стоянка здесь всего минут 15, но это вполне достаточно, чтобы посмотреть на силикатный вокзал (2003), стоящий рядом с ним как памятник последний семафор Транссиба (работал до 1974 года) и обелиск красным партизанам (1950):
43а.

Датой основания Тыгды считается 1904 год, с упоминанием, что жило тут тогда всего 4 человека - скорее всего, имеется в виду какая-то таёжная зимовка на реке Тыгде. Из показанных сегодня посёлков Тыгда выглядит, пожалуй, самой депрессивной - её население (2,9 тыс. чел.) неуклонно снижается даже не с постсоветских времён, а с 1959 (4,9 тыс. жителей) года. Не остановил упадок даже первый в постсоветской России построенный с нуля Покровский золотой рудник (1994-99) по соседству, тем более что и работают на золоте в основном вахтовики.
44.
А 20 апреля 2012 года в Тыгде и вовсе случилось бедствие, как-то более типичное века этак для 18-го - посёлок сгорел. Пожар, начавшийся от тлеющих опилок в заброшенном леспромхозе, полностью уничтожил 6 улиц (или 83 дома) и оставил погорельцами 346 человек:
44а. источник фото неизвестен.

От Тыгды 100км по автодороге до Зеи - маленького купеческого городка (22 тыс. жителей), который начинался в 1879 году как пристань Верхне-Амурской золотодобывающей компании, но первым в Амурской области после Благовещенска получил в 1906 городской статус (а назывался до 1913 года Зея-Пристань). Там есть музей амурской золотодобычи и вроде даже сохранилось немало деревянных домов наподобие уничтоженных Гражданской войной в Николаевске-на-Амуре и Свободном. Но более всего Зея известна своей ГЭС (1330МВт), в 1975-80 годах давшей новую жизнь захолустью.
Однако если и доеду я в Зею - то не в этот раз. Мы неумолимо едем по рельсам Транссиба и прибываем в последний на сегодня пункт, ближний из двух чертовых дач ПГТ (9,8 тыс. жителей) Магдагачи:
45.
Станция была построена в 1910 году каторжанами, а ПГТ её слободка стала в 1938 году, с организацией лагпункта.
45а.

Это в общем вся история, а вот фотографий Старых Магдагачей осталось, кажется. больше, чем слов, которыми её можно рассказать.
46а.

На кадре выше - старый вокзал. Нынешний (1985) напоминает второстепенные, "проходные" вокзалы БАМа:
46.
И больше самого здания запоминаются его подсобки в характерной узорчатой облицовке:
46б.
Главная достопримечательность Магдагачи - безусловно, панно на фасаде депо:
47а.
Напротив которого можно осмотреть очередные памятник (1983) на братской могиле 22 красных партизан и поставленную в 2007 году чёрную "лебедянку":
47.
Ближе к горловине станции - ещё пара типовых водонапорок:
48.
До 1937 года на чёртовой даче была церковь Владимира Равноапостольного:
49а.

А вот, рискну предположить, и чёрт:
49.
Отсюда ещё полторы сотни километров до Сковородино - "северной вершины Транссиба" в узле перпендикулярных линий от Джалинды на берегу Амура до Тынды на БАМе. Об этом всём - в следующей части.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Сковородино - Куэнга.
Забайкалье - будет позже.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: невольничье Дальний Восток транспорт дорожное деревянное |
Свободный. Часть 2: окраины и окрестности |
Амурская железная дорога 1910-х годов была первой, но не единственной великой стройкой Свободного, вполне себе исторический центр которого я показывал в прошлой части. Сто лет спустя около этого города в Амурской области строятся крупнейший завод постсоветской России и самый настоящий космодром, причём последний - ещё и со второй попытки. Впрочем, "около" - понятие растяжимое, и на Дальнем Востоке означает "за десятки километров". Тут даже Детская железная дорога длиннее иных "взрослых" узкоколеек, и её так же покажу сегодня вместе с прилегающим районом Михаило-Чесноковка.
В прошлой части мы шли по улице Ленина с севера на юг, а теперь пойдём, а больше поедем, с юга на север. Надо сказать, что хотя у Транссибирской магистрали глобально есть только запад и восток, большую часть Амурской области она проходит почти строго меридионально. Границей Свободного служит Зея - на самом деле огромная река, по расходу воды (1910 м³/с) замыкавшая бы в Европейской части первую пятёрку, а в устье у Благовещенска превосходящая сам Амур. Амурская область, по названию и границам странный реликт царских времён - на самом деле скорее Зейская: в то время как "на высоких берегах Амура часовые родины стоят", Зея - это дороги, селения, города, рудники, плотины. На ней расположены все три исторических города Амурки - Благовещенск, Свободный (с 1912) и маленькая купеческая Зея (с 1906), которой в 1976-80 дала новую жизнь ГЭС. На зейских берегах кипели и основные в этом углу сражения Гражданской войны от восставшего ещё до её начала Благовещенска до стоявшего "красным островом" Свободного. На его далёкой окраине есть памятник пароходу "Мудрец", погибшему в сентябре 1918 года в бою с японским бронепоездом.
2.
Тот обелиск стоит у Зейского пляжа в паре километров восточнее центра города - как я понимаю, там подожжённый "Мудрец" затонул. Транссиб же пересекает Зею гораздо выше этого места сразу двумя мостами в 1,5 километрах друг от друга:
3.
Внешне они кажутся совершенно одинаковыми, и на своих фото я отличаю их только по дате съёмки - нижним по течению мостом поезда идут на запад, а верхним (кадр выше) - на восток. Верхний мост был возведён в 1911-15 годах, а нижний закончили в 1936 году заключённые свободненского Бамлага как часть второго пути Транссиба. Ну а реконструкция 2010-х, фактически стройка с нуля вплоть до опор, сделала два километровых моста одинаковыми.
3а.
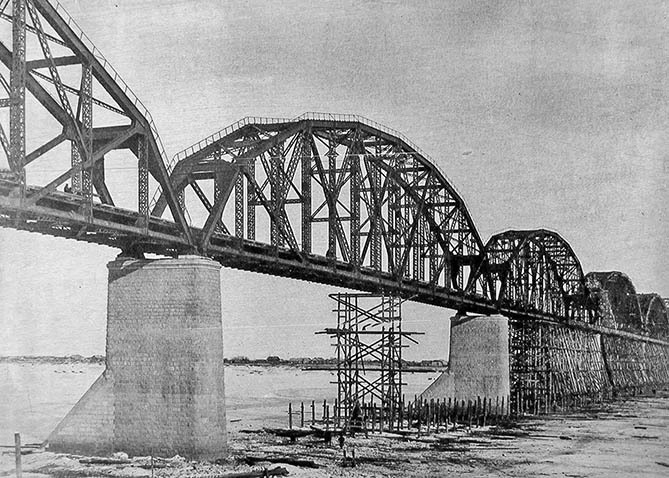
В черте Свободного целых две станции - собственно Свободный на севере и Михайло-Чесноковская на юге. На ней сегодня и покинем вагон, хотя в реале подобное проделать можно только с нарушением закона и риском для жизни - пригородных поездов тут нет, а дальние на этой станции не останавливаются. Я дошёл сюда пешком из центра.
4.
За этой станцией спускается к плавням Зеи район частного сектора Суражевка. Я туда не дошёл, да и, кажется, ничего интересного там не увидеть, однако на самом деле эта захолустная окраина старше города. Если Алексеевск (как назывался до 1917 года Свободный) торжественно заложил в 1912 году генерал-губернатор Николай Гондатти, то Суражевка была основана в 1901-м малоросскими поселенцами с Черниговщины. Михаил Чесноков же - это путейский инженер и архитектор, спокойно строивший Амурскую железную дорогу, но в 1917 году ставший вдруг борцом за власть советов и за это убитый "белыми". Тем не менее, он был не пришлый "профессиональный революционер"-экспроприатор, а человек, много сделавший для становления города: даже большинство показанных в прошлой части модерновых зданий Управления АмурЖД возведены по его проектам. Станция его имени была устроена здесь в 1922 году:
5а.

Не последней, видимо, причиной её появления стало то, что 1921 году именно в Свободном случился первый бой Северной и Южной Корей, то есть красных партизан О Хамука с коллегами из "материковой" Кореи, нашедшими убежище у большевиков. Одни были настроены включить соплеменников в Красную Армию и как-нибудь потом, в разгар мирового пожара, сделать их руками сначала Корейскую, а потому и Японскую ССР, другие же настаивали на немедленном антияпонском походе. Подробнее про Амурский инцидент, в котором погибли сотни людей и сгорел город, я рассказывал в прошлой части, и при восстановлении Советы видимо сочли, что Суражевка для этих целей удобнее, чем сам Алексеевск. В 1933 году, с постройкой второго пути Транссиба, Михайло-Чесноковская стала основной станцией Свободного, где все пассажирские поезда делали долгую стоянку. Со следующей реконструкцией магистрали в 1950-х годах эта роль вновь вернулась Свободному, а на Михаило-Чесноковке теперь даже воказала нет - лишь административное здание (1983) с противоположной Зее стороны:
5.
А по ней и район, с другой стороны прилегающий к Транссибу, известен в народе как Чесноки. К станции примыкает почти лысый, но странно уютный железнодорожный скверик, больше всего запомнившийся мне вот такой табличкой у ворот:
5а.
Не знаю, остались в старой Суражевке за путями малоросские хаты (у черниговских выходцев, вполне может быть, деревянные), а вот от путейской Суражевки уцелело несколько деревянных домов:
6.
Причём, с учётом её истории, это не дореволюционка, а "запоздалый модерн" раннесоветской эпохи:
7.
Ближе к центру тут есть и пара сталинок:
8.
А в основном Чесноки, как и весь Свободный - царство силикатного кирпича:
9.
От центра Чесноки отделяет болотистая пойма незаметного и вроде даже безымянного ручья, в которую, однако, дорога спускается почти серпантином. Там, наверху - Алексеевский храм дореволюционного проекта и мемориал Победы, которым мы закончили прошлую часть. Со стороны центра Чесноки встречают заброшенным, но явно старым деревянным домом:
10.
И социалистическим искусством на заборе:
10а.
А улицу Комарова, в которую переходит здесь центральная улица Ленина, порой пересекает весьма неожиданный агрегат. Не автомобиль, не трактор, не обычный поезд, а ТУ10 "Колибри" - новейший узкоколейный локомотив:
11.
Пройдя за виадук с полкилометра по рельсам, можно обнаружить как бы не единственное в России двухколейное депо:
12.
Скрывающее более привычную "Кукушку" (ТУ2 1950-х годов) - Малая Амурская железная дорога не только самая длинная среди российских ДЖДшек, но единственная пересекающая Транссиб. На ширококолейной же половине депо ночует какая-то рабочая спецтехника.
13.
Детские железные дороги (каждый раз пишу этот пассаж) - это отнюдь не парковые аттракционы с паровозиками. Да, строятся они для детей - вот только дети здесь не всегда пассажиры. ДЖДшки - это наглядные пособия при школах юных железнодорожников, строившиеся в Советском Союзе с 1930-х годов. По сути это почти полноценные железные дороги со станциями, вокзалами (иногда очень красивыми, как например в Нижнем Новгороде, Минске, Днепр(опетровск)е или Луцке), разъездами, мостами и тоннелями (Иркутск, Чимкент), диспетчерскими службами, депо... Только маленькие - как в ширину (стандартные для узкоколеек 750мм, а в Красноярске и того меньше), так и в длину, редко превышающую несколько километров. Одни ДЖДшки представляли собой кольца в городских парках, другие - вполне полноценный транспорт к дачам и зонам отдыха (Оренбург), а Малая Октябрьская ДЖД и вовсе связует Петербург и Пушкин. На некоторых (Ростов-на-Дону, Киев) сохранились действующие паровозы. Большинство ДЖДшек строились в центрах региональных железных дорог и названия носили соответствующие (Малая Московская, Малая Львовская, Малая Дальневосточная и т.д.), а если таковая охватывала несколько республик - то зачастую и в их столицах (Ереван), кроме Таллина, Кишинёва, Душанбе и Фрунзе (Бишкека). Карта региональных дорог же, как можно понять хотя бы из прошлой части, не раз перекраивалась, но ДЖД, как например Малая Сахалинская или Малая Амурская, оставались в строю наряду с остальной инфраструктурой. Наконец, несколько ДЖДшек расположены совсем уж без чёткой логики - просто на крупных станциях (Лиски), в индустриальных гигантах (Новомосковск) или даже в родных городах правящих кланов республик (Джизак). Последствия распада СССР для детских железных дорог, как ни странно, коррелируют с религией - почти все они погибли в мусульманских и западно-христианских странах, а вот в православных (и одной древне-христианской), напротив, почти все в строю. И Свободненская, изначально Малая Амурская ДЖД выделяется по многим пунктам - одна из самых старых (1939-40) и самая большая - 10,5 километров по главному ходу и 11,6 - по длине всех путей.
14.
Пересекая улицу Комарова, путь из депо приводит на станцию Юность:
15.
Изначально она носила другое, куда более звучное название Сталинское Счастье. А если учесть, что строил узкоколейку Амурлаг, центром которого был Свободный - звучало оно поистине зловеще.
15а.

Культ личности же тут развенчали так старательно, что вместе с названием станции был заменён и вокзал:
16а.
Нынешняя РЖД унылости предпочитает аляповатость и грозится сделать его таким:
16б.

Но пока стоит убранное в сайдинг хрущёвское здание. На самом деле вокзалом его назвать можно крайне условно - в первую очередь там помещаются учебные классы, а билеты продаёт бревенчатая, как у музеев, касса на краю площади. Зала ожидания, кроме навеса, тут и нет - ведь работает ДЖД только летом. У поездов есть номера со 120 по 127, и 6 дней в неделю (кроме понедельника) по ДЖД проходит 4 пары рейсов: в 8:45, 10:30, 13:45 и 15:30 туда, 9:35, 11:25, 14:35 и 16:25 - оттуда. Билет не так-то и дорог по дальневосточным меркам - 100 рублей за взрослых и 50 за детей, при том что тут междугородние автобусы стоят в среднем 5 рублей за километр.
16.
У горловины станции - небольшой музей с семафором и ещё одной "кукушкой" под грузовыми вагонами. Последнее не случайно: в войну ДЖДшка была полноценным транспортом для подвоза на станции Транссиба урожаев с совхозных полей, к которым тогда проложили временную ветку. График её был крайне напряжённым, и местными героями тогда стали юные машинисты паровоза Гоша Зенин и Ваня Шайц, на ходу лазавшие в горящую топку (само собой, в брезентовой одежде, пропитанной водой) за провалившимся туда колосником. Памятника им, правда, нет - хоть и героизм, а всё же грубейшее нарушение ТБ, и так как над нами мирное небо - плохой пример для детей. Вместо памятников тут пособие по иерархии - "лесенка" столбиков, на табличках которых представлены, сверху вниз, первый начальник РЖД Геннадий Фаддеев, текущие начальники департамента перевозок РЖД, Забайкальской железной дороги и её Свободненского региона, и в самом низу, но ближе всего к платформе - "Юные железнодорожники":
17.
В вокзале, помимо кабинетов и классов - небольшой музей с раритетной техникой, обилием исторических фото, плакатами да поделками на железнодорожную тему:
18.
Первый раз я зашёл сюда в самое-самое окно - ближайший поезд ожидался через полтора часа, в которые я обошёл Чесноки, прогулялся до депо и даже подремал на лавочке. Ближе к отправлению на платформе начал собираться народ, а юные железнодорожники высыпали из классов:
19.
Машинист тут молодой, но всё же явно взрослый и очень общительный мужик, а вот всё остальное действительно делают дети и подростки. Причём - с тем особым усердием, которое проходит с опытом: так, вот эти ребята пристально следили за тем, чтобы я не пересаживался с первоначально занятого места, не ходил по вагону, не ехал стоя и не высовывал в фотоаппарат за окно.
20.
Возможностей нарушить порядок у меня было много - ведь путь в одну сторону тут растягивается на внушительные для ДЖДшки полчаса. По сути дела это и не ДЖД, а настоящая пригородная узкоколейка с пассажирским движением, как где-нибудь в Каринторфе или Боржаве. Поезд медленно идёт между лесов и пологих сопок, пересекая ручьи и дороги:
21.
Свободный - город узкий и длинный, а ДЖД проложена перпендикулярно Транссибу, поэтому в природу мы выходим через несколько минут. Над благовещенской трассой - жёлтые яры, на самом деле Дубовские карьеры:
22.
По левую руку в какой-то момент показываются Зейские мосты:
23.
А в основном с этой стороны тянется вал, более всего похожий на дамбу:
24.
Но мосты выдают в нём насыпь недостроенной дороги. Тот же самый машинист рассказывал мне про неё что-то интересное на тему китайской угрозы и стратегических перебросок, но я предательским образом это забыл.
25.
На полпути идут почти подряд две промежуточных станции (фактически - платформы), через которые при желании можно добираться до дач:
26а.
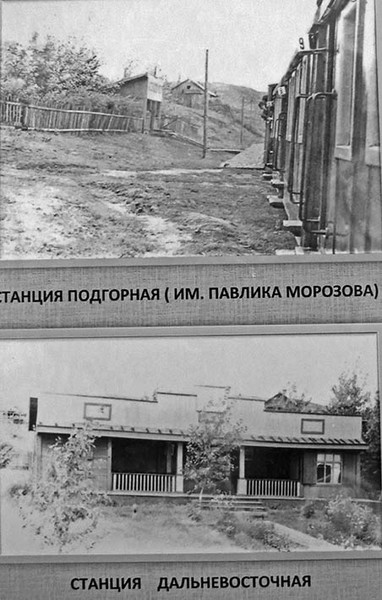
Дальневосточная в посёлке Советский была конечной до 1950 года - "колхозная" ветка-времянка отходила чуть ближе неё:
26.
Ещё год конечной оставалась Подгорная в одноимённом посёлке. Где, кстати, и постоянных жителей 2,5 сотни, так что формально Свободненская ДЖД - полноценный транспорт между населённых пунктов.
27.
За Подгорной дальние виды заканчиваются, а вдоль проложенных в 1951 году путей тянется уютный и чистый сосновый лес. В его глубине находится и конечная станция Пионерская, из которой можно разбрестись к детским лагерям да вытянутой вдоль берега деревни со звучным названием Бардагон.
28.
Одна из старейших деревень на Зее (основана в 1883 году), в 1912-21 она была центром старообрядчества всего Дальнего Востока: первоначально центром епархии должен был стать Иркутск, но епископ Русской Православной Старообрядческой церкви Иосиф после долгих поисков избрал своей резиденцией тихий Бардагон. Позже он эмигрировал в Харбин, а в Бардагоне не сохранилось ни самой резиденции, ни храмов, и разве что об огромной липе старожилы помнят, что её Иосиф посадил. Теперь юные железнодорожники возят туда юных моряков - с 1964 года на околице Бардагона действует Детский морской центр, в котором наглядными пособиями служат два списанных боевых катера мощнейшей в мире пресноводной флотилии из Хабаровска. Но я не дошёл ни туда, ни даже до берега Зеи - на конечной поезд стоит всего 20 минут.
29.
Вернувшись в Юность, я снова вышел во взрослый мир да поймал маршрутку до станции Свободный. Логичнее, конечно, вокзал смотрелся бы в прошлой части - от него с полкилометра до площади Лазо, где мы начинали вчерашнюю прогулку. Полкилометра эти, впрочем, занимает частный сектор и какие-то кусты, так что станция Свободный, в отличие от Михайло-Чесноковской, кажется полностью обособленной от города. Первое здание его, хотя Алексеевск закладывался сразу как "столица" Амурской железной дороги, было деревянным, маленьким и типовым:
30а.
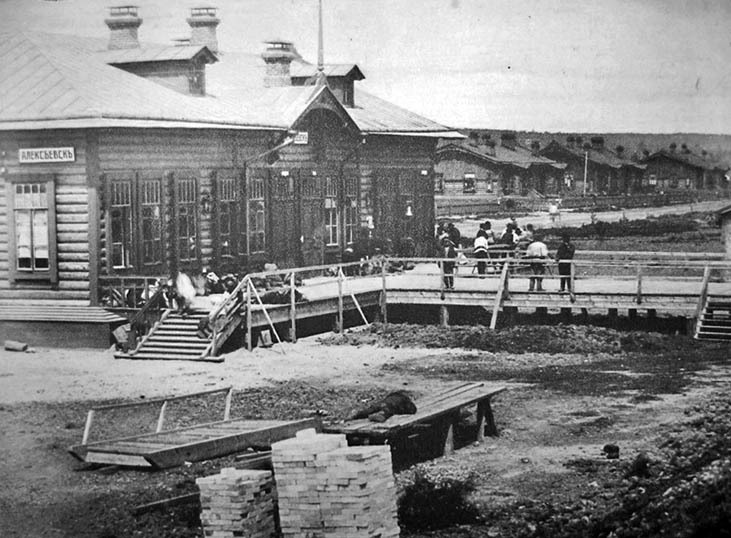
Тот вокзал сгорел в Гражданскую войну, как и многие вокзалы Приамурья. Восстанавливать их надо было срочно, материалы и технику везти - далек, и от того местной "фишкой" стал деревянный конструктивизм:
30б.

В Свободном находился, конечно же, самый яркий его образец:
30в.

Сейчас таких вокзалов не увидеть, хотя последние из них доломали уже в 21 веке. Свободный же обновили одним из первых - новый, и довольно унылый вокзал принял пассажиров в 1983-м году. Причём такое ощущение, что строился он не на месте деревянного вокзала, а за ним - перрон непропорционально широк и занят небольшим садом:
31.
Что за станция такая
Белогорск иль Завитая?
А с платформы мат отборный
Значит, станция Свободный. - вот вы теперь увидели, как выглядит эта плтаформа.
32.
Внутри пока ещё добротный советский интерьер с внезапными тут зодиакальными часами:
33.
Невидимая линия, проходящая ровно по центру главного зала отделяет ЖД-вокзал от автовокзала - даже кассы их у разных стен. Автобусное расписание тут по-дальневосточным меркам довольно солидное, и в основном его составляют курсирующие в среднем каждый час маршрутки Благовещенск - Шимановск. На одну из них я и схватил билет за минуту до отправления:
34.
С Транссиба чуть западнее вокзала хорошо видна огромная база строительной техники, а с внутрирайонной дороги - целый лес кранов многоэтажечного Северного района, строящегося на окраине Свободного.
35.
Его будущее 20 тыс. жителей, вернее их трудоспособную часть, приглашает на работу Амурский газохимический комплекс, строительство которого идёт с 2015 года за лесом в 12км севернее города. Надо сказать, если нефтепереработка на слуху, и пейзаж нефтезавода с его змеевиками и гигантскими факелами сложно забыть, если хоть раз его видел, то газоперерабатывающие заводы - отрасль не столь очевидная. Небольшие ГПЗ часто работают при нефтезаводах и месторождениях (а первый из таких был пущен в 1911 году в галицком Бориславе), но по факту они тоже занимаются переработкой нефти, в которой всегда есть попутный газ. Бывает и наоборот - газообразные углеводороды идут как компонент сырья на "обычные" химзаводы. А вот отдельные газоперерабатывающие комплексы - редкость, а может быть и вовсе чисто советское ноу-хау. До недавнего времени эту отрасль в России представляли два гиганта под Оренбургом (с 1974) и Астраханью (с 1985), и леса их факелов в ночной степи оставляют неизгладимое впечатление. "Поворот углеводородного экспорта на Восток" же совпал с падением цен на нефть и новой попыткой избавить страну от "ресурсного проклятия". В Китай, в отличие от Европы, наша "элита" не стремится вывезти детей, а потому китайцам можно продавать не только голое сырьё, но и что подороже. И вот СИБУР и Sinopec на газу якутской Чаянды и иркутской Ковыкты решили дополнить новый газопровод "Сила Сибири" крупнейшим в мире комплексом газопереработки.
36.
Масштабы его действительно впечатляют: с 8 сотнями гектар площади (3,5 на 2,5км) и 3 тысячами рабочих мест это крупнейшее перерабатывающие предприятие, строящееся в России со времён распада СССР. В идеале здесь за год из 42 миллиардов (!) кубометров газа будут получать 2,5 миллиона тонн этана, 1 миллион тонн пропана, полмиллиона тонн бутана и 60 миллионов кубометров самого ценного продукта - гелия, по которому завод не будет иметь равных в мире. Алканы же пойдут в дальнейшую переработку - рядом с ГПЗ строится ещё и ГХК, где из них получают полиэтилен (до 2,3 млн. т.) и полипропилен. Конечно, постсоветская эпоха приучила не верить фразам, в которых соседствуют слова "производство" и "будет", но всё же первая очередь ГПЗ заработала 9 июня 2021 года, буквально за несколько дней до моей поездки, а выйти на проектную мощность АГПЗ-АГХК должны к 2024 году. Но чтобы всё это не выглядело слишком уж ура-патриотично, добавлю, что по самому Свободному догадаться о великой стройке сложно - на кадре выше виден гигантский посёлок для вахтовиков. Едут они сюда не только из Средней Азии и Украины, но и со всей России: на Дальнем Востоке цены и зарплаты выше, а мужики - хитрее, и к тому же у многих тут периодически "идёт рыбец", за которым они готовы убежать с работы. Великих строек в "забытом Москвой регионе" ведётся множество (пару лет назад я показывал крупнейшую в России верфь в Большом Камне), но местные не имеют от них ничего, кроме роста цен на еду и недвижимость.
37.
Название "Свободный" я понял как Ненужный, но в 1990-2000-х все проезжающие мимо знали, что Свободный он от закона - уличная преступность тут лютовала даже на фоне остального ДэВэ.
38.
Вид здешних деревенек печален, но как мне написали в прошлой части, по сравнению с 2012 годом Свободный явно начинает оживать. Учитывая стройку Северного микрорайона, работать на газоперерабатывающем заводе будут уже не вахты.
39.
Районная дорога, по которой мы ехали, идёт на север параллельно трассе "Амур" и Транссибу и вновь встречается с ними у деревни Глухари в 40км от города. Здесь находится станция Ледяная с дореволюционной водонапоркой:
40.
И новым, да при том не маленьким вокзалом:
41.
С архитектурой Ледяной РЖД решила не выпендриваться, и вместо аляповатых балаганов соорудила не пытающиеся отрицать своей унылости "коробки":
42.
Подъезжая к Ледяной по Транссибу, я чувствовал примерно то же, что и подъезжая к Тюратаму по Ташкентской железной дороге - там за степью, тут за тайгой виднеются высокие сооружения самого что ни на есть космодрома.
42а.

От Ледяной здесь отходит тихая однопутная ветка:
43.
Вдоль которой и маршрутка через 3,5 километра приезжает на площадь, местным жителям известную как Углегорск:
44.
С тем же успехом его могли назвать Нефтеозёрск, Златомысовск или Уранобедлендовск - нет тут ни гор, ни угля. Зато с 1961 года грозили "китайским шовинистам" межконтинентальные баллистические ракеты, так что в 1969-94 это и вовсе был ЗАТО Свободный-18. Тогда здесь вырос почти типовой городок с силикатными пятиэтажками, домом офицеров и дымящей котельной. В наше время он, подобно десяткам таких городков по всему Дальнем Востоку, мог глядеть из тайги тёмными глазницами пустых окон. Однако, как верно заметил один мой знакомый, "велика Россия, а космодром поставить некуда" - ракета не самолёт и её запуск требует огромного количества нюансов. Самый очевидный - в том, что она отбрасывает ступени и оставляет токсичный шлейф, а значит взлетать должна вдали от населённых пунктов, в идеале и вовсе над морем. Более того, путь ракеты от Земли до расчётной орбиты отнюдь не вертикален, и чаще всего направлен от космодрома на северо-восток. Сама же Земля подобна гигантской праще: одна и та жа ракета с экватора может поднять примерно на треть больше груза, чем из высоких широт. Добавьте сюда ещё и удалённость от границ (враг не дремлет же!) и минимальную сейсмическую опасность - и станет ясно, что подходящих мест для космодрома на 9-й части суши практически нет: 4/5 страны - север, Европейский юг густо населён, Приморье зажато границами, в Дагестане - террористы, а на Сахалине - землетрясения. Новый космодром был необходим постсоветской России: северный Плесецк активно используется военными, но из-за своего расположения не конкурентоспособен для тяжёлых коммерческих запусков, всем прекрасный Байконур же в 1991-м оказался в другом государстве.
45.
И может быть кто-то ещё помнит космодром "Свободный", создание которого на Углегорской базе началось в 1996 году? Увы, тогда России такие игрушки были не по средствам, и Свободным он остался в том числе и от полноценной инфраструктуры. Единственными ракетами, которые отсюда запускали, были "Старт-1" - гражданская модификация мобильного "Тополя" с 4 ступенями и 4 центнерами полезной нагрузки (у 3-ступенчатого "Союза", для сравнения - 7 тонн). В 1997-2006 со Свободного было запущено 6 спутников (отечественный военный "Зея", 2 израильских, 1 американский и 1 шведский), а в 2007 космодром закрыли. Поняв, что от военной базы тут можно использовать разве что посёлок, власть задумала строить полноценный космодром "Восточный", но - очень уж не спеша... Лишь в 2012 году стройка в амурской тайге стартовала, а к 2014 году стало ясно, что от графика она отстаёт на 26 месяцев, то есть на больший срок, чем она уже шла! Но именно 2014 год стал переломным: как русско-японская война показала, что вместо КВЖД надо строить Амурскую магистраль, так и Украинский кризис продемонстрировал, что нельзя полностью полагаться на космодромы в других странах. Грязную работу по наведению порядка послали делать Дмитрия Рогозина, на кураторство которого в 2015 году выпали знаменитые скандалы с задержкой зарплат, ну а затем на белом коне сюда въехал наследник даурских ханов Сергей Шойгу. Первым делом в тайге возвели новейший стартовый комплекс "Союзов", этих рабочих лошадок космонавтики, фактически представляющих собой глубокую модернизацию ещё королёвской Р-7. Уникальность "Восточного" была в том, что больше нигде в мире космодромы не строятся среди вечной мерзлоты и зим с 40-градусными морозами - стартовый комплекса "Союза" максимально автономен и компактен. 26 апреля 2016 года с "Восточного" был сделан первый запуск с тремя российскими спутниками, включая спутник МГУ "Михайло Ломоносов". Спутнику Бауманки повезло меньше - второй запуск в 2017 году окончился пока единственной на этом космодроме неудачей. Но год за годом "Восточный" набирает обороты - если поначалу отсюда делалось 1-2 запуска в год, то в 2021 их было уже 4 - все по английской программе глобального интернета OneWeb. Строительство пока замедлилось - в первую очередь это "запасной космодром", который ударно пойдёт в рост при первых признаках угрозы Байконуру. Дальше в планах - старт для тяжёлой ракеты "Ангара", которую уже много лет создают на смену грязному и ненадёжному "Протону", но пока всё никак не создадут. Её макет встречает у въезда на площадь, в середине которой стоит неожиданно интересный памятник строителям космодрома (2016). Не забыт и печальный казак, благодаря которому они в принципе здесь что-то строят.
46.
Рядом - вокзал внутрикосмодромной ветки: территория космодрома раскинулась по тайге на 40 километров, что вполне сравнимо с Байконуром. Похожая станция также есть на Байконуре, где в обиходе (хотя и там, и там обычные дизелЯ) "поездами" называет то, что проносится по магистрали, на космодроме же работают "мотовозы". Скорее всего, эти названия перекочуют и сюда: байконурских старожилов при упоминании Восточного начинает трясти, поскольку уезжают они сюда примерно как ЖЖисты на Яндекс-Дзен.
47.
Многострадальный Углегорск же в 2015 году был преобразован в город-ЗАТО Циолковский, где ныне живёт чуть более 7 тыс. человек. Там есть отреновированные пятиэтажки, котельная, школа и Дом офицеров (ныне Культурно-досуговый центр), типовая Казанская церковь, памятники Победе, Ленину и Гагарину, поставленный ещё в 2013 году без всякого особого символизма спускаемый аппарат "Союза ТМА-7М" (запущен с Байконура 19 декабря 2012 года) и наверное ещё какие-то успевшие возникнуть колоритные детали. Увидеть всё это гораздо проще, чем на Байконуре, если добраться на Дальний Восток к редким запускам: на трассе "Амур" пробки образуются там, откуда ракету лучше видно, а несколько турфирм в Благовещенске организует сюда экскурсии для всех желающих, и ценник их конечно неприятен, но всё-таки гораздо ниже байконурских 60-100 тыс. рублей. Посещения, впрочем, пока что поставлены на паузу из-за Царь-вируса, по окончании которого я, наверное, приеду сюда вновь. Пока же о городе, космодроме и инфраструктуре можно почитать у
 zelenyikot. А напоследок колоритная деталь: в разговорной речи и расписаниях маршруток фигурируют и Циолковский, и Углегорск. Первый - это город за КПП, а второй - общедоступная площадь:
zelenyikot. А напоследок колоритная деталь: в разговорной речи и расписаниях маршруток фигурируют и Циолковский, и Углегорск. Первый - это город за КПП, а второй - общедоступная площадь:48.
Походив по ней минут 40, я поймал маршрутку до Свободного, в которой крутили старый русский боевик "Охота на пиранью", неожиданно органично дополнивши дальневосточный пейзаж. Вскоре я ждал поезда на вокзале, а вновь проезжал станцию Свободный почти 3 месяца спустя. В следующих частях отправимся на запад по Амурской железной дороге.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Сковородино - Куэнга.
Забайкалье - будет позже
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Космос Дальний Восток транспорт дорожное деревянное индустриальный гигант |
Свободный. Часть 1: центр |
Свободный - небольшой город (53 тыс. жителей) на Зее в 150 километрах выше Благовещенска. В наши дни он снова на слуху - рядом строятся космодром Восточный и гигантский Амурский газоперерабатывающий завод. По самому городу, впрочем, об этом не догадаться: лишь погуляв тут денёк, я понял, что его название стоит понимать как Ненужный. Что, однако, вовсе не равно "неинтересный" - при ужасной запущенности и общем духе социального напряжения, Свободный - город с богатой историей. Ведь он сам порождён ещё царской великой стройкой - как "столица" Амурской железной дороги, этого прото-БАМа, сменившего в роли главного пути на восток сам Амур, легендарный Албазин на высоком берегу которого я показывал в прошлой части.
Своей историей Свободный больше напоминается советские, чем дореволюционные города:
1а.
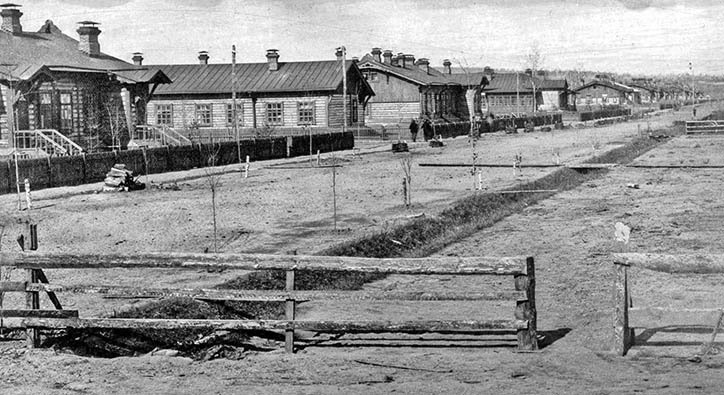
Как и многие города железнодорожников, да ещё с таким названием, в Гражданскую войну Свободный сделался красным островом, над которым белые волны с востока и запада сомкнулись лишь осенью 1918 года. В 1920 году Свободный перешёл под контроль Дальневосточной республики, при которой, вдали от всех фронтов, тут развернулись самые жаркие события - Амурский инцидент.
2.
Предыстория его началась в Хуньчуне, китайском уезде у Тумангана, где издавна жило много корейцев. Среди них скрылись и выбитые японцами с оккупированной родины партизаны, державшие связь с "правительством в изгнании" в Шанхае. И вот в октябре 1920 года Хуньчунь, а следом и окрестные уезды охватило масштабное антияпонское восстание, как и всюду в тех краях с обеих сторон отмеченной страшной жестокостью. К концу осени японцы подтянули в мятежный регион две дивизии, карательный поход которых перерос в форменный геноцид. Перед лицом неизбежного разгрома партизаны стали отступать вдоль российской границы на север и переходить её в районе Имана, за которым начинались владения большевиков. Иные и вовсе достигли Амура. Там их ждали: в Благовещенске налаживал отношения с красными Всекорейский национальный совет, а в Свободном уже стоял батальон красных корейцев командира О Хамука. 15 марта 1921 года в селе Красноярово на Зее прошёл Всекорейский партизанский съезд, по итогам которого корейские отряды со всего Дальнего Востока начали стягиваться сюда. Местом их дислокации стали Свободный, Красноярово и Мазаново, численность достигла 6 тыс. бойцов, а для конспирации назвали всё это Сахалинским партизанским отрядом. Параллельно был учреждён Корейский Военно-Революционный Совет, который красные решили сформировать в Иркутске и доставить на Зею в готовом виде. В истинно интернациональном духе возглавил корейцев грузин - красный анархист Нестор Каландаришвили, за плечами которого был огромный опыт партизанской войны в Сибири. Вот тут-то коса и нашла на камень: большинство корейцев были как раз-таки националисты и надеялись с опорой на Советскую Россию устроить освободительный поход на Сеул. Советская Россия же вела с Японией сложнейший дипломатический торг, который
 periskop.su вот в этом посте справедливо сравнивал с фехтованием. Нападение корейских партизан дало бы самураям первоклассный casus beli, а потому в Свободный корейцев собрали с целью частично их разоружить и интегрировать в Красную Армию.
periskop.su вот в этом посте справедливо сравнивал с фехтованием. Нападение корейских партизан дало бы самураям первоклассный casus beli, а потому в Свободный корейцев собрали с целью частично их разоружить и интегрировать в Красную Армию.2а.

Корейцы раскололись на "шанхайскую" и "иркутскую" партии, обстановка неуклонно накалялась, и вот уже командиры Сахотряда прислали Каландаришвили письмо, подписанное, по суровомую обычаю корейских партизан, кровью отсечённых безымянных пальцев. Командиры пригрозили выйти из подчинения и покончить с собой, видимо не зная, что в наших краях такие угрозы трактуются как истерика и потому игнорируются. Следующим шагом стала попытка самовольного похода на Восток, но так же демонстративная - упершись в Хинганские горы, Сахотряд вернулся в Суражевку. Где 28 июня 1921 года и случился сам инцидент - попытка разоружить партизан по приказу Каландаришвили обернулась уличными боями, в которых погибли сотни людей и сгорел деревянный город. Сахотряд был разгромлен, его лидеры - арестованы, а в советской историографии этот эпизод если и упоминался - то как стычка "шанхайских" (белых) и "иркутских" (красных) корейцев: активнее всего соплеменников усмирял О Хамук. Так в Свободном впервые столкнулись будущие Северная и Южная Кореи...
3.
Рассказ о революционном прошлом очень кстати было начинать на площади Лазо, расположенный неподалёку от большого и весьма невзрачного вокзала, который я ещё покажу в другом посте. Свободный вытянут вдоль Транссиба на полтора десятка километров, а потому имеет ярко выраженную ось главной улицы Ленина, при Алексеевске называвшейся Князь-Алексеевской, а в Свободном поначалу - Большой. Нанизанная на неё площадь Лазо имеет довольно странный вид - скорее сквер в окружении шумных дорог и избушек, на фоне которых выделяется лишь коробка кинотеатра им. Сергея Лазо (1986). И - несколько памятников: эффектный монумент Борцам за власть Советов (1937) с кадров №2, их же, борцов, братская могила (кадр выше) и белый обелиск основанию города (1967). Странная дата - от того, что это реплика, а вот на старом фото оригинал (1912) у деревянной гимназии имени Николая Гондатти - приамурского генерал-губернатора и непосредственного основателя Алексеевска.
3а.
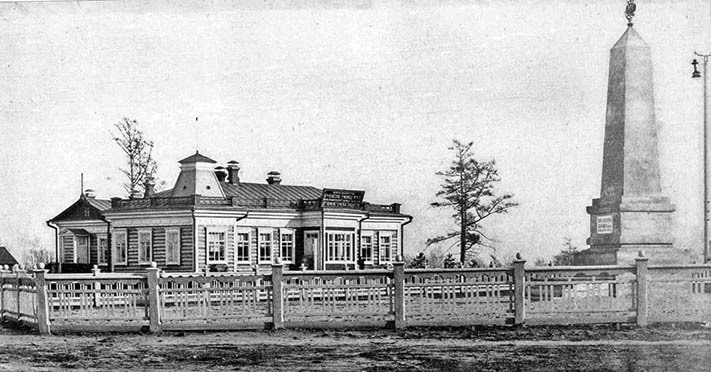
Улица Ленина же здесь пересекается с Михайло-Чесноковской улицей (в конце которой есть ещё одно, вероятно дореволюционное здание), а за ней сетка прямых улиц как бы поворачивает на 45 градусов. Там, к северу от площади Лазо, теперь стоит искать Старый Алексеевск:
4.
Как я понимаю, в дореволюционном городе, успевшем разрастись до 12 тыс. жителей, это была окраина - я нашёл здесь лишь один старинный магазин городского вида (кадр выше), а в основном - избы:
5.
Но наличники этих изб хороши:
6.
В глубине деревянных кварталов стоит такая же деревянная Никольская церковь (1913). Вернее, Никольской она стала при возрождении прихода в 1947 году, а изначально была храмом Княгини Ольги:
7.
Нынешнее посвящение она унаследовала от Никольской церкви (1912-14) у вокзала, снесённой в 1934 году:
7а.

Дойдя до церкви, к улице Ленина я решил выходить не через площадь Лазо, а переулками, и вскоре пересёк черту, отделяющие избы от пятиэтажек. Между пятиэтажками же далеко не везде есть асфальт, а на иных земляных улицах образовались натуральные рытвины с перспективой превращения в овраги. Масштабами упадка и запустения в стороне от главной улицы Свободный удручает даже на фоне остального Дальнего Востока, и это совсем не вяжется с образами великих строек. Влияние которых тут на самом деле есть: стройки ведут вахтовики со всего бывшего Союза, из-за которых в городе порядочно выросли цены, но так и не появилось, например, приличных ресторанов и кафе. Рабочих рук, впрочем, на новых заводах понадобится больше, чем может дать 50-тысячный город, поэтому на северной окраине Свободного строится многоэтажечный район на 20 тыс. человек, лес кранов которого я не успел заснять, но краешком видел с трассы. Однако даже его заселения не хватит, чтобы город вернулся к своему пику в 81 тыс. жителей накануне распада Союза.
8.
В заросших дворах и размытых улицах мне попался явно дореволюционный деревянный барак, видимо входивший в состав Переселенческого приюта - город на Транссибе не мог не стать центром заселения Амурских прерий. Но больше дом запомнился мне его жительницей, которая при виде моего фотоаппарата попросила написать о том, что у них третий день нет воды.
9.
И кажется очень несправедливым, что лучше всего из Старого Алексеевска уцелел этот мрачный барак. Как и сгоревший в ту же Гражданскую войну Николаевск-на-Амуре, Свободный вполне мог бы славиться на весь Дальний Восток своим деревянным зодчеством. Вот скажем ещё один приют - но не переселенческий, а детский:
10а.

Пожарное депо:
10б.
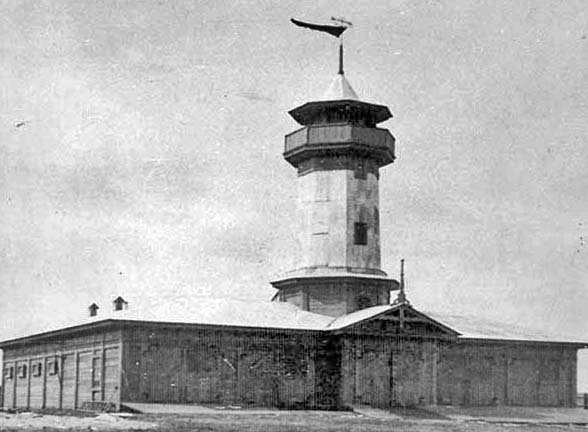
Лавки и рестораны:
10в.

10г.

А вот на улице Ленина упакованный в сайдинг деревянный магазин напоминает угловым расположением двери, что строился в те времена, когда улица была Князь-Алексеевской или хотя бы (после 1917 года) Большой:
11.
Из тех же времён и первый этаж грузного здания военкомата:
12.
Оставшийся, видимо, от казначейства - во всём "гражданском" центре Алексеевска было 0,5 каменных зданий:
12а.

Неподалёку на Князь-Алексеевской располагалась и резиденция градоначальника окнами на Городской парк:
14а.

В отличие от старых домов - живой и, что удивительно, не то чтобы очень запущенный:
13.
В центре Свободный совершенно не кажется историческим городом. На фоне общей серости глаз цепляется за любые мелочи - аляповатый Китайский рынок, в кулинарии напротив которого я завтракал; памятник спецназовцу Ивану Маслову, погибшему в 2011 году на Кавказе; пятиэтажка с краеведческим музеем (1969) на первом этаже.
14.
Глядящая в небольшой сквер с ажурной беседкой неясного возраста:
15.
За которым на параллельной улице 50 лет Октября стоит довольно оригинальный для своих времён кинотеатр "Юность" (1965) имени, внезапно, не Гайдара, а Гайдая. "Отец" Шурика и автор его приключений родился в январе 1923 году в Свободном в семье полтавского эсэра, заброшенного сюда как каторжник на строительстве Амурской железной дороги. Впрочем, кроме факта рождения Леонида Иовича не связывает со Свободным ничего - уже летом того же 1923 года семья Гайдаев перебралась в Читу. Но памятник (2006) поставить - это почти как выпить: был бы повод!
16.
И музей, и кинотеатр стоят в преддверии не по районному огромной (230 на 90м) площади Ленина, на другой стороне которой выглядывает из-за горизонта гостиница "Зея". В её первом этаже я лишь на фото заподозрил (скорее всего, напрасно) ещё один осколок Старого Алексеевска:
17.
Больше, чем гостиница и совсем уж никакой Дом Советов, на площади привлекают взгляд памятник Ленину и огромный стенд с полинявшими табличками истории города. Ильича я не задумываясь датировал раннесоветскими временами, когда истуканостроение ещё не поставили на поток. Но оказалось - напротив, это один из последних Ильичей Советского Союза, поставленный аж в 1989 году:
18.
Ещё пару кварталов за площадью Ленина взгляд цепляют разве что колоритные новостройки:
19.
Напоминающие о том, что тлен и упадок тут всё же не везде и не во всём:
20.
Вообще, контраст холёной главной улицы с мрачными переулками для России скорее типичен, чем наоборот, но в Свободном он какой-то просто особенно вопиющий - кажется, по бывшей Князь-Алексеевской возят "первых лиц" на АГПЗ и Восточный.
21.
За новостройками улица Ленина вновь начинает "стареть" - вдоль неё появляются сталинки, как например Дом детского творчества в бывшей школе:
22.
Напротив - стадион "Локомотив" с прославляющей нудизм мозаикой на воротах. Ворота глядят на перекрёсток с улицей 40 лет Октября:
22а.

Дело в том, что в Алексеевске был не один, а два исторических центра: севернее, у вокзала - гражданский, а южнее, на полпути к товарной станции Суражевка (ныне Михайло-Чесноковка) - путейский, в обиходе просто Управление, границей которого и служит улица 40 лет Октября. За ней наискось от нудистов встречает Кругляк - так называют в народе торговый центр "Амур", прежде кафе "Русь", а изначально и вовсе столовую Управления Амурской железной дороги (1939):
23.
Центральная часть Кругляка если не символизирует шоколадный торт, то порядочно его напоминает:
23а.

А вот крыло со множеством арок явно отсылает к старым добрым гостиным дворам:
24.
Едва ли не больше сложной формы "Амур" впечатляет неоднородностью состояния - часть здания занята торговлей, часть реставрируется, часть брошена:
25.
Ну а за бывшей столовой, на перекрёстке улиц 40-летия и 50-летия Октября (это не шутка!) и само бывшее Управление Амурской железной дороги (1914-37) раскинуло крылья на 140 метров:
26.
Управления железных дорог почти всегда грандиозны, а посреди небольшого города - вдвойне. В странных датах постройки (1914-37) на самом деле зашифрована целая история: изначально отсюда предполагалось управлять Амурской железной дорогой от Куэнги до Хабаровска, но уже в 1923 году её разделили между Читинской и Уссурийской железными дорогами по станции Ушумун. В 1936 году, однако, упразднили уже УссурЖД, а АмурЖД возродилась в чуть укороченном варианте - от Ксеньевки до Архары, и по такому случаю достроили её управление в Свободном. В 1953 АмурЖД приросла на восток участком до станции Ин между Биробиджаном и Хабаровском, а в 1959 вновь была разделена по Архаре между Дальневосточной и Забайкальской железными дорогами. Позже здесь располаался путейский техникум, ныне ставший филиалом хабаровского ДВГУПСа и переехавший в другое здание, а ныне всякая околоРЖДшная всячина.
27.
В первое упразднение АмурЖД, однако, этому зданию, вернее его левому крылу, тогда ещё не соединённому с правым, нашёлся свой, куда более мрачный хозяин - Бамлаг. Основанный в 1932 году, он курировал едва ли не всё железнодорожное строительство тех лет от Байкала до Охотского моря, и главной стройкой его оказался не БАМ, а второй путь Транссиба. Старый (от Ванино до Комсомольска-на-Амуре) и Малый (от Сковородино до Тынды) БАМы строили уже его преемники - за пятилетку Бамлаг разросся до таких размеров, что в 1938 переброшенный сюда с Беломоркана Нафталий Френкель добился разделения Бамлага аж на на 6 лагерей. Свободный остался центром Амурлага, из которого в 1941 году выделился поражающий абсурдностью своего названия Свободлаг. Он занимался заготовкой леса в условиях Великой Отечественной, а окончательно путейцы вытеснили отсюда чекистов в 1946 году. Самым известным узником Свободного стал учёный-поэт-священник Павел Флоренский, в 1933 году написавший здесь философский трактат "Предполагаемое государственное устройство в будущем". Предполагал он, надо заметить, систему куда суровее той, что его сюда засадила и куда больше похожую на (привет корейцам!) чучхе: по особому пути Россия должна была двигаться в условиях тотальной диктатуры и в полной изоляции от внешнего мира. Посидев год в Свободном, Флоренский отправился в Рухлово (Сковородино) исследовать вечную мерзлоту, и всё же мемориальная доска ему висит на стене Управления у центрального входа.
27а.

Во двор Управления можно свободно зайти - он занят импровизированным железнодорожным музеем:
28.
Больше всего тут привлекают взгляд довоенные теплушка и цистерна:
29.
А также мотодрезина ТД-5 "Пионерка" разработки 1950-х годах - фабричный прототип самодельных "бешеных табуреток":
30.
Самая же странная особенность музея - в том, что его пояснительные таблички рассказывают не о самой технике, а о дирекциях, которыми она используется:
31а.

Впрочем, не будем забывать, что мы во дворе путейского техникума в совершенно не туристическом городе:
31.
Основной контингент этого музея должен все экспонаты знать в лицо.
32.
Единственная информационная табличка - на фрагменте моста через Бурею (1913-15), видимо доставленном сюда при его обновлении:
33.
И конечно, куда же без паровоза Черепановых:
34.
Странной самоделки:
35.
И памятников 70-летию Победы и строителям Амурской железной дороги с колоритной деревянной тачкой. На месте которой в принципе мог быть и паровой экскаватор, но если бы хоть один из таковых и уцелел - теперь он стоял бы скорее в Чите или Хабаровске.
36.
Снова выйдем на улицу Ленина, сталинские фасады которой разделяют два квартала Управления - справа осмотренный нами советский, слева до параллельной улицы Мухина - дореволюционный:
37.
Архитектором большинства его зданий, законченных в 1916 году, был Михаил Чесноков - до февраля обычный путейский инженер и архитектор, а после - борец за власть Советов, в итоге ставший жертвой "белого террора". Красивейшее здание города стоит в густой зелени напротив Кругляка через улицу Ленина и напротив нудистов через улицу 40 лет Октября:
38.
В краеведческих статьях пишут, что из 27 окон этого здания ни одно не повторяет другие. На самом деле простого взгляда достаточно, чтобы понять, что каждая форма тут есть в 2-3 экземплярах:
39.
Об изначальном назначении же Двадцатисемиоконного дома пишут куда реже, потому что оно забористое и прозаичное - это была администрация отдела рабочего снабжения Амурской железной дороги. Вот здесь он показан до реставрации, в деталях и с двойником-прототипом в Харбине.
40.
Старое управление (1917) стоит чуть дальше по улице Ленина, и в народе почему-то слывёт Охотничьим замком Николая II. Вероятно, оно проектировалось как дом начальника АмурЖД, а контора помещалась в нём лишь пока строилось нынешнее Управление:
41.
Напротив, с советской стороны улицы Ленина - дореволюционного вида магазин или склад:
42.
Ещё пара зданий стоят среди мощных сталинок тихой ветхой улицы Мухина, дворы по дальней стороне которой раскрываются на Транссиб:
43.
Это дистанция гражданских объектов (1916) с характерной башней - она же на заглавном кадре:
44.
И детский сад (1920), формально (хотя начинал строиться определённо он раньше) являющий собой редчайший образец архитектуры Дальневосточной республики:
45.
Я бы сказал, эти 6 стильных зданий слагают лицо Свободного, выделяя его на фоне прочих ветхих и тоскливых приамурских городов. Вернее, на самом деле их даже чуть больше - на Малой Амурской улице в прошлом году доломали жилой квартал обветшалых "Финских домов" (1938-48) совершенно не финского облика...
46а.

...а дальше по улице Ленина строится храм Алексия Человека Божьего - с 2017 года, но по дореволюционному проекту:
46.
Неожиданно изящный для наших дорохобохатых времён:
47.
В прямой видимости храма - мемориал Победы (1975), обсуждение эстетических качеств которого потянет на статью об оправдании фашизма:
48.
А вот количество имён на серых плитах напоминает, что Москва в долгу у азиатской части. Единственный красивый, и видимо более поздний элемент мемориала - чёрная плита на краю:
49.
За мемориалом улица Победы делает зигзаг наподобие серпантина, спускаясь в Михайло-Чесноковку. Но об этом районе с самой длинной в России Детской железной дорогой, самой ДЖДшке и великих стройках свободненской округи будет следующая часть.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Сковородино - Куэнга.
Забайкалье - будет позже
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: невольничье Дальний Восток транспорт дорожное деревянное |
Албазино. Черновики Дальнего Востока. |
Албазино - глухая деревня (300 жителей) на высоком берегу Амура вдалеке от всего. Но именно здесь в 1680-х годах остановилась русская экспансия "встречь Солнцу", на без малго два века оставив южный Дальний Восток де-юре китайским, а де-факто ничьим. Смотреть в нынешнем Албазине почти не на что, так что мой рассказ будет не столько о нём, сколько о даурах и Даурии, европейской фортификации из подручных материалов, манеграх и конных эвенках, вредных пограничниках, Желтугинской республике бандитов и старателей по ту сторону границы и казаках в Пекине.
В прошлой части я показывал Долину вулканов в Восточных Саянах, которую логически сюда никак не привязать.
Ближайший к Албазино город - Сковородино Амурской области в 700 километрах от Благовещенска и 900 от Читы. Правда, на Транссибе, но график поездов в этой глухой его части таков, что съездить в Албазино без ночёвки в селе или городе не получится. Теоретически, пару раз в неделю туда ходит автобус: из Сковородино он отправляется вечером, но вот здесь описана вполне рабочая схема 2-дневной поездки с ночёвкой в паломническом доме. Я же решил совершить поездку одним днём, и конечно, воспользовался автостопом, который осложнялся крепчавшим час от часа долгим проливным дождём. На такси по Сковородино я доехал до начала грунтовой дороги в Джалинду - посёлок на амурском берегу, в погранзоне, для въезда в которую сейчас гражданам России достаточно паспорта. В два прыжка добрался и туда, и первым делом зашёл в магазин поузнавать, не ездит ли тут кто-то в Албазино. Продавщицы переполошились, потребовали представиться и в общем явно понимали - шпиЁн. Полчаса простояв под дождём у выезда на Албазино, я понял, что на попутку рассчитывать не стоит. Рядом двое мужиков починяли машину, я спросил, не отвезут ли они меня за деньги. Начав разговор вопросом "А ты что ещё за студент лучезарный?!", закончили мы вполне искренним интересом и готовностью по-быстрому сгонять эти 20 километров. Сторговавшись на 800 рублей, по прибытии в Албазино водитель взял 500, а тут и распогоживаться стало...
2.
Я купил билет в музей, но первым делом, пока не налетел новый ливень, вышел на берег Амура пофотографировать речной пейзаж. Затем осмотрел наружную экспозицию старых казачьих домов, а буквально в дверях основного здания музея был задержан пограничниками, которые заметили мою фотоактивность со своих камер. Они были ко мне вполне дружелюбны, даже накормили в офицерской столовой, и обещали, что после всех формальностей отвезут обратно в музей. Но обещание сдержать помешало начальство, после пары часов ожидания в комендатуре распорядившиеся депортировать поганца за пределы погранзоны, и ладно хоть это решило вопрос возвращения в Сковородино. Пограничники извинились, но добавили, что "погоны никому не жмут". По дороге в Джалинду они рассказывали мне о том, что погранзона есть погранзона, и по прибытии мне следовало им позвонить да согласовать маршрут - и они бы меня сами довезли в Албазино и конкретно ткнули пальцем, что снимать, что не снимать. Часть фотографий пограничники мне удалили, но что-то я успел вновь заснять прямо с машины, на которой меня везли. Например, китайский посёлок Синъянь (1 тыс. жителей) с цветастыми пятиэтажками у самого Амура мне пришлось убрать, а вот баки на китайской станции пущенного в 2018 году нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан) буквально нависают над дорогой из Албазина в Джалинду.
3.
На кадрах выше весьма благодатная местность - пологие сопки, смешанные леса, широкие луга, когда-то, вероятно, бывшие колхозными полями. Даурия - не суровая таёжная Сибирь, а зелёный плодородный край, и тем удивительнее в Амурской области (кроме БАМовской части) полное отсутствие коренных народов. Так было не всегда...
Верхний Амур от Шилки до Зеи населяли дауры - остепенившиеся потомки грозных киданей, кажется единственные в своём роде монголоязычные земледельцы. Их общество делилось на рода (хала) с общей фамилией, включавшие по несколько кланов (мокон), причём в браке муж уходил в кланы жены. Такое разделение было интеркосмическим: если у каждого мокона была свой шаман, то каждая хала располагала собственным загробным миром! Среди амурских прерий дауры жили большими селениями, которые в казачьих отписках порой упоминались как "города", что указывает на хотя бы простейшие укрепления. В селениях казаки находили деревянные дома с окнами, закрытыми промасленной бумагой и амбары с соей и пшеницей. Дауры рядились в ситцы и шелка, которые покупали у китайцев за пушнину. Их покрой отличался что от бурятского, что от нанайского, а в летнем гардеробе уживались косынки и "китайские" шляпы. Национальные же виды спорта - борьба и "даурский хоккей" на траве, - до сих пор можно увидеть на праздниках в близлежащих уездах Китая.
4.

Небольшая группа даур жила за Зеей, и они были известны уже как отдельный народ гогули (говолы). Но в основном от Зеи до Хингана обитали дючеры - тоже земледельцы, но с тунгусо-маньчжурским языком, и скорее всего так русские люди услышали слово "чжурчжэни". Этот народ больше ассоциируется с Приморьем, где жили потомки воинственных мохэ, пришедших в Приамурье порядка 1500 лет назад. Они имели простейшее земледелие, а вот из скотины разводили только коней, всё остальное добывая набегами и охотой. В Приморье мохэ сблизись с корейцами, уже в те времена бывшими весьма высокотехнологичным народом, и построили целую серию государств, встававших и падавших в войнами с киданями и монголами - Бохай, Дон-Гур, и наконец империя Цзинь, с покорением Китая ставшая его правящим домом. Лишь она добралась до амурских чжурчжэней - этим учиться госстроительству было не у кого, и потому оставались они обычными воинственными степняками с качественным железным оружием из болотной руды. Но в 13 веке приморских чжурчжэней втоптал в грязь Чингисхан, а амурские так и продолжили кочевать в своих прериях, понемногу укореняясь в плодородной земле.
4а.

Однако оставались в Даурии и кочевники - солоны, бывшие видимо одним из племён мурченов - конных эвенков, или скорее конных тунгусов, так как в России они перевелись ещё до внедрения слова "эвенк". Схожие с орочонами (оленными эвенками) языком и духовной культурой, это были классические степняки, жившие в юртах, а одеждой и бытом куда больше похожие на бурят. По сути старая Даурия представляла собой осколок империи Цзинь, переживший нашествие монголов и по инерции, без городов и государства, продолжавший существовать в тучной глуши. Разрушаться этот пёстрый мирок начал в 1640-е годы: в начале 17 века князь Нурхаци из чжурчжэньского рода Тун с предгорий Пэктусана объединил многочисленные племена Маньчжурии и объявил себя новым императором Цзинь. Затем это название ("Золотая") его чем-то не устроило, и в 1626 году он положил начало новой династии Цин ("Чистая"), чьей опорой стала Восьмизнамённая армия, а манифестом - "Семь великих обид", предъявленных Минскому Китаю. Компенсацией за эти обиды стала независимость: в 1644 году Цинский двор переехал в Пекин, став последней императорской династией Китая. Но походя маньчжуры (так стали называть себя обновлённые чжурчжэни) покорили и свой север, где сопротивлялись им в 1638-40 годах часть дауров и солоны, которых возглавлял вождь Дулан Бомбогор, в итоге схваченный и казнённый в Мукдене.
4б.

Но буквально в те же годы по китайской наковальне начал бить русский молот. В 1640 году отправленная из Якутска экспедиция потомка служилых татар Еналея Бехтиярова поднялась по Витиму к перевалам Станового хребта, и от пленного шамана получила сведения про Амур, его притоки и тучные даурские поля. В 1642-44 годах Становой хребет перешли 133 казака под началом Василия Пояркова из Кашина, но встретил их глубоко враждебный край, где под ними горела земля, а местные признавали только силу оружия. Самой страшной стала зима 1644 года, когда дауры осадили острожек на речке Умлекан - казаки несколько месяцев отбивались от на порядки превосходящих сил аборигенов и, в силу голода и обилия трупов под стенами, успели прослыть среди них людоедами. Но к концу зимы осада была снята, поярковцы прошли весь Амур до самого устья, поглядели издали на Сахалин и вернулись в Якутск со стороны Охотского моря. Третью экспедицию возглавил "дальневосточный Ермак" Ерофей Хабаров - на современный лад Ерофей Фартовый. Рождённый в 1603 году в деревне под Сольвычегодска, дома Ерофей хабара не сыскал, а в 1625 году и вовсе бежал в Сибирь от долгов. Там он стал сборщиком пушнины между воеводским Тобольском и златокипящей Мангазеей, но понемногу речные пути уводили его всё дальше "встречь Солнцу". В верховьях Лены Ерофей Палыч обзавёлся мельницами и солеварнями, но выйти на покой ему не дал якутский воевода Пётр Головнин, внаглую отобравший промыслы. Посидев в Якутском остроге, к новому воеводе Дмитрию Францбекову в 1648 году Хабаров пошёл с прошением не вернуть бизнес, а выдать саблю, мушкет и отряд казаков да отпустить осваивать новые земли. В 1649 году проведя "радиалку" через Становой хребет к Амуру, в 1650-52 годах Ерофей Палыч возглавил уже масштабную колониальную экспедицию из сотен казаков. Формально хабаровцы привели Приамурье в русское подданство, вот только действовал Ерофей Палыч жёстко, и большинство дауров и дючер просто сбежали за реку, оставив поля зарастать. Дальше оказалось, что и сами они были лишь вассалы, а против Хабарова вышел сюзерен - маньчжуры, зимой осадившие Ачанский острожек чуть выше нынешнего Комсомольска-на-Амуре. Тот бой казаки выиграли, но встреча в горах Хингана с подкреплением из Якутска обернулось расколом среди казаков. По итогам которого Хабаров был арестован и прямо с Амура отправлен в Москву на суд за, как сказали бы сейчас, военные преступления - против и дауров, и своих же казаков.
5.
Сменил его не столь лихой, но более лояльный Онуфрий Степанов Кузнец - уходить с Амура Россия уже не собиралась. Пользуясь отсутствием у маньчжур речного флота, казаки обосновались на реке, и летом, подобно ушкуйникам, ходили туда-сюда, собирая ясак и экспроприируя продовольствие, а на зиму окапывались где-нибудь. Они регулярно отбивались от на 2-3 порядка превосходящих маньчжуро-даурских сил, которым не помогала даже корейская артиллерия наподобие аркебуз и китайские пороховые ракеты. Однако именно с учётом такого оружия казаки в 1655 году построили Кумарский острог - первое русское поселение Амура на правом берегу близ Кумарской скалы. Его окружал двойной тын, засыпанный изнутри землёй, перед рвом был сделан "чеснок" против вражеской конницы, а внутри имелась целая система пожаротушения из колодца, водовзводной башни и желобов к постройкам. Фактически, просто изучая оружие противника, казаки построили первую если не в России, то в Сибири крепость Нового времени, вскоре триумфально выдержавшую бой с маньчжурским отрядом Минъандали. В Москве даже учредили Даурское воеводство, отправив возглавить его Афанасия Пашкова с большим отрядом, но в итоге его резиденцией остался Нерчинск. В Нингуте, анти-Нерчинске на берегах Муданьцзяна военачальник Шахрода тоже времени зря не терял: в 1658 году в устье Сунгари казаки были внезапно атакованы крупными артиллерийскими кораблями и разбиты ими без особого труда - больше половины отряда погибла, остальные бежали на скоростных стругах. Маньчжурам достался груз ясака, сто пленённых казаками дючерок, трофейное оружие и опыт строительства дерево-земляных крепостей.
5а.

Близ Кумарского острога теперь стоит китайский город Хума, а вот напротив в 1858 году была заложена станица Кумарская c церковью Рождества Иоанна Предтечи, в 1935-55 годах успевшая побыть райцентром, а ныне исчезнувшая с карт. Самый зрелищный на всём Амуре Кумарский утёс же стоит незыблемо, но со стороны России к нему нет дорог.
5б.
Те войны полностью изменили Даурию - старые народы покинули её. Частью - спасаясь от казаков, поведение которых тут можно сравнить разве что с геноцидом индейцев, а частью - по воле Цинского дома, таким образом лишившего врага источников продовольствия. Цин, впрочем, вообще любили тасовать народы своей империи: даурские топонимы, например Тургень, теперь есть даже близ Алма-Аты. В нынешнем Китае живёт 130 тыс. даур и 25 тыс. солонов - основа китайских эвенков, коих тут чуть больше, чем в России (39 тыс. чел.). Те, кто остались в России, смешались с русскими (гураны) и особенно бурятами (хамниганы), утратив язык и обычаи. Дючеры и гогулы же и вовсе рассеялись без остатка.
6.
Амур в районе Джалинды ещё верхний, то есть не успевший принять Зею, Бурею, Сунгари и Уссури. Но и без них это мощная река с просторным руслом (тут до Китая 450м), быстрым течением и высоким левым берегом. На этом берегу в 1651 году Хабаров разорил стойбище Якса, "столицу" местных эвенков. Отсюда родом был и Бомбогор, но название устоялось по имени последнего князька Албазы.
7.
Остатки Яксы и приметили в 1665 году казаки Никифора Черниговского, польского шляхтича, через плен Смоленской войны ставшего сибирским казаком. В Илимском остроге он нашёл себе жену, а когда ту обесчестил воевода Лаврентий Обухов - поднял бунт да вместе с несколькими десятками мятежных казаков бежал от наказания за Байкал. Возвращаться им было некуда, и вот на берегах Амура, который китайцы удержали и сразу забыли, вновь зазвучала русская речь. В 1672 году беглецы официально получили прощение, в острог приехал государев приказчик, а в 1682 году и вовсе было учреждено Албазинское воеводство, претендовавшее на весь бассейн Амура. К тому времени от Шилки до Зеи выросло порядка 40 русских селений. Но в 1683 году за рекой был основан контр-Албазин - Айгунь, а 10 июня 1685 года к Албазину вновь подошла на кораблях регулярная армия полководца Лантаня. Она была оснащена тяжёлой "ломовой" артиллерией, пробивавшей насквозь не то что деревянные стены, а саму крепость от края до края. Отбив под началом Алексея Толбузина несколько атак, 23 июня после тяжёлого штурма Албазин пал: у обороняющихся кончились боеприпасы, а китайцы просто обложили острог хворостом и готовились сжечь вместе с казаками. Толбузин запросил переговоры, по итогам которых уцелевшие защитники не только покинули крепость, но и ушли не в Якутск, а в Нерчинск.

Наведя порядок, маньчжуры отбыли восвояси, и уже 27 августа 514 служилых людей и 155 крестьян вернулись на пепелище острога. Теперь Толбузина сопровождал Афанасий Бейтон, принявший русское подданство немец из Пруссии, по проекту которого казаки за несколько месяцев возвели на месте острога новую крепость с земляными бастионами ("быками") и куртинами, которые уже не прошибить ядром. Первый штурм под началом всё того же Лантаня 7 июня 1686 года захлебнулся, и маньчжуры перешли к долгой осаде. За Амуром они возвели свою крепость, а Албазинский острог окружили несколькими рядами траншей и валов с "раскатами" - насыпными позициями, позволявшими стрелять выше стен. В первых же обстрелах погиб Толбузин, но в целом гарнизон держал вражеский огонь и даже хлебом был обеспечен надолго. Более серьёзной проблемой стала цинга, от которой по большей части и умирали защитники. Спасительными становились регулярные вылазки, не только трепавшие осаждающих, но позволявшие собирать хвою на отвар против цинги. В Пекине же осенью 1686 года объявились русские послы - Цинский Китай впервые пошёл на переговоры с "варварской державой", подкреплённые риском её союза с давним врагом - Джунгарией. Лантань же всяческих тянул с началом перемирия, и снял осаду лишь 7 мая 1687 года: из 826 защитников до этого дня не дожили 670, но 5000-я армия маньчжур потеряла больше людей, чем было в гарнизоне. Китайская крепость в 4 верстах от Албазина продолжала стоять, и засевший в ней отряд не пытался атаковать казаков, но раз за разом сжигал их посевы. И Россия, и Китай претендовали на весь бассейн Амура, а крепость доживала дни предметом торга: в 1689 году Нерчинский договор в Забайкалье провёл границу по Аргуни (как хотела Россия), а в Приамурье - по Становому хребту, как хотел Китай. И казакам Албазина оставалось лишь сжечь героическую крепость да уйти домой.

От острога остался квадрат валов на почти отвесном берегу Амура. На валу у реки вместо частокола - пограничное заграждение:
8.
Здесь регулярно работают археологи, нашедшие большинство экспонатов музея... и братскую могилу, над которой в 2015 году, после торжественного перезахоронения, поставили часовню:
9.
И конечно интересно представить, каким мог бы стать Дальний Восток, удержись здесь тогда Россия. Хабаровский и Усть-Амурский остроги, воевода Соколиного острова, звон казачьей сабли и самурайской катаны на сопках Хоккайдо, каменные церкви в стиле "даурского барокко" над райскими бухтами Японского моря... Но вместо этого Цин'ично расселённое Приамурье впало в забвение - в третий раз китайцы отстояли его и снова махнули рукой. Всё это кажется странным с учётом китайского многолюдия, но Цин смотрели на Китай как на заморскую колонию, которую от их родной Маньчжурии символично отделял Ивовый палисад. Маньчжуры и дауры в 17 веке активно расселялись по Китаю, уходя с веками обжитого севера, а сюда потянулись тунгусы, не желавшие платить ясак белому царю.
10а.
Этнографов и фотографов среди них дождались манегры - единственный, пожалуй, коренной народ Амурской области. На самом деле это были те же конные эвенки, даже не племя, а род Мангир, переселившийся сюда в 17 веке с Шилки. На новом месте они порядком обособились, соединив мурченский быт с орочонским хозяйством: летом рыбачили на больших реках, зимой - кочевали по тайге и охотились, но только вместо оленей разводили лошадей. Предание же гласило, что все олени у них утонули в Амуре во время исхода от русских.
10б.
К середине 19 века на Амуре жило около 2 тыс. манегров, половина из которых в 1858 году вновь ушла от России в Китай. По обе стороны границы их ждала ассимиляция - к началу 1920-х в России числилось около 100 манегров, а перепись 1926 года вновь причислила к эвенкам. Но прежде, чем исчезнуть, манегры успели обзавестись самосознанием отдельного народа, и "мы из манегров" можно услышать от эвенков в самых неожиданных местах.
10.
Оседлое население "межрусского" Приамурья составлял Маньчжурский клин: 64 деревни за Зеей, жители которых сохранили китайское подданство и после присоединения к России, а бежали в 1900 году после жесточайшего в истории России китайского погрома в Благовещенске. Были это этнические маньчжуры - и по сей день весьма крупный народ (более 10 млн. чел.), уже к тому времени забывший родной язык и заговоривший по-китайски.
10в.
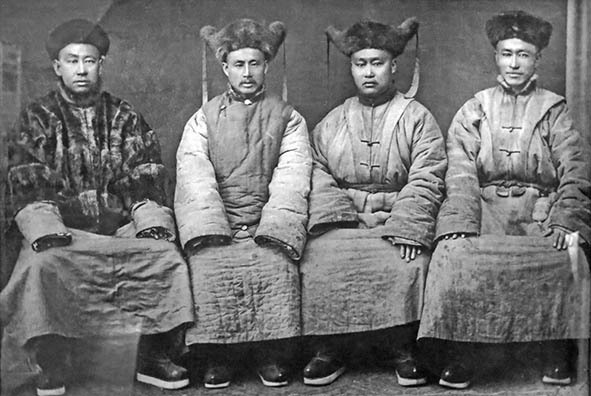
В те странные века время работало на Россию: к 1850-м годам сломленный опиумными войнами Китай на глазах разглагался. В 1849 Геннадий Невельской самовольно основал крепость в устье Амура, а в Иркутск прибыл новый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв - впоследствии Муравьёв-Амурский, "Пётр I Дальнего Востока". В 1854 году он выделил из сибирских казаков Забайкальское казачье войско, первой миссией которого стали Амурские сплавы, сочетавшие элементы посольств, научных экспедиций и колониальных захватов. В 1854-58 годах на Амуре появились десятки станиц, из которых выросли, например, Хабаровск и Благовещенск, а поселенцы их образовали новое Амурское казачье войско. Три сплава из 4 возглавил лично Муравьёв, в 1858 году подписавший с китайскими чиновниками Айгунский договор о границах по Амуру и Уссури.
11а.
Албазин был возрождён уже в первом сплаве в 1854 году, и к началу ХХ века представлял собой неброское, но крепкое сибирское село:
11б.

Теперь здесь глухомань - лесхозы разрушены, а население сократилось с 1200 до 300 жителей.
11.
Даже старых изб остались единицы:
12.
Одна из них стоит над Самсоновским спуском, по которому сюда взошёл цесаревич Николай во время Азиатского вояжа. Но я не нашёл её из-за инцидента с пограничниками.
12а.

Троицкая станичная церковь разрушена давно:
13а.
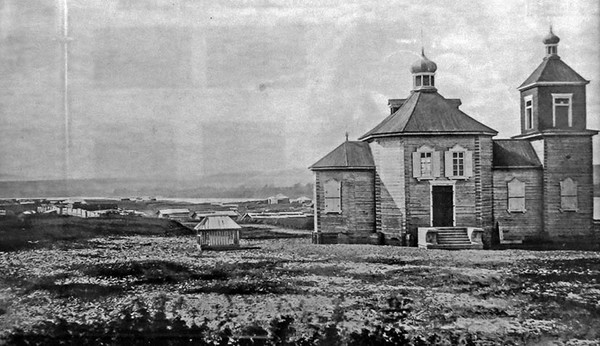
И место её отмечает крест у самой околицы, брёвна для которого взяты из дома-ровесника Цесаревича Алексея (1904):
13.
Новая церковь Албазинской иконы Божьей матери какого-то очень западнорусского вида стоит на краю острога. Её в 1997 году построили на свои сбережения местные пенсионеры из старых казаков Надежда и Михаил Ивановы:
14.
Что же до посвящения, то Албазинская икона "И слово плоть бысть" ("И слово воплотилось"), разновидность Богоматери Оранты - главная святыня Приамурья. Её привёз сюда Никифор Черниговский, убивший Лаврентия Обухова на Киренге у редкого в Сибири монастыря, который заодно ограбил. Что удивительно, икона пережила не только осады Албазина, но и советскую эпоху, и ныне хранится в Благовещенске. Здесь же актуальнее памятник жертвам репрессий - расказачивание и раскулачивание прокатились по селению не лучше маньчжурской орды.
14а.

Государство же вспомнило о славном прошлом Албазина в 2011 году - тогда на городище пришла ежегодная экспедиция, а музей, к которому мимо церкви выводит тропка, получил новое деревянное здание:
15.
Сам музей действует с 1974 года:
15а.
Внутри он современный, тёплый и уютный, но я не успел там снять ни единого кадра. Во дворе его стоит целый небольшой скансен, с которого я удачно решил начать. Сбоку - сплошь реплики, в том числе слева станок для подковки лошадей:
16.
Труба снаружи отличает кузницу...
17.
...от чёрной бани:
18.
Крайняя в ряду - завозня с сельхозинвентарём, двуколкой и примитивными станками, в том числе для шкур:
19.
Ближе к выходу на главную сельскую улицу - аутентичная усадьба казака (1901):
20.
На стене е амбара - старые наличники:
21.
А внутри - экспозиция всего на свете, что удалось насобирать Дорохиной и её последователям в албазинских домах:
22.
Самовары, весовые гири, пилы и рубанки, охотничьи ловушки, сундуки, чучела животных да пушка для исторических фестивалей - весь мир сельской сибирской глуши:
23.
Дом казака и последствия ливня:
24.
Внутри - добротные, очень живые интерьеры:
25.
Ведь окна избы глядят на родное село, а за порядком присматривают те, кто в таких интерьерах вырос:
26.
Прошлый и два следующих кадра - одна комната:
27.
27а.
Это - уже другая, и по ней видно, как зажиточен был тогдашний амурский казак:
28.
Здесь привлекает взгляд картина с плотом Амурского сплава да расшитое иероглифами знамя, подаренное китайцами в 1958 году. Официально - за помощь в борьбе с наводнением.
29.
А вот и сами казаки на большой фотографии. Когда я вышел из избы, современные стражи русских рубежей грубо прервали моё знакомство с Албазином...
30.
Напоследок - заглянем по архивным фотографиям в Китай, чей берег в этой глуши почти не отличить от нашего. Разве что там торчит из шкуры леса то одинокий ветряк, то капитальная вышка непривычной конструкции.
31.
До постройки Амурской железной дороги, то есть почти всю дореволюционную эпоху, Амур был главной дорогой этих мест, где причалы станиц были предтечами станций Транссиба. Теперь же Амур в области имени себя - труднодоступная пограничная окраина, да и от пассажирского судоходства здесь не осталось следа.
31а.
Так что мысленно перенесёмся на 120 километров выше по течению, за Черпельские кривуны, где река чертит на карте Ω. Там стоит ещё более глухая станица Игнашино (170 жит.) с дорогой до станции Ерофей Павлович. В ней есть минеральный источник, на котором в 1891-1940 годах действовал курорт, а за Амуром лежит не сильно отличающаяся внешне от русских селений деревня Бэйцзи - Северный полюс Китая. Туристов из мегаполисов туманных равнин туда завлекают вечной мерзлотой, видами на Россию и клюквенной Арктической деревней. В 19 веке же берег Китая был здесь почти безлюдным, и вот в 1883 году купец Константин Серёдкин тайком начал поиски золота за рекой. Вскоре партия Сергея Лебёдкина нашла россыпи на речки Джалте, на русский манер ставшей Желтугой. И были эти россыпи так богаты, что сам Лебёдкин загулял, а рабочие послали купчину куда подальше, поняв, что стали богаче него. Так началась история Желтугинской республики, которую называли так же Амурская Калифорния:
31б.
Весть о золотой лихорадке стремительно разлетелась буквально по всему свету, и с Поднебесной да Необъятной сюда потянулся народ. За полтора года население Желтуги разрослось до 15 тыс. человек, среди которых 9 тыс. были из России, 6 тыс. - из Китая, а ещё пара сотен - авантюристы со всех континентов. В их число не входили орочоны, так же быстро освоившиеся на приисках. Над приисками витал протестантский дух - даже среди россиян немалую часть составляли староверы, баптисты и особенно молокане, тогда активно обживавшие Амур. Роднило же "вольных старателей" одно - всё это были опасные люди:
32а.
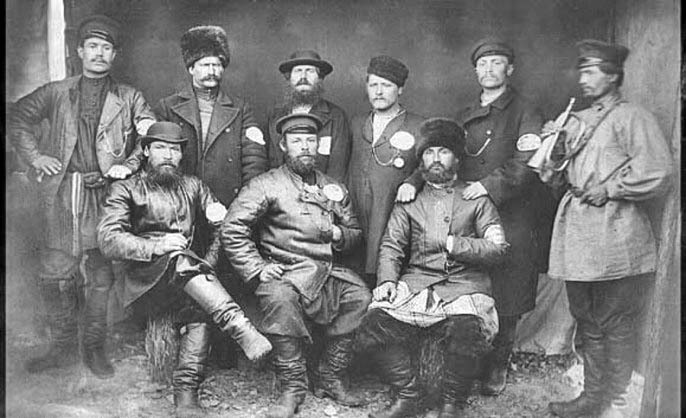
А их отношения очень быстро порешал рыночек. Валютой тут стало золото, мерой - горсть песка, на весах соответствовавшая 4 игральным картам. Но поднимали деньги люди тут буквально из под ног, а потому не особо считались с ценами - так, хлеб на Желтуге стоил в 4 раза дороже, чем в Благовещенске. Со зрелищами было труднее - во избежание "поножовщины и разврата" Амурская Калифорния была запретной для женщин, а потому здесь быстро начались сюжеты, знакомые по фильму "Горбатая гора". Но самым дорогим товаром стал старательский инвентарь - простейшая лопата стоила 10 рублей, что на современные деньги выходило бы несколько десятков тысяч. Человеческая жизнь, само собой, была тут гораздо дешевле. Первоначально формой организации желтугинцев стали артели по 10-15 человек, имевшие коллективную собственность на 3-4 шурфа или полсотни метров берега золотоносной речки. Но анархизм - он тем и плох, что в конечном счёте перерождается в диктатуру самых сильных и подлых. Здесь таковыми стали уркаганы, банды которых превратились в "артели второго порядка", промышлявшие рэкетом и грабежом. В декабре 1884 года они убили повара, которого знала и любила вся Желтуга, да ещё и демонстративно порубили тело на куски и разбросали вокруг в знак устрашения. Но тут беспредельщики явно перегнули палку - после недельного заседания Союз артелей постановил, что с анархией пора заканчивать и надо устроить на Желтуге государство.
32б.

Первым делом оно обрело символы - официальное название Амурское Калифорния и жёлто-чёрный флаг. Он символизировал, конечно, золото и землю, но удивительным образом таким же стал флаг анархо-капиталистов, оформившихся в Америке 1960-х годов. На Америку вольные старатели и равнялись - не имевшая чётких границ, но концентрирующаяся вокруг 5 зимовий, Желтугинская республика была поделена на 5 штатов, один из которых по факту был Китайским автономным округом. От каждого штата избирались по 2 старосты, а во главе республики был старшина, все сроком на 4 месяца. В первый желтугинский парламент вошли 2 китайца, 5 молокан и староверов, поляк, остзейский немец и студент-недоучка из Петербурга. Старшиной же стал австро-венгерский подданный, онемеченный словак Карл - в разных версиях Фоссе из Триеста, Фасс из Богемии или Иванко из Закарпатья. Но президенту тут и полагалось быть "боевым малым, чтоб была сила противостоять гнидам" - скорее всего все эти имена остались от его разных афёр. Позже Фоссе на президентском посту сменил грузинский молоканин Еремея Сахаров. Для Желтугинской республики был установлен свод законов, противоречия между которыми трактовались по Библии. Так как строительством тюрем тут никто не хотел заморачиваться - все наказания были телесными: от разного количества ударов розгами с последующим изгнанием до смертной казни: первые две недели казни и порки на Желтуги шли непрерывно, но затем вольные старатели стали понимать, что закон - это не только дышло. Суд первой инстанции вершили старосты, второй - народный сход, на Орликовом поле с сигнальной пушкой, созывавшей старост одним, а вече двумя выстрелами.
32в.

Жалование руководству республики положили огромное, как у царских генералов - старшина получал 400 рублей, старосты - по 200. Эти деньги шли из налогов: старатели таковыми не облагались, а вот торговцы платили 10%, трактирщики и хозяева увеселительных заведеий - 20-25%, владельцы казино - 80%. Да, тут было всё перечисленное, а также отели "Марсель", "Калифорния" и "Беседа", бани народная и элитная, бордели с китаянками (в первый месяц президентства Фосса республика открылась для женщин), рестораны с оркестрами, цирк с жонглёрами и фокусниками и даже небольшой зоопарк. Духовные потребности обеспечивал молельный дом, который разные конфессии использовали по очереди, но что характерно - тут не возникло православной церкви и попА. На налоги была построена больница (на фото) с бесплатным содержанием и лечением, где имелось 15 мягких коек, амбулатория и аптека. А вот до школы в этом месте с недетскими нравами дело уже не дошло.
32г.
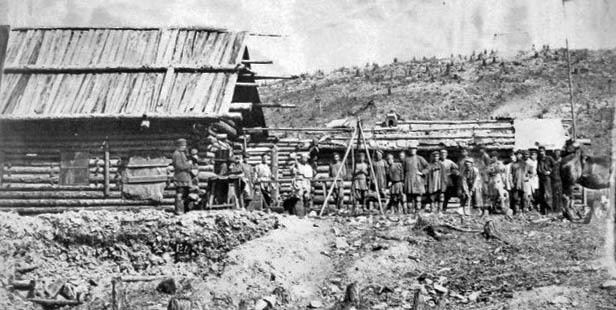
И при всём том Желтуга являла собой мрачное зрелище - порубленная на километры вокруг тайга, перекопанная артелями земля и примитивные бревенчатые халупы, одинаково убогие снаружи, что бы ни находилось внутри. Воротами Желтуги оставалось Игнашино, через которое золото выкачивалось во внешний мир - из 500 добытых здесь пудов большую часть получили китайские скупщики, меньшую - российские из Забайкалья. Ну а в январе 1886 года пришёл лесник и всех разогнал: китайские власти долго упрашивали Россию навести порядок, но Россия тянула время - из Амурской Калифорнии и золото попадало в страну, и проект Желтороссия воплощался. Китайцы же не могли навести порядок просто потому, что со стороны Поднебесной на Желтугу не было дорог, и несколько месяцев у военных ушло только на прокладку просеки. Плохая регулярная армия, однако, всё равно сильнее, чем хорошие ковбои - Желтугинскую республику смёл первый же удар, по итогам которого китайские цзиньфэи ("преступные старатели") были казнены, а прочие - изгнаны за Амур, и следы того же Фосса вскоре затерялись в Америке. Всё, что осталось от 3 лет златокипения Амурской Мангазеи - несколько фотографий:
32д.

...Албазин основали не просто казаки, а повстанцы, бежавшие на Амур от государевых людей подальше. А потому совсем не мудрено, что когда Толбузин в 1685 году оставлял разрушенную крепость, несколько десятков казаков откликнулись на предложение Лантаня уехать в Пекин служить богдохану. К тому времени там уже находилось около сотни пленников из приамурских селений, но именно из лоча (казаков) выделялоись пять фамилий, ставших личной гвардией императора - Яковлевы (Яо), Дубинины (Ду), Романовы (Ло), Хабаровы и Холостовы (Хэ двух разных тональностей). Лоча для китайцев были такими сверхвоинами наподобие голливудского Хищника, а император был заинтересован показать русским казаками, что воюя с китайцами, выгоднее сдаваться. Казаков зачислили в Русскую сотню "Жёлтого с каймой знамени", дали им жён, в основном из вдов казнённых преступников, а во Второй Албазинской кампании ещё и отловили батюшку, который оказался не промах и выбил под православную церковь старую кумирню бога войны. Дальше века сменялись веками, северный фенотип и язык предков понемногу размывались, но сохранялось странное самосознание - вот эти люди считали себя русскими.
33.
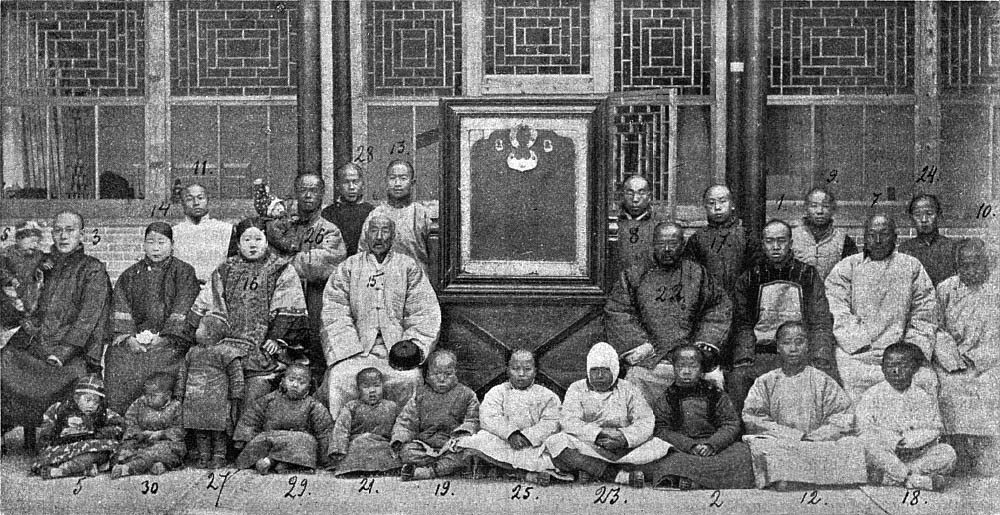
К 19 веку албазинцы, как и весь дом Цин, выродились в бездельников и пьяниц, на своё огромное жалование бесцельно шлявшихся по трактирам, куривших опиум и затевавших драки. Лишь в конце 19 века ими занялась существовавшая с 1717 года Русская духовная миссия в Пекине, взявшаяся проповедовать среди албазинцев православие (которого они придерживались, но имели о нём весьма смутное представление) и учить их русскому языку. Революции же по обе стороны Амура случились с разницей в несколько лет, и новую жизнь албазинцам (коих к тому времени было около 1000 человек) дала русская белоэмиграция - с языком и связями албазинцы оказались отличными посредниками между пришлыми и местными. Из них же были многие деятели китайского православия, так стоически пережившего ХХ век - вот тут слева Стефан У, настоятель Никольского храма в Харбине, убитый в 1970 году после истязаний хунвейбинами, а справа епископ Симеон Шанхайский, в миру Фёдор Ду, умерший сам в 1965-м. При Мао Цзэдуне албазинцы сполна натерпелись, и как казалось до недавних пор - были просто уничтожены. Лишь к концу 21 века в Пекине стали заявлять о себе 2-3 сотни уцелевих албазинцев Ду, Яо и Ло, которым теперь отведена роль культурного феномена в Пекине.
34.

Ну а знакомство с Даурией начнём на её стержне - Амурской железной дороге.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
|
Метки: замки-крепости Великая Степь дорожное казаки Дальний Восток Китай этнография деревянное |
Долина вулканов. Часть 3: Хи-Гол |
В 2001 году, в десятом классе, я впервые вышел в интернет. Но вместо того чтобы, как все нормальные старшеклассники, смотреть там порно, я взялся изучать свою страну, конспектируя по разрозненным описаниям регион за регионом. Сам рунет был тогда в сотни, в тысячи раз меньше, и даже по многим крупным городам в нём могло не быть ни одной вразумительной фотографии. Однако костяк своих знаний о том, что где есть, я получил уже тогда. И вот наравне разве что с каменными болванами Маньпупунёра меня впечатлил такой пейзаж: зелёные сопки, тайга в распадках, долина с плоским каменистым дном, а посреди неё - идеальный усечённый конус с глубоким кратером, в котором сложно не признать вулкан. Подпись гласила, что это плато Азас в Туве, и лишь гораздо позже я узнал, что это расположенная всего в 40 километрах от него, но уже в Окинском районе Бурятии падь Хи-Гол в верховьях речки Жомболок, более известная как Долина вулканов.
Добраться сюда нелегко: сотни километров глухими трактами от Иркутска до Орлика, десятки километров бортовой машиной по бездорожью до аршанов Хойто-Гол и ещё дюжина пешком через перевал Черби, показанный в прошлой части. На порядки отличаясь в километрах, по времени все три участка примерно равны - по 7-10 часов. И вот преодолев это всё, а заодно локдаун в Бурятии, трудности поиска машины и болезнь одной из участниц похода, я наконец расскажу про Долину вулканов.
В нескольких сотнях метров от нашей стояки под Одинокой лиственницей (см. прошлую часть) в зелёные луга высокогорной (в среднем 1950м) долины вклинивается лавовый поток. Вид его таков, будто застыл он, чудом не опалив траву, дай бог ещё вчера, и уж по крайней мере легко представить, как он медленно и зловеще полз, роняя с мерцающих боков застывшие камни. За лавовым потоком - потухший вулкан Перетолчина в перекрёстке падей:
2.
Высокогорный Хи-Гол представляет собой классическую трогговую долину, когда-то вырезанную в горах Восточного Саяна ледником. Только - как будто непропорционально широкую: её изначальное дно скрыто под слоем лавы до 150 метров толщиной. От вулканов лава спускается на 75 километров по долине речки Жомболок к берегу Саянской Оки, где ручьи образовали в ней каньоны и водопады. Объём лавовых толщ здесь оценивается от 3 до 8 кубических километров, и в них не менее 6 слоёв, оставшися от разных извержений. Добавьте к этому бесчисленные аршаны (горячие источники) вроде Хойто-Гола, Жойгана, Шумака или Хакусов на другом конце Байкала, и регулярные небольшие землетрясения, одно из которых я проспал в Иркутске в 2020 году - в земной коре тут явно что-то происходит. Дело в том, что от Удокана на БАМе до озера Хубсугул в Монголии тянется Байкальский рифт. Ведь сам Байкал - ни что иное, как пресноводный малёк океана, зарождающегося между едущих в разные стороны Евразийской и Амурской тектонических плит. Земля тут неспокойна, пожалуй это самое геологически активное место вдали от срединно-океанических хребтов (Исландия) или зон субдукции, где океаническая кора подныривает под материковую (Тихоокеанское огненное кольцо). Аршаны да землетрясения - всё это отголоски самого настоящего вулканизма.
3.
В соседней Тункинской долине стоят десятки небольших вулканов без кратеров, потухших порядка 13 тыс. лет назад.
Примерно тогда же новые вулканы пробудились выше по горам, в верховьях Жомболока, и объём извергнутой ими с тех времён лавы беспрецедентен для вулканов в глубине материка. Когда они потухли, да и потухли ли вообще - учёные пока что спорят, но последнее извержение на Жомболоке произошло уже в историческую эпоху, 800-1200 лет назад. Оно не было похоже на извержения Кракатау или Везувия - без чудовищных взрывов, уходящих на границу космоса пепловых колонн и сжигающих всё на своём пути "палящих туч". Ближайшим аналогом происходившего на Жомболоке можно назвать извережние исландского вулкана Лаки в 1783 году, когда по острову разлилось 15 кубокилометров лавы. Да и пейзаж в общем похож - пространство лавовых полей и торчащие над ним шлаковые конусы, которые и называют вулканами в обиходе.
4.
Конечно, непохожесть Жомболокской долины на любую из окрестных долин не могла не породить поверия и легенды. Буряты называли вулканические конусы Албанай-Болдок, что можно перевести (не вполне дословно) как Чёртова сопка. Среди окинцев особенно силён культ Гэсэра - батыра-героя тибетских, монгольских и бурятских ульгеров (сказаний), обособившихся так давно, что фактически один и тот же сюжет разворачивается в разных мирах: тибетский Гэсэр - эпос религии Бон, бурятский - "энциклопедия шаманства". На Хи-Голе отважный Гэсэр бился с одним из самых страшных своих врагов - повелителем огня Гай Дулмэ-ханом. Сказители буквально смакуют то, насколько сильнее Гэсэра был враг и насколько больше было его войско, но добро, конечно, побеждает зло, и лава - расплавившийся дворец павшего огненного хана. Монголы, прослышав об этой месте, и вовсе объявили его Эргенеконом - по преданию, когда-то первые монголы укрывались от врагов в благодатной долине (с которой у меня ассоциировался скорее Таван-Богд на Алтае), но за 400 лет до рождения Чингисхана их выжил в степь страшный неугасимый пожар.
5.
И, конечно, о Чёртовых сопках не могли не прослышать русские казаки, в 1728 года начальствовавшие над отрядом служилых бурят в Окинском карауле. Первым исследователем этой долины стал геодезист Егор Пестерев в 1770-х годах, покинувший Сибирь как раз в том 1783 году, когда Лаки опустошил Исландию. В 1858 году сюда заглядывал англичанин Томас Аткинсон - первый из западноевропейцев, изучавших в Новое время Монголию и Семиречье. Кому-то в России, кажется, визит милорда уязвил национальную гордость, и вскоре в "Северной пчеле" появилась статья о скрытой на Восточном Саяне "русской Ниагаре" - гигантском полноводном водопаде высотой 100 сажень. Автор её был анонимный корреспондент, а само утверждение оказалось самым что ни на есть кликбейтом - якобы, в текст закралась опечатка с лишним нулём. Но об опечатке заговорили лишь после того, как в 1862 году на Восточный Саян съездил князь-анархист, а по совместительству великий географ Пётр Кропоткин. Водопадами, скорее всего как раз теми, что я показывал в посте про верховья Оки, он остался разочарован, но зато подробно изучил Долину вулканов. Следующим крупным исследователем стал иркутянин Сергей Перетолчин, погибший здесь при невыясненных обстоятельствах в начале ХХ века. Ну а современную эпоху систематических геологических исследований, в которых участвовал, например, Михаил
 mikka, открыл здесь Владимир Обручев в 1940 году. Он же и дал имена Кропоткина и Перетолчина двум главным вулканам долины.
mikka, открыл здесь Владимир Обручев в 1940 году. Он же и дал имена Кропоткина и Перетолчина двум главным вулканам долины.6.
Лавовый поток с кадров выше разделяет ведущие к ним тропы. Большинство туристов бегают по двумя вулканам одним днём, а я бы сказал, что на осмотр Хи-Гола оптимально закладывать два дня, каждый из которых можно посвятить одному из вулканов с окрестностями. Вулкан Перетолчина возвышается на 2044м над уровнем моря и на 80 метров над долиной, а к её борту прикреплён узким перешейком в половину своей высоты. У южного (на этом кадре слева) подножья вулкана - и лучшая на всём Хи-Голе стоянка для большой группы (мелким группам удобнее всё же под Одинокой лиственницей), плоский камень на которой отмечен в 2017 году мемориальной доской Томасу Аткинсону.
7.
Где-то там же в кустах лежит и символическая могильная плита с весьма впечатляющей историей: она была заказана в 1915 году вдовой Варварой Перетолчиной, утрачена где-то по дороге, вновь найдена случайными туристами в начале 1980-х годов на кухне одной из зимовок и доставлена ими сюда. Сам Сергей Перетолчин родился в 1862 году на приисках в Бодайбо, в молодости преподавал в техническом училище в Иркутске, а с 1896 года занялся собственными исследованиями Восточных Саян, например первым из европейцев взойдя на вершину Мунку-Сардыка. Совершив в эти горы 14 экспедиций, в Долине вулканов Перетолчин работал в 1912-14 годах. Она не была его главным объектом исследований, но здесь он умер 3 июля 1914 года. Причём случилось это как раз в тот момент, когда он разделился с сопровождающими - надзирателем метеостанции Окинского караула Сергеем Толстым и проводником Ефимом Безотечества. Их и подозревали в убийстве учёного, а поиски останков растянулись на год - лишь следующим летом на склоне вулкана был найден разложившийся труп у поставленной на треножник фотокамеры. Все вещи и ценности оставались при нём, на одежде не было следов ножа или зубов, так что скорее всего исследователь умер сам, вероятно - от внезапного инфаркта. Название вулкана, конечно же, стало ему лучшим памятником. Однако прежде, чем подняться на сам вулкан, сходим на соседнюю с ним безымянную сопку:
8.
На неё нет натоптанной тропы, но плоскую каменистую вершину украшают многочисленные, да при том крайне замысловатые, турики. Издали сопка абсолютно невзрачна, однако с неё роскошный вид на всю Долину вулканов.
9.
Сначала посмотрим налево, на знакомые с прошлой части места. Здесь взгляд привлекает безымянная, но чрезвычайно эффектная гора (2587м) с совершенно плоской усечённой вершиной, которую срубить мог конечно же только Гэсэр. Левее горы уходит вниз каньон речки Барун-Хадарус, висячая долина которой видна правее. В неё спускается пологий склон от перевала Черби - по нему мы приходили и уходили. Там же, где лавовый поток пересекает луг - низвергается водопад и стоит Одинокая лиственница, поляна у которой стала нашим домом на 3 дня в долине.
10.
Здесь же - небольшое озерцо, которое мы прозвали Облом-Нур за невозможность искупаться - дно покрывает толстый вязкий ил, проваливший в которой, можно порезаться о камни. Не менее впечатляющий ландшафт Жомболока, чем сами вулканы - это озёра в лавах с причудливыми изгибами берегов, гротами и шхерами. Самый зрелищный из них - Хара-Нур, в переводе Чёрное озеро. вытянувшийся на 10 километров по другому "рогу" Y-образной долины, но до него идти 20 километров в одну сторону, частью - по лавовым полям, а главное - почти без воды, которая просто уходит в трещины лавы. В единую речку Жомболок вода из этих трещин собирается лишь следующим озером Бурсагай-Нур, а самым доступным из лавовых озёр является лежащий ещё ниже Олон-Нур. До него всего 8 километров без высоких перевалов из долины соседней Сенцы, по которой тянется дорога к Хойто-Голу. Но в итоге наше знакомство с лавовыми озёрами ограничилось этой лужей:
11.
Теперь посмотрим вдоль пади направо - на те места, где сами не ходили. Здесь поодаль хорошо виден поворот долины к Жомболоку:
12.
Озеро вдали я было принял за краешек Хара-Нура. На самом деле форма долины куда сложнее, чем просто Y, и к Хара-Нуру ведёт другая ветвь, начинающаяся за поворотом. Это же небольшое озеро Харганато - однако тоже с лавовым берегами. До него сходить в третий день было в принципе реально, но из-за ЧП, описанного в конце прошлой части, мы потеряли пол-дня, критические для такого похода.
13.
Вулканов же в Долине не два, а гораздо больше. Например, лежащий посреди лавовых полей странным "геоглифом" Останец - это тоже вулкан, представлявший собой просто трещину в земле, из которой изливалась лава:
14.
Малые вулканы расположены вокруг больших, как спутники вокруг планеты. Два скопления - наследие разных извержений, и поросший лесом вулкан Перетолчина, кратер которого особенно эффектен с этой сопки, здесь исходный - он вырос около 13 тыс. лет назад:
15.
А голый вулкан Кропоткина - уже на тысячелетия позже. Его поток упёрся в толщи старой лавы, и прежде, чем разлиться по ним, успел заполнить всю падь, и в том числе её оконечность выше кратера. У края лавового потока каким-то тайным древним символом лежат озёра Серповидное и Хикушка:
16.
Подъём на сопку и спуск с неё - суммарно дело часа на 3. Но сейчас мысленно спрыгнем с вершины прямо на кольцевой гребень вулкана Перетолчина. На самом деле тропа сюда ведёт от поляны Аткинсона, и более всего она похожа на лестницу с промежуточной площадкой - сначала по перемычке, и лишь от неё на вулкан. Его склоны кажутся самым обычным для этих мест редколесьем с лиственницами над зарослями карликовой ивы:
17.
Но есть одно "но" - лес растёт на кольце, крутом и узком, как крепостной вал. Внутри кольца же - кратер:
18.
Его диаметр - 140 метров, глубина - около 30 метров, а уклон, в среднем 45 градусов, чуть-чуть отличается с разных сторон. Сами склоны вроде и сыпучие, а вроде и достаточно на них мест, закреплённых растительностью, чтобы можно было безопасно спуститься на дно.
19.
На дне же стоит лечь у края лужи и посмотреть наверх - увидишь круг неба и по самому краю кромку склона с точащими к центру деревцами. Мой фотоаппарат, увы, не охватывает такого вида, но это было одно из сильнейших впечатлений Долины:
20.
Спуститься с вулкана Перетолчина труднее, чем взойти на него - начало тропы совершенно теряется в покрывающих склон кустах. Тропа выводит на тот же самый перешеек, с которого можно сойти в другую сторону - прямиком на вулкан Аткинсона:
21.
13 тыс. лет назад он представлял собой примерно такой же усечённый конус, но расположен оказался чуть менее удачно, а потому его размыла талая вода. Теперь вулкан Аткинсона представляет собой лишь скопление бугорков, между которыми - луга, поросшие синими цветами аквилегии:
22.
Лава здесь образует множество гротов и даже тоннелей. Более молодая, она натекла сюда с других вулканов в последующих извержения. Но тут надо понимать, что лава - не жидкость, как в голливудских фильмах, а вязкая масса - само латинской слово "магма" означает "тесто" или "паста". Упираясь в обломки вулкана Аткинсона, лавовый поток нагромождался, и когда его верхние слои затвердевали, нижние ещё продолжали течь:
23.
Заглянув в гроты, можно понять, что это действительно расплавленный и снова затвердевший камень:
24.
Так что для бурятского охотника и кочевника, жившего в мире, полном духов, было очевидно - так накуролесить мог разве что Гэсэр...
25.
В стороне от обеих систем торчит маленький Пограничный вулкан, без картера похожий на вулканы Тунки, только голый. Расположение указывает на то, что скорее всего он самый молодой вулкан в этой долине, причина разрушения Эргенекона и след схватки Гэсэра с Царём Огня.
26.
По лавовым полям очень трудно ходить - в отличие от курумов, где хватает ровных поверхностей, здесь нет ни сантиметра прямого места, а зачастую грани застывшей лавы опасно остры. Местные каюры берут так дорого (3000 рублей за конедень) в том числе потому, что у них специально обученные лошади - обычный конь с равнины тут переломает ноги за несколько шагов. Так что и на двух ногах с широкими подошвами обогнуть вулкан Перетолчина от вулкана Аткинсона до поляны Аткинсона оказалось не так-то легко:
27.
Основная тропа к вулкану Кропоткина поворачивает ещё до лавового потока с кадра №2 и жмётся к борту долины:
28.
Хотя и упирается порой то в курумник, то в гряду, перелезая которые, её очень легко потерять:
29.
Так и произошло с нами, и последние сотни метров к вулкану Кропоткина мы шли, только и приговаривая "когда же всё это кончится?!" на каждом шаге. Подножье у начала самого удобного подъёма отмечает памятник анархо-географу Петру Кропоткину. Вернее, мемориальная доска на лавовом постаменте, привезённая сюда одной из экспедиций РГО наподобие той, что ехала параллельно нам в позапрошлой части.
30.
Другое подножье украшает самое эффектное из лавовых изваяний:
31.
Просто на поверхности потока возникали твёрдые плиты, причудливо выпучивавшиеся вверх:
32.
И конечно, живущему в мире шаманов и духов сложно в этой фигуре не разглядеть огненного демона Гай-Дулмэ:
33.
И памятник, и чёрт стоят на вулкане Трещина, при взгляде сверху вполне оправдывающем своё название:
34.
Вулкан Кропоткина моложе, чем вулкан Перетолчина, но старше, чем Пограничный вулкан - мощное извержение создало его в середине голоцена, то есть он немногим старше Египетских пирамид. Не знаю, почему голые его склоны, не успели они стать ещё пригодными для роста деревьев или же вырасти чему-то не дают горные ветра с верховий пади. По сравнению со своим старшим братом вулкан Кропоткина чуть выше - 2074м от уровня моря и 90м от основания:
35.
Кратер же его существенно крупнее - 210 метров в диаметре и 60 метров в глубину. Внешне он суров и мрачен, куда больше похож на карьер какого-нибудь токсичного минерала, и мы даже поленились туда лезть.
36.
Позади - вся группа Перетолчина и Пограничный, а заодно, в правой части кадра, и сопка, с которой сняты виды из начала поста:
37.
Ближе - склоны, опалённые так, будто извержение закончилось недавно. Конечно же, это не ожоги, а отложения, слишком едкие и сыпучие, чтобы на них что-то могло расти. Внизу же хорошо видны волны, а на самом деле складки упёршихся в преграды лавовых потоков:
38.
Но самый эффектный вид - по долине вперёд! Слева высится Старый вулкан, похожий на сдувшийся мяч - это тоже шлаковый конус, но во время извержения разрушенный взрывом:
39.
Впереди же, под безымянной вершиной (2681м) - вот такой сюрреалистический вид. Вода озёр манила, как ангельские песни - так что мы даже не стали искать тропу, а спустились прямо по сыпучему склону вулкана, начерпав полные ботинки красноватой пыли. И я бы даже не сказал, что это опасно - склон равномерный, и я не могу представить, где на нём можно было бы сорваться или оказаться засыпанным с головой.
40.
Вот мы и у подножья - дальше оставалось только пересечь лавовое поле и снова выйти на тропу, жмущуюся к Старому вулкану:
41.
Тропа вьётся, порой прерываясь, по самому краешку лавы:
42.
Иногда - обходит озёра, с которых к середине июля ещё не сошёл весь лёд. 2 километра над уровнем моря - это суровая высота даже в Турции или Киргизии, что уж говорить про Сибирь?
43.
С вулкана, между тем, мы слезли очень вовремя - в долине крепчал ветер и порой налетал дождь. Затем над горами раздался гром, и мы поняли, что быть нам скоро мокрыми до нитки. Ливень вырвался из-за скал и пиков, как монгольская орда - но как и в прошлые дни, стремительно унёсся вниз по долине, намочив нас лишь чуть-чуть и подарив впечатляющую смену красок:
44.
45.
46.
Мы же не стояли на месте - кадр выше снят уже из-за Серповидного озера:
47.
Здесь речка Хи-Гол уходит под лаву, но сначала разливается запрудой, огибающей лавовый край:
48.
У берега Серповидного озера заканчивается тропа. Ну или сворачивает столь не очевидно, что мы не нашли её по пути ни туда, ни обратно. Дальше - либо прыгать по курумникам, либо продираться прямо сквозь кусты.
49.
Но так хотелось из лавового ада выйти в озёрно-травянистый рай!
50.
Первые русские исследователи на свой манер называли речку Хи-Гол Хикушкой, и это название закрепилось в итоге за озером в её истоке. Сюда стекается вода из множества снежников. Часть из них в середине лета тихо таяли на теневом берегу:
51.
Другие - изливались водопадами:
52.
Порой похожими на молнии в каменном небе - вода здесь уходит под курумник, да и по пути к озеру мы не раз слышали журчание под валунами:
53.
Вода Хикушки сказочно прозрачна и очень холодна:
54.
"Руки в траве, тело в воде..." - написал какой-то турист, спустившийся с этих гор, на стене турбазы в Хойто-Голе...
55.
Несмотря на отсутствие тропы, на ягельном бугре (тут, выше 2км, снова появляется ягель) у Хикушки мы заметили остатки хорошо обжитой стоянки. С неё тоже было бы, куда походить: с гор над озером открываются роскошные виды, а за отрогом скрыты Каскадные озёра - уже не вулканические, а просто горные, то есть по определению прекрасные. Но нам оставалось только идти обратно... Трудности пути в Долину вулканов воздались сполна - здесь могли идти с утра до вечера холодные дожди (как было с Олей и её тогдашней группой в 2011 году), мог дуть пронизывающий ветер. Но для нас Долина вулканов оказалась маленьким кусочком рая, и дорогого стоит ощущение, что мы одни, а весь остальной мир где-то за горами.
56.
...Из Орлика, откуда снова не было мест на маршрутку, мы попытались уехать автостопом. Там, где на 150 километров вперёд кончается асфальт, вдруг остановился автобус - его хозяин ехал по делам в Иркутск, но набирал пассажиров. После некоторого торга я скинул цену с 2500 рублей за каждого до 3000 рублей за всех. И лишь я один из нас троих заметил у водителя-бурята лишние пальцы - на каждой руке за мизинцем был ещё один отросток из одной фаланги с маленьким острым ногтем. Прежде я часто слышал о том, что у бурят это шаманская метка и что шаманом может стать только обладатель "лишней кости". Неделю спустя, однако, я ездил на Ольхон, где проходил тайлган - молебен шаманов со всех бурятских улусов. Там шестипалых людей не было вовсе, но было много другого, чего я прежде не знал. Осмотрев окраины БурМира - Усть-Ордынский и Агинский отменённые округа, священный Ольхон, так и не ставшие отдельным округом Тункинский и Окинский районы, я пока толком не был в материковой Бурятии, за вычетом совсем уж блиц-визита в 2012 году и поездки по русским посёлкам вдоль Транссиба и БАМа. На Селенге и Баргузине, думаю, меня ждёт ещё немало красот, чудес и сюрпризов.
Но в следующих частях начну рассказ про тот край, что лежит ещё дальше Бурятии - Даурию.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт.
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Сибирь природа дорожное |
Долина вулканов. Часть 2: перевал Черби |
От горячих источников и забавных народных поделок дикого курорта Хойто-Гол у границы Бурятии и Тувы, куда в прошлой части мы 8 часов тряслись на "Зиле", уже рукой подать до Долины вулканов. Пройти 16 километров за перевал Черби (другое название - Аршан) можно только пешком, в крайнем случае на лошади. Однако красоты Восточного Саяна, где в середине июля у самых облаков искрятся жарки, а на голубых озёрах плавают айсберги, впечатляют не меньше, чем сама Долина.
Большинство туристов ходят в Долину вулканов за 3 дня - день туда, день там, день обратно, а затем, например, возвращение в Орлик и сплав по бурной Оке Саянской аж до самой Зимы - так называется городок у её пересечения Транссибом... Есть и другие, более сложные маршруты, одним из которых Оля ходила в 2011 году, но нам на такое не хватало времени и сил. Долина вулканов была для нас самоцелью в этом затерянном мире, а буряты, с которыми мы приехали на Хойто-Гол, собирались возвращаться в Орлик только через неделю. Добавьте сюда накопившуюся за предыдущий месяц путешествия усталость, нервы из-за вызванной локдауном в Бурятии неопределённости и отличную для этих суровых мест погоду - мы поняли, что не хотим спешить, а значит можем заложить по 2 дня на путь в каждую сторону и 3 дня на прогулки по Долине. Впрочем, положа руку на сердце, дойти от Хойто-Гола до Хи-Гола (другое название Долины вулканов) мы бы за день точно не смогли: Олина привычка неимоверно долго собирать свой огромный рюкзак не оставляла шансов выйти рано, а моя слабая дыхалка - держать достаточный темп. Ведь Хойто-Гол заканчивается на высоте 1650 метров, а нам предстояло подняться на высоту 2420м и спуститься к высоте 1950м.
2.
Тропа от Хойто-Гола хорошо натоптана, вот только ещё полчаса, и так выйдя в районе полудня, мы потратили на то, чтобы её найти. Она начинается не от аршанов и не идёт по склону "в лоб", а уходит от бесхозной и бесплатной турбазы налево, где главным ориентиром служит такой же бесхозный дощатый сортир. Дальнейшие расстояния я буду измерять не горизонтальными, а вертикальным метрами, первая сотня которых - крутой подъём через елово-лиственничный лес.
3.
Тайга расступается там, где кончается крутой склон. Оглянувшись, отсюда видишь далеко внизу долину Сенцы - довольно крупной для своего горного жанра речки, вдоль которой ведёт накатанная "Зилами" и "Уралами" дорога к Хойто-Голу и тувинскому Жойгану. Пейзажи Сенцы хороши, но всё же вполне заурядны по меркам Восточной Сибири, и здесь ни за что не догадаться о том, какие чудеса скрываются за перевалом.
4.
Высота окрестных вершин с обеих сторон Сенцы - порядка 2,5 километров, а разница освещения пусть не удивляет: пасмурные кадры сняты на пути туда, ясные - на пути обратно.
5.
Лесной подъём выводит в классическую "висячую долину" - пологий участок посреди круч. Уклон здесь замечаешь лишь на обратном пути, поняв, насколько вниз идётся легче и быстрее. Тропа, то и дело пересекая замшелые курумы, вьётся между карликовых ив:
6.
А луга в середине июля просто искрятся цветами. Слева - знакомые по родине Чигисхана саранки (полевые лилии), справа - аквилегии, ну а посередине жарки, как в горах называют купальницы - главные цветы этого перевала.
7.
Лёгкий путь по пологой долине вдруг упёрся в преграду - это речка Аршанка, с которой связано и второе название перевала. На Хойто-Голе из неё набирают питьевую воду, так как в самих аршанах сероводородная вода предназначена лишь для купания. Ну а тропа, ныряющая в реку и выходящая из перекатов на том берегу, недвусмысленно намекала - здесь брод:
8.
На первый взгляд кажущийся лёгким - и камней в русле много, и глубина будто бы по щиколотку. Это обманчиво - в Аршанке очень сильное течение, так что даже нескольких сантиметров переката хватает, чтобы сбить ногу с подводных камней. Между камнями же глубина оказалась примерно по колено, а вода так невыносимо холода, что пройдя всего несколько шагов, я ещё с полминуты с воплями прыгал по тому берегу - ноги после брода стали красными, как у гуся. Когда же меня начало попускать - я снова полез в эту воду: даже мне брод дался нелегко, а Оле и Ане без дополнительной точки опоры и вовсе был не по силам.
9.
За бродом - та же почти горизонтальная тропа среди ив. Висячая долина понемногу стискивается мощными скалистыми бортами с грандиозными конусами осыпей. Лишь по одному из склонов тут поднимается лес, и именно к этому лесу круто сворачивает тропа - так начинается самый трудный и вместе с тем самый скучный участок пути: штурм перевала.
10.
По сыпучей, каменистой, глубоко вбитой в крутой склон тропе нам предстояло подняться на 550-600 метров. Надо заметить, по ней и спускаться-то не совсем просто - ноги то и дело почти неуправляемо несут вниз, вверх же мы ползли часа 3-4, к концу первого часа окончательно выйдя за линию леса. И самое обидное то, что кроме изнуряющего подъёма тут нет ничего - зигзаг за зигзагом один и тот же вид, куда более зрелищный с вершины перевала.
11. фото Оли
Там, где тропа только начинает выполаживаться, путь указывают гурии - ориентиры в виде груд камней. Первый из них, самый крупный - видимо, бурхан: так в Бурятии называют народные жертвенники духам дорог, перевалов и перекрёстков, где оставляют символический дар вроде камушка или лоскутка. Теперь народ сложил несколько бурханов прямо на Хойто-Голе, а этот словно остыл, став обыкновенным ориентиром. Но в те славные времена, когда туристы Долины вулканов могли неделями не видеть других людей, у немногочисленных ценителей Восточного Саяна была славная традиция опрокинуть тут сто грамм "за марксизм, ленинизм и буддизм".
12.
Сотни метров подъёма дают о себе знать не только в теле, но и в пейзажах вокруг. Здесь даже карликовые ивы не растут - лишь горная тундра, где посреди июля можно начерпать в ботинки снег:
13.
Черби - очень странный перевал, у которого нет ярко выраженной седловины, а высшая точка (2420м) почти не заметна. Скорее это небольшое плато, сырое болото под самыми облаками:
14.
Болота остались от снежников, вода которых не стекла по склонам, а просто впиталась в грунт. Перевал был бы очень тоскливым местом, если бы не жарки, лежащие в холодных горах миллионами искр:
15.
"Гулко свистел воздух, рассекаемый крыльями гигантских драконов. На землю легла густая тень, тревога охватила людей. Они выбежали из своих жилищ и в оцепенении смотрели на приближающуюся к деревне стаю. Солнца не было видно, ветер поднимал клубы пыли, холод и страх превратили смотрящих в камни. Но вдруг вперёд вышла маленькая девочка. Её звали Сайя. Дети не любили с ней играть, считая странной и уродливой. Странной, потому что она разговаривала с облаками, птицами и животными, а уродливой, потому что у неё было два мизинца.
Дурочка, - послышалось у неё за спиной, - спрячься, замри, зачем ты бежишь навстречу этим чудовищам, они превратят и тебя, и всех нас в пепел! Рядом с ней просвистел камень, шлепнулся под ноги другой.
Сайя как будто не слышала шипящих визгов. Она бежала навстречу драконам. В руке она держала оранжевый цветок. На их каменистой сухой земле не росло цветов, воды было мало, вода была редкостью, её выдавали по пригоршне на человека. Свою пригоршню Сайя отдавала оранжевому цветку на тонком стебле, непонятно откуда взявшемуся и росшему у входа в их хижину.
Отряд драконов возглавлял опытный воин Цааг. От его смертоносного огненного выдоха никто и никогда не уходил живым. В его прямоугольных зрачках отражалась застывшая в ужасе горстка людей, а исходящий от них запах страха приятно питал и щекотал раздувшиеся ноздри. Драконы собирались повеселиться и уже каждый из них приготовил и зажал под языком огненный шар, чтобы сладко выдохнуть его вниз на эту глупую землю и глупых людей.
Как вдруг чёрная тяжёлая масса шипастых тел застыла в воздухе, а огонь в их глотках будто залили водой. Прямо на них бесстрашно бежала девочка с оранжевым цветком в руке. Она кричала на языке Всех Зверей - Остановитесь, добрые драконы, вы устали! Складывайте крылья и садитесь! У нас много земли, она ровная и удобная! Вы можете у нас отдохнуть, а лучше вам уснуть!
Зависшие в небе гиганты как послушные дети, прижимали к бокам перепончатые крылья и падали вниз, глубоко проминая землю, оставляя на поверхности лишь свои неровные хребты.
Сайя прижимала к себе свой оранжевый цветок и улыбалась. Ууу! - ей в спину ударили вопли. Она оглянулась и увидела надвигающуюся на неё толпу. Люди хотели не отблагодарить маленького человека, который их спас, а убить за то, что видел их страх и трусость.
И тогда крошечный цветок в её руках стал большим и Сайя исчезла. А спящие драконы проснулись, и хотя они были не в силах освободиться от сковавшей их туловища тверди, но их жёлтые глаза с прямоугольными зрачками под землёй раскрылись, а из глоток пыхнуло пламя.
На месте деревни образовалась глубокая воронка, склоны которой спустя некоторое время покрылись оранжевыми жарками, любимыми цветами девочки Сайи, Повелительницы драконов." - такую легенду мгновенно сочинила одна моя хорошая знакомая, увидев вот это фото:
16.
Драконы - это хребты за Сенцой. Они мирно спали, а вот над их спинами к нам неслось совсем другое чудовище: чёрная туча атмосферного фронта, не знаю чем впечатлившая меня больше - зловещим цветом или скоростью самолёта.
17.
Оля скомандовала снимать рюкзаки и доставать тент от палатки, предусмотрительно уложенный повыше. Под первым каплями мы накрылись, опершись спинами на рюкзаки, а ещё через пару минут по тенту барабанило и секло так, что было неясно - ливень идёт или град. Погода бесновалась довольно долго, так что я успел продрогнуть, а Оля и Аня - пуститься в задушевный разговор о том, кто о чём в своей жизни жалеет. В какой-то момент я понял, что больше так не могу, и выпрыгнув из под тента, увидел, что туча почти ушла, а над горами позади нас серебристое тихое небо.
Но здесь лучше покажу эти горы при ясной погоде, какими мы увидели их на обратном пути:
18.
За драконами, спины которых поднимаются лестницей, виден пик Топографов - на самом деле целый массив уже на территории Тувы:
19.
Его главная вершина гораздо ниже (3089м), чем Мунку-Сардык, что мы видели с Окинского тракта, но именно здесь находится крупнейший массив ледников Восточного Саяна. Тот снег, однако, истоптан следами туристов - если для водников Долина вулканов становится разминкой перед сплавом по Оке, то для альпинистов - перед восхождением от Жойгана на пик Топографов.
20.
На поднебесных болотах между тем, поднялся серый туман, в котором мы потеряли друг друга из виду - на перевале тропа теряется в лужах и травах. Я первым спустился ниже тумана, и просто замер от открывшегося вида. Под крутым обрывом раскинулось озеро с каким-то совершенно не бурятским названием Келед-Зарам. Своим металлическим звоном оно напомнило мне топонимы Селькупии, и я было подумал, что это самодийское слово, оставшееся с тех времён, когда коренные жители Оки сойоты ещё не были ассимилированы ни бурятами, ни тувинцами. Но всё оказалось забавнее: официального названия у озера в принципе нет, общеизвестное же дали толкинисты, которым эти горы напомнили гномью Морию, где был свой Келед-Зарам. А по озеру плавали айсберги...
21.
Откалывавшиеся, слово в Антарктиде, от стены льда на обрывистом склоне:
22.
И сам пейзаж за ним - ни дать ни взять Чукотка, ну или хотя бы Вайгач:
23.
В пасмурный день озеро блестит, как сталь. В ясный - кажется более небесным, чем само небо. И обратите внимание, как на прошлом и следующем кадрах отличается пейзаж: за несколько дней снежники растаяли, а сам Келед-Зарам подрос:
24.
За перевалом Черби - целая россыпь озёр, из которых Келед-Зарам лишь самый крупный. Из него начинается ручей, нанизывающий на себя остальные озёра - мы пойдём по нему. И лишь одно озерцо на отшибе порождает ручей Буштыг, стекающий в долину Сенцы по крутому распадку:
25.
Где-то в этих снежниках мы вновь приметили тропу и спустились по ней на берег. Келед-Зарам - ещё и середина пути, и у его дальних по нашему ходу концов мы отдыхали в обе дороги. На обратном пути над лысыми тундровыми сопками светила грандиозная Луна:
25а.
По утру же мы так медленно собирались, наслаждаясь последним утром на высокогорье, что в итоге нас нагнали сразу две тургруппы, поднявшиеся из Долины вулканов. Под обрывом с похожим на китовый ус снежником они встали на большой привал с готовкой еды и чая на горелках.
26.
Одну из групп возглавлял крепкий, бодрый, хотя и уже седой мужик, которого мы за удаль, основательность и место рождения называли про себя не иначе как "Человек из Кемерова". Затормозив у нашей стоянки так, что из ягеля пошёл дым, он глянул на часы и довольно заметил, что путь от стартовой точки занял 1 час 42 минуты без учёта привалов.
-А мы никуда не спешим, - заметил я, - просто гуляем, фотографируем, любуемся природой.
-Тоже хорошо! Но я уже в том возрасте, когда нужно постоянно себе что-то доказывать.
Всё это прозвучало без малейшего снобизма, с которым мы месяц спустя столкнулись на Кодаре. Про Кодар мы с Человеком из Кемерова в основном и разговаривали - те суровые горы он знал вдоль и поперёк, но полюбить их не смог из-за дичайшей мошкИ, в щели между перчатками и манжетами обгладывавшей руки до мяса. На Кодаре он ещё и потерял свой любимый нож, который в индустриальном Кемерове ему лично сковал из какой-то оборонной стали коллега по цеху, а рукоятку он вырезал сам. Пару лет спустя после утраты кто-то скинул ему фотографию этого ножа "Вконтакте", но на вопрос, вернут ли, хоть за вознаграждение, последовал ответ: "Нихрена. Трофей".
27.
Те посиделки были на обратной дороге, а нам пока - вперёд! С этого места отличить два пути по погоде уже не получится - что в первый день пути назад, что во второй день пути в Долину она стояла одна и то же. Но то была самая лучшая из погод, возможных в этом суровом месте: переменная облачность, чередовавшая жгучее горное солнце и ветреную прохладу, короткий бодрящий ливень ближе к вечеру... и всё равно невыносимый холод по ночам. То немудрено: я помню Восточную Турцию, где в Ыгдыре или Сарыкамыше, куда южнее благодатных Сочи и Батуми, климат гораздо суровее, чем в Москве. Они стоят на примерно тех же высотах, по которым мы идём в сегодняшнем рассказе, и 2 километров над уровнем моря достаточно, чтобы превратить субтропические широты во Вторую Сибирь. В настоящей же Сибири на такой высоте - Арктика: без риска получить на свою голову пургу или мороз в Долину вулканов можно ходить только в июле.
28.
С севера над оконечностью озера тянется вал, такой чёткий и прямой, словно людьми насыпан - на самом деле это, видимо, моренная гряда. Вал прорезает безымянный ручей, вытекающей из Келед-Зарама:
29.
Вдоль которого и тянется спуск в Долину вулканов:
30.
Очередной брод я пересёк по камням, не замочив ног. Оля поругалась, что с моим ростом это каждый может, и пошла вместе с Аней искать более удобный путь. В итоге, то по курумам, то по болотам, мы шли разными берегами ручья добрых полкилометра, но в конце концов мои спутницы нашли, где перепрыгнуть русло:
31.
Дальше ручей уходит в узкий каньон, поднявшись над которым, мы увидели свою цель - потухший вулкан Перетолчина посреди серых лавовых полей. Отсюда хорошо видно, что он стоит как бы в перекрестье падей, складывающихся на карте в букву "У". Падь Хи-Гол - слева, а направо долина приведёт к руслу Жомболока. Только самих речек не видать - выше озера Бурсагай-Нур вода здесь течёт по трещинам под лавой.
32.
Вулкан манил, и мы спускались - между мощными снежниками над ручьём:
33.
И острыми горами по левую руку:
34.
Горы отходят, как занавес, открывая вид на Круглое озеро - так переводится с бурятском Тухуурен-Нур:
35.
Из которого вытекает Барун-Хадарус - ещё одна речка, у самого Хи-Гола вдруг поворачивающая и по глубокому каньону текущая в Сенцу, где рядом с устьем есть ещё один тёплый источник Холун-Ухан. Теоретически, вдоль Хадаруса тоже есть тропа с красивыми каньонами и водопадами - но такая, что проще идти перевалом.
36.
По висячей долине Хадарус течёт в широкой пойме, где тропа долго-долго петляет среди ивовых зарослей, а в итоге приводит на мыс среди проток и ручьёв, с которого не так-то просто понять, в какой стороне основное русло. Скорее всего, их конфигурация меняется год от года, но в 2021 это выглядело так - от поляны сквозь кусты выходишь на узкую мелкую протоку, по ней идёшь полсотни метров вниз по течению и находишь широкую тропу к основному руслу. Хадарус по сравнению с Аршанкой на порядок полноводнее (местами - до живота), но гораздо тише и теплее, так что мы даже совместили брод с купанием. Главное - не забывать про обувь: у речки каменистое дно.
37.
Каньон Хадаруса уходит вниз. Вдоль него поднималась группа, с которой пошла сюда Оля в 2011 году. Но только они не дошли до висячей долины, а перевалали через горы на Жомболок и вдоль него попали в Долину вулканов с противоположной стороны. И только на обратном пути спустились к Хойто-Голу:
38.
Мы же пересекаем небольшой, едва заметный водораздел, высшая точка которого отмечена могучей ёлкой:
39.
Мимо странных, будто обработанных камней...
40.
...выходим к краю Хи-Гола:
41.
Там, где лавовый поток пресечён лугом, видны щель в скале и Одинокая лиственница - она отмечает одну из двух самых удобных стоянок. Мы думали пройти вперёд, к подножью вулкана Перетолчина, но от встречных туристов знали о том, что там уже стоит большая группа, которая уйдёт на следующий день. На самом деле стоянка у Одинокой лиственницы лучше и логистически (недалеко от развилки троп к двум вулканам), и сама по себе - прямо под деревом есть костровище и палка в ветвях, на которую удобно подвешивать продукты, чтобы их не могли достать мыши. И более того - мозаика кустов и лугов образует не одну, а целый десяток обособленных стоянок:
42.
К водопою на текущем в Хадарус ручье тут прилагается своя достопримечательность - водопад:
43.
Под шум которого и предстояло коротать нам следующие дни, любуясь видами гор от рассветов до закатов:
44.
В привычную зелёную сибирскую природу тут вторгается серая пустыня - но это не курумники, а застывшая лава. Глядя на лавовые поля, совершенно не удивляешься бурятскому названию этой долины - Албанай-Болдок, которое местные перевели нам как "место Дьявола":
45.
Обилие горячих источников, коих много в Оке, а в Тунке и за её гольцами ещё больше, намекает на то, что земля здесь совсем не спокойна. Да и Иркутск порой потряхивает, и если в 2020 я проспал землетрясение, то в 18 веке подземные толчки сбрасывали купола с барочных храмов. Ведь за Восточным Саяном пролегает Байкальский рифт - щель между расходящимися в разные стороны Евразийской и Амурской тектоническими плитами, да столь глубокая, что скопившаяся в рифте вода стала крупнейшим озером планеты. Байкал - это личинка океана, который возникнет тут через десятки миллионов лет. Десятки мелких вулканов без кратеров разбросаны по Тункинской долине, но около 13 тыс. лет назад, когда они в основном потухли, новые вулканы проснулись в ледниковой долине у верховий Жомболока. Они последний раз извергались не так уж давно, по разным оценкам от 800 до 2500 лет назад, а всего за несколько (не менее 6) крупных извержений из них вытекло от 3 до 10 кубических километров лавы. Много это или мало? Исландец Лаки в 1783 году за 8 месяцев изверг 15 кубокилометров лавы, убив пятую часть населения своего острова. Извержение индонезийской Тамборы в 1815 году, самое мощное в истории из описанных европейцами, и вовсе излило несколько десятков кубокилометров жидкого камня. Здесь всё было гораздо скромнее - ни взрывов, ни вулканических бомб, ни туч пепла, но для сведущего в геологии человека есть одно очень важное "но": Исландия лежит на срединно-океаническом хребте, Индонезия или Камчатка находятся в зоне субдукции, где океаническая кора подныривает под материковую, провоцирую извержения. Здесь же - самое сердце Евразии, крупнейшего в мире массива материковой коры, и вот в таких местах ничего подобного Саянским вулканам не было как минимум с начала голоцена.
46.
Лавовые потоки в своё время стали дамбами, запрудившими Жомболок и Оку. Вторая с тех пор пробила себе русло, первый так и течёт по трещинам от озера Хара-Нур в верховьях долины до озера Бурсагай-Нур, где наконец обретает русло. Ещё есть Олон-Нур, начало тропы к которому от Сенцы я показывал в прошлой части. Эти озёра с причудливыми линиями берегов, узкими заливами, непредсказуемыми островами и шхерами, щелями и гротами - не менее яркая достопримечательность Долины, чем сами вулканы. Но до Хара-Нура мы бы просто не дошли - это 20 километров в одну сторону, причём частью - прямо по лаве, волны и острые лезвия которой для ходьбы куда сложнее, чем курумы. На Олон-Нур мы собирались на обратном пути, но в итоге я поленился, поняв, что хотя бы эрзац-представление о лавовых озёрах мне даст вот эта лужа в нескольких сотнях метров от Одинокой лиственницы:
47.
Мы пошли сюда не только полюбоваться природой, но и с надеждой искупаться и смыть с себя походную грязь. Увы, по итогам мы прозвали озерцо Облом-Нур - мелкая прозрачная вода скрывала толстый слой гадкого ила, в который я мгновенно проваливался по колено. Под илом же оказались такие острые камни, что я порезал о них пальцы ног. Так что ходить сюда стоит только за зрелищем лавовых берегов:
48.
И за водой ещё - она в Облом-озере оказалось самой вкусной, что я пил в этой долине:
49
Да и вид через озеро - может не самый сюрреалистический, но самый, пожалуй, красивый. Справа, но левее двух одиноких гор - спуск с перевала, а слева - странная гора (2587м), идеально плоская наклонная вершина которой словно обрублена гигантской (вероятно, Гэсэровой) саблей. Она не менее зрелищна, чем сами вулканы, а вот названия у неё до сих пор нет. И как всюду в Сибири, ад от рая отличает лишь прогноз погоды, но в такие дни Хи-Гол - это рай, где наш поход превратился в отдых.
50.
Сказывается и то, что самое страшное животное Долины - это мышь, ведь она может прогрызть рюкзак и поточить продукты! Комары, мошки, слепни тут есть - но не больше, чем летом на подмосковной даче. Все местные жители и опытные туристы в один голос говорили мне, что на Хи-Голе нет ни волков, ни медведей. У нашей стоянки, впрочем, быстро обнаружился хозяин - чёрный ворон, прилетавший регулярно и задумчиво бродивший буквально в нескольких метрах от нас. Мы любовались гордой птицей, но в какой-то момент я возмутился: "Эй, он наши припасы клюёт!", а затем мы кинулись искать, не утащил ли он что-то блестящее. В общем, в очередной раз убеждаюсь, что при мрачности вида и голоса, ворон - весёлая птица.
51.
Выше по горам попалась куропатка, почти сливающаяся с замшелыми камнями:
52.
В траве снуют пищухи - при всей схожести с морскими свинками, это не грызуны, а зайцы. Другое их название - сеноставки: пищух можно увидеть с пучками сена в зубах, торчащими в разные стороны как усы. Нам такие не попадались, а вот название своё эти зверьки вполне оправдывают - пищат:
53.
...На вулкане Перетолчина, между тем, сохранился остаточный вулканизм - уже поднимаясь обратно на перевал, мы увидели бьющую из его склона фумаролу:
54.
Шучу (хотя человек 20 уже успели психануть и отписаться, наверное) - конечно же, это дым от костра. Двуногая фауна в Долине представлена на порядки больше, чем в 2011 году, когда Оля встретила за две недели в этих горах всего двух туристов да одинокого немца (причём - первоклассного всадника), но всё же не сказать, чтобы Хи-Гол кишел людьми. По ощущениям, одновременно с нами в Долине находились в 1-2 группы, а иногда нам казалось, что мы здесь одни - и даже если на самом деле это было не так, здесь достаточно малолюдно хотя бы для того, чтобы так казалось. Больше всего тут были, представлены, конечно, Москва, Питер и Иркутск, но встречались нам так же екатеринбуржцы и кемеровчане. Буряты, отдыхающие на аршанах Хойто-Гола, здесь, наоборот, почти не бывают - палаток у них как правило нет, а в обе стороны за день сходить почти невозможно. Тем не менее, Человек из Кемерова рассказывал нам о семье с ребёнком, которые дошли до Келед-Зарама и смогли полюбоваться издали на вулкан Перетолчина, а потом очень нехотя повернули назад - как оказалось позже, это были те самые буряты, с которыми мы сюда приехали.
55.
Но в общем, придя в Долину, мы имели все шансы не увидеть её. Позади осталось много преодолённых преград: локдаун в Бурятии (выпавший на изначальные сроки похода), автостопный (так как мест на маршрутку не было) бросок от Иркутска до Орлика, долгие поиски в Орлике бортовой машины, которая бы ехала туда не ради нас и потому за неё не пришлось бы платить целых 25 тыс.... Последний ППЦ подкрался незаметно: ещё на турбазе в Орлике у Оли начал болеть зуб, а на Хойто-Голе она поняла, что надежды на "само пройдёт" не оправдались. На холодных ветрах перевала воспаление начало переходить в флюс, и вечером у Келед-Зарама Оля перерыла все рюкзаки в поисках антибиотиков. Антибиотики нашлись, однако не помогли: милый вечер у Одинокой лиственницы, когда мы просто радовались, что дошли, сменился печальным утром - у Оли распухла щека до кончиков губ и уже начала возникать "куриная бородка". Мы призадумались: то ли бесславно сниматься с такого выстраданного маршрута, то ли всё же попробовать остаться, но с риском всё равно уходить в гораздо худших условиях - ведя под руку безрюкзачную Олю с высокой температурой и оставив в Долине не только продукты, но и часть вещей. На верную мысль нас навёл бурятский всадник во главе каравана из трёх лошадей, подкативший к нашей поляне. Нависнув над нами с видом разбойника, готового атаковать, он спросил:
-Кто главный?
-Ну я - сказал я, как бы нехотя поднимаясь.
-Как зовут?
-Илья. А с какой целью вопрос?
-Лебедев где?
Тут-то меня осенило - ведь у вулкана Перетолчина стоит другая группа, которая как раз готова уходить! Как оказалось - коммерческая, и каюр ехал забрать вещи туристов, чтобы они могли идти к Хойто-Голу налегке. За ним и побежал я, краем уха услышав, что Оля привлекает Аню делать операцию в полевых условиях. У просторной стоянки с видом на следующий вулкан Кропоткина я застал уже полностью собравшуюся группу, во главе которой были рослый, поджарый, чуть похожий на волка мужчина и очень красивая девушка с пепельными кудрями.
56.
Группа оказалась коммерческой, а привёл её сюда Андрей Лебедев из Иркутска. Я рассказал ему ситуацию, и каюр со своего коня порекомендовал полоскать рот лошадиной мочёй - да только вот беда, весь ценный ресурс кони слили как раз около нашей стоянки. Лебедев же сам пару лет назад чуть не помер от флюса в походе, поэтому к нашей проблеме отнесся предельно серьёзно и велел мне идти на нашу стоянку помочь Оле собирать вещи. Группа разделилась: каюр (наотрез отказавшийся нагружать лошадей лишним рюкзаком) умчался вперёд, следом ушли туристы под началом кудрявой Светланы, а мрачный от предстоящей перспективы Андрей пришёл к нам на поляну.
В моё отсутствие Оля, дав Ане зеркальце, продезинфицировала ножницы и решила сама вскрывать ими десну. К моему приходу всё почти закончилось: Оля понимала, что вскрыть нарыв не удалось, но не могла говорить из-за того, что держала во рту обеззараживающее. К приходу Лебедева она всё-таки нехотя начала собираться, периодически строчила записки о том, что "90% останется", а я наседал - "не рискуй!". Андрей вздохнул, что без него там всё пиво выпьют и дыню съедят и что с коптера теперь поснимать не успеет, но сквозь мрачное лицо всё равно было видно - без Оли он отсюда не уйдёт. Оля под конец даже снова начала говорить, и говорила в основном "Я что, правда ухожу?", а я напоминал её собственные слова, что мужество туриста - повернуть, если впереди опасность. Тем более она сама, в отличие от нас, уже была в этой долине.
Вот они встали и припустили в сторону перевала, а я ещё какое-то время послеживал за ними через ультразум, минут через 20 заметив, что огромный Олин рюкзак на Андрее. Обратный путь (который на 300 вертикальных метров короче и потому гораздо легче) они прошли за 6 часов, а к вечеру следующего дня Оля уже была в Орлике, где бурятка делала ей операцию, светя телефоном, так как в посёлке снова отключили свет. Подлечила Олю она качественно, так что к нашему прибытию в Орлик о флюсе не напоминало ничего, но при этом заметила, что надо тогда ножницами по нарыву было просто чуть сильнее нажимать. В суровой сибирской глуши, где люди неделями и месяцами живут в тайге да на глухих зимовьях, такие самолечения - норма. Что же до Андрея Лебедева, то всё, что я могу для него сделать - это прорекламировать вам его турклуб "Сибрафт", организующий походы и сплавы по множеству маршрутов в Прибайкалье. Как минимум, Андрей показал себя руководителем, для которого здоровье туристов превыше всего, а это в коммерческом туризме в наше время дорого стоит! Дыню с пивом ему в итоге оставили...
А о местах, которые мы благодаря Андрею всё-таки смогли увидеть - в следующей части.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт.
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Сибирь природа дорожное |






