В поисках Беловодья - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
"Атоммаш" в Волгодонске. Как казаки реактор буксировали. |
Страна Росатом (так называется корпоративная газета "Росатома", но сейчас речь не о ней) - это не только атомные станции (вроде Белоярской АЭС из прошлой части) и исследовательские центры. Ведь оборудование для них нужно где-то производить, чем и занимается завод "Атоммаш" в Волгодонске, крупном городе (160 тыс. жителей) на востоке Ростовской области. Туда по приглашению владеющего заводом дивизиона "Атомэнергомаш" я отправился в блог-тур на День атомщика (28 сентября), причём целью нашей был не столько само предприятие, сколько происходившее под металлическим небом его колоссальных цехов весьма нетривиальное событие.
К концу 1960-х годов атомная энергетика стала привычной частью советских реалий, не "топливом будущего", а рутинной частью народного хозяйства. Не зависящие от масшатбного подвоза топлива атомные станции могли располагаться там, где это нужно потребителю, вплоть до глухих углов Крайнего Севера, как например пущенная в 1974 году Бибилинская АЭС на Чукотке. Первыми производителями атомных реакторов в СССР стали Завод им. Орджоникидзе в подмосковном Подольске (там делался реактор Обнинской АЭС, а ныне - компактные реакторы для кораблей) и Ижорские заводы в питерском Колпино (с 1961 года). Но растущая промышленность Советского Союза требовала большего количества атомных станций, а значит - новых мощностей для производства их оборудования. Местом для нового завода был выбран Волгодонск - тогда маленький городок (22 тыс. жителей в 1970 году) среди донских станиц и хазарских городищ, возникший в 1940-50-х годах при сооружении Волго-Донского судоходного канала. Водный транспорт, сведённый в единую систему с выходом на 5 морей, идеально подходит для перевозки тяжёлого оборудования, да и гигантский аграрный ромб между Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Волгоградом и Воронежем явно требовал большого города в середину. Госплан готовил Волгодонску судьбу всесоюзного центра тяжмаша, а население его предполагалось довести до 750 тыс. человек.
2.
В 1972-74 годах был разработан и утверждён проект ВЗТМ (Волгодонского завода тяжёлого машиностроения), в начале строительства, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась всесоюзной ударной комсомольской не на словах, а на деле - первые объекты вводились в строй уже в декабре 1976 года. В 1977-м заработала ТЭЦ (420 МВт), явно рассматривавшаяся как временная мера до запуска Ростовской АЭС на берегу Цимлянкого водохранилища. В 1978 году и сам "Атоммаш" вступил в строй, а в 1981-м на его спецпричал было отгружено первое изделие - реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Между промзоной и спецпричалом вырос Новый город - за 20 лет население Волгодонска увеличилось почти в 9 раз, и один только штат "Атоммаша" (21 тыс. человек) был сравним с населением города до начала строительства. Но выйти на проектную мощность советскому гиганту оказалось не суждено - Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не видели зарплату, город же чаще попадал в новостные сводки в связи с разгулом оргпреступности и терроризма. Начальство, при том, вместо того чтобы самым экономически выгодным образом обанкротить завод, ликвидировать его, озолотиться на продаже сотен тысяч тонн металлолома и уехать жить в Испанию, продолжало бороться за выживание предприятия. К началу 21 века тут было освоено производство крупного оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но страна оживала, и вот в 2001 году была достроена и пущена Ростовская АЭС, а к 2010-му "Росатом" вновь столкнулся с необходимостью серийного производства оборудования. В 2012 году "росатомовский" дивизион "Атомэнергомаш" взял волгодонский завод в долгосрочную аренду. В 2013-м объём заказов "Атоммаша" увеличился в 5 раз, впервые за 26 лет началось изготовление нового реактора (ВВЭР-1200 для так и не достроенной Балтийской АЭС в Калининградской области), а в 2015 было отгружено первое за 30 лет соответствующее названию завода изделие - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС. В 2020 году "Атоммаш" превзошёл советские показатели (в работе было 5 реакторов и 18 парогенераторов, а в 2021 уже соответственно 6 и 32), но – пока еще не вышел на проектную мощность 8 комплектов (из 1 реактора и 4 парогенераторов) в год. Как заметил глава города Михаил Ладанов во вступительном слове того самого действа, о котором речь пойдёт в конце поста, "Атоммаш" вновь стал градообразующим предприятием Волгодонска.
3.
Промзона, раскинувшаяся на южной окраине Нового города, представляет собой квадрат 3 на 3 километра, и при взгляде с дороги натурально уходит за горизонт. Здесь есть ТЭЦ (её труба торчит справа на кадре выше) и несколько вспомогательных заводов для местных нужд. Промзона могла быть ещё больше - Советы предполагали создать тут целый кластер заводов-гигантов, и следующий по очереди "Энергомаш" должен был стать крупнее "Атоммаша". Надо сказать, движение в том направлении и сейчас есть - так, в 2018 году в промзоне "прописалась" компания "Нова-Винд", занимающаяся производством ветроэлектростанций. Она арендует, например, корпус №4 с кадра ниже, где собираются генераторы и гондолы:
4.
А вот образец жанра "памятник у проходной" (2015) уже вполне росатомовский - это подлинный корпус реактора ВВЭР-1000, первого из здешних изделий.
4а.
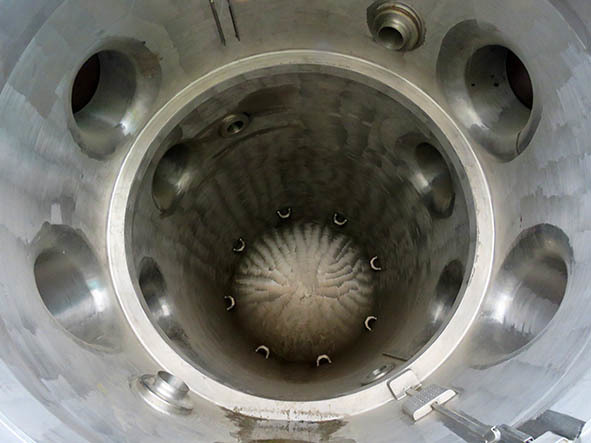
...У проходной Инженерного корпуса мы повстречали компанию явно не инженеров и даже не работяг. Артём Шпаков, организатор нашего блог-тура, говорил, что мы увидим, как реактор будут буксировать "силачи". И только тут до меня дошло, что он имел в виду не какие-то эксклюзивные машины, а вот этих могучих ребят:
5.
Сам Инженерный корпус, начиная от проходной, изнутри выглядит как обычное офисное здание. Мы оставили рюкзаки в кабинете пресс-службы с колоритными плакатами у рабочих мест:
6.
Вместо громоздких касок тут выдают слегка усиленные кепки, в которых по заводу ходит даже большинство рабочих:
6а.

"Атоммаш" занимает примерно половину всей промзоны, 2,2 на 1 километр, и большая часть этой площади приходится на 4 гигантских корпуса: уже знакомый нам 4-й, скрытые в глубине относительно небольшие 2-й (производство систем управления и защиты реакторов) и 3-й (трубопроводы для атомной и нефтяной промышленности), но в первую очередь - Корпус №1, вдоль громады которого мы и направились. На площадке - флаги тех стран, с которыми "Атоммаш" работает: в данный момент это Турция, Индия и Бангладеш - оборудование для их строящихся АЭС "Аккую", "Куданкулам" и "Руппур" сейчас в производстве. Так, в апреле меня уже приглашали сюда (но я не смог поехать из-за других планов) на отгрузку реактора для "Руппура".
7.
В первый корпус мы вошли через непропорциональное маленькую (обычную под рост человека) дверь, и каким бы грандиозным он не казался снаружи, цифры на информационном стенде превзошли все мои ожидания. Площадь цеха - 29 гектар, больше Московского кремля и чуть меньше Киево-Печерской Лавры. Его длина 750 метров, ширина - 374 метра, и всё это в 10 пролётах от 30 до 42 метров шириной. Забегая вперёд скажу, что мы ходили лишь по первым трём пролётам:
8.
С потолками высотой 44 метра Первый корпус напоминает многонефный собор. Возможно, это крупнейшее производственное здание всей России. Крупнейшее же здание мира - цех на Эвереттском авиазаводе "Боинга", штат Вашингтон, обширнее этого корпуса всего на треть (39 га).
9.
Здесь и конструкции самые мощные - если на АвтоВАЗе или КамАЗе под одну сваю заливалось 10-15 кубометров бетона, то на "Атоммаше" - 750. Между основаниями проложены пешеходные тоннели, ограды спусков в которые - едва ли не единственный декоративный элемент завода:
10.
И по цехам медленно, в течение 3 лет (!) перемещаются слева направо горы металла, постепенно становящиеся корпусами реакторов. Корпус состоит из 7 сегментов - днища...
11.
...и обечаек (металлических колец) двух видов - у ВВЭРа 4 целиковых и 2 с патрубками. На других кадрах обратите внимание на аббревиатуры, от руки начертанные на обечайках - например, "К" значит "Курская АЭС", "КК" - "Куданкулам", "А" - "Аккую" и так далее:
12.
Масштабы таковы, что отдельного упоминания заслуживает внутрицеховой транспорт. Пассажирский - это велосипеды, целая парковка которых расположена у дверей с внутренней стороны:
13.
Однако и машины по цеху снуют вплоть до "Камаза":
14.
По рельсам курсируют тележки с электромоторами в каждом колесе и грузоподъёмностью в сотни тонн. Ездят они очень медленно, с непрерывными бибиканьем и сопровождающим их "пингвиньими шагами" рабочим.
15.
Но самый впечатляющий грузовой транспорт цеха - мостовые краны, коих тут 87 штук на двух уровнях. Когда такой проходит над головой - это зрелище поистине величественное:
Особенно - с многотонным грузом. Краны здесь трёх разновидностью с грузоподъёмность 80, 250 и 600 тонн, причём работать они могут парами, то есть перетаскивать грузы до 1200 тонн.
16.
Обечайки и днища периодически приходится переворачивать, и это делается как в специальных кантователях...
17.
...так и краном в банальной, но куда более экономичной песочнице:
18.
Всего в корпусе 427 станков, и увы, по заветам пресс-службы "Кубаньжелдормаш", в большинстве своём - импортных. Но то, что станкостроение у России хромает даже не на обе, а на четыре ноги - не секрет, и не АЭМ виноват в этом.
19.
Начало цепочки - стоящий в левом (если смотреть от входа) торце пресс от японской фирмы IHI. Да, сооружение высотой с 10-этажку - это он и есть. Пресс развивает усилие до 15 000 тонн (то есть в 1000-1500 раз больше, чем давление товарного вагона на рельсы) и с многочисленными насадками и матрицами формует металл толщиной в десятки сантиметров. Само собой, разогретый докрасна - к прессу прилагается специальная печь. Близко к нему мы, увы, не подходили:
20.
Да и в принципе в силу очень долгого производственного цикла с не таким уж большим количеством операций застать самые зрелищные машины "Атоммаша" в работе можно только целенаправленно.
20а.
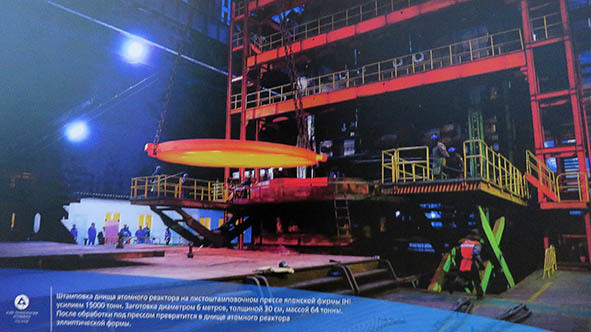
"Атоммаш" не занимается производством ядерного топлива и вообще чего-либо радиоактивного - тут работают только с грубым металлом. Но грубое - не значит примитивное! 334-тонный корпус реактора - одно из сложнейших изделий металлообработки. Хотя ВВЭР построить всё равно гораздо проще, чем экспериментальный МБИР для научного центра в Димитровграде - у того стенки тоньше в 12 раз, а требования к защищённости как бы не выше. Но МБИР был сделан в 2019 году, а нам оставались лишь серийные ВВЭРы.
21.
На срезе обечайки хорошо видно, что она состоит из нескольких слоев, напоминающих срез дерева с его годичными кольцами, вынутой сердцевиной и мощной корой. Кора - это монолитный внешний корпус, получаемый методом штамповки, и он рассчитан в первую очередь на внешние же воздействия вплоть до падения самолёта на реакторный зал или прямого попадания крылатой ракеты. Внутренний корпус - в первую очередь антикоррозионный: в активной зоне реактора, впитывая тепло ядерной распада, циркулирует вода, под огромным давлением разогревающаяся до 300 градусов. Антикоррозионный слой уже не штампуют, а наплавляют на вращающуюся обечайку изнутри:
22.
За наплавителем идёт скребок, выравнивающий поверхность, и рабочий смахивает срезанное вниз:
23.
Затем обечайки сваривают в единый корпус на специальный сварочных установках:
24.
При этом сварочный аппарат неподвижен, а изделие вокруг него вращают специальные валки:
25.
Под сводами цеха стоят целые здания, всякие офисы, бытовки, небольшие "цеха второго порядка", но особенно зрелищны печи:
26.
В самой крупной из них - с порталом 9 на 10 метров, - сваренный корпус реактора нагревается при температуре 920 градусов, окончательно сливаясь в монолит.
27.
Весь сварочно-наплавочный цикл "Атоммаша" обеспечивает итальянское оборудование: станки от машиностроительного концерна "Breda Termomeccanica", печь - от компании "Italimpianti". А вот - уже совсем другие печи:
28.
Изготовление реакторного корпуса - это не столько даже производство, сколько проверки, доппроверки, контрольные проверки, внеплановые проверки и перепроверки: всего 315 операций контроля. В первую очередь - в ульразвуковых и рентгеновских камерах, позволяющих увидеть малейшие дефекты. Грандиозная створка толщиной 4,5 метра напоминает, что такой мощный рентген - единственный радиоактивный объект на "Атоммаше". И видимо по этой же причине рентген-камеры тут отечественного производства:
29.
"Выпускной экзамен" для реактора после 3 лет строительства - гидравлические испытания, для которых применяется уже привычно здесь гигантский (глубиной метров 30!) кессон. Готовый реакторный корпус помещают в эту яму и в герметичной камере нагнетают воду до давления 254 атмосферы - это существенно больше, чем рабочие параметры реактора.
30.
Наконец, корпус реактора покидает цех через вон те ворота и на многоколёсном транспортёре едет через пол-города к оборудованному мощными кранами спецпричалу:
31.
Обратно мы шли по параллельному "нефу", где производят парогенераторы:
32.
Ведь в промышленном объёме превращать ядерную энергию напрямик в электричество люди пока не научились, и как у обычных ТЭЦ, на атомной станции ток создают турбины, которые вращает раскалённый плотный пар. Однако, как испарить воду, не "испачкав" её продуктами распада? На АЭС существует два контура, между которыми происходит теплообмен сквозь металл, но нет прямого контакта. Вода первого контура циркулирует через активную зону реактора и под огромным давлением в трубах нагревается до 300 градусов. Второй контур - это вода, пар которой идёт на турбины и далее в атмосферу. А взаимодействуют они в парогенераторах - мощных ёмкостях, пронизанных внутри густой сетью тонких труб: у ВВЭР-1200, например, таких труб 10 777 штук, и в кадре ещё не видны два коллектора по 10 777 отверстий. Внутри труб циркулирует радиоактивная 300-градусная вода первого контура, разогревающая их до сопоставимой температуры. Снаружи труб же в парогенератор подаётся чистая вода второго контура, стремительно превращающаяся в быстрый плотный пар. Набивка парогенератора трубами делается в специальном "цехе в цехе" с очисткой воздуха и повышенным давлением, чтобы из внешнего цеха не залетала пыль.
33.
По производственной цепочке парогенераторов мы двигались вспять, и вот чуть ближе к началу - работы над их корпусами:
34.
Новейший чешский станок ведёт сверление водой - мощная тонкая струя режет металл не хуже лазера:
34а.
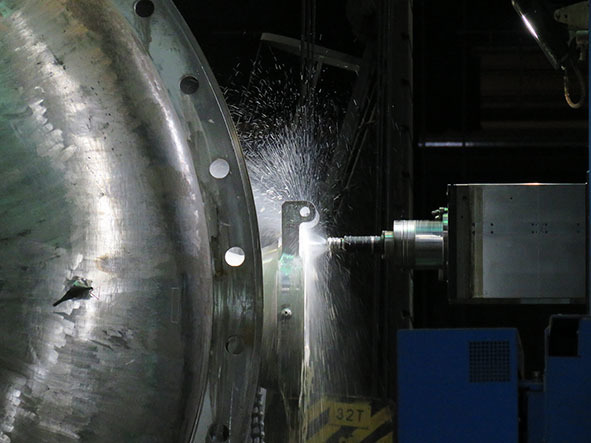
Современные станки позволили порядком сократить количество рабочих - индустриальные гиганты со штатом в десятки тысяч человек уходят в прошлое в том числе и из-за автоматизации производства. Это ещё при том, что Россия аутсайдер по внедрению промышленных роботов - наши заводы по меркам 21 века весьма многолюдны... Нынешний штат "Атоммаша" - 6 тысяч рабочих и инженеров, что в разы меньше, чем в 1980-х, при том, что производство сейчас ведётся активнее, чем тогда. И теперь давайте посмотрим на лица рабочих тяжёлого машиностроения:
35.
На заводе, само собой, соблюдается масочный, но спозировать фотографу лучше с открытым лицом:
36.
Есть тут и ветераны с печатью смуты 1990-х на лицах, и удалая донская молодёжь.
37.
38.
39.
Ну а на что же глядят трудящиеся? Я думал, что еду на отгрузку реактора, а приехал на спортивное событие - шум кранов и станков смешивался с музыкой из огромных колонок, а в цех следом за нами заходили СИЛАЧИ:
40.
Виновник торжества - реактор ВВЭР-1000. Это учебный реактор, не предназначенный для установки на АЭС: на нем персонал тренируется производить ультразвуковой контроль и другие производственные операции. Сам реактор весит 370 тонн, вместе с тележкой - 422 тонны, а дополнительные блоки доводят вес всей этой конструкции до 452 тонн - и вот их-то силачам предстояло сдвинуть с места!
41.
Музыка играет, толпа растёт, силачи разминаются:
42.
И примеряются к закреплённым на полу лестницам и к своим хомутам:
43.
Под сводами летают дроны. Места для них тут хватает, а вот управлять тяжело - обилие металла создаёт магнитные поля:
43а.
Справа энергичный и суровый ведущий - пермяк Сергей Харламов, обладатель титула "Сильнейший атлет России" и бронзовый призёр чемпионата мира по силовому экстриму. Рядом с ним - Михаил Иванов, председатель Российской Ассоциации Силачей в Ростовской области, который тоже должен был участвовать в буксировке реактора, но на одной из тренировок получил травму с разрывом ахилловых сухожилий. Левее, в пиджаке - Михаил Паллер, тоже атлет и чемпион, сюда приехавший как автор проекта Всемирной Богатырской Лиги "Сильнейшая нация мира", куда и входят все 5 силачей. Ну а ещё левее - сами богатыри: нижегородец Юрий Кузьмин и керчанин Егор Сорокалетов...
44.
...и волгодонцы Алексей Ислентьев (с большой бородой) и Евгений Осипов. На фоне партнёрских афиш "Акрона" (переработка цветного лома), "ЮгЭлектроМонтажа" (местная компания) и дочерних предприятий "Росатома" выступали с короткими речами и другие - например, глава города Михаил Ладанов или директор всего этого завода-богатыря Александр Локтюшов (на фото - в спецовке).
45.
Часа полтора ожидания, полчаса вступительных слов - и вот оно, само действо!
46.
В видеоформате оно как-то нагляднее:
За 48 секунд силачи сдвинули 450-тонный груз на 3 метра 55 сантиметров! Но тут стоит сказать, что сам вес в общем-то не так уж важен: силачи из разных стран по воде, как бурлаки на Волге, сдвигали с места крейсер весом более 10 тыс. тонн, по рельсам тягали вагоны общим весом в 1500 тонн, но 40-тонный самолёт на шинных колёсах сдвинуть по бетону взлётки - сопоставимая по трудности задача. У реакторной тележки железнодорожные колёса - но с индивидуальными электромоторами и редукторами, дающими гораздо большее сопротивление, чем у товарных вагонов. И самое трудное в подобной буксировке, не менее 20% всех затрачиваемых усилий - стронуть объект с места, заставить его колёса провернуться на первые миллиметры.
47.
Как известно, "экстремальный спорт - это не высшая математика, тут ДУМАТЬ надо!": буксировка тяжёлого груза подразумевает огромное количество нюансов, непонимание которых в лучшем случае кончится тем, что груз останется на месте, а в худшем - разрывами мышц и жил.
48.
Силачи не похожи на качков - огромные и пузатые, при среднем росте они висят по 140-160 килограмм, и обильная еда для них не роскошь, а обязанность. Но если честно, мне на них смотреть куда приятнее, чем на лощёных бодибилдеров.
49.
Народ - что блогеры, что работяги, - охотно фотографируется с богатырями, успевшими раздать различным корреспондентам и съёмочным группам по паре-тройке интервью. В общении силачи производят впечатление людей суровых (да и кто не суров после таких нагрузок?), но добрых:
50.
Мы примеряем на себя хомуты - вот например Игорь
 zavodfoto фотографировал меня, а я, соответственно, его:
zavodfoto фотографировал меня, а я, соответственно, его:51.
Финальный кадр, после которого мы перешли к экскурсии. Впрочем, другие участники блог-тура были здесь не впервые, проводилась экскурсия по сути дела для меня одного и потому по несколько сокращённой программе.
52.
Подарок от богатырей для заводского музея:
52а.

Мы же погнали тоскливыми степными дорогами в Ростов-на-Дону, на пиво с раками (а как же!) и далее на самолёт...
53.
Но я всё же надеюсь рассказать и про сам Волгодонск уже через пару недель: через неделю я отбываю на юг - в Армавир, Майкоп с Горной Адыгеей, Краснодар, а там и до Волгодонска ночь на поезде.
|
Метки: событийное Атомная быль дорожное индустриальный гигант Русский Юг |
Фокино. Часть 2: маленький остров Путятин |
"Навещал друга в сумасшедшем доме. Стоило больших усилий убедить его, что он живёт не на райском тропическом острове, а в мрачной холодной палате с облезлыми стенами" - именно этот грустный анекдот регулярно всплывал у меня в голове все три дня на Путятине, небольшом обитаемом островке среди хранящих страшные тайны бухт показанного в прошлой части ЗАТО Фокино между Владивостоком и Находкой. В последних Путятин слывёт "островом маргиналов и пенсионеров", тепло и уютно в Приморье бывает дай бог пару месяцев в году, а от социального недовольства воздух Дальнего Востока наэлектризован всесезонно. И всё же солнечными днями в первых числах сентября Путятин выглядит самым настоящим райским тропическим островом, а его красивую природу дополняет нетривиальная история.
Говоря "Приморье", чаще всего мы имеем в виду берег Залива Петра Великого, протянувшийся от Находки до корейской границы. В причудливых круговоротах его течений встречаются субарктические воды Охотского моря с субтропическими водами Жёлтого моря, образуя уникальный и сказочно богатый живой мир. По сути это и не залив, а очень маленькое море, вдающееся в берег пятёркой заливов поменьше: с запада на восток Посьет на благодатном Хасане, Амурский и Уссурийский заливы по разные стороны Владивостока, похожий на солнце с протуберанцами бухт залив Стрелок, тёплый Восток со своей Ливадией и удобнейшая в этих краях гавань Находка. В прямой видимости берега разбросаны десятки островов, лишь 4 из которых обитаемы - соседние Русский, Попова и Рейнеке в "домашнем архипелаге" Владивостока и одинокий Путятин в середине небольшого (13км шириной) и почти идеально круглого залива Стрелок. Как часто бывает на Дальнем Востоке, залив назван в честь корабля из тех, что в долгом пути вокруг всего Старого Света от Соломбальской верфи в Архангельске до причалов Сибирской флотилии в Николаевске-на-Амуре исследовали новообретённый русский берег. Направлял их Евфимий Путятин - адмирал и дипломат, в 1852 году на легенадрном фрегата "Паллада" в компании писателя Ивана Гончарова наводивший мосты с Японией. Он же стоял у истоков её индустриализации, познакомив сынов Ямато с паровой машиной, на основе которой год спустя "японский Кюрибину" Хисасигэ Танака сам спроектировал паровоз. В 1855 году преследуемая англичанами "Паллада" проходила мимо этих берегов, чтобы в итоге погибнуть в Императорской Гавани, и вот в 1859 году капитан клипера "Стрелок" Иосиф Федорович в честь своего корабля назвал залив, в честь адмирала Путятина - остров в его середине, а в честь капитана "Паллады" Ивана Унковского - скалы между ним и следующим островом Аскольд. Вытянутый на 13 километров от горы Старцева в самом центре залива до глядящих в открытое море южных мысов, остров Путятин отличается необычайно сложной формой, кому-то напоминающее хвостатую птицу, кому-то - неправильный крест. Мне не пришло в голову ни то, ни другое, и всё же очертания Путятина казались смутно знакомыми... лишь оказавшись на острове я вдруг вспомнил пожелтевшие страницы с чёрно-белыми картинками да имена - Сайрус Смит, Пенкрофф, Айртон, Герберт... Свой "Таинственный остров" Жюль Верн опубликовал в 1875 году, и хотя скорее всего, конечно, это просто совпадение, хочется думать, что именно Путятин был прототипом вымышленного острова Линкольна.
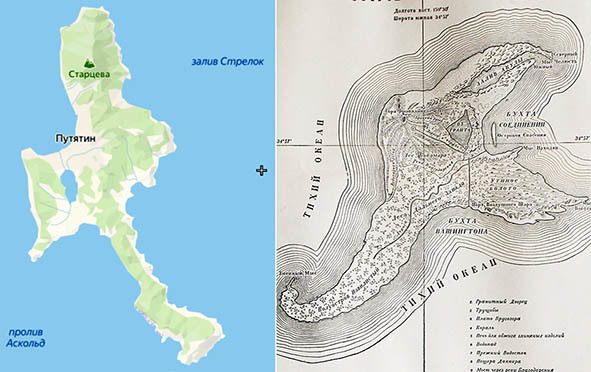
О близлежащем Фокино, это странном "ЗАТО рекомендательного режима", и посёлке Дунай, откуда на Путятин трижды в день ходит паром, переделанный из танкодесантной баржи, я рассказывал в прошлой части. Теперь же начнём прогулку на островном берегу, где с первых минут накрывает ощущение разморённой южной глуши.
2.
Вдоль берега тянутся позднесоветские постройки рыбокомбината, среди которых затесался причудливый фронтон из двух видов кирпича - последнее дореволюционное здание на острове:
3.
Что в дорусские времена, что в первые десятилетия под Россией Путятин был необитаем и даже его старого китайского названия история не сохранила (хотя не было ли оно созвучно с нынешним?!). В прямом и переносном смысле Путятин оставался в тени соседнего Аскольда, на котором ещё манзы (китайские креолы) повадились добывать золото. На Путятине же в лучшем случае рыбаки пережидали шторма, пока в 1891 году на тёплый берег не ступил Алексей Дмитриевич Старцев. Вернее, на самом деле его звали Алексей Николаевич Старцев, только держал он это в секрете - селенгинский купец был незаконнорожденным сыном декабриста Николая Бестужева от случайной бурятки, фамилию и отчество получивший по своему крёстному. Как и большинство преуспевших купцов Селенги, свой бизнес Старцев начал в чайных караванах из Китая. В 1861 году 23-летний Алексей Дмитриевич обосновался в Тяньцзине, где за полтора десятилетия выбился в миллионеры. Какой-то единой специализации, при этом, у Старцева не было - ни в одной отрасли он не становился лидером, но зато одновременно вёл бизнес в десятках отраслей. В Тяньцзине он выстроил целую русскую колонию из сорока домов, соединённых 3-километровой железной дорогой и внутренним телеграфом. В своём особняке Старцев собрал уникальную коллекцию буддийских реликвий и востоковедческих книг, включая подлинники старинных китайских и тибетских рукописей. Но разбогатев на чужбине и окружив себя русскими людьми, воспитанник купца, сын декабриста и бурятки всё равно скучал по родным берёзкам. Всё чаще он ездил в бурно растущий Владивосток, плотно схваченный немецким и японским капиталом, и вот наконец в 1891 году взял в аренду на 99 лет необитаемый остров в соседнем заливе. Своё имение он так и назвал - Родное, но эта сентиментальность ничуть не противоречила деловой хватке. На Попова и Рейнеке к тому времени француз Август Менард разводил молочных коров, а на Аскольде вместо оскудевших золотых приисков польский магнат Михаил Янковский преуспел в пантовом оленеводстве. На Путятине сама земля была ценнее того, что на ней растёт - главным богатством острова оказалась чрезвычайно качественная глина. Домик с кадра выше остался от кирпичного завода (1894), из продукции которого построена половина Владивостока, включая дом Старцева на Светланской.
3а.
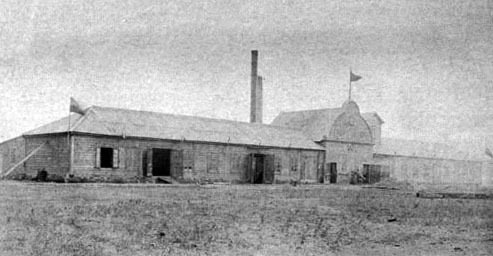
Годом позже рядом появился фарфоровый завод, куда поначалу Старцев приглашал мастеров из Японии. Но прекрасные узорчатые вазы им давались тяжело - глина сильно отличалась от привычной, так что вскоре Алексей Дмитриевич переключился на массовое производство посуды.
3б.
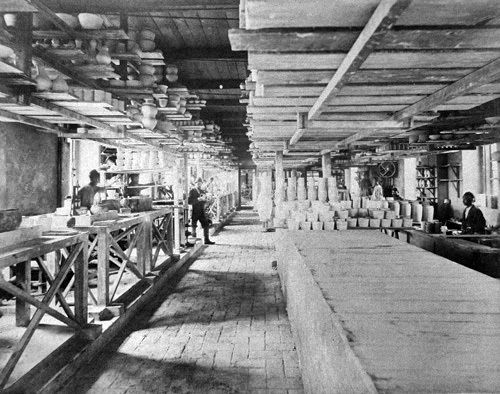
Промышленность дополнило сельское хозяйство - Старцев разводил здесь коров, овец, свиней и пятнистых оленей, но в первую очередь - лошадей, пытаясь адаптировать к приморской сырости знакомую с детства монгольскую породу. В 1897 году на Путятин завезли шелкопрядов, в 1899 - пчёл. Пароход "Чайка" с 1892 года курсировал во Владивосток, а три паровые шхуны ловили морских гадов по окрестным бухтам. Единоличный хозяин острова, Алексей Дмитриевич отличался и особым стилем управления - большинство его приказчиков были из отбывших сроки сахалинских каторжан, среди которых бывалый делец приметил людей, готовых получить "путёвку в жизнь" в обмен на верность.
3в.

Но всё оборвалось буквально в одночасье - в 1900 году Тяньцзин не остался в стороне от грандиозного Восстания Боксёров, с применением восточных единоборств задавшихся целью изничтожить всех лаовэев. Ихэтуани разграбили Старцевскую колонию, и хотя разориться Алексею Дмитриевичу уже не грозило, в погромах сгорела его библиотека, и такого известия Старцев не пережил - в 61 год, в возрасте "золотой осени", купец скоропостижно умер от инфаркта. Сыновья Алексея Дмитриевича создали было фирму "Наследники А. Д. Старцева", но чутьём и хваткой отца уже не обладали и даже не решились на эмиграцию, когда Красная Армия вошла в Приморье. Внуки декабриста Бестужева были лишены всего, высланы куда-то вглубь страны и в 1937 году - расстреляны...
4.
"Маленький остров Путятин возле великой земли", однако, не случайно был увековечен в песне Юрия Визбора - на месте сгоревшего Родного продолжалась жизнь. С 1929 года Путятин стал известен как "остров-рыбокомбинат", и уже к 1939 году его постоянное население достигло 2,5 тыс. жителей. У здешних причалов стояли как шхуны для лова моллюсков и крабов по окрестных бухтам, так и сейнеры открытого моря, ходившие за Шикотан. Кажется, года не проходило, чтобы в цехах и посёлке не строилось или модернизировалось что-нибудь. Население посёлка, впрочем, не росло, так и оставаясь всю советскую эпоху на уровне двух с небольшим тысяч человек, ну а что случилось по окончании советской эпохи - думаю, не надо пояснять. Развал рыбокомбината начался ещё в 1989 году, когда случайный пожар уничтожил лучшие цеха, но точно не знаю, когда и как комбинат умер - в статье по ссылке, написанной в 2009 году, предприятие ещё держалось на плаву, но дальше, видимо, не обошлось без злокозненных москвичей и приравненного к ним по деяниям своим губернатора. Промысловых судов у причалов нынешнего Путятина не видать, а население сократилось до 750 жителей, большинству из которых уезжать просто некуда. На пустынной пыльной площади за Последним Дореволюционным Домом, в тесных магазинах, где покупатели ведут неспешные беседы с продавцом, чувствуешь себя робинзоном...
4а.

Площадь раскинулась на месте кирпичного и фарфорового заводов Старцева. Площадку первого теперь занимает уже бывшая контора рыбзавода, территорию второго - ДК (1960) с воинским мемориалом. Ещё тут есть три магазина (и четвёртый поодаль), администрация в одноэтажном домике, МФЦ и почта, а вот банкомата на всё острове нет ни одного.
5.
Чуть в стороне есть ещё детский сад и школа, успевшие при Советах переехать из первоначальных деревянных зданий в каменные.
5а.

В основном же Путятин примерно такой, а рукотворные достопримечательности стоит искать не на улицах весьма обширного посёлка, а в его ближайших окрестностях.
6.
Сейчас уже точно не известно, где именно стоял главный дом Родного, да и единственную фотографию его с форума семьи Бриннеров, простым гуглением не так-то легко найти. Впрочем, внешне особняк транснационального миллионера не отличался от советской дачи на 6 сотках - "фасадом" имения служил кирпичный завод у причала, а здесь Алексей Дмитриевич собирался жить, не перед кем не красуясь.
6а.
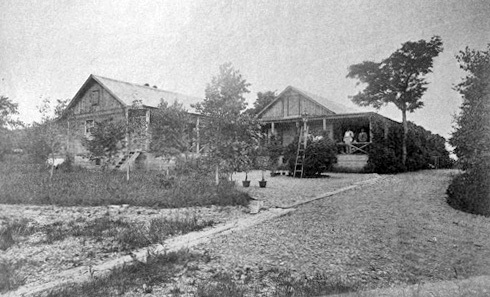
Всё, что осталось от Родного - выродившиеся сады на склоне сопки к востоку от посёлка да венчающий эту сопку памятник Алексею Старцеву:
7.
Поставленный в 1989 году - но над настоящей могилой:
7а.

Как я понимаю, похоронили купца на том самом месте, с которого в 1891 году он оглядывал остров да приговаривал в усы "роднооооооое....".
8.
С тем же успехом его могли похоронить и на горе Старцева (352м), одиноко торчащей над сушей и морем в самой середине залива Стрелок:
9.
Тропа к ней хранима японским богом, в пантеоне синтоизма наверное отвечающим за паровозы:
10.
Снизу легко подумать, что восхождение на гору Старцева займёт весь день, но на самом деле от посёлка до вершины можно подняться где-то за час. Накатанная джипами колея опоясывает склон по спирали, и лишь к самой вершине тянется извилистая тропа:
11.
Круговой вид с этой вершины я бы назвал главной достопримечательностью всего острова:
12.
На кадре выше - вид на север, в сторону материка, но в тамошние укромные бухточки с названиями вроде Абрек или Разбойник, где скрываются военные объекты и памятники флотских катастроф, мы заглядывали в прошлой части, куда и отсылаю за более подробным рассказом о них. Сегодня же смотрим на юг:
13.
Залив Стрелок тут виден от края до края, и слева (кадр выше) полуостров Павловского отделяет его от залива Восток, а справа полуостров Дунай - от Уссурийского залива:
14.
На нём хорошо виден посёлок Дунай и бухта Чажма с крупнейшим в России плавдоком и "ядерным колумбарием" причала ДальРАО. Но и за ними я отсылаю в прошлую часть, а пока что посмотрим дальше - сквозь морскую дымку отчётливо просматривается Владивосток:
15.
И Русский мост, связующий Город Нашенский с Архипелагом Императрицы Евгении:
16.
Сам остров Путятин причудливо распластался на фоне открытого Японского моря.
17.
Посёлок Путятин стоит между широкой бухтой Назимова и крупнейшим на острове Гусиным озером, где летом обильно цветут лотосы. Оно лежит у начала почти квадратного полуострова с мысами Фелькерзама и Родионова на ближнем и дальнем углах. Дальше (кадр выше) виднеются тёмные Камни Унковского и высокий, скалистый, необитаемый остров Аскольд, где сохранились маяки на головокружительных скалах и орудия 26-й батареи, на дальних подступах прикрывавшие Владивосток. Туда возят частники по 15 000 рублей за 10-местную лодку на весь день...
18.
Слева же на панораме виден характерный "хвост", отсюда не кажущийся таким длинным, как на картах. У основания этого хвоста находятся красивейшие на Путятине бухты Слона и Петуха, к которым и будем спускаться:
19.
Сделать это можно почти не заходя в посёлок - с дальней от бухты Назимова стороны его огибает тропа, похожая на объездную дорогу. Она проходит у белого храма Сергия Радонежского (2014), поставленного высоко, но для прихожан не то чтобы очень удобно - народ в Приморье не религиозен, и храм тут скорее просто символ русских берегов. Тем более на фоне лотосов Гусиного озера и кекуров Аскольда...
20.
Дальше за южной околицей посёлка раскинулось кладбище, к тропе выходящее одинокой могилой с оградой из якорной цепи:
21.
Но владивостокский краевед Андрей Фатьянов, "губернаторЪ" сообщества Far Far East, подсказал нам, что кое-что интересное скрывается и в глубине, среди невзрачных надгробий второй половины ХХ века. Во-первых, тут есть самый настоящий советский склеп из шлакоблока:
22.
А если пройти метров 20 от его боковой стены (относительно кадра выше налево) - можно найти пяток удивительных могил с морскими минами в качестве надгробий. На единственной читаемой табличке - матрос Каменчук Пётр Лазаревич с годами жизни "1931-55", так что можно предположить, что покоятся здесь жертвы одной из многочисленных в заливе Стрелок трагедий на военном флоте.
23.
Дальше посёлок заканчивается, но весь остров пронизывает густая сеть ухабистых грунтовых дорог, по которым ездят в основном вот таким способом:
24.
Через гряду от посёлка расположились в палатке и мы - поводом съездить на Путятин стал Приморский Трезвый сход путешественников, который организовал в первых числах сентября
 a_krotov. Здесь я прочёл лекцию по мотивам своего 3-месячного путешествия по Сибири (июнь, июль, август), а в основном мы с Ольгой после этого путешествия просто отдыхали в тёплом лесу, неспешно гуляя по острову и наслаждаясь его райской природой. В таких пейзажах хочется петь про сундук мертвеца и бутылку рома:
a_krotov. Здесь я прочёл лекцию по мотивам своего 3-месячного путешествия по Сибири (июнь, июль, август), а в основном мы с Ольгой после этого путешествия просто отдыхали в тёплом лесу, неспешно гуляя по острову и наслаждаясь его райской природой. В таких пейзажах хочется петь про сундук мертвеца и бутылку рома:25.
И если хозяйственная жизнь отсюда уходит, то природная - по-прежнему кипит:
25а.

Будь то птицы, заползавшие прямо в палатку жуки, здоровенные толстые кузнечики...
26.
Или бабочки-махаоны:
27.
Тёмно-перламутровых парусников Маака, которыми нам запомнилась уссурийская тайга годом ранее, в этом году я не замечал. Зато порхали мимо нас незнакомые мне бабочки размером с птицу, видимо залетевшие откуда-то с юга по случаю аномального жаркого лета:
28.
Но как бы ни был изобилен лес - ему далеко до литорали! Вода тут чуть холоднее и чуть мутнее, чем в сказочных бухтах Хасанщины, но схватив красивую ракушку, первым делом приходится выгонять из неё рака-отшельника. На закате из волн высоко выпрыгивают быстрые сверкающие рыбы, а камни в мелких бухточках покрыты почти сплошным ковром разноцветных водорослей. Но дальше десяти метров от берега плавать среди этих камней становится страшно - словно чёрные мины, по ним обильно расставлены колючие морские ежи.
28а.

Купаться мы ходили в ближайшую к лагерю и посёлку бухту Петуха с широким песчаным пляжем. В выходные даже в сентябре довольно многолюдным - с машинами, палатками и горами мусора, понемного складывающегося в археологический слой:
29.
Слева, на фоне Павловска и Анны, бухту ограничивают колючие кекуры:
30.
Справа - и сама скала Петух:
31.
До которой можно дойти по колено в чистейшей воде по прибрежным камням:
32.
Дальше тянется цепочка Пятых бухт - Второй Пятый, Третий Пятый и Седьмой Пятый, и если Первым Пятым можно назвать Петуха, то вот куда делись Четвёртый Пятый и Пятый Пятый - история умалчивает. Чудными названиями Дальний Восток вообще богат - ходивших здесь кораблей и их экипажей вплоть до судового кота не хватило на каждую скалу или бухту, а старинную китайскую топонимику Советы и вовсе заменили в одночасье в 1972 году.
33.
На Втором Пятом есть Бразениевое озеро с какими-то редкими беспозвоночными и родник с пресной водой, поэтому среди прочих бухт она выделяется небольшой турбазой. К которой примыкает промысловый стан с грудами кухтылей (поплавкой) и ракушек:
34.
Оля задалась целью найти в этом кургане по несколько красивых раковин для каждого из своих многочисленных родственников и в итоге насобирала пару килограм. Участники же Приморского схода быстро наловчились есть свою неизменную гречку из больших раковин маленькими:
35.
Как я понимаю, всё это гребешки, на мой взгляд самый вкусный из дальневосточных деликатесов:
36.
Пятые бухты расположены у основания путятинского "хвоста", по которому мы решили попытаться дойти до окончания. Но на холмах за Вторым Пятым путь преградил забор - грунтовка миновала его по касательной, отмеченная на карте тропа же явно уходила за ворота. За забором не просматривалось ничего, кроме здоровенного пса на привязи, нескольких домиков у самых ворот и сплошной стены деревьев. Для воинской части забор явно выглядел слишком прозрачным, для гостиницы - слишком суровым (кто захочет за колючей проволокой отдыхать!), и методом исключения мы пришли к выводу, что видимо это кто-то большой и важный оттяпал себе лучший кусок острова.
37.
Потратив битый час на попытки обойти забор или хотя бы сквозь него просочиться, мы вышли на другую сторону Южного хвоста:
38.
Я знал, что где-то на его конце есть Мраморная бухта с блестящим дном, а над ней заброшенная батарея №944 1930-х годов, от которой остались казематы и основания башен. Ещё - что сам "хвост" продолжает живописная цепочка кекуров Пять Пальцев. Они расположены так, что с других частей Путятина не видны, а я принял за них крошечный остров Ирецкого:
38а.

Мимо мысов сновали моторные лодки с экскурсантами, а в ультразум я разглядел даже пару палаток, предположив, что их обитатели подошли с моря и сумели договориться с охраной. Кекуры, потайные пляжи, тёплые леса манили, но кого удивляет, что на Дальнем Востоке вопросы решаются так?
39.
Мы спустились на широкий пляж у основания "хвоста". Костровища, столики из пеньков, туалеты из материи на вкопанных палках, качали на ветках, турики - весь вид пляжа и леса говорил о том, что до 1 сентября здесь стоял спонтанный палаточный лагерь:
40.
Между "хвостом" и мысом Родионова раскинулась широкая Терракотовая бухта:
41.
Уж не знаю, от чего так названная - добывал ли здесь Старцев глину для своих заводов или просто скалы похожи на террактовый узор:
42.
43.
44.
Здесь и расположились мы, но больше загорали, чем купались - вода оказалась мутной, как чай с молоком, и неприятно холодной. Да и волны несли скорее от берега, чем к берегу, или по крайней мере так показалось Оле. Вот и сидели мы на берегу, слушали шум воды, любовались далёкими кекурами Аскольда и военными кораблями, ходившими туда-сюда на фоне них. Волны, однако, хлестали всё ближе к ногам, и очередной накат вызвал целую панику среди каких-то мелких чёрных уховёрток, начавших сотнями вылезать из тёплого песка и искать спасения в том числе и в наших пожитках. Начинался прилив, а значит пора было уходить с этого узкого карниза:
45.
Выйдя на дорогу, мы поймали попутный минивэн с большой семьёй, и первым делом я задал им вопрос, что же спрятано за забором и можно ли туда как-нибудь попасть. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что проникнуть за забор можно самым неочевидным для России способном - просто постучаться в ворота и попросить одинокого сторожа их открыть! Южный хвост, оказалось, занят не виллой какого-нибудь победителя Дальневосточных криминальных войн или охреневшего "москвича", а гигантским вольером для той части коренных островитян, что покрупнее бабочки или птицы. Как я понимаю, в первую очередь забор защищает диких зверей от собак, людей же сторож обязан пропускать в дневное время, кроме периодов гона и окота. Но отсутствие табличек и звонков антропогенную нагрузку снижает порядочно - ходят сюда не "все подряд", а "те, кто в курсе". И буквально в сотне метров от ворот мы увидели частые следы копыт на пересохшей луже:
46.
В первую очередь здесь охраняются пятнистые олени - маленькие и мирные родичи гордого марала и свирепого изюбря. Все трое, однако, лишь разные подвиды благородного оленя, и их мясо, шкуры и панты одинаково хороши. Михаил Янковский, приехав на остров Аскольд в 1874 году, быстро обнаружил, что золотые прииски скудны и для промышленной добычи не годятся, зато маленький остров без хищников идеально подойдёт на роль пастбища. Сперва он разводил фазанов, а затем подался в оленеводы. Тут надо сказать, что европейских оленей в его родной Польше или маралов на Алтае держали издавна, а вот пятнистых оленей разводить Янковский придумал впервые. Вскоре на островах стаду сделалось тесно, и Янковские перебрались на Хасанщину. Старцев же новую отрасль на Путятине только начал внедрять, и в ХХ веке хозяйство зачахло, а сами олени - остались. На острове в тот вечер нам попадались только их следы, однако прежде я видел и даже гладил пятнистых оленей в Шкотовском сафари-парке - там они слывут самыми мирными обитателями, так что гид водит туристов прямо в вольер.
47.
Надежда увидеть оленя у меня промелькнула, когда мы с Олей заметили, что у тропы подозрительно часто раскачивается высокая трава. Затем из травы донеслось хрюканье, а вскоре показалась серая спина в короткой шерсти - конечно, как знаем мы из приключенческих романов, какой же тропический остров без диких свиней?! Шевеление приближалось к тропе, и я подумал, что сейчас мы увидим поросёнка, но каково же было моё удивление, когда на дорогу вылез клыкастый кабан размером с большую собаку! Я даже успел понять, что это опасная встреча, но хряк невозмутимо пересёк тропу и скрылся в травах по другую сторону.
48.
Ещё одним животным, попавшимся мне на глаза, стал Слон:
49.
Которого успел оседлать кто-то из наших соседей по Сходу, тоже узнавших у людей на пляже, как миновать забор.
50.
У Слона мы поняли, что дальше идти смысла нет - до Мраморной бухты или 944-й батареи засветло всё равно не успеть, а близлежащие бухты невзрачны.
51.
Для очистки совести мы всё-таки поднялись на гряду, отделяющую бухту Слона от следующей бухты Круглых Камней, но даже лучшие виды отсюда открывались на север:
52.
Под шум моторов экскурсионных лодок мы пошли назад, любуясь скалами и бухтами сквозь буйную зелень:
53.
Вот и "домашний" Петух кукарекает заходящему Солнцу:
54.
Последним впечатлением Путятина стал огненный тропический закат. И сложно поверить, что тропики в Приморье по сезону, что летом тут туманы и дожди, а зимой промозглые колючие ветра, и на опушке вместо эбеновой туземки в бусах из каури встречает прокуренный седеющий мужик в затёртом камуфляже. Но стоит ли включать реалиста там, где ты можешь ощутить себя в благодатных тропиках, не покидая границ нашего сурового отечества?
55.
В следующих частях перенесёмся на 3 месяца назад... но не так-то далеко территориально - из Приморья в Приамурье, где живут нанайцы и встречает едва ли не последняя российская "Заря".
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2021
Обзоры и оглавления
Суровое Сибирское Лето. Июнь.
Суровое Сибирское Лето. Август.
Приморье
Фокино. Техас и Дунай.
Фокино. Остров Путятин.
Хабаровский край
Сикачи-Алян.
"Заря" на Тунгуске.
Хабаровск. Южные окраины.
|
Метки: Молох Дальний Восток природа дорожное рыбацкое |
Фокино. Часть 1: Техас и Дунай |
Официально Фокино - небольшой городок-ЗАТО (31 тыс. жителей) на заливе Стрелок в 120 километрах от Владивостока. На деле Фокино - россыпь посёлочков на островах и таинственных бухтах, самый крупный из которых Тихоокеанский (для своих - Тихас) с моря вовсе не видать. Зато проходит сквозь него трасса Владивосток-Находка, и старожилы не упомнят, чтобы кого-нибудь тут задержали за незаконный въезд. Даже напротив - с подлодками и эсминцами в фокинских бухтах соседствуют прогулочные яхты, с судоремонтными доками и скорбными памятниками флотских катастроф - аквапарки и мини-отели. Про этот странный уголок Приморья, где я заканчивал 3-месячное путешествие по Дальнему Востоку и Сибири я расскажу в двух частях - во второй переправимся на маленький остров Путятин, но для начала осмотрим посёлки и бухты на материке.
Особенность стоящего на длинном полуострове Владивостока - буквально от любых мест в Приморском крае он неприятно далеко. Славянка или Большой Камень за заливами видны с городских набережных, а вот ехать до них - 3-4 часа. Через Амурский залив на тёплый берег Хасана ещё в 2018 году ходили пассажирские катера, но последний из них умер в 2020-м как раз накануне моего приезда. Через Уссурийский залив рейсового движения нет как минимум с советских времён, а может и ещё дольше. Автобусы и электрички в Приморье весьма обильны, вот только первые отвратительны дорогие, зато вторые как бы не дешевле, чем в Подмосковье. Поэтому 2/3 пути до Фокино мы преодолели по рельсам, покинув вагон на станции Смоляниново, от вокзала которой пешеходный виадук приводит прямиком на трассу. Автостоп же на разбитых и узких приморских дорогах всё так же хорош, и раньше любых автобусов нас увёз столь типичный на Дальнем Востоке огромный праворульный джип, ведомый бойкой женщиной. Олиным рассказам об автостопных бросках до Приморья от самой Москвы она, конечно, удивлялась, но и сама оказалась не лыком шита - за свойскостью и кажущейся простотой скрывалась бизнес-леди, прошедшая в жизни трудный и опасный путь. Её первого мужа убили бандиты лет 20 назад, причём в те дни, когда сама она лежала с первенцем в роддоме. Со вторым мужем они последние годы строят отель на одной из фокинских бухт. Планов, и видимо кредитов, на такое дело было громадьё - водительница показывала нам фотографии болот, которые они осушили, и первых, пока совсем не притязательных домиков построенной на том же месте турбазы. Турбаза - решение временное: изначальный проект предполагал звёздочный отель с аквапарком для китайских туристов и на китайские деньги. Но китайские туристы теперь остались в благословенном прошлом, а "хабаровчан" в Южном Приморье и так принимает всякий, кто успел схватить "дальневосточный гектар". Но как и положено бизнесовому человеку, наша собеседница не унывала, верила в свои силы, ни разу за всю поездку не обвинила в своих бедах москвичей, и даже шёпотом призналась, что она за Путина - а дальневосточники за такое могут и машину сжечь...
1а.

Ехали же мы гораздо дольше, чем хотелось бы - нас угораздило отправиться на взморье тёплым вечером пятницы, чем занимается в это время весь миллионный Владуснах (агломерация Владивосток-Уссурийск-Находка). Словом, на въезде в Фокино мы попали в тяжёлую даже по подмосковным меркам пробку. по которой ползли со скоростью гораздо меньше километра в час. И пока стоим, вполне можно вспомнить историю Фокина, о нелинейности которой напоминает отмеченный совсем другим названием въездной знак:
2а.

У огромного залива Петра Великого, в круговерти течений которого северные воды (и их обитатели) мешаются с тропическими, есть несколько заливов-спутников, как например лежащий на востоке залив Стрелок. От соседей он отличается наличием целого архипелага, который замыкает вынесенный в открытое море остров Аскольд. На него частенько хаживали манзы - китайско-маньчжурские креолы, ещё в дорусские времена бежавшие от законов империи Цин на эту по сути бесхозную землю. Но везли они с Аскольда не гребешка и не трепангов, а золото, водившееся в тамошних ручьях. Конечно же, обосновавшись в 1859 году на Японском море и освоившись на его берегах за несколько лет, царские чиновники и офицеры решили воспрепятствовать такому разграблению обретённых Россией богатств. В одной из бухт в 1867 году возник военный пост, где базировалось несколько паровых шхун, и в том числе "Алеут", в честь которого называется теперь одна из главных улиц Владивостока. Стычка "Алеута" с очередной партией нелегальных старателей весной 1868 года подожгла Манзовскую войну - китайские восстание по всему Приморью, обернувшееся кровавой резнёй русских поселенцев. Но военный пост на заливе Стрелок был отстроен, а поселенцы только продолжали прибывать - в основном пароходами из далёкой Одессы. Так складывался Зелёный Клин, который теперь слывёт чуть ли не заморской колонией Украины, и среди множества малоросских сёл Закитайщины вряд ли чем-то выделялась заложенная в 1891 году в нескольких километрах от моря Промысловка. К 1958 году она была повышена до ПГТ, но дело в том, что времена сменились. Красный Китай из "братьев навек" превратился в "шовинистов", и ещё не забывший опасного соседства с довоенной Японией Дальний Восток начал стремительно вооружаться. На заливе Стрелок строились военные базы Тихоокеанского флота, в тылу которых по соседству с Промысловкой был основан в 1963 году посёлок Тихоокеанский. Тривиальное и вместе с тем громоздкое название дальневосточники быстро сократили до Тихас - а через "е" или через "и" его писать уже личное дело каждого. Тихоокеанский появился сразу в статусе ПГТ, а в 1967 году этого статуса лишилась Промысловка, которой оставалась роль предместья - её домики мелькают за деревьями трассы, но совершенно не оседают в памяти. По дороге из Владивостока многоэтажный, полный людьми и машинами, блестящий стёклами торговых центров город буквально выпрыгивает из-за сопки:
2.
Эти торговые центры, где можно съесть отвратный пересушенный "РоялБургер" или затариться продуктами в супермаркете местной сети "Самбери", здорово контрастируют с грозными статусом ЗАТО. Закрытые административно-территориальные образования - не города-призраки, но города-невидимки, сам факт существованиях которых в советское время приравнивался с государственной тайне. Но если в Заречный пускают только к близким родственникам и по работе, в Новоуральск можно просочиться на какое-нибудь культурное событие, а Байконур или Звёздный Городок немыслимы без дырок в заборах, то Фокино легко проехать насквозь и даже не подумать о его режимности. Собственно, в город-ЗАТО Шкотово-17 берега залива Стрелок были превращены в 1980 году людьми, "из своей маааськвы" явно не представлявшими местную географию. Дорога меж двух главных портов Дальнего Востока так и проходила сквозь границы режимной зоны, а где что базируется - знала каждая попавшая на стол к лесорубам из братской Кореи собака. Сделать из Шкотова-17 настоящее ЗАТО пытались разве что при Андропове, но вскоре подошли Перестройка с Гласностью, а следом и охранять в большинстве здешних бухт стало нечего. В 1994 году Шкотово-17 вернулось на карты как Фокино, и главным секретом его осталось то, в честь кого оно названо: документов на этот счёт нет. Впрочем, как и со многими другими государственными секретами, разгадка вполне умозрительна - адмирал Виталий Фокин командовал Тихоокеанским флотом, и накануне основания Тихаса как раз стал замглавкома всего советского ВМФ. Сам же Тихоокеанский не вернулся на карты - название Фокино относится как к самому городку, так и ко всей территории ЗАТО.
3.
Но хотя статус ЗАТО остался сугубо бумажным, сердце Техаса - по-прежнему Дом Офицеров Флота (1963), гордо стоящий напротив суеты магазинов. Увы, Хрущёв не только с Китаем рассорился, но и архитектурные излишества отменил, поэтому красотой здание не блистает:
4.
А статус его подчёркивает целое ожерелье памятников, расставленных по окрестным скверам. Самый простенький внешне и видимо самый новый посвящён героям Великой Отечественной:
5.
У левого борта ДОФа - весьма оригинальная часовня-памятник 300-летию Российского Флота (1996-2000), в Фокино ставшая символом города и даже попавшая на его постсоветский флаг.
6.
У задней стены ДОФа - какие-то камни и неизменные жернова, которые в приморской почве оставляли с равным успехом что бохайцы и чжурчжэни, что малороссы и молдаване.
7.
Сама же эта инсталляция то ли совсем новая, то ли не наполненная никаким смыслом, кроме чисто декоративного - в интернете я о её происхождении не нашёл ничего.
8.
Угол ДОФа продолжает бывший ресторан тех же лет, у которого заканчивается аллея 50-летия Победы с парой зениток. В её створе - совершенно конструктивистского вида островерхие пятиэтажки, лишь столь же конструктивистского вида логотип на торце одной из которых не даёт ошибиться:
9.
Вдоль обычных пятиэтажек же можно выйти к голове Ильича (1960) у правого борта ДОФа:
10.
И, наискось от фасада - явно главному в этом созвездии памятнику Марие Цукановой (1979). Росшая без отца девушка из сибирского села, в годы Великой Отечественной она то работала санитаркой в эвакогоспитале, то стояла у станка на Иркутском авиазаводе. Но люди ей были явно ближе станков, и в 1942 году Маша пошла служить на Тихоокеанский флот, но раньше, чем была готова к бою - закончилась Великая Отечественная война. Эпилогом к ней, однако, стала война советско-японская, и если на Курилах в сентябре японцы целыми островами сдавались без боя, то в августе в Корее и Маньчжурии дрались со всей самурайской решимостью. Одним из самых тяжёлых боёв той войны стал морской десант в порт Сэйсин (ныне Чхонджин) на побережье Северной Кореи - ошибки при планировании, почти полное отсутствие поддержки с воздуха и обусловленная успехом предыдущих десантов в порты Юки и Расин уверенность в лёгкой победе обернулись тем, что судьба трагических черноморских десантов не повторилась в Сэйсине лишь благодаря успехам сухопутных войск. Ошибки адмиралов легли на плечи 22-летней санитарки - Маша Цуканова вынесла с поля боя 52 раненных десантника, да впридачу автомат, из которого метко отстреливалась, пока сама не потеряла сознание от двух полученных ран. В таком состоянии она и попала в руки к японцам, устроившим над девушкой жестокую расправу без всякой самурайской чести. Обе стороны в боях за Сэйсин потеряли по несколько сотен бойцов, и только в братской могиле на корейском берегу упокоились 352 красноармейца. И хотя подвиг Цукановой стал главным преданием того боя, по сути это памятник не только ей, но и всем участникам Сэйсинского десанта.
11.
Аллею перед фасадом ДОФа, между Лениным и Цукановой, продолжает пешеходная улочка Мищенко, отвечающая в Тихасе за исторический центр:
12.
Здешние малоэтажки явно не предполагали большого количества архитектурных излишеств, а потому куда монументальнее, чем охрущёвленный ДОФ:
13.
Самым красивым зданием Фокина и вовсе остаётся замыкающая пешеходную улицу Старая школа (1956)... причём обратите внимание на даты: официально всё это строилось в новоявленном ПГТ Промысловка, который с открытием ДОФа в 1963 году буквально разродился Тихасом.
14.
Но в основном "малое" Фокино какое-то такое:
15.
И облезлые дома да аляповатые ларьки с шаурмой и свеженабраконьеренными креветками никак не вяжутся со стерильностью "настоящих" ЗАТО:
16.
Из 32 тысяч жителей "большого" Фокина на "малое" Фокино приходится 23 тысячи. Спрятанный за сопками от залива Стрелок, Тихас выпускает в его сторону пару рельсовых (с 1940 года) и веер автомобильных дорог, самая оживлённая из которых - юго-западная. И всего 22 километра с ежечасно курсирующими автобусами отделяют техасские прерии от дунайских плавней - вторым центром этой системы служит посёлок Дунай (7,5 тыс. жителей) на бухте Конюшкова, основанный в 1907 году переселенцами из Молдавии:
17.
Он стоит на полуострове, отделяющем залив Стрелок от Уссурийского залива, за которым можно разглядеть "домашние острова" Владивостока и далёкие сопки Хасана. С другой стороны голубая, что Дунай из того вальса, вода отделяет посёлок от острова Путятин, над которым одиноко высится гора Старцева (352м) в самом центре круглого залива Стрелок. И кадр выше - не последний в этом рассказе из сделанных с её вершины:
18.
Прошлый кадр же снят с высшей точки Дуная, отмеченной невзрачным ДК и затаившимся в кустах мемориалом Победы (1988). Больше, впрочем, Дунай отметился в Гражданской войне - местные активисты во главе с Фёдором Усатым были основой красных партизан в здешних сопках:
19.
Сам посёлок совершенно невзрачен и довольно запущен. На панорамах видна новостройка Георгиевской церкви (2008), но и она стоит изрядно в стороне от длинной улицы Ленина, представляющей собой фактически спуск от ДК до причала:
20.
Куда интереснее, чем с собственных улиц, Дунай смотрится с сопок Путятина:
21.
На карте залив Стрелок - не круг, а скорее солярный знак с протуберанцами бухт, которые и окинем взглядом по часовой стрелке. Рядом с Дунаем раскинулась бухта Разбойник, отмеченная парой объектов один другого чудней:
22.
Слева почти вплотную к кварталам Дуная примыкает 30-й судоремонтный завод - несколько десятков таких предприятий работали по всем советским морям, имея сквозную нумерацию от Калининграда до Чукотки. Пущенная в 1960-м году "тридцатка", однако, примечательна крупнейшим в России плавучим доком ПД-41. С безвременно утопшим ПД-50 под Мурманском у него паритет по грузоподъёмности (обслуживает суда с водоизмещением до 80 тыс. тонн) и длине (330 метров), а вот в ширину дальдок даже масштабнее - 93 метра против 88. Что характерно, обоих гигантов всемогущий СССР не постеснялся заказать у капиталистов: ПД-50 в 1980 году пришёл в Североморск из Швеции, а ПД-41 был сделан в Японии на токийской верфи "Исикавадзима", которая в историю Страны Восходящей Солнце вошла строительством первого корабля европейского типа "Асахи-мару" в далёком 1856 году. По соседству - не столь огромный, но зато крытый ПД-38 для ремонта особо секретных судов:
23.
В крупнейшем доке мы застали и крупнейший корабль - это "Адмирал Лазарев" (1978-84), тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта "Орлан". С водоизмещение 23 тыс. тонн, размерами 230 на 25 метров, высотой 59 метров и почти безграничной огневой мощью, выходившие со стапелей Балтзавода "Орланы" - самые большие и грозные корабли современности за вычетом авианосцев. И - одни из самых дорогих: СССР успел спустить на воду всего 4 "Орлана" из запланированы 7. Из них лишь один в строю - "Пётр Великий" (при закладке - "Куйбышев"), флагман Северного флота и всего российского ВМФ. В 2023 году после капитальной модернизации под новое оружие вплоть до гиперзвуковых ракет его должен дополнить "Адмирал Нахимов" (экс-"Калинин"), а вот "Кирову" ("Адмирал Ушаков") и "Фрунзе" ("Адмирал Лазарев") повезло меньше - над запятой в "утилизировать нельзя модернизировать" адмиралы думали долго, и в конце концов поставили её после первого слова. Реактор из крейсера уже выгружен, оборудование снято, а пустой корпус поставлен на разделку в этот док весной 2021 года.
24.
Объект же с правой стороны залива я узнал сходу, поскольку в 2019 году мне довелось побывать в мурманской Сайда-губе. Это ДальРАО, Дальневосточный центр обращения с радиоактивными отходами, "ядерный колумбарий" Тихоокеанского флота, оборудованный в 2000 году. Гигантские красные бочки - ни что иное, как заизолированные реакторные отсеки подводных лодок, сотнями строившихся в СССР и гнивших в гаванях ранне-постсоветской России.
25.
Схема утилизации проста: из подлодки вырезают реактор с парой соседних отсеков-"поплавков", поднимают его специальным буксируемым доком, выгружает на базу, а там убирают в защитный корпус, в котором за несколько десятилетий ядерное топливо тихо выгорит до безопасного состояния. Визуально ДальРАО выглядит гораздо меньше СевРАО:
26.
ПД-41 и ДальРАО, как сцилла с харибдой, отмечают вход из широкой бухты Разбойник в узкую бухту Чажма. Это название для Дальнего Востока звучит зловеще, как для Севера "Курск", а для Урала - Кыштым. Чуть левее плавдоков 30-го судозавода когда-то находился пирс №2, куда атомные подлодки приходили для замены активных зон своих ректоров. 10 августа 1985 года там стояла субмарина К-431 уже довольно архаичного на тот момент 675-проекта (строились в 1960-е годы). И наверное в шутках о пьяном дяде Васе, который чинит реактор ломом, на тот момент и правда была лишь доля шутки: завершив работы, заводчане вдруг обнаружили, что крышка реактора лежит не герметично, причём закрыть её мешает какой-то технический мусор! Но сдать работу в срок начальникам очень хотелось, и вразрез со всякой ТБ было решено быстренько поднять крышку реактора плавкраном, убрать помеху и закрыть обратно. Афишировать внеплановые работы и вводить в бухте особый режим "Атом" начальники тоже не стали, вот только оказались они не единственными раздолбаями Чажмы: когда плавкран начал поднимать крышку, мимо на полной скорости промчался катер-торпедолов, так же внепланово и без предупреждения направлявшийся на рыбалку. На его волне плавкран качнулся и поднял крышку реактора чуть выше, но этого хватило для того, чтобы ядерная реакция вышла из под контроля. Мощный взрыв вспорол корпус лодки и подкинул многотонную крышку на десятки метров, а десятеро офицеров и матросов, работавших внутри корпуса, сгорели заживо в мелкую чёрную пыль. Выброс радиации достиг 90 000 рентген/час - ещё один человек, оказавшийся рядом, погиб от такого воздействия за считанные секунды, а полсотни получили опасные дозы облучения. От судьбы Припяти Шкотово-17 спас лишь небольшой объём реактора да сопки, за которые зацепился радиоактивный шлейф. Чажма превратилась в зону заражения, хотя и не так уж надолго - 99% радиоактивности дал кобальт-60 с периодом полураспада в 6 лет. Останки 11 погибших схоронили бетонной могиле в соседней (с другой стороны от Дуная) бухте Сысоева. Я хотел увидеть эту могилу с памятником наподобие Фокинской часовни (2004), но судя по тому, что о её существовании в Дунае не слышал ни один таксист - она скрыта в глубине воинской части.
27.
Восточнее Разбойника в берег вдаётся на 3,5 километра бухта Абрек - эстуарий реки Когатунь меж хищными абрисами мысов Абрек и Стрелок. Так назывались два клипера, в 1859 году впервые исследовавшие этот берег, да и в принципе едва ли не все морские топонимы Приморья восходят к кораблям и их командам.
28.
За мысом Абрек виден Крым - ныне опустевший посёлок на полпути между Техасом и Дунаем. По легенде, это Хрущёв воскликнул "Здесь как в Крыму!" (да и сам я называл Приморье Тихоокеанским Крымом!), ну а на самом деле вместе с дунайскими молдаванами сюда в 1907 году прибыло и несколько семей из Тавриды. Зато этот Крым во-первых "не украинский, а безлюдный", а во-вторых однозначно с точки зрения всего международного права НАШ.
29.
Именно на Абреке с 1867 году находилась военная база Стрелок, и как следует из названия - больше на восточном берегу, у одноимённого мыса. Там по сей день печально ржавет большой десантный корабль "Александр Николаев" (1976-82, завод "Янтарь" в Калининграде) - свои лучшие корабли ТОФ держит прямо на набережной Владивостока, хотя флагман "Варяг" приписан именно к Фокино. О том же, что когда-то жизни тут было гораздо больше, напоминает целая цепочка памятников - справа Як-38 и Ка-52 слагают монумент морской авиации, а слева у воды увековечен Алдар Цындежапов, юный срочник из Агинского, 24 сентября 2009 года ценой своей жизни остановивший утечку горящего топлива на эсминце "Быстрый":
30.
А над бухтой высится бетонный обелиск (1979) - ещё один памятник жертвам командирского разгильдяйства. 13 июня 1978 года во время учебных стрельб на крейсере "Адмирал Сенявин" (1951, систершип крейсера-музея "Кутузов" в Новороссийске) в главном калибре заклинил снаряд. Командир предположил, что это осечка, и велел открыть орудие, но это оказался "затяжной (по сути - отложенный) выстрел", произошедший как раз когда замки были сняты. Пороховые газы прорвались в помещения орудийной башни и вызвали пожар, и во избежание детонации боекомплекта командир велел затопить погреб. От огня и воды погибло 37 человек, а вот корабль восстановили всего за месяц...
31.
Мыс Стрелок отмечает Безымянную, ибо ничем не примечательна, бухту:
32.
За которой удобные глубокие гавани прерываются длинными пляжами, а владения Тихоокеанского флота - владениями курортного бизнеса:
33.
Безымянный мыс разделяет две Домашлинки (по впадающей в Безымянную бухту реке) - слева Мелкий пляж, справа Глубокий пляж со множеством мини-отелей:
34.
Следующий Опасный мыс с кекуром Акулий Зуб открывает бухту Руднева, среди куроротников более известную по звучному старому (до 1972 года) названию Тинкан. Между турбазами затесалась и пара взаправдашних посёлков - Домашлино (виден на кадре выше слева) и Руднево (на кадре ниже остался за правым краем):
35.
А вот и восточный край залива Стрелок - вдали виднеется белые дома предместий Находки (в первую очередь - Ливадии, не менее куротной, чем её крымский прототип).
36.
Никольский остров прикрывает бухту Павловского, и в ультразум хорошо заметно, что перед ним - не косы, а волноломы. За сопкой видны домики бывшего Павловска - действовавшей в 1958-94 годах главной базы атомных подводных лодок Приморья (но - второстепенной на ТОФ, где "осиным гнездом" слыл камчатский Вилючинск). В 1977 году здесь начали строить, но так и не успели завершить до распада Союза Объект №6 - подземное укрытие подводных лодок, наподобие того, что в наши дни можно осмотреть в Балаклаве. Музеем Объект №6 пока не стал, но давно превратился в "мекку" дальневосточных сталкеров, проникающих в тоннели по льду:
37.
Издалека же бухта Павловского примечательна памятником в виде бетонной рубки (1983) - жертвам ещё одной трагедии, но - хотя бы не разгильдяйства командиров. 21 августа 1980 года на АПЛ К-122, бороздившей пучины Филиппинского моря, начался пожар в реакторном отсеке. Потушить его не удалось, поэтому ликвидировав опасность радиационной аварии, отсек заблокировали, пока в нём не выгорит всё, а дальше начались долгие дни борьбы за живучесть повреждённой субмарины. Локализация пожара, всплытие с 70-метровой глубины, выживание на поверхности - всё это было обеспечено нестандартными решениями экипажа и самопожертвованием нескольких моряков. Первую помощь К-122 оказал английский сухогруз, а дальше к месту бедствия двинулись военные корабли - как советские, так и вероятного противника. В итоге лодка была взята на буксир учебным судном ТОФ "Меридиан", а 15 погибших на её борту похоронили на базе.
38.
Дальше видны бухты Открытая и Анна с одноимённым посёлком (300 жит.), уже не входящие в залив Стрелок, а за ним пространство следующего залива Восток между Ливадией и Находкой:
39.
Итак, прошлые полтора десятка кадров были сняты с горы Старцева, что так удачно торчит посреди залива над островом Путятин. Но сперва надо туда как-то переправиться! Дунай завершает Темп - сейчас уже не вполне очевидно, что это название восходит к аббревиаутре Трест Экспорта Морской Продукции: до военных, с 1934 года, хозяевами залива Стрелок были промысловые водолазы.
40.
До горы Старцева отсюда по прямой 4 километра, до причала в посёлке Путятин - 6:
41.
Преодолеть их помогает паром "Путятин", переделанный из танкодесантной баржи - для Приморья транспорт столь же характерный, как и корейские автобусы с занавесочками. Местные своего парома даже немного побаиваются, но тут они не правы - это на такой посудине "Итурупская четвёрка" не по своей воле 40 дней бороздила открытый Тихий океан.
42.
Ныне "Путятин" курсирует 3-4 раза в день, причём его касса находится на материке, а с острова он возит пассажиров бесплатно. Машины - только по предварительной записи и видимо предоплате в "материковой" кассе. Для островитян проезд стоит 32 рубля, для всех остальных - 132, вот только официально паром может перевозить не более 9 человек, и островитяне тут всегда обладают приоритетом. Иногда, конечно, паромщик берёт больше людей, а ещё реже на этом попадается всяческим надзорам, после чего какое-то время всё соблюдается строго. Сами островитяне к туристам дружелюбны, как к братьям по несчастью, и только в довольно грубой форме требуют не фотографировать паром, если на нём явно много народу.
43.
Ходят здесь и грузовые баржи, так же не брезгующие брать пассажиров. Например, в первых числах сентября несколькими рейсами в день в течение доброй недели на Путятин завозили уголь:
44.
Если же на пароме не хватило мест или он сломался - к вашим услугам катер. Проблема в том, что берут катерники по 2000 рублей за рейс при вместимости от 5 до 10 пассажиров. Которым ещё и надо собраться...
45.
На пароме мы возвращались, а вот катером ехали "туда", опоздав на вечерний рейс из-за той самой пробки. От раскошеливания спасло то, что на острове проходил Приморский Трезвый сход Академии Вольных Путешествий, куда собирались не мы одни. При этом две местных жительницы с кучей барахла, оказавшиеся в одно время с нами у причала, уже ждали другой катер, а ещё несколько АВПшных людей приехали после нашего отбытия и остались на берегу ночевать.
46.
Но закатное море безумно красиво. Дунай остался за кормой:
47.
По левую руку видны гостиницы Домашлинки и Тинкана:
48.
По правую - путятинский мыс Родионова на выходе из залива Стрелок:
49.
Понемногу в пролив выходит, словно огромный корабль, остров Аскольд и заметные на его фоне Камни Унковского:
50.
Самое узкое место пролива - между мысов Филисова (справа, на материке) и Фелькерзама (слева, на Путятине):
51.
Сам Аскольд высок (352м) и живописен, на карте образуя букву "П" с открывающейся в море бухтой Наездник. Манзы называли его Лефу ("Промысловый") или Циндао ("Зелёный"), англичане в 1855 указали на своих картах как Терминейшен-Пойнт ("Точка завершения", то есть край будущего залива Петра Великого), а русские в 1858 - как Маячный, и лишь в 1863 остров получил имя в честь фрегата "Аскольд". Золотые прииски в 1874 году прибрал к рукам подавшийся в дальневосточные промышленники польский магнат Михаил Янковский (его "замок" я показывал в посёлке Витязь), так что манзы вновь потянулись сюда уже легально. Но золотые пески оскудели, и Янковский переключился на другой бизнес, впервые начав разводить на шкуры и панты местных пятнистых оленей, а в 1879 и вовсе перебрался на материк. С 1892 года хозяевами острова стали военные, о которых напоминают связанные головокружительной лестницей Старый (1879-81) и Новый (1940) маяки на мысе Елагина да орудия 26-й батареи, вместе с аналогичными пушками на мысе Гамова и грандиозной Ворошиловской батарей на острове Русском охранявшие Владивосток от милитаристов, империалистов и прочих шовинистов. Когда же сами мы подались в капитализм, отсюда и военные ушли - нынешний Аскольд необитаем, а поездка туда на весь день стоит в среднем 15 000 рублей за 10-местную лодку.
52.
До Аскольда я доберусь когда-нибудь в другой раз, пока же впереди - Путятин:
53.
Который, кинув последний взгляд на материк сквозь геральдически раскинувшего крылья баклана, покажу в следующей части...
54.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2021
Обзоры и оглавления
Суровое Сибирское Лето. Июнь.
Суровое Сибирское Лето. Август.
Приморье
Фокино. Техас и Дунай.
Фокино. Остров Путятин.
Хабаровский край
О народах Приамурья.
Сикачи-Алян.
"Заря" на Тунгуске.
Хабаровск. Южные окраины.
|
Метки: Зона заражения Атомная быль Дальний Восток транспорт дорожное |
Белоярская АЭС. В поисках вечного двигателя. |
Белоярская атомная электростанция имени Игоря Курчатова не на слуху. Даже ее местоположение ничего не скажет большинству читающих эти строки: городок Заречный (28 тыс. жителей), но только не ЗАТО под Пензой, а его тёзка на реке Пышма в 45 километрах восточнее Екатеринбурга. А вот те, кто знает про атом чуть больше, при упоминании Белоярки возводят глазу к небу и произносят "Ооооо!" - она уникальна сразу по нескольким пунктам. Это старейшая действующая атомная станция России, пущенная хоть и куда позже Обнинской АЭС, но зато - сразу в экономическую эксплуатацию. Но это и самая необычная, самая инновационная, самая перспективная атомная станция планеты - здесь работают единственные в мире промышленные реакторы на быстрых нейтронах, веха давней мечты человечества о создании вечного двигателя.
...В 1687 году бояре Иван и Фёдор Томилины из Верхотурья основали слободу у белого яра на Пышме. Заселили её выходцы из других уральских слобод вроде Невьянска или Ирбита, за полвека разросшихся настолько, что скудной земли стало всем не хватать. В 1695 году слобода была усилена небольшим Белоярским острогом с гарнизоном из казака и двух драгунов. Но считанные годы спустя актуальнее острогов на Урале сделались заводы, как например Невьянский (1700), Уктусский (1718) или Верх-Исетский (1758), к которым и приписали местных крестьян. Среди начальства белоярцы слыли бунтарями - то жалобу напишут в Главное управление, то солдат на испуг возьмут, то в Пугачёвском бунте поучаствуют. В 1781 году через Белоярскую слободу пролёг колёсный Сибирский тракт, и в 1790 здесь Александр Радищев "пошумел с пьяными мужиками", а в 1912 году Григорий Распутин "проехал к себе домой, тщательно скрывая лицо широкополой шляпой". К началу ХХ века Белоярское было процветающим купеческим селом, от которого остались обезглавленная Успенская церковь (1822-23), пяток каменных домов да остатки мукомольной (1886) и картонной (1913) фабрик. Изменилось за сто лет немногое: ныне Белоярский - крупный (11 тыс. жителей) ПГТ (с 1959 года) на трассе Екатеринбург-Тюмень. Но чуть не доезжая Белоярского вдруг по левую руку показываются высокие блестящие дома, а на развилке светофор всё время держит маленькую пробку в боковой дороге. Застройщики демаскировали целый город, скрытый советским генпланом за лес:
2.
Заречный он именно относительно Белоярского - в 1955 году на другом берегу Пышмы начали готовить площадку для Белоярской ГРЭС. Стройку объявили всесоюзной, ударной и комсомольской, а уже в 1957 году вместо парового котла новой электростанции был уготован ядерный реактор. Тут надо сказать, что хотя Советский Союз считается первопроходцем Мирного атома, на самом деле всё совсем не однозначно: Обнинская АЭС в Калужской области (1951-54) и Сибирская АЭС под Томском (1954-58) были включены в энергосистему, но первая строилась как экспериментальная, а вторая - для наработки оружейного плутония. Капиталисты же переводить свой атомный проект на экономические рельсы начали может и чуть позже, но куда энергичнее - уже в 1956 году в Англии заработала первая в мире чисто коммерческая АЭС Калдер-Холл. В 1958 американская АЭС Шиппингпорт дала ток офис-билдингам и металворкам Пенсильвании, а в 1960 была пущена первая в мире частная АЭС Дрезден - вопреки названию, близ Чикаго. Её и можно теперь считать старейшей действующей атомной станцией мира: Обнинская была остановлена в 2002 году, Сибирская - в 2008-м, Колдер-Холл - в 2003, а Шиппингпорт еще в 1982-м, причём последние две были снесены без остатка. СССР же начал строительство двух полностью гражданских атомных станций под Свердловском и Воронежем лишь в 1957-58 годах, введя обе в строй в 1964-м. Однако Нововронежская АЭС дала ток в сентябре, а Белоярская (вот же совпадение!) - 26 апреля. И таксист, поняв, куда мы держим путь с кучей фотоаппаратуры, вздрогнул:
-Вы на атомную едете? Что там случилось?!
-Ничего не случилось. Всё прекрасно. Едем делать репортаж о том, какая она безопасная.
3.
Заречный мы объехали по самым окраинам, с которых видно, что атомград - всё-таки не ЗАТО: по ухоженности и умиротворению уральскому городку далёко до своего пензенского тёзки, да и застройщики из Екатеринбурга активно вторгаются и сюда. Однако кто в городе хозяин - видно:
3а.

Углубившись в промзону, мы остановились у бетонных блоков, от которых открывался вид с заглавного кадра - и я ещё не знал, что это лучший вид на атомную станцию из доступных. Первый пункт программы - занимающий бывшее стройуправление Учебно-тренировочный центр Белоярской АЭС, экскурсию по которому нам провёл замначальника Дмитрий Кондрашов (на фото слева):
4.
У КПП - росатомовская пресса, и в том числе газета Белоярской АЭС с чрезвычайно характерным названием:
4а.

В 4-этажном здании ныне кабинеты и учебные классы, а вот в его дворе, в бывшей столовой, недавно оборудовали тренажёры:
5.
В фойе - гардероб, на стенах схемы реакторов и парогенераторов, и как то ли памятник, то ли наглядное пособие - имитация тепловыделяющей сборки. Активная зона реактора - это пучок подобных конструкций, внутри которых находятся ТВЭЛы: тепловыделяющие элементы, состоящие из собранных в тонкие стержни таблеток ядерного топлива. Характерная текстура на металле - следы воздействия жидкого натрия: ТВС побывал внутри реактора. Но бояться облучения рядом с ним не стоит: это своеобразный "черновик" - имитаторы помещают в реактор при монтаже, и лишь по завершении финальных испытаний заменяют настоящими тепловыделяющими сборками.
6.
За дверью - собственно тренажёры различных систем управления атомной станцией:
7.
В первую очередь - Блочный пункт управления, точная копия того, что мы ещё увидим в глубинах 4-го энергоблока:
8.
На спинках кресел - надписи: "Начальник смены турбинного цеха", "Ведущий оператор по управлению блоком" и прочее: с каждого компьютера управляется строго определённый участок системы, причём оператор имеет возможность смотреть, что происходит на других участках - но не влиять на них.
9.
Компьютеры продублированы аналоговой панелью. В очередной раз удивляюсь стильности приборов Росатома и советского Минсредмаша:
10.
А явно аварийный показатель мощности в 29% не случаен - нам показали небольшую тренировку по ликвидации нештатной ситуации:
10а.
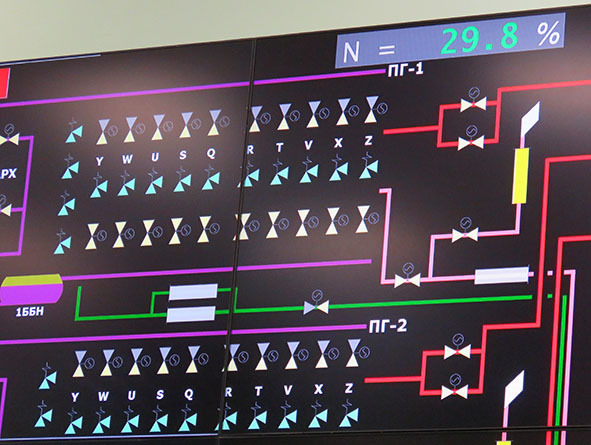
Для неподготовленного человека это выглядит так: панель вдруг начинает пищать и мерцать огоньками, а операторы - совещаться на своём техническом языке, понятным не более, чем церковнославянский. В какой-то момент мощность перестаёт падать и вновь начинает расти, и после долгого гудка светопреставление заканчивается. Так и не скажешь "на глаз", решили операторы проблему или угробили самую совершенную в мире АЭС. За несколькими минутами тренировки следует долгий разбор полётов, и если надо - повторные тренировки.
От УТЦ мы поехали вглубь защитной зоны, пустой дорогой вдоль бесконечных заборов. С дороги этой открываются впечатляющие виды на энергоблоки Белоярки, но фотографировать из окна автобуса нам запретили строго: самая секретная часть атомной станции - не где-то в её недрах, а на виду: изображения заборов, камер, контрольных полос является государственной тайной, а публикация их фотографий чревата 283-й статьёй. Разрешённых для съёмки точек у БАЭС всего две - там, где охранный периметр прерывается проходными. Фактически же Белоярка - это не одна, а две атомных станций на изолированных площадках, и к проходной "старой" БАЭС (размером 800х600м) мы подъехали лишь потому, что напротив неё - столовая.
11.
Здание с трубами на кадре выше сразу привлекает взгляд панно с портретом Игоря Курчатова и его цитатой "Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке Страны Советов". На Белоярке очень гордятся тем, что она единственная в России "именная" - Курчатов умер в 1960 году, и БАЭС вошла в строй первой после его смерти. Сам же корпус с двумя трубами объединяет 1-й и 2-й энергоблоки с реакторами АМБ. Название расшифровывается как Атом Мирный Большой - принцип действиях их был тот же, что и у крошечного (5 МВт) реактора АМ-1 на Обнинской АЭС. Оба они были по сути тоже экспериментальными, заметно отличаясь и от своего прототипа, и друг от друга: пущенный в 1964 году АМБ-100 имел мощность 108 МВт, а пущенный в 1967 году АМБ-200 - уже 160 МВт, ну а дальнейшим их развитием стали печально известные РБМК - "реакторы чернобыльского типа". Ресурс свой АМБ так же выработали очень быстро - 1-й энергоблок был остановлен в 1981 году, второй - в 1989-м. Третий реактор, маленький ИВВ-2 (15 МВт) появился здесь в 1966 году - но не на самой АЭС, а на вплотную примыкающей к ней площадке научного Института реакторных материалов (изначально - Свердловский филиал НИКИЭТ), и он действует по сей день.
12. фото из галереи БАЭС.
Но тут не обойтись без небольшого теоретического отступления. Думаю, все примерно представляют, что такое цепная реакция: ядра тяжёлых атомов распадаются при столкновении с нейтронами, образуя более лёгкие атомы и свободные нейтроны, летящие к новым атомам. Легко подумать, что нейтроны подобно бильярдным шарам разбивают ядра, но на самом деле это не так: ядра атомов очень крепки, но разваливаются под собственной тяжестью, захватив лишний нейтрон. И хотя американский реактор EBR-1, от которого в 1951 году впервые в истории ядерных технологий запитали лампочки в его же цехах, работал именно на быстрых нейтронах, вскоре атомщики поняли, что для эффективного производства атомной энергии нейтроны лучше замедлять. Благо, как показал ещё аквариум с рыбками в лаборатории Энрико Ферми, прекрасным замедлителем оказалась самая обычная вода. А тут стоит сказать, что в промышленных объёмах превращать атомную энергию напрямик в электричество человечество пока не научилось. Атомная станция - по сути та же ТЭЦ, атомный корабль - разновидность парохода: теплоноситель, то есть "вода первого контура", проходя через активную зону реактора, нагревается под огромным давлением до 300 градусов и по герметичным трубам подаётся в парогенераторы, где чистая "вода второго контура" превращается в пар для турбин. Отсюда, например, происходит аббревиатура ВВЭР - "водо-водяной энергетический реактор", где вода служит и замедлителем, и теплоносителем. Реакторы на замедленных "тепловых нейтронах" стали основным направлением развития атомной энергетики, и дешёвый, мощный, безопасный ВВЭР-1200 в этом направлении стал венцом: именно такие реакторы теперь строит по всему миру "Росатом". На Белоярке, однако, ещё в 1970-х годах пошли другим путём:
12а.

В 1968 году по соседству с двумя АМБ начал строиться 3-й энергоблок (на кадре выше) с реактором совершенно другого типа БН-600. Первый ток он дал лишь в 1980 году, и на его запуск приезжал тогдашний руководитель Свердловской области Борис Ельцин:
12б.

Уран - самый тяжёлый из химических элементов, встречающихся в земной каре: его основной изотоп имеет атомный вес 238. Он довольно стабилен и очень прочен, так что из него можно делать противотанковые снаряды или добавлять в стекло для красивого жёлтого цвета. Ядерным топливом же служит куда более беспокойный уран-235. И как источник энергии грамм U-235 стоит тонны угля, вот только содержание его в природном уране не превышает 0,7%. Атомное топливо требует долгого и сложного обогащения (увеличения доли U-235) хотя бы до 3-5% (а в атомной бомбе и до 80%), которым занимается отдельный комбинат в Новоуральске. Когда же весь драгоценный изотоп выгорит - оставшийся уран-238 превращается в бесполезную тяжёлую массу с примесями высокорадиоактивных продуктов распада. Заставить U-238 работать могут только быстрые нейтроны, и сам Ферми лишь тяжело вздыхал, что победителем из ядерной гонки выйдет тот, кто первым сможет приручить их.
13а.

А вот кто назвал быстрые реакторы "печью, в которую кладёшь два полена, а извлекаешь три" - увы, мне не известно, но эта фраза стала неофициальным слоганом Белоярки: быстрые нейтроны способны прицепляться к ядрам урана-238. Вот только U-239 не существует: с лишним нейтроном уран трансмутирует, то есть перерождается в другой элемент - оружейный плутоний. Этот распадается ещё охотнее, чем уран-235, однако в природе не встречается вовсе, а лишь нарабатывается в ядерных реакторах. Но самое потрясающее в этом процессе то, что что в плутоний-239 трансмутирует большее количество атомов урана-238, чем сгорает атомов урана-235! От попыток понять ядерную физику мозг быстро выходит в закритической режим с риском расплавления активной зоны, но если очень упрощённо - "идеальный" реактор на быстрых нейтронах производит больше атомного топлива, чем потребляет. То есть, с оговоркой о том, что масса уран-238 всё равно конечна, подходит под одно из определений вечного двигателя.
13б.

Конечно же, оговорка про "идеальный" не случайна - к его созданию есть множество препятствий, и пока ещё не факт, что какое-то из них не окажется непреодолимым. Самое очевидное - теплоносителем в таком реакторе не может быть вода, ведь она замедляет нейтроны. И название БН - это вовсе не "быстрый нейтрон", а "быстрый натриевый": в первом контуре таких реакторов циркулирует жидкий металл, и пока в НИИ и КБ большие надежды возлагают на свинец, на практике активнее всего применяется натрий. Оставаясь в трубах, он действительно идеален в этой роли: едкие у натрия соединения, в первую очередь оксиды, а вот в чистом виде он реагирует с металлом гораздо меньше, чем вода - та течёт на АЭС по циркониевым трубам, а натрий по обычной нержавейке. Жидкий натрий можно нагреть гораздо сильнее, чем воду под высоким давлением, поэтому в реакторе и трубах оно невелико. Температура кипения натрия - более 1300 градусов, поэтому в натриевом реакторе почти невозможен тепловой взрыв, в своё время разрушивший реактор в Чернобыле. Более того, натрий прекрасно задерживает йод (его радиоактивные изотопы были самыми опасными в осадках Чернобыльской катастрофы), вступая с ними в химическую реакцию. В общем, в трубах натрий - милашка, а вот на воздухе вспыхивает со страшной силой и разъедает бетон с выделением гремучего газа: как однажды сказал Евгений Адамов (министр атомной промышленности РФ в 1998-2001 годах), "В одном пожаре натриевого реактора сгорит вся атомная энергетика". Но с той поры проектировщики и конструкторы придумали надёжную защиту - в 2011 году тот же Адамов возглавил проект "Прорыв", курирующий сразу несколько перспективных разработок, и в том числе реакторы БН.
13в.

На излёте Холодной войны работы над такими реакторами велись сразу в нескольких странах. Первый промышленный БН-350 был запущен в 1973 году на Шевченковской АЭС в Казахстане, где от него работали опреснители, снабжая водой юный город в безводной пустыне. Тем временем США, имевшие потенциал выбиться в лидеры, отказались от быстрых нейтронов по сугубо политическим мотивам: любая страна, имеющая на своей территории подобный реактор, сможет наработать плутоний для атомной бомбы. Дальше продвинулись Франция с АЭС "Феникс" (1974, 250 МВт) и "Суперфеникс" (1986, 1200 МВт) и Япония с АЭС "Мондзю" (1994, 280 МВт), но все эти проекты кончились крахом. Причём даже не сказать, что французы и японцы споткнулись о некую непреодолимую преграду: фатальными становились ситуации вроде "в трубы с натрием проник кислород и вызвал коррозию", "при замене активной зоны внутрь реактора уронили 20-тонную трубу" или "пришли зелёные и устроили массовые беспорядки". "Суперфеникс" погас уже в 1998-м, "Феникс" - в 2009, а "Мондзю" просуществовал формально до 2016 года, вот только поработать успел дай бог год чистого времени. Радиофобия же и вовсе сделала АЭС несовместимыми с демократией: Чернобыль остановил развитие атомной энергетики, а Фукусима обратила его вспять. Ну а Россия оказалась единственной страной, которая не могла свернуть с этого пути: мирный атом слишком тесно повязан с военным, отказ от ядерной энергетики повлёк бы за собой отказ и от ядерного щита. И хотя Россия до сих пор носит позорное клеймо "страны, допустившей Чернобыль", из Чернобыльской катастрофы были сделаны детальные выводы, среди которых, помимо сугубо технических, оказался и такой: атомную отрасль нельзя пускать на самотёк, ей надо ЗАНИМАТЬСЯ. В 21 веке сюда добавилось и осознание того, что атом - едва ли не единственный хай-тек, по которому постсоветская Россия сохранила твёрдое лидерство, а значит его развитие - залог того, чтоб не скатиться в "третий мир". В нейтронную гонку включились новые участники - Китай (у которого уже есть опытный реактор БН-20), Индия и Южная Корея (эти пока только строят). Срок службы БН-600 с 2010 года неоднократно продлевался (предполагается, что он будет в строю до 2040 года), а примерно в километре севернее старых энергоблоков БАЭС в 2006 году начала строиться новая, и куда более обширная (1,7х1,2км) площадка. К ней и направились мы после столовой, чтобы стать первой группой блоггеров, миновавшей эту проходную:
13.
Здесь в 2015 году заработал 4-й энергоблок с реактором БН-800 (мощностью 880 МВт), а с года на год должно начаться строительство 5-го энергоблока с уже не опытно-промышленным, а чисто коммерческим и даже экспортным реактором БН-1200. И хотя до вечного двигателя ("однокомпонентного замкнутого ядерного топливного цикла", если по науке) пока ещё очень далеко, превращать воду в вино и кормить тысячи людей одной буханкой алхимики из проекта "Прорыв" уже научились - под этими метафорами я имею в виду "двухкомпонентный замкнутый ядерный топливный цикл", в каком-то смысле превращающий ядерное топливо в возобновляемый ресурс. Отходы ВВЭРа с добавлением урана-235 или плутония-239 могут служить топливом для БН, а отходы БН с наработанным плутонием - топливом для ВВЭРа. Промежуточное звено - завод, пересобирающий топливо в новые ТВЭЛы и отсеивающий немногочисленные отходы. В которые за несколько лет "кампании" (период работы реактора от загрузки до выгрузки) превращается не более нескольких процентов массы топлива, а значит одно и то же топливо может крутиться между одним БН и двумя ВВЭРами сотни лет. Звучит как фантастика? Однако это уже реальность: наработка первой партии мультиоксидного топлива для замкнутого цикла должна завершиться на здешних реакторах в 2023 году.
14а.
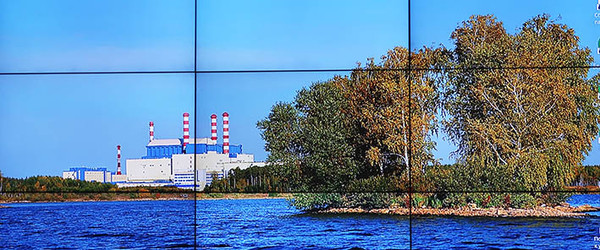
...На проходной - строжайший контроль: сверяют не только паспортные данные, но и модели и серийные номера всей аппаратуры, согласование которой занимает не менее месяца. Проверка каждого входящего растягивается на 5-10 минут, телефоны и ноутбуки нам велели оставить в автобусе, а в практике нашего организатора Артёма Шпакова бывали случаи, когда журналистам или блоггерам не давали пронести на АЭС аккумулятор, пауэрбанк или шнур питания, если он не был указан в заявке. На территории АЭС фотосъёмка разрешена только внутри зданий, и ни в коем случае не из окон. Поэтому в конференц-зале я радостно переснимал официальные фотографии 4-го энергоблока:
14.
В конференц-зал мы зашли для инструктажа и теоретической части. Кресла здесь огромны и очень удобны, но когда плюхнулся я в первое попавшееся кресло, меня тут же пристыдили, что негоже заезжему блоггеру садиться на место директора. У левого края кадра заместитель главного инженера по безопасности и надёжности Валерий Шаманский (в пиджаке) и заместитель главного инженера по эксплуатации энергоблока №4 Илья Александрович Филин. Первый поприветствовал нас и рассказал теорию, второй же лично провёл первому блог-десанту экскурсию.
15.
Дальше нам выдали спецовки и каски. Последние на БАЭС имеют цветовую дифференциацию - рабочие ходят в жёлтых, управленцы и инженеры - в белых, а безопасники - в синих касках. В фойе увешанного плакатами, диаграммами и таблицами инженерного корпуса Илья Александрович рассказал нам у макета БН-800 о принципах действия и безопасности этого реактора, а дальше мы направились в производственную зону.
16.
Корпуса БАЭС связаны бесконечными галереями, висящими довольно высоко над землёй. Из их окон открываются роскошные виды на площадку и её огромные корпуса. Сопровождающие, а их было человек пять, рассказывали нам, где проходила сборка реактора, а где находится котельная и здания с резервными дизель-генераторами, при обесточивании включающимися на полную мощность за 30 секунд. Но о том, что фотографировать нельзя - напоминали каждый раз, стоило было кому-то посмотреть в окно. Так что вместо окон я переснимал исторические фотографии на стенах:
17.
Галереи сменяются коридорами и лестницами энергоблока, за поворотами которых обнаруживаются питьевые фонтанчики, сантиайзеры, плакаты по ТБ и даже одинокая икона. По пути к блочному пункту управления - ещё один КПП с военизированный охраной стрелкового батальона Росгвардии - единственное место в помещениях, где тоже запрещено снимать.
18.
Безопасность на АЭС возведена в такой культ, что здесь хороши все средства.
18а.

Илья Александрович привёл нас в блочный пункт управления, облик которого, за исключением прозрачной ограды из бронестекла, знаком нам по Учебно-тренировочному центру. Если в остальных помещениях каска обязательна, то за эту дверь вход в каске, напротив, запрещён - такая норма безопасности появилась после ЧП на Смоленской АЭС в лихих 1990-х, когда что-то сработало нештатно из-за падения каски на пульт.
19.
Здешних операторов Илья Филин расхваливал долго - получить все согласования (например, в "Ростехнадзоре") и допуски на такое рабочее место дело нескольких лет, так что трудятся здесь профессионалы из профессионалов.
20.
Следующий этап очень веселил всех ветеранов "росатомских" блог-туров - кто-то вспомнил даже "эротическую фотосессию" с другой АЭС. Мужская половина группы отделилась от женской, и Филин привёл нас в раздевалку со множеством шкафчиков. Здесь он велел раздеться до трусов и сам подал пример. В трусах и резиновых тапочках мы прошли во вторую раздевалку, где получили белоснежные спецовки (штаны, футболка, рубашка, шапочка и носки), резиновые калоши, а также новые маски и каски.
21.
Став похожими то ли на врачей, то ли на поваров. В специальном окошке перед тяжёлой дверью реакторной зоны нам выдали последний компонент - нагрудные дозиметры.
22.
За дверью мы поднялись на лифте, и Артём сразу обратил внимание на особый тяжёлый воздух, как в бункерах - окна здесь герметично задраены, а воздух циркулирует через систему очистки.
23.
В коридоре около которой нас догнал сотрудник с каким-то явно довольно тяжёлым пакетом. Оттуда сопровождающие извлекли "самую высокотехнологичную в мире ткань" для спецкостюма, который защитит персонал в случае попадания раскалённого жидкого натрия. Такие костюмы, выдерживающие температуру в тысячу градусов Цельсия, изготовлены по спецзаказу Белоярской АЭС и не имеют аналогов в мире. Сотрудники надевают их во время ремонтных работ на оборудовании натриевых контуров. Если раскалённый жидкий натрий попадёт на ткань этого костюма, то она начнёт выделять газ. Образуется газовая подушка, по которой натрий просто стечёт с ткани. По словам Ильи Филина, на презентации её показывали так - на полотнище сверху клали кусок горящего натрия (а это более 1000 градусов), а снизу рабочий спокойно трогал его рукой сквозь ткань.
24. фото Валерия Грачикова
Коридоры, двери, лестницы, герметичные окна... Всё это расступается и теряется из памяти, когда очередные ворота выводят в реакторный зал:
25.
Не знаю точно, какого он размера, но на глаз от пола до потолка тут хорошо за полсотни метров, так что верх и низ невозможно охватить одним взглядом. Портальные краны из Красноярска висят под потолком не просто так - хотя строительство цеха и монтаж оборудования шли параллельно, объём позволяет проводить в цеху любые операции вплоть до замены внутриреакторного оборудования.
26.
"А спрута сфотографировать дадут?" - спрашивал в начале экскурсии кто-то из блогеров. Вот он, этот спрут - сам реактор БН-800 в окружении толстенных труб и ярко-жёлтых насосов. Внутри реактора первый контур, где циркулирует жидкий натрий, разогретый до 354 (на входе) и 547 (на выходе) градусов. Трубы - это уже второй контур, где тоже циркулирует натрий, но - "чистый", и на позапрошлом кадре видны прокачивающие его насосы. Ну а вода, кипящая в парогенераторах - это уже третий контур, целиком вынесенный за пределы реакторного зала.
27.
Размеры реактора БН-800 - 13 на 15 метров, и на макете, что стоит в фойе инженерного корпуса, хорошо видно, что оранжевый цилиндр с кадра выше - лишь колпак над реактором, а сам корпус, внутри которого активная зона, сверху не виден. У этого макета Илья Филин много рассказывал нам о безопасности реакторов на быстрых нейтронах. Увы, понять и запомнить я смог немногое, но если уж совсем в общих чертах - то после Чернобыльской катастрофы, где едва ли не решающим фактором стал человеческий, разработчики реакторов сделали ставку на "пассивную безопасность". Что это значит? Например, поглощающие стержни (которые блокируют нейтроны и "размыкают" цепную реакцию) здесь просто висят в вертикальных струях натрия как поплавки, и если прокачка останавливается - опускаются в активную зону под собственным весом. В Чернобыле одним из главных источников радионуклидов был кориум - лава из расплавленных ядерного топлива, металла и бетона, беспорядочно стекавшая в подвалы, где в итоге образовалась инфернальная Слоновая Нога, а могла образоваться и чреватая ядерным взрывом критмасса. Здесь, даже если дело дойдёт до расплавления - всё стечёт в специальный герметичный поддон. Но до расплавления довести БН-800 надо ещё умудриться - теплообменники устроены так, что температура в реакторе при полной потере управляемости будет повышаться со скоростью около 20 градусов в час, а значит точки кипения натрий может достигать больше суток.
28.
Там же, около макета - ещё один имитатор тепловыделяющей сборки:
28а.

В зале же моё внимание привлёк разобранный насос, недавно извлечённый из реактора:
29.
Который мне порекомендовали сфотографировать вместе с дозиметром - за 20 минут в реакторном зале мы не получили даже микрорентген облучения.
29а.
Впечатлившись величием технологий, покидаем зал. Безопасник в синей каске докладывает кому-то об этом по рации:
30.
На выходе - строгий дозиметрический контроль. Специальным устройством проверяются фотоаппараты, которые затем передаются в раздевалку через дверь, в которую мы сюда пришли:
31.
Сами мы возвращались другим путём - через дозиметрические посты, выдающие инструкции очень ласковым женским голосом. Первый пост мы проходили в белых спецовках, второй - в трусах и тапочках, и только после вернулись в первую раздевалку к своей уличной одежде.
32.
Дальше мы вновь прошли через КПП с росгвардейцами да направились лестницами и коридорами в машзал. На входе в него все надевают беруши, которые нам выдали вместе со спецовкой:
33а.

И в сплетениях труб...
33.
...через три этажа...
34.
...мы вышли к турбине, под неподвижным корпусом вытянувшейся на два десятка метров. Беруши тут и правда не лишние - в зале режущий рёв, больше всего похожий на шум тяжёлого вертолёта, как он слышится внутри салона. Герметичные трубы с разогретым до сотен градусов натрием испаряют в парогенераторах воду, и пар крутит турбину со скоростью около 3000 оборотов в минуту.
35.
Турбина 4-го энергоблока могуча, но безымянна, а вот на 3-м энергоблоке есть Турбина имени газеты "Уральский Рабочий", активно освещавшей то строительство. Помимо турбин, пар идёт и на отопление Заречного, которому АЭС служит котельной.
36.
Дальше всё теми же лестницами, коридорами и галереями, за день намотав по ним несколько километров, мы вернулись в инженерный корпус, где нас ждал небольшой фуршет. Илья Филин устроил даже мини-викторину по своей экскурсии, и я выиграл фирменную майку БАЭС. Вскоре за проходной мы садились в автобус...
37.
...Как в своё время сказал мне Владислав
 estrella_de_sur, вся история человечества - это борьба с дефицитом энергии. Царём зверей человек стал в тот момент, когда научился не просто пользоваться огнём, но и воспроизводить его своими силами. Цивилизация появилась тогда, когда люди научились не только добывать себе пищу в дикой природе, но и выращивать её на пастбищах и полях. Неказистый паровой двигатель Уатта с КПД менее 1% дал старт паровой революции потому, что старая вододействующая промышленность, венцом которой в 18 веке был Урал, оставалась в жёстких рамках речных русел. Для нынешнего человечества теплоэнергетика ограничена исчерпаемостью полезных ископаемых, а гидроэнергетика - всё теми же речными руслами. Вновь расширить рамки производства энергии так, как это сделали охотник Нао или Джеймс Уатт могут только возобновляемые источники энергии, но сможет ли человечество в принципе создать достаточно мощный ветряк или солнечную батарею? Самые большие перспективы сулит замкнутый цикл ядерного топлива, позволяющий сделать это топливо возобновляемым. Уже добытого на данный момент урана-238 при текущем уровне потребления хватит в этом цикле на 1500 лет, и в целом на уран приходится 60% всех топливно-энергетических полезных ископаемых планеты. Проект "Прорыв" помимо БНов курирует БРЕСТы - быстрые реакторы, где теплоносителем служит расплавленный свинец, в бассейн с которым погружается активная зона: опытный реактор такого типа на 300 МВт этим летом начали строить в Северске. Сами быстрые нейтроны - не единственная концепция "вечного двигателя": например, существуют проекты ядерных релятивистских установок, сочетающих реактор с ускорителем заряжённых частиц, но с окупаемостью цена их энергии пока расходится в 8-10 раз. Рукотворные звёзды теморядерных реакторов оказались и вовсе немногим доступнее настоящих космических звёзд... Промышленный БН-1200 же готов к строительству, а по стоимости будет немногим дороже ВВЭР-1200 и дешевле любых иностранных реакторов сопоставимой мощности.
estrella_de_sur, вся история человечества - это борьба с дефицитом энергии. Царём зверей человек стал в тот момент, когда научился не просто пользоваться огнём, но и воспроизводить его своими силами. Цивилизация появилась тогда, когда люди научились не только добывать себе пищу в дикой природе, но и выращивать её на пастбищах и полях. Неказистый паровой двигатель Уатта с КПД менее 1% дал старт паровой революции потому, что старая вододействующая промышленность, венцом которой в 18 веке был Урал, оставалась в жёстких рамках речных русел. Для нынешнего человечества теплоэнергетика ограничена исчерпаемостью полезных ископаемых, а гидроэнергетика - всё теми же речными руслами. Вновь расширить рамки производства энергии так, как это сделали охотник Нао или Джеймс Уатт могут только возобновляемые источники энергии, но сможет ли человечество в принципе создать достаточно мощный ветряк или солнечную батарею? Самые большие перспективы сулит замкнутый цикл ядерного топлива, позволяющий сделать это топливо возобновляемым. Уже добытого на данный момент урана-238 при текущем уровне потребления хватит в этом цикле на 1500 лет, и в целом на уран приходится 60% всех топливно-энергетических полезных ископаемых планеты. Проект "Прорыв" помимо БНов курирует БРЕСТы - быстрые реакторы, где теплоносителем служит расплавленный свинец, в бассейн с которым погружается активная зона: опытный реактор такого типа на 300 МВт этим летом начали строить в Северске. Сами быстрые нейтроны - не единственная концепция "вечного двигателя": например, существуют проекты ядерных релятивистских установок, сочетающих реактор с ускорителем заряжённых частиц, но с окупаемостью цена их энергии пока расходится в 8-10 раз. Рукотворные звёзды теморядерных реакторов оказались и вовсе немногим доступнее настоящих космических звёзд... Промышленный БН-1200 же готов к строительству, а по стоимости будет немногим дороже ВВЭР-1200 и дешевле любых иностранных реакторов сопоставимой мощности.38.
С такими мыслями я уезжал с атомной станции. За деревьями закатное солнце отражалось в водной глади - но это не пруд какого-нибудь железоделательного завода времён Екатерины II, а тянущееся на 20 километров, почти до Екатеринбурга, Белоярское водохранилище, заполненное в конце 1950-х для нужд БАЭС. Подпирает его довольно живописная плотина-"сталинка" посреди скал, а лёд зимой переполнен рыбаками, которых по весне приходится сотнями снимать с отколовшихся льдин. Рыбы в водохранилище много - часть видов сюда поселили искусственно, чтобы они поедали водоросли, а в чистой воде и вся остальная рыба обильна и крупна. Со льда открываются и лучшие виды на АЭС. Дорога по берегу похожа на парковую аллею, кабы не трубы старых энергоблоков вдали:
39.
Без остановок проехали внешний КПП, где досматривают въезжающие машины:
40.
А за ним раскинулся сам Заречный, у края охранной зоны застроенный в основном трёхэтажками без архитектурных излишеств. Границу "исторического центра" образует ДК "Ровесник" (1966) на площади Победы, за улицей Ленина переходящей в аллею с воинским памятником:
41.
Погулять по Заречному времени не было, но на улицах Ленина и Горького, по которым мы ехали, находятся буквально все примечательные здания городка, кроме той самой плотины. Вот скажем Покровская церковь (2016):
42.
Ансамбль из Дома торговли...
43.
...и гостиницы "Тахов" (по городу-побратиму в Чехии), ресторан которой впечатляет фигурами деревьев под стеклом:
44.
Это здание я было принял за автовокзал, а оказался ТЮЗ:
45.
Архетипический русский образ - бородатый мужик-самородок из глухого села или обветшалого предместья, пытающийся собрать из подручных материалов perpetuum mobile. Но и в 21 веке эта мечта не забыта, а над её воплощением трудятся рабочие и инженеры из тесных квартир в многоэтажках...
46.
Ну а мои прогулки с "Росатомом" на этом не закончены. Пару дней спустя, надев ту самую майку БАЭС, я отправился на завод "Атоммаш" в Волгодонске. О котором - в следующей части.
|
Метки: Атомная быль дорожное Урал индустриальный гигант |
Суровое Сибирское Лето. Часть 3 (август): Второй путь БАМа |
Покрутившись в июне по диким степям Забайкалья и прорвавшись в июле в бурятскую Долину Вулканов всем локдаунам назло, в августе я начал путь домой. Весьма необычный путь из Иркутска в Москву через Дальний Восток, кульминацией которого должна была стать Новая Чара на БАМе, откуда намечались два похода на Удокан и Кодар. Но как и первые два месяца в Сибири, третий месяц пути не обошёлся без приключений.
Величественную Байкало-Амурскую магистраль я проехал в сентябре 2020 года с востока на запад, от Комсомольска-на-Амуре до Братска, по пути заглянув на сюрреалистические Чарские пески, в жутковатое Бодайбо и странноватый Усть-Илимск. Но самые красивые участки в середине дороги, так называемый Горный БАМ, я тогда благополучно проспал: полюбоваться им при свете можно только с поездов, идущих с запада на восток. Из Иркутска по затянутой дымом Ангаре на скоростном "Метеоре" мы спустились в Братск и сквозь осязаемую целлюлозную вонь поехали на маленькую станцию Анзёби. Первый поезд увёз нас совсем недалеко - до Коршунихи-Ангарской в живописном советском городке Железногорск-Илимский:
2.
Где есть карьер глубиной с Останкинскую башню:
3.
По Железногорску я гулял один, пока Оля сидела на вокзале, и с самого утра впечатлился тем, насколько на БАМе холоднее по сравнению с Транссибом. Ближе к полудню подошёл наш поезд, и мы отправились дальше - через знакомые Усть-Кут и Киренгу и незнакомый Дабанский хребет перед Северобайкальском, прошитый парой 8-километровых тоннелей. Один из них пустили буквально год назад: "второй путь БАМа" - не художественный образ, а реальная стройка.
4а.

Ещё я заметил, что вижу горные вершины и далёкие хребты: дымка лесных пожаров, затянувшая Иркутскую область, так деморализовала меня, что я был готов отказаться от дальнейшей части маршрута - есть ли смысл ходить по горам, не видя самих гор? Но восточнее Лены над БАМом было голубое небо, а за Байкалом на далёких горах просматривалось каждое деревце. За окном вагона сменялись не увиденные годом ранее места - скажем, Куанда "середина БАМа", где в 1984 году открывали готовую магистраль:
4.
Или разъезд Балбухта, где стройка сомкнулась фактически:
5.
Или просто сказочно красивое озеро Леприндо у рогатых гор Кодара:
6.
Мы покинули вагон на станции Новая Чара, которую когда-то строил Казахстан, а теперь наполняет новой жизнью Турция силами узбекских работяг. Новая Чара - пожалуй, самое интересное место на БАМе: близ неё лежит небольшая пустыня Чарских песков в окружении тайги, с севера высятся "сибирские Гималаи" Кодар, а с юга - покатый, сказочно богатый рудами Удокан. На песках мы были в 2020-м году, а теперь собирались сперва в одни, затем в другие горы. На платформе нас уже ждал хмурый Иван, водитель мощного джипа, которому я отдал 15 000 рублей за заброску, так как ничего дешевле не нашёл. На окраине Чары он завёз нас в одноэтажный барак к своему другу Денису, где мы оставили часть вещей - спустившись с Удокана, у Дениса мы должны были заночевать.
7а.
Иван повёз нас вверх вдоль Чинейской железной дороги - одной из самых удивительных и малоизвестных технических достопримечательностей России, про которую я и сам узнал лишь от Михаила
 mikka, когда он вёл нас по КБЖД. Чина и похожа на странный гибрид Кругобайкалки и Трансполяркой: проложенная в лихие 1990-е к так и не построенному руднику, это самая технически сложная и самая высокогорная железная дорога России, но полноценной эксплуатации её так и не началось... Чина уходит в горы на 72 километра, 45 из которых совершенно обычны. А вот ближе к концу, за мостом "на спичках", начинаются технические чудеса и головокружительные пейзажи. И мы собирались пройти их пешком от конечной:
mikka, когда он вёл нас по КБЖД. Чина и похожа на странный гибрид Кругобайкалки и Трансполяркой: проложенная в лихие 1990-е к так и не построенному руднику, это самая технически сложная и самая высокогорная железная дорога России, но полноценной эксплуатации её так и не началось... Чина уходит в горы на 72 километра, 45 из которых совершенно обычны. А вот ближе к концу, за мостом "на спичках", начинаются технические чудеса и головокружительные пейзажи. И мы собирались пройти их пешком от конечной:7.
Конечная - это посёлок Чина в просторной и дикой долине. Такими были на своей заре посёлки БАМа:
8.
Чина не пуста - тут постоянно дежурят два сторожа с пересменками 1 и 15 числа. И сторожА эти возмущаются, когда ЧинЖД кто-то называет заброшенной: они свой хлеб едят за то, что стерегут её уже 20 лет под разговоры о скором восстановлении. Помимо сторожей в посёлке часто ночуют рыбаки, охотники или дровосеки, и нашими друзьями здесь стали Два Александра, кормившие нас самодельным борщом и чуть-чуть подвозившие на своём "Камазе" по ближайшей округе.
9.
Из Чины можно сходить на водопад, который сам впечатляет не так, как его каньон. В перспективе - насыпи ЧинЖД, описывающей здесь фигуру вроде знака вопроса.
10.
Среди лиственниц и кедрача мы спугнули пару оленей:
11а.

Два Александра было обрадовались, что сюда забрели согжои, как называют в этих краях диких оленей. Но выйдя утром из вагончика, мы обнаружили, что весь Посёлок в оленЯх, и у Двух Александров не осталось сомнений - рядом стоят эвенки.
11.
На стойбище которых в 4 километрах от Посёлка мы и сходили пешком:
12.
Попав к тому же на корализацию, когда с окрестных пастбищ олени собраны в загон. Трое эвенков, целый год кочующих на гусеничном вездеходе, меняя стоянки раз в месяц-полтора, встретили нас дружелюбно и не так-то мало успели рассказать. И я был рад знакомству с эвенками, тем более что именно по их землям пролегает БАМ и именно из их языка все эти звучные названия вроде Куанды, Итыкита или Уояна...
13.
Визит к эвенкам занял пол-дня - я рассчитывал пройти 70км Чины за 5 дней с возможностью автостопа. Но ходим мы с Ольгой медленно, собирается она по пол-дня, и наверстать отставание теперь мы вряд ли смогли бы. Два Александра обнадёжили нас, что послезавтра поедут в Чару, и попрощавшись с ними, мы побрели вдоль путей. Вот так выглядит высшая точка железных дорог России (1626м), где мы и заночевали. Здесь мне открылось самое чистое и прозрачное небо, что я только видел - над нами был не просто млечный путь, а спираль галактики с заметными глазу рукавами. В небо мы смотрели долго - в ту ночь сыпали над нами персеиды, оставляя длинные мерцающие хвосты.
14.
Кульминация Чины - 18-километровая узкая полка в 2-3 сотнях метров над рекой Ингамакит: опыт её строительства изучали китайцы, проектируя свою Цинхай-Тибетскую магистраль. Особенно впечатляют гигантские насыпи до 70 метров высотой:
15.
Но всё мертво, а рельсы где-то смещены в трёх плоскостях, где-то перебиты обвалами:
16.
На жаре невыносимо хотелось пить: влажность воздуха в такие дни тут падает до 30-50%, а вода, как знают все местные, очень бедна солями. Поэтому отойдя поискать видовую точку, добрый час мы просидели в кустах разноцветной дикой смородины, вкусом более похожей на иргу. Ингамакитская полка - место сложное ещё и потому, что на ней совершенно нет воды, и в Новой Чаре мы купили баклагу да по пути наверх заначили её в ржавых вагончиках у обрыва. Там мы встали ночевать, и если в Долине Вулканов нам сдавал койку чёрный ворон, то здесь - юркий любопытный горностай. В его компании мы были спокойны за наши продукты, которые еда его еды:
17.
По автодорожным колеям стабильно проезжала 1 машина за день, так что может быть и 15 000 мы отдали Ивану зря - думаю, попутки можно дождаться за пару дней. По плану вернуться в Новую Чару мы должны были 18 августа, но 15 августа там, где виден конец каньона, а мобильник ловит сеть от великой стройки рудника на Удокане, нас подхватил "Камаз" Двух Александров. И досрочный спуск в Денисов барак сулил свои перспективы - ведь за Чарской котловиной виден Кодар:
18.
Ещё в поезде Оля увидела в контакте объявление о походе турклуба МИСИС на Кодар со стартом 16 августа. С его участниками у Оли был общий знакомый, в ответ на вопрос об этой группе разразившийся восторгами, что это очень опытные люди и вообще "группа мечты". Я, конечно, знал, что с такими бывалыми мы далеко не уйдём, но зато понял, что из Новой Чары у МИСИСовцев будет заброска, позволяющая сэкономить 1-2 дня пути. Общий знакомый дал нам контакты, и вот вечером 15 августа из Денисова барака я дозвонился их руководителю Антону в поезд на часовой стоянке в Северобайкальске. Как оказалось на вокзале, мы такие были не одни: следом за нами к девятке красивых, ярко одетых мисисовцев в их блестящих касках примкнули ещё и двое рослых парней в камуфляже. Парни - Анатолий и Антон, - были из Красноярска, а уже по пути среди болот "Урал" подхватил ещё и четвёртую группу - трёх бойких девиц из Хабаровска в компании юркой собаки с отдельным рюкзаком-хурджумом. Девушки выглядели одного возраста, но оказались матерью, дочерью и сестрой. "Урал" же с рёвом разрывал болота, расплёскивал воду в каменистом русле Среднего Сакукана, и порой мне казалось, что мы едем на квадратных колёсах. За лиственницами мелькали Чарские пески, а впереди росла Стена - именно так переводится "Кодар" с эвенкийского. Доехав до непреодолимой для "Урала" реки Ховагда, мы разбрелись - мисисовцы ушли вперёд, красноярские и хабаровские слились в одну группу и поставили палатки, а мы побрели не спеша вдоль Среднего Сакукана.
19.
Кодар - это самые красивые горы, которые я когда-либо видел. Больше всего он похож на Памир - но тот сух и выжжен солнцем, на Кодаре же крутые склоны покрыты благородной северной растительностью.
20.
На замшелых камнях и мокрой земле - почти сплошной ковёр брусники, на компот из которой мы извели весь сахар в долине:
21.
А Оля быстро заметила, что Кодар - ещё и самое грибное место на Земле. Грибы тут конечно простенькие, подберёзовики да подосиновики и изредка сыроежки, но количество и размер впечатляют.
22.
Ещё одна форма жизни, без которой немыслим Кодар - мошки. Я почти не припомню здесь комаров, а вот мошкА не то что заедает, а заслоняет вид и не даёт дышать. Одолевать нас нечисть стала ещё на Чине, и такой страдающей как там я Олю ещё не видел - лишь к Кодару она смогла достаточно усилить имевшиеся накомарник, перчатки и манжеты. Я же вновь убедился в полезнейшем свойстве своего организма - меня мошки почти не едят! При столь массированной атаке я получал 2-3 укуса в день, да и те, даже в глаз или в губу, проходили очень быстро. Это особый кодарский кайф - расхаживать перед другими туристами с коротким рукавом и в тапочках.
23.
А редкостойная лиственничная тайга скрывает мрачные руины сталинских лагерей: за много лет до постройки БАМа тут пытались добывать уран, Самые доступные достопримечательности Кодара - рукотворные: руины рудника в Мраморном ущелье, нескольких лагерей вдоль Сакукана и множество мостов да гатей. Большая часть тропы вдоль реки проходит по старинной Урановой дороге, когда-то клавшейся для грузовиков. По дороге этой, если не думать о судьба з/к, идти легко и приятно, а созданный в 2018 году Национальный парк "Кодар" ещё и оснастил её парой изб, ещё не успевших обветшать и отсыреть. На такой избе мы и встали, и понимая, что я выиграл время и вместо 10 дней у нас будет 12, решили сделать днёвку. Компанию нам внезапно составила съёмочная группа в составе сумрачного тонкого режиссёра, двух актёров (один оказался подросшим хиппи с "Радуги", другой - бывалым туристом), оператора, звукорежиссёра и самоуверенного проводника, сыпавшего радикальными идеями и, как ни странно, успешно их воплощавшего. Что киношники снимали - я так и не понял, но видимо - авторское кино про сталинизм.
24.
Кодар - горы большие и многуровневые: тут есть перевалы и вершины вплоть до 6 категории сложности (а уж зимой, когда тут морозы -50 не редкость, классификация и вовсе бессильна), но подъём Урановой дорогой вдоль Сакукана и радиалки на Мраморное ущелье, Угловое озеро и Медвежий перевал могут оказаться приятной прогулкой, как где-нибудь на Алтае по Аккемской тропе. Однако - с оговоркой: только по хорошей погоде! После днёвки на избе мы пошли наверх, и солнечное утро сменилось хмарью, а затем зарядил дождь. Држдь на Кодаре - хуже просто дождя, потому что у Сакукана множество притоков, в которых стремительно поднимается вода, делая часть бродов непроходимой. Мы даже где-то как-то об этом читали, но понадеялись на авось - и теперь нас ждала расплата... До нитки мокрые, уже в сумерках, мы вышли к последнему броду через Сакукан - за ним стоит самая старая из здешних изб, известная как ГМС. Мрачная, тёмная, но оснащённая кирпичной печкой и просторными нарами, она служит базой радиалок. Вода же в Сакукане уже начала подниматься, и на середине хлестала выше колен. Я сбегал через ледяную реку трижды - перенёс свой рюкзак, вернулся, перенёс рюкзак Оли и за руку перевёл её. Изба же встретила теплом, светом фонарей и русским роком: в полумраке вкушала гречку за столом красноярско-хабаровская группа.
25.
Утро встретило дождём и покрывшим все горы молочно-белым туманом. Конечно, мы решили пережидать дождь, и мало-помалу подружились с соседями. Толя и Тоха работали охранниками зоны, но за внешней грубоватостью оказались ребятами добрыми, надёжными и мыслящими - так, они увлечённо обсуждали современных писателей вроде Ирвина Уэлша и красиво читали по памяти весьма неплохие стихи. Главной в группе стала хабаровчанка, которую тут называли просто Мать. Под вечер мы играли в шляпу, а потом в стикеры, где меня в двух раундах назначали Бритни Спирс и Капитаном Барбоссой, а я своего соседа - Чёрным Плащом и Чингисханом. Но мы не доиграли: сидевшая у окна Оля радостно воскликнула, что сюда идут 9 человек! Из тумана вышли стремительной колонной мисисовцы, закончившие небольшое кольцо по близлежащим перевалам, этакий пролог к основному маршруту в долину соседней реки Апсат. В избе стало жарко и шумно... Руководитель Антон был к нам добр и внимателен, а вот с остальной группой общение не задалось: в лучшем случае люди не шли на контакт, а в худшем нас неприкрыто шпыняли, на любой вопрос или реплику всем своим видом показывая "ты что ли совсем идиот?". И это правда, что мы были самым слабым звеном из собравшихся на ГМСе, но по всем прошлым походам не могу отделаться от мысли, что такой стиль общения более опытных с менее опытными стал неотъемлеой частью российского туризма.
25а.
Утром дождь всё так же лил, хотя туман рассеялся. Ближайшая гора покрылась гирляндой водопадов. Красноярско-хабаровские понимали, что уже никуда не успеют - самое позднее завтра им надо было идти вниз, иначе опоздают на поезд. Мисисовцы весело и быстро собрались в дальнейший путь... В избе вновь стало тихо, я задремал, но вскоре проснулся от хлопков двери и взбудораженной речи. Рядом две девушки с голыми мускулистыми ногами вылезали из обвязок. Вода в Сакукане поднялась так, что стала рослым мужчинам по грудь, и вот на броде течение сбило с ног да понесло тихую, обаятельную Таню, в отличие от своих напарниц и нам не говорившую плохих слов. Её, конечно, спасли и даже рюкзак успели выловить, но все ноги у Тани оказались в синяках, а Сакукан унёс её ботинки, без которых не могло быть и речь о том, чтобы продолжать горный маршрут. Дело принимало мрачный оборот - мы оказались заперты поднявшейся водой, и раз за разом выходя на улицу, я замечал, как усиливается грохот Сакукана.
26.
Ну а затем явился Самый Бывалый Турист - бородатый Саша, автор вот этого подробного поста про Кодар, чья тележка-пиконь лежала на нарах уже к нашему приходу. Саша не сбавляя шагу пересёк Путорану, сплавился по Нижней Тунгуске, добрался теплоходом в Красноярск и приехал сюда, не в первый и может не в десятый раз. С Путораны он вернулся полный отвращения к "утыркам" - малоопытным туристам, которые ходят там с гидами. Гида в следующий раз нанять он посоветовал и мне, бросив, что берут гиды недорого, "в пределах 100 тысяч". Когда же я заметил, что это ж разве недорого, Саша вздохнул и сказал: "Вероятно, туризм - не ваше". Был у него, однако, ещё один полезный агрегат - спутниковый телефон. Саша регулярно звонил в МЧС, где узнавал, что дожди продлятся ещё несколько дней (то 4, то 6, то "на всю глубину прогноза"), заброска или помощь не приедет (так как в Чарской котловине вспучились болота), а значит - надо срочно уходить с Кодара. Красноярско-хабаровские вместе с Таней и так же решившейся покинуть маршрут Дашей (которая и была среди мисисовцев самой острой на язык) и собирались идти на следующий день, ну а мы хотя и не спешили - понимали, что это может быть единственный шанс пройти броды. Утром третьего дня на ГМС вроде чуть распогодилось, но Саша со знанием дела сказал, что вода в реках будет сходить ещё неделю. Мне прежде все местные в один голос говорили, что сходит вода так же быстро, как поднимается - за несколько часов, но в Сашиных прогнозах неделя быстро разрослась до двух. Словом, я понимал, что он нас с Ольгой откровенно выгоняет, и оставалось лишь гадать, стояла за этим строгая забота о безопасности более слабых или просто желание убрать нас с глаз долой. Мы могли пожалеть и о своём исходе (ведь даже если вода спадёт - возвращаться уже будет поздно), и о решении остаться (а если таки не спадёт?!). Наверное, будь это первый поход путешествия, я бы рискнул остаться, но в третьем за лето походе решил уходить... Ниже по течению, над каскадом водопадов в узком каньоне мисисовцы навели верёвочную переправу и перевезли всех пленников избы. Странная поза человека на переправе же не случайна - это Мать везёт в отдельном рюкзаке свою собаку.
27.
За переправой Семеро Смелых двинулись вверх по горам, а Девятеро Грустных - вниз по долине. Дождь то налетал с новой силой, то проходил, а порой из-за туч выглядывало солнце, ярко блестевшее сквозь завесу капель. Мы отставали от группы (особенно когда начинали что-то фотографировать), а отношение к нам было всё то же: так, когда Оля обратила внимание Даши, что у той развязан шнурок, ответом было "Когда мне будет надо - я завяжу!" тоном "Да кто ты такая мне указывать?!". Но выбора у нас не было - на хлеставшем прямо сквозь старый мост Поливанном ручье Даша и Таня силами Толика вновь навели переправу:
28.
И мы, конечно же, надеялись дойти до избы, однако в паре километров до неё путь преградила Шаньга - самый мощный приток Сакукана. По малой воде её можно перескакать по валунам, но теперь это была непреодолимая преграда. И как быть, если река не проходима? Совершенно не очевидный ответ - обойти её! Шаньга мощна, но коротка - она вытекает из озера, до которого 6 километров по прямой и полкилометра подъёма.
29.
И вот мы разбили палатки на глубоком мху в сыром лесу. Было решено не разделяться: гипотетическая переправа наверху могла потребовать верёвок. Мать назначила выход на 6 утра, и я понял, что Ольгу для этого придётся разбудить в 2 часа ночи - собирается она обычно порядка 4 часов. В итоге группа собралась к 8, так что я искренне пожалел, что мы не встали в 4. Дальше предстоял обход каньона - путь наверх по 45-градусному склону сопки без тропы. И пусть тайга тут северная и редкостойная, на всём этом пути лежали буреломы. Мы шли наверх, и я спешил изо всех сил: постоянная демонстрация пренебрежения заставляла меня думать, что если будем отставать - нас просто бросят. Оля же выдохлась очень быстро, её огромный рюкзак (из которого я переложил к себе всё, что она согласилась отдать) не пролезал сквозь буреломы, а по склону без тропы делала она натурально 2-3 шага в минуту. Мать предложила распотрошить наши рюкзаки и лишнее выкинуть, Даша требовала, чтобы я носил Олин рюкзак в челночном режиме, а я умирал со стыда, понимая, что на горе да без тропы мне это объективно не по силам. В какой-то момент я даже смирился и прямо сказал остальным - идите без нас, мы за вами не успеваем, а вам надо на поезд. Даша торжествующе ответила "Ты сам сказал!", и группа двинулась вперёд. Мы в тот момент даже вздохнули облегчённо и сбавили темп, но вскоре из-за деревьев донёсся свисток, и я понял, что нас всё-таки ждут выше по склону. Догнав ребят, я вновь просил идти без нас, а в ответ они просто молчали. Безусловно, что мы задерживали группу на часы и создавали хабаровчанкам риск опоздать на поезд, но нас терпеливо ждали. В этот момент я зачеркнул в своей голове всё плохое, что говорил про них или думал: чего стоят злые слова в сравнении с добрыми делами?
30.
По пути наверх я не фотографировал - не было не то что времени, а скорее настроения. Оля - всё же снимала, так что прошлые два и следующий кадры её. Мы шли наверх в тумане, без остановок (ребята, ожидая нас, хотя бы делали привалы), а когда туман рассеялся - стало ясно, что поднялись мы метров на 400. Ориентиром была баранья тропа с кучками мелкого навоза, и одолев по ней скалу, вновь собравшись за ней на курумах, мы начали спускаться. Шаньга по ту сторону сопки казалась всё такой же белой и свирепой, так что первой моей мыслью было "И что мы этим доказали?". Даша и Таня повели нас по карнизу берега, по звериной тропе, которую мы растоптали до человеческого размера, и всё же мох или земля регулярно ускользали из под моих ног. В какой-то момент я поехал вниз с обрыва, зацепился на полминуты за берёзку, а затем сломалась и она. И я уже представлял, как мои ноги входят в ледяную воду, но внизу оказался маленький спасительный бережок... Так мы шли и шли: карнизы сменялись курумами, курумы - сыпучками, а по правую руку гремел то водопад, то порог. В какой-то момент тропа вышла на ровный бережок. Даша обещала, что "долина будет выполаживаться" - и долина не подвела. Группа вновь оторвалась вперёд, и каково же было моё счастье, когда вновь увидев наших попутчиков, я понял, что они НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ!
31.
От устья до брода мы прошли около 3 километров, на что ушло у нас 9 часов. 2-3 из них, конечно, добавила Олина медлительность, да и я сам за остальной группой вряд ли бы поспевал. Брод оказался тяжеловат, но всё же проходим без страховок. На правом берегу же вилась хорошо натоптанная безопасная тропа, по которой все остальные ушли рано утром, а мы решили отдохнуть до середины дня. Утешительным призом за сорванные планы стал феерический вид с тропы. Быть может - самый красивый вид, что мне открывался:
32.
Ещё пару дней мы стояли на той первой избе, собирали грибы и бруснику, отдыхали и наслаждались уединением. У этой избы тоже нашёлся хозяин - полевая мышь с глазками-бусинками, днём запросто бегавшая по столу среди наших продуктов, а ночью топтавшаяся поверх спальников прямо по нам.
33
Ближе к вечеру вдруг объявились мисисовцы - свой маршрут Семеро смелых так и не прошли, потому что дожди размыли спуск с одного из перевалов! Там, где они помнили пологую тропу к горному озеру, теперь был отвесный обрыв, на который у них не хватило верёвок. На избе они отметили день рождения одной из участник похода, заодно и нас угостив тортом из покупных коржей, арахисовой пасты и местной брусники. Шаньгу, однако, мисисовцы перешли уже в устье - вода действительно спадала не по дням, а по часам. Когда же мимо нас прошагал Саша со своим пиконем - в диалог вступать он отказался под предлогом спешки. Вода вернулась к норме 25 августа - ровно в тот день, когда я планировал покинуть ГМС по плану.
34.
Ещё два дня мы шли обратно в Новую Чару - это 28 километров, частью по натоптанной тропе, частью по каменистым руслам. На пол-пути нашлась ещё одна новенькая изба с мышью, где мы переночевали. Кодар же впечатляет полным отсутствием предгорий - просто наступил момент, когда земля под ногами сделалась плоской.
35.
И я берёг сухие ноги... но промочил их перед самой Чарой в одном из поганых болот. Мокрые и уставшие мы добрались в Новой Чаре до Денисова барака, но второй раз переночевать там не пришлось - Денис "принимал гостей", а потому извинился и вынес нам сумки. Вокзал был переполнен узбеками и таджиками с великой стройки Удоканского ГОКа, и иные в закутке совершали намаз с картонок. Дежурная на мой вопрос о комнатах отдыха определила нас в каморку, где было три дивана и больше ничего. За 12 часов в ней я отдал 1900 рублей... но эта трата - ничто на фоне счастья быть сухим! С утра я вышел в посёлок купить еды в поезд, и нашёл совершенно чудной магазин всякой странной еды: там были фермерские мармелад, китайские рисовые конфеты "моти" вдвое дешевле, чем в Москве, и даже шоколадки "Счастье" из питерского ресторана "Счастье", о которых я был уверен, что они есть только там! Ещё немного - и за вагонным окном потянулись пейзажи БАМа, где Чарские пески оказались отнюдь не единственными:
36.
Муруринский перевал (1323м) на Удокане - высшая точка магистрали:
37.
По плану, набросанному ещё в Москве, мы должны были спуститься с Кодара 18 августа и 20-го числа улетать из Красноярска. Но бурятский локдаун, отсрочивший поход в Долину вулканов и ещё несколько моментов так удлиннили маршрут, что в следующее варианте плана мы на Кодар 18-го только начали бы подниматься. Краснояский билет я сдал, вместо него за те же деньги обзаведясь билетом на 7 сентября из Владивостока. Глубокой ночью в Тынде мы пересели на поезд в Хабаровск:
38.
В темноте остались позади знакомые по июньской части Малый БАМ и Сковородино, а утром я проснулся уже на Транссибе с его "подмосковными" пейзажами, утлыми посёлками, гигантскими депо, путейскими домами царской эпохи и революционными памятниками. На БАМе всё же куда свободнее дышать...
39.
И только Белогорск - островок ухоженности и зажиточности среди этих тоскливых прерий. Его я осмотрел, взяв такси во время 40-минутной стоянки. Главной достопримечательностью Белогорска давно уже стал памятник, куда более уместный в его крымском тёзке:
40.
На пару дней, больше чтобы прийти в себя, мы вновь заскочили в Хабаровск к Айне
 aineli. В этот раз я даже немного погулял по городу - по непарадным южным окраинам от ветреных новостроек Нового Хабаровска до мрачных двориков Пятой Площадки. Надеялся я попасть и в Сикачи-Алян на петроглифы, но батяня-Амур и в третий раз мне этого не дал - с июня воды в нём стало только больше!
aineli. В этот раз я даже немного погулял по городу - по непарадным южным окраинам от ветреных новостроек Нового Хабаровска до мрачных двориков Пятой Площадки. Надеялся я попасть и в Сикачи-Алян на петроглифы, но батяня-Амур и в третий раз мне этого не дал - с июня воды в нём стало только больше!41.
Помимо нас у Айны гостил автостопщик Тимур - тот самый "общий знакомый" мисисовской группы, сразу вспомнивший, у кого там острый язык и кто терпеть не может автостопщиков. Тимур и его спутница, черноокая красавица Лада, ехали туда же, куда и мы - во Владивосток, где на острове Русском намечался Восточный Экономический форум под началом v-putin, а на острове Путятин - Приморский Лесной сход Академии Вольных Путешествий под началом
 a_krotov. ВЭФовскую движуху отмечал "Поезд Победы" на вокзале:
a_krotov. ВЭФовскую движуху отмечал "Поезд Победы" на вокзале:42.
Военный причал в Золотом Роге пополнился кораблём космической связи "Маршал Крылов" - построенным в 1987-90 годах гигантом (212 метров длиной, 23 тыс. тонн водоизмещения), после модернизации в 2010-х переделанным в командное судно.
43.
Но в общем этим кораблём да небольшой прогулкой в районе Первой речки (фотографии с которой я уже внёс в свой старый пост) культурная программа в Городе Нашенском и ограничилась. В основном мы приехали сюда просто наслаждаться неповторимой атмосферой Владивостока с его крымской широтой на колымской долготе, тёмными и шумными ночами, духом разгульного порта у тёплых морей.
44.
Нашим проводником стала Аня, которая здорово дополнила эту атмосферу своим бойким характером, артистизмом и общим духом любви к жизни. Пожить она успела в разных странах от соседней Кореи до далёкой Канады, но мейнстриму вопреки обожает родное Приморье. Я же с прошлого раза запомнил, что во Владивостоке очень вкусно кормят, и Аня здорово сумела сориентировать нас на спонтанный гастротур. Мы обедали в аутентичных китайских чифаньках на Спортивной, ужинали севиче из нерки и супом чиле в перуанском кафе "Лима" на Океанском проспекте, завтракали онигири и хорольскими творожками на лавочке у магазина под окнами, полдничали пирожными из кондитероскй "Five'o clock", которую держит англичанин Барри с русской супругой, а обедали в корейском ресторане "Гоги" по системе самгёпсаль, когда каждый стол оборудован отдельной жаровней. "Гоги" - это по-корейски "Мясо", а вообще-то лучшим заведением Владивостока Аня называла нам грузинский ресторан "Супра", где в холодный день посетителям выдают бурки и папахи, гигантские чебуреки приносят в шарообразном виде с возможностью их спустить до нормального состояния, а именинников поздравляют хоровыми песнями и вином из рога. "Супра" мне останется на следующий приезд, как и сетевая "Республика Дамплинг" со множеством видов азиатских пельменей. Запивали же мы всё это вьетнамскими, корейскими и американскими лимонадами, при том что и местные приморские лимонады вообще-то очень хороши.
45.
Ну а затем мы отправились на Приморский Лесной сход, ради которого и решил я вылетать в Москву именно из Владивостока. Путь туда оказался непрост: сперва надо обогнуть Уссурийский залив и попасть в странный город Фокино. Странный тем, что формально он ЗАТО, но сквозь его центральный посёлок Тихас (Тихоокеанский) проходит трасса Владивосток-Находка, а старожилы не упомнят, когда тут хоть у кого-нибудь потребовали пропуск.
46.
Секретные объекты Тихоокеанского флота прячутся по окрестным бухтам, куда, однако, спокойно можно заглянуть из окон рейсовых автобусов или туристических лодок. В радиусе двух десятков километров от Тихаса лежит ещё несколько посёлков, так же входящих в состав Фокино - вот тут например на заднем плане Дунай. Справа от него видна бухта Разбойник с крупнейшим в России плавдоком и заводом по утилизации корабельных реакторов, а частью Разбойника является Чажма, где в 1985 году случилалсь "репетиция Чернобыля" - радиационная авария на АПЛ. Ну а на переднем плане - наша цель: "маленький остров Путятин возле великой земли".
47.
Путь на Путятин сопровождался последними в этом долгом путешествии форс-мажорами: автостопщики Аня и Денис, ехавшие на остров готовить поляну для Схода, обнаружили, что паром сломался, а кассирша не хочет продавать билеты туристам, так что от переноса на материк Сход спасла лишь режимность всех окрестных бухт. В день нашего выезда паром таки починили, но выехать нас угораздило в пятницу. В 14 часов мы покинули Владивосток электричкой, в 16 слезли с неё на станции Смоляниново и вскоре поймали джип, который вела совершенно простая и свойская женщина, оказавшаяся бизнес-леди во главе немаленькой турбазы на одной из бухт. А в 16:30 мы упёрлись в пробку на въезде в Фокино, которую преодолевали битых 2 часа гораздо медленнее пешехода. Из-за этого мы не успели на отходивший в 18 часов паром. Но пробка задержала и нескольких товарищей по несчастью, с которыми мы скинулись на "такси" - катер на 6-10 мест, берущий за всех 2000. В темноте мы пришли в палаточный лагерь в самой середине острова, где уже шла лекция с проектором, горел костёр и варилась гречка. Здесь уже были и Антон Кротов, и Тимур с Ладой, а на утро подтянулись знакомые по трём частям обзора Аня из Владивостока, Айна из Хабаровска и Аделина из Иркутска. Вот так это выглядело при свете дня - полсотни участников схода разбили палатки в лесу совсем тропического вида:
48. фото из группы Схода вконтакте.
Здесь мы просто отдыхали - общались с прибывшими, слушали лекции, купались в близлежащей Бухте Петуха:
49.
Гуляли по лесам и посёлку, где уцелел единственный дореволюционный дом и могила местного помещика Александра Старцева. Лазали на сопку, с которой как на ладони весь окрестный залив с государственными тайнами в бухтах. Безуспешно пытались набрать группу на катер до соседнего необитаемого острова Аскольд с его маяками и батареями. А над островом порхали бабочки размером с птиц:
50.
И непуганые кабаны перебегали нам дорогу. Помимо кабанов тут есть пятнистые олени, потомки стад того самого Старцева, но от них мы видели только следы.
51.
Райский тропический остров - может ли быть лучший финал у Сурового Сибирского Лета?
52.
Ну а дальше на пароме, который в прошлой жизни был танкодесантной баржей, мы вернулись на материк:
53.
Переночевав во Владивостоке, я попрощался с Олей (она собиралась, как всегда, ехать в Москву автостопом) и сел на местный аэроэкспресс. Он ходит четырежды в день и от обычной электрички отличается только мягкими лавками, но впечатляет масштабами инфраструкты вроде отдельной крытой станции в терминале аэропорта:
54.
Взлетаем над Владивостоком:
55.
А через несколько часов под крылом голубел Енисей...
55а.
Но мне до сих пор не верится, что это путешествие вот так, в одночасье, закончилось.
На ближайшие две недели я опять замолкаю - но это будет не путешествие к новым местам, а личная поездка. Всё остальное же описанное в этих трёх частях, кроме может быть неудавшегося Кодара, постараюсь выложить с осени до весны, вместе с прошлогодними БАМом, Ольхоном и округой Иркутска.
|
Метки: Сибирь природа дорожное с человеческим лицом Дальний Восток транспорт злободневное этнография |
Суровое Сибирское Лето. Часть 2 (июль): шаманы и вулканы Прибайкалья |
В июньских скитаниях по диким степям Забайкалья я готовил июльский маршрут - пеший поход к Долине Вулканов в далёком Окинском районе на крайнем западе Бурятии. В Хабаровске и Тынде мы с Олей обсуждали по телефону, чего и сколько с собой брать. В поезде под Могочей я узнал, что нас будет трое - ещё на Лесном сходе Академии Вольных Путешествий я приглашал попутчиков, и вот из заинтересовавшихся людей осталась в деле автостопщица Аня. В Чите появилась определённость с датами: Аня нашла дешёвый невозвратный авиабилет в Иркутск на 5 июля, и на 6-е я зарезервировал маршрутку до Орлика, а на 7-е - заброску с другой группой в Хойто-Гол. Отправной точкой должен был стать Байкальск, где мы бы остановились у туринструктора и краеведа Иннокентия. Но когда был я в мрачном Нерчинском Заводе, Иннокентий сообщил, что по случаю известной хвори Бурятия вводит локдаун. Из Краснокаменска я вновь звонил в Орлик и узнал, что на маршрутку пускают теперь только по паспорту с местной пропиской, да и турбаза официально не должна была нас принимать. Маршрут усложнялся и обрастал неудобствами, хоть и был я уверен, что в окинской глуши всё это можно решить. Но у подножья священной горы Алханай я получил известие то ли от Иннокентия, то ли от Михаила
 mikka, что Тункинский и Окинский районы полностью закрываются на въезд для посторонних...
mikka, что Тункинский и Окинский районы полностью закрываются на въезд для посторонних...Что оставалось делать далше? На тот момент я решил, что сначала просто встретимся с Аней и Ольгой в Иркутске, а там придумаем что-нибудь.
Порядком устав за три недели путешествия по Даурии, в Иркутск я ехал больше отдыхать и видеться с друзьями. На вокзале меня встретила юная автостопщица Аделина, с которой годом ранее я ездил на Ольхон. Первым моим пристанищем в Сибирской Столице сделалась избушка на тихой пыльной улице Красных Мадьяр по соседству с модными деревянными променадами Иркутской Слободы. Над ветхим двориком сверкали новые высотки.
2.
И так ли важно, благоустроена избушка или нет, если в ней живут три молодые художницы?
3.
Несколько дней я почти безвылазно пролежал в своём спальном мешке в самой маленькой комнате. А 4 июля уехал в Култук, старинный посёлок у южной оконечности Байкала, где я уже бывал в прошлом году. С крутых склонов Олхинского плато, серпантина трассы "Байкал" и могучей петли Транссиба хорошо виден длинный Шаманский мыс, вдающийся в синюю воду:
4.
Туда и ехал я, и если осенью тут была тишина, то летом да в выходной машины с шумно отдыхающим людом слагали непрерывный ряд у воды. Но вот среди этих машин припарковался навьюченный мотоцикл, а с него спрыгнула на траву похожая на инопланетянку в своих дредах и доспехах Ольга Салий. Журналистка-фрилансер, автор блога-стендалона "Другие путешествия" с тех времён, когда всё это не было мейнстримом, опытная путешественница и самый настоящий "гражданин мира", она, уехав из родной Алма-Аты в Новосибирск, сменила десятки стран и городов, и со мной познакомилась в 2015 году где-то в машзале Богучанской ГЭС. Закрытие границ в 2020-м году застигло её в горнолыжном Шерегеше, а к лету на отложенные для заграничных путешествий деньги Ольга купила себе мотоцикл-эндуро да умчалась на нём в Горный Алтай. Вновь перезимовав в Шерегеше, этим летом она отправилась на том же мотоцикле во Владивосток, чтобы оттуда улететь на Камчатку. В основном Ольга ночевала на байк-постах - особых хостелах "для своих", сеть которых выросла по всей Сибири несколько лет назад после убийства мототуриста забайкальским каторжанином.
5.
Но в Култуке мы расположились в палатке у самой воды, а нашими соседями оказались парень и девушка из далёкой пограничной Кяхты, возвращавшиеся туда из Тюмени. Вечерний Байкал удивлял синевой воды, а над Шаманским мысом стояли странные столбы из чёрных мошек. Ночью поезда гремели вдалеке, как штормовое море, а по утру берег окутал туман. В этом тумане мы пошли вдоль мыса, и за очередным поворотом Ольга встрепенулась и начала восторженно пищать. Обернувшись, я увидел на камне жирную и явно довольную жизнью нерпу, но пока доставал фотоаппарат - та успела нырнуть. Искупались в холодной воде и мы, а ближе к полудню попрощались - до Владивостока ехать далеко...
6.
Я же маршруткой вернулся в Иркутск. Надо заметить, за два года у меня образовался в этом городе чётко "свой" район - юго-восточные кварталы вдоль Ангары между Иркутской ГЭС и Академическим мостом. В большинство коротких поездок из Иркутска я отправлялся с платформы Академическая, где останавливаются весьма многочисленные электрички, в большинстве своём проходящие город насквозь. И в 2020-м я отмечал свой день рождения вон в тех красных многоэтажках у левого края кадра, а в 2021-м поселился практически напротив них - в гостевом доме "Баргузин" на 6-й Советской улице. Расположенный напротив старинной казармы, он представлял собой самый что ни на есть доходник: по сути это гостиница, но вместо номеров в ней квартиры-студии с кухней и стиральной машиной, и всё это за 1200 рублей в день. В одной из квартир жили и сами хозяева - рассудительный батя Николай и обаятельный сын-атлет Сергей, с которыми я как-то сразу хорошо поладил. А с крыши открываются вот такой вид - избы старых предместий и то, что их теснит с триумфом в городе "строительного лобби".
7.
В номере было три места, и вот поздно вечером в ворота "Баргузина" постучалась Аня. Следующий день мы гуляли по городу, любуясь старыми деревянными улочками и церквями в буддийских орнаментах. Над городом стояла жара, так что в какой-то момент мы не выдержали и полезли купаться в ледяной Ангаре, найдя маленькую тихую заводь ниже устья Ушаковки. И - обсуждали варианты, куда податься теперь вместо Долины вулканов...
8
Я был не против просто отдохнуть в городе, совершив несколько относительно коротких вылазок - например, к голлендрам в Заларинский район, на Хамар-Дабан с Иннокентием или даже на вертолёте из Нижнеудинска в Тофаларию. Аня и вовсе приехала сюда впервые, так что её ждали незнакомыми Кругобайкалка и Ольхон. Но перво-наперво я предложил ей съездить на Олхинские скальники, а поздно вечером приняв в "Баргузин" доехавшую автостопом Олю, с утра поехал туда сам. По скальникам, этакой лайт-версии Красноярских Столбов, мы гуляли втроём:
9.
Поражаясь тому, что всего в 40 километрах от Иркутска встречают пейзажи суровой тайги. Аня осталась на скальниках ещё на одну ночь, мы же отчаянно спешили на электричку под начавшимся дождём. Я понимал, что мы опоздаем минут на 5, но ошибся - мы опоздали на несколько секунд, и когда я взбегал на платформу, в вагонах ещё не закрылись двери. Из жилья у станции был лишь питомник ездовых собак, и Оля пошла туда просить ночлега, а хозяин, выслушав её, бесплатно отвёз нас в ближайший посёлок Большой Луг, откуда мы за 1000 рублей поехали в Иркутск с лихой таксисткой Катериной. Дождь же лишь крепчал, так что порой, уже в черте Иркутска, её машина глохла в безразмерных лужах...
10.
В Иркутске, тем временем, наползал свой локдаун - в фуд-кортах убрали столики, а первыми сакральными жертвами на закрытие оказались солярии и театры. Мрачные флешбеки 2020 года намекали, что идею Долины вулканов можно похоронить. Меня осенил "план Б" отправиться в поход вдоль Байкала - "Восходом" до Больших Котов, пешком до Большого Голоустного, на частном катере до Песчаной бухты, а оттуда вновь пешком до Бугульдейки. На "Восход" мы с Ольгой должны были сесть в Иркутске, а Аня - в Листвянке, предварительно погуляв по Кругобайкалке и переправившись из Порта-Байкала через исток Ангары. Решив стартовать 12 июля, я оформил по 3 билета на "Восход" и катер. Ещё 2000 рублей ушло на пропуска в Прибайкальский Охреневший Национальный Парк, который требовал заранее зарезервировать места стоянок и оплатить их. Дальше Аня уехала на КБЖД, Оля развела кипучую деятельность по закупкам и уже начала собирать свой бесконечный рюкзак. Но вот поздно вечером 11 июля
 mikka, прежде консультировавший меня по Большой Байкальской тропе, вдруг написал, что с завтравнего утра Бурятия полностью отменяет локдаун и открывает запретные районы! Мы с Ольгой решили не говорить об этом Ане, но вот Аня сама позвонила мне из Порта-Байкала, где устроилась в палатке на чей-то участок, и я не сумел промолчать... Билеты на "Восход" я сдал в один клик, хозяева катера, было взявшие предоплату, без вопросов мне её вернули, и лишь нацпарк зажал всё вложенное - вернуть оформленный пропуск можно только по личной явке, а личная явка запрещена из-за ковида. На маршрутку же до Орлика мест не было на два-три дня вперёд, и вот ночью Аня уехала "мотаней" из Порт-Байкала обратно в Култук, а мы спустились туда электричкой. У кафешек на выезде бурятский маршруточник развёл руками, что сам едет в неизвестность, не до конца уверенный, что "санитарный кордон" снят...
mikka, прежде консультировавший меня по Большой Байкальской тропе, вдруг написал, что с завтравнего утра Бурятия полностью отменяет локдаун и открывает запретные районы! Мы с Ольгой решили не говорить об этом Ане, но вот Аня сама позвонила мне из Порта-Байкала, где устроилась в палатке на чей-то участок, и я не сумел промолчать... Билеты на "Восход" я сдал в один клик, хозяева катера, было взявшие предоплату, без вопросов мне её вернули, и лишь нацпарк зажал всё вложенное - вернуть оформленный пропуск можно только по личной явке, а личная явка запрещена из-за ковида. На маршрутку же до Орлика мест не было на два-три дня вперёд, и вот ночью Аня уехала "мотаней" из Порт-Байкала обратно в Култук, а мы спустились туда электричкой. У кафешек на выезде бурятский маршруточник развёл руками, что сам едет в неизвестность, не до конца уверенный, что "санитарный кордон" снят...11.
400 километров до Орлика стопом мы преодолевали полтора дня. Тункинская долина, эти СибМинВоды, в первый день по окончании локдауна уже наполнилась народом, но в летнем обличии, после феерии красок ранней прошлогодней осени, не впечатляла совсем. Покинув Култук порознь, от Зун-Мурино мы ехали нераздельно, сменив три машины, и местные были искренне рады гостям после локдауна, как первым ласточкам по весне.
12.
Меж последних сёл Туран и Монды мы поставили палатки у быстрой воды Иркута. Утром, зная о свойстве Ольги неимоверно долго собираться, я предложил снова разделиться и вышел на пустынный тракт. Это оказался успех - на первой же машине меня подобрали двое людей из Уфы, несколько лет назад переехавших в Листвянку по каким-то эзотерическим делам. На Тунку они приехали как туристы, но куда глаза глядят, и прослышав от пограничков у въезда в Монды, что в 30 километрах дальше по Окинскому тракту есть какой-то водопад, направились туда.
13.
Так я попал в самой красивое место 400-километровой дороги - Нухэ-Дабан у подножья высочайшей в Восточной Сибири горы Мунку-Сардык, где есть не только водопад, но и каменная арка выше по склонам. К ней, промокнув до нитки о сырые ветки, я и сходил пешком. О прошедшем локдауне же не напоминало реально ничего - в позной у моста кипела жизнь, от её крыльца ушла прямо на Мунку-Сардык огромная разноцветная тургруппа, а у подножья Нухэ-Дабана я встретил нескольких подтянутых мужчин в дорогой экипировке, собиравшихся в месячный поход до Кызыла. Который, в свою очередь, был частью совершаемого на президентский грант путешествия вдоль всех границ России.
14.
К вечеру на грузовичке, который вёз в местную больницу партию вакцин от ковида, я добрался до Орлика, где Оля и Аня к моему приезду уже успели заселиться на турбазу и натопить там печь:
15.
Сам Орлик - потрясающая глушь у быстрой Оки и высоких Саян, где в администрации с единственным в посёлке банкоматом стоит генератор, а по улицам бродят, крутя пушистыми хвостами, хайнаки - гибриды яков и коров. Ещё тут есть два дацана и заброшенный музей, а русского не сыщешь. Местные буряты - потомки монголов-хонгодоров и сойотов, последних саянских самодийцев, ещё в 18 веке говоривших на языке, схожем с ненецким.
16.
Но путь к Долине вулканов начинается не в Орлике, а на горячих источниках Хойто-Гол, да которых надо преодолеть 70 километров по болотам без удивительных красот. Обычно группы забрасываются туда на "Зилах" и "Уралах", коих в Окинском районе немало осталось - круглогодичная дорога пришла сюда около 30 лет назад. Вот только арендовать "Урал" стоит 25 000 рублей в одну сторону, так что мы могли надеяться лишь на заброску с другой группой. Среда, первый день в Орлике, прошла впустую - мы просто ждали, когда на связи у хозяина турбазы Жаргала объявится водитель Жалсан, везущий с гор очередную группу. Меня начала одолевать безнадёга - вот мы доехали сюда, а дальше что? У Ани обратный билет, да и у нас самих планы на август... В четверг мы решили уже не терять время и покататься хотя бы по округе Орлика, представляющей собой чудесный затерянный мир.
17.
В конце дороги тут стоит село Хужир. Близ него - низовья Долины вулканов, где берега Оки сложены чёрной лавой. Под острыми горами Саян работает золотой рудник...
18.
...а само село примечательно храмом Гэсэра:
19.
Ещё в среду поздно вечером объявился злой усталый Жалсан, на пол-суток увязший в болоте. Я позвонил ему, и по просьбе Оли начал уточнять, большая ли будет у него группа и пешие это туристы или водники с их лодками. В ответ Жалсан полез на стену: "Тебе ехать надо или как? Что ты мне свои вопросы задаешь? Не нравится - давай пешком иди на х...й!" - и бросил трубку. Такой реакции даже Жаргал не ожидал, после чего фразочки вроде "что психуешь, как Жалсан?" стали нашим локальным мемом. Хотя в тот вечер было нам не до смеха, но маршрут вдруг спасла Вероника, продавщица из магазина промтоваров - мы просто ходили по Орлику да спрашивали тут и там, не поедет ли кто на Хойто-Гол в ближайшее время, и вот мужики, чинившие серую "буханку" посреди главной улицы, сориентировали нас. Вероника с молчаливым мужем собирались туда в пятницу просто отдохнуть с семьёй, взяв пассажирами трёх знакомых женщин из Улан-Удэ и нас: обе компании вносили по 10 000 рублей. Ну а что за 70 километров до Хойто-Гола это справедливая цена - по дороге не осталось никаких сомнений:
20.
По болотам, камням, обрывам, руслам речек "Зилок" полз со скоростью пешехода 8 часов, а люди и тюки вперемешку летали по его кузову. То впереди, то позади ехала ещё одна машина с огромной группой молодёжи от РГО - у тех была Великая Экспедиция по установке флага на вулкан. Ближе к цели мы подобрали ещё и четвёрку туристов из Екатеринбурга...
21.
...а добравшись на Хойто-Гол потрёпанными и с больной головой, поняли, что уже никуда не пойдём сегодня и решили отмокать в тёплых сероводородных источниках. Помимо бассейна посреди тайги тут есть бесхозные и бесплатные деревянные домики да буддийские алтари, теряющиеся среди народного творчества туристов - как например вертолётик с заглавного кадра.
22.
Путь в Долину вулканов достаточно прост, и большинство групп одолевают его за день. Мы решили не спешить и шли два дня - в первый день поднимались 700 метров на перевал Черби:
23.
Вершина которого мне запомнилась болотами у самых облаков...
24.
...и потрясающими видами на сумрачные горы сквозь цветущие яркими искрами жарки:
25.
За перевалом же встречала горная тундра, совсем не отличающаяся от тундры острова Вайгач. И в середине июля я начерпал здесь полные ботинки снега, а палатку мы поставили у озера, по глади которого плавали льды:
26.
Долина Вулканов лежит на высоте более 2 километров, что по сибирским меркам лютое высокогорье: по сути весь сезон тут - июль, так как в июне и августе уже могут быть морозы и метели, да и в июле жгучее дневное солнце сменяет мучительный холод по ночам. Оля была в этой долине в 2010 году и запомнила, что за две недели они встретили всего 3 человек. Но внутренний туризм с той поры подрос: иногда мы оставались единственными людьми на Албанай-Болдоке (так эту долину называют буряты), но чаще здесь находились ещё 1-2 группы.
27.
Мы встали под одинокой лиственницей у водопада, и я знал, что другие туристы разбили лагерь под ближним вулканом Перетолчина и утром пойдут назад. К ним и бросился я стремглав на следующий день: за уютным милым вечером последовало тревожное утро. Ещё в Орлике у Оли начал распухать флюс, и хотя весь поход она пила антибиотики, дело становилось только хуже. Утром флюс начал болеть, опухли губы и горло, и Оля приказал Ане держать зеркало, а сама взяла ножницы и стала пытаться сделать операцию в полевых условиях. Я понимал, что это безумие, и едва успел застать уходящих туристов - бурятский каюр уже увёз в Хойто-Гол их рюкзаки. Инструктор Андрей Лебедев, руководитель иркутского клуба "Сибрафт", к моему рассказу отнёсся предельно серьёзно, и отправив во главе группы свою напарницу, смиренно сел на нашей поляне ждать неимоверно долгих сборов Ольги. Та после операции с неясным результатом собиралась молча, заклеив десну пластырем с дозой антибиотика, и порой писала записки о том, что она остаётся и никуда не пойдёт. Я настаивал, что ей надо идти - иначе уходить придётся всем троим, а ей ещё и с болью, температурой и слабостью. Дальше я долго глядел в ультразум на удаляющиеся по тропе фигурки, и забегая вперёд, Андрей увёл Олю вовремя и доставил в Орлик в целости и сохранности. Так что в благодарность нашему спасителю - порекламирую его турклуб "Сибрафт": это явно те организаторы походов, для кого здоровье подопечных превыше коммерческих выгод.
28.
Долина вулканов оказалась сказочно красива и при том весьма уютна. Да и с погодой нам тут повезло - колючее солнце ритмично уходило за белые облака, а дождь, стабильно изливавшийся под вечер, не столько промачивал нас, сколько придавал воздуху особую прозрачность.
29.
Мы ходили на два вулкана (ближний Перетолчина и дальний Кропоткина), спускались в кратеры, из которых наверху видна вся окружнось обрыва, обходили зловещие лавовые поля. Совсем рядом со стоянкой нашлись водопад и маленькое озеро в лаве. В первый день сквозь курумники, снежники и непролазные кусты мы добрались до озёр в конце долины, в последний день поднимались на сопку, с которой вся долина была видна. И конечно, не раз переглядывались со словами "Жалко, Оля этого не видит!", да напоминали себе, что она тут всё-таки уже была...
30.
Сказывался и избыток времени: Вероника собиралась ехать назад ровно через неделю, и мы решили не заморачиваться с поисками более ранних машин. Вставали мы поздно, ходили не спеша. А на стоянке приглядывал за нами одинокий чёрный ворон, важно шагавший в нескольких метрах от нас:
31.
Так же не спеша, за два дня, мы прошли перевал Черби в обратную сторону, заночевав у того же озера, а Хойто-Гол под вечер было не узнать - деревянные домики заполнились народом, около них тарахтели генераторы отдыхающих большими семьями бурят с полными казанами мяса, а пространство вокруг пестрело от туристических палаток. Тут и там звучали гитары, но самым далекослышимым звуком оставался пьяный ор - не секрет, что сибирские народы плохо ладят с алкоголем. Успел и ко мне докопаться молодой пьяный бурятик, вежливо поинтересовавшийся, не уе...ть ли меня в коленку. Я с предельно серьёзным видом спросил "А зачем?", и бурятик завис на достаточное время, чтобы я отошёл в потёмки. Про Вернонику же сказали, что она уехала, но вскоре я встретил улан-удэнских пассажирок, пояснивших, что уехала она ненадолго и в означенное время вернётся. И вот теми же ухабами мы поехали обратно, а на турбазе в Орлике нас ждала Оля... Флюс ей благополучно вскрыли, да со знанием дело пояснили, что просто надо было сильнее нажимать - местные часто уходят в тайгу на недели и к полевой медицине привычны.
32.
В Иркутск мы отправились автостопом, но я понимал, что вышли мы поздновато и рискуем застрять в окинской глуши ещё на день. Однако в итоге нас увёз неофициальный автобус - его хозяин, бурят с шестью пальцами на каждой руке, ехал в город по каким-то своим делам, но охотно и по тарифу подбирал случайных пассажиров. С перевала мы увидели Мунку-Сардык, прежде скрытый облаками, а дальше как в обратной перемотке замелькали Монды, Туран, Кырен, Зун-Мурино...
33.
В Иркутске снова был "Баргузин", визиты в избу к художницам (которую Аделина покинула, с АВПшными людьми уйдя на БАМ) и прогулки по городу. А водоспуски ГЭС тем временем были открыты чуть ли не на максимум в её истории, так что над Иркутском нависла угроза наводнения:
34.
Аня улетела в Москву, а мы с Ольгой отдохнули немного и двинули уже вдвоём на Ольхон. Маршрутка напоминала туристический автобус, полный столичных хипстеров и эзотериков, включая пару роскошных лесби с собакой в переноске. Водитель старательно подтверждал стереотипы, всю дорогу слушая вперемешку блатняк и песни ВДВ. Доехав до ольхонской "столицы" Хужира, я порадовался, что подробно осматривал этот остров прошлой осенью - летом здесь один большой базар:
35.
Да ещё и затянутый дымкой, из-за которой я отказался от плана съездить в лодочный тур по островам-спутникам:
36.
Мы остановились в кемпинге с красивым названием "Цветок под снегом", который хозяева построили прямо на песках копродендрическим способом. Нашими соседями был коллектив пермского театра "Красный Цветок" - на острове закончился сценический фестиваль. И продавщицы с паромной переправы приняли уезжавших актёров за шаманов: нашей целью на Ольхоне был тайлган - бурятский молебен о равновесии в мире, на который съезжаются десятки настоящих, не ряженных, шаманов со всей Земли.
37.
О его подлинности напоминала непонятность: дату (первое воскресения августа) я вычислил по тайлганам прошлых лет, а вот время и место мне не смогли подсказать даже в туринфоцентре. Зато подсказали простые бурятские мужики из сувенирных лавок, пытавшиеся продать мне шаманский амулет "тали". На молебен собралось 25 шаманов со всех бурятских земель, и ещё четверо гостей... я прежде знал о ненецких шаманах, но сюда пожаловали НЕМЕЦКИЕ шаманы, видимо ученики бурят. Зрителей и паломников же была дай бог если сотня - тайлган проходил не столько для людей, сколько для онгонов (родовых хранителей) и хаттов (божеств), по приглашению шаманов вселявшихся в их тела.
И едва ли не самым пронзительным впечатлением 7-часового тайлгана, состоявшего из цепочки различных обрядов, для меня стали лица шаманов после того, как они возвращались в себя:
38.
По пути назад с Ольхона мы заглянули в Усть-Ордынский - центр одноимённого Бурятского уже не автономного округа, по сравнению с Агинским из прошлой части слагающего противоположный полюс бурятского мира. На Аге живут почти что монголы, верные буддизму, в Усть-Орде же буряты ближе к народам тайги и в их двоеверии однозначно преобладает шаманство. Сама Усть-Орда похожа на заурядный райцентр:
39.
Но с отличным этнографическим музеем, где тоже принимает шаман:
40.
Ближе к Иркутску заглянули в Оёк - одно из цикла "декабристских сёл" со старыми церквями:
41.
И поехали на съёмную квартиру - наступил август, на который в "Баргузине" не было свободных мест.
41а.

Тут оказалось плоховато и с оснащением вроде крайне неудобной ванны, и с инфраструктурой - все приличные продуктовые магазины были минутах в 20 ходьбы. Зато прямо под окнами раскинулась деревянная усадьба купца Сукачёва:
41.
Мы съездили "Восходом" вверх по Ангаре, обогнав другой катер с туристами, шедший до Песчаной бухты:
42.
С воды открываются необычные виды на Кругобайкалку, Листвянку или скансен Тальцы:
43.
"Восход" пришёл в байкальское село со звучным названием Большие Коты. Вернее, коты - так называлась обувь старателей, и их старую драгу мы тут видели, а котов, даже маленьких - нет. Ну а вот так выглядит Большая Байкальская тропа, по которой я выстроил маршрут из плана "Б". Наверное, идти по ней легко и приятно, но я порадовался, что мы всё же забрались в Долину вулканов.
44.
Ночью по возвращении в Иркутск я проснулся от столь плотного запаха гари, что казалось, будто в квартире начинается пожар. Город заволокло коричневым дымом грандиозных лесных пожаров, объявших Якутию и Красноярский край, а ещё через пару дней дым сменился густым белым туманом, конденсировавшимся вокруг его частиц...
45.
Тем не менее, мы всё же съездили в короткую автопоездку с Сергеем
 valenok_s - ещё до моего прибытия в Иркутск мы успели с ним настроить планов то ли про сёла голлендров, то ли про Верхоленск, но в бесконечных перетряхиваниях маршрутов времени и сил хватило лишь на окрестности Иркутска. Тут есть чуднОй Музей-на-свалке:
valenok_s - ещё до моего прибытия в Иркутск мы успели с ним настроить планов то ли про сёла голлендров, то ли про Верхоленск, но в бесконечных перетряхиваниях маршрутов времени и сил хватило лишь на окрестности Иркутска. Тут есть чуднОй Музей-на-свалке:46.
Где с действующим полигоном ТБО соседствует парк инсталляций из металлолома от Чужих и Хищников до "Тигров" и тридцатьчетверок:
47.
И огромный музей выброшенных вещей, где нашлось место даже паре живых медведей, пригревшихся когда-то у свалки.
48.
Декабристское село Урик откровенно разочаровало:
49.
А в Александровском в руинах старинной тюрьмы я поранил ногу, наступив на гвоздь - слава богу, без последствий:
50.
Главным впечатлением Александровского же стал грандиозный бревенчатый амбар, в котором мне очень (и видимо напрасно) хотелось заподозрить старое здание тюрьмы 18 века:
51.
Ну а время покидать Иркутск не то что пришло, а даже прошло - по изначальному плану с Ольхона мы должны были ехать через Верхоленск на БАМ и далее поездом в Новую Чару. Спустившись же там с гор Кодара, я планировал ехать на запад, в Красноярск, откуда на 20 августа оформил билет в Москву. Но в итоге его сменил билет на 7 сентября аж из Владивостока: бурятский локдаун и все его его производные вроде ожидания заброски удлинили маршрут, и вместо 2 августа мы двинулись к БАМу только 10-го. Зато красиво - на "Метеоре" по Ангаре от Иркутска до Братска:
52.
Половину этого пути я проезжал годом ранее, но тогда верхней конечной был не Иркутск, а глухой Балаганск. К сентябрьским выборам, даром что высокая вода позволила, маршрут восстановили до Иркутска. Но дым и туман не рассеялись:
53.
"Метеор" мог вообще не отправиться, но в итоге отправился с задержкой в 2 часа, и промзонами Ангарска, церквями старых сёл, приречными обрывами я любовался сквозь густую пелену:
54.
Понемногу рассосавшуюся лишь за Балаганском, в уже знакомых с 2020 года местах:
55.
Август тоже обещал быть колоритным...
55а.

|
Метки: Сибирь природа злободневное транспорт дорожное этнография |
Суровое Сибирское Лето. Часть 1 (июнь): Даурия |
По диким степям Забайкалья,
Где золото моют в горах
Бродяга, судьбу восхваляя
Гулял с рюкзаком на плечах...
В Москве холодно, и я с удивлением понимаю, что не помню, каков московский сентябрь - последний раз я застал его 7 лет назад. Ранняя осень сделалась для меня привычным временем долгих путешествий, но 2021-й год нарушил тренд - два дня назад закончилось Суровое Сибирское Лето. Даже более суровое, чем я ожидал: я поставил новый личный рекорд продолжительности путешествия (ровно 3 месяца), суммарно месяц провёл в трёх горных походах, а путь мой преграждали то вода, то огонь. В один пост описание всего маршрута не вместить, так что разобью его аж на 3 части - по месяцам, регионам и этапам.
Июнь прошёл между Амуром и Байкалом, в жестокой земле с красивым названием Даурия, и большая его часть пришлась на прогулку по самым что ни на есть диким степям Забайкалья.
Терминал
2.
Я тогда не представлял, насколько вовремя покидаю столицу - третья волна модной хвори уже стучалась в окна, однако перчатки и маски на 40-градусной жаре, кафе по QR-кодам и прочие имитации борьбы за вашу и нашу безопасность были ещё впереди. Сибирь встречала чистым снегами на гребнях безлюдных хребтов:
3.
Прежде я летал из Москвы в Южно-Сахалинск и Владивосток, а теперь меня ждал Хабаровск. Сам этот весьма самобытный и безмерно речной город я неплохо облазал в 2018 году, но тогда мы гуляли здесь сиротливо. Теперь же в Хабаровске меня ждала Айна
 aineli - мой давний друг родом из Риги, она изрядно помоталась по свету и вот теперь на Дальнем Востоке обрела российский "порт приписки" и любимую работу почти без выходных. За пару лет на берегах Амура она успела найти здесь много интересных знакомств, и первый день путешествия я провёл за чаем и разговорами о нанайцах с искусствоведкой и вдовой художника Людмилой Тарвидт. К прогулке день прилёта не располагал: Хабаровск встретил типичным для Дальнего Востока тёплым, но сильным и бесконечным дождём.
aineli - мой давний друг родом из Риги, она изрядно помоталась по свету и вот теперь на Дальнем Востоке обрела российский "порт приписки" и любимую работу почти без выходных. За пару лет на берегах Амура она успела найти здесь много интересных знакомств, и первый день путешествия я провёл за чаем и разговорами о нанайцах с искусствоведкой и вдовой художника Людмилой Тарвидт. К прогулке день прилёта не располагал: Хабаровск встретил типичным для Дальнего Востока тёплым, но сильным и бесконечным дождём.4.
Сменившимся феерией золотого заката над бескрайним простором Амура:
5.
На кадрах выше - затон, из которого ходит "Заря", удивительное судно, напоминающее гибрид автобуса и саней и способное причаливать там, где глубина по щиколотку. Её мы с Айной и поймали хмурым утром:
6.
Да съездили одним днём в странный дальневосточный филиал Амазонии - в нескольких десятках километрах от Хабаровска, на реках Тунгуска и Кур, затеряны в лабиринтах проток деревеньки, доступные лишь по воде:
7.
На следующий день, уже в одиночку, я отправился в Сикачи-Алян - нанайское село, знаменитое удивительной красоты петроглифами тех времён, когда Амур чуть не стал колыбелью цивилизации подобно Хуанхэ или Инду. Но увы - ТРИЖДЫ (!!!) за два путешествия в дни моего визита петроглифы оказывались под водой:
8.
Вторая достопримечательность Сикачи-Аляна - нанайский культурный центр "Стойбище Сородичей", куда я попал в компании семьи москвичей из команды зиц-губернатора Дегтярёва. Вот хозяйка "Стойбища" Елена У проводит мастер-класс по изготовлению одежды из рыбьей кожи:
9.
Задерживаться на Дальнем Востоке в мои планы не входило, и я начал путь на запад по самой глухой части Транссибирской магистрали. Сперва - в Свободный, бывшую "столицу" Амурской железной дороги с колоритными зданиями времён её постройки...
10.
...и самой длинной в России ДЖД:
11.
В целом же Свободный - видимо, эвфемизм Ненужный: это оказался один из самых запущенных и нищих городов всей страны. И не выводят его из этого коматоза даже Великие Стройки - крупнейшего в мире газоперерабатывающего завода за близлежащим лесом и космодрома "Восточный" с отдельным городом Циолковский. К нему я и съездил постучаться в КПП, площадь перед которым местные по старинке называют Углегорск:
12.
Следующей остановкой стала Тында - "столица БАМа" с Красной Пресней (на ней высотки) посреди тайги. Величественную Байкало-Амурскую магистраль я проехал в 2020 году с востока на запад, но год спустя решил восполнить пробелы того путешествия.
13.
В Тынде таковым стал первоклассный Музей БАМа, в залах которого я провёл без малого три часа:
14.
Две магистрали соединяет уходящий на юг из Тынды 200-километровый Малый БАМ, в пейзажах и архитектуре, однако, являющийся полноценной частью "большого":
15.
На другом его конце - утлый городок Сковородино:
16.
Запомнившийся мне не столько огромной станцией и множеством технических памятников, сколько самым, кажется, мощным дождём, что я только видел - сутки непрерывного ливня превратили город в систему горных рек и широких озёр.
17.
Я же под этим дождём, тяжело вздохнув о перспективе до нитки промокнуть, поехал автостопом в старинное село Албазино на Амуре, где ещё в 17 веке русские казаки самовольно построили крепость и жарко воевали за неё с Цинским Китаем. Теперь на Албазинском городище музей, вот только посмотреть его мне не дали - на радостях от прояснившегося неба я побежал на берег Амура фотографировать, и вскоре прямо с музейного крыльца был выцеплен пограничниками, заметившими на своих камерах подозрительную активность. Меня отвезли в комендатуру, общались со мной очень вежливо и даже накормили в своей столовой, но по итогам просмотра моих фотографий и удаления части из них начальство постановило выдворить меня за пределы погранзоны. В итоге я увидел тут слишком мало для полноценного рассказа, но слишком много, чтобы захотеть ехать в Албазино вновь.
18.
Переночевав вторую ночь в сковородинской гостинице "Платина", у которой есть сайт с сервисом бронирования, но уведомления с него гостиничному персоналу не приходят, я отправился по Транссибу дальше на запад.
19.
Говорят, что "Бог создал Ялту и Сочи, а чёрт - Амазар и Могочу": утлые, грязные, обветшалые городки Амурского Транссиба запомнились мне одним из самых мрачных уголков России.
20.
Глубокой ночью я покинул вагон на станции Куэнга в Забайкальском крае. Сюда же ночным поездом Чита-Сретенск должен был приехать мой друг Пётр. В Москве, в своей квартире в переулочках Арбата он собрал удивительную тусовку - по большей части автостопщиков, но - самых умных и образованных среди них. Особое сочетание интеллектуальности и ветра вольных странствий, тонкого вкуса и весёлой удали зацепило даже меня, и та тусовка стала первой средой, которую я мог бы назвать своей. И в квартиру Петра я вхож уже много лет, но в совместное путешествие отправиться мы решили впервые. И вот утром Пётр приземлился в Улан-Удэ, а вечером выехал из Читы на поезде, в который я должен был подсесть в Куэнге. Я спокойно сидел на платформе, поглядывая на часы, и вот в означенное время гром товарняков, носившихся тут часто, как поезда иных метрополитенов, ненадолго сменил шелест пассажирских вагонов. Подойдя к прибывшему поезду, однако, я почувствовал неладное - на рельсах стоял вагонзак! У искомого поезда в расписании значилась 40-минутная стоянка, но по факту объявили его минут за 15 до отправления, и я не сразу обнаружил на самом дальнем от вокзала пути одинокий пассажирский вагон под маневровым тепловозом. Всё бы ничего, но путь к нему преграждал товарняк!
21.
Я спросил у одинокой путейщицы, как тут пройти, и та уверила меня, что товарняк скоро тронется. Постояв ещё немного, я понял, что до отправления моего поезда остаётся менее 10 минут. Всё такой же неподвижный товарняк тянулся куда-то в ночь: на изогнутых путях не было даже понятно, под локомтивом ли он, не говоря уж о том, заведён ли у локомотива мотор. Не было шансов и обойти поезд, и та же путейщица, когда я повторил свой вопрос, только бросила - "Лезьте под вагон!". Лезть под вагоном тяжелого поезда, который может вот-вот тронуться, да ещё и с мега-рюкзаком - то, чего я бы не хотел повторять когда-либо в жизни, но в общем я уже догадывался, что просто попал в Забайкалье.

Пётр, между тем, обнаружился в вагоне крепко спящим на верхней боковой. Я устроился на нижней и стал глядеть в мокрое окно. Поезд съехал с Транссиба и медленно пополз берегом Шилки - весьма могучей реки, представляющей собой фактически верховья Амура. От Читы до Сретенска - ночь, от Куэнги - пара часов, ну а Сретенск когда-то был конечной станцией Транссиба!
22.
Ведь поначалу основным ходом Великой магистрали была Китайско-Восточная железная дорога, уходившая через Харбин к Владивостоку, а Сретенск в конце тупиковой ветки служил перевалкой с поездов на речные суда до Благовещенска, Хабаровска, Николаевска... Несколько лет на прошлом рубеже веков тут кипела жизнь, а затем от Куэнги уже Амурская железная дорога поползала дальше на восток. И высадившись дождливым утром на маленькой полузаброшенной станции, первым делом мы пошли фотографировать прибытие красного локомотива в исторический тупик...
23.
В нынешем Сретенске вместо половины адресов пустыри да бурьян, а роскошные старые дома колониального вида стоят на улицах без асфальта, и в их дворах благоухают дощатые "скворечники" - канализации в городе нет. Пройдя 7 километров от станции напротив центра до моста и обратно до центра другим берегом, мы пристроили рюкзаки в магазине у главной площади. Прошлись по улицам, поднялись к старому кладбищу, а в тамошней церкви набожные женщины страшно нам обрадовались и вручили как великую ценность пару фотографий крёстного хода, распечатанных в ужасном разрешении. Мы же спешили - надо было успеть за рюкзаками до пересменки, и наш практически побег с намечавшейся краеведческой лекции был воспринят как пощёчина: внизу нас догнала, обрызгав грязью, старая "Нива", а из неё выскочила одна из церковных женщин и заявила, что требует вернуть фотографии, поскольку своим поведением мы оскорбили прихожан и не достойны такого подарка. Фотографии я вернул с облегчением, ну а женщина с растрёпанными волосами и стеклянным взглядом гонялась за нами весь остаток прогулки по Сретенску, пытаясь в чём-то ей одной понятном обвинить. Она категорически отказывалась верить, что мы спешим за рюкзаком, а после одного из вопросов про старые дома и вовсе чуть не полезла драться со словами "Так вам история нужна или ЗЛАТО-СЕРЕБРО?!". Дух забвения казался всё более тягостным, я чувствовал, что начинаю в нём вязнуть, как в липкой грязи неасфальтированных улиц, и мы вновь поспешили к мосту.
24.
В соседний Нерчинск можно доехать и поездом, но мы предпочли автостоп сквозь невероятно красивую по июню изумрудную высокотравную степь. До села с забавным названием Курлыч нас подвезли двое полицейских, а от Курлыча до Нерчинска - разбойники. Грандиозный бурят Соёл из Агинского в компании пары сыновей ездит в эти степи копать солодку - целебный корень, за который хорошо платят китайцы. Научное название солодки оказалось куда смешнее народного - сапожник растопыренный (пардон, сапожниковия растопыренная), и в устах Соёла звучало устрашающе: за два часа пути он нам рассказал десяток колоритных историй, неизменно кончавшихся тем, что кого-то хлопнули.
25.
Нерчинск на Сретенск, хоть и путали мы в их в своих разговорах постоянно, оказался совсем не похож - тоже старинный городок, но процветавший долго и к своей роли исторического центра Забайкалья привычный. Вот скажем бывшая гостиница "Даурия" - в ней останавливался Чехов, и уже тогда она была очень старой.
26.
А вот Забайкальский Версаль - занятый бескрайним краеведческим музеем дворец золотопромышленника Бутина. Зеркало в нём на момент изготовления было крупнейшим в мире, но как бы не больше размера впечатляет то, что его сумели привезти сюда и не раскокать по дороге в те времена, когда ещё не был построен Транссиб.
27.
А вот в нерчинском предместье Калинино стоит 300-летняя церковка совершенно среднерусского вида, но только вписанная в даурский пейзаж. Нерчинск оказался, безусловно, самым интересным городом всего этого путешествия:
28.
Нет в Нерчинске и духа забвения - при всём скромном размере жизнь тут бьёт ключом, на улицах полно детей и молодёжи, а историю города рассказывает "Нерчинская социальная сеть", грешащая разве что плохо скрываемой ненавистью к выскочке-Чите.
28а.
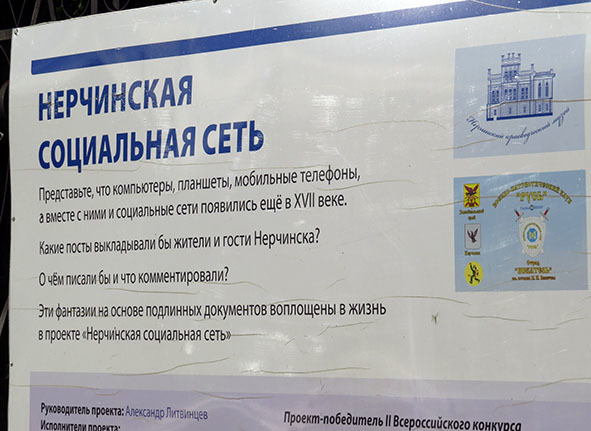
Но с Нерчинском не надо путать Нерчинский Завод - между ними три сотни километров, и именно Нерчинский, Александровский и Газимурский Заводы отмечают своими давно не актуальными названиями давно заросшие бурьяном Нерчинские рудники. В Нерзавод и думали мы ехать дальше, вот только ещё в Сретенске мне позвонил Алексей
 atomic_alert из Читы да сообщил, что после ливней южные притоки Шилки вышли из берегов, деревни затоплены, дороги размыты, а паводок снёс мосты. В Калинино мы думали ловить автобус Чита-НерЗавод, но его отменили - фактически, рудничный край оказался на острове. Поэтому в том же Калинино мы поймали машину до трассы "Амур" и решили сперва ехать в Читу, а там уже разбираться, что делать дальше.
atomic_alert из Читы да сообщил, что после ливней южные притоки Шилки вышли из берегов, деревни затоплены, дороги размыты, а паводок снёс мосты. В Калинино мы думали ловить автобус Чита-НерЗавод, но его отменили - фактически, рудничный край оказался на острове. Поэтому в том же Калинино мы поймали машину до трассы "Амур" и решили сперва ехать в Читу, а там уже разбираться, что делать дальше.29а.

От Калинино до трассы нас подвозили трое золотарей из Балея, как по ГОСТу из готовых деталей тянувшие речь о том, что в стране всё плохо, с регулярными отсылками к 1990-м, "когда у людей была советская мораль, а не только бабло на уме". Мне удалось как-то переключить разговор на уклад жизни в посёлках, на старателей, корнекопателей и браконьеров. Водитель сетовал, что забайкальцев дразнят то семёновцами (хотя атамана Семёнова тут не жалуют), то гуранами - ведь заселяли этот край казаки да каторжане, так что старожилы тут типичные креолы: у каждого в роду есть эвенкийка, бурятка или даурка. О каторжном прошлом же водитель говорил не без гордости, и плавно перешёл на жизнь по понятиям, царящую в их посёлках. Как я понял с его слов, криминальная слава Забайкалья вовсе не преувеличена и мерзость АУЕ пришла действительно отсюда. Вот только сами жители здешних глубинок в большинстве своём не считают это мерзостью - молодёжь де у них с детства знает, что говорить и с кем говорить, а от зорких глаз местных смотрящих не спрячется ни наркодиллер, ни педофил...
На трассе золотари свернули на восток в Амурскую область, а нас на запад подхватила женщина, живущая между семьей в Кокуе под Сретенском и работой в Чите. Она, напротив, не хотела бы, чтобы её дети росли "по понятиям" и радовалась, что в их школу это напасть не просочилась. В Чите мы попрощались с ней на дальней окраине и остались ждать Алексея, добиравшегося к нам с другой дальней окраины. В какой-то момент ехавшая мимо машина с заниженной посадкой вдруг повернула к нам под прямым углом, и в салоне я увидел бурята-водителя и курчавого пацана с хищной улыбкой и вечно пьяным взглядом. Начав со слов "Мужики, вам чем помочь?" пацан задал нам несколько чётких вопросов, и убедившись, что мы не наркодиллеры и не чёрные копатели, а просто туристы, попрощался. Описав вокруг нас полный круг, машина уехала в обратную сторону, и только тут до нас дошло, что это местный смотрящий съездил посмотреть, что за странные типЫ вдруг появились на районе.
29.
Впрочем, то на глухих окраинах. Центр Читы - вполне уютный и вполне хипстерский, с обилием кафе, опрятными улицами и отличной, да при том весьма обильной старой архитектурой.
30.
А ещё в Чите неожиданно красивые девушки - видные и вольные, я бы мог их нафотографировать на отдельный пост. В столице Забайкалья мы провели два дня, ходили по центру и старым предместьям, любовались городом с сопок, ели бухлёр в бурятской столовой при дацане и правильную китайскую еду (в который живший в Китае Пётр знает толк!) в чифаньке "Дружба"... Алексей же выяснил, что НерЗавод из острова стал полуостровом - к нему уже восстановлена несколько менее пострадавшая от дождей южная дорога.
31.
И под вечер мы с Петром шли на поезд, за ночь расходящийся к Забайкальску, Краснокаменску и Приаргунску. В купе ехал командировочный, весь вечер пугавший нас строгими погранзонами - с его слов выходило, что южнее Читы вообще никуда нельзя без пропуска. Другим пассажиром был болтливый дядька из Досатуя, при виде москвича сразу сообщивший, что на Москву давно пора бы сбросить атомную бомбу. Я ответил "То есть вы сейчас пожелали страшной смерти моей семье и моим друзьям?!", после чего, кажется, дядька сам устыдился и всю дорогу пытался завести разговор уже в примирительном русле. Утром мы снова увидели за вагонным окном изумрудную степь, и вскоре сошли в Приаргунске:
32.
На площади набирал пассажиров ПАЗик до НерЗавода, но мы с Петром решили, что автостопом ехать веселее. На выходе с площади, однако, нас отловил злобный низкорослый пограничник в камуфляже и принялся угрожать вызвать наряд нас оформить - дескать, в Приаргунск нельзя без пропуска. Я несколько раз повторил, что мы не располагали такой информацией и хотели бы в кратчайшие сроки покинуть погранзону на автобусе в НерЗавод. Раз на третий пограничник принял этот довод, но в автобусе к тому моменту уже закончились сидячие места. Контролёрша впустила нескольких пассажиров стоя, а нам предложила ехать в легковушке, которая якобы вывезет нас за пост и мы тоже сможем ехать в автобусе стоя. Водитель легковушки уходил от прямых ответов на вопрос о цене, и лишь когда ПАЗик тронулся, обозначил, что вообще-то он такси, к выезду не возит, а до НерЗавода берёт с машины 6000 рублей - контролёрша явно это знала, и просто не захотела пускать в свой ПАЗик двух подозрительных типов. Таксист нехотя сбросил цену до "по 1000 с каждого", а потом сказал, что сейчас по городу один заказ отвезёт и вернётся. Но - конечно же не вернулся, и мы побрели к выезду. За приаргунскими пятиэтажками показалась и сама Аргунь, ну а за её простором - сопки Китая:
33.
Ближе к выезду рядом с нами притормозил "Урал" цвета хаки, но с него сошли уже другие пограничники - переписав наши паспортные данные, они ни слова не сказали о пропусках, зато всерьёз обеспокоились нашей идеей добраться до НерЗавода. Офицер прямо сказал: "Там люди опасные живут!", и на всякий случай дал нам свой контактный телефон, а полчаса спустя снова догнал нас уже на легковой машине да сообщил нам ещё и телефон нерзаводского прокурора. Ну а что ехать надо было на автобусе, вскоре признал даже бывалый автостопщик Пётр - 300 километров до НерЗавода по пустым дорогам, где машины проезжают раз в 15-20 минут, мы продирались весь день. Я успел понять, что народ в Забайкалье тяжёлый, недоверчивый и привыкший к тому, что в такие места попадают либо не по доброй воле, либо со злыми намерениями, а потому и пускать в свою машину двух рослых мужчин мало кому хотелось. И всё же понемногу мы смещались сквозь степную пустоту, а подвозили нас и бандит (как часто бывает - не без задатков краеведа), и следователь, ехавший "на труп" в далёкую деревню, и селяне из других далёких деревень, и золотари на отгуле, один из которых собирал в лугах "марфины коренья" (дикие пионы) для девушки из близлежащего села. Километров 40 мы преодолели и вовсе в кузове грузовика, а степь, между тем, понемногу начала идти складками сопок и язвами рудников.
34.
Вот и он, Нерчинский Завод в самом сердце Даурии. Богом забытая глушь без канализации и водопровода, где на главной площади, однако, ещё стоит роскошный деревянный дом Кандинских - художник и психиатр начала ХХ века были потомками здешних золотопромышленников.
35.
По пути к НерЗаводу мы до последнего надеялись, что нас кто-то из водителей пригласит на ночлег, но в итоге пришлось идти в гостиницу напротив. И пожалуй, можно считать, что нас в Забайкалье таки ограбили: за 1000 рублей с каждого (как оказалось - стандартная цена гостиницы во всём регионе) мы получили номер без всего, кроме кроватей (которые надо было застилать самим), рукомойники в коридоре, сортир деревенского типа и баню во дворе, которую всё равно не топили - ведро надо было нагревать в подсобке мощным кипятильником и тащить туда мимо злющей собаки. Трагическая, будто недавно пережила насилие, молодая бесцветная администраторша упомянула вай-фай, который хозяин гостиницы держит для себя и никому, даже ей, не сообщает пароль, и бесплатную стирку. Позже оказалось, что бесплатно постирать бельё нам можно руками в тазике, а стиральная машина - тоже только для хозяина. Уже не помню по каким цепочкам ассоциаций всё это заставило Петра вспомнить "Матную песню" группы "Ногу свело!", которая и стала гимном нашей дальнейшей поездки по Забайкалью. Цитировать её, тут, впрочем, не стану, ибо песня действительно матная.
Из НерЗавода мы съездили в близлежащее село Горный Зерентуй, посмотреть на заброшенную каторжную тюрьму:
36.
А по наводке местных - ещё и слазали в штольни, которые здесь называют не иначе как Пещера Декабристов. 15 километров из Зерентуя назад в НерЗавод мы шли пешком - из пятёрки машин, проехавших за эти 3 часа мимо нас, ни одна не остановилась.
37.
В общем, покидая НерЗавод, мы решили не повторять приаргунской ошибки и забронировали места на маршрутку, не смутившись даже тем, что ценник у неё только до Читы (около 1500 рублей), а ехать нам надо было дай бог треть этого расстояния. Маршрутки ходят через Нерчинск, вот только дорога к нему была по-прежнему размыта, и это было мне в тот момент более чем на руку - альтернативный путь в Читу вёл через Борзю, куда и надо было дальше нам!
38.
Вернее, после 5 часов пути мы сошли с маршрутки километрах в 30 не доезжая Борзи - здесь от трассы уходит 60-километровая грунтовка, на которой висит пара селений. До первого села Цаган-Олуй нас довёз землемер, до второго в самом тупике - бурятские корнекопатели. Второй село - это Кондуй, где находится поистине удивительный памятник: "церковь Чингисхана". Русский православный храм, сложенный в начале 19 века из обломков давно сгоревшего монгольского дворца, который, к тому же, мог служить временным мавзолеем Чингисхана накануне его похорон!
39.
Сам Кондуй оказался селом маленьким, но очень оживлённым - позапрошлый кадр снят на его площади, и пол-села сошлось туда в ожидании маршрутки из Борзи. На этой маршрутке мы и покинули Кондуй, но уехали всего на 6 километров, направившись через луга на Кондуйское городище. От дворца остались валы и основания колонн, а вокруг вместо степи лежала странная комариная топь. Дорога же была полна рыбы, плескавшейся в лужах и превратившейся в воблу на сухих местах - всё это были последствия наводнения...
40.
Ночь на городище, однако, стоило было спрятаться от комаров в японскую палатку Петра, запомнилась одной из самых счастливых в путешествии. В отличие от самого Кондуя, здесь ещё и прекрасно ловила сеть, и вот это сочетание уединения в степи и доступа к связи с близкими несказанно радовало меня. Утром случился ещё один подарок - простояв у дороги с часок, мы поймали машину с двумя красивыми, интеллигентными девушками, оказавшимися матерью и дочкой. Старшая несколько лет назад переехала в Кондуй из Борзи и очень много знала про эти края - сестра её была и вовсе районным министром культуры. Под интересные разговоры, под комментарии к каждой скале у дороги мы даже жалели о том, что едем достаточно быстро. В Борзе нас высадили у краеведческого музея, но музей оказался закрыт - то ли в связи с короновирусом, то ли просто по уверенности работников, что туда всё равно никто не придёт, раз на этот день на намечено школьных экскурсий. Ну а у варламитов, наверное, пальцы сами тянутся строчить язвительный коммент - ведь их гуру прямым текстом объявил Борзю худшим городом России.
41.
По мне так райцентр как райцентр, неухоженный, конечно, и сиротливый, но малые города через одного такие в этой части страны. А вот нравы в столице забайкальских гарнизонов оказались специфическими - на подходах к вокзалу рядом остановился милицейский бобик, и сотрудник, выйдя из него, посетовал, что какая-то бдительная гражданочка увидела двух людей с фотоаппаратами и поставила на уши всех вплоть до ФСБ. В общем, извинившись и полностью понимая абсурд ситуации, нас доставили в отделение, взяли с нас объяснительную, да отвезли к китайской трассе, которой мы продолжили путь на юг. Вот станция Даурия на бывшей КВЖД:
42.
А вот и сам Китай выглядывает из-за границы - в нескольких километрах от Забайкальска, главных российских ворот в Поднебесную, мы свернули под острым углом.
43.
В Краснокаменск - второй по величине город Забайкальского края, выросший на урановых рудниках. Здесь, по наводке Марии
 manesterova, нас ждала Розалия Бекировна - пожилая, интеллигентная дунганка из Нарына (Киргизия), которая была очень рада далёким гостям.
manesterova, нас ждала Розалия Бекировна - пожилая, интеллигентная дунганка из Нарына (Киргизия), которая была очень рада далёким гостям.44.
Обжитый в 1970-е годы выходцами с урановых рудников Средней Азии Краснокаменск нам рекомендовали как "уголок СССР", и что-то в этом, кажется, правда есть. Колоритная архитектура "идеального советского города посреди степи", строгий масочный режим в автобусах (нигде больше за 3 месяца путешествия я такого не видел!), развитая социалка вплоть до сохранившихся пионеров, царь и бог Комбината над городом... и при всём том с утра выходного дня "на рогах" была добрая половинах прохожих. Вот очень местный этюд - аллея почётных граждан да бредущий по ней позорный гражданин:
45.
Съездили и на сами рудники, тянущиеся на два десятка километров от города, причём по дороге Пётр ухитрился потерять телефон в рабочем автобусе и вновь обрести его на обратном пути.
46.
Ну а поезд, отправившийся с расположенного за городом вокзала мы покинули не в Чите, а на маленькой станции Степь в 2 часа ночи, и разбив палатку в лесополке за путями, поспали до утра. Утром за околицей проступили очертания военного аэродрома. Он давно заброшен, а вот тянущийся дальше полигон Цугол вполне себе действует:
47.
Автостопом мы добрались до села Ононск на краю полигона, и продавщица в тесном тёмном сельском магазине строго потребовала надеть маску, да рассказала, что из 300 жителей села короновирусом больны полсотни - первые две волны обошли Ононск стороной, зато третья накрыла в тройном объёме, свалив целые улицы. Продавщица была буряткой, а ехавший по своим делам военный подвёз нас к старинному и возможно самому красивому в России Цугольскому дацану:
48.
Здесь - Агинский Бурятский уже не автономный округ, один из двух регионов-спутников Бурятии, упразднённых в 2000-х годах. Причём округа были не только спутниками, но и полюсами: прибайкальская Усть-Орда считается оплотом бурятского шаманства, а забайкальская Ага - сердцем бурятского буддизма, и речь здешних бурят полиглот Пётр на слух путал с монгольской. От Цугольского дацана, сменив пара попуток, мы уехали прямиком к Агинскому дацану. Оба монастыря примечательны огромными статуями Будд:
49.
В Агинском дацане мы пообедали в позной, которая работала только на вынос - Бурятия уже объявила локдаун, и негласно эту инициативу "на местах" поддержал весь компактный и целостный бурятский мир. В монастыре Пётр надеялся обрести ночлег, и по итогам вдумчивой беседы заместитель настоятеля был вроде и не против, однако сам настоятель по телефону строго-настрого запретил - палатку де поставить можно, а в корпуса ни ногой, вдруг заразные! Заместитель провёл нам экскурсию по огромной территории дацана...
50.
...но ещё за позами у меня что-то перещёлкнуло и я решил мчаться на Алханай - священную гору, главную достопримечательность Агинского округа. На выезде из Агинского нас подобрал таксист, согласившийся за 1000 рублей за двоих довезтдо самой турбазы на склоне - а это порядка 100 километров через райцентр Дульдурга. Дешевизна поездки же стала понятна вскоре - таксист крепко присел мне на уши. Все два часа пути он заваливал меня какой-то пустой болтовнёй и бестактными вопросами, вдобавок себе под нос и сильным акцентом, но постоянными требованиями ответа, так что весьма привычный к странностями водителей Пётр под конец поездки восхищался, что дело не дошло с моей стороны до агрессии. На турбазе на лесистом склоне Алханая, куда, однако, ведёт асфальтовая дорога, мы сняли домик типа "деревянная палатка", и весь следуюший день ходили по склонам священной горы, мимо живописных скал с названиями вроде Небесная Музыкантша или Львиноликая Дакиня.
51.
А вот Главное Алханайской обоо, уже не столько буддийский, сколько шаманский символ, находится у подножья:
52.
...Ещё в НерЗаводе мы купили две 5-литровые баклаги питьевой воды на случай долгих зависов в автостопе посреди безводных степей. И потихонечку опорожняли эти баклаги все последующие дни. На спуске с Алханая ранним утром в них оставалось вода на донышке. Пройдя пару километров по пустой дороге, мы решили разделиться - этот день в любом случае был бы последним в совместном пути, и Пётр решил дойти пешком 12 километров до ближайшей деревни, а я - ждать машины сколько придётся. Мы чокнулись баклагами "за дружбу" и выпили воду до дна, однако прощаться оказалось рано - вскоре меня подхватила машина, а через пару километров и Петру в ней нашлось место. От Дульдурги же до Агинскгого нас подвезла бурятка, работавшая в одной из алханайских позных, вспомнив, что мы у неё ели блины. В Агинском мы пообедали напоследок в отличном бурятском кафе "Одон", а затем Пётр поехал на восток, на станцию Шилка и далее поездом в Хабаровск в гости к Айне (собственно, когда-то она нас с ней и познакомил), а я собрался двигаться на запад. Петра на выезде из Агинского подвезли те же буряты-корнекопатели, с которыми мы прежде добрались в Кондуй, а я повстречал на улице, по которой шёл в гостиницу "Гоби" (отличную, кстати) одного из сыновей сурового Соёла. Само же Агинское не впечатлило - ухоженное, но до отвращение аляповатое и лишённое ярких достопримечательностей:
53.
На следующий день ранним утром я пошёл к выезду из Агинского на юг - ловить машину в Цасучей, райцентр у самой монгольской границы над рекой Онон. Вот это место называется Делюн-Болдок, и согласно китайскому переводу "Сокровенного сказания монголов", именно здесь родился Тимуджин - и не монгол, выходит, а простой бурятский паренёк из Забайкалья, в истории оставшийся как Чингисхан. Более того, и могила его, вероятно, тоже где-то здесь - местные считают, что на дне Онона.
54
Я пол-дня бродил по зелёным лугам с искрами саранок (полевых лилий), собирал цветастые камушки, мок под дождём и обсыхал на ветрах. А потом прямо из полей меня подобрала чета бурят на старой "копейке", ездившие из Агинского помолиться у здешних камней.
55.
Впереди ждали маршрутка в Читу и поезд в Иркутск, за окнами которого Даурия провожала закатом над пригородным озером Кенон.
56.
На фоне диких степей Забайкалья разворачивалась другая сюжетная линия, ведущая уже в Прибайкалье и в июль. Из Читы я думал ехать в Байкальск, где мог остановиться у знакомого туринструктора и краеведа Иннокентия, а из Байкальска хотел 5 июля стартовать в Долину Вулканов в самом глухом и самом западном Окинском районе Бурятии. Туда же должна была примчаться автостопом верная Оля и прилететь через Иркутск третья участница похода - автостопщица Аня, взявшая невозвратный авиабилет. Но ещё в Нерзаводе я узнал, что Бурятия вводит локдаун с 27 июня - первоначально на две недели, но как недели превращаются в месяцы, все видели в 2020 году. На автовокзале в Улан-Удэ, куда я позвонил из Краснокаменска, мне сообщили, что в маршрутки до Орлика сажают только по паспорту с местной пропиской, ну а на подступах к Алханаю в болтовню назойливого таксиста вклинилось сообщение о том, что Бурятия полностью закрывает въезд в Тункинский и Окинский районы. Дальнейший маршрут разваливался, и навскидку придумав несколько альтернатив, я решил ехать в Иркутск и думать, как быть дальше, уже вместе с Олей и Аней.
А о том, что из этого вышло, будет следующая часть!
P.S.
Не знаю, заметил ли кто-то моё почти полное (кроме редких комментариев) отсутствие в интернете все 3 месяца. В этот раз я не писал не только в ЖЖ, но и даже ВК. Зато регулярно готовил десятки отложенных постов на Яндекс-Дзене, где всё же капает деньга. На большую активность в интернете это сложное путешествие просто не оставляло сил. Однако хочу сказать огромное спасибо всем, кто продолжает поддерживать мой ЖЖ, и отдельно персонально - человеку, который перевёл мне 10 000 рублей в середине июня (уведомление об этом я получил по дороге в Читу). Так что напомню о том, что Вы можете поддержать этот журнал.
|
Метки: невольничье Великая Степь Сибирь природа дорожное Дальний Восток злободневное транспорт этнография |
Даурский вопрос. Часть 2: Прибайкалье (15.07.-05.08.) и Кодар (07-20.08.) |
...поскольку намечающееся путешествие по Даурии будет масштабным, я решил разбить пост о его подготовке на две части. В прошлой - вопросы по Дальнему Востоку, Забайкалью и, главное, походу в Долину вулканов с поиском попутчиков и контактов заброски.

Но с Саян спуститься я рассчитываю в середине июля. Переведя дух в Иркутске, снова планирую съездить в голлендрам - надеюсь, в этот раз все будут здоровы, тем более добраться к ним можно будет куда красивее, чем в прошлом году: "Метеором" от Иркутска до Балаганска.
Дальше - снова на Ольхон. С одной стороны, это очень хорошо, что в прошлом году мы приехали туда в предзимье и не видели толп туристов. Но в этот раз моя цель на Ольхоне - Главный тайлаган, съезд шаманов со всех бурятских аймаков и их молебен на скале Шаманка.
С Ольхона в планах - путь на север Качугским трактом, выход на БАМ и дорога по БАМу на восток, по тем местам, что в 2020-м я проезжал ночью. Ну а конечной целью на БАМе будет опять же знакомая по 2020 году Новая Чара, с которой я хочу сходить не одним днём на Чарские пески, а двумя основательными радиалками: в Мраморное ущелье Кодара на север и на заброшенную Чинейскую железную дорогу на юг.
Фото Михаила Крайнова ( mikka), отсюда.
mikka), отсюда.

...и отсюда.

Ну и соответственно - вопросы залу:
1. Кто знает даты тайлагана на Ольхоне в 2021 году? По публикациям прошлых лет я понял, что видимо это первое воскресение августа (то есть - просто 1 августа), но однозначно этого пока не знаю.
2. Что представляет собой Качугский тракт, особенно севернее Качуга? Есть ли там какой-то рейсовый транспорт, есть ли шансы проехать его автостопом за день-два?
3. На Кодаре мы с Ольгой заинтересованы в поиске попутчиков. Мраморное ущелье - место достаточно глухое, поэтому надёжнее туда идти группой. С меня - маршрут и навигация, с вас - вклад в общие расходы. Преимущество этого маршрута в том, что не требуется никакой сложной заброски: поезд до Новой Чары, автобус или такси до Старой Чары, дальше пешком на 7-10 дней. Требования: наличие опыта автономных походов, спокойствие и отсутствие стремления всем что-то доказывать, а так же умение НЕ ЛОСИТЬ - мы ходим небыстро, у меня средненькая физподготовка, Оля долго собирается, и к тому же идём мы не рекорды ставить, а любоваться природой, поэтому будьте готовы к темпу 10-15км в день.
4. Как всегда, я буду рад любым встречам в городах и весях по пути. Иркутск, Ольхон, поезда БАМа в первых числах августа. Местные, которым было бы интересно нас встретить-приютить-покатать или другие путешественники, которых ветер странствий занесёт в те же края в то же время - отзовитесь!
Отдельное большое спасибо всем, кто переводил деньги в Варандей-Фонд. Особенно - тому, кто отправил 5000 рублей с месяц назад. Как и раньше, вы можете поддержать этот журнал, чтобы у автора было больше времени и мотивации заниматься именно им, а не какими-то другим проектами.
Карта № 4276 3801 4264 5311
(предупреждаю - в некоторых браузерах даёт всплывающее окно)
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Но с Саян спуститься я рассчитываю в середине июля. Переведя дух в Иркутске, снова планирую съездить в голлендрам - надеюсь, в этот раз все будут здоровы, тем более добраться к ним можно будет куда красивее, чем в прошлом году: "Метеором" от Иркутска до Балаганска.
Дальше - снова на Ольхон. С одной стороны, это очень хорошо, что в прошлом году мы приехали туда в предзимье и не видели толп туристов. Но в этот раз моя цель на Ольхоне - Главный тайлаган, съезд шаманов со всех бурятских аймаков и их молебен на скале Шаманка.
С Ольхона в планах - путь на север Качугским трактом, выход на БАМ и дорога по БАМу на восток, по тем местам, что в 2020-м я проезжал ночью. Ну а конечной целью на БАМе будет опять же знакомая по 2020 году Новая Чара, с которой я хочу сходить не одним днём на Чарские пески, а двумя основательными радиалками: в Мраморное ущелье Кодара на север и на заброшенную Чинейскую железную дорогу на юг.
Фото Михаила Крайнова (
 mikka), отсюда.
mikka), отсюда.
...и отсюда.
Ну и соответственно - вопросы залу:
1. Кто знает даты тайлагана на Ольхоне в 2021 году? По публикациям прошлых лет я понял, что видимо это первое воскресение августа (то есть - просто 1 августа), но однозначно этого пока не знаю.
2. Что представляет собой Качугский тракт, особенно севернее Качуга? Есть ли там какой-то рейсовый транспорт, есть ли шансы проехать его автостопом за день-два?
3. На Кодаре мы с Ольгой заинтересованы в поиске попутчиков. Мраморное ущелье - место достаточно глухое, поэтому надёжнее туда идти группой. С меня - маршрут и навигация, с вас - вклад в общие расходы. Преимущество этого маршрута в том, что не требуется никакой сложной заброски: поезд до Новой Чары, автобус или такси до Старой Чары, дальше пешком на 7-10 дней. Требования: наличие опыта автономных походов, спокойствие и отсутствие стремления всем что-то доказывать, а так же умение НЕ ЛОСИТЬ - мы ходим небыстро, у меня средненькая физподготовка, Оля долго собирается, и к тому же идём мы не рекорды ставить, а любоваться природой, поэтому будьте готовы к темпу 10-15км в день.
4. Как всегда, я буду рад любым встречам в городах и весях по пути. Иркутск, Ольхон, поезда БАМа в первых числах августа. Местные, которым было бы интересно нас встретить-приютить-покатать или другие путешественники, которых ветер странствий занесёт в те же края в то же время - отзовитесь!
Отдельное большое спасибо всем, кто переводил деньги в Варандей-Фонд. Особенно - тому, кто отправил 5000 рублей с месяц назад. Как и раньше, вы можете поддержать этот журнал, чтобы у автора было больше времени и мотивации заниматься именно им, а не какими-то другим проектами.
Карта № 4276 3801 4264 5311
(предупреждаю - в некоторых браузерах даёт всплывающее окно)
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
|
|
Даурский вопрос. Часть 1: Забайкалье (10-30.06.) и Долина Вулканов (03.-15.07.) |
Через 3 дня я снова улетаю на Восток, а это значит - ставлю блог на паузу и покидаю привычную московскую жизнь на пару месяцев. Долго думал, есть ли короткое и ёмкое название у региона, в который я еду, а потом в памяти всплыло слово Даурия. Огромная территория Забайкалья и Приамурья, не совпадающая с ними полностью, этакая контр-Маньчжурия на российской стороне.
В пятницу я должен приземлиться в Хабаровске, и со следующей недели двигаться из него на запад по Транссибу - кружок по диким степям Забайкалья через Нерчинск, Сретенск, Нерчинский Завод и Краснокаменск, возможно несколько дней в Агинском Бурятском округе, ещё пара дней - в Чите, а дальше поезд в Байкальск.
Там - встретиться с верной Ольгой и махнуть дней на 10-12 (с учётом дороги до Орлика) в Долину вулканов. Пойдём туда радиалкой с горячих источников Хойто-Гол.

В связи с этим вопросы:
1. Заброска в Хойто-Гол. Кто знает актуальные контакты адекватных водителей, забрасывающих группы из Орлика - поделитесь! Как часто там вообще идут машины? Если нас будет мало (то есть целый "Урал" не оплатим) - сколько времени может занять ожидание оказии?
2. Мы с Ольгой заинтересованы в поиске попутчиков. Долина вулканов - место достаточно глухое, поэтому надёжнее туда идти группой. С меня - маршрут, навигация и поиск заброски, с вас - вклад в общие расходы. Важнейшим из этих расходов будет заброска, поэтому о бюджете путешествия можно будет говорить, лишь когда обозначится группа. Требования: наличие опыта автономных походов, спокойствие и отсутствие стремления всем что-то доказывать, а так же умение НЕ ЛОСИТЬ - мы ходим небыстро, у меня средненькая физподготовка, Оля долго собирается, и к тому же идём мы не рекорды ставить, а любоваться природой, поэтому будьте готовы к темпу 10-15км в день.
3. Как всегда, я буду рад любым встречам в городах по пути - Хабаровск, Чита, Свободный, Тында, Сковородино, Нерчинск, Сретенск, Нерчинский Завод, Краснокаменск, Борзя, Чита. От Нерчинска до Читы буду с другом. Местные, которым было бы интересно нас встретить-приютить-покатать или другие путешественники, которых ветер странствий занесёт в те же края в то же время - отзовитесь!
Фото Михаила Крайнова ( mikka), отсюда.
mikka), отсюда.


Отдельное большое спасибо всем, кто переводил деньги в Варандей-Фонд. Особенно - тому, кто отправил 5000 рублей с месяц назад. Как и раньше, вы можете поддержать этот журнал, чтобы у автора было больше времени и мотивации заниматься именно им, а не какими-то другим проектами.
Карта № 4276 3801 4264 5311
(предупреждаю - в некоторых браузерах даёт всплывающее окно)
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
В пятницу я должен приземлиться в Хабаровске, и со следующей недели двигаться из него на запад по Транссибу - кружок по диким степям Забайкалья через Нерчинск, Сретенск, Нерчинский Завод и Краснокаменск, возможно несколько дней в Агинском Бурятском округе, ещё пара дней - в Чите, а дальше поезд в Байкальск.
Там - встретиться с верной Ольгой и махнуть дней на 10-12 (с учётом дороги до Орлика) в Долину вулканов. Пойдём туда радиалкой с горячих источников Хойто-Гол.

В связи с этим вопросы:
1. Заброска в Хойто-Гол. Кто знает актуальные контакты адекватных водителей, забрасывающих группы из Орлика - поделитесь! Как часто там вообще идут машины? Если нас будет мало (то есть целый "Урал" не оплатим) - сколько времени может занять ожидание оказии?
2. Мы с Ольгой заинтересованы в поиске попутчиков. Долина вулканов - место достаточно глухое, поэтому надёжнее туда идти группой. С меня - маршрут, навигация и поиск заброски, с вас - вклад в общие расходы. Важнейшим из этих расходов будет заброска, поэтому о бюджете путешествия можно будет говорить, лишь когда обозначится группа. Требования: наличие опыта автономных походов, спокойствие и отсутствие стремления всем что-то доказывать, а так же умение НЕ ЛОСИТЬ - мы ходим небыстро, у меня средненькая физподготовка, Оля долго собирается, и к тому же идём мы не рекорды ставить, а любоваться природой, поэтому будьте готовы к темпу 10-15км в день.
3. Как всегда, я буду рад любым встречам в городах по пути - Хабаровск, Чита, Свободный, Тында, Сковородино, Нерчинск, Сретенск, Нерчинский Завод, Краснокаменск, Борзя, Чита. От Нерчинска до Читы буду с другом. Местные, которым было бы интересно нас встретить-приютить-покатать или другие путешественники, которых ветер странствий занесёт в те же края в то же время - отзовитесь!
Фото Михаила Крайнова (
 mikka), отсюда.
mikka), отсюда.Отдельное большое спасибо всем, кто переводил деньги в Варандей-Фонд. Особенно - тому, кто отправил 5000 рублей с месяц назад. Как и раньше, вы можете поддержать этот журнал, чтобы у автора было больше времени и мотивации заниматься именно им, а не какими-то другим проектами.
Карта № 4276 3801 4264 5311
(предупреждаю - в некоторых браузерах даёт всплывающее окно)
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
|
Метки: Дальний Восток Сибирь дорожное |
Горная Ингушетия. Часть 3: Джейрахское ущелье |
От показанных в прошлой части Эгикала и Эрзи на склонах "ингушского Олимпа" Цей-Лом или от лежащей за ним Таргимской котловины Джейрахское ущелье имеет принципиальное отличие - оно обитаемо. На здешних горах висит пяток деревень, село-райцентр Джейрах (1,9 тыс. жителей) и даже курорт Армхи, стремительно построенный в 2010-е годы, когда эта горная глушь открылась для туристов. А напротив Армхи высится Столовая гора Мят-Лом, на вершине которой стоит эльгыц - настоящий языческий храм богини плодородия Тушоли из древней вайнахской религии ерды. Восхождением туда и закончу рассказ об апрельской путешествии по Ингушетии и Чечне.
Нормальные люди добираются сюда, конечно же, со стороны Назрани - прилетев "Победой" в аэропорт Беслан, подивившись новостройкам Магаса, прогулявшись по старым улочкам Владикавказа, вписавшись в авторский тур (у "Неизвестной России", кстати, тоже есть!) или найдя шикарного кавказского гида через мини-гостиницу. Но, как говорится, "если бы мы нормальные люди были, то у нас был и ложка была" - доехав из Грозного в Сунжу (бывшую станицу Орджоникидзевскую) мы поднялись рейсовым ПАЗиком до самого верхнего по Ассинскому ущелью села Алкун и поскакали дальше автостопом. Осмотрев Таргим, мы вышли под начавшимся дождём на перекрёсток у кордона заповедника "Эрзи", где я остался голосовать, пока джигиты-егери угощали Олю чаем и тортом. Торт доесть, увы, она не успела - со стороны Вовнушек и храма Тхаба-Ерды (всё перечисленное было в первой части) показался огромный "Хайлюкс" с пассажирским кузовом, который вёл тот самый шикарный кавказский гид. В просторном и гулком салоне сидели пассажиры - молодая, красивая и явно преуспевшая пара туристов из Питера, тут же угостивших нас исключительно вкусными яблоками. Сквозь дождь и туман мы поехали на Цейломский перевал, а чуть ехидный, но добрый гид с холёной бородой и бархатным голосом поведал нам свою историю. Я уже понял, что туристов он привёз сюда из Северной Осетии, но гид оказался не осетином, а... а даже не знаю и кем. Его дальние предки лет сто с небольшим назад жили в Дагестане, но от кровной мести бежали оттуда в Грузию. Там, в мусульманской семье, и родился наш гид, и к зрелости владел он русским, грузинским и арабским языками. Затем, однако, в Грузию пришла смута, разгул национализма и нищета, и вот они оказались в ближайшем регионе России - Северной Осетии. Под такие разговоры, созерцая выплывающие из тумана башни, мы и доехали до околиц Джейраха. По карте Армхи стоит будто бы у трассы, а оказалось, что вон он - треугольное здание вдалеке. Мы побрели туда, вскоре поймали попутку, и вот уже ждали на рецепшене, пока молодой администратор-ингуш заселит целый автобус туристов.
2.
Джейрахское ущелье называется так по селению и шахару - одному из 9 клановых уделов средневековой страны Галгай. Речка же в ущелье зовётся Армхи, что на русский можно было бы перевести примерно как Запретка. На неё и обратил внимание Абдул-Хамид Тангиев - совсем молодой ещё парень, сын владикавказскго купца, не окончивший реального училища и прошедший Гражданскую войну, в новосозданной Ингушской автономной области он стал наркомом здравоохранения. Надо заметить, в тогдашней ИнгАО не было натурально ничего - даже столицей её, на пару с Осетией, оставался Владикавказ, имевший в 1924-32 годах статус города всероссийского подчинения. В автономии было решено создать два курорта - бальнеологический в степных Аучалуках и горно-климатический в селе Мохкате над Армхи, в 30 километрах от Владикавказа. Построить их было Ингушетии не под силу, но место глянулось Всесоюзному старосте, и вот в 1925-28 годах в Джейрахском ущелье вырос санаторий "Армхи", самый солидный конструктивистский корпус которого был известен как Дача Калинина:
3а.
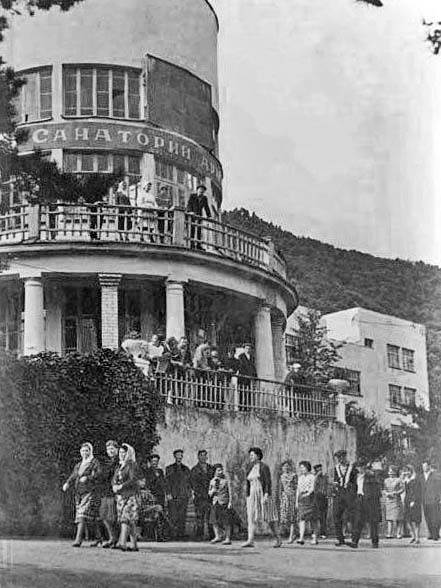
В депортацию 1944 года Джейрахский район отошёл Грузии, став Дарьяльским районом, и санаторий так же был переименован в "Дарьял". Старое название вернулось в 1957 году вместе с вайнахами, и в первые десятилетия после ссылки специализацией "Армхи" стало лечение туберкулёза. Не знаю, был ли туберкулёз у писателя Идриса Базоркина или Дача Калинина оставалась неприкосновенной, но главный ингушский роман "Из тьмы веков" он писал именно здесь. Не лучшим образом на дыхательную систему влиял и воздух Крайнего Севера - в 1980 году "Армхи" стал ведомственным санаторием "Уренгойнефтегаза", и красивые, но заражённые палочкой Коха корпуса 1920-х годов оставалось только снести до основания.
3б.

Не знаю, успели ли на их месте что-то построить - дальше в любом случае Ингушетия сделалась не лучшим местом для отдыха, а самим ингушам было явно не до того. Лишь в 1998 году на месте так и не возродившегося после депортации Мохкате был создан новый курорт "Джейрах". Кто отдыхал в нём тогда - мне не очень понятно, а по-настоящему за него взялись в 2012 году: к судьбоносному для местного туризма снятию пропускного режима в 2013 году Ингушетия располагала небольшим, но собственным всесезонным курортом.
3.
Устройство его лучше всего оценить можно с другой стороны ущелья - если в самой Ингушетии два этажа, то тут три, соединённых горнолыжной трассой и канатной дорогой. Внизу - собственно "Армхи", многоэтажный и довольно пафосный отель:
4.
Не знаю точно, когда были построены эти здания - в 1980-х, 1998-99 или 2010-х. Но архитектура мне неожиданно понравилось, слегка напомнив чехословацкий функционализм Закарпатья.
5.
Выше по склону находится "Чайка" с висящим над долиной бассейном, в апреле ещё сухим. Здесь мы и остановились - на первом этаже, в миниатюрных номерах с отдельными входами. Лучшим местом этих номеров оказалась ванная - в душе напор воды такой, что струёй можно почесать затылок, а сама вода пригодна для питья: на рецепшене сказали, что поступает она прямо из Ляжгинского водопада, уж во всяком случае - из каких-то горных ручьёв. На третьем этаже ещё и столовая, где с утра кормили простеньким, но добротным "шведским столом":
6.
Изначально же я бронировал Домик на дереве, очаровательно смотревшийся на сайте Ингкурорта. Но в апреле в горах холодные ночи, а мы заявились ещё и промокшими под дождём. Свободные номера же, которых система бронирования парой недель ранее не признала, таки оказались в наличии, и более того, по случаю Рамадана сдавались с изрядной скидкой - за 1700 рублей вместо 2400. Я доплатил разницу в цене, предпочтя комфорт экзотике.
7.
Ещё выше есть ресторан и бассейн с финской сауной, которые тоже входили в стоимость проживания. Вот только от "Армхи" до них - порядка 600 горизонтальных метров и примерно такой же перепад высоты. Внутрикурортный транспорт - это отдельная достопримечательность с кавказским колоритом:
8.
Во-первых, тут есть шаттл. Он на кадре выше - это "Нива" с добродушным житейским мужиком за рулём, по виду и речи которого в любой другой точке России я бы ни за что не догадался, что передо мной ингуш. "Нива" развозит гостей бесплатно в пределах курорта, и главный минус её в том, что она тут одна и потому её надо ждать или оговаривать время заранее. Ну а именно "Нива" тут служит шаттлом потому, что серпантин заасфальтировать денег уже не хватило:
9.
Ещё есть очень длинная узкая лестница, вьющаяся через лес:
10.
И за дополнительные 100 рублей туда-обратно - канатно-кресельная дорога, работающая с 10 до 18 часов:
11.
Для нас, впрочем, она оказалась совершенно бесполезной, так как на "Чайке" посадка и высадка не предусмотрены. Верхняя станция:
12.
У ресторана наверху - смотровая площадка:
13.
Но лучшие виды открываются, как оказалось, с третьего этажа "Чайки". Джейрахское ущелье удивляет своей асимметрией - оба склона его одинаково круты, но южный покрыт густыми лесами, а северный выжжен солнцем. Среди его пастбищ стоят древние башни и современные селения, отстроившиеся после депортации. И почти весь северный борт Джейрахского ущелья - это склон единственной Столовой горы (300м), или если по-ингушски - Мят-Лоам:
14.
Лоам или лом - значит просто "гора", и жители Джейрахского района образуют отдельный ингушский субэтнос лоамори - горцев. И если соседний Цей-Лом был обителью главных мужских божеств Делы, Селы и Гелы, то на Мят-Ломе жила Тушоли - дочь демиурга, самая любимая вайнахами богиня плодородия, жизни и весны. В отличие от суровых мужских богов, одна лишь Богиня-Мать была безгранично доброй к людям, всепрощающей и никому не делающей зла. Её вестником, аналогом ласточки в русском фольклоре, считался удод (тушоли-кутам), в её честь устраивались самые весёлые и пышные праздники, и только ей одной ставили идолов из дерева или металла в каноническом образе женщины со слезой на щеке. В прошлой части я рассказывал о последнем жреце Эльмарзе Хаутиеве, что в 1873 году, поняв, что служит демиургу Деле в одиночестве, тоже перешёл в мусульманство. Но видимо, последним он был за исключением жрецов Тушоли - тропинки к её эльгыцам не затоптали ни ислам, ни коммунизм, и лишь депортация разорвала эту нить. Ведь вернувшись домой, вайнахи расселялись в основном на плоскости, да и молиться Тушоли ходили чаще всего молодые женщины, мечтавшие о зачатии - те, кто помнил Мать-Богиню, были для таких молитв уже стары.
15а.

Культ Тушоли ушёл в прошлое, но именно с ней связано большинство уцелевших эльгыцев. В Чечне центром этого культа считалась природная, чуть доработанная людьми стела у селения Вилах в обезлюдевшем после депортации Галанчожском районе. Ну а в Ингушетии - святилище Мят-Сели, просматривающееся на вершине Мят-Лома:
15.
Под Столовой горой лежал уже не Джейрахский, а Мецхельский шахар, родина фамилии Евкуровых. Его башни на склонах также прекрасно видны из Армхи - вот например Духургишт, привлекающий взгляд аляповатостью явно туристических построек:
16.
Над которыми соят древние башни, недавно поднятые из руин:
17.
Близость Владикавказа и курортность способствовали тому, что они попадали в кадр и давним фотографам:
17а.

За оврагом правее Духургишта хорошо видно Бейни - уже вполне себе обитаемая (около 100 жителей) деревенька. Из её башен вышло несколько фамилий, включая Мурзабековых, в чьём гостевом доме "Бейни" на окраине Назрани я ночевал десятью днями ранее. И символично, что именно из окна тех, кому принадлежат эти башни, я впервые увидел Столовую гору - только с другой стороны:
18.
Теперь же мы задались целью на неё подняться, и в общем-то весь путь прекрасно виден здесь. Направо от Бейни гигантским зигзагом уходит пологая дорога, практически над селом переходящая в извилистый серпантин по травянистому склону без скал. Только серпантин здесь - не чёрные зигзаги: это "тропа дураков", которую накатали джиперы, и заканчивается она весьма красноречивой площадкой, где они ни с чем разворачивались, меняя разговоры о своей крутости на разговоры о своём уме. Настоящий же серпантин отсюда виден едва-едва и кажется почти вертикальным. Детальная лоция восхождения на Столовую гору есть здесь.
19.
Трансфер в Бейни от "Армхи" стоит 1000 рублей, и сначала я подумал, что цена неадекватна, но после прямого вопроса администратор пояснил, что в неё входит и обратный путь: спустившись с Мят-Лома в Бейни, надо будет позвонить в гостиницу, и минут через 20 приедет машина. Через ущелье, серпантином вниз и снова серпантином вверх нас повезла всё та же "Нива", и с серпантинов на мяцхельской стороне хорошо виден конец долины - за домами Джейраха речка Армхи впадает в Терек, издавна служивший границей осетинских и ингушских земель. То есть и полтысячи лет назад галгайцы, сидя на своих башнях, знали, что у тех гор другие хозяева:
20.
Выше по дороге кладбище и одинокий кашков - родовой склеп в виде маленькой башни:
21.
"Нива" остановилась у калитки, которую водитель настоятельно посоветовал за собой закрыть. Выше калитки - изумрудный луг, инфостенд с гордым заголовком "Тропо предков" да россыпь жилых башен Бейни, которые я решил оставить на обратный путь.
22.
Столовая гора подмигивает пещерами. Бейни стоит на высоте 1580м, Мят-Сели - на 2560м, а высшая точка Мят-Лома - 3003м, то есть нам предстояло набрать от 1 до 1,5 километров высоты и пройти путь по 8-12 горизонтальных километров в каждую сторону. В среднем подъём от Бейни до Мят-Сели занимает около 3 часов, и ещё часа 2 - до вершины.
23.
Впрочем, несколько километров можно сэкономить, сев на внедорожник - от Бейни начинается довольно пологий подъём. Идя вверх, мы с Олей спорили - я ссылался на тот пост по ссылке, автор которого советовал ни в коем случае не срезать загогулину по тропам, так как это отнимет куда больше сил. Оля отвечала, что он не прав - мы идём классический тягун, длинный унылый изматывающий подъём чуть-чуть за гранью горизонтального хода, и любой бывалый турист скажет, что в плане расхода сил ничего хуже нет. Мимо нас проехал джип с туристами...
24.
Чтобы путь не был совсем уж тягучим - указатели дополнены такими вот табличками с народными мудростями на русском и ингушском языках:
24а.

На середине тягуна - родник, где туристы набирают воду. Оля, впрочем, побрезговала, заявив, что это какой-то водопой для скотины.
25.
Но хоть и казался подъём пологим, а высоту мы набирали уверенно, сами не заметив, как оказались куда выше Армхи:
26.
Бейни, Духургушт и ещё один замок между ними:
27.
Духургуштская трубаза над кварталами Джейраха - рядом с её корабликом можно различить среди сельских крыш кубическую жилую башню. В целом же туристическая инфраструктура Горной Ингушетии поражает - обильная, комфортабельная и работающая как часы, она сложилась за несколько лет и уже в 2010-х. Вообще, сам по себе туризм Северного Кавказа - феномен весьма любопытный: в советское время эти республики оставались в тени Закавказья, в 1990-2000-х не без оснований слыли местом опасным, а туристический бум тут начинался с чистого листа в эпоху соцсетей. Так что маршруты местные писали не озабоченные вопросами патриотического воспитания чиновники и не радеющие по культуре эпохи их молодости заслуженные экскурсоводы и музейщики. Мини-отель, красавец-гид с джипом и группой вконтакте, мёд с частной пасеки, лёгкая самоирония кавказцев на стереотипы о себе - туризм на Северном Кавказе может и не самый массовый, но самый какой-то приятный.
28.
А над долиной белым куполом стоит Казбек (5033), лучшие виды на который открываются именно с Мят-Сели. Особенно если на его фоне пролетит орёл - такую фотку нам показывал водитель "Нивы". Ингушетии, кстати, в этом кадре принадлежит только ближний чёрный склон - Казбек высится уже за Тереком, и хоть границы России (Северной Осетии) с Грузией на нём не видно, она в этих снегах есть:
29.
С тягуна мы видели, как джип встал у беседки, а дальше несколько фигурок в разноцветных одеждах показывались всё выше и выше по склону. В беседках мы устроили большой привал - позади осталось около половины пути, но тягун тут сменялся серпантином.
30.
Путь наверх по его бесчисленным зигзагам я бы не назвал тяжёлым - тропа довольно широка, уклоны нигде не требуют хорошего чувства равновесия, и в общем при наличии налобного фонарика там даже ночью было бы не страшно идти. Но сколько тут зигзагов, я не знаю - путь наверх растягивается на пару часов и успевает вымотать своим однообразием. Вверху манит вешка, и она всё ближе, ближе, ближе, но по-прежнему далеко...
30а.

До Мят-Сели, впрочем, ещё пара километров. Если внизу луга изумрудны, то здесь снег сошёл считанные дни назад, а земля в жухлой бурой траве сырая и липкая:
31.
Интереснее взбираться сюда ближе к лету - говорят, в это время на Столовой горе, как в Киргизии или Монголии, пасутся самые настоящие яки! Но меня сопровождали лишь причудливые скалы:
32.
Да привычная за столько лет Смешная Птица:
33.
При ближайшем рассмотрении Столовая гора оказалась скорее гребнем - вершина её ровной кажется лишь снизу, да к тому же довольно узкая. На востоке выступает зубчатая громада Цей-Лома:
34.
Выше по долине как на ладони Эрзи с его 8 башнями и деревня Ольгетти с первой в своём роде улицей Путина из отстроенных после селя домов.
35.
В распадках видны и другие башни - вот это, как я понимаю, Мецхал, бывший центр шахара:
36.
До Мят-Сели по гребню горы идти ещё пару километров, и на подходах к святилищу мы увидели вот что. По Вайгачу или Северному Уралу я знал, что у древних такие скалы вызывают ровно те же ассоциации, что у нынешнего потребителя демотиваторов. Вот только для древнего образ этот был благородным: гениталии Земли - алтари божественных Матерей или Отцов.
37.
Сделав пару кадров, я пошёл к манившему впереди эльгыцу, а оглянувшись - увидел, что Оля лежит на тропе. Я сразу же крикнул, всё ли в порядке, и Оля встрепенулась, пояснив, что фотографирует цветок. Сверху же раздался мягкий бархатный голос "Что ж ты девочку бросил?!", и оглянувшись, я увидел того же самого дагестано-грузино-осетинского гида, что привёз нас в Армхи. Это его джип стоял в конце тягуна, и поднявшись наверх на часок раньше нас, теперь он уже не с двумя, а с тремя туристами устроил пикник над долиной.
37а.

Вот и он, Мят-Сели, типичный ингушский эльгыц. Как и большинство горских построек, возведённый в совершенно неясные времена - то ли сто лет назад, то ли тысячу. Совсем небольшой (7м в длину, 3,6 в ширину и 4,9 в высоту) и внешне совершенно невзрачный, однако подлинный языческий храм:
38.
У Мят-Сели две двери и поперечная арка - на рассвете и закате в определённые дни Солнце просвечивает здание насквозь. Роль храма он сочетал с ролью зала заседаний - под сводами его собирались советы старейшин. Последний раз ингушские чабаны и крестьяне во главе с цайн-сагом (шаманом) молились тут о дожде в 1924 году:
39.
Чуть выше по склону - ещё одно святилище Мятер-Сели, от которого осталась лишь груда камней:
40.
И если с одной стороны от гряды двух храмов находится расщелина-вагина, то с другой - озеро-сердечко:
41.
Между тем, Казбек на заднем плане затянули облака. Дойдя до Мят-Сели, мы были полны решимости идти к вершине Столовой горы, и ушедшие вниз гид да его подопечные даже отдали нам запасы питьевой воды. Но пройдя полсотни метров в гору, я вдруг почувствовал странное бессилие и просто завалился на бок, в тёплую траву. И полежав немного, понял, что туда мы не пойдём, а лучше погуляем по лугам Тушоли:
42.
С которых открываются, к тому же, феерические виды на Цей-Лом и осетинские склоны Мят-Лома. Чего стоит скала с контрфорсами справа!
43.
Вайнахские боги не делились на добрых и злых - только на Старших и Младших. Среди них лишь демиург Дела был неуязвим, но даже он не был всемогущим. На вершине Цей-Лома его соседями были бог солнца Гела и громовержец Села, чьим алтарём в каждом доме служил очаг, а смерть от удара молнии считалась почётной. Самыми добрыми обитателями Цей-Лома были, наверное, дети Делы - богиня жизни Тушоли и бог смерти Эштр, который никогда не забирал к себе людей несправедливо. Мир мёртвых Эл в разных преданиях напоминал то райские сады, где счастливые люди ходят по земле из серебра и золота среди пышных садов, то тоскливые пустоши, где всегда холод и туман, а Солнце то ли заходит туда "нашей" ночью, то ли вместо него там Луна. Боги были в целом добрее богинь - например, Дарза-Нана отвечала за вьюгу, а Уна-нана - за болезни, регулярно косившие горцев. Младшие боги ходили под властью старших, и были покровителями всего, чего только можно - так, Мятцели покровительствовал роду человеческому, но свой божок был у каждой скалы и каждого ручья. Между богами и людьми существовали ещё и нарты - богатыри, наделённые уникальными способностями и понимавшие птичий язык. Нартский эпос из безумно красивых былин - достояние всего Кавказа, и я пока что знаю о Кавказе слишком мало, чтобы понять, насколько он различен у разных народов. Вайнахские нарты закончили плохо - видя, что в мире богов и людей они больше помеха, Дела убил их, хитростью заставив выпить расплавленную медь. А вот юркий ласка Борткий-Ширка, заслуженный трикстер Чечено-Ингушских земель, обхитрил всех и даже легко снуёт между мирами. Землю населял целый паноптикум нечисти - вампалы (великаны) и "заячьи всадники" (злобные карлики), убуры (упыри) и гамсаги (оборотни), гарбажи (ведьмы-людоедки) и саурмаги - огнедышащие ядовитые драконы. Общались со всем этим знахарки, гадатели, а в первую очередь цайн-саги - тейповые шаманы, самые сильные из которых отличались деформацией головы. А вот на Олю глядит с Цей-Лома кто-то из богов - может, Села в образе орла, а может быть и задумчивый Эштр:
44.
Оля дошла до края обрыва, куда я поленился спускаться, и сняла ещё один феерический вид. Я вспомнил легенду о том, что сотворённый мир поначалу не умещался под небом, и Дела сжал его, образовав складки-горы, да укрепил скалами. Держать их помогают быки, выставившие условие не запрягать их по вторникам, которые стали выходным на полях, Днём быка. На пастбищах же суббота была Днём волка - когда-то человек одолжил у волка скот и не вернул, за что волки теперь мстят скотоводам. Словом, доисламские вайнахи жили в жестоком, суровом, но при том каком-то очень гармоничном мире, где ничего не делалось зря и всё имело своё место. Ну а таинственность горских руин, о которых не известны даже даты постройки, вся эта заполнившая покинутые долины тьма веков смешивает мифы с реальностью.
45.

Между тем, в правильность решения не идти наверх нас убедил вид за горой - там лежала густая дымка, в которой едва-едва присматривался Владикавказ или может какой-нибудь город поменьше:
46а.
Со Столовой горы видна и лестница хребтов Кавказа - ближе Лесистый, за ним Сунженский и Терский, и последние два как бы уже и не горы, а Гребни над равниной. Этот пейзаж горцы видели век за веком, и из холода и скудности гор их манили плодородные земли плоскости. Напрямик со Столовой горы вниз не спустишься, но если вдоль Ассы дойти до Алкуна и перевалить через невысокий лесистый хребет - прямо сюда и выйдешь. Так в 16-17 веках галгайцы заселили Тарскую котловину у речки Камбилеевки, многочисленные хутора которой сходились к большому селу Ангушт, по ярмарке в котором здешние горцы и для русских стали ингушами. Недалеко от села по сей день лежит обширная поляна Барта-Бос - Склон Согласия, где якобы в 1810 году был подписан Акт присяги Шести ингушских фамилий России. По другой версии, впрочем, старейшины Таргимхоевых, Хамхоевых, Оздоевых, Евлоевых, Картоевых и Эгиевых (все, кстати, жили в верховьях Ассы - из того, что я упоминал, их вотчинами были Таргим, Хамхи, Вовнушки, Йовли, Карт и Эгикал соответственно) сами явились в Буро, то есть Крепость, как называли ингуши основанный в 1784 году Владикавказ. Так что скорее на Барта-Босе они держали совет перед столь важным делом, как клятва в верности чужому царю. И массово, всем народом, ингуши эту клятву более не нарушали, а вот Россия вела себя по отношению к ним не очень- то красиво. Уже в 1861 году Ангушт стал станицей Тарской - самой западной в Сунженской укреплённой линии, и следующие полвека прошли под знаком борьбы ингушей с казаками за эти земли внизу. Обещанием решить вопрос в пользу вайнахов Советы получили верность ингушей в Гражданскую войну, и обещание своё даже сдержали - казаки правда были выселены за Терек уже в 1920 году. Но Тарская котловина - это натурально предместья Владикавказа, и то ли из-за более сильного осетинского лобби, то ли по сугубо экономическим причинам в 1958 году Чечено-Ингушетия была восстановлена без Тарской котловины. Что и кончилось в итоге скоротечной войной осенью 1992 года между осетинами (причём селились тут в основном выходцы из Южной Осетии) и ингушами. Ингуши селились в котловине все десятилетия по возвращении из депортации, и к тому времени были здесь большинством. В итоге за несколько дней было убито порядка 800 человек (из которых около 600 - ингуши) и сожжёно 13 из 15 тарских сёл. Последствия этого, может быть, лучше видны именно сверху - среди полей и лесов котловины заметны зарастающие кустами пустыри. Ну а само Тарское, бывший Ангушт, показано здесь.
46.
А вот так Столовая гора выглядит из Назрани, лежащей между Лесистым и Сунженским хребтами. И тут обратите внимание, как стремительно Тушоли проснулась - ведь этот кадр с сиянием белых снегов от всех остальных отделяет дней 10...
47.
Пора спускаться:
48.
Серпантин вниз всё так же зануден, а спуск по нему занимает не меньше времени, чем подъём. И лишь закат не давал заскучать. Так вышло, что в тот день я очень ждал одной тревожной вести, и лишь начав спуск осознал, что на вершине Столовой горы тревога полностью отпускала, а здесь накрыла вновь. Там, на лугах Тушоли, правда хорошо и спокойно - Богиня-Мать всегда утешит и простит:
49.
Уже в сумерках мы спустились тропкой поперёк зигзага к башням Бейни:
50.
Здесь только жилые башни, причём какие-то особенно широкие и капитальные - в нескольких сохранились даже эрдабоаги, центральные колонны, которые мне не встречались больше нигде у вайнахов:
51.
В итоге из достопримечательностей Горной Ингушетии у меня совершенно выпали водопады - хотя их тут несколько, и они весьма доступны. Ляжгинский водопад (высотой 12-18 метров) находится в пешей досягаемости Армхи - тропа к нему начинается там, куда спускается восточная дорога от курорта, и идти той тропой 30-40 минут. Фуртуогский водопад - в последнем селе по долине, в лесу у подножья Мят-Лома. Кроме того, в Фуртуоге родился главный ингушский революционер Гапур Ахриев, и его дом, законсервированный как мемориальный, с течением времени превратился в этнографический музей. Но - на утро нам оставалось только спуститься в Джейрах, единственный из всех шахаровых столиц не только сохранивший этот статус (районы по-ингушски и называют шахары), но и распространивший его на все 9 бывших шахаров Лоамороя. У центра села - одинокая старая башня:
52.
Сюда нас довезла всё та же "Нива", причём на маршрутках гости Армхи явно не очень-то ездят - один администратор назвал нам цену 400 рублей, а другой на следующее утро отправил нас бесплатно. Вот впереди - маршрутка на Назрань, четырежды в день отправляющаяся от длинного приземистого Дома культуры:
53.
Здесь же - воинский памятник с плитами солдатам Великой Отечественной, милиционерам (5 имён) и военным (1 имя) антитеррора.
54.
В наползшем тумане над Джейрахом красиво висел корабль Духургуштской турбазы:
54а.
Маршрутка тронулась, и попетляв в паутине джейрахских кварталов, подобрав там ещё нескольких пассажиров, миновала Аланские ворота на границе двух республик, спорящих за наследие древней Алании.
55.
Переехав Терек, мы вышли на Военно-Грузинскую дорогу, которую прежде я уже раз проезжал в темноте. Теперь же я любовался дневными видами величественного Дарьяльского ущелья. Маршрутка сердито и без остановок пересекла Владикавказ, а вскоре я улетал домой из знакомого уже аэропорта Беслана.
56.
И между прочим, впервые аж с 2017 года выложил по горячим следам всё путешествие!
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: замки-крепости Кавказ природа дорожное этнография курортное |
Горная Ингушетия. Часть 2: Эгикал и Эрзи |

В списках памятников культуры Горная Ингушетия имеет забористое название "Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник". На самом деле всё просто: Лоаморой состоит из двух ущелий - Ассинского на востоке и Джейрахского на западе. Воды обеих рек, Ассы и Армхи, в конечном счёте попадают в Терек, но первая впадает сначала в Сунжу, а вторая - напрямую выше её истока. На Ассе лежит показанная в прошлой части Таргимская котловина, где находятся знаменитые Вовнушки и христианский храм Тхаба-Ерды. Над Джейрахом висят с разных сторон курорт Армхи и Столовая гора, которые я оставлю до следующей части. Ну а между ними высится "ингушский Олимп" Цей-Лоам, на склонах которого древние башни образуют подобие Большого Барьерного рифа. Именно на перемычке находятся крупнейший и красивейший башенные комплексы - Эгикал со стороны Ассы и Эрзи со стороны Армхи, между которыми сегодня и прокатимся.
Эгикал на склоне горы Эгилом, отделённой ущельем Ассы от Цорейлама (заметны на заднем плане) с первого взгляда поражает своим масштабом:
2.

Обычно крупный башенный комплекс, то есть покинутый в 1944 году с депортацией вайнахов укреплённый аул, включает несколько вов (тонких боевых башен), парочку полубоевых (фактически, небольших замков), дюжину гала (низких и толстых жилых) и примерно столько же родовых склепов. В Эгикале 5 боевых, 6 полубоевых, 50 жилых башен и 106 родовых склепов.
3.

В ингушских преданиях Эги был отцом, а Таргим и Хамхи - сыновьями, спустившимися от него вниз по долине. На самом деле, впрочем, всё было наоборот: эти два городища были центрами шахаров, как в средневековой Ингушетии назывались уделы клановых союзов, а Эгикал был лишь большим провинциальным городом в шахаре Хамхи. Выходцами из него считаются всего 7 фамилий (тейпов), но зато каких! Например, Аушевы, из которых был Руслан Аушев - возглавивший Ингушетию в смутное время, выстроивший её автономию и не допустивший в свои владения войну, для ингушей он стал "отцом нации". Или Газдиевы, фамилией-ветвью которых стали Базоркины, а из них был Идрис Базоркин - советский писатель, автор главного ингушского романа "Из тьмы веков". На плоскости не так уж много аулов, основанных эгикальцами, но это значит, что им не так-то и нужна была эта плоскость: пока Таргим и Хамхи вели колониальную экспансию, Эгикал просто рос вширь и вглубь.
4.

И теперь это самый настоящий город. Заброшенный средневековый город:
5.

История его, наверное, была очень богата событиями и выдающимися людьми. Но вайнахи жили в затерянном мире, из которого внезапно появлялись на плоскости, грабили сёла и караваны и так же внезапно исчезали. Что там, наверху, толком не знал ни степняк, ни грузин, а "гроза Кавказа" Алексей Ермолов не случайно решал все вопросы топором, прорубая просеки к аулам. Поэтому в здешних ущельях и правда тьма веков - башни не имеют даже датировок, а уж свидетелем чего они были - никому и никогда не узнать.
6.

Над Эгикалом высится единственная вов Бохтароевых, да и та отреставрирована не так давно. Её отмечает странный знак, похожий то ли на голгофу с крестом, то ли на фигуру человека с раскинутыми руками. Могло быть, в принципе и то и другое: Христу вайнахи молились в 9-13 веках, когда хозяином предгорий была Алания. Но с её крахом под ударами монголов христианство не было вытеснено исламом с его проработанной системой символов - оно просто медленно забылось, растворившись в привычным вайнахском язычестве. И крест как благой символ, как великий оберег мог на века пережить последнего ингуша, помнившего "Отче наш".
6а.

Сейчас в этих руинах трудно представить жизнь, но ведь когда-то к неприступным башням лепились саманные и деревянные постройки, вдоль улиц тянулись валы кизяка, а на заборах и окнах сушились цветастые ковры-истинги. По улицам ходили остроносые чабаны и джигиты при шашках и пистолетах да белобородые аксакалы. Несли медные кувшины с родников стройные горянки в платках поверх коротких волос, а тем госпожам, которые в рогатых курхарсах, кувшины носил понурый клеймёный лай (раб). В аулах было много инородцев - ведь даже получая вольную, пленник до конца своих дней жил в при своём похитителе, так как дошёл бы он в любом случае не дальше следующего горца. Аулы висели по всей долине, от каждого было видно несколько соседних, а если вдруг на одном конце долины появлялась чужак - вскоре вся долина о нём знала.
7а.

Но разрушаться этот колоритный мирок начал задолго до депортации: с 16-17 веках вайнахи вновь колонизировали плоскость, и галгайцы сперва спустились в Тарскую котловину (по селу Ангушт в которой и стали для русских ингушами), а к концу 18 века - в верховья Сунжи, где основали Назрань. Резонов жить в горах, тем более когда набеги пресекала регулярная армия, становилось всё меньше, и по переписи 1926 года в Эгикале оставалось всего 36 человек - меньше, чем тут стоит башен. И когда до вайнахских аулов сумели добраться фотографы - сами аулы были уже не те...
7б.
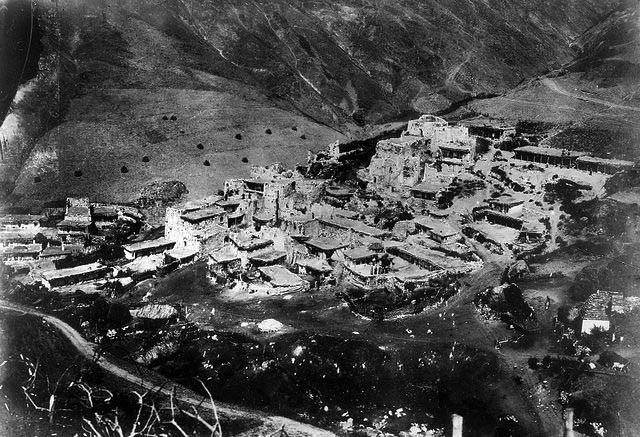
Многие башни в горах простреляны пушками - но и это следы не столько депортации, сколько предшествовавших и сопровождавших её КАО (по аналогии с КТО) - абреки, коими Ингушетия первой половины ХХ века просто кишела, отстреливались от НКВД из древних укреплений.
7.

Ну а теперь здесь лишь величественные руины, куда более молчаливые, чем руины античных полисов или среднеазиатские городища.
8.

9.

Слева - руины жилой башни, на 3-4 этажах которой были лишь деревянные перекрытия. Справа вверху - боевая башня: рубежом обороны внутри неё был каменный купол, ниже которого располагались жилые помещения (на втором этаже, где вход - хозяйские, а на первом, куда попасть только через потолок - каменный мешок для пленников), а выше разделённые деревянные перекрытиями подсобки да склады. Ну а внизу справа - и вовсе башнеобразный родовой мавзолей, дно которого усеяно костями.
10.

Внизу виднеется Таргим, который я ближе показывал в прошлой части - за складкой местности скрыт христианским храм Алби-Ерды:
11.

Выше руин города - его кладбище. 106 мавзолеев я тут, конечно же, не насчитал, так что видимо в эту цифру входят и разрушенные до фундамента. Но много и целых, иногда даже с тамгами фамилий:
12а.

Здесь же - кладбище с чуртами (надгробиями), видимо конца 19 века, когда ингуши окончательно отбросили язычество и приняли ислам. А одинокая могила за ними, как я понимаю, принадлежит Идрису Базоркину. Он родился в 1910 году в селе Мочко-Юрт в Тарской котловине, которое основал его двоюродный дед Мочко Базоркин. Идрисов отец Муртуз был генерал русской армии, а мать спустилась с совсем других гор - её звали Гретта де Ратце, и была она дочкой работавшего во Владикавказе инженера из Швейцарии. Отец бежал от революции в Персию, мать осталась в России и умерла в 1923 году. Швейцаро-ингуш Базоркин же окончил медресе, затем пошёл в педагогический техникум, а там решил связать свою жизнь с литературой и театром, и прожил её в основном между Орджоникидзе, Грозным и, в депортацию, Фрунзе. Роман "Из тьмы веков" он написал уже пожилым человеком в 1963-68 годах, а задумал трилогию длиной в сто лет - в первой книге действие началось в 1860-е годы, в третьей должно было закончиться возвращением из депортации в 1958 году. После публикации своего главного романа Базоркин перебрался в родное село, которое, как и вся Тарская котловина, уже не вернулось из Северной Осетии и возрождённую Чечено-Ингушскую АССР. И ох не зря Идрис Муртузович всеми силами заслуженного советского писателя боролся за то, чтобы это изменить! Когда в 1992-м, после десятилетий нараставшей вражды, в Тарской котловине вспыхнула война осетин с ингушами, писатель был схвачен как заложник, а его рукописи погибли, когда мародёры разграбили дом. Конечно же, от такого удара старик оправиться не смог, и уехав в Назрань живым и невредимым, умер полгода спустя. И был похоронен на родине предков:
12.

На околице Эгикала видны ухоженные сады и трансформаторная будка. В отличие от прочих башенных городов Ассинского ущелья, Эгикал - реальный населённый пункт, где прописаны 2 человека. Родовая башня Аушевых отремонтирована до пригодного для жизни состояния:
13.

Но в ней хозяева скорее принимают гостей, а живут в домике современного вида по соседству. Внизу плещется речка с грузинским названием Тетрисцкали, по долине которой дорога взбирается на Цей-Лом:
14.

И за первым же поворотом глаза лезут на лоб от количества башен! Внизу остаётся Лейми, где есть жилая башня с необычным уклоном стен в 14 градусов. Но куда заметнее новостройка детского лагеря, здорово контрастирующая своим био-теком с дикостью окрестных гор. Высокие башни на том берегу отмечают уже другое селение Озьг, или вернее Верхний, Средний и Нижний Озьги - вотчины тейпа Баркинхоевых.
15.

Здесь мы сделали даже небольшую остановку, а следующие башенные комплексы, мелькавшие вдоль серпантина, я даже не могу опознать - скажу лишь, что все они находятся в прямой видимости друг от друга!
16.

На карте здесь обозначены Лейми, Кели, Карт и ещё пяток безымянных групп башен:
17.

В лесах спрятана ещё и пара полуразрушенных эльгыцев (языческих храмов) - Дзорах-Дяла и Дялите с таким же крестом, как на Эгикальской башне. Так и не смог разобраться, кому в них молились, но суде по названием - Деле, богу-демиургу, жившему тут недалеко:
18.

На одной из трёх вершин Цей-Лома:
19.

Сам Цейломский перевал я проезжал трижды: дождливым вечером одного дня мы поднялись в Таргимскую котловину на попутках, и ими же уехали в горный курорт Армхи. Но не увидели тогда ничего ровным счётом - на перевале стоял густой туман, причём вдоль дороги видимость была странным образом существенно лучше, чем по сторонам. В Армхи, решив, что не хочу возиться с попутками и такси, я сразу же записался на экскурсию по Горной Ингушетии, самым дальним пунктом которой были показанные в прошлой части Вовнушки. День выезда выдался солнечный, но с утра тучи ещё лежали на вершинах хребтов:
20.

А когда мы ехали обратно - в горы пришёл прозрачный холод, открыв снежный гребень Кавказа. Так и не разобрался, Боковой это хребет, по которому проходит граница, или лежащий уже целиком в Грузии Главный:
21.

Цей-Лом (3173м) же высится на Скалистом хребте, и на его естественным башнях и правда нетрудно представить богов:
22.

На одной из вершин жил Дела - неуязвимый бессмертный демиург, отец бога смерти Эштра, не выступавший в контакты с людьми напрямую. Но - оберегавший людей: видя, что людям не выжить в одном мире с нартами (богатырями), он уничтожил последних, то ли хитростью, то ли безумием заставив выпить расплавленную медь.
22а.

Соседом его был Села - громовержец и покровитель огня, чьим алтарём в доме вайнаха служил очаг, на священной цепи над которым приносили клятву и прощали врагов. Села порой летал вокруг Цейлома в образе орла, и увидеть эту птицу тут считалось добрым знаком. Если же кого-то поражала молния - то это была не кара Селы, а приглашение в его башню: такого человека объявляли святым, равно как и место, где его убило.
23.

Третьим жителем горы-трезубца был Гела - бог неба и Солнца:
24.

Приняв ислам, ингуши, в отличие от чеченцев, своих старых богов не прокляли и не забыли, а как бы отправили на пенсию: память о них берегут как историческое наследие и знак идентичности. Но бояться языческих божеств, когда над небом Аллах есть - незачем, и потому с 2014 года отвесные башни Цейлома славятся своим фестивалем бейсджампинга.
25.

Цейломский перевал выглядит довольно странно - дорога взбирается на гору и делает полукруг по её склонам на довольно большой высоте. Может быть, тут склон просто более ровный, а ниже пришлось бы прыгать через многочисленные каньоны и бугры. Перед самым перевалом внизу виден башенный комплекс Бишт, который я бы назвал "лучшим из проходных":
26.

Живописный издалека, вблизи, впрочем, он выглядит неприятно зареставрированным, и что ещё тревожнее - реставрация явно только-только закончилась, а значит это может быть заразно:
27.

В старину Бишт был из тех особенно успешных аулов, что смогли найти свою экономическую нишу - здесь жили резчики, работавшие по дереву, кости и рогу.
28.
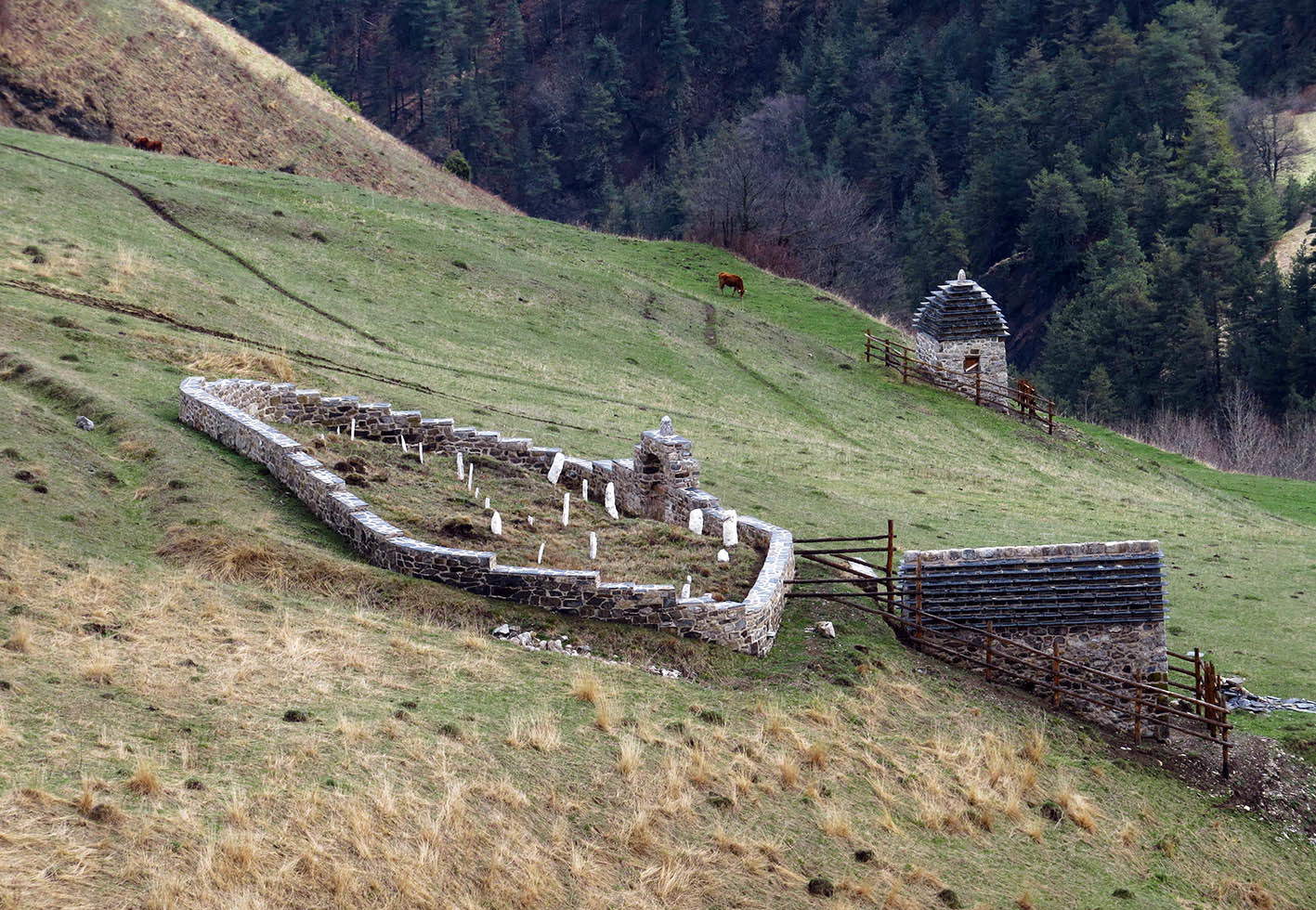
Ещё немного - и кажется, что дорога уйдёт в облака, висящие почти что наравне с Цейломским перевалом (около 2200м):
29.

Под ним на склоне скрыт целый небольшой шахар Чулхой - центральный Салги и ещё десяток башенных аулов, особенно живописных на фоне зубцов Цейлома. Здесь тоже жили ремесленники: Лялах славился златошвеями, в Кязи добывали охру и селитру, в Хяни делали лучшие луки, арбалеты и пращи (известнейший мастер Али Хяниев), а где-то между ними - башня Магой-Джел, встроенная между двумя валунами.
30.

Но с перевала не видать подножья. Перевал - для дальнозорких:
31.

Из-за острых Кистинских гор выглядывает белый купол Казбека (5033м) на границе Северной Осетии с Грузией, а значит и до конца Ингушетии уже рукой подать:
31а.

По склону следующей горы Гиряг (2863м) дорога спускается в Джейрахское ущелье:
32.

И одинокий памятник пограничникам на склоне адресован явно тем, кто едет с запада на восток - позади нас на послотни километров, до самого Итум-Кали в Аргунском ущелье Чечни, пограничник в горах почти безраздельный хозяин.
33.

Мы же спускаемся в Гули - обычное живое селение, самое верхнее в Джейрахское ущелье. После 40 километров диких лугов, живописных руин, пограничных застав и кордонов заповедника оно со своими тремя сотнями жителей кажется мегаполисом. Обитаемая земля встречает новодельной мечетью в характерно ингушском стиле:
34.

Ниже и старая часть села, жилые башни которой с 2016 года восстанавливает бизнесмен Саварбек Хадзиев, начав с башни Хаза (большая внизу) - своего предка в 13-м поколении. Разрушены они были отнюдь не в 1944-м, а ещё в 1830-х годах - карательной экспедицией за расправу над православными миссионерами.
35.

Но и леса тут замороченные, языческие... За ближайшей горой стоит храм-эльгыц Маго-Ерды, названный в честь не каких-нибудь горных богов и богатырей-нартов, а в честь колдуна Маго, что пришёл на рубеже 13-14 веков откуда-то из-за гор - может из Сирии, а может и из Индии. Его потомками считается крупнейший ингушский тейп Оздоевых (см. прошлую часть), ещё пяток вайнахских фамилий и одна грузинская (Чопикошвили). Кем был он на самом деле - история умалчивает, возможно - миссионером какой-то восточной религии, не сумевшим укоренить её здесь, но отвратившим вайнахов от последних пережитков христианства: храм Маго-Ерды по многим признакам похож на ещё одну средневековую церковь. Соседом Маго стал Сеска Солса - пожалуй, самый колоритный из нартов, скакавший на всеведающем говорящем коне с горы на гору и из мира в мир в сопровождении голубя, который всегда находил ему воду. Но от Сеска-Солса-ерды, как я понимаю, осталась лишь груда развалин. А село Шоан ниже по дороге, за живописной смотровой башня Бялган (кадр ниже) и вовсе вошло в историю как последний оплот вайнахского язычества - там жил Эльмарз Хаутиев, провидец и целитель, наладивший мир между ингушами и хевсурами - грузинскими "антивайнахами" с той стороы гор. Рождённый в 1766 году, в 1796 Хаутиев стал жрецом бога Делы, но к своему столетию остался без прихожан. В 1873 году он в последний помолился своим богом, закопал под святилищем знамя Делы, выбросил в пропасть свою любимую трубку и ушёл перерождаться в тёмную пещеру, где провёл в темноте и посте 40 дней. Вышел же последний жрец оттуда правоверным мусульманином, в 139 лет и 142 года совершил хаджи в Мекку, а умер в 1923 году в возрасте 157 лет: более долгой жизнью на Кавказе мог бы похвастаться разве что талыш Ширали Муслимов из Лерика. Ну, вернее так гласят предания, с которым биологи категорически не согласны - скорее всего в Шоане была династия из 2-3 поколений служителей культа.
36.

От самого Шоана теперь, кажется, не осталось и следа. Ну а вообще не только древности, на самом деле, примечательны на дороге. У перевала я увидел россыпь больших разноцветных палаток, и гидесса пояснила, что там альплагерь, где альпинисты тренируются и проходят акклиматизацию перед восхождением на Казбек. Ближе к Гули - новенькое здание станции МЧС для спасения тех, кто плохо акклиматизировался и тренировался. И, конечно, всюду пограничные вышки и посты, которые я не фотографировал.
37.

Мимо Бялганской башни мы спустились в долину речки Армхи, к следующему селению со звучным названием Ольгетти. Живёт в нём 340 человек, и мечеть (2018) на краю села может вместить всё его население:
38.

Само расположение домов двумя изолированными полосами напоминает о том, что в 2002 году на Ольгетти сошёл мощный сель, полностью разрушивший селение. Обошлось без жертв - люди успели подняться по склонам, но вот спускаться им было уже некуда. В кратчайшие сроки Ольгетти отстроили на федеральные деньги, новые дома и солидного размера районную больницу расположив сразу там, куда сель не дошёл:
39.

По тем временам да в глуши Кавказа это было, наверное, и правда впечатляюще. Да и президент ингушский Мурат Зязиков из низложения любимого ингушами Руслана Аушева сделал вывод, что с Кремлём надо дружить. Так в том же 2002 году на карте России, задолго до переименования проспекта Победы в Грозном, появилась первая...
39а.

Над ней видны очередные башни:
40.

И над одиноким сиелингом кружится вороньё:
41.

Это и есть Эрзи, и лишь взойдя наверх по крутой скользкой тропе, понимаешь, что все прежде виденные вайнахские древности не впечатляют так:
42.

Совсем небольшой по площади, этот башенный комплекс включает полсотни небольших жилых башен, скорее просто каменных домов, сливающихся в единую массу камня, две полубоевые башни, но в первую очередь - не четыре, как в Таргиме или Хамхи, и даже не семь, как в чеченском Шарое (где пять всё равно новоделы), а 8 боевых башен.
43.

Причём едва ли не самых высоких в вайнахских горах - более 30 метров:
44.

В теории на них есть петроглифы, которые я не углядел, а вот лестниц наверх не предусмотрено, и это явное упущение реставраторов.
44а.

Создателем этой красоты считается Янд Строитель Башен - основоположник тейпа Яндиевых, известнейший вайнахский зодчий всех времён, живший в 17 веке. Как Янд-Каш, то есть Яндова могила, ныне известен купольный мавзолей у подножья:
45.

Само слово Эрзи в переводе значит "Орёл", и в этом мавзолее хранилась реликвия, давшая этому селу такое имя - бронзовый Орёл Сулеймана. Вернее, для ингушей он был просто Орлом, а имя мастера Сулеймана, равно как и дату изготовления, определили уже кавказоведы, обнаружившие, что птичка окольцована надписью на арабице. Орёл был изготовлен в 796 году, скорее всего в Басре, и является древнейшим точно датированным предметом исламского искусства Ближнего Востока. Причём, можно предположить, шиитского - ведь у суннитов орлов ваять харам! Как попал он сюда - никто теперь не скажет: может, был захвачен горцами в каком-нибудь караване, а может был подарен персами в знак мира. Не ясно точно, и чем этот орёл был - то ли курильницей, то ли водолеем, то ли фигурой на штандарте. Но для Ингушетии он стал одним из национальных символов, и как алтайцы со своей Принцессой Укока в Новосибирском академгородке, ингуши долго требовали вернуть Орла домой из Эрмитажа, куда вывезли его ещё в 1931 году. Алтайцы своего в конце концов добились, а вот в Эрмитаже понимали, что не стоит помещать харамную статуэтку туда, где борются с харамом ваххабиты, а коррупция и кумовство решает всё. В итоге в Петербурге была изготовлена копия, в 2013 году размещённая в музее Назрани:
46.
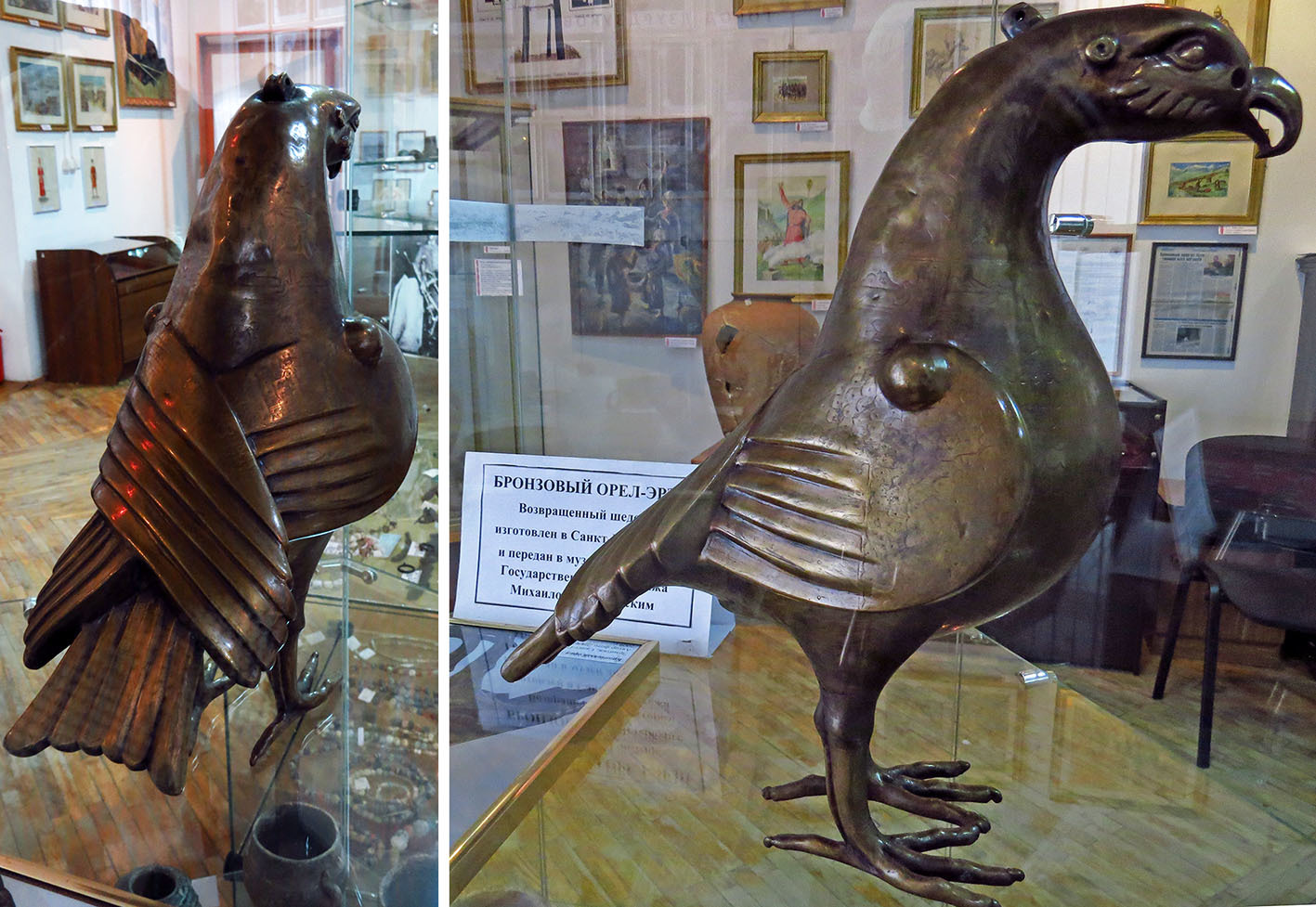
Побродив между башен, мы пошли вверх по зелёной траве, понимая, что Эрзи надо видеть целиком. С каждой точки его башни смотрятся по своему - вот их 5:
47.

А отойдёшь на двадцать метров - и уже все 8:
48.

Словно и правда это не рукотворные постройки, а иная форма жизни на основе кремния, размножающаяся почкованием:
49.

Абсолютно лучший вид вайнахского зодчества открывается с холмов над Янд-Кашем, за огороженным колючей проволок пастбищем. И помимо поросли башен Эрзи, присмотритесь и к заднему плану:
50.

Если вам казалось, что на той стороне Цейлома много башен - то вами действительно только казалось!
51.

Мелкие комплексы в прямой видимости крупных несли свои функций - часть башен были дозорными, часть - сигнальными, и располагались они так, чтобы разведённые на вершинах костры позволяли по цепочке передать сигнал за поворот ущелья.
52.

Взаимодействием всего этого и отличало шахар от просто племени - здесь у племени была своя земля, на которой для каждого рода значились свои роль и место.
53.

Вытянутое с запада на восток, Джейрахское ущелье впечатляет ещё и своей асимметрией - южный склон покрыт девственным лесом, северный - весь в башнях. Впереди перекликаются одинокая дозорная башня справа и курорт "Армхи" под ярко-красной крышей слева:
54.

К нему, покинув Эрзи, и направимся извилистой дорогой вдоль пропасти:
55.

Несколькими километрами далее - ещё один, уже не знаю какой на сегодня по счёту башенный комплекс Ляжги. Пара здоровенных башен на склоне видны издалека, а изнутри, говорят, примечательны тем, что всех их этажи разделяют каменные своды. А прямо у подножья башен живут люди, к каменным корням лепятся дома - Ляжги, пожалуй, больше всего похожи на уголок того затерянного мира, что в ХХ веке вытек отсюда на плоскость.
56.

А теперь вспомним о том, что всё это - не Средиземноморье и не Ближний Восток, а там же самая Россия, на большей части которой даже 18-й век кажется седой стариной. Думаю, в ущельях Ингушетии самая большая на просторах Необъятной концентрация средневековых памятников. Ну а почему именно Ингушетия, почему не соседняя Чечня? Всё очень просто: в Чечне были Кавказская война, депортация и две Чеченские войны, а в Ингушетии, за вычетом разовых карательных акций и режима КТО - только депортация. В Ингушетии известно 120 сохранившихся башен, в Чечне - около 1000 разрушенных, причём раньше чеченские башни считались мощнее и больше ингушских: например, уникальная 6-этажная гала в селе Никарой. Когда-то ущелья Аргуна и Шаро-Аргуна, Хулхалау или Ансалты выглядели примерно так же, но в бесконечных войнах башни падали первыми.
57.

По Джейрахскому ущелью погуляем в следующей части.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: замки-крепости Кавказ природа дорожное этнография |
Горная Ингушетия. Часть 1: Таргимская котловина |

У Ингушетии есть как бы два этажа, между собой бесконечно различных. На первом - суматошная Назрань, нелепо-пафосный Магас, показанные в прошлой части веси от нефтяного Малгобека до уже не русской Сунжи, перенаселённость да национальная вражда. На втором этаже - тишина: величественные и почти безлюдные горы, покрытые, как странной кремниевой формой жизни, сотнями каменных башен. Я расскажу про эти горы в 3 частях с востока на запад, и в первой погуляем по Таргимской котловине, средневековому Троеградью, которое считается колыбелью ингушей и даже сохранило парочку христианских храмов.
Вопреки всем советским ГОСТам, два ингушских этажа соединяют два лифта. Один - пассажирский, наподобие "Газели", четырежды в день возит народ из Назрани в Джейрах через Владикавказ, который сердито пересекает без остановок. Второй - грузовой в виде ПАЗика, пару раз в день поднимается из Сунжи (она же Орджоникидзевская или Слепцовская) по долине Ассы через сёла беспокойных предгорий. Недостаток его лишь в том, что конечный пункт этого лифта - село Алкун, а дальше ещё на 40 километров до предместий Джейраха нет ни единого населённого пункта. Там остаётся только подниматься по лестнице, то есть - попутку ловить, и вот такой попуткой стала классическая чёрная бэха с тонированными стёклами и джигитистыми пацанами впереди. За Алкуном широкая лесистая долина стиснулась в узкое Ассинское ущелье, склоны которого пасмурным днём растворяются в облаках:
2.

Горные пласты местами стоят вертикально:
3.

Но при всём том до самого Джейраха и дальше на дороге хороший асфальт:
4.

Населённых пунктов же в этом узком коридоре нет и никогда не было. Промчавшись километров 25 без остановок, мы по-джигитски резко затормозили, и ребята пояснили, что они приехали. Мы вышли из бэхи, и бэха сдала на сотню метров назад - не знаю, за сколько десятков километров ребята ехали на родник, чтобы набрать там воду, и раньше, чем они укатили вниз, у родника с теми же целями объявился какой-то советский драндулетик. Мы тогда подумали, что студёная вода в этом роднике наверное феноменально вкусная, вот только пробовать её не было никакого желания: если Орджоникидзевская стоит в 320 метрах над уровнем моря, а Алкун в 780, то мы поднялись уже выше километра. Из ущелья хлестал ветер, трепавший прямо по костям, и первым делом мы кинулись утепляться, а вторым... вторым желанием было двинуть быстрым шагом по долине вверх, но за гремящей Ассой мы вдруг увидели башни:
5.

На викимапии они подписаны как Цорх, но это, видимо, ошибка. Чаще эти руины называют башнями Гагиевых или просто Ингушской заставой:
6.

Если станицы у Сунжи стерегли выход Ассинского ущелья от горских набегов, то этот замок на огромном валуне - напротив, охранял вход в Ассинское ущелье от врагов с плоскости. Ну а строился он в те времена, когда врагами этими были вовсе не казаки, а монголы. Или кто-то ещё - странное очарование суровой Вайнахии в том, что 99% её древностей не датированы точнее нескольких веков:
7.

А Асса внизу идёт складками, и шум её такой, что у дороги не слышно своих шагов. Для ингушей она значит примерно то же, что для чеченцев Чанты-Аргун (вдоль которого Аргунское ущелье), а вот "ингушский Шаро-Аргун" (см. Шарой) - текущая за горами Фортанга, - в 2018 году по итогам долгого спора тоже достался Чечне.
8.

В Ассинском ущелье 1990-2000-х не было таких мясорубок, как в Аргунском, однако мир сюда пришёл как бы не позже - последним крупным боем был рейд Руслана Гелаева из Грузии в Чечню в сентябре 2002 года. Но ходили по горам боевики ещё много лет - что Шамиль Басаев в 2006, что Доку Умаров в 2013-м ликвидированы были именно на территории Ингушетии. Впрочем, как и в Ичкерии или Урус-Мартане, всё это относилось больше к предгорьям с их густыми чащобами, а здесь, на высоких горах, и спрятаться-то толком негде. Но - можно было бегать в Грузию, а потому Джейрахский район уставлен уже новыми башнями.
9.

До 2013 года здесь была погранзона, в которой турист лишь отвлекал от борьбы с терроризмом. Она тут и сейчас есть, но только правила её изменились - для въезда больше не нужен пропуск, достаточно паспорта гражданина РФ. Ну а дальше буквально за несколько лет, невиданными для России темпами, горная глухомань вдруг превратилась в центр туризма и даже сквозь КПП, куда мы пришли пешком, за время проверки наших паспортов, проехала пара машин с явным туристами.
10.

Мы же и дальше шли пешком, любуясь горами над ущельем. Асса здесь пересекает Скалистый хребет, вполне оправдывающий своё название. Вправо до самой Чечни уходит его сегмент Цорейлам, слева - какие-то отроги Цейлоама, ну а высота вершин, укутанных облаками - всего-то около 2 километров:
11.

Чуть дальше камень у дороги напоминает о том, почему эти горы безлюдны: ингуши смогли избежать Кавказской войны и двух Чеченских войн, а вот депортация прошлась и по ним. До 1944 года каждый башенный комплекс был аулом с десятками дворов, но как и в Чечне, даже вернувшись в 1958 году на родину, ингуши остались на плоскости. Где-то пишут о негласном запрете селиться выше 1000 метров над уровнем моря, где-то - о том, что за 13 лет на плоскости вайнахи не только одолели голод и холод страшных первых зим, но и достаточно обвыклись в степи, чтобы не стремиться в горы. В конечном счёте, сюда их загнали монголы и тюрки, и плоскость, на которой можно прокормиться земледелием, а не на набегами, была для вайнахов многовековой мечтой. Чеченцы и ингуши - уже полвека как не горцы, и их древние башни остались не более чем фамильными реликвиями людей из городов и станиц. И всё бы хорошо, да сопровождалась депортация огромными жертвами - кто-то умер от голода, холода и болезней на новом месте, кто-то не вынес двух недель пути в переполненных "теплушках", кто-то был убит при выселении. По горам ходит немало преданий об аулах, где чекисты сжигали живьём стариков и детей, чтобы не возиться с их конвоем по тропам. Самая известная "вайнахская Хатынь" - это чеченский Хайбах, но даже история его гибели довольно противоречива: отчётная записка чекиста Михаила Гвишиани составлена абсолютно не по канонам советского делопроизводства и перепутано в ней всё вплоть до названия операции. В Ингушетии аналогичная история основана и вовсе на воспоминаниях одного старика, так что я бы относился к этому как к просто собирательному образу. Сожжённых аулов может и не было, но в 1944 году погибло до четверти всех вайнахов.
12.

Ну а за грядой с печальным камнем становится виден Таргим. Он стоит за рекой, в обход через ближайший мост идти до него километров 10, а потому Таргимом любуются издали, словно картиной. Со своей четвёркой башен, основания и верхушки которых образуют на склоне ромб, Таргим не самый большой, но я бы сказал - самый ландшафтный:
13.

Ещё тут есть 4 полубоевых башни (издали похожи на пни) и развалины 16 жилых башен, а где-то под ними - остатки жилищ с циклопической кладкой, сложенной 2-3 тысячи лет назад. В прошлых частях что не селение на плоскости - то обязательно основано выходцами из Таргима. Отсюда происходят 42 ингушских фамилии, в том числе самая распространённая фамилия Мальсаговых, ну а Карцхал Мальсагов - тот основал в конце 18 века Назрань. Среди ингушских селений Таргим занимал примерно то же место, что Португалия среди европейских стран - форпост на границе двух сред. Таргимхоевцы первыми придумали спускаться по Ассинскому ущелью в Алкун, а из него по низкогорью в Тарскую котловину, где в 18 веке русские обнаружили сеть хуторов и крупное село Ангушт, по которому "башенный народ" и прозвали ингушами.
14.

В стороне от селения - кладбище с 19 родовыми склепами, двумя индивидуальными мавзолеями и пятью башнеообразными святилищами, крупнейшее из которых имеет даже своё название - Аушасел. В мавзолеях покоятся, быть может, Тет-Батык Эльдиев и Мальсаг - выдающиеся зодчие башен. Что же до святилищ, то под скипетр к белому царю ингуши пришли язычниками:
15.

Но самый интересный памятник Таргима стоит напротив городища, на "нашем" берегу - это церковь Алби-Ерды, или вернее то, что от неё осталось. Ведь язычником хорошо быть в глухих горах, на плоскость спускаясь только грабить или награбленным торговать. На плоскости же как-то логичнее примкнуть к какой-нибудь глобальной религии, ну а увенчавшаяся успехом в ХХ веке попытка спуститься с гор была для вайнахских племён не первой. "Золотой век" их, на тысячу лет оставшийся в памяти - это 9-12 столетия, когда степи Предкавказья крепко держала Алания со столицей в "городе солнца" Магасе. Наследниками алан принято считать осетин, но у прочих народов Кавказа, и в первую очередь конечно у враждующих с осетинами ингушей, на этот счёт другое мнение. Как бы то ни было, крестились вайнахи на сотню-две лет пораньше восточных славян, но - не столь глубоко. Если русское православие просто сохранило множество языческих пережитков, то здесь возник скорее христиано-языческий синкретизм, и загнанные назад в горы, средневековые вайнахи постепенно вернулись в язычество.
16.

Между тем, крещение было не следствием выхода на плоскость, а его причиной - христианство позволило влиться в братскую семью народов Алании. Крестила же горцев не Алания, а Грузия, Картлийское царство, в те века распространившееся из Ардануча по долине Куры, сбросив иго арабов. Грузинские и даже армянские зодчие и строили в этих горах первые церкви, и Алби-Ерды имеет типично грузинскую композицию "трёхцерковной базилики", где боковые нефы отделены глухими стенами и представляют собой притворы. Известно даже грузинское название этого храма - Твирлис-Цминда, то есть Воскресенский собор.
17.

Что же до ингушского названия, то сами ингуши не помнят, откуда оно взялось. "Ерды" - это святыня, а вот кто такой Алби? Мне слышится созвучие с Алаверди - может быть, горный храм строили зодчие или окормляли батюшки из этого грузинского монастыря? Однако чаще тут усматривают родство с Аларды - горским духом болезней (его культ остался у осетин), которого задабривали так, как никого из "добрых" божеств. В этом есть логика: святилища Аларды всегда строились входом от селения, и именно так стоит храм, язычникам прослужившую большую часть своей истории.
18.

Да и нынешнее здание строилось язычниками "по мотивам" - основанный в 830-е годы, храм неоднократно разрушался и перестраивался, нынешний облик обретя чуть ли не в 16 веке. Кладка из разноцветного плитняка явно больше общего имеет с вайнахскими башнями, чем с выверенными, совершенными храмами Закавказья.
19.

В прямой видимости от Таргима - ещё несколько башенных комплексов-спутников. Высоко над Таргимом висит Герити:
20.

А у этого замка из двух полубоевых башен даже названия чёткого нет - в списках памятников архитектуры он значится под номером "076":
21.

Но менее зрелищным от того не становится:
22.

Таргим лишь открывает Таргимскую котловину, так же известную как Галгай-Коашке (Ингушские дворы) или даже Кхякхале - Троеградье. Другие два города - это грандиозный Эгикал, до которого мы доберёмся лишь в следующей части:
23.

И Хамхи, в этой системе наименее зрелищный, но как бы не главный. Под его башнями, список которых идентичен таргимскому (4 боевых, 4 полубоевых, 16 жилых), а расположение не столь ландшафтно, тоже скрыты фундаменты с циклопической кладкой.
24.

Хамхоевы в колонизации плоскости шли следом за Таргимхоевыми и основали немногим меньше сёл и хуторов. С ярким представителем этой фамилии я общался в Назрани, а вернее в её предместьях Барсуки и Плиево - на вопрос, где тут такси, он сам бесплатно отвёз меня из одного селения в другое. У него была внешность типичного лоамори (горца): светлая кожа, пепельные волосы и голубые глаза, да такой взгляд, что мне было легко представить его в облике абрека. Пока ехали, он рассказывал мне о своей родовой башней в руинах Хамхи и о том, что род их самый древний: нахские народы, дескать - потомки Ноаха (Ноя), а Хамхоевы - ветвь от его сына Хама.
25.

Помимо разрушенных башен на холмах видны и геоглифы:
26а.

И если с лозунгом пограничников всё понятно, то ингушские символы прилагаются к сцене и трибунам. Троеградье - популярное место исторических фестивалей и национальных праздников. Более всего известна "Битва в горах" - проходящий с 2012 года турнир смешанных единоборств, на который съезжают самые крутые братухи-борцухи.
26.

В центре котловины - перекрёсток трёх дорог, напоминающий "ингушский коловрат" с национального флага: мимо Таргима - в Галашки и Сунжу, мимо Эгикала - в Джейрах и Назрань, а мимо Хамхи - дальше в горные глубины. На перекрёстке сидит деревянный орёл, а напротив - вагончики с дюжими егерями: третья дорога ведёт в заповедник Эрзи (создан в 2000 году), на название которого (в дословно переводе) пернатый и намекает.
27.

В первый день под дождём мы пришли сюда из Таргима, вскоре поймали джип с питерскими туристами и осетинским гидом и мимо Эгикала уехали в Армхи. Армхи - это горный курорт, и на следующий день, поленившись возиться, я вписался там на экскурсию по ущельям и башням. День спустя, по наладившейся ветреной погоде, мы вновь проезжали мимо этого орла по хамхинской дороге. Взгляд назад, на неприступную стену Цорейлама:
28.

За орлом дорога без асфальта, да и не живёт вдоль неё никто - лишь погранчасти да халупы, оставшиеся будто бы от беженцев осетино-ингушского конфликта или Чеченской войны.
29.

Асса, как и Аргун в устье Малхисты, здесь расходится с дорогой - её истоки в Грузии, на Главном Кавказском хребте, а границей служит Боковой хребет, который река прорезает. Мы же сворачиваем в долину притока Гулойхи, на входе в которую - руины Пуй с одиноко торчащей боевой башней:
30.

Машины и бусики экскурсантов едут кавалькадой - на фоне снежных вершин виден Тхаба-Ерды, самая сохранная церковь Вайнахии:
31.

Первый раз давным давно прочтя это название, я был в полной уверенности, что значит оно Святого Георгия. Но "святой" тут - не тхаба, а ерды, и в разных вариантах название переводят то как Храм нашей веры, то как Храм Двух Тысяч святых, то ли вовсе как церковь Святого Фомы. Небольшая (17х7,5 метров) базилика, вписанная пологий склон:
32.

Ингушские гиды, конечно, называют этот храм старейшим на территории России, но тут с ними явно не согласятся коллеги из Карачаево-Черкессии и Крыма. Каменное здание на этом месте стоит как минимум с 8 века, и не факт, что было оно христианским - ведь Грузия и Армения тогда жили ещё под мусульманской пятой. Однозначно церковь в Тхаба-Ерды возвели в 11-12 веках, и от её стен осталась "ограда":
33.

Ну а нынешний Тхаба-Ерды сложили уже в 16-17 веках из её обломков то ли язычники, то ли последние христиане. В вайнахскую кладку вплетены грузинские узоры (нижние я заснял и вовсе в музее Назрани), в том числе прежде виденные мной аж в Турции "радиовышки":
34.

Из фрагментов собрана даже главная композиция на фасаде, и собирали её люди, давно потерявшие связь с монастырями и епископами. Ведь в центре сидит Христос, который тут, - немыслимое дело!, - гораздо ниже ктиторов (основателей), от одного из которых остались только ноги. Въедливые учёные, впрочем, эту плиту таки нашли где-то в окрестных аулах, но не знаю, куда дели потом - однако по грузинской надписи "епископ Георгий" шрифтом "асамтаврули" датировали рубежом 10-11 веков. Ну а люди, которые восстанавливали храм спустя столетия, увидели здесь не Бога и воздающих ему этот храм людей, а атамана с вооружёнными телохранителями. И как же хочется представить, на что была похожа вера тогдашних ингушей, которых вёл к Богу-Аксакалу удалой джигит Иисус:
35.

Обратная сторона храма. Открыл его храм в 1787 году сооснователь Назрани (вернее, военного поста при ней) Лев Штедер, впервые описал и измерил руины геолог Мориц фон Энгельгардт, а в 1969-71 годах Тхаба-Ерды стал памятником архитектуры всесоюзного значения и впервые был отреставрирован. Вновь храм пострадал в Чеченскую войну - сама она сюда не дошла, но войска стояли. По словам Руслана Аушева, ингушского "отца нации", военные 58-й армии устроили в соборе сортир (вот негде больше, конечно!), а в 2000 году, ингушские блоггеры врать не будут, пьяные вояки обстреляли древний храм с вертолёта. Но что тут было на самом деле (в пьянь с пропеллером я не очень-то верю) - теперь уже никто не скажет. Достовернее то, что в начале 2010-х Тхаба-Ерды получил новую реставрацию, и 10 ноября 2012 года в нём впервые за много веков прошла православная служба:
36.

С алтарной стороны на тимпане окна Самсон забарывает льва, а слева двое ктиторов что-то дарят богу. Скорее всего - модель храма, из которой можно понять, что в грузинской версии он был крестово-купольным.
37.

Внутри Тхаба-Ерды, однако, не похож ни на одну известную мне церковь. Мощные столпы, неправильные "пещерные" своды - это образец не грузинского, а именно вайнахского зодчества. Но с грузинских времён остались, скорее всего, солея и апсида. В язычестве Тхаба-Ерды стал центром жизни Горной Ингушетии, не только святилищем всех её богов, но и своеобразным Домом Парламента и Верховным Судом - именно здесь собирался по важным поводом Мехк-Кхел, нерегулярный совет вайнахских старейшин.
38.

От храма едем дальше вдоль Гулойхи, а за кормой тем временем окончательно разошлись облака. В небе показался Цей-Лоам (3171м), нависающий над всей Горной Ингушетией:
39.

Ещё его называют Ингушский Олимп, на трёх вершинах которого стояли родовые башни верховных богов - демиурга Делы, громовержца Селы и солнцевода Гелы.
40.

У Гулойхи - прямо таки карельский вид:
41.

На берегу - неимоверно вкусный родник:
42.

А впереди торчат новые башни:
43.

Это вотчина Оздоевых, крупнейшей ингушской фамилии. Поправочка - "основной фамилии", то есть тейпа, который у ингушей, в отличие от чеченцев, подразумевал кровное родство. При это сама фамилия Оздоев у ингушей встречается несколько реже, чем фамилия Мальсагов - поскольку там она одна на весь тейп, а Оздоевы имеют 35 вторичных фамилий вроде Алмазовых, Умаровых или Вышегуровых. Воротами их долины служили Вовнушки, хотя предания, конечно же, считают эти башни постом на Великом Шёлковом пути:
44.

Вов, как и гала - значит, башня. Только галы - это жилые башни, а вов - боевые, и соответственно Вовнушки - это Башенки. Их пучки впечатляюще вырастают прямо из скал, а в былые времена между ними был натянут ещё и верёвочный мостик, и гиды непременно расскажут о бесстрашной женщине, что во время боя вынесла по нему из одной башни в другую нескольких детей.
45.

Башни всегда увешаны туристами, но в сотне метров от них у Вовнушек есть секретная локация - мавзолеи. Характерный для вайнахского зодчества прямоугольный кашков был родовой усыпальницей, где мёртвых просто клали на длинные полки, а иные, особенно неизлечимо и заразно больные, сами ложились туда умирать. Из окон кашкова скалятся черепа...
46.

В круглом мавзолее же покоился кто-то важный и чтимый. Быть может, Цикким, легендарный общий предок Оздоевых, праправнук могущественного колдуна Маго. Ну а между склепами - языческий алтарь сиелинг:
47.

Дальше мы стали взбираться к башням по целой лестнице руин:
48.

Между башен и склепов двое военных чистили от травы вертолётную площадку, а за холмом и воинская часть. Пограничники со времён депортаци хозяева этих гор, и по словам гидессы, под их контролем тут находишься постоянно - чуть сойдёшь с маршрута, как откуда ни возьмись появляются камуфляжные русские парни с верным Мухтаром и требуют объяснений. Впрочем, о пограничниках она говорила с большим уважением - патрулируя леса и горы, многие из них проходят десятки километров ежедневно.
49.

Ведь Ассинское ущелье - это только середина Джейрахского района, у которого, как у Луны, есть невидимая сторона. Всё, что видят туристы к западу от Таргимской котловины - это лишь половина страны Лоаморой, а на восток ещё на 20-30 километров уходят безлюдные горы с руинами замков и кладбищ.
50.

Всего в 3 километрах от Тхаба-Ерды стоит Йовли - вотчина Евлоевых, некогда славившаяся на всю Вайнахию своими ювелирами. Когда-то это был настоящий замок с общей стеной, но его разрушил в июне 1830 года генерал Иван Абхазов за отказ старейшин присягать царю. За главного остались Пялинг и Ний, башенные комплексы с удивительно гармоничными силуэтами. Ещё есть Цизды с уникальной башней-мавзолеем (а это серьёзнее, чем башнеобразный мавзолей). И совсем уж на дальнем конце, через 20 километров бездорожья стоит Цори - столица шахара, куда всё это входит, и возможно, самый зрелищный башенный город Ингушетии, уж как минимум достойный Таргима, Эгикала и Эрзи. Оттуда родом Хасиевы, Татиевы, Дзейтовы, Могушковы. Последние интересны своей родоначальницей: средневековая Ингушетия в своих легендах и преданиях славилась мехкари - амазонками, причём судя по вайнахскому названию ("рождённая первой"), к военному делу призывали старших дочерей. Скорее всего, их роль была вспомогательной - охранять аулы, пока все мужчины уходят в набеги, выносить раненных, конвоировать пленников. Но находились, конечно, и лихие воительницы, самой известной из которых и была цоринка Могушка во главе дружины из 60 мужиков.
51.

Таргим, Хамхи и Цори были в Средние века центрами шахаров - уделов тейповых союзов. А за теми горами шахары сменяются тукхумами - это уже просто обособленные группы тейпов, племена, не политические союзы, а субэтносы. Шахары - ингушская единица, тукхумы - чеченская, и теми горами мы любовались из Цой-Педе в верховьях Аргунского ущелья. Ну а посередине - Нашха, маленькая высокогорная долина, легендарная прародина нахских народов. Нахи - это не только вайнахи: помимо чеченцев и ингушей есть ещё бацбийцы, или цова-тушины - крошечный народ из единственного села Земо-Алвани в Цовинском ущелье на грузинской стороне Кавказа, схожий с вайнахами по языку, но оставшийся верным православию.
52.

Вовнушки потрясающе красиво нависают над долиной Гулойхи и дорогой. Но нам по этой дороге остаётся только возвращаться:
53.

В следующей части расскажу про Эгикал и Эрзи по разные стороны Цей-Лоамского перевала.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: замки-крепости Кавказ природа дорожное этнография |
Малгобек, Сунжа, Алкун. Нижний этаж Ингушетии. |

Ингушетия - это не только бардак показанной в прошлой части Назрани, зловещая тишина показанного в позапрошлой части Магаса и величие пока ещё не показанных гор. Крошечная республика удивительно многообразна, и сегодня пересечём её наискось - от нефтяного Малгобека через расказаченную Сунжу (она же Орджоникидзевская или Слепцовская) к сёлам лесистой долины Ассы.
Для далёкого от кавказских дрязг человека осетино-ингушский конфликт наглядно заметен в логистике. На карте Ингушетия и Северная Осетия кажутся буквально вжатыми друг в друга, а Магас и Владикавказ и вовсе самые близкорасположенные региональные центры России (менее 20км по прямой). На местности всё сложнее: транспорт меж двух республик почти не ходит, попутных машин ещё меньше, и даже таксисты зачастую отказываются ехать к соседям. С запада на восток проехать труднее, чем с востока на запад: ингуши хоть и не забывают обид, но владикавказские моллы, харамное зелье в свободное продаже, короткая дорога в Джейрах и дешёвые авиарейсы из Беслана всё-таки берут своё. Осетину же, напротив, в Ингушетии делать нечего, и потому Ингушетию осетин представляет себе как этакий гибрид Кандагара с Тортугой. Более-менее надёжная связь у двух республик только по Бакинке, федеральной трассе "Кавказ", где всё-таки курсируют маршрутки Владикавказ-Назрань, ингушские таксисты возят земляков к аэропорту в Беслане и едет огромное количество попутных машин из третьих регионов. А вот из Моздока, где я начинал своё кавказское путешествие, до Назрани единственная за день маршрутка отходит в 13 часов от Нижней автостанции у рынка. По прямой до Назрани всего 60 километров, однако путь туда так тернист и извилист, что растягивается на 2,5 часа. В пыльном салоне сидели рослые женщины в тёмных платьях да мужчины джигитистого вида, висел запах старых кресел и сочащегося бензобака, а сквозь дырки в полу можно было увидеть дорогу. Но ушатанность автобуса стала понятна, как только мы выехали из бесконечных моздокских предместий. От села Раздольного до ингушской границы дорога выглядит так, и десяток километров по ней мы продирались минут 40, не встретив за это время других машин.
1а.

Но вот позади остался блокпост, который дюжие осетины с автоматами стерегли как настоящую границу, и через считанные десятки метров под колёсами зашуршал асфальт. Страна Башен встречает селом Вежарий, и хотя с вайнахских языков это переводится как Братство, звучит оно ещё и старорусской калькой от ингушского Галгай. В опрятном и невзрачном Вежарии примерно поровну живут чеченцы и ингуши, и для Ингушетии это село - форпост, отделённый Терским хребтом от остальной республики. Последний вроде и всего лишь гряда холмов, однако склоны его круты, а серпантины дорог карабкаются к настоящим перевалам.
2.

С Терского хребта виден следующий гребень - Сунженский хребет. Первый идёт по правому берегу Терека, второй - по левому берегу Сунжи, а ушкуйники, на излёте 15 века бежавшие на юг из покорённого Новгорода, не могли не увидеть здесь вал и ров. Так появились гребенские казаки, вдали от царя породнившиеся с чеченцами. На гребнях стояли хутора, регулярно переносившиеся с места на место, а поля казачьей вольницы колосились внизу, в складке Алханчуртской долины. На восток она тянется до Грозного, а вход в неё преграждает Малгобек - крупный по местным меркам город (49 тыс. жителей, а с предместьями Сагопши, Пседах и Инарки и все 60 тыс.) в стороне от остальной Ингушетии.
3.

Его историю и географию красноречиво объяет вышка, встречающая на спуске в центр с Терского хребта. Именно под Алханчуртом в Предкавказье залегает нефть, и вот в 1915 году, когда в Грозном Ротшильды и Нобели делили Старые и Новые промыслА, ещё одно Малгобек-Горское месторождение было открыто на другом конце долины. Разрабатывать его начали в 1935 году, а уже в 1939 посёлок нефтяников получил статус города - вторым в ЧИАССР после Грозного и первым в будущей Ингушетии за 28 лет до Назрани.
4.

Добыча продолжается здесь до сих пор, и в общем из всей вайнахской стороны Малгобек запомнился мне самым советским: центр его застроен в основном пятиэтажками, в маршрутку тут подсел респектабельного вида ингуш, державший путь через Беслан на западно-сибирские месторождения, и даже огромная мечеть у автостанции выглядит явным долгостроем.
5.

И хотя мужики малгобекские носят тюбетейки и папахи, а женщины невообразимы без длинных юбок и платков, исламские магазины соседствуют с гастрономами, а где-то чуть поодаль наверное и исламская клиника есть, у спорткомплекса на выезде преспокойно стоят скульптуры вида "Absolutly Haram!!!".
6.

Не знаю, есть ли в Малгобеке примечательная сталинская архитектура, а на викимапии достопримечательностью города видится обширный Парк Победы с её же, Победы, музеем. У дороги на Зязиков-Юрт стоят цветастая стела воинской славы да старый танк посреди автокольца - осенью 1942 года в танковых боях за нефтяные поля Малгобека был остановлен вермахт, рвавшийся к Баку. Зато в постсоветские времена Малгобек оставался самым спокойным местом всей Вайнахии...
7.

Между тем, дно Алханчуртской долины находится где-то в черте Малгобека, а ближе к окраинам город вновь успевает набрать высоты. За Зязиков-Юртом дорога взбирается на Сунженский хребет, через который переползают Ачалуки - три сросшихся села, растянутых на 15 километров. В Нижних Ачалаках (5,5 тыс. жителей) примечателен Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж, основанный ингушскими властями в 2012 году взамен оставшегося в Чечне Грозненского нефтяного института. Расположение пусть не удивляет - примерно поровну между Малгобеком, Назранью и Сунжей:
8.

В небольших (3,7 тыс. жителей) и на треть населённых чеченцами Средних Ачалуках привлекают взгляд густо-синие цеха завода минеральных вод "Ачалуки". За ними спряталась мечеть (1896) - одна из двух исторических в равнинной Ингушетии, наряду с мечетью в Барсуках из прошлой части. Минарет её явно новодельный, а вот само здание из дикого камня кажется почти средневековым:
9.

С другой стороны дороги я впервые увидел вайнахскую башню, хотя конечно сразу понял, что она здесь новодел. Ингуш-нефтяник, к тому времени разговорившийся со мной, пояснил, что это усадьба Мурата Полонкоева - художника, которым здесь гордятся не меньше, чем писателем Идрисом Базоркиным. Мы с его творчеством уже встречались - показанные в прошлой части Девять башен строились именно по эскизам Полонкоева:
10.

Дальше раскинулись самые крупные Верхние Ачулуки (8,6 тыс. жителей), но вот они как раз не примечательны ничем. Из Ачулук расходятся две дороги к Назрани - одна мимо отделённого осетинскими полями селения Кантышево входит в город у кладбища жертв осетино-ингушского конфликта, другая приводит в Плиево мимо средневекового мавзолея Борга-Каш.
11.

Но всё это я показывал в прошлой части, так что сейчас продерёмся сквозь суматошную Назрань и выскочим к трассе "Кавказ":
12.

Которая вполне оправдывает своё название - самые высокие, самые известные горы России лучше всего виды с её эстакад и подъёмов. Особенно - свежим солнечным утром после трёх дней дождя: ещё более мощный зум, чем у меня, наверное смог бы различить в этих снегах стадо козлов или палатку альпиниста.
13.

Слева по ходу нашего движения многомечетная одноэтажная Назрань распласталась на фоне далёких вершин Кабардино-Балкарии. Эльбруса отсюда не видать, а вот какие-нибудь Шхара или Шхельда вполне могут быть в этом кадре:
14.

Справа же вся Горная Ингушетия просматривается от края до края. Ведь по площади республика немногим обширнее Новой Москвы, и к тому же - длинная. С севера на юг от Вежария до каких-то вершин Бокового хребта она тянется на 110 километров, а поперёк в ней нет и полусотни. На этом кадре слева хорошо заметно понижение Ассинского ущелья, ещё левее которого горы совершенно безлюдны и где-то за многоэтажками уходят в Чечню. Ну справа чернеет Дарьяльский проход, за которым Осетия:
15.

Над Дарьялом высится Казбек (5033м), главная гора в пейзаже двух республик и доброй половины Грузии за ним. В середине кадра - Столовая гора, или Мят-Лоам (3003м), нависающая над Владикавказом. С обратной стороны мы ещё поднимемся на неё к святилищам древних ингушских богинь Мятсели и Тушоли. Слева, над Магасом с его 100-метровой Башней Согласия, можно различить скалистый Цей-Лоам (3173м) - "ингушский Олимп", на трёх вершинах которого в доисламские времена жили высшие боги Дела, Села и Гела. Ниже виден Лесистый хребет, прошитый долиной Сунжи, а за ним скрывается Тарская котловина - осетино-ингушское яблоко раздора. В 16-17 веках именно туда галгайцы впервые спустились с гор, и по селению Ангушт стали для русских ингушами. Но Владикавказ Россия поставила у Военно-Грузинской дороги прямо на границе осетинских и ингушских земель, его округу заселили оба народа, и оставшись по итогам депортации за Осетией, Тарская котловина превратилась в "северокавказский Карабах", за который в 1992 году и развернулась целая война с сотнями убитых.
16.

Левее раскинулось Экажево - огромное (19 тыс. жителей) село, отделённое Сунжей от Назрани, и по факту сросшееся с ней. В 1944-58 оно, когда по случаю депортации вайнахов большая часть Ингушетии стала частью Осетии, оно называлось Новый Ардон. Близлежащее городище ингуши считают древним Магасом - столицей Алании, чья власть над степями Предкавказья была тверда в 9-12 веках. С Аланией был связан и золотой век вайнахов, тогда крестившихся и расселившихся по плоскости, и потому потомками алан ингуши считают, конечно, не осетин, а себя. Дальше Аланию уничтожили монголы, от которых её народы нашли спасение только в горах. Нынешнее Экажево основали в 18 веке орстхоевцыцы - это вайнахское племя жило вон на тех горах вдалеке, и являло собое своеобразных чеченоингушей, числясь и в 9 чеченских тукхумах (племенах), и 9 ингушских шахарах (уделах). Среди прочих вайнахов орстхоевцы всегда славились воинственностью и беспокойностью, а России жестоко сопротивлялись, даже не входя во владения имама Шамиля. После Кавказской войны горы над Назранью кишели абреками, к которым даже немцы умудрялись закидывать агитаторов-диверсантов. Поэтому и депортация по Орстхою прокатилась особенно безжалостно, а горы те не заселены до сих пор. В Орстхое находился и Хайбах, "вайнахская Хатынь", и сколь бы ни была сомнительная история сожжения людей НКВД в этом ауле, для вайнахов она давно стала частью национальной памяти. Близ Хайбаха жил и тейп Ялхорой, из которого происходил Джохар Дудаев. Но в этом кадре - и начало, и конец Чеченских войн: если Дуки родился в тех горах, то Шамиль Басаев был уничтожен 10 июля 2006 года в Экажево, где инспектировал пригнанный из Грузии "Камаз" с взрывчаткой и боеприпасами. Ингушетия, в 1990-х бывшая неофициальным тылом Чеченской войны, к тому времени превратилась в её эпицентр - Чечню тогда уже плотно контролировали "кадыровцы", а здесь - такие же леса, лояльный в целом народ и куда больше разгильдяйства. Именно ингушей Басаев завербовал для теракта в Беслане, однако на нём в итоге погорел: ингуши отвернулись от тех, кто стреляет по детям и вдобавок даже не скрывает намерения принести в их аулы войну. Где должен был взорваться приехавший в Экажево "Камаз" - теперь уже никто не скажет, но вполне вероятно - на площади Алании в Магасе. Однако в этот раз не террористы подложили бомбу силовикам, а наоборот: ночью Назрань разбудил страшный взрыв, и голову, в которой рождались идеи самых подлых и мерзких терактов в истории, оперативники нашли в двух километрах от его эпицентра.
17.

Теперь посмотрим вдоль Бакинки на восток. За теми красными корпусами спрятана Назрановская крепость, которую местные, к слову, как и в Ведено, считают теперь твердыней Шамиля. Но у Шамиля был антагонист и среди горцев - Кунта-хаджи Кишиев, странствующий проповедник-пацифист из багдадаского суфийского ордена Кадырия. Шамиля ингуши, к началу Кавказской войны в большинстве своём язычники, не поддержали, а Россия упорно пыталась вернуть их в христианство. Ингуши спроваживали турецких и аварских проповедников, кивали православным попАм, а потом к ним тихонько пришёл чеченец Кунта-хаджи и нашёл такие слова, от которых в ислам стали переходить даже жрецы и знахари. Думается, именно за это Кишиев был в 1864 году арестован и в кандалах увезён в северную Устюжну, но несправедливая кара стала лишь катализатором его идей - адептами Кадырии теперь считается 80% ингушей. Ну а как вышло, что одинокий философ сделал больше, чем все православные миссии? Один чеченец объяснял мне, что шариат просто почти ни в чём не противоречит горским адатам. Зиярт на малой родине Кунта-хаджи я уже показывал в Ичкреии, а в Ингушетии таковым служит Дуан-Гув, "Гора молитв" на холме вблизи крепости, где Кишиев произнёс свою первую ингушскую проповедь:
18.

Как я понимаю, именно здесь в 1781 году расположилась ингушская колония Нясаре, над которой высилась башня Овлура (племянник вожака переселенцев Карцхала Мальсагова) - редкий, но всё же не единственный пример таких сооружений на плоскости. Башню взорвали в 1869 году, но от села остались старинные горские надгробия без украшений и надписей:
19.

Прерывистая цепочка кладбищ, старых и новых, разбросаны вдоль Бакинки на несколько километров с обеих сторон от Горы Молитв.
19а.

Сплошная застройка же тянется вдоль Сунжи и Бакинки на 35 километров, сквозь всю ингушскую плоскость от Осетии до Чечни. И в советских границах Назрань насчитывает 77 тыс. жителей, с включёнными в её состав в 1995 году Насыр-Кортом, Гамурзиевом и Альтиевом - 122 тыс. жителей, с выведенными обратно за городскую черту в 2009-м Барсуками и Плиевом - 136 тыс. жителей, а с вплотную приросшими к городской черте Магасом и Экажевом - все 160 тыс. Двести тысяч набрётся, если присовокупить ещё и Карабулак, встречающий восточнее Плиева - основанный в 1859 как станица Карабулакская (видимо, на месте селения орстхоевцев, тюркам известных как карабулаки), в 1995-м он не был включён в Назрань, а сам получил статус города. Нынешний Карабулак - наверное, самый безликий город России, и проехав на маршрутке от края до края, я никак не выделил его между соседними населёнными пунктами. За Карабулаком - ещё станица Троицкая и замыкающая ингушетию со стороны Чечни Сунжа, и с ними в Ингуш-Кале уже набирается 240 тысяч жителей. Ну а если добавить ещё явно тяготеющие к агломерации сквозь узкие полосы полей Кантышево, Долаково, Яндаре, Али-Юрт, Сурхахи и Нестеровскую - 320-тысячная Ингуш-Кала становится городом масштабов Грозного или Владикавказа. Подчёркивает единство всей этой системы то, что аэропорт "Магас" находится не в Магасе, и даже в плтора раза дальше от него, чем аэропорт Беслан. Вот он, на фоне Сунженского хребта между Троицкой и Сунжей:
20.

С 1960-х годов на этом месте располагался аэродром Ставропольского лётного училища, в 1993 году переданный властям новоявленной республики. Казармы и учебные корпуса стали ИнГУ, а лётное поле - аэродромом "Ингушетия", в 2000 году переименованным в "Магас". Не очень понимаю, насколько активно он работал в те годы, когда из соседний республики и шальной снаряд мог сюда залететь. Теперь же Центральный Кавказ отличает, пожалуй, наибольшая в России плотность аэропортов - Беслан, "Магас" и Грозный разделяет по полсотни километров. Самый оживлённый из трёх аэропортов осетинский, у ингушей трафик исчерпывается 3 московскими рейсами, однако билеты на них зачастую выходит дешевле, чем у чеченцев. До грозненского аэропорта я вообще не добрался, прилетал и улетал через Беслан, а в "Магасе" начался мой тур "Неизвестной России" по Чечне - меня, приехавшего на маршрутке, и двух девушек, прилетевших из Москвы, тут встречал водитель Мага при чёрной бороде и чёрном кадиллаке.
21.

Аэровокзал "Магаса" был построен в 1996-2000 годах, и в этот раз вайнахи пригласили зодчих не из Дагестана и даже не из Сванетии, а из очень далёкой высокогорной страны - Швейцарии. В 2012 году, когда это, между прочим, ещё не было мейнстримом, аэропорт был посвящён Суламбеку Осканову - первому Герою России, в апреле 1992 года получившему эту награду посмертно: военный лётчик-ингуш, он погиб под Липецком, ценой своей жизни уведя от жилых домов потерявший управление Миг-29. Такой же самолёт, словно крест в память Христа, был установлен перед аэровокзалом:
22.

Последним элементом аэропортовской площади стала небольшая мечеть (2017) очень ингушского облика:
23.

Город Сунжа (64 тыс. жителей), к которому примыкает аэропорт, местные так почти никогда не называют, даже в маршрутных табличках автобусов предпочитая старые имена. Коих Сунжа сменила немало - ещё в 18 веке здесь возник ингушский аул Курей-Юрт, на месте которого в 1845 году была основана Сунженская станица. Надо сказать, именно Сунжа, в которую впадают все горные реки Вайнахии, не один век была для горцев краем света. Сунженская линия крепостей, проложення в 1817 году Алексеем Ермоловым через Назрань и Грозный, стала фронтом Кавказской войны. Но война не прекращалась, а в 1840-е годы непокорные Дагестан и Ичкерия даже стали сильнее, объединившись под знамёнами Шамиля в Северо-Кавказский имамат. Укрепления дополнила цепочка станиц, служивших пунктами быстрого реагирования. Сюда переселялись старожилы и старообрядцы гребенцы, но больше - регулярные казаки с Дона и Волги, слагавшие пёстрое Кавказское Линейное войско, восточная половина которого в 1860 году стала Терским войском. Его центрами служили Грозный и Владикавказ, ну а Сунженская станица быстро пошла в рост, так как стояла на пол-пути между ними. Её основатель генерал-майор Николай Слепцов погиб в 1851 году в горах над Урус-Мартаном, и в память о нём станица в тот же год стала Слепцовской. К началу ХХ века в ней жило 4,5 тысяч человек.
23а.

Но неоднородность Терского казачества дала о себе знать в Гражданскую войну. Казаки из Назрани поддержали белых, понимая, что красные отдадут их земли ингушам. Старые гребенцы, с чеченцами породнившиеся даже на уровне тейпов, старались держать нейтралитет. А вот степи у устья Ассы и Фортанги стали оплотом красного казачества. Советская власть это оценила: если на западе Ингушетии уцелевших казаков в 1920 году принудительно отогнали за Терек, то здесь возникла такая удивительная для СССР административная единица, как Сунженский казачий округ. Границу его провели, кажется, буквально по кромкам полей и околицам - из 35 тыс. жителей СКО 96% были славяне. Сам он слагался аж из трёх анклавов: основная часть здесь, несколько станиц между Грозным и Гудермесом и формальная (фактически всё управлялось из Слепцовской) администрация во Владикавказе - центре Горской АССР. Её разделили по народам в 1924 году, но Сунженский округ между Чеченской и Ингушской автономной областями просуществовал ещё 5 лет и лишь в 1929-м распределился между ними. Слепцовская, в 1939 году ставшая Оржоникидзевской, в годы депортации входила уже не в Северную Осетию, а в Грозненскую область. С возвращением вайнахов сунженские станицы стремительно начали расказачиваться и обингушиваться: в 1959-89 годах русская община Ингушетии уменьшилась вдвое, с 53 до 25 тыс. человек, а в отдельно взятом Сунженском районе - с 80% до 31%. В Орджоникидэевской накануне распада Союза было 17 тыс. жителей, но в 1990-х станица показала, кажется, самый бурный в России прирост: по переписи 2002 года с 65-тысячным населением Орджоникидзевская стала чуть ли не крупнейшим сельским населённым пунктом мира. Вот только причины этого роста - трагические...
24а.
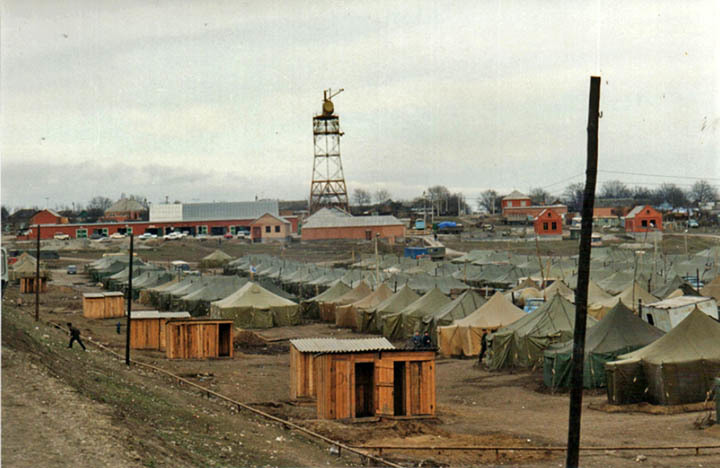
Из 17 районов Чечено-Ингушской АССР 13 населяли в основном чеченцы, 3 - в основном ингуши, и лишь Сунженский район лежал по обе стороны границы двух народов. Ингушетия, обособившись в 1992 году, конечно же сразу объявила его своим, и даже Дудаев понимал, что сейчас дальновиднее уступить. Простые нохчи же увидели здесь уголок Чечни, свободный от войны, и вот Орджоникидзевская стала столицей беженцев. Новыми районами станицы сделались гигантские лагеря из армейских палаток, где в зной и стужу ждали исхода войны десятки тысяч людей, администрацией которых стал образованный в 2001 году Чеченский комитет национального спасения. Постепенно чеченцы, к концу войны составлявшие большинство населения Орджоникидзевской, вернулись на родину, а ингуши распределились по станице и республике - и чуть позже я расскажу, в чьи дома... Но Орджоникидзевская середины нулевых была, пожалуй, самым опасным местом Кавказа - в иные дни тут случался десяток убийств, и убивали натурально все и всех: бандиты - бизнесменов, вайнахи - инородцев, ваххабиты - знахарей и колдунов. Ведь последней волной беженцев уже в "нулевых" стал криминал, вытесненный из Чечни "кадыровцами". Рамзан, впрочем, рассчитывал добраться до них и здесь - Сунженский район так и остался спорной территорией Чечени и Ингушетии, и обе республики претендовали на него целиком. Граница была утверждена лишь в 2018 году, но ещё полгода Магас сотрясали регулярные митинги с требованием её пересмотра: Чечне отошли Серноводск, Бамут, Ассиновская и долина Фортанга, то есть весь Орстхой. А Орджоникидзевская к тому времени исчезла с карты: в 2016 году станица стала городом Сунжей, а звание "крупнейшего сельского поселения России" вернулось к кубанской Каневской...
24.

Между тем, Алкун с позапрошлого кадра - это самое верхнее в горах село Сунженского района. Приехав на автовокзал попуткой из Серноводска, мы обнаружили, что ПАЗик туда отправится через полчаса. Но осмотреть станицу было надо! В общем, когда к нам подошёл таксист, я просто озвучил ему маршрут по посёлку и обязательное условие по времени. Таксист, добродушный советский дядька, нехотя назвал нам цену в 200 рублей (по всему было видно, что бесплатно гостей покатать ему было бы приятнее), и мы помчались вверх по центральной улице Висаитова:
25.

Внизу остался примыкающий к автовокзалу крытый рынок сталинской эпохи (прошлый кадр), а дальше по главной улице оказалось, что и от станицы уцелело немало казачьих хат:
26.

Среди которых выделялось здание военкомата, в казачьи времена, наверное, бывшее полковым штабом:
27.

От автостанции виден Покровский собор (2014), с храмом Варлаама Хутынского (2015) слагающий Ново-Синайскую обитель. Как я понимаю, братия её исчерпывается настоятелем, но для Ингушетии и это немало: в Магасе православные представлены домовым храмом без отдельного здания в "крепости" МВД-ФСБ, а в Назрани не представлены вовсе. Сунжа в Ингушетии традиционно считается русским центром, вот только теперь русских и здесь дай бог 1%. Больше самой церкви впечатляет высота её забора - перед нами самый настоящий оборонный храм:
28.

В 1991 году в Карабулаке убийство атамана (юридически - главы оргкомитета "Казачья Сунжа") Александра Подколзина положило начало охватившим Ингушетию беспорядкам и погромам. Казаки даже пытались организовываться и сопротивляться, но вайнахи были многочисленнее и злее. Дальше происходило здесь ровно то же, что и в казачьих станицах Чечни, и даже хуже - там русских терроризировали именно бандиты, спустившиеся с гор, здесь гнали ингуши-соседи и беженцы, занимавшие дома. Как и в Чечне, тысячи русских людей в сунженских станицах были убиты, унижены, проданы в рабство, а порядка 14 тысяч сами сделались беженцами в других регионах страны. Но в Чечне насилие остановилось при Кадырове, а в Ингушетии продолжилось и в "нулевых". Возможно, вершили его те же самые (не)люди: уничтожение Басаева лишило их лидера, способного организовать масштабный теракт, но не лишило жестокости и подлости. Летом 2007 года, когда в России полным ходом налаживалась жизнь, в Орджоникидзевской были застрелены глава русской общины Галина Губина и учительница русского языка Людмила Терёхина с сыном и дочкой, а на их похоронах ещё и 13 человек были ранены взрывом бомбы. Не знаю, что положило конец кровопролитию - вайнахи успокоились или же русских здесь попросту не осталось. Но если трагедию русских в Чечне теперь регулярно поминают через запятую с "кадыровской данью", то их собратьев по несчастью в Ингушетии страна просто забыла...
28а.

Ново-Синайский монастырь стоит теперь больше как символ России и напоминание о былом. Он построен на месте старообрядечской церкви (1912), а место станичного Покровского храма (кадр выше) занимает с 1950-х годов Дом культуры с мощный фасадом на параллельную Висаитовской улицу Осканова:
29.

В скверах по бокам от него - обелиски двух войн: слева Великой Отечественной (1960-е), справа Гражданской (1931). Про второй я, увы, забыл напрочь, хотя он определённо интереснее и напоминает про Сунженский казачий округ. Так же в прямой видимости ДК - пара самых капитальных зданий Старого Слепцовска:
30.

Но об их происхождении, увы, я не нашёл ничего:
31.

На пути от ДК к храму, на углу Осканова и Пионерской, стоит огромный заброшенный Дом быта - крупнейшее здание Орджоникидзевской:
32.

Но мы возвращаемся на улицу Висаитова и дальше мчимся по ней вверх. В больнице - кажется, осовремененный дореволюционный корпус:
33.

Церковь в Сунже крупнее любой из мечетей, но только крест над городком один, а полумесяцев - много:
34.

На самом верху улицу Висаитова упирается в вокзал, маленькое здание которого тоже отмечает полумесяц:
35.

Станция по старинке называется Слепцовская, но взойдя на перрон, я изрядно удивился, услышав тарахтение тепловоза - ведь со стороны Чечни, которой принадлежат те холмы на горизонте, рельсы обрываются через несколько сотен метров:
36.

Печальную историю железной дороги Беслан-Гудермес, на который в 1893 году в Грозный приехала нефтяная эра, я рассказывал прежде не раз: разрушенная в 1995 году, она была восстановлена лишь к востоку от Грозного, куда поезда теперь приходят спиралью через Гудермес. Западный участок восстанавливать помешала именно Ингушетия, так что от Беслана сюда отходит тупик, где пассажирское движение заканчивается вокзалом Назрани, а грузовое - у нефтебазы в Слепцовской. Ещё на 8 километров до Серноводвска, куда не дошла война, неплохо сохранились насыпи, мосты, дренажи - все они подробно показаны здесь. Ну а о том, что линию вот-вот восстановят, нам говорили и чеченцы, и ингуши.
37.

У западной горловины станции я увидел водонапорную башню, и побежал на вторую платформу сфотографировать её без кустов. Но - спешка: я споткнулся о ржавый рельс и лишь каким-то чудом сумел избежать столкновения фотоаппарата в правой руке с углом платформы. Левой рукой зато угодил прямо в битое стекло, и вот уже в такси верная Оля обрабатывала ссадины мираместином да заклеивала их пластырем. Фотка башни вышла неудачной, но чтобы жертва не была напрасной - выложу и её:
37а.

Ограда у платформы:
38.

Добрый водитель привёз нас обратно на автовокзал, и ПАЗик потарахтел в сторону гор. За Бакинкой - образцово-изумрудные поля с фруктовыми деревьями на опорах:
39.

Ингушетия состоит словно из двух этажей, и если на первом - все эти дрязги, то на втором покой да величие гор, и автобусы между ними - как лифты. Этажи соединяют две дороги: одна из Назрани через Владикавказ, другая из Сунжи по Ассинскому ущелью. Первая короче, вторая зато целиком проходит по территории республики, здесь сжимающейся до окрестных хребтов. В Кавказскую войну на Ассе жили непокорные орстхоевцы, с её окончанием по большей части подавшие в османские мухаджиры (беженцы). На их место спустились с гор ингуши, потомки шахаров Хамхи и Цори, и в смешении тех и других появились галашевцы - ингушский субэтнос предгорий, обособленный от назрановцев и горцев. Там, где долины Ассы широка, за огромной станицей Нестеровской одно за другим тянутся их сёла - Алхасты, Галашки, Мужичи и Алкун. Впрочем, внешне все они на одно лицо, так что следующие кадры с текстом не соотносятся:
40.

Станица Фельдмаршальская, в 1922 переименованная в Алхасты (4,5 тыс. жителей), в 1944-89 в Краснооктябрьское, стерегла вход в ущелье.
41.

Галашки (7,7 тыс. жителей), выросшие из хутора тейпа Галай, в 1926-44 успели побыть райцентром, 1944-77 назывались Первомайское, а в новости впервые попали 11 мая 2000 года, когда в засаду боевиков попало три машины федеральных войск - из 22 солдат погибли 19. Враги же тогда скрылись без потерь, и главарём их был то ли чеченец Руслан Хайхороев, в Первую кампанию год оборонявший Бамут, то ли ингуш Руслан Хучбарова, командовавший терактом в Беслане. Вновь Галашки напомнили о себе 23-25 сентября 2002 года, когда здесь завязался бой с прорывавшимся из Грузии в Чечню отрядом Руслана Гелаева: тогда погибли 12 солдат и 76 боевиков.
42.

Мужичи (2,3 тыс. жителей), изначально аул Мужахоевых, был станицей Фельдмаршальской изначально, в 1861-64 годах, а в 1944-58 назывался Луговое. Окрестности его славятся древними курганами, а культурным центром села с 1940 года стал музей Серго Орджоникидзе в хате, где один из законодателей Красного Кавказа жил в 1919 году. Теперь дом заброшен и почти развалился, музей перебрался в школу, но у дороги ещё осталось несколько старых домов.
43.

Автобус-лифт полз наверх неспеша, постепенно пустея, и если с базара в Сунже ехали только женщины, то из села в село прыгать на ПАЗике не стенялись и парни старшешкольных лет. Мужики же либо на заработках в других регионах, либо рассекают на своих авто.
44.

Вот и Алкун (1,2 тыс. жителей), последнее село, за которым сужается долина. Вернее, целых два Алкуна, слитых воедино лишь в 2010-м. За рекой стоит Верхний Алкун (в депортацию - Дачное), где вроде даже сохранили руины башен: боковая долина ведёт отсюда в Чечню, на параллельную реку Фортанг, где стоит заброшенное с 1940-х село Цеча-Ахк под горой Ердыкорт (1453м) - столица Орстхоя. Ну а для Цечоевых, что спустились оттуда в 18 веке, Нижний Алкун за рекой (в депортацию - Лесогорье) стал первой ступенькой к плоскости.
45.

Свою героиню Алкун обрёл в 2002 году, во время Гелаевского рейда - боевиков заметила местная жительница, воспитательница детского садика Марем Арапханова (в девичестве Хамхоева), и прежде, чем боевики застрелили её, успела поднять шум.
46.

ПАЗик, тем временем, провёз по Алкуну нас одних и высадил у монументальной новой школы. Для лифта это последний этаж, дальше - лестница, то есть автостоп. Здесь навалилось ощущение края земли, и после сырой духоты плоскости пробирал холодный ветер. Но мы даже не успели утеплиться - снизу вдруг вынырнула и притормозила рядом с нами самая натуральная чёрная бэха с тонированными стёклами, на которой двое джигитистых парней ехали "до воинской части" набирать воду из горного родника. На краю села мелькнула полубоевая башня рода Гардановых:
47.

Да памятник (2017) жертвам осетино-ингушского конфликта - по прямой до Тарского (бывшего Ангушта) всего 20 километров, и многие беженцы уходили в ноябрьский холод прямо по горам. Тем, которые на этом кадре за спиной, а впереди горы на полсотни километров до самого Цой-Педе безлюдны:
48.

Дальше над дорогой стиснулось ущелье:
49.

Но о Горной Ингушетии - в следующих 3 частях.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: Зона заражения Кавказ природа транспорт Вечность пахнет нефтью дорожное этнография |
Назрань, мать городов Ингушских |

Образование Республики Ингушетия в 1992 году Назрань встретила заурядным райцентром с 20 тысячами жителей. Но долина Сунжи, где стоит она - самое густонаселённое место России, с плотностью 400-500 чел/км² достойное оазисов Узбекистана. Размер посёлка здесь зависит исключительно от его площади, и когда ингушам срочно понадобилась новая столица, Назрань просто надули в несколько раз. К концу 2000-х город разросся до 136 тыс. жителей, так что пару сёл пришлось даже стравить обратно за его черту. Нынешнюю Назрань со 122-тысячным населением не назвать даже гипертрофированным селом: центр жизни целого региона, она вполне себе город - но самый аморфный город России. Тщетность попыток её переделать ингуши осознали уже в 1994 году, и в 2000-м перенесли столицу республики в построенный в чистом поле Магас, который я показывал в прошлой части. А вот достопримечательностей в бескрайних предместьях Мамы-Назрани (так, Нана-Нясаре, её ласково называют ингуши) по-прежнему разбросано немало...
В полукилометре восточнее поворота на Магас, на фоне острых гор и высочайших на два города зданий, с Бакинки (трассы "Кавказ") прекрасно видны Девять башен.
2.

Построенные в 1992-97 годах, они остаются центром разрастающегося вокруг Мемориала Памяти и Славы, лейтмотив которого я бы выразил как "Империя и Мы":
3.

В 2010 году башни дополнила Колоннада Героев - этакая Кремлёвская стена по-ингушски, пантеон-кенотаф со стилизованными под надгробия мемориальными плитами героев, полководцев и творцов, в чьих жилах текла кровь галгаев. Надгробия - как цифры на часах: правая колоннада заканчивается панно со счастливыми ингушами на фоне нового Магаса (кадр не удался), а левая начинается с Акта присяги Шести ингушских фамилий России на фоне грузных сооружений Буро - так, в переводе просто крепость, ингуши называют Владикавказ. В нём Акт и был подписан в 1810 году, хотя здесь почему-то стоит дата 1770. Текст акта прилагается: "Мы, нижепоименованные, ингушевского народа почтеннейшие люди, приложившие перстные свои печати в том, что данный нами России обязательный акт должны выполнять свято и ненарушимо, быть в вечном подданстве российского государя императора и наследника его, который назначен будет. А буде нами или кем-то из общества нашего учинится тому противное, тогда обязуемся мы ответствовать по силе того акта. В заключение чего всемогущим Богом клянёмся под знаменем Его Императорского Величества". "Нижепоименованные" тут не приводятся, ибо было их 60 человек - по 10 от самых знатных фамилий Таргимхоевых, Хамхоевых, Оздоевых, Эгиевых, Кортоевых и Евлоевых.
4.

Среди многих народов, добровольно подчинившихся Российской империи, ингуши были одним из немногих, не пытавшихся отыграть это вспять. Считается, что именно в 19 веке они окончательно размежевались с чеченцами - тех на борьбу с белым царём сплотил ислам, порядком ошариативший их культуру, ингуши же из древнего язычества в учение Пророка переходили не спеша, сохранив в себе больше от древних вайнахов. Ингушетию царских времён в мемориале олицетворяет Кавказская Туземная, а в обиходе просто Дикая дивизия, познакомившая с горскими набегами прусских бюргеров, польских панов и румынских крестьян, явно вспомнивших родных вампиров добрым словом. На табличке под памятником - текст: "Генерал-губернатору Флейшеру. Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую Железную дивизию. В истории русского отечества, в том числе нашего Преображенского полка, не было случая атаки конницей вражеской части, вооружённой тяжёлой артиллерией: 4,5 тыс. убитых, 3,5 тыс. взятых в плен, 2,5 тыс. раненых, менее чем за полтора часа перестала существовать дивизия, с которой боялись соприкасаться лучшие части наших союзников, в том числе и русская армия. Передайте от моего имени и от имени всей русской армии братский привет отцам, матерям, сёстрам, жёнам, невестам этих храбрых орлов Кавказа, положивших своим бесстрашным подвигом начало конца германским ордам. Никогда не забудет этого подвига Россия. Честь им и хвала! С братским приветом Николай II. 25 августа 1916 года". Увы, эта якобы телеграмма - уже современное творчество: германская Железная дивизия сражалась в другие годы и на других фронтах, и во время Ковельской мясорубки (она же Брусиловский прорыв) с Дикой дивизией не пересекалась. Сама Дикая дивизия помимо ингушского включала черкесский, кабардинский, осетинский, чеченский, дагестанский и татарский (азербайджанский) полки. Так что я бы относился к истории боя двух дивизий с красивыми названиями так же, как к бою панфиловцев близ Дубосеково: дивизия была, сражалась храбро, не разбежалась в 1917 году, и вымышленный подвиг - собирательный образ реальных.
5.

С другой стороны от главной аллеи стоит Уматгирей Барханоев (2012) - именно его, а не привычного нам майора Петра Гаврилова, в Ингушетии считают Последним защитником Брестской крепости. Вот тут на эту тему целое исследование, краткая суть которого в том, что никакие документы ингушскую версию не подтверждают, но и не опровергают прямо: Барханоев правда служил в Брестской крепости, но сведения о том, как он погиб, основаны лишь на истории, рассказанной пленным фашистом. Израненный Гаврилов достоверно был взят в плен и дожил до конца войны, Барханоев же в этом предании был убит, внезапно поднявшись из казематов с пистолетом в руке на торжественном построении вермахта.
6.

За правой колоннадой в 2014 году появилась композиция "Дорога домой" с парой подлинных машин, на которых в 1956-57 годах ингуши возвращались из Казахстана и Киргизии:
7.

Да чёрным паровозом-"лебедянкой" с вагоном-теплушкой, символзирующим исход:
8а.

Солнечным апрельским утром теплушка даже кажется уютной. Однако представьте за щелями досок синеватый мороз, а здесь - сотню-полторы перепуганных людей, набитых тесно, как в час-пик в московской подземке, но только путь их не на час, а на пару недель, и в конце его - голые лютые степи. И хотя теплушка - не вагонзак, чаще в таких ездили солдаты и переселенцы, от Литвы до Казахстана она давно стала узнаваемым символом репрессий:
8.

Сами Девять башен высотой до 25 метров символизируют 9 шахаров - уделов средневековой Ингушетии:
9.

Башни красивы, и даже не сразу взгляд ловит на их стенах пробоины и цепи:
10.

Внизу - надгробия из покинутых горных селений:
11.

Такие же плиты отмечали мемориал жертвам депортации в Грозном, построенный ещё при Джохаре Дудаеве, но в 2000-х его снесли, перенеся чурты (надгробия) на монумент антитеррора. Депортацию пережили 8 народов, но лишь вайнахская депортация имела эхом новое кровопролитие, и потому в Чечне охотнее вспоминают её следствие - войну. А вот в Элисте, как и в Назрани, памятник калмыцким депортантам "Исход и возвращение" давно уже один из символов города.
11а.

Под башнями спрятан ещё и музей, куда я не попал, придя сюда в нерабочее время - сам мемориал открыт как бы не круглосуточно. За левой колоннадой тянется ряд общероссийских монументов - афганцам, чернобыльцам, жертвам терроризма...
12.

С одной стороны от мемориала - детская больница и роддом, с другой - странный Амфитеатр, где стадион уживается с филармонией:
13.

Въезжал в Назрань, однако, я не по Бакинке, а второстепенной дорогой на село Кантышево (18 тыс. жителей), отделённое от Назрани полосой осетинских полей. Оскалившаяся бутафорскими башнями граница города здесь почти тождественна граница региона, и встречает за ней ещё один мемориал. Его ингуши поставили подальше от транзитных дорог и сделали предельно неброским, а на вопросы чужака о том, как к нему проехать, демонстративно не понимают, о чём речь. Словно это для них очень личное: у Кантышевской дороги находится кладбище "Жертв осени 1992 года", как тут политкорректно называют осетино-ингушский конфликт:
14.

Который тоже был по сути эхом депортации - ведь яблоком раздорах двух народов, этаким Северо-Кавказским Карабахом, стала Восточная часть Пригородного района. На карте Ингушетия напоминает молодой полумесяц с Владикавказом как точкой радиуса, и то не случайно: между Джейрахом и Назранью, стоящими на его "рогах", лежит Тарская котловина. Не знаю точно, кто в ней жил в Средневековье, но именно она стала в 16-18 веках для народа галгай первой колонией на равнине. Центром жизни горцев и их окном в мир был Ангушт - по нему русские и прозвали их ингуши, а потом на всякий случай именно между Ангуштом и Военно-Грузинской дорогой построили Владикавказ. В 1924 году граница Северо-Осетинской и Ингушской автономных областей прошла по Тереку, и город вмещал администрации двух регионов, не принадлежа ни одному из них. Позже он сменил название сначала на Дзауджикау (по осетинскому селу, которое ингуши считают переиначенным Зауровом), затем и вовсе на Оджоникидзе, и целиком отошёл Северной Осетии. Её граница с образованной в 1934 году Чечено-Ингушской АССР, однако, проходила прямо по окраинам, и даже без осетинских корней Сталина любой советский эконом-географ понимал, что это ужасно неэффективно. После депортации вайнахов Северная Осетия получила всю равнинную часть Ингушетии, и даже Назрань в 1944-57 годах носила имя Коста-Хетагурово. Когда же в 1958 году вайнахи вернулись на родину, ЧИАССР была воссоздана в иных границах, пополнившись русскими районами за Тереком, но лишившись Тарской котловины, превратившейся теперь в Восточную часть Пригородного района СОАССР. И пока чеченцы вытесняли из старых станиц терских казаков, тарские ингуши пробивались на историческую родину. Заселили её при этом выходцы не столько из Северной, сколько из Южной Осетии, и вот конфликты за дома, участки, пастбища понемногу начали собираться в национальный конфликт. Ингушские митинги в Грозном в 1973 году, осетинские беспорядки в Орджоникидзе в 1981-м были лишь ступенями к войне, которая в памяти россиян так и осталась в тени чеченских и грузинских войн.
15.

Но была то настоящая война, среди постсоветских конфликтов сравнимая с Приднестровской. Почуяв ветер перемен, ингуши всё чаще брали своё силой, изгоняя осетин из спорных домов и расправляясь над приехавшими милиционерами. С осени 1992 года две республики, наплевав на российские законы, начали готовить вооружённые отряды, впервые схлестнувшиеся 30 октября. К 4 ноября, когда разнимать дерущихся явилась российская армия, Тарская котловина осталась за осетинами. В скоротечной войне погибло (с пропавшими без вести) 27 солдат, 154 осетина и 598 ингушей, причём по небоевым категориям этот перекос в потерях был ещё заметнее - так, все 12 погибших детей были ингушами. В Тарской котловине было сожжено 13 сёл, разрушены мечети и погибли архивы крупнейшего ингушского писателя Идриса Базоркина, а порядка 30 тысяч человек стали беженцами, по наступающей зиме пешком уйдя через границу регионов. Убитых же похоронили у въезда в Назрань, и тишина скорбной памяти о них так не похожа на всю трескучесть нациестроительства. Памятник на кладбище - и тот поставлен лишь в 2012 году:
16.

Ну а между двух мемориалов и раскинулась сама Мать-Назрань:
17.

Точнее говоря, её Центральный округ, которым город ограничивался до 1995 года:
18.

Городской статус Назрань получила в 1967 году, хотя судя по лозунгам чеченских националистов вроде "Русские в Рязань, ингуши в Назрань!", как Нана-Нясаре утлый райцентр воспринимался уже в Перестройку.
19.

Кадры выше сняты в разных частях Назрани, но в общем сам пейзаж её однообразен: крепкие дома из того же, что в послевоенной Чечне, красного кирпича, роскошные металлические ворота; минареты многочисленных, словно где-нибудь в Турции, мечетей да редкие новостройки и даже микрорайоны вдали.
19а.

20а.

В таком же неприметном районе у Бакинки, на фоне белого купола Казбека (5033м), лежала и моя гостиница "Бейни", куда поздно вечером меня отвёз пожилой таксист и не взял за это денег. Молодой энергичный хозяин в те дни уехал по каким-то делам в Москву, а его пожилая мать сперва извинилась и попросила посидеть на гостиничной кухне до конца намаза. Выйдя, она перво-наперво напоила меня чаем да рассказала историю своей семьи. Бейни - это селение за горами, до которого мне ещё предстояло доехать, и в селении этом стоит башня их фамилии (тейпа) Мирзабековых. По большей части сошедшего оттуда в Тарскую котловину ещё давным-давно, и именно из тарских сёл увезённого в депортацию. Тут, впрочем, семью рассказчицы спас родич, который был сослан в Ташкент ещё при царе и к 1944 слыл там уважаемым человеком, директором дорогого ресторана, нередкими гостями которого было партийное начальство. Видимо через них он смог пересадить родню из теплушки в пассажирский вагон, а из Казахстана почти сразу вывезти в сырдарьинские колхозы. Оттуда семья моей собеседницы вернулась уже в Грозный, где и прожили 30 с небольшим лет. Но были среди Мирзабековых и пробившиеся в Пригородный район и сумевшие там обжиться. В 1992-м одни бежали от Чеченской войны, а другие "пережили Вторую депортацию", под крики ненависти уйдя с пожитками по осенней грязи. Ангушт и другие тарские сёла по сути дела тоже стали частью Назрани...
20.

Прогулку по её центру начнём у Ингушского музея краеведения, скромное здание которого, вроде как бывший Дом культуры 1920-х годов, стоит в неприметном районе за вокзалом. Осетино-Ингушский музей, один на два народа, был основан во Владикавказе в 1924 году. В 1939 его ингушская коллекция переехала в Грозный, там смешалась с чеченской и погибла в постсоветскую войну.
21.

Этот музей же начинался в 1972 году как уголок боевой славы, собранный в ДК ветераном Туганом Мальсаговым. Об этом напоминает эффектный интерьер зала Великой Отечественной, а вещи из трёх других комнат, посвящённых этнографии, исламу и археологии, я уже показывал вот в этом посте. По размеру, откровенно говоря, этот музей даже на районный не потянет, но представление о вайнахской культуре даёт, пожалуй, получше даже нового музея в Грозном. Особенно если не пренебрегать услугами экскурсовода - та сама догнала меня среди древностей и экскурсию по ним бесплатно провела.
22.

Вокруг музея я честно пыталась высмотреть домики Старой Назрани, но ничего не нашёл:
23.

Старая Назрань примыкает к задворкам станции на пущенной в 1893 году железной дороге Беслан-Гудермес:
24а.
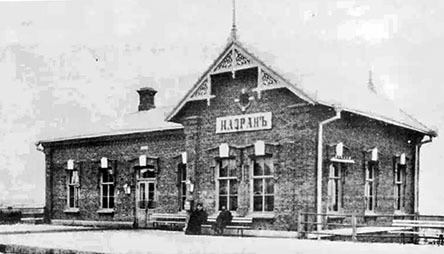
Когда снесли старый вокзальчик и что было тут в советское время - увы, так и не смог разобраться. Нынешний вокзал Назрани построен уже в 2000-х годах:
24.

И своей странной архитектурой напоминает мне вокзалы то ли БАМа, то ли ближневосточных стран вроде Ирана и Турции:
25.

Просторные залы пустынны - движение тут ограничивается одной парой московских поездов:
25а.

Транзит же закончился в 1995-м - сотней лет ранее принёсшая в Грозный нефтяную индустрию, железная дорога была разрушена Чеченской войной. Теперь поезда ходят в Грозный с востока спиралью через Гудермес, а западный участок через Серноводск и Самашки восстановить, говорят, помешала именно Ингушетия.
26.

Пустынная привокзальная площадь запомнилась мне очень красивой решёткой... и удивлением девочек из близлежащего дома, впервые увидевших мужчину с длинными волосами.
26а.

Железная дорога и проходящая мимо музея улица Осканова идут параллельно, выходя на круглую суматошную площадь среди новостроек, которую можно считать центром жизни Назрани, да и всей Ингушетии. На заднем плане - рынок и Старый автовокзал с автобусами в Пятигорск и маршрутками в Магас по заполнению. Справа виднеется кафе "Из тьмы веков", где можно отведать вайнахской национальной кухни - причём в отличие от чеченских заведений, тут есть ещё и современные её адаптации вроде кукурузных бургеров. Саму же площадь не случайно украшают самолёты: военный лётчик Суламбек Осканов - вполне достоверно первый Герой Российской Федерации (т.е. уже не Советского Союза), 7 февраля 1992 года под Липецком сумевший ценой своей жизни увести от жилых домов падавший истребитель.
27.

"Из тьмы веков" - это роман Идриса Базоркина, для ингушей ставший практически эпосом. Проспект Базоркина соединяет деловой центр с административным - площадью Согласия. Стоящее на ней советское здание мэрии вмещало органы маленькой республики до 2000 года, пока строился Магас.
28.

Отсюда бульвар ведёт мимо единственного в городе квартала пятиэтажек к советскому монументу Победы:
29.

Городом в 1967 году Назрань сделала стройка текстильной фабрики, с которой и связан этот район. "Фабрика" теперь торговый центр, а вот её просторный пруд не делся никуда:
30.

И его набережная у неприметного Дома культуры (1977), с 1987 году ставшего Ингушским драмтеатром имени Базоркина, тут за центральный парк:
31.

Парк украшают орлы...
32.

...и коровы:
33.

На которых гордо взирает с постамента Карцхал Мальсагов (2013) - полулегендарный основатель Назрани. "Полу" - потому, что этот представитель крупнейшей ингушской фамилии из горного селения Таргим в 1781 году действительно повёл народ из перенаселённой Тарской котловины на Сунжу. Известно, что ингуши обосновались на месте будущего города в конце 18 века, а в 1810 году отбили чеченский набег. Но легендами та история обросла одна другой краше, и антигероем всех этих легенд неизменно был некий кабардинский князь. По преданию, Мальсагов явился к нему в дом гостем, и одет был как простой чабан, но манеры говорили об обратном: женщины, встретившие Карцхала в отсутсвии князя, подали ему угощение без ложки, и войдя в комнату, князь уже знал, что перед ним вовсе не простолюдин, который стал бы есть руками. В итоге князь условился, что пустит ингушей пожить на своей земле до тех пор, пока у первого построенного дома не сгниют плетни, но вернувшись через пару лет, обнаружил, что плетни чудесным образом проросли и распустились. Тогда князь решил выгнать поселенцев силой, но его вызвала на поединок переодетая мужчиной Абигув - столь любимая современными гидами ингушская амазонка-мескхари. Проиграв ей бой, князь покрыл себя позором и ушёл с Сунжи навсегда, а его соплеменники рассудили, что если у ингушей женщины такие - от мужчин вайнахских можно только убегать. Но история или легенды - всё это было не здесь...
34.

До 1995 года Назрань от Бакинки отделяли посёлки Насыр-Корт (напротив Ингушского мемориала) и Гамурзиево. Последнее и было Назранью вплоть до постройки железной дороги. Там, на гребне между Сунжей и Назранкой чуть выше её устья и обосновался Карцхал Мальсагов. За переселенцами приглядывал военный пост, заложенный в 1781 году Львом Шедером. После стычки ингушей с чеченцами в 1810 году генерал Иван Дельпоццо расширил его до редута, ну а в 1817 году Алексей Ермолов прочертил через него Сунженскую укреплённую линию, другим элементом которой стал Грозный. Вплоть до советских времён Кавказ знал, что Назрань - это крепость, и в примерно из такой же крепости Григорий Печорин со скуки увёл у абрека Казбича самого быстрого коня. Ромб каменных стен общей протяжённость 640 метров прекрасно сохранился в 5 километрах восточнее центра:
35.

Боевое крещение Назрань получила в 1832 году, отразив набег дагестанского имама Гази-Мухаммеда. Тем же самым окончились и нападения Шамиля в 1841 и 1846 годах, причём ингуши из ближайших сёл тогда активно участвовали в обороне. А в 1858 осаждали крепость сами: попытки укрупнения горских хуторов, ограничения в ношении оружия и, само собой, раздача лучших земель казакам обернулись Назрановским восстанием, в котором участвовали до 5000 ингушей. Оно так и осталось крупнейшим выступлением ингушей против России, и стало важной исторической развилкой: до восстания царские власти подумывали о принудительном переселении лояльных горцев в Войско Донское. Стена вдоль улицы Идриса Зязикова кажется поломанной теми сражениями, хотя скорее всё же - временем да может отчасти Гражданской войной:
36.

Не скучали тут и в мирное время. В крепости бывали Александр Грибоедов (по дороге в Персию в 1818 году) и декабристы, в 1868 году здесь открылась первая для ингушей светская Назрановская горская школа, а в 1906 разместились органы Терской губернии - Назрановский округ (по сути уезд) был выделен из Сунженского отдела. Так и стала эта крепость Матерью-Назранью: Ингушетия в свои границах и правда родилась именно здесь, на проходивших в 1918-20 годах Ингушских съездах. При участии Серго Орджоникидзе и Сергея Кирова горцы упраздняли Дикую дивизию, выбирали сторону красных, выдвигали ультиматумы Антону Деникину и приветствовали советскую власть, вскоре исполнившую своё обещание дать ингушам плодородной земли, отселив казаков за Терек.
36а.

В 1924 году в крепости обосновалась сельхозакадемия, постепенно полностью вытекшая за стены к Бакинке. С 1980-х годов стена стала забором городской больницы, вход в которую в связи с красной зоной ковида посторонним сейчас воспрещён. Но внутри в общем-то нечего делать - при желании вся территория просматривается через проломы в стенах, и зданий, хоть сколько-нибудь похожих на исторические, там не видать. Разве что гараж близ ворот, по словам охранников, служивший раньше гауптвахтой:
37.

А вот снаружи крепость стоит обойти. В сгибе улицы Зязикова над долиной Назранки особенно живописен круглый бастион:
38.

За ним - самый сохранный участок стены:
39.

Дальше вплотную прилепленной к корпусам больницы. На лужайке перед ними, обратите внимание, православное кладбище - ведь в крепости не могло не быть церкви, вот только ни малейшей информации о ней я не нашёл:
40.

Крепость имела трое ворот, но задержать нападающих и пропустить карету скорой помощи - задачи явно очень разные. Поэтому в больницу теперь попадают через проломы: от двух ворот не осталось следа, а третьи заперты давно и крепко:
41.

Выше них - забор, за которым ещё один бастион. Другие крепости вайнахской стороны я показывал в Ведено и Шатое, но Назрановская - крупнее, старше и сохраннее них.
42.

В стороне остался ещё один район, бывшее село Альтиево, кроме красивого названия не приметное, кажется, ничем. От крепости же глубокая долина Назранки отделяет Барсуки - при кажущейся очевидности для русского уха, на самом деле это название ингушское и значит примерно Подзамчье. В 1944-57 годах село называлось по-осетински Хурджи (Урожайное), в 1995 вошло в состав Назрани, а в 2009-м - вновь отделилось от неё. В нынешних Барсуках 11 тыс. жителей:
43.

Барсучьи достопримечательности по большей части связаны с водой. Вот например дюкер Алханчуртского канала (1929-39), который начинается в верховьях Терека и тянется на 66 километров до самой Чечни, орошавшая Алханчуртскую долину между гребней Терского и Сунженского хребтов. По этим трубам канал перелезает через горы:
44.

Под трубами виден типовой для Ингушетии Дом культуры, выдающий в Барсуках село. На самом деле культурных заведений по Назрани разбросано не так уж мало - есть даже Русский театр, образованный в 1998 году как Театр-Студия "Современник" и занимающий ныне примрено такой же ДК. За ДК высится насыпь железной дороги с мощным дренажем, к устью которого на быстрой Назранке я спустился от крепости:
45.

Здесь стоит деревянная водяная мельница, работавшая ещё не так давно:
46.

По крайней мере в интернете ещё можно найти телефон братьев Руслана и Гелана Мальсаговых (в других источниках - Майсиговых), чей род из Таргима владел мельницей в Барсуках аж с 1878 года. Причём, неофициально - и в советскую эпоху, всегда имея здесь приоритет. Но телефон я приводить не буду - уткнувшись в дверь, я понял, что он больше не актуален, а роскошные полутораметровые жернова из Грузии зарастают травой:
47.

Работающие водяные мельницы я прежде видел в Средней Азии, но здесь за незапертой двеью встретила разруха, словно прошлась по Барсукам если не депортация, то чеченский набег.
48.

Деревянные механизмы пока сохранились:
48а.

А на втором этаже гниют брошенные мешки с зерном, наполняющие помещение запахом безнадёги:
48б.

Дальше я направился вдоль Назранки. До её устья на самом деле ещё пара километров, а за ним Сунжа входит в каньон между хребтом имени себя и предгорьями Кавказа:
49.

Барсучья мечеть считается старейшей в равнинной части Ингушетии. Её устройство типично вайнахское - поперечный направлению на Мекку зал, одинокий минарет над михрабом да вделанные в кирпичную стену алебастровые таблички. Саму мечеть построил в 1901 году перс Сейт-Али Мухтаров из Баку (не путать с Муртузой Мухтаровым!), а на минарете дата "1913". Что интересно, работает мечеть с 1977 года, и возрождению способствовал тогдашний глава Горкома:
50.

Тропа упёрлась в забор, который я перелез. Мечеть оказалась запертой, и двор её был пуст, но у ворот одиноко стояла машина. Я спросил у водителя, как тут вызвать такси, и водитель, - ингуш со светлой кожей, пепельными волосами и ярко-голубыми глазами, - сам предложил довезти меня куда мне надо. Я сразу понял, что он за это даже денег не возьмёт, и не ошибся - после положенных трёх вежливых отказов мы поехали дальше по бесконечным пыльным улицам назрановских предместий. Барсуки сменило Плиево - такое же огромное село (15 тыс. жителей), названное между прочим отнюдь не в память генерала Иссы Плиева, который был и вовсе осетин. Осетины в 1944-58 годах называли это селение Асхар: то ли в 1781, то ли в 1836 здесь обосновался другой, вполне себе ингушский род Плиевых. Водитель же был из Хамхоевых, чей башенный город Хамхи стоит в горах по соседству с Таргимом. Себя Хамхоевы считают самым древним вайнахским родом, возводя родословную к Ною и его сыну Хаму. Под эти разговоры мы проехали Плиево насквозь, и на холмах у малгобекской дороги путеводным фонариком засиял белый мавзолей Борга-Каш:
51.

Совсем крошечный (5,5х4 метра) и после Средней Азии да Закавказья невзрачный, для России это уникальный памятник, родич мавзолеев Болгара, Турахана и Хусейнбека в башкирских Чишмах или зауральской Башни Тамерлана.
52.

Всё, что о нём известно, этот мавзолей рассказывает сам: надпись на фасаде гласит, что построили его в 1405 году над могилой Бек-Султана, сына Худайнада. Ингушское же название Борга-Каш (Борганова могила) намекает, что был этот Бек-Султан кумыком из племени борган. К костям его, зайдя в мавзолей слишком быстро, запросто можно провалиться, и падать глубоко - мой фонарик еле-еле добивал до дна...
52а.

Больше самого мавзолея впечатляет вид от него на пространство домов Назрани и величественные, - такими они показываются в дымке редко, - вершины Кавказа. Слева Казбек, справа Хохский хребет (3812м), и снега, к моменту написания поста уже потаявшие, на них соседствуют с вечными льдами. Однако обратите внимание на стык вертикального с горизонтальным: пара тёмных многоэтажек стоят у Девяти башен, Магас скрыт зелёным холмом, а белые дома вдали относятся уже к Владикавказу. До него, как и до Беслана, от Назрани около 20 километров. Слева, у чёрного отрога - видимо, Тарское (бывший Ангушт), а за отрогом уходит по горам Военно-Грузинская дорога...
53.

От Борга-Каша голубоглазый Хамхоев отвёз меня на остановку, где вскоре меня подхватила маршрутка до Сунжи, по пути минующая ещё один город Карабулак и в общем почти не выходящая из населённых пунктов. В сунженском аэропорту "Магас" чернобородый чеченец Мага повёз меня и двух прилетевших москвичек в Грозный - в тур "Неизвестной Росссии". Но про Чечню я уже всё рассказал, а в следующей части будет сборная солянка равнинной и предгорной Ингушетии от Малгобека до Алкуна.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: замки-крепости Великая Степь Кавказ транспорт дорожное деревянное |
Магас и его основатели |

Магас - самый молодой (1994) и маленький (13,6 тыс. жителей) региональный центр России. То же можно сказать и про его регион - учреждённую в 1992 году Республику Ингушетию, с той оговоркой, что самая маленькая она по площади (3,1 тыс. км - примерно как Новая Москва), а по населению (515 тыс. жителей) даже на Кавказе она крупнее Карачаево-Черкессии и Адыгеи. У населения того самая низкая доля русских (0,8%, да и то в 2010 году), самая высокая средняя продолжительность жизни (82 года) и стабильно последнее место в России по объёму экономики. Словом, маленькая Ингушетия очень непроста, и в прошлой части закончив станицами Терека рассказ о Чечне, ещё 6 постов я напишу о Стране Башен. Сегодня - не столько про Магас, откровенно разочаровывающий "Дубай районного масштаба", сколько о том, из чего он вырос.
Ингушетия не только маленькая, но и узкая, а потому в её панорамах почти всегда на заднем плане видны Осетия, Грузия или Чечня. Но мой заглавный кадр ингушский на 100%: вид с Бакинки (трассы "Кавказ") сквозь предместья Назрани на башни Магаса под трёхглавой горой Цей-Лом (3171м) - этим "вайнахским Олимпом". Роскошные снега высокогорий я видел в начале своего чечено-ингушского путешествия, а 10 дней спустя ходил по тем склонам в оголившейся бурой траве. Как и Кисловодск, Магас не оправдал для меня своего прозвища Город Солнца - спустились сюда мы на обратном пути, когда наползли серые тучи. Логистически ингушская столица остаётся дальним районом Назрани: своей автостанции в Магасе нет, и связь двух городов обеспечивают маршрутки по заполнению, которые в Назрани в середине дня могут наполняться и час, а из Магаса, понимая тщетность ожидания, и вовсе уходят пустыми. Меж центрами двух городов порядка 7 километров и полоса зелёных полей, за которыми Аланские ворота (2015) встречают у моста через Сунжу:
2.

Дальше - аляповатые новостройки:
3.

Среди которых особенно хороша вот эта: не знаю, почему Варламов не включил её в свой топ-100 самых уродливых зданий России, но я дал бы ей твёрдое 1-е место.
4.

Описав плавную дугу, назрановская дорога выпрямляется в проспект Идриса Зязикова. Но даже несмотря на здоровенную мечеть, в его пейзаже постсоветское не спутаешь с ближневосточным:
5.

На полдороги до мечети высится ингушская Бурдж-Халифа и Байтерек в одном лице - Башня Согласия (2012-14):
6.

Ради неё одной, пожалуй, и стоит заехать в Магас - идея этого странного небоскрёба гениальна! Снаружи, вплоть до мельчайших деталей вроде плитняковых карнизов кровли, это типичная вов - вайнахская боевая башня. Вот только старинные башни редко были выше 20 метров, а здесь 21 метр лишь ширина по подножью. Башня подавляюще огромна, особенно на краю полей: от земли до камня-"быка" ровно 100 метров, и на 85-метровой высоте смотровая площадка проходит сквозь машикуль:
6а.

По горскому обычаю, возвели башню за год, и ещё год доделывали внутри. За турникетами висит сертификат от Книги Гиннеса, что эта башня - высочайший в мире этнографический музей:
7а.

Если чеченцы соорудили у себя как минимум 3 этнодеревни (Хой, Герменчук, Донди-Юрт), то ингуши сымитировали ночной аул прямо в основании башни, тут всё же от канона отойдя - хозяева заходили в башню через второй этаж, а на первом держали пленников. Музей встречает "башней в башне" с тамгой в виде то ли креста на Голгофе, то ли человека с распростёртыми руками.
7.

Слева от вов - "плоскостной" дом с террасой, справа - жилая башня "гала":
8.

А в ней - камин со священной надочажной цепью "зы", значившей тоже, что в юрте потолочное окно, а в избе красный угол.
9.

Те же вещи лежат и в Донди-Юрте, и в Национальном музее Чечни, а пост о культуре вайнахов я делал по фотографиям из обеих республик.
10.

На стенах - войлочные ковры истинги (у чеченцев - истанги), на полу - медные кувшины для воды. Сам интерьер - из начала ХХ века, когда в суровый горский быт по пробитым ещё при Ермолове просекам начали проникать столы да кровати:
11.

Музыкальные инструменты - 3-струнный дичиг-пондар и смычковый чондарг:
12.

За башней - кузница:
13.

Туда глядит старый чабан в окружении кадок, жерновов и борон в виде досок с вбитыми снизу камнями, на которых при рыхлении поля обожали кататься горские дети. Слева же заметно первое отличие от Чечни - ингушская тамга в виде солнцеворота, в республики глядящая хоть с дверей и ворот, хоть с флага.
14.

Музей - лишь первый ярус, но подъём на башню впечатляет сам по себе: наверх ведут не лестницы, а пологие пандусы с картинами ингушских художников на стенах:
15.

Ближе к середине - ещё и зал "Природа". Путь наверх не изнуряет, но кажется бесконечным, и легко подумать, что тут этажей 40-50. На обратном пути мы насчитали 100 углов, то есть 25 ярусов. А учитывая, что ширина башни начинается от 21 метра - весь путь длиной километра 1,5-2. Чтобы не было скучно идти, пока расскажу кто такие ингуши - с фотографиями из другого музея в Назрани и с улиц городов и сёл.
16.

Чеченцы и ингуши - ближайшая родня: языки их не идентичны (в ингушском, например, есть звук "ф"), но взаимопонятные, а сходство материальной культуры вы и по кадрам вышле могли оценить. Когда два народа разделились - ответы варьируются меж двух разных "никогда": Советы отрицали глубокое обособление, нынешние ингуши отрицают, что единство когда-либо было. Средневековые горцы же в принципе не мыслили категорией народа, но в летописях Грузии наряду с дзурдзуками (чеченцами) фигурируют некие глигвы, схожие с ними, но всё-таки не они.
17.

Себя ингуши называют галгай, дословно "башенники", и в русских летописях калкане тоже мелькали как отдельный народ Кавказа. Но галгаи созвучны с гаргарами - крупнейшим из 26 племён Кавказской Албании, язык которого точно входил в нахскую группу, а ареал если не совпадал, то соприкасался с ингушским. Если у соседей национал-романтики считают Урарту чеченской империей, то их ингушские коллеги копают глубже - словом "галга" называли мудрецов ещё в Шумере. Наука же долгое время возводила род вайнахов к кобанской культуре, пока стройную теорию не поломали генетики: вайнахи - может и ученики кобанцев по культуре, но не прямая родня.
18.

"Золотой век" вайнахов пришёлся на 9-13 столетия, когда по степям Предкавказья привольно раскинулась Алания - крепкое христианское государство, древние правители которого атаковали римлян, отбивались от арабов и выдавали дочерей за грузинских и армянских царей. В 10 веке, с упадком Хазарии, прежде вассальная ей Алания превратилась в гегемона окрестных степей. Самих алан наука считает потомками скифов (точнее, сарматов) и предками осетин (по языку), но у всех народов Кавказа на этот счёт есть своё мнение. Ингуши - конечно же, не исключение: в Алании их предкам явно жилось лучше, чем когда-либо, они принимали христианство и вольно расселялись по плодородным равнинам, так разве же не следует из этого, что это и были аланы? Более того, аланы в ингушской трактовке - не кочевники, зацепившиеся за горы, а горцы, приручившие кочевников. Сами же они не приходили сюда ни откуда, а словно выросли прямо из гор: себя ингуши считают ещё и самыми чистокровными из кавказцев, а чеченцев - помесью славян и степняков. Словом, обособившись и получив отдельную республику, ингуши не стали сдерживать себя в построении идентичности: их прошлое - не прозаичная история, а качественное, очень красивое фэнтези, где взывали к Солнцу жрецы с деформированными головами и амазонки побеждали врагов.
19.

Для амазонок тут есть даже своё слово мехкари - "рождённая первой": якобы, старшие дочери из каждой семьи вместо замужества шли на военную службу в гарнизонах, конвоях или резервах. Гиды увлечённо рассказывают легенды о том, как горянки заменяли мужей во главе армий, девы выходили замуж лишь за тех, кто одолеет их в поединке, а красавица Абигув так посрамила кабардинского князя. Достоверно то, что в доисламские времена ингушские женщины носили короткие волосы. Ну а на головах воительниц с картин современных художников - не шлем, а курхарс, древний "фригийский колпак" в виде знака вопроса, серебряная бляшка на котором якобы была нужна, чтобы ослеплять врагов. Последних ингушек в курхарсах застали уже русские 18 веке, ну а теперь он стал одним из национальных символов:
19а.

Но Аланию вбили в грязь монголы, затем оттоптались ханы Золотой Орды, а напоследок Тамерлан запнул её в дальний угол истории. Плоскость осталась за тюрками, а все народы Алании, какой бы из них ни была главным, схоронились лишь в горных долинах, где не растёт хлеб. Прокормить себя ресурсами гор вайнахи не могли, и потому основой их хозяйства, как у поморов морские промыслы, стали набеги. Законы же в отсутствии государства заменил эздел - горский кодекс чести, у чеченцев известный как кьонахалла. В те трудные века у вайнахов сложилась система тейпов (кланов) и тукхумов (племён), и если многие ингуши считают 9 чеченских тукхумов отдельными народами, то чеченцы, напротив, называют Десятым тукхумом ингушей. У галгаев же не было племён, но в 16-17 веках сложились чёткие территориальные единицы - шахары: Аккий, Орстхой, Цори, Таргим, Хамхи, Чулхой, Фяппий (Мяцхель) и Джейрах. Первые два лежали на Фортанге и представляли собой обособившие части одноимённых чеченских тукхумов; последние два занимали ущелье Армхи - притока Терека, ну а остальные жили в бассейне Ассы, верховья которой считаются теперь колыбелью галгаев. Массовое переселение ингушей в 19 веке размыло границы шахаров, на смену которым пришли три яруса расселения: назрановцы (плоскость), галашкинцы (предгорья) и лоаморы - горцы, вобравшие все 9 шахаров. Не идентичны чеченским и полсотни ингушских тейпов - небольших и всегда связанных кровным родством. Теперь их называют "фамилии", или вернее - "основные фамилии": самую распространённую ингушскую фамилию Мальсагов носят все представители одноимённого тейпа, а вот крупнейшие тейпы Евлоевых и Оздоевых помимо "основных фамилий" включают ещё по полсотни дополнительных: условно говоря, Гондарбошевы - это тоже Зязиковы. Ну а родство ингуши чтут крепко, и стараются не забывать, где в горах стоит "своя" башня...
19б.

Пандусы Башни Согласия выводят к запертой этно-кафешке, за которой поднимаются уже не коридорами, а лоджиями. Впереди ещё 13 ярусов, но сужается башня весьма ощутимо - "горизонтального" пути осталось меньше половины:
20.

Спускаться с гор ингуши начали позже чеченцев, и в другие места - Тарскую котловину в верховьях Терека, что лежит теперь к востоку от Владикавказа. Может, пути двух народов разошлись тогда: чеченцы на просторах Плоскости встретили мусульман (кумыков и ногайцев), ингуши в тесной котловине - язычников (осетин и черкесов). Но внизу так же обильно росли хутора, сходившиеся к ярмарке в селении Ангушт, по которому, как и в случае с Чечен-Аулом у соседей, русские и прозвали местных горцев "ингуши". Номинально они вошли в состав России в 1774 году вместе с Малой Кабардой, но думается, далеко не все в горах тогда об этом знали. В 1784 году Военно-Грузинскую дорогу прикрыл от Ангушта новый город на Тереке - Владикавказ, ингушам известный как просто Буро, то есть Крепость. 22 августа 1810 года туда пожаловали представители самых влиятельных тейпов Таргимхой, Хамхой, Оздой, Эгий, Картой и Евлой да подписали Акт присяги Шести ингушских фамилий России. Если чеченцы быстро снискали славу самого непокорного народа в империи, то ингуши так и остались верны белому царю. Войска Северо-Кавказского имамата были сброшены ими с гор, а против русских ингуши за всё время подняли лишь несколько небольших мятежей - например, в 1858 году в Назрани из-за укрупнения хуторов.
20а.

Активная исламизация пришла сюда лишь на излёте Кавказской войны, и лидером её был Кунта-хаджи Кишиев из Ичкерии, суфийский проповедник-пацифист багдадского тариката (ордена) Кадырия. На Ингушетию он повлиял как бы не больше, чем на Чечню, где с 18 века прижился другой суфийский орден Накшбандия из Бухары: ныне Кадырия окормляет 65% чеченцев и 80% ингушей. К чеченцам ислам пришёл как военная идеология, а среди ингушей распространился неспеша - лишь в 1878 году в возрасте 117 лет последний жрец Эльмарз Хаутиев из села Шоан закопал свои реликвии под святилищем, вознёс богам прощальную молитву, и на 40 дней уйдя в пещеру, вновь вышел на свет мусульманином. В 139 лет он совершил хадж в Мекку, а в мир иной ушёл в 1923 году, прожив 157 лет: дольше в бывшем СССР жил разве что талыш Ширали Муслимов (см. Лерик), хотя во всех случаях истории таких долгожителей сомнительны. Разные пути проникновения ислама и сыграли ключевую роль в обособлении двух народов: чеченцы уже в 19 веке пошли по пути мусульманской глобализации, а ингуши сохранили больше самобытной архаики. В наши дни оба народа набожны, но чеченец стыдится языческого прошлого, а ингуш строит на нём свою идентичность.
20б.
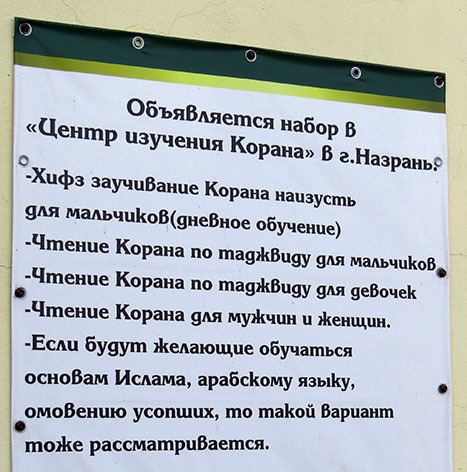
Ну а Россия не оценила верности галгаев: в 19 веке земли Тарской котловины всё чаще отходили казакам. Когда в Гражданскую войну казаки стали опорой Белого Юга, ингуши во главе с заезжим грузином Серго Орджоникидзе и горцем Гапуром Ахриевым почти тотально поддержали большевиков. Казаков в 1920 году выселили за Терек, однако в долинах Кавказа было слишком тесно и без них. Горскую АССР упразднили в 1924 году, и если Чеченская АО сразу оказалась обособлена, то в верховьях Терека разобраться в новом делении мог лишь тот, кому не харам пол-литра. Здесь были созданы Северо-Осетинская и Ингушская автономные области, Сунженский казачий автономный округ и город всеРСФСРовского подчинения Владикавказ - центр 3 регионов. Казачий округ, при этом, с ним даже не соприкасался, а осетино-ингушская граница шла по Тереку, так что в городе органы двух автономий заседали на разных берегах. Ингушскую АО тогда возглавлял Идрис Зязиков, отстаивавший её автономность даже после снятия с должности в 1929 году. Но не случайно осетины считают, что Сталин был не столько Джугашвили, сколько Дзугаев: с приходом Кобы хрупкий баланс начал смещаться в их сторону. В 1932 году, со второй попытки (первую отразил Зязиков) Буро окончательно стал Дзауджикау - Владикавказ передали Северной Осетии. Ингушское начальство переехало в Грозный: в 1934 году на карте Союза появилась Чечено-Ингушская АССР. А 10 лет спустя и её отменили, согнав горцев в теплушки да увезя в Казахстан...
21а.
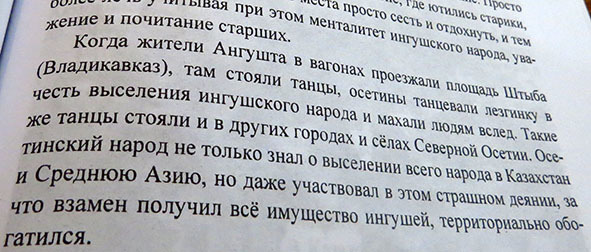
Горы Ингушетии тогда отошли Грузии, а предгорья и равнины - Северной Осетии. До 1944 года граница республик проходила буквально по окраинам Владикавказа, и когда в 1958 реабилитированные вайнахи возвращались домой, Тарская котловина с бывшим Ангуштом в возрождённую ЧИАССР уже не вернулась. Отчасти в счёт неё республика получила русские районы за Тереком, вот только заселили их чеченцы. Руководили "новой" ЧИАССР именно ингуши Ильс Алмазов, Курейш Оздоев и Хажбикар Боков, но даже в Грозном ингушей было лишь около 5% жителей. Расселяться по двойной республике и смешиваться с чеченцами они были явно не настроены, зато выходцы из Тарской котловины всеми способами старались снова поселиться там. На Северном Кавказе возник свой Карабах, над которым с обеих сторон звучали крики "НИКАКИХ __________ там НИКОГДА не было!". 16 января 1973 года в Грозном ингушская интеллигенция собрала 15-тысячный митинг, который милиция сумела разогнать лишь через три дня. В Пригородном районе неприязнь двух народов уже к концу 1970-х закипала насилием: 24-26 октября 1981 года Орджоникидзе (Владикавказ) был охвачен беспорядками, в которые переросли похороны убитого ингушем таксиста-осетина, а там и Перестройка началась... В 1989 году требование вернуть Ингушетии "Восточную часть Пригородного района" возглавило движение "Нийсхо" ("Справедливости"), а "на земле" тут и там осетинские милиционеры гибли от рук вооружённых ингушей. Усугубляло дело то, что Пригородный район в 1940-50-х заселили выходцы из Южной Осетии, которым на фоне рушащегося Союза было тоже некуда бежать. С осени 1992 года республики в обход законов как бы ещё живой РФ начали формировать вооружённые отряды, и вот 30 октября между двумя регионами вспыхнула самая настоящая война, масштабами сравнимая с Приднестровской. За несколько дней в Пригородном районе погибли и пропали без вести 868 человек, 698 из которых были ингуши. Ингушами же были почти все погибшие тогда дети, женщины и старики. Но как и в Карабахе, на одного убитого приходились десятки беженцев - Северную Осетию покинуло, бросив свои дома и пешком уйдя в соседний регион, не менее 30 тысяч ингушей. Думается, если бы речь шла о независимых странах, окраины Назрани напоминали бы Ноемберян, а Ангушт не отличался бы от Агдама. Однако над народами стояла империя, и её армия ценой двух дюжин убитых солдат смогла пресечь войну. Пресечь - да не погасить: ненависть между двумя народами вполне ощутима и ныне. Больше среди осетин, многие из которых считают ворами и террористами всех ингушей без исключения. Ингуши ездят во Владикавказ гулять и отовариваться, да и в самой Осетии их 4% жителей. Но маршрутка Джейрах-Назрань демонстративно проехала Осетию без остановок, а в путеводителях ингушских о Тарском пишут что в азербайджанских о Шуше:
21.
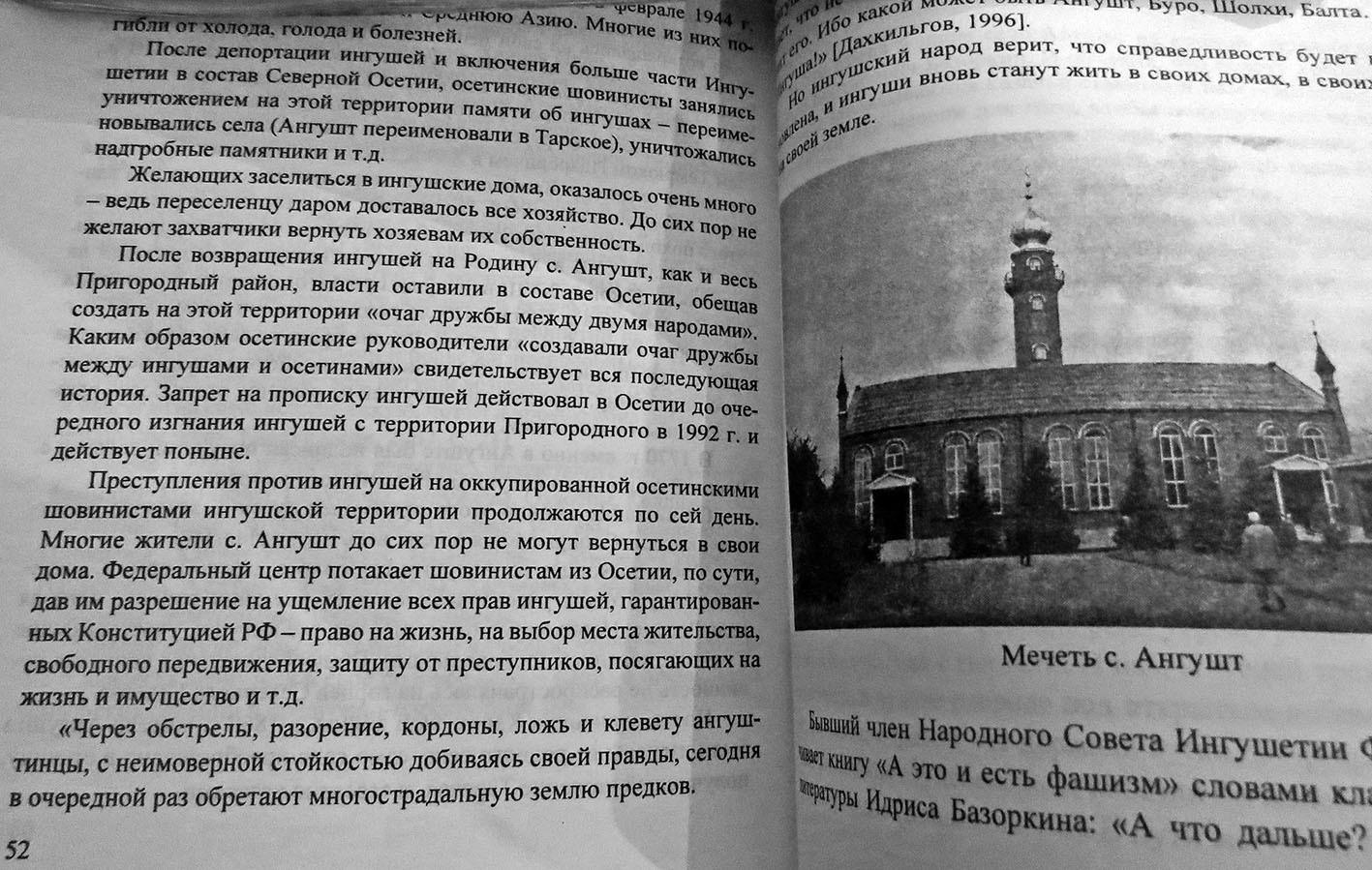
Сквозь все эти события прошла и судьба писателя Идриса Базоркина, чей роман "Из тьмы веков" уважающий себя галгаец знает почти наизусть. Несмотря на название, там описаны события начала ХХ века, и творивший в позднесоветскую эпоху Базоркин замышлял трилогию с томами о межвоенных временах и депортации. Вот только жил он тоже в Тарской котловине, и во время погромов был захвачен в заложники, а его рукописи погибли в разграбленном доме.
22а.

Мы взошли на башню. Наверху встречает зал под люстрой-коловратом:
22.

Ажурные ворота выводят на смотровую площадку, по стеклянному полу которой с непривычки очень страшно ступать. По идее это стекло держит до 4 тонн, но между граней башни я ходил по залу:
23.

В 1992 году ингуши стояли на пороге войны на два фронта: Чечня решила отделяться от России, а Ингушетия - от Чечни. Изначально - тоже в независимость, но только ингушам больше повезло с вожаком. Если генерал Джохар Дудаев видел войну лишь с высоты стратегического бомбардировщика, то генерал Руслан Аушев командовал в Афганистане мотострелковым батальоном. Распад СССР он встретил нардепом от Приморья, но с началом конфликта вернулся на родину и 10 ноября 1992 года возглавил её. Республика была создана на полгода раньше, но Аушев, получив её без столицы, экономики и чётких границ, провёл народ по лезвию над пламенем войны. Среди ингушей его авторитет и сейчас безграничен: если бы на то было одобрение Москвы, портреты Руслана Аушева висели бы здесь чаще, чем у соседей портреты Ахмада Кадырова. Даже в Беслане он был единственным, с кем террористы (в большинстве своём завербованные Шамилем Басаевым среди ингушей) пошли на диалог, отпустив 26 детей. Ингушетию к тому времени возглавлял Мурат Зязиков - с Путиным Аушев не поладил и ушёл в отставку в 2001 году, якобы потому, что чеченские боевики активно пользовались ингушским тылом. И может правда было оно так, но всё же Аушев мастерски лавировал на минном поле - без его твёрдой руки Горная Ингушетия за считанные годы превратилась в главный террориум Кавказа. В сентябре 2002 года из Грузии в Чечню промчался Руслан Гелаев, оставив на ингушских дорогах убитыми 12 солдат и 76 своих боевиков. В июне 2004 года новый набег возглавил лично Шамиль Басаев, убив 98 местных силовиков и случайных прохожих и уйдя без потерь с тысячей стволов из разграбленных складов: именно этим оружием считанные месяцы спустя делался теракт в Беслане. К середине нулевых Чеченская война была уже скорее Ингушской: Басаев был уничтожен в 2006 году в назранском предместье Экажево, а его преемник Доку Умаров - в 2013 в лесу близ Галашек. 2013-й год и стал поворотным: с самых красивых уголков Ингушетии сняли особый режим, и за считанные годы террориста в тех горах сменил турист.
24.

Власти же, помучившись с аморфной Назранью, в 1994 году начали строить новую столицу региона, дав ей название в честь столицы древней Алании - Магас. Вот таким он замышлялся в идеале:
24а.

А таким встретил свой четветьвековой юбилей:
25.

Планировка города предельно проста - с севера на юг тянется проспект Идриса Зязикова (на кадре выше - слева направо), который пересекает главная ось от Башни Согласия через правительственный квартал.
25а.

Напротив башни Президентский дворец (1994-98) - первое законченное здание Магаса.
26.

Глядящее фасадом на площадь Алании между симметричных Парламента и Правительства, сдача которых в 2000 году и сделала Магас столицей. Архитектура их, как заметил
 nordprod, занимает промежуточное положение между позднесоветским брутализмом и второсортным туркостроем.
nordprod, занимает промежуточное положение между позднесоветским брутализмом и второсортным туркостроем.27.

По окрестным полям размечены, вместе с уже построенными, 27 микрорайонов. Два последних по счёту примыкают к башне между Сунжей и проспектом Зязикова, 10-й стоит чуть в стороне за назранской дорогой, а первые 9 - основная часть Магаса. По площади он, возможно, самый маленький город России - 2,1х1,7 километра. Проспект Зязикова с юга упирается в мечеть "Сердце Кавказа", которая явно не будет тягаться с Шали и Махачкалой за звание крупнейшей в Европе. Смысл её в другом: лесополка вдали - это граница Северной Осетии. Дальше виден Лесистый хребет, скрывающий Тарскую котловину, ну а на горизонте вместо мглы могли бы стоять кручи Большого Кавказа.
28.

Граница враждующих регионов проходит буквально под заборами строек Магаса, но где-то в тени башни отворачивает от Сунжи, и вот - уже вполне ингушские поля. За развязками Бакинки растеклась одноэтажная Назрань, а на стыке двух городов - пара самых высоких домов республики:
29.

Правее по Бакинке видны Девять башен Мемориала Славы, который я оставлю на следующую часть.
30.

Замыкаем круг. С севера от башни - вычурный фасад Дома торжеств и за Аллеей спортивной славы корпуса Ингушского университета (2015), в сентябре 1994 года открытого в казармах военного аэродрома станицы Орджоникидзевской. Левее шпиля и похожей на траншею Сунжи можно различить Аланские ворота, а вдали до гребня Сунженского хребта раскинулось Экажево - огромное село (19 тыс. жителей), заречное предместье Назрани, где сложил голову (вернее, упустил её на пару километров) главный злодей Чеченских войн.
31.

Теперь спустимся с башни да пройдёмся улицам Города Солнца. Сквер у подножья, продолжающий площадь Алании, называется Дадаковской площадью - по древнему аланскому городу Дадаков, что основали в 1239 году уцелевшие жители разрушенного Магаса. Увы, ненадолго - в 1279 году и его сравнял с землёй Менгу-Тимур. Что интересно, нынешний Магас пока ещё не догнал по размеру своего предтечу - население "того" Магаса оценивается в 15-20 тыс. человек. Где стоял он - точно не ясно: ингуши считают Магасом одно из близлежащих городищ, а карачаевцы - три храма Нижнего Архыза.
32.

Обратите внимание, что большинство зданий Магаса построены уже в 2010-х. В нынешнем виде этот город создал не строгий Аушев, а Беслан Цечоев - местный Колоритный Мэр, в 2015-19 годах пытавшийся сделать так, чтобы честный варламит при слове "Магас" не убегал из-за стола, как дамы Собакевича при слове "лягушка".
33.

Но - велодорожка и велопаркинг пусты, фонтанчик высох, электронная библиотека не работает, так что сдаётся мне, что и раздельный сбор мусора тут делается так же.
34.

В высокотехнологичный бак для утилизации ламп народ кидает что попало:
35.

А вот зонтики на пешеходных переходах - хороши:
36.

Вторая достопримечательность после Башни - автобусные остановки:
37.

В них есть электронные библиотеки, розетки для подзарядки гаджетов, кофейные автоматы, вай-фай и даже специальный планшет для жалоб мэру - говорят, Цечоев лично перезванивал в течение получаса. Теперь не работает ничего, кроме самого важного - кондиционеров, охлаждающих помещение летом и подогревающих зимой. Остановки выполняют роль автовокзала - внутригородского транспорта в Магасе нет (хотя Цечоев трамвай сделать грозился!), а маршрутку до Назрани в них ждать куда приятнее.
38.

На домах - помпезные таблички:
38а.

Ими исчерпывает весь лоск вне проспекта Зязикова:
39.

Прошлый и следующий кадры сняты по краям 4-го микрорайона, представляющего собой Правительственный квартал:
40.

Больше впечатляет 5-й микрорайон - Ново-Назрановская крепость МВД и ФСБ. В ней, кстати, есть домовая церковь Иоанна Кронштадтского, так что назвать Магас единственным региональным центром без православного храма не выйдет:
41.

Южнее (со стороны мечети) лежат 7-й и 8-й микрорайоны, сквозь которые проходит Аллея "Матери России" (2014):
42.

С севера, ближе к выезду на Назрань - 1-й и 2-й микрорайоны вдоль улицы Хрущёва. Она тоже представляет собой бульвар, или вернее - три бульвара. Рядом с ИнГУ - Аллея Спортинвной Славы, где о спорте напоминает разве что самый ЗОЖный в мире фуд-корт, который никто и никогда не видел открытым:
43.

За арками у проспекта Зязикова её сменяет Аллея Ахмата Кадырова с самым маленьким в региональных центрах России памятником Победы - не удивлюсь, если открывшимся в 2004 году:
44.

Третья Аллея Республики и вовсе вылетает в поля - такое я прежде видел в китайском Фуюане, на который Магас просто неожиданно похож архитектурой...
45.

...но по общей атмосфере - абсолютный антипод. Там на улицах кипит жизнь, а здесь... если у вас возник вопрос "А люди-то где?", то я сам не могу вам на него ответить. Пасмурным днём Город Солнца зловеще тих и пуст:
46.

Даже не в каждом дворе услышишь детские крики:
47.

Состояние дворов скачет от вполне кавказского до почти европейского:
48.

А подъезды за хлипкими дверями нараспашку уютны и чисты:
48а.

Хоть и видно, что старались ингуши, а из Магаса хочется сбежать. Чем, кажется, и занимаются местные, когда не ходят на работу в 4-й микрорайон - в городе нет ни одного парка, ни одного кинотеатра, ни одного торгового центра (хотя заброшенное здание характерного вида есть!), и даже кафешек всего пара штук. Мечеть - и та только строится! Так что остановки с кондиционерами - ещё и место, куда можно сходить. Не так давно, впрочем, тут не было даже школ и поликлиник. Всерьёз развиваться Магас начал только в 2010-е годы, и вспоминая Астану, которая обрела человеческое лицо за несколько лет моего с ней знакомства, я всё-таки не стал бы сходу ставить крест на этом "районном Дубае".
49.

В Ингушетии есть ощущение заграницы, но - не чужбины. Ингуши, по сравнению с чеченцами, кажутся более "нашими". Даже во внешности - одеваются они проще, а лица их чаще гладко выбриты, чем скрыты грозной бородой. Разговорившись с прохожим, иногда забываешь о том, что перед тобой Суламбек или Магомет, а не Сергей или Миша. Говорят, даже выпить или закурить тайком от соседей ингуш склонен больше, чем чеченец. Но вот рядом с тобой в третий раз за 15 тормозит машина, и водитель выходит поговорить с дорогим гостем и узнать, не нужна ли ему какая-то помощь. Когда же гость решает уехать на такси, таксист довозит его к месту и не берёт денег. Или наоборот - берёт раза в три больше адекватной цены, а ты понимаешь, что не оговорил цену заранее, потому что весь опыт прошлого дня приучил доверять. Свойскость ингушей обманчива, но в отличие от чеченцев, их инаковость какая-то неброская. С чужаком они держат дистанцию - но так, чтобы чужак этого не замечал.
50.

Между собой ингуши говорят обычно на своём языке, но на русский переходят без акцента. Они менее набожны, но более патриархальны: если в Грозном изредка случается увидеть девушку в джинсах, то в Назрани даже туристкам не рекомендуют в таком виде казать нос дальше туристического бусика или вокзала. Более того, в Ингушетии существует легальное многоженство, чем не может похвастаться даже Чечня - Аушев утвердил его в 1999-м, и хотя год спустя федеральные власти прикрыли лавочку, ещё долго ингуши удивляли всех остальных паспортом о двух печатях. Но как верно подметил в своё время один знакомый из Средней Азии, патриархальность тут первична, а ислам лишь хорошо на неё ложится. И современную медицину в Ингушетии дополняют не только исламские клиники с хиджамой (кровопусканием) и лечебным чтением Корана, но и знахари да колдуны глухих сёл и окраин.
51.

А пышность кирпичных домов пусть не вводит в заблуждение, ради которого их вообще-то и строят: Ингушетия очень бедна, и происхождение этих хором ровно то же, что в Западной Украине или Закавказье - в основном народ тут ездит на заработки. Кто-то - водителем автобуса или охранником в "Магнит", кто-то - инженером на месторождения. А кто-то, может быть, коллектором или даже бандитом: в таких областях ингуши здорово мимикрируют под чеченцев. За домом присматривать остаются женщины, которых тут видишь многократно чаще, чем мужчин:
52.

Не мне судить, кто из вайнахов храбрее, но вот кто хитрее - у меня есть ответ. Не думаю, что ингуши сильно любят Россию, но их подход - "нельзя всё ломать, надо на чём-то и сидеть". Они получили всё, что получили чеченцы: шариат и законы гор тут актуальнее российских законов, русские уехали и вряд ли вернутся, бюджет держится на федеральных дотациях, из которых строятся (причём не из руин, а с нуля!) сказочные города, большие мечети, национальные монументы да отели в горах. Но всё это - без ужасов войны, без бородатых опричников и поборов в мутные фонды, без ненависти и зависти всей остальной страны. Галгаи научились не влезать в новости и мимикрировать под своих громких соседей: ингушами на поверку могут оказаться и чеченская мафия (как на Дальнем Востоке), и чеченские террористы (как в Беслане), а пик русских погромов и убийств тут и вовсе пришёлся на "тучные годы". Но тот, кто при виде Грозного пускается в монолог про "позорную дань" с конвульсивными выкриками "им Аллах подаёт!", при виде Магаса максимум покритикуют урбанину. Не говоря уж о том, что хитрая Ингушетия на два порядка больше, чем гордая Чечня, сумела сохранить культурное наследие...
53.

В следующей части осмотрим Назрань.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: Кавказ злободневное дорожное |
Шелковской район Чечни. Памяти Терского казачества. |

Почти всё примечательное в Чечне, будь то показанный в прошлой части Донди-Юрт в ближневосточном Урус-Мартане или горные башни, находится от Грозного на юг. Но сегодня поедем на север, в лежащие за Тереком степные районы, из которых уже на нашей памяти и отнюдь не добровольно ушли былые хозяева - терские казаки.
В пейзаже вайнахских республик горам неизменно противолежит Гребень - вытянутые по междуречью Сунженский и Терский хребты. Ведь Кавказ представляет собой не стену с зубцами ледяных вершин, а скорее лестницу хребтов, самые нижние ступени которой разделены уже не горными долинами, а участками плоскости. При взгляде из Грозного, Аргуна или Шали на север Гребень выглядит вполне серьёзными горами, но если на карте более высоким кажется Сунженский хребет, то на местности - Терский: плоскость между ними тоже идёт ступенями.
2.

Маршрутки за Гребень ходят из Грозного от автостанции на базаре Беркат. В нашем случае - до райцентра Шелковская, где можно сделать пересадку на Кизляр: вдоль дороги к этому дагестанскому городу и расположены все пункты сегодняшнего рассказа. Сразу за Терским хребтом встречает Толстой-Юрт - крупное село (9 тыс. жителей), с недавних пор ставшее центром Грозненского района, городок администрации которого как раз строится по центру. А за селом необозрима плоскость - ближайшие горы в той стороне находятся где-то в Канаде:
3.

Толстой в краю, где есть Беной, Ялхорой, Белготой - всё же именно наш Лев Николаич. Селение на этом месте, однако, стояло задолго до его рождения, и уже в 1705 году было известно петровским чиновникам как Старый Юрт. В те времена вайнахские предгорья пытались колонизировать князья Малой Кабарды, одним из которых был обосновавшийся тут в 1760 году тёзка крымских ханов Девлет-Гирей. Когда же вайнахские тейпы взяли верх над черкесской знатью, название Девлетгирейн-Эвла упростилось до Девкар-Эвла - Аул гордых отцов. Из них был, видимо, и военный переводчик Садо Мисирбиев, с которым в 1851 году подружился молодой офицер Лев Толстой. Кунаком чеченец назвал его сам, и в знак дружбы двое мужчин обменялись подарками: Садо подарил Льву шашку, что до сих пор хранится в одном из его музеев, а Толстой подарил Мисирбиеву часы, сгинувшие вместе с прочими фамильными реликвиями в революцию. Выручал кунака Садо не только на поле боя: однажды Толстой проиграл в карты огромную по тем временам сумму в 750 рублей, а Мисирбиев, прослышав об этом, отыграл те долговые расписки себе и порвал их. В 1944-м же, когда следом за вайнахами отсюда изгонялась их топонимика, в память о том, что Некто из Старо-Юрта дружил с Толстым, село переименовали в Толстово. В 1958 году вайнахи вернулись и селение стало Толстов-Юртом, и только в 1977 году получило совершенное тейповое имя Толстой-Юрт. На самом деле здешней тейп - Харачой из Ичкерии, довольно лояльный к России, судьбу которой в Перестройку вершил его уроженец Руслан Хасбулатов. И тем не менее именно в Толстое 8 марта 2005 года был убит человек, 10 годами ранее нанёсший России самое унизительное поражение, наверное, со времён Цусимы - Аслан Масхадов из ичкерийского тейпа Аллерой, в Первой войне командовавший обороной Грозного. Он же подписывал с генералом Александром Лебедем самый унизительный со времён Брест-Литовска Хасавюртский мир, но сам с этим миром не справился, упустив республику под власть ваххабитов. Нынешний Толстой-Юрт примечателен мечетью (2004), которая, как бы странно это ни звучало после Аргуна и Шали, была крупнейшей в Чечне на момент постройки.
4.

Дальше рукой подать до Терека, который здесь, по Толстому, "течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно". Выходящий из Дарьяльского ущелья в самой середине Кавказа, Терек поворачивает на восток, и по Вайнахии течёт параллельно хребтам, а потому испокон веков служил для горцев краем света. Не знаю, жили ли предки вайнахов за Тереком в свой "золотой век", когда были христианами в могущественной Алании, но вновь спустившись с гор после краха Золотой Орды, к берегам этой реки чеченцы вышли почти одновременно с казаками. Откуда казаки сюда пришли - теперь нет ответа: то ли с Дона их привёл разбойничий атаман Андрей в 1570-х, то ли с Червлёного Яра бежали они в 1520-х годах, когда Москва покорила их тыл - Рязань, а по самой романтичной версии тут осели и вовсе ушкуйники, речные пираты северных рек, ушедшие на юг в 1470-е годы с падением вольного Новгорода. Скорее всего, тут были и те, и другие, и третьи - в Сунженском, Тюменском, Терском и Андреевом городках. Россия подтянулась следом в 1567 году, основав уже вполне себе государев Терский город, но вскоре потерпела крах - вырезанная в Дагестанском походе 1605 года почти без остатка армия Ивана Бутурлина, Великая Смута в тылу, выигранная Сефевидами "по очкам" первая русско-персидская война 1651 года надолго отодвинули границу. На Гребнях казаки оказались одни, в бесконечной обороне, о которой напоминало даже само их тогдашнее расселение: не станицы, которые можно опустошить разом, а мелкие хутора в складках холмов, легко переносившиеся на новое место. Здесь гребенцам было не до церковного Раскола, а потому вплоть до советских времён оставались они староверами и бороды носили не хуже, чем у любых мусульман. На гребнях складывалась какая-то особая, альтернативная ветвь русской цивилизации, и совсем не удивлюсь, если именно отсюда пошла поговорка "с волками жить - по волчьи выть". На ярмарке в Чечен-Ауле казаки покупали у горцев коней, а горцы у казаков - тонкорунных овец и коров. Носить черкеску с газырями да шашку казаки и вайнахи учились параллельно. Горские набеги на станицы с угоном скота и похищением невест сменялись казацкими набегами на аулы, где происходило то же самое. Повздоривший с атаманом казак бежал в горы и получал усыновление в каком-нибудь тейпе, а повздоривший со старейшинами горец спускался на гребень и крестился как Иван. Доходила до того, что многие казаки входили в чеченские тейпы, в особенности Гуной, и разве что чисто русских тейпов не сложилось. "Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. (...) Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски." - писал о гребенцах Толстой. На Гребнях возник по сути дела 11-й тукхум (племя; 10-м чеченцы считают ингушей), от вайнахов отличавшийся языком и верой, но не укладом, бытом и ментальностью.
5.

И хотя любую власть гребенцы как истинные "воровские казаки" недолюбливали, в отличие от многих других казачьих вольниц, не противились ей никогда. Россия придвинулась к Тереку в 1710-х годах, в войнах Петра I с Персией и Хивой. В 1711 году было официально учреждено Гребенское казачье войско, а в 1717-м и вольница ушла в прошлое - казачий круг сменили наказные атаманы. С Гребней казаки спустились на северный берег Терека - по приказу царя, но сввполне добровольно: заречным земли остались их угодьями, перед которыми лежал теперь естественный рубеж обороны, а за спиной до самого Края Света простиралась русская земля. "Терек бурлит - казак лежит, Терек молчит - казак не спит", гласила здешняя поговорка. За рекой остались лишь самые ярые одиночки, жившие порой на деревьях, и об их непобедимости сами горцы слагали легенды. На левом берегу, меняя местоположение после очередных наводнений, выросло несколько "городков"-станиц, среди которых была и встречающая за мостом Червлёная (11 тыс. жителей) - "столица" Гребенского войска. Путешественники отмечали удивительную красоту её девушек, в которых смешивались русская, степняцкая и горянская крови:
5а.

Но гребенцы были откровенно малочислены, и превратившись в регулярной войско, они начали получать подкрепления из глубин страны. В 1722 году на Каспии было собрано из донцов и гребенцев Аграханское (не путать с Астраханским!) казачье войско, явно готовившееся стать Гилянским или Мазендеранским. Но после отказа России от экспансии в Персию аграханцы распределились вдоль Терека как Терско-Семейное и Терско-Кизлярское войска. В 1760-х годах выше по Тереку в новой крепости Моздок образовалась Моздокская горская казачья бригада из крещёных кабардинцев и осетин, служивших в основном проводничками и переводчиками. Однако пополнившись людьми с Дона и Волги, уже к 1770 году она разрослась в Моздоксий казачий полк. С 1774 году всю эту сборную солянку подчинили Астраханскому казачьему войску, а в 1786 выделили в Кавказское линейное казачье войско, охранявшее теперь предгорья от Кизляра до Азова, В 1860 году с окончанием Кавказской войны и административной реформой оно было разделено по границам новых областей на Кубанское (см. Краснодар) и Терское войска. Последнее вело старшинство с 1577 года, когда гребенцы впервые воевали под царским знаменем, а покровителем его стал Святой Варфоломей, в день которого Шамиль вышел с поднятными руками из ворот Гуниба. Староверы и старожилы гребенцы были его ядром, всех прочих казаков, не говоря уж про шаповалов ("обычных" русских) откровенно презирали, а 5 станиц меж Грозным и Кизляром остались колыбелью Терского казачества.
6.

Лихая дружба казака с вайнахом кончилась уже в 18 веке, вражда Кавказской войны продолжилась Земельным вопросом, а потому в Гражданскую войну вайнахи выбрали сторону красных - просто в пику белым казакам. В 1920 году большая часть казаков вновь, и уже совсем не добровольно, была выселена на север от Терека. В 1944, с депортацией вайнахов, в Предкавказье была создана Грозненская область, совсем не совпадавшая с Чечено-Ингушской АССР - её высокогорья отошли Грузии, Осетии и Дагестану, зато на плоскости новый регион простиралась аж до Кумы и Каспийского моря, вобрав в себя восток Ставрополья и север Дагестана. В 1958 году вайнахи возвращались сюда уже не такими, какими уезжали - после ужасов депортации и первых лютых зим они освоились в степи и даже порядком прибавили в численности. На старом месте власть всячески старалась ограничить их возвращение в горы, да ещё и часть территорий Северная Осетия ни в какую не хотела возвращать. В итоге воссозданная ЧИАССР, граница которой до депортации проходила по Тереку, унаследовала от Грозненской области входившие при царе в Кизлярский округ Терской области, а в 1930-х в Ставропольский край.Шелковской и Наурский районы с почти исключительно русским населением. И вот полвека спустя их население почти исключительно чеченское...
7.

В одной из станиц нам много рассказа седая русская женщина с выплаканными глазами. Чтобы разговорить её, мне хватило пары наводящих вопросов, и начав с дежурных фраз о том, что чеченцы разные бывают, как и любой другой народ, женщина вдруг сказала: "Не дай бог вам никогда узнать, что такое беззаконие!". Чеченцы появились в её станице в 1960-е годы, а дальше становилось их всё больше и больше, и если в её школьные годы чеченский мальчишка становился достопримечательностью класса, к началу 1990-х русские уже были меньшинством. По переписи 1989 года в Шелковском районе 37% населения составляли чеченцы, 14% - ногайцы, по 4% кумыки и аварцы, а русских был лишь 31%. Свои порядки чеченцы начали устанавливать уже тогда, но больше это касалось председателей да чиновников. Казаки же за пару поколений без войны превратились в обычных селян, привыкших к размеренной жизни и к тому, что милиция их бережёт. И вот с началом чеченской "независимости" станицы охватил спонтанный геноцид, когда русские семьи оказались одни-одинёшеньки против тейповых банд. По словам нашей собеседницы, убивали их не соседи, а именно бандиты, "оттуда, с гор" - злые, вооружённые и безнаказанные. Женщина рассказывала нам, что выходя из дома, она непрестанно повторяла молитву - потому что больше помощи ждать было неоткуда. Каждый день тех лет мог стать для неё последними, и многие друзья её сгинули навсегда, просто не вовремя выйдя из дома. У местных чеченцев с пришлыми был скорее нейтралитет: первые не заступались за русских, вторые к первым не лезли, поскольку ни те, ни другие не хотели нажить кровных врагов на свои тейпы. Русские станичники оказались безоружными людьми в окружении волков, и волки их просто сожрали. По переписи 1989 года в Чечне жило 270 тыс. русских, по переписи 2002 года - 40 тысяч, и сколько из разности этих двух чисел уехали, а сколько остались лежать - то ли не известно по сей день, то ли засекречено. Единственные оценки, озвученные Министерством по делам национальностей в 1999 году, гласили, что за время "независимости" в Чечне было захвачено около 100 тыс. домов и квартир, 21 тыс. нечеченцев убиты и 46 тыс. прошли через рабство. Всё это, само собой, при полном попустительстве правозащитников, которые, как тогда стало ясно, "готовы кого угодно защищать от русских, но русских не готовы защищать ни от кого". Но можно ли считать те жертвы не отомщёнными? Ведь в ставшей моноэтничной Чечне война убила ещё больше людей и разрушила ещё больше домов...
8.

Но сквозь эти степи она пронеслась быстро, как грозовая туча, "Грады" и "Смерчи" обрушившая на горные склоны. Выслушав десяток историй о зарезанных, застреленных, исчезнувших, изнасилованных и об уехавших с сумкой вещей, я рискнул спросить нашу собеседницу, как живётся ей тут теперь. Современность с мрачным прошлом являла заметный контраст: женщина жаловалась на безработицу и бедность, на спекулянтов, скупающих урожаи за бесценок и продающих втридорога, а между тем машина, на которой они с мужем приехали в церковь, стояла за воротами с дверьми нараспашку. Беззаконие сменилось железным порядком Рамзана Кадырова, и как я понимаю, русскому старожилу в нём даже спокойнее, чем чеченцу, которого за любую мелочь могут тряхнуть свои силовики. Но остатки русской общины продолжают таять на глазах: с работой тут плохо даже на фоне русской глубинки, уклад жизни мучительно чужой, и большая часть оставшихся русских Чечни - это старики, которых неумолимо забирает время. Пресловутое "возвращение русских" - утопия: много ли народу из других регионов переселяется в райцентры Ставрополья? Но у православных кладбищ под сенью лиственного леса опрятный и покойный вид:
9.

Тут, за Тереком, вообще многое иначе, и раны войны напоминают скорее ушибы и ссадины. Сойдя с маршрутки километрах в 70 от Грозного перед Шелковской у поворота в сторону Гудермеса, на попутной машине мы добрались в хутор (400 жителей) со странным названием Парабоч. Первым его впечатлением были старые дома из таких материалов, которые в округе Грозного ни имели ни малейших шансов уцелеть:
10.

Более того, подобных хат я даже на Кубани не припомню. Бурно отстраивается в Чечне то, что было разрушено, а в станицах за Тереком пейзаж не слишком отличается от всего Русского Юга:
11.

В 17-18 веках бок о бок с казакам на Тереке жил другой православный народ - грузины. Как они попадали сюда? Рискну предположить, это были лаи (рабы) вайнахов, бежавшие из аулов во время казачьих набегов. В станицах они были скорее батраками, избавлявшими гордых рубак от хозяйства, и даже фамилии в 18 веке получали по ближайшему казаку - как Николаевы или Андреевы. С годами терские грузины полностью обрусели, но наша собеседница возводила свою родословную именно к ним. Грузины многому научили казаков, так что дойдя сюда в 1710-е годы, петровские чиновники обнаружили, что гребенцы - единственные русские люди, которые умеют выделывать шёлк. В 1718 году армянский купец-подрядчик Сафар Васильев основал на Тереке первую в России шёлковую мануфактуру. В 1722 году она была переведена в Кизляр, а в 1735 вновь заработала на старом месте уже как частный Сарафанников завод. В нескольких верстах от фабричного пруда садовод венгерских кровей Паробучев заложил парк, сочетавший роль сырьевой базы и уютного имения. Последнее представляло собой фактически небольшой замок с крепостной стеной, единственной пушкой и казачьей группой быстрого реагирования на Ивановском посту. Внуком Сафара Васильева был Аким Хастатов, генерал русско-турецкой войн. Женой его стала Екатерина Столыпина, внучатым племянником которой приходился не абы кто, а Михаил Юрьевич Лермонтов, впервые попавший на Кавказ задолго до воинской службы - в 1818 и 1825 годах.
12.

Впрочем, гостил он тогда в Пятигорске, где у Хастатовых было основное имение, а Парабоч и Сарафанниково были такой глухоманью, что приехав сюда в 1830 году, бабушка Екатерина заразилась холерой и умерла. Старинный особняк, стоящий посреди Парабоча, впрочем, и к этому мог не иметь отношения - известно, что усадьба Хастатовых была разрушена паводком в 1885 году, а здесь жили, более вероятно, другие армянские помещики-шелкозаводчики Калустовы (Галустяны), род которых основал купец, перебравшийся в 17 веке в Астрахань из Исфахана. Но судя по архитектуре, в годы первых визитов Лермонтова на Кавказ этот особняк уже вполне мог стоять здесь. И как "домиком Петра" становится последнее уцелевшее гражданское здание соответствующей эпохи, этот дом стал музеем Лермонтова. Причём, что удивительно, то ли уже (не в советское время), то ли ещё (когда не кончилась КТО) в 2006 году:
13.

Что же до самого Лермонтова, то сюда он мог попасть скорее взрослым, когда жизнь снова привела его на Кавказ. Первая ссылка за "Смерть поэта" в 1837 году напоминала что-то среднее между "курортной" Южной ссылкой Пушкина и этнографической экспедицией, а вот в 1840 году, когда Лермонтова вновь сослали за дуэль, всё было уже по-другому. В Грозную крепость поэт попал с предписанием быть на передовой, участвовал в тяжёлом бою с горцами на речке Валерик, а дальше и вовсе примкнул к местному "спецназу ГРУ", ходившему в диверсионно-разведывательные рейды по горам и даже командовал им осенью 1840 года. Считается, что именно Лермонтовский отряд первыми из русских людей по своей воле проник в Аргунское ущелье где-то около Итум-Кали. Здесь же поэт закончил свои главные произведения, начатые между двух кавказских ссылок - "Мцыри", "Демон" и "Герой нашего времени". А потом на приёме в Пятигорске неудачно пошутил про "черкеску и замечательной величины кинжал" Николая Мартынова...
13а.
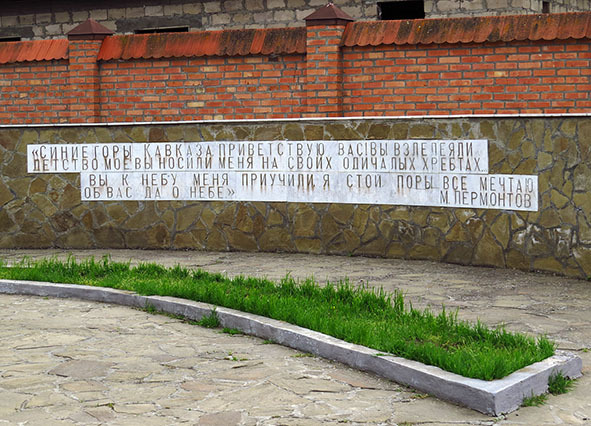
В музее встретила нас молодая и очень жизнерадостная чеченка в платке и длинном платье, которая посетовала, что работает она здесь недавно, а директор на совещание в Грозный уехала, но вот она могла бы много рассказать...
14.

В итоге девушка ходила с нами по всем комнатам, пыталась пояснить хотя бы то, что знала, и несколько раз сфотографировалась с нами - мы для музея определённо были удивительнее, чем музей для нас. Тем не менее, именно она показала нам единственный элемент интерьеров старого дома - двери. Вот эта запертая пара аутентична, а остальные сделаны по их образцу:
15.

В целом, экспозиция музея до обидного скудна и могла бы поместиться в одной комнате. Второй этаж содержит десяток вещей, которые можно хоть как-то приплести к имени Лермонтова да репродукции его картин, на первом этаже - пара этнографических залов. Чеченский не содержит в общем ничего, что я не увидел бы в Национальном музее или Донди-Юрте, однако казацкая этнография к югу от Терека не представлена вовсе нигде, а здесь воссоздана хотя бы одна комната станичной хаты:
16.

Ну а напоследок (в Чечне мы или где в конце концов?!) нас повели в подвал:
17.

Оказавшийся самой зрелищной и самой аутентичной частью старого дома, даже с остатками какого-то купеческого добра:
18.

19.

20.

И фактурными чугунными решётками, отлитыми две с лишним сотни лет назад где-нибудь на Урале:
20а.

Выйдя из музея, мы побрели в сторону Шелковской, до которой 5 километров через ещё одну станицу Шелкозаводскую. На выезде из Парабоча нас подобрал сельского вида драндулет без переднего сидения, и долговязый седой чеченец рассказывал нам о здешней жизни в 1990-х, "когда со всей России сюда бандиты ехали". В голосе его слышалось едва заметное чувство вины, которое никогда не будет признано вслух - жертвы тех трагедий, о которым нам рассказывала русская женщина, могли быть и ему знакомы. Нынешняя Шелковская - обычный в общем чеченский райцентр (13 тыс. жителей) с закрытыми на Рамадан кафешками и парой башен автостанции, где можно сделать пересадку на Кизляр:
21.

За автостанцией раскинулся пруд шелковой фабрики, превращённый молвой в озеро на Шёлковом пути:
22.

За прудом высится огромная вокзалоподобная мечеть имени Хусейна Канташева (2013), названная в честь брата Аймании Кадыровой, вдовы бывшего и матери нынешнего атаманов Чечни:
23.

При всей необычности архитектуры, это типовой проект - ещё я видел такие мечети в Алхан-Юрте на окраине Грозного (фото есть здесь) и показанном в прошлой части Серноводске:
24.

Куда более необычна для Чечни церковь Святой Варвары (2016-18), также построенная на деньги Фонда Кадыровых:
25.

Своими глазами, помимо неё, я видел восстановленный из руин храм Михаила Архангела в Грозном. В целом же в Чечне десяток церквей - в основном в воинских частях и в станицах за Тереком, а к югу от Терека в Ассиновской (1859) чудом уцелел исторический храм, в 1990-х переживший множество погромов. Остальные были разрушены ещё при Советах - в Шелковской, например, в 1937 году.
26.

На убранство церкви Фонд Кадыровых средств не пожалел, но прихожан тут редко бывает больше пары десятков:
27.

В целом, русских в станице по переписи 2002 года было 13% населения, по переписи 2010 - 9%, а сейчас, скорее всего, процентов 5. Самым русским населённым пунктом Чечни пока остаётся соседний райцентр Наурская, где в 2002 славяне составляли четверть населения. Кладбище в паре сотен метров от храма ухоженное, и на нём много новых могил:
28.

Вокруг кипит жизнь:
29.

Оля вступила в диалог с роскошным индюком, который периодически ей ещё и отвечал. Я же до этой поездки знал про розовых чаек в Якутии, а вот про розовых куриц - нет:
30.

Одну из улиц украшает пара заглушек с нефтяных скважин:
31.

Ближе к выезду на Грозный - огромная новая школа в духе хай-тека:
32.

Где-то здесь мы свернули с главной улицы проведать местный вокзал:
33.

Линия вдоль левобережья Терека от Прохладного до Кизляра была построена в 1915 году с ответвлением из Червлёной-Узловой на Гудермес, где она соединилась с более старой (1893) линией из Беслана через Грозный. Та была разрушена во время войн, и её западный участок от Грозного до Сунжи так и не восстановили. Грозненский поезд, однако, сворачивает в Червлёной-Узловой (а пассажиры и вовсе пересаживаются на маршрутки в "обычной" Червлёной), а отсюда до Кизляра пассажирского движения нет: магистралью эта линия перестала быть в 1994 после регулярных ограблений поездов, а недавно восстановленный маршрут Грозный-Волгоград отменили из-за ковида.
34.

Придя на станцию, я готовился к задержанию, досмотру и куче глупых вопросов, но на перроне на нас вообще никто не обратил внимание, а внутри добродушный начальник вокзала охотно ответил на всеи мои вопросы. Здание вокзала - подлинное времён строительства линии, но зачем-то обшитое "туалетной" плиткой в 1983 году:
34а.

Рядом пара путейских домов...
35.

...и печального вида водонапорная башня:
36.

Станцию, однако, мы осмотрели на обратном пути, а приехав в Шелковскую из Парабоча, тут же пошли к башням автовокзала, где как раз оставалась пара мест на маршрутке в Кизляр. Ещё 20 километрами дальше в его сторону стоит Старогладовская (2,9 тыс. жителей), одна из 5 исходных станиц Гребенского войска, на нынешнем месте основанная в 1735 году. И считанные годы спустя ставшая "старой" - Новогладковской до 1908 года называлась станица Гребенская:
37.

Ещё более удалённая от разрушенных войной районов, она ещё больше похожа на привычный русский юг:
38.

С обилием саманных и турлучных построек:
39.

Русских тут уже к 2010 году оставалась дюжина - меньше, чем ногайцев, кумыков и татар. Да и название Старогладовская, ставшее официальным в 2008 году - это чеченское произношение изначального Старогладковская.
40.

Длинная улица за мечетью ведёт через всю станицу. Вот среди домов показывается школа имени Льва Толстого - основанная в 1913-14 годах местными казаками и первая в России с таким посвящением. Здание - как будто бы деревянное тех же лет, но общитое сайдингом, а во дворе три памятника - Толстой у крыльца, Воин-Освободитель спиной к улице и Ильич, сброшенный с постамента:
41.

Толстой приехал сюда в 1851 году по приглашению брата Николая - Казанский университет Лёвушка бросил, а значит (хоть и не призывом) в армию пошёл. Направили его на 4-ю батарею 20-й артиллерийской бригады, базировавшийся здесь, а на постой определили к Алексею Сехину. Наверное, это им были навеяны слова "Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защитить его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него угнетателя солдата". Вскоре Толстой съехал к соседу, старому казаку Епифану Сехину, у которого братец отсудил сад. Нетрудно догадаться, что именно Епишка превратился в Ерошку: "отчётом" о станичной жизни Толстого стала повесть "Казаки". Куда менее очевидно, что своё первое законченное произведение "Детство" он тоже начал писать в Старогладковской. Всё это, конечно же, знали украинцы Иван и Надежда Радченко, приехавшие сюда в 1959 году как учителя. К 1965 году Радченки собрали в школе имени Толстого экспозицию, состоявшую в основном из предметов казачьего быта окрестных станиц, буквально на глазах менявшихся по национальному составу. В 1981 году школьный музей был утверждён официально как филиал краедедческого музея ЧИАССР, а в 1984 экспозиция была порядком расширена с помощью московского музея Толстого и Ясной Поляны. Затем Иван Радченко умер, а Надежда вернулась на Украину, и в 1985 году музей возглавил Хусейн Загибов - вполне себе чеченец, но такой же ценитель Толстого, тем более бородатого писателя тут многие почитают за крипточеченца. В итоге музей пережил смуту, в 2008 Хусейна сменил его сын Салавди Загибов, а в 2009 году возвлеи современное здание у памятника (1977), присланного из столиц:
42.

На входе нас вновь встретила молодая чеченка, и точно так же посетовала, что директор на совещании в Грозном - кажется, туда созвали всех музейный директоров Чечни. Посещение обоих музеев, кстати, бесплатное, но здесь экспозиция явно новее и больше, чем в Парабоче:
43.
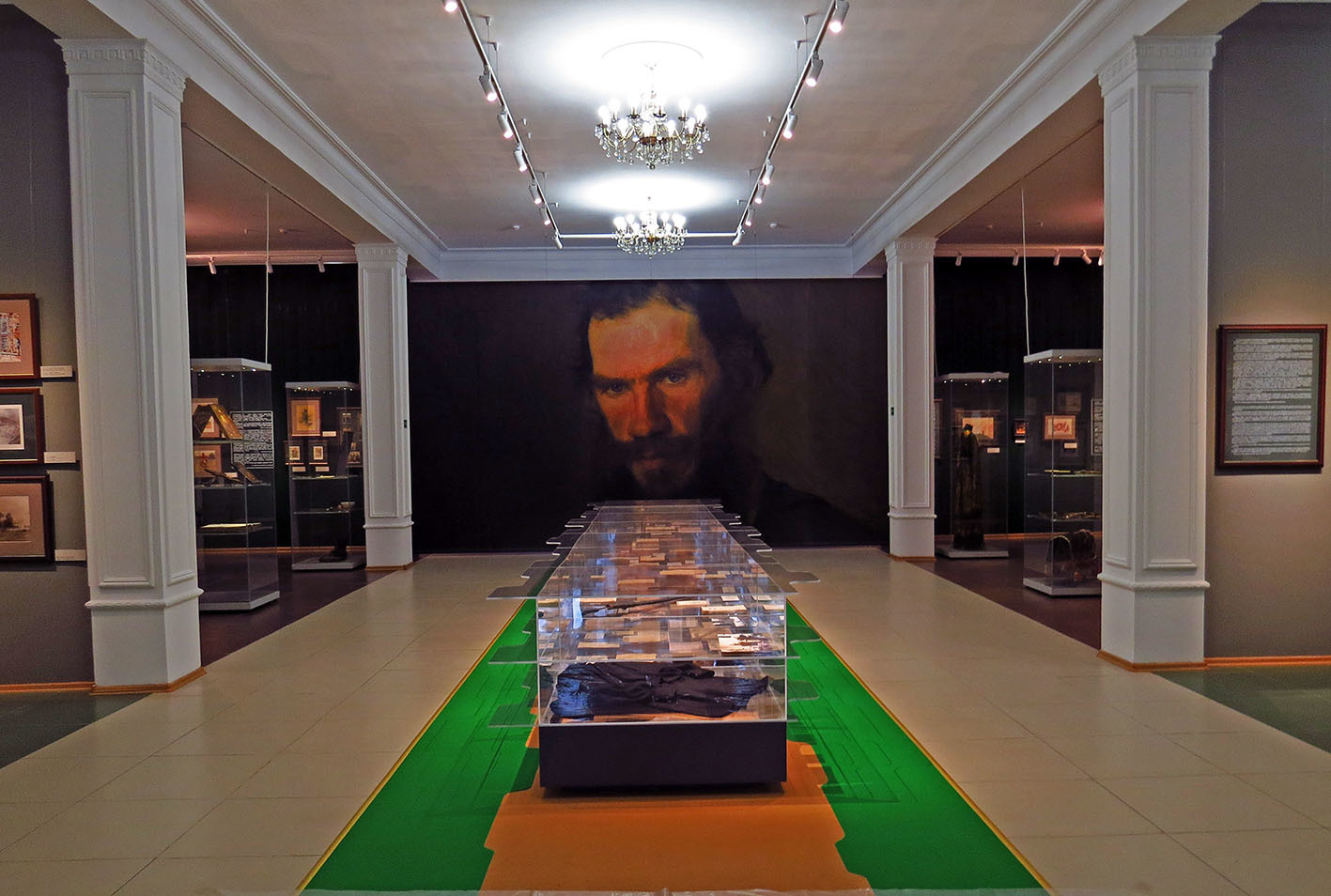
Музей состоит из одного зала, разделённого на 4 секции. Левые рассказывают о казаках, правые - о чеченцах. Этнографии тут явно больше, чем литературы (представленной изданиями и сканами рукописей по центру), но авторы экспозиции нашли красивый выход - каждая секция служит как бы иллюстрацией к соответствующему произведению: "Казакам", "Рубке леса" и "Набегу", "Кавказскому пленнику" и "Хаджи-Мураду".
44.

А вот о том, что Кунта-хаджи Кишиев, странствующий проповедник времён Кавказской войны, учивший жестокий народ в жестокое время не противиться злу насилием, повлиял на Толстого и через него на всю философию пацифизма, здесь, кажется, нет
44а.
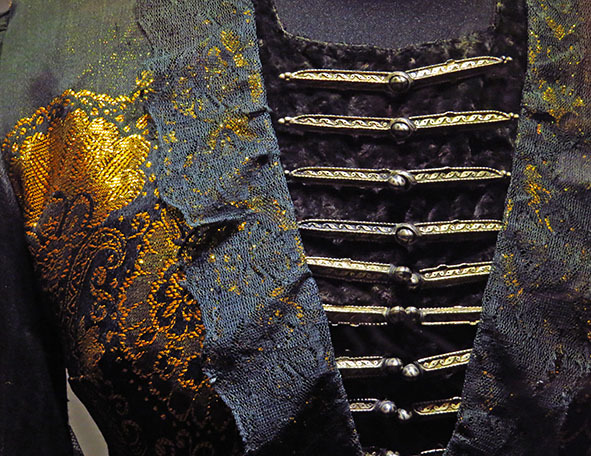
Казачья экспозиция же чуть ли не единственная в Чечне. "Станица богатая, говорят по-русски, по-старинному, и очень хорошо; думают по-своему. Едят тоже по-своему. В праздник готовят свинину и осетров, пекут пироги с начинкой из винограда и свинины; вино пьют ведрами. В будни едят вареную простоквашу и караваи из запеченной просяной каши. В праздник носят шелка и платье с галунами, водят хороводы и бьют в бубны из сазановой кожи. В будни одеваются просто, но и в будни носят богатое оружие. (...) Женщины покрывают голову канаусовыми чепцами, сверху повязывают шелковый платок – стягаш с загибом посередине. Зимой надевают казачки шубы на беличьем или кошачьем меху с атласным верхом, с оторочкой из выдры. На ноги надевают шерстяные чулки – синие в красными стрелками. Все добро по весеннему времени сейчас проветривается на плетнях". (с) Виктор Шкловский, "Лев Толстой".
45.

Витрину продолжает этнографический дворик с парой казачьих хат, символизирующих видимо двор Епишки Сехина - слева зимняя, справа летняя:
46.

В отличие от "чеченских скансенов" Хоя или Герменчука, не говоря уж про Донди-Юрт, вид у здешних интерьеров очевидно музейный - там чеченцы воссоздавали дома своих дедов, тут - мир, расказаченный в несколько приёмов:
47.

На прошлом и следующем кадрах - зимняя хата:
48.

На следующих двух - летняя, но в общем по этим интерьерам хорошо видно, что здесь были "Все сыты, спокойны, горды".
49.

50.

Рядом - банька да сарай:
51.

Со всяким скарбом, которому было бы тесно в музейных залах. А прилетел бы и сюда шальной снаряд - так наследия казацкого в Чечне было бы уже не наскрести на новую экспозицию.
52.

Здесь же - странная инсталляция из нескольких надгробий с вязью. Кладбища на Кавказе - это своеобразные вехи, маркеры принадлежности земли, так что смысл её понятен: века борьбы двух лихих народов за плоскость окончились безусловной победой чеченцев.
52а.

Но вместе с тем угнетатели, вроде Алексея Ермолова с его просеками к глухим аулам или Сталина с его депортациями, сняли чеченцев с гор. Ещё сотня лет - и законы гор тоже уйдут в прошлое, а тейпы смешаются и станут достоянием этнографии. И как бы ни были привычны война и набеги, а мирная жизнь всё же лучше. Замиряли Чечню не раз, но только этого было мало - революция, депортация, перестройка помешали вайнахам освоиться в мирной жизни. Более того, Чеченская война стала эхом депортации, злость за которую была одной из главных причин форсированного сепаратизма. Как и теперешняя стабильность - эхо стабильных позднесоветских времён, память о которых жива у нынешних аксакалов. Чеченцы по сей день остаются самым заметным и выбивающимся из рамок народом России, и среди них есть те, кто мечтают о реванше и независимости, да только понимают, что у войны был бы тот же финал. Но и среди русских тех, кто хотел бы увидеть Третью войну до полного изгнания противника, побольше, чем всех чеченцев вместе взятых. Чеченцы помнят, как им на головы падали кассетные бомбы, а их родичи пропадали в фильтрационных лагеря. Русские помнят, как резали станичников, держали работяг в рабстве и присылали бизнесменам конверты с отрезанными пальцами похищенных детей. Всё это было давно, но всё это не имеет срока давности. Пожар войны потух, но угольки его тлеют, и как погасить их - это и есть Чеченский вопрос. Мой ответ на него скучный: быстрых решений здесь нет. Задача России сейчас - любой ценой не допустить в Чечне новых войн и распространения идей, которые могут их вызвать. В первую очередь ваххабизма, против которого и сделана ставка на суфийский ислам. Если хотя бы одно поколенье чечнцев от рождения до старости не увидят войны у себя на пороге - следующее поколение не будет отличаться от прочих народов России вроде калмыков или татар.
53.

С Чечнёй на этом всё. А на очереди - Ингушетия, тоже весьма непростой регион.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: Зона заражения Кавказ дорожное Молох казаки транспорт этнография деревянное |
Урус-Мартан и Серноводск. Проснувшийся в Армагеддоне. |
|
Метки: Зона заражения Кавказ казаки скансен дорожное этнография курортное |
Шарой и Химой. Глубины гор. |

Шаройский район в Чечне не назвать даже самым глухим - в соседнем Чеберлойском районе, где озеро Кезеной-Ам, живёт пара сотен человек, а Галанчожский район так и вовсе без единого жителя. Но те и существуют только на бумаге, а вот Шаройский район - вполне реальная высокогорная глушь с 3-тысячным населением, куда даже война дошла лишь на излёте. Его центр - пара древних аулов Шарой и Химой (по 350 жителей) в верховьях Шаро-Аргуна. Который не стоит путать с Чанты-Аргуном, чьё гигантское, наполненное древностями и памятью о войнах ущелье я показывал в прошлой части.
Два Аргуна текут сквозь Чёрные горы параллельно, и лишь по выходе на плоскость у Дуба-Юрта сливаются в единый Аргун, близ устья которого стоит одноимённый город. Аргунское ущелье из новостей 1990-2000-х - именно вдоль Чанты-Аргуна. Однако низовья Шаро-Аргуна в землях тейпа Вашдорой, судя по всему, представляют собой неприступный каньон: любой путь на Шаро-Аргун тоже проходит вдоль Чанты-Аргуна. Долины двух рек соединяет пара дорог: нижняя из Шатоя и верхняя из Итум-Кали. Вторая особенно интересна - она является самой высокогорной в Чечне, проходя через перевалы Дурзуме (2323м), Чантыборз (2071) и Джеиндаре (2332м). Какой из дорог лучше ехать - мне толком никто не смог объяснить: у подавляющего большинства чеченцев ни разу в жизни не возникнет причин ехать в Шарой. Водители советовали мне через раз то одну дорогу, то другую, а навигатор стабильно отправлял по верхней. Не было в моём распоряжении и ставшего привычным бусика "Неизвестной России" с чернобородым Магой за рулём, зато была верная Оля с перьями в шляпе. И стартовав из Грозного в 7 утра, мы рассчитывали Нижней дорогой подняться в Шарой, а Верхней - вернуться обратно, по пути осмотрев на Чанты-Аргуне Нихалой с его водопадом и колоритные Тазбичи.
2.

Коллективным такси от Минутки мы доехали до Шатоя (до Шароя же транспорта просто нет!), который я показывал уже в прошлой части - это крупное село (3,1 тыс. жителей) в 60 километров от Грозного, заложенное в 1858 как русская крепость, остатки которой ещё стоят на его главной площади. Водитель, высадив нас у начала дороги к Шарою (автостоп в Чечне вполне понимают), предложил подарить мне кроссовки - мои за время поездки развалились окончательно, а у него в багажнике лежала новенькая пара. И наверное таки подарил бы несмотря на все мои возражения, если бы сложив подошву к подошве, мы не поняли, что они мне малы. И вот стояли мы над автовокзалом в овраге, откуда периодически подтягивались жучки с предложением отвезти нас в Шарой за жалкие 1500 рублей. Мы спроваживали их, надеясь на попутку, и минут через 20 рядом притормозила видавшая виды машина с парой подтянутых мужиков крепкой советской закалки. Звали их Али и Адам, были они электриками (причём судя по всему высококлассными, так как парой недель ранее вернулись из командировки в арктический Диксон), и из своего Наурского района за Тереком ехали на родину предков - починять проводку какому-то дальнему родичу близ Шароя. Туристов подвезти им было даже в радость, и не веря своей удаче, мы покинули Шатой. Долины двух Аргунов здесь разделяет даже не перевал, а пологая и обжитая перемычка:
3.

На кадре выше - одинокая башня (14 метров) между сёлами Сатти и Юкерч-Келой, и по кладке её можно заметить, что не аутентичен в ней только верхний этаж. Левее башни виднеется каменный пень - это памятник жертвам депортации 1944 года, установленный ещё в Перестройку. Следующий же "куст деревень" Асламбек-Шерипово вошёл в историю как вотчина Последнего Абрека - Хасухи Магомадова, который родился в 1905 году на хуторе Беной-Шатоский, а в 1939 году после убийства односельчанина ушлё в леса и вскоре примкнул к отряду Хасана Исраилова. Последний был всего лишь журналист, внезапно обнаруживший, что в Советском Союзе тоже есть коррупционеры, а Сталина на них как-то нет. Зато нашёлся Сталин на того, кто их разоблачал, и Исраилов угодил под арест с перспективой оказаться контрреволюционером. Вскоре, однако, разоблачённые им руководитель ЧИАССР и начальник её МВД сами на чём-то подставились, но получив реабилитацию, Исраилов, в отличие от большинства жертв репрессий, понимал, что это ненадолго, и в 1940 году бежал в леса. Там, под псевдонимом Хасан Терлоев (см. прошлую часть) он провозгласил Особую партию Кавказских братьев, вскоре ставшей Национал-социалистической партией Северного Кавказа - к лету 1942 года фашист стоял в предгорьях... Договариваться с немцами отправился целый Абдурахман Автурханов - журналист и писатель, знаменитый как в довоенной Чечени, так и среди диссидентов в послевоенные годы. Откровенно говоря, в партии Терлоева состояло дай бог пара десятков чеченцев, но просто злых абреков по горам ходило множество, фашисты ещё и подкидывали к ним диверсантов - и в общем в 1944 году всё это стало поводом для депортации вайнахов. Хасуха Магомадов, однако, отпал от НСПСК чуть раньше, вернувшись к тому, с чего начинал - роли абрека-одиночки. Так, скрываясь по лесам, он то ли воевал, то ли разбойничал, и совершить успел 194 нападения, лично убив не менее 30 человек. Выследили его лишь 28 марта 1976 года - глубокого измождённого старика, и по чеченскому преданию, застали Хасуху милиционеры за рытьём могилы, в которую он со дня на день собирался лечь сам. Дальше завязалась перестрелка, и как пересказывали мне местные, в последнем бою последний абрек положил десятерых. Достоверно же он прихватил с собой лишь одного дружинника Саид-Селима Чабдарханова. Вместо схрона золотое дно, где Хасуха якобы прятал награбленное, милиционеры обнаружили лишь арсенал из ТТ, мосинки, пары гранат и горы патронов, а согласно преданиям - ещё коврик для намаза и Коран. Последний абрек Кавказа скрывался чуть дольше, чем сдавшийся в 1972 году японский солдат Сёити Ёкои с острова Гуам, но куда как меньше, чем литовец Стасис Гуйга, последний из "лесных братьев" Прибалтики, умерший своей смертью в 1986-м году.
4.

Но откровенно говоря, думать про всё это нам тут не хотелось. Закадычные друзья Али и Адам ехали весело, завалили нас шутками-прибаутками и забавными байками, среди которых была и целая история о похищении невесты - матери одного из них. На спуске в долину Шаро-Аргуна мы остановились - на валу у обочины сидели на корточках двое полицейских, короткий диалог по-чеченски дополнившие красноречивым скрещиванием рук - "нельзя!". Али и Адам знали, что дорога в Шарой сейчас реконструируется и её закрывают с утра до вечера. Они надеялись проскочить до закрытия, но - не успели. Полицейские, впрочем, тоже вошли в положение, и в итоге пропустили нас - договаривайтесь, дескать, со строителями.
5.

За очередным поворотом мы увидели целую колонну самосвалов с вскинутыми к небу кузовами, предпоследний из которых как раз вываливал чёрную массу на полотно. Строители тоже отнеслись к нам с пониманием, и пообещали пропустить, как только в работах появится какое-то окно. Посовещавшись, Али и Адам предложили нам с Ольгой пока что пройтись пешком по ущелью, а они нас подхватят через час-полтора.
6.

По ущелью над ревущим потоком мы и побрели. За кручами и теснинами нашлась миниатюрная и неожиданно симпатичная мечеть, из чеченской таблички на которой я понял только даты "1910-1989".
7.

7а

Ещё одна по соседству впечатлила своей простотой. Но какая в сущности разница, из профлиста построена мечеть или из средиземноморского мрамора, если глядит она в сторону Мекки?
8.

Простейшая мечеть стоит напротив родника с неописуемо вкусной водой:
9.

Да водопадом вида "плачущие скалы":
10.

За фотографированием которого нас и застали Али и Адам - ожидание заняло дай бог полчаса, а ушли мы от силы на полкилометра.
11.

Зато дальше неслись по свежей чёрной дороги с ветерком. Там, где теснина снова расширяется в широкую котловину, одиноко стоит село Дай (570 жителей):
12.

Примечательное Дайским водопадом, к которому, наверное, ведёт вот этот мостик. Так и не понял, тождественен ли он высочайшему в Чечне (54м) Нохчи-Келойскому водопаду, получившему название по соседнему селу Нохчи-Келой.
13.

Дай - край земли для шатойцев, и за ним ещё на пару десятков километров вдоль дороги стискивается ущелье и смыкается глушь. Отвесные скалы, прямо под которыми порой подныривает бурный Шаро-Аргун, тянутся вдоль дороги узким коридором:
14.

И лишь толстенная газовая труба извивается вдоль дороги, напоминая о том, что дорога ведёт к людским домам:
15.

Но вот за очередным поворотом показался блокпост, где бородачи в форме очень вежливо нас проверили, а мои паспортные данные записали в тетрадку, несколько раз пояснив, что это для нашей же безопасности. Шарой, как и шатой или терлой - это ещё один из 9 чеченских тукхумов (племён), в некоторых источниках фигурирующий как просто большой тейп. Среди чеченских наречий шаройский диалект считается одиним из самых архаичных в произношении (наряду с соседним чеберлоевским) и явно самым в заимствованиях, которых тут попросту не было вплоть до русизмов советских времён. На пару с Чеберлоем Шарой был и последним оплотом язычества, где ислам насаждался огнём и мечом в эпоху Шамиля. Память у горцев долгая, в особенности на чужое зло, а потому ни в одну из войн русская армия не встречала здесь серьёзного сопротивления. Да и в самом сердце гор шаройцы были надежно защищены от кабардинцев, кумыков, хевсуров или казаков, зато находились в окружении других тейпов, сквозь земли которых пролегали путь их набегов. С соседями-горцами Шарой воевал чаще, чем с кем-либо другим, а стало быть шаройцы одними из первых начали свою глушь покидать - их тейпы встречаются не только в чеченских предгорьях, но и в Аккинской земле в устье Терека, где чеченская "колония" уже в 1570-х годах просилась в русское подданство. Однако и "независимость" Шароя в 1990-х была самой долгой: Первая кампания сюда по сути просто не дошла, увязнув в ущельях близ Шатоя, а во Вторую кампанию взятие Шароя ближе к лету значило конец активной фазы войны.
16.

Но ещё страннее то, что Шаройский район с его 3 тысячами жителей - единственный в Чечне, где титульная нация не составляет большинства. За воротами с кадра выше налево уходит дорога в аул Кенхи с 1,5-тысячным населением - крупнейший во всей Горной Чечне. Дело в том, что в нём живут аварцы-чамалалы, которых, в отличие от чеченцев, никто не гнал штыками и прикладами в 1944 году. Они и составляют 55% жителей Шаройского района, и Кенхи, говорят, по своему облику типичный дагестанский аул с каменными домами на крутом склоне, где двором служит крыша живущего чуть пониже соседа. Более того, кенхиевцы оказались последними жителями Чечни, чей горский уклад не ломался через колено, а потому в наше время они слывут в республике лучшими каменщиками, и даже новодельные башенки по всей республике строить зовут в основном их. Впрочем, старинные башни Кавказа тоже обычно дагестанцы или грузины - самим вайнахам было не до того, у них вот-вот караван уйдёт из зоны досягаемости набегов... Ну а для путешественников Кенхи - это terra incognita: дагестанские аулы смотреть логичнее в Дагестане, и даже забравшись в глубь Шароя, за аркой с кадра выше путник неизменно берёт вправо:
17.

С Али и Адамом мы промчались сквозь Химой - в прошлом культовый, а ныне районный центр Шароя. Здесь осталось множество руин жилых башен, среди которых восстановлены единственная боевая башня да мечеть:
18.

За околицей - классическое горское кладбище из безымянных грубых плит в бурьяне: мёртвых родичей, как и живых, горцу полагалась знать в лицо.
19.

За кладбищем уходит вдаль огромная долины тщедушной речки Цесиахк:
20.

А дорога вдоль Аргуна стремительно набирает высоту по склону ущелья. Али и Адам ехали в село Хакмадой на другой стороне долины:
21.

Но от поворота всё-таки подняли нас по серпантинам в Шарой, приветственно вскидывающий гигантскую ладонь с пятёркой каменных пальцев:
22.

Когда-то это был огромный каменный аул, расползавшийся по склонам. Выселенный в 1944 году, вместе со всем районом Шарой отошёл Дагестану, в котором носил странное название Ватутин-Аул. Но аварцы и даргинцы сюда ехали не то чтобы очень охотно, а в 1958 году и вовсе поспешили уйти восвояси. Однако большинство былых хозяев не вернулись в свои старые дома: принято считать, что и после депортации у вайнахов сохранился негласный запрет жить выше 1000 над уровнем моря. Другие, впрочем, возражают, что всё это антисоветский вымысел дудаевских времён, а на холодные скудные кручи возвращаться вайнахам было попросту не нужно - они и так много веков мечтали заселить плоскость, а Казахстан научил уцелевших жизни в степи. В общем, то ли запрета правда не было, то ли негласность его оставляла возможности договориться, а в горы чеченцы всё-таки возвращались - но дай бог один из десяти. На смену каменным аулам с их узкими улочками пришли россыпи хуторов - в пешей досягаемости друг от друга, но даже не соприкасающихся дворами:
23.

Первым впечатлением Шароя стал ветер - столь сильный, что шляпу я предпочёл убрать в карман, но при этом неожиданно мягкий и тёплый: местные считают, что он дует из Грузии. Мы поднялись к здоровенному каменному дому с деревянным верхом, где и окликнула нас шедшая навстречу женщина. Звали её Халисат, для русских попросту Алиса, и первым делом она зазвала нас в дом, находившийся в состоянии интенсивного ремонта. Каменный этаж, купленный сотню лет назад дедом Алисы, представлял собой склад материалов и инструментом, а на верхнем этаже среди пахучих деревянных стен вся мебель сводилась к лежанкам да напольным скатертям. Оля отметила, что все инструменты здесь на аккумуляторах, и это не случайно - за ту пару часов, что Халисат поила нас чаем, в селе несколько раз пропадал и снова загорался свет. Халисат же вся изизвинялась, что не ждала гостей и потому не приготовила ничего мясного, а мы раз за разом говорили ей, что не голодны. К напольной скатерти она выставила "азерчай" в пакетиках, лепёшку, конфеты, сметану и открыла нам банку самодельного варенья из горных ягод. Ну а мы понимали, что это не формальное восточное гостеприимство, а искренняя радость далёким гостям, забравшимся в эту глушь. Рассказать нам Халисат успела много - как всяких горских преданий, так и о своей семье, живущей на плоскости и совсем недавно взявшейся отстраивать отчий дом в горах. Но больше всего мне запомнился её рассказ о том, как кончилась Чеченская война...
24.

Чеченцам, как заметила Халисат, трудно живётся от того, что между собой договориться не могут. И с началом лихих времён одни разъехались по России и Казахстану, другие ушли по горам в Грузию, Турцию или Азербайджан, третьи рванули в Европу искать политического убежища. Среди оставшихся в Чечне, однако, точно так же не было единства - кто-то с оружием в руках боролся за независимость в надеждах на помощь Запада, кто-то отпустил бороду и подался в ваххабизм, кто-то просто бандитствовал, ну а многие - пригнули головы и ждали, когда Россия положит всему этому конец. Из последних была и сама Халисат, и хотя родственники её переждали смуту в Волгограде, сама она всю войну провела здесь. Шарой не раз бомбили самолёты, но самые жаркие бои кипели где-то внизу. С приближением армии "пираты" (как Алиса называла боевиков) разбежались по горным щелям. Военные, не зная этого, встали на другой стороне долины да начали разворачивать орудия и реактивные огнемёты. И вот сельские женщины, среди которых была Халисат, сделали из простыней белые флаги да пошли за долину пешей колонной - уговаривать военных не стрелять, так как в селе остались только женщины, старики и дети. Не знаю точно, как смогли они убедить военных, что это не засада - но военные спустились в Шарой и уже в его черте заняли господствующие высоты. Дальше была долгая зачистка, когда солдаты переворачивали вверх дном каждый дом, и Халисат хорошо запомнила какого-то срочника с раскосыми глазами, который было поднял на неё руку, но одёрнул его молодой русский офицер Николай... В тот момент она поняла, что это не чеченцы воюют с русскими, а одни люди - с другими людьми. "Пираты" же продолжали свои вылазки с территории Грузии, и ещё долго горное эхо доносило до Шароя взрывы гранат и стрельбу. Когда и они стихли, снизу приехали солдатские матери, и Халисат лично водила их по ущелью туда, где лежали трое убитых солдат. Одна из женщин узнала своего сына, обнимала его как живого, называла по имени - Олежек, а горянка плакала вместе с ней... Но всё же цинично напомню, что весь этот абзац написан со слов одной женщины, да и то по памяти, а как можно было убедиться ещё по посту про Беслан, с фактами воспоминания очевидцев стыкуются далеко не всегда. Однако - передают ощущение: не столько о событиях говорила нам Халисат, сколько о том, что для любого нормального человека война - это ужасы, горе и грязь, и "грозные чеченцы" тут отнюдь не исключение.
25.

У Алисы за чаем хотелось посидеть подольше, но я понял, что этак придётся оставаться здесь ночевать, а у меня на каждый день пути были расписаны планы. Попрощавшись, мы пошли к Шаройской крепости, чтобы осмотреть её да ловить попутку в сторону Итум-Кали.
26а.

Если Химой был селение-храм, то Шарой представлял собой селение-крепость. Изначально Семибашенный замок был не центром аула, а самим аулом - конгломератом жилых и боевых башен, проходы между которыми перекрывали стены. Как и всюду в вайнахских горах, никто не знает, когда эти башни были построены, но скорее всего - в 13-15 столетиях, когда Чингисхан, ханы Золотой Орды и хромой Тимур отняли у вайнахов равнину. Тогда все шаройцы были одним тейпом, но позже в свой тейп выросла каждая семья - из клана Шарой стал племенем (тукхумом), а жители башен разбрелись по окрестным склонам, где основали новые селения - Хакмадой, Шикарой, Жогалдой и другие. Семибашенная крепость пришла в запустение, и к началу ХХ века в ней остались всего 2 боевые башни, одна из которых была разрушена российской авиацией в 1995 году. Ещё раньше, в 1944, было взорвано большинство жилых башен. Шарой встречал эффектными руинами, но в 2019 году Рамзан сказал местным жителям "надо!", а местные жители ответили - "есть!": за пару лет Семибашенная крепость была полностью воссоздана.
26.

Уцелевшую башню, которая на кадре выше стоит слева, подлатали и того раньше - из всего комплекса пока только она открыта, и на самый её верх можно взойти:
27.

Полюбуемся округой по часовой стрелке - каждый следующий вид правее предыдущего. И для начала посмотрим назад - по долине слева мы приехали, по склону под ногами - пришли. Далёкая гора с "молнией" белого сая нависает над Химоем, но от него как будто так же далека:
28.

На другой стороне ущелья висит Хакмадой, по сути хутор из пары домиков среди руин аула, где в это время обедали чем-то мясным и горячим Али и Адам, готовые починять дальнему родичу проводку. Вот так причудлив был путь их рода, 1200 лет назад жившего в неизвестных горах, 1000 лет назад - на равнинах Алании, 700 лет назад - в одной из башен Шаройской крепости, 300 лет назад - в аулах на другой стороне ущелья, 60 лет назад - в неприютном Казахстане, а последние полвека - в Наурском районе, потеснив былых хозяев-казаков.
29.

С другой стороны - сам Шарой и блестящая дорога на Итум-Кали, над которой скребёт облака то ли высшая точка Чечни Тебулосмта (4493м), то ли массивная Диклосмта (4285) в водоразделе двух Аргунов. За поворотом долины же скрывается Шикарой - самый высокогорный и труднодоступный аул всей Чечни (1884м), где сохранились десятки полуразрушенных жилых башен. Ну а странная разреженность хуторов - просто от того, что чеченцы селились не где попало, а на развалинах отчих домов, и по населению ужавшись в десять раз, аул теперь разбросан по той же площади:
30.

Сама крепость в суровом горном пейзаже зрелищна несмотря на всю очевидную новодельность:
31.

За дальними башнями - старое кладбище, напоминающее о давней истории и былом размахе Шароя. Именно на кладбищенский холм встали военные после похода селянок через ущелье:
32.

С кладбища, хотя он прекрасно виден с башни, мне лучше всего удался вид на Хиндой - аул с руинами башен и новой мечетью, висящий прямо над Шароем. По прямой до него меньше километра, а сколько фактически идти или ехать - я даже представить боюсь:
33.

Мы спустились на единственную улицу крепости:
34.

Да быстро поняли, что мы в ней не одни - коробки стен уже построены, но внутри все эти здания остаются бытовками и подсобками для целой артели работяг при поддержке трактора:
35.

Куда интереснее панорам тут детали - где-то 1/4 кладки всех этих башен подлинная, а значит каждый камень у их оснований могут украшать петроглифы. Вот эти - на старинной мечети, среди башен не выделяющейся более ничем:
35а.
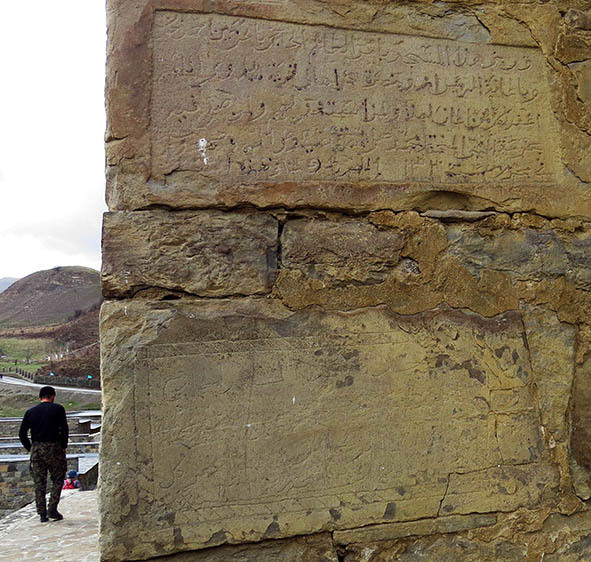
Но чаще петроглифы - это языческие обереги и родовые фосты (тамги) из доисламской эпохи. Самый частый образ - спираль, символизирующая движущееся Солнце:
36а.

Искать их по-настоящему трудно - скажем, вот на этих воротах я только при написании поста сумел разглядеть крест, а сколько интересного и вовсе не заметил...
36.

Издали Семибашенная крепость напоминает корабль:
37.

Вид её с каждой точки неповторим:
38.

Шарой нашего времени:
39.

Шарой 10-летней давности:
39а. фото
 serge_novikov.
serge_novikov.
Шарой сто лет назад:
39б.
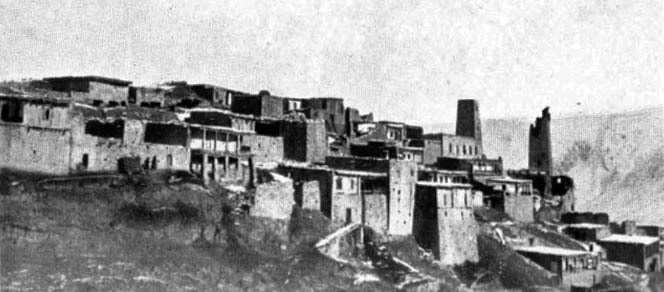
Погуляв по крепости, я сходил на кладбище с донельзя вайнахскими по архитектуре новыми воротами и мечетью:
40.

С суровыми горскими стелами соседствуют резные раскрашенные чурты, совсем как на легкомысленной плоскости:
41.

На этих видны даты смерти - 1985 год:
42.

Между тем, Халисат мы пообещали, что если не сможем уехать - останемся у неё ночевать. На рассуждения о перспективах добраться в Итум-Кали она отвечала как-то очень уклончиво, да и в самой дороге намётанный глаз видел пустоту - если и уезжала в ту сторону машина, вскоре она неизменной показывалась в другом витке серпантина в черте села. У ворот крепости, однако, было заметно оживление, легковушки и газельки то приезжали, то уезжали - Семь башен явно аврально готовились кого-то принимать. Мы спрашивали в машинах, не едет ли кто в Итум-Кали, и пару раз нам отвечали, что нет - все собирались в Химой, Шатой или "в Город". Наконец, молодой прораб честно и без страха обидеть гостей сказал, что в Итум-Кали мы не уедем - в середине апреля на перевалах ещё не сошёл снег, и самая высокогорная дорога Чечни останется закрытой ещё как минимум месяц. Снежные заносы на перевалах мне, при взгляде на окрестные вершины, показались маловероятными, а вот какая-нибудь лавино- и обвалоопасность - вполне. Словом, мой план замкнуть кольцо явно терпел неудачу, а тут подвернулась машина с работягами до Химоя...
43.

Приехав в Химой, однако, работяги сразу завезли нас на задний двор администрации, посоветовав поговорить с её главой Рамазаном Магомадовым - тот, дескать, сегодня собирается в Грозный на совещание, может и нас с собой возьмёт. Глава администрации курировал сожжение отслужившего своё баннера - крепко сбитый седеющий дядька, ничем особо не выделявшийся среди своих подопечных. Мои дежурные фразы "я блоггер", "пишу путеводитель" его никак не заинтересовали, а вот слова о том, что нам в Город надо и мы поэтому беспокоим его, встретили полное понимание: Рамазан Назирович действительно туда собирался, и сказал подходить к воротами администрации через полтора часа.
44.

Химой оказался совсем не похож на Шарой, и я бы даже сказал - это анти-Шарой, выгнутый в противоположном направлении. Административные постройки Шаройского района представляют собой целый квартал, своей цветастостью здорово контрастирующей с серым камнем башен и неприступными склонами гор:
45.

С другой стороны улицы, на бугре - Дом культуры:
46.

И когда спросили мы у прохожего дорогу к мечети, тот сперва завёл нас в ДК - это оказался заведующий. Комнату у входа занимает миниатюрный краеведческий музей:
47.

Представленный в основном картинами, фотографиями древностей, шкурами да рогами горной фауны, но в основном - вещами из окрестных сёл:
48.

Особенно красив один из кувшинов:
48а.

От музея рукой подать до старого центра села у одинокой боевой башни и мечети:
49.

Башня - очевидный новодел, а вот на стене мечети дата "1332", то есть по-нашему календарю "1914":
49а.

Её минарет стоит над михрабом, а вход - с другой стороны, с тропки к боевой башне. Но едва ли не самое интересное, что есть в Химое - это скверик у минарета, а вернее - стоящий посреди него менгир. В доисламские времена он был одновременно алтарём и стрелкой огромных солнечных часов, служивших главным святилищем шаройцев.
50.

За менгиром виден воинский памятник с вайнахской башней и эпитафией, сравнимой с нынешним населением Химоя.
50а.

Камни циферблата же, возможно, лежат у дверей самого верхнего дома на ведущей в гору улице:
51.

Вдоль неё - множество руин жилых башен:
52.

Которые сплетаются с жилыми домами - в отличие от Шароя, столь же небольшой Химой - компактное и плотное селение:
53.

И повсюду - петроглифы, самых интересных из которых я ещё и не увидел: встречаются тут и солярные круги, и воздетые ладони, и свастики. Больше их показано вот в этом посте
 serge_novikov. Мне зато попался камень с явно древними наскальными рисунками, в которых вайнахи увидели что-то своё да вложили его в основание башни:
serge_novikov. Мне зато попался камень с явно древними наскальными рисунками, в которых вайнахи увидели что-то своё да вложили его в основание башни:54.

...Вернувшись в означенное время в Административный городок, мы поняли, что даже в районе с 3 тысячами жителей глава не ездит без кортежа, который и снаряжался теперь на площади. Первым уехал джип с тремя дюжими бородочами в камуфляже, который вела, внезапно, худенькая девушка с тонкими черта лица, и кажется, даже без головного убора. Рамазан Назирович же решил не ехать, отправив вместо себя то ли профильного чиновника, то ли зама. Им оказался дядька в пышной меховой шапке, напоминающий карикатурный типаж директора магазина из старого советского кино. Вниз он погнал со страшной скоростью, на повороте у газовой трубы чуть не столкнувшись с невесть откуда взявшейся встречной машиной - Оля всю дорогу отчаянно хотела уговорить меня сойти, но я... я просто уснул и просыпался на секунды лишь от рывков и резких поворотов. Что на Чанты-Аргуне, что на Шаро-Аргуне вниз я ехал совершенно обессиленным, так что даже просто среагировать фотоаппаратом на мелькнувшую мимо скалу или башню оказывалось невыполнимой задачей. Кажется, так эти горы воздействуют на чужака, а своим, напротив, придают новые силы.
Ну а добрая Халисат не забыла вечером позвонить Оле и узнать, нормально ли мы добрались.
54.

В следующих двух частях вернёмся в предгорья, чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей Чечни - Донди-Юрт.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: замки-крепости Зона заражения Кавказ природа дорожное этнография |
Аргунское ущелье. "Открывайте, ангела, в небеса ворота...". |

Крупнейшее в Чечне, если не на всём Кавказе, Аргунское ущелье уходит на две сотни километров до самой Грузии сквозь лесистые Чёрные горы. В отличие от Ичкерии, бывшей мостом с гор на плоскость, здесь испокон веков находился "затеряный мир" девственного горского уклада, соваться в который не рискнул сам Чингисхан. В лабиринте аргунских долин живёт 5 из 9 чеченских тукхумов (племён) и десятки тейпов, не входящих ни в один тукхум. От некогда богатейшего культурного наследия, - тысяч башен, сотен замков, десятков некрополей, - в почти непрерывной войне уцелела малая часть, но и эта малая часть впечатляет. А война, как и всюду в Чечне, закончилась даже в этих горах, и вернувшись в Грозный с показанного в прошлой части горного озера Кезеной-Ам, на следующий день мы отправились сюда - вновь с "Неизвестной Россией" в её классическом туре по Чечне.
Название Чёрные горы хорошо понятно при взгляде с Чеченской равнины - в мутном воздухе над городами и сёлами не разглядеть белых вершин Кавказа, а вот Лесистый хребет стоит бесконечной стеной. Пролом в этой стене служит всечеченским михрабом - Аргунское ущелье направлено в сторону Мекки:
2.

К михрабу этому ведёт первоклассная дорога, сворачивающая перед самым подножьем. Вечером на повороте мы стояли, пропуская кортеж Размана Кадырова, но думается, в редком российском регионе людей можно удивить тем, что лучшая дорога ведёт к губернаторской даче. Слева от дороги остаются знакомый по прошлым постам Чечен-Аул и знакомые по новстям Старые и Новые Атаги, Дуба-Юрт и Чири-Юрт, а ещё - сооружения огромного завода:
3.

Это последний индустриальный гигант Чечни - в прошлом ЧИЦЗ, ныне ЧЮЦЗ: первые буквы значат Чечено-Ингушский и Чири-Юртской соответственно, ну а последние - цементный завод. Основанный в 1974 году, в 1995 году он превратился в крепость боевиков перед входом в ущелье и был разрушен практически до основания. То же самое во Вторую Чеченскую произошло с нефтезаводами Грозного, вот только своя нефть в Чечне почти иссякла, а сибирское и волжское сырьё можно перерабатывать и где-то в другом месте. Совсем иное дело - цементный завод в республике, где нужно было отстраивать буквально каждый дом: к 2007 "Чеченцемент" был построен заново, и до сих остаётся пор в собственности республики (читай - семьи Кадыровых): готовить его к приватизации начали только в 2016 году, когда важнейшие стройки остались позади.
3а.

С заводом-восстановителем перекликаются пики над могилами боевиков, погибших на войне с Россией. В аргунской стороне кладбища похожи на леса после пожаров:
4.

Дорога втягивается в горы постепенно, и как-то совершенно незаметно минует слияние Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна. Вдоль второго мы ездили позже и автостопом, а пока что наша дорога - на Чанты-Аргун:
5.

И если Аргунское ущелье - крепость, то здесь были её главные ворота. Выше устья долина Чанты-Аргуна резко сжимается, я бы даже сказал, стискивается, и вид густых лесов на отвесных обрывах пугает. 16 апреля 1996 года сквозь эту теснину из Ханкалы (русской базы на окраине Грозного) в Шатой двигалась огромная, растянувшаяся на пару километров колонна 245-го мотострелкового полка. В одночасье головной танк у села Ярышмарды подорвался на радиоуправляемом фугасе, а замыкающий был подожжён шквальным огнём на мосту. Засевшие на подготовленных позициях боевики под началом Хаттаба (см. пост про Ичкерию) начали методично расстреливать оказавшихся в ловушке солдат. Прицельным огнём они пробивали топливные баки танков, и растекавшийся огненными потоками керосин охватывал грузовики с боеприпасами, обломки которых разлетались на десятки метров. Солдаты отстреливались почти вслепую, а по горам так же почти наугад работали дальнобойные пушки и вертолёты. Но 4-часовой бой закончился лишь с наступлением темноты, и Хаттаб со товарищи растворились в лесу так же внезапно, как появились оттуда. Колонна потеряла 96 человек из 200 (причём лишь 13 остались невредимыми) и 21 боевую машину. В лесах наутро нашлось 7 убитых чеченцев из окрестных сёл - но были ли это боевики (немалую часть которых составляли арабы) или попавшие под массированный огонь местные жители - осталось загадкой. Главную потерю Ичкерия понесла несколько дней спустя: удар из-за угла сорвал переговоры Бориса Ельцина с Джохаром Дудаевым об окончании войны, и уже 21 апреля красавец Дуки "неудачно поговорил по телефону" с олигархом Константином Боровым, словив по голове ракету с самолёта.
6.

Вторая Чеченская война тоже отметилась боем у этих ворот - но только у села Улус-Керт на Шаро-Аргуне, в 5 километрах отсюда, за ближайшей горой на безымянной Высоте-776. Там "захотел Хаттаб десант сбросить с перевала": 28 февраля 2000 года, после недели тяжелейших боёв и жестоких обстрелов, российская армия заняла Шатой, считавшийся последним крупным оплотом противника. Молодой Владимир Путин, у которого на носу были первые выборы, возвестил, что война закончилась, а цену этим словам солдаты 6-й роты псковских десантников узнали через 4 часа. Взяв Шатой, военные разворошили осиное гнездо: прорвавшись из окружения, Руслан Гелаев со товарищи ушли на запад в сторону Урус-Мартана, а названные братья-ваххабиты Шамиль Басаев и Хаттаб - на восток, в Ичкерию, к родному Ведено. С хаттабовцами и столкнулась Шестая рота так неудачно и внезапно, будто кто-то в руководстве специально послал её под огонь. Ну а дальше было:
Открывайте, ангелА, к вам Шестая рота
Караулом навсегда в грозовых воротах...
В двухдневном бою растянувшаяся по ущелью рота держала оборону против 25-кратно (!) превосходящих сил. Держала при огневой поддержке дальнобойных орудий, но - почти без подкреплений, не считая 15 бойцов 4-й роты во главе с Александром Доставаловым, кинувшимся сюда без приказа. И конечно, полегла почти вся, включая командиров Сергея Молодова и Марка Евтюхина - из 90 десантников выжило только 6. Но за каждого из них хаттабовцы заплатили несколькими своими - по данным Минобороны, в том бою погибли от 300 до 700 боевиков. Шестую роту, по сути дела, предали, но её безнадёжный бой стал, пожалуй, последней героической легендой о Русском Солдате, о которой слагали песни и снимали кино. На высоте 776 близ Улус-Керта в 2017 году в присутствии Рамзана Кадырова поставили каменный крест - редчайший в Чечне памятник нашим солдатам.
7.

Но если для нас эти ущелья - место трагических битв, то для чеченцев - древняя земля, на своём веку повидавшая немало. Тот же Улус-Керт стоит на месте древнего аула Зарзак, и если мы прозвали нохчи чеченцами по торжищу в Чечен-Ауле, то грузины прозвали их дзурдзуками по каким-то забытым контактам именно в этом селе. То, впрочем, тоже на Шаро-Аргуне, а вот на Чанты-Аргуне между сёл Яныш-Марды и Зоны встречает роскошный родник:
8.

Из чужого поста про этот родник я знал, что давним горским обычаем были "встречи у колодцев" между парнем и девушкой, приходившими по воду в назначенное время якобы невзначай. Конечно же, горцы не были бы горцами, если бы эта вольность тоже не была строго зарегулирована: издали за девушкой приглядывала сестра, а за парнем брат, показывавшиеся на глаза влюблённым, если надо намекнуть, что пора бы и честь знать. Ну а сама идея "встречи у колодца" (в наших реалиях - магазина) очень даже пригодилась мне бредовой весной 2020 года, когда выход из дома сделали по пропускам...
9.

Ещё немного - и встречает блокпост, с которого прекрасно видна одинокая башня. И в отличие от большинства разрушенных и воссозданных башен, из 23 метров её высоты 21 метр - подлинный:
10.

Красиво расположившись на холме за текстильной фабрикой, она отмечает въезд в районное село Шатой (2,5 тыс. жителей) в 60 километрах от Грозного:
11.

Сам же холм высится на другом берегу реки, а башни когда-то стояли на нём парой - в той, что уцелела, 4 этажа, а вторая 6-этажная башня рухнула где-то на рубеже 1920-30-х годах, неясно точно, при каких обстоятельствах. Башня - всё, что осталось от села Хаккой, "столицы" Шатойского тукхума. Среди 9 чеченских племён шатоевцы не выделяются какими-то яркими чертами ментальности, культуры или языка, и тем не менее как жители ворот великой горной крепости, место в истории себе обеспечили. Несколько десятилетий они не пускали Россию в свой мир, но затем - сами открыли ей ворота: как Шамиль II и Хаттаб быстро превратились для чеченцев из защитников от русской оккупации в арабских оккупантов, так и Шамиль I со своими фанатичными мюридами и алчными наибами был для многих тейпов оккупантом из Дагестана. Ещё в 17-18 веках чеченцы сбросили власть кабардинских князей, а в 1850-х взялись и за аварского имама. И именно аварцы летом 1858 года опустошили Хаккой...
11а.
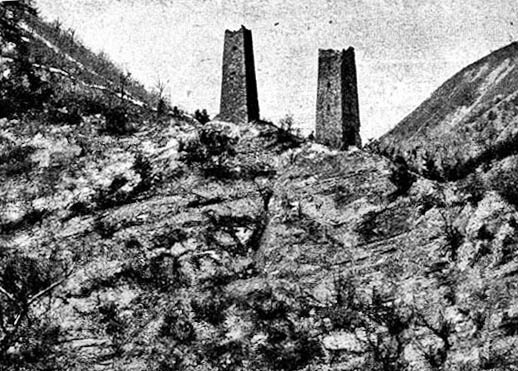
...подавляя восстание аргунских тукхумов Шатой и Чантий против Северо-Кавказского имамата. Чем не замедлил воспользоваться планомерно теснивший горцев на плоскости генерал Николай Евдокимов. Стремительно поднявшись вдоль Аргуна, 9 августа 1858 года и заложил напротив развалин Хаккоя русскую крепость Шатой - так чужаки впервые смогли закрепиться в Аргунском ущелье.
12а.
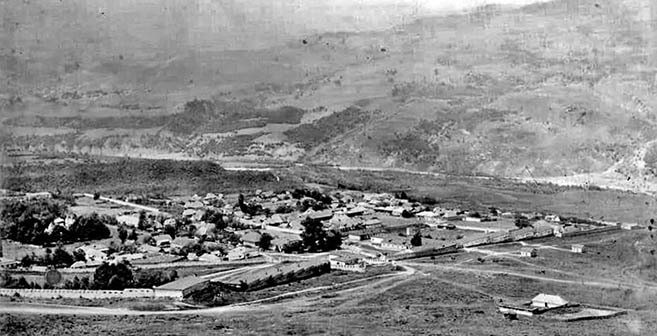
Здесь жило около 50 русских семей, а гарнизон регулярно отбивал мятежи и абречьи набеги. Чеченским Шатой стал в Гражданскую войну, когда служил базой "красных горцев" Асланбека Шерипова и Николая Гикало, но от крепости уцелела стена вдоль главной площади:
12.

В 1944 году Шатой был переименован в Советское, и отменить такое название власти решились лишь в 1989 году. В Первую кампанию он был взят российской армией лишь 12 июня 1995 года и так остался передним краем наступления, не продвинувшегося выше по горам. Зато для Второй кампании недельный штурм Шатоя 22-28 февраля значил перелом в войне за горы.
13.

Последнее совсем не мудрено: Шатой стоит в развилке дорог на Итум-Кали (по Чанты-Аргуну) и Шарой (перепрыгивающей на Шаро-Аргун), и даже мы проехали их обе. Сегодня сворачиваем направо, вдоль Чанты-Аргуна, в сторону белеющих вершин:
14.

Но какую бы дорогу вы ни выбрали, за Шатоем таинственный мир Аргунского ущелья полностью вступает в свои права. Буквально парой километров дальше стоит селение Нихалой, скалы близ которого примечательны целым каскадом из 12 Нихалоевских водопадов от 2 до 30 метров высотой.
15.

В наш маршрут они, увы, не входили (всего не успеть - перед Аргунским ущельем мы заезжали ещё и в Урус-Мартан), да и с трассы их не увидеть. Зато я приметил кое-что поинтереснее - скальную башню из одной стены, укреплённую пещеру прямо в отвесном обрыве. Прежде подобные башни были не редкостью в Кавказских горах, но сохранились из них единицы - мне известна разве что азербайджанская Пери-Кала. Да и здесь по разнице кладки видно, что это на 4/5 новодел:
16.

Осталась в стороне и прекрасно сохранившаяся жилая башня над небольшим водопадиком в бывшем селении Тумсой, и живые аулы с названиями вроде Башен-Кале или Борзой. За Нихалоем как-то очень резко кончились отбойники и асфальт, и теперь бусик ехал, поднимая белёсую пыль, по такому узкому карнизу, что из бокового окна порой была не видна обочина:
17.

Мы встали у скалы над тесниной, и у меня в голове вдруг промелькнула фотография какого-то военкора: синеватые зимние сумерки, заснеженный лес на горах и бесконечная серо-зелёная колонна брони, уходящая по краю обрыва за повороты. Под фото был чей-то комментарий: "где-то в той колонне - я". Снова нагуглить ту фотографию мне не удалось, но не могу отделаться от ощущения, что фоном её были вот эти вот самые горы:
18.

Под которыми хлещет в теснине вода, и в воде этой явно нашёл свою гибель не один сорвавшийся в погоне джигит, попавший в засаду солдат или пленник, выбравший смерть вместо рабства.
19.

Как следует повглядывавшись в бездну, продолжаем путь. С каждым километром мир вокруг становится всё более затерянным, и на кладбищах вместо раскрашенных чуртов с вязью и узорами встречают голые камни - могилы предков горец был обязан знать "в лицо":
20.

Красивых мест в ущелье слишком много, чтобы на каждом делать остановку, а потому не обессудьте, что часть кадров - через покрывшееся пылью стекло:
21.

Если бы не бесконечная война, этот тур мог бы растянуться на несколько дней - в своём "дорусском" виде Аргунское ущелье было своеобразным Старым городом вайнахской стороны. К 1858 году здесь насчитывалось порядка 4000 каменных старых построек, в первую очередь башен, укреплённых домов и кладбищенских склепов. Но уцелело дай бог 5-10%.
21а.

В 12 километрах от Шатоя ущелье сжимается в узкий коридор:
22.

В котором на ничего не подозревающего туриста сначала выпрыгивают какие-то мостики да верёвки высоко над дорогой, затем - вывеска "Фермерские продукты" над закрытой пыльной дверью, и наконец то, вокруг чего всё это понаросло - Ушкалойские башни, давно ставшие одними из символов Чечни:
23.

Как и в Нихалое, это древний тип скальных укреплений - там три стены слагали скалы и лишь одна была обращена во внешний мир, а тут наоборот. Считается, что башни были построены в 11-12 веках, и служили чем-то вроде блокпоста или таможни. Расположение беспроигрышно - с берега не подойти, ревущий поток не осилить, а подвесной мост в случае опасности рубится парой ударов сабли.
24.

Аутентичена из башен-близнецов лишь одна - другую взорвали в 1944-м. Есть даже мнение, что и её и вовсе не было никогда, и парочкой их сделали, чтобы красивее было. Как бы то ни было, восстановили башни качественно - где реплика, где подлинник я так и не определил бы "на глаз".
24а.

Отдельно впечатляют эти башни своей недостижимостью - мост к ним навести было бы нетрудно, но его отсутствие лишь подчёркивает неприступность. Мосты висят чуть ниже по течению, у ресторана над грохочущей рекой:
25.

Железный для машин и стеклянный для пешеходов:
26.

А заодно ещё и вот такой, по сути дела никуда и не ведущий. Вход на него стоит 500 рублей, а о цене выхода я решил не спрашивать.
27.

За рестораном есть ещё одна тропинка в боковое ущелье - но она упирается в табличку "Вход только для постояльцев!". Не имея ни малейшего желания спорить с чеченцами, я пошёл назад.
28.

Вряд ли в этой щели есть что-то красивее форели, ходившей кругами в пруду:
28а.

За Ушкалойской тесниной ущелье вновь расширяется, и на пологих склонах вдоль дороги стоят десятки аулов. Сам Ушкалой примечателен внушительным каменным домом на круче, который очень любят знатоки вайнахского зодчества - по сути своей это жилая башня, сплющившаяся до двухэтажного дома с террасой: уже не гала, но ещё не сакля.
29.

Ушкалойский блокпост отмечал границу двух тукхумов - ниже жили шатойцы, а в этой долине - чантийцы, родословную свою возводящие к цанарам - древним горцам Кахетии, которые были схожи с вайнахами по образу жизни и, видимо, по языку. В истории цанары громче всего заявили о себе в 852 году, остановив на Аланских воротах 120-тысячное арабское войско. Ну а кто они и откуда пришли - гипотезы одна другой чуднее. Самая романтическая гласит, что цанары - ни кто иные, как наири, строители и хозяева империи Урарту, с её падением бежавшие якобы на Большой Кавказ. Вайнахские и урартские языки и правда ближайшая родня, вот только степень их родства примерно как между русским и древнеперсидский. Но давнюю историю иметь хочется всем, тем более в Передней Азии, а потому местные национал-романтики считают Урарту чеченской или даже конкретно чантийской империей. И если так, то следующей столицей Урарту после Тушпы, Русахинили и Тайшебани можно считать районное село Итум-Кали (1,3 тыс. жителей) в 85 километрах от Грозного:
30.

Да и речка, впадающая здесь в Аргун, носит подозрительное название Халди-Хойэрк (у русских старожилов - Хатерка) словно в честь урартийского бога. Близ её устья с незапамятных времён стояли аулы Шулкаг и Пхакоч, со временем и сросшиеся в Итум-Кали. Кем был Итум, основавший "кали" (крепость), теперь, кажется, и аксакалы не упомнят, но легенда гласит, что добрым знаком для джигита стала ласточка, которая за ночь свила гнездо прямо на его мече. Четвёртым элементом нынешнего селения стало Евдокимовское укрепление, основанное на другом берегу Чанты-Аргуна в том же 1858 году как самый дальним русский форпост в чеченских долинах. И видимо об этом множестве истоков напоминает национальный состав: по переписи 2010 года чеченцы тут составляли лишь 65% населения, а остальное - русские да дагестанцы.
31.

Русская крепость тут не сохранилась, а вот замок Пхакоч в устье Халди-Хойэрка стоит. В нём есть жилая башня в 10 метров и 4 этажа, несколько хозпостроек, включая водяную мельницу, мечеть да боевая башня, на кадре ниже оставшаяся за спиной. Всё это примерно на 2/3 и подлинное, а в старой кладке даже можно разглядеть несколько камней с петроглифами (вблизи, увы, ни один не заснял). Новодельные части же, включая мечеть, появились в 2011 году, когда в замке разместился краеведческий музей имени Хусейна Исаева. Последний был не краеведом или учёным, а политиком из тех чеченцев, что никогда не переходили на сторону сепаратистов. В 2003 году Хусейн Абубакарович стал главой правительства республики, а 9 мая 2004 года погиб от взрыва на грозненском стадионе вместе с Ахматом Кадыровым. И конечно, в родном селе чтим не меньше него.
32.

В Итум-Кали мы заезжали мельком, но судя по чужим фотографиям, в музее я бы вряд ли нашёл для себя что-то новое. Пхакоч стоит на правом берегу Аргуна, дорога уходит вверх по левому, но открывается с неё впечатляющая перспектива долины Халди-Хойэрка, по которой уходит на Шарой по 2-километровым перевалам высочайшая дорога Чечни. Вдали просматривается и первое по ней селение Тазбичи, которому, вероятно, обязан своим именем разбойник Казбич, лучшим другом которого был конь Карагёз. Лермонтов с 1840 году служил в Грозной крепости, и более того, радостно воспользовался царским предписанием держать его на передовой. Ведь в крепости был свой спецназ, команда отчаянных ребят, свои дозы адреналина получавших в рейдах к далёким аулам. Туда и записался Михаил Юрьевич, и поэт-позёр-романтик стал идеальным вдохновителем совсем уж диких авантюр: возможно, именно Лермонтовский отряд был первыми русскими людьми, попавшим в Аргунское ущелье по своей воле. Ну а Тазбичи по сути даже не село, а огромный массив хуторов, скопления которых носят собственные названия Дёре, Эткали и Хаскала. В каждом из них уцелели боевые 20-метровые башни с петроглифами на стенах, причём в Дёре их две, а в Эткали сохранилась ещё и архаичного вида мечеть, минарет которой то ли был изначально башней, то ли строился по её образцу. Увы, я так и не смог туда добраться, в своё время
 serge_novikov рассказал про Тазбичи аж в двух частях.
serge_novikov рассказал про Тазбичи аж в двух частях.33.

А вот, кажется, соседнее ущелье, ведущее в Ведучи. Новодельная башня украшает горнолыжный курорт, строившийся в 2013-18 годах на деньги чеченского олигарха Руслана Байсарова. По изначальному плану должно было получиться нечто грандиозное на грани био-тека с длиннейшей в мире канатной дорогой прямо от Итум-Кали. Ну а в итоге.... Наш гид Ксения рассказывала эту историю так: после нескольких лет стройки и торжественного открытия ВНЕЗАПНО выяснилось, что трассу проложили на солнечном склоне, где снег бывает пару месяцев в году. Теперь её собираются то ли переносить на другой склон, то ли оснащать искусственным снегом, ну а пока этого не сделали - на Ведучи хорошо и пустынно.
34.

За Итум-Кали дорога упирается в натуральный пограничный КПП с закрытыми воротами и тщательной проверкой паспортов. На самом деле это въезд всего лишь в погранзону: для граждан России теперь туда хотя бы не требуются пропуска, однако ночной кошмар любого здешнего гида - турист, забывший в гостинице паспорт. И Ксения, и шофёр Мага предупреждали нас об этом несколько раз, и Мага отдельно оговорился, что стояли бы тут чеченцы - он бы с ними как-нибудь договорился, но стоят тут русские, от правил своих не отходящие не на шаг. Лица их обветреные, взгляды голубых глаз злые, так что даже верится, будто последние боевики ещё ходят по горам, хотя скорее всего уже ни в кого не стреляют. На ветру, укрытий от которого не предусмотрено, мы провели минут 40, ну а дальше ворота открылись и бусик "Неизвестной России" въехал в таинственный мир высокогорья - дальше до самой границы нет ни одного села:
35.

А дорогу проложили чеченцы силами русских пленных в конце 1990-х годов. Считается, что для переброски боевиков через Грузию, но этим занимались скорее Басаев с Хаттабом, не признававшие границ и увлечённые джихадом. У Аслана Масхадова же план был прагматичный: от России отгородиться мощными укрепрайонами и прорубить новое окно в мир сквозь Кавказские горы. Добейся Чечня официальной независимости - сейчас тут была бы её главная трасса, "дорога жизни" военных воспоминаний, обвалы на которой неизменно создавали бы заторы из турецких и иранских фур. Конечным пунктом дороги значился грузинский Шатили, и грузины мастерски умыли руки - на словах они горячо осуждали чеченцев (причём громче всех это делал тогда мало кому известный Мишико Саакашвили), а вот на практике сами границу не очень-то контролировали, и два недостроенных километра на той её стороне ничего не решали. К 1999 году дорога исправно работала, и даже какие-то российские автостопщики тогда сумели по ней просочиться в Чечню. Во Вторую кампанию этой дорогой уходили в Панкисской ущелье беженцы под огнём российской авиации. По ней же наступали федеральные войска: 21 декабря 1999 года на самой границе высадился с нескольких тяжёлых вертолётов внезапный десант под командованием генерала-таджики Мухриддина Ашурова. Боевики сперва не поверили таким вестям, а когда сориентировались - было поздно: десантники успели закрепиться на позициях, отбили все атаки и перешли в наступление, к 10 февраля заняв Итум-Кали. Позже Кадыровы последовательно изничтожили наследие сепаратистов, не пощадив ни "новые боевые башни" полевых командиров, ни даже памятник жертвам депортации в Грозном. Дорогу возвращать к состоянию вьючной тропы, слава богу, не стали (да и принадлежит она по факту не Кадыровым, а Погранслужбе ФСБ), так что теперь это едва ли не единственный памятник Республики Ичкерия и последний в России инфраструктурный объект, построенный подневольным трудом.
36.

Но зловещей дорога кажется и если не знать её истории. Из-за поворотов то и дело показываются русские крепости за высокими бетонными стенами, а на скалах висят едва заметные наблюдательные пункты да руины древних сёл. Здесь лежат земли следующего племени Терлой - то ли большого тейпа, то ли маленького тукхума, чьи 40 юртов стояли на левых притоках аргунских верховий. Теперь их уроженцы лишь собираются тут по праздникам, но родовую башню и могилу предков стараются помнить в лицо. Терлойской столицей был аул Никарой, где когда-то стояла крупнейшая во всём вайнахском зодчестве 6-этажная жилая башня. Начало дороги к нему отмечает сломанная башня Кирда, которую я увидел, но не успел заснять. По чужим фотографиям же меня больше всего впечатлило местечко Шунди из одинокой башни у странной острой синеватой скалы, бывшей, видимо, важной доисламской святыней. Следы язычества, впрочем, лучше искать слева от дороги и справа от Аргуна, в долине речки Майста, текущей с высочайшей чеченской горы Тебулосмта (4493м), где примечательны замок Ца-Кале над некрополем Васеркел - но до них добраться можно и вовсе лишь в пешем походе.
37.

Словом, по верховьям Аргуна можно гулять не один день, но пока из всего этого труднодоступного великолепия популярна лишь одна достопримечательность - некрополь Цой-Педе напротив погранзаставы Мешехи:
38.

Здесь в Аргун впадает речка Малхиста, вдоль которой стояли 14 аулов одноимённого, самого маленького чеченского тукхума. Но - чтимого, особенно в доисламские времена: Терлой и Малхиста вплотную прилегают к долине Нашха, откуда 20 исходных тейпов разошлись и дали начало всем прочим. Нашха была родиной воинов, а Малхиста, по вайнахским повериям лежавшая ближе всего к Солнцу, славилась мудрецами и шаманами. Её лицом был не аул или замок, а крупнейший чуть ли не на всём Кавказе некрополь на мысу в стрелке Малхисты и Аргуна. В своей глуши избежавший разорения, теперь Город Мёртвых стал, пожалуй, главной рукотворной достопримечательностью Чечни.
39.

Увидев бусик, оживились контролёры - наглые кони, с громким фырканьем окружившие группу, требуя еду. В Шатое, однако, пекут чрезвычайно вкусный хлеб, несколько буханок которого мы съели в бусике даже без бутербродов, а тем, что осталось - и оплатили проход.
40.

На Цой-Педе нет оборудованного подъёма - лишь не то чтобы крутая, но довольно изнурительная тропа:
41.

Она приводит к цепочке из 42 кашковов - родовых склепов, слагающих аул для мертвецов:
42.

Облик их предельно узнаваем - плитняковая кладка без раствора, оконце с одной стороны и стрельчатый портал с другой. Многие порталы заложены брустверами, словно склепы превратились в огневые точки боевиков, где мёртвые стояли за живыми:
43.

Это даже не метафора - первый раз заглянув в кашков, испуганно отшатываешься: внутри по колено костей!
43а.

Изначально кашков представлял собой родовой склеп, конструкция которого восходит, возможно, к древнейшему язычеству Передней Азии, вытесненному по большей части ещё не исламом, а зороастризмом. Но как и зороастрийцы, эти язычники не кремировали умерших и не закапывали их, а лишь относили в кашковы да клали на полки. С годами живые становились мёртвыми, трупы - скелетами, и кости с полок осыпались на пол, а на их место ложились новые тела. Иногда - тела ещё живые: многие дряхлеющие старики или тяжело больные горцы сами уходили сюда умирать. Среди мёртвых предков в кашковах держали советы родовые старейшины, но далеко не в каждый склеп стоит заглядывать - многие были захоронениями жертв эпидемий, и если верить пограничникам, поймать незнакомую хворь там до сих пор возможно. Ну а в жёлтом склепе с заглавного кадра хоронили старейшин не отдельных родов или тейпов, а всей Малхисты, и порой он становился средневековым Рескомом - именно в Малхисте собирался Мец-кхел, нерегулярный Совет старейшин всех вайнахских тукхумов.
44а.

Я несколько раз заглядывал в оконца склепов, и вновь и вновь встречался взглядом с черепами. На фотографирование мёртвых у меня есть личное табу, но всё же раз на десятый я обнаружил пустую гробницу:
44.

Основания мыса отмечает сиелинг - языческий алтарь:
45.

Отсюда лучший вид на заставу Мешехи и дорогу, по которой мы приехали:
46.

Ближе к окончанию мыса одиноко торчит Кашбов - Башня Кладбищ, не так давно воссозданная из руин:
47.

В отличие от боевых башен с кровлями, это дозорная башня с открытой площадкой меж четырёх зубцов. К кладбищу она имеет отношение довольно косвенное - Цой-Педе был виден из десятка висящих по горам аулов, и всем им с этой башни можно было слать сигнал.
48.

При всей новодельности облика, вход в башню отмечает петроглифы (внизу, а не вверху!). Теоретически, они встречаются и на склепах, но я ни один не нашёл:
48а.

Крутые лестницы ведут на смотровую площадку, виды с которой один другого чудней:
49а.

Впрочем, как раз острие мыса над стрелкой Малхисты и Аргуна с башни не просматривается. Более того, покидая Цой-Педе, мы вдруг заметили, что там тоже висит башня - прямо на склоне, так что сверху её не видать, а сбоку гора становится похожа на гигантского носорога. Увы, изумиться я успел, а заснять - не очень.
49.

Да и снизу к башне не подъедешь - Цой-Педе вклинивается в строгую погранзоу, где следят за туристам тщательно: двое солдатиков при автоматах не поленились сбегать на гребень, увидев, что наша группа слишком уж разбрелась. Граница с Грузией проходит то ли по ближним горам, то ли по острой вершине за ними, а под ней стоит Шатили - столица Хевсуретии. Там всё почти как в Чечне - жилые и боевые башни, черкески и кинжалы, языческие святилища (только не сиелинги, а джвари). Но только хевсуры - это грузинские античеченцы на переднем крае вайнахских набегов. И конечно же здесь был бы не Кавказ, если бы два народа не спорили, кто ученик, кто учитель. Дальше высятся 4-километровые гребни Главного Кавказского хребта - здесь он целиком уходит в Грузию, и речка Аргуни зарождается в его снегах. Граница Грузии с Чечнёй в ХХ веке смещалась неоднократно: до 1927 года Малхиста и Терлой входили в особый округ Аллаго Тионетского уезда Тифлисской губернии, а в 1944-58 годах Итум-Кали называлось Ахалхеви и вместе со всем районом входил не в Грозненскую область и даже не в Дагестан, а в Грузинскую ССР.
50.

С другой стороны кашковы толпятся на узком гребне:
51.

За горами выше по Малхисте скрывается Ингушетия, но по обе стороны тех гор лежат как бы не самые глухие места всего Кавказа. Оттуда происходят тукхумы Орстхой и Акхи - первый включает как чеченские, так и ингушские тейпы, второй ещё в 16 веке обзавёлся колонией близ устья Терека и почти весь ушёл туда. Князем Аккинским (Окоцким) был Ших-мирза, первый из чеченцев принявший в 1570-х годах русское подданство, а из орстхойского тейпа Ялхорой происходил Дудаев. С 2012 года те горы занимает удивительный Галанчожский район без единого жителя - учреждённый Кадыровым в рамках возрождения горских селений, он так и остался на бумаге: к руинам аулов по-прежнему нет дорог. А вот красот за тем хребтом хватает: например, озеро Галанчож, в легендах когда-то пришедшее из оскверённой соседней долины в образе быка и залившее село, где его пытались запрячь. Над озером нависает гора Нашахалам с Каменной аркой и Каменным войском, а вокруг стоят древние аулы - например, Моцарой, в 10-12 веках бывший центром чеченского христианства, или печально известный Хайбах, примечательный отнюдь не только мрачной, хоть и сомнительной, историей "чеченской Хатыни". Быть может, именно там красивейшие места Чечни - но пока они доступны лишь внедорожным экспедициям и пешим походам.
52.

Да и на Цой-Педе, вглядевшись в горы, понимаешь, что тут со всех сторон висят разрушенные башни:
53.

И целый мёртвый аул Коротах стоит на ближайшей горе:
54.

ХХ век всё перевернул: в Цой-Педе когда-то спускались, а не поднимались, но аулы теперь мертвы, а Город Мёртвых жив. Где-то рядом те Грозовые ворота, что открывают павшим солдатам тёртые в армаггедонах ангелаА.
55.

В следующей части отправимся в Шаройское ущелье.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
|
Метки: замки-крепости Зона заражения Кавказ природа дорожное этнография |
Чеберлой и озеро Кезеной-Ам |

Над показанной в прошлой части Ичкерией нависает Чеберлой - суровый горный край у границы Дагестана, скрывающий одну из главных достопримечательностей Чечни - крупнейшее на Кавказе озеро Кезеной-Ам. Сюда, как и в соседний аул-музей Хой, я ездил с "Неизвестной Россией" по её классическому чеченскому маршруту.
Тёплая лесистая Ичкерия, куда более изобильная, чем горы, но куда более защищённая, чем плоскость, и потому во все времена бывшая главным чеченским оплотом, расположилась в Веденском, Ножай-Юртском и Курчалойском районах. Центр её, однако - именно Ведено на речке Хулхулау, а от него рукой подать до самого верхнего в долине села Харачой, где мы закончили прошлую часть у памятника "чеченскому Робин Гуду" абреку Зелимхану. Густой лес здесь неожиданно раступается, или вернее остаётся внизу, а горы, прежде невысокие и пологие, надвигаются на путника, как грозовой фронт. И даже не сразу мы заметили, что одна из этих гор опоясана целой спиралью серпантина:
2.

Верховья Хулхулау кажутся взлётной полосой, а граница Чеберлоя и Ичкерии видна невооружённым глазам - два тукхума (племени) жили как бы с разных сторон гигантской ступеньки:
3.

Впереди вырастает башня, венчающая будто бы остров посреди реки, а на самом деле стрелку Хулхулау с безымянным ручьём:
4.

Башня, увы, новодельная: богатая на ярких личностей и влиятельные тейпы, достопримечательностями Ичкерия исключительно бедна. Русская крепость в Ведено, несколько новодельных зияртов (см. прошлую часть) да старейшая чеченская мечеть в Белгатое - вот, собственно, и всё. Но одно с другим связано неразрывно: по Ичкерии как центру чеченского сопротивления все войны прокатывались особенно жестоко, и кажется все до единой её башни пали ещё в Кавказскую войну.
5.

У башни дорога вдруг делает крутой поворот, и сидя на пассажирском сидении, опомниться не успеваешь, как оказываешься на высоте птичьего полёта. Головокружительностью своего серпантина перевал Харами заставляет вспомнить Тянь-Шань или Памир, однако история этой дороги впечатляет не меньше, чем виды. По горским преданиям, в 1840 году первый тракт здесь проложили мусульмане всего за одну ночь, связав владения Шамиля, когда тот отступил из Дагестана в Ичкерию. В 1871 году на смену вьючной Шамилевой дороге (Шемаланнекъ) пришла первая в этих горах колёсная Императорская дорога (Паччахьаннекъ), проложенная к визиту Александра II на замирённый Кавказ. Ну а в 2015 году дорога прошла капитальную реконструкцию, впервые как минимум с советской эпохи получив отбойники и асфальт:
6.

Отмахав несколько гигантских петель, мы остановились на краю обрыва - тогда я ещё не понял, что наш водитель Мага возит с собой коврик для намазов и мастерски подгадывает время молитв к самым красивым местам. Причём в данном случае это классическое "места надо знать": лишь чуть большая накатанность в "кармашке" у отбойника выдавала, что перелезть через него и выйти к краю обрыва стоит именно здесь. За первыми цветочками поздней горной весны раскинулась величественная панорама долины:
7.

Прямо под нами - Харачой: правее мечети отлично виден памятник абреку Зелимхану под тонким водопадом Девичья коса (впрочем, коса ли?) с характерной ложбиной. Вблизи я всё это показывал опять же в конце прошлой части:
8.

Левее - та самая башня на стрелке:
9.

Правее - склоны гор, исчёрканный грунтовыми дорогами как книга из подарочного издания, попавшая в руки ребёнку с фломастером. В левой половине кадра обратите внимание на далёкую башню - кажется, ей мы любовались с другой стороны из зияртов Кунта-хаджи Кишиева в прошлой части. Ну а за лесистым склоном на переднем плане скрыто Ведено - при кажущейся простоте расположения, оплот двух бородатых Шамилей запрятан в горы действительно надёжно:
10.

Выше - ещё одна очевидно новодельная башня, или даже пара из жилой и боевой башен. За ними же, обратите внимание, уже не горы, а плоскость с огромными сёлами и похожими на них городами вроде Шали, Новых и Старых Атаг или Дуба-Юрта. На эту плоскость и взирали горцы век за веком, пока ходили по ней степные орды, и её высокие травы на чёрной земле не могли не манить:
11.

Проехав ещё несколько километров, мы снова встали - с этой площадки не так хорош вид на долину, но куда больше впечатляет пейзаж ущелья под горой Чармоилам (2361м).
12.

Чернобородый Мага, наш погонщик туристов, вывел народ на мыс с отвесными обрывами. Группа разбрелась фотографироваться, так что по прошествии получаса мне начало казаться, что на озеро Кезеной-Ам мы уже не доедем, потому что и здесь хорошо.
13.

"Тут красиво. Я бы запретил воевать в красивых местах" - писал (цитирую по памяти) небезызвестный Аркадий Бабченко ещё в те стародавние времена, когда не был замечен в желаниях въехать в Москву на "Абрамсе". Однако даже в этих красотах в Чечне можно вспомнить кровавое прошлое. Ведь именно на Императорской дороге началась Вторая Чеченская война, когда названные братья-ваххабиты Абдаллах Шамиль абу-Идрис и Амир ибн аль-Хаттаб повели боевиков от дома Басаевых в Дышне-Ведено на Дагестан. Опустошённая Первой кампанией "независимая" Чечня была вовсе не единой, и если светский националист Аслан Масхадов надеялся постепенно наладить отношения с Россией и миром и отстроить страну в твёрдых границах, то отбитый ваххабит Шамиль Басаев увлёкся идеями Всемирного халифата, да и просто, кажется, сон и аппетит потерял от жажды крови. Повод эту жажду утолить ему подкинул аварец Багаутдин Кебедов, более известный в бородатых кругах как Багаутдин Мухаммад ад-Дагестани. Ещё в 1998 году он создал Исламскую шуру Дагестана, альтернативное теократическое правительство, и помня, как Ичкерия в 1840 году вдохнула новую жизнь в почти проигранное дело Шамиля, отправился за помощью в Грозный. И как при Шамиле I Чечня и Дагестан слились в Северо-Кавказский имамат, под началом Шамиля II образовался Конгресс народов Ичкерии и Дагестана. Лидеры его, конечно, вполне искренне верили, что Россия - "колосс на глиняных ногах", а дагестанцы спят и видят, как бы над ними установилась власть правоверных. Мнение же президента Масхадова они и спрашивать не стали - из Республики Ичкерия наружу, словно личинка Чужого, рвался Эмират Кавказ. И вот в первых числах августа 1999 года в горных Ботлихском и Цумандинском районах Дагестана началось восстание исламистов, а 7 августа им на помощь вот по этой вот дороге поднялась из долин Ичкерии ведомая братьями-ваххабитами Исламская международная миротворческая бригада. Война за Дагестан, состоявшая из двух исламистских операций - "Имам Гази-Магомед" в Ботлихском и "Имам Гамзат-бек" в Новолакском районах, - продлилась около двух месяцев, и Россия потеряла в ней 279 солдат и офицеров, а исламисты - порядка 2500 боевиков. Параллельно с этой войной, на её пике, по России прокатилась серия взрывов жилых домов, унёсшая ещё 307 жизней, и всё это совпало с выходом на политическую сцену Владимира Путина, 14 августа (через неделю после вторжения) назначенного премьер-министром.
14.

Но "война осталась в прошлом, сгинула в туман", и там, где когда-то ехали джипы вооружённых до зубов бармалеев, теперь ездят туристические автобусы. На высшей точке (2177м) Керкетского перевала (другое название Харами), недалеко от развилки дорог в Дагестан и на Кезеной-Ам, встречает новодельная мечеть донельзя вайнахской архитектуры. Ведь поначалу молельные залы новообращённых селений пристраивались к боевым башням, которые использовались как минареты. Несколько таких мечетей сохранилось в Аргунском ущелье, а вот возрождение этой традиции в 21 веке - особенность именно Чеберлоя:
15.

Здесь же - родник в портале с парой башен. Изначально же перевал украшал обелиск-пирамида, поставленный в 1871 году после визита государя, и не знаю точно когда снесённый.
16.

Кавказ после Памира и Тянь-Шаня вроде бы не так уж и высок - однако не менее величественен:
17.

Спуск с перевала Харами в разы короче, чем подъём, а впереди уже видна гладь озера Кезеной-Ам. Здесь, между прочим, мы ненадолго покинули Чечню - от перевала до дальнего (который слева) плёса дорога пересекает Дагестан.
18.

То ли в силу расположения на стыке разных народов, то ли из-за свойства здешней воды удивительно быстро менять цвет, у озера на высоте 1854 метра есть много имён: чеченские Кезеной-Ам и Эйзен-Ам, аварское Ретло, русские Большое Форелевое и попросту Голубое, ну а иносказательно - и вовсе Три Лепестка за характерную форму на карте:
19.

По известной легенде, Кезеноем или Эйзеном назывался стоявший здесь аул, где жили богатые, жадные, чёрствые люди, золото любившие больше, чем бога. И когда пришёл к ним странник, искавший кров, кезенойцы не захотели приводить в свой дом оборванца и даже спускали на него собак. В итоге странник переночевал у нищей вдовы на околице, а как только ушёл - невесть откуда поднялась вода и поглотила всё село, кроме её дома.
20.

На самом деле в этой легенде даже что-то есть: Кезеной-Ам - типичное естественное водохранилище: давным-давно мощный обвал запрудил речки Харсум (слева) и Кауха (справа). Они текут сюда с Андийского хребта, со стороны Дагестана, и именно вид на их стрелку без дорог и следов человека особенно чарующе красив:
21.

Кезеной-Ам - крупнейшее озеро Северного Кавказа, и всё же - крошечное: 3 километра в длину и несколько сотен метров в ширину. Зато глубина солидная - до 72 метров. Никаких речек из Кезеноя не вытекает, но озеро пресное, а стало быть вода из него просачивается вниз по трещинам. Думаю, сами эти трещины невооружённым глазом не разглядеть, но местные рассказывали, будто меченая учёными рыба позже обнаруживалась в Каспийском море. Последнее весьма сомнительно: рыба здесь представлена эндемичным видом форели. Более того, с треснувшим дном местные связывают и хорошо заметную белую "ватерлинию" - в последние годы Кезеной-Ам сильно мелеет, хотя учёные и утверждают, что это нормально и в прошлом его уровень колебался на 8-10 метров.
22.

Между тем, после пронизывающего холода на перевале здесь начало ощутимо припекать выглянувшее из-за туч ослепительное горное солнце. В группе коллективно возник вопрос, можно ли в озере купаться, и Мага сперва пустился в рассуждения, что здесь Чечня, где даже для купани вдали от посторонних глаз оголяться не принято. Но затем всё же нехотя признался, что купался он здесь давным-давно, и радости ему это не доставило - как и положено горному озеру, в Кезеное студёная вода. К концу лета на отмелях она может прогреваться до 15 градусов, но большую часть года нет и 10.
23.

Поэтому отдыхать на Кезеной-Ам принято, не касаясь воды. Впереди, со стороны Чечни, видна та самая природная плотина, а за ней ледяные вершины Бокового хребта, может быть даже высшая точка Чечни гора Тебулосмта (4493м).
24.

Там же, впереди - туркомплекс "Кезеной-Ам", возрождённый из обгоревших руин в 2012 году. В основе же это и вовсе советская спортивная база (1975), где, пользуясь отсутствием волны, тренировались олимпийские сборные по разным видам гребли.
25.

Туда и поехали мы мимо очередного родника с "вайнахским" порталом:
26.

На воротах "один и второй" представлены в обличии джигитов:
27.

Зрелищнее ворота смотрятся изнутри, в сочетании с графичной сосной на листе голого склона:
28.

Причудливые сосны украшают и территорию туркомплекса:
29.

Где затесался ещё и небольшой этнографический музей. Причём здешние сакли - очевидно "плоскостные" (то есть степные, а не горные), и думается, строился этот дворик как дополнение к Хою.
30.

Но почему-то так и не был достроен - внутри даже мебели и ковров нет, лишь голые стены и разбитые печи. Тем не менее, знакомые автостопщики рассказывали, как бесплатно ночевали прямо в этих домиках.
31.

Теперь же в одном из них готовятся обустроить музей Ноева Ковчега. Тут надо сказать, что Ной - он в исконном варианте Ноах или Нух, а стало быть нохчи - это его ни кто иные, как ноевцы. Прямым текстом называли себя при мне его потомками ингуши, чеченцы же просто обнаружили у труднодоступной горы Садой-Лам в 15 километрах отсюда занесённый землёй Ковчег. Первым нашёл его старик Марат Макажоев, которому на гору странной формы указал якобы солнечный луч, а подойдя ближе, он увидел, что отвесные скалы по краям этой горы похожи на грандиозные доски. С тех пор на Ковчеге работает экспедиция волонтёров, коими по умолчанию становится каждый попавшийся на глаза Макажоеву - тот же Мага рассказывал, что заехав как-то на Садой-Лам, тут же получил от старика лопату и орудовал ей три часа. Археологи на всё это смотрят, конечно, скептически, а гвозди, скреплявшие доски Ноева корабля, презрительно называют раковинами белемнитов. А вот министерство туризма, наверное, очень довольно и только ждёт момента попросить Рамзана проложить дорогу на Садой-Лам.
31а.
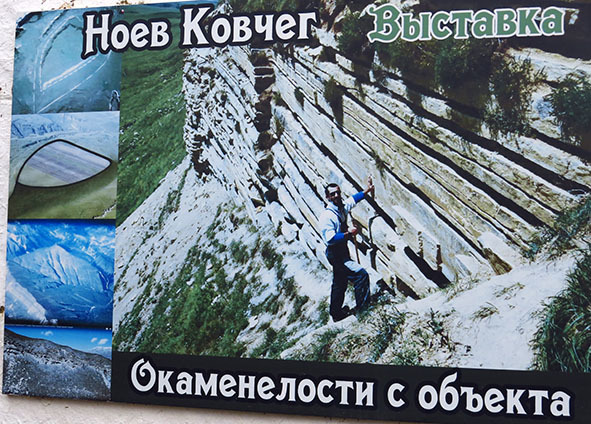
По соседству с хатками высится отель "Кезеной", по блестящим стёклам которого и не скажешь, что десяток лет назад он представлял собой лишь обгоревший остов.
32.

В ресторане туркомплекса нам накрыли стол с чеченской шурпой, кукурузными булочками и хингалашем - плоскими сладкими лепёшками с ярко-оранжевой тыквой.
33.

Затем открылась дверь и в зал вошёл чеченец с автоматом да поставил его под роскошный войлочный истанг. Здесь не просто ресторан, а ресторан-музей:
34.

Где представлены оружие, керамика, медная посуда и очаровательные светильники с кадра выше, в которых жгли грозненскую "белую нефть". С находками в витринах, видимо вывезенными из развалин окрестных юртов, соседствуют и вполне актуальные вещи - например, роскошный чеканный самовар на барной стойке:
35.

За отелем - десятки дощатых кабинок, где можно посидеть за шашлыками. Причём, как я понимаю, расчитаны они не столько на постояльцев, сколько на гостей одного дня - сложно поверить, но до Грозного отсюда 120 километров и два с половиной часа езды.
36.

А срубная мечеть в виде юрты лично для меня не менее интересна, чем гигантские мечети в Грозном, Аргуне и Шали.
36а.

У берега - целый стог из лодок, ещё не вышедших по весне в озёрные воды:
37.

И лодочные виды спорта тут по-прежнему актуальны:
37а.

Вот только сами берега в отступившей воде неприглядны. Да и вода не так уж и прозрачна:
38.

Лучший вид на Кезеной-Ам открывается не от туркомплекса, а от тех столиков и шезлонгов у дороги:
39.

"На Кезеное были?" - у чеченцев вопрос из базового набора для гостя, и если не были - следует долгий монолог о том, как там красиво, а если были - то такого монолога ждут от вас. Сейчас это, пожалуй, главная достопримечательность республики за пределами Грозного. Что и немудрено - в отличие от башен и замков, эту красоту не повредить ни бочкой с порохом, ни ракетой "воздух - земля".
40.

Ну а мы продолжаем путь: от Кезеной-Ам всего несколько километров до Хоя, и вот бусик "Неизвестной России" взбирается на древний обвал. С другой стороны начинаются грандиозные виды на долину Ансалты, и ковчег Марата Макажоева лежит где-то на дальнем плато. За ним видны высокие горы, с которых стекают притоки Аргуна, ну а ещё дальше, уже вне поля зрения, притаилась Нашха - маленькая труднодоступная долина, где, по преданиям, зарыт котёл с названиями 20 исходных чеченских тейпов, от которых произошли остальные 130. Тейпы (кланы), в свою очередь, группируются в тукхумы (племена), всегда бывшие скорее историко-этнографической, чем социально-политической общностью. Чеберлой, на землях которого мы находимся - это своего рода Верхняя Ичкерия: сперва выходцы из Нашхи заселили эти горы, а затем начали спускаться с перевала Харами в густые леса Хулхулау. В эпоху горских набегов Чеберлой был щитом Ичкерии, её тревожным пограничьем, принимавшим на себя первые удары аварцев или тюрок. После сплочения Кавказа против России, напротив, Чеберлой превратился в глухой тыл. Но как бы то ни было, горы здешние очень скудны, а потому во все времена лучшие люди Чеберлоя предпочитали спуститься в ичкерийские леса или на плоскость - как например отец проповедника Кунта-хаджи Кишиева, самого чтимого святого Чечни, чьи зиярты я показывал в прошлой части. Оставались в этих горах, кажется, лишь те, кто совсем уж не хотел никаких перемен - даже чеберлойский диалект чеченского считается самым архаичным по своей фонетике.
41.

Между тем, буквы "Хо" на кадре выше - это не недописанное слово: "й" к чеченским названиям привыкли добавлять уже русские, и тот же Чеберлой на самом деле скорее Чеберла. В нынешнем Хо живёт около 30 человек и стоит ещё одна мечеть в старо-вайнахском стиле:
42.

Древний Хой, а это ещё кадров 20-30, я подробно показывал здесь.
43.

Сейчас же взглянем дальше по ущелью. Вот например руины башен, известные как замок то ли Алдама Гези, то ли Адина Сурхо - героев Чеберлоя. Первый, по преданию, привёл сюда людей из Нашхи, второй - возглавил в 17 веке войну против кабардинского князя Мусоста. Известно, что князья Малой Кабарды (см. Моздок) в 17-18 веках и правда активно наступали на Восточный Кавказ, считали вайнахов своими подданными и в 1774 году даже формально привели их (вместе с собой) под Россию. Чеберлой как самый неприступный и далёкий от Кабарды чеченский уголок, скорее всего, стал очагом сопротивления и базой вайнахской "реконкисты". Ну а обоих героев сразу в один замок селят лишь потому, что он лучше всего сохранился.
44.

Ещё дальше виден Макажой, так же известный как Хархарой - исторический центр Чеберлоя, ныне крошечное и невзрачное село, скорее россыпь хуторов с парой сотен жителей. Тем удивительнее, что в 1925-44 годах это был райцентр, а в большинстве сёл, руины которых торчат теперь из бурьяна, жило по 1,5-2 тысячи человек. Всех их выгнали в депортацию, по возвращении из которой в 1958 году то ли (я слышал разные мнения) действовал негласный запрет селиться в горах, то ли просто горцы оценили преимущества жизни на равнине. Чеберлоевский район возрождали дважды - Дудаев в 1992 году и Кадыров в 2012-м. Но оба раза район остался только на бумаге - постоянное население, суммарно человек 300, тут есть только в Макажое и Хое, администрация так и не создана, а всеми вопросами по-прежнему ведает Веденский район.
45.

Погуляв по Хою, мы поехали назад без остановок, на закате осмотрев роскошную мечеть в Шали, а в сумерках - в Аргуне. В Грозном Мага привёл бусик не в кафе, а в свой дом, где накрыл нам ужин с жижиг-галнашем и чак-чаком. На следующий день наш путь лежал в Аргунское ущелье, проходящее вон за теми горами:
46.

Но об этом - в следующей части.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: Кавказ природа дорожное деревянное этнография |






