В поисках Беловодья - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Долина вулканов. Часть 1: дорога на Хойто-Гол |
Как бы ни были красивы показанные в прошлой части водопады и каньоны в лавовых толщах Саянской Оки, они - лишь производное: там, где есть лава - должен быть и вулкан. Главная достопримечательность Окинского района Бурятии, а может быть и всех Восточных Саян - высокогорная падь Хи-Гол у самой границы с Тувой, более известная как Долина вулканов. Она и была нашей целью в этом затерянном мире, вот только путь к вулканам труден и далёк. И самая, пожалуй, тяжёлая его часть - не сотни километров глухими трактами от Иркутска до райцентра Орлик и не пеший путь за перевал от аршанов (целебных источников) по-сибирски дикого курорта Хойто-Гол. Самая тяжёлая часть дороги к вулканам - 70 километров зубодробительной заброски из Орлика до Хойто-Гола!
Прежде, чем начать рассказ, напомню те препятствия, которые мы к тому моменту уже преодолели:
1. Локдаун в Бурятии с 26 июня по 12 июля, из-за которого намеченный на 5 июля старт я сперва передвинул на неделю, а потом и вовсе отменил этот поход, решив, что локдаун надолго. Я успел спланировать и частично оплатить новый маршрут по Иркутской области вдоль Байкала, а обнаружив вечером накануне выезда, что локдаун с завтрашнего дня снимают - буквально за час всё в третий раз переиграл назад и сумел "на бегу" вернуть большую часть предоплаты.
2. Дорога в Орлик. Снятия локдауна ждали многие, и на курсирующую раз в сутки маршрутку из Улан-Удэ мест не было на три дня вперёд. Поэтому 360 километров от Култука до Орлика мы за полтора дня проскакали автостопом, успев хотя бы и по дороге кое-что осмотреть.
3. Поиски заброски. Дело в том, что самым очевидным по карте путём вдоль речки Жомболок, в низовьях которой плещутся те водопады из прошлой части, а в верховьях стоят сами вулканы, никто к ним не ходит. По лаве идти гораздо труднее, чем даже по курумам, под лаву же уходят речки с питьевой водой, а на пути ещё обрывы и озёра. Путь вдоль параллельной речки Сенцы вроде и простой, но - заурядный, а потому нам отчаянно не хотелось тратить на него 4 дня ходьбы. К аршанам Хойто-Гола, однако, народная тропа не зарастает в прямом смысле слова: до постройки тракта в конце 1980-х Ока была землёй без дорог. И потому автопарк у местных жителей впечатляет обилием "бортовых машин" - "Уралов" и ЗиЛов ("шишиги" тут почему-то не водятся) с таким кузовом, в который можно впихнуть кучу хоть дров, хоть туристов. Заброской тургрупп в Орлике занимается 5-10 шофёров с единым тарифом 25-27 тыс. до Хойто-Гола и 28-30 тыс. до Жойгана. В одну сторону нам такое было, даже на троих, не по карману, а потому мы рассчитывали пристроиться к другой группе - так тариф уже 2,5-3 тыс. рублей с человека. Тут-то и вышел затык: среди туристов мы среагировали на отмену локдауна первыми, но в случае с заброской это было не в плюс - приехав в Орлик, мы обнаружили, что оказий в ближайшие дни не предвидится. Переговоры с единственной группой сорвались - по настоянию привередливой Оли я задал водителю Жалсану слишком много вопросов (2-3, если быть точным) и за это был послан на три буквы, причём отнюдь не на Оку. Однако бортовых машин на Оке Саянской гораздо больше, чем забросчиков, и в основном ездят на них сами местные - по самым разным делам от заготовки дров до отдыха на аршанах. И вот побродив по Орлику да порасспрашивав прохожих, мы нашли Веронику, продавщицу из магазина промтоваров, которая как раз собиралась ехать с семьёй недельку отдохнуть на Хойто-Голе. Мы договорились на 10 тыс. рублей за троих, и на рассвете к нашей турбазе "Ока" подкатил вот такой лимузил:
2.
В кабине ехали Вероника с младшей дочерью и молчаливый муж, даже имени которого мы не узнали. В кузове беспорядочной кучей были свалены тюки, мешки, рюкзаки, Вероникины дети старшешкольного возраста, две интеллигентные бурятки в масках и грандиозная, чрезвычайно ворчливая бабушка. Докинув в эту кучу нас, Зил тронулся, и у меня всё никак в голове не укладывалось, что вот так окинцы ездят ОТДЫХАТЬ! Холодное утро, суровые горы, рёв мотора и лязг железа, прыжки на ухабах, тучи пыли и кучи тюков, точёные медные лица - я не мог отделаться от чувства, что сижу в кибитке монгольской орды, едущей праздновать очередную победу.
3.
Остались позади знакомые с прошлой части места - речные прижимы вровень с порогами, фермы с косматыми яками, длинный деревянный мост через Оку и короткий через Сенцу, а между ними крутой подъём на плато Сенцын-тала. У бурхана (святого места) за подъёмом (см. прошлую часть) была и первая остановка. Не потому, что кто-то устал, а потому, что буряты - народ очень набожный, просто религия их ненавязчива и скрытна. Угрюмый шофёр, бойкая продавщица, учительницы из большого города - все, проезжая бурхан перед трудной дорогой, не могли не почтить духов гор. У окинских бурханов сыплют зёрнами и кропят молоком - на фото то и другое в руках Вероники. Ну а вы почтите добрым словом эту женщину, чертами лица похожу на сойотов со старых фото - этот и два следующих поста вы читаете благодаря ей!
4.
Хотя оглядываясь назад, я понимаю, что поиск машины через людей в посёлке - отнюдь не единственный выход. На самом деле нам стоило просто выбраться на дорогу вдоль Сенцы (в идеале - в пятницу), идти по ней вперёд, и максимум день на второй какой-нибудь зверьмобиль взял бы нас на борт. Дорога на Хойто-Гол отделяется от тракта под прямым углом у показанной в прошлой части Стелы Хонгодоров:
5.
Визуально эта дорога не слишком отличается от тракта, но только скорость тут раза в 2-3 меньше, а трясучка - раза в 3-4 больше: за трактом всё-таки следят дорожники, а здесь дорогу не ровняет ничего, кроме самих машин. Путь от Орлика до Хойто-Гола занимает 7-8 часов, и то если машина не сломается в пути и не сядет в болото. Всё это время дорога будет подбрасывать вас вверх и швырять вдоль и поперёк кузова, бить спиной и затылком о деревянный борт, хлестать ветками по неосторожно высунутым руками, заваливать различными тюками, посыпать густой пылью и пугать таким креном, будто машина вот-вот упадёт. Единственный способ всё это выдержать - заранее настроить себя, что "здесь так!", и ко всему этому относиться как к приключению и местному колориту.
6.
Ещё одно свойство этой дороги - в том, что она делается хуже с каждым километром от Орлика до Хойто-Гола, и потому "туда" по ней ехать несколько проще, чем "обратно" - к тряске успеваешь привыкнуть, а самую жесть встретиться ещё с некоторым запасом сил. За перевалом через отрог горы Хан-Уула мир становится ещё более затерянным...
7.
Хан-Уула - одна из 13 Священных гор, которые для сойотов и местных бурят-хонгородов значат примерно то же, что 13 Северных духов Ольхона для остальных бурят. К тракту Хан-Уула обращена пологим отрогом, у которого тотем хонгодорского племени и дацан соорудили лишь потому, что так ближе ехать. Скалистая вершина, на которой легко представить замок древних богов, лучше видна с лугов у Сенцы:
8.
Луга то и дело пересекают изгороди, в которых Вероника открывала ворота перед машиной и закрывала после - это границы пастбищ:
9.
Первые 15-20 километров вполне обитаемы - тут стоит небольшое селение Шаснур (полсотни жителей) и множество небольших пастушьих заимок. За длинными оградами мы видели и людей, и припаркованные машины вроде импортных джипов или верных "буханок".
10.
Холод высокой ночи, между тем, разогнало яркое горное солнце. Пассажиры начали разутепляться, а на очередной остановке семья Вероники и машину раздела слегка:
11.
Но ферм становится всё меньше, а луга неуклонно сменяются лиственничной тайгой. В какой-то момент на тёмной таёжной дороге мы увидели, что нас догоняет ещё один, почти такой же ЗиЛ:
12.
А заглянув в его кузов, поняли, что вообще-то мы едем с комфортом! Второй ЗиЛ вёз огромную группу из 18 человек, среди которых были как совсем ещё птенцы, так и явно бывалые таёжники. Оказалось, что группа эта - не туристы какие-нибудь, а экспедиция Русского географического общества, отправленная в Долину с великой научной целью установки флага на вулкан. Мы, конечно, острословили про них всю дорогу: следующая экспедиция должна обнаружить, что флаг исчез, третья - установить причины его исчезновения, четвёртая - разведать оптимальный маршрут установки нового флага, а дальше цикл делает полный оборот. Из дома да за чаем всё воспринимается иначе: это попросту работа с молодёжью, одна из немногих работ, оставшихся у РГО с окончанием эры открытий.
13.
Но вот обе машины остановились у подножья горы Намтын-Хайрхан (2554м) с парой Чёртовых пальцев на склонах. Всем, кроме водителей и той грандиозной бабушки, было велено вылезать из кузовов.
14.
Середина пути в километрах, но даже не треть в часах - зимовка Хутэл на краю обширного болота, которое нам и предстояло пересечь пешком:
15.
Бурятское слово "хутэл" не имеет прямого перевода на русский и означает небольшой, пологий, лёгкий перевал. Таковой тут действительно связывает долину Сенцы с долиной Жомболока, и по изначальному плану мы должны были сойти тут с обратной машины да пройти этим хутэлом 8 километров до большого (4,5км в длину) озера Олон-Нур - оно лежит прямо в застывшей лаве, образовавшей причудливые каменные узоры его берегов и дна. Такие озёра - запруды на Жомболоке, сам же он большую часть пути течёт в трещинах под лавой. Но в силу разных причин поход на Олон-Нур так и не состоялся, да и порядком подсохшее болото на обратном пути мы проехали без остановок:
16.
Утром же я готовился хлюпать грязью, искать кочки и ехать дальше с мокрыми ногами, но нет - болото уже к этому моменту просохло достаточно, чтобы его земля лишь чуть-чуть проседала под ногами. Иное дело - колесо многотонной машины! Оба ЗиЛа садились в болото не раз:
17.
А на деревьях у особо топких мест кора содрана регулярно цеплявшимися лебёдками:
18.
Порой, впрочем, и лебедка не помогала - в некоторых местах машины садились в липкую грязь буквально по брюхо:
19.
И по очереди вытягивали друг друга - ревя, лязгая и пуская вдоль земли чёрный дым:
20.
Для пассажиров пересечение болот стало скорее передышкой, а для водителей - только частью полосы препятствий. Грязь в низинах, каменистые подъёмы и спуски, броды поперечных речек и немаленькие участки вдоль по Сенце - час за часом всё это сменяет друг друга почти непрерывно:
21.
И лишь изредка ухабистая, но хотя бы просто ровная дорога давала чуть передохнуть. Как на Крещенские морозы в Сибири я радовался теплу, видя на градуснике -29, так и здесь называл такую дорогу хорошей. А уж сравнивать её с дорогами Монголии я и вовсе быстро перестал - зубодробительность вполне сопоставима:
22.
На полпути в часах и 3/4 в километрах силы кончаются уже и водителя, и на такой случай у дороги есть специальный бурхан. Машины обычно тут стоят около часа, а буряты, помолившись и зажгя священный костерок (готовили они на горелках), готовят обед и пьют чай вон в той беседке. Мне есть совсем не хотелось, и я прилёг подремать в кузове - но из тайги тут же налетели злющие комары, спокойно прокусывавшие новенькую "энцефалитку".
23.
К счастью, эта поляна - единственное комариное место на всём пути. Отдохнули - едем дальше!
24.
Порой поднимаясь высоко над Сенцой. Здесь красиво... но не красивее, чем в сотнях более доступных мест Сибири:
25.
После Хутэльского болота мы миновали то ли одну, то ли две фермы, но в основном тайга за болотом безлюдна. Вот разве что избушка на поляне, да и той пользуются скорее охотники и лесники, чем скотоводы:
26.
Две машины резко затормозили, и я увидел компанию людей, которые сделали то, что не сделали мы - просто пошли по дороге, и подвозили их за 3 дня второй раз. Взяли с них четверых 1000 рублей, а значит - путь пройден на 9/10:
27.
В кузове сделалось теснее, но как-то при этом уютнее. Наши новые спутники оказались водниками из Екатеринбурга, и на вулканы они решили сгонять между делом, а в первую очередь забрались на Оку для того, чтобы по ней сплавиться в Зиму. Явным лидером в группе был объёмный, видный, очень разговорчивый Дима, болтавший о том и о сём всю дорогу, причём несколько раз он возвращался к истории о том, как ехали они в таких же примерно условиях, а по кузову летал незакреплённый топор. Дима был сам по себе, другие трое оказались матерью, дочерью и её парнем. Женщин звали соответственно Ольга и Катерина, и вместе с моими спутницами они образовали очень удобную систему: Оля с перьями, Оля без перьев, Неоля с перьями (Катя) и Неоля без перьев (Аня).
28.
Сама дорога же весьма наглядно подтверждает слова Великого Мыслителя о том, что "расстояние измеряется не в километрах" - от стоянки до Хойто-Гола по карте выходило всего 12 километров, но продирались мы через них 3 с лишним часа. Машина шла не сильно быстрее, чем средненькие туристы под рюкзаками и уж точно медленнее, чем туристы-лоси или люди налегке. Кураж на приключения и колорит начал иссякать, от ударов спиной о дощатый борт я всё чаще думал "когда это кончится?!", и вдобавок от тряски начала болеть голова. В какой-то момент у меня пошла кровь из носа, и РГОшники, видевшие это со своего кузова, явно решили, что я расквасил нос на очередном ухабе. Отдельная же, совсем нетривиальная задача - разъехаться на такой дороге с встречным грузовиком:
29.
С РГОшным ЗиЛом же мы разделились вот тут - направо 4 километра до Хойто-Гола, прямо - 20 километров до Чойгана. Или Жойгана: я слышал оба варианта названия, а в описаниях видел так же Аржаан и Изыг-Суг. Эти целебные источники находятся уже за перевалом, отделяющим Бурятию от Тувы, из которой Шойгу как-то привозил сюда своего лучшего друга Володю. Ездят на Жойган с обеих сторон (из Тувы - только на лошадях), а у накрытых срубами тёплых целебных ключей гости стоят тремя обособленными полянами - Бурятской, Тувинской и Туристской. По чужим фотографиям Жойган выглядит колоритнее, я бы даже сказал - первобытнее Хойто-Гола, а местные говорили мне, что там лучшая целебная вода всех Саян. У нас, однако, ехать в Жойган не было ни времени, ни сил, так что могу лишь отослать сюда (очень атмосферные кадры) или сюда (подробнее, но текст переплётен с агитацией за человека на букву "Н").
30.
За развилкой дорога стала как минимум вдвое менее накатанной, а потому 4 километра до Хойто-Гола показались нам бесконечными. И всё же когда впереди расступился тайга и мы увидели россыпь деревянных домиков, я испытал даже какую-то досаду - за 8 часов я успел привыкнуть даже к грохоту и тряске, а теперь нас ждала новая смена реалий.
31.
Пейзажи здесь разительно отличаются от того постапокалипсиса, который показан в "политизированном" посте про Жойган. Там - горы мусора и негде укрыться, кроме палаток на ветру, здесь - идеальная чистота (по крайней мере в первые дни сезона) и целая бесплатная турбаза. Не знаю точно, когда её построили, и слышал, что периодически кто-то пытается её присвоить и начать брать деньги за постой, но при нас крепкие опрятные домики были открыты для всякого, кто успеет их занять.
32.
Фактически, турбаз тут даже две. Нижняя стоит на краю большой поляны, где есть не только место для грузовика, но и коновязь, а потому веранды домиков бывают завалены сбруей. Но лошадях ездят не охотники и даже не пастухи: ведь самая прибыльная скотина - туристы. Заброска лошадьми - удовольствие не дешёвое: конедень стоит 3000 рублей, на одно животное можно посадить одного туриста налегке или повесить два рюкзака, плюс отдельно оплачивается лошадь каюра и обратный путь всего каравана: если не брать целый ЗиЛ на троих, лошади от Хойто-Гола до вулканов выйдут дороже. Основной клиент каюров - коммерческие группы: за день туристы проходят перевал налегке, а бурят с парой-тройкой лошадей успевает отвезти их вещи к заранее намеченной стоянке и вернуться.
33.
От Нижней турбазы с километр до Верхней, представляющей собой один двухэтажный дом. В котором, однако, не то что печка есть, но даже исправная проводка и лампочки, которые буряты при мне запитывали от привезённых с собой генераторов.
34.
Буряты селятся в основном в двухэтажном корпусе, где условия больше напоминают квартиры. Туристы же предпочитают пристройку - длинный барак с одним ярусом нар во всю длину и стоящей в углу печкой-буржуйкой.
35.
А о том, что туристов через этот барак прошло много - напоминают настенные росписи:
35а.
Здесь - кажется просто собирательный пейзаж:
36а.
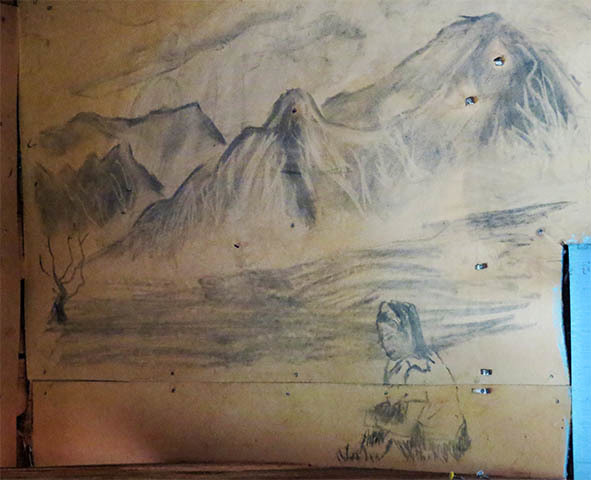
А здесь на верхней врезке нетрудно узнать нарисованный по памяти вид на вулкан Перетолчина со стороны вулкана Кропоткина. Удивительнее пейзажей, однако, в этом приюте романтиков портреты и слова. "Руки в траве, тело в воде..." - о чём думал, мечтал, вспоминал тот, кто выводил это копотью по фанере?
36.
С разных сторон от дома, но не в прямой видимости - туалеты деревенского типа, заброшенная после нескольких попыток возрождения столовая и тропа на водопой. Обратите внимание, до чего северным сделался лес - кабы не лиственницы, пейзаж совсем как где-нибудь на Кольском. Если Орлик стоит на высоте 1370м, то Хойто-Гол вытянулся на полсотни вертикальных метров выше 1600.
37.
Водопойная тропа меж этих лиственниц выводит к берегу речки Аршанки, в этом месте дающей такую крутую излучину, что вверх и вниз по течению можно посмотреть в одном кадре. Вода её ещё не целебна, но чиста и страшно холода:
38.
Ну а трудности поиска заброски сполна окупились малолюдьем: в домиках обосновалось две компании бурят (включаю нашу) и две тургруппы. Мы да екатеринбуржцы просторно расположились на нарах и провели вечер за спорами о том, что погубило группу Дятлова. У туристов, как я понял, это примерно как разговор о погоде, но здесь всё было интереснее: бывалый уральский турист Дима лично знал Юрия Юдина - "десятого дятловца", не пошедшего в тот злополучный поход. Как повезло нам по прибытии, мы поняли лишь на обратном пути, тем более что завершался он в выходные. Удалые пьяные крики мы слышали за несколько сотен метров до Хойто-Гола, а ближе к ним добавился смех и звон гитар - пространство меж домов густо заросло палатками. В палатках жили сплошь весёлые разноцветные туристы. Буряты, коих обнаружилось компаний пять, каждая со своей бортовой машиной, на Хойто-Голе стояли дольше и потому успевали занять домики. Образ монголов, празднующих победу, на их стоянках довершали костры и огромные казаны, в которых варились целые горы мяса. Ну, а о том, что пьяными коренные жители Южной Сибири становятся не самой лучшей компанией, думаю знает всякий, кто хоть чуть-чуть читал про этот регион. Вот чёрным вечером к нам подсел весёлый мужик и начал, не спрося разрешения, пытаться открыть наши сухарики. Аня не растерялась, предложила ему этими сухариками угоститься и сама открыла пакет, а мужик тут же забыл об этом, поведал мне, что он руководит в Орлике турклубом, да ушёл в темноту. С другой стороны от костра расположилась компания парней, поначалу очень дружелюбных - так, увидев, что мы решили делать суп и достали горелку, они предоставили нам свой костёр с решёткой да угостили своим чаем. Но постепенно от дежурных вопросов "откуда ты?", "куда ходил?", "и как, понравилось?", один из них вдруг резко перешёл к делу:
-Э, слышь! А хочешь, я тебя ща у...бу в коленку!
Я понимал, что серьёзной агрессии за этим не стоит, просто такая идея внезапно пришла в пьяную голову, и потому с предельно серьёзным видом спросил:
-А зачем?
Паренёк не нашёлся, что на это ответить и потерял нить, а я быстренько скрылся в темноте. Палатку мы решили ставить где-нибудь в лесу, от турбазы подальше. Вероника с семейством и вовсе предпочли уехать из этой вакханалии, но в одном из домиков Нижней турбазы нас приметили да напоили чаем с боовами (бурятскими пышками) её пассажирки. Я был уверен, что это дальняя родня, приехавшая к Веронике погостить, но оказалось - такие же чужаки здесь, как мы. С той лишь разницей, что нас интересовало путешествие, а они хотели просто поправить здоровье хвойным воздухом и целебной водой. Бабушка с нами общаться не очень спешила, а вот интеллигентные женщины оказались учительницами из Улан-Удэ, причём одна из них преподавала русский язык в Улан-Баторе. Ну а "внутри-внутренний туризм" я замечал у многих народов России: алтайцы увлечённо разъезжают по Алтаю, а на бурятских аршанах что здесь, что в Тунке не меньше половины отдыхающих - сами буряты.
39.
От Верхней турбазы тропка ведёт непосредственно на аршан. У начала - небольшой бурхан с монетами, лоскутками и надорванными или обожжёнными купюрами:
40.
Хойто-Гольский аршан представляет собой тонкий ручей с довольно ощутимым сероводородным запахом, на который нанизано несколько деревянных домиков и советский ещё бетонный бассейн под открытым небом:
41.
В домиках самое забавное - деревянные затычки, которыми можно регулировать уровень воды. Сама вода в этом ручье скорее комнатной температуры, а вылезать из неё на ветру бывает не очень комфортно. Купаться в бассейне мешают пауты (большие слепни) - комаров тут нет, а вот эти пикируют эскадрильями. В избушках тепло и никто не кусает, но зато дно покрыто какой-то гадкой трухой и всплывающей тиной. При этом даже чистой здешняя вода не питьевая, а сугубо купальная. Ещё пара павильончиков стоит в стороне - всего на Хойто-Голе 10 сероводородных ключей с температурой от 28 до 34 градусов, и лишь на трёх из них есть крытые купальни.
41а.
В целом же в чужих путевых заметках Хойто-Гол не раз называли Маленьким Шумаком. Настоящий Шумак - это крупнейший в Саянах дикий аршанный курорт, где на небольшой территории выходят десятки, если не сотни, ключей всех возможных температур и минеральных составов. В теории Шумак так же относится к Окинскому району, но все пути до него ведут из Тункинской долины через перевалы, кратчайший - от другого Хойто-Гола, который я показывал здесь. На Шумак народ, по большей части иркутяне, ходит пешком, платит штрафы обнаглевшей "Бурприроде", покупает дорогущие туры с вертолётной заброской из Иркутска, и тем не менее толпы там с каждым годом всё больше. На десятках аршанов Шумака постоянно находятся сотни людей, которым в общем-то нечем особо заняться, кроме коротких купаний да прогулок в горах. Многие хватаются за ножи: приметой Шумака стали народные поделки, странные инсталляции и даже целые деревянные здания, включая небольшой дацан. На Хойто-Голе всё примерно так же, только с поправкой на масштаб:
42.
Кто и когда открыл эти воды - теперь не известно, а первая банька над сероводородным ключом была поставлена в 1947 году. Всё прибитое к стволам или надёжно поставленное так и остаётся здесь на десятилетия:
43.
Народное творчество бурятских аршанов можно разделить на несколько жанров. Самый массовый - мемориальные доски:
44.
Часть из них впечатляет долговечностью, качеством шлифовки и тонкостью деревянной резьбы, часть - какой-то наивностью, достойной петроглифов древних веков. В них есть что-то от армянских хачкаров, вырезавшихся из туфа в благодарность Богу. Только здесь вместо туфа - лиственница, а вместо бога - то ли духи мест, то ли просто жизнь.
45.
Среди бурятских хадаков (голубых лент-подношений) затесался вышитый платок-"автопортрет" группы - прежде, видимо, прохудившийся тент от палатки:
46.
Кто-то предпочитает 3D, хотя скульптур тут куда меньше, чем досок. Больше идолов или зверей, конечно, впечатляет драндулет, и я представляю мысли в голове у человека, который его резал - "такой, б..., хрен забудешь!".
47.
Импровизированный алтарь, который делали скорее эзотерики или просто скучающие туристы, чем буряты:
48.
48а.
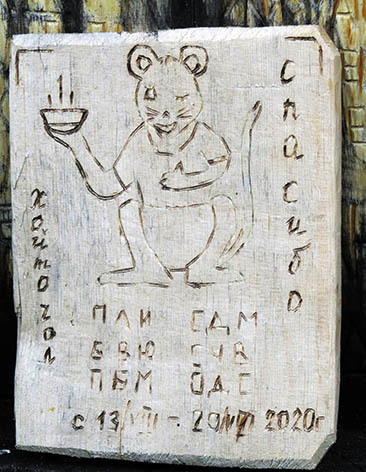
У бурят же есть бумхан (буддийская часовня), сложенная из подручных материалов:
49.
Но ламы ведь здесь тоже лечат свои бренные тела, так что вполне может быть, что бумхан даже освящён по всем правилам:
50.
50а.

Самое, пожалуй, впечатляющее место Хойто-Гола - Самолётиковая поляна:
51.
Что они обозначают? Радость от того, что на водах подлечившись, автор обрёл лёгкость и хочет летать или же мечта улететь, не тресясь 8 часов по бездорожью?
52.
Нам же отсюда - подниматься за те горы:
53.
Куда чуть раньше нас бурятский каюр повёл лошадей:
54.
Об этом, как вы уже поняли - в следующей части.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт.
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: ручная работа Сибирь природа транспорт дорожное деревянное курортное |
В верховьях Оки. Красоты затерянного мира. |
В верхнем течение Оки нет чернозёмных полей - только вечная мерзлота да застывшая лава. Здесь в монастырях чтут Будду и Зелёную Тару, а самый выдающийся поэт - горно-спортивный инструктор. Вместо усадеб тут зимовья, вместо мельниц - золотые прииски, вместо кремлей - неприступные скалы у стремительных рек. Потому что это верховья Оки Саянской, затерянный мир на западе Бурятии у границы с Тувой. И пробитый лишь в конце ХХ века Окинский тракт не заканчивается показанным в прошлой части Орликом, а уходит ещё на полсотни километров за райцентр - через горные пейзажи, между водопадами в древних лавовых полях Жомболока и новенькой золотой шахтой приводя к селению Хужир с ни на что в России не похожим храмом Гэсэра.
Если Окинский тракт от Монд до Орлика приняли в эксплуатацию в 1993-м году, то дорогу за Орлик - и вовсе лишь в 1999-м. Асфальта нет и скорее всего никогда не будет даже на тракте, а уж здесь - тем более. Вроде бы что-то рейсовое до Хужира ходит пару раз в неделю, но мы на него не очень-то полагались, и потому просто вышли к северной окраине Орлика. Вскоре из посёлка прикатила неописуемо сельского вида "буханка" с одиноким бурятским (другие тут редко бывают) мужичком. Оля и Аня устроились на пассажирском сидении, а я - в монохромно-пыльном кузове, где постоянно приходилось отбиваться от двух катавшихся туда-сюда железных бочек. Возвращались мы куда как комфортнее - на легковушке-"пузотёрке" с бурятским семейством, и лишь водительница, приехавшая сюда из Улан-Удэ к родственникам, возмущалась на каждом ухабе, что отвыкла от таких дорог. Ещё дважды мы ехали здесь на огромном гремящем ЗиЛе - но лишь на полдороги, до отворота на далёкий Хойто-Гол. Поэтому не удивляйтесь, что на фотографиях спокойно чередуются полдень, закат и рассвет.
2.
Первые километры дорога идёт по самому берегу Оки, в которую на том берегу впадает река с ещё одним "неуместным" названием - Тисса. Впрочем, на свою карпатскую тёзку она похожа хотя бы порогами на фоне зелёных гор. В 25км выше по Тиссе есть Дабатский водопад, по чужим фотографиям напоминающий Йосемити в миниатюре - два уступа (28 и 85м), низвергающихся с отвесной, почти гладкой скальной плиты. Но дорог туда нет, и только по прямой до водопада порядка 30 километров.
3.
В просветах тайги, между тем, всё чаще показываются горы, на вершинах которых могут быть с равным успехом как снежники, не успевшие растаять к середине лета, так и вечные льды. До этих гор несколько десятков километров, и под ними лежат Хойто-Гол и Долина вулканов, ради которой мы забрались в эту глушь. А за горами начинается Тува.
4.
Километрах в 12 от Орлика дорога пересекает Оку длинным деревянным мостом. Подобные мосты, по крайней мере один у села Сорок, я видел и на Окинском тракте - но видел с современных железобетонных мостов. Как я понимаю, до постройки тракта официальных дорог в Окинском районе не было - лишь накатанные "Уралами" колеи да деревянные мосты, строительство которой было местной инициативой. Окинский тракт прокладывался в основном в конце 1980-х ещё на советские деньги, эта дорога - уже целиком детище лихих 1990-х, и её строители разумно решили, что если старые мосты выдерживали проезды ЗиЛов и паводки на горных реках, то стоит ли городить новые?
5.
Экологически чистый пейзаж...
6.
Всё те же горы в перспективе русла:
7.
Затем дорога упирается в гигантскую почти отвесную ступеньку, довольно круто взбирается вдоль неё и наверху поворачивает на 180 градусов. На карте этот подъём обозначен целым перевалом Эрик-Дабан, а его покорителей встречает священная роща:
8.
По всей Великой Степи такие называют бурханы или обоо - маленькие жертвенники духам мест, где им оставляют символические подарки. Это могут быть лоскутки, камушки, конфеты или сигареты, а в Тункинском и Окинском районах буряты чаще всего сыплют на бурханах зёрна и брызгают молоком или водкой.
9.
На Оке ещё и буддизм сплёлся с шаманством как-то особенно причудливо - на местных бурханах часто можно увидеть хурдэ (крутящиеся цилиндры с тибетскими молитвами), а здесь вот сложены зулы - лампадки, которые, видимо, зажигают да развешивают по роще во время буддийских праздников.
10.
А вот ячьи хвосты - чисто окинская примета: зимы этого Сибирского Тибета пережить наверняка могут только северные олени, которых испокон веков разводили коренные жители сойоты, да косматые сарлыки (яки), которых привели сюда в 19 веке буряты. Ячьи стада у дорог я показывал в позапрошлой части, хайнаков (полуяков-полукоров) у заборов Орлика - в прошлой, но показательно, что символом Оки стал ячий хвост, а не рога оленя.
10а

Эрик-Дабан поднимает дорогу на плато Сенцын-тала, огромной плоской плитой лежащее на горах и реках. Следующая речка Сенца пересекает его даже без каньона, а за деревянным мостом через Сенцу встречает Поляна Хонгодоров под священной для окинцев горой Хан-Уула:
11.
Буряты - крупнейший из народов Сибири, вот только после Приольхонья, Агинского и Тунки у меня есть большие сомнения в том, что это единый народ. Скорее - братская семья народов, поскольку во всех перечисленных углах мне встречались совершенно разные буряты. В долине Селенги жили и вовсе скорее монголы, в Забайкалье немало хамниган (перешедших на бурятский язык дауров и конных эвенков), на Оке ещё не до конца ассимилированы сойоты - их язык, который помнят старики, схож с тувинским, но то наследство другой ассимиляции: по происхожедию это самодийцы, родственные ненцам и селькупам. Однако держится пёстрый БурМир на 4 столпах племён - хоринцах (31% всех бурят), булагатах (27%), эхиритах (14%) и хонгодорах (6%). Первые три пришли из Монголии в Прибайкалье в 11-13 веках, и эхириты с булагатами там и остались, а хоринцы, описав причудливый круг почти через Корею, осели в итоге в Забайкалье, где от них откололось по сути пятое племя агинских бурят. А вот хонгодоры появились здесь позже, да и относились прежде к совсему другому союзу племён - ойратам Западной Монголии, по своей далёкой волжской колонии нам более известным как калмыки. От прочих хонгодоры отличались хозяйством: не степняки, а кочевые горцы, живущие от сезона к сезону между плато и долинами, но пару раз за столетие, поняв, что пастбища скудеют, уходившие к другим горам. Постепенно маятник хонгодорских миграций стабилизировался между Восточным Саяном и долиной Кобдо на западе Монголии. Вернувшись в Сибирь в 1688 году, они обнаружили вдруг, что тут есть теперь новый хозяин - русские, к 1727 году ещё и прочертившие современную границу с Китаем. И если пастухи да паломники ходили через неё почти свободно, то целой орде беспрепятственно откочевывать уже бы никто не дал. Хонгодоры осели в предгорьях Саян и занялись диверсификацией хозяйства, преуспев в облавной охоте (где немало переняли у сойтов) и даже освоив примитивное земледелие. Само же слово "буряты" было в те времена скорее территориальным, чем этническим обозначением, а за пару сотен лет хонгодоры полностью влились в БурМир.
11а.

Но судя по всему, не гладко и не сразу: тотем хонгодоров - лебедь, однако эта же птица слывёт прародителем хоринцев. Этнографы считают, что хонгодоры каким-то образом переняли хоринский тотем - причём скорее всего не в 18 веке, а куда раньше, когда хоринцы ушли далеко-далеко. Кто же был тотемом хоринцев первоначально - теперь никто не знает, но по отдельным находкам в тункинских болотах предполагается, что медведь. Хонгодорский мемориал был сооружён в 2000 году, и включает главную стелу с лебедем, 6 малых стел с названиями хонгодорских родов (аха, тунхэн, захаамин, алайр, монгол) да белый камень, к которому нужно подходить с закрытыми глазами и молиться, приложив лоб и ладони.
12.
Стела Хонгодоров отмечает и развилку - налево вдоль Хан-Уула уходит колея к Долине вулканов (видна на заглавном кадре), направо - грунтовка на Хужир (кадр выше). На самой Хан-Уула же можно разглядеть хий-морина ("конь ветра", буддийский ангел-хранитель) на главном окинском обоо, а лес скрывает дополнивший его в 2003 году дацан. Называется он Ламажабдойлин - так же, как и буддийский монастырь в Орлике, то есть видимо это его филиал. Мы туда подниматься не стали, зная, что деревянные постройки дацана довольно невзрачны, а самое главное - пусты: за несколько дней на Оке я ни разу не видел буддийского монаха, отпертых дверей храма и вообще каких-либо признаков жизни в дацанах. Наверное, так же выглядели русские миссионерские церкви где-нибудь на Алтае 19 века - молиться, даже и буддийским сущностям, здесь предпочитают на бурханах.
12а.
Где-то здесь же, между Сенцой и Жомболоком, с 1728 года стояло первое оседлое селение этого затерянного мира - Окинский караул. Стерегли его 4 казака, выполнявших скорее роль таможенников, и два десятка хонгодоров, причём не из Тункинской долины, а из Аларской степи ниже по Оке: именно с пограничных постов началось проникновение бурят в Саяны. К началу ХХ века Окинский караул успел разрастись в деревеньку, но в 1927 в полном составе переехал в Орлик, заложенный тогда как новый райцентр. Мы же продолжаем путь, и над ровной Сенцын-талой понемногу начинают вставать сказочно красивые горы:
13.
Плоское поле, за которым стоит крупная по окинским меркам деревня Саяны (400 жителей), однако, тоже не простое. Сенцын-тала - плита не только ровная, но и твёрдая - под тонким слоем почвы здесь камень. А потому в 1971 году прямо на этом поле был оборудован аэродром, способный принимать не то что вертолёты и кукурузники, но и вполне серьёзные "летающие автобусы" Ан-24. Прежде район обслуживал аэродром "Орлик", но он был рассчитан как раз-таки на кукурузники. А до его постройки в 1951 году на Оку попадали и вовсе лишь пешком или верхом. Наконец, в конце 1980-х был пробит Окинский тракт, а в 1992 году, чуть раньше его официального ввода в строй, сюда перестали летать самолёты. На бывшей взлётке с той поры успели вырасти ёлки...
14.
За Саянами плита Сенцын-талы понемногу теряет горизонтальность, сменяясь предгорьем хребта. Здесь на склоне блестит искорка буддийской ступы - это гора Зелёной Тары, одна из самых чтимых местными жителями святынь. На другом берегу Оки мне показывали ещё и гору Белой Тары, но она совершенно не выделяется среди соседних вершин.
15.
Тары в тибетском буддизме - это божества-защитники людей. Белая Тара дарует чистоту и мудрость, Зелёная Тара мгновенно приходит на помощь в беде, и думаю, нетрудно понять, какую из них в суровом таёжном краю вспоминают чаще. Природное изображение Зелёной Тары ламы-миссионеры нашли вон в том гроте на склоне горы, скорее всего лишь вложив новый смысл в древнюю сойотскую святыню:
16.
Чуть дальше на земле - странная каменная выкладка, вроде бы естественная, но окинцам известная как Стрела Гэсэра. Поле у горы Зелёной Тары же - по сути дела Поляна Сойотов, где в середине сентября проходит их национальный праздник Улуг-Даг ("Великая гора", а до 2004 просто "Жогтаар" - "Встреча").
17.
Ещё несколько километров - и дорогу нам вдруг преградил поток застывшей лавы, за которым плещется через острые камни горная речка Жомболок.
18.
10-15 тыс. лет назад и даже позже Восточный Саян был похож на Камчатку, и с той поры даже в Тункинской долине остались десятки потухших вулканов. Но крупнейшим в тогдашнем мире очагом вулканической активности были верховья нынешнего Жомболока: потоки лавы от множества извержений образовали в его ледниковой долине слой толщиной в 150 метров. Закончилось всё это, по геологически меркам, почти что вчера - может быть, накануне основания Рима, а может быть - в эпоху Чингисхана. Лава здесь и в наши дни повсюду, едва прикрытая тонким слоем земли:
19.
Она почти не образует знакомых по Курилам, Армении или Приморью шестигранников, зато вся пронизаны пузырями - состав её был совсем другим, с большим количеством газа, от которого раскалённая жижа бурлила.
20.
Долиной вулканов в Окинском районе обычно называют падь Хи-Гол в верховьях Жомболока, где отлично сохранилось два вулканических конуса. Но фактически весь каньона Жомболока - Долина вулканов, и Шарзинская котловина, куда въезжаем мы по деревянному мостику, обогнув лавовый вал - лишь её низовья.
21.
Над котловиной стоит зубчатой стеной хребет Кропоктина - в этих вершинах 2900-3100 метров:
22.
А у подножья хребта ещё от Саян становится виден индустриальный пейзаж, да и гольцы исполосованы грунтовыми дорогами, на которых то и дело возникает пыль грузовиков. Это Коневинский ГОК, или "Хужир-Энтепрайз", добывающий золото. Именно к золоту разведанных ещё советскими геологами месторождений, а вовсе не к селениям, тянули в 1985-99 годах 180-километровую дорогу из Монд. История самого комбината, производящего по несколько центнеров золота в год, оказалось не менее тернистой: он был пущен в 2011 году, но уже в 2014 встал, причём - в апреле, то есть до разгула санкций. Другое дело, что остановить его "Хужир-Энтерпрайз" планировал всего на полгода, а дальше начать строительство второй очереди, но в итоге простой затянулся на 5 лет. Ожил ГОК в 2019 году, и ныне что работа на нём кипит - видно невооружённым глазом. Конечно, "Хужир-Энтерпрайз" - надежда и опора Окинского района: даже работают на комбинате не вахты со всей России (как в Бодайбо), а вполне себе местные жители.
23.
Ну а в прямой видимости от комбината и наша цель - устье протоки Малый Жомболок, несколькими километрами выше отделяющейся от Большого Жомболока. Перед впадение в Оку он образует водопад - совсем небольшой, но зато прямо в лавовой толще:
24.
Это главная достопримечательность Оки после Долины вулканов. Им любуются туристы перед сплавом по реке, на нём отдыхают местные жители, и конечно же именно его "Хужир-Энтерпрайз" показывает различным гостям своего комбината. С возрождением ГОКа территория у водопада была благоустроена, обзаведясь вертолётной площадкой, оградами, беседками...
25.
...и что ещё важнее - лестницей на дно:
26.
На кадре выше - Оля, Аня и водитель "буханки". Который, улучив минутку, когда дамы не слышат, попросил у меня "оплатить проезд" хотя бы рублей на 500. Мы сперва походили вокруг (это покажу позже), и лишь потом направились к лестнице в чашу. Вот так выглядит ручей за секунду до того, как упасть со скалы:
26а.

В самом водопаде 28 метров, а в тихой заводи под ними мы увидели мостки и купальщиков:
27.
На срезе лавового потока хорошо видны слои, оставшиеся от разных извержений:
28.
В некоторых попадаются и шестигранники - такие возникают просто по законам физики при затвердевании жидкости с равномерным подогревом снизу. То есть поток, затвердевший слоями, тёк по более старой лаве:
29.
На дне чаши вырос лесок, сквозь который проложен дощатый настил, приводящий к раздевалкам. Вода холодная, но терпимая, в центре заводи можно погрузиться с головой, и в жаркий день тут почти постоянно кто-то купается:
30.
Луч света в тёмном царстве:
31.
Обратите внимание на мостки. Жомболокский водопад хорош ещё и тем, что под ним можно постоять, как под холодным душем, очень мощным, но не царапающим и не сбивающим с ног. За водопадами стоять мне случалось неоднократно (например, в Эстонии или Молдавии), а вот прямо в струе - первый раз:
31а.

Вид вниз по ручью. А вот тут есть зимние фотографии этого места.
32.
Лестница же спускается практически к устью на берегу Оки. Ока здесь всё ещё мелкая, широкая и такая быстрая, что с берега невооружённым глазом видно, как дальний берег идёт под уклон. Тем не менее, самый красивый, и при том весьма популярный способ покинуть Окинский район - это сплавиться по Оке аж до самой Зимы (если кто не знает, это город такой на Транссибе). Но по пути придётся преодолеть быстрины ущелья Орхо-Бом и многочисленные пороги с названиями вроде Бочка или Центрифуга. Как я понимаю, чаще всего такие сплавы начинаются именно отсюда, а если предпочитаете коммерческие туры - могу порекомендовать "Сибрафт" Андрея Лебедева, который пару дней спустя спас наш поход, уведя заболевшую Ольгу из Долины вулканов.
33.
Берега Оки здесь представляют собой отвесную стену застывшей лавы:
34.
Причём, обратите внимание, она есть и на другом берегу - когда-то Ока была перекрыта лавовой дамбой, и выше лежало подпрудное озеро. Но реке хватило сил вновь пробить себе путь. Параллельно обрыву угрожающе тянутся трещины:
35.
Буквально в полукилометре от Малого Жомболока в Оку впадает ещё один ручей Сайлаг в весьма впечатляющем распадке. Его низовья напоминают крепость в окружении циклопических стен:
36.
Постепенно сужающихся в каньончик:
37.
Отвесные скалы, прозрачная вода:
38.
А валуны на дне окатаны, как галька:
39.
Выше по Сайлагу - ещё один небольшой водопад:
40.
Над которым перекинута пара мостиков - повыше (кадр ниже) старый и ветхий, пониже (кадр выше) - более новый...
41.
...по которому, сквозь фермы и зимовки на фоне белого ГОКа, и уходит дорога в Хужир. Здесь мы разделились - Аня поймала встречную машину и отправилась в Орлик, а мы, успев полежать на траве и даже вздремнуть, всё-таки отправились дальше:
42.
От водопада до Хужира 8 километров, но две 3-километрвые вершины над комбинатом успевают повернуться другой стороной:
43.
Взгляд назад, сквозь каменистую степь. Фактически, полноценная дорога заканчивается у ГОКа - дальше просто накатанные колеи, в полях перед Хужиром ещё и, в лучших традициях Монголии, идущие параллельно - от своего дома до первого прижима у Оки обитатель Хужира едет кратчайшей прямой. Обитателей этих - порядка 500 человек, примерно 400 из которых - сойоты.
44.
Это не первый Хужир, о котором я писал в последний месяц - так же называется столица священного Ольхона, выросшая у Шаманской скалы. Хужир в бурят-монгольских краях название частое, примерно как у нас Сосновка или Заречное, и значит оно примерно - "солончак". Впрочем, у меня в этом есть сомнения, как если бы Сосновка стояла посреди дубравы, а Заречное - вдали от любой реки. Ольхонский Хужир стоит на краю сосновых лесов, окинский Хужир - и вовсе посреди роскошных травянистых пастбищ. Над которыми висит надпись "Ом мани падме хум", даже не выложенная камнями по склону, а сделанная из установленных букв:
45.
К ней, вдоль пастушьих оград, унавоженных троп, трясущих хвостами коней и злых пастушьих собак мы и начали подниматься:
46.
Чтобы увидеть Храм Гэсэра, с культом которого мы сталкивались в Окинском районе не раз и не два. Гэсэр - герой древнего эпоса Центральной Азии, то ли проникшего из Великой Степи на Тибет, то ли напротив - разошедшегося по монгольским степям вместе с тибетским буддизмом, причём раньше него самого. Сейчас это сложно понять, так как Гэсэр всюду пустил корни в местную почву. Испокон веков передававшийся из уст в уста, у каждого племени и народа этот герой проходил один и тот же путь, но - в тех реалиях, которые были понятны именно этому племени. Поэтому тибетская, монгольская, бурятская "Гэсэриады" - по сути дела разные произведения: если Тибет сын неба защищал в мире религии Бон, то бурятский "Абай Гэсэр" о 22 072 строчках считается теперь энциклопедией байкальского шаманства.
47.
Ещё Гэсэра называют богом войны и покровителем всех воинов, но до чего показательно, что у степняков это был положительный бог! Сам сюжет "Гэсэриады" словно собран из трофеев разных культур, народов и религий, когда-то услышавших свист монгольской стрелы. Само слово "Гэсэр" лингвисты возводят к латинскому слову "Кесарь". Отцом Гэсэра в монгольской и ладакхской вариациях был Хурмаст, в имени которого сложно не признать зороастрийского Ахура-Мазду. У бурят с Хурмастом отождествляется Эсеге-Малан тенгри ("Отец Лысого [ясного] неба") - сына Вечного Синего Неба и главный из 55 западных (добрых к человеку) небесных божеств-тенгриев. В одних вариациях эпоса Гэсэр был первочеловеком, вылупившимся из космического яйца, в других Сын Неба - мессия, но не снизошедший дух, а дитя человеческое. Родился будущий герой жалким, слабым и даже сопливым, однако в юртах нет печей, на которых удобно лежать 30 лет и 3 года. Уже в младенчестве Гэсэр низверг своей магией чёрного шамана, во всех вариациях имени которого (монгольский Цотон, бурятский Чёрный Зутан) опять же сложно не узнать Сатану. Побеждая мунгасов (демонов) жалкий мальчишка превращается в прекрасного юношу, в состязании получая сокровища чудесной страны Лин, её принцессу Другмо (у бурят - Урмай-гохон) и в знак завершения инициации - небесного коня. Одной из главных побед Гэсэра становится низвержение северного демона Лубсана, жена которого, однако, даёт герою напиток забвения, и внушает ему, что он и есть северный царь. Страну Лин тем временем захватывают призванные Цотоном хоры - некий воинственный народ, ведомый "шараблинскими ханами". Их царь Гуркар похищает Другмо и насильно берёт её в жёны - чем не судьба Бортэ, похищенной северным племенем меркитов, пока на другом конце Монголии воевал её муж, Тимуджин из Делюн-Болодка? В конечном счёте Небо возвращает Гэсэру память, он вновь побеждает всех врагов, и освободив супругу, уходит с ней и с несметным войском покорять Китай. В одном лице Ахура-Музда, Рама, Иисус Христос, Цезарь, Чингисхан и ещё бог весть кто - кажется, на турнире эпических героев разных времён и народов Гэсэр победил бы всех.
48.
Ну а почему его культ даже на фоне прочего БурМира так хорошо прижилися на Оке - я не то что не знаю, но и исследований таких не встречал. Может, он заместил собой какого-то героя из забытого язычества сойотов, а может его почитали своим заступником хонгодорские пограничники с глухих караулов. Как бы то ни было, этот тихий храм, не похожий ни на дацаны, ни на бурханы - самое впечатляющее рукотворное сооружение Оки. Поставлен он был в 1995 году, когда отмечалось 1000-летие "Абай Гэсэра", и я не знаю, чем удивляет больше - ни на что не похожей формой или красотой деталей. Минималистичные, потрясающе атмосферные росписи храма делал Лубсан Доржиев, для бурятской культуры значащий примерно то же, что Геннадий Павлишин - для нанайской.
49.
А вот бронзовая скульптура Гэсэра тут появилась лишь в 2019 году, вероятно как подарок от "Хужир-Энтерпрайза". Ваял её Дмитрий Бадажабэ - не столь известный, как Даши Намдаков (знакомый нам по Ольхону), это крупнейший в Бурятии мастер буддийской скульптуры.
50.
Хужир - тупик дороги: дальше лишь дикие холодные горы, к дальнему подножью которых можно проехать от транссибовских станций в Аларской степи. Спустившись от Храма Гэсэра обратно на луга, из 8 километров до водопада половину мы прошли пешком, а ещё примерно столько же, куда дальше, чем ему самому было надо, нас подвёз селянин, ехавший из Хужира на одну из ферм. Отдельным впечатлением всей этой поездки стали суслики, которыми степная трава в долинах просто кишит:
51.
У водопада просидели мы на камнях придорожных валунах около часа, и я было успел запаниковать - мимо не проехало ни одной машины. В какой-то момент пара машин прошла к водопаду - это выбралась к своей достопримечательности большая орликская семья с улан-удэнскими гостями. Я было испугался, что они останутся там ночевать - но вскоре они направились обратно и подобрали нас.
52.
А на утро мы отправились мимо Хонгодорской стелы в далёкий Хойто-Гол, чтобы пойти оттуда в Долину вулканов. Но об этом - в следующей части.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт.
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Великая Степь Сибирь природа дорожное этнография |
Орлик. Райцентр затерянного мира. |
На медленной глубокой Оке Русской стоит целый Орёл, а на мелкой и стремительной Оке Саянской - только Орлик. Так называется село (2,6 тыс. жителей), центр самого глухого, далёкого и высокогорного Окинского района Бурятии. Расстояния от Орлика до чего бы то ни было впечатляют: 150 километров до асфальтовой дороги в Мондах, 360 - до Транссиба в Култуке, 470 до ближайшего большого города Иркутска и 710км до Улан-Удэ. Над затерянным миром Сибирского Тибета, как называют иногда Окинский район, Орлик парит столичным орлом - тут есть несколько магазинов, две асфальтовые улицы, школа, больница и даже банкомат. Ещё - гостиница и две турбазы: добравшись до Орлика в прошлой части мимо красот Окинского тракта, мы коротали тут дни в ожидании машины в сторону Долины вулканов. Достопримечательностей в Орлике нет, но такая глушь не может не быть колоритной.
На въезде в Орлик встречает Гэсэр - герой тибетской религии Бон, слава которого разошлась по монгольским степям и горам вместе с тибетским буддизмом. На Оке Гэсэр как-то особенно хорошо прижился, вероятно заместив собой какого-то не дождавшегося этнографов бога или героя. Который происходил из забытого язычества сойотов - древних горных оленеводов, в ХХ веке перешедших на бурятский язык с тюркского, а в Средние века - на тюркский с самодийского. Подробнее о сойотах я рассказывал в прошлой части - их сёла Сорок, Боксон и Хурга стоят южнее по тракту. В районной столице сойоты составляют пятую часть населения, а популярнее тут быть хонгодором - так называется тункинско-окинское племя бурят, по своему происхождению из монгольской долины Кобдо более близкое к калмыкам.
2.
Однако даже про Гэсэра забываешь, когда впереди показывается нечто более удивительное - АСФАЛЬТ! Две твёрдые улицы Орлика подобны Тристану-да-Кунье или острову Пасхи - на сотни километров одни.
3.
История Орлика скудна и малоизучена, да и гуглению почти не поддаётся - всё забивает наглый гетман Пилип Орлик со своей "конституцией". Обычно за точку отсчёта здесь считается Окинский караул, поставленный в 1728 году - правда, куда ниже по течению, в устье то ли Сенцы, то ли Жамболока. Годом ранее Россия и Китай договорились о границе, линия которой с той поры осталась неизменной. Однако даже казаки служить в глухих горах ехали неохотно, на заставах выполняя в основном роль чиновников и начальства. Шашкой махать же да злоумышленников ловить власти привлекали бурят-хонгодоров, причём не столько из соседней Тунки, сколько из Аларских степей за горами, где в 17 веке обосновалось несколько хонгодорских родов. Именно с караулов началась экспансия бурят на Оку, но если в Тунке сойоты растворились среди них без остатка, здесь всё сложилось иначе: у хонгодоров были деньги и власть, у сойотов - умение выжить в сложнейших условиях, и два народа встали здесь спиной к спине между природой и государством. В итоге, конечно, бурятская культура подавила сойотскую, но всё-таки не без остатка... В Гражданскую войну буряты Восточных Саян провозгласили Тункинский аймак, вместе с Эхирит-Булагатским, Аларским и Селенгинским аймаками ставший частью Монголо-Бурятской автономной области в составе молодой РСФСР. Позже Селенгинский аймак отошёл "материковой" Бурятии, а Эхирит-Булагатский и Аларский стали основой Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Тункинский аймак в Тункинско-Окинский или там Восточно-Саянский Сойото-Бурятский автономный округ так и не превратился, но в общем имел на это все шансы и даже внутренним делением успел обзавестись: в 1923 году возник Сойотский хошуун, обитатели которого сошлись на том, что половине из них ездить по делам бумажным слишком близко, а половине - слишком далеко. Место для нового райцентра искали долго, и в 1927 году остановились на зимовье Бага-Хубраг, где жила семья Комиссаровых. Название Комиссаровка так и просилось, конечно, на карту Советской России, но буряты предпочли ручей Орлиг, впадающий здесь в Оку - по нему и село стало Орликом. В 1940 году, когда видимо окончательно стало ясно, что ТОБАО не будет, был образован Окинский район. В тот же год в окрестных горах что-то исследовал Владимир Обручев, и потому видимо в его честь назвали крайнюю улицу, ныне ставшую транзитным путём сквозь посёлок:
4.
Ближе к концу улицы Обручева, между больницей и парой хозяйственных магазинов в Орлике находится что-то вроде главной площади. Там я покинул аптечный грузовичок с вакциной, которым проехал почти весь Окинский тракт. Поддатая женщина в маске, завидев туриста с большими рюкзаком, поинтересовалась, куда мне нужно, и я рассказал, что мои спутницы приехали в Орлик раньше меня и поселились в гостевом доме "Ока". "А! У Мандагаевых!" - воскликнула женщина, и услышав эту фамилию, я слегка огорчился: из чужих путевых заметок я знал, что неофициальным оператором бортовых машин, забрасывающих туристов к Долине вулканов, тут является некий Жаргал Мандагаев. Оля и Аня к тому времени успели доложить мне, что на турбазе им предлагали нанять "Урал" за 27 тыс. рублей, а узнав, что нам это не по карману и мы хотим присоединиться к чужой заброске - сразу поскучнели. Но пути назад не было, и переулочками меж высоких заборов женщина проводила меня до "Оки". Турбаза занимает двор частного дома, довольно непритязательна (тут нет городских удобств), но очень уютна и своих 600 рублей за койкоместо стоит. Оля и Аня ждали меня в "пятнистом" домике, внутри которого оказалось несколько кроватей, стол, умывальник, холодильник и русская печь, которую как раз топила хозяйка. Всё это действительно оказалось семейным бизнесом - дела проворачивал молодой цепкий Жаргал, а хозяйством занимались его родители. Выслушав меня о планах попасть на Хойто-Гол и не разориться, Жаргал развёл руками: утром машина ушла и вроде как снова будет послезавтра - надо только дождаться, когда водитель Жалсан приедет из Хойто-Гола.
5.
И следующий день мы ждали Жалсана в посёлке, за околицами которого стремительно пропадала связь. Ну, и конечно просто отдыхали - в середине июля здесь красиво, прохладно и очень хорошо. Забор турбазы глядит на таёжную сопку, а с опушки открывается отличный вид на село, вытянутое на 4 километра вдоль Оки и 4 улиц.
6.
Стена гор за Окой вроде бы не имеет названия, но её высота над уровнем моря - без малого 2 километра. От хаотичного, невзрачного селения горы буквально оттаскивают взгляд. Среди домов Орлика выделяется лишь жёлтая крыша дацана:
7.
У нас впереди был поход, позади - автостопный бросок (ибо мест на маршрутку не оказалось) и неделя изрядного стресса с чехардой меняющихся планов. За время локдауна в Бурятии (26.06.-11.07.) я успел передвинуть поход в Долину вулканов на неделю, вовсе отказаться от него, сочинить и проработать альтернативный маршурт и таки вернуться к первоначальному плану вечером накануне выезда. И вот мы прорвались в Орлик, но обнаружили себя единственными туристами в нём. Ждать машину бесконечно мы не могли себе позволить - в конце июля Ане надо было на самолёт в Москву, а нам с Ольгой - в дальнейший путь к шаманам Ольхона и в следующий поход на Кодар. Я морально готовился к тому, что прождав дня 3-4 , мы покинем Сибирский Тибет ни с чем. День тянулся медленно, Жалсан всё не выходил на связь, и вот в послеобеденное время мы сошлись на том, что надо идти да искать транспорт самим, а попутно - и смотреть посёлок.
8.
В основном Орлик выглядит так - суровая сибирская глушь, не успевшая обрасти сайдингом поверх бревна и кирпичными коттеджами. "Суровая" - в данном случае совсем не клише: я хорошо помню Восточную Турцию, где в Эрзуруме или Карсе, расположенных южнее Сочи и Батуми, климат гораздо холоднее, чем в Москве - ведь стоят они выше 1,5 километров. В Сибири климат потяжелее эрзурумского даже на уровне моря, а Орлик ещё один из самых высокогорных райцентров Страны великих равнин - 1374м. В его климате больше общего с Эвенкией или районами вдоль БАМ, чем с берегами Ангары и Селенги. Лето Оки прохладное и дождливое, а зимой и -50 в порядке вещей, причём нередко - с ветром.
9.
Дома Орлика по большей части брусовые, советские. Но кое-где попадаются странные приземистые сооружения с травой на крышах - хочется думать, что это зимние жилища сойотов, с постройкой изб ставшие сараями да кухнями.
10.
У ворот в высоких заборах то и дело видишь сэргэ - ритуальные коновязи, у которых теперь паркуют машины:
11.
Пара изоляторов на столбах придаёт обычным воротам совершенно буддийский вид:
11а.

Оконца в заборах, которыми тут отмечено большинство домов - самый что ни на есть практический элемент: из-за вечной мерзлоты здесь не роют колодцы, а питьевую воду развозит цистерна. И под этими оконцами стоят бочки, которые водовоз может наполнять даже в отсутствии хозяев:
12.
А вот единственный попавшийся нам образец сурового сибирского стрит-арта:
12а.
Больше домов в Орлике впечатляет транспорт. Вот очень типичный вид - ЗиЛ, "буханка" и конская упряжь:
13.
Ведь дорога до Орлика была проложена лишь в 1993 году, за Орлик - в 1999-м, а прежде здешний мирок был ещё более затерянным. Во внешний мир тогда попадали только самолётом или верхом на коне, а район соединяли даже не грунтовки, а просто колеи, накатанные самими шофёрами. Бортовые машины, в основном "Уралы" и ЗиЛы, были здесь единственным транспортом, причём не удивлюсь, если транспортом рейсовыми до всех этих Сороков и Хужиров. Теперь дорога от Хужира до большой земли доступна, пусть и с матами, любой пузотёрке, самолёты с 1992 года не летают, а ежедневный автобус до Улан-Удэ едет 10-12 часов. Но - не пропадать же добру! Зверь-машины по-прежнему обеспечивают связь Орлика с далёкими стойбищами, возят местных жителей на промыслы и отдых, а в короткий летний сезон забрасывают туристов к началу горных и водных маршрутов.
14.
Тем временем кто-то осваивает принципиально новый для района транспорт:
15.
Не менее колоритна и прогуливающаяся у длинных заборов скотина в диапазоне от быка до яка. По возрастающей это обычные коровы, мохнатые коровы монгольской породы, ортомы (на четверть яки), хайнаки (наполовину яки), и разве что сарлыков ("полных" яков) я в посёлке не встречал, хотя стада их легко увидеть у дороги (см. прошлую часть).
16.
На этих двух кадрах - хайнаки, от обычных коров отличающиеся пышным хвостом и натуральной гривой на брюхе. По сравнению с коровой хайнак более крепкий, холодостойкий и шерстяной, по сравнению с сарлыком - более домашний, покладистый и мясистый, а потому именно дзохи (тибетское название хайнаков) - основная скотина Оки. Подходить к ним, правда, надо осторожно - летом хайнак ходит в облаке мух, и в радиусе нескольких метров это заразно.
17.
Хайнаки и ортомы тут в основном подсобные животные, а вот яков выращивают, чтобы торговать их шерстью. Яководы, по словам местных - богатейшие люди Оки. Помимо скотоводства (к коему отнесём и туристическую сферу), есть тут и какие-то полукустарные предприятия, вид которых заставляет вспомнить фотографии Прокудина-Горского и заводы-музеи Урала:
18.
Особенно лесопилки в разных концах Орлика:
19.
Представляющие собой просто навесы над пилорамой:
20.
По-своему впечатляют в Орлике и магазины - как древностью вывесок над заколоченными дверьми:
21.
Так и колоритными деталями. Вот например обычный магазинчик... но только с русской печью, которую явно топят зимой. И - русскими продавцами, что вообще-то редкость: русских тут немногим больше, чем где-нибудь в Чечне. Но именно большая русская семья, если не потомки, то преемники тех самых Комиссаровых, держит местный деловой центр - один из домов в центре Орлика к улицам выходит гастрономом и магазином автозапчастей, а в глубине скрывает ещё одну турбазу с такими же койками за ту же цену.
22.
Сойотский язык тут помнят только старики, а молодёжь считает его слишком сложным. Устный язык Орлика - бурятский, но письменный - всё-таки русский, да и тех, кто не владел бы им свободно, я тут не встречал. А вот такие вот объявления как бы намекает, что в этой глуши все знают всё про всех:
22а.
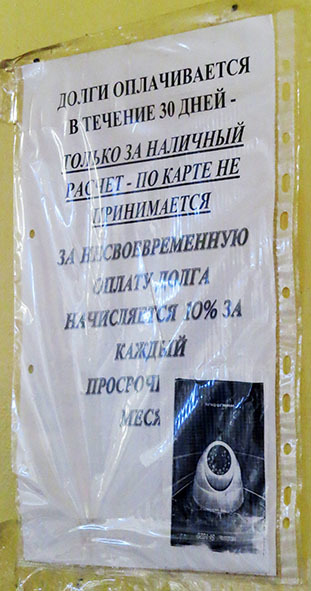
Так в Орлике выглядит единственное кафе. Ну как кафе - просто магазин, в котором можно купить пельмени и за дополнительную плату попросить хозяйку их сварить. Райцентр без общепита я последний раз видел, кажется, в "нулевых", и в этом смысле мандагаевская "Ока" выигрывает у русской турбазы - там хозяйка может приготовить гостям позы по 50 рублей за штуку.
23.
А вот такая незаменимая в Окинском районе вещь, как генератор. Туго здесь не только с радостями, но и с насущными благами цивилизации - по словам местных, когда электричество или связь пропадают на несколько дней, здесь никто не удивляется. На турбазах нет удобств просто потому, что их нет и во всём посёлке, и тот дед, что видел унитаз единственный раз в своей жизни в 1945 году в Берлине - вполне мог быть родом отсюда. Мобильный интернет на Оке появился считанные годы назад, но качество связи таково, что местное 4G работает примерно как на большой земле "ешка". Ну а самой сильной иллюстрацией здешних реалий стал визит Оли в поликлинику - в походе у неё вылез флюс, от которого не помогали никакие антибиотики, и прежде, чем я сумел отправить Олю с встречной группой, она успела сделать себе полевую операцию с зеркальцем, спиртом и ножницами. Операция ей не помогла, но и не навредила, а вот в поликлинике бурятка в белом халате, оказав квалифицированную помощь, добавила, что надо было просто чуть сильнее нажимать. Ведь в тайгу местные ходят на недели и месяцы, и то, что для городских больно, опасно, запретно и чревато заражением, им в порядке вещей. Ну, и как финальный штрих - операция делалась при свете окна, так как в этот день в Орлике опять пропало электричество.
23а.

Ну а генератор я заснял в фойе администрации, где находится единственный в районе банкомат. Впрочем, даже государство здесь представлено довольно ограниченно: Ока - как бы полурайон, часть ведомств которого свои, а часть подчиняются соседнему Тункинскому району. Туристы на Оке редко регистрируются в МЧС, так как его ближайшее отделение находится в Кырене: вроде по пути, а вроде и за 250 километров, так что если добираешься автобусом - придётся потратить целый день. На соседнем с администрацией здании удивляет табличка "Тункинский районный суд. Постоянное судебное присутствие в с. Орлик Окинского района". Здесь же - сиротливый Ильич спиной к народу:
24.
А напротив - живописный Парк Победы. Ворота его обнаружились наглухо запертыми: их могли забыть отпереть после локдауна, но в таком же виде я застал парк Победы в Агинском.
25.
Увязавшаяся за нами псина, однако, нашла удобную дырку в заборе, и мы всё же прошли под хвойную сень:
26.
Не знаю точно, когда мемориал был построен, скорее всего - в последние годы. Больше всего он впечатляет сюжетами глубокого сойотского тыла:
27.
28.
За администрацией обнаружился краеведческий музей в виде трёх деревянных юрт:
29.
Я был уверен, что это наследие Окинского хошууна, но нет - здание было построено в 1980-е годы, а судя по кустам у крыльца и полинявшей вывеске, заброшено давно.
30.
Как я понимаю, музей отсюда переехал (возможно, временно) в Центр сойотской культуры и народного творчества (2019), жёлтое здание которого виднеется дальше по улице. Мы, увы, об этом не догадались и не зашли туда, что жаль - фотографий здешнего музея, равно как и каких-то сойотских предметов вообще, я в рунете ещё не видел. Старый музей же, судя по каркасам уурс (сойотских чумов), теперь служит фоном для народных праздников.
31.
Музей, администрация, Дом сойотской культуры стоят на Советской улице - второй асфальтовой на 150 километров вокруг. Параллельный же бульварчик с лавочками, фонарями и плиточкой уникален и вовсе километров на 300. Он ведёт к автостанции, с которой отправляются улан-удэнская маршрутка и какие-нибудь ПАЗики по району не каждый день. Острая крыша же принадлежит гостинице со звучным названием "Ая-Ганга", где спрашивали мы не о цене, а о транспорте до Хойто-Гола. И в "Ая-Ганге", и на русской турбазе нам давали контакты водителей, но по телефону угрюмые голоса отвечали, что на ближайшие дни групп у них нет.
32.
Советская улица приводит к типовому ДК с сайдингом поверх брёвен, напротив которого ветшает обелиск. Это памятник героям не Великой Отечественной, а Гражданской войны, дошедшей даже в эту глухомань - в рейде вдоль Оки красный анархист Нестор Каланадаришвили со своими партизанами бил казаков. Перед обелиском три мужика благоустраивали площадь, и когда я позвонил очередному водителю "урала", им оказался один из этих мужиков.
33.
Напротив "Ая-Ганги" и Дома Сойотов - деревянная школа 1930-х годов, вероятно старейшее здание в нынешнем Орлике:
34.
А на школьном дворе - беседка с парящей кровлей:
35.
Кадр выше снят с местной Набережной, которая представляет собой мощную дамбу, наваленную явно после какого-нибудь паводка на Оке, смывшего половину селения:
36.
До быстрой воды, шум которой тут прекрасно слышен, впрочем от дамбы без малого пол-километра. Ока студёная, но с половодья посреди бескрайней каменистой поймы остаются озерки, скорее огромные лужи, в которых купается молодёжь.
37.
Лица окинских бурят. А может и сойотов - два народа объединили в какой-то из раннесоветских переписей и вновь разделили в 2002 году. Сейчас, как я понимаю, у большинства окинцев двойная идентичность, вопрос "вы бурят или сойот?" звучит для них примерно как "вы славянин или русский?". Но в то же время, о хонгодорском происхождении местные говорили мне сами и с гордостью, а о сойотском - лишь после наводящих вопросов. Как бы то ни было, внешне местные жители действительно похожи скорее на ненцев или хотя бы якутов, чем на "материковых" бурят.
38.
На старых фото же сойоты такие. У них неожиданно красивые для суровейшего быта лица и у некоторых как раз чуть более европейские черты:
38а.

Ну а вообще местные лица - это не только "няяяя!", но и "ууух!": всё же доминируют среди прохожих, как и всюду в сибирской глубинке, МУЖИКИ. Вид их даже на трезвую голову грозен, а пьяными их лучше обходить за версту. В какой-то момент нас окликнули пацаны, ехавшие мимо на УАЗике:
-Э, туристы, вы откуда!?
-Из Москвы!
-А, добро пожаловать! Главное что не хохлы!
Мы сперва порядком удивились, а потом до нас дошло, что мы только что увидели тех самых боевых бурят в реале. В целом же впечатление моё об окинцах оказалось какое-то очень бинарное: мужчины запомнились мне угрюмыми, грубоватыми и при том цепкими на выгоду, а женщины - напротив, очень дружелюбными, общительными и всегда готовыми помочь.
39.
Бурят с кадра выше, однако, не просто куда-то звонил, а - выручал нас. Увидев компанию мужиков у "буханки", я предположил, что они и о других машинах кое-что могут знать, и вот именно эта случайная встреча спасла дальнейшую поездку. Дело в том, что заброской тургрупп в Орлике занимаются отнюдь не все владельцы бортовых машин, а до "десятых" годов редкие здесь туристы и вовсе ездили "на урбаеве" - монополистом перевозок от цивилизации до гор был водитель "Урала" Анатолий Урбаев. Теперь таких водителей с практически едиными расценками в 25-27 тыс. до Хойто-Гола и 28-30 тыс. до Жойгана, пяток, ну может десяток, однако на ходу в Окинском районе осталось несколько десятков бортовых машин. И местные не только возят группы, но и сами ещё как ездят - рыбачить, охотиться, готовить дрова и даже просто отдыхать в дикой природе. С кем-то перетерев по телефону, мужики отправили нас в магазин промтоваров, где продавщица Вероника как раз собиралась послезавтра ехать с семьёй на Хойто-Гол. Нас она согласилась взять за 10 000 рублей на троих, добавив, что во столько ей с мужем обойдётся топливо. За дверь магазина я вышел с ощущением, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой...
40.
Ну а рассказ о посёлке завершим высокими материями. Во всей Оке русских живёт меньше сотни, при царе в эту глушь не забирались даже миссионеры, а потому это один из немногих в России район без церквей и даже молельных домов. Зато дацанов в Орлике целых две штуки, но и причина тому есть.... В 1995 году Буддийскую традиционную сангху России возглавил властный Дамба Аюшеев, подкрепивший своё положение административными мерами - по новому уставу, глава сангхи избирался настоятелями храмов, которые, в свою очередь, назначались главой сангхи. Всё это вызвало целую серию небольших расколов, участники которых оставались в традиции тибетского буддизма и школы Гелуг, но выходили из подчинения БТСР. Одним из таковых стал тункинский Бунт Трёх Дацанов, который возглавил Данзан-Хайбзун (Фёдор Сергеевич) Самаев - этнический сойот из Орлика и первый постсоветский настоятель буддийского храма в Петербурге. Один из самых влиятельных людей в российском буддизме, именно он вывозил в 1998 году Цугольский Атлас тибетской медицины в США на выставки и реставрацию. Его же творение - стоящие у окинских обоо аригун-субурганы, которые я в прошлой части обозвал ступоурсами за сходство с каркасом традиционных сойотских жилищ. Ученики признали Самаева реинкарнацией самого Агвана Доржиева, а Самаев подготовил много учеников, руководствуясь тем, что: "современный лама (...) - это униврсал. Он и образованный человек, и мастер на все руки: он должен выступать на научных конференциях, уметь решать проблемы паствы, проблемы дацана, водить машину, строить дома". Финалом этой деятельности стал конфликт с Аюшеевым, уж не знаю, кем начатый, но по итогу его в 1999 году Хойморский, Кыренский и Окинский дацаны вышли из подчинения Буддийской традиционной сангхи и объединились в новую организацию "Майдар", с тех пор дополненную ещё двумя монастырями. Её управление находится в Хойморском дацане близ Аршана, и в целом в Тункинском районе дацаны "Майдара" выглядят более чтимыми и намоленными, чем дацаны БТСР. А вот у Окинского дацана "Пунцогнамдоллинг" ("Храм духовного просветления") вид печален. За высоким забором - дуган, перестроенный в 1992 году из частного дома, аригун-субурган и сэргэ, но выглядит всё это бесхозным.
41.
Традиционна сангха же на расколы реагировала с истинно буддийским спокойствием, никого не преследовала и просто строила в мятежных районах свои храмы. Так в 2009 году появилось самое заметное здание Орлика, единственная рукотворная доминанта его пейзажа - дацан "Ламажабдойлин", то есть "Храм почитания великих учителей":
42.
Дуган впечатляет своим обликом то ли робота-трансформера, то ли карбараса:
43.
Он смотрится чуть опрятнее и ярче, но высоченные ворота его точно так же наглухо заперты. Его настоятель давно уже в Улан-Удэ в качестве районного депутата, а лам на Оке я просто не видел ни разу. Буддизм здесь растворился в шаманстве - окинцы чтут Шакьямуни и Зелёную Тару, но молятся им на бурханах с развешанными у деревьев хурдэ.
44.
Дуган-трансформер пристально глядит на кладбище, куда я забрёл в поисках этнографических особенностей - по казахским и киргизским, хантыйским и ненецким некрополям я знал, что посмертно национальность человека может проявляться ярче, чем при жизни. На орликском кладбище нашлось множество деревянных голбецов и ни единого креста:
45.
Языческое святилище же нам показала бурятка, подвозившая нас по району и много рассказывавшая о святынях Гэсэра, Белой и Зелёно Тар. Место в нескольких километрах за Орликом известно как Роща Любви - двойное дерево дополнено здесь парой выступающих корней, в которых местные шаманы углядели мужское и женское начала. Прежде я не раз встречал подобные образы в скалах или пещерах от Ингушетии до Вайгача, но чтобы в дереве, да ещё и в корнях - впервые. Ну а пару сердечек поставили рядом уже официальные власти - ведь типовые скульптуры Петра и Февронии здесь не очень-то актуальны.
46.
...Вечером, уже в сумерках, в наш домик на турбазе постучался довольный Жаргал и сообщил, что Жалсан объявился. По изначальному плану он собираося везти группу из Орлика ночью, по по дороге с Хойто-Гола сел в болото, из которого выбирался пол-дня и лишь к вечеру добрался в посёлок. Я попросил сообщить ему мой телефон, чтобы перезвонил, когда ему удобно. Оля же, узнав, что повезёт Жалсан большую группу, напутствовала мне как можно больше про неё узнать. И вот на лугу за воротами турбазы, откуда я созванивался с Москвой, меня застиг звонок Жалсана. Осипший от усталости голос с небольшим бурятским акцентом сообщил, что выезжают они завтра в 9 утра от площади и что берёт он по 3000 рублей с человека. Я согласился и сказал, что мы едем - всё же на день раньше Вероники, да и не передумает ли она? Но дальше вспомнил Олину просьбу:
-Скажите, а группа-то у вас большая? Сколько человек?
-А не помню. Может 9, может 11, может 13.
-Так... Это пешие туристы или водники?
-А тебе что, разница есть?
-Ну да, у водников обычно вещей гораздо больше, хочу понять, насколько тесно будет...
-Тебе ехать надо или что? Хули ты вопросы свои задаёшь? Не повезу я вас, иди на х...й!
Такого поворота я не ожидал, и даже машинально перезвонил. Трубку после нескольких гудков взяла женщина, которая извинилась за своего мужа, посетовала, что он устал с дороги и у него такое бывает, но шансов, что передумает, теперь никаких. Жаргал, когда я ему рассказал всё это, лишь головой покачал: "Да уж, подвёл Жалсан! С ним такое бывает". В общем, оставалось лишь надеяться на Веронику, а "один жалсан" так и остался для нас единицей измерения неадекватности.
46а.

Ну а день до отъезда с семьёй Вероники мы решили провести с пользой и отправились дальше по тракту за Орлик.
Об этом будут следующая часть.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт.
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Сибирь дорожное деревянное этнография |
Окинский тракт. Дорога в затеряный мир. |
Помимо упразднённых Усть-Ордынского и Агинского (рассказ о котором я закончил в прошлой части на родине Чингисхана), на карте страны вполне мог быть и третий, Тункинско-Окинский Бурятский автономный округ, размером (38 тыс. км², 26 тыс. жителей.) ещё больше похожий на аймаки соседней Монголии. С остальной Бурятией эти два района соединены лишь непроходимыми горами Хамар-Дабана, а единственная дорога через иркутские Слюдянку и Култук превращает гипотетический ТОБАО в третий бурятский эксклав. Главным центром притяжения для его жителей остаётся Иркутск, расположенный на 200 километров ближе, чем Улан-Удэ, а сами эти жители порядком обособлены в пёстром БурМире: ойраты (то есть родня калмыков) хонгодоры и ассимилированные ими сойоты - древние оленеводы Восточных Саян, двоюродные братья ненцев и селькупов.
Ближний и переполненный иркутскими туристами Тункинский район, эти СибМинВоды, я показывал хрустальной осенью 2020 года. Ну а летом 2021-го мы отправились в далёкий Окинский район, за свою суровость, труднодоступность, косматых яков и культ Гэсэра прозванный Сибирским Тибетом.
...Знойным полднем в середине июля мы сидели на околице Култука у начала Тункинского тракта. Последняя позная у заставы глядит на площадь, где останавливаются маршрутки, едущие этим трактом на запад. И что ждёт нас дальше по этому тракту - не знали ни мы, ни шофёры. Ведь из Москвы я улетал в самом начале этой внезапной летней волны Царь-вируса, а в диких степях Забайкалья узнал, что Бурятия вводит локдаун. Тут стоит сказать, что ни один из 120 народов России не относится к этой хвори серьёзнее, чем буряты! Почти все из них, с кем я общался на эту тему, не недоверием к власти кичились, а сделанной недавно прививкой. Многие даже по улице ходили в масках. Но братья-монголы, говорят, в масках разъезжают по степям, а многие буряты раньше ездили на заработки в Корею и вероятно ждут, когда их вновь начнут туда пускать. Совсем не мудрено, что именно Бурятия стала всероссийским центром ковид-паникёрства, и незадолго до поездки мы успели заклеймить губернатора Алексея Цыденова человеком, сорвавшим нам маршрут. Локдаун был объявлен с 26 июня по 12 июля, но тогда ещё свежи были воспоминания о 2020 годе, когда ограничительные меры продлевались вновь и вновь. По телефону я узнал, что на маршрутки до Орлика пускают лишь по паспорту с местной пропиской, но пока не унывал - доехать всегда можно автостопом, переночевать - в палатке, да и в том, что турбазы в той глуши пошлют локдаун лесом, я не сомневался. Последнее, впрочем, понимали и в штабе Цыденова, а потому у подножья священного Алханая на меня вдруг свалилось известие, что Тункинский и Окинский районы закрывают для посторонних вообще. В первую очередь, конечно, это касалось Тунки, куда пол-Иркутска по выходным едет отдыхать на аршанах, но дорога-то одна, и Тунка закупорила её, словно пробка. Любовно спланированный мной поход в Долину вулканов, где к тому же к нам с Олей должна присоединиться третья участница Аня, рассыпался окончательно. Несколько дней мы отдыхали в Иркутске, осматривали его окрестности, а я перебирал в голове планы Б, В и Гэ.
2.
Наконец, я сочинил новый маршрут по Большой Байкальской тропе, оформил пропуска в Прибайкальский нацпарк и билеты на катера. Вечером 11-го мы с Ольгой собрали вещи, а Аня разбила палатку в Порт-Байкале, чтобы утром встретиться с нами в Листвянке на борту "Восхода" до Больших Котов. И вдруг уже затемно я увидел в телеграме сообщение о том, что с завтрашнего дня Бурятия снимает все ограничения! Купленные через сайт пароходства билеты на "Восход" там же были сданы без комиссии, владелец катера в Большом Голоустном пошёл навстречу и вернул предоплату, а хозяин орликской турбазы Жаргал заверил "Приезжайте, движуха начинается!". Главным жмотом оказался нацпарк, не оставивший возможности сдать пропуск и предоплаченые места под палатку. Не обрадовала и маршрутка Улан-Удэ - Орлик, на которую не было билетов на 3 дня вперёд. Зато Аня в Порт-Байкале вполне успевала чуть-чуть поспать, свернуть палатку и уехать в Култук ночным поездом. И вот к середине дня мы собрались в Култуке у начала Тункинского тракта. Нам предстояло преодолеть 360 километров...
3.
Поначалу - по знакомым с прошлой осени местам. На кадре выше - Ильинская церковь в последнем иркутском селе Тибельти, на кадре ниже - въездной знак Бурятии, перед которым водители вздыхали облегчённо, не увидев блокпоста.
4.
Бурятия встречает белой ступой:
5.
И живой даже на этих СибМинВодах атмосферой Великой Степи:
6.
В которой совсем по особому смотрятся обелиски Победы:
7.
...Меня подхватила на выезде из Култука одинокая женщина, ехавшая в Зун-Мурино. Оля и Аня почти в ту же минуту стартовали с русским мужичком, который ехал в курортный Аршан. Места в его машине, однако, хватило бы и троим, а водитель согласился подождать меня. Втроём мы втиснулись и в следующую машину к доброму буряту, который ехал через курортный Жемчуг в райцентр Кырен. Но мчась по ровной узкой дороге и объезжая, как в компьютерной игре, то и дело преграждающих её коров, я не любовался пейзажем. В октябре Тункинская долина пленила меня своей красотой золотых лиственниц, тёмных елей и белых снегов на синих горах под хрустально-голубым небом. Всё это - в прохладе и просторе, когда туристов становится так мало, что остаются открытыми лишь лучшие позные, где кормят своих. Летняя Тунка напоминала себя-осеннюю лишь острой пилой Тункинских гольцов, у подножья которой не было теперь ни тех фантастических красок, ни прозрачности воздуха, ни тишины - лишь суета дешёвого курорта в заурядном по меркам Сибири пейзаже.
8.
Добрый бурят провёз нас на 7км за Кырен и высадил у речки, пояснив, что если мы не сможем уехать - тут удобно переночевать. Однако уехали мы раньше, чем попрощались с ним - на первой же машине нас, снова нераздельной тройкой, подобрала чета немолодых сельских бурят из Турана. По пути они рассказывали нам о том, что очень рады концу локдауна и возвращению туристов, да о духах и божествах, которым сыпали зёрнышки и кропили молоко, притормаживая у увешанных хадаками бурханов. Туран был самой дальней на тракте точкой нашего осеннего путешествия, где мы свернули тогда к Ниловой пустыни - всё это, как и посёлок Кырен с явным архитектурными задатками столицы несостоявшегося ТОБАО, я показывал в третьей части прошлогоднего рассказа. Теперь же мы проехали длиннющий Туран насквозь да остановились в лесу у спуска к ещё одной удобной для ночлега поляне. И постояв ещё с часок, поняли, что пора спать - за пол-дня мы проскакали 160 километров.
9.
У впадения быстрой речки Халуун-Угунь в Иркут обнаружилась действительно отличная стоянка со столиком и беседкой. Вот только вздрагивали мы, видя фары в лесу - формально весь Тункинский район, кроме дорог и посёлков, занят национальным парком. Мы здесь могли нарваться хоть на штраф, хоть на пьяную компанию, которой штрафы не писаны. Но машины раз за разом вброд пересекали речку и уезжали в тайгу. Хмурым утром я собрался быстрее своих спутниц, и понимая, что впереди ещё 200 километров глуши, вышел на тракт в одиночку. Тут, видимо, сработало чутьё - вскоре меня подобрала машина с четой туристов, ехавших куда глаза глядят.
10.
Тунка похожа на ожерелье небольших долин, нанизанных на белую нить Иркута. Тункинская долина с Аршаном, Кыреном и Старой Тункой - самая большая и длинная. Остальные скорее круглые котловины, разделённые ещё не перевалами, но грядами с тёмной тайгой.
11.
На такой перемычке трасса пересекает Иркут. На мосту обилие люков и вытяжек напоминает, что внизу вечная мерзлота.
12.
С моста отличный вид на скалы, с пещеркой на которых не может быть не связано каких-нибудь местных легенд:
13.
Своих новых спутников я сначала принял за бурят-полукровок, но оказались они башкирами. Несколько лет назад они переехали из Уфы в Листвянку на работу в Институт времени. Как я понял, имеется в виду не зубодробительно-физичский НИИФТРИ, а филиал московского Института исследования природы времени, зародившегося как неофициальный кружок при биофаке МГУ. Судя по сайту, время там изучают со всех сторон от физики до философии, и мои спутники тут представляли явно философский фланг. По неисчерпаемой Байкальской стороне они вот так, без явных целей, по знакам судьбы и случайным подсказкам, катались регулярно. В тот день у них сорвалась другая поездка, и вот знаки повели их на запад по Тункинскому тракту - словно чтобы подвезти меня.
13а.

На спуске с гряды в последнюю Мондинскую котловину мы обогнали целый строй спортсменок на странных роликовых лыжах... и упёрлись в шлагбаум погранзоны. Гражданам России здесь достаточно паспорта, однако на КПП у въезда в Монды работают по старинке - проверяют всех и вбивают их данные в какую-то базу, да так, что при трафике 2-3 машины в час тут нередко собирается очередь. Я отошёл к памятнику - российским пограничникам вообще и убитому контрабандистами под Кяхтой в 2011 году местному уроженцу Батжаргалу Манзапову в частности.
14.
Мои попутчики, тем временем, расспрашивали молодого бурята в униформе о том, что здесь можно посмотреть, и он отправил их к водопаду, что было мне по пути. Монды - крупное (1 тыс. жителей), но безликое село:
15.
А за Иркутом - развилка. Прямо, мимо субурганов и будд асфальтовый Тункинский тракт ведёт в Монголию, через 40 километров упираясь в Хубсугул - крупнейшее в той стране пресное озеро, которое называют ещё Младшим братом Байкала. Посёлок Ханх за погранпереходом связан с Иркутском крепче, чем с Улан-Батором, а в 18 веке и вовсе был "дублёром" Кяхты на Великом Чайном пути - даже избы русских купцов в нём вроде ещё сохранились. До локдауна тот уголок жил своей пограничностью: монголы ездили торговать на курорты Тунки, а иркутяне - отдыхать на Хубсугул, как и все монгольские озёра славный умопомрачительный рыбалкой. Ну а за Хубсугулом живёт народ цаатанов, который мы ещё вспомним ближе к цели:
16.
Куда отходит грунтовка мимо странной инсталляции, напоминающей бурхан, почему-то не оживлённый шаманами:
17.
Грунтовка - это и есть Окинский тракт, пробитый в 1985-93 годах к перспективным золотым приискам в верховьях Оки, куда прежде попадали только на конях или на вертолёте. От Монд до Орлика 153 километра, из которых первые полсотни тракт поднимается в узком каньоне Иркута, отделяющем собственно Восточный Саян от одинокого хребта Мунку-Сардык, самого высокого между Алтаем и Камчаткой. У входа в каньон - въездной знак Окинского района:
18.
О котором дальше будут напоминать такие таблички, появляющиеся у дороги тут и там:
18а.

Чаще всего - у достопримечательностей:
19а.
На 20-м километре от Монд дорога проходит через ещё один высоко поднятый шлагбаум погранзоны, где раньше тоже поспорта и пропуска. Гораздо актуальнее то, что у шлагбаума стоит целый городок заброшенных павильончиков, более всего похожих на визит-центр несостоявшегося нацпарка. Обитаема среди них лишь деревянная юрта-позная. Интерьер её непритязателен, в зале трудно развернуться с рюкзаком, облик хозяек угрюмый и таёжный, но более вкусные позы я в своей жизни ел лишь в таком же диковатом заведении на монгольском перевале Цамбагарав. Съездив с Хранителями Времени на водопад, о котором расскажу позже, я описал им своих спутниц и попросил передать, что я здесь, если встретят. А дальше пристроил в позную рюкзак да пошёл искать скалу Нухэ-Дабан.
19.
От позной рукой подать до моста через Белый Иркут - тоненький ручей в гигантском каменистом русле:
20.
Близ устья когда-то словно стояли гигантские ворота, сорванные паводком с каменных петель:
21.
Выше по течению - глубокий каньон с отвесными стенами, по которому проходит один из маршрутов восхождения на Мунку-Сардык:
22.
За мостом ворота с парящей кровлей ведут на небольшую поляну:
23.
Где пережидали начавшийся дождь трое мужчин с крутой экипировкой и амбциозными взглядами. Они собирались идти пешком в Кызыл, на что закладывали месяц. Причём этот поход был лишь частью многолетнего путешествия вдоль границ России, организованного на президентский грант.
24.
От поляны уходят две дороги. К Нухэ-Дабану - правая, совершенно затерянная в кустах. Я сперва пошёл по левой и через сотню метров оказался не на бурхане даже, а на целом обоо:
25.
Шест с ячьим хвостом и аригун-субурган (каркасная ступа) в виде жердей сойотской урсы (чума) - верные приметы шаманских святынь на Оке:
26.
Здесь явно молятся духу то ли Белого Иркута, то ли Мунку-Сардыка - обоо завершается "балконом" над рекой, и кабы ни густая хмарь - Вечный голец стоял бы её перспективе:
27.
Тропу же к Нухэ-Дабану, на котороую я вышел прямо через лес, промочив ноги о траву и мох, отмечает полузаброшенная ступа за кустами:
28.
Да чуть выше - памятник, отмеченный стихотворением:
В сокровенном желанье своём
я хочу быть высоким, как горы
В беспокойном и шумном пути
быть хочу молчаливым, как горы
Утро белого дня хочу первым встречать
Просветлённо, как горы
Для измены и лжи
быть хочу неприступным, как горы.
Я был уверен, что здесь увековечен поэт, но из памятной группы ВК понял, что Баир Жамбалов был альпинистом и инструктором детско-юношенских групп, которого бывшие подопечные теперь называют "багша" - "учитель".
28а.

От памятника хорошо натоптанная красноватая тропа ведёт через прозрачный и замшелый лес:
29.
То выполаживаясь, то превращаясь в серпантины на склоне:
30.
Обратите внимание на капли - ровно от начала до конца моего пути к Нухэ-Дабану над каньоном Иркута зарядил довольно сильный дождь, сумевший просочиться и внутрь фотоаппарата. По опыту своих прошлых поездок я знал, что в сухом месте это проходит само, поэтому за камеру не переживал, но тратил по несколько минут на каждый более-менее резкий кадр.
31.
Тропа обходит сопку почти спиралью, наверху минуя небольшое висячее болотце. Посреди него я нос к носу столкнулся с тройкой чумазых раскосых мужиков в камуфляже, судя по огромным мешкам за спиной - собиравшим какие-то коренья или чагу. Буряты это были, тувинцы или какие-нибудь монголы с той стороны границы - не берусь предполагать, но по-русски они явно говорили едва-едва, а смотрелись так, что начни они меня убивать - я бы испугался, но ничуть не удивился. Дежурно поприветствовав друг друга, мы разошлись, и вскоре я вышел на карниз вокруг отрога - это высшая точка 3-километровой тропы в 420 метрах над трассой.
32.
Дальше я спустился в распадочек на той стороне... а потом вздрогнул - огромный серый ГЛАЗ пристально смотрел сквозь стену леса:
33.
Это и есть Нухэ-Дабан, дословно Дыра-Перевал, при виде которой я конечно же сразу вспомнил Храм-ворота на Алханае. Но там была именно арка, под которой можно спокойно пройти, а здесь - лишь природное отверстие в узком кряже. В некоторых путеводителях пишут, будто прямо сквозь эту дыру пролегал старинный вьючный тракт, но я сильно сомневаюсь, что даже трижды набожный человек погнал бы сквозь такое препятствие копытных животных с поклажей. Скорее, здесь просто приносили жертвы и молились духам-покровителям: Нухэ-Дабан - не пространственный, а духовный портал Сибирского Тибета. Или глаз дракона, стерегущего затерянный мир:
34.
Я взобрался к подножью, но карабкаться по мокрым скалам в дырку не решился. Сырая мгла чуть разошлась, дав мне полюбоваться Мунку-Сардыком:
35.
Его главная вершина (3491м) осталась правее, в облаках:
36.
Мне же показался то ли пик Крылья Советов (3341м), то ли и вероятнее - вершина Кузьмина (2997м) перед ним:
37.
Подъём к Нухэ-Дабану занял у меня 1,5 часа, спуск - около часа. На поляне я встретил семью туристов, обескураженных погодой. Узнав, что наверху ничего не видно и очень сыро, они сели в машину да укатили в сторону Монд. Туда же уехал и автобус, высадивший у позной большую, красивую и конечно же высокомерную тургруппу, двинувшуюся вдоль тракта покорять Мунку-Сардык. Я достал запасной фотоаппарат, несколько раз отжал насквозь мокрые носки и предался тяжким думам - до Орлика ещё сто (по ощущениям скорее 200) километров убитой грунтовки, на дворе уже 16 часов, и кто ж поедет туда в это время? Хозяйка позной обнадёжила - через пару часов за ней приедет машина из родного села Сорок, а это уже 40 километров до Орлика. Да и маршрутка из Улан-Удэ должна была подойти вскоре, и думается, в этой глуши водитель запросто взял бы меня стоя. Наконец, из-за поворота показался грузовичок, и замотанный долгой дорогой от самого Улан-Удэ водитель обрадовался пассажиру.
37а.

Следующую достопримечательность я осмотрел ещё до Нухэ-Дабана - это водопад, к которому пограничник направил Хранителей Времени:
38.
В общем простенький, кабы ни очередная ступоурса да водоотвод - струя падает в окружённую бетонной стеной чашу:
39.
И уходит в Чёрный Иркут по трубе, диаметр которой намекает, какие бывают здесь паводки:
40.
В фэнтезийных компьютерных играх популярный квест - доставить в заражённую деревню вакцину то ли от чумы, то ли от лихорадки зомби. Такой квест и выполнял шофёр, только вёз он в холодном кузове тот самый "Спутник V". Вёз на родину - сам он из Орлика, но давно уже жил в Улан-Удэ, работая водителем в крупной аптечной компании. Особенно охотно он брал заказы, конечно, домой, где и друзья, и родня, и коэффициент, и на ночёвке можно сэкономить. Тракт вдоль Чёрного Иркута всё плотнее прижимался к скалам:
41.
И наконец - подпрыгнул выше них. А вот погода не наладилась - солнечные кадры все с обратного пути:
42.
Над тайгой встал хребет Мунку-Сардык, за которым - Монголия:
43.
А мы взобрались на плоское, тоскливое, почти тундровое Окинское плато в 2км над уровнем моря. У его начала встречает обоо с беседкой, ступоурсой, гирляндами зурмаданан (ленточек) и тройка сэргэ (ритуальных коновязей):
44.
Плато - водораздел трёх притоков Ангары. Иркут заканчивает путь в, хм, Иркутске, Китой - на окраине Ангарска, ну а Оке течь до самого Братска, и именно на ней большая часть грандиозного Братского моря. Ока Саянская, вопреки сибирскому гигантизму, куда меньше Оки Русской - вдвое короче (630км против 1500) и впятеро маловоднее (274 м³/с против 1258 м³/с). Зато - в разы, если не на порядки, быстрее, так что по факту в ней ещё меньше воды. По-бурятски она называется Аха, но в Забайкалье тоже не её тёзка: Аги по-эвенкийски значит лесостепь, Ок-хем по-тюркски - Белая река. Так что на тёзках Оки стоят не Орёл и Калуга и даже не Амитхаша и Агинское, а вовсе Уфа и Майкоп. Отличаются же две Оки ещё и прилагательным: в Рязани и Муроме берега окские, в Зиме и Братске - окинские. Обоо с кадра выше же стоит над истоком реки из тихого Окинского озера:
45.
По хорошей погоде в озере должен отражаться и Вечный голец (3491м) - именно так переводится с бурятского название горы Мунку-Сардык, высшей точки Восточно Сибири. Здесь он слева - скалистая вершина с прожилками ледников сразу привлекает взгляд. В легендах эта гора - замок Гэсэра, ну а группы альпинистов теперь одна за другой стучатся к нему в двери.
46.
Несостоявшийся ТОБАО в бурятском мире считается вотчиной хонгодоров - самого маленького (6% всего народа) и молодого из 4 главных бурятских племён. И - самого обособленного: эхириты, булагаты и хоринцы пришли на Байкал из Монголии в 11-13 веках. а вот хонгодоры тяготели к другой общности - ойратам Западной Монголии, по своей далёкой волжской колонии нам более известным как калмыки. От баятов, захчинов, дербетов, олётов и прочих хонгодоры отличались хозяйством: это были не степняки, а горцы, живущие от сезона к сезону между плато и долинами. Но - кочевые горцы: раз в 50-60 лет они обнаруживали, что пастбища скудеют, и переходили к другим горам. Постепенно маятник хонгодорских миграций стабилизировался между Восточным Саяном и долиной Кобдо на западе Монголии. Вернувшись в Сибирь в 1688 году, они обнаружили вдруг, что тут есть теперь новый хозяин - русские, к 1727 году как раз прочертившие с Китаем современную границу. И если пастухи да паломники ходили через неё почти свободно, то целой орде беспрепятственно откочевать уже бы никто не дал. Хонгодоры осели в Саянах и занялись диверсификацией хозяйства, преуспев в облавной охоте целым родом, подавшись в стражу границы и даже освоив примитивное земледелие. Они полностью влились в бурятский мир, стали одним из его столпов. Окинский район в ХХ веке считался самым титульным - на бурят приходилось 98% от его 5 тыс. жителей. Теперь их здесь лишь 39% - перепись населения 2002 года вернула на этническую карту России небольшой (3,6 тыс. жителей) народ сойтов:
47.
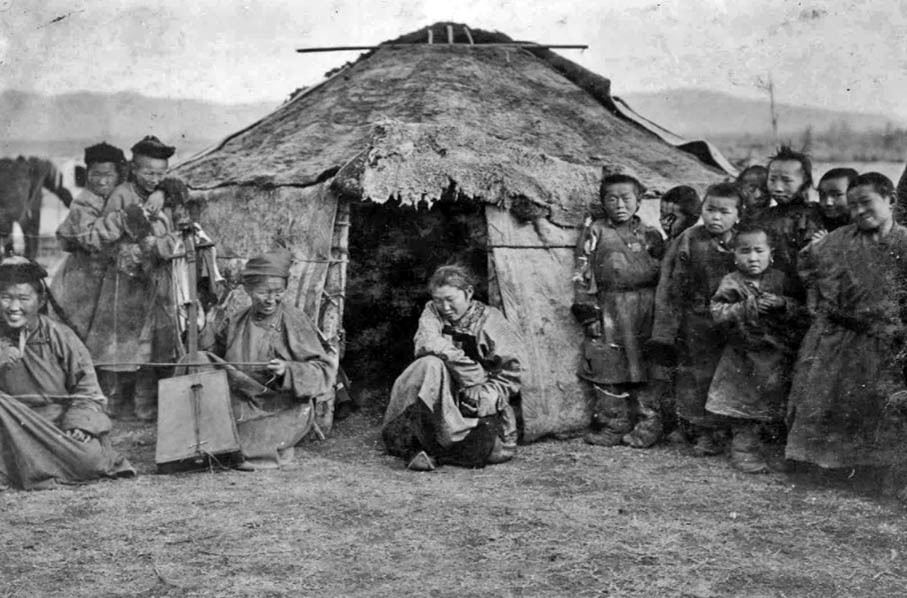
С Алтая народы разбрелись по свету от Босфора до пролива Дрейка, но и выходцев с Саян можно встретить очень далеко от родных гор. Легко ли представить, что кочующие по бескрайним плоским тундрам ненцы спустились отсюда, и даже оленеводство привезли? Впрочем, то было слишком давно, а связующая нить между Саянами и тундрой - таёжная Селькупия. Железно звенящий язык её коренных жителей ни с чем не перепутать, и ещё в 18 веке схожие с ним языки звучали на юге Сибири достаточно часто, чтобы их сумели расслышать исследователи - открыл саянских самодийцев пленный швед на русской службе Филипп фон Страленберг (1730), за которым подтянулись Пётр Паллас и Герард Миллер. Но картина менялась стремительно, и последнее поколение знавших родной язык каргасцев, койбалов, маторов и тайгийцев ушло в начале 19 века. Дольше других жил камасинский язык, успевший порадовать слух советских этнографов - последняя из саянских самодийцев Клавдия Плотникова умерла в 1989 году в возрасте 93 лет в деревне Абалаково на юге Красноярского края. Её даже носителем языка было сложно назвать - русская по отцу, она просто знала от матери Афанасии Анджигатовой несколько тысяч камасинских слов, которые после замужества говорила лишь заезжавшим к ней раз в несколько десятилетий учёным. Впрочем, двух камасинцев по самознснанию (и видимо происхождению) выявила перепись 2010 года. Все эти народы жили в верховьях Енисея, где либо стали хакасскими племенами, либо растворились среди русских.
47а.

Самодийцы Восточных Саян своих лингвистов не дождались, ещё в 17-18 веках перейдя на язык, схожий с тувинским, где о прошлом напоминали лишь отдельные слова. Сойоты и вовсе пережили двойную ассимиляцию: в Тунке с её плодородными степными долинами они растворились среди хонгодоров без следа, а вот на гористой Оке уже бурятам пришлось перенимать сойотский образ жизни. По-бурятски здесь заговорили лишь в ХХ веке: сойотский помнят многие старики, детально изучили лингвисты, а в последнее время его даже стали преподавать в окинских школах - по словам местных, очень сложный язык. Ныне Орлик населён в основном хонгодорами, а "столицей" сойтов считается то самое село Сорок, где ими числится 619 жителей из 740. Орликские говорили мне, что настоящие сойоты - рослые и светлые, но та женщина из позной, напротив, куда больше походила на якутку или ненку с широким лицом и "утопленным" носом, чем на статную бурятку.
48.
В Сорок нужно ехать весной, если вас интересует главная сойотская особенность - оленеводство. Из этих гор оленеводы разошлись по Сибири, и 4 оленеводческих народа остались на Восточном Саяне до наших дней. Помимо сойотов это тофалары в Иркутской области, тувинцы-тоджинцы в Туве и цаатаны, или духа в Монголии - по сути те же сойоты, сохранившие архаичный быт и тюркскую речь, а в наши дни ещё и избалованные вниманием гламурных фотографов со всего мира. Горно-таёжное оленеводство не похоже на тундровое: в первую очередь олень здесь - транспорт, и лишь потом еда и стройматериал. Если у ненцев чертой бедности считаются 300 оленей, то сойоту или тофалару достаточно трёх - важенки и пары быков, работающих посменно. На извилистых тропах мало пользы от саней, зато сёдла на оленя вешают аж 3 типов - ездовое со стременами, вьючное и детское под люльку. Сама конструкция сёдел примерно та же, что и у лошадей, не считая расположения на лопатках - хребет у оленя куда слабее, чем у коня. Всё это намекает, что саянское оленеводство совсем не такое, каким его увезли отсюда ненцы - просто лошадь по глубокому снегу в горах редко проходит за день хотя бы 20 километров, а вот оленю хватает сил километров на 30-40, и тюрки да буряты лишь приспособили коневодство к другой скотине. Так что лакомиться олениной да выделывать замшу в Саянах позволяли себе только богачи, остальные в лучшем случае доили важенок.
48а.

Для мяса и шкур как бы не популярнее оленя был лось - в основном сойоты жили облавной охотой. Ныне, как я понимаю, последний табун сойотских оленей зимует в загонах Сорока, летом поднимаясь в горы. Все остальные особенности сойотской этнографии и вовсе стали достоянием даже не музеев, а этнографических статей. Жилищем здесь была поставленная среди елей или кедров урса, то есть маленький чум из бересты или шкур, где мебелью служили вьючные сумки. Даже переняв у бурят юрты, крыть их сойоты продолжали шкурами. Из шкур делалась и одежда, судя по старым фото имевшая абсолютно бурятский фасон. Вообще, этнографам сойотская культура досталась в "полупереваренном" виде - древние ремёсла и обычаи забылись, а на смену им пришли сильно упрощённые и огрублённые под таёжный быт бурятские аналоги. Всё богатое и красивое же сойоты просто покупали у бурят...
49.
И видимо буряты привели в Саян "снежных верблюдов", как русские прозвали яков, впервые встретив этих косматых хрюкающих быков. В Сибири и Монголии у них своё название - сарлыки, и с 19 века они исправно теснят оленей с горных пастбищ. В настоящем Тибете яки не спускаются надолго ниже 4км над уровнем моря, а в Сибирском Тибете прекрасно себя чувствуют на 1-2км. Если оленей тут надо искать специально, то несколько ячьих стад мы видели прямо у дороги, а по словам местных, яководы - самые богатые люди Оки.
50.
Як, однако, животное дикое, обращаться с ним сложно, да и копыта у яка острые, а потому не дай бог его разозлить! Зато сарлык прекрасно скрещивается с коровой - получается хайнак, о суровом волосатом предке напоминающий пышным хвостом и гривой на брюхе. На остальном теле длина шерсти и масть у хайнаков очень различны - канонически их получают от волосатых монгольских коров, но вот на фото явно потомок обычной русской бурёнки. Хайнаки по сравнение с сарлыками более покладистые, в них больше молока и мяса, и к тому же они плодовиты - от быка и хайначьей коровы рождается ортом. В целом, чистых яков тут держат больше на шерсть для продажи, а их помеси - на мясо и молоко в подсобном хозяйстве. Хайнаки, ортомы и лошади - почти вся скотина Оки:
51.
За Сороком выше по одноимённой речке хорошо виден длинный заброшенный деревянный мост, оставшийся от старых внутрирайонных грунтовок:
52.
Через Оку мостов нет, но стоит Боксон. Он и Хурга в излучине - небольшие (180 и 120 жителей), так же в основном сойотские деревни.
53.
А вот, уже не помню где, небольшой дуган вдруг показывается у дороги. Заочно легко подумать, что Ока - такой же буддийский край, как и Ага: храмов тут явно больше, чем 1 на 1000 жителей, да вдобавок они принадлежат двум организациям - Буддийской традиционной сангхе России и не подчиняющемуся ей религиозному объединению "Майдар". Но... все они стоят пустыми и запертыми, а в посёлке я не видел лам.
54.
Буддизм на Оке по факту поглощён шаманством - тут знают Зелёную Тару, бодхисатв, махакал и прочих, но только молятся им на бурханах, где даже висят молитвенные цилиндры хурдэ:
55.
Лучше тут прижился культ Гэсэра - героя древней тибетской религии Бон, распространившегося по монголосфере вместе с тибетским буддизмом. С именем Гэсэра, сына Хурмаста (то есть Ахуры-Мазды, культ которого как-то просочился в Тибет) тут связано множество скал и урочищ, и даже застывшая лава Долины вулканов якобы осталась от сгоревшей крепости его врага.
55а.

Своё язычество сойотов давно забылось, смешавшись с бурятским. Но вместо 13 Арын-нойод (Владык Севера) здесь чтут 13 Ахын Хаданууд - Священных гор Оки, у подножья которых лежат святилища-мургэлы. Самыми живучими оказались охотничьи поверья, отлично ложащиеся в концепцию рационального природопользования - например, не убивать животных в парах (то есть с детёнышами, но объяснение таково, что выживший проклянёт) или неизвестных охотнику. Отдельные табу касались утки-турпанки, лебедя (тотема хонгодоров) и ласточки, приносящей весну.
56.
100 километров от позной до Орлика мы ехали порядка 3 часов. Оля и Аня встретили Хранителей Времени на шлагбауме, а Нухэ-Дубан проехали как раз когда я был в горах. В Орлике они ждали меня на турбазе, где натопили печь - сушить меня и фотик.
57.
Не край земли, а затерянный мир в самой её середине...
58.
В следующей части расскажу про Орлик - его столицу.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Великая Степь Сибирь природа злободневное дорожное деревянное этнография |
Делюн-Болдок. Родина Чингисхана. |
Большая часть достопримечательностей Агинского Бурятского (уже не автономного) округа так или иначе связаны с буддизмом - как показанный в прошлой части Цугольский дацан, центральный Агинский дацан или священная гора Алханай. Но главные события монгольской истории происходили задолго до принятия буддизма, и очевидно ли, что простым пареньком из Забайкалья, местечка Делюн-Болдок на реке Онон в 80 километрах южнее нынешнего Агинского, был Тимуджин, более известный как Чингисхан Потрясатель Вселенной.
Хмурым утром, часов в 6, я покинул гостиницу "Гоби" в Агинском и побрёл на Агу-реку, за которую ведут автомобильный и пешеходный мосты. За спиной остался "даунтаун" из нескольких "кобзоновок" (это не шутка - Иосиф Кобзон в 1997-2008 годах был депутатом Госдумы от АБАО, и то время тут вспоминают как золотой век), а дальше видны золотой купол Никольской церкви (1897-1903) и мемориал Победы (2005) на Крестовой сопке.
2.
Сама Ага кажется несколькими тщедушными ручейками среди огромной поймы. Так часто выглядят среднеазиатские и дальневосточные реки, но только их русла каменисты, а здесь - мягкий грунт да изумрудная трава:
3.
Агинское тянется довольно далеко за реку, но из примечательного в этой части посёлка - только стадион в ориентальном стиле:
4.
Метнуться туда-обратно за 80км и походить там хоть 2-3 часа я планировал за пол-дня - вечером надо было успеть в Читу на поезд. И я, конечно, понимал, что это авантюра, но дух Потрясателя Вселенной словно рад был увидеть меня на своей малой родине: поездка прошла столь удачно, сколь это только возможно. Автобус на ближайший к Делюн-Болдоку посёлок Нижний Цасучей ходит раз в день, причём из Читы, и потому в Аге оказывается только в середине дня. Но ещё в черте посёлка около 7 утра я поймал машину, на которой быстро ехал русский паренёк, оказавшийся интересным собеседником. Он был из Дарасуна, работал там на железной дороге, но в своё время не решился поступать в художественное, о чём теперь явно жалел. Под разговоры о путешествиях, блогах и поиске себя полтора часа пустой дороги пролетели незаметно, так что даже остановки водитель делал охотно. В Цасучей он ехал забирать жену, и предлагал подвезти меня и обратно, если я посмотрю всё, что мне надо, за пару часов.
5.
На все 80 километров дороги - единственное село Цокто-Хангил (1,2 тыс. жителей), где 99% жителей буряты, а мастеров спорта по борьбе среди местных уроженцев столько (около 30, если точнее), что их даже отправляют на экспорт - один выступает за Киргизию. За воинским обелиском, слегка похожим на соёмбо, виден новенький зал единоборств:
6.
Цокто-Хангил стоит у подножья хребта, разделяющего бассейны Аги и Онона, но именно с ононской стороны раскинулся сама Агинская степь, где уже через десяток километров сложно представить себе леса или горы. В 18 веке русские селились у Аги, где можно возделывать землю и ставить мельницы, а хори-буряты - здесь, где можно вольно кочевать. Агинская степь небольшая, но - плоская, бескрайняя и полная солёных озёр. А по словам водителя, месяцем ранее (то есть в конце мая), когда он вёз жену в Цасучей, вся степь до горизонта была покрыта стадами дзеренов - степных газелей, регулярно заходящих сюда из Монголии.
7.
И травы росли, а дзерены бродили здесь и в 12 веке, а вот люди жили другие. Степь не рассекали границы, и от барханов Ордоса до волн Байкала, от верховий Иртыша до верховий Амура кочевали близкородственные, но отнюдь не дружественные между собой племена. Китайцам они были известны как шивэй, своих иноплеменников называли татары, ну а мы знаем их теперь как монголов. Они не пахали землю, считая это оскорблением богини-матери Умай, и знали, что Вечное Синее Небо Тенгри одно над любой точкой мира. У них не было малой родины, и каждое потрясение оборачивалось переселениями племён за сотни километров. По долинам параллельных Онона и Керулена в 12 веке жили тайджиуты, во главе которых стоял род Борджигин. Слово это значит "сероглазые", и их, конечно, хочется представить этакими Таргариенами-в-реале, обособленными от остальных людей не только характером, но и внешностью. Бывали династии гончаров или священников, а борджигины вот оказались династией завоевателей. Родословную свою они вели от Бодончара, младшего сына Алан-гоа - легендарной праматери монгольской фратрии (группы родов) нирун, дочери баргутской (народ в Китае, близкий к бурятам) княжны и Хорилартай-Мергена. Он был вождём хори-тумэтов, за 1000 лет очертивших по степям причудливый круг от Ангары до Тумангана, в итоге осев в Забайкалье. Нынешние хоринцы - крупнейший бурятский субэтнос, и именно 8 хоринских родов (из 11) населяют Агинскую землю. Так что и герой нашего рассказа - не только монгол, но и бурят и немного калмык: Алан-гоа овдовела с двумя сыновьями от законного мужа Дубун-Мергена, но после родила ещё троих. Единственным мужчиной в юрте был Маалих, слуга Дубун-Мергена, мальчик-бедняк, купленный у отца за половину оленьей туши, сам из ойратского племени баятов. Когда старшие сыновья попробовали спросить у матери ответ, кто же отец младших, та сперва рассказала им о сероглазом мужчине, что входит к ней по ночам и оплодотворяет светом, а потом дала каждому по одному пруту, который братья легко сломали, и по 5 прутов охапкой, которую не сумел сломать никто. Идея этого образа была проста: не стоит делить друг друга по сортам, ведь пока мы едины - мы непобедимы. Позже братья разъехались кто куда, и простак Бодончар, этакий Иван-дурак по-монгольски, одиноко кочевал в степи, отбивая добычу у волков и побираясь на ближайшем стойбище какого-то маленького племени без иерархии. Но когда Бодончара нашли братья, первым делом он покорил это племя и обратил в рабство. Всё это было за 300 лет до Тимуджина...
8.
Степь, между тем, становится наклонной - мы спускаемся к мосту через Онон. Это типично степная, очень длинная (1032км) и довольно маловодная (191 м³/с - чуть больше Клязьмы) река, текущая с Хэнтэйских гор в центральной Монголии. Онон сливается с Ингодой в Шилку, а Шилка с Аргунью - в Амур, и (если не брать совсем уж извращенский вариант с Керуленом, впадающим в озеро Далайнор, из которого в особо водные годы возникает протока к Аргуни) именно от истока Онона у Амура наибольшая длина - 4279 километров.
9.
По Онону проходила граница Агинского Бурятского автономного округа с Читинской областью до их слияния в 2008 году в Забайкальский край. Ононский район на том берегу отделяет Агу от Монголии, до которой 35 километров по прямой.
10.
Большей частью через Цасучейский бор - один из крупнейших (50х30км) равнинных "оазисов" посреди степи.
11.
Но то в теории, а на практике лес сгорел - в 2012 году огромный пожар уничтожил 32 тыс. га из 57 тыс., и теперь на месте гарей торчат лишь редкие тонкие сосны, нашедшие силы ожить.
12.
По лесу проходит внутрирайонная дорога, в которую под прямым углом упирается трасса Агинское-Цасучей. Последний - налево, всякие мелкие сёла - направо, ну а я пошёл назад к реке:
13.
В Ононском районе бурят только 20%, но ступа на скалистом мысу гораздо капитальнее креста:
14.
Поставленная в 2017 году, она называется Намжил-Шодон, что можно перевести как Безусловной Победы. Имеется в виду, конечно же, победа над мирской суетой и выход в нирвану, но над родиной Чингисхана такое название звучит иначе.
15.
О том, что здесь родился самый грозный из людей, сообщает "Сокровенное сказание монголов" - летопись, созданная неким монголом в 1240 году и до нас дошедшая в китайских копиях с подстрочным (пардон, параллельно-столбцовым) переводом. Название - тоже подстрочный перевод, а по смыслу было бы скорее "Фамильная история династии Юань", как назывались Чингизиды в Китае. И с одной стороны, "Сокровенное сказание" - самый достоверный письменный источник, созданный придворными хронистами по горячим следам, но с другой - очень уж там всё изложено кратко! В параграфе №59 сказано следующее: "Тогда-то Есугай-Баатур воротился домой, захватав в плен Татарских Темучжин-Уге, Хори-Буха и других. Тогда-то ходила на последах беременности Оэлун-учжин, и именно тогда родился Чингис-хаган в урочище Делиун-балдах, на Ононе. А как пришло родиться ему, то родился он, сжимая в правой руке своей запекшийся сгусток крови, величиною в альчик. Соображаясь с тем, что рождение его совпало с приводом Татарского Темучжин-Уге, его и нарекли поэтому Темучжином". Вот только Делиун-балдах, Делюн-Болдок (в разных бурят-монгольских диалектах) значит просто Бугор-Селезёнка, а бугров такой формы на 1000-километровом Ононе могло быть и десять, и двадцать. Тем более не факт, что борджигины тогда и хоринцы ныне называли так одно и то же место. Но другого Делюн-Болдока у нас нет, да и от мысли о том, что Потрясатель Вселенной родился в России наполняются гордостью сердца патриотов и ненавистью соответствующие части тела всех, кто против нас.
16.
Пейзаж здесь не сильно изменился за без малого 9 столетий. Ту же пойму, те же сопки, те же озёра видел в середине 12 века Тимуджин - тогда ещё не грозный завоеватель, а просто мальчишка из юрты вождя, глядевший на мир широко открытыми глазами. Но я уверен, что пристальнее всего эти глаза следили за тем, как коршун хватает промедлившего зайца, как отставший от товарищей старый дзерен становится волчьей добычей, как стая шершней берёт штурмом улей...
17.
Когда именно это было - теперь не известно: дата рождения Чингисхана, вычисляемая из даты смерти и возраста, в разных источниках отличается на 7 лет - от 1155 до 1162 года. Прожил же Тимуджин в этом урочище 9 лет, пока отец Есугэй не сосватал его к девочке Бортэ из рода унгиратов, ныне более известного в тюркских краях. Отвезя сына пожить в семье невесты, на обратном пути Есугэй заглянул на огонёк к татарам, вроде как успевшим забыть давние распри, а в своей юрте заболел и через три дня умер - скорее всего, от яда. Обезглавленные борджигины превратились из лидеров тайджиутского племени, вокруг которого группировался восточный союз Хамаг-монголов, в добычу соседних родов. Воины Есугэя переметнулись на службу к Скупому Жирдяю - под таким прозвищем, по-монгольски Таргутай-Кирилтух, был известен его главный соперник за господство в Хамаг-монгольской орде. Две вдовы Есугэя и 7 сыновей оказались предоставлены сами себе и бежали из этой уютной долины.
18.
Счастливое детство Тимуджина сменилось голодным тревожным отрочеством, где частью рациона сделался суп из полевых мышей. И кто знает, выбился бы он куда-то из этой нищеты, если бы Таргутай, когда его авторитет пошатнулся, не вспомнил о наследниках своего врага. За старшим из борджигинов началась охота, по итогам которой Тимуджин был схвачен и закован в колодки - но в колодках этих смог бежать, да ещё и с их помощью спрятаться в озере, где доска позволяла держаться на воде и не казать из неё ничего, кроме носа. Дальше мальчика приютил Сорган-Шира, батрак из племени сулдусов, чьи сыновья, конечно, тоже ненавидели Скупого Жирдяя. Так из бедняцкой юрты в невесть какой степи начался путь наверх. И символичен вид, открывающийся из Делюн-Болдока выше по Онону: "мы, оглядываясь, видим лишь руины - взгляд, конечно, очень варварский, но верный".
19.
Спустившись с мыса, я пошёл обратно в Агинский округ. На мосту повстречался сокол, явно очень не хотевший никуда лететь - я принял его за подранка, но в паре шагов от меня птица спрыгнула сквозь парапет и быстро набрала высоту над Ононом.
20.
С агинской стороны мост отмечен заколоченной позной и небольшим дацаном "Онон-хатан эжы" (2015):
21.
Дацан - конечно, сильно сказано. Тут не курятся благовония и не ходят ламы в красных одеждах, а деревянные здания наглухо закрытыми ветшают на ветру.
22.
Интересно, что хотя это буддийский храм, его посвящение абсолютно языческое: для прибайкальских бурят эжины - это боги Среднего мира, хозяева природных сил. Но бурятское двоеверие сплетается по-разному, и если в Прибайкалье дхармасалы или дакини превращаются в языческих божеств, то в Забайкалье, наоборот, эжины и тенгрии почитаются как махакалы или бодхисатвы. В стороне от монастыря стоит священный камень и бумхан (часовня) Хозяйки Онона:
23.
Возможно, тут камлают шаманы в стороне от лам - а о том, как они это делают, я рассказывал на Ольхоне:
24.
Трасса спускается к мосту между сопок Большой и Малый Баатар. У первого стоит дацан, а второй изобилует вычурными скалами:
25.
И маленький Тимуджин мог сидеть на этом камне, вглядываясь в степную даль с надеждой - вдруг придёт таки враг, и начнётся настоящая БИТВА, финал которой всё равно известен - папа всех победит. Но только в том случае, если он, Тимуджин, ростом ещё не вышедший за окружность колеса телеги, не даст врагу застать врасплох родную юрту.
26.
С естественными скалами легко спутать плиточные могилы. Культурой плиточных могил называют племена, пришедшие сюда с Алтая (откуда ж ещё?!) около 3200 лет назад. Они считаются предками монголов, и до Чингисхана успевшими навести жути по всем степям. Из Монголии вытек тот ручей, что в итоге превратился в чудовищный селевой поток гуннов, а крепко державшему Восточную Азию в 10-11 веках племени киданей европейские языки обязаны словом "Китай". На руинах низвергнутой чжурчжэнями из Приморья киданьской империи Ляо начинал путь наверх Чингисхан.
27.
У лестницы, по которой он взошёл, было много ступеней. Вновь найдя в степи семью, а по пути друга и впоследствии побратима Джамуху, 11-летней Тимуджин возглавил Борджигинов. И - увёл их туда, где не грозил Торгутай-Кирилтух - в Аваргу, степь у Хэнтэйских гор в верховьях Керулена, из которой позже начинал большинство своих войн. В 14 лет Тимуджин женился на Бортэ, а полученную в приданое соболью шубу преподнёс Тоорил-хану - лидеру союза кереитов в пустыне Гоби, фактически доросшего до состояния полноценного государства с письменностью и законами. С таким тылом Тимуджин стал смелее, и в 1184 году, когда меркиты из нынешней Бурятии похитили Бортэ, разбил их в своём первом сражении на Селенге где-то между Хилком и Чикоем. В том бою Тимуджину помогли кереиты и Джамуха со своим отрядом, а трофеев и пленников было достаточно, чтобы образовать собственный улус. С Джамухой при этом Тимуджин о чём-то не договорился, и названный брат стал злейшим врагом, от которого будущий Потрясатель Вселенной получил в 1186 году своё первое и единственное поражение.
28. Селенга выше Улан-Удэ.

Однако оба остались в живых, и освоившись в улусе, десять лет спустя при поддержке Джамухи и Тоорила Тимуджин начал свой первый завоевательный поход - на татар, в чём монголов поддержали чжурчжэни, правившие Китаем как династия Цизнь. Победа, добытая Тимуджином, досталась Тоорилу, которому Цизньский император пожаловал титул Ванхан. Вскоре на сцену вышел ещё и Гурхан - сплотивший несколько племён Джамуха, и следующее десятилетие Тимуджин провёл в бесконечных войнах всех этих кереитов, меркитов, татар и прочих. В том числе - державшихся особняком найманов: эти жили вдоль хребтов от Алтая до Танья-Шаня, и к концу 12 века успели запугать Среднюю Азию и креститься в несторианстве. Под удар найманов Ванхан и пытался подставить Тимуджина, но тот, ночью грамотно разминувшись с врагом, утром спас не только себя, но и Ванхана. На несколько Тоорил тот стал надёжным союзником Тимуджина, но в итоге примкнул к Джамухе и погиб опять же от найманской стрелы. Походя Тимуджин наконец поквитался с татарами, после боя устроив расправу - как гласит "Сокровенное сказание", в том племени были казнены все мужчины, выросшие выше тележного колеса. Но такое сведение счётов было совсем не типично: чаще всего Тимуджин старался победить с как можно меньшими потерями для противника, так как понимал, что верные люди - самый ценный трофей. Племя за племенем переходили под его знамёна, так что даже Джамухе оставалось только бежать к найманам. Найманские нукеры, после ряда поражений на Иртыше и Бухтарме, и выдали Джамуху, надеясь сохранить свои жизни. Они ошиблись: Тимуджин не терпел предателей, даже если они предали врага. Джамуха же был не просто названным братом, он показал себя отличным лидером и полководцем, а потому Тимуджин предложил ему прощение и верную службу. Джамуха ответил, что в небе не бывать двум солнцам, и Тимуджин ушёл, оставив его наедине с кровными врагами.
29. Монголия.
Весной 1206 года у священной горы Бурхан-Хулдун в верховьях Онона прошёл курултай всех монгольских племён, на котором Тимуджин был провозглашен хааном (то есть императором, а само это слово мы знаем в тюркском варианте "каган") и принял новое имя Чингиз. Я долго думал, что это в переводе просто "великий", но нет - в последующие века это слово значило скорее "достойный Чингисхана". Версий же его происхождения множество, и мне больше всего нравится такая, что монгольское Чингиз известно нам как тюркское Тенгиз - Океан. Вот ведь и Далай-лама значит "океан мудрости", так что видимо просто в тех краях да в ту эпоху наивысшим эпитетом из возможных было "подобный океану". Могучий и спокойный, как океан, хаан должен был построить империю, размерами и изобилием подобную океану. И - построил её.
30. Джунгарские ворота (Восточный Казахстан) - основной путь вторжения монголов на запад.
На востоке Чингисхан покорил тангутов (равнинную родню тибетцев), и выйдя к Великой Китайской стене, в 1213 году вторгся в её пределы. Изначально его идея состояла в том, чтобы разделить Поднебесную по Пекину, но император дома Цзинь отступил на юг и стал готовиться к новой войне. Чингисхан упредил его планы и уничтожил чжурчжэней как государствообразующий народ - в их родное Приморье цивилизацию вернула лишь Россия в 19 веке. На запад монголы прорубались через ханства найманов и каракиданей, в 1218 году объявившись в Семиречье. С шахом Хорезма Чингисхан поначалу так же пытался наладить союз, но надменные беки приграничного Отрара просто казнили его послов. В 1220 году на Туркестан обрушилось что-то наподобие ядерной войны, по итогам которой многие города были разрушены до основания, опустошены до последнего жителя и уже не возродились на старых местах. Самарканд, Ургенч, Ташкент монголы стёрли в мелкую серую пыль, а спесивый шах кончил дни на каспийском острове Абескун - по известной легенде, прячась среди прокажённых. Даже зданий домонгольский эпохи в Средней Азии осталось куда меньше, чем на Руси. Лишь несколько городов вовремя поняли, что сопротивление бесполезно и откупились от монголов богатствами и пополнением войска. Например, Бухара, в своём обращении к народу которой Чингисхан заметил: "А не погрязли бы вы в грехах, послало бы вам Небо такую напасть, как я?". Мусульмане видели в монголах библейских магог, и их нашествие стало концом света в отдельно взятом регионе.
31. Афросиаб - руины домонгольского Самарканда.
К середине 1220-х годов Чингисхан стоял во главе империи, простиравшейся от Каспийского до Жёлтого моря и от Якутии до Кашмира. Передовой корпус, преследуя мятежного хорезмского принца Джалаладдина Мангуберти, прошёлся через Персию и Закавказье, разбил русско-половецкий союз на Калке и отступил после поражения от волжских булгар (к которым позже прилепилось название татары). В тылу у Чингисхана тем временем взбунтовались тангуты, усмирять которых Потрясатель Вселенной двинул войска. При осаде их столицы в 1227 году он и умер, причём не от стрелы и не от яда. По одной из легенд, в самом начале осады у Чингисхана произошёл сердечный приступ, но собрав волю в кулак, с остановившимся сердцем он довёл дело до конца, и как человек без сердца превзошёл самого себя в жестокости, никому не дав уйти живыми. Красивее этой легенды лишь версия, что немолодой полководец просто упал с коня: самого могущественного из когда либо живших людей постигла смерть, которая могла постичь любого.
32. Близ Жезказгана мавзолей Джучи - старшего сына Чингисхана.

Современники описывали Чингисхана как рослого, сильного, очень ладного человека со светлой кожей, румяными щеками (то есть - безупречным здоровьем), длинной ухоженной бородой и умным, пронизывающим взглядом. Легенд и слухов о нём ходило, конечно, немерено. В том числе - о неуёмной сексуальности, огромном гареме и специальном приспособлении, чтобы пользовать наложниц без отрыва от командования войском. На деле у Чингисхана было всего три жены - Бортэ из унгират, Хулан-хатун из меркитов и Есугэн из татар. Хулан-хатун была скорее походно-полевая супруга, Бортэ - хранительницей очага, и лишь её сыновья стали наследниками. Старший Джучи родился после меркитского плена, и хотя Тимуджин заявил, что Бортэ увели беременной, всё же слухи о бастарде ходили назойливо, да и сам Джучи, умерший раньше отца, под конец жизни демонстрировал неблагонадёжность. Старшие Джучи и Чагатай получили завоёванные земли, младший Толуй - саму Монголию, а средний Угэдэй - титул кагана. Который ещё не превратился в пустой звук - Монгольская империя по степным меркам была долговечна, простояв над Евразией три поколения.
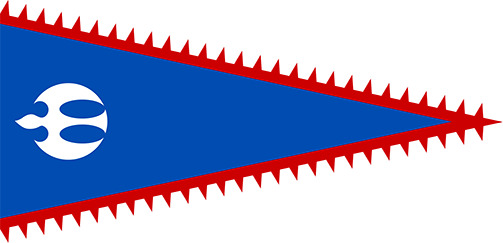
Причём если сыновья Чингисхана укрепляли покорённые пространства вглубь (не считая завоевания Кореи), то новыми походами через пол-мира отметились больше внуки. Бату, сын Джучи, в 1230-х годах возглавил Западный поход, у нас известный теперь как Татаро-монгольское нашествие. Так же бессильны, как русичи, перед монголами оказались поляки, немцы, венгры, чехи, хорваты. Но каменные замки брались тяжело, а добыча в них после всех прошлых завоеваний казалась скудной - к последнему морю Батый не пошёл и нового улуса на Руси не построил.
Удэгеев сын Хулагу прошёлся по Персии и Закавказью, обрубил на взлёте золотой век Грузии, утопил в крови Ближний Восток, сравнял с землёй Багдад (что в общем достойно разорения Рима вандалами) и наладил контакт с крестоносцами, увидевшим в монголах мифическое азиатское Царство Пресвитера Иоанна. Брат Хулагу Хубилай тем временем покорил Южный Китай и Юго-Восточную Азию, и только во Вьетнаме, как и полагается сверхдержаве, получил отпор. К концу 1270-х годов Монгольская империя представляло собой крупнейшее в истории континентальное государство, раскинувшееся на 24 млн. км², а с данниками и вассалами вроде Руси - на все 33 млн. Когда-либо более обширную империю собрали только англичане, причём за несколько веков, а не десятилетий. Под властью монголов жило 110 миллионов человек, и это при том, что сравнивая до- и послевоенные переписи, выходит, что ещё 20-30 миллионов человек в ходе этих завоеваний погибли. Каким-то чудом во всей материковой Азии монгольские завоевания не затронули только Индию. Поняв, что на материке воевать больше не с кем, монголы перешли к морским десантам, но взять Японию в 1281 году помешал тайфун, а в 1293 году орда Хубилая была сброшена в море на Яве. Лишь после третьего поколения империя начала сыпаться, в 1294 расколовшись на первые несколько государств - улус Джучи в Великой Степи (у нас известный как Золотая Орда), улус Чагатая в Средней Азии (включая её афганские и китайские части), иранская держава Хулагидов со столицей в Тебризе и китайская империя Юань со столицей в Пекине. В 14 веке и они распались на десятки государств, где титул "хан" носить имели права только Чингизиды. Рецидивом той империи стала империя Тамерлана (чью историю я рассказывал в Самарканде) - хоть и не был Тимур Чингизидом, а всё же его племя рыжих барласов началось как борджигинский обок.
33. городище в Брянске - один из многих древнерусских городов, разорённых Батыем.
...Вспоминая всё это, я дошёл по одной из множества колей к вершине Малого Баатора. С неё видно, как Онон ниже моста распадается на множество проток в широкой пойме:
34.
За которыми стоят сросшиеся сёла Верхний (800 жит.) и Нижний Цасучей (3,1 тыс.) с церковкой Иоанна Предтечи (2004). Наверное, это не худший райцентр мрачного Забайкалья, но серый цвет напоминает, что здесь не старался Кобзон.
35.
В степи цветут саранки (по-научному - даурские лилии):
36.
Среди которых, прямо сквозь высокую траву, я начал спускаться к россыпи живописных камней за Малым Баатаром:
37.
Самый крупный из них, размером 9 на 4 на 3 метра и стоящий на трёх камнях-"ножках", конечно же зовётся Чашей Чингисхана. Легенды о ней сложены разные - то ли Тимуджин промывал водой из этой чаши рану от меркитской стрелы, то ли в чаше готовили еду к его поминкам.
38.
Те, кого топтал монгольский сапог, позже рассказывали о неисчислимых полчищах. Даже в школьном учебнике, когда я учился в младших классах, говорилось, что при штурме Киева на одного защитника приходилось 20-30 татар. Чингисхан, однако, не был бы гением разрушения, не будь он и гением созидания. Как полководец он прославился скорее в войнах монгольских племён, а пол-мира завоевал в качестве политика, выстроившего эффективную систему госуправления и самую совершенную в истории военную машину. Десятилетия войн племён дали Тимуджину как понимание её устройства, так и кадры, которые "решают всё!". Как и любой великий лидер, Чингисхан был окружён группой умных и верных людей, чья надёжность была проверена множеством пережитых испытаний. То были как управленцы, так и военачальники, как урянхаец Субэдэй, на полях битв сделавший едва ли не больше самого Чингисхана - именно он командовал вторжением в Китай и Монгольским нашествием. Высшую власть Чингисхан пытался очистить от трайбализма, но племена и роды заложили основу формирования войска, делившегося на десятки, сотни, тысячи и тумены - аналоги современных взводов, рот, полков и дивизий. Сила его имела три столпа - мобильность, слаженность и разведку. С двумя конями легковооружённых монгольский воин во время маневрирования мог преодолевать до 120 километров в день - это уровень армий второй половины ХХ века. Отсюда и образ несметных полчищ - никто из побеждённых не мог поверить, что одни и те же силы появлялись на таком расстоянии друг друга с разницей в считанные дни. На поле боя монголы сначала долго изматывали противника залпами конных лучников с разных сторон, а затем наносили контрольный удар тяжёлой (по европейским меркам - средней) конницей. В бой вступали они лишь выждав момент, максимально неблагоприятный для противника, а если такового не представлялось - заманивали его тактическими отступлениями. Всё это укреплялось железной дисциплиной с элементами круговой поруки - наказание за провинность одного бойца нёс весь взвод. Хотя конечно, вопреки школьным учебникам, речь шла не про казнь - своих людей монголы берегли. В число провинностей входила и такая, как подавиться пищей - даже рацион и режим питания воина был продуман детально. Боевой дух же подкреплялся материально: трофеи делились в пропорции 3:1:1 в пользу добывшего их воина, его нукера и всей страны. А вот мародёрство было запрещено, и подозреваю, что именно в праве поживиться только с мёртвых кроется причина феноменальной монгольской жестокости. Относительно малочисленные (не более 120 тыс. сабель), монголы стабильно выигрывали битвы с 10-кратной разницей в потерях.
39.
Была у Чингизидов и своя DARPA - как можно больше сведений о любом народе монголы старались собрать ещё тогда, когда тот и не представлял себя в роли будущей жертвы. В том числе - о технологиях и хозяйстве. Почтовые тракты с промежуточными станциями, где можно было менять лошадей, связывали гигантские пространства империи. Восточные бани и китайская медицина сглаживали эпидемии, вкупе с относительной устойчивостью к чуме, очаги которой находились как раз в монгольских степях. А вот для европейцев трупы умерших от чумы степняков, будучи переброшенными через стену, превращались в бактериологическое оружие.
40.
Чингисхан внедрил и само название "монголы" - по сути он один из первых пытался слепить из племён нацию. Её конституцией, скорее кодексом, чем сводом законов, стала Великая Яса, текст который, увы, не сохранился. Что из её постулатов, воспроизводимых путешественниками и хронистами по памяти, были правдой - теперь сложно сказать. Монголы всегда казнили предателей, даже если с их помощью брали города. Щадили тех, кто сразу же принимали мир на монгольских условиях, но не давали им второго шанса. Никогда не прощали убийства послов, но использовали это как casus belli. От религиозных распрей империю должно было защитить отсутствие официальной религии: одним из пунктов "Ясы" значилось "Чти все вероучения, не отдавая предпочтения ни одному из них". Среди монголов были язычники, христиане-несториане, манихеи, буддисты, мусульмане. Но в покорённых землях монголы оставались меньшинством военной знати. После распада единой империи они очень быстро приняли тамошние религии и за считанные поколения растворились без следа среди татар, туркмен, азербайджанцев...
41.
А со своими похоронами Чингисхан придумал гениальный ход - упокоиться в тайной могиле. Легенда гласит, что убили не только всех рабов, что её обустраивали, но и всех встречных на пути конвоя, а потом и сам конвой. Это, конечно же, нерационально, тем более у той самой горы Бурхан-Халдун лежит урочище, известное монголам как Их-Хориг, то есть Великий Запрет. Долгое время там стоял караул, а иррациональный страх перед этим местом был столь силён, что только в Перестройку власти МНР допустили туда археологов, нашедших более 1300 очень богатых могил. Может, там ещё найдут нефритовый гроб Чингисхана, но мне гораздо больше нравится версия, что похоронили его как самого обычного человека. Чингисхан просто растворился в своей нации, и любые останки монгола тех лет могут принадлежать Тимуджину. Своя "могила Чингисхана" есть теперь чуть ли не в каждом районе: забайкальские буряты ищут её в Баргузинской долине и на Селенге, прибайкальские - на Рытом мысу, монголы - на склонах Хэнтэя, китайцы - в Ордосе недалеко от тангутских земель, казахи - на своём Алтае, и этот список, конечно же, явно не полный. На Аге считают, что Чингисхана похоронили на малой родине, осушив один из рукавов Онона и вновь пустив воду поверх. Но ведь по хроникам да сказаниям Чингисхан не кажется человекомашиной: он любил свою Бортэ и отказался считать её первенца бастардом, он отомстил татарам за отца, уже к тому моменту многократно превосходя его могуществом. В конце концов, у него было счастливое детство, оборванное бесконечной войной. Если и возвращался он сюда при жизни - то лишь проездом, но ничего не мешало Потрясателю Вселенной обрести вечный покой среди этих саранок.
42.
...На обратном пути рядом со мной остановилась драндулетистого вида машина, в которой ехала чета немолодых бурят столь же сельского вида. Они спросили, где здесь Чаша Чингисхана, и я предложил показать им дорогу с условием после отвезти меня куда-нибудь. У камня они совершили троекратный обход, осыпая его зёрнами и окуривая табаком, а затем я вернулся с ними в Агинское, свой смелый план осуществив даже быстрее, чем планировал. Из Агинского я уехал в Читу, вспоминая, как одного моего знакомого она встретила надписью "Слава Великому Чингисхану!" на весь привокзальный забор...
43.
На этом закончу рассказ о Бурятских автономных округах, лишь под конец поняв, что более всего они были похожи не на российские, а на монгольские регионы - аймаки, кторые крупнее наших районов, но меньше наших областей. Однако де-факто есть и третий бурятский эксклав - Тункинский Бурятский неавтономный округ, с республикой соединённый непроходимыми горами, а сообщающийся лишь через иркутские Слюдянку и Култук. Его ближнюю часть, Тункинскую долину, я посетил в 2020-м и уже показал (ссылки ниже). В 2021 мы отправились дальше - в глухой Окинский район, где находится Долина вулканов. Об этом путешествии - следующие 5-6 постов.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Великая Степь Сибирь природа Золотая Орда дорожное |
Цугол. Будда на полигоне. |
До своего упразднения в 2008 году Агинский Бурятский автономный округ был самым маленьким регионом в азиатской части России (19 тыс. км²), да и западнее Урала только республики Кавказа, Чувашия и Кёнигсбергщина меньше него. По населению (74 тыс. чел.) Ага могла быть второй с конца после Ненецкого АО: ещё более малолюдные Корякию, Эвенкию и Таймыр упразднили примерно тогда же, но сильнее опустеть успела Чукотка. Однако даже на этом крошечном пятачке есть место для изрядных расстояний и внутренних отличий. В прошлой части я показывал священную гору Алханай в 130 километрах западнее Агинского, а сегодня отправимся из окружной столицы на 120 километров на восток - к Цугольскому дацану на краю военного полигона, не менее интересному, чем показанный в позапрошлой части Агинский дацан.
В Агинском округе всего 3 района, и меньше тут опять же лишь монорайонный Ненецкий АО. Расположение их какое-то очень монгольское: Агинский район - середина, Дульдургинский и Могойтуский - соответственно, западное и восточное крыло. Но как же они различны! На Дульдурге - роскошные леса по отрогам Даурских гор да прожилки изумрудных лугов между ними. Могойтуйщина - голая холмистая степь, начинающая линять уже в середине июня. Соотношение русских с бурятами в обоих крыльях примерно одинаковое - 50/45% с перевесом в пользу титульного народа, однако "на глаз" легко подумать, что на западе округа абсолютно преобладают буряты, а на востоке - русские. Но может дело в том, что бурятские сёла тут стоят в глубине степи, трасса же сплетается с проложенной на прошлом рубеже веков железной дорогой. То не Транссиб, уходящий на восток куда севернее, а самая настоящая КВЖД, за мрачным Забайкальском, сияющей Маньчжурией, огромным Харбином и базарным Суйфэньхэ вновь выныривающая на территории России под Уссурийском.
2.
Со станции Китайско-Восточной железной дороги начинался в 1897 году и сам Могойтуй - крупный ПГТ (10,5 тыс. жителей), второй центр бывшего округа и его железнодорожные ворота в 40 километрах от Агинского. Взгляды тех, кто здесь покидает вагоны, привлекают жёлтые кровли, парящие на сопке над посёлком. Это Могойтуйский дуган (2005-07) - не монастырь, а только филиал Цугольского дацана.
3.
Мы же с Петром покинули вагон глубокой ночью на расположенной чуть ближе к Китаю станции Степь, да разбив палатку в залинейной лесополосе, поспали до рассвета. Хронологический порядок я, как всегда, приношу в жертву географическому: на самом деле Агой мы завершили 2-недельное путешествие по диким степям Забайкалья, а начинали знакомство с уже-не-автономным округом именно здесь, приехав поездом из уранового Краснокаменска. Проснувшись от грома очередного товарняка, мы собрали палатку да пошли к трассе.
4.
И красные звёзды на заборе тут не удивляют: Степь - большое (2,7 тыс.), но довольно утлое, в основном русское село, раскинувшееся между КВЖД и военным аэродромом. Трасса Чита-Забайкальск тут служит сердцевиной, и стоя лицом к Китаю, по правую руку видишь за домами станционные вышки, а по левую - зарастающие, открытые взглядам и ветрам развалины ангаров:
5.
Аэродром истребителей-бомбардировщиков "Степь" был создан в 1969 году и "оптимизирован" в 2010-м. Ошибку МО осознало уже в 2013 году, с приходом Шойгу вновь превратившись из Министрества оптимизации в Министерство обороны. Русско-китайские отношения, однако, пока всё больше входят в фазу "братья навек!", а потому и сроки начатой в 2013 году реконструкции аэродрома год за годом "сдвигаются вправо" - пока здесь тихий тыл, а новые авиабазы напрашиваются в совсем других местах. Визуально о том, что объект "Степь" не заброшен, напоминают лишь вышки да забор:
6.
Выйдя к краю села, мы стали ловить что придётся. К тому времени мы уже привыкли, что двум мужчинам по жестокому и недоверчивому Забайкалью автостопом ездить тяжело, и тем обиднее было осознание, что нам надо преодолеть всего-то 18 километров. Первая машина подвезла нас на полпути - до моста через Онон. Зарождающийся в Монголии, он представляет типично степную, то есть неимоверно длинную (1054км) и весьма маловодную (191 м³/с - уровень Москвы-реки и Клязьмы) реку. Однако с Ингодой Онон сливается в Шилку, которая, в свою очередь, при слиянии с Аргунью превращается в Амур - а значит, этой воде ещё течь мимо Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска, Тырской скалы и Николаевска-на-Амуре в далёкий охотский лиман...
7.
Мост на кадре выше был построен в 1926 году и получил вторую колею в 21 веке. Конечно же, у него был дореволюционный предшественник с изящными фермами нетиповой конструкции. Но целых два подрыва этого моста - Сергеем Лазо в 1918 году перед наступлением атамана Семёнова и белыми в 1920 перед наступлением красных, - стали одним из известнейших эпизодов Гражданской войны в Забайкалье. У моста за поворотом Онона стоит ПГТ (7,5 тыс. жителей) Оловянная, начинавшаяся в 1897 году как разъезд Соцол, вскоре ставший станцией Онон-Китайский. Нынешнее название Оловянная получила в 1911 году, к 100-летию открытия первого в России месторождения олова. Примерно тогда же началась и его разработка, окончившаяся не с распадом Союза, а уже в 1940-х годах с исчерпанием руд. Остатки оловянных рудников заметны в склоне берега на кадре выше.
7а.

На дорогу, ведущую из Оловянной вдоль Онона мы спустились с моста пешком. Оловянная, если едешь в Китай - справа, слева лежит в топкой пойме небольшая бурятская деревня Ононск, столь невзрачная, что я не сделал в ней ни единого кадра. Главным впечатлением Ононска стал визит в сельпо, тёмное и такое тесное, что я едва мог в нём развернуться. Продавщица попросила надеть маску, что крайне непривычно для села, а заодно посетовала, что ни весной, ни осенью 2020 года короновирус их не трогал, а вот летом 2021 из пятисот селян разом слегло полторы сотни. Хворь привезла одна семья откуда-то с отдыха, а в итоге в середине июня кашляли, температурили и не чувствовали запахов тут целые улицы. В общем-то, в Ононске повторилась в миниатюре история стран вроде Грузии или Монголии, которые крепко закрылись в первую волну, прослыв тогда эталонам борьбы с Царь-вирусом, зато последующие волны получили сразу же в тройном объёме.
8.
Степь, Оловянная и Ононск - это уже не Агинский Бурятский округ, а бывшая Читинская область до слияния двух регионов в Забайкальский край. К берегу Онона граница двух регионов выходит между Ононском и Цуголом, которые разделяет около 7 километров. Но границы регионов чертят на досуге от нечего делать штатские, а у военных география своя! Аэродром "Степь" вклинивается в территорию полигона "Цугол", раскинувшегося между рекой и трассой. Основанный в 1951 году при первых холодных ветрах в тогда ещё вековечной русско-китайской дружбе, полигон повидал немало. Так, в 1962 году здесь были оборудованы ракетные шахты и проведено три пуска ракет Р-14У по Новой Земле, причём последний - с ядерным боезарядом. Здесь же был один из узлов грандиозных учений "Восток-2018", которые спутали мне карты аж на Сахалине. Ну а форсировать реки да брать высоты военные тренируются здесь регулярно, из-за чего между Ононском и Цуголом нередко перекрывают дорогу как минимум на несколько часов. Цугольских лам о таких планах предупреждают, поэтому перед поездкой лучше звонить в дацан.
9.
Цугол встречает обелиском с надписью "Здесь 28-II-1920 партизаны комдива Якимова М. М. одержали крупную победу над белыми":
10.
А пластиковая звезда с табличкой "247 межвидовой полигон Восточного военного округа" напоминает о том, что среди этих лысых сопок хозяева офицер и солдат, а не ширетэй и лама.
11.
Нынешний Цугол - опять же в основном русское село средних размеров (800 жителей) с кварталом облезлых минобороновских пятиэтажек у края:
12.
От Ононска нас подвёз сюда военный да высадил прямо у ворот Цугольского дацана:
13.
Здесь первым впечатлением стала тишина, которая ещё больше могла бы впечатлить по контрасту с людным, даже шумным Агинским дацаном. В запахе курящих благовоний и трав накрывают именно те ощущения, которых ждёшь от буддийской обители - покой, отрешённость, недеяние, где колесо сансары лежит на боку, а для выхода в нирвану, кажется, достаточно просто посмотреть в небо... Легко поверить, что так было всегда, но нет - история Цугольского дацана была бурной. Закрытый в 1934 году, монастырь служил воинской частью, но как бы не больше реальных военных покурочили его вымышленные. Слева от ворот ещё можно различить неровности на штукатурке - там стену таранил танк из вышедшего в 1982 году фильма о советско-японской войне "Приказ перейти границу". Причём по словам местных, стена была пробита взрывом предварительно и заменена муляжом - первый натиск она выдержала, а военным пришлось ремонтировать танк.
14.
Цугольский дацан начинался в 1801 году с храмов-юрт, которые тут ставили буряты. Из 11 хоринских родов Агинскую степь осваивали 8, 3 из которых - галзууд, харгана и хуасай, - жили слишком далеко от учреждённого властями в 1811 году Агинского дацана. В 1827 году они получили разрешение построить свой дацан, которому дали название Даши Чойпэллинг - Страна приумножения Учения Счастья., и в 1830-х построили первые деревянные храмы - соборный Цокчен-дуган и три аймачных (приходских по родам) сюмэ. Два дацана стали двумя центрами Агинской степи, и даже с упразднением в 1903 году Агинской степной думы на её месте были организованы Агинская и Цугольская волости. Ну а на первых порах народный Цугольский дацан развивался явно быстрее официозного Агинского. Первые ширетэи (настоятели) Лабсан Лхунгуд Дандаров (в 1827-51) и Галсан Жимба Дылгиров (в 1851-72) сделали Даши Чойпэллинг важнейшим в Забайкалье центром буддийских науки и мысли, в особенности - тантры и тибетской медицины. К началу ХХ века в Цугольском дацане был десяток храмов, два факультета (философский и медицинский) и около 1000 лам и хувараков (монахов и послушников), что заметно больше, чем нынешнее население Цугола. Громили Цугол гораздо более скоротечно и жестоко, чем Агинский дацан, а по слухам, несколько сотен лам в 1934 году были расстреляны в одной из близлежащих падей... И думается, единственная причина, по которой буддийский монастырь в русском посёлке на краю полигона вообще возродился в 1988 году - его уцелевшие роскошные здания.
14а.

В углах монастырской ограды - симметричные Барай-сюмэ (типография) и Зун-сахюусан (1831, храм защитников буддизма), по совместительству бывший аймачным храмом Гунрингом. Их нынешний облик заметно отличается от первоначального - типография была разобрана в 1934, а сюмэ стал солдатской столовой, сгоревшей в конце 1960-х годов. Но аутентичны сами стены и ворота (хочется верить, что с 1830-х годов), а самое главное - стоящий в глубине Цокчен-дуган (1864-68), эталон и шедевр бурятского зодчества:
15.
Белые плиты его крыльца привезены из Кондуя. Там ещё в 15 веке сгорел покинутый белокаменный дворец монгольского наместника, где, возможно, в 1227 году готовили к вечному покою тело Чингисхана. Сам Кондуй я ещё покажу - из обломков дворца кое-что построили и поближе к его изначальному месту. Сюда же, по местной легенде, плиты возил самый настоящий слон, невесть откуда взявшийся посреди Забайкалья в начале строительства и так же загадочно исчезнувший в его конце.
16.
Интерьеры и убранство обители поновлялись не раз, особенно после случившегося в 1887 году пожара, оставившего от храма лишь каменные стены и колонны. Многие резные детали тут сделаны в 1914-15 годах мастерами из Китая:
16а.

Но более всего меня впечатлили ажурные лестницы, отлитые на помнившем ещё декабристов металлургическом заводе в Петровске-Забайкальском:
17.
Буддийское литьё к концу 19 века было уникальной специализацией Петровского завода:
18.
И пережило сам завод, закрывшийся с распадом Союза и ныне снесённый почти без следа:
18а.

Лестницы выводят на узкую лоджию:
19.
За окнами которой видны исписанные солдатскими автографами технические помещения:
19а.

Через них обеспечивалась циркуляция воздуха, - холодного летом и тёплого зимой, - по деревянным трубам, которыми на самом деле являются колонны в зале дугана:
20.
В советское время в зале был военный склад, причём по словам нынешних лам - склад боеприпасов. И с одной стороны бурятский шедевр полвека простоял на бочке с порохом, а с другой - порох положено держать сухим, поэтому деревянные части здания хорошо сохранились. Сверкающая на алтаре статуя Богдо Зонхавы, основателя тибетской школы гелуг, к которой принадлежат почти все буддисты Бурятии и Монголии, воссоздана в 2011 году по образцу дореволюционной. Всего же в Даши Чойпэллинге было 1000 статуй этого святого, которые теперь понемногу возвращаются на свои места. Часть из них подлинные - с закрытием монастыря статуэтки были растащены жителями по своим домам, где пролежали до возрождения обители. Другие вернул в Цугол Ленинградской музей религии и атеизма, куда немало ценностей вывез в 1926 году после ссоры с братией последний ширэтэй Данзан Норбоев. Например, подлинный Ганжур (буддийское писание) 17 века из 108 томов в виде шёлковых свитков:
21.
Обратная сторона дацана...
22.
...запоминается майоликами первого этажа и наличниками второго:
23.
На третий этаж же просто так не взойти, и даже видны его резьба и роспись лишь на расстоянии:
24.
Помимо главного входа, который положено открывать лишь по большим праздникам, за ограду ведёт пара калиток, и входить интереснее в восточную (если стоять к дугану лицом - правую), а выходить - в западную:
25.
Она ведёт к домикам нынешних лам, среди которых стоит каменная юрта. Это возрождённый Манба-дуган, медицинский факультет Цугольского дацана, старое здание которого (1877) можно видеть на кадре №14а. Его основал в 1869 году монгольский эмчи-лама (монах-лекарь) Чой-Манрамбу по приглашению Галсана-Жимбы Тугулдурова. Последний был настоятелем не Цугольского, а Агинского дацана, но там место эмчи-ламы уже занимал его родной брат, впоследствии создавший свои факультет и клинику. Цугольские ламы, однако, в изучении медицинских наук преуспели настолько, что здешний Манба-дуган стал крупнейшим в России центром буддийской медицины, а в начале ХХ века здесь появилась копия "Вайдурья-онбо". Название это обычно переводят как "Голубой берилл", хотя какой именно камень означает слово "вайдурья" - на самом деле ещё вопрос. Как бы то ни было, скрывается под этим названием самый подробный атлас тибетской медицины, который составил в 1687-88 годах монах-энциклопедист Дэсрид Санжчай-чжамцо. Подлинник атласа хранился в монастыре Сэртог под Лхасой, название которого, впрочем, я встречал лишь на бурятских ресурсах в контексте этой истории, так что видимо скрывается под ним Сэра - один из трёх главных монастырей школы Гелуг в Тибете. Там с подачи Агвана Доржиева, наводившего русско-тибетские мосты бурятского проповедника и идеолога, была изготовлена копия, которую тайно вывез в Россию эмчи-лама Шераб Сумуев. С такой материально-технической базой, помноженной на русские науку и образование, которое к тому времени успели получить немало бурят, Цугол мог бы стать мировым центром центром тибетской медицины. Но история распорядилась иначе, и ладно хоть сам "Вайдурья-онбо" не погиб - в эпоху коренизации тибетскую медицину пытались поставить на материалистические рельсы. Мединститутом планировалось сделать Ацагатанский дацан в Бурятии, куда трактат и вывезли в 1926 году. Затем, однако, коренизация кочнилась, а заставшее её поколение национальной интеллигенции сгинуло в лагерях и застенках. Но Цугольский Атлас каким-то чудом уцелел, в 1936 году обнаружившись в Улан-Удэ в музее. Долгое время он пылился в фондах, а миру вновь предстал в 1998 году, причём сперва - на выставках в Соединённых Штатах, и лишь по возвращении - в экспозиции музея. Всего в Цугольском атласе было 84 страницы, из которых уцелело 76 - погибли последние 7 и 62-я. И тем не менее это самый полный в мире "Вайдурья-онбо" после оригинала, который теперь тоже хранится в музее - где-то пишут, что в Лхасе, где-то - что в Пекине. Увидеть Цугольский Атлас во всей красе, впрочем, не так-то легко - большую часть времени это просто пенал с шёлковыми листами, которые открываются лишь на специальных выставках. Постсоветским же центром тибетской медицины стал Агацатан в материковой Бурятии, а не тихий далёкий Цугол.
26.
Ещё несколько монастырских построек глядят "в спину" Главному дугану. Длинное здание справа - Чойра-дуган (1902), философский факультет дацана, открывшийся аж в 1845 году. Ступа слева отмечает место, где стоял Маанин-сумэ (1911) - храм будды милосердия и сострадания Аволокитешвары. Деревянный дом за ним - уцелевший настоятельский корпус, где жил последний шеритэй Данзан Норбоев, считавшийся воплощением Ганжирва-гэгэна. До революции он прославился как богослов, чудотворец и даже герой народных притч (вот например), ну а в истории метериального мира больше отметился в 1920-е годы. Тогда многие религии искали компромисс с новой властью безбожников, и буддисты не были исключением. Среди них возникло мощное обновленческое движение, радикальной формой которого стали "независимые нирванисты", заключившие, что все храмы, реликвии и обряды являются лишь искажением подлинной веры, а потому просветлённого не должна волновать их судьба. Цугольский дацан в этом споре оказался одним из самых консервативных, а вот настоятель его - напротив, одним из лидеров буддийского обновленчества. В конце концов в 1926 году ламы нашли в священных текстах допущение, что перерожденца можно убить во имя сохранения его кармы. Норбоев сложил с себя сан да уехал в дацан в Ленинграде, где и был расстрелян в 1935 году. В путеводителе 2004 года указано, что в доме ширетэя теперь монастырский музей Ганжирва-гэгэна, но приставленный к нам лама-гид ни слова не сказал об этом.
27.
Ну а высокий павильон в середине - это Майдари-сумэ, храм Будды Грядущего, построенный в 2002-07 годх для ещё одной возвращённой реликвии - собственно, Будды Майдари:
28.
Здесь он поменьше, чем в Агинском дацане - в разных источниках то ли 6, то ли 8 метров. Но зато не из Китая привезён, а сделан в 1897 году бурятскими мастерами. Судьбы двух Будд в ХХ веке были похожи, хотя и отличались в деталях: в 1934 году цугольский Майдари был вывезен в музей - сначала Улан-Удэ, а затем в Ленинград, где в запасниках Музея атеизма в 1940 году встретился с агинским колоссом. Пусть и в разобранном виде... Меньший по размеру и вывезенный раньше, цугольский Майдари лучше сохранился и на историческую родину был возвращён уже в 1997 году, однако ещё 10 лет ждал, когда ему построят дом. Обратите внимание на свастику, которая здесь действительно древний символ, с продуктами жизнедеятельности неофашистов имеющий не больше общего, чем христианский крест с перекрестием прицела. Я видел много "правильных" свастик в Монголии, а вот в России - впервые.
29.
С южной стороны к дацану примыкает площадь, с восточной - невзрачные избы. За которые, однако, можно пройти мимо одного из последних уцелевших дореволюционных домов...
30.
...до самой околицы. Вид её в степном пейзаже сиротлив, и кажется, что всё этот должен разметать по холмам первый же порыв ветра:
31.
Как и могилы разросшегося за полсотни лет русского кладбища под белой ступой на сопке:
32.
Здесь же, у околицы, стоит Юндэн-Шондон, или Ступа Примирения - как и в Агинском дацане, она была построена в 1920-х годах для прекращения вражды обновленцев и консерваторов. Затем безбожники извели и тех, и других, так что ныне на краю Цугола лишь реплика (2010), а справа, видимо, камни из основания оригинала:
33.
Но более всего нас озадачили ворота, словно оставшиеся от какой-то разрушенной постройки. И ни за что бы я сам не догадался, что это Врата Счастья, построенная на рубеже 19-20 веков проекция Храма-Ворот с Алханая - природной арки, которую я показывал в прошлой части. Ведь Намнанай-багша, с 1859 года уединявшийся на Алханае для затворничества, изгнавший оттуда шаманов да нашедший буддийские интерпретации в скалах и гротах, получил сан да имя Жанчиб Од (Луч Просветления) именно в Цугольском дацане.
34.
Но буддийскими святынями достопримечательности упразднённого округа не исчерпываются. Ведь простым бурятским пареньком из Забайкалья был Тимуджин (партийная кличка - Чингисхан), на родину которого в следующей части и отправимся.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Сибирь дорожное |
Алханай. Священная гора Забайкалья. |
Бурятский мир невелик, но очень многообразен, и не последняя причина этого многообразия - религия. Большинство бурят - двоеверы, вот только соотношение двух вер изрядно меняется от улуса к улусу. Шаманским полюсом БурМира я уже не раз называл остров Ольхон у западного берега Байкала, буддийским полюсом - Агинскую степь в глубине Забайкалья. А если брать ещё более узко, то крайними точками я бы обозначил ольхонский мыс Шаманка и агинский Алханай - не дуган, не субурган, а целую священную гору в 30 километрах от райцентру Дульдурга, путь к которой из окружного центра через роскошный Агинский дацан я показывал в прошлой части.
Священная гора - такой же типичный сюжет самых разных религий, как и Мировое древо. Ведь что Земля круглая - поди ж ты догадайся, а разум человека не преемлет хаоса, и стало быть над плоским миром должна довлеть Самая Высокая Гора, на которой, в некоторых случаях, обитают и самые могучие боги. Античный Олимп, библейский Арарат и его среднеазиатский эрзац Казыгурт, степняцкая Белуха, эзотерический Кайлас - только то, что мне вспоминается навскидку. Особенно богата священными горами Поднебесная, по которой их расставлено девять - 5 даоских и 4 буддийских. Все они не очень высоки, но потрясающе красивы, переполнены историей и превращены в нацпарки с недешёвым входом. С ними и схож больше всего Алханай, распластавшийся на десяток километров лесистый горный массив, на котором даже главную вершину (1664м) сложно опознать издалека:
2.
Однако - именно Алханай стал главной святыней Забайкалья. Почему выбор бодхисатв пал именно на эту гору, а не на, к примеру, показанный в прошлой части Саханай с обилием скал-статуй, пытаются объяснить бурятские легенды. Например, о гордой княжне Бальжин-хатун, что увела в 1594 году хори-бурят из Маньчжурии на поиски покинутой ещё при Чингисхане байкальской прародины. Был это по сути бунт, а потому хоринцев преследовали орды, оставшиеся верными Тумэтскому ханству. По преданию, за Иля-рекой Бальжин сдалась на расправу врагам, чтобы те оставили её народ в покое, и название горе дал её предсмертный крик, а в Бальзино озеро у нынешней читинской трассы якобы бросили её отсечённые груди. Внутренний циник подсказывает мне, что скорее стычки хоринцев с маньчжурами кончились мирным договором, условием которого было выдать смутьянку, которая спровоцировала всю эту войну - так себе сюжет для святыни... Другие говорят, что на Алханайском гольце был дозорный пункт Чингисхана, третьи находят созвучие тибетскому Лхане - Обитель Богов. Это название могло привлечь сюда буддистов, однако ещё и до них на Алханае молились шаманы, причём бурятские боо и удаганки могли унаследовать гору от своих тунгусо-даурских коллег. Самый убедительный для меня ответ о происхождении алханайской святости дают не археология и этнография, а лингвистика и биология - слово "эл", от которого могли произойти и Алханай, и Иля, в монгольских языках называют бородача, гигантскую (размах крыльев до 3 метров) хищную птицу с красивыми переливами чёрных и белых перьев. Последнего ягнятника (другое название бородача) над Агинской степью видели порядка 200 лет назад, и как считается, дольше всего в Забайкалье колония этих птиц жила именно на скалах Алханая. Ну а Великий Орёл, сын хозяина Ольхона, считался у бурят первошаманом, и под тенью крыльев эле хоринскому племени, ушедшему на поиски прародины, легко было решить, что здесь они нашли её.
3.
Путь до Алханая не близок - 90 километров от Агинского и 160 километров от Читы до ближайшего райцентра Дульдурга, от него порядка 20 километров до села Алханай, а оттуда ещё 12 до границ созданного в 1999 году национального парка. Рейсового транспорта туда не ходит, такси от Дульдурги обойдётся в 800 рублей, но и на попутках доехать вполне реально - отдыхать сюда ездят люди всех углов и народов Бурятии и Забайкалья.
4.
Дульдургу, Алханай-село и границу национального парка я показывал в прошлой части. Первая же достопримечательность собственно Алханая - субурган Далай-ламы XIV на том месте, где 22 июля 1991 году он сошёл с вертолёта. В Агинском, тогда не сильно выделявшемся на фоне прочих утлых забайкальских райцентров, Далай-ламу за неимением лучших площадок встречали на ипподроме, а по Алханаю возили УАЗиком. На очередном ухабе, по воспоминаниям сопровождающих, мудрец заметил: "Хорошо, когда учение Будды даётся с трудом". Субурган у дороги по проекту художника Даши Дугарова был сооружён в 2018 году, и кто едет мимо него - легко определить издали: русские в лучшем случае фотографируются, а чаще проносятся без остановок, а вот буряты выходят с почтением, ходят гороо вокруг хурдэ, бросают зёрна и кропят молоком да сосредоточенно молятся. Бурятская религиозность удивила меня ещё в 2012 году - простоватые мужики, резкие парни, хваткие тётки минуя границы святынь вдруг перевоплощаются в древних паломников, пришедшие в святые места по заоблачным перевалам.
5.
За субурганом колеи в траве ведут на сопку, где находится куда менее очевидная святыня - сооружённое ещё в конце 19 века Главное Алханайское обоо. Так у монгольских и южно-сибирских народов называют жертвенники духам места, расположенные чаще всего на аршанах (целебных источниках), горах, перевалах и перекрёстках, где принято оставлять символический дар - например, камушек, лоскуток или не выкуренную сигарету. В Бурятии более привычное название таких мест - бурхан, а обоо - слово возвышенное и потому применяется лишь к особенно чтимым святыням. Здесь - случай именно тот:
6.
В центре обоо подобно колонии какой-то кремниевой биоты расположились 53 манхана. В путеводителях по Алханаю это слово переводят как "часовни", и как я понимаю, каждый камень тут обозначает какую-то из буддийских святынь. Самый крупный из них символизирует Сумеру - Мировую гору высотой в миллион километров, на склонах которой в буддийской и индуистской мифологиях лежала вся отнюдь не круглая Земля. В наши дни ламы и брамины обращают внимание на подозрительное совпадение высоты Сумеру с диаметром Солнца. На многих манханах - странные конические камушки, подношения духам, которые сюда везут явно целенаправленно:
6а.

Вероятнее всего - на тахилгаан, большой молебен, который 13-го числа среднего летнего месяца по лунному календарю проводят не шаманы, а ламы. В это время зажигаются ритуальные огни в 4 байпурах - очагах, расположенных по сторонам света за несколько десятков метров от Сумеру:
7.
И довольно сильно отличающихся между собой:
8.
Вернёмся к трассе, которая за субурганом Далай-ламы делает крутой поворот, отмеченный Маанин-Шулууном - одним из нескольких камней с буддийскими надписями, расставленных по Алханаю в 1911 году. Тогда агинский шерэтэй (настоятель) Галсан-Чойдаг Сундаров проложил маршрут Ехэ-гороо (ритуального обхода горы), и этот камень - вроде бы не мантра, а что-то вроде мемориальной доски.
8а.
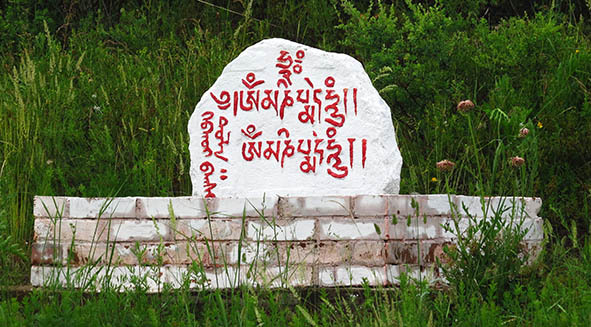
Отсюда ещё пара километров до деревянного Дэмчог-дугана (2004), в котором важнее всех ступ и сюмэ скульптура старика в красном одеянии. Это Намнанай-багша, иначе Шагдар Уридхынов из рода хуасай, родившийся в 1825 году у горы Хан-Уула на востоке Агинской степи в нынешнем Могойтуйском районе. Шагдаром нарекли его родители, Намнанаем называли предки по отцу, а в монашестве ему дали имя Жанчиб Од - Луч Просветления. Из Цугольского дацана, где это произошло, Намнанай отправился в многолетние скитания по святым местам Монголии, Амдо и Тибета, где не раз и не два находил воплотившихся в людях божеств. Однажды на перевале старый лама встретил Намнаная вопросом "Марпа, откуда ты?", углядев в нём самом воплощение проповедника Марпы Чокьи Лодрё, в 11 веке принёсшего в Тибет буддизм. Своим Тибетом странник сделал Алханай, куда впервые уходил в затворничество в 1859 году, ещё до начала скитаний. Вернувшись в Забайкалье, он много лет прожил в здешних лесах, дав скалам и аршанам те интерпретации и имена, под которыми они известны ныне, а саму гору объявив обителью идамы (божества мудрости) Чакрасамвары. Тот Алханай, что теперь видим мы - по сути дела творение Намнанай-ламы, и к концу 19 века здесь окончательно смолкли шаманские бубны. У Жанчиба было много учеников, и в том числе Агван Доржиев - идейный лидер бурят начала ХХ века, проводник тибетских традиций буддизма в России и ярый сторонник того, что Виктор Пелевин в "Чапаеве и пустоте" называл "алхимический брак с Востоком".
9.
Дацан встретил нас высокой травой, калитками на шпингалетах и наглухо запертыми дверями построек. Отсюда можно сходить на Хорёо-Шулуун (Каменный забор) - тёмную расщелину, куда, по преданию, Намнанай заключил души поверженных шаманов. Периодически на Алханай приходят обращения от различных шаманских организаций, даже индейских из Северной Америки, с просьбой об обряде по их вызволению, но агинские ламы и начальники нацпарка пока непреклонны. Идти до Каменного забора около 800 метров, но тропы по сути дела нет, мокрая трава полна клещами, и несмотря на подробное описание маршрута от встречного мужика, мы так и не нашли шаманскую могилу. А к Зурхэн-Шулууну (Каменному сердцу), гроту-храму в одинокой скале, мы идти даже не пытались - причудливо изогнутый маршрут к нему тянется на 7 километров.
10.
Всё показанное и упомянутое выше находится до КПП нацпарка "Алханай", вплотную примыкающего к дацану. Через дацан, при желании, его и можно обойти (если вы без машины), но стоит ли это делать? С входящих собирают по 200 рублей, но в отличие от беспредельного (во всех смыслах) Прибайкальского нацпарка здесь хотя бы видно, на что эти деньги тратятся - внутри безукоризненная чистота, святыни соединены дорожками, с которых ненавязчиво убраны ветки и камни. От КПП ещё на пару километров тянентся зона отдыха со стержнем асфальтовой дороги:
11.
Справа от неё лишь с третьего раза я приметил чуть "утопленный" в лес второй Маанин-Шулуун, а сколько-то ещё таких камней, возможно, не приметил:
12.
Несколько грунтовых дорог, сворачивая в лес, ведут к турбазам. Мы ещё в Агинском зашли на сайт нацпарка и по телефону забронировали домик на турбазе "Дали". Сюрреализм не при чём - с бурятского это слово переводится как "Крыло", и видимо тоже отсылает к ястребам-ягнятникам. Турбаза оказалась россыпью "деревянных палаток" по 500 рублей за койкоместо, внутри которых кроме этих самых койкомест удобства исчерпывались розеткой, лампочкой и столиком у оконца. Между каждой парой-тройкой домиков висел умывальник, в который хронически забывали налить воду, а по краям турбазы тропки вели к туалетам деревенского типа - вот и все удобства, но нам с Петром больше было не нужно. Здесь мы остановились на 2 ночи, приехав вечером первого дня и отбыв рано утром третьего. Вечер выпал на выходной, и у многих домиков горели костры, жарились шашлыки да гремела музыка. Пётр, однако, успел поработать по срочному делу в интернете - в нижней части Алханая терпимо ловит МТС, а в верхней - "Мегафон".
13.
Другие дороги ведут к турбазам посолиднее, где есть и домики с удобствами, и столовые с позами, бухлёром и блинами. Самой приличной мне показалась столовая "Золотой Дракон" на вот этой вот турбазе левее дороги. Там мы пережидали дождь, а на утро здешняя работница с мужем узнали нас на трассе да подбросили до Аги.
14.
Среди турбаз - какие-то стелы, памятники, заброшки. Но в то же время не видно ничего однозначно советского - нацпарк был учреждён в 1999 году, и видимо курорт основали тогда же.
15.
Асфальтовая дорога упирается в ещё одни ворота с надписью "Ом мани падме хум". Здесь встречает филиал Агинской Буддийской Академии, где можно посетить астролога, костоправа и других врачей тибетской медицины, или хотя бы нанять ламу-гида для экскурсии по священной горе.
16.
Над домиком висит скала Гуу, или просто Талисман, как бы благословляющая всех выходящих по священному маршруту. Вид у Талисмана грозен - мне он больше напомнил Турникет, перебивающий дорогу недостойным.
17.
За последними воротами перед скульптурой будды-покровителя медицины Отошо (2011) асфальтовая дорога окончательно сменяется тропой и деревянным настилом:
18.
Примета тропы - валуны, усеянные сверху мелкими камушками: раз гора святая, то и любое место на ней бурхан. Чуть поодаль - изваяние божества долгой жизни Белого Чакрасамвары, подаренное Алханаю в 2016 году тибетским монахом Еши Лодоем Ринпоче, настоятелем дацана в Улан-Удэ:
19.
Рядом с Отошо стоит два десятка стендов нацпарка, посвящённых флоре и фауне. Сама фауна не заставляет себя долго ждать:
20.
Хотя бывает она здесь и совсем не такой милой:
21.
"Осторожно, злая собака, злой хозяин, злая жена хозяина, злые дети, злые соседи, злые мыши - все злые!". Обилие грозных плакатов должно мотивировать к найму гидов, и не очень понимаю, даёт ли пропуск право тут ходить без них. Отдыхающие, увидев нас, искренне удивлялись, как мы сами без гида не заблудились в тайге. Они кучкуются на этом берегу ручья, а крытый деревянный мостик ведёт к основному маршруту.
22.
Но пока пройдём вверх по ручью, носящему звучное название Сухой Убжогое. У деревянных настилов - небольшой бумхан (часовня), впечатляющий каким-то архаичным, как у дореволюционных калмыцких хурулов, обликом:
23.
На её стене - гимн Алханая:
23а.

Сам же Сухой Убжогое - не просто ручей, а аршан, за ледяной водой которого народ и ездит в основном на Алханай. Тут находится десяток ключей, снабжённых табличками - Глазной, Сердечный, Почечный... Они бьют из берега, буквально с самой кромки воды ручья, а потому его русло исполосовано самодельными водоводами:
24.
Кое-где попадаются и омуты между камней, в которые "водное общество" охотно окунается. Но вода в ручье без преувеличения ледяная - по ощущениям первые градусы выше нуля.
25.
Через пару сотен метров настилы кончились, и мы оказались на узкой тропе между мокрых от росы веток. В какой-то момент я понял, что мы идём не туда - это тропа к Главной Вершине Алханая. До неё около 700 вертикальных метрв, а виды с голца, судя по чужим фото, не сильно отличаются от видов со склона, и подъём туда в наши планы не входил. Большинство алханайских святынь висят на южном склоне, а дорога к ним начинается за тем самым мостиком с кадра №22. И если на аршанах Сухого Убжогое уже с утра толпа, то дальше за несколько часов пути мы встречали людей лишь дважды или трижды.
26.
Тропа за мостом в общем интуитивно понятна, и только на курумниках и немногочисленных развилках мы сверялись с maps.me. Пейзажи у тропы в основном примерно такие - сосны, скалы, валуны с целые валы мелких камушков. Комаров тут даже в сырой июньский день немного, а вот пауты (как в Забайкалье называют тяжёлых слепней), по словам одного из соседей по турбазе, "могут унести".
27.
За мостом тропа начинается крутым и довольно тяжёлым подъёмом метров на 100 или 200, но дальше петляет плавной синусоидой в 1100-1200 метрах над уровнем моря. У начала пологой части встречает Демчиг-Сюмэ - грот-храм (7х4м) Хозяина Алханая, из сводов которого сочится святая вода.
28.
Спустившись чуть ниже, можно посмотреть на Алханай глазами Владыки:
29.
30.
А обойдя скалу сверху...
31.
...и самого его увидеть в полный рост:
32.
Внизу по долине Сухого Убжогое вьётся дорога, которой мы пришли. Хорошо виден Гуу:
33.
А ниже его - и предгорья:
34.
Тропа имеет форму ключа с длинным прямым участком и колечком в конце. Больше всего она напоминает мне католические кальварии, по которым процессии двигались от часовни к часовне. Только вместо часовен здесь - скалы, которым Намнанай-лама нашёл в 19 веке интерпретации буддийских святынь.
35.
На многих деревьях попадаются голубые хадаки - благодарственные ленты, которые буряты и монголы вешают в святых местах. С ними же на Ольхонском тайлгане прихожане подходили к "заведённым" шаманам.
36.
Следующая остановка - Зула-сюмэ, или Вечная лампада. Такие есть во многих дацанах, ну а здесь огонёк скорее духовный:
37.
И только по большим праздникам на этих курумах внизу монахи зажигают 1000 свечей:
38.
Отсюда рукой подать до Сэндэмы - так буряты на свой манер называют Симхамукху, Львиноликую дакини с женским телом и головой "снежного льва" - мифического, возможно вымершего зверя с тибетских знамён и статуй. Его лик (слово "морда" тут явно не к месту) в силуэте скалы видимо углядел Намнанай, ну а верующие молятся у Сэндэмы о победе добра над злом и торжестве справедливости.
39.
Со спины Львиноликой дакини открывается впечатляющий вид на отрог за распадком, представляющий собой алтарную часть Храм-горы:
40.
Там - её самое зрелищное и самое чтимое место:
41.
В распадке тропа пересекает курумники, где её очень легко потерять, и начинает ветвиться - здесь возможны кольцевые маршруты. На верхней тропе, которой спускались мы, обнаружилась избушка из двух половин под общей крышей:
42.
Старая и затхлая, с одной стороны она напоминает обычную таёжную заимку, с другой - буддийский храм. Это "Дом затворника", якобы построенный ещё в 1859 году Намнанаем, или уж по крайней мере срубленный потомками на месте его кельи.
43.
Нижнюю тропу же, которой мы возвращались, отмечает бумхан - миниатюрная каменная буддийская часовня, видом и состоянием куда больше похожая на постройку 19 века.
44.
За Домом затворника тропа продолжает спускаться. Вот из-за распадка хорошо видны Львиноликая дакини наверху и ниже скала Наро-Хажад, или Небесная Музыкантша. Так зовётся покровительница йогинов-аскетов:
45.
Со стороны тропы Музыкантша отмечена расщелиной. Мне она сразу напомнила уральскую Узкую Улочку: югорские народы определенно сочли бы это символом женского начала, русские - придумали бы поверие, что взошедшему наверх отпустятся грехи. Ну а ламы просто взбирались наверх медитировать, и во время медитации часто слышали божественную музыку, словно льющуюся прямо с небес.
46.
Другая сторона распадка впечатляет обилием туриков, сложенных туриками (в другом смысле слова) на удачу. Гиды уже успели объявить это место новой локацией Алханая и дали ему название Долина Желаний:
47.
Самым важным желанием, впрочем, остаётся желание продолжения рода, и путь между туриков приводят на тенистую поляну у грота Эхын-Умай, в переводе - Чрево Матери. Сюда приходят женщины просить о зачатии ребёнка, кропят вход молоком и проползают 4-метровый грот до конца и обратно.
48.
Дальше тропа переваливает через отрог, минуя свою высшую точку (1333м):
49.
На спуске привлекает взгляд Загуурди, в народе - Щель Грешников. На самом деле буддийское название означает Промежуточный мир - то состояние, в котором пребывает душа между воплощениями. Народное поверье, однако, гласит, что в щель сможет пролезть только безгрешный человек или даже что она отпускает грехи. На скалах вокруг висит несколько плакатов о том, что этого делать совсем не обязательно и у Загуурди нужно просто молиться об очищении кармы. Мы же оказались столь грешны, что не увидели даже саму щель - это не куда более зрелищная арка, а узкий лаз длиной 2,5 метра.
50.
От Загуурди только курумник пересечь до последней, ключевой святыни Алханая - Уудэн-Сюмэ, или просто Храма-Ворот:
51.
В естественной каменной арке 6-метровой высоты ещё Намнанай построил в 1881 году небольшую ступу. Та была разрушена в 1930-х годах, но и нынешняя сооружена уже в 1956-м ламами возрождённого после войны Агинского дацана:
52.
Пагода лишь дополняет фантастический (особенно под рельефным небом) вид:
52а.
С обратной стороны Храм Ворота впечатляет своим видом на долину. В Храм-горе он скорее как иконостас...
53.
...а на алтарь больше похожа скала Доржо-Пагмын, или Алмазная царевна. Её дух - супруга Хозяина Алханая, ну а дордже, ваджра или по-нашему алмаз - это в данном случае сияющее и нерушимое состояние подлинного просветления. Мне до него очень далеко, поэтому к Алмазной царевне, скрывающей вроде бы небольшой грот, я не пошёл, ограничившись кадром издали.
54.
Отсюда, мимо бумхана, мы спустились на нижнюю тропу, по которой вполне можно проехать на чём-нибудь изрядно внедорожном. А вот смотреть на ней нечего, кроме красивого, но монотонного леса. Так что отсутствие достопримечательностей компенсировал своими рассказами Пётр, знаток Китая, Японии и множества разнообразных языков...
55.
Весь этот маршрут, в одну сторону порядка 6 километров, занял у нас примерно 2/3 длинного июньского дня. Дальше мы успели пообедать, переждать дождь и сходить к Главному обоо. Всё это входит в Малое гороо, а есть ещё и Ехэ-гороо - кольцевой маршрут длиной 108 километров (священное в буддизме число) с радиалкой внутрь круга на вершину Алханая, который обычно проходят за 4 дня. Он включает сёла у подножья, древние менгиры и плиточные могилы в степи, ещё несколько ступ и Маани-Шулуунов и множество красивых холмов. Мы туда, конечно, уже не пошли. Ну а сам Алханай оставил яркое впечатление гармоничностью дальних видов, красотой лесов и скал и особой атмосферой священной горы чужой веры.
56.
В следующей части продолжим знакомство с буддийскими святынями Аги на другом конца (уже не) автономного округа - в Цуголе.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Сибирь природа дорожное этнография |
Агинский дацан и дорога на Алханай |
Агинское, которому была посвящена прошлая часть, впечатляет своим колоритом. Но всё же главная, даже единственная достопримечательность бывшей столицы миниатюрного региона находится в её ближайших окрестностях - это Агинский дацан, второй по масштабу и значению буддийский монастырь России, расположенный в присёлке Амитхаша (3 тыс. жителей) у дороги к священной горе Алханай. Дорогу эту через райцентр Дульдурга тоже покажу сегодня, так как в рассказ о самой горе её описание не влезет.
Пейзажи Агинской степи невозможно представить без белых ступ, на тёмных сопках мерцающих, словно свечи:
2.
Их обилие совсем не удивляет, если знать, какой путь прошло живущее здесь бурятское племя хоринцев. Тысячу лет назад они как хори-тумэты объявились в Прибайкалье, где покорили и ассимилировали воинственных тюрок курыкан. Следом туда же подтянулись из Монголии эхириты и булагаты, а хоринцы куда-то ушли - след их теряется на несколько веков, чтобы вновь проявиться в 16 веке на границе Маньчжурии и Кореи, в Тумэтском ханстве на руинах Монгольской империи. Тамошний Алтан-хан, повоевав с Минским Китаем, пришёл к понимаю, что разграбление города - ничто в сравнении с основанием города, а потому как умел занимался цивилизаторством. Как и положено остепенившимся варварам, Алтан-хан решил примкнуть к одной из мировых религий, имея на выбор несколько ветвей буддизма. При этом он был достаточно мудр, чтобы понимать - религиозная унификация с Китаем и Кореей станет первым шагом к растворению в них, а потому в 1577 году позвал в свои владения Далай-ламу. Так буддизм школы Гелуг начал распространяться по монголосфере, и хоринцы, в 1594 году под началом гордой Бальжин-хатан ушедшие в Сибирь на поиски исторической родины, несли с собой и "жёлтую веру". Певый буддийский народ России, в многообразии бурятских этнотерриториальных групп хоринцы стали буддийским полюсом. Традиционное шаманство, конечно, и тут не забыто, хотя и стало скорее специализированным приложением к буддизму - примерно как мольфарство у карпатских горцев. Но вот в селе Аргалей (700 жит.) на трассе между Агинским и Читой с пагодой соседствует священная роща:
3.
Агинские буряты - впрочем, не совсем хоринцы: в 1839 году, когда они добились создания собственной Агинской степной думы, по сути произошло разделение двух племён. Хоринцы в 17 веке поселились ближе к Байкалу, и лишь затем начали колонизировать степь за Даурским хребтом - точно не раньше 1728 года, когда южная граница России в примонгольской части обрела нынешний вид. Хоринцы делятся на 11 родов, из которых на Аге обосновались лишь 8. В 7 километрах недоезжая Агинского над трассой на пологой сопке Баян-Сагаан висит мемориал "Агын найман эсэгэ" (2008), что и значит просто "Восемь агинских родов". Издали хорошо видны их сэргэ (ритуальные коновязи), огромная Юндун-Шондон (Ступа Примирения), каменный храм-юрта справа и постамент хий-морина ("коня ветра", буддийского варианта ангела-хранителя) слева. Баян-Сагаан до учреждения Степной думы была центром агинских бурят, куда они съезжались на советы, ну а теперь это главная площадка общеокружных праздников и обрядов.
4.
У въезда в Агинское встречают Три Коня - стела советского племзавода и его ипподрома неподалёку. Трасса служит здесь границей посёлков - слева Агинское, справа Амитхаша. Налево, за ворота с памятником Бальжин-хатун, мы поворачивали в прошлой части, теперь же берём правее.
5.
Для русского уха название Амитхаша так и веет мантрами, сансарами, дакинями и дхармасалами, благовоньями, пряностями и потом косматых яков с крутых гималайских дорог. На самом деле это вовсе не буддийский термин, а какое-то бурятское слово, не удивлюсь если обозначающее что-то соцреалистическое и даже производственное. Во всяком случае Амитхаша под своим нынешним названиям была основана в 1933 году как машинно-тракторная станция, и на 9/10 представляет собой заурядное советское село.
6.
Хоть и сверкает над ним белая ступа Намжил на горе Норбо (2003), место для которой выбрал сам Далай-лама в 1991-м во время своего первого визита:
7.
Сопки и отделяют Амитхашу и от читинской трассы. Само село тянется вдоль главной внутриокружной дороги, соединяющей три его райцентра - Дульдургу, Агинское и Могойтуй. В 7 километрах от центра Агинского, примерно на одной линии с Баян-Сааганом, ближе к дальнему концу села на трассу глядят расписные ворота (1915):
8.
И первое, чем поражает лежащий за ними Агинский дацан - это размеры. Буддийские монастыри вообще в среднем крупнее христианских, и Дэчен Лхундублинг ("Обитель спонтанной реализации великого блаженства", как называется дацан официально) представляет собой по сути просто один из районов Амитхаши. Он занимает не менее 1/10 части посёлка, между крайними точками раскинувшись на 850 метров. Внутри монастырь сам делится на районы, и ворота у трассы ведут в "общую" часть, в основном занятую лугами и рощами. В идеале, как я понимаю, по ней должен распространиться Агинский буддийский университет (1993), а пока лишь ГЗ АБУ одиноко стоит внутри отдельной ограды:
9.
Другое здание на этой территории - трапезная слева от ворот, куда мы с Петром, прискакав автостопом прямо к воротам Агинского дацана от далёкого Цугольского дацана, направились в первую очередь. В гостиницах Агинского за вменяемые деньги не осталось свободных мест, и за бухлёром (мясной суп), позами и аарсой (горячий напиток с сырным вкусом) у нас родилась идея, не попробовать ли устроиться в дацан ночевать. Напротив столовой манили расписные ворота, пространство за которой мне более всего напоминало те локации православных обителей, на которых спотыкаешься о таблички "Без благословения вход запрещён!". Более коммуникабельный и более опытный в автостопных делах Пётр первым пошёл туда договариваться:
10.
На самом деле это просто Старая территория монастыря, дацан-в-дацане, его ядро, где живут сами ламы (монахи) и хувараки (послушники). Живут, обратите внимание, не в братских и настоятельских корпусах, как у христиан, а в избушках, часть из которых служит приёмными особо просветлённых обитателей дацана. Среди них - и сам ширээтэ (настоятель) Бадма Цыбиков, но он в те дни был в отъезде. Пётр направился в другую избу к замначдацана Амгалану Жапову, чей титул Ехэ гэсхы-лама имеет грозный перевод Старший держатель дисциплины. Пообщавшись с Амгаланом Владимировичем, Пётр позвонил мне и весьма обескураженным голосом сказал примерно: "Похоже, что он из органов, провёл тут самый настоящий допрос! Теперь и с тобой поговорить хочет". Звонок застал меня на другом конце дацана, и до избушки, спросив путь у сторожа, я шёл минут 10. Внутри изба Держателя Дисциплины была похожа на какую-нибудь управу или тихий участок с единственным милиционером в глухом селе. За огромным столом в тесном кабинете сидел крепкий круглоголовый солидный бурят в мирской одежде. Мне, вопреки опасениям, он задал лишь пару-тройку дежурных вопросов, а затем позвонил ширээтэ-ламе и долго с ним говорил, причём как показалось Петру - на монгольском или каком-то очень близком к нему диалекте бурятского. Итог разговора вышел неоднозначный: настоятель ничего не имеет против, если мы поставим в дацане палатку, а вот в корпусах ночевать сейчас никого не пускают - визит в Агинское у нас пришёлся как раз на пик прошлой, внепланово-летней волны глобальной хвори. Тут стоит добавить ещё и то, что буряты к Царь-вирусу относятся как бы не серьёзнее всех прочих народов России - тут и маски носят многие, и гордятся не антиваксерством, а сделанными прививками, так что я таким ответом был совсем не удивлён. Амгалан Владимирович же за время беседы явно проникся к нам симпатией, а потому лично провёл экскурсию по монастырю, то и дело вызвания хувараков с ключами.
11.
Старая территория дацана невелика, примерно 100 на 200 метров. От ворот ведёт аллея вдоль 8 субурганов, отмечающих вехи пути Будды, за которыми стоит оранжерея с бодхи - священным баньяном, под которым Сиддхарта Гаутама прозрел. Его семена привёз сюда в 1956 году тогдашний ширетэй Жамбал-Доржи Гомбоев. В основном же вдоль аллеи - жилая часть обитель, сельский квартал изб и деревянных юрт (на кадре выше справа). За вторыми воротами - общественные здания монастыря, соединённые тропками среди бурьяна.
12.
Вот в кадре давно закрытая паломничья гостиница из силикатного кирпича, красный дом для Далай-ламы на случай его визита и жёлтая библиотека (она же на кадре выше). Между ними - скульптуры будд и буддийских сюжетов.
13.
Амитхаша - имя действительно советское, а название следующего присёлка Булактуй изначально относилось ко всей этой местности между Агой и сопками. Его-то и выбрал в 1811 году тайша (вождь) 8 агинских родов для строительства собственного буддийского монастыря в этой благодатной колонии. Русские власти дали на это добро и даже прислали артель русских каменщиков - буддизм в России был религией кочевников, их храмами не первый век служили юрты, и как когда-то итальянцы в Москве, русские зодчие закладывали основу национальной архитектуры. Выходили у них, надо сказать, довольно странные сооружения, этакие "буддийские церкви", особенно в Калмыкии, где впрочем хурулы той эпохи снесены все до одного. В Сибири, конечно, проще было найти людей, бывавших в Китае и даже в Тибете, и всё же в изначальном облике законченного в 1816 году агинского Цокчен-дугана (собора) сложно не разглядеть силуэты иркутских барочных церквей:
14а.

Сами агинские ламы, однако, больше смотрели на Тибет, или вернее лежащее в его предгорьях плато Амдо (ныне провинция Ганьсу) и в особенности - тамошний монастырь Лабранг (или Лавран), где большинство из них учились. И, конечно, мечтали перенести его традиции на родную почву. В 1858 году тайшей Агинской степной думы стал Тугулдур Тобоев из рода хуасай, почти сразу посадивший своего сына Галсун-Жамбу Тугулдурова в кресло ширээтэ. Но как показывает практика, кумовство - не всегда плохо: при Тугулдурове началось возвышение Агинского монастыря, с созданием в 1861 году цаанида (философского факультета) начавшего превращаться в образовательный центр. Сам Тугулдуров писал учебники по астрономии и грамматические словари, вошедшие в библиотеки лучших монгольских обителей. Однако подлинный расцвет Агинскому дацану принесли багши ("наставники") Ёнзон и Эмчи, в миру - братья Лубсан-Доржи и Ринчин-Самбу Данжиновы. Первый в 1876 стал настоятелем Агинского дацана, второй открыл в 1884 году медицинский факультет, к 1895 году дополненный Манбу-дацаном - центром тибетской медицины. В 1880 и 1906 в монастыре появились факультеты Тантры и Калачкары, не знаю точно с каких времён действовали факультет астрологии и типография - Дэчен Лхундублинг возвысился до уровня главных монастырей если не Тибета, то Монголии. Впрочем, клише Русский Лавран вряд ли понравилось бы Лубсан-Доржи Данжинову - Ёнзон-багша был последовательным противником русификации и даже Старый дуган перестроил в 1897 году в более ориентальном стиле:
14.
Расписные ворота ведут в тёмный и не слишком зрелищный зал с запахом старого дома:
15.
Но толстые стены, скруглённые окна и полумрак оставляют полное ощущение, что находишься в сельской церкви:
15а.
Ёнзон-багша умер в 1901 году, но обитель продолжила строиться и богатеть. Это был настоящий монашеский город, где жило до 900 лам - больше, чем прописано семей в современном Амитхаше. Гражданская война бушевала где-то в стороне - в 1920-х, по сравнению с дореволюционными временами, тут изменилось немногое, и даже духовный лидер бурят начала ХХ века и евразийский идеолог Агван Доржиев бывал здесь именно в те годы. Тучи сгущались в далёкой Москве: за непонятный буддизм "воинствующие атеисты" взялись лишь в 1930-х годах, но с удвоенным энтузиазмом, в иных регионах вроде Калмыкии и Тувы сравняв с землёй все храмы до единого. Разгром Дэчен Лхундублинга начался в 1933 году с основанием Амитхаши, и к моменту официального закрытия дацана в 1938 году здесь оставалось всего 32 монаха. Первоначально тут расположилась машинно-тракторная станция, затем - воинская часть, и в эти годы погибли старейшие монастырские постройки - окружавшие Старый дуган аймачные сумэ (приходские храмы) Дара-Эхе, Дуйнхор, Манла и Гунриг (1811-16), от которых, кажется, не осталось даже фотографий.
16а.

И думается, шло бы всё в том же духе ещё несколько лет - и об Агинском дацане теперь напоминал бы лишь какой-нибудь памятный знак с одинокой постсоветской ступой. Однако война вынудила Советы пойти на религиозную оттепель, коснувшуюся не только христиан. В буддийских регионах было дозволено открыть по одному монастырю, но только Калмыкия тогда была в полном составе выселена, Тува только-только стала частью России и было в ней не до того, а Усть-Орду, где дацанов прежде не было, и вовсе не причислили к центрам буддизма. Оставались лишь Бурятия и Агинский Бурятский округ. В первой верующие получили пустое поле близ Улан-Удэ, где начали строить Иволгинский дацан (ныне главный в России), ну а Агинский дацан оказался единственным буддийским объектом, который советская власть тогда вернула хозяевами. Уцелевшие старые дуганы стали точкой концентрации, а большинство монастырских построек здесь, как и на Иволге - советских времён. Я уже показывал оранжерею священного дерева бодхи (1956), а вот "лампадный домик" Зулын-сюмэ (слева) и храм Сахюсан-сюмэ (защитников буддийской веры), построенные, видимо, в те времена, когда Кобзон был молодым и актуальным.
16.
Среди зданий стоят реликвии - камни с буддийскими надписями (в основном мантрами):
17.
О происхождении их я ничего не нашёл, да и ламы немногое знают:
18.
И гигантский котёл, в котором можно сварить хоть целого быка. В конце июня он похож скорее на бассейн, и Амгалан Владимирович даже извинился перед нами за тину - чистят котёл раз в год:
19.
Учёные датируют его 18 веком, но сюда он мог попасть и гораздо позже, в годы расцвета монастыря, для приготовления еды во время многолюдных празднеств.
19а.
Теперь покинем Старый дацан и отправимся в Новый - это по сути единственный сквер, сквозь который от главных ворот ведёт прямая аллея к воротам Нового Цокчен-дугана (1881-87), главного памятника расцвета монастыря при Данжиновых:
20.
Эталон бурятской архитектуры, дуган блистает новизной:
21.
То не случайно - в 2014 году храм был разрушен пожаром, оставившим от него лишь голую коробку каменных стен. Вероятно, это с тех времён уцелевшие ставни и мебель хранятся в Агинском музее. Сложены они вокруг тибетского барельфа, привезённого востоковедом Гомбожабом Цыбиковым в 1902 году.
22.
Деревянные части дугана же за 7 лет были воссозданы полностью и впечатляют яркостью красок:
23.
К чести буддистов Традиционной сангхи России, тут не сделали ремонт в стиле "дорохобохато", а провели качественную научную реставрацию, воспроизведя мельчайшие детали:
24.
Видно, что храм поновлён и отреставрирован, но не что он поднят из руин. Пожалуй, это самое быстрое и удачное воссоздание сгоревшего памятника деревянного зодчества в постсоветской России. И вот что мешает так же вернуть из небытия Кондопогу, Большие Лядины, Верхнюю Мудъюгу и другие храмы-пепелища Руси?
25.
В нынешнем дацане Новый дуган основной, и двери его открыты:
26.
Рядом высится непривычно огромная (высотой 22м!) Ступа Примирения, воссозданная в 2005 году. Оригинальную ступу же на фоне Гражданской войны, атеизма и движения обновленчества соорудили в 1926-28 годах, и освещать её приезжал Агван Доржиев. Реплика стоит уже заметно дольше, чем простоял оригинал... На заднем плане третья постройка Нового дацана - какой-то хозяйственный корпус, оставшийся то ли от машинно-тракторной станции, то ли от воинской части.
27.
Наконец, за Новым дуганом, на террасе выше по склону сопки, дацан скрывает и "секретную локацию" - сумэ Будды Майдари (Грядущего):
28.
Заурядность здания лишь усиливает впечатление того, что встречает внутри:
29.
Это крупнейшая в России статуя Будды Грядущего высотой 16,5 метров. Официально её подарил Агинскому дацану тайша Самдан Зодбоев, приобретя у вернувшегося из Китая купца Жанчиба Башалиева в 1889 году. На самом деле всё это был спектакль, который Ёнзон-багша разыгрывал в долгую - только став шэритэем в 1876 году, Данжинов заказал эту статую у китайских мастеров, работавших над ней 13 лет. Откуда точно были эти мастера - теперь вряд ли кто-то вспомнит, а может даже разные её фрагменты делались в разных городах. Известно лишь, что в Россию верблюжий караван привёз гиганта по частям с озера Далайнор. В Агинском к тому времени был построен павильон, схожий с нынешним. Вот только архитекторы чего-то не дорассчитали, так что пол в главном зале пришлось заглублять в землю на метр.
30.
Сама статуя делалась полой, но традиционно в неё закладывались десятки "драгоценностей" - различных священных предметов, включая 108 томов буддийского писания Ганжур. В поисках драгоценностей амитхашинские селяне и начали курочить Майтрею в 1930-х годах, но нашлись и те, кто стал бить тревогу да рассылать письма по музеям и наркомам культуры. В 1940 году на крик о помощи откликнулся Ленинградский музей истории религии и атеизма, экспедиция которого вывезла из Агинского более 250 буддийских предметов, и в том числе, по частям - эту скульптуру. В дацан Будда Грядущего вернулся уже в 1990 году, вот только его основа сохранилась примерно на 80%, а декор и чеканка - даже не на 15%. Реставрация Майдари затянулась на четверть века...
31.
Лишь в 2007-08 годах был отстроен павильон, как и раньше, заглубленный в землю - оригинальное деревянное здание ещё в 1943 году увезли на станцию Могойтуй, где обкарнали до состояния коробки да приспособили в народное хозяйство. Монтаж Будды Майдари начался в 2014 году и завершился лишь в 2017-м, но теперь это, пожалуй, самый впечатляющий памятник Агинского дацана. Вот только увидеть его можно лишь с экскурсией:
32.
...Между тем, ещё когда Пётр только шёл к замначдацу, у меня начала зреть идея в тот же вечер рвануть на Алханай, по склонам которого помимо буддийских святынь развешаны и многочисленные турбазы. Их, конечно, могли закрыть на ковид, поэтому я не поленился найти телефон одной из них, а заодно узнать цену ночлега. Отказ шеритэя пустить нас на ночлег лишь укрепил меня в этом намерении, и по окончании экскурсии, поблагодарив Амгала Владимировича, мы вышли за ворота до побрели вдоль алханайской трассы на край Амитхаши. Буквально у выезда рядом притормозило такси, и здоровенный пожилой бурят-водитель после небольшого торга согласился отвезти нас прямо до турбазы на Алханае за 1500 рублей. Это правда был аттракцион невиданной щедрости - до ближайшего райцентра Дульдурга от Агинского 90 километров, от него ещё 20-30 до священной горы, и мы понимали, что если хотим на Алханай - то рублей 800 за такси отдать под вечер в любом случае придётся. Ну а сговорчивость водителя стала понятной ещё когда мы петляли по Агинскому, где он хотел купить какие-то автозапчасти для знакомого в Дульдурге - водителю, кажется, было категорически не с кем пообщаться. До Алханая мы неслись под градом не всегда уместных вопросов и чаще всего откровенно глупых советов. Собеседник ещё и по-русски говорил неважно, с сильным акцентом и порой путая слова. Но при этом не оставлял мне возможности пропускать всё это мимо ушей и вежливо кивать - на всё, что он мне говорил, водитель требовал подробного ответа. Под конец я откровенно лез на стену, и даже не склонный зазря тратить нервы Пётр по прибытии спросил меня, как я смог ни разу водителю не нагрубить. Одно хорошо - мчались по лугам и сопкам Агинского мы действительно быстро:
33.
По дороге, которую когда-то привёл в порядок Иосиф Кобзон, с 1997 года избиравшийся в Госдуму депутатом от Агинского Бурятского автономного округа. Под американские санкции Иосиф Давидович попал аж в 1995 году, видимо согласно далекоидущим планам коварного Бжезинского введённые авансом за поддержку Русского Донбасса и призывы "боевых бурят". Ну или просто за тёмные дела: Ага стала для Кобзона тем же, чем для нормальных олигархов Кипр или Багамы - оффшорной зоной, но зато и интересы округа Иосиф Давыдович постоянно лоббировал в Москве. Времена "при Кобзоне" здесь вспоминают теплее, чем "при социализме", а что прямой дороги между райцентром не было - охотно верю после Усть-Орды, где своего Кобзона не случилось, и из одной части округа в другую ехать проще через Иркутск. Да и вид у дороги такой, будто не чинили её со времён автономности округа...
34.
За перевалом через невысокий лесистый хребет между долинами речек Ага и Иля встречает деревенька Таптанай, откуда был родом Пётр Бадмаев - крещёный бурят, уехавший в Петербург в 1860-х годах помогать брату-аптекарю, а в итоге на рубеже столетий привёзший в Европу и конкретно во дворец к Николаю II традиции тибетской медицины. У сельского ДК, больше похожего на буддийский храм, впрочем стоит бюст скорее какого-нибудь героя Великой Отечественной:
35.
Между Таптанаем и Алханаем дорога пересекает ещё и Саханай - урочище со множеством живописных скал и фигур выветривания. Есть тут например скала с отпечаткой гигантской ладони в благословляющем жесте Будды, ну а нам водитель указал на Кинг-Конг-гору:
36.
Кинг-Конга там разглядела какая-то московская туристка, которую таксист вёз на Алханай. Я же предположу, что Кинг-Конг - животное тропическое и больше любит лазать по небоскрёбам, а это - Король Обезьян:
37.
Вообще же Агинская сторона потрясающе красива:
38.
Вот и тщедушная Иля, за длинным мостом через бескрайнюю пойму которой...
39.
....встречает Дульдурга - крупное село (6,8 тыс. жителей), один из трёх агинских райцентров:
40.
Райцентром она стала в 1941 году, а первую избушку у Или поставил в 1803 году русских переселенец по фамилии Гусев. "Золотой век" Аги, однако, дошёл и сюда - на сопке над селом стоит ступа у скал, где прежде наверное камлали шаманы, а центр отмечает пара "кобзоновок" рубежа 1990-2000-х. Ещё тут есть невыносимо силикатная Воскресенская церковь (1998) и какой-то краеведческий музей, но мне больше всего запомнилась вот эта постройка неясного возраста с закосом под конструктивизм:
41.
Если Агинское стоит на трассе Чита-Забайкальск, ведущей в Китай, то по окраинам Дульдурги проходит трасса из Читы до границы с Монголией, ведущая в центр самого восточного монгольского аймака Чойбалсан.
42.
Мы же пересекаем трассу, за которой тянется травянистая степь с обилием плиточных могил и менгиров:
43.
В степи стоит село Алханай - довольно крупное (1 тыс. жителей) и очень ухоженное:
44.
Особенно впечатляет его ДК совсем не сельских масштабов, куда Кобзон возил многих звёзд общероссийского уровня - здесь, на краю заповедных лесов с потайными гостиницами и охотничьими заимками, им явно выступать было приятнее, чем в заурядной Аге.
45.
В пластиковой юрте ближе к выезду - кажется, офис учреждённого в 1999 году национального парка Алханай:
46.
А там и граница его совсем рядом:
47.
Ну а про сам Алханай расскажу... вот не решил пока, в следующей части или через одну - ведь помимо Агинского дацана есть не менее впечатляющий Цугольский дацан на другом конце округа.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина (Бурятия)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район (Бурятия)
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь (Забайкальский край)
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Великая Степь Сибирь природа дорожное |
Агинское. Земля боевых бурят. |
-А у вас округ автономный?
-Нет, только Бурятский.
-Агинское...
Так называется крупный ПГТ (18 тыс. жителей) в 140 километрах южнее Читы. Как и показанный в прошлой части Усть-Ордынский, в 1937-2008 годах он был столицей небольшого региона - Бурятского автономного округа. При сходстве названий, однако, два округа не просто различны, а я бы сказал - антиподы маленького, но пёстрого Бурятского мира. Усть-Орда - тоскливая прародина, Ага - цветущая колония. Первая в бурятском двоеверии - полюс шаманства, вторая - полюс буддизма. УОБАО аморфен, русскоязычен, запущен и беден, АБАО - централизованный, титульный, зажиточный и опрятный. Причём последнее сюда принёс один человек - донецкий еврей и всесоюзный певец Иосиф Кобзон, депутатство которого в Госдуме от Агинского округа тут вспоминают как золотой век. Серая Усть-Орда осталась заурядным райцентром, а аляповатая Ага так же скучна, но хотя бы колоритна.
Колыбелью бурятского этноса стало Прибайкалье - степной остров посреди тайги, на котором пришедшие в 11 веке из Монголии племена хори-тумэтов и эхиритов и подтянувшиеся при Чингисхане булагаты обособились от Великой Степи. Трём племенам, однако, быстро стало тесно, но когда Прибайкалье покинули хоринцы, теперь точно не знает никто - то ли за Чингисханом пошли они, то ли от Саганхана (Белого царя) бежали. Наиболее вероятно, пожалуй, что истина (хронологически) посередине, а хоринцев вытеснили булагаты. Эти два племени вот уже несколько сотен лет спорят за лидерство в бурятском мире - на каждое приходится чуть меньше трети народа, и булагатский тотемный Князь Бык (Буха-нойон) в пантеоне бурят стал покровителем всего народа. Тотемом хоринцев был лебедь... или скорее была: по легенде, давным-давно на Ольхоне батыр Хоридой увидел, как три лебедя спустились на берег Байкала, обернулись девушками и пошли купаться в холодной воде. Хоридой похитил пернатое одеяние одной из них, и не сумев вновь стать птицей, дева-лебедь стала его женой, и от 11 их сыновей пошли 11 хори-бурятских родов. Ну а лебединые следы на пыльных степных дорогах вновь появились в 16 веке, когда чингизид Даян-хан сумел вновь объединить монгольские племена в единое государство, или скорее конфедерацию нескольких ханств. Самым крепким из них было Тумэтское ханство, чей правитель Алтан-хан после серии войн стал по сути посредником между своими коллегами и Минским Китаем. Дочерью Алтан-хана, скорее приёмной, чем родной, была Бальжин-хатун, которую судьба выбрала стать новой лебедью хоринцев, к тому времени кочевавших далеко на востоке, порой заходя в Корею. 8-метровый памятник Бальжин "Принцесса Славы" поставлен в 2006 году на официальном въезде в Агинское - по факту в глубине застройке, где дороги из Читы и со священного Алханая сходятся в трассу на Китай.
2.
Хоринцы тогда не имели своего хана и ходили под солонгутами и их ханом Буубэем-Бэйли, за сына которого Дай-хунтайджи (имён их история не сохранила, а это титулы) Алтан-хан и выдал Бальжин. Девушка, однако, от рождения обладала незаурядным умом и непреклонной волей, и условием брака назвала переход хори-бурят непосредственно под начало её будущего мужа. Такая забота о небольшом народе и наводит на мысль, что Бальжин не была родной дочерью хана, а в её жилах текла хоринская кровь. На новом месте она лично объезжала улусы, входила даже в бедняцкие юрты, так что в конце концов знали и любили её, без преувеличения, все. И когда в 1594 году во владениях Буубэя-Бэйли начался новый раскол, Бальжин-хатан и верный ей Дай-хунтайджин повели хоринцев на северо-запад на поиски былой родины. До Прибайкалья 11 родов не дошли, но осели в плодородной Даурии, став ядром забайкальских бурят. Сама Бальжин-хатун погибла в боях с преследовавшими хоринцев солонгутами и маньчжурами - по легенде, добровольно сдалась на расправу, чтобы враги оставили в покое остальной народ.
3.
Забайкалье тех времён населяли дауры (дальняя родня монголов) и конные эвенки, с таёжными эвенками схожие по языку, но бывшие классическими степянками. В 17 веке, когда в эту степь всё чаще стали заглядывать "белые волки", дауры и эвенки поддержали дом Цин и ушли за Аргунь и Амур, а потомки оставшихся, перешедшие на бурятских язык, ныне известны как хамниганы. Хори-буряты же увидели в русских союзника и все последующие века демонстрировали удивительную лояльность. Даже когда переселенцы теснили их с кочевий, а казаки брали заложников и угоняли скот за ясачные недоимки, хоринцы не восстали, а собрали делегацию из 52 человек во главе с зайсаном галдутского рода Баданом Туракиным, молодой шаманкой Эреэхен и русским толмачом Алексеем Шергиным, да пошли в Москву, где их принял в 1703 году лично Пётр I. Который отписками не занимался, и наверное кабы ни огромные расстояния да куча дел поближе, лично съездил бы в Даурию разобраться. Буряты вновь стали хозяевами своей степи, и с 1728 года, когда русско-китайская граница в Забайкалье обрела нынешний вид, занимались её охраной. При учреждении Забайкальского казачего войска в 1851 году многие хоринцы вошли в его состав.
4.
С русскими поселенцами же буряты не ссорились - земли в Сибири по-прежнему было в избытке, тем более один народ её пахал, другой - кочевал по ней со стадами. Первую избу на берегу Аги, маленького притока Онона, основали именно русские - сквозь, натурально, всю Сибирь тянется след вологжан Татауровых, в нескольких поколениях селившихся всё дальше и дальше на восток. Династия землепроходцев, Татауровы были дружны, мастеровиты на все руки и знали языки туземцев, рядом с которыми селились, а потому их заимки становились точками конденсации новых деревень. К началу 18 века таким образом возникло село Татаурово на Ингоде, а в 1744 году Василий Пантелеймонович Татауров с другом Герасимом Наумовым (вероятно, подсказавшим этот путь) перевалил через Даурские горы в Агинскую степь, где и начал обживаться. В память об этом в честь Татаурова названа и первая от Аги улица посёлка, часть главной забайкальской трассы из Читы к Китаю, на которой сняты и все прошлые кадры.
4а.
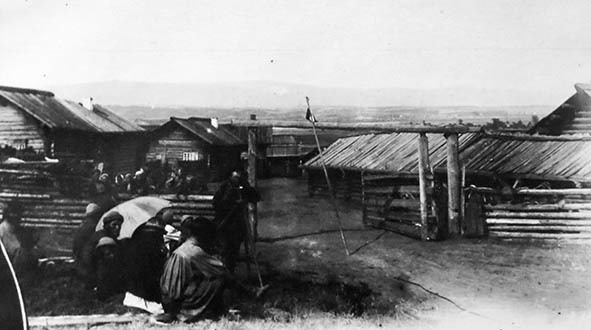
Центр на этой трассе с 2010 года отмечает конный памятник Бабжа-Барас-баатыру - дословно "Богатырю с силой барса". Это личность ещё более мифологическая, чем Бальжин - "бурятский Робин Гуд", который в неизвестную эпоху воевал с чужаками и богатеями. В одиночку окопавшись на скале, он обращал в бегство целые орды, а одной стрелой мог убить семерых. Исследователи сходятся на том, что Барсик был из сайнэров - "добрых воров", угонявших скот лишь у богатых и оставлявших себе столько добычи, сколько нужно для выживания (и видимо для неазметности), а остальное отдавая беднякам. Особенно развито сайнэрство было именно среди бурят, которых русская власть обязала жить мирно, а вот обычай наследовать старшему сыну не имущество, а только оружие и коня, оставался. И было таким улуу-хубудам ("лишним парням") две дороги - в разбойники или в ламы. Легенд о Барас-баатыре сложено много, но вот происхождение статуи вызывает вопросы - изображён здесь явно не народный мститель царских времён, а средневековый монгольский воин. Однако в истории Аги важнее памятника вон тот ржавый забор - в имеющемся у меня путеводителе на этом месте отмечен Дом культуры, начатый в 1943 году и так не достроенный ни в войну, ни после, а снесённый только в 21 веке. Он стоял на месте Агинской степной думы:
5.
Агинская степь лежала за пределами хоринских кочевий, хотя здешние буряты и говорят на хоринском диалекте и входят в 8 хоринских родов (из 11). Когда и как они сюда пришли - единого мнения нет: то ли, как и Татауровы, перебирались через Даурский хребет, то ли прибыли из Барги (бурятской части Маньчжурии) какой-то другой волной, то ли и вовсе описали по степям и сопкам какой-то хитрый круг. Царским чиновникам агинские буряты стали известны с 1781 года, когда здесь появилась Харгытуйская мирская изба (управа), ныне считающаяся отправной точкой собственно Агинского. В 1822 году в законодательстве империи появился специальный орган самоуправления кочевников - степные думы. В них заседали старосты (наследственные или выборные - на усмотрение самих кочевников), которых возглавлял тайши - у монголов так исторически назывались не Чингизиды, но потомки чингисханова рода Борджигинов, у калмыков - наследственные князья, ну а у бурят - главы степных дум. Вот их печати в музее:
5а.
В основном бурятские степные думы формировались по племенному признаку, и крупнейшая Хоринская степная дума не стала исключением. Агинская степь же оказалась её эксклавом, и после долгой бюрократической борьбы выделилась в 1839 году в отдельную Агинскую степную думу. Созданная не по разнарядке, а самими жителями, в отличие от многих чисто кочевых дум, она обзавелась "портом приписки" и даже капитальным деревянным зданием. Ну а агинские буряты фактически образовали новое племя.
5б.
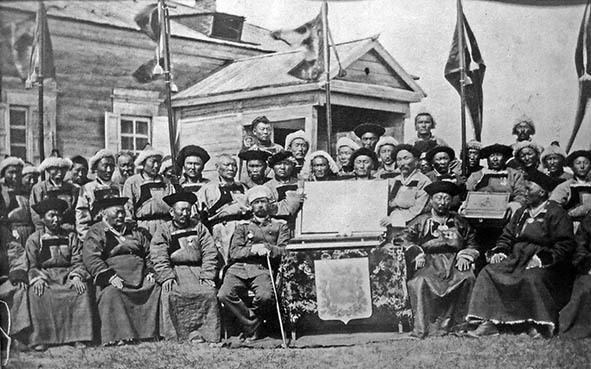
Отмена степных дум в 1903 году обернулась тут вооружённой борьбой в революцию 1905 года и исходом части агинцев в Баргу. В Гражданскую войну на старых думских территориях бурятскими активистами были провозглашены новые автономии - аймаки. Их группы в РСФСР и Дальневосточной республике превратились в Монголо-Бурятскую и Бурят-Монгольскую автономные области соответственно, выглядевшие примерно вот так - каждая представляла собой россыпь эксклавов, администрации которых помещались в Иркутске и Верхнеудинске (Улан-Удэ), не входивших в их состав.

В 1923 году всё это было сведено в Бурят-Монгольскую АССР, куда вошла большая часть меж-аймачных территорий, кроме окрестностей Иркутска и Читы. Тогдашняя Бурятия в основном совпадала с нынешней, не считая "перехлёста" через Байкал. Наконец, в 1937 году Ольхонский район был выведен из её состава, а два крупных эксклава выделились в отдельные регионы - два округа в Иркутской и Читинской областях. На землях Агинской степной думы возродился Агинский Бурят-Монгольский национальный округ, в 1958 году ставший Бурятским, а в 1978 - Автономным. По сравнению с Усть-Ордой Ага получилась меньше (77 тыс. жителей против 139 на 2008 год), но крепче - с наибольшей в России и неуклонно растущей долей бурят (ныне 62%, а русских 35%), с 40% городского населения в нескольких ПГТ, с тремя районами (Агинский, Могойтуский и Дульдургинский) и явной столицей над ними.

Самый же удивительный выверт история Аги сделала в 1997 году, когда депутатом Госдумы от здешней степной думы избрался Иосиф Кобзон. Еврей из Донбасса, рождённый в 1937 году в городке Часов Яр под Бахмутом и выросший в Краматорске, на эстраду он вышел в 1956 году, и распад СССР встретил личностью известной и могучей. Помню, как в 2002 году после "Норд-Оста" наш школьный ведущий турклуба так описывал переговоры Кобзона с террористами: "Приехал да побазарил с ними чисто по-бандитски. А вы не знали? Кобзон же в Москве самый главный бандит!". Но фольклор фольклором, а во власть он и правда вошёл, и избирательную кампанию свою начал с того, что приехал в нищую Агу да завалил её деньгами. Понятия не имею, был ли Кобзон бандитом, но музыкой его деятельность точно не исчерпывалась, а под санкции США он попал ещё когда это не было мейнстримом - в 1995 году. А потому, видать, и оффшор устроил не на Кипре и не на Багамах, а в бурятской степи. Однако - с выгодой для её обитателей: Кобзон регулярно приводил в АБАО дополнительное финансирование и инвестиции в здешние рудники и фермы да выбивал у федеральных властей списание долгов. Само собой, главный московский бандит придушил и всех местных бандитов, благодаря чему тут и малый бизнес получил фору в те времена, когда по всей стране его развитию не законы мешали, а беззаконие. На фоне нищей, позаброшенной Читинской области Ага превратилась в оазис благополучия - доводилось слышать, что бюджет маленького округа был как бы не больше областного. Лавочку прикрыли в 2008 году, упразднив тогда пяток автономных округов от Камы до Камчатки, но оборот "при Кобзоне" в речи местных жителей и ныне обозначает золотой век. Облик Аги определяют аляповатые простенькие здания рубежа тысячелетий:
6.
На кадре выше - своеобразный агинский "даунтаун" между улицей Татаурова и Агой. Памятник Баарас-батыру - за праым краем, а вот у левого края улочка ведёт к кафе "Одон" ("Звезда"), которое весь округ знает как лучшее по сочетанию цены и качества. Бурятская кухня в байкальской стороне быстро делается основной пищей туриста, но везде она со своей спецификой. Вот тут в кадре обще-бурятский цуйван (жареная лапша с овощами и мясом) и скорее забайкальские баншатай (или просто "бурятский суп" с пельменями и лапшой) и аарса (горячий кисломолочный напиток, по вкусу этакий "жидкий сыр"). И если на Ольхоне и в Тунке бурятская кухня немыслима без чебуреков, то на Аге её нельзя представить без блинов:
7.
От памятника Баарас-батыру начинается главная в Агинском Комсомольская улица, до 1926 - Кусочинская по фамилии кого-то из местных купцов:
8.
С левоей её стороны уцелела одна из последних избушек. За ней на тихой улице Лазо, в частном доме, спрятана неплохая гостиница "Гоби". Места в ней, впрочем, надо бронировать заранее - гостиниц тут мало и в них постоянный аншлаг.
9.
Напротив - пара невзрачных и совершенно уделанных, но исторических зданий. Справа - первая школа Аги (1842), давно убранная в каменные стены, слева - обшитый сайдингом окружной исполком (1940), ныне детский садик "Туяа":
10.
За ним Комсомольская выводит на Центральную площадь у подножья невыносимо жёлтой Никольской церкви:
11.
Крыша и купол храма воссозданы при Кобзоне, но в основном он вполне исторический - в дереве основан в 1859-м, в камне отстроен в 1897-1903 годах:
11а.

Напротив через площадь - первое в посёлке гражданское каменное здание, о происхождении которого (даром что каменный у него только низ!) я ничего не нашёл. Рискну предположить - в этом доме конца 1930-х годов жило начальство молодого округа:
12.
По другой стороне Комсомольской протянулась Аллея Героев, на которой нашлось место и Кобзону. За бюстами - школа искусств и новое здание (2004) Агинского национального музея имени Гомбожаба Цыбикова:
13.
На углу раньше стояло и старое здание - одноэтажная сельская школа (1890), в стенах которой музей и открылся в 1961 году. Какое-то время они даже сосуществовали, но со своим культурным наследием агинцы поступают как истинные потомки Чингисхана - из исторических памятников, описанных в путеводителе 2004 года, к 2021 году сохранились лишь церковь и здание с позапрошлого кадра. На месте школы ещё и юрту поставили - не деревянную, как в Прибайкалье, а вполне себе мобильную войлочную со священной коновязью-сэргэ:
14.
Во дворе музея - живописный лапидарий, где собраны по большей части разные менгиры и надгробия. В том числе, справа - настоящая плиточная могила, одна из древнейшей (13-3 века до нашей веры) прото-монгольской "культуры плиточных могил".
15.
Среди не столь древних надгробных стел со старомонгольскими надписями высится пара уже откровенно современных памятников Гомбожабу Цыбикову (1973, кадр выше) и Петру Бадмаеву (2020, кадр ниже), чьи следы отсюда тянутся в Тибет. Со времён делегации к Петру I в столицах знали о бурятах, начавших создавать там небольшие, но богатые общины. Иные, крестившись, делали карьеру - как например, Михаил Сердюков, создатель Вышневолоцкой водной системы. Из таких был и доктор Сультим Бадмаев, с подачи Николая Муравьёва-Амурского в 1860 году поехавший в Петербург в военный госпиталь. В столице он стал Александром, открыл частную аптеку, да ещё и преподавал в Петербургским университете монгольский язык, так что не обойтись было без помощи брата Жамсарана, вскоре ставшего Петром. И - пошедшего своим путём: в начале ХХ века медик и путешественник Пётр Бадмаев привёз в Россию и Европу традицию тибетской медицины. Которой даже Николай II пытался лечить цесаревича: Бадмаев был вхож в Зимний дворец наравне с Распутиным, за что и был убит большевиками в 1920 году.
16.
Цыбикову же в музее посвящён отдельный зал. Там его личные вещи (как вот этот шкаф) лежат вперемешку с камнями Аги и находками из далёкого Тибета начала ХХ века. Последний тогда являл собой закрытую страну, куда даже Пржевальский так и не смог проникнуть. Иное дело - выпускник петербургского Восточного факультета, позже маститый востоковед Цыбиков, отправившийся Тибет как буддийский паломник и таким образом открывший его для Европы.
17.
Так, незаметно, мы вошли в музей. На кадре выше слева манекен шамана с харьбо (трость, олицетворяющая небесного коня для Верхнего мира) и реплика бурхана (святилища) с жертвенником и сэргэ. Последние - именно бурятский, а не монгольский атрибут: саму традицию ритуальных коновязей распространили тюрки с Алтая, и в том числе прибайкальские курыкане (см. здесь), ассимилированные хори-тумэтами в 11 веке. А вот шаманство было характерно для всей монголосферы, и на Аге атрибуты боо и угдан (шаманов и шаманок) те же, что на Ольхоне - бубны, харьбо, оргои (железные короны) да бляшки-обереги на одежде. Бурятских шаманов в деле, впрочем, я показывал пару постов назад на Ольхоне.
18.
Но если в Прибайкалье шаманство господствует, то здесь выглядит скорее узкоспециализированным приложением к буддизму. То не случайно: в 1577 году Алтан-хан приглашал Далай-ламу III в своё Тумэтское ханство, тем самым начав распространение среди монголов "жёлтой веры". Уходя за отважной Бальжин на поиски исторической родины, хоринцы принесли буддизм в бурятскую степь, и в наши дни пейзаж Аги немыслим без белых ступ на сопках. Из 5 моих постов об Аге 2 будут посвящены дацанам и ещё 1 священной горе Алханай, ну а в музее собраны лишь атрибуты, самый впечатляющий из которых - ритуальная чаша из теменной кости:
19.
С религией бурят лучше знакомиться в живую, а вот национальные костюмы стали достоянием музейных витрин. Яркая одежда с небесными красками и шелками - примета в первую очередь именно хоринцев. Вот слева направо козья доха и женский дэгэл (зимний халат), реплики праздичных тэрлигов (летних одеяний) на манекенах и несколько подлинных старых костюмов, подаренный музею семьёй Цындежаповых из китайского Хайлара.
20.
И мужчины, и женщины носили тууруны (манжеты), островерхие шапки тойробшо с загнутыми вверх краями и красные кисточки залаа. Так же в ходу были шагабшэтой (ушанки), шапгансын (ермолки), бортого (тюбетейки) и юудэн (дождевики с капюшонами). У женщины к шапке крепилась сложная конструкция украшений, по которым можно было прочесть её статус. Пояса отличались - простой бухэ (кушак) у мужчин и многослойная комбинация нашивок и полосок у женщин. Мужской тэрлиг украшал энгэр (косой лацкан), женский покрывала уужа (жилетка).
20а.

И тем, кто читал мой пост про нанайский Сикачи-Алян, бурятские костюмы покажутся странно знакомыми - хоринцы не случайно кочевали на востоке Маньчжурии, доходя до Кореи, где многое переняли в покрое, красках, орнаментах и материалах.
21.
Если прибайкальские буряты своим основным жилищем считают деревянную юрту, то забайкальские в таких лишь зимовали. Их домом служил в первую очередь гэр - войлочная юрта монгольского типа с прямыми жердями под потолочным окном. В деревянных юртах Прибайкалья чаще висели онгоны (шаманские обереги), а здесь - буддийские иконы всяких бодхисатв и махакал.
22.
Основным украшением бурятских юрт были расписные сундуки. Юрточную мебель для музея делал мастер Александр Шагдуров из Закаменского района, как видимо и скульптуры животных, которыми был богат скотовод.
23.
И явно не в шелках буряты подходили к этим агрегатам - как самогонный аппарат (справа), маслобойки и скребки для кож, среди которых затесалась металлическая бочка для святой воды из аршанов (целебных источников).
24.
А вот примеры того, как буряты развлекались - шахматы, игровые кости и детский лук. Здесь же, почему-то, описание сэргэ, и обратите внимание, что оно сделано на бурятском без русского дубляжа - совсем не редкий случай в Агинском музее.
25.
В то же время здесь есть отдельный стенд о русских поселенцах, чем не может похвастаться Усть-Ордынский музей:
26.
А вот лесенка схрона красных партизан Петра Аносова с горы Алханай:
26а.

Гражданскую войну буряты прошли как истинные буддисты, по большей части не примыкая ни к той, ни у другой стороне и не пытаясь отделиться. Пока русские убивали друг друга, Агван Доржиев засылал лам-миссионеров на Ольхон и строил в Тункинской долине дацаны. Приход советской власти "всерьёз и надолго" буряты ощутили скорее в 1930-х годах, сполна хлебнув коллективизации и воинствующего атеизма. Многие хоринцы тогда отправились вспять по дороге Бальжин-хатун - с 1903 года, когда власть отменила степные думы, агинские буряты всё чаще возвращались в Баргу. По ту сторону китайская границы, близ Хулун-Буира, выросла самая настоящая колония Аги - Шэнэхэн, китаизированное бурятское название которой значит примерно Новая Земля. В 1918 году Шэнэхэн стал прибежищем бурятских националистов, а в 1930-х - беженцев, будь то пастухи, уводившие свои стада от колхозов, или ламы из разрушенных монастырей. В 1942 году на горе Нама-гуро они даже построили храм Дуйнхар-Лойлон-сумэ, ставший духовным центром шэнэхэнцев (кадр ниже). Размер их общины с тех лет остаётся почти неизменным - 6-10 тыс. человек, из которых около 300 после распада СССР вернулись в Россию. Но как и русские староверы в Южной Америке, шэнэхэнцы лучше материковых сберегли дореволюционную культуру. Самым наглядным её проявлением в репатриации сделалась гастрономия: шэнэхэнские кафе я помню ещё по Улан-Удэ 2012 года, а шэнэхэнские позы из рубленого мяса считаются лучшими в бурятской кухне.
26б.

Вот ещё деревянные фигурки местного мастера Балты Батожаргалова да "Свет Шамбалы" Даши Намдакова - бурятского скульптура с мировым именем и неповторимым стилем, рождённого в семье потомственных дарханов (мистических кузнецов) из Забайкалья (см. здесь). Его скульптура тут стоит на втором этаже, посреди донельзя казённой фотогалереи "Твои люди, округ!".
27.
В целом, Агинский музей меня скорее разочаровал, особенно по контрасту с Усть-Ордынским. Такое ощущение, что небольшую экспозицию из старого здания перевезли в новое да расставили как придётся, позже втыкая новые экспонаты меж старых по принципу "куда войдёт". Тут есть, что посмотреть, но если в Усть-Орде музей даёт цельную картину этнографии прибайкальских бурят, в Аге у меня осталось ощущение какого-то неуютного бездушного сумбура. Напоследок - макет чего-то то ли планируемого, то ли невоплощённого, слегка похожий на калмыцкий Город Шахмат в Элисте.
28.
У музея площадь и Комсомольскую улицу пересекает улица Ленина, до революции - Трактовая, с таким названием конечно бывшая центром Старой Аги. Налево вдоль неё - какое-то подобие торгового ряда неясного возраста:
29.
И открытый в 1991 году киноконцертный зал "Амар-Сайн" у самого настоящего арыка, лишь после ливней наполняющегося водой:
30.
За арыком - автостанция, в зале которой тоскливо и пусто: касса обслуживает довольно куцее расписание автобусов, в основном проходящих в агинские райцентры из Читы ближе к полудню. На саму Читу одна за другой уходят маршрутки с оплатой водителю, а чуть в стороне стоит ещё и отдельный киоск с билетами до Улан-Удэ - два города для здешних бурят примерно как для всей России деловая Москва и культурный Питер.
31.
С другой стороны от площади на улице Ленина - типичный для Аги цветастый пластиковый пейзаж:
32.
Там через квартал высится солидное административное здание, слегка похожее на японское зодчество Сахалина:
33.
Стоит оно, увы, на месте старейших домов посёлка - изб Зубовых и Татауровых 1860-х годов:
33а. снимок газеты "Комсомольская правда" из статьи, которая теперь не доступна.

О том, что они были, напоминает обелиск 225-летию села, поставленный в 2006 году напротив:
34а.

Тем не менее, за МФЦ в тихом Коммунальном переулке хоть немного сохранился Низ, как называли старожилы часть села между рекой и трактом:
34.
Со старыми избами перекликается каменная баня (изначально, видимо, электростанция) времён советской автономии. Дата - на фасаде, однако "на глаз" я бы отодвинул её лет на 20-30.
35.
В другую сторону от МФЦ можно пройти квартал до танка, стоящего, как в Усть-Орде, у школы №2. Только здесь это более соответствующий мемориалу Победы Т-34:
36.
Танк целится через улицу Базара Ринчино (местный герой войны) в бок Дома культуры (1958-61), глядящего фасадом на Комсомольскую:
37.
Перекрёсток Комсомольской и Базара Ринчино в квартале от Центральной площади сам по себе не менее централен. Наискось от ДК стоит под шпилем окружная администрация, окабзоненная из советской "коробки" накануне упразднения округа:
38.
Здесь же - перекличка памятников. С обелиском о награждении АБАО орденом Ленина соседствуют монумент 9 агинским родам (справа) и, напротив через перкрёсток - Четверо Дружных (2008) работы Даши Намдакова по мотивам буддийской притчи о слоне, обезьяне, зайце и птице, оставивших ссору и сорвавших плод с дерева, встав друг на друга.
39.
Дальше центр Аги сужается до Комсомольской улицы, пройдя по которой с километр, можно найти ещё пяток примечательных мест. Скажем, Центральный парк с колоннадой:
40.
На опушке которого стоит Музей природы в зелёном здании (2007-09), основанный в 1971 году при местном педучилище преподавателем Владимиром Стрельниковым.
41.
Пара избушек - остатки Верха, как назывались кварталы села выше Трактовой. Меньше повезло дому Лизенберга, привезённому в 1924 году из Дарасуна под больницу, которую основал доктор Лыксок Жабэ.
42а.
Как я понимаю, на его месте теперь стоит вот этот корпус медучилища - самая симпатичная, и видимо уже потскабзоновская новостройка в Аге:
42.
Дальше - бесконечный частный сектор, постепенно растворяющийся в степных сопках, увенчанных белыми ступами:
43.
Сопки над Агой образуют амфитеатр, и ближайшая из них к центру - Крестовая гора, в 1781 году впервые отмеченная православным крестом (не знаю, сколько раз с тех пор сменившимся), а в 2005 году - мемориалом Славы:
44.
Три штыка высотой до 36 метров нависают над кварталами и уходящей к горизонту долиной Аги. А вот ворота все закрыты наглухо, и рядом с ними висят плакаты, слёзно призывающие уважать память павших - всё наводит на мысль о том, что недавно здесь произошло какое-то кощунство, до смерти перепугавшее агинских чиновников.
45.
Помню, сколько я ломал голову над украинской бурятофобией в Донбассе и даже выстраивал гипотезы, что это скрытый страх киевлян перед Монгольским нашествием. Всё оказалось куда проще - Кобзон привёл в порядок родину бурят и потому был очень рад тем бурятам, которые пошли защищать его родину. Но буряты пусть и отважные воины, а всё же народ практичный и хвататься за оружие не любят, поэтому в многострадальном Донбассе остались скорее мемом. Кавказцев, добровольцев из третьих стран и даже якутов я там видел своими глазами, а вот бурят - нет.
45а.
В нынешней Аге буряты - явные хозяева, и русские на их фоне совсем не заметны: живут последних больше в рудничных и станционных посёлках, да и сами в большинство своём гураны (забайкальские креолы) со степными чертами лиц. По-русски здешние бурят говорят кто вообще без акцента, кто, напротив, с изрядным трудом вспоминая слова. Внешность агинцев - видная: среди мучжин много здоровяков по всем трём промерам, у рослых фигуристых девушек часто роскошные чёрные волосы. Ну а впечатление об агинцах мы составили задолго до того, как достигли Аги - по всем диким степям Забайкалья ездят местные корнекопатели, добывающие целебные травы (в первую очередь сапожниковую растопыренную, которую тут называют солоха или солодка) да продающие их в Китай сквозь предельно криминализованный рынок. Тех же корнекопателей, что подвозили нас стопом под Нерчинском или Борзей мы позже случайно встречали на улицах Аги: племя здесь маленькое, и потому - дружное.
46.
Пейзаж Аги - россыпь изб с белыми крышами на фоне зелёных сопок да отделные большие и аляповатые кобзоновки посреди них. Вот например больница, из старых зданий которой опознаётся только странная многоступенчатая труба:
47.
Центр Аги с одиноким куполом церкви, парящими крышами музея и типичными для всего Забайкалья водонапорками квадратного сечения.
48.
Если Усть-Орда растворилась в Иркутской области незаметно, то Ага при слиянии с Читинской области образовала в 2008 году новый регион со звучным винтажным названием Забайкальский край. Возможно, и бюджеты их суммировались, вот только с учётом разницы в размерах - это вряд ли на что-то повлияло. Сам же по себе Агинский Бурятский округ как три района с особым статусом формально существуют и ныне.
49.
Ну а вдалеке Агинское переходит в присёлок Амитхаша, над которым видны парящие крыши главной здешней достопримечательности - Агинского дацана.
50.
О нём расскажу в следующий раз.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Великая Степь Сибирь дорожное этнография |
Усть-Ордынский и его Бурятский уже не автономный округ |
В 9-м классе, когда учительница географии впервые огласила нам список регионов России, меня несказанно впечатлило название Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. Неимоверная длина и громоздкость, явно не столичный центр да ещё и "орда" в контексте монголоязычного народа - я невольно задался тогда вопросом, почему в честь Алабамы или Монтаны у нас называют кафе, гостиницы или рок-группы, а в честь Усть-Ордынского Бурятского автономного округа - нет. И хотя сам округ был упразднён (вернее, лишён автономии) в 2008 году, никуда не делись ни сами прибайкальские буряты с их живым шаманством (коему была посвящена прошлая часть, завершившая рассказ об Ольхоне), ни бывший окружной центр - сельский посёлок Усть-Ордынский (15 тыс. жителей), для местных просто и никак иначе Усть-Орда в 60 километрах Иркутска по дороге на Ольхон и Качуг.
Если к иркутским окраинам вплотную подходит тайга, то километрах в 20 севернее города её словно разносит ветер - вокруг раскрывается привольная диковатая степь с редкими селениями у горизонта. Так и не успевший стать Иркутским Опольем, степной остров среди зелёного моря тайги издавна был домом прибайкальских бурят. Этот народ начал формироваться в 11 веке, когда из монгольских пустынь сюда пришли племена эхиритов и хори-тумэтов, частью ассимилировав, частью оттеснив на север предыдущих хозяев - тюрок курыкан, о грозной славе и кузнечном искусстве которых я уже рассказывал на Ольхоне. В Чингисханову эпоху или даже после неё третьим племенем этой степи стали булагаты, появление которых завершило "бурятизацию" Прибайкалья. В 18 веке хоринцы, самые многочисленное и сильное в триумвирате здешних племён, постепенно откочевали на восток, сперва назад в Монголию, а затем в Забайкалье, хотя в здешней степи и осталось несколько хоринских сёл. Оставшиеся эхириты и булагаты жили чересполосно, но первые - больше у Байкала (включая Ольхон), вторые - больше у Ангары, в том числе на её левобережье, где русские и узнали их в 17 веке как "брацких людей". Тотемом эхиритов был налим, тотемом булагатов - бык, с годами превратившийся в знакомого нам по прошлой части бога-покровителя всех бурят Буха-нойона. В 1918 году в восточной части этой степи, в богатых улусах у Якутского тракта, был провозглашён Эхирит-Булагатский аймак, простиравшийся до Ольхона и верховий Лены, ну а Советы в 1921-22 годах создали для "братского народа" сразу два региона - Монголо-Бурятскую автономную область Советской России и Бурят-Монгольскую автономную область Дальневосточной республики. Обе они представляли собой группы изолированных аймаков, а администрации их заседали в лежащих за пределами автономий Иркутске и Верхнеудинске (Улан-Удэ).

В 1923 году, когда ДВР стала не актуальна, и их вместе с раздеявлишими аймаки русскими и эвенкскими землями объединили в Бурят-Монгольскую АССР, карта которой, впрочем, тогда отличалась от нынешней. На западе Бурятия перехлёствала через Байкал, охватывая Приольхонье и эхирит-булагатские степи, и имела пару эксклавов - Балаганскую и Аларскую степи за Ангарой и Агинскую степь в Забайкалье. Но советские чиновники любили, когда территория регионов целостны, и вот в 1937 году Приольхонье отошло Иркутской области, а количество бурятских регионов утроилось - помимо Бурреспублики на карте Сибири появились ещё и Бурятские округа.

Тот, о котором пойдёт речь сегодня, поначалу обладал, наверное, самым громоздким в мире название Усть-Ордынский Бурят-Монгольский национальный округ. В 1958 УОБМНО лишился хотя бы буквы "М", а в 1978 из национального стал автономным. И был это, пожалуй, самый бестолковый регион всего Советского Союза, наглядно подтверждающий тезис русских националистов о том, что сама идея национальных регионов спорная, и куда гибче получилась бы система культурно-языково-религиозных автономий на уровне сёл и общин. К началу 21 века с населением 139 тыс. человек, из которых 54% составляли русские, 3% - татары и 40% - буряты, округ охватывал 3/4 их прибайкальской общины (77 тыс. человек). Единственный из регионов России УОБАО вообще не имел городского населения - хотя при Советах большинство его райцентров стали ПГТ, в 1992-м все они единовременно вернулись в сельский статус. Границы округа аккуратно обходили города, на его территории не было крупных производств и стратегических месторождений, а как результат - фактически УОБАО существовал лишь на бумаге. Теоретически, к нему относились и польское село Вершина, куда я ездил морозной зимой 2012 года, и Балаганск да Усть-Уда на берегах Ангары, и священная гора Кит-Кай, под которой прошла первая ссылка Сталина, но всё это ни коим образом не выделяется из остальной Иркутской области. Для левобережных районов точкой притяжения стало шахтёрское Черемхово и в целом Транссиб, для правобережных - областной Иркутск. На его окраине разместить окружную администрацию было бы и то сподручнее - Усть-Орда совершенно не выделяется на фоне прочих пригородных сёл и посёлков, а кратчайший по времени путь из неё в, например, Бохан, не говоря уж про какой-нибудь Кутулик, так же пролегает через город.
2.
Усть-Орда тянется вдоль Качугского тракта, по котором проходит и великий туристический путь на Ольхон. Сквозь луга прекрасно видны сельские домики, редкие многоэтажки и одинокая труба. Вот только прямой путь не всегда самый быстрый: от трассы село отделяет река Куда, впадающий в которую ручей Ордушка и дал ему название. Тракт же фактически представляет собой объездную, от съездов с которой 1,5-2 километра до усть-ордынских околиц и 3-4км до центра. Со стороны Иркутска поворот отмечает скульптура всадника (1979), которую в 2020 году дополнил Буха-нойон по другую сторону тракта - оба они видны на вводном кадре. Оттуда тянется мимо симпатичных коттеджей с прошлого кадра длиннющая улица, названная в честь не бурята, и не русского, а грузина - революционера Нестора Каландаришвили, возглавлявшего в Сибири отряд красных партизан. Из примечательных мест первым встречает дацан Тубэн-Даржалин (2011), в переводе - "территория развития":
3.
Хотя формально буряты - крупнейший буддийский народ России, по факту они в подавляющем большинстве двоеверы, и более того - пропорция двух вер порядком отличается от региона к региону. Два автономных округа тут оказались на полюсах - Ага на буддийском, Прибайкалье - на шаманском. В Ольхонском районе, никогда не входившем в бурятскую автономию, буддизма вообще нет и даже единственная ступа стоит на необитаемом острове. Усть-Ордынские райцентры всё-таки обзавелись дацанами, но построены они тут скорее по разнарядке и откровенно пусты. Здесь вот нашлись браты-меценаты:
3а.
Внутри - обшитый досками центральный дуган:
4.
И расположенные на пути гороо (ритуального обхода по часовой стрелке, с которого начинается посещение буддийского храма) малые формы - кюрдэ (ритуальные крутящиеся цилиндры с молитвами), одинокая белая Ступа Просветления да прозрачный Зулэн-гэр - Лампадный домик, в котором зажигают священный огонёк.
5.
На краю дацана ещё есть Дом Бурятского языка, который видать не родной большинству местных жителей. Рядом хмурые немногословные мужики соображали, как превратить груду камней с тибетскими письменами в ещё одну ступу.
5а.

Но в целом что здешние буряты почти и не буддисты, нагляднее всего показывает именно дацан - мы встретили тут нескольких трудников, группу туристов и одинокую прихожанку, зашедшую помолиться в дуган. Кафе бурятской кухни у входа гораздо многолюднее, чем сама обитель.
6.
Отсюда мы побрели в центр по улице Каландаришвили. На большей её части взгляду не за что зацепиться, и труба в перспективе стоит Адмиралтейской иглой. Знакомое по песне иркутского барда Олега Медведва слово "Сурхарбан" означает всего-то бурятский спортивный праздник, зародившийся в давние времена как судебные поединки и популяризированный при Советах как светская альтернатива запрещённому шаманскому тайлгану.
7.
Игры Сурхарбана - степняцкие: например, конные скачки, национальная борьба или стрельба из лука. Но с бурятского спортивного праздника можно взойти и на всемирный:
8а.

Исполины в Прибайкалье вымерли:
8б.

А вот Че Гевара в "Новом Красном поясе" на востоке России живее всех живых:
8в.

До 1837 года в устье Ордушки располагался улус (селение с угодьями), в разных источниках то ли Хужир (Солончак), то ли Харганай (Кустарничный), близ которого с 1820 года известен почтовый Усть-Ордынский стан на Якутском тракте. Судя по народному названию "у Шведа", он появился ещё в 18 веке, когда по России разбрелись потомки военнопленных с далёкой Северной войны. Заурядная остановка у дороги меж двух главных восточно-сибирских городов стала особенно людной в 1840-50-х годах, с началом сибирской золотой лихорадки, когда многочисленные старатели потянулись этой дорогой на угрюмый Витим. Первый кабак у почтовой станции открыл крещёный бурят Пётр Татаринов, урождённый Бадма Хахалов, веру поменявший ради женитьбы на русской женщине. Дальше семья Татариновых разрослась до целой деревеньки, путникам на тракте известной как Харгана. Но бескрайние кварталы старых изб, многие из которых украшены роскошными резными наличниками, напоминают здесь скорее крупное богатое село:
9.
Дело в том, что превращение Усть-Орды (название Харгана с приходом Советов забылось) сначала в райцентр, а затем и в центр региона сопровождалось взрывным ростом посёлка практически в чистом поле, и многие переезжали сюда со своими домами. Так что избы эти могли бы срублены где-нибудь в Ользонах, Баяндае или даже на иркутских окраинах:
10.
Совсем уж редко попадаются деревянные юрты, оставшиеся в роли летних кухонь:
11.
Улица Каландаришвили, проходящая посёлок насквозь, приводит на автовокзал, трафик которого представлен почти исключительно маршрутками до Иркутска, курсирующими раз в полчаса с утра до вечера. Добираться в Усть-Орду удобно только ими - весь транзитный транспорт идёт по тому берегу Куды. У автостанции - полуразрушенная ТЭЦ 1960-х годов с неожиданно красивой трубой, на которую замкнута и перспектива отходящей под прямым углом улицы Ленина:
12.
За поворотом встречает мемориал Великой Отечественной (2000) с послевоенным Т-62:
13.
Наискось от которого - самая приметная в городе сталинка, построенная видимо в 1950-х годах для окружной администрации. В 1925 году Усть-Орда сделалась райцентром Эхирит-Булагатского аймака, а вот почему Бурятский автономный округ в 1937 году стал именно Усть-Ордынским - на самом деле сложно понять: простой взгляд на карту показывает, что куда больше на роль его центра годятся Оса или Бохан, имевшие все шансы покинуть гравитационное поле Иркутска и вырасти во что-нибудь самодостаточное уровня хотя бы той же Аги.
14.
Дальше по Ленина - городского вида деревянный дом, в котором мне, конечно, хочется разглядеть кабак Татариновых. Тем более и век с лишним спустя используемый по тому же назначению:
15.
Напротив, за чахлым сквером, видно и самое красивое здание Усть-Орды - деревянный Дом народного творчества (1961), своей зелёной чешуей и зубчатым проёмом окна напоминающий змея-горыныча:
16.
Впрочем, за дату я не уверен - на сайте ДНТ указано только время создания организации, а строилось это здание для неё или же первоначально, лет на 10-15 пораньше, было чем-то другим - я не знаю. Как бы то ни было, памятником архитектуры этот горыныч не значится, и простоит скорее всего ровно до тех пор, когда в районном бюджете появятся деньги на строительство нового Дома народного творчества с парящей кровлей, шпилем-сэргэ и драконами по углам.
16а.

Колоритное советское деревянное зодчество было своеобразной "фишкой" центров автономных округов, и не снесённым до конца я успел застать его 5 лет назад в Нарьян-Маре. В Усть-Орде оно явно успело поредеть:
16б.
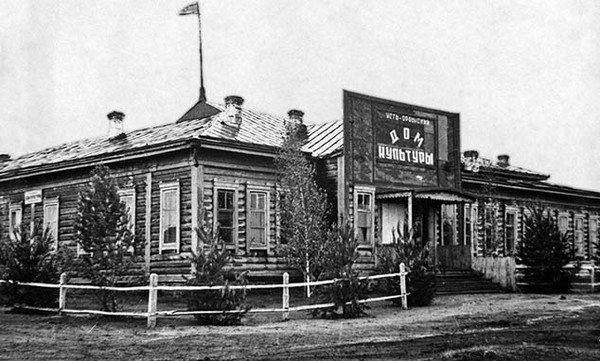
И не со старого здания ли снят резной карниз на крыльце унылой советской коробки поселковой администрации?
17а.

К улице Ленина она обращена торцом, а фасадом выходит на улицу Балтахинова, где целый квартал занят суматошным грязноватым базаром "Орголи":
17.
Его глубины запоминаются круглым, явно современным корпусом наподобие советских крытых рынков, а фасад вдоль улицы Ленина - магазинами на первых этажах пятиэтажек и столовой, интерьер которой на зависть всем "Советским чебуречным" из столиц остался музеем эпохи:
18.
Квартал на другой стороне улицы Ленина можно считать центральным в Усть-Ордынском. Само это название, кстати, появилось лишь в 1941 году вместе со статусом ПГТ - прежде посёлок вполне официально был Усть-Ордой, и конечно, в полтора раза удлинившееся название не могло прижиться в устной речи. Мужской род, однако, напоминает о ПГТшном статусе, официально снятом в 1992 году. Сами же Бурятские округа были упразднены в 2008-м, в ходе так и не разогнавшегося проекта укрупнения регионов, жертвами которого пали Коми-Пермяцкий, Корякский, Эвенкийский и Таймырский автономные округа. Вернее, по факту их статус сделался ещё более мутным: все они по-прежнему существуют, только утратив в названии слово "автономный", как "территории с особым статусом" в составе регионов. В чём этот статус заключается, кроме вопросов культуры и языка - мне не очень понятно: по бюрократическим делам жители Кудымкара теперь ездят в Пермь, а жители Усть-Орды - в Иркутск. Но всё же здание на площади остаётся администрацией не Эхирит-Булагатского района, а Усть-Ордынского Бурятского округа.
19.
Левую сторону площади у ворот во дворик гостиницы "Байкал" отмечает маленький конный памятник "Усть-Орда", в котором с первого взгляда узнаётся почерк бурятского скульптора Даши Намдакова (см. здесь). Он появился здесь ещё в 2003 году, то есть "при жизни" автономного округа. Другую сторону площади отмечает довольно странная Аллея Героев войны и соцтруда - на бюсты округу не хватило денег ни при Советах, ни сейчас, поэтому вместо памятников тут стоят полинявшие щиты с мелким шрифтом. За ними, на углу всё той же улицы Балтахинова примечательны киноконцертный зал "Эрдэм" (1956) да памятник комсомольцам двух войн:
20.
Задворки кинотеатра глядят на Троицкую церковь (2006-07), по виду более ухоженную и людную, чем дацан:
21.
А спина к спине с администрацией стоит Дом культуры "Наран" (1962), которому сайдинг странным образом пошёл на пользу - не зная даты постройки, легко представить под ним не бетонную коробку, а загубленный образец деревянного зодчества или конструктивизма:
22.
В общем, вот и вся Усть-Орда - кажется, самая невзрачная (ладно, бывшая) региональная столица России. Похожие эмоции у меня вызвал киргизский Баткен, но тот хотя бы областным статусом обзавёлся не от хорошей жизни. Здесь нет богатства и оживления, как в Нарьян-Маре или Салехарде, нет национального колорита - ни искусственного, как в Ханты-Мансийске или Кудымкаре, ни живого, как в Агинском или Элисте, нет даже интересной советской архитектуры времён становления автономии, как в Биробиджане или Энгельсе. Бурятская кухня - и та представлена сотнями, если не тысячами, заведений по всей Иркутской области, из которых здесь - только одно (при дацане). Визуально и по сути Усть-Орда осталась абсолютно заурядным райцентром, а о былой самостоятельности в её пейзаже не напоминает ничего.
23.
Но оговорка про пейзаж не случайна - единственным, пожалуй, памятником исчезнувшему региону можно назвать Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа. Основанный в 1944 году по разнарядке, с 1984 он занимает старую школу (1938), распластавшуюся буквально на задворках той каменной сталинки с кадра №14, напротив новой школы №2, двор которой отмечен мемориальным танком. Сайдингом школу здание обшили недавно - потёртыми досками с деревянными барельефами она была покрыта ещё вот в этом чужом посте с 2017 года.
24.
Общее место всех рассказов про этот музей - удивление, с которым смотрители встречают туристов. Нам они тоже удивились и немного посуетились вокруг нас, но это явно не связано с низкой посещаемостью - параллельно нам по музея ходила ехавшая на Ольхон московская группа. Сама экспозиция здесь не велика и почти на 100% посвящена этнографии, но - вполне современна и очень насыщена. По крайней мере о бурятской культуре тут можно узнать гораздо больше, чем в музеях Иркутска, и если в ваши планы не входит "материковая" Бурятия - этот музей вполне оправдает поездку сюда на пол-дня.
25.
П-образный план школьного здания не оставил возможности проложить по залам красивый замкнутый маршрут. От зала картин в центральном корпусе смотрительницы сразу отвели нас в торец левого крыла, из которого мы плавно двигались в сторону входа. В тупике - зал археологии:
26.
Более всего запоминающийся рогатой репликой первобытной хижины, коллекцией курыканских железяк...
26а.

...и подлинными плитками петроглифов, коих в Прибайкалье немало. Я показывал целых два скоплениях наскальных рисунков в Тажеранской степи у Байкала, а по эту сторону Приморского хребта древним творчеством славятся сопки Байтог, Капсал и особенно Манхай у села Бозой в 10 километрах от Усть-Ордынского. У местных бурят последняя была столь чтима, даже шаманы предпочитали на неё не взбираться, а молиться, словно на идола, с соседней горы Укыр.
27.
Манхайские петроглифы и представлены на витрине, дополненные расшифровкой:
27а.
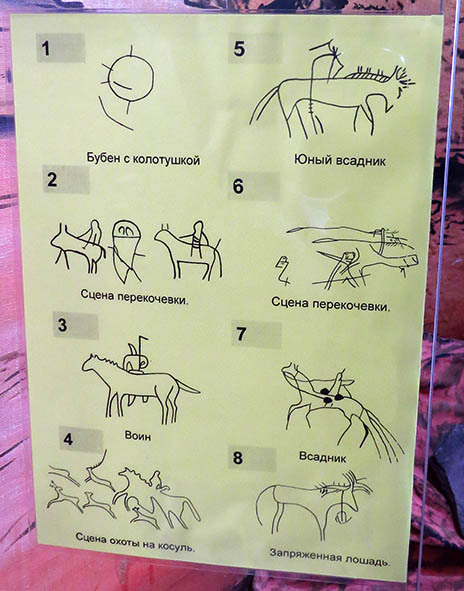
Следующие два зала посвящены этнографии прибайкальских бурят в разных аспектах. К первобытной экспозиции примыкает промысловая, и на типовые чучела уток и сурков глядят одежды, инструменты и оружие охотника:
28.
Степной остров - не то же самое, что Великая Степь. Скотоводство у здешних бурят было скорее отгонным, а охота и рыболовство, особенно ближе к Байкалу, играли немногим менее важную роль. Но шкуру для выделки спустить можно было и с коня, и с лося:
29.
Одежда прибайкальцев была почти лишена тех ярких небесных красок и китайских шелков, которые вспоминаются каждому, кто видел бурятские фольклорные ансамбли. Та вычурность и яркость - за Байкалом, а здешние мужчины в зипунах и женщины с гирляндами монеток куда больше были схожи с людьми из таёжных племён и народов внутренней России:
30.
Главными украшениями прибайкальского быта служили абдары (расписные сундуки) и различные вышивка и плетение из конского волоса. Последний у бурят по обе стороны Байкала был материалом на все случаи жизни - даже лапти тут мастерили из него вместо лыка. В 1980-х, с декораций Бурятского драмтеара в Улан-Удэ, это ремесло начало возрождаться, придя в новый жанр - гобелены:
31.
В бурятском доме жила обычно одна небольшая семья. Многоженство встречалась изредка - либо у очень богатых людей, готовых заплатить большой калым, либо у бездетных: гнать бесплодную жену из дома не полагалось, а вот найти себе вторую можно было вполне. Ведь дети - это самое главное, и с появлением ребёнка какой-нибудь Баир или Даши превращался для своих соседей в "отца Жалсана" (или кого-нибудь ещё - детское имя становилось важнее родительского). "Большая" семья занимала аил - хутор из нескольких жилищ с общими угодьями. Аилы объединялись в улусы - владения рода (обока), и здесь общими были уже более сложные сущности - шаманы и святыни, календарные тайлганы и родовые предания, ведущие к удха-узууру - первопредку. Жён брали только из других родов, а когда один род разрасталась так, что заполонял всю степь до горизонта, шаманы читали обряд разделения, по итогам которого отпочковывался новый обок, старейшина которого становился удха-узууром. Новый род оставался частью племени, бывшего в первую очередь военным союзом, однако близкие группы родов обособлялись достаточно, чтобы этнографы и чиновники пытались выделить их в отдельные племена. 3 исконных бурятских племени пришли в 11-13 веках из Монголии на курыканский субстрат - это уже знакомые нам по сегодняшнему рассказу хоринцы, булагаты (по 25-35% народа) и эхириты (10-15%). В 17 веке их дополнили знакомые мне по Тункинской долине хонгодоры - по происхождению ойраты (более близкая родня калмыкам), ассимилировавшие сойотов (самодийский народ, к тому времени в основном тюркизированный) в Саянских горах. Ещё порядка 15% бурят, в первую очередь селенгинцы - это по сути монголы, когда-то отрезанные от Халхи русско-китайской границей, а то и переходившие через неё подальше от нищеты и произвола цинских чиновников. Дауры и конные эвенки, напротив, в 17 веке ушли из России в Китай, а их остатки влились в бурятский мир как племя хамниганов. Наконец, немудрено, что в такой сложной структуре ещё 10% бурят вообще сложно причислить однозначно к какому-либо племени. Единства у бурят не больше, чем у грузин с их сванами и мегрелами, и русские не случайно в 17 веке знали их как "брацкие люди" - скорее братская семья народов с общим самосознанием, чем единый этнос.
32а.

Царские чиновники же разбираться в этих хитросплетениях не стали, и поверх родоплеменной сети у бурят образовалась этнотерриториальная - как Степные думы, существовавшие в 1822-1903 годах. УОБАО образовался на землях Аларской (хонгодоры), Балаганской (булагаты) и Кудинской (булагаты и эхириты) степных дум, и сама Усть-Орда входила во владения последней. Дума управлялась советом выборных или наследственных старост, во главе которых стоял тайша. Изначально этот титул означал не Чингизидов, но потомков чингисханова рода Борджигинов по женской линии, а среди калмыков тайшами называли просто князей. Бурятам этот титул почти не известен, и именно русская администрация ввела его в обиход. Но судя по старому фото на кадре выше и атрибутам с кадра ниже, бурятские тайши в роль князей вполне вжились.
32.
Ну а в совокупности выходит, что именно тоскливая Усть-Орда была колыбелью бурятского народа, где он многое перенял у курыкан и "лесных народов" и обособился от Монголии. Отсюда в 17-18 веках буряты вели экспансию в Забайкалье, потеснив и ассимилировав тамошних монголов. И думаю, лишь это ощущение своей исконности в сочетании с обилием родовых связей не даёт эхирит-булагатам стать "небрацкими людьми" и попробовать выделяться в отдельную народность. Однако некое чувство противопоставления, "у нас, прибайкальских, всё не так, как у них", здесь очень ощущается. Большая глубина обрусения здесь компенсируется меньшим влиянием любых других народов вроде монголов или китайцев: культура прибайкальских бурят архаичнее, и "визитная карточка" её - всепроникающее шаманство, по-прежнему преобладающее здесь над "жёлтой верой" буддизма.
33.
Живому шаманству был посвящён прошлый пост про большой тайлган (молебен) на Ольхоне. Там я показывал шаманские одеяния (талисман "толи", балахон "дэгэл", шапка с бахромой и глазами "майхабши", накидка-оберег "аргали", металлическая рогатая корона "оргой", бубен "хасэ", плеть "бардаг" и трость "харьбо") не на витринах, а на живых боо и удаганках (шаманах мужского и женского пола), заводивших (воплощавших в своём теле) многочисленных духов. Бурятский пантеон включал абсолютного бога-творца Тенгри (он же - Вечное Синее Небо) и божеств природных сил Верхнего (тенгрии), Среднего (эжины) и Нижнего (шулмасы) миров, детьми которых были хаты - владыки мест и покровители людских качеств. Ближайшим же к человеку уровнем потусторонних сил считаются онгоны - родовые помощники, духи предков (в особенности - шаманов), всегда стоящие за спиной у потомка и охраняющие его. Изображения онгонов, сделанные из дерева, шкур и шерсти, окрашенные минеральными красками, а в прошлом и кровью жертвенных животных - это обереги, шаманский аналог икон. Гордостью Усть-Ордынского музея я бы назвал протянувшуюся через все три зала коллекцию онгонов. Как например Абгалдай - онгон-маска шамана на танец войны, олицетворявшая страшного грозного духа:
33а.

Вот тут, слева направо балаганские Хамууни-онгон (11 фигурок для защиты от часотки), Хугшэни-онгон, или Эзинхи (делался во время мора телят, чтобы его остановить), кудинский Алтатан (онгон, делавшийся женщиной без участия шамана, 5 фигурок защищали от женских болезней) и Ухан-хаад (онгон царя вод, оберег для рыбаков, хранившийся в юрте).
34.
В дверном проёме за онгонами видны чучела - там зал промысла, где висят горные (то есть - охотничьи) онгоны. Как я понимаю, это разделение (промысловые, скотоводческие, кузнечные и т.д.) обозначает скорее происхождение, чем специализацию. Вот наверху слева направо ольхонский Хадын-онгон (защищал от нападения дикого зверя) и два заяна (аналоги христианских святых) чтимых бурятами эвенкийских шаманов - Сэжэн-Бар (покровитель охотников) и Адан-бар (оберег здоровья детей и телят), висевшие у двери и под крышей юрты соответственно. Внизу - балаганские детские обереги Хушуута-угитэ (Хозяин-Горностай) и Ахюуан, случайно или исторически созвучный с нанайским акуаном...
35.
Онгон хоринского рода галзутов Хэстэ с фигуркой древнего баргузинского шамана оберегал от различных язв. Он жил в юго-западном углу юрты, и периодически его кормили жиром (а в принципе всех онгонов полагалось кормить - кого-то молоком, кого-то водкой). Внизу слева хозяева огня и хранители домашнего очага Гали-Эжэн Сахяадай-нойон с женой Сахали-Хаган, хранивиеся на мужской половине. Справа - висевший над супружеским ложем Холонгон-Эжэн Эргил-буга Тунхэй, изображающий древнего шамана, уже 10-летним мальчиком обладавшего огромным могуществом.
36.
Над супружеским ложем располагались и два Хаан-хотэ, которые на кадре ниже слева. Нижний - аларский, пять женских и одна мужская фигурка на нём покровительствовали матерям и младенцам. Справа вверху маленький безымянный детский оберег и ещё правее онгон Ухаа-Солбон - часть более крупного онгона Хойтохи, небесный пастух с великим табуном, означающий производственную силу природы, то есть тоже детородный оберег. Обратите внимание на отдельный жанр - онгоны в футлярах:
37.
А вот несколько Смуглых Старцев (Буртэг-Убгэн), привезённых шаманом Хортоном из Монголии хранителей булагатского рода хангинцев. А с учётом того, что в бурятском пантеоне немало "трофейных" богов, вывезенных монголами из Китая, Ирана или Индии (например, глава добрых тенгриев Хурмаст - явный Ахура-Мазда), и совершенно африканский облик Смуглых Старцев не очень-то и удивляет.
37а.
Три зала продолжает двор, куда выходят их окна. Здесь собран небольшой музей деревянного зодчества, в котором есть амбар с симпатичной картой Иркутской области:
38.
Не по-русски маленькая изба:
39.
С коллекцией саней и повозок (включая детские саночки с конструкцией лыж как у "Бурана"):
40.
И, конечно же, пара юрт. За войлочную юрту перед нами почти что извинились, пояснив, что это подарок от братьев из Забайкалья, а вообще-то прибайкальские буряты такими не пользовались. Но охоту здесь ходили с чем-то вроде чума, а основным жилищем близ летних и зимних угодий служила деревянная юрта, в наши дни успевшая превратиться в ещё один знак идентичности прибайкальских бурят. Снаружи она олицетворяет себя в усадьбе - когда буряты перебрались в избы, такие юрты стали использоваться как летние кухни:
41.
Внутри же она вполне самостоятельна - с абдарами, утварью от кумысной ступы до самогонного аппарата...
42.
...упряжью, охотничьим снаряжением, двуручной пилой. Онгон на стене соседствуют с огнетушителем.
43.
Минус этой юрты в том, что свободного входа в неё нет - только с экскурсией. Которую как раз проводил той самой московской группе местный шаман. После ольхонского тайлгана как-то совсем не удивляешься тому, что шаман работает в музее и здесь же, наверное, в нерабочее время ведёт приём - шаманы в бурятском Прибайкалье не большая экзотика, чем в Москве православные батюшки. Кажется, он же упоминался в давнем посте
 nord_ursus, где провёл ему экскурсию лично и без дополнительной платы, а вот нам повезло меньше. Сам шаман был дружелюбен и даже лёгким жестом пригласил нас войти в юрту. Вскоре, однако, прибежала музейная смотрительница и устроила нам истерику (и почему я так часто довожу персонал до истерик?!), что мы ничего не оплачивали, не имеем права здесь находиться и вообще сейчас она нам вкатит счёт по 50 рублей за каждый кадр. Боо на это лишь смотрел и отрешённо улыбался: к шаманам не положено ходить без награды, но и сами они не имеют право выставлять счёт. Шаман в музее - пожалуй, самое яркое из немногочисленных усть-ордынских впечатлений...
nord_ursus, где провёл ему экскурсию лично и без дополнительной платы, а вот нам повезло меньше. Сам шаман был дружелюбен и даже лёгким жестом пригласил нас войти в юрту. Вскоре, однако, прибежала музейная смотрительница и устроила нам истерику (и почему я так часто довожу персонал до истерик?!), что мы ничего не оплачивали, не имеем права здесь находиться и вообще сейчас она нам вкатит счёт по 50 рублей за каждый кадр. Боо на это лишь смотрел и отрешённо улыбался: к шаманам не положено ходить без награды, но и сами они не имеют право выставлять счёт. Шаман в музее - пожалуй, самое яркое из немногочисленных усть-ордынских впечатлений...44.
...Дальше на север по Качугскому тракту стоит невзрачная деревенька Ользоны, изначально в 1918 году объявленная центром Эхирит-Булагатского аймака. До возвышения Усть-Орды в 1925 её успело сменить в этом качестве следующее село Баяндай (2,6 тыс. жителей) в 60км от Усть-Ордынского и в 120 - от Иркутска:
45.
У Баяндая очень красивый въездной знак, давно оказавшийся в глубине посёлка, а на сопке над ним стоит довольно необычная Михайло-Архангельская церковь (2017). Но в первую очередь Баяндай - это Новая Харгана, по которой можно представить, какой была Усть-Орда в годы Витимской золотой лихорадки. Вдоль тракта тут вытянут десяток простеньких кафе и позных, где обязательно делает получасовую стоянку весь ркйсовый транспорт Качугского тракта.
46.
Само село от трассы в стороне, неожиданно цветастое и современное на фоне степных далей:
47.
У дальнего конца Баяндая от Качугского тракта под прямым углом ответвляется Ольхонский тракт, за таёжным Приморским хребтом спускающийся в Тажераны. На повороте с 2014 года понемногу создаётся ещё один музей деревянного зодчества, где уже собраны два подворья - бурятское из улуса Шардай с подлинной деревянной юртой 1880-х годов:
48.
И белорусское из основанной в 1909 году столыпинскими переселенцами деревни Тургеневка. Это ещё один феномен Усть-Орды - обилие переселенцев из бывшей Речи Посполитой, будь то белорусы во множестве деревень, поляки в Вершине или даже голлендры на левобережье - прошедшие через двукратную ассилияцию на Буге и Ангаре потомки голландских католиков. В будущем здесь обещают ещё пяток построек, в том числе усадьбу русского старожила и настоящую Степную думу. Но вот кафе и соответственно долгих стоянок около музея нет, а потому без своей машины его не так-то просто не то посетить, а даже просто сфоткать.
48а.
О том, куда ведёт Ольхонский тракт, я рассказывал в прошлых 6 частях. А в следующей части из Усть-Ордынского Бурятского уже не автономного округа перенесёмся прямиком в Агинский.
БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Тункинская долина
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
Агинская степь
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Сибирь скансен дорожное деревянное этнография |
Ольхон. Часть 6: тайлган |
Ольхон - это не только туристическая мишура высокого сезона и величественные пейзажи осеннего Байкала, которым была посвящена прошлая часть. В первую очередь Ольхон - бурятский Олимп, священная земля этого красивого и очень самобытного народа. Раз в год дымным летом со всех бурятских улусов и немного со всей Земли здесь собираются шаманы, чтобы провести на окраине Хужира тайлган - молебен 13 богам Севера.
! Дисклеймер !
1. Я могу допускать в своих текстах ошибки. Возможно, даже оскорбляющие чувства верующих. Поэтому хочу оговориться, что ошибки являются следствием заблуждения (чаще всего - вследствие многообразия и противоречивости источников) и невнимательности, и я готов их аргументированно исправлять.
2. Любые оскорбления действующих лиц данного материала запрещены! Оскорбительные, хамские, глумливые, непристойные комментарии буду удаляться, авторы - баниться без предупреждения.
Самая наглядная иллюстрация того, что тайлган, несмотря на сезон, зрелище совсем не туристическое - неизвестность. По Хужиру и Сахюрте не развешаны афиши с пляшующими шаманами, а пресса не напишет, какого числа пройдёт тайлган и какой депутат на нём выступит. Шаманы сами выбирают дату молебна, которую оглашают буквально накануне. Я вычислил её, сопоставив даты прошлых лет - выходило, что это первое воскресение августа, однако нет никаких причин, по которым в очередной год шаманы не решат иначе. К такому я был морально готов, и когда на Ольхонской переправе продавщицы целебных трав сказали нам, что шаманы все вчера уехали, я расстроился, но совсем не удивился. В туринфоцентре и музее Хужира меня успокоили - за сутки до молебна дату они не знали, но с уверенностью могли сказать, что тайлган ещё не проводился. В кемпинге же выяснилось, что на острове только что закончился театральный фестиваль, и торговцы перепутали шаманов с актёрами. Что же до места и времени, то Оля предложила самый простой способ - спрашивать об этом встреченных в Хужире бурят. Место нам подсказали в позной, с террасы которой открывается вид на поле тайлгана - это не священный мыс Шаманка, где стоят 13 сэргэ (ритуальных коновязей) здешним богам, а бескрайний луг с одинокими соснами, встречающий у въезда в Хужир со стороны переправы. Время же мы разузнали в сувенирных лавках, где продавали в том числе толи - шаманские зеркала, которые можно освятить на тайлгане. Я ожидал, что нам придётся идти сюда на рассвете, но как оказалось, действо намечалось на 11 утра. И вот по утру среди песков и сосен мы увидели людей, идущих в одну сторону - там стояли машины и собирался цветастый народ:
2.
Шаманство независимо зародилось на всех концах первобытной Земли как закономерный для только-только ставшего разумным человека способ познания мира. Однако эталонный шаман с бубном имеет прародину: Алтай, с которого вышли тюрки, монголы, тунгусо-маньчжуры, японцы, корейцы и даже индейцы, а с учётом соседних Саян - ещё и самодийцы. Всё пространство, по которому они разбрелись, роднит сходство живых или утраченных шаманских традиций. Если слово "шаман" - эвенкийское, то "камлание" - от его тюркского синонима "кам", что созвучно с названием японских демонов камуи. Турецкие шаманы давно переродились в крутящихся дервишей, а вот среднеазиатские бахши или чувашские ырамащи успели дождаться этнографов. Буряты, впрочем, на всех них смотрят скептически: под лозунгом "Не пускай в колхоз кулака и шамана!" у многих народов, особенно небольших, Советы полностью уничтожили шаманскую преемственность. И так ли это применительно к другим народам, не берусь предполагать, но безусловно то, что бурятское шаманство выдержало натиск научного атеизма, сохранив достаточный задел для возрождения. Хотя со времён классического труда Мирчи Элиаде "Шаманизм и архаические техники экстаза", опубликованного в 1951 году по дореволюционным материалам, изменилось здесь многое. В постсоветские времена что-то буряты заимствовали у этнической родни в Монголии и Китае, что-то просто адаптировали под современный мир. Те же тайлганы когда-то были сугубо мужским действом, но теперь во многие сферы допущены женщины, а сами праздники приняли более светский вид.
2а.

Тайлган, как меса или намаз - название богослужений. В прессе это слово часто пишется как "тайлаган", буряты произносят скорее "тэйгн", а при мне русский человек кому-то отвечал в телефон просто "Я на обряде!". От "Открытия небесных врат" в мае до их "Закрытия" в октябре тайлганы проходят регулярно - но больше на уровне семьи, рода или посёлка. Проходящий с 2002 года Ольхонский тайлган - главный: на нём молятся за весь бурятский народ и всю байкальскую землю.
2б. бурятские шаманы Забайкалья.

Шаман у бурят называет боо, шаманка - удаган. Одна легенда гласит, что первошаманом был бог-орёл Хаан-Шубуун, передавший это знание людям. Другая - что первым титул боо носил старец Усун, единственный человек, на которого сам Чингисхан глядел снизу вверх - духовный наставник его рода. Монголосфера, однако, до недавнего времени была хаосом племён, непрерывно кочевавших от Дальнего до Ближнего Востока, от дельты Дуная до юга Китая (пример - калмыки), и лишь в Новое их консолидировали для простоты переписей чиновники из Петербурга и Пекина. Не была единой и бурятская религия, в слиянии образовавшая чрезвычайно сложный многоуровневый пантеон. Его вершиной был Хухэ Мунхэ Тенгри - Вечное Синее Небо, абсолютный бог-демиург, общий для народов Великой Степи. Другие боги населяли три мира, где покровительствовали в основном разным силам природы. По Верхнему миру летали 99 тенгриев, делившихся на 44 восточных и 55 западных. Первые считались злыми (но - не абсолютным злом, а просто враждебной человеку силой), вторые - добрыми, а возглавлял их Хурмаст, в котором сложно не признать пленённого Чингисханом в Хорезме Ахура-Мазду. Кроме того, отдельным миром было северо-западное небо кузнецов - мистические кузнецы дарханы у бурят ставились выше шаманов, и боги их летали высоко. На Земле обитали эжины, важнейшим из которых была Улькэн - Мать-Земля, а в подземном мире - шулмасы во главе с мрачным Эрленом. Дальше шли хаты - по античной классификации скорее полубоги, дети тенгриев и эжинов, нойоны (владыки) разных мест и покровители людских качеств, к коим относятся и 13 богов Ольхона. Ещё ближе стояли духи людей - заяны (аналог святых) и онгоны (духи предков, особенно - шаманов), вместе с духами земель, на которых жил род, бывшие его покровителями. Родовые культы у бурят и преобладали, до 17 века оставаясь единственной здешней верой, в то время как монголы и ойраты на юге экспериментировали с трофейными религиями вроде христианства, буддизма или, вдали от родины, ислама. Последним могущественным монгольскими государством стала Джунгария, в 1640 году принявшая государственной религией буддизм, и с этого момента "жёлтая вера" начала заполонять монголосферу. К концу 17 века большинство бурятских племён были двоеверами, а многие эжины "прописались" в дацанах как махакалы и бодхисатвы. Двоеверами буряты остаются и ныне, но - в разной пропорции от региона к региону. В Прибайкалье шаманство явно преобладает над буддизмом, а Приольхонье - последний в БурМире чисто шаманский район.
2в. бурятские шаманы Прибайкалья
Шаманство - не религия в нашем понимании: в первую очередь это мировоззрение и набор духовных практик. У шаманов нет пророков, писаний, иерархии - каждый из них сам себе пророк, а единственная форма преемственности - передача знаний от учителей к ученикам. Пережив советские гонения, однако, шаманы столкнулись с постсоветской бюрократией, ради которой структуру пришлось создавать. Религию назвали тенгрианством - хотя само это слово можно считать степным аналогом родноверия, попытками вспомнить древнюю веру кочевников, которую интеллектуалы вроде казахского писателя Олжаса Сулейменова и официоз тюркских и монгольских стран теперь преподносят чуть ли не первым в истории монотеизмом. Буряты тут один из немногих народов, которым не нужно ничего реконструировать, а можно брать то, что есть. Базовой единицей у них стали МРОШи - местные религиозные организации шаманов, которым и аналога-то сходу не подобрать. Не приходы или епархии, а просто объединения шаманов с весьма условной территориальной привязкой и неким общим пониманием того, каким должен быть настоящий шаман. Простейший способ понять, шаман перед тобой или шарлатан - выяснить, из какой он МРОШи. Самыми старыми и уважаемыми считаются "Боо Мургэл" ("Шаманская вера") и "Тэнгри" из Улан-Удэ, а например "Вечное Синее Небо" из Ангарска недавно ославилось варварским обрядом "Караван небо иди", совершенно чуждым всем тенгрианским канонам. Иные МРОШи ушли в "городское шаманство" и прочий нью-эйдж, где любая эзотерическая девочка студенческих лет может пройти курс молодого бойца и начать приём граждан. Ольхонский тайлган курирует не очень старая (2011 год), но строгая и ответственная иркутская МРОШ "Байкал", молебны поменьше проводящая и прямо в городе на стрелке Ангары и Иркута.
3.
Настоящими шаманами не становятся, а рождаются. Чаще всего - не зная такого о себе. И вот человек живёт, растёт, учится и готовится стать, например, риэлтором, но здоровье его неуклонно ухудшается, отношения с людьми не складываются, огненная вода сама просится в рот, а на работе преследуют неудачи. Буряты называют это "шаманской болезнью" - симптомы её могут быть любые от припадков и галлюцинаций до отрыжки и метеоризма, не говоря уж про алкоголизм или хроническую усталость, но всегда указывают на одно: человек не на своём месте. Первым делом с такой болезнью надо идти, конечно, к врачу, но там, где врачи лишь разводят руками - иногда помогают шаманы. Среди русских иркутян распространено мнение, будто шаман должен обязательно иметь лишнюю кость, например шестой палец, но как я понимаю, это миф - на тайлгане не было ни одного человека с такой отметиной, а шестипалого Валентина Хагдаева из Еланцев, самого пожалуй знаменитого шамана Приольхонья, тут презрительно называют актёром. Распознать шамана, обучить его и провести через инициации может только другой шаман. При этом дар легко угробить - например, пропить или начать им торговать. Поэтому шаманы регулярно проходят повторное посвящение, этакую переаттестацию, которая может сопровождаться переходом на следующий уровень. Тут стоит сказать, что атрибутику покупают и обряды организуют шаманы обычно за свой счёт, и например перепосвящение со всеми жертвенными животными, трансферами, угощением и гонораром для помощников обходится в среднем в 100 тыс рублей. Денежный вопрос тут стоит остро: испокон веков считалось, что к шаману нельзя ходить без вознаграждения (пусть это будет хотя бы копейка или спичка), а шаману нельзя просить награды и тем более устанавливать тариф. В наше время вознаграждать шаманов принято деньгами, примерно в том же объёме, что и психологов.
4. фото Оли, далее просто О.
"...прежде чем стать шаманом, претендент должен долго болеть; души предков-шаманов окружают тогда претендента и мучают его, бьют, раздирают тело ножом и т. д. Во время этой операции будущий шаман пребывает бездыханным: лицо и руки синеют, сердце едва бьется. По рассказу бурятского шамана Булагата Бухашеева, духи предков приводят душу претендента на "собрание шайтанов" на небе и там его и наставляют. После инициации его мясо варят, чтобы научить его искусству шаманить. Во время инициационных мучений шаман семь суток лежит как мертвый. При этом вокруг него собираются родственники (кроме женщин) и поют: "Наш шаман оживет, будет нас выручать!" Пока его тело расчленяют и вываривают предки, никто из посторонних не вправе до него дотрагиваться" - так описана бурятская инициация у Мирчи Элиаде, но это было давно. Что переживает современный шаман во время посвящения, мне никто не рассказывал, да и в принципе это вряд стоит знать непосвещённым. Всего у бурятских шаманов 9 уровней посвящения, но как я понимаю, до верхних в наши дни не доходит никто. Считается, что ученик здесь не превосходит учителя, а как результат, из века в век шаманство вырождается, и если нынешние шаманы не левитируют и не превращаются в зверей, то это умели их предки.
5. О
Шаманы делятся на саганбоо (белых) и харабоо (чёрных) - первые взаимодействуют с тенгриями, вторые - с духами среднего и нижнего миров, и в старину белых шаманов боготворили, чёрных - скорее боялись, но ходили и к тем, и к другим. В наше время знающие люди обязательно делают оговорку, что не стоит считать чёрных шаманов злыми: просто саганбоо помогают в духовных вопросах (например, лечения болезней или сопровождения усопших в загробный мир), а харабоо - в земных, и в том числе - материальных. Да и в принципе, как я понял, современный шаман может быть и тем, и другим.
6.
Между тем, мы вышли к полю тайлгана, оказавшемуся небольшой ровной площадкой на полпути от Байкала к дороге. Издали его можно принять за ярмарку - по той стороне поля, что обращена к Хужиру и соответственно Шаман-скале, протянулся ряд лотков с цветастыми предметами. На самом деле это тахилы - алтари отдельных шаманов с их атрибутикой, куда обязательно входят зула (лампадка на топлёном сливочном масле, на которую спускаются духи) и 9 молочных блюд: молоко, творог, сметана, арса (полужидкий и очень кислый творог), тарак (йогурт из смеси разных видов молока), тарасун (молочная водка), урмэ (пенки), сыр и саламат (блюдо из муки, соли, масла или сметаны). За линию тахилов, даже по бокам от неё, запрещено заходить: когда мы увлекались съёмкой, нас периодически отгонял дюжий бурят, раз на пятый сказавший прямо: "Это для вашего же блага! Здесь же энергия идёт, нахватаетесь бед на свою голову!". По краям у изгороди висели шаманские одеяния - со стороны Байкала боо, со стороны дороги - удаганок. За "мужской" стороной находилась и парковка, и штабная палатка, откуда ведущая Елена присматривала за обрядом и делала объявления в микрофон. Зрители, дай бог сотня человек, поравну бурятских паломников и любителей эзотерики, сидели с четвёртой стороны. Из пассивного зрителя стать прихожанином можно было, купив хадак - голубую ленту, которую в бурятских, монгольских, тибетских обычаях подносят людям или духам на благо. Здесь же, как в церквях, пишутся записки с именем и датой рождения - без неё нельзя, так как для поиска души по специальным книгам шаману нужны её "координаты".
7.
На шее у Елены - толи, дословно зеркало, главный тенгрианский атрибут, как у христианина - крест. Слегка похожее с наружной стороны на щит, толи - оберег от злых сил, где живёт дух-хранитель, иногда появляющийся в отражении. С внутренней стороны в него вложены эрдэни - 9 драгоценностей, в основном минералов, со своими магическими свойствами. По толи легко отличить и "цвет" шамана - у белых оно серебряное и духа они кормят молоком, у чёрных - латунное, а духа кормят водкой. Мне разрешили сфотографировать толи, но прикасаться к нему может только сам шаман. Как и к другим атрибутам - их энергия перетекает на прикоснувшегося, что для него не всегда хорошо.
7а.

В 2021 году на поле у Трёх Сосен собрались 29 шаманов - это немало, но и не много: Ольхон помнит тайлганы с участием сотен удаганов и боо.
8.
В подавляющем большинстве это буряты из трёх околобайкальских регионов, но редкий тайлган обходится без гостей из других народов, будь то соседи-тувинцы, казахи или даже индейцы. Закрытость границ не помеха - я раньше знал о ненецких шаманах и даже, вероятно, видел их, а здесь вот увидел немецких! В тайлгане участвовало несколько девушек из Австрии и Германии, почти не говоривших по-русски. Как я понимаю, буряты были их учителя.
9.
Так и не понял, кто вот этот паренёк в штатском - может быть, ученик шамана накануне инициации или гость ещё откуда-нибудь? Иногда он появлялся в компании другого паренька с тибетской поющей чашей:
10.
Шаманов, действительно избранных духами, не так уж много, и для них это ещё возможность увидеть друзей и коллег. Слово "шаман" овеяно для непосвящённого ореолом пугающей мистики, но как заметила одна моя знакомая, потомок эвенкской шаманки, её происхождение не более удивительно, чем если бы она была внучкой священника. Встретив шамана на улице или в кафе, вряд ли догадаешься, что перед тобой шаман - это абсолютно современные люди, которые пользуются смартфонами, сидят в интернете (и может быть читают ваши "прогрессивные" комменты к этому посту), путешествуют и отдыхают на тёплых морях.
11.
Тайлган длится около 7 часов, и представляет собой цепочку сменяющих друг друга обрядов. Около часа мы ходили вокруг поляны, наблюдая за приготовлениями. Ровно в 11 утра началось открытие тайлгана, и вот все шаманы построились в ряд на фоне хужирских турбаз и священного мыса:
12.
И после короткой вступительной речи разошлись за своим инвентарём.
13.
Базовое снаряжение шамана - дэгэл (халат, синий цвет которого закономерно священен для тенгриан) и майхабши - шапка с бахромой на глаза и ещё одной парой глаз на темени, которыми вселившийся в шамана дух глядит, пока тот в трансе. Пытаться посмотреть шаману в глаза сквозь бахрому - это жёсткое нарушение техники безопасности, контакт с иными силами, которые вполне могут прихватить с собой неосторожную душу.
14. О
В руках шамана чётки, которые он перебирает, читая молитвы, в первую очередь дудолгу - индивидуальный для каждого боо или удаганки текст вызова духов:
14а.

Самый известный "инструмент" шамана - хэсэ, по-нашему бубен, представляющий собой ни что иное как карту духовных миров, перемещаться меж которыми помогает лусад - мудрая змея, буквально пронизывающая шаманское снаряжение. Её олицетворяет, например, колотушка тонбур:
15а.

Более сложные инструменты - бардаг и парные харьбо. Первый называют ещё "шаманский кнут" - на нескольких прутьях закреплены крошечные фигурки в трёх пучках - оружие (сабля, лук, стрелы, нож) и ключи, инвентарь кузнеца (кувалда, молоток, щипцы) и лестница, стремянка, верёвка, багор и лодка. Словом, всё то, что может понадобиться путнику в долгом и опасном странствии по чужим мирам. Хорьбо, которыми владеют только шаманы высоких уровней, украшена ещё и головой лошади - небесного скакуна, возносящего к тэнгриям,
15. О
За запретной линией тахилов находится Роща - несколько вкопанных в луг ветвей берёзы, в бурятских поверьях соединявшей три мира. Слева - жертвенный баран, забитый у 13 сэргэ на Шаманке, и предметы, которыми украсят рощу - парчовые лоскутки, металлические бляшки, шкурки мелких животных и искусственные гнёзда - символ продолжения рода.
16.
Первый обряд тайлгана - оживление атрибутики. Боо и удаган садятся за тахилы:
17. О
Где читают молитву, стуча в бубны, в такт им двигаясь всем телом и иногда вскидываясь:
18.
Так продолжается около часа:
I
А затем шаманы собираются в цветастую процессию и уходят с поляны:
19.
На следующий обряд - Оживление рощи. Ветви наряжают, да приговаривают обращения к духам, рассказывая о том, для чего их зовут и что для них здесь приготовили. Именно роща - главный алтарь тайлгана, и в финале оживления через неё бросают торик - керамическую чашку для подношений. Считается, что если она легла дном книзу - значит, канал между миров открыт. В этот раз получилось со второй попытки:
II
Следующий этап - вызов онгонов, родовых духов в помощь живым:
20.
Шаманы рассаживаются по поляне и стучат в свои бубны, всё быстрее и энергичнее. Минут через 20 шаман начинает дёргаться, словно в припадке, вскакивает, и несколько раз подпрыгнув на месте, как будто успокаиваться.
III
Шаманы не молятся своим духам, а "заводят" их, то есть впускают в своё тело. И люди, в том числе коллеги, идут поговорить не с шаманом, а с духом, пока тот во плоти. Над склонившимися (не дай бог в глаза посмотреть!) людьми шаманы читают молитвы да прикладывают к их плечам и спинам бубны, бардаги и харьбо.
21.
Вернуться в себя, отпустив онгона, шаманам бывает трудно:
22.
И тут им помогают более опытные коллеги:
23.
Проведя приём граждан, онгоны остаются на поляне - теперь 29 живых участников обряда дополнены сотнями бесплотных. "Вместе мы - сила!" читается на усталых, но приободрившихся лицах:
24.
Боо, удаган и онгоны идут на завершающий подготовительный обряд - читать барана:
25.
То есть зачитывать молитву над жертвенным животным (коим на тайлганах помимо барана может быть конь, но никогда - птица, верблюд или дикий зверь). Душа барана становится лоцманом межмировых путей:
26.
Так проходит около 3 часов, и только теперь тайлган готов к своей основной части - вызову хатов. Ольхон - дом 13 Арын-нойод, то есть 13 Северных владык. Это не отстранённые небожители-тенгрии, не глобальные эжины, а духи-хранители бурятской земли и всех людей, которые её населяют. 13 Владыкам приносили присягу и все кочевники, селившиеся в этой стороне. Арын-нойод - те, от кого более всего зависит жизнь простого бурята.
27.
Здесь шаманы берут более сложное снаряжение. Если дэгэл можно сравнить с полётным костюмом космонавтов, то архали - это уже скафандр, накидка-оберег с узорчатыми лентами, своим цветом символизирующие небо, огонь, воду и землю. С ними сплетаются чёрные змеи-лусады, вне контекста тайлгана похожие больше на странные игрушки. Вместо глазастой шапки надевается оргой - железная шаманская корона с парой рогов. Они служит чем-то вроде антенн, над которыми собирается улан-амитай ("одухотворённая облако") - сила вызываемого духа.
28.
Хатов заводят в три приёма. Первыми спускаются Дальжор-хара-нойон (хозяин морей), Бахар-хара-нойон (хозяин Байкала), Хаан-Заргаша-нойон (хозяин Качуга, бог правосудия), Боо-ехэ-найжа (хозяин горы Ижемей - высшей точки Ольхона; бог мудрости и меткости), Бэлиг Бию Бишуу Заарин Дурисха (Бог талантливых людей, красоты и изящества) и Ама-сагаан-нойон (хозяин Ангары, бог красноречия). Проводив их обратно, заводят следующих богов - это Эмниг-сагаан-нойон (хозяин Иркута, бог богатства), Бухэ-Баатар (хозяин Селенги, покровитель богатырей), Бата-сагаан-нойон (хозяин Баргузина, бог чистоты мыслей), Ажарай-нойн (хозяин Лены, бог гибкости ума), Хаан-Шубуун-ноён (орёл-первошаман, бог молодости и озорства) и его отец Хотон-нойон - хозяин Ольхона и председатель собрания. О том же, кого вызывают на третий раз, я расскажу ближе к делу.
29.
Шаманы точно так же колотят в бубны, понемногу входя в транс, а затем вскакивают. У хатов это смотрится пугающе. В своих архали и оргое неестественно двигающийся и говорящий потусторонним голосом шаман правда не похож на человека:
IV
И лишь белые кроссовки на стройных ногах напоминают, что под маской могучего божества скрывается хрупкая девушка:
V
В прихожан хаты вселяют благоговейный страх, да и вид их поначалу всегда грозен:
VI
Перед богам падают ниц, а ассистенты подносят им торики с молоком. Выпив подношение, нойон успокаивается - он доволен приёмом и готов говорить с людьми:
30.
Люди идут к божествам, держа хадаки на простёртых ладонях и глядя в них, а не в глазах владык.
VI
Что говорили они, я не слышал, тем более немалая часть диалогов была на бурятском - другим языком боги Бурятии не пользуются, так что на поляне есть ещё и переводчик.
31.
Со стороны это выглядит действительно пугающе, а уж как такую встречу воспринимал архаичный степняк не то что без смартфона, а даже без школьного образования - можно только представить. И не удивительно, почему немногочисленные избранные шаманы теряются среди самозванцев - последним достаточно лишь денег на атрибутику и немного актёрского мастерства. Для настоящего шамана же всё это как минимум - изменённое состояние сознания:
VIII
Порой выходящее из под контроля.
32.
То и дело на поляне начинался переполох, шаман вскакивал, раскидывая стулья, скакал и бегал, громко звеня оберегами, а ассистенты лишь кричали людям "отойдите! не стойте у него на пути!".
33.
В конце концов ассистенты ловят разгневанного аватара, усаживают его на стул и начинают аварийное возвращение, снимая с шамана атрибутику:
34.
И лица шаманов в этот момент говорят о многом:
35.
В городе такими бывают лица людей, только что переживших припадок:
36.
Заведённые, хаты кричат страшными голосами, так что ни за что не догадаться, мужчина под их маской или женщина:
37.
Слышал, шаманы не помнят, что происходило с ними с момента заведения хата. Но интереснее мне было бы понять, что ощущают они в этот момент: страх "Что я тут сделал?!", надрыв как после сильного стресса или просто пронзающую головную боль?
38.
Последним из 13 хатов приходит Буха-нойон, Князь Бык, которого (в облике лесистой горы) я когда-то уже показывал на въезде в Тункинскую долину. Изначально это был тотем булагатов - одного из крупнейших бурятских племён, переселение которого в Прибайкалье в 13 веке завершило здесь фомирование этого народа. В этом ли дело или в чём, но с годами культ Быка распространился и по другим бурятским племенам: Бухэ-нойон - сильнейший из 13 Северных владык, бог-покровитель нации. Крещёные буряты отождествляют его с Николаем Угодником - не далёким божеством, а заступником простого человека. Но и темперамент степняка иной: в отличие от благостного Николы, Буха-нойон - грозное и жестокое божество. Его заведение не каждому под силу - по словам одной из участниц тайлгана, она нередко видела, как на этом обряде у людей начинались припадки, а однажды взорвалась лампочка в комнате. Для вызова Великого Быка люди (не только участники, но и прихожане) строго расходятся на мужскую и женскую половины:
39.
Буха-нойона заводит опытный сильный шаман с большой группой поддержки:
IX
И вот - он пришёл!
X
Шаманы при виде Буха-нойона стоят на коленях:
XI
А затем Князь Бык садится, и к нему выстраивается длинная очередь, где шаманы и прихожане равны:
40.
Обратите внимание, что свет стал вечерним - с начала действа прошло 5-6 часов. Всё это время народ был сосредоточен на обряде - никакой суеты вокруг, никаких сувенирных лавок, и даже единственную точку с позами и пловом местные буряты развернули на порядочном удалении от поля. Не выросла вокруг и толпа любопытных - лишь разок заехала автоледи с вопросом "Что тут делают?", и узнав, что это не ярмарка, а шаманский обряд - вмиг поскучнела. Да и прихожан было мало: в первую очередь Ольхонский тайлган - это встреча 13 богов и людских представителей-шаманов.
41.
Не помню, где я был и с кем общался (а общение, само собой, начало завязываться тут и там), когда Буха-нойон покинул тело шамана. Лишь по оживлению на поле я понял, что что-то происходит. Начиналась цепочка завершающих обрядов, и первым делом шаманы разобрали рощу:
42.
Да пронесли её краями поля, где люди припадали лбами к корням:
43.
За рощей двигалась под звуки бубнов процессия с жертвенным бараном:
44.
Сделав круг, шаманы сложили рощу у первоначального места и подожгли:
45.
Следом к костру двинулись прихожане - ходили кругами, молились...
46. О
...да бросали подношения - молоко и сладости, - в сторону Шаман-скалы:
47.
Тем временем в котлах на краю поля набрал цвет ароматный зеленоватый отвар:
48.
В который первым делом погрузили целую гроздь толи - так их освящают:
49.
Дальше начался увал - обряд очищения водой из этих котлов. Тут я поблагодарил судьбу за то, что у моей камеры есть поворотный экран - этот кадр я снял, глядя в противоположную сторону. Смотреть на очищение других запрещено, так как тьма, которую смывают с них, разлетается в разные стороны, и через глаза - заразна. Есть, впрочем, у такого табу и более прозаичная причина - для очищения люди снимают верхнюю одежду, а в старину на маленьких родовых тайлганах, подозреваю, и обнажались совсем. Я решил не участвовать в обрядах чужой веры, как бы сильно ни уважал её - и дело тут не в избытке православности, а в том, что это была бы с моей стороны профанация. Оля же как человек неверующий сбегала на очищение, и вернулся в неописуемом восторге - усталость от нескольких знойных часов будто сняло рукой.
50.
Сущность этого действа с троекратным перешагиванием женщин через ковш я не запомнил - но как я понимаю, это уже не сам тайлган, а отдельные обряды, которые шаманы проводят людям:
51.
Самый масштабный из них - молитва о благополучии. Боо и удаганки садятся шеренгой, стучат в бубны, и периодически проводят ими круг перед собой, трижды произнося слово, которое на слух я записал как "Ахурей!". Затем шаманы, а с ними и прихожане, поворачиваются, по очереди обращаясь к 4 сторонам света, небу и земле.
52.
Дальше - просто молятся по запискам, поданным в самом начале. Финальные обряды посвящены в первую очередь материальному благополучию. Тут, впрочем, самого обряда мало - после ещё три дня нельзя ничего и никому, кроме других участников обряда и близких родственников, отдавать просто так - только за плату, будь этой платой хоть фантик от конфеты.
53.
В финале шаманы бросают в траву свои подношения с тахилов:
54.
И все вместе сжигают хадаки - ведь они были куплены как подарок духам, а значит не могут быть унесены с поляны. Разбор декораций происходит быстро - переодевшись в мирское, шаманы и организаторы садятся по своим машинам и разъезжаются кто куда. Но большинство из них задержатся на Ольхоне ещё на несколько дней, а значит - с ними можно договориться об индивидуальном приёме. Только осторожно - могут ведь и шаманскую болезнь опознать...
55.
Закончу рассказ про священный Ольхон картиной, которую нарисовала Оля.
56.

Если бы прошлая зима не была аномально снежной - было бы ещё и несколько постов с заледенелого острова. Но надеюсь, я ещё вернусь к ольхонской теме в 2022 году. А в следующей части расскажу про Усть-Ордынский - странный центр бывшего региона по дороге отсюда в Иркутск.
ПРИБАЙКАЛЬЕ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Большой Иркутск - будет позже.
Ангара - см. оглавления.
Кругобайкальская железная дорога - см. оглавления.
Тункинская долина - см. оглавление-2020.
Окинский район - см. оглавление-2021.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
|
Метки: событийное Сибирь дорожное этнография |
Ольхон. Часть 5: север острова, середина Байкала |
Крупнейший остров Байкала и вообще всех российских пресных вод вытянут на изрядные 73 километра. Показанный в прошлой части посёлок Хужир у берега Малого моря делит его на две части: с юга - пыльные низменные пустоши, за Ольхонскими воротами переходящие в материковую Тажеранскую степь, а с севера - настоящие горы (до 1274м), покрытые сочными лугами и мезозойскими лесами склоны которых обрываются в Байкал отвесными скалами. Через Южный Ольхон, однако, проходит оживлённая дорога, а на Северном Ольхоне всё население - три десятка человек в нескольких деревеньках. Самый простой способ увидеть здешние красоты - экскурсионные "буханки", обильно отправляющиеся из Хужира по утрам. Ближнюю к Хужиру часть экскурсии - Харанцы, Песчанку и окрестные леса, - я показывал в позапрошлой части, а теперь расскажу о самом севере Ольхона, где острые мысы вонзаются в самое сердце Байкала.
Скажу прямо - я терпеть не могу коммерческие экскурсии, так как своим ходом почти всегда могу увидеть больше, а заплатить меньше. Но из любого правила есть исключения, и почему бы не воспользоваться экскурсией, если вдруг она оказывается самым экономичным вариантом по сумме денег, времени и сил? Здесь - именно такой случай... От Хужира до мыса Хобой 45 километров, большей частью вдоль накатанных теми же экскурсиями грунтовок. За каждую палатко-ночь надо выложить по 100 рублей Прибайкальскому национальному парку, егери которого - бдят! То есть всё это превращается в поход на 5-7 дней, где за одну бюрократию придётся отдать не менее 650-850 рублей (ещё 150 - разовый пропуск), а в походе ведь и что-то кушать надо... Не слишком перспективным выглядит и автостоп (на который всё равно придётся обзавестись пропусками) - как уже говорилось, живёт на Северном Ольхоне дай бог полсотни человек, которым нет резона ездить дальше своих деревенек. Можно, конечно, понадеяться на автотуристов-одиночек, но приехать в высокий сезон - это самый простой и надёжный способ разочароваться Ольхоном, а в межсезонье такие туристы бывают здесь не каждый день. Добавьте сюда ещё и то, что маршрут экскурсии минует несколько участков сурового бездорожья с глубокими колеями между сосновых корней, где пройдёт далеко не любая машина - Ольхон вовсе не спроста сделался "царством буханок"! Экскурсии из Хужира на этих "буханках" с дюжими бурятами за рулём поставлены на поток, у них стандартные маршруты и стандартная, год от года растущая цена, осенью 2020-го составлявшая 1500 рублей с человека. И в августе дощатые парковки у мысов напоминают лотки булочной...
2. фото Георгия Красникова (
 griphon), отсюда.
griphon), отсюда.
...не говоря уж о том, что и пейзаж в это время испорчен то смогом лесных пожаров, то знойной дымкой на воде. В общем, ездить на Северный Ольхон я советую только в межсезонье, когда туристов на острове почти нет, воздух принимает хрустальную прозрачность, а золотые травы и лиственницы да синева моря, неба и гор слагают совершенно рериховские пейзажи.
3.
"Буханку" я нашёл через турбазу и там же оплатил. Всего в то октябрьское утро из Хужира на север ушло пять машин - три "буханки" и высокая "газель", все с неполной загрузкой (видимо, водители договариваются распределять пассажиров поравну), а также легковушка, причём даже не джип. Распределиться по маршруту они сумели так, чтобы не слагать караван, а пересекаться на основных достопримечательностях лишь по прибытии. Компания в салоне подобралась приятная своей нейтральностью и интровертивностью - никто никому не мешал, не шумел зазря и не запомнился друг другу, все ехали молча любоваться красотой. Выделялись на общем фоне лишь мы с пернатой Олей и одинокий мужик в чёрных очках в компании шикарного кобеля немецкой овчарки.
4.
Экскурсия должна была стартовать в 9, но какие-то накладки с пропуском нацпарка (включённого в стоимость) задержали нас минут на 40. Вот остались позади первые пункты, знакомые по позапрошлой части - Харанцы без ярких особенностей, но с яркими видами и Песчанка с руинами сталинского лагеря среди сыпучих дюн. За Песчанкой наступила полоса лесов, которые я уже не раз называл "мезозойскими" - голосеменные и почти лишенные травы, они растут прямо из песка и ковра своей опавшей хвои, словно эволюция ещё не создала траву. В лесах и самые тяжёлые дороги, которые может и можно одолеть на пузотёрке, но только умеючи. Потом и леса расступаются, сменяясь лугами, где нацпарку назло пасутся кони и народ косит траву. По краям луга отвесно обрываются в Малое море:
5.
На карте Священный остров напоминает мне толстую гусеницу бражника с жвалами мысов у Ольхонских ворот и характерным хвостом-рогом. Рог этот вдаётся буквально в середину Байкала, и главная цель хужирских экскурсий - треугольник мысов у острия.
6.
Со стороны Малого моря, третьим пунктом экскурсии и первым пунктом этого поста встречает мыс Саган-Хушун:
7.
Сложенный мрамором, в переводе с бурятского это попросту Белый мыс:
8.
А в обиходе - Три Богатыря или Три Брата:
9.
Поправочка - Три Брата и Сестра: мыс состоит из двух мощных скал, разделённых ложбиной.
10.
Адын очень грустный лэгэнда гласит, что все четверо были детьми шамана, и девушка влюбилась в простого рыбака, может даже чужестранца, а сыновья, обернувшись орлами, помчались в погоню за ней. Но встретившись на высоком берегу, молодёжь сошлась на том, что батя вкрай уже охренел, а девушка пускай бежит, к кому бежала. Батя, однако, всё слышал и за это превратил непутёвых потомков в белые камни.
11.
По ложбине можно спуститься - час стоянки на мысу это позволяет, но так сделать догадались только мы одни.
12.
Только отсюда видно, как мыс уходит в прозрачную воду Байкала. Внизу там вроде бы есть грот, где зимой намерзают гирлянды сосулек, да и если верить чужим фото, лучшие виды Белого мыса открываются именно со льда.
13.
Летом же отдельно впечатляет сочетание белых камней с буйной зеленью:
14.
Будь то сосны на обрывах или целые подушки мха:
15.
Но - пора двигаться дальше, за следующий мыс Хара-Ундэр:
16.
Из-за которого выглядывает мыс Хобой, в переводе с бурятского Клык, северная оконечность Ольхона. На кадре выше, приглядевшись, можно различить хребты с двух сторон и уходящую на север перспективу Большого Байкала. Слева - ставший за прошлые посты привычным задним планом Приморский хребет (1728м), справа - полуостров Святой Нос (сам высотой до 1878м) и за ним Баргузинский хребет (2841м) на восточном берегу Байкала. До них около 100 километров, а вот до Хобоя - лишь 4,5 километра:
17.
Приморский хребет относительно Байкала примерно вдвое ниже Баргузинского, но расстояние как бы уравнивает их. Здесь, перпендикулярно нашему взгляду, лежит широчайшее место Славного моря - порядка 90 километров от Онгурёна слева до Баргузинского залива справа. Интересно, при этом, что глубина тут не так-то велика - Ольхон продолжает подводный Академический хребет, до недавнего по геологическим меркам времени (8-9 миллионов лет) вместе с островом и Святым носом слагавший северный берег Байкала. Вот только Байкал - он ведь даже не море, а зарождающийся меж тектонических плит океан, и за эти миллионы лет разросся вдвое. На другом своём конце Академический хребет выглядывает из воды Ушканьими островами, представляющий собой Нерпичий Город - теоретически, они даже виднеются в дымке. Ну а Хобой больше всего впечатляет тем, что находится буквально в середине Байкала, и лишь хрустальными осенними днями это можно оценить во всей красе:
18.
К тому же - без столпотворения: по тропам между лиственниц и деревянному настилу над обрывами, как рассказывал нам водитель, в августе приходится идти в плотной толпе.
19.
Здешний очэнь грустный лэгэнда повествует о некой молодой бурятке, жене воина, которому тенгрии (небесные боги) за особые заслуги даровали роскошный дворец. В камень она обращена была не за неверность, как напрашивается логически, а за зависть, ну а подтекст этой легенды в том, что с некоторых точек на воде Хобой напоминает силуэт лежащей женщины. Сверху, впрочем, об этом догадаться трудно:
20.
Хобойский Клык же вблизи оказывается скорее гигантским резцом:
21.
Обратите внимание на тень - в окрестных скалах множество сквозных отверстий. Самое крупное из них если не называется Дверью в Байкал, то дарю этот оборот местным гидам, только с условием самостоятельно придумать ишо адын очэн грустный лэгэнда:
22.
Впечатляет и вид с Хобоя в обратную сторону, на расходящийся двумя берегами Ольхон. Справа, за Дверью в Байкал на кадре выше - знакомый нам Хара-Ундэр, скрывающий Саган-Хушун, а слева виден Шунтэ-Левый, до которого всего 2,5 километра. Впрочем, о том, что это один из красивейших ольхонских мысов, издали и не догадаться:
23.
Больше впечатляют скалистые обрывы над короткой байкальской волной:
24.
Какой они высоты? Может 100 метров, может все 200... Эти скалы тоже впечатляюще смотрятся со льда, а сам Хобой известен своим многократным эхо.
25.
Над мысом - одинокий сэргэ (ритуальная коновязь). Ещё несколько коряг с хадаками (цветными лентами) видны на опушках лиственничного леса у основания мыса.
26а.

За лесом - беседки и туалет типа "сортир", коими инфраструктура на всём маршруте и исчерпывается. В беседках водитель, он же гид, оказался ещё и поваром, быстренько соорудив нам на горелке уху из консервов. Конечно пояснив, что иногда туристам везёт больше и в Песчанке его ждёт знакомый браконьер с омулями.
26.
После обеда мы погрузились в "буханку", и даже по волнистым грунтовкам Ольхона доехали к следующей цели буквально за несколько минут. Треугольник Ольхонского Рога замыкает мыс Шунтэ-Левый:
27.
Шунтэ в переводе с бурятского - Лиственничный, ну а левый - слово вполне себе русское. Адын очэн грустний лэгэнда к этому мысу вроде бы не прилагается, но гиды упорно говорят, что именно здесь находится граница Малого моря с Большим Байкалом. По карте это кажется довольно странным - входом в пролив чётко видится прямая, соединяющая Хобой с мысом Арап под Приморским хребтом. Может, это стоит понимать как границу Северной и Южной котловин Байкала, разделённых Академическим хребтом? Шунтэ вдаётся в Большой Байкал на фоне провала Баргузинской долины, до устья которой порядка 80 километров. Баргузинский хребет слева и невысокие (до 1300м) хребты справа кажутся отсюда одинаковыми, а стало быть первый существенно дальше. До ближайшей точки на бурятском берегу от Шунтэ-Левого порядка 50 километров, и где-то в правой части кадра скрывается самое глубокое место Байкала (1648м) и вообще всех пресных вод Земли.
28.
Славу и мистику Шунтэ-Левого же определила необычная форма, за которую его прозвали в обиходе мыс Любви. От основания, как на кадре выше, он напоминает женщину с разведёнными и согнутыми в коленях ногами. Для предков, более строгих в любовных вопросах, это была однозначная поза роженицы, а потому совсем немудрено, что на бурхане у основания мыса помимо хадаков, монет и конфет лежат ещё и детские игрушки.
29.
Бурятки приезжают сюда попросить у богов дитя, и раздвоенность мыса тут более чем кстати:
30.
На Шунтэ-Левый-Левый с его характерной ложбинкой идут те, кто мечтают о дочери:
31.
На Шунтэ-Левый-Правый - о сыне:
32.
А между мысов, глянув вниз, видишь каменного ребёнка, выходящего из утробы Матери-Земли:
33.
И уж не знаю, в мягком вечернем свете и усталости тут было дело или в общей ауре священных скал над вечным покоем, но Шунтэ-Левый как-то особенно располагал к неспешному созерцанию:
34.
Хрустальный день сменялся огненным закатом:
34а.

Вид в сторону Хобоя, клык которого отсюда скрыт за обрыв:
35.
С другой стороны перспективу замыкает мощный, но невзрачный мыс Шунтэ-Правый в ближайшей к бурятскому берегу (40км) точке Ольхона. Над мысом и высшая точка острова, пологая гора Ижимей, у русских просто Жима, в которой 1274м над океанами и 818м над Байкалом. В отличие от Тан-Хана в Тажеранской степи, на Ижимей нет тропы, а в бурятских легендах заблудившимся среди лиственниц путникам помогал спуститься местный дух - добрый старичок-боровичок.
36.
До Ижимея, однако, есть ещё не столь высокая гора Толгай (669м), на склоне которой находится следующий, последний в официальной программе, пункт экскурсии. По пути на Толгай - вид сквозь Ольхон, заметно наклонённый от Большого Байкала к Малому:
37.
Где-то здесь - самое дальнее ольхонское селение, по сути дела одинокий хутор Усык с тремя постоянными жителями, пожилой бурятской семьёй. Чуть ближе - заброшенная ферма:
38.
От которой дорога поднимается по склону на самый гребень, другой стороной отвесно падающий в Байкал. На гребне же с 2018 года стоит весьма удивительное Нечто:
39.
Это "Хранитель Байкала", которого изваял Даши Намдаков - один из самых нетривиальных художников современной России, и уж точно - лучший мастер среди ныне живущих бурят. Он родился в 1967 году на глухом хуторе в Забайкалье, в совершенно степной по духу и мышлению семье, разве что из войлочной юрты перебравшейся в избушку. Восьмой ребёнок своих родителей, до семи лет Дашинима Бальжимаевич не владел русским языком и не слышал ни о коммунизме, ни о христианстве. Мальчик жил в пронизанном духами, эжинами, онгонами и хатами мире под Вечным Синем Небом... а потом уехал в интернат, где взрослые весь этот мир ему объявили плодом больного воображения. За годы в интернате тоска и неприятие себя начали разрушать здоровье мальчика, и ни лекарства, ни хирургические операции не могли ему помочь. В итоге Даши исцелила шаманка, а заодно пояснила юноше, что такие болезни приходят от разрыва связей с природой и бегства от своего предназначения. Которое долго искать не пришлось: Намдаковы принадлежали к давнему роду дарханов, а как мне сказал другой Даши, настоящий бурятский шаман - небо кузнецов ещё выше шаманского неба. Намдаков пошёл в подмастерье к скульптору Геннадию Васильеву в Улан-Удэ, а в 1992 открыл собственную ювелирную мастерскую. Там он каждый месяц две недели мастерил украшения на продажу, а следующие две недели - скульптуры для души. В 2000 году первая авторская выставка в Иркутске сделала Даши Намдакова знаменитым на всю страну скульптором. Конечно же, ваял он в первую очередь весь тот шаманский мир, в котором жил до злополучного интерната, и среди его творений - даже памятники в Кызыле, Казани и далее везде вплоть до Лондона. Ну а устав от пустых разговоров о спасении Байкала, Дашинима Бальжимаевич подарил Священному морю Хранителя, который и было решено отправить на Ольхон.
40.
Островитяне, правда, высокого искусства не оценили. Почему - толком никто объяснить не может, разве что некоторые высказались, что "сухое дерево - не к добру". Иные озаботились судьбой всех этих эндемиков, под предлогом защиты которых Прибайкальский национальный парк отбирает у них дома. Я бы сказал, дело лишь в том, что остров маленький, жизнь на нём скучная, туристический сезон короткий, а в межсезонье вдруг нашёлся такой прекрасный повод чем-то заняться - например, собраться попротестовать. Шаманы ещё в 2017 году спросили у духов разрешение установить скульптуру, и духи дали им добро. Общественность оказалась менее сговорчивая - место для Хранителя искали целый год, и не дали поставить его ни в Хужире, ни на Хобое, ни даже в Узурах, так что Даши Намдаков чуть было не поддался уговорам верховного российского ламы Дамбы Аюшеева поставить изваяние на бурятском берегу. Но в итоге у ольхонских "буханочников" появился новый пункт маршрута, хотя и не забывают они напомнить своим экскурсантам, что вообще-то на Ольхоне этого Хранителя не любят:
41.
Тем более что на острове уже есть Страж Ольхона - вполне настоящая лиственница на Улан-Хушинском заливе между Харанцами и Песчанкой. Да какая! Те времена, когда точно понять возраст дерева можно было только срубив его, давно уже в прошлом - современная техника позволяет брать керны древесины без вреда для растения. Когда-то я показывал платан Тнджре в Нагорном Карабахе - старейшее дерево бывшего СССР, заставшее ещё Рождество Христово. Ну а Страж Ольхона, согласно исследованиям 2018 года - старейшее дерево России, проросшее из своего зёрнышка в 1243 году, когда над степью ещё не осела пыль от коней Чингисхана. Туристов к нему, увы, больше не возят, так как их обилие древней лиственнице на пользу не пошло, и даже местоположение Стража Ольхона туристический официоз старается не разглашать. Ну а Хранитель Байкала - отчасти, его замена:
42.
Издали кажется, что это правда древесная кора:
43.
Но тем удивительнее, постучав по дереву, услышать звон - каждый сучок, каждую трещинку Даши Намдаков выполнил из бронзы!
43а.

Бронза куда долговечнее - по словам скульптора, если его творение не уничтожат целенаправленно, оно простоит тысячи лет. В огромное дупло можно безопасно забираться, не боясь ничего повредить
44.
Там внутри висит колокол, но раньше колокола Хранитель Байкала оглашается звоном мобильных уведомлений. Даже просто телефонной связи на Ольхонском Роге по идее нет, вот только Бронзовое древо представляет собой самую что ни на есть антенну, внутри которой сеть ловится так, что уведомления всех соцсетей приходят за секунды.
45.
А ещё можно вспомнить о том, что во дворце Чингисхана "росло" серебряное древо с золотыми листьями, о котором, конечно же, Дашинима Бальжимаевич не мог не знать. Могилой Чингисхана местные буряты считают запретный Рытый мыс за Онгурёном, буряты с того берега - Баргузинскую долину, а Валентин Распутин так и вовсе говорил, что если бы он искал место для покоя Потрясатель Вселенной, то избрал бы мыс Саган-Хушун. Все эти места видны отсюда...
45а.
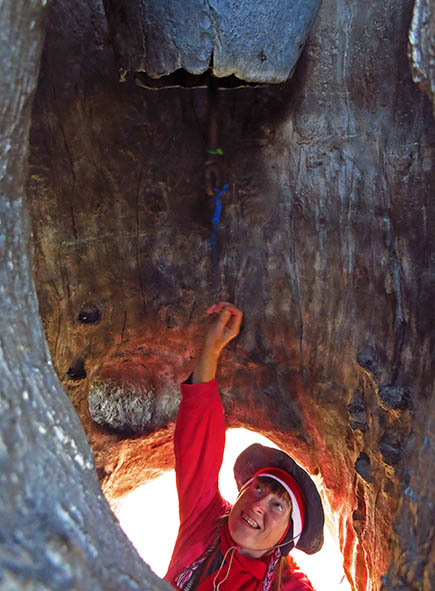
Взгляд назад, на Шунтэ-Левый мыс и торчащий из-за края плато клык Хобоя:
46.
Здесь мы провели ещё около часа - из-за утреннего опоздания приезжая последними, мы стабильно оказывались над красотами Байкала одни, а это искушало задержаться ещё дольше.
47.
Совсем уж напоследок мы заехали в деревеньку Узуры на берегу Большого Байкала - как я понял, в маршруты экскурсий она не входит, но у нашего водителя было тут какое-то дело на полчаса, и мы, конечно же, только обрадовались такому "комплименту от заведения". Узуры с 9 постоянными жителями - единственная ольхонская деревня на Большом Байкале, у залива Хага-Яман, куда зимой приводит неофициальная, но вполне реальная ледовая дорога из Усть-Баргузина. И сэргэ во благо тенгриев...
48.
...тут соседствует с заведением для научного познания Вечного Синего Неба - Байкальской магнитотеллурической обсерваторией "Узур". В обиходе её называют Метеостанцией, но на самом деле это один из многочисленных объектов Иркутского института солнечно-земной физики, как например Байкальская астрофизическая обсерватория над Листвянкой или Радиоастрофизическая обсерватория в тункинских Бадарах. Изучают здесь магнитное поле Земли, и как я понимаю, солнечные батареи и ветряк обеспечивают обсерваторию энергией, а основным её инструментом является вон то кольцо вокруг белой будки на опушке:
49.
Сами Узуры красиво стоят в глубокой низине между горами Раба (762м)...
50.
И Толгай, который мы и обогнули, спустившись от "Хранителя Байкала". У линии мощного, как в настоящем море, прибоя - руины причалов да обломки одинокого подъездка, ольхонской промысловой лодки 1930-80-х годов. Мне вспомнился финал антиядерной повести "Вошедшие в Ковчег" японского писателя Кобо Абэ: "На грузовике с надписью "Живая рыба" развевался флажок. На нем слова: "Жизнь рыб важнее жизни людей". Другой грузовик ждал зеленого света. На борту написано: "Меня уже не будет, но вишня расцветет, и расцветет любовь"." Тень Рабы медленно ползла вверх по склону Толгая, а мы здесь, на последнем берегу, гуляли вдоль линии волн...
51.
Впрочем, конец экскурсии с глухарём на дороге, фиолетовым песком и заходящим солнцем у Малого моря я показывал уже в позапрошлой части. На этом можно закончить рассказ о достопримечательностях Ольхона - теоретически, ещё на острове есть бурятская деревенька Ялга ближе к Ольхонским воротам, от которой двумя разными просёлками можно дойти к солёному пузырящемуся озеру Шара-Нур или живописной пади Идиба на Большом Байкале, но я вряд ли туда соберусь. Более вероятно - увидеть все сегодняшние достопримечательности покрытыми льдом и со льда: не поехав на Байкал в феврале-марте 2021 года из-за аномально снежной зимы, я всё же надеюсь это сделать в 2022-м, пока не вернулись китайцы. Однако помимо достопримечательностей Священный остров славен и событиями, самым удивительным из которых является тайлган - шаманский молебен 13 богам Севера. Ради него я и поехал на Ольхон снова в дымном августе 2021 года - и об этом расскажу в следующей части.
ПРИБАЙКАЛЬЕ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Большой Иркутск - будет позже.
Ангара
По Ангаре. Братск - Балаганск.
По Ангаре. Иркутск - Балаганск.
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная ветка и Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Тункинская долина
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлик.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
|
Метки: ручная работа Сибирь природа дорожное этнография |
Ольхон. Часть 4: Хужир - столица священного острова |
Хужир - небольшой посёлок (1,3 тыс. жителей), вмещающий, однако, 4/5 населения Ольхона, маломорским весям которого была посвящена прошлая часть. Здесь сосредоточена почти вся туристическая инфраструктура на острове и находится его главная святыня - скала Шаманка у ворот 13 богов. Но безмерно колоритен и сам Хужир, пейзажем и атмосферой похожий на полнящуюся европейскими дауншифтерами приморскую глушь в какой-нибудь стране третьего мира.
Название Хужир в бурятских землях столь же популярно, как в наших краях Сосновки да Каменки. Даже в том материале, что я уже набрал для своих постов, ольхонский Хужир не последний. В переводе это слово значит Солончак, который после мрачных засушливых пустошей Южного Ольхона здесь не так-то сложно представить. Но конкретно в Хужире я солончаков не припомню: Ольхон делится на две части, друг от друга отличающиеся сильнее, чем от материка. Если низменный юг острова входит в слепую зону осадков, выпадающих над Приморским хребтом, то вынесенный к середине Байкала и куда более высокий север сам кое-что ловит. Как результат, степям Южного Ольхона противолежат мезозойского вида боры Северного Ольхона, ну а Хужир у берега Малого моря стоит как раз на границе двух сред:
2.
Со стороны Ольхонских ворот столица острова встречает сухим лугом, по которому одиноко расставлены огромные причудливые сосны. Одни танцуют и закручиваются:
3.
Другим явно так надоели туристы, что они пытаются куда-нибудь уйти:
4.
Посреди лугов стоит навес, под которым проходят всякие действа - например, театральный фестиваль в начале августа. Ближе к Ольхонским воротам в Малом море висит Замогой - третий по величине остров Ольхонского архипелага, среди бурят имевший дурную славу лепрозория, и потому в отсутствии людей ставший лежбищем нерп. Увы, лишь в июне-июле - Малое море куда теплее Большого Байкала, и к августу байкальской живности становится в нём откровенно жарко. В иные годы из Малого моря даже омуль уходит на север, ну а у нерпы к августу покидают Замогой всегда. Обратите внимание на разницу пейзажа - большая часть кадров в моих ольхонских постах снята в октябре 2020 года, когда я смотрел здесь достопримечательности, меньшая - в августе 2021, когда я приехал на тайлган (шаманский молебен). Августовские виды опознаются по зелёной траве, обилию людей и машин, но более всего - по скрывшей дальний берег дымке пожаров в далёкой Якутии.
5.
За год на окраине Хужира порядком разрослась база отдыха в виде острога, удачно попавшая в кадр на фоне границы лесной и степной половин:
6.
Турбазы и гостиницы составляют немалую часть застройки Хужира, и в его пейзаже совершенно затмевают жильё. Среди них есть капитальные, весьма симпатичные и совсем не дешёвые:
7.
А есть совсем уж копродендрические и тоже не сказать чтобы копеечные - как например "Цветок под снегом", в котором остановились мы. За 1200 на двоих мы получили комнатку с фанерными стенами, сквозь которые слышно не то что каждое слово, а даже дыхание соседа. Под скошенной крышей встать в полный рост можно только прямо у входа, а из мебели - только лежанки на полу, лампа да крючки. Всё это дополняет неплохая кухня, платный душ и высокотехнологичный гравитационный туалет с вытяжкой, благодаря которой внутри не пахнет. Такие заведения в Хужире работают лишь в высокий сезон с перспективой ликвидации за одну ночь, а в октябре 9/10 турбаз закрыты.
8.
В целом же Байкал сейчас переживает Русские сезоны - не знаю, правда ли китайцам рассказывают в школе, что Северное море принадлежит по праву им, но ездить сюда они правда любили. Местные, конечно, китайских туристов терпеть не могли, но когда в 2020-м стало ясно, что границу к лету не откроют, приуныли: пусть и шумят, и сорят гости из Поднебесной, но всё же - денюжки-то везут... Однако в итоге при закрытых границах туристов в Прибайкалье стало не просто не меньше, а больше! Ведь если москвич или петербуржец думает, куда бы съездить по России далеко - то первым делом ему на ум приходит, конечно, Камчатка, а после знакомства с камчатскими ценами - Байкал. Хотя сама структура русского туризма оказалась несколько иной: хозяева гостиниц и кафе от Русских сезонов выиграли, гиды и извозчики - проиграли, так как китайцы ездили группами, а среди соотечественников больше одиночек на своих машинах. Ну а с замусориванием летним пляжей и обламыванием сосулек в зимних гротах, по словам знакомых гидов, наши справляют не хуже китайцев.
9.
Сосновый луг и бор с турбазами - это ещё предместье, а сам Хужир начинается за сопкой, песчаное подножье которой отмечено куполом шапито:
10.
Катера на прошлом кадре стоят у причала Маломорского рыбзавода, ржавые сейнеры которого давно стали одной из достопримечательностей посёлка. Сейчас сложно представить, что начинался Хужир именно как город-завод:
11.
По первой переписи в 1857 году население священного Ольхона не сильно отличалось от нынешнего - порядка 1700 человек. Были это почти исключительно буряты эхиритского племени, жившие скотоводством, рыбалкой и нерповкой. К концу 19 века, скорее всего, население выросло ещё больше, но перепись 1909 года показала, что на острове осталось всего 600 человек - бичом Ольхона испокон веков была "худая хворь" муибишен, по-русски говоря - проказа. Материковые буряты не отдавали дочек замуж за ольхоцев, а в каждом островном улусе на краю стояла юрта-лепрозорий - с самоизоляцией буряты были знакомы не по наслышке, и даже родня знала, что больному помогать нельзя. Эпидемия на рубеже 19-20 веков выкосила большую часть населения Ольхона, а заодно - вынудила обратить на него внимание русскую власть. На остров зачастили солдаты и миссионеры - первые проводили изыскания для стройки каторжной тюрьмы, с которой Ольхон должен был стать новым Сахалином, а вторые... вы зря представили себе бородатых попов - миссионерами были ламы в своих красных халатах, пытавшиеся положить конец последнему в бурятских землях оплоту чистого шаманства. Они и построили первое здание Хужира - бумхан (ступу), не сохранившуюся до наших дней. Ведь прежде местность у скалы Шаманка считалась запретной и потому необитаемой, а пагода стала первым вызовом 13 древним богам.
12.
Но вскоре буддистов, шаманистов и христиан уравняли безбожники с их экономическим детерминизмом. Из храма Ольхон было решено превратиться в плавбазу, и в 1930-х годах на Хужирском заливе начал строиться Маломорский рыбзавод. Буряты, так и не оправившиеся от эпидемии, быстро сделались меньшинством среди жителей острова, но заселяли Хужир поначалу гураны - креолы Забайкалья, откуда весной 1932 года в будущий посёлок приехали по льду первые 15 семей.
12а.

Впрочем, официально посёлок был учреждён лишь в 1938 году, который и считается теперь датой основания Хужира. 6 лет меж двух дат покрыты мраком - весь архив рыбзавода сгорел в 1949 году, когда двое заключённых из показанной в прошлой части Песчанки убили охрану, подожгли контору и бежали с зарплатой рабочим за море, где вскоре были настигнуты чекистами и расстреляны близ села Косая Степь. После этого
13.
Но всё теперь в прошлом, и я не знаю точно, когда и как непотопляемая плавбаза пошла ко дну. В 2008 ММРЗ ещё барахтался, хотя директор в интервью и говорил, что уже не первый год предприятие искусственно делают убыточным. Как я понимаю, наложилось друг на друга тут всё: пожар на заводской электростанции в начале 1990-х, переход к капитализму, а в первую очередь - борьба общественности за "спасение Байкала", по итогам которой маломорским сейнерам стало просто нечего ловить.
14.
Крах завода стал для Хужира двойным ударом - мало того, что жители остались без работы, так ещё и вышла из строя единственная электростанция, снабжавшая энергией остров, не подключённый к единой сети. Произошло это вроде бы ещё в самом начале 1990-х, и на Ольхоне наступили в прямом и переносном смысле тёмные времена - электричество у островитян было только от генераторов на пару часов в день. "Жили они тут совсем печально", - говорил мне бурят, хозяин позной в материковом Приольхонье.
15.
О постройке ЛЭП нечего было и думать - проработала бы она до первой сармы: самый злой ветер Байкала зарождается в каньоне перед Ольхоном. Лишь в 2005 году через Ольхонские ворота был уложен подводный электрокабель, по которому на остров стала возвращаться жизнь. Круглогодичное освещение и материковые цены открыли путь массовому туризму, в который за десяток лет оказалось вовлечено едва ли не всё население Хужира. И тот же бурят из позной близ Еланцев на своих ольхонских друзей теперь поглядывает не без зависти.
16.
В руинах завода теперь хипстерского вида кофейня и попытки создать арт-пространство - совсем как в бывших промзонах столиц:
17.
На сопке над руинами завода - церковь Державной иконы Божьей Матери (2007). Если буддизм в Приольхонье не прижился и даже ступу районные власти разрешили построить лишь на необитаемом острове Огой (см. прошлую часть), то православие тут вполне заметно. Тем более Хужир в двунациональном Ольхонском районе превратился в явный русский центр:
18.
И даже упадок рыбзавода не обратил этого вспять. Островитяне, включая бурят, продолжают уезжать на материк за лучшей долей, а волонтёрить на спасении Байкала, проникаться шаманскими энергиями и делать бизнес на турбазах и гостиницах сюда едет народ со всей России. В 2010-х население Хужира стабильно растёт...
19.
В низкий сезон Хужир напоминает Дикий Запад - по длинным пустым улицам ветер метёт глубокий песок и тащит перекати-поле. Взгляд выхватывает заколоченные окна, в тишине скрипят деревянные ставни. Корову или лошадь встретить в это время тут немногим сложнее, чем человека, где-то на горизонте проходящего из переулка в переулок. И совсем не удивишься, если водителем очередной "буханки" окажется вдруг Неуловимый Джо.
20.
Совсем иначе Хужир выглядит в разгар сезона, когда его центральная улица превращается в сплошной базар, густо набитый экскурсионными "буханками" и машинами туристов. Кафе и турбазы, сувенирные лавки, офисы сухопутных, водных и даже воздушных экскурсий, прокаты велосипедов и самокатов, магазины эзотерической атрибутики и национальных музыкальных инструментов, гомон и музыка - более всего Хужир напоминает второстепенные курорты Крыма вроде Малореченского или Черноморского, но только без единого квадратного метра асфальта, с лиственницами вместо кипарисов и с бурятами вместо татар.
21.
При этом, несмотря на глобальность турпотоков, сам ольхонский туризм совершенно не глобализован: большинство турбаз, кафешек и "буханок" держат островитяне. Жизнь их окружена незримой силой, которую можно прогневать, а можно задобрить и наслать на чужаков. Силой этой, Баабло-хара-нойоном является Прибайкальский национальный парк - пожалуй, самая ненавидимая сущность Иркутской области. Созданный в 1986 году, он тянется на 470 километров вдоль Байкала от Култука до Онгурёна, охватывая КБЖД, Листвянку и Ольхон. Столь прибыльные земли ПНП обложил системой пропусков, которые сами по себе недороги (150 рублей с человека на неделю), но в нагрузку имеют оплату стоянок - по 100-200 рублей за палатко-ночь. В своих владениях нацпарк держит целую армию егерей, которые регулярно гоняют и штрафуют туристов. Но турист видит лишь малую часть всей этой деятельности: с каждым годом ПНП всё настойчивее жмёт местных жителей.
22.
Кость в горле для него - населённые пункты и дороги, исключённые из охраняемой зоны, и потому отбирающие у нацпарка монополию на экскурсии, ночлег и общепит. Местные возмущаются "Живём как в резервации!" - основным методом давления стал бюрократический абсурд. Первым делом нацпарк запретил селянам ходить в лес за грибами и ягодами, пасти скот за чертой посёлка и даже собирать пресловутый валежник. Отходы жизнедеятельности здесь девать тоже некуда, но естественно, за свой счёт в город их никто не возит, а просто тайком сливают в Байкал. Страшно вредным для эндемиков стало вдруг окашивание травы, без которого небольшие селения беззащитны перед лесными пожарами - а создать такой пожар, да ещё и местных обвинить в нём, дело нехитрое. Впрочем, про окашивание травы мне рассказывали на Кругобайкалке, где к деревенькам подступает тайга. На Ольхоне окашивать нечего, а вот приватизация участков в этой глуши шла с огромным количеством нарушений, которые теперь
23.
Есть у всего этого и другая сторона: останется ли островитянам место на Ольхоне, если здесь будут мост и скоростное шоссе? На остров тут же зайдёт крупный капитал, вместо колоритных кустарных турбаз вырастут отели с бассейнами, а вместо "буханок" по мысам и урочищам начнут курсировать блестящие автобусы с кондиционерами. Не дал нацпарк и превратиться Малому морю и в "лазурный берег" чиновничьих дач. Так и живут местные под защитой нацпарка и в одновременно в постоянной обороне от него, и что совсем для России не типично - туристам на тяжкую долю не жалуются. Если ПНП подсократит штат юристов-землемеров и наймёт вместо них дворников убирать мусор с пляжей - островитяне будут довольны. Для туриста же вся эта ситуация заметна разве что по самодельности всего и вся да полному отсутствию асфальта. Туристическая сфера Хужира сама по себе колоритна и даже душевна: скажу страшную вещь, но я бы предпочёл, чтобы Ольхон оставался таким, как сейчас.
24.
Ночлег, как вы уже поняли, тут есть на любой вкус и кошелёк, кроме люксовых. В 2020-м мы ночевали в приличной гостинице с дощатыми номерами и удобствами на три комнаты. Заплатили мы по 1000 рублей с человека, да и то после торга скинув цену с 1500, но по сибирским меркам это не ужас-ужас. Как мне показалось, в несезон на Ольхоне ночлег дороже: в это время на весь посёлок работает всего несколько турбаз, хозяева которых живут здесь круглый год и без проблем согласуют между собой цены.
25.
В сезон тут огромная текучка, а многие сотрудники гостиниц на Ольхоне немногим дольше, чем их гости. Туристы тут тоже по-своему колоритны - многих приводит сюда шаманская мода, так что сидя тёмным августовским вечером во дворе турбазы, будешь слушать разговоры об энергиях, аурах и чакрах. Эзотерика у столичных жителей повязана с самопознанием, а самопознание - с романтикой "мира без ненависти", "запрещённости запретов" и феминизма очередной волны. Само собой, не все туристы Ольхона такие, но среди них аномально много гомосексуальных парочек и, почему-то, людей с питомцами в переносках. Когда я пришёл в сувенирную лавку, на пороге которой потерял блокнот со своими путевыми заметками, и узнал, что продавщица его видела, но не стала трогать, на моё слишком уж заметное огорчение она ответила как человек, в современной психологии прошаренный: "Простите меня за то, что я ничем перед вами не виновата!". В несезон, наоборот, среди туристов заметнее всякие байкеры, джиперы да фотографы. Наконец, ещё одна интерсезонная категория туристов - это буряты из-за Байкала, не забывшие о том, что Ольхон для них благословенная земля.
25а.

Местные буряты малочислены и не сказать чтобы очень заметны. Не видел данных по этническому составу Хужира, но "на глаз" их здесь 15-20%, а по-русски они говорят без акцента. Как мне показалось, в туризме буряты держат торговлю с лотков и извоз на "буханках". Полностью русскими, в противоположность, мне запомнились заведения для самих островитян, например продуктовые магазины. Типичный бурятский бизнес в Хужире - сувенирная или рыбная лавка, в которой сидят жена с дочкой, и стоящая рядом машина, из которой муж и сын интересуются, не нужны ли покупателям экскурсии.
26.
Торгуют здесь ловцами снов и бубнами, колокольчиками и шаманскими зеркалами "тали", таёжными снадобьями вроде бобровой струи или медвежьей желчи, плюшевыми нерпами, целебными травами, варганами, бутылками воды из Байкала да украшениями из цветных камней. Всё это отнюдь не только ольхонское - на чароитовые бусы из Забайкалья, омуля из дельты Селенги или саган-даля с Саянских гор здесь всегда найдётся покупатель. Меня привлекла лавка товаров из Монголии, ибо ещё в свой приезд в Иркутск в 40-градусные морозы зимой 2012 года я слышал о том, что носок из шерсти яка превращает летнюю обувь в зимнюю. Пару носков я купил за 300 рублей, и ничуть не жалею - тонкие, мягкие, очень удобные, греют они действительно прекрасно.
27.
Хотя в общем национальное разделение в ольхонском турбизнесе довольно условно. Так, рядом с лавкой товаров из Монголии обнаружилась лавка украшений с приятной тихой музыкой, где русский продавец рокерского вида устроил мне форменную истерику из-за того, что я сфотографировал какие-то бусы.
28.
Общепит на Ольхоне так же отчётливо делится на сезонный и круглогодичный, и приехав в августе, мы предпочитали те кафешки, которые видели открытыми в октябре. Они тоже делятся на две явные, частично пересекающиеся категории - бурятские и омулёвые. С бурятскими всё в общем ясно - позы, шулэны, бухлёры и гигантские чебуреки (любят их буряты так, будто сами придумали!) в Байкальской стороне быстро становятся основной пищей туриста. С омулёвыми всё несколько сложнее - с одной стороны, в кафешках и лавках омуля предложат в любом виде по 200-300 рублей за рыбину. С другой, надо иметь в виду несколько нюансов. Во-первых, маломорский омуль, который считается местной "фишкой", давно оскудел, и по большей части эту рыбу сюда везут... не из Китая или Турции, конечно, но всё-таки из Бурятии. А во-вторых, часто тут за омуля выдают пелядь - они похожи не только формой, размером и цветом белого мяса, но даже и вкусом. Омуль чуть суше и какой-то более изысканный, но отличить двух рыб можно, только если ешь их регулярно или за один присест (как сделали мы с Олей) - пелядь тоже хороша, и турист, которому её подсунут, вряд ли уйдёт разочарованным. Ну а делают из омуля и его эрзаца тут натурально всё вплоть до котлет, отбивных по-французски или салата цезарь.
29.
В общем, если не начинать журналистских расследований, то на Ольхоне хорошо, и я бы сказал, летом он больше подходит для отдыха, а в низкий сезон - для экскурсий.
29а.

Туризм в Хужире концентрируется вокруг похожей на филиал Чарских песков широченной Байкальской улицы и перпендикулярной улицы Пушкина, ведущей от её середины к Шаманке. На самом деле в Хужире много непарадных уголков, где туристическое сводится к редким плакатам мини-гостиниц (фактически - коек при избах хозяев) и телефонам заказа экскурсий:
30.
И даже техника у дома выдаёт скорее рыбака, чем гида:
31.
Техника у хужирских домов вообще колоритна - вот например глиссер на воздушной подушке в разгар лета ждёт зимы, ставшей в последние несколько лет новым "высоким сезоном". Околицами Хужир растворяется в сосновых лесах, а этой улицей мы шли на приём к шаману, который сам был здесь хоть и почётным, но гостем - приехал из Улан-Удэ на тайлган:
32.
На Байкальской есть воинский памятник, обнесённый забором с запертыми калитками:
33.
И рядом с ним Островное лесничество нацпарка. От Хурай-Нура из первой части до Хужира тянется кластер "Тажеранская степь и юг острова Ольхон", а за Хужиром начинается "Север острова Ольхон" - каждый кластер требует отдельного пропуска. Впрочем, сами туристы ходят сюда редко - в основном пропуска оформляют водители "буханок" на всю группу, в высокий сезон наверное с полной загрузкой на месяц вперёд, а в низкий - по числу мест непосредственно перед выездом.
34.
Памятник и визит-центр расположены на восточном конце Байкальской, у крупнейшего в Хужире супермаркета. На западе улица упирается в проходную бывшего ММРЗ. А посередине высится школа, деревянное здание которой построено в 1945 году. Рядом - памятник ольхонским женщинам (2019), в страшные годы перед постройкой этой школы трудившихся на рыбзаводе и промысле.
35.
Перед рыбачкой - подъездок, основная местная лодка 1930-80-х годов. Большая часть сейнеров базировалась в Сахюрте, а на подъездках, достигавших 6 метров в длину и 2 метров в ширину, возили людей, инвентарь и улов между судами и заводом.
35а.

На позапрошлом кадре видна ещё и войлочная юрта - вообще-то жили в таких забайкальские буряты, но туристы же чего-нибудь степного ждут? Рядом с подъездком - ещё какие-то предметы старого быта с легендарной омулёвой бочкой во главе:
36.
Всё это - уличная экспозиция Хужирского краеведческого музея имени Николая Ревякина. Последний был родом из деревни в материковой части Иркутской области, но в 1928 году попал на Ольхон проводить ликбез, да так и связал свою жизнь с Приольхоньем. Вернувшись с войны, Ревякин возглавил Хужирскую школу, в 1953 основал при ней краеведческий кружок, а к 1959 построил на школьном дворе музей и вышел на покой, целиком посвятив себя краеведению.
37.
От самого музея у меня осталось двоякое впечатление - экспозиция его на первый взгляд показалась скудной, но - сколько фотографий отсюда мелькали в прошлых постах? Сопроводительные таблички тут выглядят очень основательными, и всё же в позапрошлой части откровенно фигню про защищающий байкальских рыб от электромагнитных лучей полиэтиленовый корпус кабеля я написал именно по одной из этих табличек. А часть табличек, видимо со времён самого Ревякина (умершего в 1983 году) - рукописные, и прежде я не видел такого ни в одном музее. Колорит маленького старого храма знаний, созданного учителем на заднем дворе ветхой школы - отдельный экспонат, причём один из самых ярких.
37а.

Но в общем всё это - суета.
Как заметил ещё дедушка Рерих, перед местами вроде Гималаев или Гранд-Каньона путника ждёт особенно невзрачная и неприглядная земля. Сквозь копродендрические халупы, покосившиеся избы, туристическую толчею, руины цехов рыбзавода мы выходим к мысу Бурхан - главной достопримечательности всего Ольхона:
38.
Застройка обрывается за сотню метров от обрыва, так что по фотографиям легко подумать, будто вокруг мыса девственная степь. В Байкал вдаются две скалы - двуверхая Шаманка и Богатырь, напоминающий голову в шлеме:
39.
Под обрывами и другие эффектные камни, как например вот эта арочка:
40.
У основания мыса когда-то рос Шаманский лес, в который живые шаманы приходили посоветоваться с деревьями, а мёртвых сжигали вместе со всей атрибутикой. Уж не знаю, какими миссионерами или безбожниками лес был сведён, а его преемники - 13 сэргэ, самых крупных из множества этих ритуальных коновязей, стоящих в Приольхонье тут и там. Рядом с каждым из них - камни-жертвенники, усыпанные монетами и конфетами и политые молоком, водкой, пивом или лимонадом, да странные углубления в земле, куда, вероятно, сливают кровь ритуальных баранов. Туристы ходят прямо сквозь действующий языческий храм, и 13 - вовсе не случайное число...
41.
Буряты - крупнейший народ Сибири (490 тыс. чел.), вот только можно ли считать их единым народом? Скорее это братская семья монголоязычных племён, каждое из которых проделало свой кочевничий путь, когда-то хаживало под знаменем Чингисхана на запад или на восток, и не раз сменило вотчину. Поэтому и старая бурятская религия сложна и многослойна - думаю, нет в мире человека, который смог бы перечислить всех её богов, и нет бурятского рода, чей пантеон был бы универсален. Сейчас эту религию называют тенгрианством, хотя сам этот термин от "родноверия" отличается лишь тем, что нашёл поддержку интеллектуалов и властей в тюркских и монгольских государствах, где древнюю веру степи преподносят как первый в мире монотеизм. Я в своих описаниях бурятской религии буду опираться вот на эту статью и немного на эту. Вершина пантеона - Хухэ Мунхэ Тенгри, дословно Веченое Синее Небо, всемогущий бог-демиург, перед которым равны все вплоть до тенгриев - небесных богов природных явлений, слагающих следующий ярус. Всего их 99 - 44 восточных и 55 западных. Первые считаются злыми, вторые - добрыми, и возглавляет последних Хурмаста, в котором сложно не признать пленённого в Хорезме и увезённого в монгольскую степь Ахура-Мазду. Равными тенгриям по силе, но живущими уже не в небесах были эжины, особенно Мать-Земля Улькэн и владыка подземного царства Эрлен. Ну а детьми тенгриев и эжинов были хаты - владыки мест и покровители людских качеств. Важнейшими из них считались 13 Арын-ноед, то есть Северных владык, которые и жили на Ольхоне. Это были боги не всего мира, а отдельно взятой бурятской земли, хранители её народа, которым присягало на верность каждое племя, пришедшее в эти края. Возглавляли "эжинову дюжину" восточный Буха-нойон (Князь Бык) и западный Шаргай-нойон, знакомые нам по востоку и западу Тункинской долины. Кроме них, на Ольхоне жили восточные хара-нойоны (чёрные владыки) Далайназин (хозяин морей), Бахар (хозяин Байкала), быкоголовый Ажирай (хозяин Лены и страж смерти), охраняющий границу миров Солбон, и западные саган-нойоны (белые владыки) рек - Ама с Ангары, Эмнэк с Иркута, Заргачи с Качуга, Бухэ с Селенги и Бата с Баргузина, и так же белые беркут-первошаман Шубуун и его отец Хан-Хото, хозяин самого Ольхона. Впрочем, от источника к источнику списки 13 нойонов варьируются (например, где-то вместо Шаргай-нойона фигурирует Будан - жена Буха-нойона, где-то - шаман-учитель Награй с севера), но как уже говорилось, шаманский пантеон бурят далёк от единства. Скорее эхирит увидит в этих сэргэ одних богов, булагат - других, хонгодор - третьих...
42.
Обратите внимание, что на двух кадрах разные столбы: в марте 2021 года один сэргэ упал, да так, что исчез бесследно, и шаманы, посовещавшись, вынесли вердикт - надо менять всю систему. К лету старые сосновые сэргэ заменили более мощными лиственничными, а там и упавший столб всплыл изо льда, после чего шаманы успокоились - воля Арын-нойод услышана, а жизнь вернётся на круги своя. Говорят, после освящения новых сэргэ московский Зама-Тенгри вдруг вызвал иркутского нойона на ковёр, чтобы тот срочно улаживал земельный спор островитян с нацпарком. Сама Шаманка высится поодаль, и чаще всего именно её видом иллюстрируется слово "Байкал".
43.
Два утёса высотой 30 и 42 метра да низкая широкая коса, связующая их с обрывом мыса. Спускаться к подножью по старинным поверьям было запрещено даже шаманам, а теперь скалу объявил запретной нацпарк, но никак это не контролирует.
44.
Шаманы и их прихожане прямо говорили нам, что запрет - для нашего же блага, и если спустимся - себе же навредим. Совсем уж самоубийцами шаманы считают тех туристов, которые лазают в пещеру - ближний утёс прошивает почти на уровне сквозной грот воды 12 метров длиной, от 1 до 7 метров высотой и 3-5 метров шириной, который и считается воротами в обитель 13 хатов. Женщинам запрещалось подходить к скале ближе 2 километров, а в её видимости нельзя было ездить на колёсах (только на санях, лодке или верхом) и появляться тем, у кого в роду покойник. Даже Владимиру Обручеву в своё время показать эту скалу согласился лишь некий крещёный бурят. Мы всё-таки спустились, но пещерку просто не нашли (хотя расположение её кажется очевдиным), а фотографии низины я выкладываю с чувством странной тревоги:
45.
В запрете, судя по всему, были свои исключения, так как археологи во главе с Алексеем Окладниковым нашли у Шаманки множество даров, старейшие из которых были оставлены здесь ещё первобытными людьми 5 тысяч лет назад.
45а.

Есть на скале и почти не различимые петроглифы, включая изображения шаманских бубнов и камлающих шаманок. Шаманскую пещеру в своё время ламы пытались превратить в буддийский храм - ещё до миссионерских экспедиций 1910-х в ней висели курильницы и иконы бодхисатв. Наследием тех попыток, скорее всего в 17-18 веках, стала тибетская надпись, читавшаяся ещё в 1960-е годы, но полностью исчезнувшая в наши дни.
46а.

На дальнем утёсе же есть природный "петроглиф" - весьма отчётливый дракон, вскинувшийся из байкальских волн:
46.
С мыса Бурхан открываются красивые виды. Слева, если стоять лицом к Малому морю - Хужирский залив со скалой Богатырь:
47.
С определённых точек совершенно меняющей форму:
48.
Внизу - скалы и сосны на фоне воды. Надо сказать, мыс довольно велик, и все виды с него сняты в разных точках:
49.
Ну а направо до мыса Булук тянется Сарайский пляж вдоль одноимённого залива, который на водоёме потеплее наверное мог бы стать лучшим пляжем России:
50.
Палатки на далёкой дюне, за которой виднеется Хужирский аэропорт в Харанцах:
51.
По краешку соснового леса, обрамляющего пляж, тянется забор из деревянных фигур животных:
52.
С пляжем не связано каких-то особых легенд - тут просто хорошо и красиво. За песком по высокой воде скапливаются тёплые озёра, а поодаль виден остров Харанцы и, кажется, сам мыс Хобой на дальнем конце Ольхона:
53.
По ближней к Хужиру части пляжа проложена экотропа длиной 1,7км, первые 750м которой уже оснастили дощатым настилом:
54.
С пляжа мыс Бурхан выглядит совсем иначе, чем их Хужирского залива или сверху - на карте видно, что он даже не раздвоен, а расчётверён, и вот этого отрога не увидеть от Шаманки.
55.
В августе мы не встречали здесь купающихся, но берег был буквально уставлен сап-досками и лодками, на которые взирали с йога-ковриков одухотворённые девушки с оберегами, варганами и поющими чашами. По осени на пляже - хрустальная прозрачность воздуха и звонкая тишина, а одинокие люди в затянутых капюшонах интровертивно гуляют на холодном ветру за полкилометра друг от друга. Песок колышет чистая байкальская волна...
56.
В следующей части отправимся на север Ольхона.
ПРИБАЙКАЛЬЕ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Большой Иркутск - будет позже.
Ангара
Кругобайкальская железная дорога
Тункинская долина
Окинский район
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
|
Метки: Великая Степь Сибирь природа злободневное дорожное рыбацкое деревянное этнография |
Ольхон. Часть 3: Малое море |
Форсировав в прошлой части Ольхонские ворота, мы вышли к берегу Малого моря. Формально это лишь пролив, отделяющий Ольхон от Приморского хребта на западном берегу Байкала, размером почти идентичный острову (70 на 5-16км). По ощущением - скорее и правда заготовка окраинного моря в том зарождающемся океане, коим является Байкал. И сегодня я расскажу о том, что не влезло в другие ольхонские посты: мыс Хоргой с руинами древней стены, остров Огой с белоснежной буддийской ступой, Песчанка с остатками ГУЛаговских лагерей и фиолетовыми пляжами в лесах мезозойского вида - всех их объединяет неземной фон маломорского пейзажа.
Итак, в прошлой части мы, - знакомая большинству читателей Ольга, юная иркутская автостопщица Аделина и, само собой, я, - решили не идти на Кобылью Голову, отделяющую Ольхонские ворота от Малого моря. Живые лошади, табун которых повстречался нам в степях, одобрительно кивали гривистыми головами:
2.
Здешняя степь, во всей России по засушливости (140мм осадков в год) уступающая разве что Чуйской котловине Алтая, у Ольхонских ворот идёт волнами - высокие гряды в основаниях мысов сменяются низинами у бухточек. С "шеи" Кобыльей Головы нам открылся вот такой пейзаж - склоны Приморского хребта в дымке октябрьского снегопада, флотилия островов в Малом море и острый мыс Хоргой, перечёркнутый стеной у основания:
3.
Островам вторят Курминские мысы, к материку привязанные лишь тонкими галечными косами. Их два - Саган-Хушун (Белый мыс) правее и Юган-Хушун (он же просто Уюга) правее. Летом оба они примечательны жёлтыми маками, зимой - почти всегда чистым благодаря злой сарме льдом, и круглый год - многочисленными гротами, часть из которых сквозные.
4.
Под ногами же раскинулась Хоргойская губа с тонкой песчаной косой, отделяющей от холодных байкальских вод мелкий "лягушатник". Из бухты поднимается грунтовка, накатанная немногим меньше основной дороги от паромной переправы. Дело в том, что паромная переправа не совпадает с ледовой - Малое море замерзает раньше и твёрже, чем горловина Ольхонских ворот, и потому в феврале-марте именно Хоргойская губа становится воротами Священного острова:
5.
С обслуживанием этой переправы, может с тех времён, когда и летом откуда-то отсюда уходили деревянные лодки, видимо связана пара избушек в низине:
6.
Тут надо сказать, что много лет моим главным сезоном путешествий оставалась осень. Вот только ездил я в основном в Среднюю Азию, Закавказье или хотя бы на Дальний Восток, где в октябре если не жара, то вполне комфортная температура. Сибирский маршрут в 2020 году я по привычке наметил на те же месяцы, да вдобавок график его изрядно сместился вправо - в общем, идти с палаткой на Ольхон мы задумали в совершенно не подходящее для этого время. И первую ночь посреди Тажеранской степи мы прятались от морозного ветра в закрывшейся на зиму придорожной позной, а вторую ночь у Ольхонских Ворот - на отключённой от коммуникаций по турбазе. В визит-центре Прибайкальского нацпарка, однако, при получении пропуска я оплатил две ночи с палатками (каждая по 100 рублей), а потому мы сочли своим долгом хоть разок переночевать в чистом поле. Избы не стали искушать нас - в одной оказался земляной пол с торчащими штырями, в другой - гнилые доски, усыпанные мусором, осколками стекла и битым кирпичом. В окнах же целых стёкол не было, ветер спокойно гулял по комнатам, а потому внутри было как бы не холоднее, чем снаружи. Избу мы решили использовать в качестве кухни, а палатку поставить рядом.
7.
Но сперва - сходить на Хоргой в последний час перед закатом:
8.
На кадре выше - мыс Хубун на другой стороне Хоргойской губы, за ним Кобылья Голова (Хори-Ирги) и Улан-Хада как створки Ольхонских ворот, а правее горизонт исчезает в заливе Мухор, продолжающим за Ольхонскими воротами Малое море. Вдающийся в берег на 8 километров, мелководный треугольный Мухор - самое тихое и тёплое место всего Байкала, где летом хорошо купаться, а зимой первым встаёт лёд. На кадре ниже - край Хоргойской губы, и я не стал фотографировать горы мусора: обложивший берег от Култука до Онгурёна платными пропусками и содержащий целую армию злющих егерей Прибайкальский нацпарк совсем не утруждает себя уборкой территорий, природу которых якобы охраняет. Мне же от такого зрелища представлялись не подавившиеся пластиком рыбы и нерпы, а те, кто этот мусор производят. Все эти разомлевшие от шашлыка и пива краснопузые мужички, нерпообразные тётки с бульдожьими брыльями, их визгливый ор на детей за то что не так сидят и не так ходят, да попсовые песни из колонок, сквозь которые прорывается "Пойду поссу!" звонким девичьим голосом... Представив знакомые каждому в России сюжеты "дикого-дикого пляжа", я от всей души возблагодарил осенний ветер за то, что пробирает до костей.
9.
Ветер свистел в развалинах Курыканской стены - редком памятнике дорусского Ольхона, сохранившемся выше травы и земли. О курыканах, древних тюрских кочевниках с верховий Енисея, я рассказывал и в прошлой, и в позапрошлой частях. Хозяева Прибайкалья с 6 по 11 век, курыкане выплавляли в сыродутных горнах первоклассный для своих времён металл и разводили коней, "с морды похожих на верблюда". Три курыканских племени под началом вождей-тегинов выставляли суммарно лишь 5000 всадников, но у китайцев слыли хулиганам (буквально - как "хулигань" они вошли в танские хроники), а у среднеазиатских племён - людоедами. "Курыканское трио" (так можно перевести термин уч-курыкан из древнетюркских рунических надписей) стало общими предками двух крупнейших народов Сибири - бурят (в смешении с пришлыми монгольскими племенами эхиритов и хоринцев) и якутов (в смешении с тунгусо-маньчжурскими аборигенами). Их наследие выделяют в курумчинскую культуру, существовавшую впрочем и после ассимиляции, примерно до 14 века, когда эхириты, хоринцы и пришедшие с юга булагаты окончательно слились в прибайкальских бурят. Курумчинские следы встречаются по всему Прибайкалью, но в сухих степях Приольхонья заметны как нигде. После себя курыкане оставили обломки плавильных печей, железные оружие, упряжь и украшения, петроглифы и рунические писаницы да руины укреплений с примитивной кладкой - "частоколами" вкопанных плит без раствора. Одну из таких руин я показывал в Тажеранах, но главным курыканским сооружением так и осталась Хоргойская стена, тянущаяся через мыс на 180 метров.
10.
Со времён открытия Курыканской стены в 1879 году Иваном Черским, известно о ней немногим больше того факта, что она просто есть. Она как минимум не моложе наших домонгольских храмов и старше стен любого из русских кремлей, но и тут разброс дат - пол-тысячелетия. Тем более неясно, что именно она отгораживала на Хоргое:
11.
Там дальше на камнях есть странные круглые ниши в земле, похожие на тайники или жертвенники. Курыкане не строили замков крупнее дозорных постов, предпочитая быстро перемещаться и атаковать, и скорее всего стена прикрывала их главный на Байкале храм, а не тегинскую крепость.
12а.
Груда камней на вершине мыса напоминает древний мегалит:
12.
А виды отсюда на Малое море и ольхонские берега впечатляют. На кадре выше - целая флотилия из островов Огой (длинный на переднем плане), Замогой (справа) и Ольтрек или Боракчин с характерным белым носом. Ближе - Скала Дьявола: на священных островах, будь то бурятский Ольхон или ненецкий Вайгач, скалы часто похожи на морды и лица.
13.
Ближе неподвижно полыхает каменное пламя:
14.
На выходе из Хоргой-губы же висит похожий на мультяшного кита остров Хубын, летом примечательный своим птичьим базаром. На нём вроде бы тоже сохранились курумчинские руины...
15.
До солнечного утреннего кадра, впрочем, надо было ещё дожить... Только оказавшись у изб, Ольга немного поспорила с Аделиной, твёрдо решившей первым делом поставить палатку: мы настаивали, что это демаскировка для оставленных в избе рюкзаков, а Аделина - что не хочет этим заниматься в сумерках. В итоге, проявив фирменное сибирское упрямство, наша спутница настояла на своём. На Хоргой мы пошли порознь, но даже на полукилометре грунтовки от изб до стены Аделина ухитрилась застопить машину - провожать закат сюда приехали туристы, оказавшиеся её знакомыми из Иркутска. Так, большой компанией, мы пробыли на мысу дотемна, а затем уже втроём долго варили кашу в тёмной избе, поставив на нары горелку. Мы заткнули дырки в окнах чем придётся, и всё же ветер свистел в спину. Я то и дело приносил воды с Байкала, но в основном переминался с ноги на ногу без дела и продрог как мало когда за всю жизнь. В двухместную палатку Аделины мы втиснулись втроём, под спальниками надев на себя все флиски и термухи, а второй палаткой укрывшись сверху, как одеялом. Это всё равно не спасало, и Оля принялась сооружать по краям палатки барьер из картонок и сидушек, где даже мой ноутбук стал высокотехнологичной защитой от ветра. Глубокой ночью мы проснулись от жары - ветер внезапно прекратился. Утром было сложно представить себе вчерашние тучи - над Байкалом светило ласковое солнце. Мы не спеша собирались, с опаской поглядывая на лошадей, спустившихся утром в бухту. И если кто-то спросит, жива ли скотина на этом фото - я могу с ответственностью заявить, что у автора такого комментария конь не валялся!
16.
Солнечный пейзаж Южного Ольхона словно перенёс нас из мрачного ада на чистые небеса. Более того, именно такой пейзаж на Ольхоне каноничен - пасмурными здесь бывают в среднем 48 дней в году, да и те в основном летом. Золото осенних лугов, синева воды, небес и далёких сопок - для наступившей красоты мне сложно подобрать эпитет, кроме "неземная":
17.
А особую красоту маломорским видам Южного Ольхона добавляет похожий на флотилию фантастических кораблей архипелаг, этакая свита священного острова. Крупнейший спутник Ольхона - Огой, вытянутый на 3 километра параллельно его берегу. На карте, впрочем, он имеет форму скорее креста с 700-метровой перекладиной, и только взойдя на Кобылью Голову, мы долго пытались понять, что за яркий белый огонёк блестит на крестовине. Со школьного курса географии России я знал, что буряты - буддийский народ, ну а на самом деле всё, как водится, куда сложнее: буряты - двоеверы, вот только пропорция буддийского и шаманского в их культуре совсем не однородна, отчётливо меняясь с запада на восток. В Забайкалье буддизм превалирует над шаманством, в Прибайкалье же наоборот - эхирит-булагаты воспринимают "жёлтую веру" как китайское заимствование в противоположность своему исконному шаманству. По всему Приольхонью в каждом поле мерцает ленточками сэргэ (ритуальная коновязь) и совсем нетрудно повстречать шамана. Дацана в Ольхонском районе нет до сих пор, и даже маленькую Ступу Просветления в 2005 году районные власти разрешили построить лишь на необитаемом острове:
18.
Строили пагоду, в прямом смысле слова, всем миром - волонтёры на Огой приезжали не то что из Екатеринбурга или Москвы, а даже из Лондона и Нью-Йорка. Ещё больше впечатляет список предметов, заложенных в основание ступы: 750 килограмм буддистских текстов, 2,5 тонны мантр, частицы волос и крови Будды Шакьямуни от 5 тибетских и непальских учителей, частицы мощей (одежды и волос) 40 тибетских тантристов, различные минералы и раковины, горсти земли из Иерусалима, Иордании, Египта, Мексики, севера России и Подмосковья, вода из всех океанов, ржавые корпуса авиабомб двух мировых войн, зерно пшена и гречки, колющие орудия (вилы, коса, кайло, щипцы, топор, пила и сабля) и бронзовая статуэтка Трома Нагмо - величайшей из дакини, которую индуистиы отождествляют с Шакти - женой самого Шивы... Видимая натурально со всего Малого моря, Огойская ступа напоминает башню-излучатель, корректирующую над Священным островом энергии тонкого мира :
19.
За Огоем видны облепленный турбазами берег, Курминский мыс и скала Шарга:
20.
Да похожий то ли на военный корабль, то ли на крокодила двухцветный остров Боракчин между ней и следующей скалой Борга-Даган со старинным памятным знаком. Над островами блестит свежим снегом Трёхглавый Голец (1746м) - высшая точка Приморского хребта:
21.
Снегом замело и дальние склоны. Если и стоило из Иркутска куда-то ехать с палаткой в конце октября - то только на Ольхон: здесь всегда существенно теплее, чем на материке, а снег лежит не каждый год. На фоне морозных далей темнеет Замогой - третий по величине остров Ольхонского архипелага, отмеченный неразличимым издали православным крестом. Гиды расскажут, что буряты обходят этот остров стороной, ибо в прошлом там был лепрозорий. Последнее на самом деле не так уж и невероятно - муибишен ("худая хворь"), как буряты называли проказу, была бичом Ольхона с давних времён, а десятилетняя эпидемия в начале ХХ века выкосила 2/3 населения острова. Юрту-лепрозорий тут держал едва ли не каждый улус, но возможно, для самоизоляции остров использовался в далёкие времена, когда муибишен пришла сюда впервые. Буряты правда держались подальше от Замогоя, поэтому остров облюбовали ещё более коренные жители Байкала - нерпы, лежбище которых образуется здесь в первой половине лета.
22.
Но к августу нерпы уходят в Большой Байкал - в маломорской воде им становится жарко. Глубина Малого моря больше, чем у подавляющего большинства российских озёр - практически ладожские 210 метров. Но что это такое в сравнении с 1,5 километрами Байкала? Не только Мухор, но и всё Малое море - самая тёплая и тихая часть великого озера. А как результат - и самая грязная: с закрытием Байкальского ЦБК на Транссибе главными "отравителям Байкала" стали турбазы и коттеджные посёлки, владельцам которых на полноценные очистные средств не хватает, а на взятку контролирующим органам - вполне. Сюда же бесчисленные лодки и катера, да и просто отдыхающие на пляжах - Байкал в наше время засоряют не химические стоки, а банальные продукты человеческой жизнедеятельности, моющие средства да бензин. Кипячёную воду из Малого моря пить пока ещё можно спокойно, а вот сырую, в отличие от Большого Байкала - не стоит...
23.
Так и шли мы по сухим травам, любуясь синевой и золотом - на следующую ночь планировалось остановиться в Хужире, до которого от Хоргойской губы чуть меньше 30 километров. Хотя бы 20 из них мы предполагали проехать - в 7 километрах от изб зимняя и летняя дороги сходятся. Недалеко от развилки, над тёплым Семисосенским заливом вместо 7 сосен стоит одна, но явно чтимая берёза:
24.
На мысу - неожиданно, русское кладбище, причём явно старое. Может, здесь покоится часть 360 погибших на двух пассажирских судах, в 1901 и 1902 годах разбитых сармой о маломорские скалы?
25.
Шустрая и не обременённая фотоаппаратом Аделина быстро обогнала нас, так что к трассе мы шли по её босым следам в глубоком мягком песке. Если с материковой стороны к Ольхонским воротам подходит ровный асфальт, то по острову тянется ухабистая грунтовка, которую терпеть не могут водители иркутских маршруток. На фоне тёмных сопок машины с пыльными хвостами напоминают кометы, и едут всегда сериями по мере подхода паромов:
26.
Аделинка умчался в Хужир первой же проезжавшей мимо машиной, а вот мы с Ольгой простояли битый час и в конце концов уехали на маршрутке. Вид сквозь её грязное стекло на более чем типичную для Маломорского берега конструкцию из мыса, бухты, песчаной косы и озерца за ней:
27.
В Хужире первым делом мы пошли туда, где нас ждала Аделина - некие её друзья, а друзья у неё все люди творческие, строят на окраине Хужира резиденцию "Филоксения" ("Чужелюбие"). Как я понял, в итоге должно получиться некое сочетание творческой колонии и коммерческой турбазы, и конечно, пожить в интересном месте да пообщаться с интересными людьми я был рад. Вот только прибыли мы с Ольгой неудачно: сами хозяева куда-то ушли, и вместо них навстречу нам вышла форменная баба-яга, у которой глаза не сильно отличались от кожи. Как я понял, это была дальняя родственница кого-то из хозяев "Филоксении", приехавшая погостить из далёкой уральской деревни. Диалоги с ней складывались примерно такие:
-А ты вообще кем работаешь, что в отпуске так катаешься?
-У меня нет отпусков, это и есть моя работа. Я путеводители пишу.
-Как-как ты сказал? Какие водители?
-Ну книжки такие для туристов...
-А зачем туристам книжки?
-Ну чтобы знать, куда поехать. Я езжу, смотрю, где что интересное есть, пишу...
-А это что, кому-то интересно, что ли?
-Ну раз мне за это деньги платят, то наверное да...
-Я такого не понимаю, книжек не читаю вообще. Такой здоровый мужик, а какой х...нёй занимаешься! Располагайся в доме и пойдём накрывать теплицу.
Оле и Аделине работа тоже нашлась - нужно было копать огород, пока хозяйка коз доит. И поймите правильно, я ничего не имел против того, чтобы помочь людям по хозяйству, но только почему моё уважение к их труду должно натыкаться на их неуважение к моему? Точки над i расставила кошка, с которой я столкнулся в дверях, занося рюкзак.
-Так, а тут кошки живут? Я ночевать в доме не смогу, у меня аллергия.
-Аллергия у него! Потерпишь!
-Там сильное удушие, это опасно для жизни.
-Да нет у тебя никакой аллергии, это ты сам себе всё придумал.
В общем, на этом я понял, что даже в палатке во дворе ночевать у меня нет никакого желания, и ушёл осматривать Хужир и искать свободную турбазу...
28.
Вечером придя за за рюкзаками мы попрощались с Аделиной - с утра мне предстояло ехать на Северный Ольхон, а ей - домой в Иркутск. Но всего лишь год спустя я останавливался в избе Аделины в Иркутске, а дальше дорога и вовсе свела на другом острове Путятин...
29.
О самом Хужире я напишу в следующей части. Пока же - несколько бессвязных зарисовок в высокий сезон, когда Приморский хребет скрыт не метелью, а дымом пожаров в далёких лесах:
30.
31.
32.
Основной целью второй поездки на Ольхон в 2021 году в разгар сезона был тайлган - шаманский молебен, о котором я так же расскажу отдельно. Но ещё одно преимущество высокого сезона - возможность лодочных экскурсий, на которые в осеннем малолюдии просто не набирается достаточно желающих. Классический водный маршрут Ольхона - Треугольник, вершинами которого служат знакомые нам Хужир и Огой и незнакомый Сурхайте-Нур. Последний расположен материке, в лиственничном лесу, и представляет собой целебный источник, в легендах местных гидов когда-то разделённый магией шамана на "мужской" и "женский" рукава. Вода в них, вроде как, и правда отличается по вкусу.
33.
Вот только и август - не лучшее время для водных экскурсий. Во-первых, полбеды в Москве переживать или в Киеве ёрничать о горящей Якутии, и совсем иное дело - оказаться в дыму этих пожаров за тысячи километров от них. Во-вторых, к августу пустеет лежбище нерп на Замогое, куда надо ехать в июне-июле. Сама экскурсия длится целый день и стоит 2500 рублей, но отдавать 5000 на двоих за то, чтобы смотреть на дым, я счёл нецелесообразным.
34.
Но многие, похоже, думают иначе, и в летнее время Малое море просто кишит экскурсионными лодками и катерами, иные из которых в прошлой жизни вполне могли быть сейнерами Маломорского рыбзавода. За какие-то совсем небольшие деньги можно провожать закат в волнах Байкала, а за очень изрядные - сходить в круиз вокруг Ольхона и даже на Ушканьи острова в "город нерп".
35.
А за 1500 рублей можно съездить в сухопутную экскурсию на "буханке" по Северному Ольхону, и я решил, что в низкий сезон надеяться на автостоп там не стоит, а любой другой платный подвоз выйдет всяко дороже. В высокий же сезон на Север Ольхона соваться просто не стоит - говорят, на стоянках у достопримечательностей там скапливаются в это время десятки "буханок", а к фотогеничным местам, как в Европе, Америке или Китае, выстраиваются очереди. Да и осенью хрустальным утром Хужир покинула спонтанная колонна из нескольких машин (включая одну легковушку), то и дело нагонявших друг друга на маршруте.
36.
Обратите внимание, как поменялся пейзаж - сухая степь Южного Ольхона занимает на самом деле дай бог четверть острова. На северо-восток Ольхон повышается и уходит за пределы "слепой зоны осадков" под Приморским хребтом. К Хужиру подступают роскошные боры с обилием одиноких разлапистых сосен, а за первым лесом встречают аэропорт и деревенька Харанцы в сотню жителей, большинство из которых буряты:
37.
В историю Ольхона Харанцы вошли ещё и тем, что в 1923 году здесь был построен единственный буддийский храм в истории шаманского острова. Отчаяние и растерянность после "худой хвори" были явно подходящим временем для переоценки мировоззрений - в 1910-х годах на Ольхон зачастили буддийские миссионеры. Руководил борьбой с последним оплотом чистого язычества сам Агван Доржиев, да и царское правительство было тут на его стороне. В Харанцах и Хужире появились ступы, одну из которых уже на заре советской власти сменил полноценный дуган. Ну а дальше оказалось, что шаманисты, буддисты, христиане - перед безбожниками все равны...
38.
Не на месте ли того дугана теперь стоит сэргэ?
39.
Сами Харанцы ничем в общем не примечательны. Туристов здесь завозят на высокий мыс, оборудованный необычным деревянным подиумом для парковки. Название Харанцы относится к деревне, мысу, острову с кадра выше и бухте с кадра ниже, примечательной мысом Харалдай и островами Лев и Крокодил:
40.
Иначе, соответственно, Модото (ближе) и Ядор (дальше):
41.
Летом они представляют собой птичьи базары, но по осени над Нерин-Далайном (Узким морем) тишина. Обработать такой вид каким-нибудь фильтром - и можно продавать с аукциона как неизвестную картину Рериха:
42.
Ещё больше впечатляют леса совершенно мезозойского вида - хвойные и растущие почти без травы, на голом песке с подстилкой из опавших иголок:
43.
Именно в лесах дороги особенно ужасны. Но асфальт к северу от Хужира - это страшный сон местных жителей: ведь тогда местные "буханочники" лишатся монополии катать туристов.
44.
По пути остаётся крупная по ольхонским меркам, но совсем не запоминающаяся деревня Хулгай, а за следующим лесом, в 18 километрах от Хужира, "буханка" привозит в Песчанку. То есть деревню Песчаную на Песчаном пляже у Нюрганскую губы, которую тоже по инерции называют Песчаной.
45.
Эпидемия проказы заставила иркутского генерал-губернатора обратить внимание на далёкий остров. Тогдашних силовиков не отпускали, видимо, фантомные боли по Сахалину, знаменитую каторгу на котором пришлось свернуть из-за появления на острове русско-японской границы. Ольхон стал явным кандидатом на роль Нового Сахалина, и в 1913 году на Священном острове начались изыскания для создания каторжной тюрьмы. Одним из главных вопросов, препятствующих её созданию, впрочем был "а чем каторжникам тут заниматься"? Ответ нашли в 1932 году Советы, решившие сделать из Священного острова Непотопляемую плавбазу. Хужир вырос вокруг Маломорского рыбзавода, ну а в Песчанке была построена зона, где для рыбаков делались лодки и бочки, сети и снасти, да работал консервный цех, благополучно сгоревший при Хрущёве. Всего зона включала 5 мужских и 3 женских барака с общим населением в разные годы от 200 до 1200 человек. Преимущественно - дисциплинарных: попадали сюда "по закону о трёх колосках", за опоздание на работу и другие подобного рода провинности. Уголовников в современном понимании тут не было вообще, а единственным политическим оказался выпускник мединститута Василий Кисеев, да и то скорее всего только потому, что зоне был нужен фельдшер. В распоряжении колонии были колодец, баня, смолокурня и бондарня, пять овчарок, стадо коров, табун лошадей и единственный на Ольхоне грузовик с дровяным мотором, ходивший в Ташкай к рейсам ледокола "Ангара" (см. здесь), который был тогда основным транспортом до Ольхона. К самым страшным островам Архипелага ГУЛаг Ольхон явно не относился - умирали здесь немногим чаще, чем на воле, бежать пытались даже не каждый год, а многие и позже остались работать на Маломорском рыбзаводе.
46.
Освободились или уехали в другие лагеря зэки по большей части ещё при Сталине - в 1949-52 годах, когда с Балтики на Байкал несколькими партиями прибыли литовцы. Были это уже не каторжане, а ссыльные, по-советски говоря - спецпереселенцы, в основном из родни "лесных братьев". Так на Ольхоне сэргэ встретились с крыжюсами:
46а.
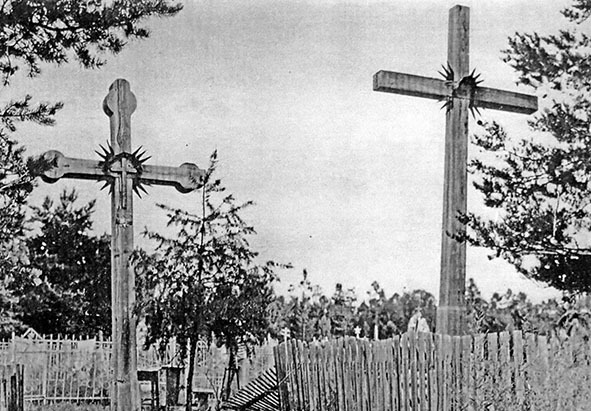
Фрагменты последних теперь можно увидеть в музее Хужира:
47а.

К концу 1950-х литовская община разрослась до 200 человек из 3-4 тыс. тогдашнего населения острова. Самой известной из узников Ольхонаса можно считать Гражину Ручите - пианистку из Аникщяя и будущую жену небезызвестного Витаутаса Ландсбергиса, возглавлявшего независимую Литву до первых выборов и отметившегося в Европарламенте 21 века как самый громкий русофоб. На Ольхоне девушка прожила всего год (хотя и успела поработать своими пальцами в сетевязальном цехе), а затем смогла перевестись в другую общину спецпереселенцев в городке Зима. К концу советской эпохи литовцев на Ольхоне практически не осталось, а в 1990 году специальная делегация и могилы увезла поближе к дому.
47.
Но руины лагеря ещё надо разглядеть. В первую очередь Песчанка - это, конечно, пески:
48.
И причудливо растущие в них деревья - сосны, можжевельники, лиственницы:
49.
50.
Маломорский пейзаж же напротив Песчанки особенно зрелищен - синие горы идут мощными обрывами, и за розоватой скалой Зундук начинается Зама - узкая степь у подножья, последнее ровное место на побережье.
51.
Где-то там, в 40 километрах от нас, стоит Онгурён - бурятское село (400 жителей), название которого красноречиво переводится как Конец Дороги. Электричество там подаётся 2 часа в день от генератора, на улицы частенько заходят медведи, а среди изб стоит невесть как уцелевший локомобиль середины ХХ века. Последняя же точка, до которой можно доехать тем берегом - ещё 40 километрами дальше: в устье речки Рита высится мыс Хыр-Хушун, в русском варианте прозаично ставший Рытым. На самом деле это там было едва ли не самое святое и запретное место старинных бурятских культов: женщинам запрещалось подходить к мысу ближе, чем на 7 километров (у Шаман-скалы на Ольхоне, для сравнение, такой запрет был лишь на 2 километра), мужчинам - заходить в распадок Риты, и даже у шаманов был свой стоп-знак в виде одинокого кедра. Долина Риты считалась домом Ухэр-нойона - повелителя всех байкальских ветров, самого доброго и самого страшного бога для тех, чья жизнь зависела от рыбного улова. Вероятно, с ним эхирит-булагаты отождествляли Чингисхана - по крайней мере Рытый входит в список мест, где ищут его могилу. За Онгурёном на двести километров тянется безлюдный неприступный горный берег, над которым, но с другой стороны гор, у перевала Солнцепадь зарождается Лена. Раньше теми берегами можно было полюбоваться с рейсовой "Кометы" Иркутск - Нижнеангарск, но и её пару лет назад отменили.
52.
Далёкие горы на кадре выше - уже за Большим Байкалом, в Бурятии. Из Песчанки виден мыс Хобой - северная оконечность Ольхона у границы Малого моря:
53.
Проходящее через Хобой и Песчанку кольцо экскурсии я оставлю на отдельный пост. Обратно мы ехали по тем же лесам мезозойского вида, успев на ухабах сдружиться с водителем и друг с другом. Я бы не удивился, если б на дорогу вышел флегматичный динозавр, но повстречался нам лишь его двоюродный дальний потомок - глухарь:
54.
Чуть ближе к Песчанке по пути туда Оля запомнила неожиданно симпатичный резной туалет (!), и на обратном пути срочно потребовала остановить "буханку".
55.
Конечно же, все всё понимали - даже не глянув на заведение, мы побежали фотографировать закат, следом подтянулись и другие экскурсанты, а там и шофёр не упустил момента покурить. До поездки Оля много говорила мне о фиолетовых песках, которые видела во время своего прошлого визита. О таком не слышали ни гид, ни работники музея, и мы уже было смирились, что это сон или аберрация памяти - как вдруг оказались на фиолетовом пляже! Ведь это не водоросли и не налёт, а сам песок такого удивительного цвета:
56.
Маломорским закатом и закончу сегодняшний рассказ:
57.
А в следующей части погуляем по Хужиру.
ПРИБАЙКАЛЬЕ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Большой Иркутск - будет позже.
Ангара
По Ангаре. Братск - Балаганск.
По Ангаре. Иркутск - Балаганск.
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная ветка и Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Тункинская долина
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлик.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
|
Метки: замки-крепости невольничье Великая Степь Сибирь природа дорожное рыбацкое этнография курортное |
Ольхон. Часть 2: Ольхонские ворота |
Ольхон - крупнейший в России пресноводный остров (730 км²), закономерно омываемый водой Байкала - главного озера страны. Живёт здесь 1740 человек и 13 богов: как Вайгач для ненцев, для бурят Ольхон подобие Олимпа, обитель самых могущественных духов Земли. Попадают туда через Ольхонские ворота - узкий скалистый пролив, отделяющий остров от показанной в прошлой части Тажеранской степи. И сегодня полюбуемся Ольхонскими воротами сверху, переправимся через них на пароме да погуляем среди пустошей на той стороне, вспомнив, как за 1000 лет сменились на Ольхоне три народа - курыкане, буряты и русские.
За Бродягой с сумой на плечах, что с 2013 года стоит на перевале, где закончили мы прошлую часть, Ольхонский тракт снижается, словно глиссада аэропорта. В двух с половиной сотнях километров от Иркутска дорога упирается в маленькое разноцветное село Сахюрта (260 жителей) на берегу Байкала:
2.
Вернее, никто из местных так его не называет, да и любому туристу, хоть минимально готовившемуся к поездке, селение на проливе известно как МРС:
3.
От этой аббревиатуры пахнет рыбой - как сын моряка, я детства знаю о мэрээсках ("малых рыболовных сейнерах" вроде того, что стоит в Музее мирового океана в Калининграде), но в данном случае МРС - это моторно-рыболовная станция. Или, ещё вариант - Маломорская рыболовная станция, в общем - порт промысловых судов, среди которых к концу советской эпохи были даже достаточно крупные сейнеры. Советская власть взялась делать Приольхонье центром байкалского рыболовства, и в 1930-х годах на Малом море выросла целая система из рыбзаводов в Хужире, Онгурёне и Сарме и, с 1943 года, базы промысловых катеров в Сахюрте. В постсоветские годы, конечно, экологические и экономические причины погубили предприятие, и всё же о былом напоминает музей рыболовства, открывшийся в 2018 году в местной библиотеке:
4.
Он стоит на Центральной улице, которой Сахюрту пересекает Ольхонский тракт. На ней же - самый скромный памятник Великой Отечественной, что я когда-либо видел:
5.
Нынешний МРС не столько село, сколько конгломерат турбаз, среди которых обычные дома едва заметны, а зачастую вплетены в турбазы как хозяйское жильё:
5а.

На турбазе и было решено заночевать - искать по окрестным сопкам место для палатки не хотелось, а утром я рассчитывал как можно раньше пойти на паром. Спросить, где тут можно остановиться недорого, мы зашли в магазин, и продавщица тут же вызвонила свою знакомую, которая вскоре ждала нас у ворот через пару кварталов. Её турбаза, название которой я не запомнил, в конце октября официально уже закрылась на зиму, но фактически это выражалось только в отсутствии воды (кроме рукомойника на улице), удобств городского типа и столовой, за окном которой на клеёнчатых столах печально стояли солонки. Свет, однако, горел, электрические обогреватели в комнатах включались, а турпоток к Ольхону хоть и усох по осени до тоненького ручейка, но не прервался совсем - по 300-500 рублей с носа мы были здесь даже не единственные постояльцы.
6.
Ну а расположившись, перекусив и полюбовавшись с крыши турбазы на берег Базарной бухты, мы поняли, что дотемна остаётся ещё три-четыре часа. Которые хотелось, конечно же, потратить с толком:
7.
Маршрут я сочинил мгновенно, хотя в общем-то и понимал, что он может оказаться слишком смелым - в 7 километрах от Сахюрты высится гора Тан-Хан (989м), высшая точка Тажеранской степи, а за ней скрыта Долина Каменных Духов со множеством причудливых скал. Я прикинул, что налегке мы за пару часов достигнем вершины, полюбуемся оттуда Байкалом и Ольхонскими воротами, и дальше, если позволит время - навестим каменных духов, а если нет - то пологими склонами спустимся к Бродяге и поймаем машину до МРС. Сказано-сделано, и вот уже мы втроём, - я, привычная Оля и жизнерадостная иркутянка Аделина, - брели по просёлке, постепенно отходя от трассы и села. Я рассказывал Аделине о том, что не поделили с азербайджанцы и армяне - новости о Второй Карабахской войне дошли до меня как раз тогда, когда Аделина решила проведать нас на съёмной квартире в Иркутске, и с той поры мы успели сходить на Кругобайкалку, а далёкая война превратиться в триумф "Байрактаров". Темой Закавказья же я пропитался в 2020-м с ног до головы, по итогам 3-месячного путешествия в последний доковидный год написав крупнейшую серию постов в истории своего блога. Рассказом о делах кавказских я увлёкся так, что память моя теперь даёт причудливую аберрацию - когда нас подхватил грузовичок с фермерского вида четой в кабине, я запомнил, будто это азербайджанцы везли нас над Каспием по выжженным холмам Апшерона, и только разумом теперь могу себе напомнить, что на самом деле ехали мы с бурятами по сопками Тажеран над Байкалом.
8.
Грузовик скакал по колдобинам, мы вперемешку с мешками зерна катались по его кузову, а на крутых поворотах было страшно вылететь за борт да укатиться прямиком в Байкал. Небо же заволокли низкие тучи, не очень-то характерные для Приольхонья, где пасмурно бывает в среднем 48 дней в году, а снег выпадает не каждую зиму. От этих туч сумерки явно наступали досрочно, и мы поняли, что в Долину Каменных Духов нам уже не успеть. Грузовичок ехал на ферму у подножья Тан-Хана, и на высшей точке его дороги мы сошли на довольно крутой и лишённый троп склон:
9.
Но когда на ледяном ветру да под свинцовым небом карабкаешься наверх по холодным камням, совсем не удивляет перевод бурятского названия этой вершины - Князь Тьмы:
10.
Справа взгляд упирается в мрачный скалистый мыс Орсо:
11.
Слева же как на ладони Ольхонские ворота, за которыми и сам Ольхон распластался тёмной степью:
12.
Ближе виднеется переправа, по которой полз далеко не последний в тот вечер паром:
13.
На карте Ольхонские ворота выглядят характерной "ёлочкой", верхушка которой смотрит в Большой Байкал, а по мере приближения к Малому морю всё шире расходятся ветки заливов. На тажеранском берегу это облепленные турбазами Базарная бухта, Коркут и Мухор, на ольхонском - пустые и мрачные Загли (кадр выше) и Хул. Между ними в пролив вдаётся широкий и довольно унылый Уляхтинский полуостров, но куда заметнее отделяющая Ольхонские ворота от Малого моря длинная Кобылья Голова с острым мысом Хорин-Ирги. За ней просматривается целая свита мелких островков-спутников: справа налево длинный бугристый Огой (второй по величине остров в архипелаге); круглый, как мультяшный кит, Хубын; крошечные скалы Борга-Даган и Шарга по разные стороны похожего на крейсер острова Ольтрек и выглядывающий из-за левого края кадра мыс Уюга, привязанный к берегу лишь песчаной косой. Над островами же стоит стеной Приморский хребет, тянущийся от самой Листвянки, и в снежной дымке скрывается Трёхглавый Голец (1746м) - его высшая точка:
14.
Всё это - самое опасное место Байкала, ибо ещё левее, за островами Большой и Малый Тойнак, хорошо видно устье Сармы. По ней в 1643 году спустились, перевалив через Приморский хребет из Верхоленска, 75 казаков под началом Курбата Иванова, первыми из русских людей пившие воду Байкала. Оттуда же, с верховий Лены, через хребет переваливают и холодные ветры Якутии, устремляющиеся в аэродиномическую трубу узкого Сарминского каньона и высоких Ольхонских ворот. Так рождается сарма - самый злой ветер Байкала, разгоняющийся до 40, а порой и до 60 м/с (более 200км/ч - это половина скорости в стенках смерча!), причём - за считанные минуты. Сарминский каньон похож на Большую пушку из каких-нибудь космоопер: несколько часов над ним сгущаются облака характерной грибовидной формы, а затем происходит "открытие ворот" - в тучах возникает просвет, и в течение получаса уарган буквально выстреливает в Малое море. Налетая внезапным ударом, однако, зимой сарма может задуть и на пару недель, сметая весь снег с здешних сопок и ломая деревья на них. 15 октября 1901 года сарма разбила о Кобылью Голову буксир "Яков", тянувший из Нижнеангарска пассажирские суда "Потапов", "Могилёв" и "Шипунов", а без недели год спустя таким же образом погиб буксир "Александр Невский" с караваном рыбацких барж, возвращавшихся с путины. В бешеных волнах и ледяной воде никто не выжил - в катастрофе 1901 года погибло 178 человек, в 1902-м - 172 человека, а уж сколько рыбацких лодок выстрелы Большой пушки отправили на дно - известно разве что 13 владыкам... Туристам же аэродинамическое чудовище, внезапно, друг - ведь даже в самые снежные зимы от устья Сармы до Ольхонских ворот можно любоваться чистым байкальским льдом с его неповторимой текстурой.
15.
С другой стороны от Князя Тьмы, среди скал Долины Каменных Духов, покоится Вещий Дед, или старец Варнашка - так русские прозвали бурятского странника Бернашхэ из Тункинской долины, на прошлом рубеже веков оставившего множество пророчеств. Одно из них гласило, что скоро в России будут убивать богатых, а выживут лишь бедняки, и что Белого Царя похитят каторжане и убьют вместе с семьёй в далёких горах - хотя наверное о таком развитии событий можно было догадаться задолго до 1917 года. Другое пророчество умершего в 1924 году Варнашки гласит, что ровно сто лет спустя после его смерти через Ольхонские ворота будет воздвигнут железный мост, и тогда придёт беда из-за моря на востоке, а бурятам придётся искать себе новый дом в Монголии. Байкал же в пророчествах Вещего Деда и вовсе должны вот-вот вычерпать и перелить в другое место, чтобы со дна его добывать некое "чёрное золото" - но тут уже напрашивается вопрос, где тут пророчества бурятского старца, а где - приписываемые ему страхи наших дней... Мы же, спустившись сквозь огонь осенних лиственниц, были подхвачены на склоне тем же самым грузовичком и вскоре грелись на МРСовской турбазе.
16.
А по утру покинули её да побрели вдоль тракта на паром. Турбазы заполнили руины моторно-рыболовецкой станции, а место промысловых катеров у её причалов давно уже заняли прогулочные:
17.
МЧСовская "подушка" ждёт зимы - спасать рыбаков, отрезанных от берега "становыми трещинами":
18.
Но самые интересные суда в Базарной бухте появляются летом. Вот например "Галсан", построенный в 2011 году в Иркутске круизный катамаран VIP-класса, вмещающий целую микро-флотилию из сап-досок, скутеров и моторной лодки и периодически пугающий жителей прибрежных селений дискотеками и фейерверками на воде.
19.
Лучший вид на МРС и Базарную бухту открывается с мыса, хорошо заметного на кадре №2. Сам он на имеющихся у меня картах не подписан, но предположу, что именно к нему первоначально относилось название Сахюртэ - Кремневый Яр. Нависающий над переправой, мыс успел обрасти памятниками, заметнее всего среди которых стела "Байкальским Воздухоплавателям", поставленная в 2012 году в память о поёлте воздушного шара "Святая Русь". На нём в 2007-м Валентин Ефремов и Владимир Исайчев, впоследствии тем же транспортом впервые в мировой истории покорившие Северный полюс, оседлав сарму успешно пересекли Байкал от мыса Зама на Малом море до Усть-Баргузина на восточном берегу. Впрочем, просто перелететь через Байкал - может и сложно, но интересно разве что ценителям воздухоплавания, поэтому отдельно табличка поясняет, что полёт проходил сквозь аномальную зону.
20.
Поодаль - чёрный обелиск погибшим рыбакам, а на других склонах мыса ещё и пара могилок. В них покоятся, видимо, те, чьи тела сарма выбросила на берег.
20а.

С мыса открывается и лучший вид на Ольхонские ворота в сторону Сармы, и отсюда сам пролив кажется пробитым её ветром. За "нашим" мысом просматриваются мысы Тыхтэ и Уляхта, а поодаль - Кобылья Голова, при некоторой фантазии действительно похожая на конский череп:
21.
С другой стороны - вид поперёк пролива в самом узком (2,2км) и пожалуй самом невзрачном его месте:
22.
Но именно здесь проходит путь Ольхонской переправы. Под мысом - полноценный терминал с несколькими причалами, шлагбаумами, стоянками и удобствами. Поздней осенью на пристани тихо и пусто:
23.
И совсем иначе то же место выглядят в высокий сезон:
24.
А в выходные своего парома прождать можно и вовсе несколько часов - вот так на ольхонской стороне переправы выглядит субботнее утро в начале августа. В понедельник утром, впрочем, мы без проблем уехали первым же рейсом, да и автобусы перевозят вне очереди:
25.
В это время тут, конечно же, развёртывают позные в юртах и сараях да ларьки с сувенирами:
26.
А так же дарами тайги, будь то брусника, сахан-даля с Саянских гор или прежде не знакомая мне трава "верблюжий хвост", по-научному карагана гривастая. Всё это ещё и за вполне вменяемые деньги - пипл может и схавает, да только конкуренция бешеная, словно норов сармы.
27.
А вот рыбов, которых я сам опознать не могу, Байкал в своей прозрачно-чёрной воде только показывает. Но думаю, не будете спорить, что зрелище это красивое:
27а.
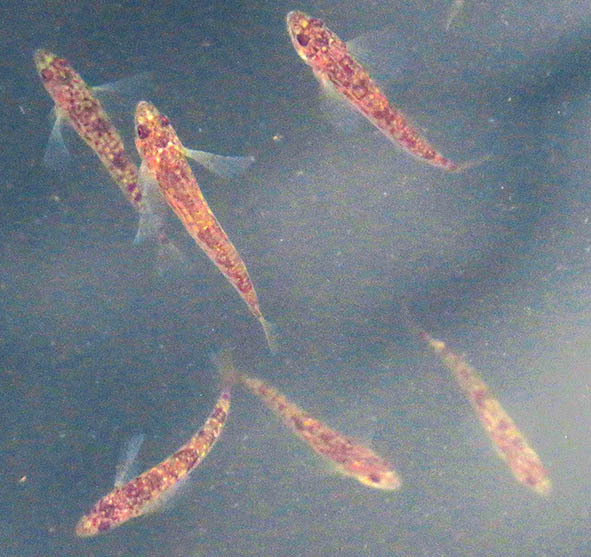
Не знаю точно, когда на переправе паромы пришли на смену лодкам, но ещё в 1980-х здесь работали танкодесантные баржи вроде тех, что я не так давно показывал в Приморье. В наши дни у переправы два сезонных маршрута и четыре режима работы. Самое трудно время на Ольхоне - конечно же, межсезонье, когда на остров нечем переправить машину. В январе-феврале, пока лёд тонкий, по нему возят пассажиров "Хивусы" - скоростные катера на воздушной подушке, а в декабре-январе и апреле-мае, пока в воде плавают отдельные льдины, работает катер ледового класса. В феврале-марте севернее Кобыльей Головы прокладывается автодорога по надёжному льду...
28а.
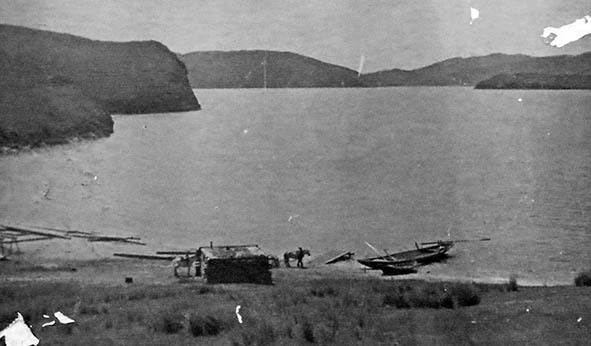
...ну а с середины мая по конец декабря на переправе работает тройка паромов, делающих рейсы каждые 15 минут с 7:00 до 23:45 летом и с 8:00 до 21:00 поздней осенью. Что особенно удивительно, переправа на 100% дотируется из бюджета - паромы бесплатные не только для пассажиров, но даже и для машин!
28.
Три судна на первый взгляд кажутся одинаковыми, но на самом деле отличаются в размерах и деталях - это заметно, например, на кадре выше. Да и построены они были с разбросом в четверть века на трёх разных верфях: маленький "Дорожник" (на 12 легковых машин) спущен на воду в 1992 году в Улан-Удэ, "Ольхонские ворота" - в 2008 году в Иркутске, а флагман переправы "Семён Батагаев" в 2016 году в Усолье-Сибирском (оба рассчитаны на 16 машин и 96 пассажиров).
29.
В расписании больше всего рейсов у "Батагаева", меньше всего - у "Ольхонских ворот". Однако из 4 пересечений пролива трижды нас возил именно "Ольхонские ворота", единожды - "Батагаев", а "Дорожника" я каждый раз видел на ходу, но только встречным курсом.
30.
Летом паром идёт в облаке наглых чаек, а осенью - в тишине и пустоте:
31.
Ворота ненадолго открываются к Большому Байкалу:
32.
У берега принюхивается, чьм духом пахнет, белая от птичьего помёта каменная крыса. Оба острова-олимпа, что Ольхон, что Вайгач, изобилуют мысами в виде звериных морд и человечьих лиц.
33.
Параллельно переправе в 2005 году был проложен донный кабель: о более привычной воздушной ЛЭП на линии сармы нечего было и думать. Доставили 40 тонн проводов и труб сюда аж из германского Ганновера (хотя сама разработка французская), а трассировку проводили зимой - сначала вешками на льду, затем буйками на вбитых в дно опорах. Кабель принёс Ольхону новую жизнь на массовом туризме - прежде тут была нищая глухомань с электричеством от дизель-генераторов по расписанию и непомерными (ибо топливо завозить дорого) ценами на всё. Так что не стоит удивляться, что в хужирском музее кабелю Ольхонских ворот посвящён целый зал:
34.
А вот асфальт и 15 лет спустя заканчивается на той стороне переправы. Ольхон же представляет собой царство тряских грунтовок, по которым обильно пылят серые советские "буханки". У островитян к перспективам реконструкции дороги отношение неоднозначное - с одной стороны, ухабы и пыль достали и их, с другой - многие тут опасаются, что с появлением комфортной дороги сюда зайдёт и крупный бизнес, который не оставит им места в туристическом буме.
35.
Здесь же продолжается Прибайкальский национальный парк, о вредности которого я подробнее рассказывал в прошлой части. Впрочем, на Южном Ольхоне он о себе напоминает лишь вот такими вот плакатами - за пределами тракта ездит по Ольхону не только всё тут перечёркнутое, но и машины потяжелее. Среди них, впрочем, нет такой, которая бы вывозила с пляжей мусор.
35а.

А вот монгольские жабы встали на пути дорожников, когда распоряжение заасфальтировать дорогу до Хужира пришло сюда аж из Москвы. Населённые пункты что на Кругобайкалке, что на Ольхоне - кость в горле для нацпарка, ведь пока они существуют - невозможно сделать любой въезд сюда платных. В попытках выжить эти деревеньки сгодится всё от запретов пасти скот и ходить в лес за грибами до бюрократических уловок о незаконной приватизации земли. Хотя конечно официально всё это делается только ради "минимизации антропогенной нагрузки".
36а.

Мы почти сразу свернули с грунтовки в лабиринт колей и троп, да побрели в сторону Кобыльей Головы, надеясь хотя бы одну ночь из предварительно оплаченных в Тажеранском визит-центре нацпарка всё-таки провести в палатке. Путь к Кобыльей Голове от переправы преграждает длинный залив Загли, сменяющийся Нурским озером, видимо лишь по низкой воде обособляющимся от Байкала:
36.
У берега - турбаза да баржа с заваренными окнами, где видимо хранится топливо на случай неполадок с кабелем:
37.
От оконечности Загли открывается впечатляющий вид на МРС и высоко торчащую слева вершину Тан-Хана:
38.
В целом же пейзажи Южного Ольхона суровы и даже мрачны. Там, где есть высокая трава, мне вспоминались глухие степи Казахстана:
39.
Там же, где растительность едва пробивается через камни, чудится скорее тундра Вайгача. Видимо, такой ландшафт что в Арктике, что в Великой Степи предпочитают боги...
40.
Ну а степь на грани полупустыни посреди пресной воды пусть не удивляет. Ведь господствуют в наших широтах западные ветры, и конфигурация хребтов у Байкала создаёт своеобразную "мёртвую зону" на западном берегу. Отсюда - потрясающая асимметрия: два берега Байкала отличаются по количеству осадков в без малого 10 раз. Если мокрее Хамара-Дабана (1300мм) в России только Черноморское побережье Кавказа, то засушливее Южного Ольхона (140мм) - только Чуйская котловина Алтая. Мы в ту осень ощутили это на себе: за несколько дней нашего похода на материке за горами успел выпасть и почти полностью растаять первый снег, а здесь так и стояли голые травы.
41.
Впрочем, и что весь Ольхон таков, думать не стоит - северная половина острова и берег, обращённый к Большому Байкалу, гораздо влажнее и тише, и потому их покрывают роскошные сосновые леса. Но можно ли об этом догадаться в местных пустошах?
42.
Сухие травы, острые скалы, свинцовое небо и пробирающий до костей холод - таким мне запомнился Южный Ольхон в конце октября. Но всё же более канонично здесь в любой сезон яркое Солнце:
43.
Все эти кадры сняты с Хадайской горы, самой высокой на островной стороне Ольхонской ворот. Под горой как на ладони Кобылья Голова, отделяющая залив Хул от Малого моря. У основания просматривается одинокая турбаза "Чаша Чингисхана", под названием которой видимо имеется в виду Нуку-Нур - маленькое пресное озеро в глубокой карстовой воронке с очень богатой на примитивную жизнь водой. С "внешней" стороны Кобыльей Головы примечательны мысы Хельтей и Тутэрхэй, живописность которых видимо пропорциональна звучности названий, и всё же мы решили не ходить по гигантскому черепу, предпочтя берег Малого моря.
44.
Последний взгляд на Ольхонские ворота - мысы Хорин-Ирги с маячком начала ХХ века и Удан-Хада на материке действительно похожи на грандиозные двери:
45.
Пока же посмотрим под ноги. Обнажённая земля Южного Ольхона и Тажеран богата на красивые камни - тут известно почти полторы сотни минералов:
46.
Среди которых вполне можно найти древний пест, наконечник стрелы, черепок или шлак архаичной металлургии:
47.
Первые люди на Ольхоне поселились 13 тысяч лет назад, здешняя сухость отлично сохранила старейшие из известных в Байкальской стороне 4-тысячелетние могилы. Но самый распространённый пласт доисторического наследия Ольхона - сколы, маленькие каменоломни, где первобытные люди добывали себе песты и наконечники:
47а.

Чаще историю Ольхона начинают пересказывать лишь с железного века, который в 6-8 веках сюда принесли из Саянских предгорий курыкане. Явные тюрки, родня енисейских киргизов, это был народ небольшой, но воинственный и для своих времён даже высокотехнологичный. Китайские источники тех лет упоминали неких гулиганов - три племени кочевников, во главе каждого из которых стоял вождь-тегин ("сыцзинь"), один из которых, вероятно, избирался Великим тегином на время больших войн. Всего курыкане могли выставить около 5 тысяч всадников, но конница эта приводила в ужас даже арабов и их среднеазиатских союзников, у которых народ "кури" упоминался как "необузданные варвары" и даже "людоеды". У курыкан была особая порода коней, "с головы похожих на верблюда", о которых при дворе Танского императора слагали поэмы. Курыкане строили простейшие крепости, стены и дозорные посты из каменных плит без раствора, но доктрина их явно была наступательной - в первую очередь преуспели они в металлургии. В сыродутных горнах с кожаными мехами курыкане получали почти чистый (99,4%) металл, позволявший оснастись все пять тысяч всадников первоклассным оружием. Вот тут на витрине музея в Хужире слева видны схема печи, её фрагменты (включая каменный молот), шлаки и крица (пористое черновое железо), а справа - готовая продукция, будь то рыболовные крючки, оружие, конская упряжь или даже украшения: не удивлюсь, если бог стали Кром из "Конана Варвара" был вершиной курыканского пантеона.
48.
Своих покойников курыкане хоронили в чрезвычайно прочных плиточных могилах, видимо олицетворявших лодки для Реки Времён. Об их религии толком ничего не известно, но бурятское шаманство, вероятно, корнями уходит в неё. В истории курыкане занимают особое место - ведь через них буряты и якуты, два крупнейших сибирских народа, оказываются сводными братьями. С 11 века из монгольских степей на Байкал всё настойчивее проникали молодые и потому более агрессивные племена икересов (эхиритов) и хори-тумэтов, постепенно сломавшие строй трёх курыканских племён. Рассеявшись по тайге без своих тегинов, частью курыкане смешались с пришельцами, превратившись в бурят, а частью ушли вниз по Лене, где сойдясь с таёжными народами вроде эвенков стали якутами. И хотя кочевья курыкан простирались по всему Прибайкалью, лучше всего курумчинская культура (наследие курыкан и первых поколений бурят на их месте) сохранилась именно в степях Приольхонья.
48а.
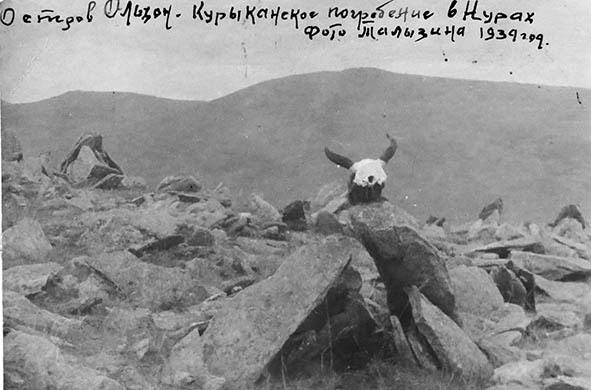
Многочисленные хоринцы, эхириты из "пяти столпов Чингисхана" и пришедшие уже в его эпоху булагаты стали основной прибайкальских бурят, которые, надо сказать, и в наши дни свысока поглядывают на своих забайкальских собратьев. Те образовались в смешении прибайкальцев (в первую очередь хоринцев) с монголами и ойратами, а то и вовсе были записаны в буряты просто по факту того, что оказались к северу от русско-китайской границы, и потому прибайкальцы только себя считают настоящими исконными бурятами. На Ольхоне живут, как я понял, в основном эхириты, проникшие сюда в 11 веке по Сарме с верховий Лены. Вот главные их атрибуты - ритуальная коновязь-сэргэ, разнесённая с Алтая всё теми же курыканами, и деревянная юрта.
49.
К приходу русских здешние буряты вообще забыли о войлочных юртах, сохранив их планировку, но утратив главное свойство - мобильность. Обжившись в тайге, они и не были настоящими кочевниками - скот перегоняли по горам между летними и зимними пастбищами, а в Приольхонье как бы не важнее пастбищ была байкальская вода.
50.
Вещи с кадра выше принадлежали даже не рыбакам, а нерповщикам. Самый крупный из множества обитателей Байкала - это нерпа, питающаяся рыбой и не имеющая естественных врагов, а потому непуганая. Как и у всех ластоногих, мясо нерпы невкусное, но подстрелив добычу, нерповщик угощался свежей тёплой печенью, богатой на витамины. В первую очередь нерп добывали на шкуры, продажа которых в царские времена была основным делом ольхонских бурят. Вот так описывал нерпичью охоту в 1978 году журналист "Известий" Леонид Шинкарёв: "начинают промысел в середине апреля. Лед еще прочен, дни уже ясные, солнечные. Охотник ставит на санки белый парус с двумя отверстиями. Одно для глаз. Другое – для ружейного ствола. Сам надевает на ватную фуфайку белый маскировочный халат и скользит на санях к тем льдинам, на которых греются нерпы". Другим способом лова были специальные подлёдные сети. Нерп в Байкале живёт, однако, как бы не больше, чем людей на его берегах - я видел оценки от 40 до 100 тысяч особей, в то время как квоты на их добычу уже в 1970-е годы не превышали 3 тысяч в год. Сейчас же легальные нерповщики с квотой в несколько сотен шкур остались лишь среди эвенков в окрестностях Северобайкальска.
51.
Ещё одна необычная экспозиция хужирского музея - ганза, как называются в бурятском языке курительные трубки:
52.
Табак стал просачиваться сюда в 17 веке, когда монголы и ойраты приняли своей национальной религией буддизм и потому всё теснее взаимодействовали с Китаем. "Жёлтая вера" тогда стремительно распространялась и среди бурят, теперь фигурирующих в школьных учебниках как один из трёх буддийских народов России. На самом деле всё сложнее: буряты в подавляющем большинстве двоеверы, многих духов из шаманских культов ламы записали в махакалы и бодхисатвы, вот только пропорция двух религий совсем не одинаковая от улуса к улусу. Забайкалье можно считать буддийским полюсом пёстрого БурМира, где от шаманства остались разве что бурханы у дорог, а Прибайкалье, и в особенности Приольхонье - наоборот, шаманский полюс, где сэргэ стоят в каждом дворе, а не то что дацан, но даже небольшую ступу разрешили построить только на необитаемом острове Огой. Буддийские иконы, кодексы и флажки я видел на Ольхоне лишь в музее. И судя по этой витрине, в царские времена позиции буддизма в Прибайкалье были даже твёрже, но в постсоветскую эпоху эхирит-булагаты выстраивали свою идентичность вокруг исконного шаманства.
53.
Однако нынешний Ольхон - скорее русский остров. Новая смена народов после без малого 1000 лет господства бурят началась на рубеже 19-20 столетий, когда остров охватила эпидемия проказы. Она выкосила 2/3 его населения, которое так и не успело восстановиться до советских времён. Советы же раскулачили да депортировали 13 богов и занялись обустройством Ольхона исходя из нужд народного хозяйства. Острову готовилась судьба "непотопляемой плавбазы", и на основанный в 1932 году Маломорский рыбзавод народ ехал со всего Союза, причём с 1940-х годов русских здесь дополнили украинские и литовские спецпереселенцы. Но всё же рыбаки - не заводские рабочие: Ольхон успела захватить не интернационально-городская, а именно русско-деревенская культура.
54.
Бурятские деревни Ольхона, в первую очередь степная Ялга, при этом никуда не делись, но живёт в каждой из них не больше нескольких десятков человек. Из 1700 островитян 1300 сосредоточены в Хужире, где "на глаз" буряты составляют 10-15% населения и немногим больше - полукровки.
55.
Ну а слава древнего шаманства парадоксальным образом способствует тому, что русская культура продолжает теснить здесь бурятскую: дети местных старожилов уезжают на материк в поисках лучшей доли, а приезжает на их места русская молодёжь, окрылённая высокой эзотерикой, шаманскими практиками и волонтёрскими проектами "спасения Байкала". Не говоря уж обо всех этих турфирмочках, гостиницах, сувенирных лавках и омулёвых кафе - у иркутского или ангарского бизнеса явно капиталов больше, а хватка жёстче, чем у людей из глубинки. Для жителя Ольхона нормально владеть английским, немногим реже - китайским, и в общем в доковидные времена священный остров всё сильнее дрейфовал в глобальный безнациональный мир с перспективой когда-нибудь стать планетарным центром шаманства. На то, видимо, воля 13 богов...
55а.

В следующей части вернёмся из музейных залов в просторные степи, с Ольхонских ворот перейдя на берег Малого моря.
ПРИБАЙКАЛЬЕ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Большой Иркутск - будет позже.
Ангара
По Ангаре. Братск - Балаганск.
По Ангаре. Иркутск - Балаганск.
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная ветка и Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Тункинская долина
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлик.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
|
Метки: Великая Степь Сибирь природа транспорт дорожное рыбацкое этнография курортное |
Ольхон. Часть 1: Тажеранская степь, или Приольхонье |
В Ольхонском районе
В высокий сезон маршрутки в ольхонскую "столицу" Хужир отправляются с иркутского автовокзала по несколько за час, и изнутри больше походят на туристические автобусы - так, на нашем рейсе местных не было никого. Едут на Ольхон по большей части разного рода "москвичи", немного сами иркутяне, и самый распространённый типаж гостей Священного острова - это молодые, украшенные фенечками, одухотворённые эзотерикой и раздельным сбором мусора парочки, гетеро- и гомосексуальные, и почему-то через раз - с собаками и кошками в переносках. В Сибири большинство из них явно оказались впервые, и в просторных степях вдоль Качугского тракта у них был скучающий, явно разочарованный вид, зато когда мы свернули на Ольхонский тракт и мимо потянулись таёжные сопки, весь салон закрутил головами с риском вывиха шей. Водитель сходу решил подпустить в автобус дополнительно сурового сибирского колорита, врубив музыку на полную громкость. Русский рок, игравший первые полсотни километров, как-то очень незаметно сменился песнями армии и тюрьмы, и вот под синеву, которая расплескалась, под Таганку, где ночи полные огня, под ушаночку, которую автор решил потуже натянуть, что в своё прошлое с тоскою заглянуть, и под черноморские похождения незадачливых ментов Барабашки и Чебурашки мы катили час за часом по узкой, но хотя бы достаточно ровной дороге.
2.
В несезон всё выглядит совсем иначе - у маршруток всего пара рейсов в день, да и те ходят полупустыми. Путь от Иркутска до Хужира - 4-5 часов, в зависимости от того, как долго на Ольхонской переправе придётся ждать парома. Ну а сам путь проехав четырежды, я успел выучить его наизусть: кварталы и церкви Старого Иркутска, мрачноватые улицы Радищевского предместья, унылые безликие окраины с торговыми центрами и коттеджными посёлками, просторные степи вдоль Качугского тракта, каменный всадник в Усть-Орде, позы и суп в столовых промозглого ветреного Баяндая... И - Ольхонский тракт, там же отходящий под прямым углом сразу в тёмную тайгу на склонах пологих гор, порой прерывающуюся ветхими деревеньками в изумрудных долинах. Мимо мелькают бурханы с ленточками на деревьях, речки с названиями вроде Подберлог, а на въездном знаке Ольхонского района какой-то шовинист размашисто написал "Граница Резервации"... не очень, правда, ясно, что именно он обозвал резервацией - шаманское Приольхонье или лежащий между ним и Иркутском Усть-Ордынский Бурятский (уже не автономный) округ.
3.
В 2021-м мы уезжали из Иркутска автобусом, а возвращались попуткой, поймав её прямо у выезда из Хужира. Водитель, вида столь же интеллигентного, сколь и успешного, был из Красноярска, но немалую часть своей жизни проводил в командировках по соседним регионам, где изыскивал деньки и на культурную программу. Подвоз попутчиков в арендованных авто у него явно был поставлен на поток, и попутчики заменяли ему радио - после того вояжа у меня натурально побаливали язык и щёки, а в Усть-Орде, где мы высадились, нас сменил другой автостопщик. В 2020-м же всё было наоборот - покидали Ольхон мы автобусом, а вот по пути туда предпочли автостоп. Вполне осознанно - помимо пернатой Оли к нам присоединилась юная иркутская художница Аделина, за плечами которой осталось немало вёрст в компании целого
 a_krotov. Оля с Аделиной и проехали стопом большую часть пути, меня же после первого прыжка до Усть-Орды подобрала маршрутка, на которой я и уехал за деньги, договорившись с попутчицами встретиться в Еланцах.
a_krotov. Оля с Аделиной и проехали стопом большую часть пути, меня же после первого прыжка до Усть-Орды подобрала маршрутка, на которой я и уехал за деньги, договорившись с попутчицами встретиться в Еланцах.3а.
Тянущийся на три сотни километров от истока Ангары Приморский хребет называется так не случайно - по большей части его невысокие горы обрываются прямо в Байкал. На этом фасаде есть лишь несколько балконов, куда еле втиснулись сёла - Листвянка у начала хребта, Большие Коты и Большое Голоустное в устьях падей да Бугульдейка с её белоснежным мраморным карьером, куда от Ольхонского тракта ответвляется грунтовка у села со звучным названием Косая Степь. И за последним перевалом от Косой Степи - уже не балкончик в устье распадка, а целая степная лоджия с густой сетью грунтовых дорог и десятком селений. На самой границе степи и леса встречает столица Приольхонья - довольно крупное село (4 тыс. жителей) Еланцы:
4.
Его пейзаж впечатляет асимметрией лесистого и голого склонов, между которыми Ольхонский тракт, в селе становящийся улицей Пронькина, тянется на 3,5 километра. В перспективе тракта - скалистая сопка Хара-Нур (612м), за рекой Анга, которая и считается границей Тажеранов:
5.
История Еланцев столь заурядна, что даже дату основания села никто толком не знает - известно лишь, что райцентр тут разместили в 1935 году административно-командным способом. Но среди многочисленных изб с резными наличниками порой попадаются явно более старые:
6.
Ольхонский район, как и его райцентр, двунационален с небольшим (53-55%) перевесом бурят, хотя "на глаз" я бы сказал, что они здесь преобладают. Самый известный бурят в Еланцах - модный шаман Валентин Хагдаев, к которому едут не только туристы целыми автобусами, но и всяческий бомонд вроде Анатолия Чубайска или Алины Кабаевой. Хагдаев шаман в 19-м поколении, у него есть "метка небес" в виде раздвоенного большого пальца, подарки влиятельных гостей и огромный список регалий. Тем не менее, знакомая гидесса из Иркутска, сама между прочим потомок эвенкийской шаманки, про Хагдаева говорила с нескрываемым отвращением - по её словам, может и был он когда-то сильным шаманом, но в итоге продал свой дар, начав делать на нём деньги. Бывалые шаманы, в августе съезжающиеся на Ольхон для тайлгана (обряда) со всех бурятских улусов, с усмешкой сказали мне "Да это не шаман, это актёр, чего сам он и не отрицает!". Но правдивые всё это характеристики или просто наговор завистников - не берусь предполагать. Тем более Хагдаев немало сделал для Приольхонья в сфере не мистической, но культурной:
7.
Так, шаман ещё и директор местного краеведческого музея, основанного в 1994 году на тихой улице Антона Пенкальского - поляка, сосланного в Сибирь в революцию 1905 года и погибшего на Гражданской войне за власть советов:
8.
Гордость музея - аутентичная деревянная юрта с дерновой крышей. Эхириты и булагаты, бурятские племена Прибайкалья, только такие и строили, и как мне показалось - даже гордятся отсутствием в свой культуре классических войлочных юрт, считая их монгольским заимствованием. Лишённая окон, кроме надочажного, такая юрта - по сути вариация курной избы, но с вполне бурятским разделением мужской и женской половин и почётных мест для гостей и старейшин.
9.
Однако в юрту заглянуть мне не случилось - музей был наглухо закрыт, несмотря на рабочее время. Женщины в библиотеке, окна которой видны на кадре выше, объяснили, что это продолжается с весны, конечно же в связи с короновирусом (дело, напомню, было в 2020 году). Более того, по их словам закрытым выходил и весь Ольхон, так что я не поленился спросить у них телефон администрации и позвонить туда для уточнения. Священный остров действительно закрывали весной 2020 года, но к лету "бурятский Олимп" вновь наполнился туристами, а пресловутая "вторая волна" в ту осень только-только разгонялась.
10.
С улицы Пенкальского я вернулся на улицу Пронькина и побрёл вдоль трассы в следующее село. Здешняя степь с первого взгляда впечатляет обилием сэргэ - ритуальных коновязей:
11.
В сибирском шаманстве эти деревянные стрелки, кажущие в Вечное Синее Небо Тенгри, занимают примерно то же место, что в христианстве - кресты. С Алтая, по мере расселения древних тюркских племён, сэргэ распространились по всей Южной Сибири и на север до самой Якутии, но нигде я не видел их в такой концентрации, как в Тажеранах. Подобно крестам на Мезени, своё сэргэ здесь отмечает натуральное каждое поле, каждый лужок, каждую улицу в бурятской деревне:
12.
Как например в Хурай-Нуре за 4 километра от Еланцев, куда я и дошёл пешком. Вернее, этак за полкилометра до цели меня подхватила машина, где на передних сидениях ехали двое азербайджанцев, только-только начинавших проникаться красотой чужой земли, в чём активно помогали им сидевшие сзади Аделина и Ольга. Воссоединившись, первым делом мы направились в хорошо заметный на кадре ниже двухъярусный домик на сваях. Туда и поднялись мы, еле-еле открыв дверь, которую плотно держал тугой ветер:
13.
Важная, и очень малоприятная часть реалий Иркутской области - Прибайкальский национальный парк. Поправочка - Охреневший Прибайкалский нацпарк, и это ещё самый мягкий эпитет, которым в разговорах со мной награждали его иркутяне. Созданный в 1986 году, он тянется на 470 километров вдоль Байкала от Култука на западной оконечности озера до последнего на север селения Онгурён. То есть - через Кругобайкалку, Листвянку, Большие Коты и Ольхон, и имея такое в активах, об охране природы и культурного наследия можно вообще не беспокоиться, ведь куда как интереснее на этом всём деньги стричь! Несут эти деньги сюда столь массово, что даже то, как передать их, до недавнего времени было проблемой гостей, а не хозяев - в 2020 году пропуск оформить можно было только по личной явке. Сейчас, впрочем, наоборот - оформляются пропуска только по интернету, а вот сдать неиспользуемый пропуск можно только лично, и в то же время - нельзя, ибо вирус не дремлет! Нацпарк делится на несколько кластеров, в каждый из которых, равно как и на каждую неделю пребывания, пропуск нужно оформлять отдельно. И сам пропуск стоит вроде бы недорого (рублей 150), но нагрузкой к нему идёт оплата ночлега по 100-200 рублей за каждую палатко-ночь. Главная проблема в том, что оплачивать это всё нужно заранее, причём в некоторых кластерах вроде Большой Байкальской тропы - ещё и с указанием стоянок на маршруте по дням, а зная, как тяжело всё предугадать в незнакомой местности, для надёжности оплачивать стоянки приходится с запасом. Собственно, по телефону сотрудницы примерно то и говорят прямым текстом - а вы все стоянки укажите в заявке и ночуйте где вам удобнее. Но те сотрудницы отвечали на звонки в тёплом уютном Иркутске, а в содрогавшемся под ударами ветра Тажеранском визит-центре нас встретила очень доброжелательная женщина, поившая нас чаем, пока я заполнял бумаги. Здесь визит-центр отвечает за кластер "Тажеранская степь и юг Ольхона", тянущийся до Хужира по обе стороны Ольхонских ворот:
14.
Дальше мы вышли на улицу и задумались про ночлег. Ветер не вызывал ни малейшего желания ставить палатку, и я подумывал допрыгнуть стопом до МРС (посёлок у переправы), а на следующий день сюда вернуться. Но не зря со мной были две автостопщицы - одна бывалая, а другая по юности с энергией через край! Напротив визит-центра манила вывеска позной, и если я был настроен подкрепиться бурятскими позами (в Байкальской стороне быстро становящимися основной пищей путешественника), то Аделина и Ольга твёрдо вознамерились в позной переночевать. Их план удался, мой - нет: дверь позной оказалась заперта, но рядом стоял тонированный минивэн, и угрюмые буряты в камуфляже сказали "Хозяин выйдет - с ним и решайте". Минут 10 мы постояли рядом на ветру, а затем хозяин вдруг появился из минивэна - молодой бурят с красивым лицом и острым деловитым взглядом.
15.
Позная оказалась уже закрыта на зиму, но хозяйская изба стояла на заднем дворе. Путешественников, в особенности мотоциклистов, хозяин привечает достаточно часто, а на память предлагает расписаться на стене. Лишь год спустя при написании поста я подумал, что если бы мы заказали поз - жена хозяина наверняка сготовила бы их у себя дома, но тогда мы все втроём так увлеклись автостопной романтикой, что предпочли готовить гречку на горелке. Хозяин утром, когда девушки ушли, попросил всё-таки денег - примерно половину суммы, в которую нам обошлась бы тройная порция. Платить в общем было за что - ночью на долину опустился тяжёлый холод, дом жалобно скрипел от ветра, и нам было бы сложно тут не околеть, если бы хозяин не открыл огонь из всех тепловых пушек.
16.
Аделина же разрисовала стену на строки алтайского кайчи (сказителя), которые почему-то пришли здесь мне в голову:
17.
В сгущавшихся сумерках мы с Аделиной прошлись по Хурай-Нуру, оказавшемуся пустеющим заурядным селом:
18.
С коровами на улицах:
19.
Целой колонией воинских памятников в ограде:
20.
И машинами у священных коновязей-сэргэ:
21.
Я привык путешествовать осенью, так как прежде на эти месяцы уезжал в Среднюю Азию, в Закавказье или на Дальний Восток, где в октябре вполне комфортные температуры. В 2020-м - не сориентировался, что вообще-то "это Сибирь, детка!", и потому из Иркутска отправился в поход с палаткой ближе к концу октября. Утром снаружи позной мы встречали морозный бесснежный рассвет:
22.
А выше по склонам Приморского хребта песок побелел от инея. За горами же в те дни и вовсе выпал первый снег, но от того и степи лежат у подножья гор, что осадков здесь крайне мало:
23.
Визит-центр и позная стоят у мостика через Ангу - небольшую речку, которая и считается границей Тажеран:
24.
Стела у моста, впрочем, кажет на "Ёрдынские игры" - это не название населённого пункта, а ежегодное действо, место которого я чуть позже ещё покажу:
25.
С утра же мы пошли на Сахюртэ - ещё одну скалистую сопку, отделённую Ангой от селения:
26.
Её пологие склоны манили людей издавна - вынесенная в речную излучину, Сахюртэ была отличной дозорной площадкой, да вдобавок изобиловала материалом хоть для укреплений, хоть для каменных наконечников и ножей. Склон её отмечают руины небольшой крепости курыкан - древнего народа, родни енисейских киргизов, расселившейся здесь в 6-8 веках. Известно, что пришли они сюда тремя племенами с вождями-сыгинами, над которыми стоял Великий Сыгин, и что скорее всего именно курыкане поставили здесь первые сэргэ. Но в 11 веке курыкан начали теснить эхириты (икересы) из монгольских степей, и проиграв с ними борьбу, три курыканских племени рассеялись по тайге. Те, кто остались на Байкале, смешались с монгольскими пришельцами, переродившись в бурят, а те, кто ушли вниз по Лене, породнились с эвенками и прочими таёжными народами, положив начало якутам. И хотя 1000 лет назад гулиганской (так их называли китайцы) землёй было всё Прибайкалье, заметнее всего следы курыкан именно в Приольхонье. В основном, впрочем, следы эти нелегко отличить от естественных скал:
27.
Которые на склонах Сахюртэ и сами по себе удивительны:
28.
29.
30.
Но целью нашей был здесь мощный белый мыс на обращённом в Хурай-Нуру склоне:
31.
Ведь главная достопримечательности этой горы - наскальные рисунки. Всего их три группы, образующие треугольник со сторонами по полторы сотни метров, и мы нашли лишь одну из них - на этом самом мысу, в полусотне метров над водой Анги. Начертанные около 2000 лет назад, сюжетами и стилем петроглифы Тажеран в общем знакомы по Калбак-Ташу, Чолпон-Ате или Гобустану на других концах Великой Степи. Кроме странной геометрической фигуры внизу - скорее всего, это очир (или ваджра), священный буддийский жезл, начертанный среди языческих сцен тибетскими или монгольскими миссионерами где-то в 17 веке:
32.
Ну и конечно Сахюртэ не была бы горой, если бы с неё не открывались виды. На западе - извилистая Анга и зажатые долиной её притока Еланцы и Хурай-Нур:
33.
С утра да сверху последний уже не показался таким мрачным:
34.
На юг долина Анги уходит к блестящему между сопок Байкалу. Там раскинулся живописный залив Усть-Анга, а за сопкой слева скрыта ещё одна бухта Ая со своими петроглифами. В другую сторону от Еланцев, на небольшом "балконе" за отрогом Приморского хребта, есть ещё утёс Саган-Заба тоже с наскальными рисунками и живописная Крестовая бухта. Байкал тут совсем рядом и у него красивые берега, но я предпочёл скорее оказаться на Ольхоне...
35.
Тракт к которому уходит мимо ещё одной белой скалы:
36.
Напротив которой, однако, мы свернули на грунтовку, к безлюдной, но полной баранами в загонах ферме, вид который заставил меня вспомнить то ли Монголию, то ли Восточную Турцию.
37.
Отсюда к Байкалу уходит грунтовка, по которой нам предстояло пройти ещё порядка 3 километров:
38.
Мимо высоких блестящих бурьянов и сюрреалистических скал, похожих на аберрацию линз:
39.
К одной из них ведут колеи в траве:
40.
Здесь тоже есть петроглифы, причём почти не исследованные - до 2000 года этот обрывчик был просто завален землёй:
41.
Я читал, что здесь изображён монгольский всадник, но ничего подобного не приметил. Может, вот это он, только спешился:
41а.

Аделинка же нашла дырявый каменный карман, в котором охотно позировала:
42.
43.
От скалы с петроглифами и здесь открываются отличные виды - справа степь до Ольхонского тракта:
44.
Слева - Хоторог (хуторок?) под одинокой круглой сопкой Ехэ-Ёрдо, или просто Ёрд. Ещё при курыканах именно здесь, а не на Ольхоне, находилась главная святыня Байкала. Раз в несколько лет к горе съезжались делегации всех трёх племён с вождями, шаманами, борцами и сказителями, всего не менее 700 человек: именно столько нужно, чтобы станцевать ёхору - ритуальный хоровод вокруг Ёрдо, пока шаманы воскуривали на запретной вершине можжевельник. Когда угасла эта традиция - вряд ли кто-то сможет рассказать, но раскопал следы древних праздников в почвах Анги и преданиях эхирит-булагатских шаманов бурят-этнограф Матвей Хангалов в конце 19 века. Ну а в постсоветскую эпоху, не без участия того же Хагдаева, славу одинокой сопки было решено возродить. С 2000 года здесь раз в 4 года проводятся Ёрдынские игры - состязания по национальным видам спорта, ремёслам вплоть до стрижки баранов и сказительству, кульминацией которых становится хоровод вокруг горы.
45.
От петроглифов мы побрели обратно к трассе, где ещё битый час стояли на тугом ветру, пытаясь поймать машину. Со стороны деревни к нам медленно приближался забулдыга, внимательно вглядывавшийся в траву и грязь у обочин. Я вспомнил, что днём ранее видел его у заправки на западном конце Еланцев и, идя за ним, чуть не попал под его плевок против ветра. Там забулдыга тоже вглядывался в обочину, но только здесь, наблюдая за ним, мы поняли, что он целыми днями ходит вдоль тракта и собирает монетки, которые кидают местным духам туристы и буряты с проезжающих машин... Но раньше, чем "бывший человек" (по Горькому) поравнялся с нами, нас всё-таки подхватил тарахтящий драндулет с тремя русскими рыбаками в тёртом камуфляже, которые минут 10 расчищали для нас заднее сидение от целой горы удочек и сетей.
46.
За долиной Анги тракт набирает высоту, и вот над очередной сопкой показывает Орёл, на 5 метров раскинувший бронзовые крылья. Хан-птица, в бурятских повериях орёл не оригинально был существом гордым и святым. На орлов запрещалось охотиться, и даже задранная орлами скотина не шла в пищу людям, а оттаскивалась на специальный помост "аранга". По преданию, орёл Ихи-Шубун (Великий Птиц) был и первым шаманом, передавшим свои знания неразумным людишкам, как Прометей, принёсший на Землю огонь. Сам Великий Птиц был сыном Ойхон-Баабая (Хозяина Ольхона), но судьба его сложилась печально: прознав, что с юга к бурятам движется новая вера буддизма, отец послал Ихи-Шубуна на разведку. Обернувшись орлом, сын Ольхона долго кружил над монгольскими степями, а на обратном пути, не выдержав усталости и голода, немного поклевал мёртвого коня. Но не зря известная притча противопоставляет орла, что 30 лет живую кровь пьёт, ворону, что 300 лет падалью питается - осквернение лишило Ихи-Шубуна возможность снова стать человеком. Люди, однако, простили Хан-Птицу, которая по сей день кружит над Приольхоньем, и поставленная здесь в 2013 году стела - не столько украшение трассы, сколько шаманский тотем:
47.
Мне, впрочем, больше самого Орла запомнилось вот это забавное граффити на заброшенном сарае между Еланцами и Хурай-Нуром... Увы, в 2021 году я увидел, что оно 3/4 покрылось какой-то маловразумительной мазнёй:
48.
Долина Анги - своего рода исторический центр Тажеранской степи, а за Орлом начинаются "непарадные" Тажераны. Здесь это просто холмистая, чрезвычайно живописная степь с золотом осенних трав и синевой далёких сопок:
49.
Здесь, от речек в стороне, вдоль тракта тянутся солёные озёра:
50.
Белая соль, как где-нибудь на Баскунчаке, кусками лежит на их берегах. А вот что осталось почти не раскрытым в моём броске сквозь Тажераны - это их минералогический состав, который можно представить разве что по разноцветным скалам необычных форм. Всего в этой степи известно 140 видов минералов, часть из которых, в первую очередь редкий тажеранит, были здесь впервые открыты.
51.
Вдоль дороги тут и там странные кучи валунов - но как объяснили нам рыбаки, навалили их всего лишь дорожники, строившие тракт в 1980-е годы:
52.
А вот ближе к Тан-Хану, высшей точке Тажеран (989м) с тракта краешком видна Долина Каменных Духов, представдяющая собой целый питомник вычурных, я бы даже сказал зооморфных скал:
53.
Где духи - там, конечно, и бурханы да обоо:
54.
Отрог Тан-Хана похож на перевал, за которым начнётся спуск к Ольхонским воротам. Вершину перевала с 2013 года отмечает Бродяга с текстом грустной песни о диких степях Забайкалья. Куда-то сюда бродяга, видимо, причалил, и теперь, взобравшись на бугор, смотрит в сторону дома. И в песнях русского народа беглец из неволи - всегда пострадавший за правду, а не (что в жизни куда вероятнее) вор, обманщик или душегуб...
55.
Впереди уже видны Малое море, Ольхонские ворота и сам священный Ольхон со свитой островов поменьше:
56.
Но о двух сторонах Ольхонских ворот расскажу уже в следующей части...
ПРИБАЙКАЛЬЕ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Большой Иркутск - будет позже.
Ангара
По Ангаре. Братск - Балаганск.
По Ангаре. Иркутск - Балаганск.
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная ветка и Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Тункинская долина
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район
Окинский тракт
Орлик.
Окрестности Орлик.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов.
|
Метки: Великая Степь Сибирь природа дорожное деревянное этнография |
Досрочное закрытие сезона из-за внеплановой вакцинации |
В прошлых постах я анонсировал между делом предстоящую поездочку на Кубань. Хотелось съездить в Армавир, погулять по Красной улице Краснодара в выходные, полазать по Адыгее от Майкопа до Лаго-Наки, посмотреть Волгодонск за пределами увиденного в блог-туре завода "Атоммаш". Но увы, завтрашний билет придётся сдать...

В последнюю пару лет я часто отменяю поездки или резко корректирую планы. Чаще всего - от усталости или избытка материалов. Что, казалось бы, могло помешать недельной полукуротной поездочке на Кавказ? Увы, то же самое, что спутало планы уже очень многим - я всё-таки словил модную хворь. И хотя в целом болезнь прошла достаточно легко (поэтому и шучу про "внеплановую вакцинацию"), всё же полностью здоровым я себя пока не ощущаю, и потому лучше посижу дома.
О чём писать у меня и так в избытке - Ольхон, Большой Иркутск, Долина вулканов, Забайкалье, БАМ и даже долги с лета-2019. Ну а если уж совсем невыносимо будет хотеться в горы и леса - может, съезжу в ноябре на Черноморское побережье Кавказа.

В последнюю пару лет я часто отменяю поездки или резко корректирую планы. Чаще всего - от усталости или избытка материалов. Что, казалось бы, могло помешать недельной полукуротной поездочке на Кавказ? Увы, то же самое, что спутало планы уже очень многим - я всё-таки словил модную хворь. И хотя в целом болезнь прошла достаточно легко (поэтому и шучу про "внеплановую вакцинацию"), всё же полностью здоровым я себя пока не ощущаю, и потому лучше посижу дома.
О чём писать у меня и так в избытке - Ольхон, Большой Иркутск, Долина вулканов, Забайкалье, БАМ и даже долги с лета-2019. Ну а если уж совсем невыносимо будет хотеться в горы и леса - может, съезжу в ноябре на Черноморское побережье Кавказа.
|
Метки: злободневное дорожное |
Сикачи-Алян. "Стойбище Сородичей" и шедевры каменного века. |
Есть миф, будто нанайцы - северный народ, которому "олени лучше!". Но известнейший нанаец всех времён и народов Кола Бельды пел от лица всех коренных малочисленных народов Севера, после службы на Тихоокеанском флоте, советско-японской войны и учёбы в Саратове и Воронеже ловко обыгрывая русские стереотипы. Настоящие нанайцы живут на широте Украины, в тундре бывают не чаще москвичей, а лучше всякого оленя для них рыба. Нанайцы - крупнейший из братской семьи коренных народов Приамурья: 12 тыс. человек в России и около 5 тыс. в Китае, где они известны как хэчжэ. Нанайские сёла амурских притоков мелькали в прошлой части за бортом "Зари". Но лучшее место для знакомства с их культурой - Сикачи-Алян, небольшое село (270 жителей) на Амуре в 70 километрах ниже Хабаровска. Там находятся великолепные петроглифы каменного века и "Стойбище Сородичей" - национальное подворье семьи со звучной фамилией У.
Около 13 тысяч лет назад на Амуре в последний раз видели мамонтов, в погоне за которыми люди когда-то покинули тропическую "зону комфорта". Те, кто пришли на крайний восток Евразии, к тому времени уже знали, что за добычей вовсе не обязательно гоняться по лесу - она сама может плыть в руки. И вот Амур, словно Нил или Инд, стал колыбелью оседлой культуры, где одни и те же стойбища стояли на своих мысах и заливах сотни и тысячи лет. Жителей их наука называет "ихтиофаги", по-нашему "рыбоеды" - они жили нерестовыми путинами, когда мутные амурские волны кипели от лососевых стад. Новое хозяйство требовало новых технологий - из камня и кости амурцы научились делать крючки и остроги, из растительных тканей - сети и снасти, а из глины - посуду, которая вошла в людской быт именно тихоокеанском бассейне Евразии. С единственной целью: подспорья в виде подлёдного лова и охоты не хватало для сытой жизни, а значит рыбу от путины до путины надо было где-то хранить. Около 3000 лет назад амурские народы даже освоили примитивное земледелие, но почвы Дальнего Востока с его короткими сырым летом были слишком скудны, а вот рыбы в Амуре вплоть до 21 века хватало каждому. Ко временам задокументированной истории земледелие тут позабылось: Амур не стал колыбелью древней цивилизации, но здесь затянулся высокий каменный век.
2.
Наследием которого стали самые красивые и сложные наскальные рисунки на Земле. Набор их сюжетов знаком по Калбак-Ташу или Бесову Носу - звери (заметнее всего лоси, хотя статистически чаще всех встречается медведь) вплоть до мамонтов, длинные лодки с гребцами, личины в шаманских масках, глаза. Люди в полный рост изображались реже, в основном - в керамических статуэтках вроде увезённый в Эрмитаж "Кондонской Венеры". Узор первобытных амурских художников не спутаешь ни с чем - витиеватые орнаменты и спирали, видимо служившие таким же символом местных культов, как в христианстве - крест. Спираль от ДНК до галактики - один из самых глубоких образов, и даже странно, что у патриотов Дальнего Востока не расцвела своя конспирология на этот счёт. Петроглифы - главная рукотворная достопримечательность Хабаровского края, и самые известные их скопления - то и дело исчезающий под водой Сикачи-Алян на Амуре, небольшие (13 рисунков) Киинские писаницы южнее Хабаровска и труднодоступные Шереметьвские писаницы на Уссури. Создавались они в три волны - 10-13 тысяч лет назад, 5-6 тыс. лет назад и в начале нашей эры, но на взгляд неспециалиста стиль рисунков с разбросом в десять тысяч лет кажется единым.
3.
На каком языке говорили их авторы, не известно - это могли быть предки индейцев или японцев, а может родичи косматых айнов. Первые и вторые вышли с Алтая, как и начавшаяся 5000 лет назад третья волна переселенцев - предки тунгусо-маньчжурских племён. В основном расселились они по степям в междуречье Хуанхэ и Амура, и были столь суровыми кочевниками, что лишь коней разводили для езды, всё остальное предпочитая не выращивать, а добывать. Постепенно, однако, лихие мохэ сблизились с высокой цивилизацией Когурё, и корейские технологии в сочетании с маньчжурским боевым искусством стали основной для цепочки государств - как Бохай (698-926), растоптанная Чингисханом империя Цзинь (1113-1213) и даже империя Цин в 17-20 столетиях. Но кони ржали и сабли звенели в степях за Амуром, а находились среди маньчжур и те, кто предпочёл уйти в тайгу, копьё поменяв на гарпун. Более многочисленные и плодовитые, маньчжуры постепенно полностью заместили древние народы Приамурья, но переняли их быт, лишь привнеся в него шёлк и железо.
3а.
К приходу русских в Приамурье сложилась целая экосистема малочисленных таёжных народов, имевших больше сходства, чем различий, в основе которых лежало в первую очередь хозяйство.
Нанайцы и хэчжэ (16 тыс. человек), в прошлом известные как гольды, живут вдоль Амура (на их языке - Манбо) от устья Сунгари до Комсомольска. Охота в тайге была у них лишь подспорьем, больше напоминая рыбалку с самострелами и капканами вместо удочек и сетей. Исключением являлись курурмийцы с западных притоков: живя на небольших реках среди болот, они активнее добывали дичь, особенно пернатую. Однако как главная дорога Дальнего Востока, Амур дал нанайцам ещё одну специализацию - торговлю, где они были посредниками между всеми соседними народами и Китаем. В каком-то смысле именно нанайцев можно считать основателями Хабаровска, на месте которого русские в 1858 году обнаружили торговую деревеньку Бури (у китайцев - Боли).
Ульчи (3 тыс. человек), прежде мангуны - ближайшая родня нанайцев: один народ плавно переходит в другой вниз по течению. Живущие ближе к устью Амура и почти не контактировавшие с другими цивилизациями, ульчи хранили более древнюю и самобытную культуру, так что именно их я бы назвал "приамурцами по-умолчанию".
Удэгейцы (2 тыс. человек), в прошлом кекари и орочоны - горцы Сихотэ-Алиня, не столько Хабаровского, сколько Приморского края. Их стихия - уссурийская тайга, порожистые горные реки, и именно из удэге был небезызвестный Дерчу Оджал, прославленный Владимиром Арсеньевым как Дерсу Узала. Рыбалка у удэгейцев стояла лишь в одном ряду с охотой и собирательством, а богаче всех были те, кто продавал китайцам женьшень или опиум.
Орочи (1 тыс. человек) в прошлом не различались с удэгейцами и вместе с ними звались орочоны. Но жили они у дальнего подножья Сихотэ-Алиня (последние их общины остались на реке Тумнин близ Ванино), на Татарском проливе, и потому были в первую очередь прибрежными рыбаками и охотниками на морских зверей.
Ороки (около 300 человек) в переписях по-прежнему значатся под русским экзотэтнонимом, и лишь на родном Сахалине уважительно именуются самоназванием уйльта. Островитяне преуспели в морских промыслах, но более всего они известны тем, что разводили оленей - причём не на мясо или шкуры, а как ездовых животных для охоты.
Ещё два народа возникли как креолы. Негидальцы (600 человек), себе называющие просто "люди с Амгуни", по культуре и хозяйству ближе к ульчам, а по языку - к эвенкам, то есть возникли в смешении тех и других. Тазы с юга Приморья и вовсе произошли от китайцев, в тайге полностью перенявших орочонский быт: шаманские культы у них встречались с Гуанди, просторные китайские рубахи - с мохнатыми лыжами, а строганина - с лапшой.
Наконец, нивхи (4,5 тыс. человек) с Сахалина и устья Амура, в просторечии гиляки, близки к перечисленным народам по образу жизни и искусству. Но их язык не входит ни в одну языковую семьи, а в фольклоре много общего с индейцами - в первую волну переселения с Алтая кто-то ушёл в Америку, а нивхские предки - на Сахалин. И совсем уж не похожими на кого-либо вообще были айны, жившие, однако, в том же мире спиралей, личин и криволинейных узоров.
4.
С общей численностью менее 30 тыс. человек, амурские народы расселены на огромном пространстве и почти нигде не образуют большинства. Немало их на Украине, где живёт примерно 10% негидальцев, 30% орочей, а ороков (но тут уж видимо оркам-толкинистам спасибо!) там и вовсе больше, чем на дальневосточных берегах. Это наследство Зелёного Клина - у многих на Дальнем Востоке украинские корни, и иные, выйдя на советскую пенсию, возвращались к этим корням с мужьями или жёнами из коренных народов. Смешанные семьи среди амурцев ныне и преобладают - так, с 2000 года не заключено ни единого брака двух негидальцев. Не лучше выглядит и языковой вопрос - например, родным языком в 1989 году владели 17% орочей, а в 2002 - уже 4,5%, то есть старики, последних из которых не станет совсем скоро. Мононациональные селения на Амуре остались разве что у нанайцев и ульчей.
5.
Под Россией амурская культура, складывавшаяся сотнями веков, распалась за пару-тройку поколений. Но всё же русский мир сюда несли не казаки, а офицеры и предприниматели. Дальний Восток рубежа 19-20 веков был раем для этнографов, а потому музеи Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Николаевска-на-Амуре, Ноглик и многих райцентров просто лопаются от обилия осколков цветастого старого мира. И прежде, чем отправиться в Сикачи-Алян за живым нанайским наследием, полюбуемся достояниями истории в Хабаровском краеведческом музее имени Николая Гродекова.
6а.

Нанайцы жили малыми семьями, а их селения были вотчинами одного большого рода или даха - союза нескольких мелких родов. К тем родам восходят и три десятка нанайских фамилий - как Бельды (с большим отрывом самые многочисленная) или Самар (вторая). И Перменко и Оненко вовсе не украинцы, Гейкер не немец, а Дигор - не осетин. Как установили генетики, нанайские роды имеют разное происхождение с разбросом в тысячи лет и видимо возникали по мере ассимиляции маньчжурами древних селений. Селения были по сути кустами стойбищ, центром каждого из которых служила фанза - 4-угольный дом с соломенной крышей на вкопанных в земляной пол столбах и нарами, под которыми циркулировал тёплый дым очагов. Жили в одной фанзе 2-3 семьи в компании собак, с которыми мужчины ходили на промыслы. Там их жилищем становились зимняя аонга (чум из шкур или брезента) и летний хоморан из ивовых прутьев и бересты. Фанзы исчезли без следа уже к середине ХХ века, а вот переносные жилища в залах музея собраны нанайскими охотниками.
6.
"Гольд без оморочки не делает даже шагу от своего стойбища. Куда бы не направлялся и как бы не был короток его путь, он всегда плывёт в оморочке. Даже по стойбищу гольды не ходят пешком, а всегда плавают в оморочке. Одним словом, оморочка до такой степени нужна гольду, что её можно рассматривать как органическое продолжение гольда: это - необходимый орган тела" - приводит одна из музейных табличек цитату этнографа начала ХХ века Ивана Лопатина. Конструкции лодок, в музее представленных уменьшенными копиями, наглядно иллюстрируют различия амурских народов: в середине - омоочин (длинная нанайская оморочка) с деревянным каркасом и берестяной обшивкой для амурских волн, слева утунгиэ (долблёная удэгейская оморочка) для мелкой тихой воды, справа опять же удэгейский бат с защитным клювом "ана" для порожистых горных речек.
7.
Ещё правее на кадре выше - традиционный костюм, куда входили и берестяная шляпа с местными орнаментами, и непромокаемые сапоги, и халат с боковой полой: для стойбища - левой, для промысла - правой. Китайцам амурские народы были известны как юйпи-дазцы - "рыбокожие туземцы": основным материалом их одежд и правда была рыбья кожа! Из неё делались даже женские платья "амири", и лишь по праздникам нанайцы облачались в цветастые ткани. Особо ценным был китайский шёлк, из которого шили роскошные "сикэ" - их многие амурские женщины надевали лишь дважды - на свадьбу и в качестве смертного савана. Пышные сикэ с нагрудниками (глухими у девушек и откидными для кормления грудью у жён), наплечниками, рукавицами и сапожками стали шедеврами нанайского искусства, ну а узоры украшали и платье невесты, и робу рыбака - ведь каждый завиток тут наделялся своим смыслом, превращаясь в оберег. Самый, пожалуй, эффектный из таких узоров - заметный тут в середине правой витрины "гаса-донкани" - "место, где садится птица".
8.
Амурский рыбак жил в одухотворенном мире, где звери, деревья, реки и камни имеют свою волю и понимают человеческую речь. Религия амурских народов была едина, но со своими нюансами: так, живший в домашних очагах дух огня Подя у нанайцев и ульчей изображался в виде старухи, у негидальцев был Отец-Огонь, а у орочей считалось, что пламя - это целая семья. В тайге именно дух огня был хранителем жизни и врагом тьмы: за трапезой часть еды отправлялась в очаг, а искры и потрескивания костра считались знаком, что лучше отложить намеченное дело. Морские народы тоже чтили Подю, но выше для них стоял Тэму - хозяин вод, у ороков бывший гигантской косаткой, а у материковых народов - четой старика и старухи, на своём островке разводящих всю рыбу мира. Ещё были демиурги Сэвэки (который создал всё полезное человеку) и Харги (сотворивший всё вредное), помогавшие им мамонт Холир (например, он осушил землю от мирового океана) и мировой змей Дябдар; царь зверей Синкэн на упряжках с тиграми или медведями; держащий нити человеческих судеб Майин и другие... На Земле жили чудовища - медведи-оборотни дуэнте, у которых след был "размером с кабаргу", или остроголовые великаны калу, каравшие тех, кто не бережлив к тайге. Калу хранили сумки с "щедрой шерстью", дающей охотнику вечную удачу, а побеждённый человеком калу оборачивался женщиной, рожавшей герою сына-богатыря. Но в первую очередь Боа (мир живых) пронизывали духи-хозяева гор, рек, лесов, явлений, рукотворных предметов и даже слов, которые вполне могли, воплотившись, вернуться. Деревянных идолов амурцы ставили у домов, чаще всего изображая Мангни - Солнечного охотника, что гонится за Лосем (Большой медведицей) на лыжах, оставляя следом Млечный путь. В этой вечной погоне происходила смена дня и ночи, потомками Мангни считались шаманы, а в преданиях он выступал то покровителем людей, то людоедом.
9.
Самые большие скопления идолов выдавали, конечно же, фанзы шаманов, и на кадре выше - такое вот придомовое святилище с берегов Уссури, найденное ещё Арсеньевым и позже целиком переехавшее в Гродековский музей. Мангни окружают многообразные сэвэны - духи-помощники: сила шамана текла в иных мирах подобно реке, а сэвэны жили на её притоках. На кадре выше это ни (двое оруженосцев Магни), паха-куа (птица), дым-яго тыэнко и накаса (коряги на переднем плане). На кадре ниже - атрибуты удэгейского колдуна: нагрудник, маска, антропоморфный сэвэн и самая настоящая амба - сэвэн-тигр, один из самых распространнённых помощников шамана.
10.
Шаманский бубен - карта потусторонних миров. Первичным из них был Оми - мир нерождённых душ, созревавших на великом древе. В нанайских повериях их приносили на Землю мелкие птички, в орочских - грибы-дождевики, в эвенкийских они оседали хвоинками или пушинками. Оми были способны к перерождению - у людей только в первый год жизни, а у животных - всегда, и потому охотничьи ритуалы были залогом сохранения биоресурсов. Душа животного находилась в той части тела, которой оно кормится: у оленя - в резцах, у волка - в клыках, у медведя - в лапах... Сугубо человеческой душой была пана, проявлявшаяся в виде теней и отражений, по ночам гулявшая по разным мирам, а посмертно уходившая в Буни - загробный мир, путь в который изыскал герой-охотник Хедау. Он стал первым умершим - прежде люди были бессмертны, но подвержены старению, и когда Хедау нашёл под гигантским котлом спуск в царство мёртвых, Земля была на грани демографического коллапса. В Буни хорошее и плохое меняются местами, сломанное становится целым, целое - сломанным, молодое - старым, а старое - молодым. Живой человек, попав в Буни, будет невидим для его обитателей, речь его они примут за стук дождя или треск очага, ему самому земля будет казаться похожей на дым, а солнце - тусклым, словно Луна. Но таким же видят Боа просочившиеся в него мёртвые души, и лишь шаман имел право хаживать между миров.
11.
Нынешние амурцы официально православные, но многие предки крестились по несколько раз - для попов царской эпохи они все были на одно лицо, а новокрещённым давали подарки. Как-то в одном амурском селе мне по секрету рассказывали, что у них есть шаманка, которая работает в школе учительницей русского языка, но порой помогает сородичам там, где не помогла медицина.
12.
На кадре ниже - фотопортрет, костюм и атрибуты ульчской шаманки Екатерины Оберталиной (1914-2005). В центре - её орочский коллега Сиану (Савелий) Хутунку (1881-75) да нанайские сэвэны (в основном связанные с Тэму) и посуда для кормления духов воды. Справа - деревянная посуда для медведя, которого из неё не ели, а наоборот - кормили: у народов из амурских низовий (то есть - не у нанайцев) практиковался Медвежий праздник. Медвежонка, убив его мать, люди похищали из берлоги и несколько лет растили в селении, как своего сородича. Зверя кормили, лечили, ласкали, а когда приходило время - выводили на круг и расстреливали из луков, отправляя к духам поведать о нуждах людей - такой вот эрзац человеческих жертвоприношений. Интересно, что у нивхов и айнов не было шаманов, а шаманство нанайцев, удэгейцев, ульчей не так-то отличалось от эвенкского или бурятского - скорее всего, оно было принесено на Амур маньчжурскими племенами.
13.
И хотя из фанз и стойбищ культура амурских народов ушла в музейные залы, всё же нельзя сказать, что она умерла. Скорее - вышла за пределы своих носителей, превратившись в достояние человечества. Орнаменты петроглифов давным-давно перекочевали на ткань, дерево и металл:
14.
На рыбью кожу:
14а.
И бересту, столь же популярную в изготовлении утвари:
15.
А с них - и в новое искусство. Вот скажем панно "Адэ Сэвэни", сделанное в 2000 году в Комсомольске-на-Амуре художницей Людмилой Уламовной Пассар (этот и прошлый кадр - из Арсеньевского музея во Владивостоке):
16.
На весь мир, заодно с нанайскими сказками (с детства помню имя Айога...), это искусство прославил хабаровчанин Геннадий Павлишин:
17.
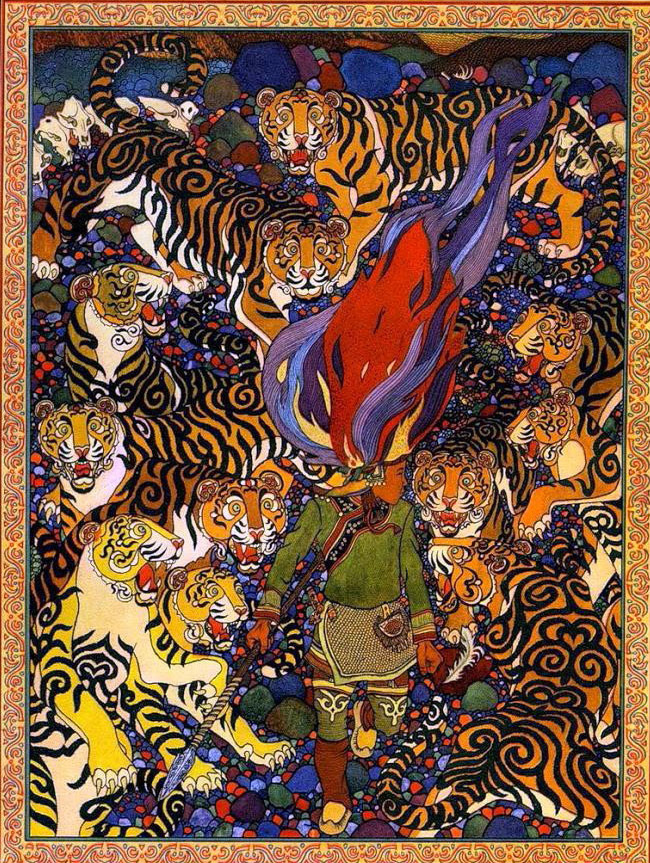
Теперь кривыми линиями здесь охотно рисуют русские художники - для Хабаровского края "нанайский стиль" стал чертой идентичности. Нравится это, конечно, не всем - мистика орнаментов забывается, а предметы и картины может и радуют глаз, а древней мудрости не раскрывают. Но то, что зародившееся в каменном веке искусство вообще проникло в 21-й век - уже немало, и в Сикачи-Аляне встречаются старейшее и новейшее звенья этой полтораставековой цепочки...
18.
...Трасса Хабаровск - Комсомольске-на-Амуре кажется пугающе пустой - сотнями километров не видишь с узкой дороги ничего, кроме двух стен тайги. Автостопом ездить по ней местные не советуют, опасаясь медведей и тигров, и всё же глушь обманчива - въездные стелы у поворотов напоминают о том, что в 10-20 километрах западнее, на берегу Амура, стоят десятки селений:
19.
Многие из этих сёл национальные - меж двух главных городов Хабаровского края раскинулся Нанайский район. Сикачи-Алян, сросшийся из стойбищ Сакачи, Алян и Чора, стоит ещё в Хабаровском районе, но - вполне в этом нанайском ряду. На въезде - остановка с криволинейным граффити да обелиск Победы:
20.
Две сотни жителей - это действительно мало, и сельский Дом культуры (2004) довлеет над деревней, как кафедральный собор. В нём есть ещё один музей и нанайский фольклорный ансамбль, иногда выступающий на "Стойбище Сородичей" для больших групп.
21.
Нанайская легенда гласит, что на заре времён на небе светило три солнца, и на камнях, от жара мягких словно воск, боги увлечённо рисовали. Но в рамках борьбы с изменением климата два солнца сбил из лука Хедау, скульптура которого стоит теперь перед ДК.
22.
Фон селения - Амур:
23.
На его заливе, слева от ДК, и расположилось "Стойбище Сородичей", на первый взгляд почти не выделяющееся среди частных домов.
24.
Оно и выросло вокруг частного дома семьи с удивительной для русского уха фамилией У. Местный уроженец Александр У - чистокровный нанаец и прирождённый рыбак, более десяти лет работавший в здешней школе учителем физкультуры. Его супруга Елена У - носитель не столько нанайской, сколько всеамурской культуры: она родом из Ульчского района, а среди предков её были ульчи, нивхи и даже айны. В Ульчском районе она работала экономистом рыболовецкого колхоза, в Хабаровске - учителем рисования и черчения и научным сотрудником Гродековского музея, да и в Москве Елена частый гость - она представляет Приамурье в Ассоциации коренных малочисленных народов России. Вокруг семьи У в 2003 году образовалась нанайско-ульчская община "Сородичи", а в 2013 Александр и Елена организовали культурный центр, своими яркими красками и живым общением дополнивший холодные камни Сикачи-Аляна.
25.
Подворья довольно обширно и спускается прямо к заливу. Раньше здесь привлекала взгляд аонга, но сложности её содержания да теснота вынудили У построить для гостей более прозаичную беседку. Туристы сюда приезжают практически в каждый из выходных, и я как блоггер договорился присоединить меня к готовой группе.
26.
Культурная программа начинается с Обряда Очищения, суть которого Елена объяснила так: "сегодня вы - нанайцы". Александр зажёг в специальной плошке ароматный багульник, а Елена и дочь Даша запели под аккомпанемент бубна. Кажется, тут я единственный раз услышал нанайский язык, на слух оказавшийся очень красивым.
27.
Дом, куда мы прошли под эту песню, больше похож на гостиную, где хозяева держат дорогие их сердцу предметы, чем на музей:
28.
Дизайнерская находка - лыжи, покрывающие потолок:
29.
В отдельном шкафу - резные маски, посуда, соединённые цепочкой палочки для еды и ножи в покрытых спиралями ножнах:
30.
Это не сувениры - мастеров среди нанайцев немало, но пока никто не решился поставить ремесло на поток.
30а.

Впрочем, дерево и береста здесь второстепенны - сквозь всю экскурсию проплывает рыба. На женской половине мира (а мир нанайца, как и у всех таёжных народов, твёрдо делился по гендерному признаку) рыба оставляет кожу, выделка которой - пожалуй, самая яркая "фишка" амурских народов.
31.
По своим свойствам рыбья кожа похожа на мембранную ткань - непромокаемая, но дышащая. Вещи из неё хранили, набивая травой, но в общем главным недостатком рыбьей кожи была недолговечность - одежда снашивалась в среднем за сезон. Зато могла служить неприкосновенным запасом: хорошенько проваренные халат или сумка из такого материала съедобны.
31а.
В выделку шла прочная толстая кожа крупных рыб вроде тайменя или кеты. Первым этапом аккуратно снятую шкуру подвешивали, чтобы из неё стёк жир - этот процесс занимал не менее нескольких дней, но чем качественнее обезжиришь шкуру - тем дольше она прослужит. Дальше кожу надо было освободить от чешуи, и тут применялись две техники - выминание и вынимание.
32.
Первое делалось специальным станком (кадр выше), второе - ножом, строчка за строчкой. Вынимать чешую достаточно быстро умели только опытные мастерицы, но такая кожа была гораздо мягче, теплее и долговечнее - на ощупь она похожа на замшу.
33.
Для зимней одежды выделывались более привычные шкуры зверей, из которых делали ровдугу (грубую замшу):
34.
С рыбьей кожей Елена проводит что-то вроде мастер-класса, а вот одежду из тканей можно примерить для фотосессии. В основном такая одежда была праздничной, а стало быть очень красивой и яркой. Вот амири и характерная шапка с бисером, прикрывавшая уши:
35.
А вот роскошный шёлковый сикэ с прямой полой:
36.
Костюм нанайки отличает многослойность, и сам халат не смотрится без поясов или нагрудников. Обереги же было принято носить под халатом - очень красивые, делались они не для красоты, а для защиты от враждебных духов.
37.
Полное платье вышито на тряпичной кукле, так же лежавшей в берестяном коробке с рыбьими кожами. У нанайских игрушек вид совсем другой. Например, акуан - плоская бумажная кукла, название которой означает "спинка халата": она изображает девушку, к зрителю стоящую спиной. Ведь древнее поверье одушевленным считало то, у чего есть глаза, а значит наделив куклу лицом, человек впустил бы в свой дом неизвестного духа.
38.
Между тем, рыба плывёт на мужскую половину мира. Во многих нанайских домах хранятся гарпуны и крючья, которым вполне может быть 200-300 лет. С давних времён амурские рыбаки использовали остроги (дёгбо) и сети (адоли) разных конструкций, в том числе мэнгэны - мостки с регулируемыми сетями на мелководьях. Последние прижились и у русских как "заездки", и их промышленный вариант по-прежнему заполоняет в путину амурское устье. Но больше нанайцы переняли у русских - например, удочки и невода.
39.
На веранде гидом стал Александр: рыбу ловить - труд для мужчин!
40.
Его рассказ мы слушали под вяленую корюшку. Она и открывает путину, приходя в Амур, как и в Неву, в апреле-мае. Следом, в мае-июне, мечут зеленовато-чёрную икру осетры и гигантские калуги, наряду с волжскими белугами крупнейшие из пресноводных рыб. В наше время для законопослушных рыбаков в России это мёртвый сезон, зато страда для браконьеров. К августу появляется немногочисленная амурская горбуша, и только ближе к осени приходит главная рыба Манбо - кета, которая делится на летнюю и осенюю.
41.
Последней, в декабре, по нижней стороне речного льда ползёт минога:
41а.

Самые ходовые рыбы, помимо кеты - карась, сиг, минога, чёрный толстолоб, сазан, змееголов. Они не так вкусны, если верить рассказам, как чёрный лещ, желтощёк и "китайский окунь" ауха - те включены в Красную книгу, однако кого такими угостят - тем повезло.
42.
Вопреки расхожему мнению, коренные жители рыбачат не безлимитно, а список квот на семью писали явно не на амурских берегах. Дело даже не в объёмах, актуальных разве что к праздничному столу - что за рыба такая желтопёр, например, в Хабаровском крае не знают...
42а.
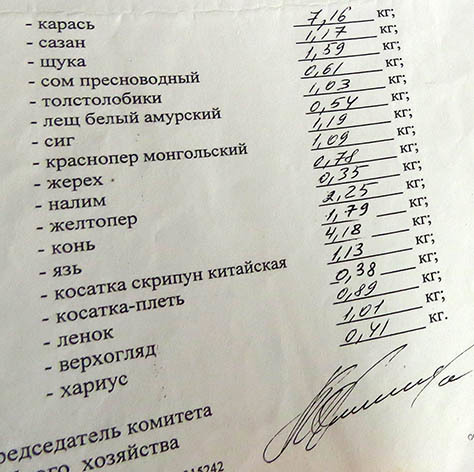
И всё же "Стойбище Сородичей" - едва ли не единственное место, где любой желающий может приобщиться к нанайской кухне, которая, вопреки стереотипам о народа Севера, вполне удобоварима. Кроме, разве что, боды - крупяного киселя, который по многолетнему опыту здесь подавать перестали. Мне, видимо по сезонным причинам не повезло попробовать чоло (суп из полыни с грибами), но "визитная карточка" нанайской кухни - тала. Её делают из сырой подмороженной рыбы, в идеале из сига или осетровых, но не из лосося. Ведь талой подкреплялись рыбаки на льду, доставая из проруби рыб и бросая их полежать на морозе. Рыбье мясо нарезают "соломкой", заправляют солью и смешивают с луком или черемшой. В городе вместо соли чаще используют уксус, а веяние русское эпохи - дарбитун, где вместо рыбы картошка. Нам досталась тала из двух видов рыбы, черемши и уксуса: кислый вкус её действительно приятен и самобытен, ближайшим аналогом я бы назвал севиче. Тала на Амуре считается лучшей закуской к водке, а самый известный у нанайцев тост "Гэ!" на русский можно перевести как "Ну!": абстрактное побудительное междометие, за которым стоит пожелание осуществить любое дело.
43.
Ну а на горячее - белая рыба трёх видов и самолепные пельмени из кеты. На пятерых поданной еды хватило с избытком и где-то треть мы забрали с собой. Так что если нанайскую кухню хочется попробовать во всём разнообразии - лучше ехать сюда большой группой.
44.
Напоследок нас ждал внизу бат - так называют на Дальнем Востоке современные лодки традиционной конструкции, которые делает какая-то частная мастерская в Комсомольске-на-Амуре. Длинные, плоскодонные и симметричные, "новые баты" похожи на помесь традиционного бата с оморочкой, этакое обобщение всего тысячелетнего опыта амурского лодкостроения. Размера они бывают огромного - до 12 метров длиной и до тонны грузоподъемности, и кажется, этот бат даже несколько меньше того, на котором в прошлом году я поднимался по уссурийскому Иману.
45.
Елена осталась на Стойбище, а водную экскурсию проводят Александр и Даша, которая помогает отцу с швартовкой и, видимо, показывает петроглифы. Вот только, - об этом мы знали заранее, - не в этот раз! В начале поста вместо аутентичный петроглифов Сикачи-Аляна я показывал их бетонные слепки во дворе Хабаровского археологического музея (не путать с Гродековским!) - шедевры древнего искусства Амур открывает не всем и не всегда. Выбитые на прибрежных камнях, многие рисунки видны только по очень низкой воде, а высокая вода скрывает петроглифы полностью. Водомером для У служит дерево с кадра выше - при том же уровне вода доходит до его корней, а тут, как видите, ещё на полметра выше.
46.
И хотя в 2013 году на Амуре случилось катастрофическое наводнение, всё же прошлая дюжина лет была маловодной. На месте залива под "Стойбищем Сородичей" зеленела лужайка, где устраивались пикники и дети гоняли мяч, петроглифы же можно было видеть практически в любое время. В 2020-м, однако, что-то поменялось: я тогда договорился с Еленой об экскурсии, но буквально накануне узнал, что все группы отменились, а петроглифы скрыты водой. Самая высокая вода в Амуре не весной, а с августа по октябрь, и потому следующий визит в Сикачи-Алян я запланировал на июнь. К ноябрю вода обычно спадает, но в 2020-м Амур замёрз по высокой воде, весной разворотив ледяными торосами новенькую набережную в Хабаровске. В июне уровень воды был на грани: три дня сухо - петроглифы видны, день дождя - скрыты, и мне, увы, опять не повезло. Третья попытка в сентябре, на обратном пути, тоже закономерно не увенчалась успехом....
47.
Александр покатал нас по амурским волнам (весьма ощутимым!) маршрутом экскурсии, и бат ходил прямо над расписными камнями. Ледоходы по высокой воде наносят им урон, утаскивая камни на большие глубины или опрокидывая вниз рисунком. Елена рассказывала про одно из изображений, в котором заезжие краеведы углядели небесную ладью, но стоило было показать им фотографию перевёрнутой - как они признали лося. Иногда, наоборот, льдины переворачивают валуны, открывая ранее скрытое, так что точного количества рисунков Сикачи-Аляна не знает никто - доступно около 200 рисунков, а описано - около 300. Открыл их в 1859 году эстонец Ричард Маак, позже изучали Владимир Альфтан, Лев Штернберг, Арсеньев, но самое полное научное описание сделал Алексей Окладников в 1935 году.
48.
Петроглифы образуют два скопления - Верхние камни даже в маловодный год доступны только на лодке, а более многочисленные Нижние лежат буквально на околице села. Но по высокой воде увидеть можно только советские стелы (1988) - Верхняя на заглавном, а Нижняя на прошлом кадрах.
49.
Так что надёжнее всего приезжать сюда зимой или поздней бесснежной осенью. Золотой век ЖЖ выпал как раз на маловодные годы, так что за фотографиями древних рисунков я могу отослать, скажем, сюда или сюда. У
 dkphoto есть ещё и фотографии небольшого музея деревянного зодчества на близлежащей базе отдыха, про который я не слышал более нигде - впрочем, похожий музей в прежде видел в Приморье. Ну а "Стойбище Сородичей", на мой взгляд, и само по себе достойно визита...
dkphoto есть ещё и фотографии небольшого музея деревянного зодчества на близлежащей базе отдыха, про который я не слышал более нигде - впрочем, похожий музей в прежде видел в Приморье. Ну а "Стойбище Сородичей", на мой взгляд, и само по себе достойно визита...50.
А вот рыбак сидит на берегу. Он поменял ныне забытый язык на нанайский, а нанайский на русский; правополый халат из рыбьих шкур - на камуфляж Советской Армии; острогу - на спининг, медведя в роли главного врага - на инспектора из рыбнадзора. Не так уж много за 13 тысяч лет...
51.
На этом закончим рассказ про Дальний Восток-2021 и в следующей части будем покидать его по БАМу. Только не сразу, а после короткий поездки на Кубань на следующей неделе.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2021
Суровое Сибирское Лето. Июнь.
Приморье
Фокино. Техас и Дунай.
Фокино. Остров Путятин.
Хабаровский край
Хабаровск. Южные окраины.
"Заря" до Новокуровки.
Сикачи-Алян.
|
Метки: Дальний Восток дорожное рыбацкое этнография |
Оседлать "Зарю". Из Хабаровска в Новокуровку и обратно. |
Всего в нескольких десятках километров от модных набережных и просторных улиц Хабаровска, его ларьков с полиморфной шаурмой и показанных в прошлой части рабочих окраин стоят сёла, в которые нет сухопутных дорог. Вместо ПАЗика туда курсирует "Заря" - маленькое скоростное судно, необычное устройство которого повергает в восторг всякого ценителя транспортной экзотики. И сегодня прокатимся на ней по плавням и протокам, погуляем по затерянной среди них деревне Новокуровка и напоследок полюбуемся городом с Амура в грозовой закат.
Поймать "Зарю" в столице Дальнего Востока не так-то просто: хотя на одной из главных площадей Хабаровска стоит сталинское здание Амурского речного пароходства, пассажирскими перевозками в своей зоне ответственности последнее не занимается вообще. У "Метеора" в низовьях и пары пригородных судов в Комсомольске-на-Амуре свой оператор "КомПасс", а в окрестностях Хабаровска линии сугубо муниципальные. То есть ведает ими региональный минтранс с клиентоориентированностью на уровне паспортного стола или районной поликлиники. Расписание "Зари" гуглится без проблем, а вот выяснить, откуда она отправляется и не отменён ли данный конкретный рейс мне удалось только через цепочку звонков, которую завершил номер +7 4212 328255. Впрочем, и на него я дозвонился не с первой попытки - хотя начал звонить я около 9 утра (то есть 2 часов ночи по Москве), трубку на том конце сняли только после полудня. Поиски "Зари" - тоже тот ещё квест: Речной вокзал в Хабаровске в принципе есть, вот только отходят с него пригородные суда лишь по низкой воде, которой на Амуре уже пару лет как не видели. В многоводные периоды речные маршруты начинаются из затона РЭБ Флота, которым я заканчивал прошлую часть. Как пройти к причалу, мне ответили по телефону примерно так: автобус до остановки Прибрежная, оттуда вниз к реке от магазина "Раз-Два". "Заря" на Амуре ранняя, гостил я за полгорода оттуда, поэтому, к неудовольствию своей спутницы Айны я предпочёл взять такси. Туманным утром водитель завёз нас в микрорайон, разбрызгивая грязь в лужах ветхих дворов...
2.
А потом гаражи и хрущёвки вдруг расступились, и мы увидели немаленькую даже за час до отправления толпу людей, собравшуюся на мрачноватом грязном берегу без причала:
3.
К счастью для нас, "на Победу" (по конечному пункту "Зари") ехали далеко не все они и даже не большинство - в таком речном городе, как Хабаровск, навигация есть аж трёх видов. Речной трамвайчик с кадра выше, которого и ждал в основном народ - пригородный, повезёт людей на какие-то дачи по островам в дельте Уссури. "Полесье" - международное, и на берег оно вытащено не случайно: вместе с китайскими "Лунтанами" (отличаются компоновкой салона) такие бегают в Фуюань, полтора года как не актуальный. Ну а "Заря" здесь как междугородний автобус:
4.
"Полесья", строившиеся в 1983-96 годах в белорусском Гомеле - из славного семейства судов на подводных крыльях, как знакомые по многим рекам "Метеор" или "Восход". "Заря", выпускавшаяся в 1965-81 годах судозаводом в Том Самом городе, который "ничего не производит" - совершенно другая машина. Формой днища она напоминает что-то среднее между плоскодонкой и катамараном, вместо винтов использует водомёты, и как результат - спокойно причаливает там, где глубина по щиколотку, порой, как на заглавном кадре, врезаясь полозьями в ил. Ближайшие аналоги её - сухопутный "Нефаз" и воздушный Ми-8: пассажирский транспорт глухомани, где ничего больше не сможет пройти.
5.
Всего с московских стапелей вышло около двухсот "Зорь", в позднем СССР работавших во всех речных пароходствах. В 21 веке "Зори" гаснут одна за другой - так, моё первое знакомство с "речными санками" могло состояться в 2008 году в Котласе, откуда я хотел красиво попасть в древний Сольвычегодск. Но примерно через полчаса после времени отправления народ разбрёлся от пристани, рутинно поняв, что лодочка сломалась - причём окончательно. Ныне крупнейшими гнездами "Зари" считаются Ханты-Мансийск и Берёзово в окружении своей "холодной сельвы", однако на Нижней Оби в её изобилии речных судов всех возможных видов "Зори" не очень-то заметны. Единичные "Зори" можно видеть на самых разных реках и озёрах, где они то выходят из строя, то восстанавливаются в силу своей незаменимости. "Заря" - типично русская машина, которой за универсальную проходимость прощают любую прожорливость и ненадёжность...
6.
"Заря" невелика - 22,5 метра длиной, 4 метра шириной и всего 3 метра высоты, если со сложенной мачтой. Скорость "Зари" вполне автобусная - до 45 км/ч. Для фотографа же явный минус этого чуда техники - отсутствие каких-либо палуб, так что место лучше занимать у окна на последнем сидении, где никому из пассажиров не будет дуть.
7.
Салон вмещает от 66 до 86 человек (в зависимости от того, берут ли стоячих пассажиров) и напоминает салон старомодного автобуса. Наша "Заря" - по возрасту вполне средняя, спущена на воду в 1976 году:
8.
За крайними сидениями - место для барахла (которое наваливают кучей), проход в машинное отделение и конечно же гальюн, без фото которого транспортный пост не засчитывается:
8а.

Перед первыми сидениями - касса, единственная для всего рейса: на берегу речных касс в Хабаровске нет. За 140 километров до предпоследнего причала Новокуровка мы отдали по 1026 рублей, но эта цена не автобусная только с точки зрения тех, кто никогда не был на Дальнем Востоке. 6-7 рублей за километр - не так-то и много, если учесть, что на Сахалине или в Приморье у банальных автобусов километр стоит 4-5 рублей.
9а.
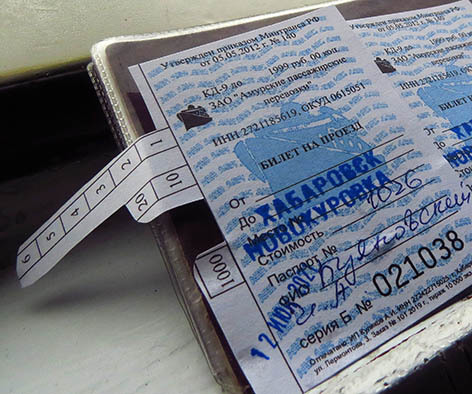
И вот хмурым утром в РЭБовском затоне чудо-сани заскользили по поверхности воды:
9.
Место нам досталось у левого борта, с которого в черте Хабаровска хорошие виды открываются лишь на обратном пути. Утром же мы видели только низменные острова Хабаровского архипелага, мимо которых тянулись в Китай нескончаемые лесовозные баржи. Выделяется разве что Амурский мост им. 5000 рублей, в 1914-16 годах замкнувший Транссибирскую магистраль. На момент постройки самый длинный в Старом свете (2599м), он остался и крупнейшим мостом в пределах СССР, в полтора раза превосходя Саратовский мост - крупнейший из построенных при Советах. В нынешней России он спустился к концу десятки - не вполне очевидно, что за каждое из двух десятилетий 21 века "разворованная Эрэфия" построила больше гигантских мостов, чем весь Нерушимый Союз.
10.
Причём это касается не только строительства "с нуля", но и обновления старой инфраструктуры: с 1910-х у Амурского моста остались только опоры, а полотно с двумя железнодорожными путями (старое было 1-путным) и ярусом шоссе соорудили заново в 1992-2005 годах. И хотя изящные старые фермы и крупнейшие в дореволюционные России бетонные виадуки жаль, мост всё равно грандиозен, с какой стороны не взгляни:
10а.

За мостом - гигантская опора перехода ЛЭП на Заячье острове и портовые краны Посёлка имени Тельмана (1,2 тыс. жит.) на протоке за ним. Он относится уже к Еврейской автономной области (см. Биробиджан), по речным границам которой и пролегает половина нашего пути.
11.
Обогнув следующий необитаемый остров Малышева, "Заря" входит в устье Тунгуски - солидной по европейским и заурядной по дальневосточным меркам реки расходом воды примерно в половину Дона (408 м³/с). Вдоль рек, как и вдоль трасс - километровые столбики, считающие расстояние против течения, от устья к истоку. Они же на Тунгуске служат створными знаками - точка, с которой два знака накладываются друг на друга, отмечает фарватер:
12.
По левому борту, в Еврейской АО тянутся бескрайние травянистые плавни - хотя географически тут правый берег. Но такая "вывернутость наизнанку" - не редкое свойство рек: принадлежащий Хабаровскому краю левый берег Тунгуски высок и местами скалист:
13.
Да и первая на пути деревенька в часе пути от Хабаровска красноречиво называется Новокаменка:
14.
Испокон веков тут стояло нанайской стойбище Але, близ которого царские путейцы проводили изыскания Амурской железной дороги на предмет начала стройки будущего моста. Станции здесь не появилось, а вот добыча обнаруженного тогда строительного камня началась в 1927 году. Деревню горняков назвали просто Каменкой, но в 1960-х годах карьеры полностью поглотили её, а люди переселились чуть выше по течению, образовав Новокаменку. О стойбище нанайцев к тому времени не напоминало уже ничего, ну а после распада СССР и карьеры затихли: Новокаменка - дачный посёлок без постоянного населения. Сама деревенька запоминается необычным памятником Победы неясного возраста, но главная её достопримечательность - столбчатая скала Каменный Водопад. Это название куда ближе к истине, чем альтернативное Пагода Дьявола - подобные скалы (см. Славянка, Кунашир, Гарни) образуются из застывающей лавы. Впрочем, судя по всему, "водопад" невысок - с воды я его так и не высмотрел:
14а.
"Заря" стоит в Новокаменке долго, добрых 20 минут, и пассажиры высыпают на нос курить. Помимо наших "водяных саней" сюда ходит "речной трамвайчик". Да и на моторной лодке летом или машине зимой тут рукой подать до круглогодичных дорог:
15.
Ведь всего в 5 километрах выше по Тунгуске, со стороны Еврейской области, расположилась следующая пристань Николаевка в одноимённом и довольно крупном (6,5 тыс. жителей) ПГТ, вытянутом от реки до Транссиба. Логично подумать, что и начиналась Николаевка со станции, но исторический центр её искать стоит, видимо, всё же у реки - селение известно с 1898 года, а стальную магистраль к Амуру напротив Хабаровска вывели лишь в 1910-х.
16.
Километрах в 15 далее через реку перекинут ещё один железнодорожный мост. Но это уже не Транссиб, а перпендикулярную ему линия ВолК, то есть Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре (1938-40). Стало быть, в 2018 году, в свой первый вояж по Дальнему Востоку, я проезжал и через этот мост.
17.
За мостом последний раз к реке выходят круглогодичные дороги, где рыбаки снимаю с джипов лодки:
18.
В расписании значатся пристани Турбаза и Архангеловка, но первую мы не приметили вообще, а вторая оказалась просто лесной поляной у берега, где, кажется, и не высадился никто даже - просто команда, а стало быть и пассажиры, в соблюдении расписания нашли повод устроить себе перекур:
19.
Сама же Тунгуска довольно коротка - всего 86 километров. Куда длиннее два её притока - Кур и Урми, по которым и коренные жители здешних мест были известны как курурмийские нанайцы. Тут можно вспомнить, что у десятка коренных народов Приамурья сходств больше, чем различий: горно-таёжных охотников удэгейцев от морских рыбаков орочей отделяет в первую очередь хозяйство, и только как следствие - духовная культура или язык. Нанайцы, крупнейший из этих народов, были в первую очередь рыбаками с бескрайних плёсов Амура, на суше охотясь в основном для подсобных нужд. Курурмийцы на своих мелких равнинных речках держались особняком: рыба к ним приходила позже, зато леса были изобильнее, и если амурские гольды (как называли нанайцев когда-то) торговали в Хабаровске рыбой, местные охотнее возили в город дичь, в особенности уток-клохтунов.
20а.
Стрелку Кура и Урми я честно пытался высмотреть среди плавней, но даже регулярные сверки с картой не помогли - Кур, в который мы свернули, сменил Тунгуску под полозьями "речных саней" совершенно не заметно. Здесь же осталась за кормой и Еврейская автономная область - её граница тянется вдоль Урми, а у Кура оба берега в Хабаровском крае. Кур в разы длиннее Тунгуски - в нём 438 километров, причём течёт он параллельно Амуру, но только в противоположную сторону: курский исток находится за хребтом Джаки-Унахта-Якбыяна от Комсомольска-на-Амуре. Оттуда в верховья реки ведёт грунтовка через Курский перевал, которой забрасываются на сплав рыбаки и туристы. Болотистые курские низовья же лишены дорог, но не лишены селений - в 4 километрах от стрелки встречает Улика Национальная:
20.
Официально здесь живёт полторы сотни человек, из них 9/10 - нанайцы из рода Удинкан. Я знал, что особого национального колорита здесь ожидать не стоит, и всё же готовился к обилию азиатских лиц, как в ульчских сёлах низовий Амура. Но судя по всему, летом село заполоняют хабаровские дачники, а курурмийцы уходят в леса - единственный встреченный здесь человек азиатской внешности с кадра выше и то больше похож на корейца. Главным впечатлением Улики стали не люди, а техника - здоровенный драндулет-самоделка сперва показался мне брошенным, однако чуть отойдя от пристани и вернувшись, я с удивлением понял, что он укатил:
21.
Основным же занятием местных жителей с советских времён были не рыбалки и не охота, а лесозаготовки. И хотя судьба леспромхоза была тут вполне типичной для постсоветской эпохи, судя по прибрежным избам со складами досок, в частных руках его дело живёт:
22.
Эти избы, возможно, уже не Улика-Национальная, а Улика-Павловка, расположенная 3 километрами далее - в расписании она тоже значится, но "Заря" прошла её без остановок:
23.
Впереди становятся видны сливающиеся в единый гребень Шаманская, Краснокуровская и Новокуровская сопки:
24.
Где-то под ними на заре русского господства в Приамурье возникла охотничья заимка, вокруг которой к концу столетия разрослось село. Возможно, бывшее по сути такими же дачами, куда перебирались охотники и перевозили с собой семьи - официального названия у деревни не было, а в обиходе она была известна как Три Сестры. В 1908 году к хмурым таёжникам забрался проповедник, фамилию которого я долго пытался назвать Айне по памяти - то ли Праздников, то ли Ярмаркин, а оказалось - Иван Восторгов. Уроженец Кубани, первоначально он служил в церквях Закавказья и задолго до Урми успел побывать на берега персидской Урмии, где примкнула к РПЦ местная община ассирийцев. Там Восторгов и открыл в себе миссионера, и пройдя в Москве "курс молодого бойца", отправился в восточные пределы. От Иркутска до Харбина он проповедовал не "туземцам", а именно русским переселенцам, среди которых на Дальнем Востоке уже в те времена вели активную миссионерскую работу баптисты и протестанты. Видя, куда клонится страна, Иван Иванович стал ярым монархистом, вступив Российскую монархическую партию ещё в революцию 1905 года, и видимо на этом и погорел: в 1918 году Восторгов был арестован в Москве и вскоре казнён.
25.
Колонии у Трёх Сесётр проповедник Иоанн ещё в 1908 году прислал денег на строительство церкви. Местные жители на радостях переименовали село в Восторговку, а вот подарок использовали как-то иначе, уж не знаю, на протестантский храм употребив или на что-то мирское и потому практичное. Да и кто бы поехал сюда проверять, что церковь так и не построена? Даже имя контрреволюционного элемента стёрли с карты только в 1922 году, и несмотря на близость Краснокуровской сопки, Восторговка сделалась Новокуровкой:
26.
Сейчас тут живёт 350 человек, и по меркам амурской глуши это много. Особенно когда едва ли не всё население выходит на берег встречать "Зарю", путь которой сюда из Хабаровска длится 4,5 часа:
27.
Среди "буханок" и мотоциклов с коляской затесался раритетный (выпускалс с 1952 года) "Джип Мицубиси", в таком состоянии больше похожий на самоделку:
28.
"Заря" ушла дальше по Куру - её конечным пунктом в 195 километрах от Хабаровска (это 6 часов пути) служит крупный посёлок Победа, с предместьем Пасека вмещающий как бы не тысячу жителей. В основном это потомки украинских спецпереселенцев, после войны сосланных в глушь работать на лесовозной Уликанской УЖД, последние вагоны которой ещё валяются там на сельских улицах. Вероятно, на её месте проходит и круглогодичная, но изолированная дорога, ведущая из Победы к "ВолКовским" станциям Литовко, Санболи и Форель. До Победы дойти мы и собирались поначалу, но продавщица билетов буквально уговорила нас высаживаться в Новокуровке - в Победе, или вернее на Пасеке, "Заря" стоит 40 минут, а тут у нас будет 3,5 часа на погулять, пообедать или искупаться. Решение оказалось безусловно верным - хоть и застроена Новокуровка советскими избами из бруса, деревня без дорог не может не быть колоритной.
29.
На первый взгляд Новокуровка - просто очень глухое село, редко стоящие дома которого раскинулись на пару километров вдоль рыхлой грунтовки:
30.
По обилию пустырей хорошо заметно, что когда-то деревня была гораздо многолюднее - до 1,4 тыс. жителей в 1959 году. О былом расцвете напоминает несколько капитальных общественных зданий - вот, кажется, детский сад:
31.
А напротив - ДК и почта, работающая по несколько часов в среду, пятницу и субботу. Айна хотела послать из Новокуровки открытку, и именно в субботу нас сюда занесло, но тем не менее дверь под деревянным колоннами оказалась заперта наглухо. Попытка найти почтмейстера превратилась в экскурсию по трём сельпо за москитными сетками, но результатов не дала.
32.
У крыльца - пара мемориальных досок с деревянными же буковками
32а.

У многих домов Новокуровки привлекают взгляд бочки - та бескрайняя вода, среди которой стоят здешние деревни, для питья непригодна, грунтовые воды же для колодцев и скважин слишком глубоки. Поэтому живя на воде, рыбача на воде, перемещаясь по воде, пьют жители курских деревень привозную воду:
33.
Впрочем, бочки - не самое впечатляющее, что может стоять у здешних домов. О том, что мы находимся в селе, лишённом сухопутной связи с внешним миром, напоминает транспорт:
34.
С грузовиками времён расцвета местного леспромхоза и парой гусеничных вездеходов соседствуют джипы на грандиозных колёсах...
35.
...и самодельные, но явно подражающие друг другу каракаты с колёсами из перетянутых камер. Грузовики да УАЗы, возможно, катаются в Хабаровск по зимнику, а вот всё остальное - явно для окрестных просек и болот:
36.
При взгляде с берега Три Сестры над селом сливаются с фоном - Новокуровка стоит на их пологом склоне. Куда заметнее сопка с ретрансляторами, до которых доминантой селения был рыцарского вида памятник героям то ли Великой Отечественной, то ли Гражданской войны:
37.
Побелёные Красные рыцари здорово смотрятся на фоне бескрайних проток:
38.
По высокой воде напоминающих сельву Амазонии:
39.
Сопки же тут понемногу сгущаются:
40.
У самого горизонта сменяясь настоящими горами невысокого Куканского хребта. В переводе с нанайского это название значит Хребет Смерти - говорят, когда-то все до единого нанайские стойбища на той его стороне выкосила оспа, и с тех пор в курурмийских повериях эти горы стали границей мира живых с миром мёртвых.
41.
3,5 часов на прогулку по Новокуровке хватает с избытком - мы успели обойти село от околицы до околицы, устроить пикничок у вытащенных на берег лодок, искупаться в ледяной, и всё ж таки приятной воде (даром что влажная жара тут вполне тропическая!) и всё равно к причалу "Зари" вернулись минут за 40 до её возвращения.
42.
У причала понемногу собирался народ. Рядом купалась прямо в цветастой одежде компания девочек младшешкольного возраста, одна из которых, приметив колоритных гостей, подарила нам камушек с речного дна. С девочками разговорилась Айна, и вскоре мы знали, что они здесь в гостях - летом немалую часть прохожих в Новокуровке составляют те же дачники, приезжающие к таёжной родне. Узнав, что я из Москвы, девочки сразу оживились и спросили, не видел ли я там каких-нибудь популярных блоггеров, само собой имея в виду не Варламова или Тёму, а каких-нибудь малоинтересных мне звёзд ТикТока. На фото, само собой, не наши собеседницы, а видимо селянки, принарядившиеся встречать лихого гостя из Победы:
43.
Пару раз по зеркальной воде разносился механический рёв, но по детству на Каме я ни с чем не спутаю звук моторной лодки - до "Зари" по Куру приехало несколько пассажиров. Сама "Заря" проявилась за поворотом совсем другим звуком, более трубным и мелодичным. А вскоре и сама показалась в небе зеркальной реки:
44.
И уже отбывая, я сфотографировал из окна внушительное здание с синей кровлей, куда мы не догадались зайти, и видимо зря: церковь в бывшей Восторговке всё-таки построили, но только не православную, а баптистскую. Сама её община пока представлена в основном пришлыми людьми из Хабаровска, одним из которых стал интеллигентный и очень разговорчивый паренёк, пристроившийся к нам с Айной на лавочку - прошлым рейсом он привёз в Новокуровку книги и теперь возвращался домой.
45.
Как и положено миссионеру, паренёк оказался очень разговорчивым, но сидела рядом с ним Айна, а я откинулся на мягкой лавке и уснул. Просыпаясь, я видел привычные пейзажи плавней, и лишь когда полозья "Зари" вновь стали сечь амурские волны, я проснулся окончательно и достал фотоаппарат. По левому борту "вдоль Амура белым парусом высятся дома Хабаровска":
46.
Под зелёным мысом почти напротив устья Тунгуски виднеется База КАФ, колоритный район военного порта самого грозного пресноводного флота в истории. Ближе - знакомый уже Амурский мост над рекой и последний пролёт "старого" Амурского моста, ставший центром железнодорожного музея с обилием уникальных машин вроде мотрисы маршала Блюхера.
47.
Над музеем - таинственная Башня Инфиделя, недостроенное сооружение 1940-х годов на вершине сопки, о назначении которого краеведы и поныне к единому мнению не пришли. Но именно с её крыши был снят самый приятный глазу русского человека пейзаж:
48.
Про оба эти района, как и про дорогу к ним по индустриальной Тихоокеанской улице, с прошлого приезда у меня есть отдельный пост. Мимо ТЭЦ-2 (1934-36) с высоченной трубой и станции Хабаровск-Пристань, где в 1897-1914 годах заканчивалась Уссурийская железная дорога...
49.
..."Заря" приближалась к центру Хабаровска. Его открывает ковш (залив) местного яхт-клуба, построенного в 1950-х годах в виде микро-Адмиралтейства:
49а.
Дальше тянется капитальная набережная с беседками, официально известная как Парк стадиона имени Ленина. Где-то здесь в его зелень "впадает" Амурский бульвар, проложенный в 1960-х годах соответственно над речкой Чердымовкой, впадающей тут в амурские волны. Своё название она получила по фамилии купца, владевшего пристанью в её устье, а прежде была известна как Хэдия-Бури, то есть Нижняя Бури:
50.
Между ней и Плюснинкой, ныне Уссурийским бульваром, а в дорусскую эпоху Солиа-Бури (Верхней Бури) высится Амурский утёс, нанайцам известный как Хандако - Остановка, или Мама-Хуриээни - Старушечья скала. В их повериях там жила то ли Вселенская мать, приглашавшая новых людей из Мира Нерождённых Душ, то ли прародительница нанайцев Мамелджи, жена эпического воина Хедау. Но "свято мест пусто не бывает": в 1858 году восточно-сибирский генерал-губернатор Николай Муравьёв и основал на скале пост Хабаровка. Совершенно заурядный среди прочих постов, пикетов и станиц: возглавив Восточную Сибирь, Муравьёв сразу устремил свой взор "встречь Солнцу", на формально китайскую, а фактически ничью землю в бассейне Амура, в устье которого к тому времени Геннадий Невельской строил будущий Николаевск. Выделив в 1854 году из Сибирского казачьего войска Забайкальское войско, Муравьёв организовал 4 сплава, сочетавших элементы посольства, экспедиции и колонилаьного захвата. Хабаровку, как Юрий Долгорукий Москву, Муравьёв-Амурский основал совершенно между делом, и уже после его смерти она стремительно пошла в рост, став в итоге центром Дальнего Востока. Ну а памятник Муравьёву-Амурскому, этому "Дальневосточному Петру I", что прорубил России окно в Азиатско-Тихоокенский регион, установили на Амурском утёсе уже в 1891 году. На табличке под утёсом в 1980-х годах был увековечен непосредственный основатель Хабаровки Яков Дьяченко, но самое запоминающееся сооружение всего города - башня, построенная в весьма неожиданном 1943 году. Официально - как спасательная станция, но по факту вглядывались с неё солдаты в дальний горизонт за Хабаровским архипелагом - не решат ли ночью самураи перейти границу у реки?
51.
Правее - высотка гостиницу "Интурист" и Хабаровский кремль, как я назвал бы квартал вдоль улицы Шевченко. Хорошо видны красная крыша Гродековского музея (с 1894), башня бывшей Николаевской библиотеки (1956) и огромное Военное собрание (1910-14, в основе 1884), всё надстроенное, достроенное и перестроенное не раз и не два. Про Амурский утёс я тоже рассказывал отдельно.
52.
Как и про улицу Муравьёва-Амурского, начало которой отмечает довольно необычный Градо-Хабаровский Успенский собор (2003, 65м), построенный по весьма отдалённым мотивам дореволюционного храма. Да и не на изначальном месте, с которого теперь торчит обелиск героям Гражданской войны (1956). Внизу обратите внимание на речной трамвайчик - в принципе все те же виды можно заснять и с него:
53.
Общий вид Амурского утёса, справа - круглая башенка на здании Амурского пароходства (1932-34):
54.
За которым Уссурийский бульвар над бывшей Плюснинкой или Верхней Бури выходит прямо к берегу Амура. На сиротливый причал не так давно ещё был надет дебаркадер с международным пунктом пропуска, а от него те самые "Полесья" ходили в Фуюань. Они - наследники джонок, прибывавших на этот берег из Поднебесной в дореволюционные времена, и даже Речной вокзал - бывший торговый ряд Китайского рынка. По факту, впрочем, речным вокзалом он и в 2010-х не был, скорее офисом речных служб - путёвки в Фуюань на 1-2 дня продавали в ларьках по соседству. Но всё смёл проклятый ковид...
55.
Над нанайской речкой Бури высилось китайское или маньчжурское селение Боли - хабаровская Ландскрона, нерусский предшественник русского города, который теперь стараются не вспоминать: даже сами китайцы вместо этого названия говорят "Хабара". Не факт, правда, что Боли имел постоянное ханьское население: в первую очередь он был местом китайско-нанайской торговли, посредничество в которой держала семья Оненко - это не украинская, а вполне нанайская фамилия. Вэлинэ Оненко с женой Дыфэнты застал высадку на соседний утёс русских колонистов, а его сын Пугэ Оненко уже возглавлял торговое товарищество и был в Хабаровске не последним купцом. К тому времени утёс за Плюснинкой был известен как Артиллерийская гора, но среди её складов и в наши дни остались скрытые советской штукатуркой и во что-то встроенные стены Китайской кумирни. Её сменил Преображенский собор (2001-03) - третий по высоте в России (95м) после Христа Спасителя и Исаакия, он неплохо виден из Китая...
56.
И пока одна заря угасала сквозь грозовые тучи, другая "Заря" возвращалась в затон Базы РЭБ. Мы сошли на берег, и переждав самый мощный за день ливень под балконом пятиэтажки, радостно побрели через пол-Хабаровска пешком, любуясь показанными в конце прошлой части золотистым закатом - поездка на "Заре" по впечатлениям превзошла все мои ожидания, но при этом я в ней скорей отдохнул, чем устал.
57.
Ну а нанайское прошлое я вспоминал не случайно. В следующей части, последней о Дальнем Востоке-2021, съездим к нанайцам, в селение Сикачи-Алян, где примечательны не только древние петроглифы.
Хабаровск-2018
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Вокзал, Военная гора и общий колорит.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и база КАФ.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2021
Обзоры и оглавления
Суровое Сибирское Лето. Июнь.
Суровое Сибирское Лето. Август.
Приморье
Фокино. Техас и Дунай.
Фокино. Остров Путятин.
Хабаровский край
Хабаровск. Южные окраины.
"Заря" до Новокуровки.
Сикачи-Алян.
|
Метки: Дальний Восток природа транспорт дорожное деревянное этнография |
Хабаровск. Часть 6: южные окраины |
Столица Дальнего Востока, даром что тянется вдоль Амура на 40 километров, удивительно многообразна. В центре Хабаровск - колониальный бюрократический "город 30 000 портфелей" с роскошной архитектурой по улице Муравьёва-Амурского. На северных окраинах - военный порт самого мощного в истории пресноводного флота. Ну а к югу от центра Хабаровск предстаёт внезапно рабочим городом дымящих труб, гремящих трамваев и неухоженных улиц, которые теперь отделяет от пространств Амура новый фасад на ветреном берегу.
Прошлые 5 частей я написал по мотивам своей первой поездки на Дальний Восток в 2018 году. Для шестой части набрал материал этим летом, в основном в августе транзитом с негостеприимного Кодара на показанный в прошлой части райский остров Путятин.
В 2018 году Хабаровск запомнился мне величием амурских панорам, ухоженностью улиц, чопорностью и чинностью атмосферы, многообразием видов шаурмы в ларьках да обилием тупого бессмысленного хамства со стороны тех, кому за общение с клиентом платят деньги. В 2020 Хабаровск всей стране запомнился своими митингами протеста, собиравшими до 10% населения города - но тут уж дело в том, что хотя от социального недовольства воздух трещит и искрит на всём Дальнем Востоке, лишь в его столице это смогли выразить на понятном для всей страны языке. Мне же тогдашний Хабаровск ничем не запомнился, ибо с севера Приморья дорога повела нас в обход, напрямик в Комсомольск-на-Амуре, откуда ездил я вниз по реке и на БАМ. В 2021 же Хабаровск предстал перед мной городом совсем не экзотическим и не совсем чужим. Я ночевал не в хостеле, а в гостях у давней знакомой Айны в заурядного вида районе, и в первый день под типично дальневосточным тёплым затяжным дождём не достопримечательности смотреть поехал, а вести разговоры о нанайском искусстве в яркой квартире у вдовы художника Людмилы Тарвид. Основной моей целью в Хабаровске в тот приезд были окрестности, гулять по городу я откровенно ленился, и этот пост стало возможно написать лишь потому, что приехав в Хабаровск снова ранним утром в самом конце августа, я должен был где-то погулять пол-дня, прежде чем Айна сможет меня встретить. Неизведанным в Хабаровске для меня оставался юг, куда и укатил я на трамвае с площади у огромного и всегда людного вокзала:
2.
Анонсировав в "шапке" поста индустриальный юг, я всё же слегка покривил душой - индустрия в Хабаровске концентрируется вдоль Транссиба, вдоль которого город действительно рос в основном к югу. Но в центре я в 2018 году я упоминал завод "Дальэнергомаш" (1932), а в северной части города - покойный "Дальдизель" (1902) и исправно дымящий и пахнущий Хабаровский нефтезавод имени Серго Орджоникидзе (1934), как оказалось в этот раз - хорошо видимый с вокзальных перронов.
3.
Транссиб ограничивает и центр Хабаровска с противоположной Амуру стороны, так что насыпь великой магистрали напоминает крепостной вал с парадными воротами нескольких улиц. Самыми парадными я бы назвал Воронежские ворота - здесь проходящая через владения медиков, военных и железнодорожников улица Серышева сменяется Воронежской улицей и ныряет под пышный сталинский путепровод:
4.
В ближнем завокзалье Хабаровска я и гостил:
5.
Но даже в одинаковых на всём просторе Необъятной микрорайонах Дальний Восток безошибочно выдаёт плотность припаркованных машин:
6.
Главная улица завокзалья носит вполне дореволюционное название Большая. Покосившиеся избушки со ставеньками среди новых ТЦ и ЖК напоминают о том, что эти микрорайоны выросли на месте старинных слободок:
7.
Большая соединяет Воронежскую с улицей Карла Маркса, и не случайно старожилы Хабаровска по сей день называют Карлухой центральную улицу Муравьёва-Амурского - в советское время она росла-росла, да и выросла за город, и дореволюционное название было возвращено лишь в дореволюционных пределах. Транссиб Карлуха пересекает мощными развязками и эстакадами, а в завокзальной части достопримечательности на ней представлены мемориалом Овраг Смерти на братской могиле красных партизан, казнённых в Гражданскую войну казаками:
8.
Обелиск над могилой воздвигнут в 1960 году, а сам овраг похож ныне на сточную канаву:
9.
В квартале от Оврага Смерти по Краснодарской улице встречает паровоз на постаменте - причём узкоколейный, "проекта 159", построенный в 1932 году. Он украшает пущенную в 1958 году Дальневосточную Детскую железную дорогу, тянущуюся на 2,5 километра сквозь краевую больницу между станциями Пионерская и Юбилейная.
10.
Я пришёл под вечер и, увидев открытую дверь, оказался на пустынной станции. Депо у ДЖДшки на Юбилейной, а на путях на Пионерской - ещё один локомотив-памятник ТУ2, сменивший паровоз в 1967 году и проработавший до 1986 года. Сделав пару кадров, я направился к воротам, не доходя которых заметил, что мне наперерез на всех порах мчится охранник. Вид его был такой, будто сейчас начнётся драка, но пару раз прикрикнув на меня, сторож успокоился, очень вежливо объяснил, во сколько завтра первый поезд, а дальше мы и вовсе минут пять поговорили о том, какой лучше ему прикупить фотоаппарат для сына.
11.
В целом же за исключением того, что большая часть пути проходит через больницу, Хабаровская ДЖД ничем особым не примечательна. И даже её главное здание до упаковки в сайдинг было ещё более унылым, чем после:
11а.

По соседству с Пионерской - церковь каких-то протестантов, обитающая в Доме культуры глухонемых:
12.
Я теперь напрочь не вспомню, где заснял очаровательные маски с заглавного кадра, где - вот этот памятник с почти не читаемой, но явно ещё царской надписью:
13а.

А где - круглую башню будто из ограды старинного монастыря в Европейской части России:
13.
Огромный золотой купол же принадлежит цирку (2001) в обширном Парке Гагарина куда ближе к южным окраинам:
14.
Парк Гагарина - это и название близлежащей платформы на Транссибе, одной из 3-4 платформ в гигантской грузовой станции Хабаровск-2. Вытянутая на 9 километров и местами превышающая полкилометра в ширину, это крупнейшая станция на всём Дальнем Востоке.
15.
В 1934 году она создавалась как сортировочная, но конечным пунктом для немалой части грузов в те беспокойные времена становились гарнизоны на границах Маньчжоу-го, и к 1937 году военное ведомство построило здесь собственный вокзал.
16.
Ну а так как Хабаровск со своим штабом ДВВО был и остаётся главным узлом сухопутных войск Дальнего Востока, изначально военный вокзал был здесь крупнее и роскошнее гражданского. Но с тех пор в Амуре утекло много воды: Хабаровск-1 дважды сносился и обновлялся, подрастая вширь и ввысь, а Хабаровск-2 лет 15 назад зачем-то обкарнали. Странная асимметричная форма - от того, что это вокзал-инвалид, утративший крыло и скульптуры на крыше. И кажется единственный доступный простым гуглением кадр с ним снял
 periskop.su в 1999-м:
periskop.su в 1999-м:17. отсюда.

Огрызок Хабаровска-2 опрятен и пуст. Электрички курсируют здесь довольно часто, но только выходить из них особо некуда - кругом промзоны да частный сектор, а многоэтажки на больших улицах лишь окаймляют горизонт.
18.
Вокруг вокзала - заросший сквер с заброшенной водонапоркой:
19.
Станция же и боковые ветки на юге Хабаровска запомнились мне вот такими неожиданно стильными будками, более всего похожими на японские хоэндэны Сахалина.
20.
Чуть больше жизни за путями, на скоростном проспекте 60-летия Октября, где даже есть конструктивистский Дом культуры железнодорожников (увы, я о нём не знал и не увидел). Для пассажиров это по сути дела дублёр железной дороги - автобусы и ходят, и останавливаются куда как чаще электричек. И именно автобусом я доехал к следующей платформе Рубероидный Завод, замыкающей Второй Хабаровск с юга:
21.
Сам Хабаровский картонно-рубероидный завод "Далькровля" (1952) прилагается. Он стоит много лет, хотя и с периодическими попытками вновь запустить до сих пор не разграбленное оборудование, а рядом тем временем зарастают трамвайные рельсы:
22.
Окрестности "Далькровли" примечательны Покровским храмом в здании кинотеатра "Мир" (1954):
23.
И мозаичным фасадом ДК "Юность" (1975). Интересно, что если в северной части города я упоминал Воронежскую и Краснодарскую улицы, то эти два объекта на юге стоят на соответственно Вологодской и Архангельской.
24.
Сам же этот район известен хабаровчанам как Пятая Площадка и имеет репутацию городского дна. Она в принципе понятна из расположения - Пятая Площадка не то что район за промзоной, она отгорожена промзонами от остального города. С востока тянутся сортировки Транссиба, с юга - отходящие от него подъездные пути, севера над половиной Хабаровска господствуют трубы Хабаровской ТЭЦ-1 (438МВт) построенной в 1936-54 годах с перерывом на войну:
25.
С запада же, вдоль главной на юге Хабаровска Краснореческой улицы, переходящей в трассу на Владивосток, протянулись похожие на разрушенный замок Тевтонского ордена развалины работавшего прежде на весь Дальний Восток масложиркомбината (1952-57):
26.
27.
28.
На Краснореченскую глядят и его проходные:
29.
Историческим центром Пятой площадки служит посёлок ТЭЦ, застроенный малоэтажными сталинками:
30.
Чуть в стороне от которых высится Дом культуры:
31.
О мрачной славе Пятой Площадки мне в своё время рассказывал ещё Перископ, а Илья Варламов написал о ней весьма зрелищный пост в своей неповторимой истерично-смакующей манере. Но то ли тот пост успел прочесть из губернаторского кресла Фургал и привёл Пятую Площадку в порядок, то ли за горами мусора ехать надо ранней весной, да и дети, которые ловят голубей и кладут их под колёса трамваев сильно смахивают на сенсацию из серии Омского Мурзика. Я честно пытался найти здесь какую-то особую безысходность, но в итоге мрачный колорит свёлся к паре-тройке проковылявших мимо забулдыг да двум агрессивным маргиналам на лавочке в ТЭЦевском сквере:
32.
Так что выйдем на Краснореченскую да продолжим путь на юг. От площади 60-летия Октября с ДК Судостроителей (1964) начинается один из последних районов:
33.
На Краснореченскую с мощными трамвайными путями глядят сталинские фасады судозаводского квартала 1950-х годов:
34.
34а.
Обратите внимание на пробку, тянущуюся сквозь несколько кадров, то есть - половину Хабаровска: на одной из главных улиц в тот день провалился грунт, что вызвало транспортный коллапс по всему городу.
35.
А ещё - на запущенность. Если в 2018 Хабаровск запомнился мне очень опрятным городом, да и в "нулевых" регулярно получал награды за лучшую городскую среду вместе с Белгородом и Калугой, то в 2021 году то ли по таким районам я ходил, то ли обезфургаленный город ветшает в форсированном порядке.
36.
В общем, сядем пока на спасительный в пробке трамвай да поедем на нём в сторону центра. Два вида электротранспорта в Хабаровске образуют подобие метро - троллейбус с 1975 года ходит перпендикулярно Амуру по главной улице в аэропорт, трамвай же с 1956 года курсирует вдоль реки, и несколько его маршрутов, совпадающих на 80%, образуют магистраль почти по всей длине города. В 2018-м достопримечательностью Хабаровска были последние трамваи РВЗ в рейсовой эксплуатации, но то ли остались они лишь на севере города, то ли списаны наконец, а по югу мы ездили только в новых вагонах. На трамвае и отсчитаем десяток километров на север - здесь Краснореченская улица сменяется Волочаевской, парк Гагарина (не говоря уж про всё остальное) остался южнее, а на одной линии с нами - платформа Юбилейная у северной горловины Хабаровска-2. Но с Краснореченской, почти что равноудалённой от Транссиба и Амура, сейчас повернём на Амур:
37.
Ведущая в сторону реки Оборонная улица запомнилась мне мозаиками Хабаровского индустриально-экономического колледжа:
38.
И очередным кварталом мелких сталинок:
39.
Он упирается в проходную ремонтно-эксплуатационной базы флота, по которой и весь приречный "север Юга" в Хабаровске известен как РЭБ:
40.
Параллельная улица 65-летия Победы упирается в залив РЭБ, которому как нельзя лучше подходит по звучанию слово "затон":
41.
Вдоль него же вытянулось сооружение со странным названием Музей под открытым небом "Наводнение-2013", в составе которого входят фотостенд и единственный экспонат - мемориальная дамба:
42.
Ведь до "Страстей по Фургалу" (о которых летом 2021 не напоминало уже ничего) самым ярким событием постсоветского Приамурья оставалось катастрофическое наводнение 2013 года. У Амура есть свои, людям малопонятные циклы длиной примерно в дюжину лет, и вплоть до недавнего времени общественность била тревогу, виня лесорубов, гидростроителей, китайцев и конечно москвичей в усыхании великой реки. Теперь те же категории граждан обвиняются во второй год подряд непомерно высокой воде, но самое мощное за всё время русского суверенитета над этими берегами наводнение случилось как раз-таки в маловодных 2010-х. Летом 2013 года так сошлись атмосферные фронты, что мощные осадки месяц за месяцем изливались над притоками Амура, где ещё не схлынуло половодье аномально поздней весны. Годовая норма была достигнута за 2 месяца, и вот на Зейской и Буреинской ГЭС водосбросы работали на полную мощность, а вскоре и в китайской Маньчжурии реки стали выходить из берегов. 16-19 августа паводок, достигнув отметки 822см, пришёл в Благовещенск, где тем событиям стоит свой памятник - скульптура пса, что несколько дней по уши в воде стерёг дом на затопленных дачах. В Хабаровске пик в 808 сантиметров был достигнут 4 сентября - местность тут более низменная, поэтому разлилась река шире и затопила как бы не больше. Почти полностью ушёл под воду Большой Уссурийский остров, половина которого в 2008 году как раз была отдана по итогам давнего спора Китаю. На российской стороне ситуацию спас ещё советский 38-километровый польдер (кольцевая дамба), а вот всемогущих соседей стихия слегка приземлила, смыв свежепостроенную туристическую зону. Россию по сравнению с Китаем то наводнение вообще задело лишь краешком - в провинции Хэйлунцзян тогда утонуло 192 человека (108 из них числятся пропавшими без вести) и было эвакуировано 840 тысяч. В России же погиб лишь один человек, причём не житель затопленных домов, а солдат-водитель Баир Банзаракцаев - его грузовик сполз с размытой дороги близ Комсомольска-на-Амуре, где 2-11 сентября наводнение достигло высшей точки 910 сантиметров. Военные и добровольцы из местных жителей тогда ударно строили земляные дамбы, а притопленные баржи защищали обрывы в черте города, которые вода могла подмыть. И хочется думать, что дамба-музей была насыпана тогда, но нет - это в чистом виде памятник без всякой практической ценности. Происхождение его прозаично: по итогам наводнения Центр щедро отсыпал Хабаровском краю средств на строительство защитных дамб, и средств этих хватило даже с небольшим излишком. Который, дабы в отчётах была освоена каждая копейка, и пустили на строительство бесполезной, но всё же входящий в общий километраж мемориальной дамбы:
43.
Под защитой настоящих дамб же разросся Новый Хабаровск (официально - микрорайон Строитель), прежде представлявший собой массив утлого частного сектора на дующих с устья Уссури ветрах.
44.
Вернее, осваиваться эта территория начала ещё в 2008 году, а в 2013-м был сдан её культурный центр - крытый стадион "Ерофей", названный, конечно же, в честь Ерофея Хабарова, первым из русских людей ступившего на эти берега.
45.
Ну а дамба сразу повысила ценность Нового Хабаровска - ведь в районе с набережной любая квартира лучше продаётся!
46.
И пусть набережная - голые бетонные плиты с пандусами, в тёплый день она выглядит людной и любимой жителями, а вид Амура близ неё почти морской:
46а.
На фоне синих гор Большехехцирского хребта хорошо заметен Хабаровский судозавод (1953), район которого я уже показывал дюжиной кадров выше.
47.
Теперь посмотрим вниз по течению - Амур тут делает внушительную излучину, северную сторону которой образуют "три горы" хабаровского центра:
48.
Хорошо виден Амурский утёс, на котором в 1858 году и начинался город. Из-за утёса выглядывает Хабаровский мост (тот, что на 5000-й купюре), вернее, его западная оконечность, где уже заканчиваются железнодорожные фермы, но ещё спускается с них автомобильная эстакада. Над утёсом - башня, построенная в 1943 году: официально - как спасательная станция, а по факту, конечно, для наблюдения за японскими войсками в Маньчжоу-го. Правее виден памятник Михаилу Муравьёву-Амурскому (1891), этому "Петру I Дальнего Востока", что прорубил России окно в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ещё правее из-за деревьев выглядывает старейший квартала города на улице Шевченко, который я бы назвал полушутя Хабаровским кремлём - длинная крыша Гродековского музея (с 1894), башня бывшей Николаевской библиотеки (1956) и огромное Военное собрание (1910-14, в основе 1884). Внизу же - набережная, в 2013 разрушенная тем самым наводнением, а в 2021-м - торосами, возникшими от того, что осенью Амур встал по высокой воде. Правее же, у подножья многоэтажки, в 2018 году стоял пограничный дебаркадер, с которого белые скоростные "Полесья" сновали в китайский Фуюань:
49.
Правее могло бы быть видно сразу два новодельных храма - но виден только высочайший в нестоличной России (95м) Преображенский собор на площади Славы (2001-04), а вот Градо-Хабаровский Успенский собор (2003) на Комсомольской площади скрыт одной из многоэтажек в левой части кадра. На той же площади - Амурское речное пароходство (1934) с круглой башенкой, а внизу под ним водозабор той самой ТЭЦ-1:
50.
Правее, за дамбой РЭБ Флота - азиатского вида лес новостроек. Как заметил в период своей ЖЖшной активности
 dkphoto, своей панорамой Хабаровск похож на города Китая, какими были они лет 15 назад.
dkphoto, своей панорамой Хабаровск похож на города Китая, какими были они лет 15 назад.51.
Напоследок полюбуемся дамбой РЭБ Флота с другой стороны, с моста через овраг за ТЦ "Броско-Молл", хорошо заметного на кадре выше. Здесь после мощного ливня Амур подарил нам феерию заката, окрасившего золотом тучи, волны и мокрый бетон:
52.
53.
54.
В следующей части полюбуемся на город с Амура. Хотя вообще-то она будет не о том, а о поездке на одном очень необычном судне в одно очень глухое село.
55.
Про сам Хабаровск же 7-я часть вряд ли когда-нибудь будет написана - как-то так, совершенно внепланово, вышло, что Хабаровск стал одним из самых хорошо изученных мной городов. А вот окрестные сёла, цепочкой тянущиеся дальше вдоль Амура до самого устья Уссури, вполне могут стать темой моего рассказа в следующий приезд.
Хабаровск-2018
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Вокзал, Военная гора и общий колорит.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и база КАФ.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2021
Обзоры и оглавления
Суровое Сибирское Лето. Июнь.
Суровое Сибирское Лето. Август.
Приморье
Фокино. Техас и Дунай.
Фокино. Остров Путятин.
Хабаровский край
Хабаровск. Южные окраины.
Сикачи-Алян.
"Заря" на Тунгуске.
|
Метки: Дальний Восток транспорт дорожное индустриальный гигант |






