В поисках Беловодья - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Ичкерия и её обитатели |

Слово "Ичкерия" не виновато в том, что звучит для русского уха зловеще: принятое сепаратистами в 1994 году название Чеченская республика Ичкерия - это примерно как Украинская республика Галиция, Испанская республика Кастилия, Китайская республика Шэньси. Среди 9 чеченских тукхумов (племён) здешний Нохчиймокх всегда был флагманом, и именно нохчмахкахойские тейпы во все времена писали историю Чечни. Первые попытки государственности, распространение ислама, литературный диалект языка, ивестнейшие вожди и мудрецы, герои и злодеи - всё это в Чечне уходит корнями в Ичкерию.
В прошлой части я показывал чеченские "скансены" Герменчук и Хой, ну а Ичкерия лежит как раз между ними: её "столица" - село Ведено (3,1 тыс. жителей) в 70 километрах юго-восточнее Грозного. Туда мы заезжали с "Неизвестной Россией", а по окрестным зияртам я уже путешествовал сам.
Чтобы понять, что такое Ичкерия, вспомним саму историю вайнахов - живя в суровых горах, век за веком они мечтали однажды спуститься на плоскость. Первый раз обзавестись степными колониями они смогли в 9-10 веках то ли в составе, то ли в союзе могущественной христианской Алании. Но Аланию втоптали в грязь монголы и татары, и не последняя часть чеченской идентичности - предания о том, как предки дали отпор самому Чингисхану. На практике же огромная армия форсировала Терек и встала у опушек предгорных лесов, отняв у горского мира несколько веков развития. Возможно, в лесах укрылась и какая-то аланская знать, так как в 14-15 веках на карте мира ненадолго появляется маленькое горное государство Симсир. Но умерло оно вместе с последними князьями, церкви вновь стали языческими святилищами, а высшей формой организации чеченцев так и остался тейп.
2.

Но из благодатных колоний в низине уцелела одна - Ичкерия в Чёрных горах Лесистого хребта Кавказа, в совсем уж незапамятные времена заселённая выходцами из высокогорной долины Нашха, которая считается теперь прародиной нохчи. Суть Ичкерии - в её ландшафтах: здесь, вдоль речки Хулхулау - не горы, а предгорья, пологие склоны которых покрывает густой лес, уютный для своих жителей и страшный для врагов. Куда более изобильная, чем высокогорья Чеберлоя или Орстхоя, но куда более защищённая, чем степи и гребни Сунжи и Терека, средневековая Ичкерия стала единственным местом, где вайнах мог думать не только о выживании.
3.

Здесь попадаются даже явно довоенные дома, в 1990-2000-х уцелевшие в складках местности:
4.

И потому во все времена Ичкерия оставалась центром вайнахской мысли, самосознания и торговли, а её тейпы были наиболее многочислены и деловиты. В дореволюционных документах Ичкерия и Чечня часто фигурировали порознь - одна создала другую. И лет 500 с лишним назад некий Тинавин Виса из тейпа Цонтарой первым со времён Тамерланова нашествия повёл своих односельчан на плоскость.
5.

В 17-18 веках чеченские тейпы неоднократно то присягали России, то бунтовали против неё, а Россия толком и не понимала, как с этим хаосом договариваться. Упорядочить хаос же пытались и сами вайнахи. Пастух Ушурма из тейпа Элистанжхой, чей отец спустился с этих гор в селение Алды (ныне в черте Грозного) где-то в начале 1780-х принял ислам, вступив в суфийский тарикат (орден) Накшбандия из Бухары. Став в новой вере шейхом Мансуром, пастух овец превратился в пастыря душ, речам которого внимали народы Кавказа. Шейх Мансур увлёк за собой сперва чеченцев и авар, затем кумыков и черкесов, а первый карательный отряд полковника Де Пьери попал в горскую засаду и был вырезан почти без остатка - из 2000 казаков и военных спаслись единицы, среди которых был молодой Пётр Багратион. Мансур собрал 10-тысячное войско, позвал на подмогу дагестанского Уммахана и султана Османской империи, и начал джихад по всем предгорьям от Кизляра до Анапы. В последней, вместе с турецким гарнизоном, он и был пленён в 1791 году и кончил свои дни в Шлиссельбургской крепости. Но эхо его джихада гуляет в горах поныне...
6.

Воротами Ичкерии со стороны Грозного служит неимоверно длинное (9,5км вдоль дороги) село Сержень-Юрт, в 1944-58 годах Подлесное. На карте оно выглядит воронкой, втягивающейся с плоскости в ущелье. В грозненском музее половина археологических витрин представлены находками из раскопанных в 1958 году Сержень-Юртских курганов, с улиц села едва заметных за домами в буйной зелени. Местные считают Сержень-Юрт самым красивым селением Кавказа, и конечно, вряд ли хочется им вспоминать, как пришёл сюда Чёрный Араб. Звали его то ли Хабиб Абдаль Рахман, то ли Самер Салех ас-Сувейлем, и был он то ли бедуином в Аравии, то ли потомком чеченских мухаджиров в Иордании, то ли даже евреем-мусульманином (!) из Йемена. Родиной его считается то ли городок Арар в Саудовской Аравии на границе Ирака, где он рос слабым плаксивым мальчиком, мечтавшим стать инженером, то ли Амман, где он с детства обожал оружие, и через военную академию стал телохранителем короля. Как бы то ни было, в 1987 году молодой Хаттаб отправился в Афганистан в тренировочный лагерь Усамы бен Ладена, а оттуда - в соседний Таджикистан, независимость которого началась кровавой гражданской войной. В ней Хаттаб примкнул, конечно, к "вовчикам" (ваххабитам) и даже участвовал в нападении на 12-ю заставу российских пограничников у берега Пянджа. Под Кабулом он получил пулю в живот, в Таджикистане изуродовал руку взрывом гранаты и до конца жизни носил на ней перчатку, как злой колдун Мозенрат из мультиков про Аладдина. Но растеряв боеспособность, Хаттаб прошёл такую школу жизни, что это сделало его лишь ещё опаснее. В 1995-м как журналист он прибыл в опустошённую Чечню, и изучив её детально, взялся перекраивать под себя, призвав две сотни боевиков из Саудии и Египта. На верхней окраине Сержень-Юрта он основал Учебный центр "Кавказ" - самую настоящую "школу террористов" по образцу аналогичного заведения Усамы бен Ладена в Афганистане. 5 пионерлагерей в лесу у Сержень-Юрта стали жилгородком и 4 факультетами - теологии, оружия, партизанской войны и диверсий. Окончили этот университет не менее 10 тысяч боевиков, и стоит ли говорить, что все они были ваххабиты-фанатики? Лагеря же существуют до сих пор - теперь снова детские:
7.

Но именно Хаттаб невольно стал палачом независимой Ичкерии. Единственной целью Чеченской революции 1991 года была независимость, ваххабиты же мечтали о Всемирном халифате, в котором нет места для наций и иных культур. Ваххабиты помогли националистами победить в 1996 году, вот только русский оккупант Чечни сменился арабским оккупантом. Хаттаб, всегда снимавший свои злодейства на камеру и выкладывавший на видеохостинг "рынок в Грозном", успел пройти кровавый путь. За ним числились разгром колонны федеральных войск у села Ярышмарды 16 апреля 1996 года (отскочивший в итоге ракетой по Дудаеву), участие в штурме Грозного, расправа над 6 врачами "Красного Креста" в Новых Атагах, нападение на воинскую часть в Буйнакске в декабре 1997 года и подрыв жилого дома там же в сентябре 1999-го. Следом взорвались жилые дома в Москве и Волгодонске, и по числу жертв (307 человек) эта серия терактов стала третьей в мировой истории. Чёрному арабу был совсем не нужен мир, но не учёл он лишь того, что в кремле кое-что поменялось: casus belli молодой Владимир Путин получил такой, что спекуляций о том, кто взрывают Россию, просто не могло не родиться. Во Вторую Чеченскую араб ещё успел наворотить дел: не случайно в солдатской песне про 6-ю роту, в феврале 2000 года погибшую в горах над тем же Ярышмарды, были слова "захотел Хаттаб десант сбросить с перевала", но к тому времени ему вновь оставалось лишь партизанить в лесах. И хотя спецслужбы не могли его достать, всё же через осведомителей они узнали, что Чёрный араб использует бумажную почту, и письма на яд проверяет собака, а вскрывает конверты он сам. Перехватив одно из таких писем, чекисты обработали его отнюдь не "Новичком", а неким ядом без запаха, по своему воздействию похожим на яд бледной поганки. 3 дня спустя, 20 марта 2002 года Хаттаб умер в страшных мучениях, умоляя охрану его пристрелить, и если бы не такие же смерти курьеров - боевики и журналисты так и остались бы в убеждённости, что Чёрный араб отравился грибами.
8.

...За Сержень-Юртом, меж тем, дорога выводит на крутой берег Хулхулау, через которую тут перекинут мост. От этого моста начинается подъём к, без преувеличения, главной святыне Чечни, вставшей среди прочих на пути Хаттаба. Ведь сама фамилия Ахмата и Рамзана Кадыровых, представителей крупнейшего ичкерийского тейпа Беной, намекает на Кадырию - ещё один духовный орден суфиев, проводником которого на Кавказе в 19 веке стал Кунта-хаджи Кишиев. Его отец в 18 веке спустился с Андийских гор на плоскость, и с равным успехом мог быть как чеченцем, так и дагестанцем или кумыком. Мать будущего проповедника Хеда, однако, точно была чеченкой из тейпа Гуной, чьё родовое село и висит в горах над Хулхулау. Духовным же наставником Кунты стал шейх Гези-хаджи из тейпа Зандакой, увлёкший юношу идеями Накшбандии. Дальше, однако, Кунта решил стать Кунтой-хаджи, и в Багдаде вступил в другой тарикат - Кадырию. Самой наглядной особенностью кадырийцев были "громкий зикр" - особый обряд, когда мусульмане становились в круг и хором во весь голос славили Аллаха и пророков. Зекристами и называли их в России, сами же себя они величали хаджи-мюридами (мюрид - это ученик, послушник суфийского братства в исламе), вот только в багдадское учение Кунта-хаджи привнёс столько идей, что иногда его наследие выделяют в самостоятельный орден хаджимюридия. Те идеи по-русски и по-чеченски глядят с зелёных плакатов у дороги на зиярт, и были они для гордых вайнахов действительно необычны. Например: "Война - дикость. Удаляйтесь от всего, что напоминает войну, если враг не пришёл отнять у вас веру и честь (...) Погибать в схватке с врагом намного сильнее себя подобно самоубийству. Подобная смерть - неверие в силу и милость Всевышнего Аллаха (...) Тираны - пустые истуканы, которые будут падать и разбиваться, словно глиняные горшки"
9.

Чеченец стал одним из основоположников современного пацифизма - идеи Кунты-хаджи дошли до Льва Толстого, а от него, переосмысленные - на Запад и на Восток. На Кавказе, впрочем, и добро должно быть с кулаками: хаджимюриды носили для самозащиты кинжал, и владели им столь виртуозно, что однажды в бою зикристов против солдат с обеих сторон полегло полторы сотни убитых. Проповеди Кишиева пришлись на времена Кавказской войны, и для мятежного Шамиля он был соперником в битве за умы, а для России, по аналогии с Пугачёвым и Радищевым, "бунтовщиком хуже Шамиля". Но не Кишиева ли вспомнил Шамиль в 1859 году, когда с поднятыми руками вышел из ворот Гуниба? Кунта-хаджи же был схвачен в 1864 году, несколько месяцев провёл в тюрьмах Грозной крепости, Владикавказа и Новочеркасска, а дни свои кончил под строгим надзором в далёкой северной Устюжне. И по преданию, когда Кишиев совершал намаз, оковы сами ненадолго его выпускали, а русский сторож, единственный свидетель этого чуда, принял ислам и за это сгинул на каторге. Но именно арест Кунты-хаджи сделал хаджимюридию по-настоящему популярной: теперь к этому ордену относится 65% чеченцев и 80% ингушей. И конечно же, идеи пацифиста особо важны там, где раны войны ещё ноют.
10.

...у моста через Хулхалау нас подобрал огромный джип, салон которого был просторен, как комната, и прохладен, словно шахские сады. Вёл его столь же грандиозный чеченец в песочном камуфляже и с огромной бородой. Но при всём том - в очках, с очень интеллигентным лицом и очень мягким голосом: в иной одежде он был бы похож на православного батюшку. С ним и взмыли мы на склон - дорога набирает высоту неожиданно быстро, так что идея пройти 7 километров до зиярта пешком явно была не из лучших. С серпантинов открываются роскошные виды лесистых Чёрных гор, из которых кое-где торчат новодельные башни, а вдали стоит стеной Кавказ.
10а.

Вот она, Ичкерия. В таких лесах за годы и сам не сгинешь, и власть не найдёт:
11.

За небольшим перевалом дорога спускается в Ножай-Юртский и Курчалойский районы, которые тоже относят к Ичкерии:
12.

Только в 1944-58 годах они входили в Грозненскую область, а Веденский район - в Дагестан, так что большинство его сёл тогда одни нерусские названия сменили на другие.
12а.

Вот и стоящее у перевала село Гуни тогда называлось Таши. К блокпосту на его дальнем конце интеллигентный джигит и привёз нас, и солдаты с перевала, увидев этого человека, едва ли не руки ему стали целовать.
13.

Рядом с блокпостом расположилось необычайно красивое кладбище:
14.

С беседкой для кругового зикра, купол которой видимо служит резонатором. Обратите внимание на ленточки - зародившаяся на азиатских бурханах привычка их повязывать не обошла стороной даже набожных чеченцев.
15.

Всё это - Хедин зиярт у мавзолея Хеды, матери Кунта-хаджи. Где-то в стороне, может быть на заднем плане, есть ещё зиярт сестры проповедника Хапты. Ну а нынешний облик комплекс принял в 2009 году:
16.

И пусть Кунта-хаджи был пацифистом, а кладбище утыкано пиками могил павших на войне с Россией:
16а.

В середине апреля тут тихо и пусто, но это затишье накануне - основной поток паломников на Хедин зиярт идёт в мае. Причём идёт зачастую в прямом смысле - пеший путь сюда из Грозного занимает около 2,5 суток. За дорогой - мечеть, но там нас встретил лишь злой начальник охраны, проверил документы да намекнул, что незачем нам здесь ходить.
17.

Поэтому мы пошли вниз, назад к Хулхулау, где Гуни незаметно переходит в следующее село Хаджи-Эвла, до 2020 года официально (но не в народе!) бывшее Первомайским. Общее население двух юртов - порядка 3 тыс. человек, а граница их не заметна.
18.

По дороге попадаются старые дома и амбары, в том числе деревянные:
19.

И их архитектура, как можно понять из прошлой части, типична не для гор, а для плоскости:
20.

На главной площади Хаджи-Эвла - фельдшерский пункт, а на его стене - доктор Айб Олоев:
21.

Рядом приходская мечеть:
22.

И ещё один зиярт на месте дома Кунты-хаджи. "Саркофаг" в зале скрывает груду земли, по которой ходил проповедник - во время молебнов её раздают паломникам.
23.

Ниже - такой же круглый зал для омовений, ну а вокруг по праздничным намазам собираются толпы людей, и вскинув бороды, хором выкрикивают зикры.
24.

На кадре выше, между тем, отлично вида долина Хулхулау, по которой мы продолжим путь:
25.

Дорога спускается в Ца-Ведено - ещё одно длиннющее село (2,5 тыс. жителей), основанное в 1855 году (то есть при Шамиле) даргинцами из аула Цудахар в Дагестане, со временем образовавшими подобие тейпа цудахарой. В 1858 к ним добавились чеченцы тейпа Харачой, называвшее это селение Ахкичу. Вновь оно стал даргинским в 1944 и до 1958 носило удалое название Махач-Юрт. Посреди села - мечеть, в послевоенной Чечне одна из первых:
26.

Между тем, на следующей дороге в горы висят селения, слагающие сердце Ичкерии - Цонтарой, Белгатой и Дарго. В Белгатое (в 1944-58 - Шаитли) сохранилась старейшая в Чечне мечеть (1770) - каменный дом даже без минарета. Село оружейников Дарго же в 1840 году избрал своей ставкой имам Шамиль. По происхождению аварец, по рождению он был наречён Али, но из-за долгой болезни родители решили дать ему новое имя. Это помогло: подростком Шамиль был физически силён, владел шашкой как взрослый джигит, мог ходить босиком по камням и по снегу. Другом его не разлей вода был Гази-Мухаммед, вместе с которым Шамиль и попал в мюриды, а дальше горца подхватила бурная река Кавказской войны. В 1829 году Гази-Мухаммед стал имамом Северного Кавказа, а в 1832-м пал в бою, когда мюридов окружили в башне. Шамиль тогда кинулся в гущу солдат - те не могли достать его саблями и не решались стрелять, рискуя попасть по своим. Опасный, харимзатичный, неистово верующий, Шамиль легко находил себе достойных друзей и союзников, и уже в 1834 году сам стал имамом Дагестана. В 1839 его войско было разбито союзом России и вассальных ей ханств в ауле Ахульго, но Шамиль успел уйти через подземный ход. Вскоре его приняли Чёрные горы Ичкерии, и вот уже не Дагестан, а слившаяся с ним в Северо-Кавказский имамат Чечня стала самым горячим местом Кавказа. Столицей его была ставка имама - в 1845 году, когда не с первой попытки царские власти таки захватили Дарго, таковой сделалась Ведено, в 21 веке встретившее нас очередной мечетью:
27.

Тогда же было оно центром полноценного теократического государства с 1,5 миллионами жетелй. Его "конституцией" служил "низам Шамиля" - шариат в трактовке через горские адаты. Террторию слагали наибства - 24 в Дагестане и 9 в Чечне, однако по несколько наибств всегда курировали мудиры - доверенные люди имама. Из них был, например, "лесной маршал" Шуаиб-мулла из тейпа Цонтарой - правая рука Шамиля. Наибства делились на более мелкие округа по 500, 100 и 10 мужчин, способных носить оружие - ими определялся мобилизационный ресурс. Армия состояла из низами (пехоты) и муртазеков - кумыкской и чеченской конницы. Казну наполняли налоги: 1/10 с доходов мирных жителей и 1/5 с добычи горских набегов. В наибствах жили десятки народов, и в том числе - около 20 тысяч русских: под знамя Шамиля регулярно бежали каторжники, дезертиры, провинившиеся казаки и даже староверы, которым Шамиль отдавал древние христианские храмы. Мирной жизнь в имамате, впрочем, не была, и порой скиты вырезались горцами. А вот лихие люди были довольны - особенно прославился конокрад Яшка Алпатов из Наурской, куда порой ещё и наведывался к жене, переодевшись в форму офицера. В Ведено были православный и католический районы с деревянными церковью и костёлом, а самыми верными мюридами стали русские, принявшие ислам - многие позже навещали Шамиля в Калуге. Сгубили имама наибы - в теории Шамиль мог смещать их по жалобам населения, но на практике принимались эти жалобы только с грамотой от самого наиба. Не доводило до добра и смешение народов: аварцы роптали, что имам ушёл в Чечню, чеченцы - что понаехали аварцы. Да и война выматывала даже горцев, и всё больше тейпов и джамаатов были готовы принять власть тех, кто принесёт мир. Шамиль мог предложить лишь призывы к войне до победы, и вот в имамате то здесь, то там начали вспыхивать бунты. "Концентрическое наступление" царской армии всё прочнее брало под контроль плоскость, лишая имамат зерна. В конце 1850-х всё больше наибов переходили на сторону России, простые люди откровенно ждали кафирское воинство, и лишь Ичкерия оставалась на 100% верна Имамату. Пока в 1859 российская армия не заняла её, изгнав Шамиля из Ведено в фатальный Гуниб...

Эпоху Шамиля успел застать его соплеменник Узун-Хаир (то есть Длинный Хаир, хотя ростом невысок), родивший в 1848 году в селении Салты. Где и жил довольно неприметно, если не считать участия в Малом Газзавате 1877 года, когда горцы попытались взбунтоваться в русском тылу войны с Турцией. Но в 1910 году за нелегальную постройку медресе Узун-Хаира сослали в Астрахань, откуда он бежал сначала в хадж, а оттуда, с паломниками - в Грозный. В 1917 году Узун-Хаджи Салтинский заявил о себе на горских съездах, вскоре был избран имамом Дагестана, а в 1918 году решил повторить попытку Шамиля и провозгласил новое исламское государство - Северо-Кавкзаский эмират:

Сам он звался теперь Узун-Хаиром Хаджи-ханом, его ближайший сподвижник чеченец Иналука Арсанукаев из древнего аргунского тейпа Дышний, не входящего ни в один из тукхумов, сделался Великими визирем князем Дышнинским. Ставкой имам и князь снова избрали Ведено, где заседало и правительство, 8 министерских портфелей которого поровну делились чеченцы, ингуши, аварцы и кабардинцы, но лишь один министр имел высшее светское образование, а двое не умели читать. Примерно так же выглядел и весь остальной аппарат нового государства, успевшего, однако, вступить в союз с Турцией, Азербайджаном и даже Грузией против Белой России. А вот большевики во главе с Николаем Гикало на почве общего врага примкнули к армиям Узуна-Хаджи и видимо немало сделали для идеологического разложения эмиратского тыла. В марте 1920 года большинство представителей Северо-Кавказского эмирата признали советскую власть, а тяжело больной Узун-Хаджи, отказавшись подчиниться, умер спустя пару дней.
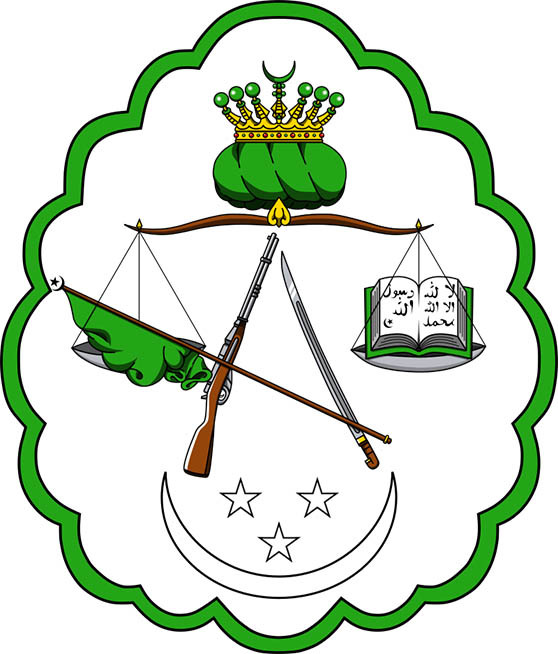
Культурным наследием Северо-Кавказского эмирата же осталась валюта-"туманы": монеты, чеканившияся оружейниками в Дарго, и печатавшиеся в Ведено банкноты. Более всего озадачивает их устройство: номинал писался в рублях по курсу 1:10, то есть на фото - 50 и 25 туманов.
28.

Словом, Ведено - это "чеченский Львов", и даже в депортацию оно едва ли не единственное в вайнахской стороне не меняло названия. А вот откуда Ведено взялось - теперь никто не знает: по самой колоритной версии, основателями села были русские дезертиры, "ведённые" сюда судьбой.
29.

Бусик "Неизвестной России" заехал на 40 минут на местный рынок - не столько за колоритом (коего тут нет), сколько купить питья и местной еды: например, "сало" (на самом деле обсыпанный специями курдюк) или казы (на кадре выше), но в первую очередь - плюшек правильной чеченской кукурузной халвы.
30.

На рыночную площадь, однако, выходит круглый бастион с торчащим из него деревом:
31.

А по задворкам лавок тянется стена:
32.

Теперь чеченцы называют всё это "крепостью Шамиля", хотя конечно же это "противошамильная" крепость Новое Ведено, заложенная в 1859 году в стороне от сожжённого до основания аула. А вот ставка Узун-Хаджи под защитой её стен и правда находилась.
33.

За воротами с позапрошлого кадра можно выйти на бульвар - в основном Ведено типичное чеченское село, недавно поднятое из развалин:
34.

Бульвар упирается в парк с огромными старыми липами:
35.

В его глубине скрыт воинский памятник:
36.

Липы были посажены как бы не царскими ещё офицерами, возможно в 1905 году, когда Ведено стало в Терской области центром округа (уезда), резко нарастив гранизон. Рядом - советский Дом офицеров, ставший районным ДК. Военные занимали крепость до 2007 года, и о том, как служилось в ней тогда, под регулярными обстрелами из горных лесов, есть впечатляющий пост Артёма
 hitch_hiker.
hitch_hiker.37.

Теперь за стенами просто заброшенность, и лишь на первых этажах некоторых зданий теплится какая-то неофициальная жизнь. Впрочем, и у крепости, и внутри неё мимо меня проезжали машины с рыжебородыми кадыровцами, и их сверлящие взгляды напоминали, что память о войне ещё свежа.
38.

Я прошёл крепость насквозь, к распахнутым воротам:
39.

Над долиной речки - но не Хулхулау, а Ахкичу: Ведено стоит между ними.
40.

К речке спускается Зиндан Басаева:
41.

Так, не знаю уж, сколь обосновано, военные прозвали подземный ход к воде, построенный из бетона в начале ХХ века и на всякий случай взорванный в 2000-м году.
42.

Выше по долине к Ведено примыкает предместье Дышне-Ведено (5,7 тыс. жит., в депортацию - Акнада), основанное видимо в 1919 году роднёй князя Дышнинского. Оттуда же ведёт дорога в Белгатой, а потому немудрено, что и белгатойцы селились там особенно активно. Древний и влиятельный тейп чуть не выкосила в начале 19 века холера, и потому тамошние горцы охотно усыновляли русских дезертиров и похищали себе в жёны казачек. "Русохвостым" слыл и род Басаевых, в котором в 1965 году у отца Салмана родился сын Шамиль. Самостоятельную жизнь в 1980-х последний начинал классическим неудачником: шабашил в колхозе под Волгоградом, поступил в московский вуз и вылетел в первую же сессию, работал в столице контроллером в троллейбусе и сторожем в закусочной, пытался торговать компьютерами и наконец от долгов бежал в родную Чечню. Пороха понюхал он впервые на защите Белого дома от ГКЧП, и вот уже в Грозном съезды чеченских конгрессов охранял его ЧОП "Ведено". Но как писал один журналист ещё в глубоких 2000-х, "Басаев не просто амбициозен и честолюбив. Он сверхчестолюбив и сверхамбициозен. Любое своё действие он оценивает с одной позиции - как об этом напишут в учебниках истории".
42а.

В ноябре 1991 года чернобородный Шамиль совершил свой первый, пока бескровный теракт, фактически пиар-акцию - захватил в Минеральных Водах самолёт, слетал на нём в Анкару, дал пресс-конференцию, а затем, покинув борт в Грозном, отпустил восвояси. Но крови Шамилю явно хотелось, а кровь тогда больше лилась за Кавказом - Басаев уехал сперва к азербайджанцам в Нагорный Карабах, затем в Баку свергать Эльчибея, и наконец в Абхазию резать грузин (по слухам, конечно же, при поддержке ГРУ), сплотив из земляков Абхазский батальон. С батальоном он и вернулся в Грозный, где стал правой рукой Джохара Дудаева и в июне 1993 года расстреляли пророссийскую оппозицию в мэрии Грозного. Убивать безоружных ему явно нравилось - редкая боевая операция Басаева обходилась без расправ над мирными жителями и пленными. В явнаре 1995 его Абхазский батальон полёг в грозненском Черноречье, в июне ударом с воздуха по Ведено был уничтожен дом его родни, где погибла сестра Зинаида с семью детьми. Но если и останется Шамиль в учебниках истории - то как эталонный, безоговорочный злодей. В кровавом списке Басаева были взрывы самолётов и метро, он же в мае 2004 взорвал на стадионе Ахмата Кадырова, но всё же главным методом Шамиля II стал захват заложников, - в Будённовске (июнь-1995), Москве (октябрь-2002) и Беслане (сентябрь-2004), - и взять заложниками разом больше 1000 человек ни до, ни после никому из подобных нелюдей не удавалось. Атакой на Будённовск Шамиль командовал лично - сначала боевики стреляли в прохожих на улице, а когда раненных свезли в больницу, нагрянули туда. По сути то было генеральное сражение Первой Чеченской - после нескольких попыток штурма и гибели 129 заложников, Басаев со товарищи беспрепятственно вернулись в Чечню. Россия же содрогнулась - я помню, как эту новость мне, 8-летнему ребёнку, пересказывала бабушка, прекрасно понимавшая, что это лишь начало. "Норд-Ост" и Беслан делались другими командирами, но по басаевскому плану, а всего жертвами его терактов стали порядка 800 человек. Информационные удары его также были очень болезненными - например, регулярные сообщения, что гаишники за мелкую взятку пропускают его бойцов. О взорванных в 2004 году пассажирских самолётах Басаев сказал, что террористы их лишь захватили, а 100 человек убила российская ПВО (что, безусловно, было враньём). На московской Дубровке отчаяшвиеся родственники заложников стояли с плакатами за независимость Чечни, а в Беслане истинной целью набранного из ингушей отряда было вновь поджечь конфликт с осетинами. И всё же в Беслане, втором по кровавости теракте мировой истории (333 погибших), злодей промахнулся: ингуши были шокированы жестокостью не меньше осетин, а арабские спонсоры и кавказские селяне просто отвернулись от тех, кто стреляет в детей.
43.

Ну а чекисты называли Басаева "крысоед", имея в виду давний способ борьбы с грызунами: когда их ловят и сажают в бочку, из которой самый лютый самец выходит каннибалом. Выборы 1997 года Басаев проиграл Масхадову из-за выложенных кем-то на грозненский рынок видеозаписей его расправ над неугодными чеченцами, но его исламская Шура (Совет) быстро стала в Республике Ичкерия единственным реальным органом власти. Салман Басаев ещё в 1995 усыновил Хаттаба, и названные братья-ваххабиты представляли в Чечне самую радикальную силу. Но таким образом лицом чеченских "борцов за свободу" стал отморозок, с которым договариваться немногим продуктивнее, чем с бешеной собакой. "Псих", "бандит" - говорили про Басаева даже многие боевики, и если президент Масхадов боялся ему перечить, то суфийский муфтий Ахмат Кадыров искать защиты от ваххабитов решил у России. И всё больше вчерашних сепаратистов переходили на его сторону против чернобородого монстра. Оплотом Шамиля II в середине 2000-х стала Ингушетия, где 10 июля 2006 года и принял он из Грузии полный "камаз" взрывчатки. Что хотел Абдуллах Шамиль абу-Идрис (такое он принял в исламе имя) им взорвать - теперь одному Шайтану известно: список целей вплоть до атомных станций, озвученный в многочисленных видеообращениях и письмах, был слишком велик. Но в этот раз чекисты подложили бомбу террористу: в эпицентре страшного взрыва умер злодей до обидного быстро, а вот ошмётки его разлетелись на два километра вокруг.
44а. фото Альви Ицлаева, отсюда.

Роскошный дом Басаева в Дышне-Ведено в 2000 году стал русской командатурой, но вскоре был брезгливо взорван. Осталась лишь 4-метровый забор с бойницами по улице Школьной (кадр выше), но вроде бы и его сломали в 2019 году. Для строительства детского садика...
44.

За Дышне-Ведено горы резко приближаются, и в 8 километрах далее встречает последнее село долины Харачой (800 жителей), в годы депортации - Хварши.
45.

Центр села - под обрывом с угрожающе повисшим камнем:
46.

С камня течёт водопад Девичья коса:
47.

А под ним с 2009 года стоит мемориал абреку, которого в разных местах называют то Зелимхан Гашмазукаев (по отцу), то Зелимхан Харачаоевский, то попросту "чеченский Робин Гуд":
48.

Зелимхан жил в одну из самых спокойных для Чечни эпох - на рубеже 19-20 столетий. Тогда война свелась к разбойничьим бандам, а главным чеченцем слыл нефтяной магнат Тапа Чермоев, сын российского генерала Арзу. Вот и Зелимхан, зажиточный селянин с тучными стадами, мельницей и пасекой в сотню ульев вовсе не собирался бросать всё и уходить в леса. Однако в 1901 году сватовство брата обернулось ссорой, по итогам которой Зелимхан совершил кровную месть. В российских законах, увы, таковая не значилась, и вскоре Гашмазукаев был арестован, а бежав из грозненской тюрьмы, понимал, что теперь его место в лесах Чёрных гор. Поначалу банда Залимхана не отличалась от прочих, но по-настоящему развернуться ему позволила Революция 1905 года. Чтобы прослыть Робин Гудами, достаточно было грабить только чужаков, и вот уже для своего народа Зелимхан из главаря банды грабителей превратился в мстителя-одиночку, "наместника гор". С властями он и правда боролся, в 1906 и 1907 лично убив, например, начальников Грозненского и Веденского округов. Что в преданиях о нём правда, что красивый вымысел - теперь трудно сказать, но например 17 офицеров при ограблении поезда он убил якобы в отместку за казнь 17 чеченцев. По аулам ходили легенды о том, как Зелимхан помог людям в беде, например подарив многодетной вдове отличную пахотную лошадь, и что характерно, при словах "это Зелимхан дал" предвкушавший "палочку" за конокрадов полицейский моментально поскучнел. В 1911 году абрека разыскали студенты-анархисты из Ростова-на-Дону, вручили чёрный флаг да печать с надписью "Группа кавказских горных террористов-анархистов. Атаман Зелимхан", которой позже он регулярно скреплял свои письма и ультиматому к возможным жертвам. Тем временем, в "зачистках" погибли его отец и брат, штрафы за укрывательство налагались на целые сёла, а главное - для многих чеченцев Зелимхан был кровным врагом. И именно кровник-осетин Григорий Кибиров в сентябре 1913 года выследил Зелимхана в доме под Шали и убил в короткой перестрелке.
49.

Думаю, к образу Зелимхана приложила руку и советская власть: даже памятник в 2009 сюда лишь перенесли, а изваяли ещё в 1970-х.
49а.

В Девичьей косе - безумно вкусная вода, которую набирают люди даже из дальних селений:
50.

Вокруг - безумно красивый, наполненный жизнью пейзаж, и в контексте всех вышеизложенных историй разве не чудо, что теперь по этим горам снова ездят туристы?
51.

А мы в следующей части поднимемся выше в горы, на озеро Кезеной-Ам.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
...и другие
|
Метки: замки-крепости Зона заражения Кавказ природа дорожное деревянное этнография |
Хой и Герменчук. Чеченские скансены. |

С лёгкой руки военных журналистов за вайнахскими селениями закрепилось общекавказское слово "аул". У самих чеченцев оно не в ходу: по-русски это просто сёла, а вообще-то есть у них и традиционное название - юрт. Впрочем, на степняцкую юрту чеченская сакля похожа как бы не меньше, чем русская изба, да и сам юрт - понятие весьма растяжимое. Ведь испокон веков вайнахская земля состояла их двух разных, совершенно не похожих друг на друга миров высоких гор и равнины-"плоскости". Как выглядят современные сёла, отстроенные после тотального разорения в Чеченских войнах, можно оценить в прошлой части. Но в Чечне есть ещё и несколько весьма зрелищных скансенов с совершенно необычным после советских музеев деревянного зодчества подходом. Авторский Донди-Юрт в Урус-Мартане пока что вынесем за скобки: в сегодняшнем рассказе - вполне государственные Хой высоко в горах и Шира-Юрт в селе Герменчук между показанными опять же в прошлой части Шали и Аргуном. В первый мы ездили с "Неизвестной Россией", во второй - уже сами на маршрутке от Минутки. За более общим же рассказом о том, как в этих сёлах жили, как одевались, что ели и что пели - отсылаю в отдельный историко-этнографический обзор.

Высокогорный Хой, конечный пункт экскурсий на озеро Кезеной-Ам, ещё называют Мёртвым городом и Селением Стражников. Он стоит в 1846 метрах над уровнем моря, на горе Шимара в Андийском хребте, рассечённом здесь глубокой долиной речки Ансалты. Само слово "хой" действительно значит "стража", и современные гиды аттестуют этот юрт как чуть ли не тренировочный лагерь лучших на Кавказе джигитов. Более вероятно, что Хой просто начинался со сторожевого поста на границе чеченских и аварских владений, когда Чингисхан и Тамерлан опустошили плоскость, загнав вайнахов обратно на гиблые кручи. Первыми жителями тревожного пограничья стали 7 семейств, мужчин в которых звали Амин, Алхаст, Ангут, Баьллиг, Утулкх, Лекъа и Гези. От них произошли 7 гар (родов), образовавших тейп (клан) хой, в свою очередь ставший частью тукхума (племени) Чеберлой, населявшего высокогорья над лесистой Ичкерией. Отктровенно говоря, Хой был совсем не типичным горным селом - ведь в большинстве своём такие аулы были совсем невелики, 20-30 дворов, здесь же к концу 19 века было 195 дворов и более 2000 жителей. Таких огромных селений и в нынешней Горной Чечне не найти, так что совсем не мудрено, что Хой часто называют городом. Население его, правда, ещё в 19 веке упёрлось в потолок - молодёжь массово спускалась в Сержень-Юрт, Курчалой и знакомые нам по прошлой части Чечен-Аул и Бердыкёль (Комсомольское). Ну а Мёртвым этот город стал, само собой, в 1944 году, когда за одну ночь всех чеченцев и ингушей выгнали из родных домов да повели на станции, к теплушкам в Казахстан. В 1958, когда изгнание кончилось и реабилитированные вайнахи вернулись на родину, большинство горных сёл уже не возродились - в одних местах пишут, что на поселение в горах действовал негласный запрет, а в других - что чеченцам и самим туда было не надо: выход на плоскость был для них такой же многовековой мечтой, как для России выход к морю, депортация научила их жить в степи, и вайнахи попросту перестали быть горцами. Ну а 195 дворов Хоя так и продолжали лежать над пропастью Ансалты величественными руинами, и до недавнего времени туристов тут встречал примерно такой вид.
3а. фото отсюда (там же указан первоисточник).

Затем, однако, кому-то из хозяев Фонда Кадыров пришла в голову идея полностью отстроить Хой в качестве музея, и вот, буквально с года на год, Селение Стражников подняли из руин. Рады этому были далеко не все, и, скажем, наш гид Ксения с искренней досадой в голосе называла Хой не иначе как "уже не древний город". Да ехали мы не "в Хой", как было бы пару лет назад, а "на Хой" - это тоже юмор недовольных гидов. Новый Хой получился довольно зрелищным, и по мне так правильнее всего было бы половину аула восстановить, а половину оставить как было.
3.

Вход в Уженедревний Город платный - рублей 100 или 150. Чуть ниже ворот - родник, центр жизни любого аула, питавший его арыки.
4.

По стенам развешаны цитаты из чеченского кодекса чести къонахалла. Здесь приведу, пожалуй, самую актуальную для современных горячих кавказских ребят. Наш водитель Мага, впрочем, пояснил, что къонах ("витязь", "добрый молодец") - это почти недостижимый идеал, настоящих кьонахов на всю Чечню раз два и обчёлся, и даже само это слово столь громкое, что просто как похвалу (в значнии "молодец мужЫк!") чеченцы его не используют.
4а.
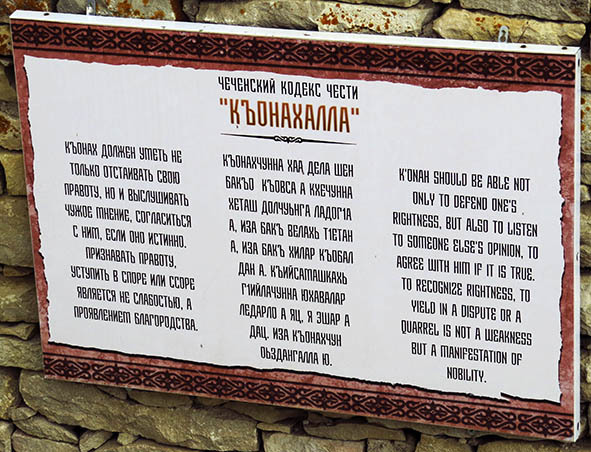
Ну а вот так выглядит сам Уженедревний Город на фоне высочайшей чеченской горы Тебулосмта (4493м):
5.

И хотя новодельность, конечно, очевидна, всё же сам пейзаж кавказского аула узнаётся. Из таковых я прежде видел Хыналыг в Азербайджане, и если ободрать с улиц Хоя плитку, заляпать заборы кизяком, увешать окна разноцветными коврами и гирляндами сушащегося белья, да натянуть проводов с трансформаторами и спутниковыми тарелками - получится вполне правдоподобная картина:
6.

В некоторых домах хорошо видны различия старой и новой кладки. Старая - безрастворная: бесконечные войны сделали одним из важнейших требований к вайнахской сакле восстановимость. На старом проверенном месте и из готовых камней такая складывалась за неделю, а значит за пару недель разорённый набегом аул полностью возвращался к жизни. Реплики домов, конечно, строились уже на растворе, но главное, пожалуй, отступление от канона - даже не стены, а крыши.
7.

В типичной вайнахской сакле они делались без несущих балок: между стен устанавливались прутья, поверх них клался настил из древесной коры, а на нём раскатывался толстый слой глины. Такая крыша прекрасно держала воду, да и на вес человека была расчитана вполне - как и в Дагестане, крыша одного дома тут могла служить двором другого. А вот для веса целой группы туристов, да ещё за столом с лавочкой, да ещё с возможностью подать на организатора в суд, такая конструкция явно уже не годилась.
8.

О былом, однако, напоминают ручные катки, которыми глину старых крыш равняли:
9.

Для надёжности впечатывая в неё священные слова:
9а.
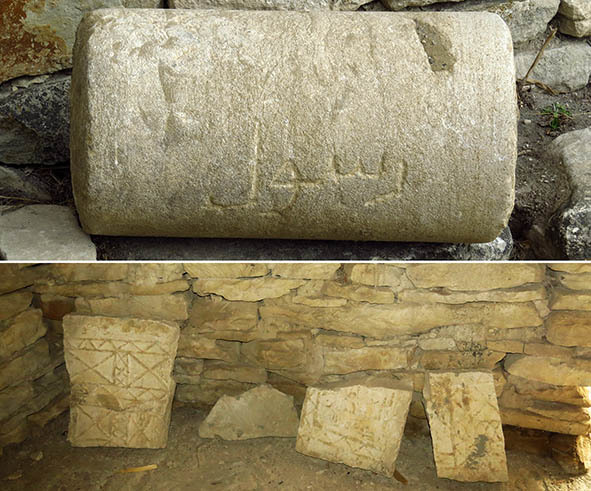
Извилистые улицы без плана, становившиеся для врагов многоуровневым лабиринтом - верная примета горских селений:
10.

Но грубость реконструкций тут компенсирует сам подход - чеченцы построили здесь не музей, а реплику села в полный рост. По его улицам бродят коровы:
11.

А в каждый дом можно зайти, и изнутри дома выглядят так, будто жители в одночасье собрали вещи да покинули аул. Возможно, имеется в виду "Хой накануне депортации" - интерьеры тут явно не дорусской эпохи, а начала ХХ века, когда на смену традиционному очагу "кхерч" пришёл камин, а в обиходе у вайнахов помимо ковров да сундуков появилась какая-никакая мебель:
12.

Под некоторыми домами - вполне аутентичные погреба, в которых держали скотину. Горные сакли частично врубались в склон, а из вынутого камня складывались внешние стены:
13.

Мечети среди этих домов выделяются лишь выступами михрабов:
14.

Однако Чечня не была Чечнёй, если бы в музейной мечети не мог совершить намаза местный гид, грозненский турист или работник близлежащей турбазы.
15.

Над горным селом возвышаются башни - их, в отличие от домов, строили на века: саклей во время вражеского набега можно было пожертвовать, сохранив в неприступной башне себя и припасы. Судя по числу родов, когда-то над Хоем возвышались 7 башен, но в Чечне военном зодчеству не повезло - что не взорвали порохом в Кавказскую войну, то расстреляли из пушек в депортацию, а что пережило депортацию - добила в 1990-х авиация РФ. В Чечне подавляющее большинства башен - реплики, и над Хоем таких торчит две. Облик их, впрочем, для Чечни весьма необычен: речь даже не про тамгу в виде креста, которая могла остаться в роли оберега с тех давних времён, когда вайнахи были христианами, а про саму конструкцию. По своей устройству это не вайнахские, а типичные сванские башни, распространённые мало того что по ту сторону Кавказского хребта, так ещё и парой сотен километров западнее! На самом деле сванские башни в Чечне действительно попадаются, а так как датированы они с погрешностью в несколько веков, их происхождение не ясно - то ли вайнахи позаимствовали идею родовых башен у сванов и не сразу выработали свой архитектурный тип, то ли какие-то роды были в кровной вражде с зодчими и потому звали артели из Грузии. Да и в нынешних Чечне и Ингушетии реставрацией древностей нередко занимаются грузинские мастера.
16.

В нижней части Хоя стоит Боевая башня. Больше всего в ней впечатляет вход по бревну с зарубками - в те времена, когда такие башни использовались по назначению, он был даже очень парадным, а чаще через второй этаж на башню влезали по верёвкам. Именно на втором этаже пережидали набег или лавину (а то и просто ночевали, покидая саклю) хозяева, а первый этаж служил каменным мешком, куда спускали пленников и рабов.
16а.

Выше хранились припасы, но в общем изнутри эта башня не аутентична - между нижними людскими ярусами и кладовой канонические башни имели каменный купол, служивший вторым рубежом обороны. Здесь же все перекрытия из дерева и глины. Да и лестницы располагались по углам зигзагом, а не в середине:
17а.

Но и восстановили эту башню больше как смотровую площадку. Из её бойниц открываются роскошные виды на крыши села (кадры №1 и 8) и долину Ансалты. Обратите внимание, что склоны над ущельем покрыты террасами - когда-то на каждом мысу висел свой аул, и от некоторых даже остались руины:
17.

На улицах аула есть и несколько жилых башен, сплющившихся со временем в 2-3-этажные каменные дома. Ближе к входу же высится Смотровая башня, или Хобов (Башня Стражи) 5-метровой ширины и 16-метровой высоты. Обветшалая, с поломанной верхушкой, и после депортации она стояла в полный рост над руинами аула, а сильнее всего была повреждена в 2002 году во время очередной контртеррористической операции. Отреставрировали её тоже первой, в 2018 году, по чертежам советского археолога Владимира Марковина с использованием аутентичных камней.
18.

Она представляет собой самый архаичный тип вайнахской башни - с плоской площадкой наверху. Но именно поэтому Хобов "сторожевая": в таких башнях труднее обороняться, но зато с них куда лучше обзор, да и для сигнального костра есть место.
19.

Панорамы села с этой площадки я уже показывал (кадры №5, 6 и 7), а вот такой вид с башни открывается вверх по ущелью:
20.

И всё-таки в Уженедревнем Городе остался один полностью аутентичный элемент. Это - кладбище, хорошо заметное с башни:
21.

У входа - маленький и современный воинский памятник:
22.

А за оградами - замшелые каменные плиты без украшений и надписей, отколотые от скал и вкопанные вертикально. В старину считалось, что чеченец должен знать в лицо даже своих мёртвых предков, вернее - их чурты (надгробия) в этом безмолвном саду камней:
23.

Когда эти чурты были поставлены - не берусь предполагать. Под единственной стелой с уже современной надписью покоится человек, живший в 19 веке:
24.

Несколько чуртов выглядят особенными - этакие мавзолеи без одной стены. О том, кто покоится под ними, пишут разное. Где-то - о праведниках и проповедниках ислама, где-то - о героях Кавказской войны.
25.

В нишах - плиты с арабской вязью, изображениями оружия и даже странными, полуабстрактными силуэтами джигитов в черкесках с газырями. Но над арками чуртов - петроглифы, солярные знаки, тамги:
26.

Хотя мусульмане среди вайнахов были столько, сколько вообще известен науке этот народ, всё же массовый переход в ислам тут начался лишь в Новое время, и только в годы Кавказской войны религия Пророка стала в этих горах доминирующей. А потому я не могу отделаться от мысли, что мусульманские чурты тут встроены в древние сиелинги - языческие алтари:
27.

...В горах жить красиво, но тяжко. У людей из высоких юртов, конечно, были сады с яблонями да вишнями, огороды с фасолью да чесноком, и конечно же пастбища с мелкими неприхотливыми баранами. Но производящее хозяйство на холодных кручах не справлялось без хозяйства присваивающего - сбора черемши и ягод в лесах, ловли форели в быстрых реках, охоты на птиц или горных козлов и, конечно же, набегов. Перевалить через хребет, спуститься в долину Грузии, разорить какое-нибудь селение или разграбить торговый караван, а потом пойти на плоскость, там продать награбленное да купить зерна - вот так много веков работала здешняя экономика. Потому и являлся мужчина в первую очередь воином, что без набегов горцам было просто не прожить. Нехватку рук в обработке земли всегда можно было компенсировать лаями - пленниками-рабами. Набеговое хозяйство способствовало жизни в маленьким общинах-тейпах, внутри которых была строгая взаимопомощь, а вот снаружи - зыбкость и вражда, зарегулированная лишь всё той же къонахаллой, фактически являвшей собой не столько этикет, сколько свод законов для правосудия своими руками. Немудрено, что мечтой чеченцев была плоскость, на бескрайних полях которой можно самим выращивать пшеницу или кукурузу и пасти не тощих баранов, а грандиозных коров. С 15-16 веков, когда в Великой Степи прошло время могучих орд, вайнахи начали всё активнее спускаться к берегам Сунжи. Первоначально горные юрты были чем-то вроде метрополий, а плоскостные - колониями, и между ними шёл постоянный обмен скота, черемши и награбленного на зерно и бахчу. Торжищем всея Вайнахии служил показанный в прошлой части Чечен-Аул, по которому соседи и прозвали нохчи чеченцами. Вокруг стояли котары (хутора), "филиалы" различных горных юртов, постепенно сраставшиеся в обширные сёла, где уже в 18 веке не редкостью были сотни дворов и тысячи жителей. Именно так и возникла система тейпов, отвязавшихся от конкретных сёл и превратившихся в экстерриториальные кланы.
28.

Вот и в огромном селе Герменчук (12 тыс. жителей), что приросло к Шали...
29.

...со стороны Аргуна...
30.

...живут представители полутора десятка тейпов - в основном из Ичкерии (Беной, Цонтарой, Харачой и другие), но и от остальных тукхумов понемногу. Хойцев, правда, здесь нет, а потому два чеченских юрта-музея не образуют единой системы. На самом въезде в Герменчук со стороны Аргуна, напротив сельского ДК...
31.

...сходу привлекает взгляд 23-метровая, абсолютно каноническая по своим формам вайнахская башня. В отличие от сванских башен Хоя, она гораздо тоньше, плавно сужается кверху и увенчана пирамидальной кровлей с карнизами из плитняка. На плоскости башни изредка встречались - однако последние были разрушены ещё в Кавказскую войну. Может быть, такая стояла и в Герменчуке - название это селение получило отнюдь не в честь офицера-героя западнорусских кровей, а по транскрипции вайнахского Гермчига. Которое, в свою очередь, здорово напоминает тюркское Керменчик - "городок": есть версия, что первые вайнахские колонии на плоскости возникали на месте ордынских ставок. Как и соседние Шали да Чечен-Аул, Герменчук явно был в числе старейших плоскостных селений, и в 1820 году именно сюда Алексей Ермолов с Николаем Грековым силами мобилизованных под страхом расправы чеченцев прорубили из Грозной крепости первую просеку, сеть которых, создававшаяся для карательных отрядов, за пару-тройку поколений разгерметизировала горский уклад.
32.

Новая башня Герменчука снаружи смотрится правдоподобно, но на самом деле сложена из шлакоблоков в каменной облицовке:
32а.

Что, впрочем, никак не ухудшает вид с неё на зелёный простор Чеченской равнины между горами Кавказа и гребнем Терского хребта. У подножья башни раскинулся Шира-Юрт, дословно Старое село, представляющее собой реплику чеченского аула на плоскости:
33.

Он был основан в 2014 году, и первоначально назывался Шира-Котар (Старый хутор), а до юрта разросся в процессе. Если Донди-Юрт в Урус-Мартане создавал один человек, а Хой уже не древним делался на деньги Фонда Кадыровых, то в Герменчуке был выбран промежуточный вариант - "белхи", то есть по-нашему говоря - стройка "всем миром", по местному обычаю конечно в добровольно-принудительном порядке. Местные власти просто распределили между различными организациями района подшефные объекты, и за считанные месяцы на берегу каменистой Джалки вырос скансен из 40 домов:
34.

Вход сюда везде указан как бесплатный, а на самом деле оплата есть и делается она вот так:
34а.

Смотрители, однако, красноречиво сидят в сакле охотника:
35.

У входа вместо родника встречает глубокий колодец:
36.

А за ним - миниатюрная мечеть, внучатая племянница горской башни:
36а.

Не знаю, сверялись ли организаторы Шира-Котара с этнографическими материалами, или просто каждая бригада выбрала руководителем старейшего участника, а тот строил дом "как у деда".
37.

В итоге получилось очень душевно, колоритно и убедительно:
38.

Основным материалом на плоскости служил турлук - хворост, обмазанный саманом:
39.

Крыши крыли соломой, а кто побогаче - освоили в 19 веке черепицу, одним из крупнейших производителей которой в Российской империи был областной Владикавказ:
40.

На равнине горцы переквалифицировались в землепашцев - поначалу основными культурами были ячмень и просо, но постепенно их вытеснили пшеница и кукуруза, очень кстати для вайнахов именно в эти века попавшая в Старый свет. У терских казаков чеченцы покупали коров, постепенно теснивших из их скотоводства баранов.
41.

На некоторых домах Шира-Юрта попадаются вот такие надписи, напоминающие о белхи:
42а.
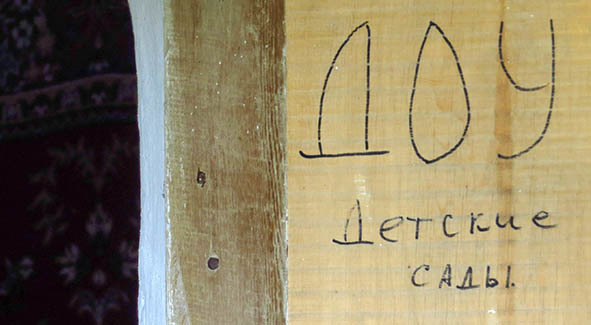
Усадебки Шира-Юрта вроде и похожи друг на друга, а все разные - будто каждую строила отдельная семья. Между собой селяне активно взаимодействовали - есть тут и кузница, и гончарная мастерская. У кого-то на участке был колодец:
42.

У кого-то - куьрк, большая печь, где пекли хлеб и жарили кукурузу:
43.

При всей мусульманской брезгливости, тут не забыли даже про такое вот необходимое сооружение, которое большинство скансенов обходят вниманием:
44.

Как говорил мне один чеченец, "героев воспитывают матери", имея в виду, что отец только учит сына необходимым навыкам да служит ему образцом. Мужчина с регулярно заходившими гостями да жена с детьми в чеченских домах жили порознь, вот только само это раздельное существование было устроено по-разному: в жилых башнях сегрегация была по этажам, в одноэтажных горных домах - по комнатам, ну а на плоскости часто строилось два дома дверь в дверь, но с общими чердаком и крышей:
45.

В каждый дом здесь, как и в Хое, можно беспрепятственно зайти:
46.

И здесь тоже не покидает ощущение, будто люди совсем недавно ушли из аула и теперь где-то ждут возможности вернуться домой:
47.

Шира-Юрт был заявлен как аул 18 века, но так как здесь простые чеченцы строили дедовские дома - получилось скорее то же "накануне депортации". Простейшая мебель, фабричные ковры, бидоны и зингеры - всё это явно уже русское заимствование:
48.

Хотя и с традиционной посудой, которую, быть может, ещё предки привезли сюда с гор:
49а.

Средства отопления - пеш (упрощённая русская печь с турлучной трубой) и товха - очаг, в который клали целую колоду, медленно тлевшую пол-зимы. А вот чего я не увидел ни здесь, ни в Хое - это зы, надочажную цепь, главную святыню чеченского дома, на которой клялись и прощали. Но может дело в том, что подлинную зы в музей никто не отдаст, а реплику сделать не догадались.
49.

Предметы старого быта - крупорушки:
50.

Сундуки:
51.

И хлебная доска с благословением:
51а.
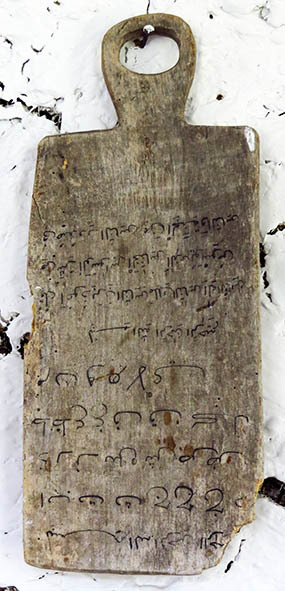
А ещё - керосиновые лампы: нефтяные колодцы в Грозненской балке рыли испокон веков, простейшими средствами отделяя "белую нефть" от "чёрной". Чёрную использовали в основном для гидроизоляции, а белую заливали в светильники, и тысячу лет назад бывшие здесь привычным предметом обихода:
52.

Дополняет картину ряд ретромашин под навесом:
53.

Особенно эффектный на фоне башни, за которой гремят фуры:
54.

Кладбищем Шира-Юрт не оснащён, но на плоскости чеченские некрополи вот такие. Вид их совсем иной, сбросивший горскую суровость - чурты покрыты вязью, резьбой, орнаментами, которые благодарные потомки и поныне поновляют, крася в яркие цвета. Острые пики над могилами же не зависят от уровня моря - старейшим из них чуть более четверти века, и под ними покоятся те, кто погиб на войне с Россией.
55.

Кадр выше снят где-то на дороге к озеру Кезеной-Ам, у разных концов которой расположены Герменчук и Хой. Об этой дороге я расскажу дальше, и в следующей части речь пойдёт про Ведено и окружающую его Ичкерию.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Урус-Мартан и Серноводск.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: замки-крепости Кавказ природа скансен дорожное деревянное этнография |
Аргун, Шали, Чечен-Аул. Зиярты и сити Чеченской равнины. |

Показанные в прошлой части нефтепромысловые окраины Грозного переходят в окрестности незаметно. Долина Сунжи впечатляет самой высокой в России плотностью сельского населения, а любой её населённый пункт независимо от возраста и статуса представляет собой необозримый массив крепких одноэтажных домов. Смыкаясь, они образуют краснокирпичную сельву, опутанную жёлтыми лианами газопроводов, в которой идёт своя, малопонятная жителям других регионов, жизнь. Над этой сельвой торчат минареты, - как маленьких сельских мечетей, так и "крупнейших в Европе на момент постройки", - да стеклянные башни районных Сити. Под её сенью спят зиярты - святыни ислама на могилах проповедников и героев, похороненных в более древней земле. Знакомиться с колоритом восстановленной Чечни мы отправимся в города-близнецы Аргун и Шали (39 и 55 тыс. жителей) с "Неизвестной Россией" и уже своим ходом в Чечен-Аул - огромное (9,3 тыс. жителей) старинное село, неожиданно раскрывшееся нам благодаря кавказскому гостеприимству.
Перенаселённость Чеченской равнины, вытянувшейся между предгорьями Кавказа и гребнями Терского и Сунженского хребтов, легко оценить со смотровой площадки Грозный-Сити. На востоке, за запретными резиденцией Рамзана Кадырова и
2.

На самом деле они совсем не грандиозны - в высочайшей башне 21 этаж, в остальных по 12 и 16. С таким же успехом Урюпинск-Сити или Крiжопiль-Сiтi можно было бы назвать любой микрорайон, построенный в маленьких городках в советскую эпоху. Сити чеченских райцентров кажутся манхэттанами и пудунами просто потому, что торчат из одноэтажной застройки. На кадре выше хорошо видно, что Аргун представляет собой кляксу частного сектора, плавно перетекающую в такие же кляксы близлежащих сёл:
3.

Одним из таких сёл был и сам Аргун до 1967 года. Основанный в 1819 году горцами, спустившимися по долине Аргун-реки к её устью на Сунже, он назывался Устар-Гардой, а в 1944-62 годах - Колхозное. История его не была отмечена какими-либо яркими событиями, и хотя в Чеченских войнах слово "Аргун" было на слуху, относилось оно не к городку, а к реке, или вернее её ущелью, где ангелА открывали врата 6-й роте и Итум-Кали воспитал достойного сына Чечни... Город Аргун же начал по-настоящему развиваться и обретать лицо лишь по окончании войны: в 2007 году на базе старого советского завода "Пищемаш" (1962) был создан завод "Чеченавто" для отвёрточной сборки "Жигулей", в последующие годы успевший пройти линейку от классики до "Приоры". Чеченцы пытаются создать здесь собственный автопром: в 2010 завод построил опытный образец грузовика "Ворд" ("Телега"), который должен был стать лучшим другом колхозника взамен покойного "Ераза". Но даже в автомобилестроении грозные вайнахи остались верны себе: с 2017 года в Аргуне серийно выпускают багги "Чаборз" ("Медведь"), взятый на вооружение Российской армией - вроде как эти машинки даже мелькали в Москве на некоторых майских парадах. Ну а оснастив Аргун самым современным в глубоко не самодостаточной Чечне предприятием, батяня-Рамзан решил, после Грозного и Гудермеса, одарить городок собственным Сити:
4.

К которому и подъехали мы с "Неизвестной Россией" в глубоких сумерках, спустившись с горного озера Кезеной-Ам. Построенный в 2011-14 годах, Аргун-Сити - достопримечательность именно что ночная:
5.

Ведь многоэтажки его - не более чем задний план для Мечети имени Аймани Кадыровой, в темноте впечатляющей переливами светодиодной подсветки:
6.

Чуть уступающая размером грозненской мечети "Сердце Чечни" (см. здесь), мечеть "Сердце Матери" (это её альтернативное название) тоже создавалась турецкими архитекторами. Вот только в Грозном строители и заказчики предпочли историзм, а здесь - самый настоящий "мусульманский хай-тек": пожалуй, это сама футуристическая культовая постройка всей России.
7.

Прогрессивные формы и инновационные материалы, однако, причудливо переплетаются с традицинной отделкой - под параболическим куполом встречают всё те же мозаики и растительные узоры:
8.

Да грандиозная люстра-полумесяц диаметром 31 метр, не влезающая в кадр целиком:
9.

Посвящение мечети, в своё время немало споров вызвавшее среди старейшин и мусульманского духовенства, на самом деле говорит куда больше, чем кажется. Аймани Кадырова, в девичестве Байсултанова - это вдова Ахмата Кадырова и соответственно мать Рамзана. А ещё - директор основанного "друзьями семьи" Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова: без преувеличения, важнейшей организации послевоенной Чечни. Фонд Кадыровых загадочен - а вернее, абсолютно непрозрачен: закон позволяет подобным организациям публиковать отчёты о своей деятельности в прессе, и судя по всему, здесь этой прессой служит какая-нибудь газета тиражом в один экземпляр лично на стол Рамзану. Как фонд наполняется - никто, кроме его хозяев, толком и не знает: поговаривают, всё население Чечни и даже более того, все чеченцы в России, вплоть до олигархов Руслана Байсарова и Умара Джабраилова, добровольно-принудительно отдают туда часть своих доходов. Какую часть - в разных местах пишут разное: где-то речь идёт про половину, где-то про треть, где-то про 5%, и бизнес предпочитает делиться от греха подальше, а наёмным работникам отчисления в фонд просто удерживают из зарплаты. Фактически, Фонд Кадырова - это второй бюджет Чечни, с официальным бюджетом имеющий весьма размытую границу: одна и та же смета строительства какой-нибудь школы или больницы может у российского Минфина фигурировать как федеральные дотации, а у Кадыровского фонда - как собственный проект. Местами фонд и правда благотворительный, особенно - в помощи сиротам и вдовам, хоть чеченских мужчин, умерших в 2020 году от ковида, хоть псковских десантников, павших на недавней войне. Иногда - ещё и с исламским уклоном: на деньги фонда многие чеченцы ездят в хадж (фактически давно уже ставший неимоверно дорогим туром), семьи мальчиков, появившихся на свет в день рождения Пророка (20 ноября) и семьи девочек, рождённых в День чеченской женщины (третье воскресение сентября) единовременно получают в подарок 100 тыс. рублей. Не меньше, чем хлебом, Фонд одаривает чеченцев зрелищами - то каких-нибудь западных поп-звёзд вроде Хиллари Суок позовёт сыграть концерт в Грозном, то Майка Тайсона на дружеский спарринг, а Диего Марадону на дружеский матч с Рамзаном. Ну, и конечно же любая сколько-нибудь серьёзная компания Чечни связана с Фондом - например, "Мегастройинвест", через который идут все крупные стройки республики. Не знаю, входит ли в их число фотозапретная Рамзанова резиденция в Грозном, но все эти районные Сити с гигантскими мечетями - точно:
10.

От мечети вниз ведёт подземный переход:
10а.

Кольцевую развязку по соседству отмечает полумесяц, ярко светящийся в темноте:
11.

А за мечетью - странный фонтан в виде огромной раковины, кажется, не несущий какой-то религиозной окраски:
12.

Аргун принято считать "третьим по величине городом Чечни" после Грозного и Гудермеса. На самом деле он лишь пятый - ведь с 1990 года городской статус обрели ещё более крупные Шали и Урус-Мартан. Последний стоит несколько в стороне, а вот Аргун расположен как бы в центре 3-лучевой звезды, в 15 километрах от Грозного, Шали и Гудермеса. Как где-нибудь в Босваше или долине Рейна одноэтажные городки здесь просто переходят из одного в другой. Так что на этих кадрах я уже и не вспомню, что ближе к Грозному, что к Шали, что к Аргуну:
13.

При всём том, для чеченцев только Грозный остаётся Городом, а остальное - так, глубинка. Вот например мой диалог с хозяином грозненской квартиры, в которой мы гостили без него, попрощавшись с "Неизвестной Россией".
-Я пока в село уехал, не знаю, когда в Городе появлюсь. А вы чувствуйте себя как дома.
-А в какое село, если не секрет?
-В Шали!
Гудермес, впрочем, от непрерывной застройки отсекает Терский хребет. А вот Грозный-Сити, Аргун-Сити и Шали-Сити расположены по принципам средневековых вайнахских башен - от каждого из них виден соседний.
14.

Шали, распластавшийся вдоль речек Басс и Шалинка (из-за чего в 1944-57 годах назывался он Междуречье), на своём веку пережил гораздо больше, чем Аргун. Само его название с чеченского переводится как Плоскость, ну а плоскостью здесь называют равнину - то есть это была одна из первых горских колоний на плодородной открытой земле. Если Аргун в 1819 году был основан, то Шали, стоявший задолго до прихода русских, в 1822 году был сожжён карательной экспедицией генерала Николая Грекова, подавлявшей не первое и не последнее чеченское восстание Бейбулата Таймиева. Запустение, однако, продолжалось недолго - считанные десятилетия спустя Шали вновь был одним из крупнейших чеченских селений, и сам имам Шамиль сделал его пунктом сбора мусульманских войск. Жарко было тут и в двух чеченских войнах: 3 января 1995 года воздушная атака кассетными бомбами убила 55 и ранила без малого две сотни шалинцев. 7 января 2000 года небольшой отряд силовиков занял пустынный город, быстро поняв, что здесь полевой командир Асламбек Арсаев готовит им мышеловку. Вскоре комендатура была взята в осаду, переходившую в митинг - поддержать своих джигитов пришла многочисленная родня. Боевики раздавали шалинцам оружие и готовились устроить засаду на подкрепление, которое к осаждённой комендатуре непременно придёт. Силовики же во главе с комендантом Александром Беспловым, тем временем, передали сигнал по станции космической связи и укрылись в подвале, после чего по площади прилетела баллистическая ракета "Точка-У". Чудовищный взрыв накрыл разом от ста до трёхсот человек - по тому, что от них осталось, даже количество трупов подсчитать было невозможно. В эпицентре удара были, конечно, боевики, и сам Арсаев был тяжело ранен, но зацепило и множество мирных жителей. Уцелевшие арсаевцы пошли на штурм, и от стен комендатуры отгоняли их выстрелы дальнобойных "Акаций" - по итогам трёхдневного боя Шали окончательно перешло под контроль федеральных войск. Ну а дальше, как и всюду в Чечне, кровавая война сменилась стремительным восстановлением. В 2014 году, торжественно открыв Аргун-Сити, батяня-Рамзан и компания принялись за соседний Шали:
15.

Здешний Сити, законченный в 2019 году - самый молодой в Чечне и самый красивый. В центре его - 21-этажный отель в виде вайнахский башни, а по краям как крылья - ступенчатые дома с секциями от 16 до 12 этажей:
16.

Но как и в Аргуне, всё это лишь задний план для грандиозной мечети. Изначально предполагалось, что назовут её мечетью имени Ахмата-хаджи Кадырова, так что покойный супруг и его вдова как бы смотрели бы друг на друга с высоких минаретов. Но по итогам 7-летней стройки (2012-19) мечеть вышла столь грандиозной, что назвали её Мечетью Пророка Мухаммеда, или просто "Гордость мусульман". В её минаретах - те же 62 метра, что и у "Сердца Чечни", вот только 43-метровый купол главного зала куда ближе к верхушкам. Обе мечети считались крупнейшими в Европе (видимо, за вычетом Турции) на момент постройки, вот только в эти 11 лет между Чечнёй и соседним Дагестаном развернулась самая настоящая мечетная гонка. И если "Сердце Чечни" была рассчитана на 10 тысяч молящихся, то "Гордость Мусульман" - на 30 тысяч, а ещё более крупную мечеть, говорят, в тот же год заложили близ Махачкалы.
17.

Если "Сердце Чечни" строилась в ярко выраженном турецком стиле, то здесь зодчие приехали из Узбекистана. Получилось, впрочем, нечто с элементами всего исламского мира - в одной постройке мирно уживаются византийские купола, индийские минареты, бухарские айваны и белый мрамор с греческого острова Тасос.
18.

Приехав на бескрайнюю парковку у мечети с "Неизвестной Россией", я сперва обежал площадь, а потом, отбившись от группы, долго искал, где у мечети вход - десяток резных дверей оказались заперты.
19.

В зале, конечно, любой эстет хмыкнет "дорохо-бохато!", но размер, размер! Я не могу отделаться ощущения, что по объёму это крупнейшая культовая постройка России, и уж наверняка хотя бы третья после Христа Спасителя и Исаакия.
20.

А в общем всё как в "Сердце Чечени" - витражи, мозаики, кристаллы Сваровски...
21.

22.

И роскошные люстры в виде цветков:
22а.

Хочется верить, что когда дагестанцы закончат свою новую мега-мечеть, а чеченцы начнут строить Урус-Мартан-Сити с мечетью на 50 тысяч молящихся, для неё наконец найдут не турецкий или персидский, а национально-вайнахский стиль.
23.

Вокруг мечети - комбинация из бескрайней парковки, тенистого сквера и шумной, совсем не по малому городу, главной площади. На фоне Сити - новый памятник, по чеченскому обычаю прославляющий вместе героев Великой Отечественной и Ахмата Кадырова:
24.

Напротив - ещё одна башня и несколько довольно стильных беседок:
25.

А вот эта галерея куда как зрелищнее по ночам, подсвеченная разными цветами:
25а.

За оживлённой улицей - Дворец культуры "Вайнах":
26а.

Слева от него - торговый центр:
26.

Справа - круговая развязка, и видимо там, куда 7 января 2000 года прилетела "Точка-У" теперь стоит танк на постаменте, столь непривычно современный в своём жанре Т-72.
27.

На месте комендатуры (опять же - предполагаю) теперь стоит крепость кадыровской рати с собственной златоглавой мечетью:
28.

А со всех сторон подступает частный сектор, плавно перетекающий между селений:
29.

Одноэтажный Шали и правда кажется бескрайним. Вот где-то на северо-западной окраине странная платнация водонапорок:
30.

А на юго-восточной - огромное старое кладбище, под самой крупной могильной плитой которого покоится, как сказали мне местные, сам абрек Зелимхан. Постороннему чеченцы объясняют его сущность просто - "наш Робин Гуд": видный представитель ичкерийского тейпа Харачой, в 1901 Зелимхан потерял всё, совершив кровную месть, попав под арест и бежав в горы. Как я понимаю, именно он превратил само понятия абрека из "изгоя" в "народного мстителя" - "наместник гор", как называли его вайнахи, регулярно помогал обездоленным, мстил за своих и доходчиво предостерегал от произвола чиновников в глубинке: например однажды он остановил поезд и расстрелял в вагоне 17 офицеров как расплату за казнь 17 чеченцев. Лихому джигиту выпало лихое время - революция 1905 года с её разгулом "бомбизма" и регулярными убийствами чиновников. В 1911 году Зелимхана разыскали ростовские анархисты, объявившие себя горским войском, а его - атаманом. Чеченцы, однако, как всегда, были расколоты по тейпам, и учитывая начало всей этой истории, в горах у Зелимхана были как верные сторонники, так и кровные враги. 25 сентября 1913 года "чеченский Робин Год" был блокирован в доме близ Шали и убит, ну а обелиск над его могилой явно уже кадыровской эпохи:
31.

Надгробия вокруг, видимо, куда более старые, просто поновленые и раскрашенные. По крайней мере не могу представить, чтобы после Великой Отечественной войны кто-то отметил могилу отца свастикой:
31а.

Ну а на кратчайшем пути из Шали в Грозный, на другом берегу Аргун-реки, где её пересекает Бакинка (трасса "Кавказ") расположился Чечен-Аул. Сюда нас привёз уже не бусик "Неизвестной России" с чернобородым Магой за рулём, а попутка с матерью и сыном, державшая путь из Ведено в Урус-Мартан. Мы с Ольгой, днём ранее приехавшей в Грозный, высадились на Бакинке, чиркающей по окраинам аула, и пошли по бесконечным краснокирпичным улицам туда, где виднелся высокий минарет. По пути - ещё какие-то мечети:
32.

И обильные украшения крепких домов в столь далёких от столичного эстета представлениях о прекрасном:
32а.

Чечен-Аул, а в прошлом и вовсе Большой Чечень - это своеобразный прото-Грозный, неофициальный столица дорусской Чечни. Испокон веков горцы в своих голодных ущельях мечтали о покорении равнины, где можно будет прокормиться не с набегов, а с плодородной земли. За свою историю вайнахи предприняли несколько попыток колонизировать плоскость, и предпоследняя волна экспансии, продлившись несколько веков, была обрублена нашествием монголов. Вновь спускаться с гор нохчи начали в 16 веке, к концу столетия образовав цепочку селений вдоль Сунжи. Здесь же обосновались гребенские казаки, по самой романтичной гипотезе - потомки ушкуйников, бежавших на юг из покорённого Новгорода. Ну а этот аул были то ли крупнейшим вайнахским селением, то ли просто местом межнациональной торговли, ярмаркой всех предгорий. По основной гипотезе, это не Чечен-Аул назвали так потому, что в нём живут чеченцы, а ровно наоборот - чеченцами русские называли тех, с кем торговали в Чечен-Ауле. У грузин, знакомых с нохчи куда дольше, для них и правда были свои названия - дзурдзуки или кистинцы. Ну а гостями здешней ярмарки были, судя по всему, и черкесы, и осетины, для которых нохчи стали шешенами и цацанами соответственно.
33.

В честь чего же аул стал Чеченем - никто толком не знает. Вроде бы это название он получил по нависающей над ним горе, где, по преданиям, была ставка монгольского полководца Сэчэна. И если так - то своё русское прозвище нохчи получили в честь злейшего врага, как если бы их теперь называли ермоловцами.
34.

В 1944-58 годах Чечен-Аул назывался Калиновка. В Чеченские войны он вроде и не отметился известными сражениями, однако был, как водится, разрушен. Теперь же вид его, вероятно из-за близости к Грозному, можно считать образоцово-показательным:
34а.

На улицах изредка всё-таки попадаются заброшенные дома. Скорее всего, у них есть владельцы или хотя бы наследники владельцев, но от войны бежавшие так далеко, что теперь и не договориться с ними о восстановлении.
35.

И только возраст этих домов мне абсолютно не понятен - так строить могли с равным успехом и в 1870-е, и в 1970-е годы.
36.

Между тем, среди прохожих Чечен-Аула мы производили фурор. Пару раз с нами фотографировались, а один человек, проезжая мимо на старой "Ладе" для тех же целей сгонял домой за маленькими дочками, чему, конечно, несказанно умилилась Оля.
37.

Сама же она увлечённо фотографировала коров, а когда навела объектив на грандиозной индюка в чьём-то огороде - вдруг материализовался и его хозяин, долговязый немолодой человек в тюбетейке, говоривший очень тихим, располагающим голосом. Он сказал, что с радостью позвал бы нас в гости, но не сможет накормить ничем горячим, так как до конца уразы (поста) ещё пара часов, и еда в его доме будет готова лишь к этому времени. Сам он, кажется, просто пытался чем-то себя занять до ужина, и покатать гостей по аулу явно счёл хорошей идеей - после положенных трёх отказов мы сели в машину да продолжили путь по улицам села.
38.

Центр Чечен-Аула - Старая мечеть, построенная где-то на рубеже 19-20 столетий. Впрочем, наш новый друг объяснил, что при Советах в мечети был клуб, минарет её сломали, и всё это сельчане восстанавливали сами уже после войны. Насколько близко к оригиналу - судить не берусь, но "на глаз" можно поверить, что близко.
39.

По своему устройству это абсолютно типичная, даже эталонная вайнахская мечеть - "поперечный" (относительно направления к Мекке) зал и минарет посердине, в данном случае прямо над михрабом:
40.

А в стены вделаны таблички с цитатами Корана:
40а.

У мечети, пообщавшись с местными мужиками, коротавшими вечер в беседке, и сделав ещё одно коллективное фото, мы поехали на склон той самой Чечен-горы.
41.

И стоило было нам подняться на каких-то 20 метров выше крыш села - как глазам открылся простор Чеченской равнины, представляющий собой океан сельских крыш. Вдали тянутся Чёрные горы, первый в кавказской "лестнице" Лесистый хребет, рассечённый Аргунским ущельем. В том ущелье у вайнахов всегда были последние рубежи обороны, ну а наш проводник заметил, что ущелье ведёт прямо в сторону Мекки. Многие жители Чечен-Аула не в мечетях молятся, а прямо на этом склоне, на гигантский природный михраб:
42.

Слева поблёскивает Шали-Сити. Вот так забавно - Сити есть, а города не видно:
43.

Между тем, на склон у кладбища выводила грунтовая дорога, а по ней машины ехали в аул непрерывным потоком. Дело в том, что по прямой от Чечен-Аула до Грозного 15 километров, а по Бакинке да всем въездам - 25, и потому сельчане возвращались в город безымянной, не отмеченной на картах, но привычной им дорогой через лес. Туда, в сгущающихся сумерках, и повёз нас новый знакомый, а мы за неделю в Чечне настолько прозрели от стереотипов, что доверяли ему так же, как и человеку любого другого народа. Лес на Чечен-горе сказочный:
44.

На одной поляне жители аула сделали себе место для пикников с шашлыками. В мангале, когда мы приехали, тлели угольки, и я не сразу понял, почему наш проводник так возмутился - какой-то его сосед тут тайком нарушал уразу!
45.

На другой же поляне находился местный зиярт Джеми-Борз, о котором рунету известен единственный ютуб-ролик на чеченском.
46.

Невысокий холм, в верхушке которого выкопана мечеть, ориентированная на Мекку - для чеченцев это, конечно же, мусульманская святыня. Того, что когда-то они были язычниками, нохчи стыдятся и лучше не пытаться с ними об этом говорить. Но мне кажется, в этом месте трудно не узнать Священную рощу.
47.

-Когда оккупация была, - говорил наш проводник, имея в виду 1995-96 годы, - то даже солдаты это место не тронули. А они тогда весь лес нам изгадили.
Я не спрашивал, чем они изгадили лес, но подозреваю - железом да осколками, выбивая отсюда боевиков, которые в свою очередь держались от зиярта подальше, чтобы не навлечь на него огонь. И хоть немного понимая восточный этикет, я могу уверенно сказать, что под солдатами наш проводник не имел в виду всех русских как нацию - иначе не стал бы это говорить, когда двое русских в машине.
48.

С другой стороны горы мы выехали на крутой спуск, увидев за расступившимися деревьями Аргун-Сити:
49.

Вот так "Сердце Матери" выглядит днём - и я бы сказал, завести нас туда именно вечером было очень правильным решением "Неизвестной России".
50.

На фоне станций, промзон, аулов и грозненских микрорайонов...
51.

...мы спустились в Комсомольское - не столь людное (3,4 тыс. жителей), но неимоверно длинное (7 километров) село. Это не то Комсомольское, где в марте 2000 года случился последний крупный бой Чеченской войны с отрядом Руслана Гелаева - оно лежит близ Урус-Мартана и называется теперь Гой-Чу. Это Комсомольское же называлось Бердыкёль, а известнейшим уроженцем его был Абухажи Идрисов, пулемётчик и снайпер Великой Отечественной, в боях на Псковщине уничтоживший ни много ни мало 349 фашистов. От депортации это, конечно, его не спасло, но из горьковского госпиталя он отправился всё-таки не в гиблую степь, а в зелёную Алма-Ату. Бердыкёль же переименовали в Комсомольское, и теперь это один из последних в Чечне населённый пункт с очевидно советским названием. Но может дело в том, что старое название здесь столь же очевдино тюркское...
52.

В центре села - новое медресе:
53.

И мечеть такого же неясного возраста, но типично вайнахского устройства - только минарет над входом, а не над михрабом:
54.

История, впрочем, сохранила фотографию и её предшественницы:
54а.
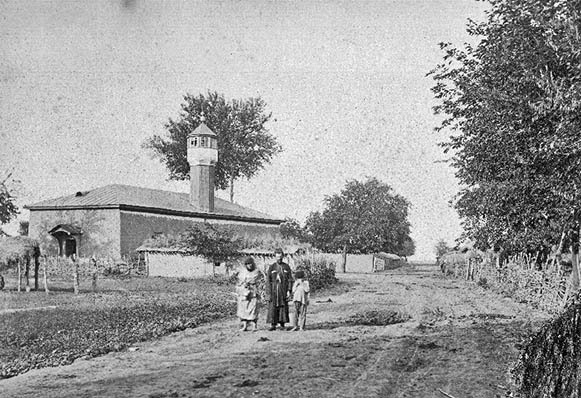
В Комсомольском наш новый друг сначала хотел посадить нас на маршрутку, а затем понял, что стало слишком темно и грунтовкой через лес он домой не поедет. Оставался лишь путь через Грозный, где и довёз он нас до площади Минутка. Попрощавшись, я предложил нашему проводнику денег хотя бы на бензин, но он наотрез отказался. Затем прощание оборвал скрип тормозов, и мы увидели, как у ближайшего перекрёстка столкнулись, заходя в поворот, две машины. Одна отлетела на несколько метров, из неё выскочил водитель, молниеносными движениями распахнул дверь и вытащил из салона двух перепуганных мальчишек. Со всех сторон, почти что концентрическими кольцами, к машине сбегался народ - бородатые мужики в тюбетейках, женщины в длинных платьях. Мы с Олей, владеющей азами первой помощи, подошли медленнее, но убедились, что помощь здесь никому не нужна и устало побрели к гостевой квартире....
Тему чеченских аулов же продолжим в следующей части - в республике есть целых три очень достойных "скансена".
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Урус-Мартан и Серноводск.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Сунжа, Малгобек, Галашки и общий колорит.
Магас и окрестности.
Назрань и окрестности.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: Кавказ дорожное этнография |
Грозный. Часть 4: промыслА |

С чем ассоциируется нынешний Грозный? То ли с Чеченской войной и бесконечным рядом её утрат, то ли с аляповатой современностью построенного на их месте эмирата Кадыровых. Однако "до всех этих событий" на просторах Необъятной знали, что Грозный - это нефть. Колыбель отечественной нефтедобычи и мозговой центр нефтепереработки, полтора века Грозный был городом промыслов и заводов, и даже в наши дни в его воздухе едва ощущается запах нефти. Но индустрия тоже пала жертвой войны, и в отличие от жилых районов, уже не была восстановлена. Прогулявшись в прошлой части по центральным грозненским проспектам Кадырова и Путина, в завершение рассказа про чеченскую столицу поищем следы былого на ближних и дальних окраинах.
На 9/10 одноэтажный город, Грозный занимает огромную площадь, примерно 15 на 25 километров, что явно много и для его нынешних 300, и для "довоенных" 400 тысяч жителей. И по всей этой площади, в сельве одноэтажных чеченских домов, так и строящихся с послевоенных лет уже скорее по привычке, рассеяны отдельные примечательные места. Например, огромный блестящий Русский драмтеатр имени Лермонтова (2012) с памятником самому известному офицеру Грозной крепости. Стоящий, к тому же, на проспекте Мухаммеда Али, ведущем в целый спортивный городок вокруг Ахмат-Арены (2011). Или парк Хусейн бен Талала (король Иордании) на проспекте Абдуллы II (ещё один король Иордании), в котором запрятана площадь Павла Мусорова с растерявшим статуи и барельефы обелиском героям Гражданской войны (1954). Или Голубиный парк у сталинского ДК Железнодорожников, где сохранился обелиск на братской могиле революционеров (1924), кажется, до сих пор толком никем не сфотографированный. Точек много, вот только отдельной поездки в условиях ограниченного времени не стоит практически ни одна из них. А вот мимо Грозненском моря мы регулярно проезжали - что на запад по Бакинке, что в Урус-Мартан, что в горы Аргуна дорога идёт его берегом:
2.

Да, если вы не поняли, морем грозненцы называют ВОТ ЭТО - даже не озеро, а прудик (1,5км на 0,5км) на речке Гойтинке, подпёртый в 1961 году. Однако ещё в те давние времена, когда по улицам Грозного можно было ходить в шортах, тут появился главный для русского человека признак моря - пляж. Русские с тех пор покинули Чечню, купаться в плавках харам, а в костюме позор, но привычка отдыхать на берегу осталась. Об этом помнил даже батяня-Рамзана, и потому в 2009 году Грозненское море спустили, долго чистили дно, и наконец к 2015 году восстановили зону отдыха, куда вошли как советские профилакторий и весьма симпатичный Грозненский дендропарк (1966), так и множество новинок. Например, огромный фонтан (300 на 40 метров с главной струёй до 100 метров), который никто и никогда не видел бьющим - говорят, включают его по заявкам, но 5 минут его работы стоит 80 тысяч рублей.
3.

Море раскинулось между посёлками Алды и Черноречье. Последний так же известен как Городок Химиков, так как вырос у пущенного в 1954 году Грозненского химзавода, перерабатывавшего попутные газы нефтянки: например, в 1962 году здесь впервые в СССР был налажен выпуск полиэтилена. В истории города Черноречье сыграло свою не последнюю роль: в 1958 году с пьяной драки рабочей молодёжи начался русский бунт - несколько дней Грозный был охвачен беспорядками с требованием не пущщать в город чеченцев, массово возвращавшихся из казахстанской депортации. Власть тогда пошла на полумеры: в последующие десятилетия чеченцы домой возвращались, но вот на заводы и в институты их перестали брать, таким образом отсоединив их от советского интернационала. И как результат, в 1997 году именно в чернореченском ДК Химиков проходила инаугурация Аслана Масхадова - в центре города все подходящие для такого дело площадки были разрушены войной... Но и на этой окраине её следы успели залатать:
4.

Грозненский химзавод же был лишь побочным производством нефтеперерабатывающих заводов, вокруг которых и крутилась жизнь Грозного полторы сотни лет. Как и на Апшеронском полуострове, в верховьях Алханчуртской долины нефть добывали испокон веков - кожаными вёдрами-"капками" в глубоких (до 13 сажень, то есть 28 метров) колодцах, зная лишь два способа её применения: "белую нефть" жгли в светильниках, "чёрной нефтью" мазали дома для защиты от сырости. В первой русско-персидской войне 1653 года астраханский воевода докладывал, что кумыки с помощью пропитанных нефтью таранов пытались поджечь Сунженский острог. В 1718 году петровский естествоиспытатель Готлиб Шобер, обследуя местные горячие ключи, констатировал выходы нефти, которую никто не собирает. Как-то в 1823 году сюда занесло трёх братьев Дубининых, владимирских смолокуров, переселённых графиней Софией Паниной в предкавказские степи. Зная 1000 и 1 смолопродукт, братья стали возить грозненскую нефть в Моздок и перегонять её там на первом в мире нефтеперерабатывающем заводе. В 1830-40-е годы перегонные кубы работали на Тереке и Сунже во многих крепостях и станицах. Основные доходы от нефтяной ренты получало Терское казачье войско, на землях которого лежал основной промысловый район, известный как Грозненская балка. Развитию нефтянки, однако, мешали два обстоятельства - крайне неудобная откупная система (когда право на работы покупалось разовым платежом у землевладельца) и набеги горцев. Но последние резко пошли на спад после 1859 года, когда имам Шамиль покинул чеченское Ведено и сдался в дагестанском Гунибе, и вот уже в 1864 году армянский откупщик Иван Мирзоев и азербайджанский химик-самоучка Джавад Маликов построили первый в Грозном керосиновый завод:
5а.

В среднем в те времена нефтедобыча в Грозном составляла около 1000 тонн в год, но приток в Россию дешёвого американского керосина, успехи братьев Нобелей в Баку и истощение доступных горизонтов Грозненской балки взяли своё - достигнув пика в 1880 году, когда в округе Грозного работало 546 нефтяных колодцев, добыча начала обвально сокращаться. Примеро то же самое полувеком ранее происходило с Уралом, "проспавшим" паровую революцию, но здесь времена были другие - совсем рядом проходила одна из самых прибыльных в Российской империи Владикавказская железная дорога. И вот в 1893 году на умиравшие нефтепромыслы обратил внимание Иосиф Ахвердов, тбилисский армянин, а к тому времени успешный адвокат во Владикавказе. Зимой он выкупил у предпринимателя Шимона Нитабуха промыслы близ Алхан-Юртовской станицы, в мае в Грозный прибыл первый поезд по новой железной дороге Беслан - Гудермес, а 6 октября 1893 года на ахвердовских промыслах ударил первый нефтяной фонтан из первой в Грозном 135-метровой скважины современного типа. Мирзоевых буквально смело нефтяным бумом: их заводик мало того что безнадёжно устарел, так ещё и был просто не рассчитан на новые объёмы добычи, в первые же годы достигшие миллионов пудов. С 1895 года грозненская нефть стала активно экспортироваться в Европу, а в окрестностях города один за другим росли заводы - нефтеперегонные ("Ахвердов и Ко", "Общества Владикавказской железной дороги", "Успех" и другие) и механические для нефтяного оборудования (как например "Красный Молот", о котором я рассказывал в первой части), к строительству которых активно привлекались англичане - инвесторы и специалисты. По объёмам лидеровало "Общество Владикавказской железной дороги", зато "Ахвердов и Ко" преуспели в технологиях: в 1914 году на их заводе заработали одна из лучших в России электростанция (при Советах имевшая собственное название - "Красная турбина") и магистральный трубопровод Грозный-Петровск (Махачкала), второй в империи после трубы из Баку в Батум. Основной промышленный район лежал к северо-западу от города, на Грозненском и Терском хребтах. Он был известен как просто Промысла, ии Старые промысла с 1913 года:
5б.
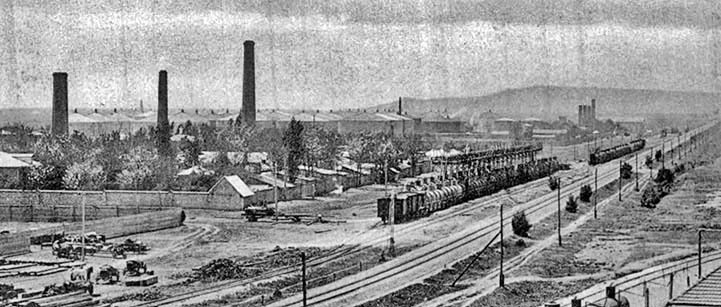
Ведь к югу от города, на Сунженском хребте, начал разрабатываться ещё более масштабный Новогрозненский нефтяной район, а с ним в Грозный пришла глобализация. Иностранцы, в принципе, и на Старые промысла проникали активно - например, бельгийское "Петроль де Грозни", английский "Шпис" или Англо-Русское Максимовское общество (АРМО). Они всё активнее срастались со старыми фирмочками, но в целом 1900-е годы на Старых промыслах были временем первородного хаоса, бесконечных учреждений, перепродаж, банкротств, слияний и поглощений. С открытием Новогрозненских промыслов сюда пришли транснациональные гиганты: Нобели и Лианозовы из Баку, Ротшильды с лице "Роял Датч Шелл" из порта Батуми и их дочернее предприятие "Русский Грозненский стандарт". К 1917 году между ними оказались распределены практически все грозненские промысла, перегонные и механические заводы. Хотя и не без исключений - именно на Новых промыслах преуспел основавший в 1913 году компанию "Алдинская нефть" Тапа Чермоев, сын генерала Арзу Чермоева, вскоре ставший самым могущественным из чеченецев. К концу Российской империи Грозный добывал 1,6 миллиона тонн нефти в год - вчетверо меньше, чем Баку (6,8 млн.), но примерно столько же, сколько Индонезия или Румыния.
5в.
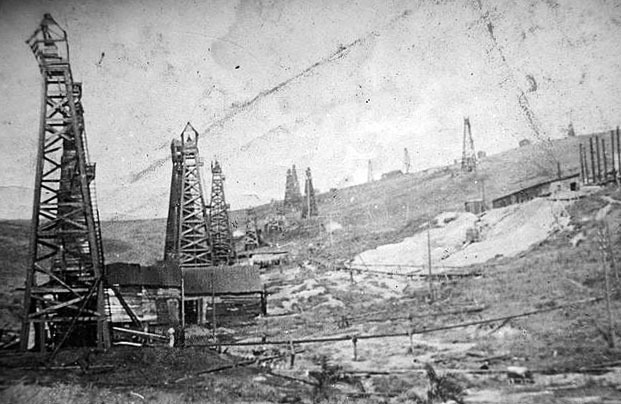
Дальше все расклады поломала Гражданская война, и пока за Грозный боролись красные чеченцы да белые казаки, на промыслах бушевали пожары. Горящие скважины становились приметой грозненской округи в любую войну, ну а гореть они могут годами... По итогам войны с промыслов ушли и армяне Лианозовы, и чеченцы Чермоевы, а вот англичане вернулись. За промысла грозненских балок советская власть взялась как бы не раньше, чем за торфяники Шатуры - так, Нефтяной институт здесь открылся уже в 1920 году. Английская концессия в 1924-29 годах восстановила заводы, а её наследием стали технологии и кадры. Затем грозненская нефтянка была окончательно национализирована, и пожалуй, 1930-е годы можно считать её вершиной . Если по объёмам добычи Чечня по-прежнему существенно уступала Азербайджану, то по объёмам переработки была с ним вполне сравнима. Однако по сравнению с бакинской грозненская нефтянка была гораздо более технологичной: там была меньше глубина переработки и больше процент тяжёлых фракций, на Грозный же приходилось 2/3 советского производства самого сложного для тех времён нефтепродукта - авиационного бензина. И потому трудно переоценить вклад Грозного в Победу. Ну а после той войны Баку стал размножаться делением, прирастая Вторым (между Уралом и Волгой), Третьим (на Оби), Четвёртым (в тундре у Баренцева моря)... Чечня на этом фоне неумолимо теряла значение, а с 1960-х годов началось сокращение добычи и в абсолютных числах - нефть под Грозным банально кончилась.
5г.

Зато заводы никуда не делись, и Грозный превратился во всесоюзный центр нефтепереработки, куда везли сырьё даже из Сибири. Сталинский пруд, ещё одно "грозненское море" поодаль, в документах назывался "резервуар технической воды для пяти нефтеперерабатывающих заводов". Грозненский НПЗ им. Ленина получил "посвящение" в 1967 году, а фактически вырос из завода Ахвердова (1896-99). Нефтеперерабатывающий завод им. Асланбека Шерипова заработал в 1939 году, а Новогрозненский нефтезавод им. Николая Анисимова - 1951-м. Грозненский химический завод им. 50-летия СССР (1954; посвящение явно позже) и Грозненский газоперерабатывающий завод (1975) перерабатывали не саму нефть, а её попутные газы. Все это питали, равно как и всем этим питались, три ТЭЦ, пущенные в 1929, 1952 и 1967 годах, да обслуживал "Красный Молот" - флагман нефтяного машиностроения, поставлявший продукцию в три десятка стран вплоть до Саудовской Аравии. С мощностью порядка 20 миллионов тонн нефти в год наряду с тремя нефтезаводами Уфы и гигантским Омским нефтезаводом это был крупнейший комплекс своей отрасли в Союзе...
6а.

И вот что от него осталось - бескрайние пустыри, посреди которых стоят одинокие трубы. При Дудаеве заводы продолжали работать, став частью каких-то серых и чёрных схем экспорта нефтепродуктов. В Первую Чеченскую, когда Грозный стал похож на Сталинград-1943, промзону старались не трогать. Но в последующем безвременье заводы стали потихонечку растаскиваться на металл и были окончательно добиты в 1999-2000 годах российской авиацией. Перспектив к их возрождению нет: мало того, что столь долгосрочные инвестиции в Чечню ни одна компания делать не будет, ещё и своя нефтедобыча в Чечне невелика и второстепенна, а волжскую, сибирскую, печорскую нефть проще перерабатывать где-то поближе к экспортным путям и внутрироссийским потребителям.
6.

Ну а на переднем плане кадра выше - то, что в 1893 году принесло эту былую индустриализацию сюда: железная дорога. Когда-то она пронизывала Грозный насквозь, и московские поезда приходили сюда с запада, а факелы нефтезаводов отражались в их окнах. Теперь это тупик с востока - от Моздока до Грозного московский поезд описывает спираль через Гудермес, и выйдя на станции Червлёная да сев на маршрутку, пассажир экономит около 3 часов. Западная часть линии до ингушской Сунжи (Орджоникидзевской) после Чеченских войн не восстановлена до сих пор. С самим вокзалом же был связан один из самых трагических эпизодов Первой кампании - "мышеловка" 131-й Майкопской бригады. В провалившийся с огромными потерями Новогодний штурм, когда боевики Масхадова заманили не готовых к такому сопротивлению военных в город и расстреляли гранатометами на узких улицах, брать железнодорожный узел генерал Константин Пуликовский отправил три бригады. Выполнить приказ, однако, смогла лишь одна из них - Майкопская бригада Ивана Савина, без боя занявшая станцию в 13 часов дня. Ночью же вокзал был атакован крупными силами боевиков, засевших в хорошо заметной на кадре выше многоэтажке. Поняв, что поддержка не придёт, майкопцы начали отходить, прорываться из окружения через промзону товарной станции и автобазы. В том бою бригада потеряла 6 зениток "Тунгуска", 7 автомобилей, 22 танка, 45 БМП и 157 человек только убитыми, включая самого полковника Савина.
И многоэтажка, ставшая боевой башней абреков, стоит... а вот старинный вокзал утрачен:
7а. фото
 yapet, отсюда (2016).
yapet, отсюда (2016).
Причём утрачен отнюдь не войну - полем боя Майкопской бригады в ту новогоднюю ночь был весь район и вся станция. Вокзал сгорел, но коробка его стен осталась, и уже к 2004 году, когда в расписание вернулся поезд Москва-Грозный (прежде конечной был Гудермес) здание было восстановлено как новенькое. Говорят, до последнего времени вокзал оставался последним оплотом КТО - по крайней мере если судить по строгости досмотра. Но не зря слово "оптимизация" сделали ругательными именно РЖД: в 2017 был снесён и заменён новодельной стекляшкой вокзал в Гудермесе, ну а к вокзалу в Грозном я не успел, кажется, на считанные недели. Проезжая мимо станции, я вглядывался в её постройки, и в какой-то момент понял, что обнесённый забором пустырь и с торчащими кранами - это и есть вокзал. Построить на его месте хотят что-то примерно такое, ну а Грозный лишился ровно половины ярких образцов дореволюционной архитектуры, пережившей войну.
7. с "Сайта о железной дороге".

Остались лишь какие-то постройки за путями:
7.

И если то, что на кадре выше, явно относилось к станции, то вот в этом здании скорее жили специалисты какого-то из керосиновых заводов:
8.

Станция заканчивается у обширного парка, где до 1995 года стояли крупнейшие на Северном Кавказе стадион имени Орджоникидзе (1966) и Дворец культуры имени Ленина (1931) с конструктивистскими формами и мозаичным панно:
9а.

Возможно, ценнейший из архитектурных памятников, разрушенных Чеченской войной:
9б.

Зато около парка, на шумной (де)Индустриальной улице сохранилась пожарная часть, с которой раньше приглядывали за нефтепромзоной. Рядом стоит памятник Пожарным (1968) - главным грозненским героям Великой Отечественной войны. Немцы, уже в 1942 понимавшие, что с провалом блицкрига их ждёт топливный кризис, рвались через южнорусские степи к нефтяным месторождениям Кавказа. Грозный они до последнего не трогали, надеясь занять его без боя и сразу же везти продукцию его заводов в Рейх, и с этой целью шли даже на такие меры, как заброска диверсантов на помощь
9.

Памятник я заснял из окна экскурсионного бусика "Неизвестной России", с которой поехал в 4-дневный тур по Чечне. Чернобородный шофёр Мага здесь вдруг с свернул (де)Индустриальной улицы и повёз нас куда-то вглубь пыльных промзон. Ведь скрывают эти промзоны без преувеличение самое интересное здание Грозного - Английский замок:
10а.

Увы, я так и не смог до конца разобраться в его происхождении, но судя по архитектуре - он явно входил в один цикл с показанными в позапрошлой части Нефтяным институтом (1920) и Барским домом (1915-23), где жили экспаты "Роял Датч Шелл". Как я понимаю, сюда они ездили на работу - замок, построенный неким американским подрядчиком, вмещал офисы и лаборатории английской концессии. Когда же в 1928 году англичан попросили на выход, здесь разместился ГрозНИИ - мозг советской нефтехимии, вплоть до распада СССР остававшийся главным центром изучения нефтепродуктов. Какие-то новинки производства, тут же внедрявшиеся на окрестные заводах, ГрозНИИ выдавал едва ли не каждую пятилетку, и например в 1942 году именно здесь был разработан классический "коктейль Молотова". Спустя ещё без малого полвека подобные коктейли полетели уже в советские танки, и с ГрозНИИ произошло примерно то же, что и со всем остальным городом. Вот только в городе с тех пор что-то восстановили, что-то доломали и замостили плиточкой, Английский замок же стоит таким, каким увидели его российские солдаты, войдя в Грозный в 2000 году.
10.

Территория вокруг огорожена, и у входа скучал в будке охранник, а поодаль мужики что-то курочили экскаватором. К туристам здесь давно привыкли, но всё же я не знаю, насколько легко в Английский замок попасть одиночке. А вот на бусике "Неизвестнача" мы въехали во двор не сбавляя ходу.
11.

Я не знаю, чем замок впечатляет больше - своей необычной архитектурой, действительно напоминающей о поместьях заморских магнатов в их цилиндрах и фраках...
12.

...или же незалатанными следами войны.
13.

Не знаю, сколько жизней унёс штурм Английского замка - в описаниях Чеченских войн он не фигурирует, а значит это был проходной эпизод.
14.

В заброшенное здание можно беспрепятственно войти. На двух этажах - длинные тёмные пыльные коридоры:
15.

Но я вновь удивляюсь тому, как похожи друг на друга разные формы разрушений - что здесь или в донецкой Девятке, что в не знавших войны Аркалыке или Амдерме виды примерно одни и те же. То, что война делает за минуты, погода делает за годы - но результат один.
16.

Этажи соединяют широкие парадные лестницы:
17.

Особенно впечатляет левая - она ведёт вдоль пробитой взрывом тяжёлого снаряда стены. На лестницах, однако, сохранились стильные металлические перила - последний в замке элемент убранства:
18.

Больше всего впечатляет третий этаж, превратившийся в странную узкую улочку:
19.

Минарет над замком, пишут, был вполне себе функциональным сооружением - пожарной каланчой над нефтезаводами.
20.

Вот только его своды находятся ниже площадки:
20а.

Внутри - какие-то осколки былого, в расположении которых явно чувствуется рука припанкованных сталкеров:
21.

21а.

Единственное сооружение на территории - стела в память сотрудников института, погибших на Великой Отечественной войне:
22.

Рядом - ещё какие-то здания середины ХХ века, явно оставшиеся от комплекса нефтезаводов:
23.

Из замка мы вернулись в центр Грозного, и разбрелись на свободное время - кто-то по бескрайнему базару Беркат в цехах "Красного Молота", кто-то - в национальный музей, где грозненской промышленности посвящено несколько толковых витрин. Затем настало время прощаться - Мага повёз большую часть группы в аэропорты Грозного и Назрани. Но мой сосед по комнате, программист Саша, улетал поздно вечером, а перед этим решил сгонять куда-нибудь на самую-самую нетуристическую окраину и посмотреть на Грозный как он есть. Я сразу же предложил вариант: на запад от Грозного на 13 километров тянется тонкий "ус" застройки в ложбине между Грозненским и Терским хребтов. Это Висаитовский (в честь героя Великой Отечесвенной Мовлюда Висаитова), а для старожилов - Старопромысловский район, вытянувшийся вдоль нефтяной линзы и дороги от неё в город. На дальнем конце его, куда автобус едет около часа, находится Первая скважина, к которой и поехали мы, понимая, что скоро стемнеет, на вызванном яндекс-такси.
24.

Через посёлки, на все 13 километров, тянется улица Вахи Алиева, на многих картах по-прежнему отмеченная под своим старым названием Заветы Ильича. Это именно на ней жила Полина Жеребцова, оставившая свои знаменитые детские дневники двух Чеченских войн, скорее всего где-нибудь в самом начале. Фактически Заветы Ильича продолжают проспект
25.

Городок Иванова, Городок Маяковского, Бутенко, Загряжский и далёкий Нефтемайск с мемориалом (1949) на братской могиле Великой Отечественной - цепь посёлков впечатляет своим масштабом, но вот глазу зацепиться в них не за что.
26.

По переписи 1926 года на Старых промыслах жила 21 тысяча человек, четверть из которых была терскими казаками, видимо по-прежнему имевшими какую-то ренту. Чеченцев с долей в 1,5% населения там было меньше, чем белорусов, армян или татар. Но застроены Старые промысла тех лет были быстровозводимыми домами, из которых не осталось, кажется, ни одного.
27.
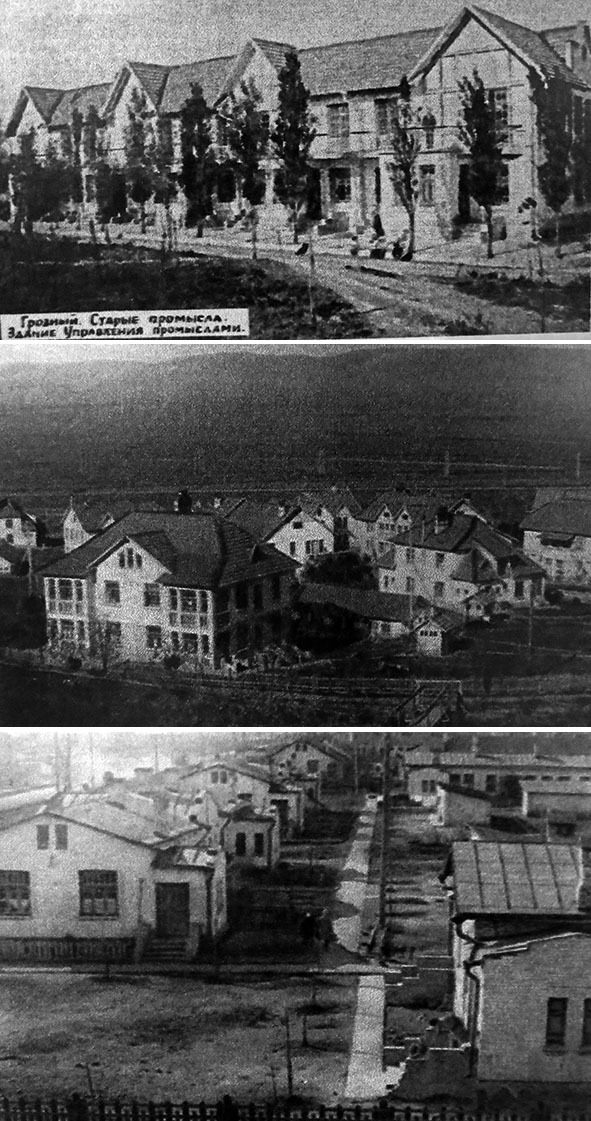
Между Загряжским и Нефтемайском, отделённый Заветами Ильича от Городка Маяковского, к югу от улицы расположен исторический центр всей этой системы - Старый посёлок. У автобусной остановки - городской квартал, от подобного квартала в любом другом месте России отличающийся разве что подъездами нараспашку да обилием детворы:
28.

Но за пятиэтажками по склону Грозненского хребта вьётся не то что лабиринт, а лапша узких улиц среди сельского вида домов.
29.

Чаще асфальта на этих улица попадаются булыжные мостовые:
30.

И таки правда старые, скорее раннесоветские, чем дореволюционные, дома:
31.

В одном из них мой взгляд привлекла яма - возможно, тоже памятник страшных недавних времён. И нет, (согласно моему предположению) в ней не рабы сидели и не располагался оружейный схрон: пожалуй, самой интересной нелегальной отраслью тогдашней Чечни была кустарная нефтедобыча. За полтора века утечки с нефтезаводов, трубопроводов и скважин образовали в земле целый горизонт из преимущественно лёгких фракций. До него вполне можно было прорыть колодец - но только очень осторожно: "нефть" (местные в тонкости не вникали и считали это просто нефтью) залегает слоем толщиной всего сантиметров 10-15, а под ней начинается вода - если колодец доходил до неё, она поднималась, и дело насмарку. Поэтому в Грозном образовалась целая гильдия нефтекопов, умевших находить этот горизонт и правильно укреплять дно колодца. Дальше "нефть" черпали вёдрами да заливали с кустарные перегонные установки. Внешне такая была похожа на большой самогонный аппарат, и в общем не сильно отличалась от перегонного куба Дубининых: из 200-литровой бочки шёл змеевик через радиатор. По воспоминания Маги, запускали такую установку они с батей несколько раз в месяц, и сперва из неё шёл керосин (несколько литров), затем 95-й бензин, затем 80-й бензин, и наконец, примерно половина объёма - солярка. В принципе и перегонять всё это было не обязательно - на сырой "нефти" (то есть утечка лёгких фракций) могли даже работать старые советские моторы. Шлак из тяжёлых фракций же осаждался довольно медленно - чистить перегонную установку приходилось всего пару раз в год. Бензин чеченцы продавали, иногда - пластиковыми бутылками у дорог, и стоил литр топлива тогда примерно как литр минералки "Серноводская". Такие установки стояли натурально во всех уважающих себя домах, не то что у новых богачей да полевых командиров, а их дым и смрад неуклонно гробили экологию "независимой" Чечни. Думается, после "восстановления конституционного порядка" немалый вклад в бюджет республики вносили штрафы нефтяникам-самоучкам, и к середине нулевых кустарная нефтепереработка окончательно ушла... нет, не в прошлое, а в тень - судя по почти полному отсутствию сетевых заправок, подобный агрегат по-прежнему есть у каждого солидного чеченца. Но та ли яма здесь на фото - понятия не имею...
32.

Въезжали в Старый посёлок мы с очень добрым немолодым таксистом, который заинтересовался нашей идеей и не взяв дополнительно денег сам стал искать нашу цель методом опроса прохожих. Обратно я шёл один - Саша спешил на автобус. Старые промысла показались мне самым недружелюбным и подозрительным местом Чечни - бродившие по улицам женщины глядели на меня с опаской, а ездившие на машинах мужики почти неизменно притормаживали. В основном, конечно, дружелюбно - интересовались, не заблудился ли я и не нужна ли мне помощь. Но вот этот чел на мотоцикле сразу начал разговор довольно резко, и на мой честный ответ, что старые дома фотографирую, огрызнулся "А нам с того какая польза?". Впрочем, что вреда от этого тоже нет, он всё-таки согласился, и подобрав бежавшего мимо пацанёнка, укатил.
33.

На углу дороги к промыслам провожает капитальный дореволюционный дом - уж не знаю, контора Ахвердовых тут была, постоялый двор с магазином для рабочих или ещё бог весть что.
34.

Ну а вот так выглядят сами промыслА, по которым тянется мощённая дорога:
35.

На изумрудных весенних холмах тут по-прежнему клюют землю штанговые насосы:
36.

Хорошо видно, какой узкой полосой тянутся старопромысловские посёлки - мы на Грозненском хребте, а вдали Терский хребет:
37.

Ну а мостик, оставшийся, быть может, от той самой узкоколейки, неофициальные остановки которой дали название площади Минутка...
38.

...перекинут через ручей, вытекающий из болота с руинами чего-то старого и промышленного:
39.

По краям - две стелы. Вот эта - у дороги:
40.

А эта - у подножья холмов, куда мы прошли узкоколейным мостиком. Как я понимаю, именно она отмечает место первой скважины Иосифа Ахвердова:
41.

Обелиск был поставлен в 1968 году - но так и не понял, имеется в виду нынешняя стела или её предшественница в виде миниатюрной вышки:
41а.

Кругом и сами скважины, под крышки которых можно заглянуть:
42.

Там темно и пахнет нефтью:
43.

Вечность пахнет нефтью... То ли вечность, то ли вонь.
44.

Помимо Старых промыслов, можно было бы съездить и к Новогрозненским - сейчас это посёлки Сур-Корт и Орцин-Мохк на южной окраине города, где недавно соорудили пафосную смотровую площадку "Лестница в небеса". По дороге к ней вроде бы стоял ДК имени Кирова, перестроенный из дачи Чермоева, а в кварталах-"участках" за номерами 12, 30, 49 и 56 сохранялись Английские дома, построенные нефтяными монополиями в 1910-20-е годы. Но изучение местных новостей и яндекс-панорам показало, что недавно те районы с пафосом восстановили, а старинные заброшки, видимо, снесли. Может быть, что-то осталось на покинутом 49-м участке, который находится довольно далеко за городом, но туда поехать, тем более с непонятным результатом, я попросту не успел. Так что вот напоследок - руины подстанции на холме над Старыми промыслами:
45.

Здесь и закончу рассказ о столице Чечни. Откровенно говоря, сейчас это довольно заурядный город... если бы не населял его очень незаурядный народ.
В следующей части покажу ближайшие окрестности - Шали, Аргун и Чечен-Аул.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Урус-Мартан и Шатой.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Серноводск и Сунжа (Ингушетия). Спорный район двух республик.
Ингушетия
Общий колорит, а также Малгобек и Галашки.
Магас и окрестности.
Назрань и окрестности.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: Зона заражения Молох Кавказ транспорт Вечность пахнет нефтью дорожное индустриальный гигант |
Грозный. Часть 3: проспект Кадырова и проспект Путина |

Фраза "тысяча пригородов в поисках города", сказанная про американские мегаполисы, прекрасно описывает и Грозный. Океан одноэтажных домов в посёлках с названиями вроде Катаяма или Бароновка - и небольшой многоэтажный центр шириной в три квартала. Познакомившись в прошлых частях с современностью Грозного и его почти затёртой войнами историей, теперь пройдём по главной городской оси - проспектам Кадырова и Путина, прежде Ленина и Победы, по разные стороны Сунжи. Ведут они здесь не только сквозь пространство, но и сквозь время - именно в этих районах шли основные бои, именно эти районы сильнее всего изменились. За прогулку в солнечный день спасибо "Неизвестной России", а в мрачное прошлое я вникал уже сам...
"Штурм Грозного" - панятие на самом деле очень растяжимое: удивительно, но город в глубоком тылу страны за сотню лет пытались взять не менее 10 раз. В августе-ноябре 1918 года здесь кипели Стодневные бои красного гарнизона с Терскими казаками. 7 февраля 1919 года город захватили деникинцы, а вот Красной Армии год спустя он достался мирно - судьба Белого Юга решалась у Чёрного моря. В августе-ноябре 1994 шла Нулевая Чеченская война между Джохаром Дудаевым и пророссийским чеченским ополчением, трижды входившим в город. Но первые два раза ополченцы отступали, словно по звонку, а третий штурм (с участием кадровых российских военных) провалился столь бездарно, словно в этом и был план. Само собой, бизнес-план какого-то столичного олигарха - не зря Канта Ибрагимов в своей повести "Детский мир" называл Первую кампанию Первой компанией. Она и разрушила город зимой 1994-95 годов, причём - не с первой попытки. Сначала российская армия входила сюда примерно как в Алма-Ату или Тбилиси в годы Перестройки, с указанием проверять встречным боевикам документы, а на улицах не курочить лавочки и не пинать урны. Но чтобы чеченцы были сговорчивее - "работали" по городу авиацией, убив несколько сотен человек. Боевики во главе с Асланом Масхадовым, однако, просто заманили неповоротливые колонны на узкие улицы и расстреливали их гранатами и лёгкой артиллерией с верхних этажей. Новогодний штурм захлебнулся с огромными потерями, а министр обороны Павел Грачёв, грозившийся взять город двумя полками за два часа, ушёл в запой прямо в штабном вагоне в Моздоке. Теперь с "Алма-Аты-1986" шаблон сменился на "Берлин-1945", и самые жестокие бои, унёсшие десятки тысяч жизней, развернулись уже в конце января 1995-го. Теперь из многоэтажек боевиков выбивала авиация и тяжёлая артиллерия, а в многоэтажках при том оставались мирные жители. Чуть ли не в большинстве своём - русские или обрусевшие, позже кричавшие в камеру, что Ельцин бьёт по своим: тейповые чеченцы, почуяв войну, вывезли семьи в аулы. Тот штурм кончился победой, и легендарный Абхазский батальон Шамиля Басаева выкосили горизонтальным огнём зениток, но дальше военные поняли, что под ними горит земля. То ли из лесов, то ли из подвалов боевики нападали на город в марте и августе 1996 годов, на первый раз основательно потрепав федеральные силы, а на второй - заставив их отступить. Вернулась сюда российская армия опять под Новый год, последний Новый год тысячелетия, доломав недоломанное Первой кампанией, но хотя бы оставив беженцам коридоры. Последний крупный набег горцев на Грозную крепость случился в августе 2004 года, ну а дальше "самый разрушенный город мира" начал становиться "самым быстро восстановленным".
2а.

Ключевым пунктом важнейших штурмов, означавшим в них коренной перелом, неизменно оставалась Минутка - площадь к югу от центра. Милое название происходит от узкоколейки, возившей рабочих на нефтяные промыслА - по просьбам трудящихся, поезда тут делали неофициальную остановку "на одну минутку". Сама версия правдоподобна, учитывая, что другая такая Минутка есть в Кисловодске, но вот когда здесь была узкоколейка, где кончалась она и где начиналась, точного ответа не даёт даже "Сайт о железной дороге". Можно, однако уверенно предполагать, что ушла в прошлое узкоколейка в 1932 году, когда её сменил Грозненский трамвай, функции которого остались те же: система представляла собой кольцо с лучами к важнейшим заводам, не заходя ни в центр, ни на вокзал. И именно этой системе суждено было в 1994-м открыть долгий список потерь постсоветского электротранспорта - я ещё помню, с каким негодованием в 2004 году сравнивали с Чеченской войной закрытие трамвая в Архангельске... Площадь Минутка же всё советское время называлась Октябрьской, при Дудаеве стала площадью Хрущёва, а народное название закрепилось на карте лишь в 1995-м году. В наши дни её уместнее назвать площадью По Заполнению - рядом находится Южная автостанция с маршрутками и коллективными такси в сторону гор.
2б.
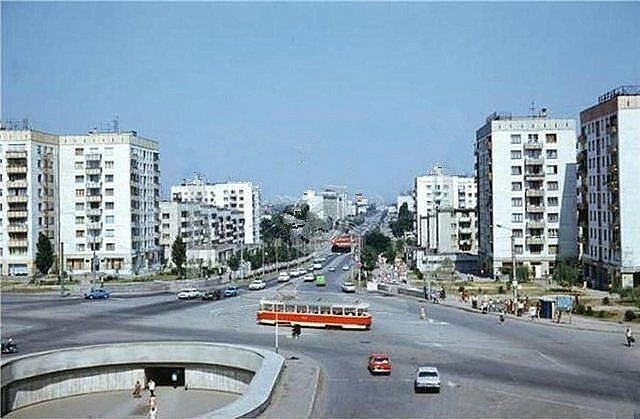
Внешне Минутка всегда была совершенно невзрачна, но по кадру выше с уходящим вдаль проспектом Ленина можно понять, что по советским меркам Грозный был красивым городом ухоженных белых домов. Главной достопримечательностью Минутки были буквы "Помнить обязан любой пешеход, что через улицу есть переход" над крышей одной из многоэтажек, и именно подземные переходы стали тем единственным, что сохранилось тут с довоенных времён. Недавно их капитально отремонтировали и превратили в фотогалерею, где с одной стороны на прохожего смотрят глазницы руин, а с другой улыбается возрождённый город.
2.

Послевоенная Минутка представляла собой необозримый пустырь, переходивший в частный сектор и промзоны. Теперь же на ней строят нечто донельзя ближневосточное:
3.

И до степени смешения похожее на "Казмунайгаз" в Астане (Нурсултане), так же открывающий тамошний главный проспект:
3а.
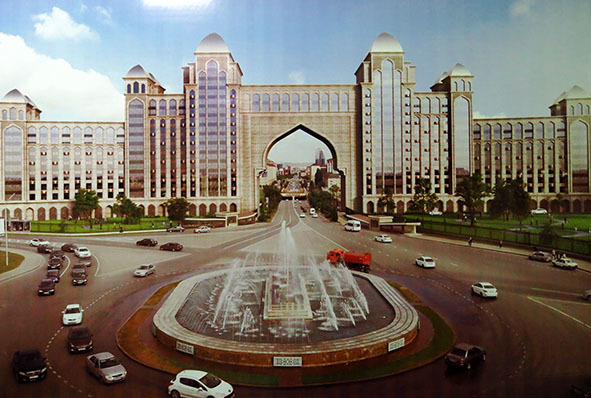
Проспект Кадырова тянется на 5,5 километров до самого подножья Сунженского хребта, и Минутка на самом деле лишь его середина. От неё виден Грозненский путепровод, отмеченный надписями "Пусть восторжествует справедливость" и "Он ушёл непобеждённым" с разных сторон. Кто "он" - вопрос не столь однозначный: 6 октября 1995 года здесь подорвался на радиоуправляемой мине генерал-лейтенант Анатолий Романов, в Первую кампанию командовавший внутренними войсками МВД, а с лета 1995 года - и всей Объединённой группировкой федеральных войск в Чечне. В том покушении он условно-выжил - то есть жив генерал до сих пор, но не может ни говорить, ни двигаться. Ну а местные чеченцы и российские военные из Ханкалы читают в этом лозунге разное:
4.

По путепроводу пару раз в день проходят поезда, курсирующие между Москвой и Грозным, а бывают ли тут товарняки - я не знаю. Вторую половину поездки, уже без "Неизвестной России", мы жили в квартале отсюда, но я ни разу не слышал шум поездов. Сама линия Беслан-Гудермес, пронизавшая Грозный в 1893, разорвана войной пополам: на западе пути прерываются до самой Ингушетии. Рядом с путями, обратите внимание, какой-то уцелевший заводик сталинских времён:
5.

Гигантский дом с портретом Кадырова на торце - на самом деле вполне советский, сдан в 1975 году. 300 метров в дину и 10 этажей в высоту, он известен горожанам как Китайская стена или даже Богатырь, как называется теперь ближайшая автобусная остановка:
5а.

Многоэтажки напротив...
6а.

...тоже пережили войну, причём обратите внимание, что восстановили на них даже бетонные решётки:
6.

На проспекте Ахмата Кадырова - нечто спортивное имени Рамзана Кадырова. Но в общем прямо скажем, концентрация Кадыровых в Чечне пока что не дотягивает до концентрации Алиевых в Азербайджане или Ататюрка в Турции.
7.

Справа видны корпуса Чеченского государственного университета, основанного как пединститут в 1938 году. Он существовал и в 1990-х, после Первой кампании рассеявшись заочными факультетами по райцентрам. Его старые здания времён Грозненской области (1944-58) были разрушены войной, а в 2011-12 годах построены нынешние корпуса фасадом в сквер Толстого (он же площадь Борьбы). Впрочем, главным вузом Грозного ЧГУ не был никогда - всесоюзное значение имел Нефтяной институт, про которой я рассказывал в прошлой части.
8.

Где-то тут располагался кинотеатр "Родина" (1957), в 1980-х получивший необычный металлический фасад и ставший кукольным театром:
8а.
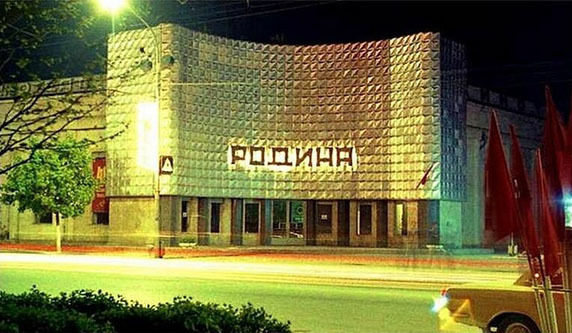
Ещё пол-квартала - и в пейзаже мусульманского города вдруг появляются золотые купола да православные кресты. Старейшее здание Грозного - собор Михаила Архангела (1868-92), который построили терские казаки:
9.

Нынешний облик он получил в 2011, а восстановлен был в 2004-06-м вот из такого состояния:
9а.

И думается, примерно так могли выглядеть русские подворья в Персии или Китае: храм представляет собой небольшую крепость с высокими стенами, вооружёнными полицейскими без чеченского акцента и строгим досмотром у ворот. Последним (надеюсь, не только на данный момент) терактом в Грозном стало нападение на этот храм 19 мая 2018 года - тогда погибли двое полицейских (Владимир Горсков и Кайрат Рахметов из Саратовской области) и прихожанин, но в основном люди успели запереться в церкви (именно за этим вход в неё сбоку, а не от ворот!), а дальше четверо террористов были уничтожены подкреплением. Ещё менее очевидно, что это было первое в Грозном нападение на храм, хотя в станицах такое случалось и раньше...
10.

Вообще, та война выпала на эпоху, когда за РПЦ ещё сохранялся ореол мученичества, а потому оставила много православных сюжетов. В небе над захваченной больницей в Будённовске (даром что назывался этот город прежде Святым Крестом) многие видели крест. Пензенский солдат Евгений Родинов давно уже стал героем икон как Евгений Воин, а в Сербии и вовсе причислен к лику святых: в 1996 году он сто дней провёл в плену, после долгих пыток получил выбор - принять ислам или умереть, а позже мать опознала его обезглавленный труп по нательному крестику. И даже я в Ессентуках своими глазами видел икону со следами пламени, которую, по словам батюшки, пытались уничтожить в разгромленной станице афганские моджахеды, но чудесным образом не смогли. Ну а в грозненский храм ходить теперь толком некому - русских на весь город осталось немногим больше тысячи, а у военных в неприступной Ханкале есть своя церковь.
11.

Напротив храма - памятник Ханпаши Нурадилову. Тому же самому, в честь которого назван показанный в прошлой части Чеченский театр - актёр 1930-х годов, больше он прославился как пулемётчик и Герой Советского Союза, погибший в степях под Сталинградом.
12.

Между тем, мы вошли в пределы Старого Грозного, и в этой части проспект Кадырова ещё до того как стать проспектом Ленина назывался Дворянской улицей. Наискось от церкви стоял дом Али Гусейнова (1908), муллы из показанной в прошлой части мечети за Сунжей. Был он не татарин и не чеченец, а перс - "таджикских гастрбайтеров" привозил на первый в Грозном керосиновый завод (работал с 1864 года) откупщик Иван Мирзоев. Современная добыча, начатая в 1893 году, пустила по миру и его самого, и его рабочих, теперь выживавших торговлей, и негласным лидером грозненских персов стал мулла Али:
13а.

В Грозном начале ХХ века известнее был чеченец Абубакр Мирзоев, отгрохавший роскошный дом на другой стороне Дворянской. Частым, хоть и тайным, гостем его был абрек Зелимхан из Харачоя, друживший с анархистами "чеченский Робин Гуд". Впрочем, построенное Абубакром крупнейшее здание дореволюционного Грозного было не дворцом, а доходником, который снимала Гордума. Советским старожилам оно было известно как Чеченский гастроном - но не потому, что тут чеченцы торговлю держали, а потому что был это главный продуктовый магазин ЧИАССР:
13б.

Над Чеченским гастрономом высилась Свечка, или Трилистник (1976) - высочайшее здание советского города, этакий прототип "Грозный-Сити". Как рассказывал мне один таксист, началом Первой кампании стал удар по Свечке с самолёта.
13в.

С неё же снят и знаменитый "сталинградский" вид - самые тяжёлые бои развернулись у мостов через Сунжу:
13.

Здесь исчезли не только дома, и но и сама планировка, целые улицы и кварталы. На месте Свечки и Чеченского гастронома теперь Цветочный парк, в середине апреля расцвести ещё не успевший.
14.

А над парком нависает Грозный-Сити - лицо послевоенного города и главная иллюстрация к убеждённости столичных жителей в том, что Чечня процветает на "ордынской дани". Сити строился в 2007-11 годах, и включает 6 зданий: 4 жилых башни (на переднем плане - 18-этажные по 56 метров, справа - 28-этажные по 120 метров), бизнес-центр (28 этажей, 120 метров, с его вертолётной площадки мы любовались городом в первой части) и отель (32 этажа, 137м) слева, и по центру главная башня многофункционального (но в основном жилого) комплекса "Олимп" (40 этажей, 145 метров), после пожара в 2013 году ставшего "Фениксом". На момент их возведения выше в России строились только Москва и Екатеринбург, но с тех пор успели подтянуться ещё Питер, Владивосток, Ростов-на-Дону и Саратов. Впрочем, и в те годы многие города уже обзавелись ЖК и БЦ выше ста метров. Другое дело, что в основном это города-миллионники вроде Самары, Перми или Волгограда, Грозный же тогда по размеру соответствовал скорее Вологде или Костроме.
15.

Пожалуй, больше высоты Грозный-Сити впечатляет цельностью - всё-таки в комплексе высотки смотрятся куда интереснее, чем понатыканными беспорядочно тут и там. Лучший вид открывается из Цветочного сада сквозь фонтан в виде двух вайнахских башен.
16.

На территории Сити обнаружилась пара раритетных машин:
17.

А по ночам башни играют подсветкой, самым запоминающимся элементом которой я бы назвал буквы "Рамзан, спасибо за Грозный", долго (целиком в один кадр не попадают) тянущиеся по стене "Феникса" снизу вверх:
18.

Пересекаем Сунжу. В теории она бывает голубой и чистой, но мне река, вдоль которой тянутся самые густонаселённые места России, запомнилась быстрой, мелкой и цвета какао. За мостом же Дворянскую сменяла Августовская, проспект Ленина сменялся проспектом Победы, ну а проспект Кадырова превращается в проспект Пути на:
19.

На месте Сити когда-то стояли жилые дома, Культпросветучилище и ресторан "Океан", а мост на заднем плане был известен грозненцам как Трамвайный. Но как Великая Отечественная не оставляла камня на камне от городов на западных берегах рек, так и Чеченская война тотальнее всего опустошила южный берег Сунжи:
20а.

То же место в наши дни - домов и Трамвайного моста не узнать, в перспективе реки на месте Парка Кирова (более известного старожилам как Трек) торчат купола и минарет Кадыровской резиденции в излучине. Роль набережной в Грозном выполняют два сквера - Чехова и Лермонтова. Из первого теперь торчит грандиозный Дворец культуры имени Дагуна Омаева (2020м), архитекторы которого якобы вдохновлялись невоплощённым проектом Храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах. Над сквером Лермонтова же зеленеют крыши Муфтията и Исламского университета имени Кунта-хаджи Кишиева (2009-16)...
20.

...прямо на месте которых четверть века назад проходила главная в Старом Грозном Додуковская улица, при Советах ставшая проспектом Революции. Этот участок её вообще стёрт с карты, а оставшаяся дальше половина - теперь пешеходный проспект Эсамбаева (см. прошлую часть).
21а.

Как и пейзаж прилегающей площади теперь не узнать. На мост, которым мы пересекли Сунжу, глядело ещё дореволюционное здание Городской управы, после революции превратившейся в Городской совет:
21б.

А в 1958 году приросшее Совмином, построенным на месте старого "Гранд-отеля" фасадом на проспект. Слева на заднем плане - знакомый нам по прошлой части Нефтяной институт - хоть и совем другой, стоит он на своём месте:
21в.

Левее (относительно кадра выше) по проспекту располагалась гостиница "Кавказ", построенная, видимо, в 1930-е годы:
22а.

За ней проспект Орджоникидзе (теперь Исаева) выводил к площади Ленина с монуменатльным Ильичом (1957). Жёлтый торец с кадра выше принадлежал Старому обкому:
22б.

Перестроенному в 1938 году из колоритного модернового Азово-Донского банка (1914). В 1980-х годах сюда переехали краеведческий и художественный музеи, в 1992 объединённые в Национальный музей Чечни. Правда, было тут тогда не время для музеев: в последующие два года из коллекций были "реквизированы" все экспонаты с содержанием драгоценных металлов, горское оружие, многие картины, а в 1995-м музей и вовсе был разрушен войной.
22в.

Обком же в конце 1980-х перебрался в огромное здание напротив Совмина и "Кавказа", и облик его, наверное, каждому заставшему 1990-е знаком по новостям. С подачи журналистов здание известно теперь как Президентский дворец или даже Дворец Дудаева (чей кабинет и правда находился на 8 этаже), но грозненским старожилам и участникам той войны биже другое название - Реском:
23а.

Между Совмином и Рескомом лежала площадь Свободы, на рубеже 1980-90-х охваченная митингами Чеченской революции. С её победой название площади оставили, и только Огонь Вечной Славы (1985) "перепосвятили" борцам за независимость Чечни:
23б.

И снится нам не детский смех у дома
Не мирные зелёные поля
А снятся нам развалины Рескома
Кровавая, жестокая война....
Штурм Рескома и Совмина стал кульминацией боёв за Грозный. Простоявший около десяти лет "Дворец Дудаева" снесли ещё в 1995-м, и я хорошо помню, как мои родители за теленовостями обсуждали, что лучше было бы оставить его хотя бы как памятник.
23в.

Теперь на его месте достраивается "Грозный Молл", более привычный для нашей эпохи гигантский торговый центр:
24.

От проспекты Победы площадь Ленина отделял целый квартал, фасадом которого служил 4-этажный дом, грозненцам известный как Пятое Жилстроительство (1935):
25а.

Но если Ильич был скинут с постамента уже в 1991-м, то сам постамент доломали в 2008-м. К тому времени на месте нескольких кварталов, улиц и старых площадей раскинулась площадь Ахмата Кадырова, фактически целый район, большую часть которого занимает сквер с различными богоугодными учреждениями. С муфтиятом и исламским университетом соседствует мечеть "Сердце Чечни" (2006-08) с высочайшими в России минаретами (63м), слагающая единый ансамбль с Сити:
25.

Рассчитаная на 10 тысяч молящихся, на тот момент это была крупнейшая мечеть России и даже Европы - видимо, если вычесть из Европы страну происхождения архитекторов:
26.

Убранство мечети впечатляет объёмом и роскошью, главным воплощением которой стали 36 люстр. На них ушли тонны меди, килограммы чистого золота и миллионы деталей, включая кристалы "Сваровски". 27 люстр символизируют Иерусалим, 8 - Медину, а единственная главная - Мекку:
27.

Мне больше запомнились витражи:
28.

И ковры с орнаментами традиционных вайнахских истангов - как бы не единственный национальный элемент в "исламском возрождении" Чечни:
28а.
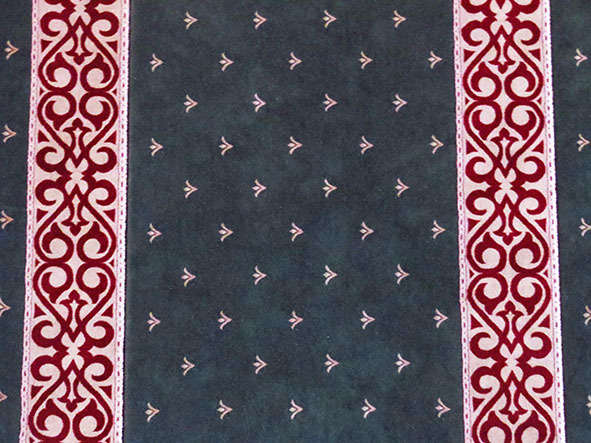
Необозримый простор перед мечетью с выложенной чёрным по белому картой Чечни толком и не имеет названия - где-то его называют площадью Ахмата Кадырова, где-то - Мечетной площадью, где-то - площадью Абубакра Кадырова, президентского родича, погибшего ещё в 2001-м:
29.

Хотя последнее название относится на самом деле лишь к небольшому квадрату, той самой площади Ленина, при Дудаеве называвшейся площадью шейха Мансура. На неё и глядит мэрия - единственное здание центрального ансамбля, пережившее войну. По странному совпадению, оно же было при Дудаеве оплотом оппозиции, пророссийских сил, включавших также конституционный суд и парламент. Но Дудаев даже внешне был похож на ближневосточных и латиноамериканских военных диктаторов, и с оппозицией расправился соответствующе. Чуть раньше в Грозный вернулся с закавказских войн Шамиль Басаев со своим Абхазским батальоном, и вот 3 июня 1993 года боевики ворвались в здани мэрии и устроили там погром, убив 58 и ранив более 200 человек. По сути в этих стенах и вспыхнула Чеченская война, но думается, ни Дудаев, ни Басаев, ни вайнахские старейшины, ни бежавшие из Чечни оппозиционеры, ни перепуганные диким капитализмом граждане России у экранов телевизоров не представляли, скольким людям в той войне ещё предстоит умереть...
30.

Мэрия обосновалась здесь в 1991 году, заняв бывший Дворец Пионеров. Само здание сменило целых 3 лица - нынешний облик оно получилось в 1970-е годы, а после предыдущей реконструкции в 1953 выглядело так:
30а.
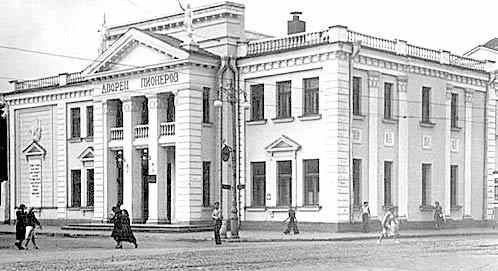
В основе же это и вовсе Общественное собрание (1899):
30б.

Перед мэрией и строящимся в виде гигантской монеты зданием минфина стоит пара памятников - типовая стела Города воинской славы (см. прошлую часть) и мемориал Борцам с терроризмом (2010) на фоне белой и непривычно минималистичной новостройки Кабмина:
31.

На чёрных плитах - списки погибших бойцов МВД и внутренних войск от разных районов и селений. Но больше впечатляет целый лапидарий из сотен (!) старинных надгробий, с трёх сторон опоясывающий монумент:
32.

Особенно красивы те, которые похожи на грудь джигита в черкеске:
33.

Они попали сюда из горных аулов, опустошённых депортацией вайнахов в 1944 году. И изначально входили в комплекс памятника жертвам депортации, поставленный в 1992-м на нынешней площади Хрущёва (это где арка из прошлой части). Обратите внимание - надпись по-чеченски сделана латиницей: наряду с "новыми боевыми башнями" (их фото есть здесь) полевых командиров это был единственный в своём роде архитектурный памятник независимой Ичкерии. Но избавив Чечню от следов войны, здесь принялись и за следы худого мира - замки были разрушены в 2010-х, а вот памятник демонтировали уже в 2008 году и как ни странно - до сих пор не построили ему замену.
33а.
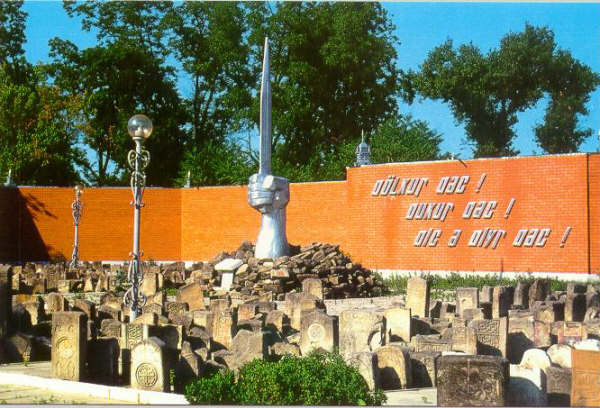
Ну а теперь оглянемся на другую сторону площади, сквозь простор на месте 5-го Жилстроительства. Там с краю виден универмаг, а посередине - Французский дом (1939), уж не знаю, за какие заслуги так прозванный:
34.

По вечерам строгий конструктивистский фасад обзаводится декором:
35.

С простора площади возвращаемся на главную ось, на отмеченный узким бульваром проспект Путина. Не однофамильца какого-нибудь (коими могли быть лётчик-герой Александр Путин, физик Геннадий Путин и инициатор соцсоревнований Михаил Путин), а вполне себе того самого ВВП, на которого у самых активных пользователей рунета замкнута любая цепочка ассоциаций. Голосуют за Путина же те, кто думает о нём реже одного раза в сутки, поэтому пока что, слава богу, такой проспект единствнный в России:
36.

Примечателен же он не только названием, но и архитектурой - это крупнейший осколок довоенного Грозного:
37.

Хотя в остальной стране такая архитектура называется "послевоенной":
38.

38а.

39.

Хоть и вклиниваются кое-где меж этих сталинок новостройки. Здесь сосредоточено большинство модных и европеизированных заведений Грозного, будь то магазин арабских духов (в доме слева на кадре выше) или вайнахский ресторан "Жижиг-галнаш".
40.

За мощным фасадами - тихие дворы:
41.

Районы справа, вдоль проспекта Эсамбаева и улицы Лорсанова, мы исходили вдоль и поперёк в прошлых частях. Слева же капитальная застройка заканчивается на параллельной улице Орзамиева:
42.

Зато попадается на ней довоенка в общероссийском, а не чеченском смысле этого слова:
43.

На проспекте Путина - и знакомый нам по прошлой части Барский дом (1915-23), построенный "Роял Датч Шелл" для своих экспатов:
44.

И театр, библиотека, национальный музей (на фото) да казарма 82-го Дагестанского полка - единственное дореволюционное здание на проспекте:
45.

Напротив - сталинка Дома Молодёжи (1958), в прошлой жизни - общежитие разрушенного войной нефтезавода:
46.

У сталинки с башенкой на крыше, которую за время нашей поездки успели снять, что-то сделать и начать монтировать заново, проспект Путина упирается в площадь Дружбы Народов. Таковую на монументе (1974) олицетворяют местные революционеры - славянин Николай Гикало, чеченец Асланбек Шерипов и ингуш Гапур Ахриев. В народе - Три Дурака, иногда даже Три М...дака, а для гостей, уважительно - Три Богатыря. Шуток об этом памятнике грозненцы насочиняли немерено - например, "двое трезвых вайнахов держат пьяного русского"...
47.

...но "при независимости" было тут совсем не до шуток: если Минутка славилась рынком оружия, расползавшимся по окрестным улицам, то на площади Дружбы Народов между Первой и Второй кампаний был самый что ни на есть рынок рабов. Кого попроще продавали с прилавков, то есть из ямы - в основном это были русские жители Чечни, пленные (или проданные коррумпированными офицерами) солдаты, работяги, приехавшие на местные стройки и даже солдатские матери, искавшие погибших сыновей. Абреки у ямы принимали заказы: вот одному полевому командиру захотелось в наложницы блондинку ростом 167-172см с зелёными глазами и обязательно девственницу, а другому позарез нужен специалист починить его приусадебный нефтезаводик - и этот "товар" они вскоре получали с доставкой из других городов. Цена раба варьировалась от 1000 рублей и до десятков тысяч долларов: тех, кто стоил дороже, местные абреки вряд ли были в силах раздобыть. И использованную наложницу или отработавшего специалиста можно было вновь продать родным за выкуп, остальные же имели не больше перспектив, чем скот. Как-то, не в эту поездку, военный рассказывал мне про двух рабов, освобождённых в горах за Шатоем - после нескольких лет в рабстве это были двуногие существа с абсолютно сломленной волей, и даже умирая от голода, они не решались притронуться к припасам хозяина, то ли бежавшего в Грузию, то ли убитого в бою... Впрочем, рынок оружия на Минутке и развалах с товаром от пистолетных патронов до гранатомётов "муха" чеченцы вспоминают охотно и даже задорно, а про невольничий рынок отвечают уклончиво. Но мифы всё это или просто о таком не хотят говорить перед гостем - вероятно и то, и другое.
48.

В заложниках, часто оказывались и журналисты. Памятник им с 2007 года стоит справа от Трёх Дураков (а слева в скверике улыбается Гейдар Алиев), причём плита его изначально принадлежала монументу Борцам за власть Советов (1973).
49.

Сам Сквер Журналистов известен чеченцам как место знакомства - в тёплые дни сюда приходит одинокая молодёжь, а приглашением к свиданию считается мороженка, которую парень дарит понравившейся девушке.
50.
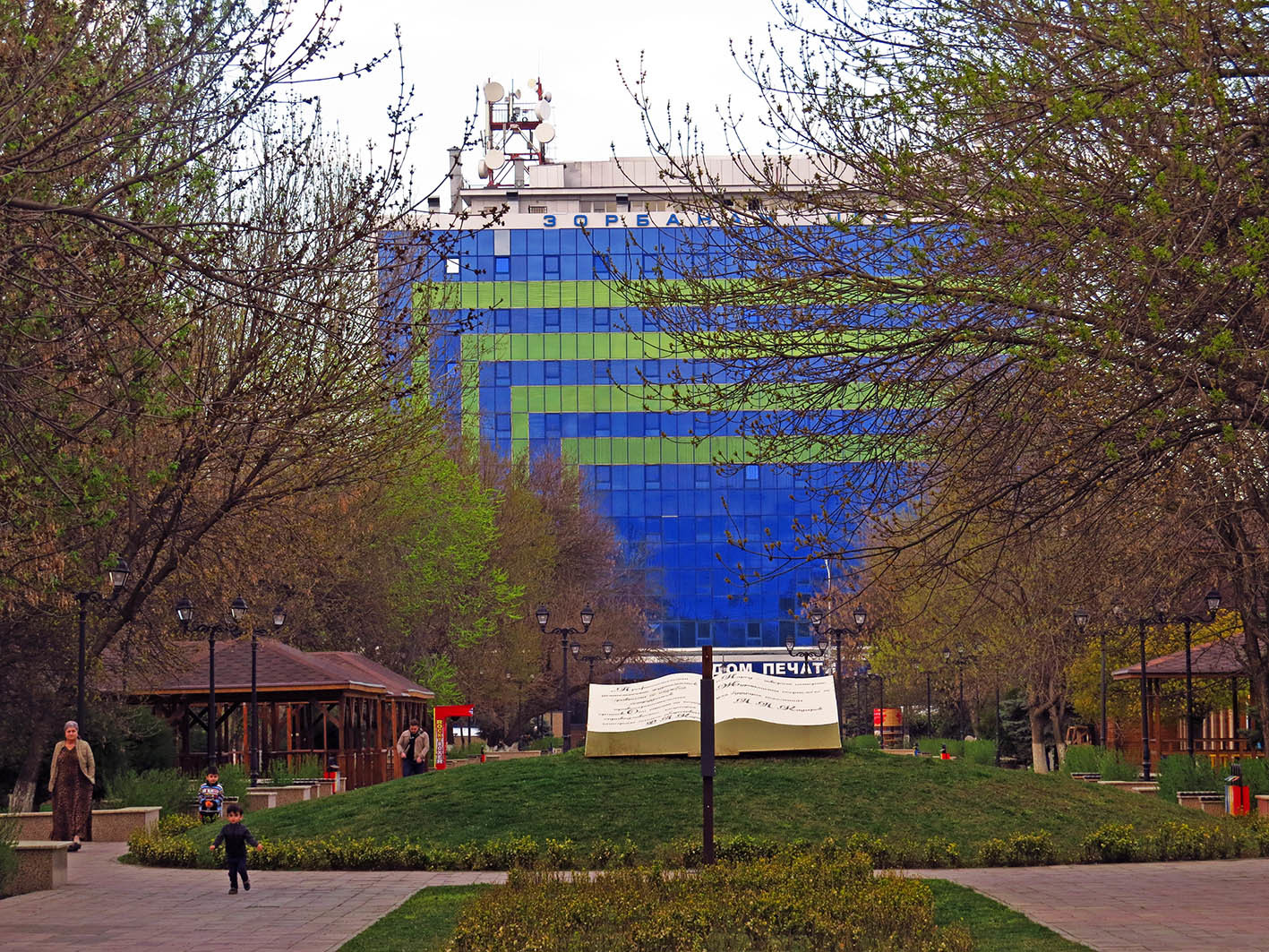
Сам же дом печати 1970-х когда-то выглядел вот так, но свой нынешний облик принял не при восстановлении Грозного, а лет 5 назад: 4 декабря 2014 года в Грозном случился последний горский набег. Боевики расстреляли пост полиции у въезда и окопались в этом здании, из которого их пришлось выбивать миномётами. В том бою погибли 11 боевиков и 14 полицейских, а Дом печати сгорел.
50а.
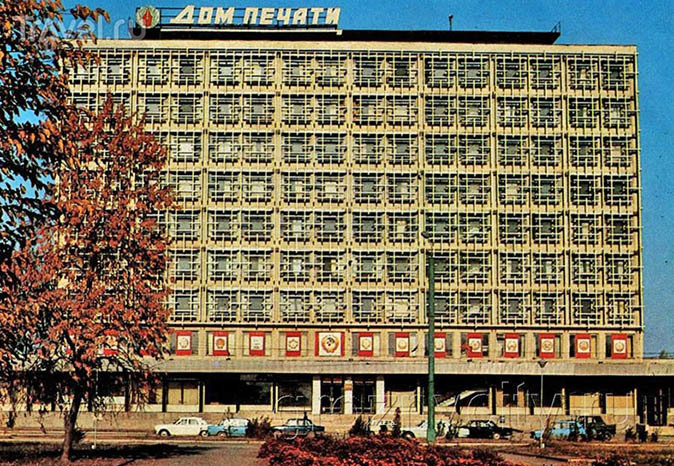
Замыкает городскую ось Мемориал Славы имени Ахмата Кадырова (2009-10), по совместительству выполняющий роль местного парка Победы:
51.

У входной колоннады - небольшая коллекция техники и конный памятник Мовлюду Висаитову, который командовал на Великой Отечественной каваларейским полком и первым пожал руку американцем на Эльбе:
52.

У золотого обелиска снаружи барельефы сражений Великой Отечественной:
52а.

А внутри мемориальный зал Ахмата-хаджи, куда я, приношу свои извинения Рамзану Кадырову, не пошёл - дело было в воскресение, и в это время очередь сюда что в Мавзолей.
53.

Дальше центр сменяется бескрайними пустырем бывшей товарной станции Грозный-Нефтяная. Теперь на её месте понменогу строится новый Правительственный квартал, похожий на крепость с высокой стеной и казармами стражи:
54.

Ну а в нефтяные дали грозненских окраин отправимся в следующей части.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Урус-Мартан и Шатой.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Серноводск и Сунжа (Ингушетия). Спорный район двух республик.
Ингушетия
Общий колорит, а также Малгобек и Галашки.
Магас и окрестности.
Назрань и окрестности.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: Зона заражения Молох Кавказ транспорт Вечность пахнет нефтью дорожное |
Грозный. Часть 2: самый разрушенный город мира |

В нескольких поколениях одна из двух сильнейших армий мира готовилась брать Берлин. А в итоге брать ей пришлось Грозный - накануне тех событий крупнейший город кавказских республик (404 тыс. жителей) и всесоюзный центр нефтепереработки. Первая Чеченская велась по принципам Второй Мировой, но - куда более мощным оружием вплоть до баллистических ракет, вакуумных бомб или залповых огнемётов. Что уцелело под Новый год 1995-го - было доломано под Новый год 2000-го: в 21 век Грозный вошёл самым разрушенным городом мира. Соотнося его историю с холёной и аляповатой современностью, понимаешь, что это совсем не гипербола: в Сталинграде и Севастополе, Кёнигсберге и Минске легче представить, какими были они до своей войны. И показав в прошлой части Грозный как есть, сегодня расскажу о Грозном, которого нет.
В паре кварталов от центральных улиц, на неприметном автокольце с гордым именем площадь Хрущёва, в створе улицы Али Митаева расположилась странная прозрачная арка. Это Красные ворота, поставленные пару лет назад как памятник основанию города:
2.

Конец Алханчуртской долины, где сходятся холмистые "гребни" Терского и Сунженского хребтов, испокон веков был воротами для Плоскости и Гор. С 16 века здесь стоит аул Чечень, по которому народ нохчи стал для русских чеченцами. Русские почти тогда же обосновались в Сунженском остроге - одной из первых колоний тогда ещё вольных гребенских казаков. С чеченцами они тогда дружили против персов и кумыков, разоривших эти края в 1653 году в ходе первой в истории русско-персидской войны. Но к 18 веку иранский шах ослаб настолько, что уже не выглядывал за Кавказ, кумыкские шамхалы сделались вассалми русского царя, а вот чеченцы так и остались непокорными горцами без какой-либо знати, в набег на плоскость ходившие как рыбаки в море. Когда же владения петербургского царя пополнила Грузия, стало ясно, что для России "Кавказ - это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном", которую надо было как-то обезвредить.... Линия русских укреплений, проложенная в 1783-1803 годах Александром Суворовым и Павлом Цициановым вдоль Военно-Грузинской дороги (центром её был Владикавказ) не справлялась, и в 1817 году генерал Алексей Ермолов начал тянуть новую линию вдоль Сунжи, к которой раскрывались все вайнахские долины. Важнейшим звеном Сунженской линии стала Грозная крепость у самого "жаркого" Ханкалинского ущелья, за которым начиналась Ичкерия - центральная область Чечни. Для строительства на Сунжу были переброшены пять тысяч солдат и казаков из Моздока, и сооружения шестигранника куртин и бастионов было лишь малой частью работ. В радиусе многих километров, на месте десятка аулов, создавалась зона отчуждения, где вырубались леса и ставились огневые точки, а горцам запрещалось появляться при оружии. Горцы, конечно, запретов не соблюдали, а потому рядом с лопатой у строителей всегда было ружьё, и даже по воду здесь ходили боевым порядком при хотя бы одной пушке. Об эстетике Грозной крепости никто не думал - за земляными бастионами стояли саманные лачуги казарм, лазаретов и складов. Зато с задачами своими крепость справлялась на ура, и уже в 1825 году при ней вырос форштадт, первыми жителями которого стали лояльные чеченцы. В 1839 году чуть поодаль образовалось военное поселение, в 1848 ставшее Грозненской станицей: вот тут очень подробный рассказ о крепости дополнен наложением старых карт на современные. Ну а Красные ворота к крепости не имели никакого отношения - они были предтечей сибирских и дальневосточных "арок цесаревича" (см. Владивосток, Благовещенск, Улан-Удэ), возведённые в 1850 году к визиту будущего Александра II.
2а.
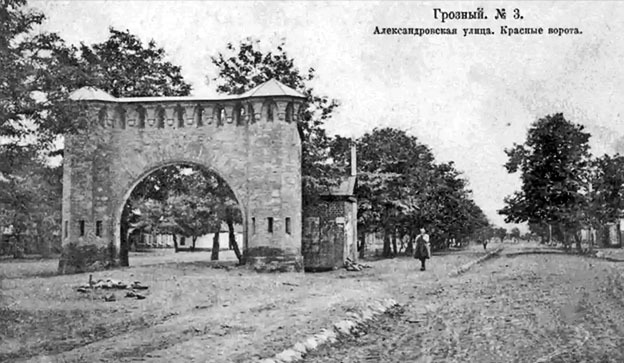
Неказистая саманная крепость вообще повидала много великих людей. В 1819 году её посещал Александр Грибоедов по своим закавказским делам. В 1826 (напрямую с процессов) и 1837 (после сибирской каторги) крепость наполнили декабристы, например Борис Бодиско, Александр Бестужев или Николай Лорер. В 1840 в Грозной служил Михаил Лермонтов, а вместе с ним - штабс-капитан Максим Максимыч да прапорщик Григорий Печорин, угнавший у абрека Казбича лучшего на всём Кавказе коня Карагёза. В 1851-52 здесь бывал Лев Толстой, и стало быть и его "Казаки". Всех их помнила Грозненская часовня, поставленная не позже 1825 года, когда в ней упокоился генерал Николай Греков. Но часовню снесли в 1914 году для так и не начатой стройки большого собора, а Красным воротам конец пришёл в 1932, когда в Грозном строился трамвай.
2б.
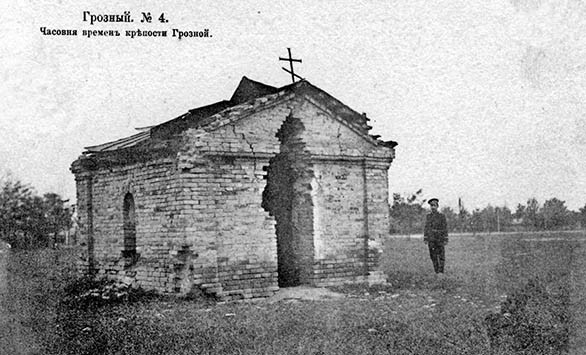
С 1850-х годов Грозный всё чаще называли городом, а в 1852 тут появился и первый государственный орган - мехкеме, где под присмотром русского чиновника старейшины и кадии решали чеченские споры по законам гор. В 1862 году генерал-этнограф (!) Пётр Услар открыл в крепости первую чеченскую школу. Война уходила всё выше по долинам, где строились новые крепости, а Грозная из щита против горцев превращалась в мост между миров. В 1859 году, по случаю краха Шамиля, при крепости были учреждены две ярмарки, ещё год спустя она стала центром Среднего отдела (по сути уезда) вновь образованной Терской области, и наконец в 1869 году на карте России появился город Грозный.
3а.

Тогда же была срыта крепость, о которой с 1881 года напоминал памятник Алексею Ермолову. Поставлен он был якобы на месте генеральской землянки, хотя и утверждают злые языки, что её местоположение к тому времени позабылось, и роль "землянки" перед коллегией тогда выполнял курятник. Памятник снесли в 1922 году, но в 1949 сохранённую в музее бронзовую голову генерала вернули на новый пьедестал. Его "украсили" надписями, слегка похожими на комменты к моим прошлым постам "Никогда не разлучно со мной чувство, что я россиянин", "Патриот, высокая душа, замыслы и способности точно государственные, истинно русская, мудрая голова" и "Народа сего под солнцем нет подлее и коварней. Ермолов о чеченцах". Последнюю надпись всё-таки убрали в 1958 году, когда чеченцы стали возвращаться из депортации, но снесли этот памятник уже сами они в 1989-м году.
3.

К 1897 году в Грозном жило порядка 15 тыс. человек, но внешне он по-прежнему напоминал скорее большую станицу:
4.
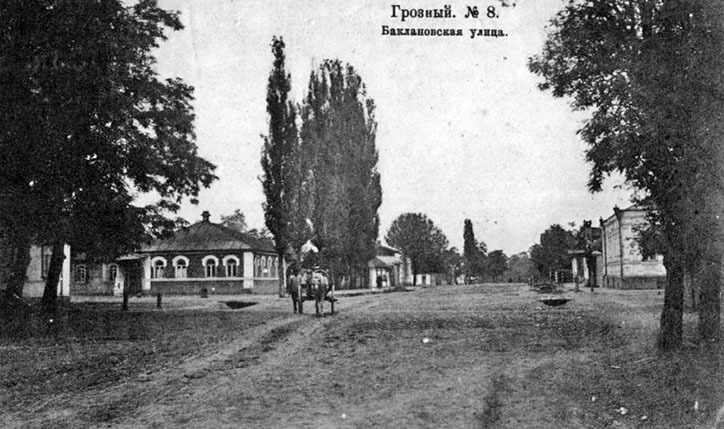
Однако перемены полным ходом шли уже тогда. Добыча нефти в Грозном, как и в Баку, велась испокон веков, а основным покупателем земляной жижи оставалась Персия. В 1823 году именно на грозненской нефти братья Дубинины в Моздоке построили первый в мире нефтеперегонный завод, и керосиновые лампы были тут в ходу за несколько десятилетий до того, как ими стала освещаться Европа. Но ту нефть черпали вёдрами из колодцев, собирали с плёнки воды, а вот современные промышленные технологии пришли сюда частью из Баку, частью с Запада. В 1893 году в Грозный пришла железная дорога из Беслана, и в те же месяцы на Старых промыслАх северо-западнее города заработала первая скважина. То, впрочем, были ещё цветочки - ягодки пошли, когда в 1910-е годы разработку Новогрозненских промыслов к югу от города начала целая Royal Dutch Shell, зашедшая в Россию через порт Батума - в один только 1914 год Грозный прибавил 20 тысяч. жителей, и к 1917 году, вместе с промысловыми посёлками, тут жило без малого 100 тысяч человек.
4а.
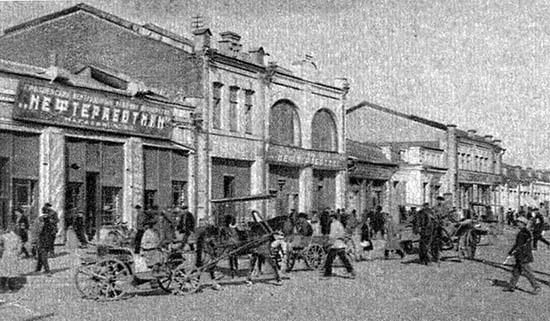
Впрочем, основным получателем ренты оставалось Терское казачье войско, да благоустройство в таких местах почти никогда не поспевает за бумом.
4б.

Вот так в тогдашнем Грозном выглядела главная Дондуковская улица, названная в честь кавказского наместника Александра Дондукова-Корсакова. При Советах она стала улицей Революции, а ныне её преемницей можно считать пешеходный проспект Эсембаева - с той разницей, что лучшие кварталы Дондуковской война перемолола до пустырей, ставших теперь площадями. Вот это здание с башней, например, в советском Грозном было известно как Новый Аракеловский гастроном, а теперь от него и следа не осталось:
4в.

Изначально оба дома с кадра выше принадлежали гостинице "Франция", где регулярно останавливались известные певцы или актёры вроде Вера Холодной. Нефтяной бум первыми в городе оседлали отельеры - вот, скажем, стоявший на другой улице "Гранд-отель":
4г.

Актёров же я не случайно упомянул как главных постояльцев - следом нефтяной бум подтянул сферу развлечений. На рубеже веков купец-старожил Виссарион Чернявский организовал крошечный (три аллейки по 80 шагов) Народный сад, главными достопримечательностями которого стали барельеф с горным пейзажем на брандмауэре близлежащего дома да летняя сцена, на которой и выступали именитые постояльцы "Франции". При Советах Народный сад был Садом 1 Мая, и хоть сгорел старый театр в Гражданскую войну, на его восстановленный сцене по-прежнему выступали знаменитости - Леонид Утёсов, Муслим Магомаев, Юрий Антонов... а теперь и место сада не найти.
5а.
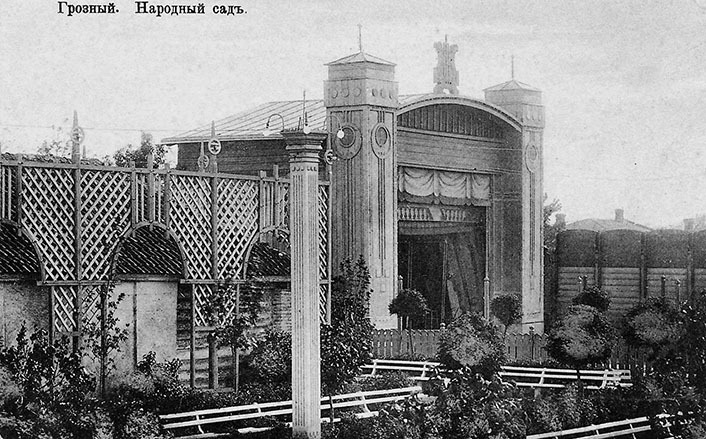
Более солидный парк в излучине Сунжи с лёгкой руки местных велосипедистов всю свою историю был известен грозненцам как Трек. Главной достопримечательностью Трека служил круглогодичный театр начала ХХ века, где в советское время крутили кино.
5б.
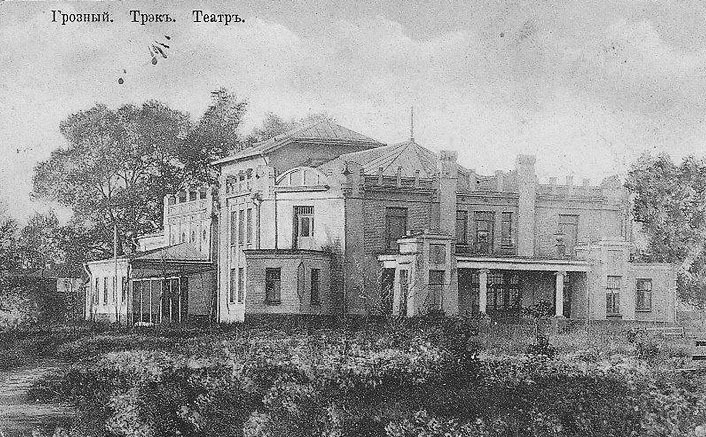
При Советах Трек официально назывался Парком Кирова, его дорожки заполонили жизнеутверждающими статуи, а велосипедистов на тропках сменили гребцы в сунженских заводях. В 1990-х скульптуры разломали то ли ваххабиты, то ли солдаты, ну а в 2009 территорию парка прибрал к рукам под свою резиденцию целый Рамзан (см. прошлую часть).
5в.
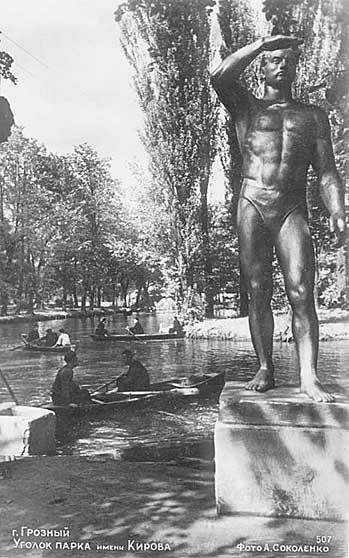
Чиновники же, получив нефтяной доход, первым делом пустили его на образование. Ситуация тут и впрямь складывалась катастрофическая - имевшиеся классы не поспевали за бурным ростом города и в начале ХХ века теснота в них доходила до того, что от своего места до доски ученик мог лишь проползти под скамьями. Одним из первых нефтяных приобретений стало Пушкинское училище (1896):
6а.

Открытое в 1904 году реальное училище первоначально помещалось в частном доме, но в отдельном здании (1912) смотрелось как дворец среди лачуг. И видимо по логике "мир хижнам - война дворцам" известнейшими его выпускниками стали революционеры Кавказа - русский Николай Анисимов и чеченец Асланбек Шерипов:
6б.

В том же 1904 году в Грозном появилась ещё и женская гимназия, давшая чеченцам первых писательницу Исаеву, филолога Чентиеву и журналистку Саракаеву, причём и ту, и другую, и третью звали одинаково - Марьям. Все три здания при Советах стали "номерными" школами, но были разрушены до основания в Первую Чеченскую войну.
6в.

Три Марьям ходили в школу под колокольный звон - своим национальным составом тогдашний Грозный напоминал нынешний Моздок. 66% населения (а с украинцами - и все 75%) здесь составляли русские,а главным храмом города считался небольшой и весьма неказистый собор Косьмы и Дамина, построенный на форштадте в 1851-52 годах взамен деревянной церкви:
7а.
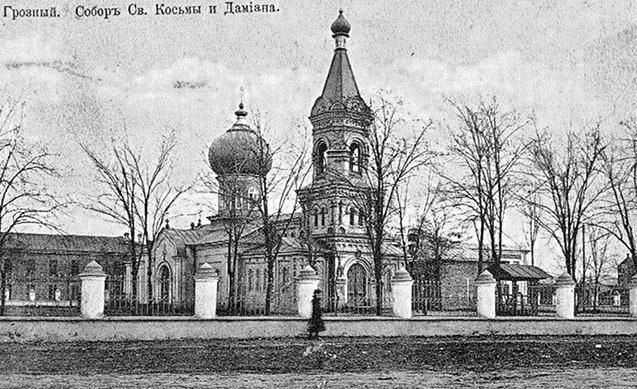
Куда солиднее выглядел Никольский (в других источниках - Покровский) собор (1899-1902), построенный казаками на нефтяные доходы. Без нефти же, в 1868 году, казаки освятили за Сунжей Михайловскую церковь, которая сумела и советскую эпоху пережить не закрываясь, и возродиться после Чеченской войны - но от того в этом посте ей не место.
7б.

Второй по величине общиной Грозного большую часть его дореволюционной истории были армяне - закрепившись на местных ярмарках, они несколько сдали позиции к началу ХХ века (2,5% в 1897 году), но быстро наверстали своё в нефтяной бум (6,5% в 1926 году). Армянская церковь (1871-73), посвящения которой не поддаётся гуглению так, словно его вовсе не было, стояла у берега Сунжи:
7в.
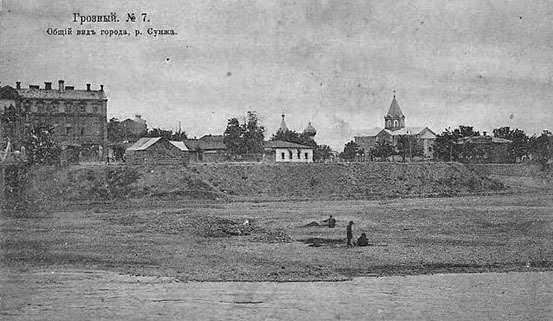
Как и слагавшие странную пару синагога и мечеть. Первыми иудеями Грозного были горские евреи (см. Губа), служившие в крепости как кузнецы, и наверное тоже владевшие где-нибудь неприметными молельным домом. В переписи 1897 года они, вероятно, значились персами (по языку) и составляли 1,5% населения. Эта синагога же называлась Ашкеназской, и ашкеназы в Грозном имели странную противофазу с армянами, к 1897 году составляя здесь 11% населения. В 1902 году они построили одну из роскошнейших в Российской империи синагогу, однако не поспели за нефтяным бумом - к 1926 году еврейская община уступала в размерах не только армянской, но и татарской.
8а.

Которая находились в такой же странной противофазе с чеченской: по переписи 1897 года чеченцев в своей будущей столице было 3% жителей, а татар 2%, по переписи 1926 же - ровно наоборот. Татары пришли сюда как купцы, чеченцы были старожилами форштадта, но думается, по факту их присутствие в Грозном было гораздо заметнее - всё же стоял город посреди чеченских аулов, откуда и горный пасечник привозил на базар бочку мёда, и суровый абрек приходил к татарскому купцу напомнить, что его деньги общие для всех мусульман. Построенная в 1908 году, мечеть была удивительно миниатюрна, особенно по контрасту с гигантами новой Чечни:
8б.
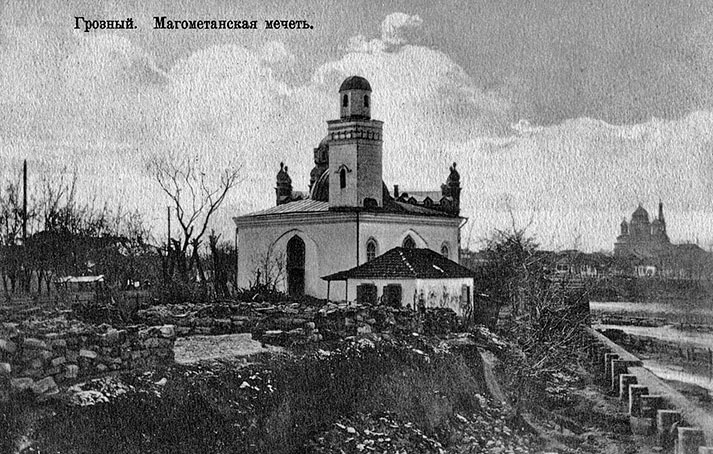
Ну а старейшим неправославным храмом Грозного был и вовсе костёл Святого Серцда Иисуса (1862-64) почти что в бывшей крепости - поляков, особенно после восстания 1860-х годов, ссылали не только в Сибирь на поселение, но и во все концы империи в армии служить. Даже к началу ХХ века поляки составляли в Грозном 2,5% жителей, а уж когда костёл строился - явно были здесь общиной №2. Все три церкви и мечеть были разрушены большевиками в 1930-е годы, а вот костёл и синагога, пусть и сменив назначение, благополучно простояли до недавней войны.
8в.
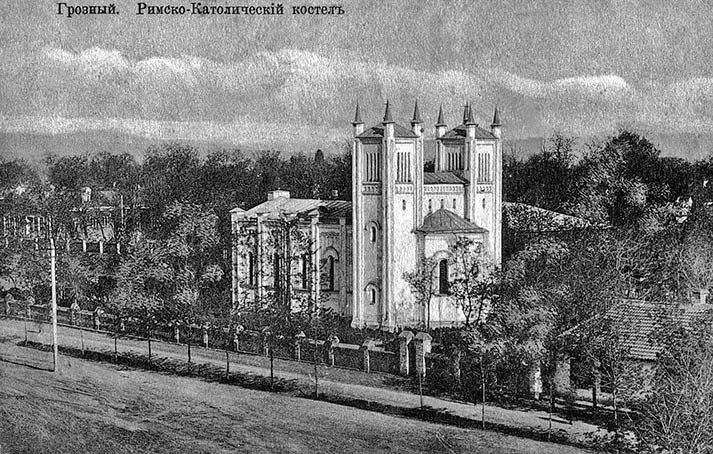
Первая половина ХХ века прошла в Грозном под знаком индустриализации, и трубы да крекинговые башни стали в его панораме явно заметнее шпилей и куполов. Лучшие дома принадлежали нефтяным магнатам самых разных национальностей, среди которых были и преуспевшие в Баку Лианозовы, и чеченец Тапа Чермоев. Но обилие работяг, гробивших здоровье в вонючих нефтяных балках предопределили судьбу Грозного, когда зашаталась империя: если между революциями самым влиятельным органом в городе стал Чеченский совет Тапы Чермоева, то уже в ноябре вся власть тут перешла советам, и даже Дикая дивизия, наводившая прежде ужас на Европу, добыла город для Чермоева дай бог на несколько недель. К концу зимы 1918 года красные во главе с Николаем Гикало, Евгением Левандовским и Асланбеком Шериповым вернули полный контроль над городом, ну а с августа по ноябрь здесь развернулись Стодневные бои. Грозный вновь стал крепостью - теперь красной крепостью в земле терских казаков. Вот только не было у них ни "Точки-У", ни "ТОС "Буратино" - из ста дней боёв город вышел почти таким же, как был. В ноябре по Дондуковской улице прошёл парад красных горожан, казаков и чеченцев, а в январе 1919 года к белым силам подтянулась запоздалое подкрепление - армия Антона Деникина. Эти сумели взять город, но теперь Грозный стал белой крепостью в земле чеченцев, быстро увидевших в деникинцах продолжателей дела Ермолова и Барятинского. Несколько месяцев город отбивал набеги красных чеченцев и рабоче-крестьянских повстанцев, пока в 1920 году Красная Армия не разгромила Белый Юг.
9.

Восстанавливать город и промысла, на которых все годы войны бушевали пожары, Советы позвали в 1924 году всё те же англичан, до 1929 года работавших здесь в концессии. Затем сэров попросили на выход, унаследовав от них кадры и технологии. В 1930-х годах Грозный был на втором месте в Союзе после Баку как по добыче нефти (с большим отрывом), так и по её переработке (почти на равных). Однако именно ГрозНИИ был мозговым центром отечественной нефтехимии, а на грозненских заводах сосредоточено производство самого сложного нефтепродукта тех лет - авиационного бензина. Немцы, словно на его запах, рвались сюда в 1942-м, и до последнего старались "не попортить шкурку", идя на самые разные ухищрения вплоть до заброски диверсантов в помощь местным абрекам. Поняв же, что Грозного им не видать, 10-15 октября 1942 года фашисты разбомбили промыслы и заводы - главным событием Великой Отечественной тут стал Подвиг Пожарных, несколько дней укрощавших море огня.
10.

Между тем, в 1922 году Грозный стал центром Чеченской автономной области, в 1936 разросшейся до Чечено-Ингушской АССР. К 1939 году доля большинства народов ушла куда-то в статпогрешность, зато на чеченцев приходилось уже 14% населения. Депортация вайнахов в 1944-58 годах прервала коренизацию, но с упразднением Грозненской области, возрождением ЧИАССР в расширенных границах и возвращением в родные края коренного народа его доля здесь только росла. Правда, с важной оговоркой: если до революции чеченцев в Грозном представляли интеллигенция, купечество и духовенство, то теперь город всё активнее заселяли простые ребята с аулов. Сюда они ехали с чувством, что возвращают своё, русские же восприняли это как нашествие варваров, и вот уже в августе 1958 года драка пьяных чеченцев с такими же русскими подожгла беспорядки с захватами зданий вплоть до КГБ и обкома. Бунтовали тогда именно русские, и где-то в недрах разъярённых толп сформировалась Резолюция с требованием восстановить Грозненскую область, ограничить долю чеченцев в городе 10% населения, закрыть для них заводы и побольше приглашать на работу в ЧИАССР комсомольцев. Границы менять и квоты вводить по итогам тех событий власти не стали, а вот на завод устроиться чеченцу и правда стало гораздо сложнее, и даже заканчивая грозненские вузы, распределение нохчи получали только в другие регионы. Но коренизацию это не остановило: к 1989 году из 404 тыс. жителей Грозного 55% приходилось на славян, 30% на чеченцев и 5,5% на ингушей (в 1973 году так же бунтовавших за разделение двух регионов).
10а.
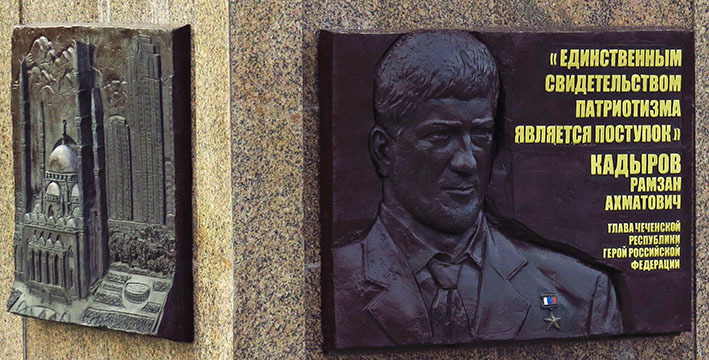
Дальнейшие события с подробно излагал вот в этом посте о чеченских реалиях, рассмотрев сперва, конечно, то, что к эти реалиям привело. И если мы знаем две Чеченские войны, то местные говорили мне про четыре: что в 1992-94, что в 1997-99 чеченцы воевали друг с другом - сперва лоялисты с сепаратистами, затем националисты с ваххабитами.
11а.

Ну а Грозный выглядел вот так: кажется, со времён Второй Мировой города Земли не знали столь безжалостного разрушения. Исход русских (то есть половины населения), беженцы войны (сотни тысяч человек) и её жертвы (по разным оценкам от 5 до 27 тысяч погибших) ополовинили население Грозного - к 1995 здесь числилось 186 тысяч жителей, а фактически - и того меньше.
11.

Само русское название стало казаться всё менее уместным: что сепаратисты в 1998, что лоялисты в 2005 пытались переименовать город в честь своих павших вождей - соответственно Джохар или Ахмадгала. За четверть века Грозный не вернулся к довоенному размеру, но что ещё важнее - на место тех, кто отсюда бежал, приехали другие люди. Доля чеченцев в нынешнем городе неумолимо движется к 100%, а русская община, состоящая видимо в основном из стариков, которым некуда идти, продолжает сокращаться.
11б.

И Додуковская улица, при Советах проспект Революции, ныне носит имя балетного танцора Махмуда Эсамбаева и выглядит вот так - сравните с черно-белыми фотографиями из начала рассказа! В Грозном проспект Эсамбаева служит арбатом, и по вечерам здесь уютно и хорошо. Но не найти на грозненском арбате ни Дамы с собачой, ни Сантехника Алибековича, ни даже Джигита у колодца: статуи - это харам!
12.

На проспекте Эсамбаева и параллельной улице Лорсанова стоит искать остатки исчезнувшего города, или правильнее говоря - следы. Вид вдоль перпендикулярной им улицы Мира - Лорсанова тут за спиной, а за ближним рядом домов - сохранивший сталинскую застройку проспект Путина.
13.

На перекрёстке стоит Чеченский ТЮЗ, основанный в 1937 году и в 2008 въехавший в старое здание Чеченского драмтеатра. Под вентфасадами угадывается сталинка времён Грозненской области, всё-таки пережившая войну:
14.

Фасад её глядит в ухоженный, но неприметный скверик, гордо называемый Парком Нефтяников. Дальше высится внушительное здание "Грознефти", ныне занятое какими-то региональными министерствами:
15.

В двух нижних его этажах видны благородные узоры модерна:
16.

"Грознефть" образовалась из множества частных фирм, но точкой конденсации для них служила "Алдинская нефть" Тапы Чермоева (1915), чья контора и располагалось здесь:
16а.

Вид с обратной стороны, из переулка, ныряющего в арку белой сталинки:
17.

Примечательной тем, что сохранила декор, сбитый войной с домов тех же лет на проспекте Путина:
17а.

Помнить войну на главных улицах Грозного заставляют вот такие плакаты, и думается, здесь никто не скажет "Можем повторить!". А на иных домах два виды кладки смотрятся заплатой:
18.

Одна из таких заплат отмечает Барский дом - пожалуй, интереснейшее здание в центре Грозного. Абсолютно необычная для России архитектура выдаёт былых хозяев - строили его в 1915-23 годах, с перерывом на Гражданскую войну, англичане из "Роял Датч Шелл" для своих экспатов.
19.

Барский дом представляет собой замкнутое каре между проспектов. На Эсамбаева он остался таким, каким видели его англичане - двухэтажным, а вот на Путина дом надстроили в 1930-х годах. После национализации промыслов здесь жила ЧИАССРовская номенклатура:
20.

Самым ярким представителем которой был юрист и адвокат Дзияудин Мальсагов из пограничного с ингушами тукхума Орстхой. В Грозный он вернулся после депортации едва ли не первым из вайнахов - в 1957 году: готовить почву для возвращения остальных, то есть - решать вопросы, связанные с восстановлением республики. Но более всего Мальсагов прославился в Перестройку, изрядно подтолкнув Чеченскую революцию раскрытием Хайбахской трагедии. Пожилой юрист утверждал, что лично был свидетелем того, как в депортацию НКВДшники согнали целый аул, а заодно стариков и детей из других аулов, 600-700 человек, да сожгли заживо в тесной конюшне, добивая штыками тех, кто пытался бежать и закидывая детей обратно в огонь, как поленья. Хайбахская трагедия стала Чеченской Хатынью, но в каком-то смысле это и Чеченская Катынь: только попробовать усомниться в правдивости - страшное кощунство, но вот доказательства хромают на обе ноги. Свои воспоминания Мальсагов подкрепил единственной телеграммой чекиста Михаила Гвишиани: "Совершенно секретно. Наркому внутренних дел СССР тов. Л. П. Берия. Только для ваших глаз. В виду не транспортабельности и с целью неукоснительного выполнения в срок операции "Горы", вынужден был ликвидировать более 700 жителей в местечке Хайбах. Полковник Гвишиани.", в которой правдоподобны только имена и названия: операция называлась "Чечевица", Гвишиани был по званию комиссаром 3-го ранга, а никогда не использовавшийся в СССР гриф "только для ваших глаз" является прямой калькой с англоязычных документов.
20а.

В Барский дом ведут подворотня с проспекта Путина да пара подъездов через магазины, по грозненской традиции большую часть дня открытые нараспашку.
21.

Но со двора Барский дом куда обыкновеннее, чем с фасада:
22.

Арбатик Эсамбаева за Барским домом упирается в улицу Германа Угрюмова, названную в честь начальника чеченской ФСБ, в 2001 умершего в Ханкале от инфаркта. За ней раскинулась Театральная площадь:
23.

В прошлой части я рассказывал про Русский драмтеатр имени Лермонтова, возводящий свою родословную к театральному кружку владикавказца Евгения Вахтангова, который тот основал в 1904 году на грозненских промыслах. Официально Русский театр в Грозном был учреждён в 1938 году и сразу занял колоритное здание (1921-28) в духе конструктивизма. Если я правильно понимаю, снесено оно было ещё в советское время, а напротив Барского дома в 1977 году вырос огромный театрально-концертный зал, который Русский театр делил с Филармонией.
23а.

Но теперь для них построили отдельные здания, а здесь с 2008 года обитает Чеченский драмтеатр имени Ханпаши Нурадилова, зародившийся ещё в 1931 году. Хотя в теории точку отсчёта можно было бы и передвинуть: первым чеченцем-драматургом был Назарбек Шерипов, брат революционера Асланбека, в 1913 году поставивший на Треке пьесу "Синкъерамех" в русском переводе "На вечеринке", представлявшую собой этакую презентацию вайнахской культуры для русских. Чеченская труппа в 1930-х годах училась у приглашённых грузин, в войну разошлась по фронтам (и сам Ханпаши Нурадилов прославился не столько как актёр, сколько как погибший под Сталинградом герой-пулемётчик), в депортацию рассеялась по театрам Средней Азии, а в 1990-х покинула Чечню и выступала перед её беженцами. С известнейшими именами театру, впрочем, явно не повезло: первым директором его был писатель Абдурхман Автурханов, в истории оставшиеся коллаборационистом, бежавшим в 1942 через фронт просить Гитлера о помощи, а самый известный актёр - Ахмет Закаев, более известный в наши дни как "президент Ичкерии в изгнании". На фасаде Лермонтов поздравляет Казбича с Рамаданом:
24.

По соседству с театром - Национальная библиотека Чечни (2013) с фасадом в виде книжного стеллажа:
25.

И не могу понять даже на что похожей изнанкой:
26.

Библиотека - преемница советской Чеховки, созданной в 1904 году преподавателями Пушкинского училища и посвящённой АнтонПалычу в 1945 году. Её прежнее здание (1966) было разрушено войной, и остатки фондов несколько лет хранились под трибуной стадиона...
26а.

За театром и библиотекой площадь продолжается, фактически занимая целый квартал. От базара Беркат (см. прошлую часть) и улицы Лорсанова её отделяет новый "Грознефтегаз", а от проспекта Путина - дореволюционная казарма 82-го Дагестанского пехотного полка, по которому и улица Угрюмова раньше была Дагестанской.
27.

Посредине же высятся четыре башни да стеклянный купол. Одну из самых необычных новостроек Грозного (2012) занимает Национальный музей Чечни:
28.

Он был основан ещё в 1924 году, в 1944-58 именовался Грозненским музеем краеведения, и к концу советской эпохи с 230 тысячами экспонатов считался одним из лучших музеев Кавказа. Как я понимаю, всё это время музей располагался в специально для него построенном здании.... и конечно, это здание было уничтожено войной. А с ним - и 9/10 экспонатов, в том числе подлинные шашка и печать Шамиля, коллекция горского оружия, 68 истангов (узорчатых ковров), уникальные археологические находки и картины художников вроде Репина, Верещагина и Айвазовского.
28а.

У входа в обновлённый музей встречают две пары пушек (1804-05) одного возраста, но разных судеб. Те, что поменьше, охраняли Грозную крепость, а в ходе Второй кампании невесть зачем были увезены в Сургут.
29.

А те, что подлиннее приехали в Грозный из Севастополя во время Великой Отечественной войны. На переплавку, вот только плавильных заводов тут не было, и потому 18 пушек сберёг музей, и 2, возвращая раритеты в Севастополь, за это получил в подарок. Здесь же - чурт (надгробие) Арцу Чермоева, русского генерала-чеченца-масона (!), в 1877 году подавлявшего восстание своих соплеменников. Сыном его был знакомый нам нефтяник-сепаратист Тапа.
30.

У музея интересная организация пространства - огромный центральный зал (для выставок), экспонаты в нишах круглых коридоров и отходящие на внешней стороне малые залы, которые легко проглядеть.
31.

Но экспозиция его откровенно бедна, а полтора этажа просто пустуют. С 30 тысячами экспонатов это, возможно, самый маленький региональный музей страны. Но кое-что отсюда я показывал в обзоре вайнахской культуры.
31а.

Покинув музей, продолжим поиски "города, которого нет" на улице Лорсанова. До революции Михайловская, в советское время - Красных Фронтовиков, нынешнее название она получила в честь майора МВД Сайпуддина Лорсанова, погибшего в 2007 году при штурме очередного гнезда террористов. В перспективе улицы - ресторан "Глобус" за Сунжей:
32.

Почти сразу у моста на целый квартал раскинулся Грозненский государственный нефтяной технический университет имени Михаила Миллионщикова, вот уже сотню лет - главный чеченский вуз. Его нынешнее здание построено в 2007-12 годах, но выглядело тогда просто феноменально уродливым, и кажется, даже батяне-Рамзану оскорбляло эстетические чувства. Новый дизайн с вайнахской башней из бетона из стекла хорош как минимум своей этничностью:
33.

Основанный аж в 1920 году, когда ещё не погасли пожары на промыслах, Нефтяной институт явно входил в один архитектурный цикл с Барским домом.
33а.
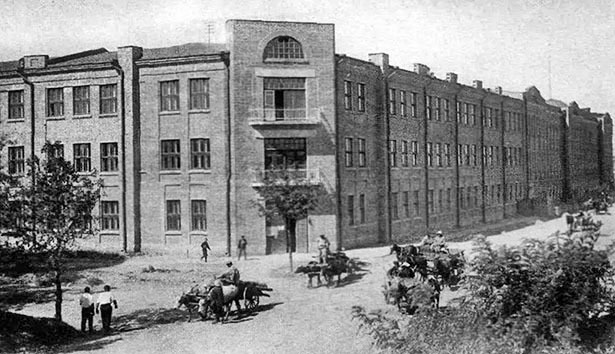
Другой стороной его каре выходит на знакомую нам площадь Хрущёва - здесь были конструктивистские корпуса 1930-х годов, которым вторил Кинотеатр имени Челюскинцев. В позднесоветские времена ГНИ был одной из главных кузниц кадров советской нефтянки, а в честь его выпускника Виктора Муравленко на Ямале назван целый город.
34.

Но всё это не спасло университет от противобункерных бомб в 1995-м... Погибло тогда не только здание, но и сама академическая школа, и мемориальные доски на фасадах теперь лишь декоративный элемент.
35.

Ещё на Лорсанова уцелело несколько сталинок "Красного Молота", флагмана советского нефтяного машиностроения, цеха которого занимает показанный в прошлой части Беркат.
36.

А посередине самодовольно стоит дом нефтепромышленника Петра Косенко (1915), который рано или поздно, как ту мельницу в Волгограде, начнут называть "единственным уцелевшим после войны":
37.

С 1931 года здесь располагался Чечено-Ингушский НИИ языка и литературы, ну а про судьбу его фондов вы уже и сами всё поняли.
37а.

Ещё меньше повезло стоявшем на другой стороне улицы особняку промышленника Леонида Нахимова (1916), владевшего нефтезаводом "Польза". В 1917-18 годах здесь располагался Совдеп, а как-то в глубине советской эпохи на адрес этого дома вдруг пришло письмо аж из Лондона: престарелый купец посил откопать и прислать ему зарытые во дворе драгоценности. Получатели, конечно, обрадовались такому известию, но копнув в нужном месте, поняли, что "всё уже украдено до нас".
38а.

Ещё пара домов, во время Стодневных боёв занятых штабом, обнаружилась во дворе за особняком Косенко - но и в тех дореволюционную сущность без подсказки трудно опознать:
38.

Дом с кадра выше построил бухгалтер Старых промыслов по фамилии Куш, а на кадре ниже - явно что-то казённое:
39.

Рядом - ещё один клочок старой застройки:
40.

Я вновь вышел на улицу Митаева в паре кварталов от Красных ворот. Дальше по ней - дворец народного танца "Вайнах":
41.

И одинокая сталинка, похожая на последнего выжившего из целой семьи или школьного класса:
42.

А за Митаева, на тихой Кабардинской улочке, прижатой к берегу Сунжи, вдруг открылось какое-то подпространство, и я будто провалился лет так на 10 назад. Тревожные взгляды прохожих, напряжённая тишина, пыльная позёмка... и домики, разбитые войной:
43.

Кажется, тоже дореволюционные:
44.

В теперешнем Грозном это редкость, и думается, просто их владельцы уехали в те страшные годы далеко-далеко, может быть даже за пределы России: дома и национализировать нельзя, и отстраивать некому.
45.

Буквально по соседству всё строится и цветёт:
46.

До пафоса кадыровских фасадов отсюда рукой подать - из призрачных кварталов я вышел к прямо подножью огромного, сливающегося на панорамах с небоскрёбами Сити, Дворца культуры имени Дагуна Омаева (чеченский актёр театра и кино), под куполом которого уживаются минкульт, филармония и дворец приёмов. Законченный в 2020 году, строился он якобы по проект несостоявшегося Храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах архитектора Павла Витберга, но сравнение с его эскизом (1817) показывает, что в лучшем случае тут можно сказать - "по мотивам".
47.

В следующей части пройдёмся по главным улицам Грозного сквозь районы и времена.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
|
Метки: Зона заражения Молох Кавказ казаки Вечность пахнет нефтью дорожное Черта оседлости |
Грозный. Часть 1: просто Город |

Как и многие дети Перестройки, я вырос под телевизором. Который, конечно же, всё моё детство вещал о Чечне. Дождливые руины городов, перепуганные молоденькие солдаты на зелёной броне, надменный усатый Дудаев, похожий на пирата чернобородый Шамиль - все эти образы были знакомы мне так же, как вид из родного окна. Однажды я спросил у взрослых, от чего там война, и взрослые ответили мне, что Чечня хочет отделиться от России. В политике в свои тогдашние 8-9 лет я смыслил мало, а вот географическую жилку уже имел, и по памяти представив цветную карту мира да мысленно нарисовав на ней ещё одну страну, я уточнил, как называется её столица. И услышав ответ, сперва не поверил ушам - разве может в жизни название быть таким говорящим?
Нынешний Грозный - в масштабах России небольшой (324 тыс. жителей) региональный центр. Но для Чечни он правда единственная и незаменимая столица. Чеченцы в районах, собираясь сюда, говорят просто "в Город", я бы сказал, городской уклад у вайнахов в принципе есть только здесь. В прошлых двух частях я рассказывал о самобытной культуре Чечни и её спорной современности, ну а в ближайших 4 постах расскажу про Грозный. И для начала попробуем абстрагироваться от мрачного прошлого и увидеть Город таким, какой он есть. В чём помогла мне "Неизвестная Россия" и её классический тур по Чечне.
Конечно же, город с таким названием не мог начинаться ни с чего, кроме крепости. Её заложил в 1817 году генерал Алексей Ермолов, очерчивая Сунженской укреплённой линией непокорный Кавказ. По-чеченски Грозный и ныне называется Сольжа-Кала, то есть Сунженская крепость. Крепостью и остаётся Город в глубине души, не убиваемой ни бурами нефтяных магнатов, ни вакуумными бомбами российской армии, ни ковшами экскаваторов кадыровской родни.
Ну а в крепость ведут ворота:
2.

Те, что на кадре выше - ещё советские, встречают у Бакинки (как тут по старой памяти называю трассу "Кавказ"), с юга обходящей город по касательной. Те, что на кадре ниже - очевидно новые, и ведут на восток: в Аргун, Гудермес, Шали и Чёрные горы Ичкерии. Рядом с этими воротами - и легендарная "Лента", единственный в Чечне сетевой супермаркет и единственное же место, где в утренние часы продают алкоголь.
3.

Гораздо интереснее эти ворота смотрятся снаружи - под левым пилоном там стоит надпись "Грозный", в буквах которой просматриваются фотографии Города разных эпох: дореволюционных домиков, обгорелых руин, нынешних небоскрёбов. Но увы, заснять ворота мне удавалось только изнутри - снаружи я видел их неизменно в сумерках. За воротами встречает Земшар с Полумесяцем на орбите, до недавнего времени опоясанный надписью "Грозный - центр мира", смысл которой так же многозначителен, как и название "Война и мир".
4.

Арки, стелы, глобусы - при желании, о грозненских воротах можно было бы собрать отдельный пост:
4а.

В центре крепости же возвышаются башни - из любой точки Грозного, да и за многие километры из окрестных степей просматривается "Грозный-Сити" из 5 высоток от 56 до 145 метров. Это уже в чистом виде региональный гонор - в 2007-11 годах, когда всё это строилось, более высокими зданиями в России могли похвастаться только Москва да Екатеринбург. С тех пор, правда, подтянулись ещё Питер, Владивосток, Ростов-на-Дону и Саратов, да и в общем как-то оказалось, что в наши дни не такое уж трудное дело соорудиться небоскрёб.
5.

Высочайшая башня "Олимп" в 2013 году успела сгореть и при восстановлении сменить имя на "Феникс", но нам куда интереснее 120-метровая башня бизнес-центра, краешек которой тут выглядывает правее. На её дверях давно уже стала своеобразной достопримечательностью вот эта табличка, а в фойе в тихом тёмном закутке расположена касса - за 100 рублей любой желающий может подняться на одну из высочайших смотровых площадок России. Неспешный лифт привозит на 28 этаж, а тяжёлая дверь выводит на лоджию, опоясывающую 3/4 здания - закрытый сектор обращён в сторону резиденции Рамзана Кадырова, которую категорически запрещено снимать. Туристов, однако, пускают ещё выше, на вертолётную площадку, где за покоем атамана следит рыжебородый кадыровец в штатском. Оттуда и полюбуемся городом по часовой стрелке - каждый следующий вид будет правее предыдущего.
5а.

Сначала посмотрим на юг - именно в этом направлении лучше всего видно, как Грозный устроен. Высокие башни пусть не обманывают - столица Чечни представляет собой целый океан приземистого частного сектора, а большая часть многоэтажек группируется вдоль тройки улиц, меняющих названия по разные стороны Сунжи. Слева - улица Асланбека Шерипова, сохранившая советское название в честь предводителя красных чеченцев. В середине, правее белого каре Чеченского университета (основанного в 1938 году как пединститут) протянулась тихая Санкт-Петербургская улица. На карту своего города Кадыров нанёс это название тогда же, когда на далёкой окраине Петербурга появился Кадыровский мост: прежде она называлась Интернациональной. Ну а справа - главная ось Грозного, и как при Советах этот проспект не мог не носить имя Ленина, так и в послевоенной Чечне он может называться только и никак иначе проспектом Ахмада-хаджи Кадырова:
6.

Вдоль этих трёх улиц в город и приходила война, и из районов вдоль них - все те жуткие кадры с ошарашенными людьми, горелыми танками и крошевом руин. Цветочный парк у подножья Сити разбит на месте нескольких не подлежавших восстановлению кварталов, но была бы здесь не Россия, если бы из развалин не подняли храм - одним из самых заметных (и вдобавок явно старейшим) среди зданий до мозга костей мусульманского города остаётся собор Михаила Архангела, начинавшейся как казацкая церковь в 1868 году.
7.

Дальше видны ещё одни ворота - Грозненский путепровод пересекающей проспект железной дороги. Одну его сторону отмечает надпись "Пусть восторжествует справедливость", другую - "Он ушёл непобеждённым". Кто "он", чеченцы и русские не сходятся во мнении: для одних это, конечно же, взорванный на стадионе ровно 17 лет назад Ахмат, а для других - командовавший Первой кампанией генерал Анатолий Романов, тоже взорванный прямо под этим мостом 6 октября 1995 года. За путепроводом раскинулось другое место из новостей - площадь Минутка, от довоенного вида которой не осталось, натурально, ничего. Долгое время это был просто гигантский пустырь с автокольцом, но теперь на нём строятся многоэтажки-"ворота" пугающе ближневосточного вида:
8.

Но переведи взгляд чуть вправо и влево - и будет лишь хаос крыш частных домиков, уходящий за горизонт. Левее проспекта из этих торчит торчит новодельная толстая башня - часть развлекательного комплекса на даже не различимом отсюда Чернореченском пруду, который чеченцы гордо зовут Грозненским морем. Башня явно строилась с расчётом на восприятие из Сити - только в эту сторону из Грозного виден Кавказ:
9.

По большей части скрытый Сунженским хребтом, образующим южную границу города. В балках этого хребта, на Новогрозненских промыслах, в 1910-20-х годах добывали нефть англичане из Royal Dutch Shell, а номерные посёлки-"участки" были примечательны Английскими домами, доломанными пару лет назад при восстановлении города. С 2019 года достопримечательность того района - "Лестница в небеса", смотровая площадка на Гребне, особенно зрелищная по ночам. Но я, увы, на неё не доехал.
10.

Теперь посмотрим перпендикулярно городской оси, вдоль Алханчуртской долины, меж двух Гребней уходящей к Кабарде. Этот вид в Грозном самый трагический - вон те бескрайние пустыри с одинокими трубами остались от крупнейшего, наряду с Омском и Уфой, нефтехимического комплекса во всём СССР. С середины ХХ века заводы работали на привозном сырье, и потому независимой Ичкерии нужнее были в качестве металлолома, а для российской армии превратились в такую же мишень, как и жилые дома. Но дома государство восстановило, а вот нефтегазовые компании в Чечню теперь и палкой не загнать - из всей грозненской индустрии восстановлена лишь небольшая ТЭЦ. Ближе видна железная дорога, по которой в 1893 году сюда и пришла индустриализация - вокзал и первая скважина в Грозном, на виднеющихся вдалеке белым пунктиром Старых промыслах, появились с разницей в несколько месяцев. До войны линия тянулась сквозь Грозный из Беслана в Гудермес, но теперь здесь тупик, причём - со стороны Гудермеса: от Моздока до Грозного поезд описывает форменную спираль. Вокзал 1890-х пережил войну, но пал жертвой боьбы за мир - вон те краны у правой границы кадра торчат на его месте. В 2017 та же участь постигла вокзал в Гудермесе, и как и там, скоро на его месте вырастет что-то большое и блестящее.
11.

Стройплощадка на переднем плане же символизирует Ахмат-Тауэр - жить во втором по высотности городе России Разману явно понравилось, поэтому с 2016 года напротив "Грозный-Сити" по проекту авторов дубайской "Бурдж-Халифа" строится небоскрёб наподобие вайнахских башен, в котором будет 102 этажа и 425 метров.
11а.

Прогресс строительства можно оценить невооружённым глазом - он нулевой. В отличие от внешне почти готового ТРЦ "Грозный-Плаза" с мостом-в-никуда над быстрой коричневой Сунжей:
12.

За которой город продолжается всё таким же одноэтажным. На полпути от центра до вокзала, в бывшей Грозненской станице Терского войска, примечательна мечеть Дени Арсанова, с перерывами на войну строившаяся в 1989-2014 годах. Проводниками ислама в Чечне считаются мятежные шейх Мансур и имам Шамиль, но как бы не больше тут сделали миролюбивые суфийские проповедники - Кунта Кишиев (адепт багдадского ордена Кадырия) и Дени Арсанов (адепт бухарской Накшбандии). Первый проповедовал в Кавказскую войну и в конце концов был арестован, второй был крупнейшим чеченским просветителем начала ХХ века, на горских съездах после революции представлял в одном лице интеллигенцию и духовенство, а убит был в 1918 году казаками, когда после серии стычек пытался помирить их с чеченцами. Добиться строительства мечети успел на старости лет сын проповедника Ильяс:
13.

Между тем, обозревая город, мы вновь вернулись на его ось, перспектива которой с этой стороны упирается в Терский хребет, ограничивающий Грозный с севера. Проспект Кадырова же, перепрыгнув Сунжу, превращается в ни много ни мало проспект Путина - вопреки стереотипам про "царя", пока в стране, слава богу, единственный.
14.

По левой стороне проспекта тянется сталинская застройка, с войны разве что подрастерявшая декор. Чуть ближе, в одном с ними ряду, стоял огромный серый Реском, с подачи журналистов более известный теперь как Дворец Дудаева. Напротив же пейзаж изменился изменился до неузнаваемости - там раскинулись огромные, переходящие друг в друга площади Кадыровых - Ахмата-хаджи и его родича Абубакра, погибшего ещё в 2001 году. Первую занимают богоугодные органы - ведь Ахмат был суфийским муфтием, когда-то объявлявшим России джихад, но объединившимся с ней против ваххабизма. За кадром остались муфтият и исламский университет, а здесь как на ладони "Сердце Чечни" - законченная в 2008 году мечеть с высочайшими в Росии (по 63 метра) минаретами. Площадь Абубакра Кадырова - огромное пешеходное пространство, на котором сверху видна карта Чечни с границами районов и красным пятнышком Грозного: мы - натурально в геометрическом центре республики. Дальше на одной линии стоят Чеченский драмтеатр имени Ханпаши Нурадилова в советском здании (1977), Национальный музей (2012) с куполом меж 4 башен и острый обелиск Мемориала Славы имени Кадырова (2009-11), по совместительству выполняющего роль и памятника Великой Отечественной:
15.

Санкт-Петербургскую улицу за Сунжей продолжает проспект Махмуда Эсамбаева (назван в честь чеченского танцора балета), тенистый "арбатик", на кадре выше уходящий между высоток за белым зданием Кабмина. Перед его фасадом просматривается памятник Борцам с терроризмом (2010) и типовая стела "Город воинской славы", а левее выглядывает мэрия - в основе, между прочим, уцелевшая с дореволюционных времён. Но виды на север испорчены соседними, причём более высокими башнями отеля "Грозный-Сити" (137м) и ЖК "Феникс" (145м). На последнем, обратите внимание, тоже есть смотровая площадка, а с неё не только ничего не загораживает город, так ещё и впечатляют виды прямо сквозь циферблат. Однако туристов туда не пускают:
16.

Между башен просматривается пара университетов - мусульманский (на кадре выше с зелёными крышами) и нефтяной. Последний был основан в 1920 году, успел дать немало выдающихся кадров советской нефтянке (например, Виктора Муравленко, в честь которого есть город на Ямале), а до войны радовал глаз конструктивистскими корпусами. Восстановили его первоначально настолько уродливым, что кажется, даже Рамзану было на это противно смотреть - и вот буквально накануне поездки фасады здания были перестроены, а на месте невнятного тубуса на углу выросла вайнахская башня из стекла и бетона:
17.

Фасад ГГНТУ глядит на улицу Сайпуддина Лорсанова, ранее Красных Фронтовиков, переименованную в честь майора милиции, погибшего в бою с террористами в 2007 году. В неё за рестораном "Глобус" и мостом переходит улица Шерипова. Мост по старинке называют Трамвайным - хотя и он сам построен заново, и трамваев в Грозном с 1995 года нет. Лучше виден, впрочем, другой мост - на Запретном острове в сунженской старице раскинулся самый настоящий восточный дворец, и думаю, вы уже поняли, кто в нём обитает.
18.

Я, конечно же, нарушил запрет и сумел не попасться - и очень надеюсь, что после этих фоток мне не придётся с извинениями удалять эти посты:
19.

Вся эта роскошь появилась где-то на рубеже 2000-2010-х годов, и структурой своей - парк со множеством отдельных особняков, - совсем не удивляет после шахских дворцов в Тегеране: у Рамзана есть мать Аймани, жена Медни, 4 сына, 6 дочек и 2 приёмных детей, а те уже начинают обзаводиться семьями. За воротами с парой вайнахских башен высится дворец, здорово похожий на резиденции Назарбаева или Каримова, но более всего из чудес Запретного острова впечатляет мечеть по образцу Каабы:
20.

Их сфотографировать не так уж сложно - куда строже следят за расположенными чуть в стороне особняками:
21.

Выходящими уже за пределы Запретного острова. Саму резиденцию окружает "буферная зона" размером примерно 1х1,5 километра, хорошо заметная на яндекс-картах характерной "брешью" в сетке панорам. Считается, что на всей этой территории запрещены любые фото- и видеосъёмка, а сами улицы за несколько кварталов от резиденции впечатляют своей пустотой. Один раз, в совершенно ничего не предвещавшем месте у Дворца культуры, мне преградил дорогу вышедший из будки неподалёку бородач, а на вопрос "Там прохода нету?" лишь очень многозначительно покачал головой.
22.

На кадре выше хорошо просматривается мощный проспект Мухаммеда Али, до 2016 бывший улицей Кирова: Грозный среди городов России выделяется крайне специфической топонимикой в духе исламской глобализации. Однако именно на том проспекте стоит Русский театр имени Лермонтова, за которым высится Ахмат-Арена (2011) - главный чеченский стадион. К театру прилагается памятник Лермонтову (2012), но с тем же успехом театр мог бы называться Вахтанговским - Евгений Вахтангов из Владикавказа в 1904 году дебютировал как режиссёр именно на грозненских нефтепромыслах, в рабочем театральном кружке. Отдельное здание для театра в Грозном впервые построили в 1928 году, ещё через 10 лет сам театр был учреждён официально, а Лермонтовским стал в 1941 году. Тогда же, на заре театра, в нём работал Александр Гинзбург - малоизвестный драматург, ещё не ставший бардом Галичем. В 1990-х и русская труппа покинула Грозный, и здание было разрушено войной, так что в 2005 году театр под тем же названием фактически создавался с нуля. Русский он теперь по языку и репертуару, а коллектив - почти сплошь чеченцы:
23.

Напоследок - "выстрел" ультразумом над крышами дворца, почти строго на восток, где два Гребня сходятся к стрелке своих рек. На фоне холмов хорошо виден Аргун, город-спутник Грозного (39 тыс. жителей) с собственным Сити - на самом деле обычным кварталом многоэтажек, манхэтанном кажущимися лишь посреди сёл. Гораздо интереснее то, что ближе - отмеченная белым храмом Дмитрия Донского (2008) военная база Ханкала, преемница ермоловской Грозной крепости, обнесённый стенами и минными полями русский город посреди Чечни, основанный в 2000 году на месте советского аэродрома. 19 августа 2002 года под её стенами погибло 127 солдат из подбитого боевиками вертолёта Ми-26, с огромным перегрузом (на борту было 142 человека) экстренно севшего прямо на минное поле. Годом ранее над Ханкалой был сбит Ми-8, на борту которого были два генерала, а вот на саму базу боевиками не удавалось прорваться ни разу за все 9 лет КТО. По переписи 2002 года в Ханкале жило 6,5 тыс. человек, и среди них было лишь 24 чеченца.
24.

Полюбовавшись городом с высот, спустимся на его улицы. В основном Грозный примерно такой - его пейзаж довольно экзотичен для России, но досадно обычен после любой мусульманской страны от Узбекистана до Турции.
25.

И вопреки расхожему (в том числе среди самих чеченцев) мнению, что Грозный после войны построен с нуля, в этот пейзаж вплетено не так уж мало привычных советских зданий:
26.

Если в центре пятиэтажки убраны в ориентальные фантики, то ближе к окраинам они точно такие же, как в вашем районе:
27.

Да и грозненские дворы не слишком отличаются от дворов в любом другом российском городе. Ну, на детских площадках тут пестрее и шумнее - поскольку в чеченских семьях редко бывает меньше трёх детей. Ну, подъезды все хоть и снабжены кодовыми замками - а демонстративно открыты на распашку, а на их первых этажах стоят не пристёгнутыми коляски и велосипеды. Уклад жизни у чеченцев другой, в нём смешались исламская мораль, тейповый баланс и братство переживших войну, но на градостроительство всё это никак не влияет.
28.

Несколько холёных центральных улиц да пяток высоток - на самом деле, в Грозном нет ничего такого, чему мог бы завидовать среднестатистический областной центр. Просто его, как и Москву, редко фотографируют "с человеческим лицом".
29.

А по окраинам нет-нет да разверзнется пустырь на пару кварталов - вот у этого пересохшего фонтана есть брат в бывшем Ленинакане:
30.

Я категорически не понимаю, как у кого-то вообще поворачивает язык завидовать чеченцам. Да, в Грозном, Аргуне или Шали больше ярких красок и современных, хотя и безобразных по качеству (вспоминаем пожар на "Олимпе") материалов, но ведь и восстанавливали всё это из непригодных для жизни руин отнюдь не по стандартам 1960-х. Если условный Воронеж будет разрушен падением метеорита или случайной детонацией атомных бомб пролетавшего мимо "Белого Лебедя", лет за десять его точно так же отстроят просторным, сверкающим и цветным. Вот для примера - Невельск на Сахалине, вполне себе этнически-русский городок, разрушенный в 2007 землетрясением и восстановленный примерно в одно время с Грозным. Да, Невельск-Сити на суровом берегу, конечно, не отгрохали, но и живёт там 10 тысяч человек...
31.

Я не знаю, кто и когда прилепил к Грозному образ сказочного города, построенного русскими рабами на позорную ордынскую дань. За пределами холёного центра - те же пыльные улицы, вытоптанные газоны, хаос рекламы, тесные магазинчики типа сельпо. А главное - люди живут тут всё равно довольно бедно. При ордынском иге русские мастера ездили строить Сарай, теперь же чеченцы ездят на заработки по городам России.
32.

Тем более не стоит завидовать грозненцам, если вы варламит-урбанист. На центральных улицах, конечно, стоят симпатичные модные остановки - но подходят к ним в лучшем случае потрёпанные жизнью ПАЗики, а чаще и вовсе наджас-эль-газзаль (поганая газелятина, по-нашему говоря):
33.

Загородный транспорт в пределах Чечни за редким исключением работает по заполнению. "Газели" дешевле, но наполняются дольше, и скажем в Шатой на такой редко уедешь раньше полудня, а в Шарой они не ходят вообще. Но достаточно выйти с огороженного перрона на тротуары близлежащих улиц - и там найдутся столь знакомые по Средней Азии "коллективные такси" на 4 пассажиров. Всего в Грозном 4 автостанции - Северная, или Центральная (с междугородними автобусами), Южная, или Минутка (на фото), Западная (где-то на окраине)...
34.

...и Беркат, о котором стоит рассказать подробнее. Само это слово - арабское, и значит примерно Благодать. Беркат - это настоящая Сердце Чечни, грандиозный восточный базар, куда из города и сёл ведут буквально все дороги. В том числе - знакомая нам улица Лорсанова, отделяющая торжище от музея и театра.
35.

И это не тот самый рынок, на котором в песне Лизы Умаровой грустный гармонист играл на радость измождённым войной людям. Сердцем военного Грозного был Старый рынок, ныне застроенный почти без следа между проспектом Путина и мечетью Арсанова. А Беркат "в прошлые, прекрасные года" был заводом "Красный Молот", который начинался в 1896 году с мастерских купца Фаниева при нефтепромыслах. В 1914 году разросшееся предприятие было куплено всероссийской компанией "Молот", а при Советах стало флагманом нефтяного машиностроения страны. Его продукцию вроде скважинной арматуры покупали 34 страны, самой щедрой из которых была Саудовская Аравия. Для оборонки "Красный Молот" делал топливозаправщики, для населения - стиральные машины, а уж в своей отрасли по многим пунктам был уникален: так, только здесь в СССР производилось оборудование гидроразрыва пластов и добычи сланцевой нефти.
35а.

К концу советской эпохи на "Красном Молоте" работало более 5000 человек. После 1992 года ведущих специалистов и аксакалов производства всё чаще вызывал на ковёр Джохар Дудаев: в Ичкерии завод ремонтировал танки и БТРы и даже выпускал полукустарный чеченский пистолет-пулемёт "Борз" ("Волк") по образцу армянского К6-92, так же экстренно созданного ереванскими инженерами для войны в Карабахе. Тестировал образцы лично Дудаев (всё ж таки советский генерал!) на заднем дворе Рескома, но качеством раз за разом оставался недоволен - трудовая элита "Красного Молота" была представлена людьми советской закалки, хоть русскими, хоть чеченцами, которые, конечно, с властным Дуки не спорили, однако саботировали его военпром как могли. Завод это, увы, не спасло - в обе войны его площадку бомбили прицельно, а после люди долго разбирали лом.
36а.

К середине нулевых старые цеха затянула торговля, но в современной Чечне "Беркат" столь известен и привычен, что кажется, будто был он здесь всегда. В пределах завода рынку давно стало тесно - ныне он занимает территорию примерно 700 на 400 метров, из которых лишь чуть больше половины приходится на каре корпусов "Красного Молота".
36.

В первую очередь Беркат - рынок конечно же вещевой, и даже точнее - одёжный. Одежда самых модных брендов, вернее её копии с местных развалов - в Чечне часть стиля жизни. Но в общем на Беркате можно найти что угодно - от исламских магазинов до программистов-подёнщиков:
37.

Продуктовые ряды осторожно щемятся по краям, и на самом бойком месте почему-то продают соления:
38.

Мы с Ольгой, уже после поездок с "Неизвестной Россией", искали здесь кукурузную халву на сувенир и куриную ногу для супа, но не нашли ни того, ни другого - чеченская халва была в каждой лавке, но только пшеничная, а курица даже нарезанная не продавалась иначе как в полном составе, да и судя по размеру, за курицу тут выдают небольшого страуса. Зато попались нам неимоверная дорогая, ибо "только что из Турции" чурчхела да целая лавка тортов из чак-чака:
39.

Базарные едаленки носят названия вроде "Самарканд" и не менее чеченских блюд в них популярны узбекские.
40.

И в общем, Беркат впечатляет масштабом да положением узла дорог, но колоритом - скорее разочаровывает. Здесь не стоит ждать ярких красок, как на базарах Средней Азии - обычный постсоветский Центральный рынок, только очень уж центральный и очень уж большой.
41.

По соседству с Беркатом - новенький дворец единоборств. Пожалуй, единственное, чему в Грозном правда может позавидовать любой город страны - это обилие новейших спортивных объектов. Которые по сути тоже часть программы "замирения Чечни".
42.

Куда больше впечатлил меня Шашлычный городок на перекрёстке неприметных улиц Прохоренко и Южной - вопреки названию, на северной окраине:
43.

Не знаю, как он возник, но на целый квартал тут вместо жилых домов стоят шашлычки из тенистых двориков и индивидуальных кабинок на компанию гостей. В одной из таких мы ужинали с "Неизвестной Россией", и "сочный, мощный" - вполне правдивые характеристики здешнего шашлыка.
44.

Чем ещё запомнился мне Грозный? Как ни странно - запахом, не слишком приятным, но отчётливо оседающим в памяти. Чем пах разрушенный Грозный - я лучше не буду говорить, а вот отстроенный Грозный пахнет строительной пылью и нефтью, за век разработок так пропитавшей здешнюю землю, что в 1990-х её добывали из колодцев в обычных дворах да перегоняли на кустарных заводиках. Нынешний город честно пытается быть человечным:
45.

Но здесь всё равно неуютно - пустые пространства, заборы и стены "секретных локаций", сельва частных домов, ни на год не прекращающих строиться, общая атмосфера то ли необжитости, то ли чужбины...
46.

Когда-то я писал про Степанакерт, что он куда больше похож на центры российских национальных автономий, чем на столицу непризнанной страны. О Грозном я бы сказал прямо противоположное - по духу это и впрямь столица маленького, может быть даже непризнанного, но безусловно постсоветского государства.
47.

Довершают такую картину портреты Отца, его цитаты да лозунги "Ахмат - сила!" в самых неожиданных местах:
48.

Отдельно стоит рассказать о ещё паре деталей грозненского пейзажа. Первая - это плакаты с различными аспектами вайнахской культуры, по большей части сосредоточенные вдоль городской оси.
49.
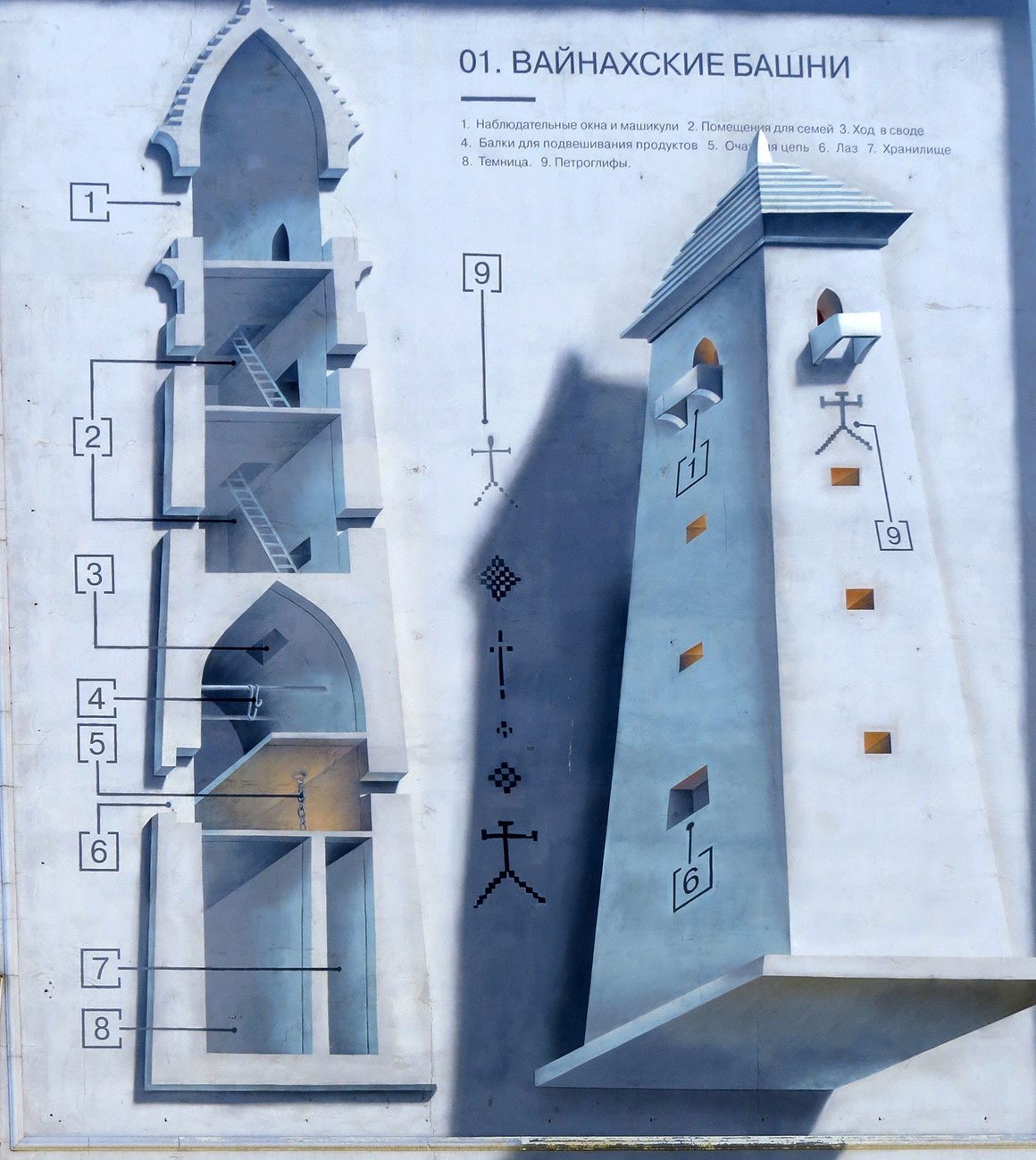
Сразу два - на проспекте Путина, дополненные рестораном национальной кухни "Жижиг-галнаш" по соседству:
50.

51.

Кинжал же прилагается к мемориалу Ахмата Кадырова. Обратите внимание на группу туристов - по воскресениям их по Грозному ходило много, по большей части из районов Чечни и соседних регионов.
52.

О том, какой ценой это далось, напоминают вот такие плакаты на проспектах Кадырова, Путина и Эсамбаева. Прошлое в теперешней Чечне не отрицают, и весь здешний официоз, что я видел (то есть - эти фото да зал музея) держат строгий нейтралитет. Разрушение города российской армией тут не пытаются ни забыть, ни оправдать, а вместо этого акцентируются на том, как быстро и красиво город был восстановлен.
53.

Да и как его замалчивать?
-Нам дом в войну четыре раза разрушали. Последний - в 2004-м. Тогда прилетела к нам ракета с вертолёта, пробила потолок и стены, но не взорвалась. Может, так и было задумано - военные вечером приехали её забирать, а я им говорю - нету, улетела куда-то, не знаю куда! А на самом деле как только ракета остыла - я её сразу в машину положил, поехал куда надо и продал. А в новостях тогда написали, что проведена операция по ликвидации террористов. - рассказывал мне местный житель, ни коим образом не террорист. Но его случай хотя бы курьёзный, а куда чаще подобные случаи были трагическими.
54.

В следующей части - про город, которого нет.
54а.

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Урус-Мартан и Шатой.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Серноводск и Сунжа (Ингушетия). Спорный район двух республик.
Ингушетия
Общий колорит, а также Малгобек и Галашки.
Магас и окрестности.
Назрань и окрестности.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.
|
Метки: Зона заражения Молох Кавказ Вечность пахнет нефтью дорожное |
Чечня. Приручить волка. |

В Чечне сложно отделаться от ощущения, что находишься за границей, в каком-нибудь постсоветском азиатском -стане. Всепроникающий ислам, хиджабы и бороды, портреты "одного и второго", обилие военных, не совсем привычная архитектура, байки вернувшихся гастрбайтеров и почти абсолютная мононациональность - кажется, ничего, кроме русскоязычных надписей и рублёвых ценников не напоминает о том, что здесь та же страна, где Архангельск и Владивосток. Прошлая часть была посвящена истории и наследию вайнахов (чеченцев и ингушей), теперь же поговорим о чеченских реалиях.
Жившие небольшими тейпами (кланами) в труднодоступных горах, испокон веков вайнахи были обречены на "трофейную экономику": набеги значили для них примерно то же, что промыслы для поморов. Россия, получив таких подданных, последовательно перебрала все способы обращения с ними: не связываться (работало только до покорения Закавказья), изолировать (не помогло), взять под жёсткий контроль (работало лишь с аулами, но не абреками) и даже - изгнать на погибель: жертвами депортации в Казахстан в 1944 году стала четверть вайнахов, и лишь в 1958 году Хрущёв вернул им даймокх (родину). Чечено-Ингушская АССР, не совпадавшая с организованной в 1944 году Грозненской областью, тогда была воссоздана, причём остались в ней три района Ставрополья. Чернозёмную степь чеченцы получили вместо гор: селиться выше 1500 метров над уровнем моря теперь им негласно запрещалось. Но картинки счастливой советской Чечни без бород и хиджабов столь же обманчивы, как и картинки весёлого шахского Ирана. Чеченским селянам было трудно переучиваться из чабанов и землепашцы, а вернув их в ЧИАССР, Никита Сергеич не позаботился о создании там новых рабочих мест. Интеллигентный интернациональный Грозный, мозговой центр советский нефтехимии, окружало бедное и патриархальное село, выходцы из которого ездили по Союзу на вахты и шабашки. И - мечтали о мести за руины родовых аулов и безымянные могилки родных у стылых шпал.
1а.

Как и всюду на просторах Необъятной, это прорвалось Перестройку. С ноября 1990 года митинги сотрясали Грозный не хуже, чем Вильнюс или Ереван, и идеологами этих митингов были поэт Зелимхан Яндарбиев и старейшины тейпов, на чью молодость выпали ужасы депортации. Вскоре с авиабазы под Тарту вернулся в даймокх генерал стратегической авиации Джохар Дудаев по прозвищу Дуки, красивый и харизматичный лидер, а что от госстроительства далёкий - казалось, не беда!
2.

В июне 1991 года власть в республике взял Общенациональный конгресс Чеченского народа, а 1 ноября новоизбранный президент Дудаев провозгласил независимость Республики Нохчичой (нохчи - самоназвание чеченцев). Герб вождю нарисовала супруга Алла (в девичестве - Куликова), дочь коменданта острова Врангеля. На гербе был волк, с которым всегда отождествляли себя кочевники и горцы, а 9 звёзд значили 9 тукхумов - племён, субэтносов исторических областей, в которые группировались полторы сотни чеченских тейпов. Общий с ингушами (которых чеченцы называют "десятым тукхумом") Орстхой жил на Ассе и Фортанге, его представители слыли беспокойными и непокорными, их мужчины носили длинные волосы, а пленных не клеймили, а брили налысо. Теперь их земля - Галанчожский район без единого жителя: необитаемый со времён депортации, на бумаге он был возрождён в 2012 году. К Орстхою относилась и долина Нашха - прародина вайнахов, ну а сам Дудаев был из орстхойского тейпа ялхорой. Восточнее лежали земли Акки - эти первыми спустились с гор, и с 16 века по большей части живут вне Чечни, близ устья Терека. Небольшой тукхум Малхиста процветал в доисламскую эпоху ближе всех к солнцу и богам, в самых верхних долина Аргуна. Ниже по Аругун жили 3 тукхума без ярких особенностей - Чантий, Терлой и Шатой. Шарой с Шаро-Аргуна и Чеберлой с озера Кезеной-Ам считались самыми архаичными из чеченцев с диалектами почти без заимствований. Но особое место занимал Нохчиймохк, чья земля в округе Ведено известна как Ичкерия. Во все времена это была самая развитая часть Чечни, центр её культуры, власти и литературного языка. Да и самыми влиятельными всегда были ичкерийские тейпы: Цонтарой начали переселение на плокость, Гандергеной были хозяевами советской ЧИАССР, а Беной - так и вовсе добрая четверть чеченцев. В 1994 году Нохчичой стала Чеченской республикой Ичкерией:

К 1992 году в Чечне жило 1,2 миллиона человек, из которых 68% были чеченцы, 18% - русские, 3% - ингуши (сама Ингушетия предпочла отделиться назад в Россию в 1992-м), по 0,5% на месхетинцы, армяне и украинцы и совсем уж по крошечным долям на все народы Необъятной вроде греков, татар или евреев. В наследство от СССР Чечня получила нефтепромыслы и явно избыточный для них комплекс нефтезаводов, совхозы, сады и плодородные поля. Ещё - арсеналы выведенной в 1992 году армии, из которых по республике тут же разошлись десятки тысяч стволов. Друг против друга чеченцы использовали их осторожно, так как кровная месть и круговая порука тейпов не потеряли актуальности ни в те времена, ни сейчас. А вот за нечеченцев мстить было некому - и любой выход из дома, любая ночь могли для них стать последними. В терских станицах это перешло в этнические чистки - скорее стихийные, но сколько людей тогда были убиты, похищены, замучены в рабстве - теперь вряд ли кто-то может сказать. Счёт беженцев из Чечни шёл на 6-значные числа, но уехать было всё труднее - как в вестернах, тут стали грабить поезда, вскоре переведённые на другие дороги. Вооружённая до зубов чеченская мафия распространялась по России (так, войной с ними "прославилась" Находка), как и для русского криминала Чечня превратилась в хаб наркотрафика, работорговли, угона машин. В таких условиях вставали заводы, отменялся транспорт, засорялись канализации, и даже национальная валюта нахар (официально равная доллару) так и не пошла в оборот.

На само клише "при независимости" нынешние чеченцы глядят скептически. Может, тогда и верили они, что Дудаев ведёт их к свободе, на которой заживём. Но 30 лет спустя все мои собеседники сходились на том, что кто-то тогда на крови делал деньги. А самый выгодный бизнес в любую эпоху - это поставки фронту...
2а.
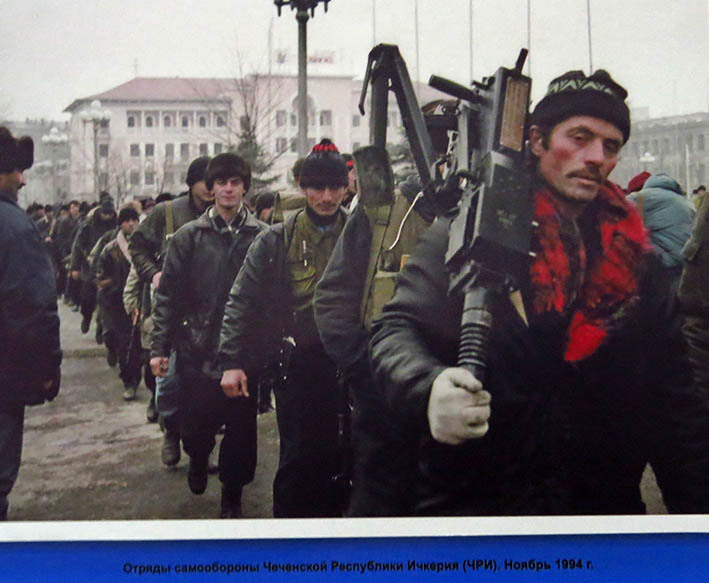
Нациестроительство в Ичкерии шло не гладко: чеченцы говорили мне про "четыре войны". Первой была гражданская, начавшая разгораться с момента Чеченской революции. Уже в марте 1992 года в Грозном провалился переворот, а весной 1993-го город был охвачен противостоянием Дудаева с парламентом, мэрией и конституционным судом. Дудаев ввёл прямое президентское правление, а подкрепил его отрядом боевиков, устроивших погром в зданиях оппозиции. Командовал теми боевиками чернобородый Шамиль Басаев из тейпа Белгатой, чей род слыл "русохвостыми", так как восходил к принятому в тейп дезертиру. Как и ДНРовские командиры, в мирной жизни будущий Террорист №1 был типичный неудачник: шабашил в волгоградскому колхозе, вылетел из московского вуза в первый же год, а после нескольких попыток бизнеса уехал в Чечню от долгов, где и нашёл себя, взяв автомат в руки. В ноябре 1991 года Басаев захватил в Минеральных Водах самолёт, слетал на нём в Анкару, там дал пресс-конференцию, а затем полетел в Грозный, где всех отпустил - по сути то была пиар-акций Нохчичой. В 1992 Басаев с отрядом воевал в Карабахе против армян и в Абхазии против Грузии, вернувшись в Чечню уже матёрым полевым командиром. И когда игра в демократию кончилась - "русохвост" стал "правой рукой" Дудаева. Не подчинился Дуки лишь Надтеречный район, где собирал силы Временный совет ЧР во главе с Умаром Авторхановым. Осенью 1994 года "ополченцы" при поддержке российской авиации и военных (например, танкистов Кантемировской дивизии) дважды пытались взять Грозный, но на первый раз отступили сами, словно по какому-то сигналу извне, а на второй раз были наголову разбиты - да так глупо и неизбежно, что поневоле в руководстве заподозришь саботаж. И признав невозможность "наведения конституционного порядка" руками чеченцев, московские власти двинули на Кавказ войска.
2б.

Так началась Первая Чеченская война, которую тут чаще зовут Первой кампанией. Или даже компанией, намекая на чей-то кровавый доход. Для чеченцев та война была отечественной: у них были мечта о независимой стране с большими запасами нефти, красавец-лидер Дуки, песни Имама Алимсултанова да Тимура Мацураева и память о полчищах, веками приходивших с плоскости. Селения превратились в подземные крепости под прикрытием жилых домов, и по воспоминаниям русских, осенью 1994 года в Грозном смолк детский смех - чеченцы вывозили семьи в горы. Боевики смогли даже наладить подобие военной промышленности - вот на фото кустарный пистолет-пулемёт "Борз" ("Волк").
2в.

Ну а российская армия в нескольких поколениях училась брать Берлин и добивать врага в его логовище. "Передайте
2г.
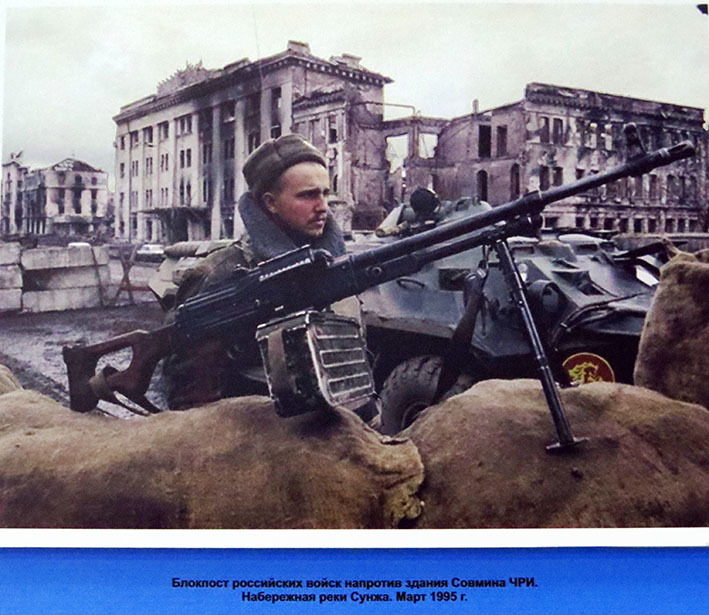
Но боевики из города не столько ушли в леса, сколько затаились в его подвалах. Под военными горела земля, схваченные на блокпостах без разбора чеченцы редко возвращались из фильтрационных лагерей живыми, а жертвами зачистки в Семашках стали сотни человек. Об этом, как и об изнасилованных горянках и проданных в рабство своими же командирами срочниках, мы знали из репортажей НТВ и "Коммерсанта": главным союзником Ичкерии были не аравийские шейхи и не западные спецслужбы, а российские же "независимые СМИ". Может и правы они были в том, что не стоило ту войну начинать, но ещё хуже было прерывать её на середине, в необходимости чего тогда убедили народ. Слова с экранов подкреплял террор: первый взрыв в московском ЖЭКе, прямо у меня во дворе, случился ещё в сентябре 1994-го. В июне 1995 года Басаев напал на Будённовск - сперва его боевики просто носились по улицам, стреляя в прохожих, а затем захватили больницу, куда тех увезли. В январе 1996 то же самое повторил Салман Радуев в дагестанском Кизляре. Одна атака унесла 129 жизней, другая - 78, но оба раза боевикам дали уйти безнаказанно. 21 апреля 1996 года Дудаев был убит ракетой с самолёта, наведённой по сигналу его спутникового телефона, но к тому времени хозяевами Чечни стали полевые командиры. Летом 1996 года они начали спускаться с гор, отбивая у "федералов" (это словечко - опять же от "свободной прессы") аул за аулом и к августу взяли Грозный. 31 августа Хасавюртские соглашения фактически признали независмости Чечни - Россия проиграла войну с одним из своих регионов.
2д.

Но какой ценой победили чеченцы? "Иди куда хочешь - с выпущенными кишками" - как бы сказал им Хасавюрт. В республике не осталось ни единого целого дома, ни единого работающего предприятия, царили беззаконие и нищета. Основой экономики стали торговля оружием, палёным бензином, наркотиками и рабами (коих похищали по всей стране), ну а националистов во главе с Асланом Масхадовым неуклонно теснили исламисты во главе с Басаевым, двери которым открыл всё тот же Яндарбиев. Выборы 1997 года выиграл Масхадов, в том числе - из-за распространявшимся по рынкам видео расправ Басаева над другими чеченцами. Но здесь был "прав тот, у кого ружьё": Масхадов боялся Басаева, и исламская Шура (Совет) быстро стала единственным реальным органом власти. С 1997 года в Ичкерии действовал только шариатский суд, а новый уголовный кодекс оказался идентичен кодексу Судана, где штрафы за преступления взимались в верблюдах. Суфизм, сплотивший чеченцев против России ещё в 19 веке, столкнулся с ваххабизмом - радикальным течением ислама, отрицавшим всё, чего не было при первых халифах. Например - чтимые склепы старейшин... Ваххабитом стал Басаев (приняв имя Абдаллах Шамиль абу-Идрис), а Кавказ наводнили террористы со всего мира - например "Чёрный араб" Хаттаб, как называл себя Самер Салех ас-Сувелейм из Саудовской Аравии, прежде успевший повоевать с советской армией в Афганистане и за "вовчиков" на Таджикской гражданской войне.
3.

Публичные порки и казни, рынки рабов и оружия среди обгорелых руин, дым кустарных нефтезаводов - такой была Чечня тех лет. Но главное - теперь вместо русских арабы учили чеченцев жить. При выборе "остаться собой в империи" или "раствориться в мусульманской глобализации" многим оказался ближе первый вариант. Например, верховному муфтию, суфию Ахмаду Кадырову, который и сделался опорой русских войск в сентябре 1999 года, когда ваххабиты Хаттаб и Басаев своим вторжением в Дагестан начали строительство Кавказского эмирата. Вторая кампания оказалась даже кровавее первой (в том числе по потерям среди федеральных войск), но я хорошо помню, насколько иным был её эмоциональный фон. Уже не натиск империи на свободолюбивых горцев, а оборона мирной жизни от всклокоченных чертей. Бои за Грозный опять развернулись к Новому году:
А на утро выпал снег
После долгого огня,
Этот снег убил меня
Завершил двадцатый век...
3а.
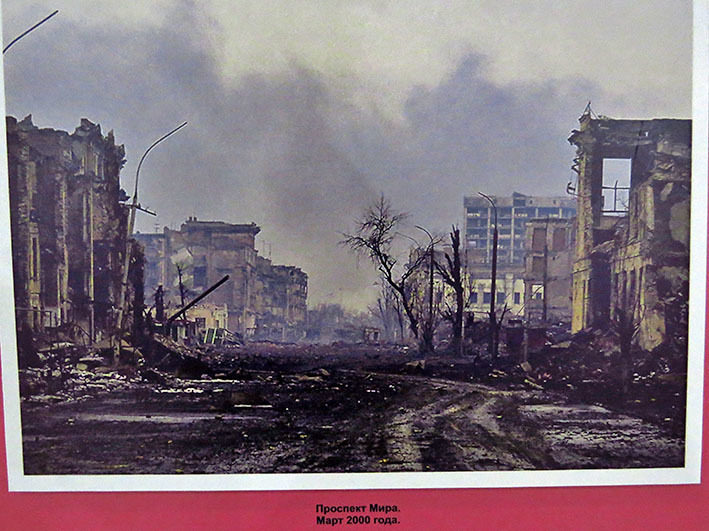
К концу весны федеральные войска в тяжёлых боях заняли последние горные аулы, и армейская кампанию сменила партизанская война, дополненная самым жестоким и циничным в мировой истории терроризмом - про Беслан я недавно писал, а ведь он был лишь кульминацией. Но Салман Радуев в 2000 году был схвачен, в точности по Путину, в сельском туалете и вскоре умер в соликамской тюрьме "Белый Лебедь". Хаттаб в 2002-м отравился ядом, подсыпанным в письмо. Масхадов в 2005-м попал в засаду под Толстой-Юртом, а в 2006 и на Басаева управа нашлась: тогда Шамиль получил из Грузии полный "Камаз" взрывчатки... с детонатором от ФСБ, и взрыв на окраине ингушского села Экажево разметал "террориста №1" в радиусе двух километров. Однако на переднем крае войны с терроризмом теперь стояли не срочники из Читы и Рязани, а - другие чеченцы: 9 мая 2004 года на грозненском стадионе был взорван Ахмат Кадыров. Пик террористической войны достался функционеру Алу Алханову, пока готовился к президентскому креслу Ахматов сын Рамзан.
3б.

В 2007 не стало и Ичкерии, окончательно превратившейся в Кавказский эмират (в 2014 и вовсе присягнувший ИГИЛ*-ОЗвР), "подданными" которого были несколько сотен абреков в лесах. Да и те в 2010-х годах ушли в Сирию, где им охотно мстили пророссийские чеченцы. 16 апреля в Чечне теперь называется День мира - в эту дату в 2009 году был снят режим КТО. Так закончился самый кровавый из постсоветских конфликтов: сколько жизней он унёс, власти то ли не смогли подсчитать, то ли засекретили - по оценкам, около 100 тысяч, из которых от 1/10 до 1/4 пришлось на военных и столько же на боевиков, а остальными погибшими были мирные жители.

О былом напоминают кладбища. Тонкие пики, иногда с флажками или флюгерами, стоят над могилами тех, кто погиб на войне с Россией.
4.

Самих же следов войны в республике почти не осталось - единицы разрушенных зданий:
5.

Да пара дорог. Железную от Грозного до Сунжи так и не восстановили...
6.

...а вот автомобильную от Итум-Кали до границы - напротив, построили боевики как новое окно в мир.
7.

Самый разрушенный город мира был отстроен за несколько лет:
8.

Типичный чеченский райцентр теперь - это переходящий в окрестные сёла частный сектор, посередине которого над широкую площадью стоят "сити" (квартал многоэтажек) и гигантская мечеть:
9.

Параллельно в республике шла целая кампания по примирению кровников, коих много оставила война.
10.

Типичный вид чеченских сёл - кирпичные дома и высокие заборы да плетево газовых труб вдоль безупречно чистых улиц:
11.

Как говорили мне местные, в отпуске чеченец не отдыхает, а с утроенным усердием строит дом:
12.

Типичная вайнахская усадьба (часть кадров - из Ингушетии, где они такие же) выглядит примерно так:
13.

А "лицо" её - пышные ворота:
14.

15.

16.

"Довоенные" дома попадаются дай бог один на сотню. Говорят, лет 5 назад всё это выглядело "макетом республики в натуральную величину", но видимо просто чеченцы успели обжиться - у меня совсем не было ощущения декораций.
17.

Сёла тут впечатляют обилием скотины, и с 38% городского населения Чечня - регион абсолютно аграрный. Местные продукты хороши, но - редки. Отличные и абсолютно оправдывающие своё название лимонады "ЧИАССР" и халяльные колбасы Аргунского мясокомбината почти вне республики, а когда в одном из магазинов нам попались местные пряности, гидесса сразу пояснила, что это редкость, и надо их хватать.
18.

Единственное, что так и не было отстроено в Чечне - это заводы. Сейчас здесь тихо, но инвесторы явно не уверены в том, чего ждать через 20-30 лет. Вот так теперь выглядит крупнейший в СССР нефтехимический комплекс:
19.

Приметой независимой Ичкерии были кустарные нефтезаводы: за век добычи постоянные утечки нефтепродуктов образовали тонкий горизонт выше водного слоя, и грозненцы рыли у домов колодцы, черпали жижу вёдрами да заливали установки наподобие огромных самогонных аппаратов: технология не сильно изменилось со времён братьев Дубининых из Моздока. Конечно, это было губительно для экологии, но в 1990-х многие семьи выживали, торгуя бензином у дорог. Ныне в Чечне почти нет сетевых заправок, так что кустарная перегонка не исчезла - просто ушла в тень:
20.

В целом, капитальность домов и блеск небоскрёбов пусть не обманывают: Чечня - один из беднейших регионов России. На улице тут явно преобладают женщины, а мужики всегда расскажут о том, как они ездили "в Россию" на заработки. Мне говорили, конечно, о профессиях вроде строителей или шофёров, но не секрет, что и на грани криминала (типа коллекторов) местных ждут: даром что многих "клиентов" даже бить не надо после фразы "я чечен!". В республике главным в портфолио остаётся тейп - клановая система никуда не делась и по-прежнему абсолютно актуальна. Читал, что даже большинстве земель в Чечне не распределены - права на них определяются неофициально. У меня сложилось впечатление, что "Ты с какого тейпа?" не принято спрашивать попусту, но обязательно - если по делу. То и дело в Чечне всплывают идеи как-то зарегулировать эту систему, например формируя по тейповой квоте парламент. И ещё тейпу - это не только взаимопомощь, но и взаимоконтроль: худшие из чеченцев, от которых даже свои отреклись, неизменно оказываются в других регионах.
21а.

О том, что мир хрупок, напоминает обилие вооружённых людей - полицейских, росгвардейцев, военных, особенно заметных у больших дорог. К гостям они корректны, а вот местных могут изрядно тряхнуть в любой момент. Де-факто в Чечне и законы строже, так как всякое преступление вплоть до карманной кражи тут интерпретируется как подготовка теракта.
21.

Силовиков тут столько, что не редкость такие вот таблички на дверях:
22а.

Кое-где попадаются самые настоящие крепости:
22.

Особое место занимают "кадыровцы", все как на подбор с острыми носами и рыжей бородой. Изначально они были этакими пророссийскими боевиками, а затем легализовались как батальоны Росгвардии "Север" и "Юг", передушив другие центры силы вроде братьев Ямадаевых из Гудермеса. Как мне объясняли, кадыровцы ходят в штатском, а выдают их номера машин из трёх одинаковых гласных или "КРА" (инициалы Рамзана) да общая уверенность в том, что они здесь закон.
23.

Кроме того, в Чечне и подоходной налог по факту 18% - 5% свего дохода местные жители отчисляют в благотворительный Фонд Кадырова, публичная деятельность которого включает как помощь малоимущим, так и строительство мечетей и приглашения в Чечню западных звёзд. Чем впечатляет Чечня на фоне остальной России, но совсем не удивляет после Азербайджана или Турции - это масштаб культа личности:
24.

Ахмат Кадыров здесь Отец, который ценой своей жизни покончил с ваххабитской напастью и принёс в Чечню мир. Выходец из тейпа Беной, он родился в 1951 году в Караганде, а уже в 1980-х вновь уехал в Среднюю Азию, в бухарское медресе Мири-Араб в Исламский институт Ташкента. С падением "железного занавеса" Ахмат Абдулхамидович продолжил учёбу в Иордании, и в дудаевскую Чечню вернулся как видный богослов. С началом войны он стал верховным муфтием и провозгласил джихад, вот только был Кадыров суфием из хаджи-мюридов (см. прошлую часть). Уже в 1999 году он объявил родной Гудермес "территорией, свободной от ваххабизма", и отвергнутый Масхадовым, обратился за помощью к Путину. Теперь в Чечне про него поют эстрадные песни и пишут книги, любая уважающая себя организация рано или поздно меняет название на "Ахмат", а слоган "Ахмат - сила!" выскакивает из-за каждого угла.
24а.
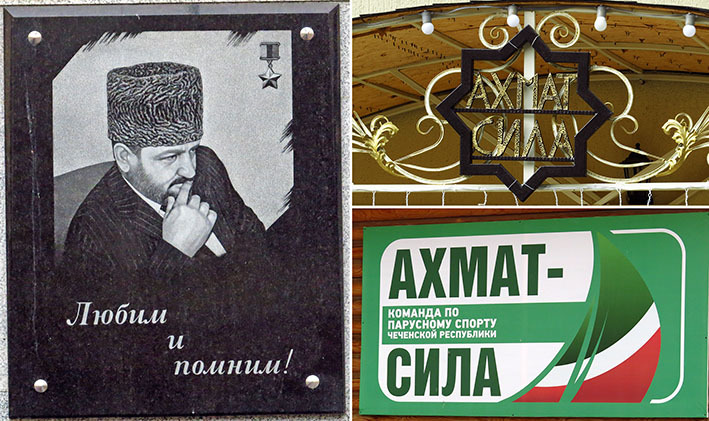
Рамзан, младший сын Ахмата, родился в 1976 году в Чечне, и в 20 лет стал при отце главным телохранителем. В 2000-х он возглавил кампанию по переходу боевиков на сторону России и примирению кровников. "Кадыровцы" - отряд именно Рамзана, а не его отца.
25.

Скажу неприличную в обществе российских интеллектуалов вещь, но мне "батяня-Рамзан" симпатичен. Это безмерно архетипический образ - грубоватый, неотёсанный, жестокий вожак, бесконечно верный тем, кто ему верен. Не абрек, не имам-фанатик, а "батька-атаман", как где-нибудь в казачьей вольнице.
25а.

Ведь в сущности, кем были казаки? Разбойниками, бежавшим от государства, которых государство однажды смогло приручить, направив их удаль в нужное русло. Кажется, в том и идея Путина - сделать чеченцев "новыми казаками" России, которых можно бросить и на чужие берега, и на беспорядки дома. Идея потрясающе смелая, ну а верная ли - покажет только время.
25б.

Добавьте к этому то, что мощнейшая огневая поддержка из всех информационных орудий прославила чеченцев на весь мир как лучших в этом мире воинов. Даже афганские пуштуны ставят ночхи выше себя, а персы-шииты их панически боятся. Столичному интеллигенту совершенно не очевидно, как всё это выглядит из Тегерана или Эр-Риада: Кадыров - это голос России на весь исламский мир. Многие его экспады играют совершенными иными красками: например, "Боевая пехота Путина" накануне Сирийской войны была явно таким вот посланием, равно как и тысячи чеченцев, якобы вторгшись в Донбасс. Даже миф о "дани Кадырову" тут в плюс - ведь он наделяет чеченцев субъектностью. На самом деле, по данным минфина в переводе на человеческий язык, Чечня получает из бюджета немногим больше, чем соседнее Ставрополье, а на душу населения самой тяжкой данью Россию обложили камчадалы, якутЫ и чукчи.

* - Минфин в этой таблице приводит, правда, только часть дотаций, но при сравненнии региональных бюджетов пропорция схожая.
На просторах Чечни тут и там новодельные башни - символ вайнахской идентичности:
26.

В быту и общении чеченский язык тут безусловно преобладает. Не говорящих по-русски людей мы в Чечне не встречали, но явный акцент здесь почти что у всех. Иное дело надписи - визуальная среда Чечни абсолютно русскоязычна. Мне намекали: "когда мы пытаемся на своём языке писать - война начинается", но кажется, тут больше иррационального - даже объявления, даже надписи на заборах тут всегда русскоязычны.
27а.
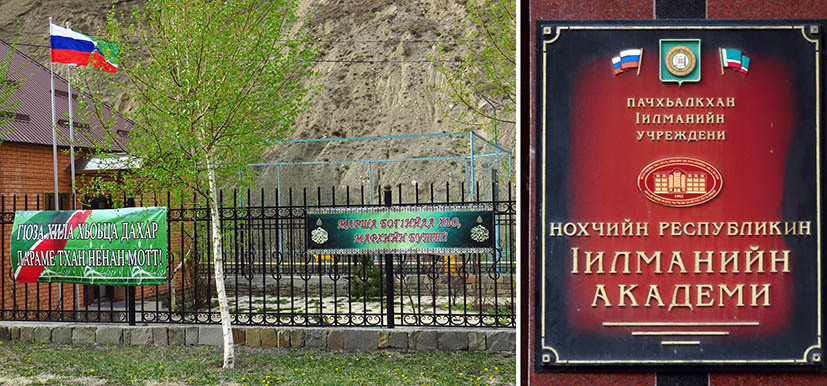
При Дудаеве чеченский язык переходил на латиницу, но сейчас он отличается от русского единственной буквой - "палочкой", которую иногда на письме заменяют единицей. Как произносится "палочка" - я так и не понял: при переносе здешних терминов в русский язык она просто из них исчезает. На чеченском я видел лишь два типа надписей - дубляж вывесок госучреждений и различные лозунги, причём последние, как правило, без дубляжа.
27.

В особенности - исламские лозунги на зелёных дорожных табличках, видимо олицетворяющих великий автобан до рая:
28.

Чечня впечатляет концентрацией мечетей, которая явно скоро приблизится к турецкой. Как весьма солидных (а эта ещё и типовая - я видел таких штуки 3)...
29.

...так и совсем крошечных:
30.

Будка из профлиста, обращённая в сторону Мекки - это тоже мечеть:
31.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что чеченцы - самой набожный народ всего экс-СССР, может наряду с таджиками. Зная об этом ещё до поездки, я был уверен, что их такими сделала война. Но сколько ни пытался я аккуратно расспросить об этом - мне говорили, что так было "всегда", то есть как бы не со времён шейха Мансура. И даже якобы напротив - сейчас молодёжь стала падкой до многочисленных соблазнов, а так-то ещё в советской школе учителя имели указание в Рамадан втюхивать детям конфеты. Доводилось даже слышать, что сами горские адаты (народные законы) во многом совпадают с шариатом и почти не противоречат ему. Молящиеся прямо на улицах люди, проповеди в магнитолах машин, строгий и почти всеобщий Рамадан - здесь к этому привыкаешь быстро:
32.

Исламская медицина, будь то хиджама (кровопускания) или изгнание джиннов чтением Корана, здесь как бы не популярнее современной.
32а.

Как и исламский магазины - такой же привычный жанр, как например хозяйственные. А вот при виде "Ленты" на окраине Грозного чеченцы неизменно расплываются в заговорщической улыбки и поясняют, что только там во всей республике продают алкоголь - с 8 до 10 утра, и только туристам, командировочным и особенно - воякам с базы Ханкала. Чеченцам продавать никто не запрещает - но если соплеменники узнают, то будет большой позор. И всё же пару раз чеченцы признавались мне, что тайком и чуть-чуть выпивают по праздникам. А в продуктовых магазинах, говорят, ценник товаров со свининой помечают специальной табличкой - но я, кажется, вообще здесь не видел таких.
32б.

Я был здесь ещё и в дни Рамадана, которые тут называют просто Ураза (Пост). И хотя я не припомню закрытых кафе, солидарность прохожих такова, что на улице желание есть или пить как-то само пропадает. Рамадан ещё и месяц милостыни, поэтому таксисты в это время частенько подвозят бесплатно, а заведения делают скидки:
33а.
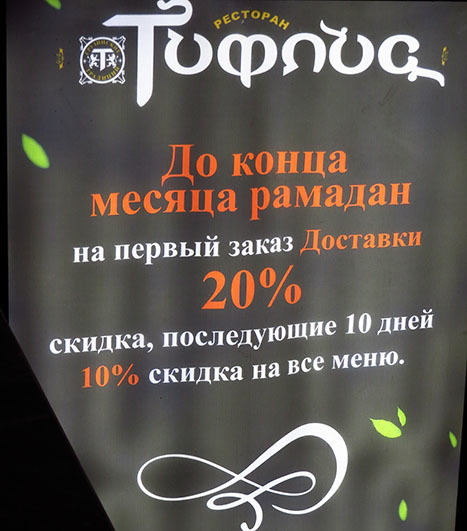
На перекрёстках под вечер полицейские раздают коробочки иранских фиников и бутылки с водой - для вечернего разговения.
33.

Но я не знаю, чего в этой взаимопомощи больше - исламских добродетелей, кавказских обычаев или братства людей, переживших войну. Вот на Бакинке (как называют тут трассу "Кавказ") стоят турецкие и среднеазиатские фуры - стоят днями и неделями, когда из-за обвалов закрывают Военно-Грузинскую дорогу. Шофёры в них просто живут, и живут даже не так уж плохо - работодатели платят им зарплату...
34.

...а местные снабжают едой и водой. Перепало и нам, когда мы спустились на трассу ловить попутку - между фур затесалась пара грузовых "Газелей", из которых тут же выскочили двое чеченцев, и делая вид, что не понимают по-русски, вручили нам чёрный пакет. Вот его содержимое:
34а.

Близость исламского мира тут проявляется и в заметном присутствии ближневосточных товаров - как например арабские духи:
35.

Или саудовское безалкогольное пиво:
36.

Но Запад не забыт: в Евросоюзе живёт порядка 130 тысяч чеченцев (и ещё 100 тыс. - в Турции), и это абсолютно обособленная община, не тяготеющая ни к "русским", ни к ближневосточным "беженцам".
36а.

Там немало тех, с кокм воевал Кадыров - чеченская мафия на Западе известна настолько, что даже Бэтмен в "Тёмном рыцаре" с ней воевал. Да и теракты уже случались.
37б.
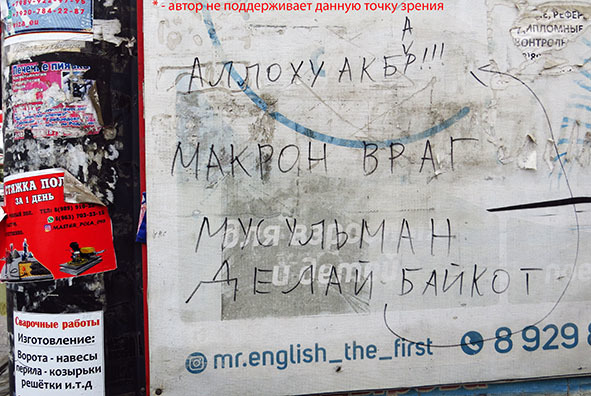
В целом же в Чечне не покидает ощущение того, что тут все друг для друга свои. Каждый просто знает, что с любым прохожим у него наверняка есть общие знакомые, а может быть и дальняя родня. Маленький и замкнутый народ со своим батькой-атаманом.
36а.

Какими мне запомнились чеченцы? Вопреки стереотипам о суровых горцах - народ жизнелюбивый, общительный и даже весёлый. Всё это накладывается на восточную учтивость, но только без восточного пустословия - "правило трёх отказов" тут явно знают, но не припомню, чтобы после первого отказа отзывали предложение назад.
37.

Другая неожиданная черта - перфекционизм во внешности, особенно мужской. Даже у работяги или чабана тут будет свежая и выглаженная одежда, причёсанные волосы, постриженная борода и чистая машина. Как-то русская женщина рассказывала мне про бывшего мужа-чеченца, который не мог выйти из дома с катышками на носках. И, конечно же, на всех одежда лучших мировых брендов из лавок грозненского базара Беркат:
38.

Воинственность же проявляется в другом: у переживших свои войны таджиков или армян слова об этом не вытянешь, а чеченцы охотно рассказывают, с какой горы обстреливали их аул и что стояло вон на том углу в прекрасном довоенном Грозном. Войну они вспоминают, конечно, с содроганием, но себя в ней не считают проигравшими. Или - пытаются не считать.
39.

Возможно, у Кремля тут стратегия более долгая - приручив воинственный народ, его можно попробовать размягчить спокойной, размеренной, полной материальными благами жизнью. Тем более нации воинов легко перерождаются в нации торговцев - как евреи, армяне или татары... И я совсем не исключаю, что через веков всюду от модных променадов Киншасы до обветшалых небоскрёбов Осаки чеченцев будут знать как прирождённых дельцов.
40.

Чеченки часто выглядят по всем канонам мусульманского дресс-кода:
41.

Но чаще одеваются примерно как русские женщины в старом кино - в длинные платья да косынки. Мужчину в шортах тут не увидишь никогда, а простоволосую женщину - нередко:
42.

Молодые чеченки красивы, и красоту их даже не назвать "восточной".
43.

При этом тут строго следят за невинностью: в аулах практикуются даже "убийства чести" в пределах семьи. Есть тут и неофициальное многоженство (не через ЗАГС, а через мечеть), и скорее ритуальное похищение невест, и свадьбы на 500-600 гостей. Трое детей в чеченской семье - это мало, лучше пятеро и больше. Братья да родители селятся рядом, одним двором или в соседних домах по улице.
44.

Но в то же время чеченки охотно гуляют по городу, сидят в кафешках, водят машины. За работой я видел продавщиц, официанток и уборщиц. А вот администраторы гостиницы все были как на подбор бородачи, на вопросы о стирке белья брезгливо отсылавшие меня к горничной.
45.

Ну а русских в Чечне теперь немногим больше, чем в Армении или Таджикистане. Здесь странно видеть церкви и христианские кладбища. Русские люди нам попадались тут дважды - пограничники в Итум-Кали и седая казачка в станичной церкви. О жизни "при независимости" она рассказывала, плача, но теперь, кажется, кроме всё той же бедности, ей жаловаться не на что - их с мужем машина у церковных ворот стояла с распахнутыми дверьми.
46.

Дерусификация Чечни - это цена компромисса: можно было и ныне воевать, пока чеченцы не самодепортировались бы по планете, но сколько жизней с обеих сторон забрала бы такая война? Поверить, что мирная жизнь в Чечне наладится так, что туристы по ней будут ездить, как по Алтаю, ещё на моей памяти вряд ли смог бы самый анекдотичный ура-патриот.
47.

Есть ли здесь сейчас сепаратизм? Знакомый украинец рассказывал, что ему чеченцы в 2014-м прямо говорили: "сил накопим - и снова восстанем", но ведь они могли так угождать ему, как угождают нам словами о верности РФ. У меня сложилось впечатление, что в идеальном мире чеченцы предпочли бы жить независимым народом, но явно не так, как в 1990-х, когда они воевали если не с Россией, то между собой. В нынешней РФ жить, мне кажется, они вполне согласны - и не потому, что очень её любят, а потому что лучше русских знают цену тому, что здесь есть.
48.

|
Метки: Зона заражения Кавказ дорожное этнография |
Вайнахский мир |

Мне нравятся культуры маленьких воинственных народов - своей лаконичностью, логичностью и цельностью. Высокие цивилизации рефлексируют и плодят сущности, а степняки и горцы просто идут прямой дорогой, отсекая лишнее и доводя важное до совершенства. Описав в прошлой части своё путешествие по Чечне и Ингушетии (частично с "Неизвестной Россией"), рассказ о нём я начну не с городов и аулов, а с драматичной истории и самобытной культуры вайнахов.
Чеченцы называют себя нохчи, ингуши - галгай ("башенники"). Их языки взаимопонятны, и встречая друг друга вдали от "даймокх" (родины), они спрашивали: "вай нах?" - "нашего народа?". В 1930-х годах это слово полюбили этнографы, да и политики, наверное, не оставляли надежды слепить два народа в один. Вайнахская земля невелика - Чечня втрое меньше Подмосковья (16 тыс. км²), Ингушетия - и вовсе самый маленький регион России (3,1 тыс. км², чуть больше новой Москвы). И первая часть их - Плоскость, как со времён колонизации Кавказа тут называют степь:
2.

Краем земли для горцев служил Терек (на кадре ниже), зарождающийся у подножья Казбека (5034м, на кадре выше справа) и текущий в Каспий параллельно горам. Ближе к подножью, однако, есть ещё и Сунжа, его крупнейший приток. Уступая полноводностью Москве-реке, для вайнахов она - Нил и Волга: ведь любая долина, - Ассы и Фортанга, Шаро-Аргуна и Чанты-Аргуна, Валерика или Джалки, - неминуемо выводит к её берегам. Вдоль рек тянется Гребень - невысокие (700-900м над морем), но очень крутые, с настоящими перевалами и серпантинами, гряды Сунженского и Терского хребтов. Между ними лежит Алханчуртская долина, а за гребнем - плодороднейшая Чеченская равнина, и в совокупности долина Сунжи - самое густонаселённое место России, 230-250 чел/км².
3.

Ну а Горы Кавказа - величественная лестница хребтов. Главный хребет здесь целиком уходит в Грузию, высочайшие вершины, - чеченская Тебулосмта (4493м) и ингушский Шан (4452м), - лежат на пограничном Боковом хребте, а основная жизнь идёт в тёмных долинах Лесистого хребта, тут известного как Чёрные горы. В них же лежит Ичкерия с центром Ведено - зловещее с 1990-х слово означает всего лишь историческую область, для чеченцев во все времена служившую флагманом. На старых картах и вовсе есть горская Ичкерия, а есть её колония на плоскости - Чечня:
4.

Подобно горным рекам, вайнахские племена зарождались высоко в горах, но всегда стремились на плоскость. Тут скажу вещь странную: тысячелетиями вайнахи были самым слабым из окрестных народов. Нет-нет, силу и отвагу отдельно взятого горца я ни в коем случае не умаляю, и при прочих равных вайнахи побеждали что черкесов, что кумыков, что грузин. Вот только этих "прочих равных" почти не случалось: вайнахи не имели царей или ханов, высшей формой их организации был тейп. Его слагали дозьал (малая семья), ца (большая семья - "люди одного дома"), некъя ("люди одной дороги"), гар и вар (ветвь рода и сам род), ну а тейпу дать определение не могут ни сами вайнахи, ни их исследователи. Ближайший аналог - клан, где люди скорее земляки, чем родичи вплоть до права "усыновлять" инородцев (русских дезертиров Кавказской войны, например), но их связывают круговая порука, обязательства взаимопомощи и кровной мести и равенство в правах. У каждого тейпа были свои гора, некрополь, башня, тептар (летопись) и фост (тамга), каждым тейпом руководили выборные кхел (Совет старейшин), хъальмчха (староста) и баьччи (военачальник)... но выше тейпов у вайнахов не было по сути ничего.
5а.

Тейпы группировались в племена - чеченские тукхумы и ингушские шахары, - но и те скорее субэтносы исторических областей, чем политические союзы. В теории, иногда созывались всенародные кхел (совет) и кхеташо (суд) и даже избирался дай (вождь), но когда это было последний раз - аксакалы не вспомнят... Едиными для всех вайнахов оставались религия и устные кодексы чести (чеченская кьонхалла и ингушский эздел), которые регламентировали этикет и народное правосудие. И как бы не был отважен кьонах (витязь) или эзди (мужчина), пределом возможностей для его народа оставались задачи, решаемые силами тейпа. "Твоим сарбазам нет числа / Они как волны моря, мы - скала" - поётся в одной чеченской песне, и в этом суть: хозяевами плоскости оставались ханы и цари, а вайнахи лишь держали оборону в голодных горах, где не выжить без набегов. Кульминация такого образа жизни - абреки, странствующие разбойники горных лесов, живущие вне закона. Первоначально - вне закона гор: абреком называли изгоя, от которого отрёкся его тейп. Но с годами, особенно под Россией с её плоскостными законами, абреки превратились скорее в партизан (хотя и не гнушались грабежами, рэкетом и похищениями людей), а в памяти народа - и вовсе в мстителей. Казбич из "Героя нашего времени", убитый чекистами в 1976 году за рытьём своей могилы старик Хасуха Магомедов, боевики эпохи КТО (конечно, за вычетом басаевских и хаттабовских отморозков) - оружие и снаряжение менялись, но оставалась суть.
5.
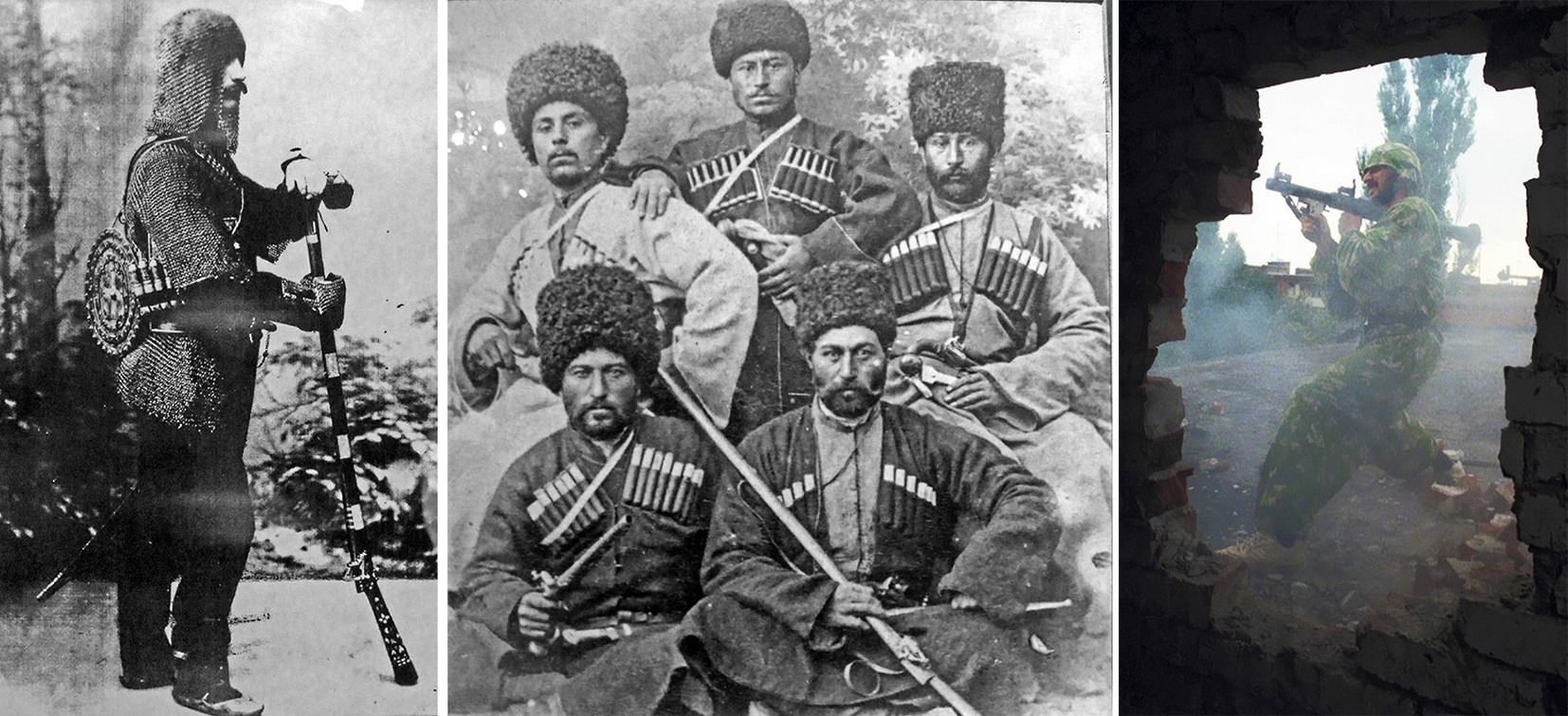
Точкой отсчёта вайнахов считается кобанская культура с обилием медных украшений и топоров, но вредные генетики недавно опровергли их родство. Откуда вайнахи пришли на Кавказ - теперь никому не известно. И одни на основании пары общих слов называют чеченской империей Урарту, а другие выводят родословную ингушей от шумеров и фригийцев. Чуть правдоподобнее тут смотрится Кавказская Албания, крупнейшим народом которой были гаргары, языком и ареалом правда схожие с вайнахами. Но была Албания их первой попыткой спуститься с гор или напротив, горы стали их прибежищем с её упадком - и ныне можно лишь гадать по полёту орла.
6.

Достоверно же вайнахи появляются на исторической сцене где-то в 7 веке, грузинам известные как дзурдзуки и глигвы, а армянам - как нахчаматьяне. Страдало от них Закавказье - ведь к северу от гор лежала бескрайняя степь, а в ней кочевники сами на кого хочешь набегут. Первой в 9-10 веках навела там порядок Алания, могущественное христианское государство, наследие которого вайнахи теперь оспаривают у осетин. С Аланией горцы как минимум дружили - пока цвёл стольный Магас, они переселялись с гор в плодородную долину Сунжи. То был золотой век, но закончился он вместе с Аланией. Чеченцы любят вспоминать, как предки их когда-то наваляли Чингисхану, не решившемуся воевать в горах. На самом деле ни монголам, ни Тамерлану это было попросту не нужно: плоскость и так осталась за ними, а с тех, кто ушёл в горы, было нечего взять. Среди тех беженцев была и какая-то знать - в 15 веке в арабских хрониках ненадолго появляется небольшое горное государство Симсир в Ичкерии, но судя по всему, хватило его ненадолго. Для вайнахов наступили тёмные века глухой обороны, тейповых распрей и отчаянных набегов на Грузию:
7.

Вновь выглядывать на плоскость вайнахи начали лишь через несколько веков. Первых переселенцев повёл вниз полумифический Тинавин Виса из тейпа Цонтарой, а уже в 1570-х годах князь Ших-мирза Окоцкий из самой дальней чеченской "колонии" Аух близ устья Терека принял русское подданство. И хотя Окоцкое княжество покорили в 1610-х годах кумыки, чеченцы оттуда уже не ушли: теперь за место под степным солнцем они боролись с кочевниками на равных. Кумыки отступали, но в те же времена на Терек и Сунжу пришёл третий народ - казаки:
8.

Первые сведения о терских, или гребенских казаках восходят чуть ли не к 15 веку, и по самой романтической версии это ушкуйники с покорением Новгорода ушли вниз по Волге сквозь руины Золотой Орды. Достоверно то, что к 16 веку казаки на Гребне были многочислены, боеспособны (известно как минимум 4 острога) и зажиточны - так, вайнахи на равнине покупали у них скот и учились с ним обращаться. Из всех казачьих вольниц, однако, терская была самой опасной, и потому в придвинувшемся Русском царстве гребенцы увидели не угнетателей, а союзников. Центром экспансии стал Терский городок, многократно разорявшийся и менявший место от нынешнго Грозного до устья Терека. Датой его основания, а заодно и старшинства терских казаков, условно считается 1577 год. Общим врагом казаков и вайнахов тогда были кумыки и персидский шах, и на пару сотен лет между Терским городком и Чечен-Аулом установился баланс сил с оживлённой торговлей.
9.

В 1722 году гребенцы стали регулярным казачьи войском, которое в 1730-х дополнили Терско-Семейные казаки с Дона, в 1760-х - крещёные осетины Моздокской бригады, с прибытием новых донских и волжских частей разросшейся в полк. В 1774-м всё это присоединили к Астраханским казакам, а в 1786 учредили Кавказское линейное казачье войско: ужиться на Гребне становилось всё труднее. Де-юре Чечня и Ингушетия вошли в состав России в 1774 году как часть Кабарды (князья которой считали вайнахов своими подданными), а вот де-факто всё было сложнее: чеченцы принимали русское подданство в 1627, 1645, 1657 годах, а восставали - в 1708 (тогда их поднял беглый башкир Мурат Кучуков), 1728, 1734, 1757, 1787-89, 1807 годах... Стоит ли говорить, что в обоих случаях это была инициатива отдельных тейпов или их небольших союзов: русские чиновники не могли договориться с вайнахами просто потому, что договариваться было толком не с кем. До конца 18 века горцев предпочитали обходить стороной, но Россия проникала в Закавказье, и вот уже "соловьи-разбойники" сидели на дорогах в пределах страны, а жертвами любого набега делались русские подданные. Новой стратегией стала изоляция: в 1783-1803 годах была построена серия укреплений у Военно-Грузинской дороги, а в 1816 году Алексей Ермолов начал сооружение Сунженской линии. В её составе были основаны Грозный и Назрань, где крепость уцелело, как и более поздние крепости в Шатое и Ведено. Местные упорно называют их "крепостями Шамиля":
10.

К 1820-м годам набеги сложились, как ручьи в бурную реку, в тотальную Кавказскую войну. Стало ясно, что изолировать Кавказ невозможно, а значит - надо было его изменить. Штык и саблю дополнил топор: горцы нападали по им одним известным тропам, Ермолов же пробивал к аулам просеки, позволявшие быстро перебрасывать туда отряд с тяжёлым оружием, который мог сжечь целый аул или взорвать порохом башни. Россия вгрызалась в Чёрные горы, строя крепости всё выше и выше, и вот уже каратели могли дойти в аул раньше, чем горцы вернутся с набега. Вайнахская полицентричность тоже уходила в прошлое: теперь горцев сплачивал ислам... и личность духовного вождя, аварского имама Шамиля. Сердцем его Северо-Кавказского имамата стала непокорная Ичкерия, но отступление имама из Ведено в Гуниб и тамошняя капитуляция в 1859 году фатально подкосили боевой дух горцев. Многие тогда сложили оружие, иные - ушли в Османскую империю (хотя среди чеченцев этот исход был не столь массов, как у черкесов), а война вновь превратилась в цепочку восстаний - например, в 1860 (когда дело Шамиля пытались продолжить его "губернаторы"-наибы) или 1877 (под русско-турецкую войну) годах.

Последнее восстание подавлял Арцу Чермоев, чеченец-генерал русской армии, а сын его Тапа прославился в Грозном как нефтяной магнат. Просеки, разгерметизировавшие мир горных аулов, стали путями не только карателей, но и купцов, врачей, механиков. Всё больше горцев открывали бизнес на плоскости или шли на службу в русскую армию, к оружию, которое им и не снилось в горах. Пожалуй, самый спокойный период в истории Чечни и Ингушетии наступил в 1893 году, когда предгорья охватил нефтяной бум, а воевали с Россией лишь одинокие абреки, как например друживший с анархистами "чеченский Робин Гуд" Землихан из Харачоя:
10а.

Как и теперь, вайнахи расселялись по России: кто-то служил стражниками в русских городах (причём репутациях их была весьма специфической), кто-то бандитствовал на Дальнем Востоке. На фронтах Первой Мировой сражалась Кавказская туземная, а в народе просто Дикая дивизия из из 6 национальных полков: она показала себя одним из самых боеспособных формирований русской армии, но и что такое "набег горцев", познали тогда поляк, немец и румын. В полках действовал горский уклад с уважением к старшим и кровной местью, и хотя Георгия тут называли "джигитом", а Двуглавого орла - "курицей", после Февральской революции не бежал из Дикой дивизии ни один дезертир. В даймокх же всё было не так однозначно: немало тейпов разошлось между националистами (Горская республика Тапы Чермова), исламистами (Северо-Кавказский эмират Узун-хаджи Салтинского с центром в Ведено) и коммунистами (армия Асланбека Шерипова), но судьбу Кавказа тогда решили скорее деникинцы, Красная Армия да белые и красные терские казаки.
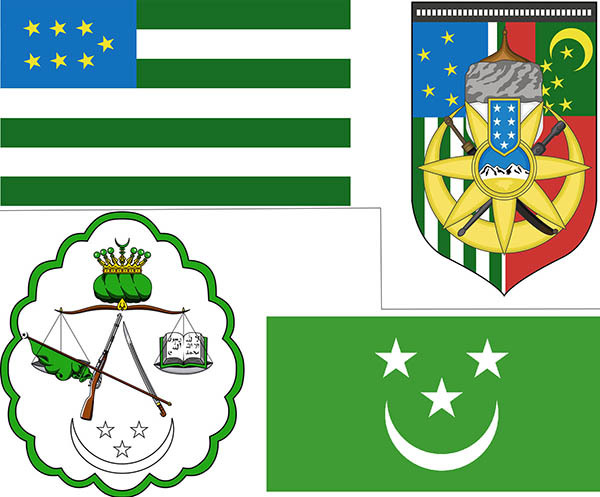
Те войны окончательно размежевали вайнахов. Лояльность ингушей с конца 18 века нарушило лишь несколько восстаний (например, в Назрани в 1858 году), но русская власть вместо благодарности раздавала ингушские земли казакам. В Гражданскую войну ингуши почти тотально сражались за красных. Советы сперва наказали казаков, выселив их с Сунжи за Терек, но к ингушам оказались не сильно благодарнее предшественников. Недолговечная Горская АССР уже в 1922 году была разделена на множество автономных областей разных народов, которые с 1930-х годов снова начали "укрупнять". С 1936 года галгаи были обречены стать ассимилируемым меньшинством в Чечено-Ингушской АССР, но и она просуществовала недолго...
11.

В Чечне все эти годы не прекращались восстания: в 1920-21 годах взбунтовался Саид-бей, внук имама Шамиля, в 1932 горцы дрались вместе с казаками, а в 1942 году чеченский поэт и журналист Хасан Исрапилов, прежде пострадавший за разоблачение коррупционеров, поднял мятеж в тылу у Красной Армии и отправил к немцам через фронт писателя Абдурхмана Автурханова. Помимо новоявленных "арийцев Кавказа" по горам ходило можество разбойничьих банд, к которым добавились ещё и немецкие диверсанты. Вермахт был остановлен на гребнях у Малгобека, на самом краю ЧИАССР, но уроженец другой стороны гор Иосиф Джугашвили (а по мнению осетин - и вовсе Иосиф Дзугаев) решил в "вайнахском вопросе" использовать самый радикальный метод - геноцид. Операция "Чечевица" готовилась тщательно и секретно, и когда ночью 23 февраля 1944 года несколько десятков тысяч солдат и чекистов пожаловали в ничего не подозревавшие аулы, их жители были застигнуты врасплох. Заодно с чеченцами в дверь постучали и ингушам, которых не спасла ни лояльность в Гражданскую, ни героизм в Великую Отечественную: тот самый Последний защитник Брестской крепости был ингуш Уматгирей Барханоев. Выселение с гор сопровождалось разрушением аулов, подрывом башен и мечетей, и конечно же - убийствами людей: где-то - из-за попыток сопротивления, а где-то чекисты просто предпочли всех расстрелять вместо конвоирования по горным тропам. Спустив вайнахов с гор, их посадили, или вернее туго набили в теплушки да повезли на восток, а следом за жителями аулов отправились туда чеченцы и ингуши из городов по всему Союзу и снятые с фронтов солдаты. Всего было депортировано почти полмиллиона человек, и при выселении, перевозке в нечеловеческих условиях и борьбе за выживание в морозной степи Казахстана погибло до четверти вайнахов: около 100 тыс. чеченцев и 20 тыс. ингушей.
12. мемориал в Назрани

ЧИАССР была упразднена: предгорная Ингушетия отошли в Северную Осетию, горы - в Грузию, Ичкерия - в Дагестан, а плоскость вместе с востоком Ставрополья и севером Дагестана стали Грозненской областью. В 1958, когда вайнахов реабилитировали, республику пересобрали в иных границах: в Осетии осталась часть бывшей Ингушской АО (и конфликт за неё полыхнул в 1992-м), а в новой ЧИАССР - три казачьих района вдоль Терека, из которых чеченцы вскоре почти тотально вытеснили русских. А главное - вайнахи возвращались с запретом жить выше 1500 метров над уровнем моря - то есть, они перестали быть горцами!

Нынешние Чечня и Ингушетия состоят из двух миров: прозаичная перенаселённая Плоскость...
13.

...и таинственные малолюдные горы, превратившееся в гигантский музей без шифера и стеклопакетов. "Экспонатов" гораздо больше в его ингушской части - ведь она пережила только депортацию, а в то время Чечня - ещё и Кавказскую войны и две Чеченских кампаний. Важнейший "экспонат" тут - конечно же, башни:
14.

Ни кто и когда придумал их так строить, ни когда возвёл каждую из них - историкам по сей день не известно, а разброс дат гуляет между 11 и 17 веками. Похожие между собой, вписанные в сложнейший рельф, вырастающие прямо из скал (строили их без фундамента), вайнахские башни кажутся скорее кремниевой формой жизни, чем творением рук. В биоценозе села Эгикал на кадре выше легко отличить друг от друга низенькие башни-склепы, широкие и приземистые жилые башни, огромные полубоевые (фактически, полноценные замки) и одинокую стройную боевую башню - бов.
15.

Классический бов имел квадратное сечение (по 4-6 метров в основании) и высоту от 12 до 30 метров. Первоначально они завершались площадками - плоскими или зубцами в углах. Позже так строили смотровые башни, которые располагались в прямой видимости друг от друга, а на площадках в случае опасности зажигались сигнальные огни.
16.

Другая ветвь - башни-в-скалах - с одной стеной (укреплённые пещеры, как например Нихалой в Аргунском ущелье):
17.

Или с тремя, как Ушкалойские башни чуть выше:
18.

Но классический бов выглядел так:
18а.
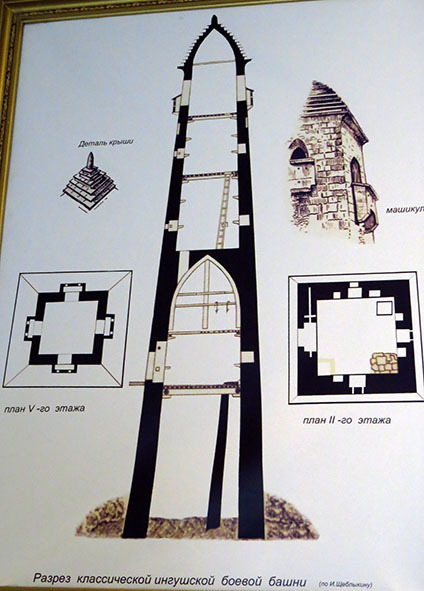
Нижняя часть, этакая "башня в башне" с каменными сводами, предназначалась для людей. Вход сюда был только по приставной лестнице через второй этаж, где жили хозяева, а в каменном мешке под ними сидели пленники или рабы.
18б.

Каменный свод был вторым рубежом обороны от врагов или огня. Выше, на 2-3 ярусах с деревянными перекрытиями и люками на противоположных углах (так что подъём вёл зигзагом), хранились припасы - на короткий набег, а не долгую осаду. Верхний этаж был боевым, и обязательно включал балконы без пола - вертикальные бойницы вдоль стен:
19а.

Завершала башню пирамидально-ступенчатая кровля, карнизы из сланца на которой защищали крышу от стекающей воды и предательски ломались под весом сумевшего туда влезть человека. На самом верху - цурку, "камень-бык", державший всю конструкцию: за его установку строителю давали быка. Вся башня стоила 50-60 быков, а возведением её занимались артели каменщиков под началом опытных зодчих, ходившие из аула в аул. Ценность этой профессии была такова, что зодчие освобождались от кровной мести - судить его мог только кхел. Башни строились без лесов, изнутри, с подъёмом камней краном-воротом "четырк". Но строились башни быстро - на возведение каждой из них горские обычаи отводили ровно год, и если артель не укладывалась в эти сроки - вина целиком ложилась на заказчика. Не закончив в течение года, артель уходила, а недостроенная башня бросала тень позора на род:
19.

Входы башен часто отмечали обереги-петроглифы:
19б.

Самые богатые из горцев строили полубоевые башни, где можно было и жить, и держать оборону, но большинство семей имели пару башен - бов для войны и гала для жизни. Жилая башня была ниже (10-12 метров) и шире (8-10 метров), и потому опиралась на эрдабоагу - несущий столб от основания до крыши
20.

Типичная гала имела 4 этажа: снизу вверх конюшня и хлев (служивший в том числе для обогрева), гостиная, мужская и женская спальни и кладовка.
21.

Иногда башни строились выше (крупнейшей в Вайнахии считалась 6-этажная башня в ауле Нихарой), но чаще - ниже, таким образом превращаясь в обычные дома-дворы с хозяйственным и жилым этажами:
22.

Интерьеры их были предельно просты - каменные стены, деревянные полы, а из мебели лишь сундуки да циновки. Лавки и столы сюда попали уже по "ермоловским" просекам:
23.

Сердцем вайнахского дома был кхерч - очаг или камин. Или точнее зы - священная надочажная цепь. Держась за неё, горцы приносили клятвы, отпускали пленников, прощали кровников и должников. Равно как и кровник, если бы сумел прорваться в дом к своему врагу и коснуться этой цепи, получал прощение.
23а.

Такие дома сотни лет не меняли хозяев, и даже родившись на плоскости, верный вайнах должен знать "свою" башню. Века набегов превратили многие башни в сокровищницы - вот например китайские и персидские статуэтки и 1000-летние светильники попали в назранский музей из чуланов простых ингушей:
24.

Основой хозяйства в горах было скотоводство и собирательство. Семья обычно держала пару коров на молоко, ездового коня для джигита и баранов на мясо и шерсть. Из войлока делалось и главное украшение дома - узорчатые истанги:
25.

Помимо вайнахов, в каждом ауле жили лай, дословно "терпилы" - рабы, которых не стоит путать с ясирами - пленниками за выкуп. Они были важной добычей набега, так как воинам в горах банально не хватало рабочих рук. Лай клеймился, был абсолютно бесправным (даже в случае побега к другому господину тот обязан был его вернуть), а получая вольную, не решался покинуть аул - ведь в горах он был никто, не имел права носить оружие, а стало быть уход от хозяин был сродни самоубийству. Освобождённый лай мог строить дом - но не достраивать его. Официально рабство здесь отменили в 1834 году, а по факту... вы и сами знаете.
Вот так примерно горные аулы могли выглядеть "при жизни":
26.

Во все времена они были невелики - 20-25 дворов с тесной планировкой. Большинство с 1944 года лежит в руинах:
27.

А те, что смогли возродиться - скорее россыпи хуторов в шаговой доступности друг от друга:
28.

Совсем иными были аулы равнин из сотен дворов с садами у широких улиц. С верандами и гендерным разделением комнат вайнахские дома на хаты казаков были совсем не похожи, и проще заподозрить в них влияние грузин:
29.

Да и остатки подобных домов я видел не столько на плоскости, сколько в предгорьях:
30.

Материалом их бывали и камень, и брёвна, но чаще всего - турлук: саман на каркасе из прутьев.
30а.
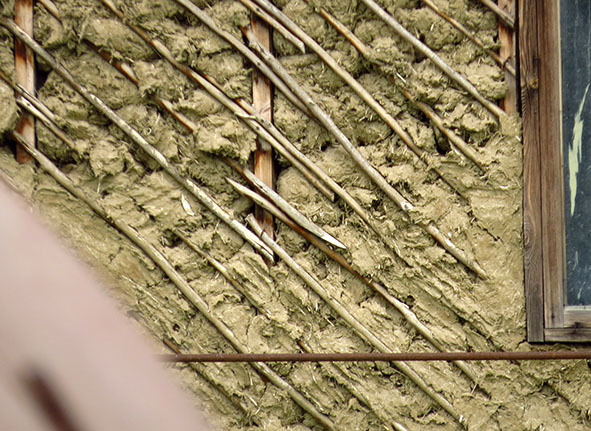
Предметы вайнахского быта: коксалаз (коньки), чарх (точилка), ага (переносная колыбель)...
31.

Салаз (сани) и ворда (арба):
32.

На заднем плане кадра выше - хара (огромная кадка из цельного дерева) и образцы местной керамики от кувшинов до труб.
32а.

Но ярче - медная посуда. У кувшинов, с которыми женщины ходили по воду, были свои нюансы-намёки - ведь основным местом контакта полов в горах служили родники и колодцы.
33.

А там и до свадьбы (ещё и с похищением невесты) недалеко... Как и всюду на Кавказе, культура вайнахов богата на танцы (правда, в основном заимствованные вроде лезгинки) или песни: например, хоровые "назма" или сольные баллады "илли" про кьонаха (молодца) с обилием различных канонов. Ещё - пародии на них: не вполне очевидно, но грозные чеченцы - очень юморной народ с многовековой культурой шуток и анекдотов, где на роль хоть Рабиновича, хоть чукчи были свои тейпы. На витрине: дичиг-пондар о 3 струнах (главный музыкальный инструмент вайнахов), кехат-пондар (гармонь, более популярная в ХХ веке), шедаг (свирель) и несколько чондаргов - смычковых инструментов размерами от скрипки до контрабаса.
34.

А вот кухня вайнахов впечатляет своей суровой простотой. Главное её блюдо - жижиг-галнаш: варёное мясо без специй, галушки из пшеницы или кукурузы, плошка бульона да чесночный соус.
35.

Ещё популярны плоские тонкие лепёшки - чепалгаш (с луком и творогом), далнаш (с потрохами), хингалаш (сладкие с тыквой и маслом), сискал (кукурузный хлеб, который принято макать в то-берем - творог со сметаной), кукурузная каша, колбаса или сушёное мясо, белый солоноватый сыр. На сладкое - не отличимый от татарского чак-чак или рассыпчатая халва, тоже пшеничная или кукурузная. Есть, наверное, и что-то ещё, но это меню любого кафе с национальным уклоном. И обратите внимание - главным злаком вайнахов была кукуруза, к появлению которой в Старом свете они как раз и сошли с гор.
36.

Народный костюм их менялся от эпохи к эпохе, и вот таким был Средние века, ещё не растеряв влияния Алании:
37.

Чеченские кафтаны 16-17 веков подозрительно похожи на униформу стрельцов:
38.

И лишь под Россией чеченцы переоделись в панкавказский костюм: мужские верта (бурка), чоьа (черкеска), туника (нюда) и каракулевая папаха, женские габали (свадебное платье) и рубаха с воротом (коч).
39.

Папаха у горца всегда была символом чести - иные снимали её лишь когда мылись, а сбить папаху было поводом для мести. Здешняя папаха - именно такая вот, тугая и каракулевая, и по легенде, это давным-давно дзурдзукская делегация ходила к Пророку, который дал им каракуль на обувь. Но обувь у мусульман презренна, и дар Пророка пошёл на шапки, в коих и ходят горцы до сих пор. Достоверно мусульманское происхождение имеет "пяс" (у ингушей - "фаза") - местную разновидность тюбетейки:
40.

Женским головным убором в наши дни стал хиджаб. Но ингушский символ - курхарс, остававшийся в ходу до 18 века "фригийский колпак" в виде знака вопроса, часто ещё и с серебряным зеркальцем на челе. Он был предметом роскоши - за такую шапочку давали двух коров:
41.

Женская доля у вайнахов вообще была парадоксальна. Женщина не имела в тейпе никаких гражданских никаких прав, но и считалась неприкосновенной вплоть до возможности разнять дерущихся мужчин.
42.

Ещё удивительнее то, что вайнахский фольклор полон преданий об амазонках "мехкари". Это слово означает "рождённая первой": якобы, в доисламские времена старшие дочери в семьях были военнообязанными (в основном как резервисты и конвоиры), носили короткие волосы и особую утяжку на грудь, а зеркальце на курхарсе придумали, чтобы ослеплять врага отражённым светом Солнца.
43.

Но если и были такие обычаи, в прошлое они ушли очень давно. На витринах - лишь украшения:
44.

45.

А украшения мужчины - вот:
46.

Ношение оружия у вайнахов было не правом, а обязанностью. При горце всегда были шьалта (кинжал) и пистолет, а тур (шашка) и ружьё брались только на битву. Самая запоминающаяся деталь черкески - бустамаш (газыри) для патронов. Кинжал окружало множество обычаев: вынутый из ножен, он мог вернуться туда только в крови, так что лишь мальчишка вынимал его попусту. В поединке допускались только режущие удары, в то время как колющий был "ударом труса". Сам кинжальный бой входил в состав латар-тохара - вайнахского боевого искусства, и по преданию, в стародавние времена "экзаменом" мастера был поединок со зверем вроде медведя или тигра.
46а.

И вайнахский костюм менялся именно вместе с оружием. Однако религия горцев прошла не менее мудрёный путь:
47.

Сейчас в это сложно поверить, но многие башни в горах строили христиане: между Аланией и Грузией вайнахи были крещены как бы не раньше русских, и уцелела с тех пор даже пара церквей - полуразрушенный Альби-Ерды и почти целый Тхаба-Ерды с грузинскими резьбой и барельефами. Внутри, однако, с грузинским храмом его не перепутать:
48.

Оттеснённые в горы и знавшие христиан теперь лишь как добычу, в 13-14 веках вайнахи вернулись в язычество. Их боги не делились на добрых и злых - только на Старших и Младших. К первым относились Дела, Села и Гела - демиург, громовержец и бог Солнца. Но столь же чтим был мудрый Эштр, бог смерти и хранитель страны Эл, куда отправлялись усопшие. Из женских божеств горцы особенно любили Тушоли - богини весны, чьим вестником служил удод. Богиням были отведены и напасти - Дарза-Нана ведала вьюгами, Уна-нана - хворью. Младшие боги же были покровителями - от заступника всех людей Мятцели до духов скалы или ручья. Сотворённый мир поначалу не умещался под небом, и Дела сжал его, образовав складки-горы, да укрепил скалами. Держать их помогают быки, выставившие условие не запрягать их по вторникам, которые стали выходным на полях, Днём быка. На пастбищах же суббота была Днём волка - когда-то человек одолжил у волка скот и не вернул, за что волки теперь мстят скотоводам. А вот ласка Борткий-Ширка обхитрил всех и даже легко снуёт между мирами. Следом за богами шли нарты - богатыри, общие для всего Кавказа герои безумно красивых былин. Землю населял целый паноптикум нечисти - вампалы (великаны) и "заячьи всадники" (злые карлики), убуры (упыри) и гамсаги (оборотни), саурмаги (драконы) и гарбажи (ведьмы-людоедки). Общались со всем этим знахарки, гадатели, а в первую очередь цайн-саги - тейповые шаманы, самые сильные из которых отличались деформацией головы.
49.

Кое-где по горам ещё стоят языческие храмы - как например Мят-Сели на Столовой горе в Ингушетии (кадр выше). Но они были домами богов, алтарями аулов же служили сиелинги - характерные столбики с нишей:
50.

На кадре выше такой стоит меж мавзолеев - круглые были индивидуальными, а прямоугольные "кашков" (иногда в виде башенок) - родовыми. Усопших в них не хоронили, а просто клали на полки (иные даже сами ложились туда умирать), и я с большим трудом нашёл кашков, где нету костей по колено. Но в старину среди этих костей, вместе с предками, заседали кхелы:
51.

У крупных тейпов кашковы слагали целые "города мёртвых":
52.

А вот кладбище неясного возраста и грубых плит без надписей и рисунков. И хотя в надгробия на переднем плане встроены плиты с мусульманской вязью, скорее всего изначально и это были сиелинги:
53.

Как и священная роща под Грозным превращена в зиярт - мусульманскую святыню:
54.

Второй раз прощаться с язычеством вайнахи начали где-то в 16-17 веках, а последний ингушский аул обратился в ислам в 1861 году. Ингуши гордятся былым язычеством и по-прежнему тайком ходят к знахарям и гадателям, чеченцы же страшно стыдятся того, что стали мусульманами позже Пророка. Ислам и связанная с ним глобализация обособили ингушей от чеченцев: до конца 18 века религия у вайнахов была делом добровольным (по крайней мере на уровне тейпов), и у одних так и осталась, других же сплотил газзават. У истоков его стоял пастух Ушурма из селения Алды - где-то в 1770-х годах он вступил в суфийский орден Накшбандия из Бухары да начал его проповедовать так рьяно, что вскоре стал первым имамом Кавказа и поднял народный мятеж. В грозненском музее молитвенный коврик его продолжателя - имама Шамиля:
55.

Ныне в Чечне более чтим Кунта-хаджи Кишиев - современник Шамиля, но не властный имам-воин, а странствующий проповедник-пацифист из багдадского суфийского ордена Кадырия. Впрочем, Кишиев много в нём переосмыслил: его последователей называли хаджи-мюриды, или зикристы - частью их молебнов был "громкий зикр", то есть круговое восхваление Аллаха, Пророка и святых. Пацифизм же был весьма условным - для самообороны Кишиев оставил хаджи-мюридам кинжал, которым владели они виртуозно. Ныне 65% чеченцев и 80% ингушей придерживаются кадырии, остальные - накшбандии, и именно для защиты традиционного чеченского суфизма от ваххабитов перешёл на сторону России муфтий Ахмат Кадыров. Зиярт Кунта-хаджи близ Ведено, ну а свастики, явно не имеющие отношения к Исрапилову с Автурхановым, тут отмечают множество могил. О пиках на заднем плане же уместнее рассказать в другой раз:
56.

Вид вайнахских мечетей узнаваем - прямоугольный зал да одинокий минарет над михрабом. Изначально минаретом была боевая башня, а мечетью - участок земли у подножья:
57.

Ну а ныне на одну историческую мечеть тут приходится штук 100 современных. У многих абсолютно православные главки - но подозреваю, дело только в том, что мусульмане заказывают их у тех же фабрик.
58.

Напоследок - образчик зодчества "независимой Ичкерии", особняки её главарей, в которых каждый прочитавший этот пост сходу опознает полубоевые башни. Увы, к моменту моей поездки подобные напоминания о былом искоренили без остатка, так что вот фото
 greedyspeedy из вот его поста от 2010 года.
greedyspeedy из вот его поста от 2010 года.58а.

Ну а о чеченской современности - в следующей части.
|
Метки: замки-крепости Кавказ природа дорожное этнография |
Кавказ - сила! |

Последним белым пятном на карте России для меня оставался Кавказ. То ли память о леденящих новостях и горячих ребятах, для которых я по юности был "нэмюжик", то ли какое-то несовпадение темперамента и мироощущения, а в этот безмерно колоритный многоярусный мир меня никогда не тянуло. Среднюю Азию, Дальний Восток, Крайний Север я узнал гораздо раньше, чем Кавказ, но в последний год миссию "если гора не идёт к Варандею, то Варандей сам должен пойти к горе" взял на себя
 rumata_anton и его проект "Неизвестная Россия". Ещё осенью я рванул из Сибири на Кубань покататься с ними по Апшеронской узкоколейке, ну а зимой как-то родилась идея отправиться в другой их классический выезд - в Чечню.
rumata_anton и его проект "Неизвестная Россия". Ещё осенью я рванул из Сибири на Кубань покататься с ними по Апшеронской узкоколейке, ну а зимой как-то родилась идея отправиться в другой их классический выезд - в Чечню.Друзья и родичи, далёкие от путешествий по России, из-за таких моих намерений, конечно, переволновались. Да и все знакомые путешественники в один голос советовали начинать познавать Кавказ с более ментально-близких республик. Контекстная реклама и вовсе приспамила "Ищете погреб или подвал?", и пожеланием удачи в грядущей поездке стало "Не погреба, не подвала!". Но где-то как-то я и до поездки знал, что в Чечню люди ездят уже не первый год, и возвращаются почти всегда в восторге. К 4-дневной программе "Неизвестной России" я добавил ещё пару дней на самостоятельное знакомство с Чечнёй и примерно столько же на Ингушетию, а из Северной Осетии посетил показанные в прошлых частях Беслан и Моздок. И сегодня расскажу не про аспекты и места, а про сам ход поездки.
Последнее путешествие благословенных доковидных времён я завершил поздней осенью 2019 года в Домодедово, куда прилетел из Владикавказа после автостопного броска с холодных плато Восточной Турции. Теперь я летел во Владикавказ из Домодедово над ранней весной Подмосковья:
2а.

Средняя полоса, или как говорят на Кавказе - Россия, провожала меня странными знаками:
2.

Иногда из бескрайней равнины проступали города. Вот например Новомосковск - станции Промгипсовая с соответствующим заводом:
3.

А вот однозначно Воронеж с его водохранилищем, и даже более конкретная его часть - Сектор Газа от Вогрэсовского моста до Чернавинской дамбы:
4.

Но если над Средней полосой светило яркое тёплое солнце, то на горах Кавказа лежала мгла, сквозь которую едва проступали вершины. Юг встретил холодом, сыростью, ветром, но при этом - изумрудно-зелёной травой.
4а.

На трапе я по привычке сфотографировал аэровокзал, и аэропортовские работники тут же начали орать мне, что этого делать нельзя. Наверное, пятую часть пассажиров моего самолёта составляли туристы: то ли длинный язык Эрдогана, то ли реальная вспышка ковида обернулись закрытием Турции, и люди, отчаянно нуждавшиеся в дооооооозе чего-нибудь не среднерусского, массово рванули на Кавказ. На выходе из аэровокзала толпа рослых таксистов зазывала пассажиров в Тбилиси - Грузия тоже открыта, но зачем мне Грузия, в которой нельзя посидеть в ресторане?
В итоге я доверился какому-то жучку, который называл близлежащий Беслан - Бестаном, на любые уточнения заводился "Ты что, думаешь, я тебе врать буду?" и в упор не желал понять, какая ещё трасса на Моздок нужна мне. За 200 рублей он отвёз меня и высадил буквально в чистом поле на трассе "Кавказ", да ещё и направление показал на Нальчик. Через несколько секунд, однако, рядом материализовался другой таксист и, выслушав меня, предложил за 200 рублей отвезти к остановке маршруток Владикавказ-Моздок. Провёз он меня от силы полкилометра, по дороге заправился и вдобавок пытался зажать 100 рублей, но зато на остановке, где он меня высадил, буквально 5 минут спустя меня подхватила моздокская маршрутка.
Про тоскливый Моздок с его богатой историей, которую в теории узнавать интереснее, чем на местности, я уже рассказал.
5.

А главной радостью тут стали осетинские пироги - огромные и по выходе из печки раскалённые до жидкости, заключённой в тугое, но тающее на зубах тесто. Я взял два пирога - классический цахкараджин (с сыром и листьями свёклы) и сезонный давонджин (с сыром и черемшой), и хватило их мне на ужин, завтрак и обед.
6.

Первые два прошли в отличной и недорогой гостинице "Люис", последний - в маршрутке. Осетино-ингушский конфликт с сотнями убитых был тридцать лет назад, но логистику осложняет и ныне. Из Владикавказа в Моздок маршрутки и частники ездят не прямой дорогой через предместья Назрани и Малгобека, а кружным путём через узкий Моздокский коридор. Из Моздока же в Назрань ходит единственная, да при том крайне ушатанная маршрутка в 13:00, два с половиной часа пробирающаяся к родной республике разбитыми просёлками и петляющая по её сёлам. Первое село, что характерно, называлось Вежарий, и тут можно вспомнить, что по-славянски "вежа" - это башня. В целом же в Ингушетии всё стало иначе с первых же минут:
7а.

Гигантские мечети, крепкие кирпичные дома, женщины в платках и длинных чёрных юбках, мужики в серых папахах и цветных тюбетейках, неизменное "поехать в Россию" в речи - следующие десять дней лишь русский язык надписей напоминал о том, что я НЕ за границей. Да и кавказское гостеприимство оказалось вовсе не пустым звуком - покинув маршрутку на трассе у въезда в Назрань, я шёл по обочине, а рядом то и дело останавливались машины и водители-ингуши спрашивали, не нужно ли мне чем-то помочь. В конце концов я стал перебегать дорогу и, не успев затормозить, в прямом смысле слова сел в лужу. Оказавшийся рядом пожилой интеллигентный ингуш вынес мне канистру с водой помыть руки (одежду я, как ни странно, почти не испачкал - удар принял на себя рюкзак) да предложил отвезти до гостиницы, и не оставил это намерение и после моих положенных трёх отказов. Видя, что светлого времени мало, я сделал вид, будто гостиница у меня рядом с краеведческим музеем.
7.

В итоге за остаток вечера я посмотрел музей, удивившись тому, как рьяно ингуши теперь выстраивают свою идентичность, где есть место и амазонкам, и шумерам. Дальше - погулял по центру Назрани и поужинал национальной кухней в холодном, неуютном кафе "Из тьмы веков". Не дозвавшись яндекс-такси, я попросил в продуктовом магазинчике телефон местного таксиста, и тот отвёз меня таки в мою гостиницу "Бейни", причём цену в начале озвучил, но денег в конце - не взял. Хозяйка гостиницы вышла не сразу - ей надо было завершить вечернюю молитву, зато когда вышла - успела много рассказать мне о том, что их фамилия (клан) Мирзабековых происходит из горного селения Бейни, и о том, как судьба пошвыряла их между округой Владикавказа, Казахстаном, Ташкентом, Чечнёй и наконец Назранью. Сама же гостиница оказалась скорее хостелом, но я спал один в большой комнате. А проснувшись чуть позже рассвета, я увидел, что мир стал другим:
8.

Мгла рассеялась, и в кристально голубом небе от горизонта до горизонта тянулась белая стена Кавказских гор. Вон на кадре выше справа величественный Казбек (5033м), а левее, за ведущим в Грузию Дарьяльским ущельем - Мят-Лом, священная ингушская Столовая гора (3003м), на которую десять дней спустя нам ещё предстояло подниматься. Левее виднеется Цей-Лом (3171м), "ингушский Олимп", а под ним - Магас с его 100-метровой башней, этакий "ингушский Дубай районного масштаба". А на кадре ниже, на фоне гор Осетии и Кабарды - сама Назрань, колоритный, но не слишком уютный город, впечатляющий обилием новых мечетей:
9.

В Магас в тот день я не успел, и так и лазал всё утро по бескрайним предместьям Назрани, где есть и русская крепость 19 века, и заброшенная водяная мельница, и средневековый мавзолей в степи, к которому меня совершенно бесплатно отвёз ингуш из древнейшей фамилии Хамхоевых - руины его башенного аула Хамхи я ещё покажу в горах.
10.

Он же посадил меня на маршрутку к аэропорту Магас - вопреки названию, находится таковой не в Магасе, а в Сунже, буквально на противоположном конце равнинной части Ингушетии. Сюда прилетали на выезд "Неизвестной России" две девушки из Москвы, и вот нас троих встречал Мага - роскошный чеченец с чёрной бородой и чёрным кадилаком.
11.

Так начинался мой выезд с "Неизвестной Россией". Последняя зарождалась давным-давно как личный блог
 rumata_anton Квитанцева, катавшегося по стране и коллекционировавшего колоритные особенности её регионов. Затем вместо блога образовалась группа вконтакте, цитировавшая уже разных блоггеров, в том числе и меня иногда по пять раз на дню. Следующий шагом Антон решил попробовать через виртуальную группу собрать группу реальных людей да скинуться на тепловоз по Апшеронской узкоколейке, и год за годом этот опыт начал набирать обороты - теперь "Неизвестная Россия" возит по всей стране. Ко многим её маршрутам я приложил руку, а из планов на лето хотел бы отметить в первую очередь БАМ, программу по которому частично разрабатывал САМ и хочу теперь к ней присоединиться в паре пунктов. Классической турфирмой, однако, "Неизвестнач" вполне сознательно так и не стал, и даже говорят здесь не "экскурсия" или "тур", а - "выезд". Скорее это клуб по интересам, где люди объединяют усилия для комфортных путешествий по необычным местам. И программы "выездов" почти всегда нестандартны - с транспортной экзотикой, действующими заводами, визитами к местными самородкам и многим другим. В последнее время к культурной программе прилагается мерчик - в Чечне это были открытки, магнитики и редкие марки:
rumata_anton Квитанцева, катавшегося по стране и коллекционировавшего колоритные особенности её регионов. Затем вместо блога образовалась группа вконтакте, цитировавшая уже разных блоггеров, в том числе и меня иногда по пять раз на дню. Следующий шагом Антон решил попробовать через виртуальную группу собрать группу реальных людей да скинуться на тепловоз по Апшеронской узкоколейке, и год за годом этот опыт начал набирать обороты - теперь "Неизвестная Россия" возит по всей стране. Ко многим её маршрутам я приложил руку, а из планов на лето хотел бы отметить в первую очередь БАМ, программу по которому частично разрабатывал САМ и хочу теперь к ней присоединиться в паре пунктов. Классической турфирмой, однако, "Неизвестнач" вполне сознательно так и не стал, и даже говорят здесь не "экскурсия" или "тур", а - "выезд". Скорее это клуб по интересам, где люди объединяют усилия для комфортных путешествий по необычным местам. И программы "выездов" почти всегда нестандартны - с транспортной экзотикой, действующими заводами, визитами к местными самородкам и многим другим. В последнее время к культурной программе прилагается мерчик - в Чечне это были открытки, магнитики и редкие марки:12. фото Татьяны Ходаковой.

Чечня у "Неизвестнача" выезд чуть менее классический, чем Апшеронка, и всё же - один из самых популярных: только в 2021 году они везут сюда 4 раза. Повторить маршрут, который я дальше опишу, можно будет 27-30 мая, по цене от 15500 до 19250 рублей (чем раньше, тем дешевле) без дороги. Большая часть нашей группы прилетала в Грозный, и только мы втроём неслись туда трассой "Кавказ".
13. фото Татьяны Ходаковой.
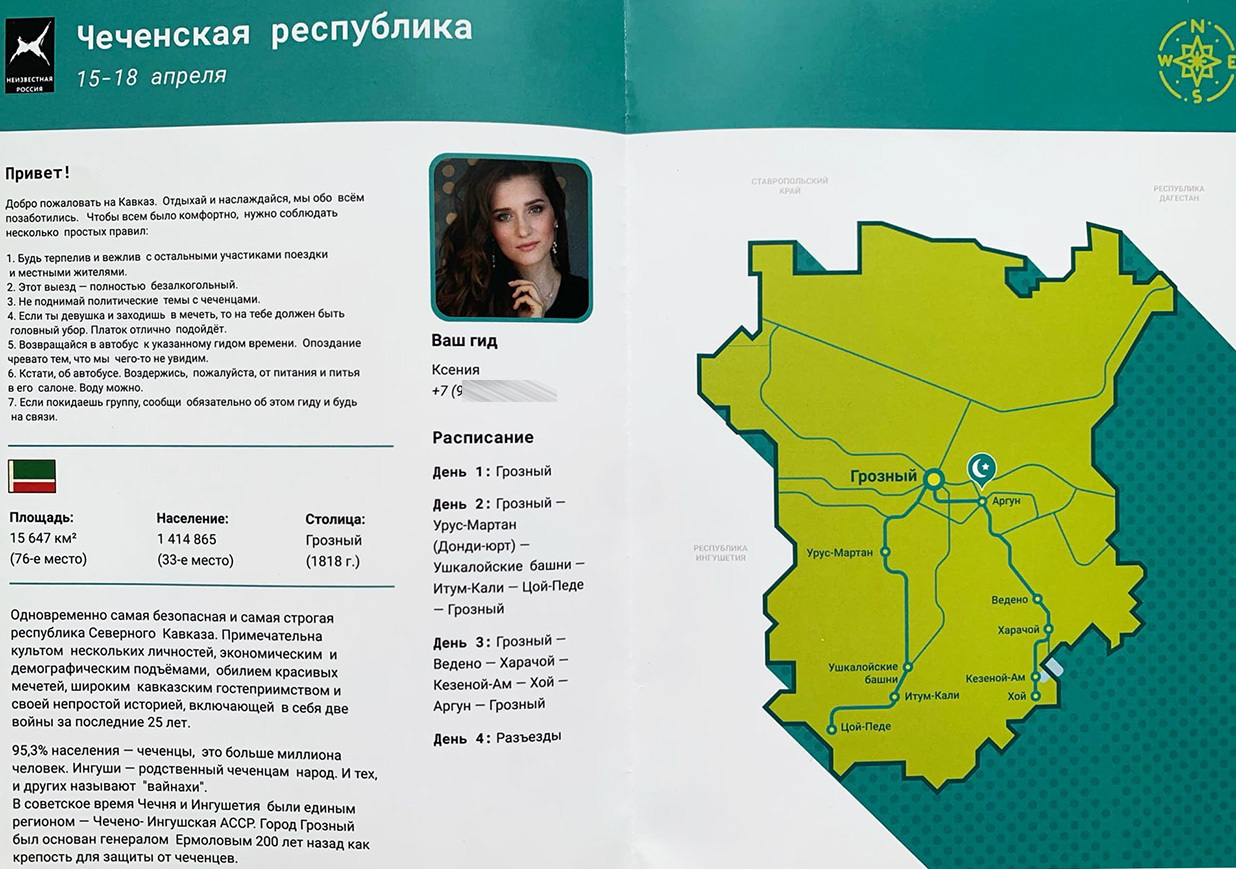
Нашими проводниками по Чечне стали гид Ксения и водитель Мага. Ксения знает Кавказ глубоко и давно, и знакомила нас не столько с его пыльной историей, сколько с живой современностью. Да и руководила группой непринуждённо, но мастерски - особенно в том, сколько времени заложить на каждую из остановок. Мага же и вовсе грозненский старожил, чеченец до мозга костей, и при том с отменным чувством юмора. На горных дорогах он по факту становился вторым гидом, и узнал от него о нюансах жизни в Чечне я не меньше, чем если бы ездил в те дни автостопом.
14.

Группа получилась большая (18 человек), но подобрались в ней, как специально, люди умные и, что ещё важнее - хорошие: такого внимательного и уважительного отношения друг к другу я не помню ещё ни в одной турпоездке. Домом на все 3 ночи в Чечне для нас стал грозненский отель с то ли итальянским, то ли уральским названием "Парма", где были уютные 2-местные номера, бесплатный чай в коридоре и честный шведский стол с утра. Номера запомнились необычной планировкой - удобства у них были на балконе! Само собой, застеклённом, да и выходящим в стороне от чужих окон.
15.

Остаток первого дня мы осматривали Грозный, оказавшийся в центре совершенно таким, как на глянцевых картинках:
16.

А не в центре - бескрайней кляксой пыльного частного сектора, где в воздухе едва заметно пахнет нефтью. Однако хоть в гламурном Сити, хоть среди высоких заборов окраин здесь присутствует зашкаливающий чеченский колорит, возведённый в степень Рамаданом. И ничего, совершенно ничего не напоминает о недавних страшных войнах, кроме рассказов самих чеченцев - в отличие от таджиков или карабахских армян, о былом они рассказывают охотно.
17.

Ужинали в ресторане "Жижиг-Галнаш", названном по главному чеченскому блюду. Вот она, суровая пища воинственных горцев - шмат варёного мясища без малейших специй, пшеничные или кукурузные галушки, плошка бульона и жгучий соус из чеснока. После ужина я поехал в гостиницу, а большая часть группы - играть в ЧГК с местными знатоками и кататься по ночному Грозному, в том числе - на смотровую площадку "Лестница в небо".
18.

На второй день мы отправились в Ичкерию - с 1990-х это слово звучит зловеще, но обозначает всего-то историческую область, среди прочих уголков Чечни во все века игравшую роль своеобразного флагмана. Её "столица" - Ведено, в прошлые двести лет база обоих Шамилей, а теперь - просто колоритный райцентр. Сюда мы заехали на базар, ну а я ещё и пробежался вдоль русской крепости:
19.

Грозный стоит на равнине, которую тут колоритно называют "плоскость", Ведено - в живописных предгорьях, ну а дальше, за аулом Харачой, где жил "чеченский Робин Год" абрек Зелимхан, мы начали подниматься на горы:
20.

В которых спрятано бирюзовое озеро Кезеной-Ам - известнейшая достопримечательность Чечни. Дальние горы - уже в Дагестане, а за кадром остался огромный дом отдыха на берегу, где мы обедали шурпой и хингалашем - сладкими лепёшками с тыквой.
21.

От Кезеноя мы поднялись в Хой - древний аул, где жили стражи чеченских границ. Со времён депортации вайнахов в 1940-е годы он заброшен, но недавно его подняли из руин. Такой "реставрации по-китайски" тут рады далеко не все: Ксения называла Хой не иначе как "уже не древний город". Но даже новоделом он смотрится колоритно, и к тому же рядом сохранилось древнее и совершенно подлинное кладбище.
22.

Спустившись на плоскость, вечер мы посвятили городам-спутникам Грозного, каждый из которых теперь строит свой "сити" и огромную мечеть. "Гордость Мусульман" в Шали, например, считается теперь крупнейшей мечетью Европы, и я совсем не удивлюсь, если окажется, что это крупнейшая культовая постройка России.
23.

А мечеть Аймании Кадыровой в Аргуне впечатляет футуристичностью облика и подсветки:
24.

На ужин снова был жижиг-галнаш - только не в кафе, а дома у Маги где-то на окраине Грозного. И для его немалого семейства накрыть стол на 20 гостей - легко. Сам дом же продолжает строиться, и Мага вспоминал, как в 2004 году продавал неразорвавшуюся ракету с вертолёта, которой военные зачем-то пробили ему крышу и стены.
25.

На третий день наш путь лежал в не менее легендарное Аргунское ущелье. Но сперва мы заехали в Урус-Мартан, где в обычном дворе частного дома находится Донди-Юрт - удивительный музей камней и древностей, что собирал Адам Сатуев по прозвищу Донди прямо во время Второй Чеченской войны. В процессе превратившись из лихого милиционера в доброго и мудрого аксакала:
26.

В Аргунском ущелье поесть толком негде, и Ксения собрала для нас сухие пайки. Включив туда ряд ближневосточных продуктов, которые в России завозятся только в Чечню - например, безалкогольное пиво "Барбикан" из Дубая. Тем и пообедали мы в самом узком месте ущелья у встроенных в грот Ушкалойских башен:
27.

В райцентр Итум-Кали мы заехали ненадолго - часть группы послала отсюда домой те самые открытыки с теми самыми марками, а я сфотографировал местный отреставрированный замок:
28.

За Итум-Кали мы добрых полчаса стояли на погранпосту - впереди всего лишь погранзона, куда гражданам России достаточно паспорта, но проверяли нас словно на настоящей границе. Там дальше нет жилых аулов - лишь глухая пустая дорога, проложенная ещё сепаратистами Ичкерии в 1990-х годах. Она ведёт в Цой-Педе - город мёртвых, святыню ещё доисламской Вайнахии на узком мысу рек Чанты-Аргун и Малхиста, с которого видны ледяные вершины Грузии (в кадре) и Ингушетии. Мавзолеи сливаются с камнями, как и руины аулов, развешанные по окрестным горам, а следит за всем этим одинокая древняя башня да бинокли погранзаставы у подножья.
29.

На обратном пути я надеялся пофотографировать ущелье, но вместо этого просто отрубился и уснул - наверное, вайнахам эти горы придают сил, а вот я, напротив, дважды возвращался с этих гор в каком-то полусне и рассеянности. В Грозном же нас вместо жижиг-галнаша ждали роскошные кавказские шашлыки, на приготовлении которых тут специализируется целая улица:
30.

Последние пол-дня мы снова осматривали Грозный. Съездили к Английскому замку - пожалуй, самому интересному зданию города и одному из последних не восстановленных после войны:
31.

Сходили на Беркат - гигантский восточный базар в бывших цехах завода "Красный Молот", и там же пообедали каким-то странным галнашем, где вместо мясища была куриная нога (курица, впрочем, размером не сильно уступала страусу), а вместо жидкого чесночного соуса - густой, как пюре, луковый.
32.

Свободное время я использовал на то, чтобы сходить в близлежащий музей. Там было много этнографии и милой старины, но отдельным впечатлением стало то, как преподносится ныне чеченская война - немногословно, безоценочно и без малейших попыток оправдать разрушение города.
32а.
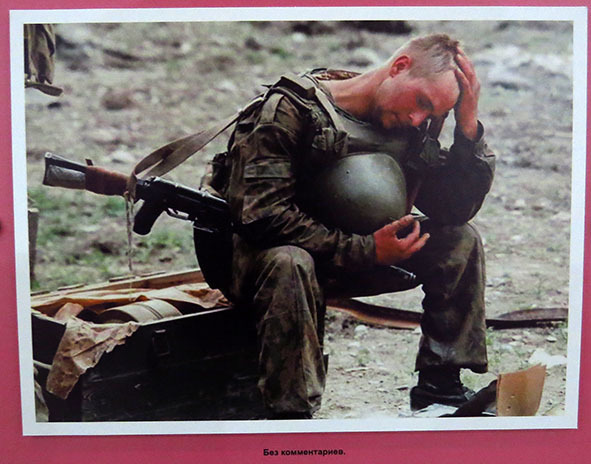
Попрощавшись с Ксенией, Магой и большей частью группу на парковке "Грозный-Сити", в компании своего соседа по номеру Саши я съездил в Старопромысловский район, на самую глухую окраину Грозного к первой скважине Чечни.
33.

Ну а вечером у мечети "Сердце Чечни" меня ждала верная Ольга, примчавшаяся из Москвы автостопом - дальше гулять по Кавказу нам предстояло самим. Новым "портом приписки" стала квартира в центре Грозного, близ площади Минутка - один добрый чеченец пускает туда на пару-тройку дней разного рода путешественников. Каучсёрфинг тут, правда, со своей спецификой - например, по квартире нельзя ходить в шортах, а уж тем более - обниматься или держать за руки. Первыми нашими соседями были молодой узбек из Оша и русская мусульманка из Иркутска, увлечённые друг другом, религией и длящимся уже не первый год путешествием. Позже их сменила хипповского вида пара из Питера. Ну а мы с Ольгой первый самостоятельный день посвятили окрестностям Грозного - например, местному "скансену" в селе Герменчук:
34.

Зиярту (святыне) самого чтимого в кадыровской Чечне проповедника-пацифиста Кунта-хаджи Кишиева близ Ведено:
35.

И старинному Чечен-Аулу в предместьях Грозного, от которого народ нохчи и стал для русских чеченцами. Здесь вновь нам повстречался добрый человек, который покатал нас на своей машине по окрестным холмам и лесам да отвёз бесплатно в Грозный. Так что кавказское гостеприимство - не миф, а уж вдвойне - во время Рамадана, когда мусульманам особенно важно делать добрые дела.
36.

На следующий день мы вновь отправились в Аргунское ущелье. В открывающем его райцентре Шатой обнаружилась ещё одна русская крепость:
37.

Но нашей целью был самый глухой и далёкий чеченский райцентр Шарой (вернее, райцентр тут соседний Химой, но район Шаройский), куда и отвезли нас автостопом весёлые Али и Адам - их предки были оттуда родом, после депортации осели на плоскости, в расказаченных столицах за Тереком, и вот теперь ехали они к какому-то дальнему родичу в почти опустевший аул Хакмадой починять проводку. Это Али и Адам умели явно хорошо - незадолго до нашего знакомства они вернулись в Чечню аж из Диксона. В целом же безработица и бедность, преобладание на улицах женщин да рассказы мужиков о работе "в России" добавляют Чечне ощущения постсоветской заграницы.
38.

Сам Шарой оказался потрясающе красивым аулом среди глухих гор, украшенным новодельной (вернее, поднятой из руин) вайнахской крепостью. С гор дул ветер - мощный, но очень тёплый, и видимо перетекавший через хребет из Грузии. Мы же по Шарою полчаса гуляли, а полтора часа пили чай в пока не достроенном доме у местной жительницы Халисат, рассказавшей нам многое - от горских преданий до воспоминаний о том, как она вместе с односельчанками встречала развернувшую огнемёты на соседней горе российскую армию...
39.

Последний полный день в Чечне мы поехали не в горы, и даже наоборот - "на плоскость", в казачьи станицы за Тереком, где чеченцы стали массово селиться лишь с 1960-х годов. В райцентре Шелковская, где пруд шёлковой фабрики молва превратила в озеро на Шёлковом пути, есть даже новая церковь. А в ней повстречалась нам русская женщина с выплаканными глазами, много успевшая рассказать о том, как страшно жить тут было в 1990-х. Но теперь - тишь да гладь: машина, на которой они с мужем приехали в храм, стояла у его ворот с дверями нараспашку.
40.

На близлежащем хуторе Парабоч мы таки угодили в подвал - правда, музейный, под 200-летним особняком армянского шелкозаводчика, позже ставшего поместьем дальней родни Лермонтова.
40а.

Главным, однако, русским земляком в Чечне считается Лев Толстой, современный и первоклассный музей которого находится в другой станице Старогладовской. Станицы запомнились мне обилием старых домов и какой-то более расслабленной, более мягкой атмосферой - войны проносились здесь быстро, в отличие от предгорий и гор, где к началу 21 века не осталось ни единого целого дома.
41.

Ну а на следующее утро мы покинули Чечню, направившись в соседнюю Ингушетию. Две республики долго, до 2018 года, делили Сунженский район, и за Чечнёй остался Серноводск - бальнеокурорт, воду и лимонады из которого чеченцы (особенно с наступлением темноты в дни Рамадана) пьют кубометрами.
42.

А вот город Сунжа, до 2016 года бывший крупнейшей в России станицей в обиходе по сей день остающийся Орджоникидзевской или Слепцовской - это уже Ингушетия. Приехав на автовокзал, мы увидели автобус до села Алкун, которым было бы крайне удобно уехать, и с досадой поняли, что на знакомство с Сунжей у нас ровно полчаса. Но пожилой таксист-ингуш за эти полчаса успел провезти нас по всему городу и взял за это по-божески 200 рублей.
До конца "нулевых" Орджоникидзевская оставалась русским центром Ингушетии, но больше главного в республике православного храма меня впечатлила стерегущая его стена:
43.

На карте Ингушетия имеет форму молодого полумесяца, выемка которого - спорный с Осетией восток Пригородного района. Там находится село Тарское - в прошлом Ангушт, от которого галгайцы стали для русских ингушами. При этом в Джейрах, столицу Горной Ингушетии, из Назрани ездят через Владикавказ (старательно избегая в пределах Осетии остановок), а мы решили подниматься в горы по Ассинскому ущелью, целиком проходящему в пределах республики. Алкун - самое верхнее село, куда и тарахтел сунженский ПАЗик. Дальше к нашим услугам был только автостоп, но на Кавказе это не проблема.
44.

Ребята на чёрной бэхе ехали откуда-то снизу в горы лишь для того, чтобы набрать воды из родника. От родника полкилометра до заставы, где проверяют паспорта на въезде в погранзону, а оттуда ещё с километр до башенного комплекса Таргим и руин христианского храма Альби-Ерды. Так началось моё знакомство с Горной Ингушетией, которая с первых минут оказалась зрелищнее, чем Горная Чечня. Но то немудрено: в Чечне были Кавказская война, депортация и две Чеченские кампании, а в Ингушетии - только депортация, и соответственно здесь уцелело многое из того, что в Чечне теперь лишь поднимают из развалин. Но горные аулы так же малолюдны, и с этой стороны автобусы не ходят, потому что от Алкуна до предместий Джейрах на полсотни километров нет ни одного села.
45.

Промокнув под дождём, мы поймали джип с парой очаровательных туристов из Питера и обаятельнейшим бородатым гидом, предки которого бежали из Дагестана в Грузию от кровной мести, а родители - из Грузии в Осетию от национализма и нищеты. Он довёз нас в Армхи - курорт в предместьях Джейраха, в окрестной глуши впечатляющий не меньше, чем тот бар из фильма "От заката до рассвета". С той разницей, что Армхи - место семейное и всесезонное. Вот он целиком с другой стороны ущелья - внизу собственно "Армхи", выше отель "Чайка" с бассейном, на самом верху ресторан и ещё один крытый бассейн, а между ними канатная дорога, горнолыжная трасса и грунтовый серпантин, по которому курсирует выполняющая роль внутрикурортного шаттла "Нива". Я бронировал домик на дереве, очаровавший меня на сайте курорта, но мокрыми да продрогшими нам там ночевать совершенно не хотелось. Однако в "Чайке" нашлись свободные номера, а по случаю Рамадана ингуши ещё и делали на них скидку в 30%, и один из таких номеров стал нашим домом в горах Ингушетии. Питались мы пайком с колбасой, лепёшкой и кексами, который нам подарили чеченцы на трассе - в основном они раздают такие турецким дальнобойщикам, неделями ждущим своей очереди у трасс из-за обвалов на Военно-Грузинской дороге. Пили же и вовсе воду из под крана, которая поступает сюда прямо из горных ключей. Словом, курорт Армхи - действительно прекрасное место:
46.

У "Неизвестной России" есть свои выезды в Ингушетию - отдельные или с Северной Осетией вместе. Но по датам они с моими планами не совпадали (хотя в эти же дни проходил выезд по Осетии), и нам с Ольгой оставалось довольствоваться лишь экскурсией от отеля. Сопровождавшейся мелким шулерством: в теории она стоит 7000 рублей за "Газель" (а нас в группе набралось шестеро), а на практике - 9000, так как не входит в неё самый зрелищный башенный комплекс Эрзи, куда водят за отдельную плату. Но в общем о деньгах забываешь, когда вокруг ТАКАЯ красота - попробуйте только посчитать, сколько башенных комплексов вы тут видите, помимо самого Эрзи!
47.

Эрзи славится своим пучком из 9 боевых башен. А вот в Эгикале боевая башня лишь одна, зато жилых и полубоевых - полсотни. С Эгикала виден Таргим, от Таргим видны Хамхи, а 30 километров через Цей-Ломский перевал вмещают ещё десяток менее крупных башенных комплексов.
48.

За той развилкой, с которой мы уезжали днём ранее под дождём, спрятан Тхаба-Ерды - храм из тех давних времён, когда вайнахи были христианами.
49.

А самая дальняя точка почти всех экскурсий - Вовнушки с пучком башен, вырастающих прямо из скалы.
50.

За Вовнушками Ингушетия не заканчивается, дальним краем выходя почти что к Цой-Педе. Там нет дорог, а вот башен и замков - всё так же немерено. Но мы поехали обратно, и в чистом небе проступил тризубец Цей-Лома:
51.

Однако нашей целью следующего дня стала соседняя Столовая гора (Мят-Лом), возвышающаяся прямо напротив Армхи - за 10 дней с неё сошёл весь снег... Справа виднеются башни знакомого нам по началу рассказа селения Бейни (отнюдь не единственные в поле зрения), а от них ведёт долгий (больше километра вверх и 10 километров по горизонтали) подъём на кажущуюся плоской вершину:
52.

Армхи организует трансфер до Бейни за 1000 рублей - причём в эту стоимость входит в обратная дорога с вызовом машины по телефону администратора. Поход на гору же занимает целый день, и если начать подъём в 9 утра - успеешь только до древнего языческого храма Мят-Сели:
53.

Подъём на вершину, с которой видны Военно-Грузинская дорога, Тарское, Владикавказ, Магас и Назрань - дело ещё на пару часов в одну сторону, но с гребня Столовой горы я понял, что над плоскостью висит густая дымка, и счёл мутные виды не стоящими пути на самый верх. Поэтому мы просто погуляли по вершине, любуясь игрой солнца на феерии скал и зубцах Цей-Лома:
54. фото Оли

На утро вновь испортилась погода, и на маршрутке из Джейраха мы спустились в Магас - столицу Ингушетии, построенную в чистом поле на рубеже веков. Но после горной сказки он показался нам убогой декорацией с безлюдными улицами и домами едких цетов. Кроме, разве что, 100-метровой Башни Согласия, представляющей собой необычный вертикальный музей.
55.

На трассе "Кавказ" между Магасом и Назранью мы поймали машину, которую вёл интеллигентный чеченец, говоривший по-русски почти без акцента. Он был хирург и ехал на работу в Нальчик, а наличие двух туристов в машине защитило его зловредных полицейских на посту у осетино-ингушской границы. Я высадился в Беслане, про который уже рассказал, а Оля так и уехала дальше, понимая, что не хочет это видеть. Беслан - главный транспортный узел Северной Осетии, и из его аэропорта, куда доехал на такси за 130 рублей, я улетел на ночь глядя в Москву.
56.

Но я не хочу заканчивать рассказ видом самого трагического помещения России. Ведь путешествие вышло солнечным, а обгоревшие руины бесланской школы стали странной антитезой к Чечне и Ингушетии, где вопреки всем ужасам всё-таки кончилась война, отстроены города и сёла, а туристы гуляют теперь как где-нибудь в Крыму. Так что в завершение рассказа - седой Казбек, лучший вид на который открывается именно с Мят-Лома:
57.

Всё перечисленное я надеюсь выложить в течение мая, тем более в июне мне уже дорога на Восток. На Кавказ это моё путешествие, конечно же, не последнее. Вот только любой цикл теперь может стать последним в этом ЖЖ. И всё-таки спасибо тем, кто продолжал делать переводы в Варандей-Фонд, пока я был в дороге! Это очень сильно мотивирует продолжать.
Примерный план рассказа:
- Культура и история вайнахов.
- Чечня и её реалии.
- Грозный (3-4 поста)
- Окрестности Грозного (Шали, Аргун, Чечен-Аул)
- Чеченские скансены (Хой и Герменчук)
- Ведено и Ичкерия.
- Кезеной-Ам.
- Урус-Мартан и Шатой.
- Аргунское ущелье.
- Шарой и Химой.
- Серноводск и Сунжа.
- Назрань и окрестности (1-2 поста).
- Магас
- Ассинское ущелье и Таргимская котловина.
- Эрзи, Эгикал и перевал между ними.
- Джейрах, Армхи, Столовая гора.
|
Метки: Кавказ дорожное |
Беслан. Заглядывая в бездну. |

Когда промозглой осенью 2002 года террористы захватили московский "Норд-Ост", я учился в старшей школе. Будучи подростком весьма нервным, я сразу же пошёл к нашему классруку, бородатому альпинисту, который вёл в школе уроки ОБЖ и турклуб, и спросил - что делать, если следующей мишенью террористов окажется школа? Классрук отмёл мои опасения сходу: "Этого не будет. Террористы ведь не сами по себе. Никто никогда не станет поддерживать тех, кто воюет с детьми". Слова Андрея Владимировича прозвучали тогда очень веско, и пару лет спустя я сперва не поверил глазам, увидев на рамблере заголовок новости: "Первое сентября в России началось с захвата школы".
Местом самой чудовищной и циничной трагедии в постсоветской истории России стал Беслан - городок (37 тыс. жителей) в Северной Осетии в 30 километрах от Владикавказа, главный транспортный узел республики, где пересекаются рельсы и трассы и находится её аэропорт. Из этого аэропорта я сразу рванул в показанный в прошлой части Моздок, а вот на обратном пути таки собрал волю в кулак погулять по Беслану. Увидел и услышал я здесь куда больше, чем ожидал.
Первое, что стоит сказать о Беслане - здесь не стоит искать всепроникающей скорби. На 17-й год после трагедии это вполне обыкновенный, по-южному живой городок:
2.

Человек, ни разу не слышавший о Бесланском теракте, например преисполненный идеями "мира без ненависти" евробэкпекер, в благословенные доковидные времена ехавший из Скандинавии в Индокитай, здесь бы вряд ли заподозрил кровавое прошлое.
3.

К тому же, в силу своего расположения, Беслан ещё и самый богатый осетинский город, откуда на Владикавказ поглядывают свысока. На оживлённых улицах - типично кавказские капитальные дома из кирпича, в полных детскими голосами дворах - нагромождения балконных пристроек...
4.

А о том, что лучшие осетинские пироги пекут в кафешке "У Анзора" близ недостроенной часовни Александра Невского на шумной транзитной улице Победы, в Беслане знает каждый таксист.
5.

Ворота на Аэропортовском шоссе ведут не в парк, а в кувандон - осетинскую священную рощу, где молятся божеству Уастырджы. В церквях ему тоже молятся - как Святому Георгию:
6.

Недалеко от вокзала глядит с постамента Сталин, в миру Иосиф Виссарионыч Дзагоев - ведь всякий осетин скажет, что эта фамилия только записана как Джугашвили на грузинский манер. Ну а земляк на Кавказе - это превыше, чем герой или злодей.
7.

Да и в целом осетинам советская ностальгия куда более свойственна, чем пережившим сталинскую депортацию и увлечённых своим мусульманством вайнахам.
7а.

Беслан, сокращённо Бесик - весьма распространённое на Западном Кавказе имя. Свои Бесланы живут и в Абхазии, и в Кабарде, ну а осетинский алдар (князёк) Беслан Тулатов в 1847 году возглавил общину тагаурских горцев из Кобани, спустившихся в эту плодородную степь с согласия царских чиновников. Опорой России на Северном Кавказе осетины сделались далеко не сразу, и если семья Тулатовых во главе с отцом Сырхау была последовательно верна России, то их родич Хамурза, тогдашний князь Тагаурии, был арестован карательной экспедицией и отправлен в Сибирь. От старого села Тулатово, осетинам более известного как Бесланыкау, осталось несколько хаток на улице Ленина:
8.

Среди которых выделяется пара кирпичных зданий - сельсовет:
9.

И мечеть (1907-08). В Алании, совсем как где-нибудь на Алтае, мирно уживаются аж 4 религии - православие, протестантизм, язычество и ислам. Последний сейчас отступает - на фоне конфликта с ингушами многие осетины из советского атеизма вышли не к полумесяцу, а к кресту. Основатели Беслана, однако, были мусульманами:
10.

Мечеть, при Советах занятая молокозаводом, возродилась в 2010 году, но скорее как архитектурный памятник, чем храм - ворота её двора я увидел наглухо запертыми, а судя по свешивающимся на дорожку деревьями, открытыми они бывают нечасто:
10а.

Куда привлекательнее выглядят ворота сквера напротив мечети:
11.

В глубине которого стоит памятник чернобыльцам, судя по внешнему виду "переосвящённый" из памятника революционерам:
12.

Памятник самому Беслану Тулатову, однако, стоит не в кварталах старого села, а на другой стороне бесланского центра - у железнодорожного вокзала. Родившийся в 1793 году в горном Кобани, на равнину в 1847-м Беслан Сырхаувич спустился бездетным, и может быть поэтому среди прочих алдаров его отличала неуживчивость, жестокость и тяжёлый нрав. За Бесланом последовали всего 17 семей, а вот после его смерти в 1866 году посёлок начал стремительно расти.
13.

Ещё больше этот рост ускорился в 1875-м году, когда через село прошла частная, да при том сверхприбыльная железная дорога Ростов-Владикавказ, в 1893 году разветвившаяся здесь линией Беслан-Гудермес к нефтепромыслам Грозного. Тогда же был построен вокзал на островной платформе:
14.

И если за вокзалом, на грузовых путях, жизнь кипит, то пассажирские пути за забором привокзальной площади пустынны: Чеченская война разрушила всё, по чему прокатилась, и железная дорога не стала исключением. Восстановили на ней почему-то не западный участок, обрывающийся теперь в Сунже, а восточный, так что поезда в Грозный из Москвы едут теперь замысловатой спиралью через Моздок и Гудермес, а от Беслана ведёт лишь тупиковая ветка к Назрани:
15.

Больше трафика, чем на платформах, теперь на привокзальной площади, где набирают пассажиров маршрутки до окрестных сёл и Владикавказа. Паркуясь и отправляясь, они делают спонтанный круг почёта у памятника "Поднявшим знамя Октябрьской революции и отстоявшим его в Великой Отечественной войне", на котором два красноармейца разных эпох стоят спиной к спине.
16.

К станции примыкает Георгиевский храм (1997-2000), вокруг которого постепенно образовался Успенский монастырь:
17.

С другой стороны от него протянулась Привокзальная улица. Вдоль неё задворками в город и фасадом к станции стоят краснокирпичные дома местной путейской слободки:
18.

По сути дела второй исторический центр, куда более капитальный, чем Старое Тулатово. И даже корректнее сказать - центр собственно Беслана (по станции):
19.

От вокзала уходит улица Мира, на перекрёстке с бульваром улицы Сигова отмеченная сталинкой бывшего ДКЖД и стелой "Добрый ангел мира". В Беслане, конечно, она вызывает совершенно однозначные ассоциации, но на самом деле это вполне типичный для десятков городов России памятник меценатам:
20.

В 1941 году Тулатово-Беслан зачем-то переименовали в Иристон, а в 1950-м село наконец стало городом Бесланом. Само это решение явно выглядело запоздалым - фактически Беслан уже в 1930-х годах был городком с 5 тысячами жителей, о чём напоминает конструктивистский Дом Советов (1930) на улице Плиева:
21.

В 1970-80-х он служил Домом Пионеров, о чём напоминает просторный ухоженный парк с памятником красноармейцу. В 21 веке его дополнили бюст местного поэта Феликса Цаликова и стела, "переосвятившая" место:
22.

Советы же в 1960-х годах переехали в новое здание по соседству, запоминающееся конструктивистского вида крыльцом и скульптурой девушки с кувшином:
23.

Старое Тулатово, Вокзальная слободка и центр советского Беслана образуют на карте города равносторонний треугольник. От Дома Советов рукой подать до огромного, бесформенного и абсолютно унылого внешне ДК:
24.

С Вечным огнём в сквере. Образ пожилых родителей и мальчика-воина стал для Беслана мрачным пророчеством - в сентябре 2004 года в ДК был штаб антитеррора и борьбы с последствиями теракта. И ещё несколько дней по окончании трагедии его ворота осаждал народ, надеявшийся найти живых детей в оцепленных руинах школы:
24а.
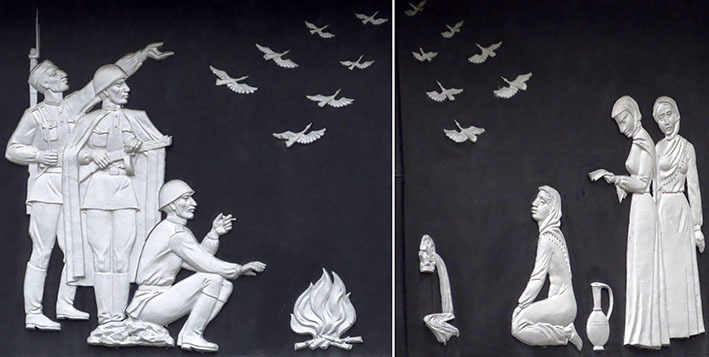
Не знаю точно, о чём напоминает в том же сквере куб с опалённой половиной, но я, конечно же, подумал снова про теракт. В Беслане было 8 школ, но в силу развитых на Кавказе родственных связей тут нет семей, не затронутых этой трагедией.
25.

Напротив - ещё один скверик с фонтаном, о происхождении которого я ничего не нашёл:
26.

О Беслане вообще найти что-то трудно - всю прочую информацию о городе в любом поиске затмевают страшные новости сентября-2004 и попытки их осмысления.
26а.
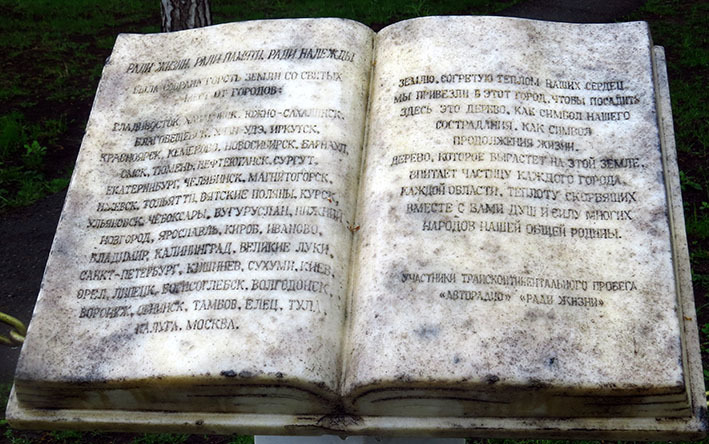
Свернув в очередной переулок, я вздрогнул. Ясноглазый евробэкпекер, держащий путь из Стамбула в Шанхай и возлюбивший все попутные народы, скорее всего и не обратил бы внимание на очередную заброшку. Но я-то и 17 лет спустя помнил из новостей силуэт этого здания - лишь побелка с той поры облезла, обнажив красный, как у старых казарм и фабрик, кирпич:
27.

Школа №1 была основана в 1889 году, видимо - у станции, когда Тулатово уже слышало гудки поездов, но ещё не превратилось в железнодорожный узел. Как я понимаю, с тех времён сохранился островерхий корпус в торце здания. Основной длинный корпус строился в 1930-х годах на месте снесённой церкви, преемницей которой можно считать внушительных размеров белый храм Новомучеников (видел, впрочем, и другое посвящение - храм Бесланских Младенцев), достраивающийся по соседству.
28.

Школа вытянута вдоль железной дороги на Владикавказ, и в глазницы её окон можно заглянуть с проходящего поезда. В 1960-70-х годах к длинному корпусу с торца пристроили хозблок с актовым залом:
29.

А со двора - котельную и спортзал. В котельной машинист Иван Карлов во время захвата успел спрятать 17 детей, которых боевики просто не заметили в темноте её подсобки, а сам он вышел оттуда, закрыл дверь и невозмутимо сказал палачам, что внутри пусто. Остальных - больше тысячи детей и взрослых, - боевики согнали в спортзал, ставший ареной трагедии. В 2011 году котельную снесли, а спортзал накрыли куполом мемориала по проекту немецкого архитектора Стефана Губельта:
30.

Ласковым солнечным утром 1 сентября 2004 года на этот двор въехал "шишиг" с тремя десятками боевиков во всеоружии. Они схватили не только школьников: ведь на торжественную линейку народ приходил семьями, многие - с маленькими детьми, так как детский садик в это время был на ремонте. Атаку на Беслан планировал лично Шамиль Басаев, злой гений Чеченской войны, и этот теракт, не первый и не последний эпизод его кровавого пути, стал сатанинским шедевром. "Террорист №1" продумал каждую мелочь. Возглавлял отряд убийц ингуш Руслан Хучбаров по кличку Полковник, а правой рукой его был Владимир Ходов по кличке Абдулла - украинец-ваххбит (!) из Бердянска, которого здесь выдавали за осетина. 32 боевика были в основном из ингушей, меньше - из чеченцев (в том числе младший в отряде 19-летний Саидбек Шебиханов и две шахидки - Роза Нагаева и Марьям Табурова), а затесались среди них даже арабы, кроме Абу Фаруха из Джидды. Очевидцы упоминали среди боевиков негра, но по другим сведениям, за чернокожего приняли полуразложившийся труп боевика, убитого в первый день на дворе школы. В основном это были профессионалы, лучшие из лучших среди боевиков Кавказа, оказавшиеся опасным противником даже для спецназовцев "Альфы" и "Вымпела". Такие, конечно, не горели желанием умирать, и шли на дело в полной уверенности, что под живым щитом покинут Осетию и вернутся в свои горы. Между ними, однако, было и достаточное количество отъявленных фанатиков джихада, выполнявших роль заградотряда - чтобы остальные не смогли ни сбежать, ни договориться о коридоре на выход. Комбинация явно казалась "террористу №1" беспроигрышной: или Путин дрогнет и на Кавказе появится независимая Чечня с Шамилем II во главе, или мир осудит Россию за пренебрежение детскими жизнями, а осетины пойдут громить Ингушетию и убивать своих соплеменников-мусульман. По сути дела именно в стенах этой школы развернулось генеральное сражение всей Чеченской войны, самый жестокий и самый подлый террористический акт в мировой истории. Ужаснувший даже часть исполнителей - шахидки, думавшие, что едут взрывать милицейский участок, наотрез отказались воевать с детьми. Но кнопки от всех взрывателей были у Полковника, и шахидок просто отвели в сторону и активировали их пояса. При взрыве погибло и несколько заложников, среди которых был машинист Иван Карлов.
31.

Откуда я знаю такие подробности? О Бесланской трагедии написано очень много, в любых источниках, на 100% отвечающих чьим бы то ни было политическим взглядам. Как и всюду в наше время: правда известна всем, но почти никому не известно, что из известного - правда. Однако мой взгляд на дворе школы привлекла мужская компания с кадра выше - трое из них явно были гостями, двое - явно местными, и не сразу я понял, что местные - из тех, кто провели здесь в 2004-м те страшные 52 часа. И вот теперь подробно рассказывали своим гостям о пережитом. В основном говорил щуплый коротко стриженный молодой человек с чёрными глубокими глазами. Говорил спокойно, даже отстранёно - но порой замолкал, и глядя ему в глаза, я понимал, что он в эти моменты видит бездну. Гиды "экскурсии в ад" оказались ещё и какими-нибудь активистами - многое они рассказывали со слов других заложников и даже спецназовцев, с которыми общались позже. Так что все детали происходившего в стенах Бесланской школы пишу здесь с их слов. Кроме того, советую прочесть и комментарии к посту.
31а.

Под павильоном Стефана Губельта - спортзал. Здесь всегда людно, но ни шаги по скрипучему полу, ни голоса, ни щелчки фотоаппаратов не пробивают гнетущую тишину:
32.

Внутри больше всего впечатляют даже не дыры в полу и не обгоревшие стропила да спортинвные лесенки. Больше всего в этом зале впечатляет то, насколько он маленький. Ведь только вдумайтесь - здесь 52 часа находилось более 1100 человек!
33.

Дыры в полу частью выбиты взрывами, частью - выломаны боевиками в первые минуты захвата. Позже это породило слухи, будто директорша школы Лидия Цалиева допустила делать ремонт по очень красивой цене каких-то ингушей, которые и оказались боевиками, детально изучившими коммуникации и зарывшими под спортзалом целый арсенал. На самом деле боевики всё привезли с собой, а пробивая пол, лишь хотели убедиться, что под зданием нет подвалов. Они явно подготовились куда основательнее, чем в "Норд-Осте", и помня приём с усыпляющим газом, носили на поясе респираторы. Самым известным из взрослых заложников остался грек Иван Каниди, 74-летний учитель физ-ры Иван Константиныч. Его мои "гиды" вспоминали очень тепло: на уроках он ходил со связкой ключей, которой мог запустить в хулигана, а когда ему нужна была тишина - он выносил в зал тяжёлую трубу и ронял её на пол. Но 1 сентября 2004 года Кониди повторил подвиг Януша Корчака, добровольно оставшись с учениками в зале, а погиб во время штурма, пытаясь отобрать оружие у террориста. Однако главным героем воспоминаний моих "гидов" стал другой учитель - "трудовик" Руслан Рамзанович Бетрозов. В первые минуты в зале, когда никто ещё не осознал до конца, что произошло, он встал в полный рост и пытался успокоить детей - "всё обойдётся, сейчас они нас попугают и отпустят". Он говорил по-осетински, чем, может быть, и подписал себе приговор - один боевик ударил учителя прикладом в спину, а другой, когда тот упал на колени, раздробил ему голову автоматной очередью. Тело Руслана Рамзановича лежало в зале ещё несколько часов, кровь растекалась между заложниками, и лишь когда пошёл трупный смрад - боевики сволокли его куда подальше.
34.

Боевики натянули меж баскетбольными кольцами цепь с бомбами, которую должна была разомкнуть педаль, прижатая к полу книгой. И боевики посменно дежурили, держа на этой книге ногу. В первый день, на жаре и скученности, боевики ещё позволяли заложникам выходить в санузел, в том числе за водой. А заодно показывали в окна оцепленные пустые кварталы, поясняя: "Вас бросили! Этой стране до вас дела нет!". На второй день, однако, в новостях появилась цифра "354", в Беслане заменившая "666": по словам рассказчика, после этого в боевиков "словно бес вселился" - кого-то прикончили тут же, и всем перекрыли доступ к воде. Сама эта цифра вроде даже не была прямым враньём - столько имён заложников, на момент её публикации, были установлены достоверно. Но уже в те дни, в репортажах НТВ и публикациях "Новых Известий" связь между недоговоркой властей и сатанинской жестокостью террористов была выведена столь прямая, что даже я лишь в стенах этой школы задумался, что ведь такая реакция вовсе не была закономерной. На второй день, как вспоминает рассказчик, многие боевики сами выглядели испуганно, будто что-то у них пошло не так, а патлатый араб куда-то звонил и по-английски хвастался, что отправляется в рай. Скорее всего, боевики поняли, что их самих Басаев послал на верную смерть (а среди них были и приближенные к нему), а "354" стало лишь поводом, и издевательство над заложниками стало то ли жестом бессильной злобы, то ли попыткой ускорить свою судьбу. Как бы то ни было, в начале сентября в Осетии ещё довольно жарко. У Сент-Экзюпери в "Планете людей" изнывавшие от жажды в пустыне лётчики пытались пить даже краску или бензин - сами вид плескавшейся жидкости заставлял их так делать. Для заложников единственной жидкостью стала, извиняюсь, собственная моча, и они действительно пили её - хотя выжившие и понимали постфактум, что это лишь усугубляло жажду. Иным хватало воли поступать грамотнее - промачивать тряпки и класть их на лицо, получая крупицы влаги дыханием. Спасительницами многих стали кормящие матери, тогда дававшие грудь не только младенцам. И по словам рассказчика, на третий день в таком состоянии люди уже не боялись смерти и просто ждали любого конца. Об этой жажде напоминают теперь стоящие среди приносимых в этот зал цветов, игрушек, икон, флагов, стихов и надписей "Мы с вами!" бутылки с водой - обязательно открытые:
35.

"Экскурсию" я слушал не с начала, и когда я подошёл, "гид по аду" показывал на стене фотографию 30-летней Альбины Кучиевой-Шотаевой, попавшей в заложники вместе с 7-летней дочкой. Я не услышал, как и почему, но она убедила рассказчика переползти на другой конец зала (а террористы, которые сами не ели и не пили, таких перемещений могли не замечать). Он отполз и накрыл лицо промоченной тряпкой, и в это время грянул взрыв. Дальше наступил "вакуум" - на некоторое время рассказчик полностью потерял слух, и в гробовой тишине видел бегущих людей и падающие обломки крыши. Что взорвалось - он сам так и не понял, но точно не те мины под потолком - цепь оказалась то ли неисправной, то ли фальшивой, а иначе, скорее всего, выживших бы не было. Взрыв случился в том самом углу, где наш рассказчик сидел изначально, и после теракта он долго выяснял судьбу своих спасительниц, а люди не хотели ему говорить, что мать и дочь Кучиевы погибли. В те же первые секунды по упавшей на подоконник доске он выскочил в окно и побежал среди других полуголых детей, а боевики стреляли им в спины, и другие дети падали замертво, не добежав. Памятник того спонтанного штурма - дыры в стенах дальнего торца, которые пробили пожарные, чтобы выносить из зала тех, кто не смог убежать сам.
36.

В том штурме "Альфа" и "Вымпел" понесли крупнейшие разовые потери в своей истории (равно как и Беслан потерял тогда больше людей, чем в Великую Отечественную). На месте гибели каждого из 10 бойцов теперь мемориальная табличка, лишь одна из которых - чуть в стороне, у апсиды нового храма. На ней увековечен Дмитрий Разумовский из Ульяновска, командир "Вымпела", ветеран афганского пограничья и двух Чеченских войн, на счету которого было немало рейдов по тылам боевиков и захват Салмана Радуева. Он был убит первым, ещё во время рекогнасцировки, но его гибель выявила огневые точки боевиков.
37.

Дверь школьного здания обычно заперта, но с "экскурсией в ад" я прошёл внутрь. В школе не лежит даров - зато коридоры её с выбоинами от пуль, въевшейся гарью и осыпавшейся штукатуркой выглядят так, будто бой закончился вчера.
38.

Убрали только баррикады из парт и шкафов, выставленные в окнах. Из спортзала террористы отступили вглубь здания, прикрываясь детьми. Бой шёл в густой пыли, где видимость была едва ли дальше вытянутой руки. Спецназ проник в школу через окна, и шедший впереди Роман Катасонов, уроженец Серпухова, выросший в Западной Украине и Беларуси, а прежде освобождавший "Норд-Ост", был убит в этих дверях пулемётной очередь сквозь коридор.
38а.

Главный бой развернулся в школьной столовой, на колоннах которой весит целых 6 мемориальных досок, на которых увековечены "вымпеловцы" Андрей Велько (выходец из Киргизии), Михаил Кузнецов, Андрей Туркин и "альфовцы" Олег Лоськов, Александр Перов и Вячеслав Маляров. Все они были опытными бойцами, успевшими пройти не только Чечню, но и Афганистан, и большинство двумя годами ранее освобождали "Норд-Ост". Обстоятельства их гибели, да и места, отличаются в разных источниках, но безусловно то, что все они пали героями, спасавшими детей, а то и закрывавшими их собой. Больше всего слов при мне было сказано про Андрея Туркина, который вон в том дальнем углу лёг на гранату, брошенную боевиками в толпу детей. Рассказчик передавал слова других заложников, даже в той суматохе и страхе запомнивших на всю жизнь его последний взгляд из прорези в маске.
39.

Конечно, помимо погибших героев, были там и герои выжившие - например, Максим Разумовский, младший брат Дмитрия Разумовского, теперь известный как Русский Танк: вот здесь очень впечатляющее его интервью. Там же и о причинах потерь - перепуганные, оглохшие от взрывов и ослепшие от пыли, измождённые дети явно ничего не знали о тактике боёв в помещении, бежали часто прямо под огонь, из под которого спецназовцы их и вытаскивали. Боевики же в гуще боя просто обезумели - не могу найти иных причин такого навязчивого стремления убить как можно больше детей... Над местом схватки людей с бесами проступил лик:
39а.

На другом конце школы - ворота, когда-то бывшие главным входом. Через них 2 сентября вышли живыми 24 человека - из всех, кто пытался вести переговоры с террористами, лучше всего это получилась у Руслана Аушева, президента Ингушетии в 1992-2001 годах, остающегося для своего народа авторитетом.
40.

Отсюда можно взойти на второй этаж, в зал дореволюционного корпуса с остатками печек-голландок. Здесь в коридорах рассказчик вспоминал про "ополченцев": со времён осентино-ингушского конфликта, когда были разграблены военные склады, во многих домах Алании хранилось оружие вплоть до старых автоматов. Дополнительную раздачу стволов населению организовали местные бандиты и братушки из Южной Осетии, а как результат, за периметром оцепления очень быстро выросла толпа вооружённых осетин. Они оказали неоценимую помощь в спасении бегущих детей и не дали уйти нескольким террористам, буквально разорвав их на куски, но штурму скорее мешали: так, увидев пробегавшего по второму этажу человека в камуфляже, "ополченцы" начали палить из всех стволов, пока перед ними не встал БТР и не дал очередь в воздух - за боевика они приняли спецназовца.
41.

Здесь же, на втором этаже, ещё в первый день боевики расстреляли 15 мужчин, сочтя, что те могут оказать им сопротивление. На доске - 16 имён, но среди них и убитый в зале Бетрозов.
42.

Коридор ведёт в актовый зал, расположенный прямо над столовой, и здесь тоже развернулся жестокий бой между группой Олега Ильина, ещё до начала штурма проводившей рекогносцировку. В том бою погибли 9 головорезов и двое спецнозовцев - сам Ильин и Денис Пудовкин. В целом же бои с засевшим в школе боевиками, где с обеих сторон применялись гранатомёты, а с нашей ещё и огнемёты по крыше, продолжались до глубокой ночи, и именно ночью (мне говорили, что в час ночи; иные пишут, что в 9 вечера), когда здесь уже не осталось живых заложников, а боевики успешно прятались от пуль и гранат, был сделан пресловутый "танковый выстрел". Как выглядит след от танкового снаряда на доме, я хорошо помню по Донбассу, и на этой школе таких следов нет: танк работал по флигелю, который теперь снесён. "Гиды по аду" вспоминали и про этот эпизод, но как-то сквозь зубы: "в Москве писали всякое, пытались разогнать обстановку".
43.

Не знаю, читали ли они то, что писали про Беслан по горячим следами все эти "Новые Известия", "Коммерсанты" и другие "независимые СМИ". Я как сейчас помню в какой-то из этих газет фразу "Спецназовцы стреляли по детям, потому что им было всё равно, по кому стрелять" - но теперь вот не могу её нагуглить. А в комментариях к интервью Русского Танка кто-то язвит: "Вы участвовали в расстреле школы?". За трагедией последовала пляска на костях, участники которой отличались от боевиков разве что трусостью, слабостью и неумением стрелять, но явно не моральным обликом. И я на всю жизнь запомнил тот информационный фон, который царил тогда в интернете: "не вините террористов в том, что спецназ пошёл на штурм".
43а.
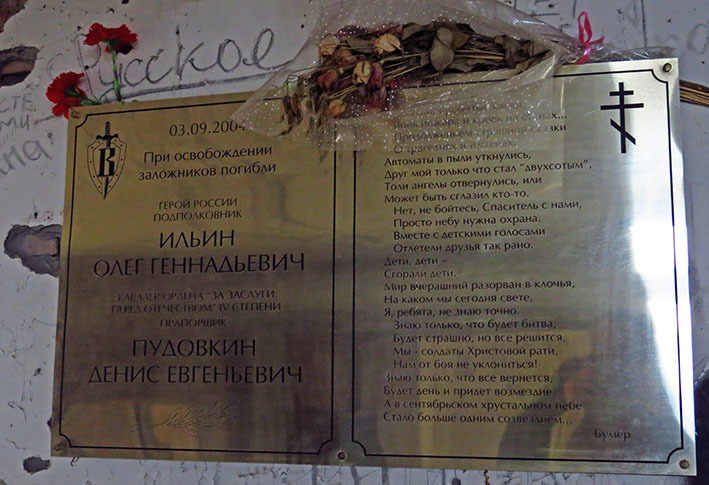
Ещё прямее высказалась западная пресса:
Между российским спецназом и чеченскими или прочеченскими боевиками (состав группы еще не установлен) находилось много детей. Но этого оказалось недостаточно, чтобы поколебать решимость хозяина Кремля. Лишь его молчание выдает растерянность российских властей после трагической развязки. (...) Самое прискорбное в этом деле - то, что из него, весьма возможно, не будет извлечено никаких уроков. (...) Ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не говорят ни слова о чеченском конфликте - этом жутком фоне бесланской трагедии. Не высказано даже дипломатичного сожаления по поводу полного презрения к человеческой жизни со стороны спецназа, "спасавшего заложников" (Le Temps, Франция, 04.09.2004).
Однако бесчеловечный терроризм подобного рода не появляется ниоткуда. Российские войска, участвовавшие в двух войнах в Чечне, сами отличились отменной жестокостью - они убивали, мучили, калечили и захватывали людей с равной по силе развязностью и пренебрежением к нормам права. (...) Путинская политика драконовских мер подавления и его нежелание санкционировать хотя бы ограниченную долю самоопределения в некоторых регионах Кавказа стала политикой, обреченной на провал (The Guardian, Великобритания, 06.09.2004.).
Ужасная трагедия, постигшая Беслан на прошлой неделе, имела один позитивный элемент: россияне теперь знают, что у террористов не бывает фаворитов. Оппозиция Владимира Путина вторжению в Ирак не спасла Россию от исламского зверства. (The Wall Street Journal, США, 07.09.2004.).
"Детей жалко, но Россия получила по заслугам" - лейтмотив того, что я читал тогда на Иносми и Инопрессе. Что удивительно по нынешним временам, комплиментарнее всех из народов Запада тогда высказывались американцы, ещё не забывшие своё 11 сентября и даже, кажется, надеявшиеся увидеть русских в Ираке. Украинцы тоже тогда промолчали (тем более их информационный фон был перегрет грядущим Первым Майданом), а вот в нынешних реалиях, наверное, устроили бы всенародные гуляния и налепили бы много-много искромётных демотиваторов с весёлыми подписями под трупами детей. Тогда это частично наверстали поляки, выдавшие совершенно хтоническую мерзость под заголовком "Триумф российского империализма", которую я тут даже цитировать побрезгую. Естественной реакцией на такую трагедию в любой другой стране было бы безоговорочное сочувствие - хотя бы в первые дни, пока все на эмоциях. Но западная пресса балансировала где-то между злорадством и перекладыванием вины, и кажется, именно тогда я понял, кем мы для них являемся. И ещё вопрос, пошёл бы Басаев на убийство детей, если бы не знал, что ведущие мировые СМИ сделают всё для обеления "повстанцев" (как их там называли).
43б.
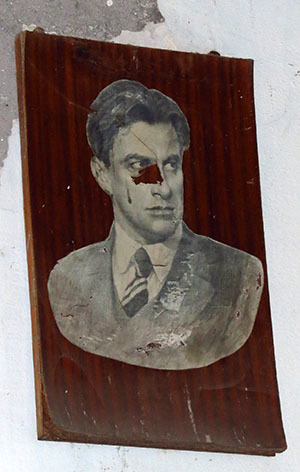
По словам рассказчика, только в его "корпусе" (пятиэтажке) в тот злополучный сентябрь хоронили шестерых детей, а в домах напротив школы было более тридцати погибших. Гробы стояли по всему Беслану почти у каждого подъезда, и часто не по одному. Молча, ни задав ни одного вопроса, я ходил с "экскурсией по аду", а затем, оглушённый, покинул школу №1. Неподалёку - ещё одна школа, видимо построенная ей на замену.
44.

Поймав такси, я поехал на Аэропортовское шоссе:
44а.

Здесь почти напротив кувандона раскинулся Город Ангелов - мемориальное кладбище, где покоятся 266 жертв теракта из 333 (боевики, само собой, в это число не входят, ибо не являются людьми и вообще одушевленными предметами).
45.

У входа - ещё один памятник спецназовцам:
46.

Хочется верить, что мой классрук был всё же прав, и после Беслана активность террористов пошла на спад не только потому, что с ними стали эффективнее бороться, но и потому, что от таких "
47.

На иных могилах надписи - где-то выгравированные, где-то приклеенные. Больше всего меня поразила вот эта. 11-летняя Аза Гумецова и две её подруги тоже сумели переползти по залу к четвёртой девочке - вместе встретить её день рождения. Но собрались они как раз в том углу, где произошёл взрыв, и тело Азы было так изувечено, что опознали её среди всех жертв едва ли не последней:
47а.

Над Городом Ангелов высится два памятника. С одной стороны - 9-метровое Древо Скорби, поставленное в 2005 году:
48.

49.

С другой - хачкар "От детей Армении", которым произошедшее, видимо, напомнило свой геноцид:
50.

Рядом - очень армянский по облику памятник "Жажда":
51.

Вернее - пулпулак, питьевой фонтанчик. Давно не работающий, но вместо воды в его сифоне - ангелочек:
51а.

Город Ангелов переходит в обычное городское кладбище. Увидев над ним муляж самолёта, я подумал сразу о трагедии над Баденском озером и погибших детях спонтанного мстителя Виталия Калоева, но нет - это просто могила лётчика.
52.

Помимо прессы, я хорошо помню и страсти, кипевшие в те дни на форумах. Увы, большинства из них уже не существует - вот, например, кое-что выжило на "Самиздате", однако самых интересных комментариев там я не смог найти. Но я хорошо помню, например, такой (видимо. от белоруса): "Мой ребёнок 1 сентября пошёл в школу. Если какая-нибудь тварь скажет мне про интеграцию с Россией - то получит в морду сразу же! Этот кошмар там продлится десятилетия". Можно ли было в те дни поверить, что когда-нибудь закончится война? Но вот прошли годы. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев мотает пожизненный срок в заполярном Харпе, где отомстить ему за бесланских детей грозился Битцевский маньяк - тогдашний сокамерник. Шамиль Басаев сгинул летом 2006 года в назранском предместье Экажево, когда спецслужбы подложили бомбу в "Камаз" со взрывчаткой для новых терактов - и хотя я совсем не кровожадный, мне было искреннее приятно читать, на каком расстоянии от эпицентра какой нашли ошмёток главного террориста. Году этак в 2007 боевики чеченского подполья взяли ответственность за пожар в закрытом на реконструкцию московском театре, быстро потушенный и обошедшийся без жертв - и я понял, что они побеждены. Самый разрушенный город мира Грозный отстроили за несколько лет, и вот уже чеченцы вошли в иностранные СМИ как верные воины Путина среди донецких терриконов и сирийских песков. Я хорошо помню то чувство отчаяния, бессилия, безнадёги, что испытывал осенью 2004 года - и тем сильнее поражаюсь контрасту с тем, что вижу теперь своими глазами. Нельзя даже сказать, что правы оказались оптимисты - ибо из тех мрачных дней даже самый розовый оптимист не мог себе представить, что всего-то в следующем десятилетии в Чечню и Ингушетию будут массово ездить в отпуск.
И вот об этом - в следующих частях.
|
Метки: Зона заражения Кавказ дорожное |
Моздок. На пороге Кавказа. |

Место, где принимали в русское подданство Осетию и Малую Кабарду; один из истоков Терского казачьего войска и предвестие Пугачёвского бунта; родина отечественной, если не мировой, нефтеперерабатывающей промышленности; начало Военно-Грузинской дороги "за стену Кавказа" и "врата ада" двух Чеченских войн. Всё это - Моздок, второй по величине город (42 тыс. жителей, не считая предместий) Северной Осетии в её равнинной части, на берегу Терека за сотню километров от Владикавказа. И хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что читать о Моздоке интереснее, чем гулять по нему, именно здесь я начал своё путешествие по весеннему Кавказу.
Ну а пост такой огромный потому, что помимо собственно города я покажу здесь ещё и близлежащую станицу Новоосетинскую с весьма необычной церковью, построенной и не в РФ, и не в РИ, и даже не в СССР.
...В 13-14 веках в степях и горах Предкавказья мучительно погибала Алания - некогда могущественное христианское государство, предками которого числятся скифы, а потомками - осетины. На её руины могли претендовать горцы, только и мечтавшие со своих круч однажды выйти "на плоскость". Но у вайнахов высшей формой организации оставался тейп (клан), а вот черкесы имели подобие государственности и наследственную аристократию. И вот в 14-15 веках от Эльбруса до Казбека раскинулась своебразная черкесская "колония" - Кабарда. С ослаблением кумыков, степных тюрок, господствовавших в те века на Восточном Кавказе, за Терек потянулись кабардинские князья, проигравшие в междоусобных войнах, и к 18 веку "на гребнях" (лесистых хребтах между Тереком и Сунжей) образовалась Малая Кабарда, где чужеродными вкраплениями стояли "остроги" русских казаков и всё активнее селились чеченцы и ингуши, которых знатные кабардинцы, не спрашивая, считали своими подданными. Междоусобицы, однако, не прекращались, и малокабардинские князья, сидевшие на Дарьяльском проходе через Кавказ, искали союза то с Грузией, то с Россией. Наконец, в 1759 году князь Кургока Канчокин поехал в Кизлярскую крепость, а вернулся оттуда другим человеком - теперь звали его Андрей Канчокин-Черкасский, и сверкал на его шее православный крест. Однако получил в свой удел новоиспечённый дворянин не поместье в губернии Пензенской, а собственную крепость Моздок, построенную в 1757-63 годах в глухих лесах на северном берегу Терека. Первым её гарнизоном стала Кургокина дружина из сотни черкесов и осетин, названная в русских документах Моздокской горской казачьей бригадой. Однако в последующие годы крещёные горцы служили в основном гонцами да переводчиками - на Терек прибывали всё новые части регулярных русских войск и казаки с Волги и Дона: десяток станиц вокруг крепости сложился в Моздокский казачий полк, позже ставший одной из основ объединённого в 1860 году Терского войска. Кабардинцы, предприняв несколько безрезультатных набегов на Моздокскую крепость, сами махнули рукой да пошли к "белым волкам" на поклон. Как и осетины, в 1774 году державшие совет старейшин, по итогам которого в Моздокскую крепость прибыла делегация с прошением о подданстве. Следующие пол-века стали расцветом Моздока, превратившегося в центр Русского Кавказа: в 1784 году прямая дорога через Дарьял связала его с Тбилиси, а ещё год спустя крепостные форштадты были объединены в уездный город. Однако Моздок был только ключом, отворившим кавказскую дверь, и быстро затерялся среди лежавших за ней сокровищ: в 1825 году поменялась трасса Военно-Грузинской дороги, в 1835 была упразднена Моздокская крепость, а в 1847 расформировался и уезд, прежде не раз переходивший из губернии в губернию. Позже, конечно, были здесь новые взлёты и падения, но в целом Моздок последних полутора столетий - это такая добротная, крепкая глушь.
2.

Чему способствует само расположение: на карте Северная Осетия удивляет своей формой с характерной "головой" на тонкой длинной шее. Вот эта голова и есть Моздокский район: восстановленный в 1899 году как Моздокский отдел Терской области, в последующие полвека он раз пять передавался из региона в регион и наконец в 1944-м отошёл Северо-Осетинской АО. А впридачу с ним родине предков Иосифа Виссарионыча Дзагоева достались солидный кусок Балкарии и большая часть Ингушетии, жители которой уехали тогда в теплушках обживать ледяную казахскую степь. На родину они возвратились в 1958 году поредевшие и злые, и если отданные русским районы вернули былым хозяевам без вопросов да с добавкой, то между двумя кавказскими народами нашла коса на камень. Восстановление Чечено-Ингушской АССР в полном объёме значило, что в неё придётся включить половину Владикавказа, а Моздокский район превратится в эксклав. Так между двумя регионами России образовалась натурально спорная территория, light-версия Нагорного Карабаха - Восточная часть Пригородного района (на кадре выше - выступ от Владикавказа на восток) и Моздокский коридор шириной в несколько километров, посреди которого стоит ингушское село Хурикау, а для своих - Кескем. С распадом Союза территориальный спор перерос в небольшую войну, не ставшую главным событием постсоветского Кавказа лишь потому, что её затмили ужасы Чеченских войн: в столкновениях в Пригородном районе осенью 1992 года было убито полторы сотни осетин и без малого тысяча ингушей, а ещё 35 тысяч человек стали беженцами. Не то что неприязнь, а взаимная ненависть двух народов ощущается до сих пор, причём со стороны осетин - в весьма специфической форме: критическая масса жителей Алании считают всех ингушей поголовно головорезами и террористами, к которым приличному человеку не стоит приближаться на выстрел. В теории из Владикавказа в Моздок ведёт прямая 80-километровая дорога через предместья ингушских Назрани и Малгобека, но ни один уважающий себя осетин по ней не поедет, предпочтя куда более длинную и глухую дорогу через Моздокский коридор. И даже Хурикау она так мудрено огибает по зелёным холмам Сунженского хребта, что ингушское село лишь краем глаза успеваешь заметить в низине.
3.

Я готовился въезжать в Моздок по мосту через Терек, который покажу ещё ближе к концу поста. Но Кескемская дорога пересекает реку километрах в 20 выше города, где из прибрежных кустов вдруг показывается нечто, похожее странную на Г-образную плотину. Коей по сути и является - это головное сооружение Терско-Кумского канала, с 1960 года орошающего степи Восточного Ставрополья. Его стережёт изрядное количество вооружённой до зубов охраны, вахта которой плавно переходит в столь типичный для Кавказа придорожный блок-пост, так что вместо моей фотографии - карточка из музея да ссылка на репортаж
 zavodfoto.
zavodfoto.3а.

Миновав Терек, маршрутка ещё долго едет по пригородным станицам, затем петляет по городу и прибывает наконец на автовокзал. Надо заметить, и эта сущность в Моздоке неоднозначна: Старая автостанция на объездной заброшена совсем недавно и многие таксисты по привычке возят к ней, а Нижняя автостанция на центральном рынке обслуживает пригородные маршруты и единственный (в 13:00) рейс в Назрань. Новая автостанция же, с которой ездят в Пятигорск, Владикавказ и Грозный, примыкает к железнодорожному вокзалу (1913-15), от которого и начнём прогулку:
4.

Сам вокзал легко принять за ворота крепости, причём крепости действующей и ждущей набега горцев. Привокзальная площадь с контуром бетонных блоков напоминает эспланаду, а проходы к путям закрыты так надёжно, что лишь столбы с проводами выдают наличие путей. Тяжёлые двери вокзала большую часть времени наглухо заперты - он открывается лишь к поездам, коих тут ходит 2 пары: Москва - Грозный и Петербург - Махачкала.
5.

Напротив вокзала - небольшой опрятный Парк Победы со стелой Три Штыка (1979), а вдоль Вокзальной улицы тянутся домики старой путейской слободки:
6.

Среди которых высится школа с благородным старым корпусом меж силикатных пристроек:
7.

И девочки с крылечка удивлённо смотрели, как рослый мужчина в белой панаме фотографирует школьный двор. Его отмечают памятник и мемориальная доска весьма неожиданному государственному деятелю: так и не ставший "Сталиным 2.0." Юрий Андропов родился в 1914 году в семье железнодорожника на станции Нагутской, и в 1924-32 годах, потеряв отца и отчима и перебравшись с матерью в Моздок, учился в этой самой школе.
7а.

От вокзала до центра ещё километра два, но всё прямо - по длинной и шумной улице Кирова, очевидно главной в Моздоке. На полпути - отмеченный горскими башнями в миниатюре главный городской перекрёсток с улицей Мира, спускающейся к Терскому мосту:
8.

Сами же районы между центром и вокзалом откровенно невзрачны, и я бы даже сказал - мрачны. При скромном размере, Моздок удивительно неоднороден, и стены, десятилетиями не знавшие ремонта...
9.

...тут запросто могут соседствовать с блестящими новизной плиточными тротуарами и всяческими новостройками жанра "для людей":
10.

Что же до самих этих людей, то первое слово, которым можно описать Моздок - "многонациональный". Официально здесь 60% жителей русские, и лишь 8% - осетины. Им наступают на пятки кумыки (7%), вместе с чеченцами (3,5%, в основном потомки беженцев), кабардинцами (3,5%) и внезапно, турками (2%) представляющие в Моздоке мусульман, благодаря женскому дресс-коду и обилию детей весьма заметных на улицах. Ещё 6% моздокцев - армяне, и они тут старожилы: к началу ХХ века на языке Месропа Маштоци говорила четверть жителей города. Совсем уж неожиданностью для меня стало заметное количество явно азиатских лиц: я думал, что это калмыки, а оказалось - заброшенные судьбой через Дальний Восток и Среднюю Азию корейцы, коих в Моздоке целых 2% населения. Здешние русские же какие-то другие - более смуглые, более патриархальные, более домовитые, чем даже жители соседнего Ставрополья, но в отличие от последних - не слишком религиозные. Уж не знаю, сохранили они кровь терского казачества или просто привыкли жить с кавказцами и перенимать их уклад, но беглым взглядом Моздок совсем не похож на привычную Россию.
11.

Сама же смесь тут весьма гремучая, тем более в сочетании с бедностью и полным отсутствием туристов. Подвозивший меня военный напутствовал: "вечером лучше не гуляй, тут молодёжь националистически настроенная осталась", а я к тому времени уже успел пройтись по городу в сумерках и отметить подзабытое за последние десять лет обилие самых классических гопников. Добавьте сюда военных, по тёртому камуфляжу и обветренным лицам которых легко усомниться, правда ли на Кавказе кончилась война, и огромное количество режимных объектов с вооружённой охраной. Атмосфера Моздока тяжёлая и тревожная, и даже в самых уютных дворах здесь ощущается что-то зловещее.
12.

...Тем временем, улица Кирова выводит на круглую площадь, над которой изящно взлетает Миг-21, поставленный в 1975 году опять же в память Великой Отечественной:
13.

Тогда же, видимо, был построен Кинотеатр имени Кирова, где последние лет 25 показывают только вот это:
14.

Самолёт и театр, однако, открывают Старый Моздок, и резко поворачивающая на круглой площади улица Кирова в этой своей части когда-то называлась Алексеевской. Здесь встречают сталинка местного техникума и весьма пафосный отель "Моздок":
15.

Главная же в городе площадь 50-летия Октября лежит чуть в стороне:
16.

А возраст неожиданно огромных памятника Ленину и Дворца культуры примерно ясен из её названия:
17.

Как я понимаю, площадь обустроили на месте Успенского собора (1877-92), серьёзно повреждённого войной и окончательно доломанного в 1958 году:
17а.

От площади я вышел на Ростовскую улицу и по ней вернулся к улице Кирова. Перекрёсток отмечает пара скульптур - с одной стороны предельно бестолковый Мыслящий Горожанин:
18а.

С другой - целый мемориал "афганцам", причём если бюст Василия Маргелова (основатель ВДВ) явно новый, то чёрная рука с гранатой появилась здесь уже в 1992 году. Меня, впрочем, больше всего озадачил пулпулак - армянский питьевой фонтанчик, судя по типовому проекту и даже надписи армянскими буквами доставленный сюда прямиком из Еревана, а судя по вполне рабочему состоянию - ещё и считанные месяцы назад. Возможно, это памятник миротворцам Второй Карабахской войны?
18.

Ещё пара кварталов мимо больницы и новенького ТЦ - и вдоль улицы Кирова начинает сгущаться исторический центр. К началу ХХ века Моздок подошёл захолустьем с населением 7,9 тыс. жителей. Население это было столь же многонациональным, и даже более того - за сотню лет город порядочно обрусел: по переписи 1897 года здесь числилось 46% русских, 24% армян, те же 7% осетин и 5% кабардинцев.
19.

Из соседней улицы Свердлова на этот квартал глядят крепостные ворота - на самом деле всего лишь оригинально оформленный, пусть и заброшенный, летний театр. Он стоит в Комсомольском парке, разбитом в свою очередь на месте самого долговечного элемента Моздокской крепости - её тюрьмы. Здесь же и памятник известнейшему узнику - будущему "мужицкому царю". Емелька Пугачёв был донским казаком из станицы Зимовейская, исправно воевал с турками в Бессарабии, но затем заболел и вскоре обнаружил своё полное бесправие. Приехав отвести душу к родичам в Таганрог, он договорился с ними до того, что к гордому казаку чины как к простому солдату относятся, и решил бежать с Дона на Терек. Там Пугачёв стал атаманом станицы Ищёрской (ныне - на севере Чечни), но быстро обнаружил, что вольная волюшка давным-давно и отсюда ушла. Приехав в 1772 году в Моздок как ходок от Ищёрской, Наурской и Галюгаевской станиц по каким-то их нуждам, Пугачёв был узнан как беглый донец и арестован, но легко бежал и с здешней гауптвахты. Ну а ещё год спустя на Яике, где вольница была ещё жива, объявился "чудом выживший Пётр III"...
20.

Самая же интересная часть парка - на краю, по разные стороны Армянской улицы. Ближе видно весьма заслуженное дерево, которое тут называют то Дуб-Исполин, то Дуб-Ровесник Моздока. На камне у основания - провинциально-трогательные строчки местного поэта Льва Пальцева:
Кто-то добрый тебя посадил у дороги,
Может терский казак иль седой осетин,
Так шуми же листвою без бурь и тревоги,
Летописец Моздока, наш дуб-исполин.
А по мне так грех не увязать появление этого дуба с той самой делегацией 1774 года и принятием Осетии в состав России. Тем более что заброшенная Кирлло-Мефодиевская школа (1913) стоит на месте первой в своём роде Осетинской школы, открывшейся при крепости в 1764 году. В 1798 в ней же была напечатана и первая книга на осетинском - букварь и катехезис:
21.

Комосомльский парк вытянут вдоль одноимённой улицы в квартале южнее улицы Кирова. А вот парой кварталов севернее, на улице Шаумяна, встречает Успенско-Никольская церковь (1898), оставшаяся за главную после утраты собора:
22.

От которого она унаследовала посвящение и главную святыню - Моздокскую икону Богоматери, чудотворный список Иверской иконы, который по преданию даровал осетинам Давид-Сослан, муж грузинской царицы Тамары и её главный полководец. Сама же церковь вовсе не проста: сквозь штукатурку и не скажешь, но вообще-то она деревянная, чем и уникальна сразу по двум пунктам. Во-первых, это самая южная деревянная церковь всей России (но не экс-СССР - свои деревянные храмы есть в Грузии), а во вторых как бы не единственный (в экс-СССР так точно!) образец армянского деревянного зодчества - как можно понять по островерхим куполам, строилась она как какая-нибудь Сурб-Аствацацин или Сурб-Григор.
23.

Переселенцы из Закавказья и были первыми гражданскими жителями моздокских форштадтов. По данным 1764 года, тут жило 3,2 тыс. человек (для того времени - очень много, примерно как 300 тыс. жителей сейчас), из которых 40% составляли армяне, ещё 8% - грузины и 20% черкесы. И сам факт армяно-грузинской общины на бойком месте в общем-то совсем не удивляет, а вот откуда хай и картвелы сюда явились - историки не знают до сих пор: скорее всё же ехали они из Астрахани или Дагестана, чем напрямик из Закавказья или Персии. Памятник жертвам геноцида армян соседствует на церковном дворе с силуэтами горских башен.
24.

Центр, между тем, всё ближе, и даже на боковых улицах начинают попадаться единичные старые домики:
25.

А на бывшей Алексеевской есть даже пара более-менее целостных старых кварталов. Их открывают дом купца Великанова:
26.

И городская администрация 1930-х годов:
27.

Невзрачное здание женской гимназии практически напротив него занимает основанный в 1970 году Моздокский музей краеведения, переехавший сюда в 1981-м. Окружает его неуёмный, как в революционных рассказах из журнала "Пионер", пафос, вплоть до раздела "Стихи о музее" в вики-статье, но внутри встретили меня темнота и затхлость. Среди сотрудниц поначалу случился лёгкий переполох, и прежде, чем мне продали билет и разрешили фотографировать, кассирша обзвонила несколько инстанций. Дальше я шёл по залам, в которых для меня включали и выключали свет, и любовался не столько экспонатами, сколько интерьерами глубокой советской эпохи.
28.

Тем не менее, визит в музей себя оправдал - ведь вне музея про Моздок рассказано ещё меньше, и только здесь я смог найти информацию о происхождении отдельных зданий. И что за дом стоит с музеем по соседству - витрины не знают:
29.

А вот напротив него - бывший кинотеатра "Палас", где 24 января 1918 года проходил Первый съезд народов Терека, ставший предвестием Красного Кавказа. Делегацию большевиков на нём возглавлял Сергей Киров, так что и название центральной улицы закономерно.
30.

Рядом - самый роскошный в старом Моздоке дом купца-винокура Ходжаева:
31.

Напротив - какие-то лавки. Вид на них с другой стороны - на заглавном кадре:
32.

Улица Кирова упирается в колоннаду (2018):
33.

За которой, на фоне ещё каких-то дореволюционных зданий, ярко горит Вечный огонь:
34.

И стоит скромный памятник Военно-Грузинской дороге (1984), появившийся тут на её 200-летие. Началом дороги в Тбилиси, не потерявшей актуальности и 240 лет спустя, воспринимается Владикавказ, но официально она начиналась в станице Екатериноградской, а до 1825 года выходила прямо из ворот Моздокской крепости.
35.

На месте которой, между Тереком и его старицами, теперь разбит Детский парк:
36.

Половина его ближе к колоннаде ныне выглядит "с иголочки", а вот напротив сталинки кинотеатр "Мир" (кадр выше) встречает жутковатое запустение.
37.

Среди разрухи притаились мутанты - одни клянчили у меня денег на выпивку, другие просто смотрят из пыли:
38.

С кинотеатром "Мир" же соседствует огромная школа-интернат №1, рядом с которой стоит, пожалуй, самый интересный в Моздоке памятник братьям Дубининым (1983), построившим здесь, ни много ни мало, первый в мире нефтеперерабатывающий завод:
39.

Василий, Герасим и Макар Дубинины из села Верхний Ландех под Гороховцом были крепостными крестьянами графини Софии Паниной. Которая и переселила их, видимо не особо вникая, кто есть кто, из глухих русских лесов в чернозёмные степи Кавказа. Однако Дубинины жирной земле не обрадовались - ведь были они не пахари, а смолокуры, всю свою жизнь (а старшему брату было уже 35 лет - по тем временам немало) занимавшиеся перегонкой смолы на скипадар и дёготь. Облазав весь доступный Кавказ и умудрившись не попасть в плен к горцам, братья пригорюнились - их мастерство осталось без сырья... Но вот близ Грозной крепости на Сунже кого-то из Дубининых вдруг осенило - ведь по окрестным аулам вышедшие на равнину чеченцы рыли колодцы, а из колодцев этих не воду черпали, а чёрную едкую нефть, всем своим видом напомнившую братьям любимую смолу. Тут надо заметить, что нефть была известна людям испокон веков, и в древнем Вавилоне центральные улицы были крыты асфальтом, а Константинополь от морских атак защищали огнемёты и зажигательные бомбы в керамических горшках. Древняя жижа была востребована на Ближнем Востоке, по которому из соседнего Баку ежедневно расходился караван из 200 гружёных нефтяными кувшинами верблюдов. Персы и арабы знали, что её можно разделять на фракции - "чёрная нефть" (битум) шла на лекарственные мази и стройматериалы, а "белая нефть" (керосин) использовалась для освещения. Технологии перегонки нефти и смолы, конечно, порядком отличались, но всё же сходство их было достаточным, чтобы изголодавшиеся по своему ремеслу смолокуры сумели построить нефтеперегонную установку.
39а.

40-вёдерный железный куб с медной крышей нагревался до 200 градусов, от чего лёгкие фракции испарялись, и проходя по змеевику в бочке с холодной водой, конденсировались. Тут стоит добавить, что грозненская нефть очень лёгкая, и из 40 её вёдер братья получали 16 вёдер "белой нефти" - в последующие десятилетия она была известна как фотоген, а в наши дни - как керосин. Другими фракциями были мазут и бензин, и если первый братья научились использовать как смазку механизмов и топливо для перегонного куба, то второй просто сливали в канаву как бесполезный отход. Завод работал в Моздокской крепости в 1823-48 годах, и за это время братья не только выкупились из крепостничества - они активно занимались разведкой месторождений, готовили новые кадры уникальной в тогдашнем мире специальности, строили перегонные кубы в крепостях Кавказской линии. Главным препятствием к тому, чтобы стать первыми в мире нефтяными магнатами же стало законодательство - до 1872 года вся нефть Кавказа добывалась по откупной системе (то есть право на её добычу покупалось на фиксированный срок у землевладельца - в данном случае казаков), а прошения Дубининых выделить им собственную землю для промыслов не были услышаны государством. Затем вкус фотогена распробовала Европа, и огромные партии дешёвого топлива потекли в морские порты. В 1847 году Дубинины получили от государя-императора медаль, а ещё через год обанкротились.
39б.

И в общем, конечно, тут стоит задуматься, не был ли нефтезавод Дубининых порождением "борьбы с космополитизмом", как аэростат Крякутного или первенство Черепановых в создании паровоза. "Отцом" современной нефтепереработки в англоязычном мире считается канадец Абрахам Гесснер, нашедший способ перегонки керосина в 1846 году. В англовики, например, про Дубининых нет ни слова. В то же время о заводе Дубининых много писали уже в конце 19 века, на волне нефтяного бума в Баку, да и сама эта история выглядит вполне логично: Кавказ в мире 200-летней давности был едва ли не единственным местом, где вековые азиатские традиции добычи и использования соприкоснулись с относительно развитой европейской страной. Ну а Советы дело Дубининых возрождать в Моздоке не стали - ныне известнейшим предприятием города и по совместительству его художественным промыслом можно считать гардинную фабрику "Моздокские узоры", основанную в 1960 году.
40.

От Детского парка рукой подать до Центрального рынка и Нижней автостанции, а оттуда и до терского берега. Вот так получилось: Терский берег Белого моря я увидел на 10 лет раньше, чем тот терский берег, куда "выгнали казаки сорок тысяч лошадей". И на берегу этом можно вспомнить, что название Моздок в переводе с кабардинского значит "Глухой лес":
41.

Городская застройка в Моздоке, кажется, нигде не выходит к воде, а вот остатки Алборовского леса тянутся от города вниз по течению на десяток километров. С действующим автодорожным мостом же соседствует Взорванный мост (1929-30), напоминающий о Великой Отечественной - в 1942 году немцы заняли Моздок на четыре месяца и остановлены были лишь на Терском хребте под Малгобеком:
42.

Сам же Терек оказался именно таким, каким я всегда его представлял себе - быстрой, свирепой, мутной рекой. Начинаясь в Грузии, он спускается по Дарьяльскому ущелью и очерчивает по подножью Восточный Кавказ. Кубани, главной реке Западного Кавказа, Терек уступает длиной (623км) и расходом воды (305 м³/с) примерно в полтора раза, но фактически, с учётом более быстрого течения, он куда маловоднее: каскад ГЭС тут есть, а вот судоходства, кажется, никогда не было.
42а.

Терский мост упирается в Калининское - одно из десятка крупных сёл и станиц, опоясывающих Моздок по обеим берегам. Многие из них интересны сами по себе - например, грандиозный (11 тыс. жителей) Кизляр (не путать с городом в Дагестане!), пересечение которого на маршрутке ненадолго переносит на Ближний Восток с его женщинами в платках, неимоверным обилием детворы и грандиозностью мечетей. Я почему-то подумал, что живут здесь ингуши, но на самом деле - кумыки, причём их редкая терская разновидность, восходящая к отдельному тюркскому народу - тюменам, образовавшим на осколках Золотой Орды собственное Тюменское ханство, в 1594 году вошедшее в состав России. Тюменов все, конечно же, давно забыли, а вот кумыков в Моздоке знают как тех, кому лучше не попадаться ночью в тёмном переулке.
43.

На въезде же со стороны Владикавказа встречает станица Луковская (5,6 тыс. жителей), приросшая к Моздоку так плотно, что "на местности" граница двух селений не видна. Ехавшая в маршрутке разговорчивая осетинская бабушка, однако, сразу же восклинкула: "О, луковские казаки!" - кажется, разделение между горожанами и станичниками тут по сей день не забыто.
44.

Луковская мне запомнилась в Моздоке местом отдыха. Например, здесь находится "Джимара" - самое известное в Моздоке заведение, где продают на вынос осетинские пироги. Пироги эти не идут ни в какое сравнение с московским эрзацем - они огромны (раза в два больше тарелки), из печи раскалены почти до жидкого состояния, а главное - с необычными начинками вроде сыра и свекольных листьев или сыра и черемши. В самой "Джимаре" я пирогов так и не отведал, ибо ждать своей очереди мне пришлось бы без малого час, но в кафешке напротив (название её я, конечно, забыл) пироги тоже оказались великолепны. Ну а ужинал, завтракал и обедал двумя такими пирогами я в неожиданно уютной гостинице "Люис" (или всё-таки "Люкс"?) на улице Усанова, которая служит границей Луковской и Моздока и выполняет в нём роль объездной.
45.

Интересные селения есть и подальше от города. Например, Виноградное (2,3 тыс. жителей) за Тереком в 1880-1943 годах было немецкое колонией Гнаденбург, где даже сохранилось лютеранское кладбище. Ну а через Луковскую каждые час-полтора ходит ПАЗик до совхоза "Терек" (посёлок Притеречный), обслуживающий в первую очередь огромную и очень длинную станицу Павлодольскую (5,4 тыс., причём 12% - цыгане). Но нам куда интереснее следующая после неё, лежащая километрах в 20 от Моздока небольшая (600 жителей) станица Новоосетинская:
46.

Её, вместе с соседней Черноярской, основали в 1811 году осетины, спустившиеся из селения Мусгкау в Дигории и в 1824 году зачисленные в Моздокский казачий полк. К началу ХХ века тут жило около 2 тысяч человек, но при Советах станица не вписалась в планы и начала стремительно пустеть. Благодаря чему прекрасно сохранила аутентичный облик - длинная широкая улица-"прогон" да высокие заборы, где профлист сменил горизонтальную доску. В доме атамана (или чём-то вроде того) теперь детский садик:
47.

А на позапрошлом кадре обратите внимание ещё и на мусорные мешки, выставленные на лавочки в ожидании вывоза.
47а.

Кое-где среди каменных домов старых и новых попадаются типичные для Предкавказья турлучные хаты с плетёными стенами, покрытыми слоем самана:
48.

Терское казачество как оно есть. Вернее, как оно было:
49.

Ну а сердцем станицы остаётся Никольский храм в ярко выраженном византийском стиле:
50.

Впрочем, удивительнее облика у него история: заложена церковь была в 1917 году при Росреспублике, закончена - в 1918 году при Белом Юге, и только освятили её уже после распада Союза. В общем-то, случай этот даже не назвать уникальным - так, в Омске есть церковь, законченная в 1919 году, при колчаковцах. Но здесь инаковость читается в архитектуре - куда больше новоосетинский храм напоминает эмигрантские церкви зарубежья (например, в Тегеране), чем зодчество царской России.
51.

А ещё что отличает Юг от Севера - даже пустеющее село тут не выглядит умирающим. На улицах народ, живущий явно дружно, в оградах индюки, и ПАЗик восемь раз на дню носится в обе стороны. На остановке помимо меня села девушка, а мужик сунул водителю в окно какую-то посылку, и водитель, взяв её, невозмутимо пояснил: "Магарыч!".
52.

Ну а в ХХ веке место станиц в Моздоке заняли гарнизоны, опоясывающие город с севера и запада. Камуфляж и кители - вполне привычная одежда прохожих, как и армейский магазин встречается немногим реже гастронома. Лица и взгляды совсем не вяжутся с тем, что на Кавказе нынче мир. Впрочем, в те времена, когда на Кавказе и правда был мир, военных тут было ещё больше - во многих кварталах Моздока нетрудно узнать бывшие военные городки.
53.

В суть здешних военных объектов я не вникал, но главный из них сам по себе на слуху - это расположенный чуть за городом и не уступающий ему размерами военный аэродром "Моздок", действующая с 1944 года база стратегической авиации, способная обслуживать любые самолёты вплоть до "Белого Лебедя" Ту-160. Что и предопределило роль Моздока в постсоветской России: аэродром стал "воротами в ад", а Моздок - главной тыловой базой обеих Чеченских кампаний. Которая, конечно, не могла не стать целью террористической войны. 5 июня 2003 года смертница Лидия Хальдырханова взорвала автобус авиабазы, убив 19 человек и ранив ещё 24.
54.

А за железной дорогой почти что до самой авиабазы тянется огромная промзона, представляющая собой конгломерат заводов и воинский частей. В самой глубине её блестит одинокий купол Казанской часовни, построенной в 2004 году. Десятью годами ранее, в 1994-м, на этом месте был обустроен военный госпиталь для раненных в Чечне, и вот 1 августа 2003 года его ворота протаранил "Камаз" с 10 тоннами аммиачной селитры и смертником Магомедом Дадаевым за рулём. Взрыв побил в городе стёкла, а от здания оставил полторы стены, так что кажется удивительным, что выживших (82 человека) оказалось больше, чем погибших (52 человека).
55.

Я пришёл сюда рано утром, полчаса попетляв в промзоне. Но буквально следом за мной в ворота прошёл ещё один человек с неприметным лицом, да расспросив, кто я и откуда, вспомнил, как у него погиб здесь друг, пожилой хирург-осетин Алик Дзуцев. К тому времени он уже вышел на пенсию, но коллеги попросили бывалого хирурга помочь со сложной операцией солдату именно в тот злополучный день. Если верить журналистам, оперировал Дзуцев не русского срочника, а чеченца из пророссийских формирований, а под завалами его нашли изувеченным и мёртвым, но сжимающим скальпель в руке.
56.

Сам же человек с неприметным лицом оказался пенсионером ФСБ, на покое принявшим баптизм. Мне он подарил карманное евангелие да отвёз до выезда на Новоосетинскую, по пути немного поговорив о Боге и вере. Не зная про автобус, я поймал машину, которую вёл удалой военный в новеньком камуфляже, причём военный потомственный - родившись на Сахалине, он помотался с отцом по гарнизоном всей Необъятной и в итоге пошёл по его стопам. О службе в Моздоке же он сказал так: "Смотри - здесь ещё Россия, там - другие страны, Грузия, Карабах; а от нас до границы - буфер".
|
Метки: Зона заражения Молох Кавказ казаки дорожное этнография |
Однако |
Поездка на Кавказ только завтра начнётся, а уже весело. Смотрю, осетино-ингушские страсти кипят похлеще армяно-азербайджанских.

Так что если что - не поминайте лихом.

Так что если что - не поминайте лихом.
|
Метки: Кавказ злободневное |
И за Сибирь, и за Кавказ... |
По просьбам трудящихся, отвечу на регулярно задаваемые вопросы "Куда дальше поедешь?" и "О чём дальше будешь писать?".
(фото из википедии)

На первый взгляд ответ прост: послезавтра я улетаю на Кавказ - в Чечню, Ингушетию и немного Северную Осетию (Беслан и Моздок). По Чечне часть программы (в том числе Аргунское ущелье и озеро Кезеной-Ам) пройдёт с группой "Неизвестной России", часть (Шаройский район, равнинная Чечня за Тереком, всякие города и веси вроде Гудермеса, Аргуна, Урус-Мартана, Шали и Ведено) самостоятельно. По Ингушетии в планах Назрань, Магас и Джейрахский район с ночёвкой в Армхи - Эрзи, Эгикал, Таргим, Тхаба-Ерды, Вовнушки, а если погода позволит - поход к святилищу Мят-Сали на Столовой горе. Если вдруг такой поход сорвётся - погуляем денёк по городу Владикавказу, по его ингушским и казачьим достопримечательностям.
Дополнения к программе - приветствуются!
Интересные контакты по части пообщаться-поводить-приютить (особенно если этот контакт - ваш собственный!) в перечисленных городах или объединить усилия на маршруте - тем более.
Вернувшись в конце апреля, я буду весь май писать серию об этой поездке, а если время останется - сделаю несколько постов про Ольхон или Большой Иркутск (2020), а может про Ленобласть и Карелию (2019). Но последнее пока не точно.
Есть, однако, у меня ответ и на вытекающий из этого анонса вопрос "БАМ-БАМ, когда же будет БАМ!?"

На самом деле давно обещанный рассказ о "дороге мостов и тоннелей" я решил придержать до следующей осени. Потому что летом надеюсь вернуться туда и попасть в некоторые места, оставшиеся в путешествии-2020 за кадром - например, на Куанду или Чинейскую железную дорогу. В середине июня я улетаю в Хабаровск, а оттуда буду двигаться по Транссибу на запад - по диким степям Забайкалья в Иркутск и оттуда в разные стороны от Орлика до Чары. Тут, как всегда у меня на Востоке, путешествие выйдет на пару месяцев и его маршрут ещё не проработан до конца. Но в нём точно должна быть окретсности Хабаровска, Нерчинск, Сретенск и Чита, рудничная глушь Забайкалья, визиты к голлендрам и в Большие Коты, поездка из Иркутска на БАМ через Верхоленск, полёт на Байкалом местными авиалиниями, тайлаган на Ольхоне в первых числах августа, походы на Кодар и/или в Долину Вулканов, а может ещё Алханай, Баргузин и Кяхта в придачу.
Так что пока самое актуальное:
1. Есть ли в Чите, Иркутске, Улан-Удэ желающие меня встретить-поводить-приютить? (помимо уже известных мне людей).
2. Есть ли желающие в те же месяцы оказаться в тех же краях и объединить усилия?
Ну и традиционно - напомню, что Вы можете поддержать этот журнал. А заодно зафиксировать этим, что я не брошу его раньше, чем выложу рассказы о предстоящих и недавних путешествиях.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
(фото из википедии)

На первый взгляд ответ прост: послезавтра я улетаю на Кавказ - в Чечню, Ингушетию и немного Северную Осетию (Беслан и Моздок). По Чечне часть программы (в том числе Аргунское ущелье и озеро Кезеной-Ам) пройдёт с группой "Неизвестной России", часть (Шаройский район, равнинная Чечня за Тереком, всякие города и веси вроде Гудермеса, Аргуна, Урус-Мартана, Шали и Ведено) самостоятельно. По Ингушетии в планах Назрань, Магас и Джейрахский район с ночёвкой в Армхи - Эрзи, Эгикал, Таргим, Тхаба-Ерды, Вовнушки, а если погода позволит - поход к святилищу Мят-Сали на Столовой горе. Если вдруг такой поход сорвётся - погуляем денёк по городу Владикавказу, по его ингушским и казачьим достопримечательностям.
Дополнения к программе - приветствуются!
Интересные контакты по части пообщаться-поводить-приютить (особенно если этот контакт - ваш собственный!) в перечисленных городах или объединить усилия на маршруте - тем более.
Вернувшись в конце апреля, я буду весь май писать серию об этой поездке, а если время останется - сделаю несколько постов про Ольхон или Большой Иркутск (2020), а может про Ленобласть и Карелию (2019). Но последнее пока не точно.
Есть, однако, у меня ответ и на вытекающий из этого анонса вопрос "БАМ-БАМ, когда же будет БАМ!?"

На самом деле давно обещанный рассказ о "дороге мостов и тоннелей" я решил придержать до следующей осени. Потому что летом надеюсь вернуться туда и попасть в некоторые места, оставшиеся в путешествии-2020 за кадром - например, на Куанду или Чинейскую железную дорогу. В середине июня я улетаю в Хабаровск, а оттуда буду двигаться по Транссибу на запад - по диким степям Забайкалья в Иркутск и оттуда в разные стороны от Орлика до Чары. Тут, как всегда у меня на Востоке, путешествие выйдет на пару месяцев и его маршрут ещё не проработан до конца. Но в нём точно должна быть окретсности Хабаровска, Нерчинск, Сретенск и Чита, рудничная глушь Забайкалья, визиты к голлендрам и в Большие Коты, поездка из Иркутска на БАМ через Верхоленск, полёт на Байкалом местными авиалиниями, тайлаган на Ольхоне в первых числах августа, походы на Кодар и/или в Долину Вулканов, а может ещё Алханай, Баргузин и Кяхта в придачу.
Так что пока самое актуальное:
1. Есть ли в Чите, Иркутске, Улан-Удэ желающие меня встретить-поводить-приютить? (помимо уже известных мне людей).
2. Есть ли желающие в те же месяцы оказаться в тех же краях и объединить усилия?
Ну и традиционно - напомню, что Вы можете поддержать этот журнал. А заодно зафиксировать этим, что я не брошу его раньше, чем выложу рассказы о предстоящих и недавних путешествиях.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
|
Метки: Кавказ Сибирь дорожное |
Дорога домой из Закавказья |

По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами.
-Что ты, прокаженный, делаешь? - остановил путника Копенкин, когда стало близко до него.
-Я, земляк, котма качусь, - объяснил встречный. - Ноги дюже устали, так я им отдых даю, а сам дальше движусь.
Копенкин что-то усомнился:
-Так ты иди нормально и стройно.
-Так я же из Батума иду, два года семейство не видел. Стану отдыхать - тоска на меня опускается, а котма хоть и тихо, а все к дому, думается, ближе...
Вот примерно с такими же чувством, как у этого случайного путника из повести Андрея Платонова "Чевенгур", я проснулся ноябрьским утром в Карсе. Поняв, что ничего круче Ани в Закавказье всё равно не найти, мы решили двигаться домой. Про Ани я рассказывал в двух прошлых частях, а теперь - эпилог о 27-часовом броске сквозь Турцию, Грузию и Северную Осетию.
Но легко сказать - "пора домой!". Сделать это было несколько сложнее: прямой автобус Карс-Тбилиси курсирует по средам и субботам, а в Ани мы съездили в воскресение, и я не хотел ждать его две лишние ночи. Поезд Анкара-Баку Алиев с Эрдаганом запускали-запускали, но так в итоге и не запустили из-за какой-то бюрократической ерунды. Лететь через Стамбул мне не хотелось по причине усталости от впечатлений, да и билеты дешёвые там успели разобрать. В Грузии же ещё летом
2.

Из жарко (даром что Вторая Сибирь тут!) натопленного гостиничного номера я снова выглянул в окно. Под окном шумела главная в Карсе улица Фаик-бея, проходящая поперёк трёх проспектов русской эпохи. Плотные безликие дома, снующие долмуши, крики зазывал и громкая музыка из кафешек, магазинов, парикмахерских на первых этажах, общий дух турецкой чужбины - как мне это надоело за две с половиной недели! И вот я бродил по номеру туда-сюда, ожидая, пока верная Оля закончит свои бесконечные сборы. Вставать ни свет ни заря перед долгой дорогой мы не стали принципиально, а потому очередная маршрутка увезла нас из этих тесных кварталов на объездную дай бог в районе полудня. Вскоре нас подхватил грузовичок с полным кузовом ореховых вафель для далёких сельпо, и мы начали путь в сторону дома. Километрах в 20 от Карса наполнялось водохранилище, на берегу которого привлёк взгляд одинокий минарет посреди снесённого селения, а уже по карте я узнал, что селением этим был либо Меликёй, либо Инджису, основанные на прошлом рубеже веков русскими молоканами как Прохладное и Воронцовка:
3.

У водохранилища грузовичок, одарив нас парой упаковок вафель, свернул направо, в сторону Чилдыра - весьма обширного (18 на 15км) и очень холодного пресного озера в сгибе границ на высоте 1959м. Похожее на степные озёра Монголии, Чилдыр традиционно входит в число главных достопримечательностей бывшей Карсской области, а на берегах его примечательны деревеньки Дугрийол (с мечетью из грузинской базалики 10 века) и Чанаксу (с удивительным кладбищем, где надгробия сделаны в виде солдат с лентами патронов). Что интересно, при османах вся Турецкая Грузия до самого Артвина входила в Чилдырский эялет, центрами которого в разное время служили одноимённая крепость у озера (1578-1628), Ахалцихе (1629-1829) и Олту (1829-45), а затем всё это вошло в состав соседнего эялета Карс. И пожалуй, на Чилдыр стоило съездить, но после трёх месяцев дороги у нас уже не было сил. Немного поколебавшись, не свернуть ли всё-таки, я запостил вконтакт "Валим в Вале к генацвале!" и отошёл от поворота на несколько десятков метров вперёд. Что подобрало нас вскоре - грузовичок, легковушка или маршрутка, - я теперь уже не вспомню, но доехали мы этим чем-то до отворота на Ардаган. Пейзаж начал меняться - степь пошла мощными холмами с шапками сосновых боров:
4.

Ардагани или Артания - это иное название огромной исторической области Гугарк, странной Армяногрузии, тянущейся вдоль границы двух стран от Турции до Азербайджана. Армянская Джавахетия, греческая Цалка, азербайджанские Борчалы в Грузии, как и Степанаван, Ванадзор, Алаверди, Дилижан, Ноемберян в Армении - всё это тоже Артания. Центром её турецкой части и был Ардаган - самый маленький (17 тыс. жителей) центр ила, выделенного из ила Карс в 1993 году. Как городок и крепость он был известен с 9 века, в 1021-1266 принадлежал Византии и её осколку Трапезундии, а турками был завоёван в 1555 году. Оказавшись с 1877 года под Россией, Ардахан стал окружным местечком, где к началу ХХ века жило 4,5 тыс. человек с таким же безумным, как и всюду в Карсской области, этническим составом - 37% славян (включая поляков), 32% армян, 18% турок и по 1-2% всех остальных вроде евреев, грузин, греков или персов. Заехать в Ардаган входило в мои планы, но после всего увиденного я рассудил, что турецкая крепость из чёрного камня и парочка таких жё чёрных русских домиков - слишком привычная фактура, чтоб ради них сворачивать с пути. На развилке (Ардаган стоит километрах в 5 от трассы) мы потолклись часок в компании полусумасшедшей местной жительницы с курицей в лукошке, а затем сперва её увезла маршрутка, а затем нас - меееееееедлеееееееееннннннныыыый старенький минивэн:
5.

За его окнами слева от дороги проплыла разрушенная крепость, грузинам известная как Орезаки, а туркам как Кырнав, не примечательная ничем, кажется, кроме факта своего существования:
6.

12 километров от Ардагана до райцентра Ханак (5,7 тыс. жителей) минивэн тащился минут 40, а дальше мы часа два с половиной прохаживались вдоль трассы над посёлком. Впервые в Турции с её великолепным автостопм нас постиг классический "завис", и только то и оставалось нам, что смотреть на лысые сопки, иглы новых минаретов по долине и гудящую блестящую электростанцию без труб чуть выше по холмам. Я уже начал злиться и думать над каким-то "планом Б", когда на третий час ожидания нас таки подхватил очередной грузовичок с товарами для дальних деревенек.
7.

А вскоре поменялся и пейзаж - мы начали взбираться на Арсианский хребет, испокон веков разделявший армянские и грузинские земли:
8.

И не успел я сказать "Мер хаба! Отостоп дуз Гюрджистан! Тамам, тамам... Кач пара? Пара йок? Ийи! Чок тэшэккюр! Биз руси туристлер. Дюн Артвин, Эрзурум, Ван, Догубаязит, Карс. Баязит гюзель, чок гюзель! Гюзель дагы! Туркче бельмеёрум!", как пейзаж поменялся. Мы вдруг оказались посреди заснеженных вершин, среди которых водитель притормозил у заледенелого источника:
9.

Напротив - Арсианский пик (3165м), высшая точка хребта:
10.

На его противоположном склоне мы уже катались по изумрудным лугам Шавшетии. Теперь же впереди - Месхетия, или Самцхе. В узком смысле - это небольшая историческая область в верховьях Куры, к востоку от Аджарии по обе стороны границы вокруг грузинского Ахалцихе и турецкого Пософа. Вот только испокон веков, задолго до того, как в соседней Тао-Кларджетии возвысились объединившие Грузинское царство Багратионы, Месхетией правил самовольный дом Джакели. Признав Багратионов сюзеренами, они продолжали держаться особняком, и лишь царица Тамара на рубеже 12-13 столетий сумела сбросить их с ахалцихского престола. Последний из той старой ветви князь Мемна Джакели погиб в 1226 году, защищая Тбилиси от войск хорезмского принца-мстителя Джалаладдина Мангуберти, перевернувшего всю Переднюю Азию на своей войне с Чингисханом, которую, конечно, проиграл. Сам Чингисхан до Закавказья так и не дошёл, но это сделали его потомки, и вот в 1268 году эристав Саргис Джакели пошёл на поклон к монгольскому ильхану. Договорившись напрямую с сюзереном, Джакели не только вернули Месхетию с соседней армянской Джавахетией, но и завладели старой вотчиной Багратионов - огромной Тао-Кларджетией. Формально признавая себя частью Грузинского царства, Джакели стали его самым могущественным домом, так что цари почитали за честь, когда те брали в жёны их дочек. В 1334 году Георгий V пожаловал Кваркваре Джакели титул атабека, с которым связано историческое название их государства - Самцхе-Саатабаго, то есть Самцхетинское атабекство. В годы своего расцвета охватывало оно Месхетию, Джавахетию, Горную Аджарию и все грузинские земли в нынешней Турции.
11.

Которая пришла к атабекам в 1579 году: если прочие грузинские княжества и царства были лишь вассалами Османской империи, то Самцхе-Саатабаго напрямую вошло в её состав той самой Чилдырской провинцией. Но и под пятой султана Джакели нашли способ сохранить свою власть - первыми из грузинской знати они подались в мусульмане. В 1629 году они де-юре лишились монархии, но по факту ещё на 200 лет, вплоть до покорения Ахалцихе Россией, сохраняли власть в качестве санджакпашей - наследственных губернаторов. И, конечно, из кожи вон лезли, показывая Порте свою лояльность: если в Константинополе или Карсе христиане ограничивались поражением в правах, то в Самцхе-Джавахетии единственной совместимой с жизнью альтернативой исламизации стал переход в католичество: Папа Римский за свою дальнюю паству мог замолвить словечку султану, чтобы тот одёрнул рьяных пашей. Иные грузины и армяне, напротив, принимали ислам просто для облегчения своей доли, а потомки их следом за верой предков теряли родной язык. В России тюркоязычные грузины были известны как турки-месхетинцы, ну а Турции они - просто турки.
12.

Где-то на этих скалах висят Джакисцихе (давно разрушенный родовой замок Джакели) и Квели (Коли), или Тирокастрон - героическая крепость, не раз задерживавшая тюркские орды на Арсинаском хребте. Ну а мы спускались с хребта на "грузинскую" сторону, в глубокую долину реки Пософчай:
13.

За которой висит сам Пософ (2,5 тыс. жителей), или Посхови - самый северный турецкий райцентр, так типично для Турецкой Грузии вписанный в серпантин:
14.

На спуске встречают развалины крепость Мере, взятой турками в 1578 году и вскоре упразднённой в связи с перемещением границы:
15.

На окраине Пософа наши с водителем грузовичка пути разошлись. И хотя ехали мы весело, останавливаясь в красивых местах и болтая сквозь языковой барьер, напоследок водитель мрачно, сквозь зубы, потребовал денег. Поискав по карманам последние лиры, лари и доллари, суммарно рублей так на 1000, я отдал ему 5 "зелёных". И не подумайте, что мне жалко денег - чёрт знает, сколько без этого грузовичка мы бы простояли у Ханака. Но всё же когда водитель оговаривает цену сразу - приятнее.
16.

До границы оставалось 11 километров, вот только много ли желающих ехать в оставшиеся до неё деревеньки? Покидая Карс, я тешил себя надеждой застопить фуру сразу до Тбилиси, а то и до Владикавказа - по словам знакомых автостопщиц, турецкие дальнойбойщики даже на просторах России подвозят охотно, как никто. Но оказалось по пути, что нет на этой трассе дальнобойбщиков...
17.

В деревнях вокруг Пософа живёт немало грузин-мусульман - в отличие от турок-месхетинцев, они сохранили язык, хотя и утратили веру. На последних километрах до границы снова начинают попадаться деревянные дома, которых я не видел от самого Тао. Практичность прошлого водителя же компенсировало бескорыстие следующего - человек ехал до одной из деревень на полпути, но не поленился бесплатно подбросить нас 5 километров до границы.
18.

На турецком КПП "Тюркгёзю" я сунул паспорт в окошко под синей табличкой, ожидая, что мне его только посмотрят, а дальше идти в основное здание пялиться в камеру да гонять барахло через ленту. Турок, однако, даже не взглянув на меня влепил выездной штамп, а затем повторил то же самое с паспортом Оли. Зато Грузия на своём КПП "Вале" встретила не очень-то канонически: мы были единственными путниками против десятка сотрудников, и сотрудники, конечно же, не замедлили развести бурную деятельность. Нам полностью перерыли рюкзаки, меня завели в каморку и заставили раздеться до трусов (и, пардон, показать, что прячу под трусами!), а по количеству вопросов о планах, целях, пунктах маршрута и роде занятий я даже заподозрил, не сверяются ли грузины с украинским "Миротворцем" и не завернут ли меня сейчас как злостного нарушителя территориальной целостности молодых демократий? Из чужих заметок я знал, что пограничники Вале отличаются вредностью, но было в этом всём одно благо - мы общались с грузинами по-русски! И кажется, за возможность коммуникации на родном языке с кем-то кроме приросшей ко мне Оли я был готов даже простить весь этот балаган.
19.

Итак, 160 километров по Турции мы преодолевали порядка 5 часов, и на землю Сакартвело ступили, когда солнце уже ощутимо клонилось к закату. Между тем, одна фура с КПП протарахтела мимо нас без остановок, другой явно предстояло там провести много часов. У пустой дороги на краю постсоветского мира мы снова переминались с ноги на ногу, как вдруг откуда ни возьмись случайное такси привезло на КПП пассажира. За последние оставшиеся у меня 25 лир (250 рублей) водитель согласился отвезти нас 20 километров до Ахалцихе:
20.

Я рассказывал таксисту о нашем путешествии и о предстоящей дороге домой, а сам наслаждался пейзажем - какое же вдруг всё родное! Вместо портретов Эрдогана и красных флагов с полумесяцами - кресты:
21.

Вместо пластиковых мечетей - сельские Дома культуры и школы сталинских времён:
22.

Вместо плотной, безликой, аляповатой застройки - малоэтажки с просторными зелёными дворами. И что дорога узкая да асфальт на ней шорканный - не беда, ведь как заметил Грибоедов, возвращаясь из тех же краёв, "и дым отечества нам сладок и приятен". А Грузия, конечно, независимая страна - но после Турции тоже родная...
23.

Таксист провёз нас через Вале - крошечный городок (3,4 тыс. жителей) на Посховисцкали (то же, что Пософчай) с базиликой 10 века, которую я так и не успел заснять, и мёртвой тупиковой станцией, пущенной в 1940 году. В Грузии Вале известен как центр греко-католичества - как уже говорилось, в годы османского ига многие грузины и армяне во владениях Джакели искали защиты у Римского Папы, и роскошный костёл, построенный грузино-католическими купцами, я уже показывал в Батуми. Под Россией многие католики вернулись в православие, а оставшиеся написали в Рим письмо с просьбой об унии. И хотя Грузинская греко-католическая церковь так и не была создана, несколько тысяч её возможных адептов живут в Сакартвело и ныне.
24.

Ещё несколько километров - и впереди показался Ахалцихе с его отреставрированный при Саакашвили крепостью Рабат. Именно там была резиденция Джакели большую часть их истории: в Средние века Ахалцихе был столицей Самцхе-Саатабаго. Но вместе с границей мы миновали и следующий горизонт русской экспансии: Ахалцих был взят русской армией в 1828 году, и в отличие от Карса и Эрзурума, туркам уже не вернулся ни сразу после той войны, ни в Первую Мировую. В 19 веке веке Ахалцих стал уездный городом Тифлисской губернии, а в наши дни это центр региона Самхце-Джавахетия, через который, вместе с соседним городком Ахалкалаки, лежит кратчайший путь из Армении в Турцию. В Ахалкалаки живут почти что исключительно армяне, в Ахалцихе их около половины жителей, но и там, и там они почти все католики.
25.

Но Ахалцихе, как и вся по-грузински переполненная древностями Месхетия - тема для отдельного путешествия, а сейчас мы лишь проскочили город насквозь да вернулись к привычному голосованию на выезде. Пару раз мимо проехали маршрутки на Тбилиси, но то ли у нас просто не было денег, то ли мы вошли во вкус - а маршруткам этим я лишь махал "проезжай!". Вот подобрал нас пожилой интеллигентный грузин, на упоминание Ани возмутился "Да это армяне все себе присваивают! Аниси - грузинский город!", а для пущей убедительности в повёз нас в село Ацкури, отделённое от трассы быстрой Курой. За узким мостиком высится грозная крепость:
26.

Её построили Джакели в конце 15 века, когда единое Грузинское царство распалось на пяток локальных царств. На несколько веков Ацкури у выхода из Боржомского ущелья превратилось в пограничье, в щит Ахлацихе, и по одну сторону границы сменялось Самцхе-Саатабаго и Османская империя, а по другую - Картлийское царство, Персия и Россия. Крепость разрушалась, восстанавливалась, достраивалась и перестраивалась не раз, и самые молодые её стены, построенные турками в 18 веке, на кадре выше смотрят на Куру. С обратной стороны - напротив, почти не тронутые войнами за полтысячи лет стены Джакели:
27.

Впрочем, с этой стороны надёжнее всех стен сама скала:
28.

Фрагменты укреплений попадаются и кое-где в посёлке, напоминая, что когда-то Ацкури был большим городом и имел защищённый посад:
29.

Заехали бы мы сюда не на ночь глядя - в крепость вполне можно было подняться, полюбоваться с неё горами Малого Кавказа, на которых раскинулся Боржомский национальный парк.
30.

Самой же крепостью лучше всего любоваться с соседней горы у края посёлка:
31.

Где в ноябре 2019 года полным ходом воссоздавался, а скорее просто строился Ацкурский собор:
32.

Ведь прежде, чем стать лихим пограничьем, Ацкури успело побыть духовным центром всей Южной Грузии, главной святыней владений спесивых Джакели. Турки считали Ацкурскую крепость старейшей в грузинской земле, а строителем её называли самого Александра Македонского. Грузины же верили, что Андрей Первозванный, ступив на их землю в Гонио, пришёл сюда через перевал Годердзи и одарил местных жителей нерукотворной иконой Ацкурской Богоматери. Её "домом" и стал Ацкурский собор, построенный в районе 1000 года.
33.

Главный храм Месхетии, он был разрушен бурной историей, и как выглядели его пустые стены - можно оценить. например, на сайте Мухранова. Икону, однако, не разбили камни, когда собор обрушило землетрясение 1283 года, и не взял огонь многочисленных войн - она и ныне цела, только хранится с 1952 года не в храме, а в тбилисском музее искусств. Что же до базилики, то не очень понятно, оставили ли реставраторы хоть что-то от её древних стен. Пожилой интеллигентный водитель оказался археологом, который вёл перед стройкой раскопки, и привёз нас, чтобы показать свою главную находку:
34.

Камень с потрясающе тонкой резьбой и сложным барельефом, на котором мусульмане сколотили лица. И было странно понимать, что мы - одни из первых людей за многие века, кто эту красоту видит. Куда увезут его по окончании реставрации, в соборе поставят или в музей отдадут - я даже забыл спросить.
35.

Дальше мы вновь пеерехали бурную Куру. В сгущавшихся сумерках манила перспектива Боржомского ущелья, но так как дальнейший путь проделали мы в темноте, следующие (после ближайшего) 5 кадров - вообще с других дорог и другого сезона.
36.

В Ацкури нас вскоре подобрал симпатичный паренёк, почти не говоривший по-русски, да повёз сквозь наползающую ночь. Мимо мелькали обветшалые деревни, тёмные склоны гор, ярко светиящиеся кресты на вершинах и длинный-длинный Боржоми, где зайдя вместе с водителем в магазин, мы понятно что купили. Высадились мы в городке Хашури, на какой-то суматошной и ярко освещённой, словно в миллионном городе, кольцевой развязке, где я зашёл в банк и зачем-то поменял замусоленные с начала поездки 1000 рублей на грузинские лари. От кольца мы побрели к выезду из города по грязным обочинам среди частных домов, и вот снова нас подхватила машина. За рулём сидел паренёк с острым взглядом, на пассажирском переднем сидении - его мать, спокойная и вежливая, но явно привыкшая к непререкаемости своего авторитета. Оба они выглядели очень интеллигентно, а по-русски говорили с нами почти что без акцента - что меня неизменно поражает в Грузии, так это то, что несмотря на обрыв всех связей, "великим и могучим" владеет большинство встретившихся нам грузин, и молодые тут не исключение. Вскоре выехали мы на трассу, и под мелькавшие огни пошли интересные разговоры обо всём понемногу от перемен в Батуми до общины грузин-шиитов ферейдуни под Исфаханом. Только близ Гори повисла неловкая пауза - кажется, и мы, и хозяева задумались о том, какую тему собеседнику точно не следовало бы поднимать. Женщина дежурно говорила о том, что давно хочет съездить в Россию, но визу нереально получить, а я так же дежурно отвечал, что визы - глупость. Ну а паренёк на автобане, несмотря на всю интеллигентность и мать родную без пристёгнутого ремня, ехал как настоящий джигит - проще говоря, никого не обгонял, а просто нёсся по прямой, не сбавляя скорости. Другие джигиты явно не хотели уступать ему дорогу, но в борьбе нервов наш водитель неизменно побеждал.
37. где-то на железной дороги Тбилиси-Батуми.

Батумская трасса врезается под прямым углом в Военно-Грузинскую дорогу чуть севернее Тбилиси, в который и свернули наши попутчики. В той стороне были видны огни миллионного города, но мы глядели в противоположную сторону, где дорога уходила в темноту. После турецких зависов путь домой сквозь Грузию складывался неплохо, и по такому случаю мы решили устроить себе поздний обед, тем более то ли ночь, то ли север вызывали непреодолимое желание погреться и одеться потеплее. Вдоль Военно-Грузинской дороги тянулся целый ряд ресторанчиков, в первый из которых мы и зашли, заказав у монументальной грузинки, работавшей ночью вместе с не менее монументальным мужем, тарелку супа-харчо и здоровенный хачапури. За соседним столом шумно обедала компания черноволосых мужиков, один из которых обратил внимание на нас. Дальше, как водится, я начал рассказывать, где мы были, старательно используя грузинские варианты топонимов вместо армянских. По скептическому взгляду собеседника я понял, что делаю что-то не то, и наконец меня осенило:
-А вы армяне что ли?
-Да не, азеры мы! - воскликнул мужик, после чего все они захохотали, - армяне мы, конечно, из Еревана едем!
Я быстро переключился и начал рассказывать о том, как мы 40 дней гуляли по Армении. Что же до шуток на национальные темы, то судя по комментариям на моём Яндекс-Дзене, совершенно такой же диалог мог бы прозвучать и сейчас: за год, конечно, изменилось многое, но с проигравших не слетела спесь, а победители не сделались великодушнее.
38. пункт пропуска Садахло на трассе Ереван-Тбилиси

Наевшись харчо и хачапури, напившись чаю, погревшись и утеплившись, мы снова вышли на Военно-Грузинскую дорогу, где почти сразу нас подхватил порожний сельский грузовичок с открытым кузовом. Парень за рулём ни слова не знал по-русски, а гнал как не просто джигит, а вах-настоящий-джигит! Ехать по узкой, обледенелой, тёмной горной дороге на скорости 120 километров в час - ощущения весьма и весьма острые. Особенно когда посреди дороги вдруг появилось НЕЧТО, с которым мы, казалось, неминуемо должны столкнуться. Водитель успел среагировать и как-то пропустил НЕЧТО между колёс. Сотней метров дальше у обочины стояла фура и её водитель, в ужасе раскинувший руки и открывший рот на пол-лица. Грузовичок притормозил и наш водитель вылез его осматривать, а мы понемногу начали осознавать, что на дороге валялось отвалившееся от фуры запасное колесо, и на скорости 120км/час считанные сантиметры отделяли нас от окончательного завершения всех возможных путешествий.
39. донельзя грузинский монумент Победы в Мернеули (1975) на трассе Ереван - Тбилиси.

Джигит, однако, попался не только лихой, но и умелый, и в итоге даже машину не повредил. Тем более не сделал он и никаких выводов - вскоре мы снова мчались с той же скоростью мимо какой-то ярко освещённой крепости и тёмных ущелий на фоне едва различимой стены Кавказских гор. Наконец, где-то в этой темноте джигит свернул в свою деревню, а мы поняли, что забрались высоко - с гор тянуло ледяным холодом, и тот же холод шёл от земли, проникая сквозь подошвы кроссовок, тёплые носки и войлочные стельки... Останавливаться на крутом мрачном повороте тоже никто не спешил, и понимая, что мы уже откровенно замерзаем, я постучался в уютно светящийся полицейский пост. Навстречу вышел одинокий подтянутый коп как из американского кино, и опять же на хорошем русском объяснил, что в участок нас впустить не может, но может поймать нам машину. И тормозной путь в полкилометра, на который сетовала Оля, когда очередная фура гремела мимо нас, оказался совсем не актуален - когда с обочины требует остановиться полицейский, законы физики к исполнению уже не обязательны. Словом, здоровенная фура с армянским номерами остановилась по мановению руки копа как вкопанная, и вот мы уже ехали в кабине с явно недовольным молчаливым шофёром.
40. где-то на трассе Ереван-Тбилиси.

За окнами кабины мы видели в основном темноту, но понимали, что кругом, как по Лермонтову, "чернели мрачные таинственные пропасти". Фура ползала на перевал по склону Казбека, и лишь недолго темноту нарушили ярки огни Гудаури - горнолыжного курорта, расположившегося несколькими ярусами на серпантине. Вот фура доехала до последней стоянки перед границей и скрылась за её шлагбаумом - ночевать. Мы были теперь на самом деле высоко в горах - под ногами лежал снег, по ощущениям было градусов так 10 мороза, но может так казалось лишь из-за ледяного ветра с вершин. Мы начинали путешествие ещё летом, и имевшаяся одежда позволяла терпеть такое минут пять максимум, поэтому мы тут же кинулись греться в придорожное кафе. Ассортимент его оказался подозрительно турецким, чай подавали в армудах (вогнутых стаканах), а когда разгневанный хозяин пошёл догонять какого-то армянина, который сперва заказал еду, а потом не стал её есть и не заплатил, я понял - харчевню держат азербайджанцы. Здесь я долго отпаивался чаем и грел руки под струями горячей воды, ну а дальше уехать по такому морозу мы могли лишь попросив шлагбаумщика парковки пристроить нас в какую-то из фур. С парковки как раз выруливал целый армянский караван, и в одну машину пристроилась Ольга, а в другую - я. Водитель воодушевлённо рассказывал, как недавно вернулся с Дальнего Востока, и особенно расхваливал посёлок Многовершинный близ Николаевска-на-Амуре, куда я сам доехал спустя год.
41. окраины Тбилиси

Вот и Верхний Ларс в Дарьяльской теснине, единственные русско-грузинские ворота. Канонически их, конечно, надо пересекать так: грузины назовут генацвале, спляшут церули и накормят хинкали, а русские позовут особиста, промурыжат три часа, нахамят и дадут напутствие "не езди к врагам!". Но я канонически пересекаю границу очень редко, и покинув фуру, которая в конце длинной "линейки" могла простоять и сутки, мы пошли искать машину поближе к КПП. Главный минус Верхнего Ларса - в том, что его нельзя пересекать пешком, и мы прибились к каким-то холёным ребятам из Воронежа, по дешёвке купившим в Тбилиси микроавтобус и гнавшим его теперь домой. Тут был, конечно, именно тот случай, когда нам оказались не рады, но из вежливости не сумели отказать. Я даже понимал, что скорее всего теперь эти люди до конца жизни будут ненавидеть автостопщиков как наглых любителей халявы, но.... мне уж очень хотелось домой и, вопреки своей обычной тактичности, я всё-таки не удержался. Между очередной армянской фурой и микроавтобусом из Гянджи мы спустились к русскому КПП, и угрюмый пограничник только собрал паспорта, а потом принёс их обратно со штампами.
42.

Той же машиной мы спустились сквозь пустынный ночной Владикавказ до развилки - по идее трасса "Кавказ" проходит мимо аэропорта Беслан, но водителя навигатор почему-то повёл через город, и водитель не стал ему возражать. В Беслан нам откровенно не хотелось, и вот впервые за три месяца мы ступили на землю России. На часах было 4 утра, а вокруг - сырой лес посреди степи да туман, наползавший из канавы. Я слазил за отбойник, а дальше случился конфуз, который наверное особенно впечатляюще смотрелся глазами Оли. Довольный собой я перешагнул через отбойник обратно, произнеся нараспев "Здравствуй, родина!" - а затем сложился пополам, начал кататься по асфальту и орать так, что на Верхний Ларс, наверное, сошла лавина. Неудачно перешагнув, а напоролся нижней стороной коленки на железный угол отбойника, и честно говоря, не ожидал, что это может быть НАСТОЛЬКО больно. Успокоившись, я встал, и понял, что теперь ощутимо хромаю, а Оля и вовсе заволновалась, что у таких травм бывают отложенные последствия. Мы же стоим холодной туманной ночью на пустынном перекрёстке, и редкие машины несутся мимо со скоростью, близкой рекорду, даже не глядя на нас. Так простояли мы (вернее, я сидел на отбойнике) часа полтора, а затем решили идти 6 километров до аэропорта пешком - глядишь и доковыляю ко времени вылета. Где-то в километре от развилки рядом таки притормозили старенькие дребежжащие "Жигули", которые вёл не более старый грузин из Телави вида совершенно "миминошного". От трассы до съезда к аэропорту - ещё пара километров, но по случаю больной ноги мы пошли даже на такую наглость, как попросить сделать для нас крюк. Водитель просьбу выполнил нехотя, однако от денег, что я предлагал ему, гордо отказался. У аэропорта "жигуль" отчаянно не хотел заводиться, и прежде, чем уехать, успел напустить целую дымовую завесу.
43.

На часах, между тем, было 6, а чёрная ночь стала уже тёмно-синей. Аэровокзал был заперт, да и вокруг - ни души. Похромав по холоду туда-сюда, со второй попытки мы достучались в полицейский участок. Заспанный страж порядка опять же сказал, что не может нас внутрь пустить, но приняв во внимание мою травму колена, всё же созвонился с охранником аэропорта. Тот впустил нас на застеклённое крыльцо и даже принёс стулья, но наказал ни в коем случае не проходить в зал - здесь нас не видели камеры. С телефона я купил пару билетов по 2 с чем-то тыщи рублей на середину дня, и понял, что жизнь налаживается.
44.

Аэропорт Владикавказ был основан в 1936 году, а нынешний свой облик принял в 1979-м. Для России он скорее маленький, чем большой (около 500 тыс. пассажиров в год), и несмотря на опрятный вид, откровенно убогий - так, в санузле здесь не было горячей воды, а с унитазов кто-то снял крышки и сидушки. Не продавали тут и осетинских пирогов, как и чего-либо другого путного. Самым, пожалуй, колоритным в этом аэропорту оказались ждавшие своих рейсов горцы в папахах - вроде человека с кадра выше.
45.

...Сквозь стеклянное крыльцо потянулись сначала сотрудники, затем и первые пассажиры, и я наконец понял, что границу камер можно пересечь. Самолёт вылетал около 14 часов, но мы решили уже не покидать терминала.
46.

Самолёт вылетел по расписанию. Горы Кавказа стояли над пеленой облаков, как над морем:
47.

Но вот и их вершины остались далеко внизу:
48.

Как и разлинованные в клеточку станицы:
49.

И белые змеи долин:
50.

Суматошное Домодедово встречало выставкой ретроавтомобилей:
51.

Вот например "Жестяная Лиззи" - Ford Model T, выпускавшийся в 1908-27 годах. Эта машина изменила мир - ведь именно её Генри Форд придумал собирать на конвейере, а впечатлившись объёмами производства понял, что если сделать работяг богатыми - то им можно больше продать. Эта машина привезла Человечеству идею "общества всеобщего благоденствия", за которую теперь уничтожают свои страны и продают их по 5 центров за кило глупые аборигены со всего света. Только благоденствия к ним почему-то не приходит...
52.
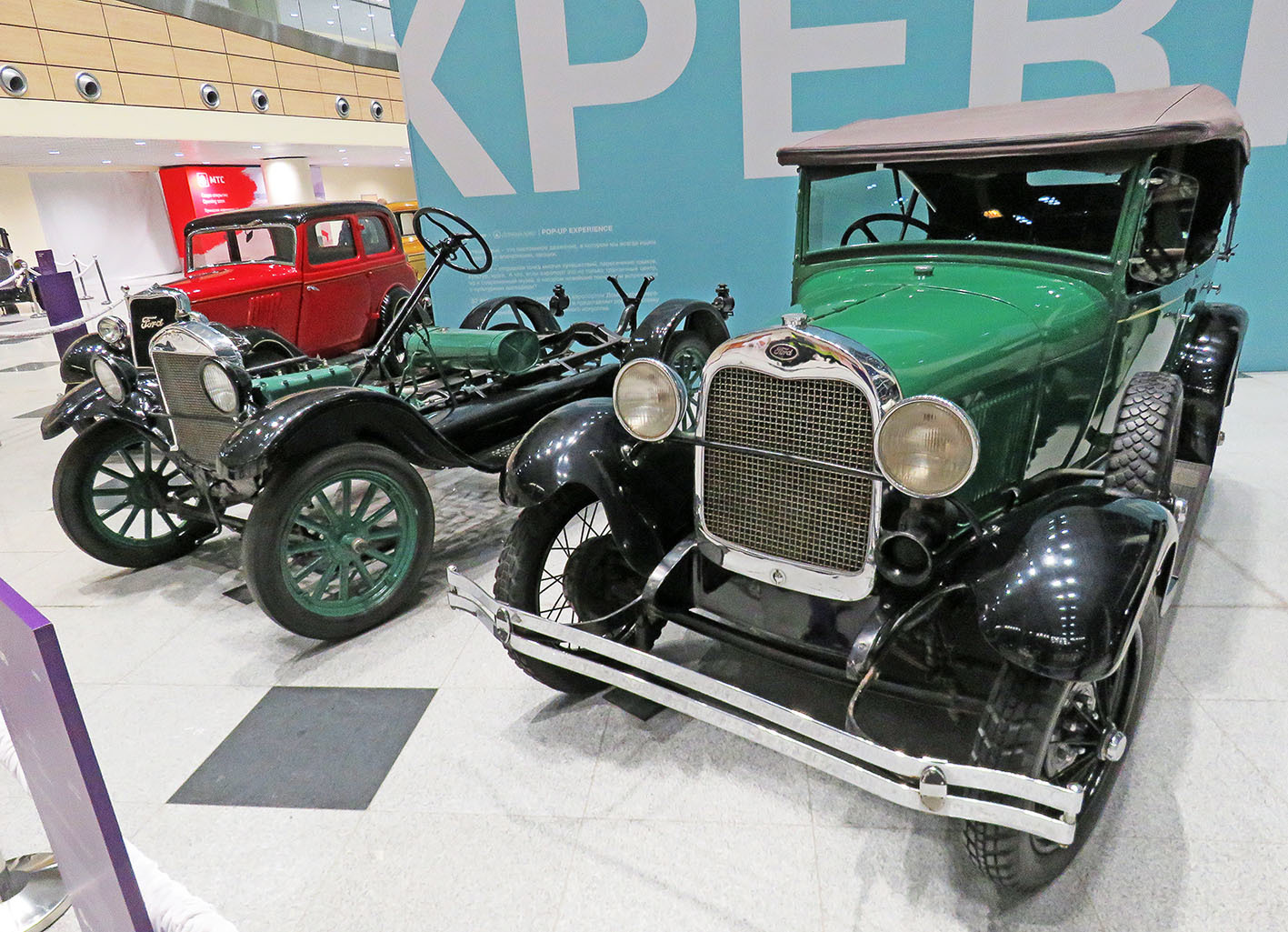
Не меньше самих машин впечатляют старые логотипы - непривычно сложные и вычурные:
53.

И оставшиеся от исчезнувших и позабытых марок:
53а.

Путь от двери гостиницы в Карсе до двери квартиры в Москве занял 27 часов, но по скорости сменявшихся декораций легко подумать, что неделю. И вот мы ехали на "Аэроэкспрессе", уставшие и счастливые, обсуждали планы следующей поездки в Грузию весной или осенью, и не знали ещё, что ждёт нас в 2020-м году.
54.

Так завершилось моё самое долгое (79 дней) и обильное по материалам (132 поста, с учётом весеннего Азербайджана - 187 постов) путешествие.
ВСЕ ПОСТЫ О ЗАКАВКАЗЬЕ-2019.
Но если вы думаете, что Благословенный 2019-й в моём блоге всё - то как бы не так! У меня ещё из Карелии и Ленобласти не вылажено два десятка постов, а выложить хотя бы часть из них я обязан, ибо принимал помощь от людей. Но когда точно - даже, пожалуйста, не спрашивайте. Тем более уже через неделю я надеюсь снова приземлиться в аэропорту Владикавказа.
|
Метки: замки-крепости Турция Кавказ транспорт дорожное Грузия |
Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель |

Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один пост. Ани занимает ограниченный речными каньонами треугольный мыс со сторонами по 1,5-2 километра, и если бы на этом мысу сохранился полноценный Старый город - то был бы он обширнее, чем в Вильнюсе или Бухаре, не говоря уж про Хиву или Таллин. О таком Старом Ани я сделал бы, наверное, десяток постов с неповторимыми перспективами закоулков, таинственным подворотнями, колоритом дворов и обилием странных деталей. Однако между роскошными дворцами, храмами и укреплениями - лишь бурьян на буграх давно рухнувших и затянутых пылью домов. Только и остаётся тропами в этом бурьяне под тугим степным ветром бродить от одного шедевра армянского зодчества к другому...
В прошлой части я показывал крепостные стены и храмы у берега пограничного Ахуряна, а теперь вдоль речки Алачай пойдём к цитадели на оконечности мыса. Ещё в первой части я рассказывал непростую историю Ани, и здесь не хочу её повторять - два поста у нас всё же единое целое!
Ещё раз повторюсь - историю я пересказывать не буду, поэтому если у вас по ходу текста возникли вопросы, кто такие Камсараканы, родственники ли Багратуни Багратиону, долго ли здесь хозяйничали Византия и Сельджукский каганат, почему Шеддадиды воевали с грузинами, при чём тут царица Тамара и вассалы её Закаряны и что добило город, раз за разом оживавший после всяких войн - пожалуйте в первую часть. Там же вы найдёте ответы на вопросы о том, в какие годы Ани принадлежал Российской империи, почему Николай Марр тут вдруг не Лысенко-от-языкознания, а добрый мудрый археолог, возрождавний древний город из небытия, и каким образом турецкая погранзона стала для армянского наследия капсулой времени, "распечатанной" для туризма лишь в 2004 году. И как говорилось опять же в первой части, основание мыса, на котором стоял город, царь Смбат II в 980-х годах перекрыл грандиозной стеной длиной 1,5 километра. От неё сохранился центральный участок с тремя воротами - с запада на восток (а сама стена - с севера) Карсские, Львиные и Клетчатые. Через последние мы заходили в прошлой части, а в этот раз начнём путь от Карсских ворот, две гигантские башни которых хорошо видны тут в середине кадра:
2.

Ближе огрызок стены на протезе - это остатки Грузинской церкви, маленькой базилики 11 века, название своё получившей по найденным Марром грузинским надписям 1288 года. Позже плиты с надписями бесследно исчезли, а в 1988 обнаружились в кладке курдских домов стоящей под крепостными стенами деревеньки Оджахлы. Крышу храма обрушило землетрясение в 1840 году, а в начале 1960-х, когда впервые за полвека в Ани оказался фотограф, от здания и вовсе осталась одна стена - всё остальное, можно предположить, турки раскатали из артиллерии в ходе учений в 1950-е годы. На уцелевшей стене - барельефы Благовещения, необычные темы, что святые без нимбов.
2а.

Ещё одну грузинскую церковь, самую красивую постройку Ани с феерической каменной резьбой, я показывал в прошлой части. И хотя здесь не могло не быть грузинской общины, "грузинами" в тогдашнем Ани, примерно как "русскими" в Великом Княжестве Литовском, называли всех православных - в основном это были не кахетинцы да имеретинцы, а те же армяне-халкидониты. Другой категорией жителей, без которой Старый Ани нельзя вообразить, являлись "бароны" (вернее, "пароны" - "владыки") или "мецатуны" (дословно - "большедомники"), как называли здесь богатейших армянских купцов. В этом смысле Ани - не просто последняя до Еревана столица независимой Армении, но и точка поворота её истории. Именно в Анийском царстве произошло перерождение армян из нации воинов в нацию предпринимателей: тысячелетние дома нахараров извели друг друга в бесконечных войнах, чаще всего - силами сюзеренов, а вот купечество расцвело пышным цветом на перекрёстке всех евразийских дорог. За 30 лет стабильности, что принесло Ани правление Гагика I в 990-1020 годах, барон стал сильнее князя, и именно мецатуны в последующие века в своих интересах продавали город грекам, курдам или грузинам. Джульфа, сменившая Ани в роли центра армянской культуры, была уже чисто купеческим городом. Ну а главным в Ани "бароном" и "грузином" (в одном лице) слыл купец Тигран Оненц, на торгу киевского Подола известный как Тиран Гонецкий.
3.

Собственно, о его личности науке не известно толком ничего - кроме того факта, что в начале 13 века, при Закарянах и сюзеренстве царицы Тамары, он построил над обрывом Ахуряна роскошную грузинскую церковь Святого Григория, а на дне каньона - армянский монастырь Святых Дев. Их я показывал в прошлой части, а вот дворцом Оненца считается огромное здание на другой стороне городища. Не очень понятно, почему: до археологических изысканий турки почитали это место "дворцом султана" (вернее, Шеддадидских эмиров), а армяне - и вовсе дворцом Багратуни, по случаю чего растащили весь его декор на обереги. Археологи нашли во вписанном в крутой склон дворце огромные подвалы, где якобы купчина должен был хранить товары, но такие и в Баязете есть. Расположение почти что на линии стен и вовсе намекает скорее на казарму "группы быстрого реагирования". Оненцу эти руины приписали по сути лишь на основании того, что могила его находится неподалёку, а архитектура указывает на рубеж 12-13 веков, когда Гонецкий жил и мог себе такой дворец позволить. Но - поверим на слово:
3а.

Реставрировать дворец начали ещё в 1999 году, когда Ани представлял собой строгую погранзону - открытие древнего города для туристов уже было намечено, но сперва турки решили придать ему товарный вид. Качество реставрации на сайте "Виртуальный Ани" сравнивают с изнасилованием, но среди ныне живущих немногие видели это здание другим:
4.

Внутри дворца - атриум с давно пересохшим фонтаном:
5.

Но в целом, само прозвище "большедомники" напоминает, что в "городе 1001 церкви" было не меньше роскошных купеческих особняков с подвалами и чердаками. И не столь важно, жил ли здесь Оненц - просто история сохранила от купеческого Ани один дом и одно имя.
6.

Так что остаётся дальше ходить сквозь тугой степной ветер и шуршаший бурьян от руины к руине. Между Грузинской церковью и домом Оненца распластался Гагикашен, построенный тем самым царём Гагиком I по случаю 1000-летия Христа:
7.

Строить храм Гагик позвал Трдата Архитектора - величайшего армянского зодчего, автора нынешнего грандиозного купола Константинопольской Софии (старый рухнул в 989 году), и даже, по некоторым гипотезам, изобретателя готики: это он воздвиг показанный в прошлой части кафедральный собор, готические мотивы которого на сотню лет старше первых подобных церквей под Парижем. Но и задача тут была нетривиальная: воспроизвести Зварнтоц, легендарный храм Бдящих Ангелов, главный архитектурный шедевр древней Армении в предместьях тогдашней столицы Вагаршапата. Да не просто воспроизвести, а воссоздать - гигантская трёхярусная ротонда простояла 400 с небольшим лет и была разрушена землетрясением в 10 веке, то есть Гагик и Трдат ещё помнили подлинник.
7а.
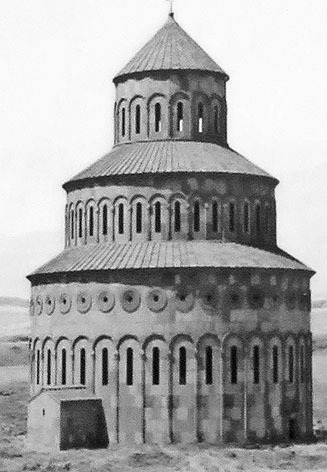
Но как оказалось, обречённость Зварнтоца была обусловлена самой его конструкцией: что у самого храма Бдящих Ангелов, что у всех его "потомков" землетрясения ломали опоры второго яруса, падение которого превращало весь храм в груду камней. Гагикашен, видимо, рухнул в 1319 году, в том же землетрясении, что сбросило купол с кафедрального собора. И это было, пожалуй, самое неудачное время из возможных: город уже зачах, но ещё не умер, и обломки храма быстро разошлись на стройматериал.
8.

Интересно устройство "зварнтоцев" - снаружи они были круглыми, а внутри - четырёхлепестковыми, и галерея между внутренними и внешними стенами использовалась для крёстных ходов. В целом, Гагикашен гораздо меньше Зварнтоца, и я бы сказал, что реплика не превзошла оригинал.
9.

Зато здесь находился другой шедевр - статуя царя Гагика, державшего макет храма в руках. Подобных статуй и барельефов в армянском зодчестве было множество, но в основном они предельно схематичны, будто вырублены топором. Здесь же читается каждая складка одежды и каждый волос пышных усов. Статую нашёл в 1906 году Николай Марр, установив, что копает здесь не католикосат (как считали местные армяне), а церковь. Скорее всего, фигура венчала один из фасадов, но рухнула достаточно удачно, чтобы археологи смогли её заново собрать. Увы, шедевр исчез в Первую Мировую, и небольшой его фрагмент, найденный какими-то крестьянами в поле в середине ХХ века, ныне хранится в музее Эрзурума.
9а.
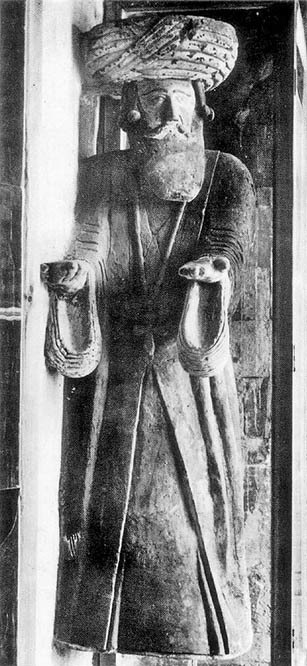
Идём дальше по руинам. Рядом с Грузинской церковью раскопан Атешгях, дохристианский Храм Огня, построенный явно задолго до первых упоминаний Ани в 5 веке. От остальных построек его отличает даже кладка - вместо красного туфа здесь использован чёрный базальт. Он же попадается и в кладке цитадели, то есть видимо когда-то языческое святилище было обширнее, но в христианской столице его разобрали на стройматериал. Ну а сам Храм Огня не тронули, так как сразу по крещении армян в нём освятили часовню:
10.

Изначально Храм Огня выглядел примерно так, и в общем-то не сильно отличался от Атешгяха близ Баку, построенного там в 18 веке.
10а.
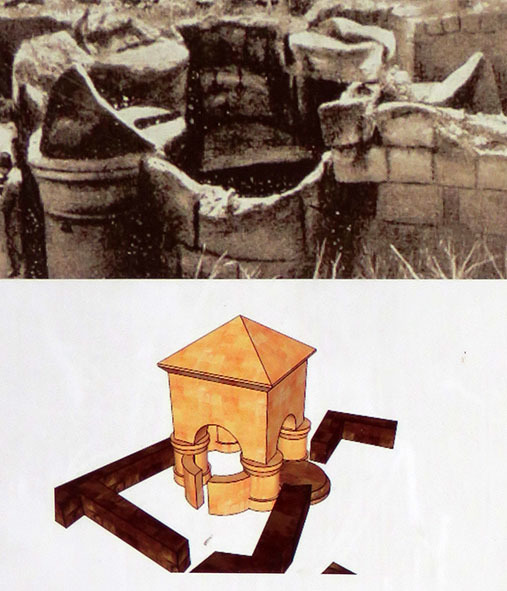
На позапрошлом кадре между кафедральным собором (см. прошлую часть) и цитаделью (к которой идём) привлекает взгляд ещё одно каменное здание, похожее на готового прыгнуть зверя.
11.

Ныне оно известно как Сельджукский караван-сарай, и видимо караван-сараем служило на закате древнего города. И хотя в стенах его хачкары...
11а.

...в деталях сооружение действительно имеет совершенно мусульманский вид:
12.

Марр установил, что это был всего лишь гавит церкви Сурб-Аракелоц, пристроенный в начале 13 века, под грузинским протекторатом.
13.

Многочисленные надписи на стенах относятся к 13-14 векам, но что интересно - в большинстве своём они светские. Да не просто светские, а откровенно экономические - такой-то выкуплен из долговой ямы, такой-то освобождён от уплаты налогов... Складывается ощущение, что это был какой-то раннесредневековый аналог биржи или банка, по обычаю той эпохи открытый при храме.
14.

И не здесь ли вызревала та самая "экономическая элита", что в любой стране будет удивлять коренных жителей богатством, но свою страну, не дрогнувши, продаст?
14а.

Когда-то явно тематически связанные постройки занимали целый квартал, но что-то большее, чем груды камней, остались лишь от этого гавита да от церкви Святых Апостолов (Сурб-Аракелоц), построенной в 11 веке князьями рода Пахлавуни - это потомки Камсараканов, из которых в Анийском царстве традиционно выбирали католикосов. И здесь можно вспомнить, что именно Аблгариб Пахлавуни в 1022 году ездил в Константинополь договариваться о принятии Ани в состав Византии, как только умрёт тогдашний царь Ованнес-Смбат:
15.

"При жизни" церковь Святых Апостоов выглядела так, и русский глаз даже не сразу догадается о подвохе. Здесь, правда, пятиглавие весьма условное - просто в углы крестообразного здания были встроены 4 часовни с собственными главками и отдельными входами. Сурб-Аракелоц - ровесник первых пятиглавых храмов Древней Руси, и сюда эту архитектуру принесло многократное эхо: первая в мире пятиглавая церковь была возведена в Константинополе - но по образцу (за исключением главок) ныне утраченного храма в соседнем Багаране.
15а.
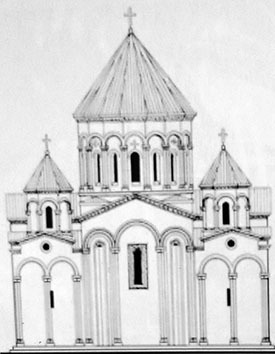
Рядышком ещё какие-то руины - на викимапии указаны храмы Сурб-Арутюн, Сурб-Степанос и Сурб-Кристапор, причём вторые две стояли вплотную друг к другу. Их построил в 1040 году всё тот же Аблгариб Пахлавуни как памятник своей родне - у Христофора молились за его сестру Седу и брата Хамза, а у Стефана - за мать Шушан и отца Григора.
16.

Который в свою очередь воздвиг ещё в 10 веке на краю обрыва церковь Сурб-Григор:
17.

Это семейство армянских церквей я бы назвал "облегчённый зварнтоц" - два яруса вместо трёх и только один слой без спрятанного в круг "четырёхлистника". Многоапсидные "зварнтоцы-light" оказались куда более живучими, чем "полные версии", не так уж и редки по всей Армении живой и исторической, ну а анийская Сурб-Григор - пожалуй, самое хорошо сохранившееся здание древнего города.
17а.

И - самое ландшафтное: на краю обрыва, на фоне необозримых просторов, она напоминает космическую ракету, которая вот-вот взлетит:
18.

В прошлой части мы вглядывались в бездну каньона Ахуряна, в нынешней Турции известного как Арпачай, а по духу давно превратившегося в Армянский Ахерон на границе мира живых с миром мёртвых (для отдельно взятого народа). Сурб-Григор же, как и дворец Оненца, стоит на другой стороне мыса, над каньоном миниатюрной речки Алачай, при армянах бывшей речкой Ани:
19.

Сам же просторный, почти квадратный в сечении каньон армянам известен как Цахкадзор, а туркам как Бостанлар. Оба слова значат в общем-то одно - Цветущая долина, и под этим эвфемизмом скрывается гигантский некрополь, в годы расцвета Ани вырубавшийся прямо в скалах.
20.

Хоронили здесь, конечно, не знать, а скорее мецатунов и богатых горожан, но по этим склепам и подземным церквям можно было бы лазать хоть целый день и написать отдельный пост - многие из них поистине удивительны. Увы, спусков с городища в Цахкадзор мы так и не нашли, да и времени нам не хватило, поэтому вот несколько фотографий, которые я переснял в альбоме, валявшемся на первом этаже нашей карсской гостиницы.
21.
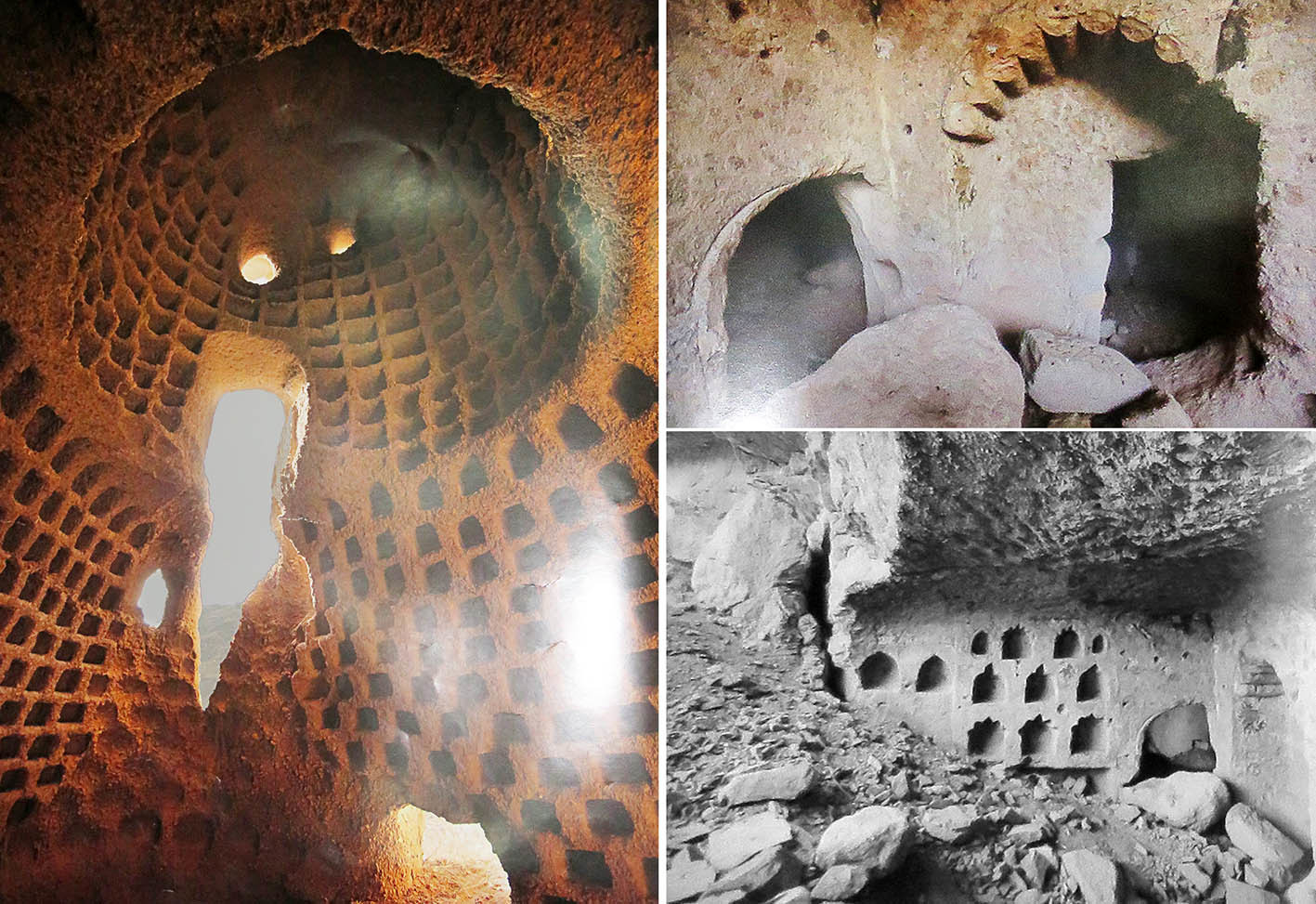
Так что продолжаем идти к цитадели. Мелкие тропки сквозь руины тут сходятся в магистральную тропу, у которой впечатляюще лежит Упавший минарет. Он остался от мечети Абуль-Муамрана, построенной, судя по всему, на закате Анийского эмирата - надпись на персидском языке, запрещающая торговать скотом перед мечетью, датирована 1198 годом. От самой мечети следа не осталось давно, а вот минарет много веков был высочайшим зданием Ани, одиноко торча посреди городища. Он рухнул в 1890 году - турки считают, что его взорвал некий армянский священник, а все остальные - что повалило землетрясение. На земле башня будто нарезана, как колбаса:
22.

Меж тем, "магистральная тропа" на самом деле была главной улицей Ани, соединявшей Львиные ворота и Цитадель. Под слоем пыли на ней спрятана тысячелетняя мостовая, а по бокам лежат руиных каменных домов:
23.

И можно попробовать вообразить себе людей, живших в этих домах. Как вы уже поняли, стольный Ани был многонациональным городом, где сосуществовали армяне, "грузины" (православные) и мусульмане. А вот католиков тут, можно сказать, и не было - ведь Великая Схизма случилась в 1054 году, когда "золотой век" Ани остался в прошлом. Ну а учитывая значение Ани для Шёлкового пути, можно предположить, что на его улицах нетрудно было повстречать и бухарца, и индуса...
24.

Своих храмов не строили тондракийцы - то ли секта, то ли субкультура, начинавшаяся в 830-е годы с маленьких коммун у подножья вулкана Тендюрек. Во что тондракийцы верили - теперь точно не известно: в одних источниках они представляются манихеями с диалектикой светлого духа и грязной плоти, в других местах - и вовсе какими-то квазибуддистами, которые отрицали загробную жизнь и бессмертие души. Но при всём то они считали себя истинными христианами и проповедовали возврат к катакомбам. Больше известно про социальный уклад тондракийцев: что они точно отрицали - так это все иерархии, сословия, обряды, частную собственность и даже семью. Начинавшиеся с сельских парней и девушек, уходивших за свободой, равенством и братством в глухие долины, тондракийцы напоминают мне этаких хиппи 10 века, и вполне может быть, что все разночтения здесь от того, что они просто не имели единых канонов и правил. В города, в том числе к дворянам и детям купцов, тондракийство начало просачиваться как раз в золотой век Ани, так что в здешних закоулках было место даже для неформалов, и кто знает, не располагался ли в одном из этих домов пропахший дымом гашиша тондракийский флэт...
25.

Не знаю, с тондракийством то было связано или с чем-то другим, но в мире своей эпохи город имени богини Анаиты славился эмансипацией. Здесь не были редкостью паронессы (бизнес-леди, если по-нашему), художницы или архитекторши, и даже "армянская Жанна д'Арк" Айцемник в 1126 году собрала целый отряд из женщин, умевших обращаться с оружием.
26.

Так вот жили анийцы. Торговали в лавках, возились в мастерских, а в каморках за ними - спали. Ходили на базары, в церкви и в бани. Холодели от ужаса, когда ишак, гружёный золотом, пробивал неприступную стену, и успокаивались, когда оказывалось, что под азан их дела делаются точно так же, как под колокольный звон. Портной из Двина, сельская красавица из Сюника, резчик по дереву из Карабаха находили приют у своих земляков и, если всё шло удачно, вскоре сами делались анийцами. Двинские поддерживали двинских, карсские - карсских, грузины - грузинов, и думается, все землячества в столице успели поделить её на кварталы и специализации. Самые амбициозные из анийцев тоже делались грузинами, проще говоря переходили в халкидонитство, веря, что всё будущее где-то там, на западе, в Константинополе и Смирне, а на востоке хорошего нет ничего, кроме хлопковой ваты. Так люди жили, любили, творили, плодились назло землетрясениям и войнам... а потом в Ани стало нечего ловить.
27.

Главная улица выводит к внушительному зданию литейной фабрики с высокой гранёной трубой. Ну, вернее фабрикой это здание было бы, если бы строилось в эпоху "промышленной революции" где-нибудь в Англии и Германии (см. например, Советск и Панемуне), а тут это, конечно же, мечеть:
28.

Официально известная как мечеть Манучихра ибн Шавура I - основателя анийской ветви курдов Шеддадидов, к тому времени уже правивших Двином и Гянджей. Официально сельджуки в 1072 году Анийский эмират ему продали, хотя сдаётся мне, на самом деле город купили пароны через подставное лицо. Впрочем, если бы происхождение мечети было однозначным - это был бы не Ани:
29.
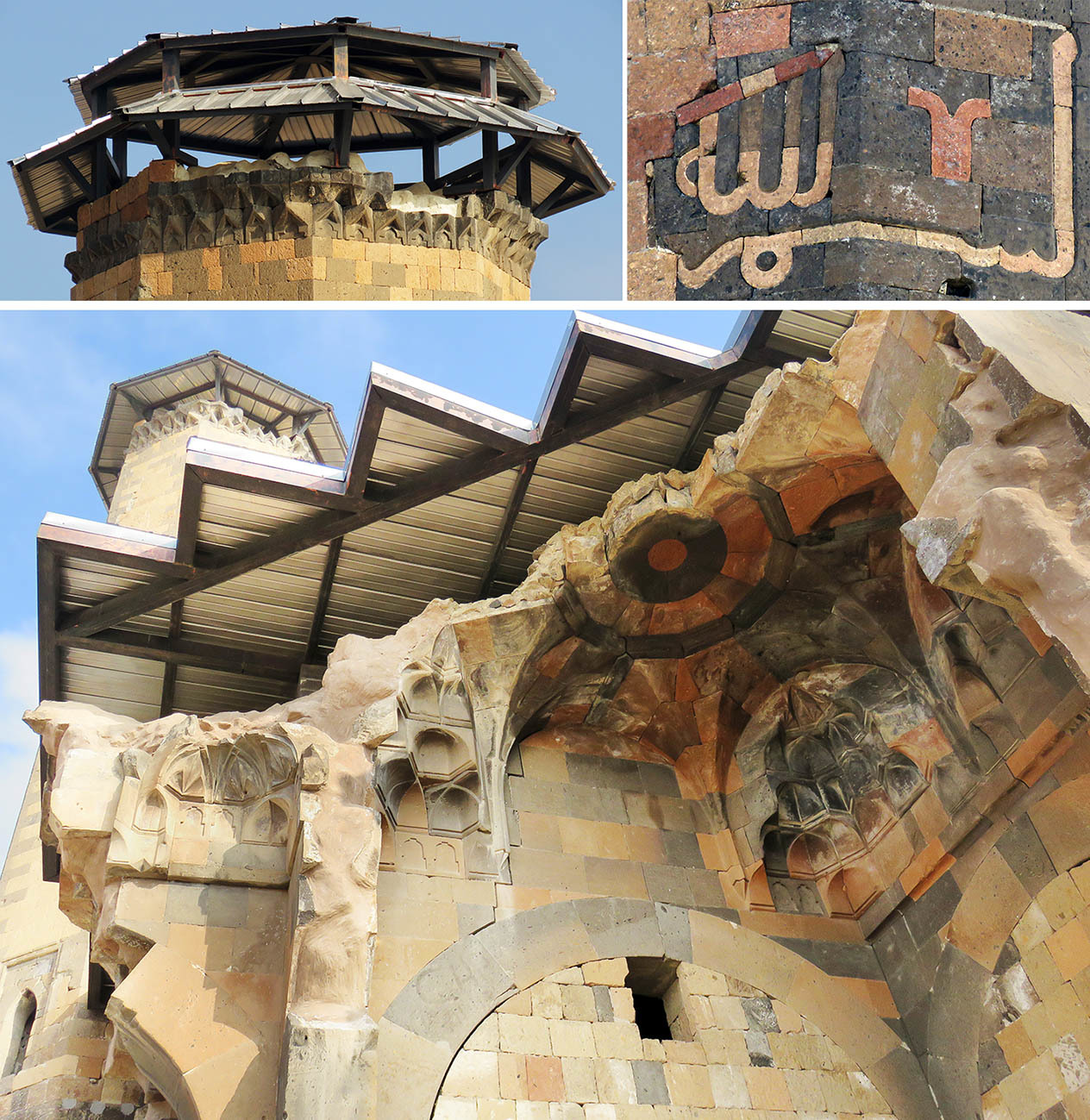
Однозначно известно лишь то, что у мечети типично армянская архитектура, минарет изначально стоял отдельно, а основное здание ориентировано только на обрыв Ахуряна, от канонического направления на Мекку отклоняясь примерно на 20 градусов. Самая тривиальная версия гласит, что мечеть была построена в 12 веке, после того как грузины выгнали мусульман из Мечети Победы, которой со времён сельджукского завоевания в 1064 году был для них кафедральный собор. Туркам ближе гипотеза, что сельджуки её и воздвигли в первые годы господства над Ани, и тогда выходит, что это старейшая (как здание) мечеть чуть ли не во всей Турции. Армяне же и вовсе считают, что мечеть с огромными подвалами была перестроена из дворца, и конечно же, дворца самих Багратидов! Под монументальными сводами зала, раскрывающегося огромными окнами прямо в каньон, в это даже как-то верится:
30.

В 1906 году под сводами мечети открылся небольшой археологический музей: собрание находок и фотографий с раскопок Николая Марра, на глазах у изумлённой публики пополнявшееся каждый год. Около 600 экспонатов Марр успел в 1918 вывезти в Ереван, а остальное было уничтожено - ворвавшиеся в зал османские солдаты просто разбили здесь всё, что можно разбить: на полу мечети ещё несколько десятилетий валялась стеклянная крошка, а перед тем, как открыть Ани для публики, военные убрали валявшиеся в каньоне под мечетью обломки скульптур. Теперь, судя по поведению турецких туристов, это просто красивое здание, где можно сделать селфи. А вот на минарет не пускают - по легенде (ничем, слава богу, не подтверждённой) в первые годы открытия Ани с него бросился, не вынеся скорби по оскверённым святыням, один заезжий армянин...
30а.

Мечеть - последнее на нашему пути здание Внешной города, прикрытого гигантской стеной Смбата II в 980-х годах. Дальше начинается Внутренний город, стену которого построил царь Ашот III Милостивый, переехавший в Ани из Карса в 961 году. Ашотова стена - не чета Смбатовой: невысокая и маленькая, она включала всего 7 башен, в мирное время служивших часовнями, и единственные ворота около будущей мечети. Теперь от Ашотовой стены остались лишь фундаменты, которые мы даже не заметили среди фундаментов старых домов. Чуть приметнее стоявшая поодаль миниатюрная Ашотова базилика - первый кафедральный собор Ани 960-х годов:
31.

Ашотов город представлял собой классический посад - укреплённое подножье цитадели Миджнаберд (Внутренней крепости), куда и начали мы подниматься тропой между развалин:
32.

Миджнаберд - это замок Камсараканов, радикально перестроенный и укреплённый на рубеже 4-5 веков, когда надменный древний дом восстанавливался после репрессий, устроенных царём Аршаком II в рамках борьбы с олигархией. Как я понимаю, изначально Ани называлось селение вокруг Храма Огня, а у крепости было иное название - Хнамк: точно так же на Ефврате другой Ани у храмы Анаиты соседствовал с древним Кемахом. Святилище к моменту строительства этих стен было заброшено уже лет как сто, а потому в стенах видны его тёмные камни. Но с этим камнями в Хнамк перевезли и название Ани:
33.

Фрагменты странно тонких стен ещё висят над обрывами Арпачая и Алачая. Вход в цитадель находился у подножья - к нему подходил водопровод, работавший по принципу сообщающихся сосудов, и единственный годный для этих целей источник в 11 километрах от города был выше подножья, но ниже вершины Миджнаберда.
34.

На вершине же встречает беспорядочное месиво камней. На самом деле резиденция Багратидов была не в "доме Оненца" и не в мечети Манучихра, а именно здесь, в Миджнаберде, и теперь не ясно, построили они её с нуля или же использовали старый дворец Камсараканов. Вполне может быть, что и так, и этак: дворец состоял из двух половин, разделённых 60-метровым коридором.
35.

Северная половина дворца состояла из нескольких залов, устроенных наподобие базилик - скорее всего, она была церемониальная. Южная половина над огромной цистерной выходила скорее жилой. Когда именно рухнул дворец, точно не ясно, но судя по обугленным балкам - причиной тому было не землетрясение 1319 года и даже не запустение, наступившее с концом Закаридов в 1360 году, а очередная война, например нашествие Тамерлана. В обломках дворцах Марр нашёл множество украшений самого разного вида - статуэтки, кусочки лепнины, расписные доски, черепки с остатками фресок... При нём ещё стояла стена одного из залов, сброшенная землетрясением 1966 года в Алачай.
36.

Оно же разрушило Дворцовую церковь, но всё-таки - не до конца. Её стена теперь венчает городище:
37.

Возраст крошечной, явно "домовой" базилики не ясен, но она однозначно старше всего, мелькавшего на прошлых кадрах, кроме фундамента Храма Огня. По самым скромным версиям, её построили в 9 веке Багратиды, обживая бывшие владения Камсараканов. Но, конечно, интереснее думать, что она старше 1500 лет, очередной кандидат на звание старейшего христианского храма Земли - учёные усматривают её сходство с базиликами тех далёких веков в Анипемзе и Дигоре.
37а.

Когда-то церковь изобиловала барельефами, включая не по-древнему точные фигуры всадников. Но почти всё утрачено, а фотографии и зарисовки теперь можно увидеть на "Виртуальном Ани".
38.

Со стороны Ахуряна - довольно странная постройка с целым шлейфом осыпающихся к каньону руин:
39.

Это ещё одна церковь 11 века, разрушенная землетрясением в 1966 году. Не знаю точно почему, но известна она под романтичным названием Мавзолей Принцев:
39а.

Третья, Шестигранная церковь носит не менее романтичное прозвище Девичья башня и замыкает Миджнаберд с юга:
40.

Она тоже может быть "достоличным" наследием Камсараканов - похожей Шестиапсидной церкви в 40 километрах от Ани повезло стоять на другом берегу Ахуряна, и армяно-советские учёные датировали её рубежом 6-7 веков.
41.

Ну а впереди виден уже конец мыса, врезающегося в излучину Ахуряна, к которой с внутренней стороне подходит каньон Ани-реки. Как я понимаю, то была даже не цитадель, а природный донжон, последний рубеж обороны, оставлявший возможность то ли спуститься по веревочным лестницам к тайным челнам, то ли броситься вниз во избежание поругания. Такая легенда точно была, поскольку и армяне, и турки знали это место как Девичью крепость - Кусамроц или Кизкале соответственно. Девственность её не нарушил и Николай Марр - раскопок на мысу не проводилось. И Марра можно понять: кажущаяся очевидной тропа вдруг теряется в карнизах и обрывах, и от точки, с которой снят этот кадр, пробираться на мыс можно и пару часов.
42.

До обнаружения Храма Огня считалось, что именно там было святилище Ани (Анаиты), разрушенное Григорием Просветителем. А потому в начале 13 века Девичий замок увенчала ещё одна церковь Сурб-Григор, построенная по приказу лично князя Закарэ Закаряна.
43.

Рядом - огрызок стены. Ещё одна достопримечательность Кизкале - многочисленные русские и армянские надписи начала ХХ века на постройках и скалах: в те времена поход на эту скалу считался для туристов непременным ритуалом, а вот в наше время и до края цитадели-то дошли из всех сотен бродивших по Ани туристов только мы одни.
44.

Так что теперь развернёмся да оглянемся назад, на весь треугольник мёртвого города от Алачая до Арпачая. До стен Смбата от нас без малого 2 километра, и попробуйте представить эти здания среди океана плоских, подёрнутых бурьяном крыш:
45.

Всё знакомое. Пещерные склепы Цахкадзора, остатки второстепенных стен над Ани-рекой, "дворец Оненца" (на кадре выше), Гагикашен и городской храм Сурб-Григор, а за ним парные башни Карсских ворот:
46.

То ли караван-сарай, то ли банк и биржа храма Сурб-Аракелоц и Львиные ворота:
47.

Мечеть Манучихра на фоне Клетчатых ворот:
48.

Кафедральный собор с обломками высочайшего в армянском прошлом купола и готическими сводами внутри:
49.

Головокружительный каньон пограничного Ахуряна:
50.

Над ним - Половинная церковь Сурб-Аменапркич, едва виднеющийся за бугром скошенный купол грузинской "церкви Оненца", пилоны моста в Армению (всё это на кадре выше) и потайной монастырь Святых Дев (Кусананц) под обрывом. В Девичьем замке где-то до 18 века жили последние армянские селяне, а в Девичьем монастыре - последние монахи, ушедшие с русскими солдатами в 1828 году:
51.

Что-то интересное видно и в других направлениях. Вот например руины некой крепости, которую я даже не смог опознать. А принял её за крепость Магазберд, основанную в 6 веке теми же Камсараканами на подступах к Ани. Сама она, однако, куда как моложе - внутренняя стена построена в 12-13 веках (видимо, грузинами), а внешняя - и вовсе в 15-16 столетиях, на заре персо-турецких войн, и выглядит, как оказалось, совсем иначе. Ещё ниже по Ахуряну, у села с однозначным для русского уха названием Козлуджа, лежат руины монастыря Багнайр - "домашней" обители Пахлавуни, своеобразного "инкубатора" католикосов Армянского царства. Выше по Ахуряну неплохо сохранился Оромос - пристоличная обитель, с Ани соотносившаяся примерно как Печерская лавра с Киевом. Там хоронили не купчин каких-нибудь, а князей разных династий и даже самих Багратидов. Вход к роскошным резным церквям и мавзолеем (крупнейших из которых назывался не иначе как Дом Мощей) отмечала Триумфальная арка, а удалённость их друг от друга намекает, сколько всего когда-то стояло меж них. С Оромоса открывается и лучший вид на Ани, а вот самой обители из цитадели не увидеть. Нет туда и нормальной дороги, а местные жучки-помогайки поломали все указатели да стращают туристов минными полями за полшага от тропы. Дальше - ещё пяток церквей посреди Великого Ничто, которое и уберегло их от растаскивания на стройматериалы. За фотографиями всего этого могу отослать всё на тот же сайт, где с семейными фото на фоне палаток перемежается один из лучших путеводителей по Восточной Турции.
52.

По-хорошму, в Ани стоит приезжать дня на 3 - не спеша и возможно не за один раз обойти городище, спуститься к пещерам Цахкадзора, сходить или съездить хотя бы в Оромос. Но пока здесь толком негде даже переночевать (по крайней мере в несезон), а за стенами лишь утлая курдская деревенька Оджахлы с закрытым на зиму сувенирно-кафешечным рядом. По ней тоже стоит прогуляться, высматривая в кладке заборов и амбаров древний барельеф или хачкар:
53.

С другой стороны тревожно смотрят вышки и реет пара флагов-триколоров: по старой памяти границы Армении с Турцией и Ираном охраняют российские военные. Поэтому с той стороны границы пустота, мышь-полёвка не проскочит! Нет за рекой и столь логичной смотровой площадки, откуда армяне могли бы взирать на руины своей святыни, смахивая скупую слезу: даже индивидуальный пропуск в зону ответственности двух армий получить почти невозможно. А в воображпемом идеальном мире, где народам нечего делить, тут и вовсе мог бы быть пункт пропуска и трансграничный музей-заповедник...
54.

Ещё интереснее мне, какие виды могли бы открываться через Ахурян, сложись история иначе - например если бы Великая Армения объединилась по итогам Первой Мировой в составе России и вывернулась из под неё, когда Гражданская война от Кракова до Владивостока бы всё же вспыхнула на фоне Великой Депрессии. На плоских террасах за рекой мне легко представить Нор-Ани, построенную по единому авангардному плану столицу, где соседствовали бы розовый туф и барельефы Александра Таманяна, "новая готика" Ованнеса Качазнуни, конструктивизм Ле Корбюзье и ара-деко ещё десятка не столь именитых архитекторов. Там были бы свои дворцы и церкви из бетона и стали, а вот мечеть построили бы только на окраине, да и то попозже лет на 50. По краям всё это обросло бы плотной блочной застройкой, как в тех же Турции или Греции, зато к Старому Ани, огромному музею под открытым небом, вели бы железобетонные мосты, арки которых висели бы высоко над темнотой каньона.
Ани опустошает. Уезжали отсюда мы с ощущением, что ничего более впечатляющего не найти во всём Закавказье и намерением поскорей возвращаться домой. Об этом - в следующей, заключительной части.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Аджария, Турция.
|
Метки: Армения замки-крепости Зона заражения Турция природа дорожное |
Ани. Часть 1: городские стены и берег Ахуряна |

Ани - столица Армении, один из крупнейших городов мира (до 100 тыс. жит.) в 50 километрах на восток от показанного в прошлых частях Карса. Ну, вернее столицей царства Багратидов и "городом 1001 церкви" Ани был давным-давно, в глубоком Средневековье, а дальше стал пустеть от бесконечных войн и землетрясений, пока не опустел совсем. Теперь Ани - это огромный и безлюдный треугольный мыс (2х1,5км) меж скалистых каньонов, по плоской "спине" которого расставлен десяток шедевров армянского зодчества. Сама Армения - на том берегу, за чёрной пропастью Ахуряна, который я уже не раз называл Ахерон. Ани - самое впечатляющее место всего Закавказья и всей Восточной Турции, и двумя постами о нём я заканчиваю долгий, тянущийся с благословенного 2019 года, рассказ.
Когда-то, конечно, в Ани вели все дороги, пыль которых поднимали армии царей Багратуни и караваны местных "баронов" (купцов). Теперешний Ани - тупик, куда из Карса ведёт единственная дорога, проходящая через несколько небольших курдских деревень. До последней из них, - Оджахлы под самыми стенами древнего города, - раз в сутки вроде бы ходит автобус, но расписание его туристу вряд ли подойдёт. Поэтому мы вновь предпочли старый добрый автостоп, и тут самое главное выбрать время: выйдя на трассу у окраины Карса в 9 утра воскресения, уехали мы буквально через 15 минут на первой же мчавшейся мимо машине, и конечно же - сразу к цели. Нашими попутчиками оказалась пожилая, интеллигентная, какая-то очень питерская по духу турецкая чета: он был из Стамбула, она из Эрзурума, и вот приехав к тёще погостить, они решили посетить Ани, поездку в который, наверняка, не первый год откладывали на потом. Стамбулец отлично владел английским, и по дороге воодушевлённо рассказывал мне о том, что Анатолия - самое интересное место в мире, поскольку здесь оставили следы самые разные народы и культуры, как греки, армяне или русские. Судьбу самих армян и греков он явно не собирался вспоминать, и в этом отличие стамбульского интеллектуала от питерского: ультрапатриотизм для турок обычен, и не исключение тут даже те, кто у нас бы просто по статусу бесконечно рефлексировал, разоблачал и каялся. Я кивал, а за тонированным окном, тем временем, мелькали обелиски, поставленные в память о жертвах геноцида. Само собой, не того геноцида, о котором за пределами Турции приходит первая мысль: армяне были не из тех, кто просто покорно смотрел, как их режут, и ответили жесточайшей партизанской войной, жертвами которой стали в свою очередь десятки тысяч мусульман. Крупнейший памятник "геноциду турок" я уже показывал в Ыгдыре, а по дороге к армянским руинам эти обелиски словно сообщают турку: "любуйся там, но - ПОМНИ!".
2.

По карте кажется, будто дорога пересекает пяток деревень, но большинство из них то ли в стороне стоят на самом деле, то ли слишком мелкие, чтобы обращать на них внимание сквозь тонированное стекло несущейся машины под интересный разговор. И когда мимо замелькали каменные сараи средневекового вида, кучи кизяка и тонкие минареты поодаль...
3.

...я даже не сразу понял, что это и есть Оджахлы:
4.

Но вот и титанические стены не показались в перспективе дороги:
5.

...Аней древние армяне ласково называли Анаит - богиню плодородия, любви и жизни. Святилище Ани находилось в верховьях Евфрата, напротив древнего Кемаха, когда-то бывшего столицей прото-армянской страны Хайаса, покорённой хеттами 3200 лет назад. Была, однако, Анечка дочерью Армазда, зороастрийского бога всего хорошего, а потому Ани-Кемах сделался святыней укоренившихся на армянских плато персидских династий. Например, Аршакидов - боковой ветви парфянских царей, в 54 году севших на престол Великой Армении, а в 303 крестивших её. Или Камсараканов - их ближайших соратников, которые были потомками гирканского Каренов (см. Астрабад), одного из Семи великих домов Парфии. Не знаю точно, проникли они в Армению следом за Аршакуни или же привели их сюда, но во всяком случае на новом месте Камсараканы стали богатейшими людьми страны и владели вотчинами в её сердце, в гаварах Вананд и Ширак по разные стороны Ахуряна. С языческих времён о былых хозяевах напоминают обелиски с псоглавцами, с христианских - руины старейших в мире сохранившихся базилик, как например Ереруйк и Текор. Чуть менее древние Талин и Аруч, Ошакан и Амберд я уже показывал прежде - в Камсаракановых вотчинах было множество процветающих городов, грозных замков, намоленных обителей, и крепость Хнамк в скалистой излучине Ахуряна тогда не выделялась среди прочих. Однако в середине 4 века царь Аршак II задумал положить конец олигархии, и методы использовал он ровно те же, что и Иван наш Грозный 1200 лет спустя (см. Аршакаван). Камсараканам досталось особенно - из всего дома выжил только князь Спандарат, да и то лишь потому, что незадолго до репрессий повздорил с роднёй и уехал жить к супруге. Следующий царь Пап в рамках борьбы с "гнилым аршаковым наследием" вернул ему вотчины, но комфорту и выгоде Спандарат предпочёл безопасность, обратив внимание на Хнамк, который радикально перестроил и нарёк в честь древней вотчины Ани. Под двумя названиями эта крепость и появляется в хрониках с 5 века:
6.

Но могучая стена построена куда как позже: на кадре выше на инфостенде хорошо видны очертания Ани, странным образом вдали от всех морей напоминающие Константинополь. Цитадель Камсараканов - на тонкой оконечности треугольника, а стену не случайно отмечает Лев. Род Камсараканов никуда не делся: одной его ветвью были Пахлавуни, прославившиеся строительством университетов на границе Армении с Грузией, другой ветвью - Хетумиды, династия королей Киликийской Армении. Осталась и сама фамилия Камсаракан, давшая Российской империи минимум двух генералов. Однако всё это было не здесь: в 771-72 годах Камсараканы возглавили армянское восстание против арабов, и потерпев поражение, были вынуждены уступить свои вотчины главным соперникам - Багратуни. То была сверхдинастия Закавказья, одна из величайших фамилий в мировой истории - ведь не случайно в переводе значит она Боговичи. Древними корнями Багратидский дом уходил куда-то во тьме веков - то ли в Мидию Атропатену (вероятнее), то ли в наирийскую знать Урарту (красивее), то ли к еврейским общинам древней Армении, то ли и вовсе к мифическому прародителю армян Айку Наапету. Как бы то ни было, звёздный час Багратуни совпал с крещением Армении - каким-то образом они помогли занять трон Трдату III, и вплоть до заката Аршакидской династии носили титул аспетов, то есть короновали новых царей. Когда же царей отменили римляне и персы, аспеты продолжили богатеть, конечно же лелея планы рано или поздно короновать себя. Ашот Багратуни, арабский наместник, принявший участие в том же восстании, бежал в Грузию, в Ардануч, где положил начало тысячелетней династии Багратионов. Его родня старалась вести себя тише - но в 882 году другой Ашот Багратуни провозгласил себя царём, вассальным Халифату, а его внук Ашот II Железный в 914 году на берегах Севана сделал то, что не смогли Камсараканы: сбросил мусульманскую власть. Так наступил "серебряный век" Армении, полтора столетия Багратидского царства, начало которого отметилось навязчивыми поисками столицы: в этой роли поочерёдно сменяли друг друга Багаран, Ширакаван, Карс и наконец, с 961 года - Ани, куда перебрался Ашот III Милостивый. От цитадели город начал стремительно расти, и следующий царь Смбат II преградил мыс мощнейшей каменной стеной длиной 1,5 километра. Под защиту этих стен в 992 году переехал из Двина католикос, тем самым окончательно "верифицировав" столицу. Дорога из Карса упирается в Львиные ворота, прозванные так из-за своего барельефа (кадр выше) - царского герба Багратид.
7.

Эти стены - памятник подлинного расцвета, когда единое армянское царство под охраной 100-тысячной армии легло на перекрёстке всех дорог. Как Самарканд, Бухара или Мерв на востоке, на западе Ани, Карс, Вагаршапат, Двин и Ахлат стали узлами Великого Шёлкового пути: с населением под 200 тыс. человек Ани был достоин если не Константинополя, то Багдада или Дамаска. С богатством рука об руку часто идёт культура, и те века вошли в историю как Армянской Ренессанс - расцвет всех наук и искусств, когда создавались шедевры от Анийского собора до "Книги скорбных песнопений". Армянское царство было форпостом христианства на востоке, и тем не менее немало решений цари принимали под давление католикоса для борьбы с тондракийцами - миролюбивой, но весьма привлекательной сектой, "внуками" которой стали все эти катары да богумилы Средневековой Европы. Но и "логическая ошибка" в Багратидово царство была заложена ровно та же, что и в европейские королества тех времён: если Великую Армению погубила олигархия, то Багратидскую Армению - феодальная раздробленность. К моменту завершения строительства этих стен Анийское царство представляло собой скорее конфедерацию царств с центрами в Ани, Ване (908, династия Арцруни), Карсе (963, младшая ветвь Багратид), Лориберде (978, Багратидова родня Кюрикиды) и Капане (987, дом Сюни), к которым можно добавить вассалов - Хаченское царство в Карабахе и Шекинское на Кавказе. И пока торговля преобладала над войной, все они жили неплохо, но так, конечно, не могло быть всегда. Соседи, поняв, что друг с другом пять армянских царей не договорятся, передушили их по одиночке. Первым таким соседом стала Византия, работавшая как истинная сверхдержава: в США вон тоже есть служба NED, занимающаяся выявлением ключевых фигур в разных странах и делающая им от лица Америки предложения, от которых трудно отказаться. В 1022 году царь Ованнес-Смбат, получив выбор между роскошными вотчинами в Малой Азии и долгой войной, конечно же предпочёл первое, и наследником своим провозгласил константинопольского императора. У его племянника Гагика II, однако, на этот счёт было другое мнение, и в 1040-х годах эти стены несколько раз отражали атаки византийских армий. Однако, судя по всему, греки и с обществом умели работать, в первую очередь, конечно, с теми самыми "баронами", которые и открыли ворота "европейскому выбору" в 1045 году.
8.

Но продажа страны не осчастливила покупателя: считанные годы спустя в Малую Азию пришла новая напасть - сельджуки, туркмены из приаральские болот, к тому времени покорившие Иран и ставшие грозной силой. Их вождь Альп-Арслан построил империю от Балхаша до Босфора, мимоходом в 1064 году взяв в Ани. Для самого города, впрочем, все эти смены властей не были катастрофой - он по-прежнему стоял в узле торговых путей, а хозяевами его по-прежнему были "бароны" (вернее, "пароны" - владельцы) и "мецатуны" ("большаки"), армянские купцы, быстренько сумевшие договориться и с сельджуками. Продав город в 1045-м, они купили его в 1072-м через подставное лицо - курдского эмира Манучихра ибн Шавура II из династии Шедаддидов, к тому времени уже правившей с согласия сельджуков в Двине и Гяндже. Так Анийское царство превратилось в Анийский эмират, монархи которого хоть и сохраняли верность исламу, но женились на армянках из знатных родов и даже причисляли себя к дому Багратуни. За пару поколений курды Шедаддиды превратились скорее в армян-мусульман, однако вскоре, с ослаблением Сельджукии, у них нашёлся сильный христианский противник - грузины. Они брали город в 1124, 1161, 1172 годах, но - не могли его удерживать долго. Оборону 1126 года от мусульманского реванша прославила Айцемник - "армянская Жанна д'Арк", воительница и командир женского подразделения, в том бою героически сражавшаяся уже со стрелой в груди. Грузины же сумели утвердиться в Ани только в 1199 году, когда полководцы царицы Тамары погнали тюрок далеко за пределы Армянского нагорья. Возглавили этот поход братья Иванэ и Закарэ Закаряны, ещё одни потомки курдов, крещённых когда-то в армянской церкви, и наградой им за те победы сделалась Анийская земля. Теперь "город 1001 церкви" сделался столицей Армянского княжества, и даже царями здесь снова стали Багратиды, коим принадлежала царица Тамара. Но грузинский триумф был недолгим: если в 1226 году Ани выдержал монгольский набег, то уже в 1236 году новым сюзереном Закарянов сделался монгольский ильхан. О дальнейших войнах и чехарде государств можно было бы распинаться ещё долго, да только стало это всё уже не важно. Чингисхан разрушил Великой Шёлковый путь, Передняя Азия впала в бесконечный кровавый хаос, из далёкой Португалии в море вышла каравелла, и торговые пути переместились в океан. Мецатуны подались в Константинополь и Джульфу, а Ани начал умирать.
9.

Кто-то ещё цеплялся за пустеющий город, где заброшенные дома заносились пылью, а улицы зарастали травой. Но тех, кто погибал или бежал в каждом очередном набеге или землетрясении было уже некем восполнить. Закаридское княжество сошло с исторической сцены в 1360 году, а когда Карская область в 1878 году стала частью России, на развалинах древнего города не осталось даже деревни. То, вероятно, и позволило Ани сохраниться: даже на строительный камень его стены и храмы было некому разобрать. В 1892-1917 годах древнюю столицу возвращал из небытия Николай Марр, грузинский археолог из царской России, описавший здешние постройки и даже организовавший из своих археологических находок музей. Он строил далеко идущие планы возрождения Ани именно как культурного и паломнического центра, но сбыться им было суждено лишь через сотню лет.
10.

Когда рухнула Российская империя, и от Вана и Муша "битые" турки за считанные месяцы дошли до Баку, Марр успел вывезти часть своих находок, а оставшееся было разграблено и разбито. Великое национальное собрание Турции приказало Кязыму Карабекиру, отвоевавшему эти земли у Армении в 1920 году, стереть Ани с лица земли и тем самым поставить точку в окончательном решении армянского вопроса, но сам Карабекир отказался выполнять столь преступный приказ. Новая граница прошла по Ахуряну, но именно это Ани и спасло: пограничье осталось безлюдной землёй, где только поднимали пыль армейские джипы. Большинство храмов Западной Армении не уничтожались целенаправленно, а просто за ненадобностью растаскивались жителями на камень, и вот как раз-таки военные с их погрназонами и режимными объектами, сами того не желая, стали главными хранителями армянского наследия. Что-то, конечно, они уничтожали сами, особенно в середине 1950-х годов, на радостях от вступления в НАТО устроив танковые учения с расстрелом древних храмов в прямой видимости советских пограничников. Впрочем, служивших на границе литовцев, галичан, узбеков, якутов или простых рязанских пареньков это всё вряд ли тронуло, армяне же просто знали, что турки рушат их священный город, и скорее всего, думали, что от Ани уже не осталось следа. А вот землетрясения границ не знают, и здешние храмы в 1988 году тоже оказались в числе пострадавших от Спитакской трагедии. Пограничное оцепенение стало сходить лишь в постсоветские годы, когда Турция осознала, что теперь за Ахуряном - не ядерная держава с территориальными претензиями, а маленькая нищая страна, не представляющая никакой угрозы. Более того, несколько поколений отрицая геноцид, турки конечно же сами себе поверили, и пришли тогда к выводу, что армян они могут великодушно простить. Словом, с интереса к армянском наследию было снято негласно табу, а со многих мест у Ахуряна - погранзона. В 2004 Ани был открыт для свободного посещения, и постепенно "раскрутился" в одну из главных достопримечательностей Турции.
11.

Первая, а по мнению многих и главная достопримечательность Ани - Смбатова стена из двух рядов и сухого рва. В основе она была построены в 980-е годы, реставрировались Закарянами на рубеже 12-13 веков и турками в 21 веке. Стены тянутся на 1,5 километра поперёк основания мыса, но для нас наиболее интересен 600-метровый участок, вмещающий трое ворот и три десятка башен. Башни, как в генуэзском Судаке, были именные, а потому многие из них отмечают хачкары, гербы или надписи строивших их князей и "баронов":
12а.

Справа от Львиных ворот расположены Карсские ворота, украшения которых - на кадре выше:
12.

Пара башен у этих ворот были самыми высокими и мощными во всей системе укреплений:
13.

Дальше стена постепенно спускается в Цахкадзорскую (или Бостанларскую, по-нашему говоря Цветущую) долину речки Алачай, смыкаясь с её отвесными обрывами:
14.

В годы расцвета Ани слыл городом не только 1001 церкви, но и 40 ворот, так что боковые долины тоже скалились многочисленными укреплениями. Теперь от них остались лишь огрызки стен и башен раза в два поменьше и пониже, чем у Смбатовых укреплений. Западный конец сохранившегося участка:
15.

У Львиных ворот стоит касса - не помню, сколько придётся отдать в ней за билет, но помню, что за ТАКОЙ масштаб цена вменяема. Средневековые укрепления дополняет новый забор, в котором, наверное, при желании можно найти дырку, а на просторах древнего города вряд ли кто-то будет безбилетников искать. Через Карсские ворота на закате мы покидали Ани, а хмурым утром пошли от Львиных ворот на восток:
16.

Здесь находятся Водные, или Клетчатые ворота:
17.

Второе название им дали русские археологи раньше, чем разобрались в устройстве - сохранившийся участок стены здесь заканчивается, но зато к Ахуряну спускается овраг, или вернее долина ручья, на который ходили по воду:
17а.
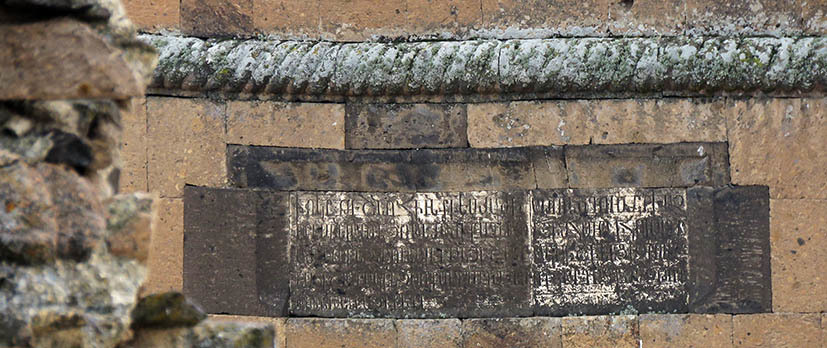
Изнутри вид Водяных ворот скромен и неприметен:
18.

Однако для начала знакомства с Ани они лучше всего подходят по одной-единственной причине - на них можно залезть! Виды будут против часовой стрелки - каждый следующий кадр левее предыдущего. Сначала посмотрим на запад вдоль линии стен - вот овраг спускается к Ахуряну, а задний план - уже Армения:
19.

Снаружи стен примечательна странная арка, которая хорошо видна с дороги на подъездах к городу:
20.

Это остатки Пастушьего храма, разрушенного землетрясением в 1966 году. Стены, конечно, не успели за ростом города, и Оджахлы стоит на месте многочисленных слобод, не сильно отличаясь от них внешне. В одном из предместий и было построено это чрезвычайно сложное здание из трёх внешних ярусов и двух внутренних этажей. При более чем скромном размере (высота 11м, диаметр 7м) его основание имело аж 12 "лепестков", причём абсолютно одинаковых - какой-то из них мог с равным успехом служить и апсидой церкви, и михрабом мечети. Скорее всего, конечно, это просто церковь в предместьях, однако есть версия, что Пастуший храм был построен при Шеддадидах: армянскими зодчими - но как мечеть. Название своё же получил он в куда более поздние времена, когда служил курдским чабанам укрытием и кошарой.
20а.
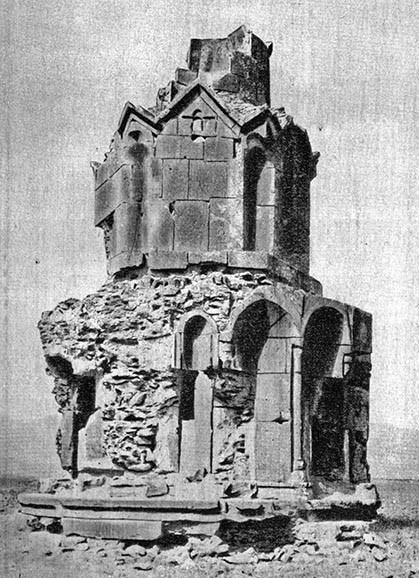
Внутри стены - лишь бугры, волнистые, как штормовое море. Каждый из этих бугров - дом или храм, и лишь местами стены и колонны торчат выше бурьяна:
21.

Разрушенные Грузинскую церковь (11-13 века) и Гагикашен (11 век) с кадра выше, как и церкви Сурб-Григор (10в.) и Сурб-Аракелоц (1031) с кадра ниже, я оставлю на вторую часть:
22.

Да и мечеть Манучихра, и далёкую Цитадель - тоже. Пока пойдём мы к Кафедральному собору, но не столько по буграм городища, сколько по обрывам Ахуряна:
23.

Над оврагом хорошо видны руины стен, тянущиеся пунктиром:
24.

В том числе ещё одни ворота, которые я бы назвал Водяными куда однозначнее, чем Клетчатые:
25.

Обратите внимание на многочисленные ниши в обрывах - это ни что иное, как склепы. Цахкадзор и этот овраг успели тогда превратиться в некрополь богатейших горожан.
26.

Над стрелкой оврага высится, натурально, Половина Церкви Сурб-Аменапркич. Её построил в 1035 году князь Аблгариб Пехлеви, род которого приходился, между прочим, ветвью Камсараканов. Видимо, в 1022 году князь ездил в Константинополь с завещанием Ованнеса-Смбата, и коварные греки не поскупились своему будущему феодалу на дары, самым ценным из которых стал фрагмент Креста Господня. Как его вместилище и возводился один из сложнейших армянских храмов, по основанию представлявший собой 19-гранник с 8 апсидами, а по куполу - и вовсе идеальный круг. Позже к нему достраивались гавиты (1193) и колокольня перед входом (1291), но они исчезли без следа, и лишь надписи на стенах сообщают, что вообще когда-то были. Вероятно, их разрушило землетрясение 1318 года, нанесшее по Ани почти что фатальный удар - и тем не менее круглый купол был восстановлен в 1342 году князем Ваграмом Закаряном. Николай Марр обнаружил Храм Христа Спасителя (имено так переводится Аменапркич) в крайнем обветшалом состоянии на грани обрушения, но при этом даже устроил под его сводами небольшой музей. Реставрации церковь так и не дождалась, и нынешний облик приняла в 1957 году - официально её доканала буря, а по слухам - выстрел из танка на учениях. Но строительная гениальность поражает - даже обрушилась строго половина церкви, будто отрезанная ножом:
27.

Её фрески 13 века могли разглядывать в бинокль пограничники с вышек за Ахуряном. А вот мне увидеть фрески не довелось - в 2019 году в церкви Сурб-Аменапркич полным ходом шла реставрация. Обломки рухнувшей половины турки собрали под специальные навесы, но всё же надеюсь, им хватит вкуса не отстраивать разваленное: уж очень фантастически смотрится это Половинный храм...
28.

Рядом - развалины бани, не знаю, каких точно веков:
29.

В её помещениях сохранились остатки декора:
30.

А с бугра за баней разверзается каньон, на дне которого видна тёмно-зелёная вода Ахуряна:
31.

На карнизе у обрыва притаилась самая незаметная в панорамах, но может быть красивейшая в Ани церковь Святого Григория. Именно так, а не Сурб-Григор - она считалась "грузинской", то есть православной. И потому более известна как церковь Тиграна Оненца - богатейшего анийского купца, чей дворец я ещё покажу во второй части. Не знаю точно, какой веры был он сам, но эпоха грузинского протектората стала его звёздным часом: думается, затраты на строительство храма и подаренные приходу 8 деревень, 6 садов, гостиницу, таверну, мельницу, маслодавильню и баню, руины которой тут видны справа, при этих властях окупились сполна. Построенная в 1215 году церковь Оненца стала главным храмом не армянского Ани, но грузинского Аниси:
32.

Издалека она изящна, но в общем-то довольно заурядна. А вот вблизи...
33.

Своими барельефами, я бы сказал, она достойна знаменитой церкви на ванском Ахтамаре!
34.

Здесь они не так странны и сказочны, но куда более сложны:
35.

36.

Ну а надпись на стене (на армянском) гласит: "В лето 664 (1215 год), по милости Божией, когда господином этого города Ани был сильный и могущественный Закария ... Я, Тигран, раб Божий, сын Сулема Смбаторяна, из рода Оненце, для долгой жизни моих господ и их детей построил этот монастырь Святого Григора, который был на краю обрыва и в месте, полном подлеска, и я купил его на свое законное богатство у владельцев и с большими трудами и расходами обеспечил его обороной со всех сторон; Я построил эту церковь во имя Святого Григора. Мы с Григорием Просветителем украсили его множеством украшений..." - и ведь с последним точно не поспоришь!
37.
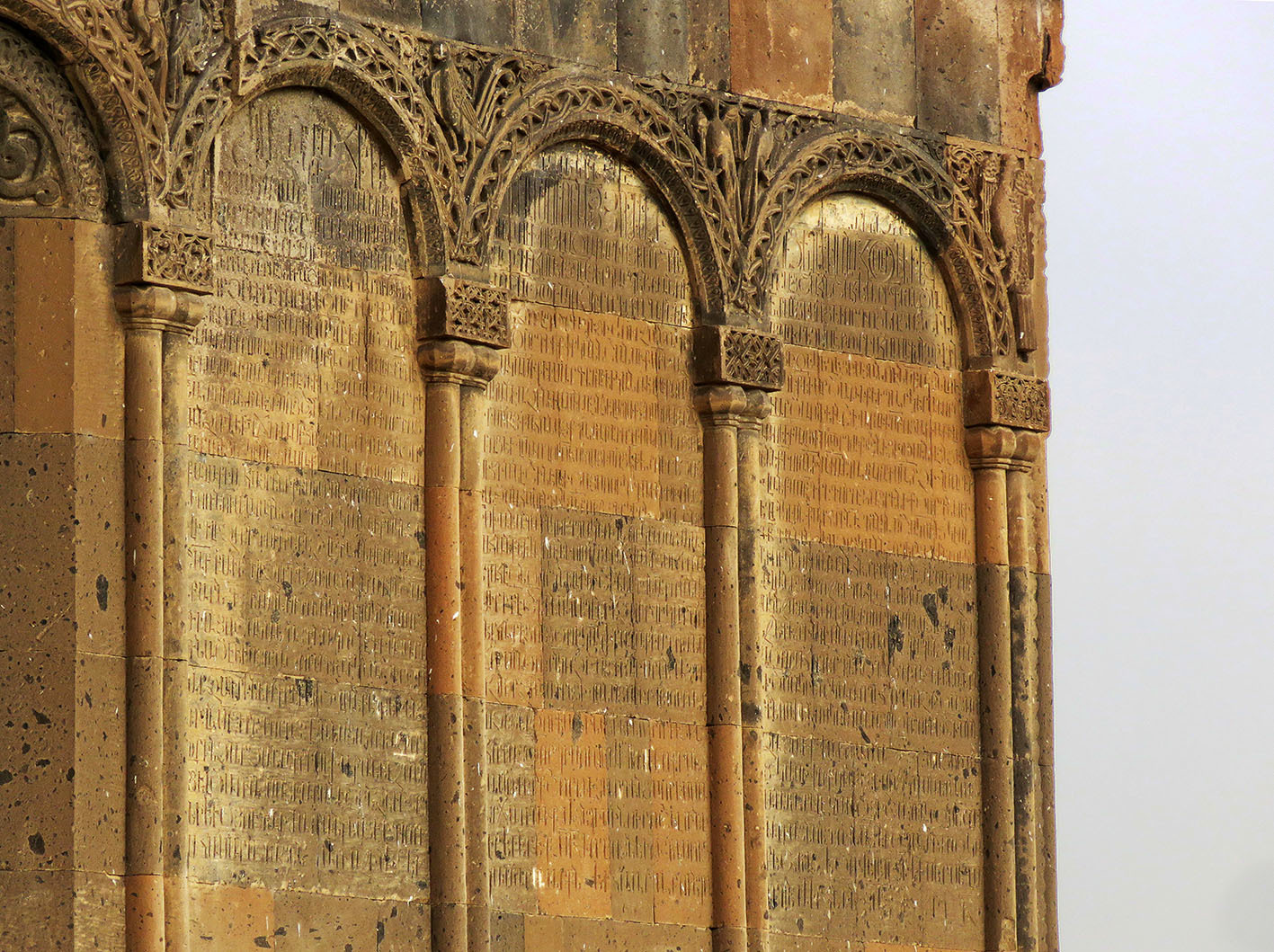
Тем более есть у церкви Оненца и третье название - Нахшлу, то есть Картинный храм:
38.

Фрески начинаются на её западной стене, в разрушенном гавите чуть более поздней эпохи, а собственно зал покрыт ими целиком. Эти фрески, вернее труд приглашённой грузинской или греческой артели - тоже дар Тиграна Оненца:
39.

Наряду с Ахталой и Кобайром это ценнейший памятник армяно-халкидонитских росписей, но всё же мне милее сугубо армянские фрески Ахтамара.
39а.

От Картинной церкви мы пошли по тропе над Ахуряном. Собор, мечеть и цитадель, конечно, хороши:
40.

Но мы искали монастырь Кусананц (Святых Дев), словно в знак своего посвящения запрятанный на тёмном дне ущелья:
41.

Святые Девы - это 37 христианок, которых привела в Армению в 303 году римлянка Рипсимия. Дальнейшая история в общем известна: царь Трдат III арестовал их тайный монастырь в виноградниках близ Вагаршапата, и получив отказ Рипсимэ, велел их всех казнить самыми зверскими способами. А затем превратился в свинью (видимо, образно), был исцелён извлечённым из темницы Хор-Вирапа Григорием Просветителем и как результат - крестился сам и крестил страну.
42.

Обитель построил в те же 1210-е годы тот же Тигран Оненц. Центром её была миниатюрная (всего 3,5 метра в диаметре) церковь Сурб-Рипсиме, уже вполне себе армяно-апостольская:
43.

Она была последним очагом жизни в Ани - несколько монахов оставались здесь до 19 века, и видимо в 1828 году ушли с русской армией за Ахурян - возрождать святынь, отвоёванные белым царём у персов.
44.

Ушли кружными путями - старинный мост с гигантской 30-метровой аркой (это примерно как сейчас Владивостокские мосты!), возведённый, видимо, ещё при Багратидах, обрушился давным-давно. В противном случае его бы совершенно точно подорвали турки, когда Сталин в 1945 году потребовал немедленно уступить Советской Армении Карсскую область. Да, надеюсь вы поняли, что эти два пилона - в разных странах?
45.

Отсюда мы вновь вышли наверх, к сердцу Ани - кафедральному собору Сурб-Аствацацин (989-1001), более известному как Анийский собор без всяких посвящений. Заложен он был тем самым Смбатом II, что возвёл внешние стены, а закончим при его сыне Гагике II, 30-летнее правление которого стало расцветом Ани. При этом из надписей следует, что курировалась священная стройка не столько самим государём, сколько его супругой Катраниде, так же известной в своих краях как Екатерина II. Заканчивал стройку и возводил купол Трдат Архитектор - величайший армянский зодчий всех времён. Его уцелевшие творения - церковь Сурб-Ншан в монастыре Ахпат, Половинная церковь в Ани, ну а этот собор возводить он вернулся в 994 году из Константинополя, где восстанавливал, ни много ни мало, на века вперёд крупнейший в мире купол Софии, рухнувший в 989 году. Там купол до сих пор как новенький, а вот здесь - наоборот: собор обезглавило землетрясение 1318 года.
46.

Первоначально он выглядел так, и по размерам (34 метра в длину, 27 в ширину, 38 в высоту) был крупнейшей, уж по крайней мере высочайшей армянской постройкой вплоть до ХХ века. Подобно храмам Московского кремля, Анийский собор представлял собой переосмысление древней архитектуры, втоптанной в грязь степняками. С одной стороны, он очень похож на храмы 7 века в Талине, Аруче и ещё бог весть где, с другой - совершенно самобытен во многих деталях. Самое, пожалуй, поразительное в его архитектуре - готичность. Стрельчатые арки, групповые пилоны, конструкции сводов и колонн - всё это распространилось по Европе спустя пару веков и теперь называется "готика". Первым на эту особенность обратил внимание в начале ХХ века австрийский поляк-искусствовед Йозеф Стжиговский, ну а ныне спорный вопрос лишь в том, независимо французы пришли к такому зодчеству или почерпнули у армян идею. Последнее ведь вполне вероятно - зарождение готики совпало с сельджукским нашествием и массовым исходом людей хай со своих плато.
46а.
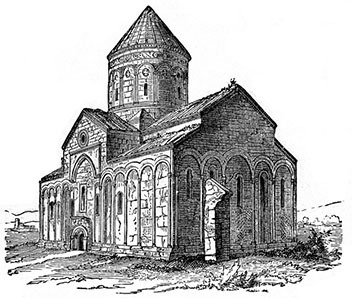
Под пятой сельджуков собор стал Фетхие-джами, Мечетью Победы, и по преданию, крест с его купола был уложен под крыльцо, чтобы каждый входящий попирал его ногами. Христианам собор вернули грузины в 1124-26 годах, и та же Айцемник не зря пала на поле боя - вновь делать тут мечеть курды не решились. Грузины, скорее всего, и реставрировали здание в 13 веке, так что у многих, включая Николая Марра, даже был соблазн сказать, что напротив - это сюда готика каким-то образом дошла из Европы. Но для подобных наслоений вид у храма слишком целостный, да и более старые надписи все на своих местах.
47.

По Анийскому собору не стреляли турецкие танки, и всё же время основательно потрепало его. Землетрясение 1319 года обрушило купол, а землетрясение 1832 года низвергло и барабан. Спитакским землетрясением 1988 года была пробита огромная брешь в северо-западном углу, а от взрывных работ на ближелажищих каменомлонях в 2001 году стены пошли трещинами. Все эти века Анийский собор простоял заброшенным, и всё же местами он выглядит так, будто построен вчера:
48.

Раскрывающийся к небу зал действительно кажется очень готическим. Столбы, похожие на лапы гигантского зверя, подпирали купол:
49.

А вот украшений внутри почти нет: что отличало Анийский собор от готических кафедралов Европы - это темнота. Прихожане видели гигантские столбы и стены, уходящие от огоньков их свечей в чёрную бесконечность.
50.

Снаружи - какие-то развалины, может католикосата, может часовен над могилами Гагика II и царицы Катраниде. Католикосат строил тот же Трдат Архитектор, но по назначению дворец недого прослужил - уже в 1058 году престол католикоса переехал в византийскую Себастею (Сивас).
51.

После веков запустения жизнь вокруг Анийского собора кипит. В 1989 году американские армяне праздновали 1000-летие его закладки, а в 1996 военные соизволи допустить ЮНЕСКО до здешних руин. В 2010 году турецкие националисты, возмущённые возрождением армянской церкви на Ахтамаре, устроили в соборе мусульманский намаз под звуки османского военного оркестра. Удивительно, но не остаётся в стороне даже сама Армения - несмотря на закрытую границу (въезд через третьи страны-то не запрещён!) начиная с 2011 года Ереванский университет привозит некоторые свои выпуски сюда на вручение дипломов. Параллельно в соборе идёт реставрация, и надеюсь, Эрдоган не сделает из него мечеть следом за Константинопольской Софией.
52.

Мы же прошли собор насквозь и выбрались на главную улицу Ани. Напоследок - пара зарисовок с туристами, которых на развалинах немерено даже в мрачном ноябре.
53.

И 9/10 этих туристов - сами турки, а может быть какие-нибудь криптоармяне, под мусульманскими именами так и живущие сотню лет среди них:
54.
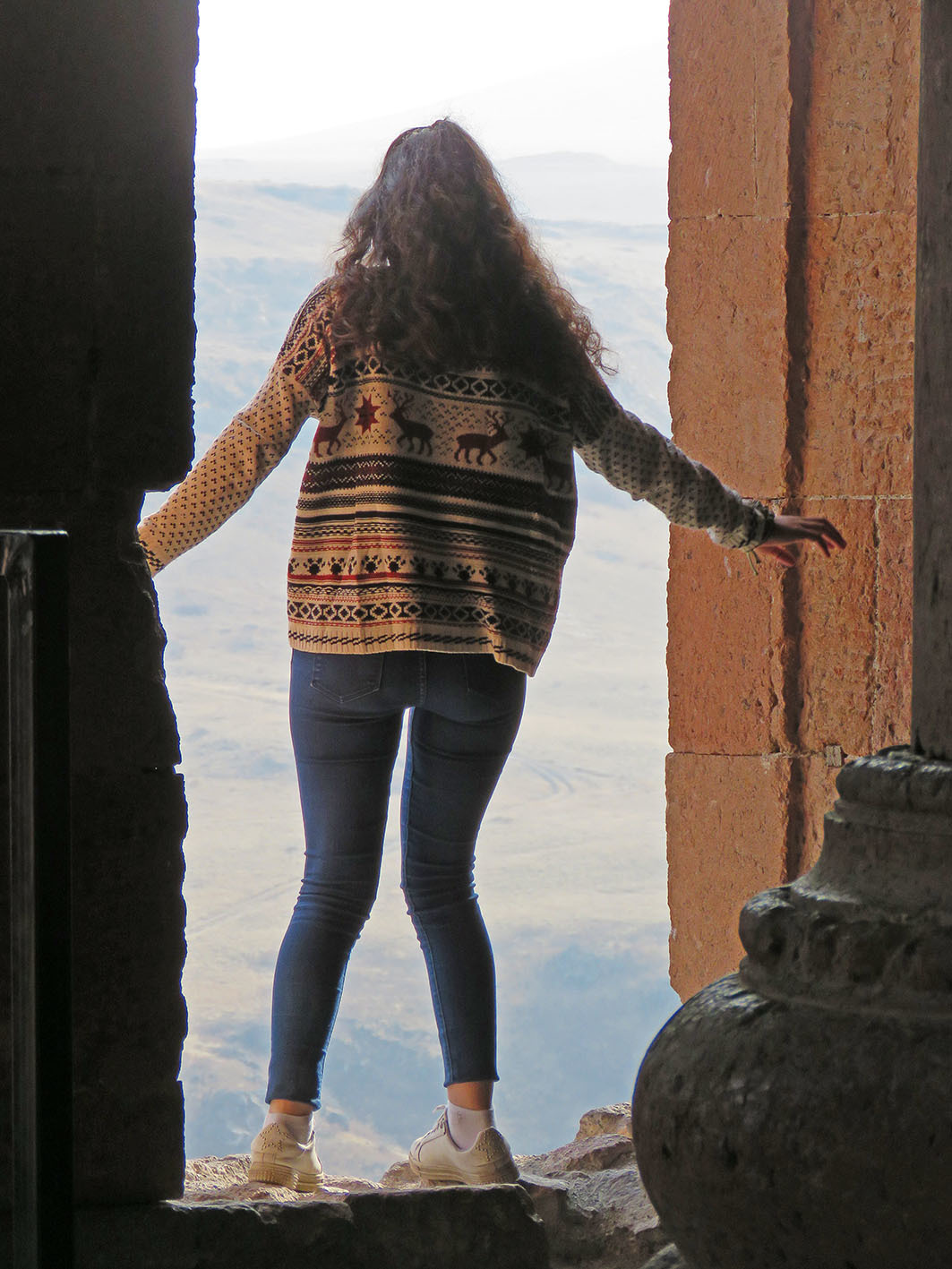
ПРОДОЛЖЕНИЕ - ЗДЕСЬ!
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Сурмалы (ил Ыгдыр)
Ыгдыр и земля Сурмалы.
Подножье Арарата.
Карсская область (ил Карс).
Карс. Анти-Выборг.
Карс. Цитадель и старый город.
Карс. Балтийский стиль.
Карс. Вокзал и крепость.
Сарыкамыш.
Килитташ (Багаран) и попытка Мрена.
Ани. Ближняя часть.
Ани. Дальняя часть.
Дорога домой.
|
Метки: Армения замки-крепости Зона заражения Турция дорожное |
Карс. Часть 4: вокзал и крепость |

В Карс, колориту которого была посвящена первая часть, ездят посмотреть на показанные в прошлой части домики русской эпохи и на показанную в позапрошлой части средневековую цитадель. Однако самая интересная достопримечательность Карса, на мой взгляд - не то и не другое. По сопкам и каньонам вокруг города разбросаны форты, укрепления, казематы мощнейшей чуть ли не во всей Азии сухопутной крепости Нового времени. Заодно покажу и вокзал той старой русской железной дороги, которой мы ездили в героический Сарыкамыш.
Через все мои посты про Карс красной нитью проползает мысль о том, что здесь не стоит ждать "отуреченной Рязани". Карс трудно спутать с городками эпохи Российской империи хоть на Украине, хоть в Сибири. Даже в Туркестане выглядели они заметно иначе: там к средневековым мусульманским махаллям пристраивались регулярные кварталы для русского гражданского населения, а здесь просто один двуглавый орёл сменил другого над древним армянским городом. То, что турки называют глуповатым эвфемизмом "балтийский стиль" - на самом деле архитектура абсолютно типичная для старых домов Еревана или Гюмри (Александрополя). А Русский Карс - он южнее и выглядит по большей части так:
2.

С юга Карс встречает бескрайним массивом казарм, в основном занятых теперь воинскими частями той армии, для защиты от которой когда-то строились. Впрочем, так ли это? На самом деле и тут я не уверен, что в основе казармы не турецкие, но уж по крайней мере именно эти казармы и плацы, а не особнячки и улицы, в 1878-1918 года ежеминутно слышали русскую речь. Рядом с воротами, совсем такими же, как у российских в/ч, иногда попадаются старые пушки:
3.

Границей двух Карсов, - штатского армянского и военного русского, - служит всё та же улица Фаикбея, небогатая на достопримечательности, но очевидно главная в нынешнем городе. За давно брошенным котлованом - ещё какие-то крупные дореволюционные здания, вероятно военные склады или конюшни:
4.

Гулять по таким районам, а тем более с фотоаппаратом в руках, надо осторожно. Тем более морозным утром, когда все нормальные туристы спят в кроватях по-сибирским жарко натопленных гостиничных номеров. На пустырях около вокзала буквально из воздуха вдруг материализовались двое подтянутых турок, подошедших ко мне быстро и с разных сторон. Кто они, я понял сразу, а вот и удостоверения мелькнули перед лицом. Дальше, через гуглопереводчик, последовал диалог минут на 15 о том, кто я, откуда, какие города посещал, куда иду и что фотографирую. Осень-2019, кажется, была периодом потепления в причудливой синусоиде путинско-эрдогановских отношений, а опыт подобных контактов на территории бывшего СССР приучил быть спокойным, вальяжным и вежливым. Говорят, именно это, а вовсе не содержание документов или фотографий, и тестируют чекисты на самом деле, и вскоре я продолжил путь.
5.

Я шёл к вокзалу, площадь перед которым украшает пеший (канонически он на гарцующем коне), но очень старый, как бы не 1920-30-х годов, памятник Кязыму Карабекиру - турецкому генералу, что захватил эти земли в 1920 году.
6.

Ахтала, Алаверди, прошитое тоннелями и мостами ущелье Дебеда, Ванадзор, Гюмри - все они нанизаны на Тифлис-Карсскую железную дорогу, строившуюся в 1895-99 годах, и даже нынешняя магистраль к Эривани, Нахичевани, иранской границе начиналась как её боковая ветка. К 1913 году линию дотянули к военной базе Сарыкамыш, а в 1916 ещё и бросили узкоколейку до Эрзурума. В Турции, строившей железные дороги с 1850-х годов (в основном под патронажем англичан и немцев), эта линия несколько десятилетий существовала совершенно обособленно - не удивлюсь, если языком карсских железнодорожников оставался русский, как в постсоветских странах в наши дни. Изолированная от остальной системы, построенная по иными стандартам и с иной колеёй (1522 и 750мм), больше всего эта линия напоминала железные дороги Сахалина, лишь пару лет назад окончательно переведённые с японских на общероссийские стандарты. В Турции рельсовая интеграция растянулась на четверть века: в 1939 году железная дорога из Анкары в Эрзурум положила конец изоляции, в 1957 была расширена узкоколейка, а в 1962 сужена и линия "русской колеи" от Сарыкамыша до пограничной станции Догукапы ("Восточные ворота"). Чуть раньше на ней возобновилось транзитное движение, в том числе - пассажирских поездов Москва-Стамбул с согласованной пересадкой на границе. С распадом СССР по такой же схеме ходили пригородные поезда Карс-Гюмри, и армянские челноки были такими же частыми гостями Карса, как грузинские гастрбайтеры в Артвине или азербайджанские коммерсанты в Ыгдыре, пока в 1993 году Турция не закрыла границу. Карсский вокзальчик выглядел скромно:
7а.

Но простоял аж до 1985 года, когда на его месте воздвигли вокзал поновее. Причём ещё и тот успели обновить - вот на этих фотографиях 2014 года запечатлено совсем другое, явно не дореволюционное здание.
7.

Но выглядит новенький карсский вокзал каким-то реликтом далёкой эпохи. Типичная для Третьего Рейха архитектура знакома по вокзалам Эрзурума (1939) и Татвана (1970-е) - но что же делать, если именно немцы и именно в 1930-х годах активнее всего строили в Турецкой республике железные дороги, и заложенные ими традиции живы здесь до сих пор?
8.

Ещё более неуместным кажется размер - поезда были популярным транспортом Турции в первые полвека республики, а далее следом за США и многими тогдашними их союзниками (например, соседним Ираном) приоритет был отдан скоростным шоссе и внутренним авиалиниям. Турецкая железная дорога (см. обзор транспорта) несколько десятилетий просуществовала в режиме "поддержания штанов", не скатываясь в откровенный развал, но и почти не развиваясь. Лишь при Эрдогане что-то начало меняться масштабными проектами на стамбульском узле и обновлением парка техники по всей системе, но в этой глуши объёмы пассажирских перевозок по-прежнему смехотворны. Карс обслуживает три пары поездов в сутки - давно ставший туристическим аттракционом "Восточный экспресс" в Анкару и (дважды в день) дизель в приграничную Акъяку. Но поверьте, это ОЧЕНЬ много - в Эрзуруме, например, есть только "Восточный экспресс", а Ван и Татван и вовсе видят пассажиров раз в неделю.
9.

На отправление "Восточного экспресса" и прибытие дизеля я и шёл посмотреть морозным утром, и первый выглядел примерно как новомодные турпоезда РЖД, курсирующие кругами по старинным городам - если местные, ехавшие по своим делам, здесь и были, то совершенно терялись среди весёлых туристов. Дизель, напротив, опоздал минут на 20, и я увидел его не с перрона, а от горловины станции.
10.

Из достопримечательностей же на вокзале есть дореволюционная водонапорка непривычного квадратного сечения, пяток путейских домиков российских и турецких времён...
11.

...и немецкий паровоз-памятник BR57 - такие строились в 1910-20-е годы в Хемнице. Ими и одарили немцы Турцию в 1930-х годах, сочтя, что бесперебойные поставки турецкой железной руды и возможности переброски эшелонов к советской границе окупят подобный подарок сполна. Но Турция мастерски вывернулась, получив от фашистов всё, что могла, и не замазавшись прямым сотрудничеством с ними - иначе над нынешним Карсом был бы армянский флаг...
12.

Ещё можно было походить по путям, поискать рельсы Круппа 1920-30-х годов, видимо по дешёвке купленные турками в 1960-е годы для перешивки колеи, но я ограничился созерцанием погрузочных работ на фоне дореволюционных пакгаузов. Теоретически, в этих контейнерах вполне могли ехать на восток разобранные "Байрактары" или ещё какое-нибудь не столь легендарное оружие Второй Карабахской войны: в 2017 году поезда пошли из Карса в Грузию по новой ветке, замкнувшей железнодорожную магистраль Анкара-Баку.
13.

И я очень хотел уехать в Тбилиси на пассажирский поезде, который Алиев и Эрдоган торжественно запускали, кажется, несколько раз. Но какая-то бюрократия вновь и вновь откладывала начала регулярного движения, а теперь, в связи с ковидом, в Турции и вовсе временно отменены все пассажирские поезда.
14.

Кадр выше я снял из окна автобуса, которым приехал в Карс со стороны Ыгдыра. Горловину станции у дороги отмечает забавно разрисованная будка:
15.

Казармы тянутся куда-то дальше за пути - где-то действующие:
16.

А где-то заброшенные. Вот например что-то вроде гарнизонной электростанции:
17.

Так, перейдя через одинокую колею, какими-то невзрачными запущенными улочками мы вышли к Кровавому форту:
18.

Утверждение о том, что Карс был мощнейшей сухопутной крепостью всей Азии, мне в общем-то не кажется невероятным. Во-первых, мощнейшей морской крепости Азии, а то и мира, в начале ХХ века был Владивосток - что-что, а рубежи укреплять в России всегда умели. Ну а во-вторых Западная Армения веками оставалась едва ли не главной "горячей точкой" за пределами беспокойной Европы. Здесь ещё римляне воевали с парфянами, а византийцы - с Сасанидским Ираном, ну а Османы да их иранские коллеги, шииты Сефевиды и вовсе поставили складирование буйных голов на поток. В 16-18 веках через здешние плато прокатилось 12 персо-турецких войн, суммарно длившихся больше, чем разделявшие их периоды мира, и что, пожалуй, самое в них впечатляющее - велись они словно просто потому, что как же тюрку саблей не махать? Граница, конечно, гуляла от Эрзурума до Баку, но неизменно возвращалась примерно туда, где проходит и ныне. С таким прошлым немудрено, что Восточная Анатолия поражает количеством каменных крепостей различных эпох и народов, ну а прогресс способствовал тому, что древние цитадели с тяжёлыми стенами уже не справлялись с пушечным огнём. В конце 18 века в Константинополе всё больше понимали, что Персия как главный противник понемногу отходит на второй план: когда в 18 веке царь за пару десятилетий отнял у султана всё Северное Причерноморье, умнейшим из султановых вельмож и их иностранным советникам сделалось понятно - скоро русские будут здесь! Как на удачу, главным противником России в тот период выступала Франция, давно и прочно ставшая законодателем фортификации. Французские инженеры и начали на рубеже веков строительство крепости Нового времени на скалах и плато вокруг Карса. Ключевым её звеном стал в 1803 году Новый форт, далеко вынесенный в степь к югу от города. И если в 1807 году он продержался против войск Петра Несветаева до того, как тот получил приказ не брать Карс, ограничившись блокадой, то в 1828 году стал турецким Малаховым Курганом. Карс тогда пал под натиском генерала Николай Муравьёва, а Новый форт остался в турецкой памяти обителью мучеников - после той войны его и прозвали фортом Канлы, то есть Кровавым:
18а.

В третий раз русская армия подступила к Карсу в 1855 году, в разагре Крымской войны, и пятимесячной осадой снова командовал Николай Муравьёв - впоследствии Муравьёв-Карсский. Карс уже не был той лёгкой добычей в находившейся на грани распада стране: оправившись от поражений, турки пошли на поклон к англичанам, сразу же смекнувшим, сколь ценен такой вассал. Карсские форты были усовершенствованы, а командовать обороной города прибыл целый английский баронетт Уильям Уильямс, в итоге на родину вернувшийся через Тифлис и Рязань. Кровавый форт и Малахов Курган держали свои обороны параллельно, и хотя первый пал чуть позже, чем второй, по итогам Крымской войны разрушенный Карс обменяли у победителей на разрушенный Севастополь. Англичане, меж тем, одной рукой поддерживая Турцию, другой приступили к её разделке, но Порта понимала, что страна на Черноморских проливах не останется без сильных друзей. В 1870-х Константинополь понемногу дрейфовал из английского покровительства в немецкое, и хотя англичане восстановили и укрепили форты накануне новой русско-турецкой войны, посылать своих лордов в здешнюю мясорубку уже не решались. Теперь уже французы советовали русским генералам не связываться с Карсом, но генерал Иван Лазарев, сам карабахский армянин, покорил неприступную крепость за 8 дней. Вновь Кровавый форт, после войны ставший фортом "Лазарев", оказался в эпицентре боя, а наконец ворвавшись в него, русские солдаты никого не взяли в плен. То поражение было для Османской империи самым болезненным: Карс и Эрзурум, крепости на грозных рубежах, значили для турок примерно то же, что для нас Псков и Смоленск, и захват Карсской области Россией тут воспринимался не как потеря колоний, а как вторжение врага в самую что ни на есть метрополию. В Первую Мировую Турция вступала с "Клятвой-1877" об возвращении к старой границе... и удивительным образом сумела её воплотить! Когда русские солдаты омывали сапоги в озере Ван и Евфрате, за их спинами вдруг загорелся Мировой Пожар. Дальнейшую чехарду властей Карса, будь то Совет Солдатских Депутатов или Юго-Западная Кавказская Демократическая республика, я уже излагал в прошлой части и не рискну её здесь повторять. Актуальнее другое: после Каунаса, Лиепаи или Владивостока я при словосочетании "самая мощная крепость" уже знаю - она позорно и глупо падёт, а то и вовсе покорится без боя.
19.

Предпоследним хозяином Карса была Первая Армянская республика, родившаяся в героических победах над Османской армией, но вскоре погрязшая в политических интригах, коррупции и мании величия. Две армяно-турецкие войны удивительно похожи на две Карабахские, только разделяло их не 30 лет, а всего лишь 2 года. Карсская крепость, восстановленная Россией под новые направления ударов и капитально модернизированная накануне Первой Мировой, вполне могла держать турецкое наступление несколько месяцев и нанести уставшей от войны Турции такие потери, что она бы отступилась от этих печальных плато. Но произошедшее здесь в 1920 году называют не иначе как "Карсской загадкой" - армянские гарнизон просто сдался без боя, а следом только сдаться оставалось и всей остальной Армении. Возвращения Карса в турецкую гавань закрепили три договора - Александропольский, Московский и Карсский. Первый был подписан 2 декабря 1920 года и имел весьма сомнительную легитимность: армянские дашнаки по факту уже потеряли власть, турецкие кемалисты формально ещё не были признаны. Второй заключался 16 марта 1921 года уже между официальными Великим национальным собранием Турции и правительством РСФСР, ну а под Карсским договором 13 октября 1921 года поставили подписи уже представители советских Армении, Азербайджана и Грузии. В прошлой части я показывал русский Дом губернатора, где состоялась официальная Карсская конференция, но непосредственно бумагу взмокшие руки черкнули в штабном вагоне Кязыма Карабекира, ставшем важнейшей реликвией турецкого Карса.
20.

Надписи турецкой арабицей и уже реформированным большевиками русским языком на боках вагона поновлялись за сто лет не раз, причём - явно без знания того, что именно здесь написано. Хотя "квасная армия" наводит на мысль, что наняли на это дело гастрбайтеров из какой-нибудь Жолквы или хотя бы Зугдиди. Прежде вагон стоял на задворках показанного в первой части краеведческого музея, под специальным навесом, но недавно был перевезён сюда. Там он, впрочем, был открыт для посещения (фото есть здесь), а тут и дверь наглухо заперта, и до окон не дотянуться объективом.
20а.

Теперь в форте Канлы - музей русско-турецких войн, как вы понимаете, совсем не похожий на подобные музеи в России:
21.

Здесь Турция - древняя высокоразвитая цивилизация, принявшая ислам наследница Римской империи. Россия, напротив, молодая и обнаглевшая колониальная держава, безжалостно топчущая родные нивы. И даже армяне - не жертвы геноцида, а предатели и мародёры, в тумане войны бившие туркам в спину и за то получившие своё. И в то же время этот иной мир, где чётное становится нечётным, безумно понятен по форме - здесь встречают те же Стоявшие насмерть, Ушедшие непобеждёнными и Выжившие один из полка, что и в любой из "наших" войн.
22.
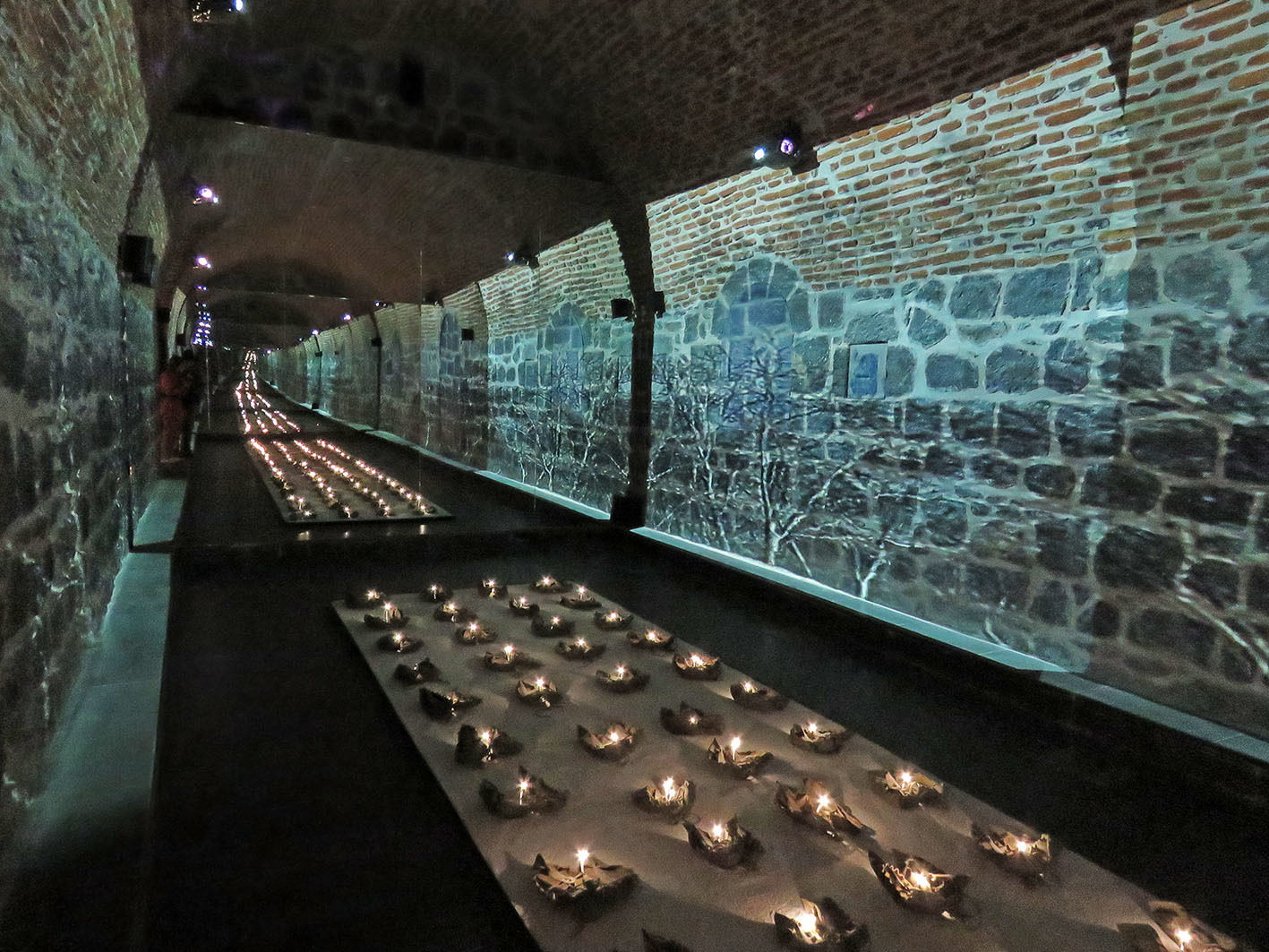
В Первую Мировую форт "Лазарев" вновь стал Кровавым - но по другой причине: морально устаревший, в обороне он играл второстепенную роль, однако в наступлении послужил туркам как военный госпиталь. Лазаретные сюжеты и воссозданы в казематах:
23.

Надо заметить, восковые фигуры турки делают виртуозно, да и в делах музейных как одном из инструментов "мягкой силы" преуспели:
24.

Музей Канлы-форта - не столько познавателен, сколько зрелищен:
25.

26.

Не забыта и страшная сарыкамышская Ночь замёрзших солдат в декабре 1914 года:
26а.

Собственно экспозиция занимает всего один зал и выглядит довольно бессистемной - вот рядом ружья, патроны, тёплые носки...
27.

...ядра предыдущих войн, кандалы для военнопленных (по большей части вывозившихся на острова около Баку) и инсталляция "Что останется после войны?", странно смотрящаяся в самой воинственной на момент создания этого музея стране мира:
28.
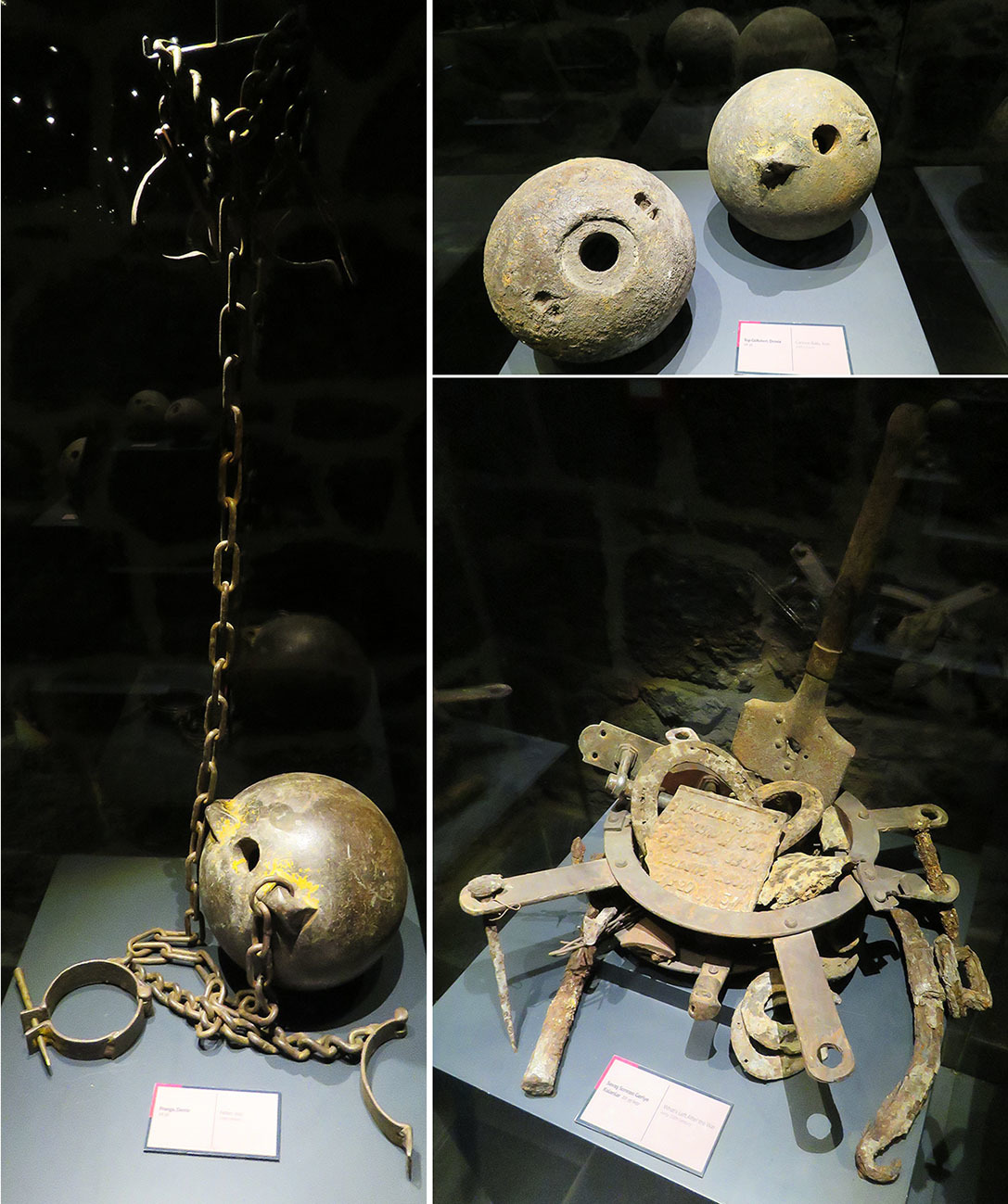
Теперь взойдём на валы форта Канлы да полюбуемся с них на Карс:
29.

Заметнее всего в панораме города новый микрорайон со школой и мечетью, взобравшийся по крутому, изрытому окопами, склону:
30.

Левее можо разглядеть построенную на рубеже 16-17 веков и укреплённую англичанами в 19 веке Карсскую цитадель. Над центром она буквально нависает, а вот отсюда, издалека, сливается со скалистой горой. Цитадель стоит на узком гребне, который отделяет от горы вгрызающийся в неё узким каньоном Карсачай. И если цитадель полна туристами, то на том берегу по сей день вышки воинских частей и колючая проволока, среди которых идёт против ветра чёрный Ататюрк. Конкретно в этом кадре - военный госпиталь и пороховые погреба под защитой выходящих на другую сторону горы фортов Блум-паша ("Шатилов") и Инглис ("Святополк-Мирский"). Последний, судя по названию, строился накануне Крымской войны "с нуля", а все остальные, пережившие множество реконструкций, стоят с начала 19 века
31.

Как на киевском Печерске или во Владивостоке, в Карсе совершенно бессмыслен вопрос "где находится крепость" - поскольку она тут, натурально, ВЕЗДЕ. Карсская крепость состоит из десятков сооружений (одних только фортов 14!), где в 19 веке несли службы до 25 тысяч человек и до нескольких сотен орудий - в Первую Мировую был даже свой авиаотряд. Добавьте к этому то, что сам Карс невелик - и вот уже крепость кажется масштабнее, чем город. Вот, скажем, миниатюрное укрепление "Сувари" ("Князь Меликов") когда-то, видимо, охраняло брод, а теперь глядит на мостик, соединяющей центр Карса с Кавказским университетом и местным парком Гейдара Алиева (см. первую часть). Увы, не знаю, что за музыкант с "алиевской" стороны моста, а вот со стороны центра на старом укреплении высится памятник Неизвестному Солдату:
32.

В Эрзуруме я показывал табии (укрепления), висящие над городом с разных сторон. Над Карсом они тоже висят повсюду, но - другие: более незаметные и грозные. Форты Эрзурума напоминают громил, пришедших попугать, но не готовых к реальной драке, а эти похожи на тихих конкретных ребят, убивающих наверняка молниеносным ударом. Тем более в отличие от эрзурумских, карсские форты ещё и используются по назначению, как например "Вели-Паша" ("Император Александр II), хорошо заметный к западу от цитадели:
33.

А вот башня "Зиярат" ("Рерберг") надёжно скрытого за горой форта "Карадаг" ("Фадеев") как высшая точка всей крепости служит нынешнему Карсу телевышкой:
34.

Увы, информации на русском языке об этих фортах крайне мало. На турецком - побольше, но предельно ангажированной: негласное табу запрещает даже национальность бывших оккупантов называть, не говоря уж о признании того, что они ещё и что-то строили. Что-то, конечно, пылится в архивах, но в из доступного гуглению едва ли не единственный источник информации о Карсской крепости - обширная ветка на Форуме Фортоведов, да викимапия, на которую те же люди итоги своих дискуссий нанесли. Но всё же прошу учесть, что здесь я, некомпетентный в фортификации человек, лишь пересказываю предположения компететных людей, а не однозначные факты.
34а.

Осмотреть все форты Карсской крепости, хотя бы все общедоступные, мы даже не стали пытаться - как и во Владивостоке или Кёнигсберге, это дело на несколько дней. Но самая зрелищная часть Карсской крепости - это каньон Карсачая, со стороны города прикрытый цитаделью. С её стен в перспективе гряды хорошо заметны "Фадеев" (справа) и "Рыдзевский" (слева), в сторону которых и пойдём:
35.

Но сперва посмотрим в ущелье. За естественной стеной горы спрятался штаб с флигелями командования, в 1992 ставший кампусом Кавказского университета.
36.

Чуть ближе к центру - дом коменданта с уже третьим по счёту памятником Карабекиру. Собственно, как "особняк Карабекира" он и известен туркам.
37.

Бетонная амбразура на заднем дворе штаба - не укрепление, прикрывавшее его, а защищённый коммутатор: до Первой Мировой крепость была оснащена проводной связью.
38.

Какие-то развалины напротив, за мостом:
39.

Над ущельем висит форт "Рыдзевский" - единственный в крепости не имеющий турецкого названия. Вернее, тут стоял форт "Араб-Карапапах", героически оборонявшийся в 1877 году, но в итоге он был разрушен русским огнём и к началу ХХ века срыт без остатка. "Рыдзевский" строился в 1910-е годы на его месте "с нуля", а значит - это в чистом виде русский памятник без характерных для прочих табий французских, турецких, английских слоёв.
40.

Больше всего в облике "Рыдзевского" удивляет чёрная труба - некоторые принимают её за примитивный локатор, который мог услышать топот коней или жужжание аэроплана. Я бы подумал скорее на матюгальник на случай вывода из строя коммутатора. На самом деле, как я понимаю, это всего лишь вентиляция. И в общем, конечно же, до "Рыдзевского" стоило дойти, но мы почему-то решили, что он далековато. Вспомогательные постройки форта спускаются мимо лавовых скал к самому дну каньона:
41.

Который отрезал от крепости солидный кусок, и потому его склоны впечатляют обилием коммуникаций. Будь то неописуемо длинная, вероятно английская 1850-х годов, лестница со стоптанными ступенями:
42.

Или серпантины с роскошными цепочками водоспусков:
43.

Которые неподготовленному глазу легко перепутать с порталами выкатных орудий - склоны пронизаны тоннелями и казематами:
44.

А вот, как я понимаю, орудийные гнёзда, построенные уже в ХХ веке для турецкой армии - последняя волна развития Карсской крепости. Всё вместе - поистине величественная картина:
45.

По гребню от цитадели мы дошли к тому самому микрорайону, с которым соседствуют трущобы-"гиджеконду" (дословно - "лачуги, построенные за ночь", по-нашему говоря - "нахаловки")
46.

Но они - со стороны города, а со стороны ущелья - электростанция (слева поодаль) и крепостная тюрьма:
47.

На самом деле - одно из самых загадочных сооружений крепости. Дело в том, что её нет на турецких планах, однако подобные сооружения устарели не то что после 1877, а даже после 1855 года. Вероятно, она строилась под Россией именно как тюрьма по устаревшему для боевых сооружений проекту:
48.

Понемногу мы начали зачем-то спускаться в каньон. Взгляд назад - слева место с прошлых кадров, в перспективе мрачная, как замок чёрных властелинов, цитадель, а справа - огрызки инженерного штаба с флигелями, не знаю, кем и почему разрушенного.
49.

Они же с другой точки. Впереди уже виден конец ущелья:
50.

На фоне которого висит тоннельный пороховой погреб. К нему мы и подошли:
51.

Тогда я не придал особого значения тому, что он бетонный, но подумав немного, понял очевидную вещь - при Турецкой республике крепость почти не реконструировалась, а при Османской империи здесь из бетона не строили.
51а.

Ниже погреба - хорошо заметный издали мясохолодильник и Второй Каменный мост (Ташкорпю-2), сооружённый в 1855 году англичанами, видимо вместе с лестницей:
52.

При нас на нём как раз закончили менять мостовую, а до того турецкие работяги, видимо, бегали через быструю и ледяную речку по доске:
53.

Напоследок вернёмся к началу ущелья, к сооружениям, так хорошо знакомым по второй части, где я показывал цитадель. Вот ближе мечеть Вайзоглу (17 века) типичной для Старого Карса композиции "куб с минаретом", дальше - новодельный мавзолей сельджукских воинов ("альпенлеров") Халила и Тофика, погибших в 1064 году вместе с первым местным святым - суфийским проповедником Абуль-Хасаном Харакани. "Первый" Каменный мост, построенный в 1719 году армянами, соединяет бани "Мурадие" (1774) и "Мазлум-ага" (1745), одну из которых, промконув под дождём, пытался посетить, путешествуя в Арзрум, целый Пушкин. Ещё дальше - развалины Франкской (армяно-католической) церкви, построенной то ли накануне, то ли сразу после присоединения Карса к России. Выше - огневой каземат в скале, а вот бетонные сооружения над ним - это совсем уж другая история:
54.

В 2009-11 годах из цитадели открывался такой вид на ту скалу, ставшую постаментом для Монумента Человечности. Другое его название - такой оксюморон, как памятник армяно-турецкой дружбе. В принципе, если оглядываться ДАЛЕКО назад, армяно-тюркские отношения не назвать враждой: да, армяне были завоёваны и жили под османами с глубоким поражением в правах, но на армянских купцах и ремесленниках держалась экономика империи. Скорее, у армян и турок был "худой мир", вот только на смену ему не "добрая ссора" пришла, а геноцид. Который турки отрицали-отрицали и даотрицались до того, что вполне искренне не ожидали отказа армян пожать протянутую им руку. Армяне ждали извинений, да и те принять бы согласлись только вместе с Карсской областью и Ванской котловиной, с денежными компенсациями под набежавший за сто лет процент, с программой воссоздания уничтоженных храмов и полным отказом от какой-либо внешней политики. Ну, вернее вслух для начала армяне просто попросили турок признать, что те устроили в 1915 году геноцид, но турки даже от такого лишь рассвирепели: "Да как можно!? Да это ВЫ у нас должны прощения просить!". Националисты и вовсе углядели у одной из фигур склонённую голову и разбушевались, что скульптор Мехмет Аксой (сам с армянскими корнями) именно под этой фигурой имел в виду Турцию. Наконец, в 2011 году в Карс прилетел по каким-то делам Эрдоган, и только глянув на монумент, как Сталин на ту поленницу у храма Спаса-на-Бору, сказал "убрать!". Аксой, привыкнув к старой доброй мирной Турции подал на президента в суд за моральный ущерб, но президент, строящий новую грозную Турцию, в ответ подал в суд на скульптора за оскорбление, и тот от греха подальше сдал назад. Мне кажется, для понимания, что такое нынешний Карс, сложно найти более ёмкую историю...
54а. фото из турецкой википедии, а больше есть здесь.

По Карсской области спокойно можно путешествовать и неделю, и больше, и в 9/10 случаев целью поездки по окрестностям будет полуразрушенный, но всё ещё прекрасный армянский монастырь из ярко-красного туфа. Реже - городок со средневековой крепостью и парой-тройкой русских зданий, как Ардаган или Олту. Отдельный пласт русского прошлого - молоканские сёла, хотя самих молокан в них почти не осталось. Ближайшее к Карсу такое село Кумбетли (Владикарс!) я уже давным-давно показывал. Но без своей машины по Турции с её дорогущими такси и слабым трафиком путешествовать сложно, да и мне за без малого три месяца армянская фактура успела примелькаться. В итоге по окрестностям Карса мы совершили всего три поездки, и про две из них - в Багаран (Килитташ) и Сарыкамыш, - я уже рассказывал.
Но впереди у нас место, после которого не стоит продолжать ни серию, ни путешествие - "город 1001 церкви" Ани.
О котором - в следующих 2-3 частях.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Сурмалы (ил Ыгдыр)
Ыгдыр и земля Сурмалы.
Подножье Арарата.
Карсская область (ил Карс).
Карс. Анти-Выборг.
Карс. Цитадель и старый город.
Карс. Балтийский стиль.
Карс. Вокзал и крепость.
Сарыкамыш.
Килитташ (Багаран) и попытка Мрена.
Ани. Ближняя часть.
Ани. Дальняя часть.
Дорога домой.
|
Метки: замки-крепости Турция транспорт дорожное |
Карс. Часть 3: балтийский стиль и его разоблачение |

На своём ветреном плато Карс стоит вот уже 1500 лет, из которых лишь 41 год провёл в составе России. В Турции отношение к той эпохе парадоксально: сама мысль о том, что у окраин страны был другой хозяин - почти неприлична, но как же интересно поглядеть, что он после себя там оставил! О колорите и русских традициях Карса я рассказывал в первой части, а вот для архитектуры турки подобрали странный эвфемизм - "балтийский стиль", но под таким названим любят её как бы не больше, чем собственную. От показанного в прошлой части подножья средневековой цитадель пройдём в "губернские" кварталы, построенные уже под Россией за старой крепостной стеной. Вот только и с ними всё совсем не так-то просто...
"Когда-то в Карсе жили обеспеченные люди, которые устраивали приемы, длившиеся целые дни, давали балы в своих особняках, отдаленно напоминавших Ка о годах его детства. Сила этих людей зиждилась на том, что Карс находился на торговом пути в Тебриз, на Кавказ, в Грузию и в Тифлис, а также на том, что город был важным рубежом для двух великих империй, Османской и Российской, рухнувших в последнее столетие; чтобы охранять это место среди гор, империи поставили здесь большие армии. В османские времена в этих краях жили люди самых разных национальностей: армяне, тысячу лет назад воздвигшие церкви, часть которых и сейчас стоит во всем своем великолепии; персы, бежавшие от монгольского нашествия и иранских армий; греки, потомки подданных Понтийского царства и Византии; грузины, курды и черкесы из множества племен. После того как в 1878 году крепость, построенная пятьсот лет назад, сдалась русским войскам, часть мусульман была изгнана, однако город оставался богатым и многоликим. В русский период, когда особняки пашей, бани и османские здания, стоявшие в квартале Кале-Ичи, рядом с крепостью, начали ветшать, царские архитекторы возвели в южной долине речки Карс новый город, в котором было пять параллельных проспектов, пересекавших другие улицы под идеально прямым углом, – явление, невиданное ни в одном другом восточном городе. Этот быстро богатевший город, куда приезжал царь Александр III, чтобы встретиться со своей тайной возлюбленной и поохотиться, давал возможность русским двигаться на юг, к Средиземному морю, и захватить торговые пути, так что не удивительно, что на его строительство не пожалели средств. Именно этот Карс, печальный город, улицы которого были вымощены крупной брусчаткой и усажены в республиканский период дикими маслинами и каштанами, очаровал Ка двадцать лет назад." - так выглядела его история с точки зрения турок, вернее - интеллигента Орхана Памука, пересказавшего её в своём романе "Снег".
2а.
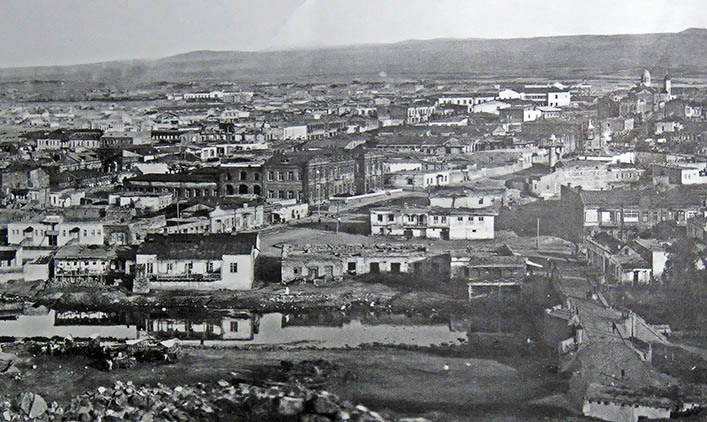
Из России всё это, однако, видится несколько иначе. На занятых в 1877 году землях Западной Армении, тут же включённых в пёстрое Кавказское наместничество, была учреждена Карсская область, в состав которой не был передан ни один "старый" уезд. От соседней Эриванской губернии она отличалась буквально всем, начиная с этнического состава и заканчивая системой сословий: например, "задеган", в который включили и русское дворянство. Армяне составляли здесь лишь четверть населения, а длинный список народов Российской империи пополнили в весьма ощутимом количестве турки и курды. Менее очевидно, что почти так же в 1828 году выглядела и Восточная Армения, откуда иранский шах ещё в 17 веке выселил всех армян вглубь страны. Однако не зря Грибоедов погиб в Тегеране: автор "Горя от ума" был в первую очередь выдающимся дипломатом, и понимал, что Россия не сможет развивать Закавказье без глубокого переформатирования региона. Эриваньская губерния стала "прото-Израилем" для иранских армян, массовая репатриация которых полностью изменила её облик. В Карсской области 1880-х годов возможностей такого переформатирования было ещё больше: в Османской империи жило два с лишним миллиона армян, русская деревня переживала демографический взрыв, и даже здешних турок вполне можно было бы включить в число "закавкаских татар" и раздать им русские фамилии. Но для реальной интеграции Карса сделано не было по сути ничего, кроме разве что прокладки железной дороги, и 40 лет в составе России так и остались классической, в безоценочном смысле этого слова, оккупацией.
2б.
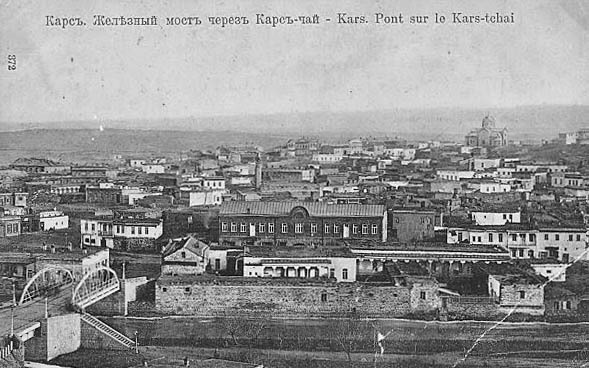
Серьёзно изменился из всей области разве что сам губернский Карс, где к началу ХХ века половину населения составляли армяне, треть - славяне (17% - великороссы, 9% - малороссы, 5% - поляки), по 3,5% - греки и турки, по 2,5% - азербайджанцы и литовцы, и ещё 2% - евреи. Впрочем, все эти проценты смотрятся совсем иначе, если учесть, что население Карса к 1897 году едва перевалило за 20 тыс. человек - в армянских землях он уступал не только Эривани, но и уездному Александрополю (Гюмри), так что 70 эстонцев, проживающих в городе, уже хватало, чтобы замыкать десятку его национальных общин. Ещё больше впечатляет этнический состав, если добавить к нему гендерный: среди пятисот литовцев Карса женщин было всего две, среди тысячи поляков - десяток, из двух тысяч малороссов - четверть сотни, а из трёх тысяч великороссов - около 700. Что характерно, в глубинке Карсской области такой диспропорции не было: там "великороссов" представляли молокане и духоборы, сектанты из Черноземья, в 1840-х годах переселённые в Закавказье и к концу века основавшие за бывшей границей десятки сёл. Но лучшие молоканские купцы ехали в Баку, а здешние переселенцы были прирождёнными пахарями, в город приезжавшими разве что на базар. Иными словами, славянское население Краса представляли почти исключительно солдаты, офицеры, казаки... Ещё - чиновники, инженеры, врачи, но в нашем случае главное - архитекторы! Вот так выглядел упомянутый в "Снеге" Кале-Ичи, османский Старый город у подножья Цитадели:
2в.
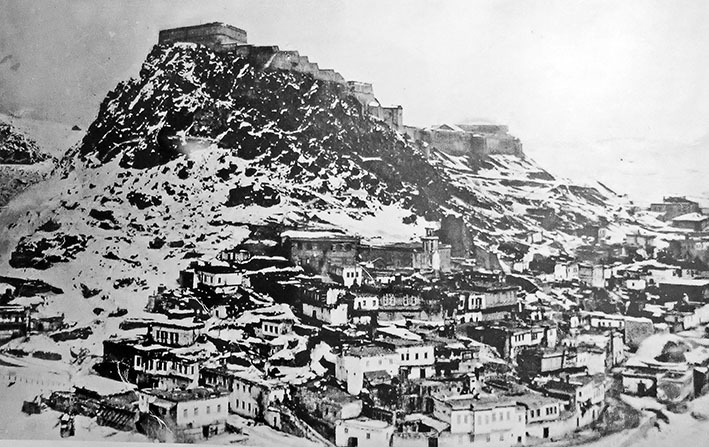
А так - тот район, что вскоре вырос рядом: легко ли поверить, что две фотографии сделаны в одном городе? В турецких путеводителях упорно пишут, будто губернский Карс строилась "по голландскому проекту" - почему-то во многих сопредельных странах (мне такое даже в Донецке рассказывали!) у жителей не укладывается в голове, что Россия с 18 века была страной городов по регулярным планам. Из "5 проспектов", упомянутых Памуком, сохранили хоть что-нибудь русское три - ныне это улицы Ататюрка, Гази-Ахмета и Гейдара Алиева. Последняя ещё в дни моей поездки называлась Армейской (Орду), а в старые добрые времена - Губернской: судя по всему, как в Средней Азии, в народе это название пережило свою официальную отмену на несколько десятилетий.
2.
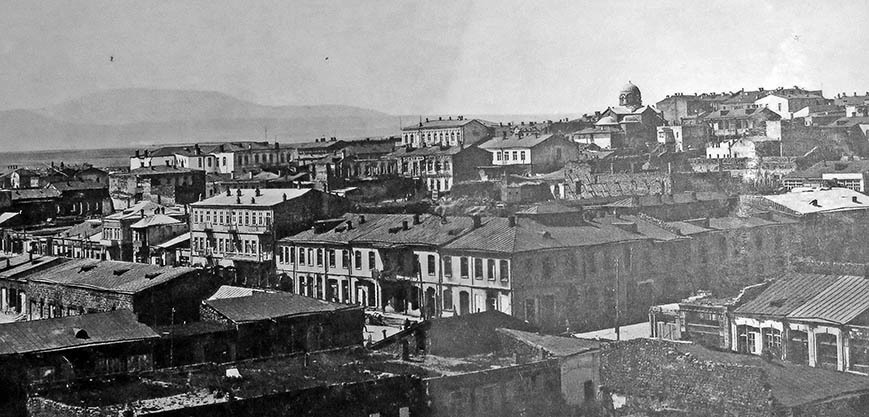
За пределами этих трёх улиц Карс - типичный город Восточной Анатолии, этой холодной и неустроенной "Второй Сибири":
3.

С безликими новостройками на месте лачуг-"гиджеконду":
4.

Да и сами "русские" улицы не блещут цельностью среды:
5.

Как и прохожие на них - очевидно не наши: даже платки турчанки повязывают не так, как татарки или таджички.
6.

Атмосферой и укладом Карс - типичный турецкий город, от Эрзурума, Вана или Догубаязита отличающийся не сильнее, чем сами они друг от друга.
7.

Однако очень правильно мы сделали, что не поехали в Карс сразу же от границы, а сперва, прыгнув из Батуми в зелёный Артвин, проделали двухнедельный путь по чужбине. Это непередаваемое чувство - встретить "своих", даже если эти "свои" - лишь дома из холодного камня:
8.

С кованными балкончиками, с прохладными арочками, с завитушками фронтонов и наличников...
9.

...и датами постройки на них:
10.

Увы, каменные цифры на фронтах - едва ли не единственный источник информации об этих домах. Не знаю, какова была судьба Карсского архива, но турки, когда сумели наконец разжать кулак, обнаружили, что их краеведение тут бессильно. О большинстве этих домиков общедоступной информации просто нет:
11.

Но в общем списки памятников архитектуры по любому старому российскому городу до обидного однообразны, и назвав любой из этих домов "русско-азиатским банком", "мелочной лавкой Акопяна", "особняком Поподополу с магазином" или "аптекой Фишера", вряд ли сильно промахнёшься.
12.

12а.

А где же, спросите вы, Иванов или Заходько? Нет их. Карс слегка похож на города Русского Туркестана вроде Самарканда или Термеза, но дело в том, что штукатурка ярких цветов лежит на этих домах тонким слоем. Под ней скрывается чёрный туф:
13.

И без штукатурки Старый Карс воспринимается уже совершенно иначе:
14.

14а.

Изначально, подозреваю, эвфемизмом "русского стиля" в Турции был "петербургский стиль", но то в 1920-30-е годы, когда отношения двух стран под красными флагами складывались хорошо. Послевоенная ссора, когда Сталин предъявил Турции территориальные претензии, и такой эвфемизм сделала слишком уж явным, а потому "петербургская" архитектура сделалась "балтийской". В Турции это общепринятое название карсских домов, недавно ещё дополненное легендой, будто бы проектировали их те самые эстонцы - надо полагать, все 70 человек как одна артель.
15.

Но обмануть таким названием можно разве что самих турок, не горящих желанием посетить Ереван и Гюмри. По факту это не балтийский, не петербургский и даже вовсе не русский, а самый что ни на есть восточно-армянский стиль:
16.

Сложившийся к концу 19 века в армянских городах Российской империи и стремительно распространившийся сюда.
17.

С той разницей, что в Карсе дома исключительно чёрные - старые залежи красного туфа к тому времени были исчерпаны, а новые в Армении открыли только в советские времена.
17а.

Ещё больше армянскость проглядывает в резных галереях и лоджиях:
18.

Местами действительно красивых:
19.

Основанный примерно в 3 веке как крепость Каруц, на протяжении полутора с лишним тысяч лет Карс был в первую очередь армянским городом, а русское, турецкое, персидское, византийское и даже грузинское владычество ложилось на него тонким, как та штукатурка, слоем. 30 лет, в 929-1061 годах, Карс был столицей всего Армянского царства, которому дом Багратуни добыл независимость от арабов. 101 год, 963-1064 годах, в его составе существовало Ванандское, или Карсское царство - Ашот III Милостивый, перебравшись отсюда в Ани, оставил в Карсе брата Мушега, вскоре признав его вассальным царём. Дальше, пока за город воевали василевсы и каганы, эмиры и беи, атабеки и князья, шахи, султаны и наконец императоры, благополучие Карса определяли пароны, как армяне называли своих самых богатых и щедрых купцов, а разрушенное войнами латали армянские каменщики. Из Карса родом был известнейший армянский поэт начала ХХ века, жертва сталинских репрессий Егише Чаренц и художник Ованнес Зардарян. Невзрачные руины Чаренцева дома вроде бы ещё зарастают бурьяном где-то на карсских улицах, а вот Зардаряна местным назвать сложно - он родился в 1918 году и навсегда покинул Карс младенцем. Туркам, курдам и азербайджанцам же явно было комфортнее думать, что они живут теперь в домах ушедших русских, а не уничтоженных армян.
20.

В Кале-Ичи я показывал руины нескольких армянских церквей. Самой крупной в городе, однако, была Чёрная церковь Сурб-Григор, построенная уже в русских кварталах и в одно время с ними. Сейчас она то ли снесена, то ли уделана до неузнаваемости:
20а.
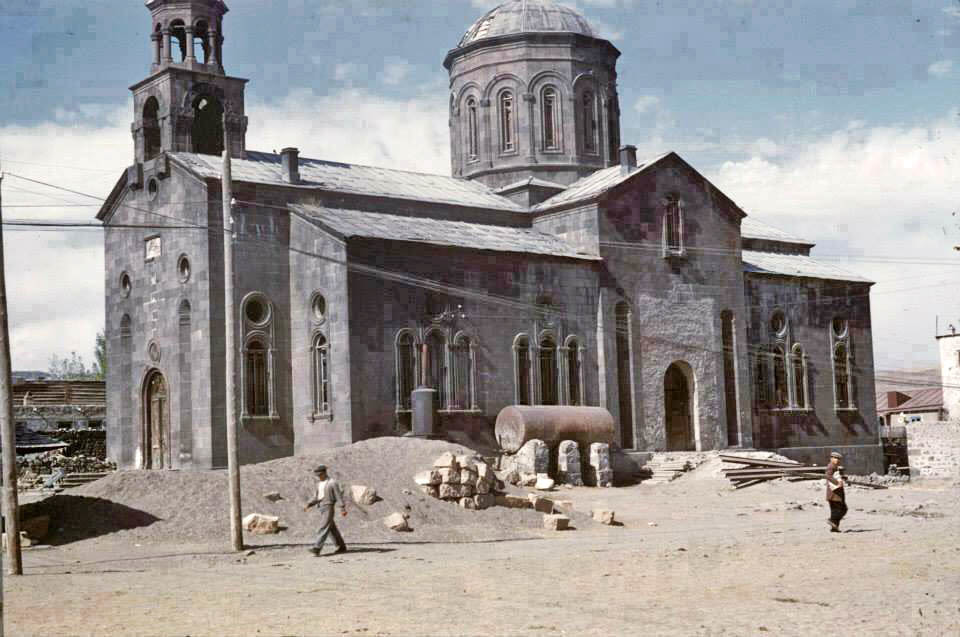
Впрочем, от центра Чёрный храм стоял чуть в стороне, а настоящей доминантой Русского Карса служила Греческая церковь, венчавшая показанные в начале поста панорамы. Вот она же на фоне цитадели:
21а.
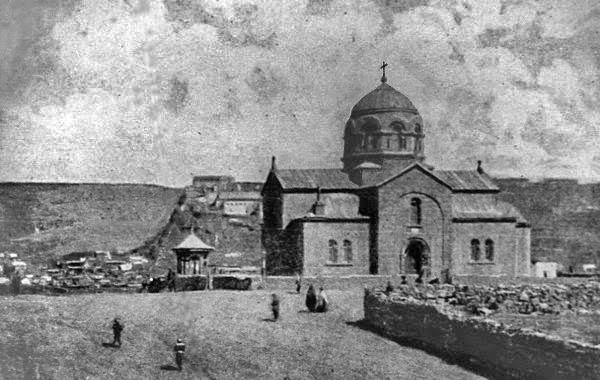
На самом деле это был православный Преображенский собор (1887-1902). Единственный в Карсской области он принадлежал не военному ведомству, а гражданские прихожане тут и правда были больше греки и грузины, чем русские, молившиеся в гарнизонных церквях. Может быть, греческой церковью этот храм называли турки, со слов которых прозвище и ушло в подписи к старым фото. Уже в 1930-х годах церковь приспособили под Народный дом, соорудив рядом часовую башню:
21б.

В 1957 же и вовсе снесли, воздвигнув на том же месте здоровенную Центральную мечеть - пусть и предельно банального "стамбульского" вида, но хотя бы из чёрного туфа, а не из железобетона и пластика. Церковь явно напоминала туркам о территориальных претензиях Сталина, а потому и мечеть получилась похожей на танк:
21.

Вид старых, построенных еще русскими каменных зданий, благодаря которым Карс представлялся Ка особенным, не похожим на другие городом, пусть ненадолго, но успокоил его. Одним из элегантных русских зданий в петербургском стиле был и двухэтажный отель "Кар-палас" ["Снежный палац"] с узкими высокими окнами. Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти через арку, ведущую во двор.
22.

О прежних хозяевах отеля "Кар-палас", где остановился Ка, я впоследствии слышал много историй: среди них был и университетский профессор, большой ценитель всего европейского, которого царское правительство вместо Сибири отправило сюда, в более легкую ссылку, и армянин, торговавший крупным рогатым скотом; позже здесь расположился греческий сиротский приют… Кто бы ни был первым хозяином этого здания, возведенного сто десять лет назад, отопление в нем изначально было устроено по тому же принципу, что и в других домах Карса того времени: в стены были встроены печи, четыре стороны которых выходили в четыре разные комнаты и могли обогревать их одновременно. В республиканский период турки так и не научились пользоваться ни одной из этих печей, и первый хозяин-турок, который переделал дом под отель, перед входной дверью во двор разместил огромную печь из латуни, а в комнаты позже провел паровое отопление.
23.

Управление безопасности Карса находилось в длинном трехэтажном здании, вытянувшемся вдоль проспекта Фаик-бея, где стояло немало старинных каменных домов, которые когда-то принадлежали богатым русским и армянам, а затем в большинстве своем были отданы под государственные учреждения. Пока они ждали заместителя начальника службы безопасности, Сердар-бей показал Ка высокий потолок с лепниной и сообщил, что при русских, в 1877–1918 годах, здесь был особняк на сорок комнат одного богатого армянина, а потом русская больница.
24.

Ка и Сердар-бей проходили в холодные, как лед, крохотные комнаты, где на земляном полу, порой прикрытом автомобильными ковриками, копошились дети (казалось, в каждом новом доме их больше, чем в предыдущем), играющие сломанными пластмассовыми игрушками (машинками и однорукими куклами), бутылками и пустыми коробками из-под лекарств и чая; хозяева усаживали гостей на покривившиеся стулья или старые диваны перед печками, в которых постоянно перемешивали угли, чтобы стало теплее, перед электрическими обогревателями, работавшими на ворованном электричестве, и перед неизменно включенными, хотя и без звука, телевизорами и рассказывали о нескончаемых бедах Карса, о его нищете, о его безработных и о девушках-самоубийцах.
25.

После нескончаемых войн, произвола, массовой резни и восстаний, когда город оказывался в руках то армянской, то русской, то даже на какое-то время английской армий, после того как на короткий период Карс стал независимым государством, в октябре 1920 года в него вошла турецкая армия под командованием Казыма Карабекира, статую которого впоследствии установили на привокзальной площади. Турки, сорок три года спустя вновь взявшие Карс и поселившиеся в нем, не стали менять царский план города и культуру, которую принесли в город цари, также постарались усвоить, поскольку она соответствовала республиканскому энтузиазму европеизации, а пять русских проспектов переименовали в честь пятерых известных в истории Карса полководцев, поскольку не знали никого более великого, чем военные.
26.

Между тем, что в Карсе давно уже не бывало длинных суровых зим, и тем, что город ветшал и становился все более бедным и несчастным, словно бы существовала некая связь. Вспомнив прекрасные зимы прошлых лет, бывший мэр рассказал о полуголых напудренных актрисах, приезжавших из Анкары и игравших в греческих пьесах, и об одном революционном спектакле, поставленном в конце сороковых в Народном доме молодыми людьми, среди которых был и он сам. "В этом произведении рассказывалось о пробуждении одной нашей девушки, носившей черный чаршаф, и о том, как она в конце концов снимает его с головы и сжигает", – сказал он. Поскольку в конце сороковых годов во всем Карсе они никак не могли, как ни старались, найти необходимый для пьесы черный чаршаф, пришлось позвонить в Эрзурум и привезти его оттуда. "А сейчас девушки в чаршафах и платках заполонили улицы Карса, – добавил Музаффер-бей. – Они кончают жизнь самоубийством, потому что из-за этого символа политического ислама на голове не могут попасть на занятия".
27.

Выше, как вы уже поняли, снова цитаты Орхана Памука, от которого о русском городе на краю Турции узнал и остальной мир. В "Снеге", опубликованном в 2002 году, описан Карс рубежа 1980-90-х, и я так и не смог с уверенностью распознать в нынешнем городе ни "Снежный дворец", ни управление безопасности. Возможно, Памук даже выдумал их как некие собирательные образы, а вот тоскливая атмосфера прозябания на краю хоть и уходит в прошлое, теснимая туристическим бумом, но в закоулках и двориках пока что вполне узнаётся.
28.

Таким запоминается Русский Карс в целом, но, прорываясь сквозь крайний дефицит информации, попробую рассказать и про его отдельные дома. Самый известный из них стоит за пределами трёх главных улиц, под горой у берега Карсачая, заросшего, впрочем, лачугами с другой стороны. На турецких ресурсах роскошное здание (1894-96) называют "домом Челтикова", якобы переехавшего в Карс с семьей из Москвы, но вот беда - единственный известный рунету Челтиков был азербайджанцем, попавшим пару лет назад в криминальные сводки за бытовое убийство. Здесь под кривой транскрипцией могут "скрываться" Жёлтиков, Салтыков или Челтикян. Позже, как пишут в турконете, дом был продан правительству, устроившему здесь Оперный театр. Как вы понимаете, Опера до революции - удел самых крутых городов, каковыми в Закавказье были разве что Тифлис да Баку, так что логически могу предположить, что в доходнике Челтикова размещался Народный дом или клуб офицеров:
29.

Тем более и по возвращении Карса в родную турецкую гавань здесь ещё несколько десятилетий располагалась консерватория. Ну а на волне туристического бума в ней открылся весьма пафосный отель "Челтиков":
29а.

Несколько солидных зданий стоят на проспекте Ататюрка у его перекрёстка с улицей Карадаг:
30.

В том числе - городская администрация с ажурным балконом:
31.

Первые полтора этажа были построены в 1883 году, судя по вывескам - как обыкновенный магазин. Верхний этаж надстроили в 1903-м, возможно - уже тогда для городской думы. Обратите внимание на огромный вазон у входа - такие попадаются по всему центру Карса тут и там, и кажется, тоже остались от русской эпохи.
31а.
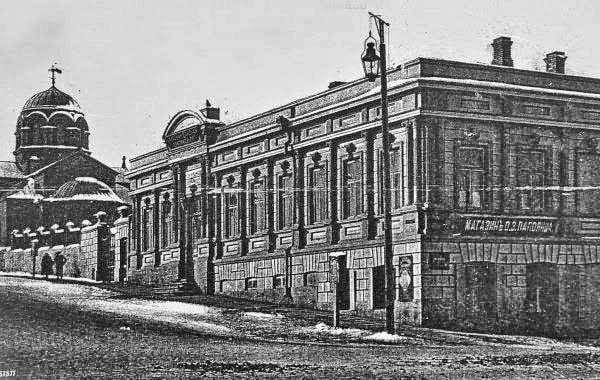
С другой стороны квартала - не менее красивое здание с ажурным балконом, во всех описаниях называемое "русским консульством". Таковое действовало в Карсе в 1862-77 и 1922-38 годах, но эта постройка явно из разделяющего их периода. Может быть - турецкое консульство, инвертировавшееся после смены страны:
32.

Как бы то ни было, его балкон великолепен:
32а.

На улице Гази-Ахмет Мухтара примечательна школа имени Исмет-паши (1882-88), "посвящение" получившая уже при Турецкой республике, когда здесь открылся интернат для сирот Первой Мировой войны. Видимо, не без участия Исмета Инёню, впоследствии - президента, не допустившего появление новых таких интернатов в 1940-е годы.
33.

Первоначально это было реальное училище или мужская гимназия. По учебными заведениям, как и по большинству других невоенных отраслей, Карс был последним крупным городом Кавказского наместничества.
33а.

Ну а главной в нём была та самая улица, которую я застал как Орду, но глянув на карту, с удивлением обнаружил, что после Второй Карабахской войны она стала улицей Гейдара Алиева. Что ж, пожалуй это даже уместно - из народов бывшего СССР больше всего в Карсской области теперь представлены азербайджанцы, частью потомки местных шиитских племён (карапапахи), частью - беженцы из Первой Армении и Советского Закавказья. И вот теперь до конца поста мы будем идти по улице Алиева, зарождающейся в излучине Карсачая напротив чёрной Карсской цитадели и фортов за каньоном. Обратите внимание на полосатый минарет - если я правильно понял, это мечеть Юсуфпаша, заметная и на дореволюционных панорамах. Не знаю точно, под Россией она была построена или пережила штурм 1877 года (скорее второе), но с разрушением огромных мечетей Кале-Ичи осталась в Карсе за главную.
34.

Улица Алиева начинается крутым подъёмом, на который смотрит один из красивейших в городе русских домов. Сейчас тут поликлиника, а на турецких сайтах пишут, что изначально это было медицинское ведомство Карсской области (1907).
35.

У следующего перекрёстка улица выводит на плоскую вершину холма, где расположился Сад Ататюрка - главная площадь старого города с одноэтажным домом губернатора (1883).
36.

В 1921 году в нём был подписан Карсский договор, следом за Александропольским и Московским договорами поставивший точку на новой границе. Об этом напоминает бронзовый Ататюрк (1931) на постаменте от какого-нибудь Александра II:
37.

О домах на другой стороне площади я не нашёл ничего вразумительного, но сами они весьма симпатичны:
37а.

И скорее всего тоже принадлежали каким-нибудь ведомствам вроде казначейства или МПС:
38.

38а.

Там же, где Сад Ататюрка заканчивается и бывшая Губернская вновь идёт под уклон, высится самое монументальное русское здание Турции - правление Карсской области:
39.

Как я понимаю, по тому же назначению здание использовалось в иле Карс:
39а.

До 1983 года, когда здесь разместилась налоговая:
40.

К административному корпусу с роскошным ажурным крыльцом прилагается гостиничный корпус - судя по его масштабу, управление этой окраиной империи держалось на командировочных. Напротив - бывшая женская гимназия, ну а всё вместе - самый "русский" уголок Карса:
41.

На спуске улица Алиева пересекает знакомый нам по первой части проспект Фаикбея - в современном Карсе главная улица перпендикулярна трём историческим проспектам, отсекая "самый центр" с южной стороны. Но застроена она типичной для Турции стеной разноцветных безликих многоэтажек. По ней отклонимся от бывшей Губернской на нынешнюю улицу Гази-Ахмед Мухтар-паши, где с 2001 года располагается музей этого военачальника:
42.

Старое здание с сейсмоустойчивой кладкой из чередующих камней и деревянных балок стоит наискось к сети губернских улиц, подобно допетровским палатам в старых русских городах. Построенный в начале 19 века, судя по удалённости от цитадели, этот дом был загородным особняком, а судя по полному отсутствию сведений о первоначальных хозяевах - построил его какой-нибудь купец-армянин:
42а.

С 2001 года здесь музей, как и всюду в Карсе - с бесплатным входом:
43а.

Тут стоит вспомнить Артвинский, Эрзурумский, Ванский, Баязетский дома - в Турции музейные образцы рядовой застройки превратились в целый жанр. Показательно, что в Карсе таковым стал не куда как более уникальный для страны русский дом, а идеологически-правильный памятник османской эпохи:
43.

И два зала на втором этаже повествуют о том, как турки потеряли и вернули этот город. Ахмед Мухтар-паша был известным османским военачальником, и в 1877, на старости лет, командовал Кавказским фронтом. Этот дом служил тогда его штабом, и несмотря на итог войны, именно после неё, за оборону Эрзурумских фортов, Ахмед Мухтар стал Гази-, то есть Победоносцем. Но так сложилось, что именно эта война с Россией, для Турции не первая и не последняя, осталась в сознании турок самой трагической. Может, дело было в том, что Азов и Очаков, Измаил и Кафа, Бендеры и Анапа, Варна и Батум были непокорными колониями, а Западная Армения - частью метрополии, где тысячу лет назад начиналась тюркское господство над Малой Азией. А может - в том, что вот уже полвека султана опекали англичане, знавшие толк в информационных войнах, построениях идентичностей и всяком прочему "незабудемнепростим!". Не к Крыму или Балканам, а именно к Карсу в умиравшей Османской империи было отноешение как в Азербайджане к Нагорному Карабаху, и в Первую Мировую Турция вступал с "Клятвой-1877". Ну а дальше Аллах услышал мусульман и ниспослал безумие врагам, когда те стояли не в Карсе уже, а за Ваном...
44.

Более того, Карс был тут ещё и в авангарде - уже в марте 1917 года власть в городе взял Совет солдатских депутатов, начавший аресты и безнаказанные расправы над офицерам. К осени самообезглавившаяся армия разбежалась, дизертируя целыми эшелонами, и после Октября Карс перешёл под контроль "белого" Закавказского сейма. Но оборонять огромную Карсскую крепость было некому - армянские ополченцы и сохранившие верность Отечеству русские солдаты понимали, что с регулярной армией хоть и трижды издыхавшей Османской империи им не совладать. Самой боеспособной единицей оставался авиаотряд Карсской крепости, с её падением успевший перелететь сначала в Батум, а потом и вовсе на Кубань к Деникину. В феврале 1918 года османская армия торжественно вступила в Карс, устроив кровавую резню не только армян, но и русских. Корректнее говоря - православных: молокане в своих многочисленных селениях подверглись разве что грабежам. К ноябрю 1918 года, проиграв Первую Мировую, отсюда ушла уже и Османская империя... но не турки - местные гарнизоны просто демобилизовались из султановой армии, и под знакомое "нас там нет" провозгласили нечто с забористым названием Юго-Западная Кавказская Демократическая республика. Декларативно она простиралась от Аджарии до Нахичевани, хотя твёрдо контролировала лишь Карсскую область - над одними территориями сохранили контроль Грузия и Армения, на других возникли точно такие же условные Араксская и Нахичеваньская республики:
45.

И хотя жили здесь разные народы, парламент (Шура) состоял исключительно из мусульман-младотурок во главе с Нури-пашой, братом небезызвестного Энвера-паши, а в регионах власть осуществляли мусульманские советы. Занявшие Закавказье британские войска мирились с новым соседом, пока в апреле 1919 года ЮЗКДР не попыталась отобрать у Грузии Ахалцихе. После этого англичане заняли Карсскую республику силой, и передали большую часть её территорий Армении. Но армяне, героически победившие турок годом ранее (см. Сардарапат), теперь грезили Севрским договором, фактически возрождавшим Великую Армению от моря до моря, и более охотно выясняли, кто же будет править ей. В мае 1920 года в Карсе случилось коммунистическое восстание, при подавлении которого уже армяне добили славянскую общину, ну а летом 1920 растерявшая союзников и развалившая тылы Армянская республика ввязалась в войну с Турцией. И неприступный Карс, который мог бы сковать противника на месяцы, сдался без боя, а вскоре с другой стороны и Красная Армия подошла... Для армян Карс, Ани и Арарат тоже стали самой болезненной из территориальных потерь... но азербайджанцы в Карабахе ждали реванша без малого 30 лет, турки в Карсе - 43 года, а армяне - уже больше ста лет...
46а.

Не знаю точно, где сто лет назад был сделан кадр выше с памятником русским солдатам - может быть, в каком-нибудь гарнизоне на окраине. Мы же возвращаемся на бывшую Губернскую и пересекаем проспект Фаик-бея. За ним - скверик с вазонами и львами, где достигает пика концентрация этих загадочных "малых форм":
46.

Улица выводит на бескрайнюю площадь у здания администрации ила Карс, которое изначально (по разным источникам) было то ли банком, то ли больницей:
47.

На площади по характерной гарцующей позе безошибочно опознаётся генерал Кязым Карабекир, в 1920 году отвоевавший эти земли у Армении. По двуглавым орлам, с переходом России на серп-и-молот вновь ставшим для турок символом сельджуков, я предположил, что памятник поставили этак в 1950-е годы. Но нет - на одной из табличек под ликующими кавказцами - дата "2003":
48.

Чуть поодаль от него прежде стоял памятник русским воинам (1910), разрушенный турецкие армией в 1918 году в первые дни возвращения в город. Теперь его грубоватая копия венчает Холм Чести в Гюмри:
49а.

На месте русского монумента теперь тюркская "аллея славы", где не забыли даже про хана Батыя:
49.

А за ней - мечеть Фетхие-джами, переделанная аж в 1985 году из церкви Александра Невского 154-го Дербентского пехотного полка (1908). Всего таких церквей, построенных в начале ХХ века по одному проекту, в Карсской области уцелело три - ещё в Олту, где она заброшена, и в Сарыкамыше, где тоже переделана в мечеть. Там, однако, мы не смогли протиснуться внутрь из-за намаза, а вот в Карсе бывшая церковь встретила просторным пустым залом, за вычетом люстр похожим скорее на манеж, чем на храм. О России в интерьере не напоминает ничего... кроме планировки: церковь вытянута с запада на восток, михраб же ориентирован на Мекку, то есть - строго на юг.
50.

За церковью тянутся казармы, в основном по сей день занятые военными. И именно это, а вовсе не армянские купеческие домики - настоящий Русский Карс.
51.

Что же до моих любимых рассуждений про альтернативную историю, то здесь... здесь они, пожалуй что, слишком сложны. Не вернись турки в Карс, он безусловно стал бы частью Армянской ССР, вот только сама Армения выглядела бы совершенно иначе. Центром её стал бы, скорее всего, не Ереван, а Александрополь, при Советах точно так же переименованный в Ленинакан, а с распадом Союза - в какой-нибудь Нор-Ани. Нахичевань, скорее всего, осталась бы азербайджанской автономией - но опять же в составе АрмССР, а значит мы сейчас могли бы полюбоваться хачкарами Джульфы, а вот тюркские мавзолеи могли и не достоять до Перестройки. Сложнее рассуждать о судьбе Нагорного Карабаха, но учитывая, что судьбу его решили те же советско-турецкие договоры - вполне мог остаться армянским и он. Для постсоветской России это бы вряд ли было к лучшему: крепко стоящая на ногах, не испытывающая угрозы Армения была бы, скорее всего, страной абсолютно прозападной, с музеем оккупации и президентом из Глендейла, да вдобавок ключевым звеном транзита из Ирана в Европу. Словом, иным было бы всё Закавказье, ну а Карс... думается, был бы он почти таким же: только пятиэтажки стояли бы вместо плотной турецкой застройки, ДК из розового туфа - вместо Центральной мечети на месте снесённого православного собора, в соборе Сурб-Аракцелоц шли бы армянские службы, а в Александро-Невской церкви русская старушка скучала бы в свечной лавке без прихожан. Зато достопримечательностью Армении №1 был бы Ани, а разрушенную землетрясением Текорскую базилику советские реставраторы бережно сложили бы из руин...
52.

В следующей части - про вокзал и пожалуй главную достопримечательность Карса: его крепость.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
|
Метки: Турция дорожное деревянное |
Карс. Часть 2: цитадель и её подножье |

Рассказав в прошлой части о долгой истории, современном колорите и оставшихся русских традициях Карса, переходим к его достопримечательностям. Начнём с остатков средневекового центра - церквей, мечетей, бань и мостов у подножья грозной цитадели.
Цитадель в предгорьях хребта Аллахакбар (или Кармир-Порак) в горах Саганлуга построил в незапамятные времена сам Господь Бог. Плоская тоскливая степь Армянского нагорья здесь идёт мощной, почти что отвесной ступенькой, в которую и врезается быстрая мелкая речка Карсачай, в древних Армениях считавшаяся верховьями пограничного Ахуряна. Она образует глубокий каньон, начало которого отделено от степного простора узким гребнем - и думается, всякий народ, умеющий строить стены, не смог бы не дополнить ими этот гребень. Первыми так поступили армяне 1700 лет назад, и с той поры огромная чёрная цитадель висит над кварталами Карса:
2.

В небольшом малоэтажном городе она видна практически из любой точки:
3.

А вокруг неё, как спутники вокруг планеты, кружатся форты, батареи, пороховые погреба: Карсская цитадель вовсе не равна Карсской крепости - последняя моложе, больше, интереснее, и я ещё покажу её в отдельном посте. Прошлый и следующие кадры очень характерны - ближе видны средневековые стены и башни с встроенными в них бастионами не столь давних времён, дальше - форты ("Блум-паша", под Россией переименованный в "Шатилов" на кадре выше), домики военного ведомства (госпиталь с кадра ниже) и традиционный памятник Ататюрку, упорно шагающему против холодного ветра. И совсем не очевидно, что дальний план от ближнего отделяет глубокая пропасть:
4.

Крепость Каруцберд, что в гаваре Вананд, упоминалась с 4 века - редко, но с эпитетами вроде "непреодолимая". Возможно, была она из того типа крепостей, с которыми враг предпочитает даже не связываться, и потому не прославилась великими битвами, но именно такую крепость выбрал в 929 году под свою резиденцию царь Абас Армянин. В 929-61 годах Карс успел побыть столицей всей Армении, которой древний дом Багратуни тогда добыл независимость от арабского халифата. С непривычки царство сменило за полсотни лет 4 столицы, и до Карса таковыми были Багаран и Ширакаван, а после - легендарный Ани. 101 год, в 963-1064 годах, Карс был столицей Ванандского царства, которое Ашот III Милостивый, перебравшись в Ани, оставил своему младшему брату Мушегу. Мушегов внук Гагик Карсский перед лицом сельджукской угрозы, однако, не к соседям-армянам пошёл за защитой, а позвал Византию, надеясь на её безграничную мощь. По сути дела он сдал своё царство грекам, выменяв на богатые имения в Киликии. И - не последнюю роль сыграл в том, что вскоре именно Киликия приняла беженцев, сделавшись "Арменией в изгнании": византийское покровительство помогло Карсу буквально на несколько месяцев, и уже в 1065 году город заняли тюрки. Дальше Карс оказался в жестокой круговерти азиатского Средневековья, колеблясь между тюркскими султанами и грузинскими княжествами. Но конец этой круговерти не принёс облегчения: над хаосом поднялись суннитский султан династии Османов и шиитский шах династии Сефевидов да начали воевать между собой огромными регулярными армиями. Карс с 1514 года стал восточным форпостом Османской империи, но в последующие века под Персией суммарно провёл немногим меньше времени, чем под Россией. В 1555 году по итогам 40-летней войны Карс был объявлен нейтральной зоной (уж не знаю, как именно это было организовано), а его крепость - снесена. Но тюрки тогда воевали, кажется, просто потому, что не умели не воевать - 12 войн за 3 века длились дольше, чем периоды мира между ними, но граница вновь и вновь возвращалась примерно туда, где она есть и ныне. В 1579-85 годах турки дошли аж до Баку, в 1603-18 персы стояли у Саганлуга, и где-то в этих войнах, скорее всего и турецкими, и персидскими стараниями, на гребне в излучине Карсачая выросла нынешняя цитадель.
4а.

А в 19 веке потрудились над ней ещё два народа - русские, четырежды атаковавшие Карс, и англичане, дважды готовившие его к обороне. В 1808 году Пётр Несветаев было начал штурм города, и даже взял бы его, если бы не получил приказ - блокировать со всех сторон, но не брать. В 1828 и 1855 Карс дважды покорил один и тот же полководец - генерал Николай Муравьёв, причём не -Амурский, а -Карсский: двое тёзок в эполетах вершили великие дела на разных концах империи почти в одну эпоху. На первый раз молодой Муравьёв взял Карс быстро и легко, на второй - осаждал его 5 месяцев, в итоге взяв в плен не только турецкий гарнизон, но и курировавшего оборону британского офицера Уильяма Уильямса: осада Карса шла параллельно с обороной Севастополя. На возврат которого по итогам Крымской войны и обменяли Карс, вернув его туркам. В 1877 году англичане так же готовили Карс к обороне, но сами уже не участвовали в ней, и может потому русский генерал Иван Лазарян массировнным пушечным огнём и стремительным штурмом взял древнюю столицу Багратидов. К тому времени по окрестным ущельям распространилась целая система фортов и вспомогательных укреплений, одним из которых по сути и сделалась цитадель. Строившаяся несколькими народами несколько веков, она чем-то неуловимо похожа на кафедральные соборы Средневековой Европы, а так как в свою последнюю, армяно-турецкую войну 1920 года, сдалась без боя - ещё и прекрасно сохранила внешний вид:
5.

Средневековый Карс теснился у её подножья:
6а.
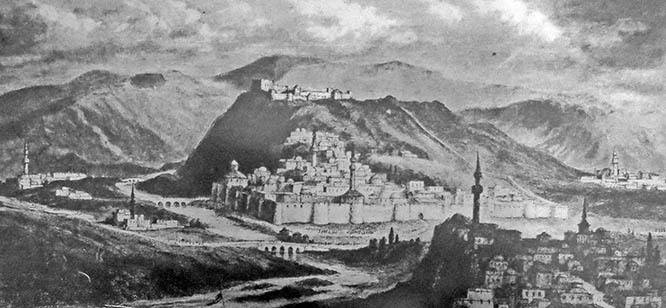
И стены 12 века под горой даже успели дождаться первых фотографов:
6б.
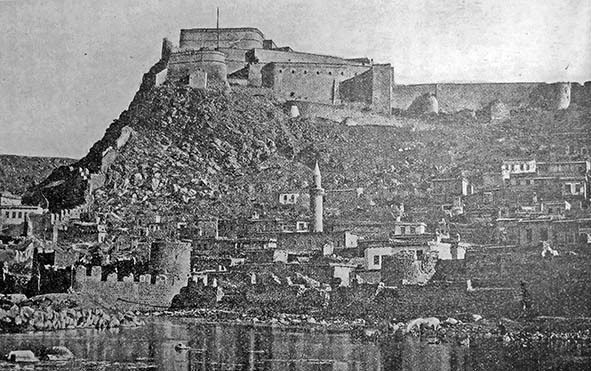
Этот район известен как Кале-Ичи, типичный в общем Старый город, рассосавшийся уже при Турецкой республике:
6в.
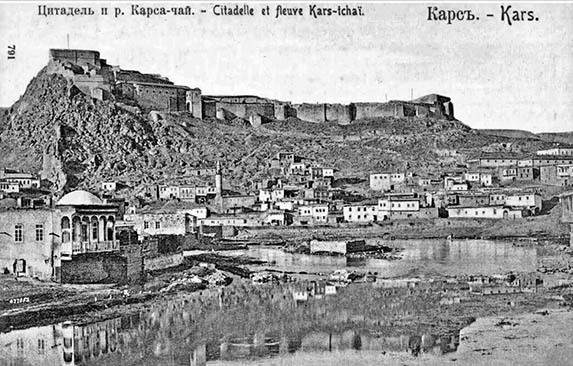
Когда для его обитателей освободился Новый город, на прямых улицах которого до Первой Мировой жили русские, армяне, греки:
7а.

С тех пор Новый город подрос вширь и ввысь, а в Кале-Ичи не так давно последние дома сломали для благоустройства, которое пока что так и не сподобились начать. И всё же панорама узнаётся:
7.

От Старого города теперь даже фундаменты едва различимы, но средневековые храмы - стоят. На кадре выше ближе к центру видна типичная для Карса квартальная мечеть Вайзоглу вида "куб с минаретом", отмеченная табличкой с датами "1578-1976": видимо, это годы постройки и последней, не знаю сколь глубокой, реконструкции. У левого края кадра - двухминаретная Большая мечеть 16 века, но её, как и вот эту парочку, мы осмотрим вблизи:
8.

Сперва кинув взгляд на окраины Карса - как и всюду в Турции, они удивляют обилием минаретов и полным отсутствием труб:
9.

Теперь Старый Карс - это площадь, и вход на неё отмечает фонтан, обустроенный, судя по дате "2018", на волне туристического бума:
10.

Огромная Эвлия-джами, то есть Мечеть Святых построена в 1998-2000 годах... не считая минарета, уцелевшего от разрушенной в штурме 1877 года старой мечети. Её заложил в 1579 году Лала-Мустафа-паша, серб-мусульманин на османской службе, под началом которого к 1585 году турки впервые дошли до Баку. Другую мечеть Лала-Мустафы я показывал уже в Эрзуруме, где армия готовилась к походу, ну а в Карсе суннитский храм начал строиться, видимо, в ознаменование первых побед.
11.

В этом Лала-Паша последовал примеру сельджукского вождя Альп-Арслана, основавшего Мечеть Святых в 1065 году, когда Карс впервые перешёл под мусульманское знамя. Да и святой тут сразу же нашёлся: на дворе мечети, под новеньким надгробием, покоится Абуль-Хасан Харакани. Если я правильно понял табличку, он пришёл как суфийский проповедник в 1033 году ещё в армянский Карс, а убит был византийцами, когда к городу подступили сельджуки.
12.

Ещё одно здание в мечетной ограде - мощная башня Фируза-Акя (1154), которую воздвиг местный визирь по приказу салтукидских беев из Эрзурума. Она единственная уцелела из нижней крепостной стены, но выглядит безвозвратно зановоделенной:
13.

Рядом с мечетью, почти что дверь в дверь, стоит, пожалуй, главный памятник Карса - собор Сурб-Аракелоц (932-37), воздвигнутый царём Аббасом Армянином. То есть - кафедральный собор Карсского царства, а на момент постройки - и всей Баградитской Армении. Может быть, с тех времён осталось его прозвище Майер-Екехеци, то есть Материнский храм:
14.

Необычайно сдержанный и строгий (в особенности - по контрасту с храмом васпураканских царей на Ахтамаре!), он украшен лишь резьбой карнизов да 12 фигурами на барабане, напоминающими о том, что Сурб-Аракелоц значит Святых Апостолов:
15.

С числом апостолов сравнимо и число метаморфоз, которые пришлось пережить Материнскому храму. После разорения Карса сельджуками в 1860-е годы он был заброшен и, как пишут хронисты, "покрылся землёй". Однако - явно не мог не возродиться в 1206-1387 годах, когда город Кариси сделался владением грузинских князей - сначала армян-вассалов царицы Тамары Закарянов, а после монгольского нашествия - месхетинских атабков Джакели. Крест оставался на храме и после нашествия Тармерлана, и в хаосе тюркских войн, а вот бывший серб Лала-Мустафа в 1579 году его сбросил. При османах в древних стенах расположилась Купольная мечеть (Кумбет-Джами) через улицу от Мечети Эвлия.
15а.

Мощная армянская кладка да уважение к братьям по вере, на лояльности которых держалось Закавказье, способствовали тому, что в 1877 году Кумбет единственная из подкрепостных мечетей пережила штурм. Однако у русской администрации на Мать Церквей были свои планы: к 1886 году пристроив притворы да отдельно стоящую колокольню по образцу армянских звонниц в монастырях Санаин и Ахпат, здесь освятили православный Военный собор Михаила Архангела. Помимо него на всю Карсскую область действовал лишь пяток церквей при гарнизонах - в окружных Олту и Кагызмане (причём последняя арендовала частный дом) да на военных базах Сарыкамыш, Каракурт и Юджелен, и к посвящению их неизменно прилагалось длинное название полка. Собор служил знаком русского господства - славян без мундиров в этой мрачной стороне представляли в основном сектанты-молокане, считавшие крест чёрным орудием казни Иисуса и потому державшиеся подальше от церквей.
16а.

В 1918 году здесь снова открылась мечеть, а в 1919 ненадолго возродилась армянская церковь - православных в Карсе считали оккупантами и те, и другие, ставя перед казаками да солдатами выбор "беги или умри". Но в 1920 году турки вернулись сюда уже не полутеократической Османской империй, а подчёркнуто светской Турецкой республикой, а потому не стали вновь устраивать под куполом мечеть. Дальнейшая история собора кажется абсолютно советской: сперва храм планировали продать на стройматериалы с аукциона и на вырученные деньги построить школу, но покупателей так и не нашли. В 1940-х годах сломали звонницу, в 1950-х годах под защитой мощных стен располагалась нефтебаза. В 1964-81 годах, в лучших традициях стран с красными флагами, в храме находился краеведческий музей, основанный в 1959 году, но в итоге переехавший в новое здание, которой я показывал в прошлой части. Ещё полтора десятка лет Церковь-Мать вновь простояла заброшенной, и в 1992-98 годах в третий, если не четвёртый раз, превратилась в мечеть.
16.

Итого - только достоверно известных превращений тысячелетнее здание прошло десяток, причём большинство из них - в последнюю сотню лет. Под высокими сводами теперь мирно уживаются михраб на южной стороне и пустой русский иконостас из кутомского камня на восточной:
17.

Чуть поодаль, выше по склону, расположена Улу-джами (Большая мечеть) со своими двумя минаретами - так же разрушенная в 1877 году и воссозданная в 2009-м. В отличие от Эвлия-джами, она всё-таки не целиком новодел, и на фасаде хорошо заметна разница старой и новой кладки:
18.
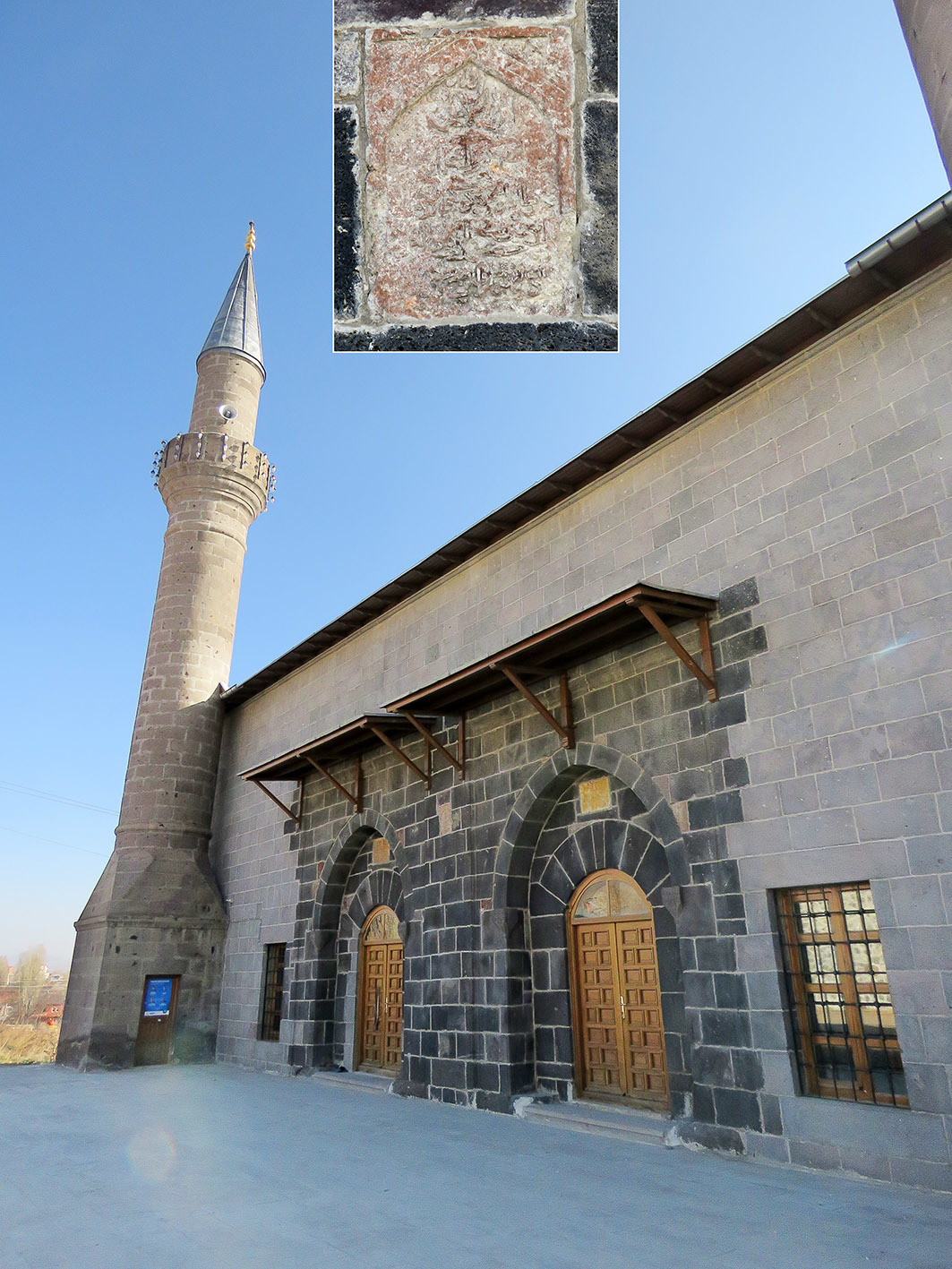
Ещё выше осенью 2019 года полным ходом воссоздавался дворец бейлербея (губенатора), так же пролежавший в руинах полтораста лет (фото есть здесь). Возможно, заброшен он был даже раньше того штурма: учреждённый в 1580 году эялет Карс (тогда же, видимо, и дворец был построен) в 1824 году был упразднён и подчинён Эрзуруму.
19.

Теперь сравним это всё с дореволюционным видом: Улу-мечеть стоит невзрачной каменной коробкой, на месте Мечети Святых одиноко торчит минарет, а
20а.
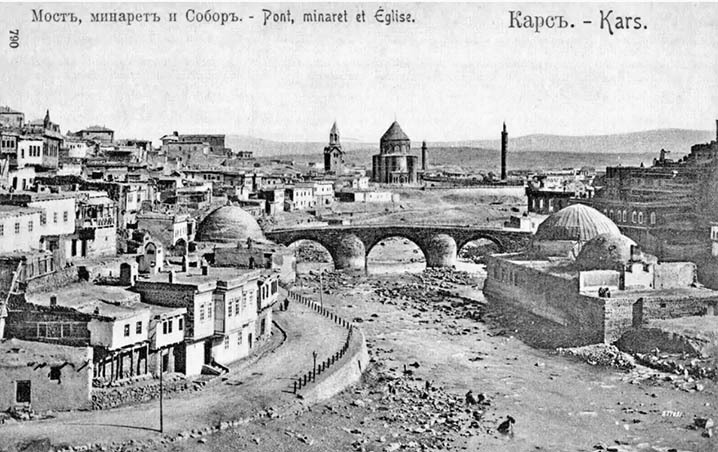
Но подойдём мы сюда не напрямик, а сквозь заречное предместье, гордо проигнорировав современный бетонный мост:
20.

Предпочтём ему изящный Демиркорпю, то есть Железный мост (1899) чуть выше по течению:
21.

Заречье тоже когда-то представляло собой живописнейший старый квартал, на старых фотографиях подписанный как Сукапу - Водяные Ворота:
21а.

От него осталась теперь только сердцевина - комплекс Мазлум-ага (1742) из кубической квартальной мечети:
22.

И бани с парой куполов, знаменитой, между прочим, тем, что в ней побывал Александр Сергеевич Пушкин, когда путешествовал в Арзрум. Вернее - только попытался: "Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по нескольку месяцев. (....) Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул....".
23.

Да и стоят тут в прямой видимости друг от друга целых три почти одинаковых бани:
24.

Судя по цитате, Пушкин мок у крыльца Пятничной бани, которая на моём фото накрыта синей плёнкой - она тоже известна как Мазлум-ага, только рядом с ней не мечеть, а полуразрушенная Франкская (то есть армяно-католическая) церковь первых лет российского господства:
24а.
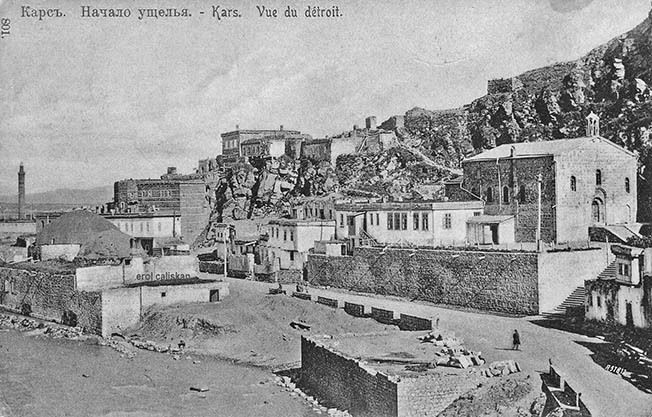
У Пушкинской бани снова перейдём Карсачай через Ташкорпю - Каменный мост, построенный в 1715-19 годах взамен разрушенного паводком:
25.

С парой бань (вторая называется Мурадие и была построена в 1774 году) образующий самый цельный дорусский ансамбль Карса:
26.

Теперь бани закрыты, и в бурной воде плещутся водоплавающие голуби - прежде ни разу не видел таких. Выше по горе видны руины Красной церкви Сурб-Мариам и маленький зеленокупольный новодельный мавзолей над могилой Халила и Тофика, сельджукских солдат, погибших вместе с суфием Харакани.
27.

Там лежал почти правильным конусом центральный квартал Старого Карса, в 1877 году почти не тронутый огнём:
28а.
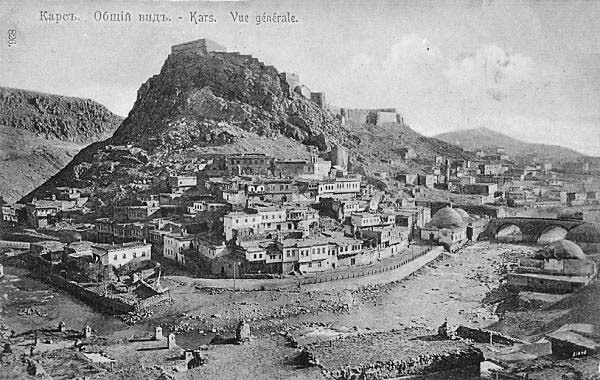
Но время безжалостнее огня - из всего этого уцелели лишь бесформенные развалины Красной церкви да полуразвалившийся 200-летний особняк карсского паши (управляющего) Ахмеда Тофика. Но даже к нему нынешние жители Карса явно не проникнуты почтением.
28.

На фоне укреплений Карсской крепости, оплывших серпантинов её дорог, подземных коммуникаций с штольнями для выкатных орудий, Карсачай делает крутой поворот:
29.

За которым встречает Молоканская мельница рубежа 19-20 столетий:
30.

Молокан часто путают со староверами, но на самом деле староверы от них гораздо дальше, чем от РПЦ. Молоканство - это "духовная секта", своеобразное "протестанство-от-православия", распространившееся по Днепру и крестьянским верховьям Дона ещё в 18 веке. В 1840-е годы молокан добровольно-принудительно отправили за Кавказ, где за пару поколений они прекрасно обжились, превратившись в "русских горцев". И когда Закавказье приросло Карсской областью, именно молокане активнее всего переселялись на её каменистые, неспокойные плато. Да покинули они этот край последними: "русских" турки опознавали по православному кресту, а молокан воспринимали отдельным народом, и отуреченные их потомки по сей день живут в десятках сёл Карса и Ардагана. Как крепких хозяйственников и толковых мастеров молокан уважают даже в нынешних Азербайджане и Армении, ну а в дореволюционном Карсе молокане и вовсе оказались едва ли не самыми зажиточными людьми. Мельниц под городом они соорудили несколько, но только эта сохранилась до наших дней:
31.

Двор её когда-то был занят рестораном, в 2019 году закрытым крепко и давно. Но в оконца можно разглядеть прекрасно сохранившиеся деревянные механизмы:
32.

Ресторан теперь в рощице чуть поодаль, и я не знаю, что хотели сказать его менеджеры, поставив рядом ажурную мебель и ржавые, как в Гарлеме, бочки:
33.

Ну а сама рощица - парк перед солидным крепким зданием, которое турки называют "дворцом Екатерины". Как и Охотничий дворец Николая II в гарнизонном Сарыкамыше. Понятно, что Екатерина II тут никогда не была, и даже русская армия впервые перешла Ахурян после её смерти. Однако именно при ней в русско-турецких войнах наступил перелом, после которого Турция неизменно проигрывала. Так что совсем не мудрено, что в образе самодовольной императрицы туркам представлялась сама по себе русская власть.
34.

Так и не смог нагуглить, что было здесь изначально, логически могу предположить, что штаб Карсской крепости (причём скорее инженерный, чем боевой), ну а турконет лишь рекламирует отель "Дворец Екатерины", под который здание восстановили в 2015 году.
34а.

Взоры постояльцев услаждают студенточки, стайками выпархивающие по крепко сбитой мостовой из-за поворота ущелья:
35.

Там скрывается не единственный в городе, но видимо старейший кампус Кавказского университета (1993), занимающий целый квартал крепостных построек:
36.

На кадре выше - дом коменданта, а рядом с ним какие-нибудь офицерские флигеля, или например госпиталь, или может быть (ведь о "дворце Екатерины" это лишь предположение) - опять же, штаб:
37.

Над ними нависает обратная сторона цитадели с её переплетениями средневековья и 19 века:
38.

Видны Водяные ворота, к которым и теперь просто так не подойти:
39.

Так что вернёмся на площадь, откуда пыльный серпантин мимо старых ДОТов, ещё более старых погребов и щебня снесённых кварталов...
40.

...ведёт к Кагызманским воротами. Или Бехрамским - на юг из цитадели вели двое ворот, и я не знаю, какие где из них точно. Над порталом же сохранился киот, пусть и сто лет без иконы:
41.

С башен цитадель лучше видно, как извилиста тропа... и как узок скальный гребень в излучине Карсачая:
42.

Самая верхняя часть цитадели, видимо, строилась англичанами в 1850-70-х годах, поскольку на дореволюционных фотографиях выглядит она точно так же. Над воротами нависает огромная казарма с бойницами, левее на кадре выше виден караульный дом, а в дальнем конце - пороховой погреб.
43.

По лестнице, огромной словно у ацтекских пирамид, можно взойти ещё выше:
44.

К широкой башне, этакому донжону Нового времени:
45.

Отсюда ещё интереснее вид на саму крепость. Слева за обрывом спрятаны красные крыши Кавказского университета, справа как на ладони весь Карс:
46.

На фоне "внутренней" цитадели - плац с одинокой пушкой, классифицировать которую у меня не хватает познаний.
47.

Ближе к погребу - основание для куда более солидного орудия, палившего почти с тех же позиций, что и лучники средних веков. Вернее, должного палить - как уже говорилось, русский штурм в 1877 году стал последним крупным боем Карсской цитадели:
48.

В крепости сложно сделать кадр без людей, причём как мне показалось, больше, чем туристов, тут местных, поднимающихся на эти стены гулять:
49.

Очень, очень разных местных:
50.

Цитадель невелика, примерно 240 на 50 метров. С пороховых погреов она напоминает корабль:
51.

Здесь же - Главные ворота, очередной серпантин из которых спускается к штабу и к мостам, ответвляясь дорогой к фортам на этой стороне ущелья:
52.

С которых тоже открывается отличный вид на Цитадель:
53.

Но в следующей части спустимся в город, разбираться, где в нём русские, а где армянские дома.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Сурмалы (ил Ыгдыр)
Ыгдыр и земля Сурмалы.
Подножье Арарата.
Карсская область (ил Карс).
Карс. Анти-Выборг.
Карс. Цитадель и старый город.
Карс. Балтийский стиль.
Карс. Вокзал и крепость.
Сарыкамыш.
Килитташ (Багаран) и попытка Мрена.
Ани. Ближняя часть.
Ани. Дальняя часть.
Дорога домой.
|
Метки: замки-крепости Турция дорожное |






