В поисках Беловодья - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://varandej.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://varandej.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Чинейская железная дорога. Часть 1: сокровища Удокана |
С юга над бамовской станцией Новая Чара, напротив рогатого Кодара и показанных в прошлой части сюрреалистических Чарских песков, нависает хребет Удокан (2561м), у геологов куда более популярный, чем у туристов. Формой и содержанием он напоминает "отличный вместительный сундук!(с)": хотя на Россию приходится четверть полезных ископаемых Земли, их обилие под крутыми склонами и плоскими вершинами Удокана даже для геологов - феномен. В отличие от Хибин, Удокан впечатляет не ассортиментом минералов, а количеством расположенных практически вплотную друг к другу разнообразных месторождений-гигантов. И совсем не приходится удивляться тому, что по каньонам и перевалам Удокана пролегает некий гибрид Кругобайкалки с Трансполяркой: самая высокогорная в России, самая сложная в истории страны и при том мёртвая Чинейская железная дорога.
Она столь же удивительна, сколь и малоизвестна - я и то случайно узнал о ней от
 mikka, когда в 2020-м году уже проехал Байкало-Амурскую магистраль. Планируя вернуться на БАМ в 2021-м, я задался целью пройти Чину, и теперь расскажу про этот поход, снизу вверх, в трёх частях. Вернее, в трёх с половиной - ведь это там, в конце Чины, мы повстречали кочевых эвенков.
mikka, когда в 2020-м году уже проехал Байкало-Амурскую магистраль. Планируя вернуться на БАМ в 2021-м, я задался целью пройти Чину, и теперь расскажу про этот поход, снизу вверх, в трёх частях. Вернее, в трёх с половиной - ведь это там, в конце Чины, мы повстречали кочевых эвенков.В Иркутске на Ангаре недалеко от центра лежит Конный остров, по которому в 1985-92 годах протянули Малую Восточно-Сибирскую железную дорогу, а над ней в 1999-2013 годах возвигли Академический мост. И глядя на бутафорский гофровый тоннель, в котором юные железнодорожники учатся обслуживать и проезжать "взрослые" тоннели, ни за что не догадаешься о том, откуда он здесь взялся.
2.
Итак, в 1989 году в Сибири завершилась 15-летняя стройка века - Байкало-Амурскую магистраль приняли в постоянную эксплуатацию. Только это было уже никому не интересно: в кино теперь крутили секс и насилие, на перифериях страны насилие было уже не в кино, столицы республик, включая Москву, бурлили миллионными митингами, и казалось, что блеск жожоба уже совсем рядом. Дальнейший коллапс экономики ударил по всему, включая железнодорожные перевозки: если в 1980-х Транссибирская магистраль задыхалась в пробках, что лужковский МКАД, и поезда во Владивосток могли опаздывать на сутки, то в 1990-х годах на рельсах востока страны стало тихо и пусто. Одна из главных задач Байкало-Амурской магистрали - стать дублёром Транссиба и разгрузить его - потеряла актуальность, а отсюда родился чрезвычайно живучий миф о ненужности БАМа. Посёлки в тайге оказались на грани выживания, и эвенки озадаченно глядели на бамовцев, в отсуствии льгот и длинных рублей выживавших теперь на ягодах и рыбе. Но пыль рухнувшего колосса понемногу оседала, и в московских кабинетах солидные люди подумывали о том, что неплохо бы совершить переход от присваивающего хозяйства к производящему. Ведь даже с мизерными грузооборотами БАМ проходил через сказочно богатые ресурсами места, через самые потайные сокровищницы Сибири, а что такое разграбление ГОКа в сравнении с основанием ГОКа? Первое описание Удокана создал ещё в 1933 году один из отцов советской геологии и основатель Восточно-Сибирского филиала Академии наук Евгений Павловский, а с 1952 года в Каларском районе нынешнего Забайкальского края работала уже целая Удоканская геологическая экспедиция. Результаты её изысканий удивляли даже бывалых геологов: на площади около 10 тыс. квадратных километров обнаружились гигантские месторождения меди (Удокан), железа, титана и ванадия (Куранах, Сулумат, Чина), алюминия и калия в сынныритах (Голевское, Саку), циркония и редкоземельных металлов (Катуга), серебра (Бурпала, Ункур), угля (Читканда, Апсат), самоцветов (Чара), рассыпного золота, стройматериалов и минеральных вод... Оставалась лишь одна проблема - как найти ключ от сундука?
3.
В те времена, однако, на смену "крепким хозяйственникам" Министерства путей сообщения ещё не пришли "эффективные менеджеры" Российских железных дорог. В 1997 году МПС возглавил потомственный железнодорожник Николай Аксёненко, проделавший путь от пульта дежурного по станции до министерского кресла. Пресса рубежа веков величала его Хозяином Сибири и пророчила место преемника если не Ельцина, то Путина, которого, конечно же, неизбежно должна была одёрнуть Семья. Идея Аксёненко выглядела просто и ясно: превратить МПС в свою корпорацию, которая построит железные дороги к труднодоступным месторождениям и будет курировать их разработку. БАМ должен был прирасти несколькими рудничными ветками, из которых состоялась, хотя позже и под началом других людей линия Улак - Эльга (с самолёта см. здесь) к крупнейшему в России месторождению коксующихся углей близ Восточного БАМа. Но она в проекте Аксёненко была лишь №2: первым делом Николай Емельянович положил глаз на Чинейское месторождение титаномагнетитовых руд. То есть - железа, титана, никеля и особенно ванадия, по содержанию которого в породе (до 2%), как и по общим запасам, Чине нет равных на Земле. И вот в 1998 году, на излёте эпохи разрушения, в горах над Новой Чарой нежданно-негаданно закипела великая стройка. По вечной мерзлоте, по сыпучим гольцам, по отвесным обрывам работяги из старой бамовской гвардии тянули путь наверх. В школе мне об этом не рассказывали: вот рубль летит в тартарары, в Москве взрывают жилые дома, где-то в глубинке голодные учителя берут в заложники учеников в надежде получить зарплату, с Кавказа везут цинковые гробы с молодыми ребятами, соседка в Перми одалживает у нас хлеба и масла для голодных детей, в подъездах ширяются наркоманы, по улицам рыщут банды скинхедов... а где-то там, в далёких горах, строится самая сложная в истории России железная дорога.
3а.

Аксёненко дослужился до вице-премьера, а в сентябре 1999 года, во время одной из зарубежных поездок Путина, даже был и.о. премьер-министра. Но это оказалась высшая точка его карьеры: пойдя против Семьи, Путин сыграл на упреждение. В январе 2000 года, через 10 дней после отставки Ельцина, Аксёненко снова стал лишь Министром путей сообщения, а 19 октября 2001 года его и оттуда ушли, возбудив уголовное дело за, кто бы мог подумать, коррупцию. Позже его выпустили лечиться от лейкоза крови в Германию, где Николай Емельянович и умер в 2005 году. С падением министра зачахли и его проекты: первый поезд с рудой, прошедший по Чинейской железной дороге 26 сентября 2001 года, стал и последним. Технический шедевр оказался не нужен, и лишь китайцы приезжали сюда изучать опыт для строительства своей магистрали в Тибете. Одна из выпущенных для Чины, но так и не доставленных противолавинных галерей стоит теперь на Конном острове в Иркутске, а сама Чинейская железная дорога теперь выглядит так:
4.
Она тянется по горам на 72 км, по-настоящему интересны из которых лишь последние 30. Для пешего похода явно многовато, однако строители накатали неплохой автодублёр. Им иногда пользуются туристические группы, забрасывающиеся для сплавов на Калар и его притоки: Удокан не так эффектен, как Кодар, но всё же красот скрывает немало вплоть до потухших вулканов - от них к вулканам Восточных Саян тянется Байкальский рифт зарождающегося океана... Все туристы, выходящие с поездов в Новой Чаре и самолётов в Старой, слышали про Анатолия Мисюру, немолодого уже водителя бортовых машин, контакты которого летом 2021 года были актуальны так же, как и летом 2001-го. Мы надеялись подгадать под группу, но увы - в августе у Мисюры была по этой дороге всего одна заброска, с нами разминувшаяся где-то на неделю. Нанять "Урал" стоит 25 тысяч рублей в одну сторону, но Анатолий направил нас к своему зятю Ивану, у которого есть мощный джип - на такой машине заброска обойдётся уже в 15 тысяч, а путь наверх недолог - 2,5-3 часа. Иван, сам из забайкальских гуранов, пристроил нас и на ночлег к своему другу Денису, выходцу из Казахстана. Тяжело вздохнув и договорившись, чтобы Иван встретил нас с поезда, я приготовил три оранжевых бумажки с видом Хабаровского моста...
5а.

И теперь с досадой понимаю, что мог бы остаться при них, если бы согласился потратить на 2-3 дня больше времени. Весь поход вдоль Чины мимо нас стабильно проезжало ровно по одной машине в день в каждую сторону - охотиться, рыбачить, заготовлять дрова... Почти гарантированно можно уехать 1 и 15 числа каждого месяца, когда происходит пересменка: в конце Чинейской линии стоит Посёлок, где дежурят вахтами два сторожа. И сторожа эти не любят, когда железную дорогу называют заброшенной: ведь все 20 лет они её охраняют, а значит, кто-то ждёт возможности её восстановить. Новый оператор ЧинЖД - "Забайкалстальинвест", и когда я позвонил его начальнику, тот ответил, что лучше нам обращаться через полгода: в начале лета полным ходом шли тендеры по закупке оборудования и машин для восстановления линии. Началось ли оно - я не знаю, ну а нашими друзьями на Чине, после того как не очень-то дружелюбный Иван взял деньги и укатил восвояси, стали Два Александра. Один из них сторож, второй его друг, оба мастера на все руки, механики, таёжники, охотники и рыбаки. Два дня в посёлке они кормили нас борщом (но и Оля в долгу не оставалась), поили чаем с конфетами, а на обратном пути подвезли, подобрав на своём "Камазе" в конце самого красивого участка. Так что большая часть кадров сегодняшнего рассказа сняты из окон и кузова двух машин:
5.
Чинейская железная дорога ответвляется на юг от 1741 километра Байкало-Амурской магистрали в западной горловине станции Новая Чара. Её начало не очень-то заметно среди станционных путей, а столбы кажутся обыкновенной ЛЭП, тем более здесь на них даже провода сохранились. И только ржавая стела на повороте напоминает, что мы уже на верном пути:
6.
Чарская котловина, вытянутая на 120 километров между Удоканом и Кодаром, - очень странное место. С севера - эталон складчатых гор, с юга - эталон глыбовых гор, а посередине - бесконечные топкие комариные болота, из которых кое-где торчат массивы ползучих песков. Годовые перепады температур вплотную приближаются к 100 градусам (от +35 летом до -64 зимой), а самый частый ветер - полный штиль. На Кодаре нам случилось хлебнуть местного дождя - долгого и тяжёлого. На Удокане - познакомиться с местной жарой, когда воздух быстро делается сухим, словно в среднеазиатских пустынях. Главным ощущением кодарского похода была сырость, когда под промокшей курткой ломались ветки, на которых я пытался её сушить. Главным ощущением чинейского похода стала ЖАЖДА: сухость воздуха тут сочетается со скудностью воды, так что напиться чаю под вечер удавалось только на третьей кружке. Над горами и болотами - апокалиптически яркое Солнце, раскрашивающее мир в пугающе густые цвета.
7.
Первые 20 километров Чинейская линия идёт по насыпи среди чарских болот, кажется - совсем горизонтально. На этом участке и снимать толком нечего, кроме разве что небольших мостиков без ферм - деревянных на автодублёре и стальных или бетонных на железной дороге.
8.
Лишь в какой-то момент понимаешь, что поднялся уже высоко - вот как на ладони Чарские пески, а за ними столовая гора Зарод в устье Апсата...
9.
Два Александра показали нам на Пьяный мост - на его ржавых фермах рабочие, прежде чем спускаться в Новую Чару, частенько отмечают конец вахты.
10.
Провисшие рельсы над расползшейся насыпью заставляют вспомнить Трансполярную магистраль Ямала:
11.
Примерно от 20 километра начинается перевал Эмегачи, разделяющий долины речек с забористыми названиями Нирунгнакан (на ней стоит Новая Чара) и Ингамакит (вдоль неё нам дорога). Позади встаёт стена Кодара:
12.
По правую руку тянется лес, сгоревший ещё до постройки Чины:
13.
Слева из живой тайги выступают первые пологие гольцы:
14.
В кустах мелькает типовой вокзальчик - здесь был первый разъезд 26 километр, на котором в другие времена мог бы стоять посёлок Эмегачи:
15.
Где-то близ него у Двух Александров сломался "Камаз", который они пару часов починяли:
16.
Мы же валялись на камнях с ярко-красными лишайниками, прогулялись до круглого тёмного озерца:
17.
И - непосредственно до путей без признаков наката. Конкретно здесь последний поезд прошёл не 20 лет назад, а скорее 10-15: попытки реанимировать проект опального министра низвергшая его власть предпринимала не единожды, и даже официальное открытие Чины было в 2005 году. По равнинному участку что-то ходило то ли до 2009, то ли до 2011 года, и даже позже здесь бывали дрезины обходчиков. Но в итоге линия пришла в такое состояние, что восстановить её - значит, фактически уложить заново.
18.
Тем временем впереди на синем склоне пологой горы я приметил пыльный след от машины. Там, за горой - Удоканское месторождения меди, которое в прессе обычно называют 3-м по величине в мире. Однозначный рейтинг крупнейших месторождений, впрочем, мне найти не удалось, да и скорее всего его просто не существует - самородная медь исчезающе редка (крупнейшее месторождение - Кивин на озере Мичиган), а в руде её содержание столь незначительно (1-2% - уже хорошо), что сравнивать месторождения можно лишь по "весовым категориям". Так что формулировку "3-й в мире" лучше понимать вольно - меди тут не много, а ОЧЕНЬ много по меркам любой страны. Вот только как её достать? Открытое в 1949 году Удоканское месторождение славится не богатством руды, а её количеством при очень низком содержании металла, и вдобавок там перемешано несколько типов руды, принципиально отличающихся технологиями обогащения и переработки. А потому все эти десятилетия учёные бьются над вопросом, как добывать эти богатства в условиях крайней труднодоступности, сурового климата и вечной мерзлоты. Ещё в 1966 году кто-то сказал "а гори оно всё синим пламенем!" и приволок сюда атомную бомбу, но когда она уже была заложена в одной из штолен - из Москвы пришёл приказ "отбой!". Медь, однако, стране нужна: при всём богатстве полезными ископаемыми, Россия импортирует этот металл, и даже всемогущий Китай лишь третий по его добыче после Чили (5,7 млн. т. в 2020) и Перу (1,7 млн.), которые для медного рынка значат примерно то же, что Саудовская Аравия и ОАЭ для нефтяного. Мы же - лишь в конце первой десятки рядом с Австралией, Замбией и бывшим Заиром, так что продолжая нефтяные параллели, Удокан можно сравнить с Самотлором.
19.
Сказать и сделать, однако, вовсе не одно и тоже, и старый здешний анекдот: "Правительство Забайкальского края учредило медаль в честь 25-летия разговоров об освоении Удокана". Однако параллельно со сменами собственников, учреждениями, слияниями, поглощениями и банкротствами шёл поиск оптимального технического решения. Единственным вариантом выходило построить в безлюдных горах на вечной мерзлоте не горно-обогатительный комбинат, а полноценный металлургический завод по выплавке катодной меди. В 2008 году была учреждена компания "Удоканская медь", входящая в холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова, но лишь в 2018 году были улажены все формальности вплоть до сохранения пастбищ эвенков. В активную фазу стройка перешла в 2020 году, однако изменения в Новой Чаре за последующий год вполне визуальны: на вокзале появились неописуемые толпы вахтовиков из Средней Азии, на БАМе у восточной горловины станции полным ходом строится грузовой двор, уходящий куда-то к горизонту. Всего на Удокане работает до 4 тысяч человек, в том числе несколько сотен турок - местные, как водится, считают, что Турция всё это и затеяла, но как я понимаю, гости оттуда всего лишь подрядчики. О близости великой стройки (ведь народу за горой - примерно как всё население Новой Чары!) напоминает сотовая связь, отлично работающая на протяжении двух десятков километров. Но основная 17-километровая дорога на Удоканский ГМК подходит со стороны Нирунгнакана, а сюда спускается только водозабор, обслуживать который ездят не снизу, а сверху.
20.
Первую очередь комбината, которая увеличит российское производство меди на 20% (140 тыс. тонн в год), обещают сдать в 2022 году. При Советах, конечно же, наверху бы вырос город Удокан на 10-20 тыс. жителей (примерно столько же было бы и в самой Новой Чаре) с номерными микрорайонами, ДК "Горняк" на площади Павловского и мозаикой "Хозяйка медной горы" на проходной комбината. Но в наше время такие вопросы решаются вахтами, что в условиях 100-градусных перепадов годовых температур понять нетрудно. Печальнее всё выглядит для природы: как ни старайся, а чтобы получить тонну меди - придётся перелопатить минимум 100 тонн породы, содержащей всю таблицу Менделеева. Медное производство - самое грязное из всех существующих: именно сопутствующие тяжёлые металлы и кислоты выжгли уральский Карабаш, а на улицах Никеля, Мончегорска или Норильска не случайно пахнет серой. В США помимо Гранд-Каньона есть ещё и Гранд-Карьер - глубочайший в мире (более 1200м!) Бингем-Каньон в штате Юта. Однако по объёму он уступает чилийской Чукикамате (4,5х3 километра в ширину и 830 м в глубину), которую вот-вот потеснит чилийская же Эскандида - уже сейчас крупнейший рудник Земли по объёму ежегодно перемещаемой породы. На Кольском полуострове и в степях вокруг Жезказгана отвалы медных рудников напоминают полноценные нагорья, раскинувшиеся на многие километры. И у "кыштымского карлика" вовсе не случайно нашёлся сородич в горняцком посёлке в Чили... Надеюсь, засорять рудокопы будут хотя бы другую сторону горы - здесь они всё-таки берут воду...
21.
Но Удоканский феномен таков, что наш путь ведёт к другому гигантскому месторождению:
22.
Мимо мелькают мосты и просевшие насыпи:
23.
Если современные РЖД - царство сайдинга, то детище безвременья Чина - республика гофры:
24.
Дорога большей частью вполне проходимая - каменистая, конечно, но зато в ней не увязнешь. Однако есть на ней несколько действительно жёстких мест, которые явно под силу не каждому джипу - за них и берёт деньги Иван:
25.
Вот и следующая станция - разъезд 42 километр с вокзальчиком и странной будкой, похожей на тумбу для театральных афиш. Здесь же, обратите внимание, заканчиваются провода на столбах:
26.
Над разъездом нависает козловый кран - как я понимаю, наследство одной из попыток реанимировать дорогу: на верхней её части поставили крест, но здесь руду Чины и Удокана планировалось перегружать с автомобилей в вагоны. Как я понимаю, и теперь "Удоканская медь" и "Забайкалстальинвест" собираются восстанавливать линию только досюда.
27.
42 километр впечатляет хаосом каких-то явно не разрушенных, а так и не достроенных конструкций:
28.
Здесь же, на 42 километре, и первое действительно впечатляющее сооружение линии - самые длинные на ней галерея и мост:
29.
Особую зрелищность им придаёт остроконечная трёхглавая гора:
30.
Цифры на галерее - не дата, а автограф "Мостоотряда-97":
30а.

По пути туда мы промчались мимо этого места - с остановками у Ивана было бы уже 30 тысяч. На обратном же пути Два Александра согласились высадить нас выше моста и подождать, пока мы пройдём его пешком. От галереи - впечатляющий вид Чарской котловины:
31.
Сама же галерея впечатляет ступенчатой стеной:
32.
Если на Кругобайкалке есть Итальянские стенки, здесь - скорее, Вавилонская стена:
33.
Мост длиной 347 метров имеет характерную конструкцию "на спичках", отработанную ещё на БАМовских перевалах:
34.
По тем мостам, однако, не пройти пешком:
35.
Но как бы не больше, чем размах моста, впечатляет тщедушность ручейка под ним - выше русло ещё просматривается:
36.
А ниже вода просто уходит под камни. И тем не менее порой тут случаются паводки, размывшие эту огромную падь:
37.
За мостом - путейский шкаф, сейчас уже не понять, связевой или релейный:
38.
Сам мост расположен буквально в 1,5 километрах от карьера Удоканского ГМК, который буквально за той горой:
39.
После моста дорога резко взмывает по склону:
40.
Меж двух островерхих гор (причём правая видна только снизу, а левая только сверху) начинается каньон речки Нижний Ингамакит:
41.
Извините за избыточность кадров - просто очень уж тут красиво!
42.
Правее видны насыпи вдоль склона, по складкам которого петляют пути:
43.
Из-за ближних гор Удокана выступает Кодар, похожий на окаменевшую стену пламени:
44.
На его фоне - городок строителей УдоГМК и сотовая вышка: сигнал она даёт такой, что вот этот пост я бы смог написать по горячим следам, сидя с ноутом на камне среди лиственниц.
46.
Ингамакитский каньон же только начинается:
46.
Примерно досюда мы успели дойти сверху пешком, прежде чем услышали рёв "Камаза" Двух Александров:
47.
Вдоль путей - какие-то железяки и остатки защитных стенок, в горизонтальном состоянии похожих на платформы. Пути покорёжены смещением грунта в насыпи:
48.
Будка у путей явно стояла на БАМе вокзалом первого поколения, или скорее "личиночной стадии", пока не построили что-то посолиднее. По крайней мере, именно такое сооружение было на чёрно-белой фотографии из поста про Тынду.
49.
На обрыве - крест. Обычно такие напоминают о сталинских политзаключённых, но тут дорога прокладывалась гораздо позже не то что смерти Вождя, а даже распада Союза. Говорят, на строительстве были несчастные случаи с жертвами - может, это в память о них? А скорее - просто о водителе какого-нибудь сорвавшегося в пропасть УАЗа...
50.
Кодар окончательно уходит за поворот, но самые красивые места Чины лишь начинаются!
51.
И по ним пойдём в следующей части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: природа злободневное транспорт дорожное Забайкальский край индустриальный гигант Каларский район |
Чарские пески. Суровая сибирская пустыня |
Самая необычная, самая известная, самая доступная природная достопримечательность БАМии - Чарские пески, что лежат в нескольких километрах от станции Новая Чара, куда в прошлой части мы доехали по красивейшим и высочайшим местам Байкало-Амурской магистрали. Шутка ли - на вечной мерзлоте, среди лиственничной тайги, хлюпающих болот и неприступных гор лежат золотистые барханы настоящей песчаной пустыни!
Как переводится чарующее название - единого мнения нет, но оно идеально подходит этим столь же прекрасным, сколь и жестоким местам на самом севере Забайкальского края. Чара - это река, крупнейший приток Олёкмы, по длине (851км), площади бассейна (87,6 тыс. км²) и расходу воды (638 м³/с) одного масштаба с Западной Двиной. БАМ, однако, сближается с Чарой в самых верховьях, где реку можно преодолеть, конечно, не вброд, но по крайней мере на машине типа "Урала". Здесь вытянулась на 120 километров Чарская котловина между хребтов Удокан и Кодар, запечатлённых на прошлом и следующем кадрах соответственно.
2.
Оба они - часть Станового нагорья, но во всей России сложно найти два хребта, сильнее не похожих друг на друга. Переполненный рудами угловатый плосковершинный Удокан похож на гигантский громоздкий сундук с несметными сокровищами, а изломанный и рогатый Кодар, скрывающий в недрах огромные залежи урана - на окаменевшее пламя. По Удокану проложены железные дороги, Кодар же стоит без предгорий неприступной отвесной стеной. На Удокан ездят гастарбайтеры строить горно-обогатительные комбинаты, а на Кодар - туристы упиваться своей силой и элитарностью. Не без причин: ещё Кодар называют Читинскими Альпами и Сибирскими Гималаями, и есть на нём скалы и склоны, в 50-градусный ветреный мороз достойные и Монблана, и Эвереста. И хотя вытянут хребет на 200 километров, Кодаром "по умолчанию" слывёт долина горной речки Средний Сакукан, вдоль которой в конце 1940-х годов зэки недолговечного Борского лагеря пробили автодорогу для вывоза урановых руд. Долина Сакукана похожа на ствол, от которого расходятся по горам ветки туристических маршрутов, ну а в Чарских песках - её корни.
3.
Новая Чара - она потому и новая, что в 18 километрах от неё есть и "просто" Чара, в обиходе - конечно же, Старая Чара. Крупное для столь глухих мест село (1,5 тыс. жителей) начиналось в 1932 году как фактория для кочевников-эвенков. В 1938 году она стала центром Каларского района, а в 1947 в ней был обустроен аэропорт Борлага, через который и в наши дни в основном попадают сюда из Читы: по земле туда можно добраться лишь через Амурскую или Иркутскую области, и займёт такой путь трое суток. А вот станцию с депо устроить оказалось сподручнее чуть в стороне и на другом берегу, а потому теперь в Каларском районе две Чары. Восточнее стоят ещё два национальных посёлка с непроизносимыми названиями - ближняя якутская Кюсть-Кемда, основанная в 1917 году переселенцем Люксугуном, и дальняя эвенкийская Чапа-Олого, знаменитая Чарским горячим ключом на озере Арбакалир - тамошних оленеводов мы встретили на Удокане. Однако в тех деревнях - по полторы-две сотни жителей, и они - где-то там, за тайгой. Две Чары же кажутся единым целым, ПАЗик между ними бегает каждые полтора-два часа, а такси за 18 километров обойдётся в 400-500 рублей - по северным меркам даром...
4.
Что с автобуса в 2020-м, что с такси в 2021-м я успел приметить в Старой Чаре немало интересного: саму Чару, по мосту через которую сюда приводит дорога, довольно симпатичный деревянный аэровокзал почти сразу за мостом, и главную на два посёлка церковь Марии Магдалины (1998-2002). Но в оба приезда с утра у нас не было времени походить по селу, а возвращались мы продрогшими, промокшими и затемно.
5.
Новая Чара с первых лет своего существования стала экономическим центром Каларского района: в 1989 году в ней жило 8,7 тыс. человек против 4 тыс. в Старой Чаре. И хотя оба посёлка с тех пор уполовинились, сама их пропорция осталась неизменной - 3,7 и 1,5 тыс. жителей соответственно. Ведь до 2020 года райцентром оставалась именно Старая Чара, которую пока ещё не успели покинуть большинство районных учреждений. Например, МЧС, куда и пошли мы регистрироваться, сойдя с автобуса между монументальной деревянной школой и скромной метеостанцией, где как раз запускали зонд.
6.
Высокими заборами, пологими крышами, песчаными улицами, холодным ярким солнцем Старая Чара более всего напомнила мне райцентры Монголии вроде Сагсая или Цэнгэла.
7.
А о том, что по мерками БАМии Чара действительно старая, напоминает обилие мощных деревянных зданий, воздвигнутых явно за 20-30-40 лет до Стройки Века.
8.
Чара вытянута на 3 километра от аэровокзала и въезда до начала дороги к Кодару. Туристов провожает присёлок Лябич у озерца в старице то ли Чары-реки, то ли впадающего в неё Сакукана.
9.
Над его избами, стоит показаться тут чужакам, встаёт купол густого собачьего лая. Каждая деталь здесь так и вопиет, что мы на опушке бескрайней, как море, тайги. Больше всего своей атмосферой Лябич напоминает глухие рыбацкие деревеньки на холодных берегах:
10.
Да и воды вокруг него не сильно меньше, чем в море: дно Чарской котловины - это в первую очередь болота.
11.
Дорогу сквозь них накатали геологи Удоканской экспедиции, которая базировалась в Чаре в 1971-94 годах. Лагерная дорога подходит дальше - центром Ермаковского рудоуправления, в 1949-51 годах официально (для конспирации) искавшего на Кодаре свинец, а по факту добывавшего уран в Мраморном ущелье, был посёлок Синельга за песками. Дорога ведёт вон туда, в хорошо заметные ворота Сакуканского ущелья, за которыми так и манит оскалившаяся вершина:
12.
Но планируя поездку на БАМ, я счёл, что Кодар и Чарские пески - это достопримечательности для разных сезонов. Ведь пустыня расположена на стрелке Сакукана и Чары, а потому добрая половина путевых заметок, что я находил в интернете, повествовали о том, как люди ехали-ехали через пол-России, а в итоге упёрлись в непроходимый брод. После чего в лучшем случае раскошелились на заброску "Уралом" (а это тысяч 20), а в худшем и вовсе уехали ни с чем. Так что надёжнее всего идти на Чарские пески маловодной осенью, вот только в сентябре даже в Новой Чаре по ночам уже был явный минус, а стало быть в горах нас ждал бы уже настоящий мороз. Поход на Кодар я отложил до лета следующего года, а в 2020-м Сибирские Гималаи представляли для нас лишь величественный фон:
13.
Расчёт оправдался: вода Сакукана была ледяной, но в глубину - даже не по колено:
14.
Течение, однако, даже так весьма ощутимое, а многочисленные острова и широкая пойма с вывороченными пнями напоминают, что в иные месяцы и годы Сакукан - вполне серьёзная, глубокая и быстрая река:
15.
От Лябича до начала песков - 5-6 километров, а вот как их пройти - есть как минимум два варианта. Первый поворот налево от Кодарской дороги находится буквально в полукилометре от лябичских околиц и быстро выводит на брод, но вот за бродом придётся порядочно помесить болота. Второй поворот в 4 километрах от Лябича, у начала Сакуканских проток, выводит через другой брод почти что сразу к пескам, вот только в паре мест на самой Кодарской дороге грязища такая, что после хорошего дождя пройдёт по ней не каждый вездеход. По совету местного МЧСника мы предпочли первый путь:
16.
Но в общем стоит быть морально готовым к тому, что до Чарских песков не дойти с сухими ногами:
17.
Бонус ближнего брода - в том, что от тропы можно завернуть к тихим лесным озёрам, над которыми кружатся многочисленные цапли:
18.
Но главное животное в этих краях - мошкА, чрезвычайно обильная и неимоверно злобная. Шутка ли: мы приехали сюда в сентябре, когда на тихих речках успел намёрзнуть и сойти первый лёд, с поезда сошли по лёгкому морозцу... и тем не менее, стоило солнышку пригреть, как летучая нечисть атаковала нас уже на околице Чары! По словам МЧСника, мошки здесь донимают даже по снегу, и окончательно сходят на нет лишь тогда, когда мороз становится круглосуточным.
19.
От Старой Чары мы шли пару часов, любуясь золотистым редкостойным лиственничным лесом. И вот очевидно ли, что именно такой пейзаж - с большим отрывом самый распространённый в России?
20.
Тонкие стволы, густой подлесок, сошедшие по осени черника и брусника, замшелые ветки, горы вскрывшихся шишек - ну вот какие тут могут быть пески?!
21.
И как-то совсем незаметно, из проплешин в траве и кустах, в таёжный пейзаж вдруг вклиниваются длинные дюны:
22.
Ещё минут десять ходьбы - и уже напротив, тайга вклинивается в пески редкими рощицами:
23.
На краю пустыни растёт скудная трава:
24.
Но с каждым шагом вглубь песков её становится всё меньше и меньше:
25.
На песке - следы не верблюдов, ящериц и фаланг, а северных оленей, лис и горностаев:
26.
Те же кустики, что и в окрестной тайге, кажутся колючками и суккулентами:
27.
В редких цветах чудится 1000 и 1 ночь:
28.
И тополёк смотрится саксаулом:
29.
Тут стоит сказать, что настоящих песчаных пустынь, знакомых по школьному учебнику географии, в мире вообще-то немного. Даже в Средней Азии пустыня в основном глиняная, а пески известны поимённо - как Большие и Малые Барсуки в Южном Казахстане, мангышлакский Сенек или семиреченский Айгайкум. И там, где тайга не видна, да на фото, не передающих холод, Кодар легко спутать с Тянь-Шанем:
30.
Но до чего же сюрреалистический вид - пустыня на фоне лиственниц, холодных гор и ярких красок сибирской осени!
31.
И совсем не очевидно, что в Сибири немногим меньше песка, чем в Туркестане: под болотами Югории скрыта натуральная Сахара, а одно из многочисленных чудес Якутии - приречные тукуланы, имеющие свои отличия от привычных барханов и дюн. Пески мелькают за тайгой и на спуске в Чарскую котловину с Муруринского перевала (см. прошлую часть) - этот массив здесь не единственный...
32.
...однако - с большим отрывом крупнейший: на спутниковой карте гигантский жёлтый овал тянется на 9,5 километров вдоль Чары с юго-запада на северо-восток при ширине до 3,5 километров. Очерёдность сторон света не случайна - именно в этом направлении перевеваемые ветрами Чарские пески медленно и неуклонно движутся.
33.
Как появились они - у науки нет единого мнения. Безусловно, что когда-то на этом месте был огромный ледник, который таял, таял, таял и наконец превратился в грязную лужу, или, вернее, озеро, в которое стеклась его обильная морена. Потом и оно высохло, причём, видимо, довольно стремительно, и в здешнем климате с лютыми малоснежными зимами и секущей позёмкой пески перевевались ветрами быстрее, чем на них могли взойти леса. Объяснение простое и логичное, но неполное - подобные процессы происходили во множестве мест по обе стороны Берингова пролива, однако только здесь породили пустыню.
34.
Более того, Чарские пески не похожи и на якутские тукуланы: те ползут рогами назад, в то время как здесь - самые классические барханы с рогами по направлению ветра. На один из них и полезли мы по крутому подветренному склону:
35.
Высота здешних барханов невелика, не сравнить с дюнами Куршской косы, а вот в длину они тянутся на 1,5-2 километра. На бархане ветер разогнал мошкару, и рассудив, что кругом те же пески, мы решили дальше не ходить, а полюбоваться Чарой с гребня:
36.
Слева - грузный Удокан, под которым ездят БАМовские поезда и стоит Новая Чара. Обратите внимание на дымку: Чарские пески не так зрелищны без своего обрамления, а вот оно-то летом частом скрывается в густом дыму лесных пожаров.
37.
Справа - зубчатая стена Кодара:
38.
Мы устроились буквально на траверзе Сакуканской долины:
39.
Наш бархан кажет на Зарод (1365м) - одинокую столовую гору. Название её иногда переводят как Стог с эвенкийского, но на самом деле зарод - вполне русское слово, обозначающее опору для сена. К Зароду раскрывается долина следующей реки Апсат, по которой названо и открытое в 1949 году за горой угольное месторождение. На юге Забайкалья есть крупные разрезы вроде Харанора или Уртуя, но Апсат крупнее их всех, вместе взятых - и всё же разработка его в этих труднодоступных местах началась лишь с 2012 года.
40.
За спиной - пространство Чарской котловины, и в отсутствии гор граница песка и тайги выглядит ещё страннее. Тут в девственный пейзаж вклинивается Старая Чара:
41.
Над головой - самолёты, снующие здесь довольно обильно. Забравшись в самое сердце песков, можно обнаружить обломки невесть когда разбившегося вертолёта Ми-8.
41а.

Самолёты садятся в Старой Чаре, на тот самый аэродром Ермаковского рудоуправления. В другие регионы из Новой Чары проще уехать на поезде, но аэропорт - главные ворота отсюда в Читу:
42.
Впереди - пологий наветренный склон бархана...
43.
...и бесплодные летучие пески, уходящие за горизонт:
44.
За песками, на Верхнем Сакукане, можно найти руины Синельги - центрального посёлка Борлага. Его основатель вовсе не был фанатом "Угрюм-реки" Вячеслава Шишкова - популярное эвенкийское женское имя дословно означает Снежная и давалось девочкам, рождённым в пургу. Но идти по пескам тяжело, да и сохранилось на Синельге немногое, особенно по сравнению с лагерями Среднего Сакукана.
45.
Молодые лиственницы налились закатным светом - значит, пора уходить:
46.
По накатанной дороге со следами "ураловых" колёс, впрочем, мы завернули на Алёнушку - родниковое озерцо в ложбине под барханом:
47.
Ведь если есть пустыня - должен быть и оазис! Алёнушка - редкий источник пресной воды в глубине Чарских песков, а потому здесь отдыхают местные и стоят туристические группы. В нашем случае - симпатичная компания из Читы, спустившаяся с Кодара и коротавшая последний вечер перед самолётом. Нас они почти силой заставили доесть остатки обеда, который сварили с избытком:
48.
Вода Алёнушки холодна, но всё же усилием воли в ней можно даже искупаться - и это немало, если учесть, что недавно с озера сошёл первый лёд:
49.
У Алёнушки мы задержались до заката, покрывшего пустыню рисунком теней:
50.
Там, в песках Туркестана, Аравии или Магриба это значило бы, что через полчаса будет кромешная тьма. Но мы на широте Твери, а стало быть закатом можно любоваться долго:
51.
В сумерках мы вновь прошли брод Сакукана, а в посёлок дохлюпали мокрыми ботинками затемно, и через магазин, продавщицы которого задержались на полчаса дольше обычного, вызвали такси до Новой Чары.
52.
Кодар же крепко засел у меня в памяти, и год спустя мы вернулись сюда уже в августе. Но тот поход кончился провалом - мы дошли к подножью рогатой горы, где старая изба ГМС в отсутствие метеостанции стала приютом туристов. Там нас застигли дожди, перекрывшие броды на горных речках, и, так и не сходив в намеченные радиалки к Мраморному ущелью, Угловому озеру и леднику Азаровой, мы отправились вниз с группой более сильных туристов, чья экипировка позволяла наводить переправы. Но даже отсюда Читинские Альпы безумно красивы, а в глубине ущелья я понял, что это просто самые красивые горы, которые я в своей жизни видел: как Памир, но только с благородной северной растительностью. Рано или поздно я буду здесь и в третий раз. И, если ещё останусь к тому времени в Живом Журнале, тогда же опубликую отснятое в 2021-м - для полноценного рассказа про место, а не про поход, мне пока явно не хватает материала. Да и в любом случае никто и никогда не расскажет про Кодар лучше Фила Леопарда....
53.
Но из Чары мы сделали в 2021 году не один, а два похода: на Удокан поднимается самая высокогорная, самая сложная, возможно, и самая красивая, но совершенно заброшенная и позабытая Чинейская железная дорога. О которой - в следующих 3 частях.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа транспорт дорожное Забайкальский край деревянное Каларский район |
Перевал Мурурин. Исправление к прошлой части. |
Как поправил меня  mikka, в прошлой части я неверно указал расположение перевала Мурурин, высшей точки действующих Российских железных дорог. Он находится не к западу от одноимённого разъезда, а к востоку от него, так что примерно с вершины перевала или с последнего подъёма к ней снят вот этот вид на озеро Читканда.
mikka, в прошлой части я неверно указал расположение перевала Мурурин, высшей точки действующих Российских железных дорог. Он находится не к западу от одноимённого разъезда, а к востоку от него, так что примерно с вершины перевала или с последнего подъёма к ней снят вот этот вид на озеро Читканда.

Ну и до кучи, в Хани первый поезд пришёл всё же позже (1982), чем в Беркакит (1979), так что он не является первой станцией Якутии.
Исправленный пост - здесь, туда же и комментарии пишите.
 mikka, в прошлой части я неверно указал расположение перевала Мурурин, высшей точки действующих Российских железных дорог. Он находится не к западу от одноимённого разъезда, а к востоку от него, так что примерно с вершины перевала или с последнего подъёма к ней снят вот этот вид на озеро Читканда.
mikka, в прошлой части я неверно указал расположение перевала Мурурин, высшей точки действующих Российских железных дорог. Он находится не к западу от одноимённого разъезда, а к востоку от него, так что примерно с вершины перевала или с последнего подъёма к ней снят вот этот вид на озеро Читканда.Ну и до кучи, в Хани первый поезд пришёл всё же позже (1982), чем в Беркакит (1979), так что он не является первой станцией Якутии.
Исправленный пост - здесь, туда же и комментарии пишите.
|
Метки: дорожное |
БАМ! Часть 8: от Олёкмы до Новой Чары, или Вершина БАМа |
Долинами и перевалами Станового нагорья, по большей части в Каларском районе Забайкальского края, проходит самая суровая, самая холодная, самая дикая часть Байкало-Амурской магистрали, так называемый Горный БАМ. Он, в свою очередь, часть Западного БАМа, где, в отличие от БАМа Восточного, ходит не один пассажирский поезд, а два! Вернее, полтора: с востока на запад их графики совпадают, а потому получается, что проехать по красивейшим местам Байкало-Амурской магистрали при свете дня можно только с запада на восток, да и то через день в летнее время. В сентябре 2020 года сумерки застигли нас на "ефремовской станции" Юктали, куда мы доехали в прошлой части из Тынды. Что скрывала эта темнота - я увидел лишь год без недели спустя, но всё же не буду нарушать логику своего повествования. Обратив время вспять, продолжим путь с востока на запад: от Олёкмы через высшую точку российских железных дорог, перевал Мурурин, в пантюркистскую Новую Чару.
Олёкма - одна из тех рек, чьи названия мы узнаём из курса школьной географии. Второй по расходу воды (1950 м³/с) приток Лены после совсем уж грандиозного Алдана, это река масштабов Иртыша или Днепра. Ещё более важное место Олёкма занимает в физической географии: начинаясь на хребте со звучным названием Олёкминский Становик, она прорезает горные цепи в глубине Сибири, разделяя Становой хребет и Становое нагорье. В своих верховьях на трассе БАМа она уже довольно велика... но я предательски проспал свой шанс её увидеть. БАМ выходит к берегу Олёкмы после станции Юктали в устье Нюкжи, где мы закончили прошлую часть, вскоре прыгает 5-пролётным мостом с правого берега на левый, а отходить в сторону начинает после станции Олёкма в двух часах пути от Юкталей, которую в 2020 я проезжал затемно, а в 2021 меня после неё просто сморил сон. Так что вместо самой Олёкмы я увидел лишь сопки Станового хребта над её берегом, в который упирается перспектива станции на восток:
2.
Вокзал мы застали как раз в процессе потери лица и превращения в сайдинговый параллелепипед - в 2020-м, пока я спал, верная Оля не поленилась сфотографировать его в темноте, ещё не зная, что запечатлеет уходящую натуру:
2а.
Олёкма - из станций-сирот без шефства какого-либо региона. Впрочем, у меня есть стойкие подозрения, что о шефстве многих станций мы просто не знаем - упоминания о том, кто строил Лопчу, Чильчи или Дугду просто не попали в те книги о БАМе, эхо информации которых так и гуляет по публицистике, википедии и блогам. Вот реально - кто мог построить такой посёлок, кроме Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, на худой конец, Кировской области или Республики Коми?
3.
Разве что Хакасия - вот в этой статье вскользь упоминается, что её героиня, уникальный для БАМа специалист по погрузке железной руды на экспорт, приехала сюда в 1980-х годах из Абакана.
4.
Руда здесь из Куранахского ильменито-титаномагнетитового месторождения, за время освоения которого с 1996 года две компании уже обанкротились, а третья только-только зашла. В России такую руду перерабатывают только в Новокузнецке, так что проще и выгоднее получается везти её отсюда прямиком в Китай. Олёкме, однако, что-то с этого явно перепадает: неожиданно качественные граффити на подсобках, конечно, жизнь горняка и путейца не улучшат, но для зажиточности они и не причина, а следствие.
5.
Олёкму я проспал ещё и потому, что принял за её верховья реку Хани, вверх вдоль которой путь ведёт дальше вглубь Станового нагорья:
6.
Где-то через час выводя на станцию Хани. Здесь на три десятка километров (из четырёх с лишним тысяч) Байкало-Амурская магистраль заскакивает в Якутию вдоль самой её границы.
7.
Логично предположить, что Якутия её и строила, но оформление вокзала наводит на мысль о шефстве Читинской области: поверх сайдинга (под которым ничего особого интересного не было) висит мемориальная доска декабристу Михаилу Лунину, умершему в 1849 году в Акатуйской тюрьме. Попал он туда вполне логично, так как даже среди декабристов был известен как непримиримый смутьян. Ещё в молодости он принял католичество, сочтя его более вольнодумной конфессией, а в 1816 году вместе с ещё несколькими заговорщиками готовил покушение на царя. Причём весьма изощрённое: Лунин планировал сделать то же, что в 1918 году большевики в Ипатьевском доме - вырезать всю царскую семью. Но только - чтобы принять за это казнь, после которой Союз Спасения весь в белом въедет строить новую страну на обломках самовластия. В событиях на Сенатской площади Михаил Сергеевич не участвовал, так как в это время был на военной службе в Польше, и именно за подготовку того заговора отправился в Сибирь. Последним арестованный, освободился он одним из первых, но вскоре снова сел за агитационные письма из Сибири - и на этот раз после ареста выйти на волю Лунину было не суждено. Глядя на мемориальную доску, логично было бы предположить, что его сослали в какой-нибудь Верхоянск или Среднеколымск, но нет - всё происходило на Нерчинских рудниках в пределах Забайкальского края.
7а.
Хани вообще расположена причудливо - мы сейчас в Якутии, горы на заднем плане - уже в Амурской области, однако её граница с Забайкальским краем подходит километров через 10.
8.
Хани - по БАМовским меркам посёлок немаленький (900 жителей), но три пятиэтажки странно смотрятся среди дикой стихии. Они напоминают балкИ, забытые на стаявшем зимнике:
8а.

На станции со мной разговорился выходивший здесь мужик да показал на скалы у вершины сопки: "Герб Якутии знаешь? Ну лошадь такая! Вот приглядись - она! А про партизана Лазо слышал? Тоже приглядись - вон, крадётся!" - по его словам, у этих скал есть полсотни народных названий.
9.
Хани - ещё и последняя станция Дальневосточной железной дороги, которая здесь смыкается не с Забайкальской (охватывающей солидный кусок Транссиба), а сразу с Восточно-Сибирской. Поезд едет вдоль Хани-реки, уже в Забайкальском крае минуя её исток - пожалуй, красивейшее на трассе БАМа озеро Читканда:
10.
Становое нагорье представляет собой великий водораздел Лены, Енисея и Амура, вот только само оно - скорее конфедерация самодостаточных хребтов, очень непохожих друг на друга. За Олёкмой начинается Удокан (до 2541м) - хребет грузный, плосковерхий, местами откровенно мрачный...
11.
...но фантастически богатый полезными ископаемыми - в геологии это называют не иначе как Удоканский феномен. Примерно на десяти тысячах квадратных километров сосредоточены огромные месторождения титаномагнетитовых руд (Чина, Куранах), медных песков (Удокан), железистых кварцитов (Чара), редкоземельных металлов (Катуга), угля (Читканда), самоцветов вроде чароита, а на соседнем Кодаре, помимо угля (Апсат) - ещё и уран... С юга в Удокан упирается Байкальский рифт зарождающегося океана, а очертания крутых гор без вершин сразу заставляют вспомнить Хибины, также сказочно богатые на минералы и руды.
12.
Железная дорога тем временем только набирает высоту, и открыв окошко в вагонном туалете, я снимал фантастический, совершенно вертолётный вид на Читканду:
13.
Да и дальше за окнами вагона плывут те самые виды, которые мы помним из детских энциклопедий около подписи "Сибирь":
14.
Кадры выше сделаны с Муруринского перевала (1323м) - высшей точки Российских железных дорог. Ещё выше на тот же Удокан забралась Чинейская железная дорога, но она заброшена, а рассказ о ней - дело не на один пост. И в общем в абсолютных цифрах 1323 метра - это не так уж и много. Даже в бывшем СССР гораздо выше проложены железные дороги Армении - самой высокогорной станцией бывшего Союза можно считать Сотк (2066м) над Севаном, у золотых рудников и недавно придвинувшейся линии фронта. В мире километровыми высотами и вовсе никого не удивишь... но суровый климат словно добавляет горам пару-тройку лишних километров - за вычетом кислородного голодания условия здесь немногим лучше, чем на Цинхай-Тибетской магистрали Китая или высокогорных линиях Боливии и Перу.
15
А определённую путаницу в Вершину БАМа вносит разъезд Мурурин - он расположен существенно западнее перевала, и с высотой около 1210м лишь второй в стране после АЯМовского разъезда Таёжный (1240м). Мощная петля спускается к нему:
16.
Вокруг - всё те же вертолётные виды гольцов:
17.
- Куда тропу мнёте?
- Идём к гольцу Ямбуй, знаешь такой?
- Ямбокай? Разве ты не знаешь - Ямбокай место шибко плохое!
Геолог Григорий Федосеев, как и упомянутый в прошлой части Иван Ефремов, стал культовым писателем бамовцев. Причём не фантастом-философом, а реалистом: его приключенческие романы - одновременно и нон-фикшен. Со своим проводником - эвенком Улукитканом он ходил куда восточнее, в верховья Алдана у границы Якутии с Хабаровском краем, но пейзажи и сам дух таинственной, страшной, манящей тайги здесь совершенно такой же.
18.
Вот и сам разъезд Мурурин - виды вдоль путей я снимал из последнего тамбура, так что в нашем рассказе они - как из кабины локомотива:
19.
Мимо проплывает, как облако по небу, Щучье озеро. Обратите внимание на рельсы - у нас с Ольгой не сговариваясь было ощущение, будто дорога здесь лишь набирает высоту на запад:
20.
По ощущениям вершина перевала где-то здесь, за мостом через Правый Мурурин, опоры которого видны на вводном кадре, но как уже говорилось - это ощущение обманчиво: мы спустились от высшей точки на две с половиной сотни метров.
21.
Справа на кадре выше открывается простор Чарской котловины.
22.
За ней из синих далей надвигается грозовым фронтом следующий хребет Кодар:
23.
Тайга, ненадолго сменившаяся лесотундрой, вновь поднимается к вагонным окнам:
24.
Откуда-то вдруг появляется небольшая станция Икабья с, пожалуй, самым некрасивым (если не считать уделанных в 21 веке) вокзалом БАМа:
25.
Ну а кто в позднем СССР мог застолбиться выше всех? Что за вопрос, обижаешь - конечно же, Грузия! Впрочем, здесь сыны Сакартвело обошлись без явных национальных элементов, кроме разве что облицовки какими-нибудь кавказскими камнями да решётки в виде кольчуги на груди князя Мхаргрдзели:
25а.

С вокзала видны отреновированная школа, двухэтажки и печально обшарпанный ТОЦ (торгово-общественный центр), грузинские панно на фасаде которого разглядеть с поезда нельзя, а с короткой стоянки - рискованно:
26.
Транспорт встречающих - под стать суровому краю. От Икабьи километров 17 до Чапо-Олого - "столицы" эвенков Забайкальского края, и именно оттуда вышли кочевать оленеводы, встреченные нами под Чиной. От села ещё километров двадцать без дорог до озера Арбакалир у подножья Кодара, где парит даже в лютые морозы Чарский горячий ключ.
27.
От Хани до Икабьи - 2,5 часа пути, а дальше нет и 40 минут до Новой Чары. Высокогорье кончилось, но красоты остались: вот за тайгой то и дело мелькают золотистые пески. Знаменитая Чарская пустыня, о которой будет отдельный пост - лишь крупнейший песчаный массив этой котловины, но далеко не единственный.
28.
А вот видна столовая гора Зарод (1365м), близ которой с 2012 году добывают уголь - разведанное в 1949 году Апсатское месторождение крупнее всех прочих угольных разрезов Забайкалья, вместе взятых. За Зародом врезается в Кодарские горы долина реки Апсат, а гору в её перспективе хочется принять за высочайший на Кодаре и всём Становом нагорье пик БАМ (3072м) с его характерной расщелиной, но это вряд ли он.
29.
Как заходящий на посадку самолёт, поезд спускается в котловину:
30.
Вернее, поезд, с которого сняты эти кадры, из котловины, наоборот, поднимался. Спустились же мы сюда ночным поездом и, сойдя на перрон Новой Чары, первым делом почувствовали холод - ночью в середине сентября тут был заметный минус.
31.
Новая Чара - крупный по меркам БАМии ПГТ (3,7 тыс. жителей), фактический, а с 2020 года и административный центр Каларского района. Крупнейший в Забайкальском крае по площади и один из последних по населению (7,6 тыс. чел), от остального региона этот район обособлен посильнее, чем Агинский Бурятский округ. Обособлен как минимум логистически: из Читы сюда можно попасть лишь самолётом за 13 тыс. рублей, а путь по земле через Иркутскую или Амурскую области растянется на трое суток. До "стройки века" жизнь на Каларе едва теплилась, и была представлена в основном эвенками в оленеводческих совхозах - в 1932-38 годах Каларский район был ядром Витимо-Олёкминского эвенкийского национального округа, и здесь планировалось расположить его центр - село Усть-Калакан. Сюда, к найденным геологами в конце 1940-х годов удоканской меди, кодарскому урану и апсатскому углю, и тянули БАМ в первую очередь, но тянуть было явно ещё далеко... Разработку урана в свете начавшейся ядерной гонки решили осваивать, не дожидаясь железной дороги: у подножья Кодара вырос Борлаг, от которого осталась Чара - крупное село, разросшееся у аэропорта. Но аэропорт оказался в стороне от трассы БАМа, станцию на которой в 1979 году назвали Новой Чарой. Строил её Казахстан, а заселяли вперемешку казахстанцы и гураны (см. Нерчинск), для которых Каларщина стала "своим" Крайним Севером, куда не так далеко ехать за длинным рублём. Теперь о былом напоминает стела "Казахстан - БАМу" и тепловоз-памятник ТЭ3 вроде того, что пришёл сюда первым в 1983 году.
32.
Вокзал Новой Чары - один из самых интересных на БАМе:
33.
Хотя и тоже порядком изменившийся в лице - кадры выше сняты в 2020 году, а в 2021 здание стало таким:
34.
Пассажирский зал, очертаниями, видимо, символизирующий грандиозную палатку первостроителя, как бы прорезает длинное здание, на 4/5 занятое всякими путейскими службами. Внутренний вид впечатляет, а что мы покинули ДВЖД - в 2020 году было видно невооружённым глазом: ВСЖД тогда заметно сопротивлялась "театру безопасности", и на вокзал был почти свободный вход сквозь равнодушно попискивающую рамку. В 2021 охранники всё-таки начали просить снять рюкзак и выложить из карманов мелочь, но весь их вид при этом говорил о том, как сильно они не хотят это делать. Другой переменой оказались вахтовики - они на БАМе в принципе составляют 9/10 пассажирского трафика, вот только с 2020 по 2021 год у них в Новой Чаре случился, натурально, демографический взрыв: пустынный прежде зал был заполнен среднеазиатским людом такого вида, будто вербовали их прямо из стихийных соляных шахт, выдолбленных кайлом в горах Гиссара. В вокзальный туалет кто-то принёс пластиковое подобие кувшина, а двое молодых парней молились лбами в землю, обустроив мечеть в уголке с намазлыками из картонных коробок. Это при том, что подавляющее большинство вахты в этих краях - славяне из небогатых среднерусских областей и из степей того же Забайкалья. Как Новая Чара стала БАМовским форпостом пантюркизма - я расскажу чуть позже.
35.
Украшения вокзала - деревянные панно с казахскими сюжетами:
36.
А на втором ярусе по полу тянется сама "трасса БАМа" с лестницей вместо ветки к Сковородино:
37.
В сувенирном киоске - эвенкийские куклы и кумаланы (круглые коврики из оленьих шкур), да, наверное, чароит. Который всё равно от здешних карьеров до ларька проделал путь через камнерезные мастерские на других концах страны:
38.
За путями - депо, а над станцией нависает рогатый Кодар. С эвенкийского это название часто переводят как "стена", что в общем неправильно - стен в мире оленевода не было, и это слово на самом деле значит "скала". Неверный перевод, однако, куда точнее раскрывает суть - Сибирские Гималаи стоят без предгорий, почти отвесно вздымаясь прямо от плоского дна котловины. Напротив Чары, за полосой топких болот и барханами Чарских песков, хорошо видно ущелье речки Средний Сакукан, вдоль которой уходит старая дорога к урановым рудникам Борлага. Она представляет собой мощный ствол, от которого расходятся ветки туристических троп. По некоторым из них, за вычетом бродов, можно гулять, словно в парке. Другие ведут к склонам высочайших категорий, в 50-градусный мороз достойным если не К2, то настоящих Гималаев.
39.
Но приехав в сентябре, мы понимали, что нам туда нельзя: если даже в котловине ночью минус, то в горах может быть уже настоящий мороз. Год спустя, уже в августе, мы снова отправились на Кодар, и хотя тот поход закончился неудачей, для меня Кодар стал красивейшими горами, что я видел.
40.
Наискось от вокзала - автобусная остановка, с которой переполненный ПАЗик курсирует несколько раз в день в Старую Чару, из которой начинаются маршруты что к Сакукану, что к Чарским пескам.
41.
Интересно, что, несмотря на участие казахстанцев, в топонимике они представлены лишь Карагандинской и Павлодарской улицами в частном секторе старой "времянки". У вокзала проходит улица Игоря Молдаванова, названная в честь Героя России, который погиб в 1995 году в Чечен-Ауле, когда отвлёк на себя огонь боевиков, дав отступить товарищам. Главной же в посёлке можно считать перпендикулярную улицу Дружбы Народов, справа от которой мрачная облезлая поликлиника и странный обелиск на лужайке:
42.
А слева - внушительных размеров ТОЦ. От вокзала его скрывает гостиница "Кодар" с довольно симпатичным фасадом и приятным цветом ярко светящейся в темноте огромной вывески. На этом, впрочем, достоинства "Кодара" заканчиваются - двухместный номер тут обойдётся минимум в 5000 с чем-то рублей, и за эти деньги, судя по чужим отзывам, гостю предоставляется неисправная сантехника, чуть тёплая вода, постели с несвежим бельём и моющее средство вместо мыла. Тем не менее, мест в "Кодаре" нет за неделю - потому что во второй чарской гостинице "Виктория" с номерами от 500 рублей в сутки всё забронировано вперёд на два месяца.
43.
Здание ТОЦа впечатляет не столько бетонными арками, сколько оригинальными решётками на окнах. На другой его стороне обнаружился миниатюрный магазинчик, состоящий чуть менее чем полностью из товаров, которые и в Москве-то нелегко найти. Японские конфеты из рисовой муки, эко-мармелад с каких-то частных ферм на Южном Урале и даже батончики "Счастье" из кафе "Счастье" близ Исаакиевского собора, которые, по данным петербургских гидов, можно купить только там - всё это в Новой Чаре оказалось не то что не сильно дороже, а порой ещё и дешевле, чем в столицах. Такие вот парадоксы маленьких посёлков на большой магистрали, в которых нет крупных ритейлеров, зато есть много энергичных людей.
44.
Хотя в целом, как мне показалось, народ в Новой Чаре довольно тяжёлый - забайкальская угрюмость и подозрительность точно так же ощущается и здесь. Отличить на глаз, кто откуда, непросто - ведь даже из республик ехали на БАМ в основном славяне. Человек с азиатским лицом в Новой Чаре - скорее эвенк, чем казах.
45.
А вот сам пейзаж посёлка - казахстанский просто безмерно: та же пыль, простор, обшарпанные стены, и разве что здешний сентябрь по видам и температурам соответствует октябрю-ноябрю:
46.
В пошорканных ветрами многоэтажках - окна в виде юрт:
47.
Жизнь идёт своим чередом - тихая, размеренная, скучная. Самая стабильная работа - на железной дороге, самая частая мечта - уехать жить в Краснодарский край. Вернувшись из похода, мы от нескольких местных подряд узнали, что давеча на окраине Чары под машину попал человек - тут это не обыденность, как в большом городе, а редкая беда.
48.
Все дороги Новой Чары с вокзала приводят в Гостиницу - так называют местные Административно-гостиничный комплекс Удоканского ГОКа. Старый здешний анекдот: "Правительство Забайкальского края учредило медаль в честь 25-летия разговоров об освоении Удокана" - с одной стороны, тут в горах находится третье по величине месторождение меди в мире (!), по запасам и производству которой Россия не была в лидерах со времён освоения Горнозаводского Урала. С другой, состав этих руд таков, что привычными технологиями их разрабатывать невыгодно, и все эти годы параллельно со сменами собственников, учреждениями, слияниями, поглощениями и банкротствами шёл поиск оптимального технического решения. Единственным вариантом выходило построить в безлюдных горах на вечной мерзлоте не горно-обогатительный комбинат, а полноценный металлургический завод по выплавке катодной меди. В 2008 году была учреждена компания "Удоканская медь", входящая в холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова (между прочим, узбек из Чуста), но лишь в 2018 году все формальности (последняя по счёту - интересы местных эвенков) были улажены, а в активную фазу стройка перешла в 2020 году. Сейчас комбинат строят несколько тысяч человек, в том числе несколько сотен турок - местные, как водится, считают, что Турция всё это и затеяла, но как я понимаю, гости оттуда всего лишь подрядчики.
49.
И в общем, окрестности Новой Чары - самое интересное место на всём БАМе: в 2021 мы сделали отсюда целых два похода на Чинейскую железную дорогу и Кодар (второй - неудачно), а в 2020-м прогулялись одним днём к Чарским пескам.
50.
О которых - в следующей части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Две Чары и Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Сибирь природа БАМ транспорт дорожное Каларский район |
БАМ! Часть 7: из Тынды в Юктали, или от Дальнего Востока до Сибири |
Осмотрев в прошлой части "самый дальний район Москвы", теперь пойдём в Тындинский Кремль. Под этим образом я имею в виду, конечно же, станцию на перекрёстке БАМа и АЯМа, которой Тында и обязана своей столичностью. А со станции отправимся дальше на запад по Байкало-Амурской магистрали до тех рубежей, где Дальний Восток сменяется Сибирью.
По Тынде проходит граница Восточного и Западного БАМов, но сама она представляет скорее третий, Малый БАМ, уходящий от разъезда на Транссибе близ Сковородино поперёк двух магистралей. Первый поезд из Тынды отправлялся по этой линии дважды - в 1937 и 1977 годах. Старый Малый БАМ длиной 189 километров прокладывали зэки Бамлага, но в итоге он был разобран и увезён на Волжскую рокаду в 1942 году - как раз тогда, когда по планам мирного времени разросшийся посёлок Тындинский должен был получить статус города. Новый, всесоюзно-ударно-комсомольский Малый БАМ строился в 1974-85 годах, и в нём уже 439 километров - линия уходит далеко за Тынду к станции Беркакит на юге Якутии, по соседству с шахтёрским Нерюнгри, который ныне оказался крупнейшим городом всей БАМии (57 тыс. жителей). Эта линия - вполне себе часть Байкало-Амурского мира вплоть до системы "шефства" - в посте про Малый БАМ я показывал станции Беленький и Аносовская, которые строили соответственно Горьковская область и Воронежская область, к северу от Тынды станция Могот - совместное творение Ярославской области, Мордовии и Чувашии, а Золотинка с красивейшим вокзалом Малого БАМа и вовсе построена Беларусью.
2а.

Ещё одно название Малого БАМа - Южный АЯМ: закончив основные работы на Байкало-Амурской магистрали, в 1985 году Советы начали ещё более амбициозный проект Амуро-Якутской магистрали, на перспективных картах рисуя от неё ветку аж на Магадан. Но комсомольские воззвания глохли в шумах Гласности, а в 1995 году, когда планировалось закончить строительство, амуро-якутский край изменился до неузнаваемости: народ бежал, бросив дома, из замерзающих посёлков, эвенки спивались и доедали последних оленЕй, бандиты гонялись за автоперегонщиками, а Республика Саха рисковала обрести независимость. Вернулись к АЯМу лишь в 21 веке, и в 2014 году первый грузовой поезд прибыл в Нижний Бестях, фактически ставший вокзалом Якутска на другом берегу Лены. На Беркаките, однако, заканчиваются Российские железные дороги и начинаются Железные дороги Якутии с американскими локомотивами, пассажирское движение в 2019 году открылось совсем уж нехотя, а прямого поезда из Москвы дальше Нерюнгри не запущено до сих пор. И всё же эти проекты превратили Тынду, которую строила аж целая Москва, в главный перекрёсток железных дорог восточнее Байкала.
2.
Хотя уместно ли тут слово "перекрёсток"? На 27 километров все три БАМа сливаются в один: Западный уходит от горловины городской станции мостом через Тынду-реку, Восточный - мостом через Гилюй на станции Бестужево . Из 7 мостов близ Тынды 4 железнодорожных, и в общем что при Сталине, что при Брежневе проектировщики предусмотрительно решили развести пути и улицы, депо и жилые дома по разным берегам реки Тынды.
3.
Она хоть и невелика, а, как и все реки Восточной Сибири и Дальнего Востока, склонна иногда устраивать разрушительные паводки. Поэтому с одной стороны русла город стоит на крутом склоне сопки, с другой станционная промзона отнесена на пару сотен метров от воды, а берега - как и прежде, лесисты:
4.
Мрачные неухоженные просеки из центра Тынды ведут к неожиданно уютной зоне отдыха с модными деревянными шезлонгами. Из них можно любоваться привокзальной ТЭЦ и Техническим мостом для труб, по которым её тепло идёт в город.
4а.

Прежде чем мы пойдём на вокзал, покажу ещё немного бессистемных зарисовок с городского берега, которым не хватило места в прошлой части:
5.
Среди поселенцев БАМии было немало образованных и энергичных людей, а жизнь в глуши однообразна и предсказуема. Как результат - бамовские города и посёлки полны колоритных деталей:
6.
6а.

7.
Отдельный жанр которых - вот. Тында была рождена советской верой в светлое завтра, возглавляет город с 2018 года мэр-коммунистка, а Новый Красный пояс неуклонно охватывает Дальний Восток, где по законам капитализма вообще не должно было быть постоянного населения.
7а.

От Красной Пресни, главной тындинской улицы, спускается мощная Профсоюзная улица. Она выводит к грандиозному серому общежитию, рыночку с забавным названием Китай-город, и тому самому Техническому мосту, меж труб которого тянется пешеходная дорожка - основной путь меж двух берегов.
8.
Поднырнув под трубы, можно полюбоваться местами из прошлой части - автодорожным мостом трассы "Лена" и многоэтажками московских серий над избами Верхне-Набережной улицы. В их дворе скрыт Музей БАМа - на самом деле главная достопримечательность Тынды.
9.
По утрам на Техническом мосту не протолкнуться - пол-Тынды идёт через него на работу, сквозь мороз, пургу, туман и ливень. Ориентиром им служит вокзал, похожий то ли на стартовый комплекс космодрома, то ли на портал-телепортер в иные миры.
10.
Самое впечатляющее на станции Тында - расположение. На карте, конечно, можно заметить пару массивов частного сектора, один из которых, у автодорожного моста, носит гордое имя Сокольники. Но вокзал и прилегающие здания стоят полностью обособленно, так что видишь от них не деревья, так рельсы. Справа от привокзальной площади - железнодорожный колледж с какой-то наивной композицией "Магистраль" (2014), явно навеянной памятниками времён модерна и конструктивизма:
11.
А на задворках - похожий на железнодорожный музей учебный центр для студентов:
12.
Первый поезд из Тынды в Москву ушёл по Малому БАМу 2 июля 1977 года. Вокзал, с которого он отправился, выглядел так:
13а.

В постоянную эксплуатацию Малый БАМ приняли в 1978-м, и вокзал в Тынде подрос до барачного вида времянки:
13б.
Ну а нынешний вокзал Столицы БАМа построили в 1985-86, и получился он без преувеличения одним из самых необычных в России:
13.
Огромное здание представляет собой треугольник со 100-метровым основанием на привокзальной площади и 80-метровыми боковыми сторонами, сходящимися к путям. Треугольник раскрывается углом - справа (кадр выше) к нему примыкает бывший автовокзал, откуда ходили автобусы аж до Нерюнгри (сейчас не ходит ничего)...
14.
А слева - управление Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. К ней в 1996 году, с упразднением Байкало-Амурской ЖД, отошли её участки в Амурской области и Хабаровском крае. Но если основное здание БАЖД в центре Тынды (см. прошлую часть) после этого осталось лишь передать районной администрации, то для работавших в этом здании не изменилось почти ничего - только начальство сидело теперь не в километре по прямой, а в далёком Хабаровске. Перед управлением - ленд-лизовский паровоз Еа, поставленный в 2004 году к 30-летию "комсомольского" БАМа, но напоминающий явно о "сталинском". В середине площади же установлен бюст человека, никогда здесь не бывавшего и вообще вряд ли знавшего про БАМ - это Виктор Мирошниченко, в 1942 году на Орловщине ценой своей жизни (вернее, тяжёлых ран, с которыми попал в плен и там сгинул) взорвавший мост на пути немцев. В честь Мирошниченко был назван один из разъездов Восточного БАМа, который именно там в апреле 1984 года сомкнули военные строители железнодорожных войск. Так что бюст с кадра выше посвящён не только герою великой войны, но и вехе великой стройки.
15.
Треугольный зал изнутри куда больше напоминает терминалы аэропортов, и в общем даже странно, что в Тынде не родилась легенда, будто на самом деле этот проект предназначался для нового аэровокзала в Таллине, но по ошибке был прислан сюда. Диспетчерская башня, зал вылета на первом этаже и зал прилёта на втором - всё читается без пояснений. Сам аэропорт в Тынде вполне соответствует 30-тысячному городку в глуши, хотя и с рейсами не только в Благовещенск, но и в Хабаровск, Читу и Иркутск.
16.
В "зоне вылета" - унылый буфет с вечной огромной очередью, пара магазинчиков с едой и товарами в дорогу, обычно запертый детский уголок и дверь в комнаты отдыха. Они же, по состоянию на июнь 2021 года, были неофициальной камерой хранения: уехавшие в тайгу москвичи оказались куда мудрее оставшихся в Златоглавой и переехавших в Нерезиновую, а потому с новых автоматических камер хранения по 600 рублей в сутки вокзальный персонал офигевает не меньше, чем пассажиры. Большая часть автоматических камер хранения постоянно глючат, а оставшихся явно мало для огромного здешнего трафика. Поэтому "в камерах хранения мест нет" - своеобразный пароль, с которым по старым тарифам багаж принимают в комнатах отдыха. Ну, вернее принимали полгода назад - ведь с эффективных менеджеров станется и эту лавочку прикрыть, уволив растерянную администраторшу с волчьим билетом. Ещё одно сходство с аэропортом - строгость "театра безопасности": кажется, это единственный вокзал, куда могут не пустить с газовыми баллонами или фальшфейером. И как-то при виде всего этого даже радуешься, что административный БАМ был упразднён в 1996 году, не застав подобного дурдома. Мрачные вахтовики на втором ярусе вокзала безразлично взирают на картины с подвигами комсомольской эпохи:
17.
Ещё на паре картин - мать и дочь, Москва и Тында. А под ними мозаики, похожие на сны латентного северянина, тоскливо коротающего серые дни на "материке" и не знающего пока о том, что случайная командировка в Тынду перевернёт всю его жизнь:
18.
Совершенно аэропортовский вид у вокзала Тынды и с платформ - согласитесь, по бокам так и просятся рукава к "илам" и "тушкам":
19.
Да и одно из прозвищ его - "вокзал высокого полёта": силуэт здания символизирует лебедя. Любители железных дорог и старожилы, однако, мимо этого вокзала ходят, глядя строго в землю - ведь его не так давно обшили сайдингом, а значит, в их терминологии - УНИЧТОЖИЛИ. В принципе о многих жертвах "сайдинговой чумы" так и правда можно сказать, но всё же не обо всех без разбора - под сайдингом скрылись не гранит и мрамор, а обычный серый бетон. Но что ещё важнее - в Тынде была сохранена и даже усилена колористика: вместо типовой серой облицовки здесь тёмное крыли чёрным, светлое - белым, бурое - красным.
20.
Между косой стеной вокзала и путями вытянут, натурально, небольшой парк с торчащими тут и там оголовками вентиляции. Связаны они скорее с вечной мерзлотой, чем с какими-то сооружениями, но кажется, лишь молодость Тынды позволила избежать легенд о десяти подземных этажах и тайных лабораториях КэйДжиБи по селекции белошипов.
21.
О том, что мы в столице, напоминает высокая платформа, единственная на, без преувеличения, тысячи километров вокруг. А о том, что здесь АЯМ - ностальгически-неРЖДшная расцветка состава ЖДЯ и необычный маршрут, который следует читать как Владивосток-Якутск.
21а.
Из нынешней Тынды ходит один поезд по Восточному БАМу (в Комсомольск-на-Амуре), два по Западному (по сути главный поезд БАМа с неожиданным маршрутом Тында - Кисловодск и сборная солянка прицепных вагонов вплоть до Москвы, обозначенная как Нерюнгри - Тайшет) и два по Малому - фирменный "Гилюй" Тында - Благовещенск и Нерюнгри-Хабаровск с прицепными вагонами ЖДЯ. Всё вместе даёт весьма активный трафик, 3/4 которого (а не 9/10, как всюду на БАМе) составляет вахта.
22.
Над путями тянется гигантский крытый виадук:
22а.

Впечатляющий своей монотонной перспективой:
23.
Пассажиры ходят им на вторую низкую платформу, работяги - в грандиозное депо:
24.
Виадук кажется границей двух БАМов. На востоке - дымящая ТЭЦ и бесконечные составы с нерюнгринским углём до Ванинского порта:
25.
На западе - острый клюв и зоркие глаза вокзала да ждущий у платформы поезд Тында - Кисловодск:
26.
У Восточного и Западного БАМов несколько границ, и Тында, которую транзитные поезда проходят только по АЯМу - логистическая и историческая граница. Природные и административные границы только впереди, и первые десятки километров Западный БАМ идёт среди тех же марей на фоне далёких сопок Станового хребта, что сопровождали нас 1500 километров Восточного БАМа.
27.
Водораздел Амура и Лены, то есть границу Дальнего Востока и Сибири, символически взял под опеку Урал - две соседние станции в бассейнах разных океанов строила Свердловская область, которую в те годы как раз возглавлял наикрепчайший в Союзе хозяйственник Борис Ельцин. На Кованте, впадающей в Геткан, впадающий в Тынду, впадающую в Гилюй, впадающий в Зею, впадающую в Амур, стоит станция Кувыкта:
28.
И вот про её вокзал, не так давно радовавший глаз дымчатыми узорами уральского мрамора, вполне можно сказать, что его уничтожили: здание не просто обшили безликим сайдингом, но и плитку под ним ободрали варварски. Произошло это буквально за пару месяцев до моей поездки, поводом к которой и послужила мысль, что скоро тут таким сделают всё.
29.
И ладно хоть стелу не тронули...
30.
Так же обезличили и вокзал станции Хорогочи (изначально, впрочем, бетонный), что на реке Верхняя Ларба, впадающей в Нюкжу, которая течёт в Олёкму - приток Лены. Водораздел двух океанов на БАМе совсем пологий и незаметный даже по сравнению со Средним Уралом на другой стороне Сибири. Обратите внимание на ограду: на обеих станциях автограф свердловских строителей - соболя с клейма Демидовых:
31.
Начало Западного БАМа кажется ещё более глухим, чем Восточный БАМ - от станции до станции час хода, а в посёлках по паре-тройке сотен жителей. Хорогочи и Кувыкта вообще не запомнились мне жилыми домами, а Ларба, что у впадения Средней Ларбы в Нюкжу, к БАМу выходит "времянкой":
32.
Хотя теоретически могла бы быть застроена высокими домами из белого мрамора, посреди которых восседал бы золотистый памятник Отцу с мозаикой цветастого ковра и статуей гарцующего аргамака: Ларбу строила Туркмения, а с теперешнего Нейтрального Туркменистана сталось бы захотеть - и выстроить свой филиал на БАМе.
33.
Солнце в небесах и поезд в марях неуклонно движутся на Запад:
34.
Странная сущность в лесу заставляет вспомнить предания о могущественных эвенкийсках шаманах - ведь именно в этом углу на стыке Амурской области, Якутии и Забайкалья как нигде более живы язык, оленеводство и многие традиции эвенков.
34а.

Слева за редкостойной тайгой поблёскивает Нюкжа, по расходу воды (156 м³/с) и длине (573км) сравнимая с Москвой-рекой или Клязьмой.
35.
Её пойма то и дело раскрывается простором таёжных озёр:
36.
Справа же всё чаще надвигаются прижимы:
37.
Нюкжа, а с ней и магистраль, прорезают Становой хребет, отделяя от него низкогорный массив Чельбаус:
38.
С магистрали не виден Олёкминский Становик, с южных склонов которого начинается Нерча, а с северных - Лопча. Первую я показывал, понятное дело, в Нерчинске, а напротив устья второй встречает посёлок Лопча:
39.
Основанный в 1932 году как фактория для оленеводов, на БАМе он - из станций-сирот, над которыми не было шефства. И всё же посёлок тут куда солиднее, чем в Кувыкте или Хорогочах, да и вокзал хорош:
40.
Часы на его жестяном фасаде - уже красно-серой эпохи:
40а.

Лопча провожает котельной - они на БАМе капитальны даже в посёлках из пары сотен жителей, потому что где ещё тут взять тепло многоквартирным домам или школам? Котельные становились первыми зданиями "постоянок":
41.
И вот котельная уже на следующей станции Чильчи:
42.
Она тоже без шефства, вокзал же на ней испорчен не сайдингом, а краской - более тёмные участки стен прежде были красными:
43.
Бамовцы давно вышли на покой, а вот повзрослевшие "дети БАМа" - на перроне:
44.
Главная же достопримечательность Чильчи - одинокая скала на западном выезде из посёлка:
45.
Блестящую в закатных лучах Нюкжу было бесполезно фотографировать сквозь мутное стекло, а вот на прижимах с другой стороны закат озарил каждую трещинку:
46.
От Чильчи уже не один, а два часа ходу до следующей станции Юктали, которую построила Челябинская область:
47.
И здешний вокзал, фасад которого можно описать комбинацией символов ССССОDDDDD - один из самых зрелищных на БАМе:
48.
Первоначально станция называлась Усть-Нюкжа - по близлежащему селу на Олёкме (550 жителей), куда, однако, так и не построили моста - к горю его жителей и к радости этнографов. Ведь основанная в 1924 году как фактория, Усть-Нюкжа может поспорить с Иенгрой в Нерюнгринском районе Якутии за звание "самого эвенкийского села в России". Там действует оленеводческое хозяйство, а языком предков владеют почти все старики, немало людей среднего возраста и даже кое-кто из молодёжи. Не знаю, есть ли в Усть-Нюкже Знающий, как нынешние эвенки по-русски называют шаманов, последнее поколение которых доживает век в таёжных зимовьях, а вот Шаман-камень с петроглифами стоит на Олёкме недалеко от села.
49а.

Усть-Нюкжа, как единственный в те годы населённый пункт на сотни вёрст вокруг, служила базой Олёкмо-Тындинской (1932) и Верхне-Чарской (1934) геологических экспедиций, а может и не только их - геологи работали в этих горах давно, изыскивая рудные районы, через которые должна была пройти "трасса БАМа", и удобные долины, где её проложить. Вот только те две экспедиции возглавлял не абы кто, а Иван Ефремов, на покое в 1950-60-х годах написавший свои "Час Быка" и "Лезвие бритвы". Один из экспонатов Музея БАМа - эвенкийские арамусы, которые Иван Антонович носил в экспедициях.
49.
Он всего пару лет не дожил до возрождения БАМа, но для романтиков-бамовцев встал вровень с Достоевским или Толстым - те гении, конечно, но как же они далеки! Ефремов же был явно ближе по месту, времени и взгляду на мир, так что в 1978 году (к 70-летию писателя) местные энтузиасты даже выступили с инициативой поставить в станционном посёлке памятник Ивану Антоновичу, а саму станцию Усть-Нюкжа переименовать в Ефремов. Властям идея почему-то не понравилась, но станции в 1981 году всё-таки дали по близлежащему ручью новое, куда более звучное название Юктали.
50.
Мы думали прогуляться до посёлка - поезд стоит тут 45 минут, но и идти от вокзала до жилых домов полтора километра. Однако что-то перепутали, пошли быстрым шагом не в ту сторону, и потеряв драгоценные 10 минут, поняли, что в посёлок уже не успеем. Осталось лишь разглядывать вокзал, о челябинском происхождении которого напоминает каслинское литьё курантов на двух фасадах и решёток в зале ожидания:
51.
Дальше, за Олёкмой, начинается Горный БАМ, самая красивая часть магистрали на севере Забайкальского края, по обе стороны станции Новая Чара. Вот только расписания на Западном БАМе построены так, что увидеть эти места при свете дня можно лишь двигаясь с запада на восток. Так что в следующей части перенесёмся из осени-2020 в лето-2021 и доедем по горам до Новой Чары.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкминск - Новая Чара. Вершина БАМа.
Две Чары и Чарские пески.
Чинейская железная дорога. Посёлок Чина.
Чинейская железная дорога. Трасса.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Северобайкальск - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: литература природа Тында дорожное Дальний Восток транспорт БАМ Амурская область этнография |
БАМ! Часть 6: Тында - столица БАМии и самый дальний район Москвы |
Районы вдоль Байкало-Амурской магистрали отличаются от регионов, через которые она проходит, как минимум не менее, чем эти регионы друг от друга. БАМия выглядит как сама себе регион в полмиллиона квадратных километров и 200-300 тысяч жителей. У региона этого есть явный центр: Тында - город (32 тыс. жителей) на одноимённой реке в северо-западном углу Амурской области, у крупнейшего к востоку от Байкала перекрёстка. БАМ здесь аж трёх видов: Восточный, которым мы приехали сюда в прошлой части; Западный, куда поедем дальше, и Малый - этот ведёт на юг, в Сковородино на Транссибе: о нём я рассказывал пару месяцев назад. Ещё Малый БАМа известен как Южный АЯМ: это начало другой, Амуро-Якутской магистрали, уходящей из Тынды на север. С таким расположением Тында просто не могла не быть столицей БАМии, а потому совсем не удивительно, что её строила Москва.
Расскажу о Тынде в двух, вернее в полутора частях - сегодня погуляем по городу, а на следующий раз оставим огромный вокзал за рекой.
Кажущаяся на фоне окружающей тайги мегаполисом, объективно Тында - это классический град-вокзал, как какие-нибудь Лиски, Дебальцево, Барановичи или Арысь. И всё же приехать сюда, в отличие от многих БАМовских станций, можно не только на поезде. Более того, первый импульс Тынде дала именно автодорога - ведь в те времена, когда о рельсах близ полюса холода и помыслить было невозможно, Амуро-Якутской магистралью называли нынешнюю трассу "Лена". Её строительство начали в 1913 году золотопромышленники, а осуществили в 1925-29 годах Советы, конкретнее партия Иосифа Пилина с двумя заморскими тракторами "Кейс". Позже дорога реконструировалась и подновлялась неоднократно, деревянные мосты сменялись бетонными, а с появлением интернета одним из самых впечатляющих зрелищ для его пользователей стали кадры машин, тонущих в грязи не то что по крышу, а вертикально по корму. Сейчас такого здесь уже не бывает, и всё-таки от полноценной федералки трасса "Лена" пока что очень далека. В Тынду она буквально ныряет с заречных сопок, и лучший вид на город открывается наверное вон от тех берёз:
2.
У моста, который в 2020-21 годах как раз реконструировали, встречает камень со скромной надписью "1907-2007. От оленьих троп до столицы БАМа":
3.
А бордюр привлекает взгляд своими вкраплениями: как мы ещё убедимся, Тында чрезвычайно богата на колоритные мелочи. Памятник стоит у стадиона "БАМ", а район частного сектора за ним (на следующем кадре будет слева) здесь почти официально зовётся Сокольники.
3а.

Название городу дала река, по дальневосточным меркам в общем заурядная: солидная ширина (более 100 метров) не скрывает мизерной глубины - даже лодки тут годятся только плоскодонные. Впрочем, зауряднее самой реки её название, означающее приблизительно "олений выпас" ("место, где освобождают от упряжи") - в одной только Амурской области не менее трёх Тынд. Та, что под нами, впадает в Гилюй, который размером уже примерно с Москву-реку или Клязьму, а воды свои несёт в Зею и через неё в Амур.
4.
На кадре выше за поворотом виден железнодорожный мост западнее по БАМу, на кадре ниже - Технический мост, ведущий из центра прямиком на вокзал:
5.
За автодорожным мостом же трасса "Лена" отсекает от основной части города утопающее в зелени деревянное предместье. В его пейзаже ещё видна пара крупных домов, построенных в сталинские времена для БАМлаговского начальства. На фоне прочей всесоюзно-ударно-комсомольской БАМии, её столица - старый, даже древний город...
6.
Войдя в состав России в 1858 году, Приамурье рисковало повторить, или вернее продолжить свою судьбу времён прошлых хозяев - династии Цин, которая сумела удержать этот край в войнах с казаками Албазина, но так и не заселила его. Россия догадалась хотя бы гарнизоны и станицы по Амуру выставить, но подлинным спасителем русского проекта в этих краях оказался Николай Аносов - горный инженер, сын легендарного Павла Аносова, в уральском Златоусте разгадавшего секрет булатной стали. В верховьях амурских притоков в 1865 году Николай Палыч нашёл золото, и "золотая лихорадка" обернулось первой на Дальнем Востоке крупной переселенческой волной. Понемногу переселенцы и старатели забирались всё дальше на север, всё глубже в мрачную тайгу, и вот в 1907 году группа старообрядцев подала заявку в переселенческую контору и получила по ней участок Тындинский, но так и не добралась до него. Первый дом на месте будущего города появился летом 1918 года, и был известен в народе как зимовье Шкарубы, фактически постоялый двор для старателей, державших путь на Становой хребет. Кто такой сам Шкаруба - история умалчивает, но если это фамилия, а не прозвище - то был он скорее малоросс, чем тунгус. "У Шкарубы" стало культовым местом среди приамурских старателей, последним очагом цивилизации на пути в тайгу и возможность гульнуть на золотой песок по дороге обратно. Совсем немудрено, что это место глянулось и Пилину с его "Кейсами": к концу 1920-х годов в Тындинском уже была пара сотен жителей.
6а.
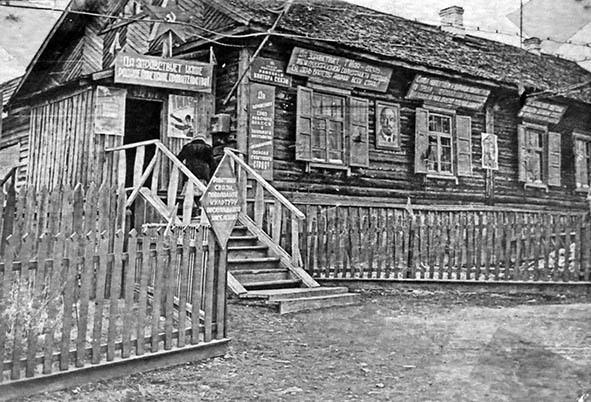
Конечно же, Тындинский не обходили стороной геологи да изыскатели, с 1932 года работавшие на "трассе БАМа", и этапы да начальники Бамлага, которому предстояло тянуть по этой трассе путь. Уже в 1937 году на берегу Тынды раздался гудок паровоза, пришедшего свежепостроенным Малым БАМом из Сковородино. К началу 1941 года разросшийся до нескольких тысяч жителей Тындинский стал ПГТ. По плану он должен был стать к 1943 году городом, а к 1951 - областным центром. Вот только о географии той гипотетической области я ничего не нашёл - скорее речь шла не о БАМии, а о возрождении Амурской области с центром в Тынде вместо запятнанного контрреволюцией Благовещенска. Так или иначе, тем планам не суждено было воплотиться: пути Малого БАМа в 1942 году сняли да увезли под Сталинград на строительство Волжской рокады, а со смертью Сталина замер и весь байкало-амурский проект. Тындинский остался маленьким посёлком посреди Великого Ничто, заурядным в общем райцентов среди всяческих Чумиканов или Сёл имени Полины Осипенко. К концу 1960-х тут жило около 3,5 тысяч человек.
7а.

За мостом у трассы "Лена" о былом напоминают несколько зданий середины ХХ века:
7.
А так же - пара монументов, по статусу положенных советскому райцентру. Слева от трассы - мемориал Победы:
8.
В нынешнем виде он был построен в 2000 году, и это на самом деле обидно - первый памятник (1967) был сделан из фрагментов железнодорожного моста Малого БАМа, как напоминание о том, что не только люди, но и рельсы были брошены отсюда останавливать врага. Увы, сохранить их при реконструкции никому не пришло в голову, и даже старые фото я не нашёл.
8а.
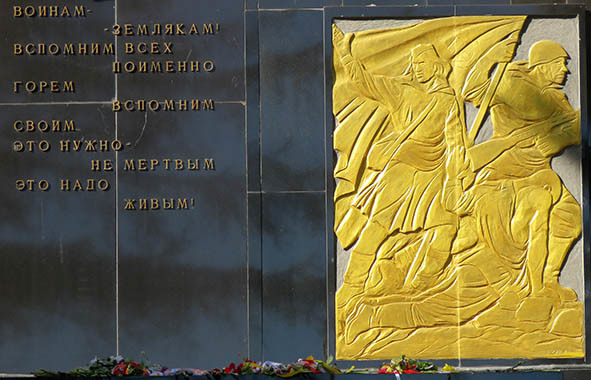
С другой стороны в рощице спрятан Ильич (1957). Надо сказать, подавляющее большинство типовых истуканов с протянутой рукой появились в 1967-70 годах, к 50-летию Октября и 100-летию Вождя, а потому на построенных позже БАМе или в нефтеградах Югры их увидишь не часто. Статуя в Тынде напоминает о том, что в 1957 году здесь была главная площадь посёлка:
9.
И сталинка, ныне занятая детской музыкальной школой, строилась как администрация Джелтулакского эвенкийского национального района - из ныне опустевшего и исчезнувшего бесследно села Джелтулак она переехала в Тындинский уже в 1935 году, но лишь в 1977 году район поменял название.
10.
А многоэтажки на заднем плане должны вызвать дежавю у всякого москвича - ни дать ни взять Чертаново или Коньково! Первый отряд комсомольцев из Белокаменной-да-Златоглавой отправился на стройку века прямо из Кремлёвского дворца и 11 июня 1975 года приступил к кормлению дальневосточного гнуса. Тогда же Тында наконец стала городом, ну а строить его начали примерно в километре на восток от старого посёлка:
10а.
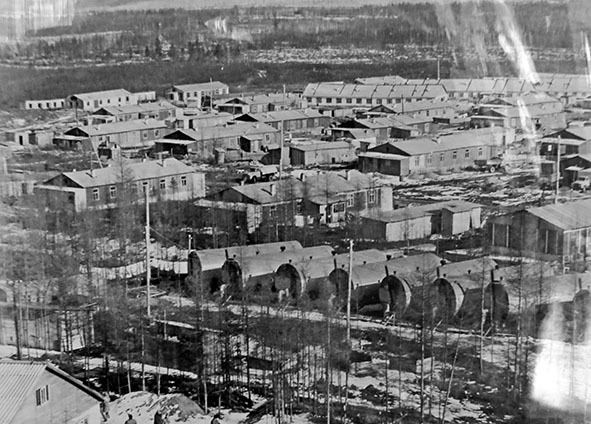
Первой достопримечательностью Тынды была улица Диогена - официально Директорская, но первое, что знал про Диогена московский студент - что этот античный философ жил в бочке! Потому и цилиндрический балок (жилой вагончик), напоминающие оставшиеся на Земле модули орбитальных станций, народ не сговариваясь по всему Союзу окрестил диогенками. На Директорской их стояло в ряд 9 штук, и как минимум одна сохранилась, хотя и не на историческом месте (его я ещё покажу). С 2006 года она стоит около музея БАМа во дворе многоэтажек с позапрошлого кадра:
11.
Официально такая штука называется ЦУБ - "цилиндрический унифицированный блок", а делали их с 1975 года подмосковном Волоколамске и вологодском Соколе. В народе ЦУБики слывут то обрезками трубопроводов, то снятыми с путей и наспех отмытыми цистернами, словом - очередным способом для государства поиздеваться над людьми. На самом деле это вполне оригинальный проект: круг имеет наибольшую полезную площадь (то есть - эффективнее нагревается изнутри), а обтекаемая форма позволяла меньше терять тепло от ветра: как показали испытания, поддерживать совместимые с нормальной жизнью температуры в "диогенке" можно не то что при погоде "40 на 40" (градусов ниже нуля и метров в секунду), а даже 60 на 60! Так что и сходство с орбитальными станциями вовсе не случайно, а вот первопанк Диоген, наверное, увидев такое, из бочки перебрался бы в дупло. Длина ЦУБика - 9 метров, диаметр - 3,2 метра, и внутри это обычный балок, разделённый поперёк на два отсека. В хозяйственной части теперь в основном экспозиция, а также печка-буржуйка и бочка для питьевой воды:
12.
В жилой половине на 4 человек - удивительно живой интерьер:
13.
Ну а в бочке завёлся вскоре свой философ, или вернее поэт - комсомолец Олег Головко, фактически устроивший в Тынде неформальный литературный клуб. У бамовцев вообще своя ветвь русской литературы, где Иван Ефремов и Григорий Федосеев стоят вровень с гениальными, но такими далёкими Достоевским и Толстым, и Третья бочка улицы Диогена стала поэтическим салоном. Что во дворе музея именно она - вероятность 1 к 9, но именно её интерьеры пытались воссоздать поэты Владимир Гузий и Геннадий Кузьмин, консультировавшие музейщиков при реставрации:
13а.
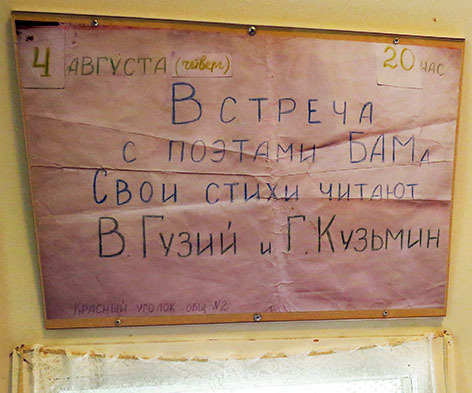
Сам Музей истории Байкало-Амурской магистрали, основанный аж в 1976 году и с 2001 года обитающий в бывшем здании детского сада - безусловно, главная достопримечательность Тынды. Ради него я не поленился приехать в этот город дважды: золотой осенью 2020 года, многократно перестраивая график под расписания поездов и "Метеоров" в конечных пунктах (на Амуре и на Ангаре), я напрочь упустил, что в Тынду попадаю в понедельник. На самом деле так и должно было быть: в ту поездку я закладывал на Столицу БАМа около 5 часов между поездами, а вновь приехав сюда в июне 2021 года между Сковородино и Свободным (к слову, это прото-Тында на прото-БАМе - столица Амурского Транссиба), по музею я ходил 3 часа. Вот только большую часть экспозиции его 7 залов я уже показывал в постах про БАМовский колорит и про живущих вдоль магистрали эвенков. Ещё кое-что вошло в рассказ про Малый БАМ и даже про Амурскую железную дорогу, так что на сегодня остаётся буквально несколько кадров, посвящённых истории города.
14.
Вот например кресло Юрия Есаулкова, первого тындинского градоначальника, возглавлявшего Джелтулакский район и образованный в нём город в 1974-88 годах. Советская Тында бурно строилась, к концу эпоху разросшись до 65 тыс. человек, и всё же в Амурской области "столица БАМа" оставалась, как и сейчас, лишь 4-й после - Благовещенска, Свободного и Белогорска. Наверное, при поступательном развитии сейчас бы она разрослась тысяч до 200 и возможно была бы центром Тындинской области, куда вошли бы от Иркутской области Нижнеилимский, Казачинско-Ленский, Катангский (северная "лопасть"), Мамско-Чуйский и Бодайбинский (восточная "лопасть") районы, от Бурятии - Северобайкальский и Муйский районы, от Забайкалья - Каларский район, от Амурской области - Тындинский и Зейский районы, а от Хабаровского края - Верхнебуреинский район. Ещё - Нерюнгринский район от Якутии, но это только если бы советская власть иначе проводила свою национальную политику. Размером и формой этот регион напоминал бы Ханты-Мансийский автономный округ (так же сильно вытянутый с запада на восток), да и структурой пространства был бы на него похож - с огромными индустриальными Братском и Усть-Илимском, которые Тында не смогла бы догнать по размеру, с не сильно отличающимися от современных Северобайкальском, Бодайбо, Усть-Кутом, Железногорском-Илимском, Нерюнгри и разросшимися до городов Таксимо, Новой Чарой, Февральском, Новым Ургалом, Чегдомыном и Кропоткином. Это определённо был бы самый урбанизированный регион СССР с долей городского населения выше 95%, однако меж рудничных городов и станционных ПГТ так и стояли бы редкие национальные посёлки с оленеводческими совхозами. Особое место занимала бы Новая Чара, слагающая единую систему с посёлками Удокан и Чина - там к югу от БАМа вырос бы один из крупнейших в Союзе рудничный район. Транспортным стержнем так и оставалась бы Байкало-Амурская магистраль, а вот "усов" она пустила бы гораздо больше - как минимум на Удокан-Чину и Бодайбо-Кропоткин с прицепными вагонами в Новосибирск, Кисловодск и Москву. Не знаю, какие бы здесь производились товары народного потребления, но в обиход советского человека обязательно вошли бы "Чароит", "Кодар" и "Янкан". Здесь часто встречались бы улицы Ивана Ефремова, Григория Федосеева, Константина Мохортова, Гейдара Алиева, Леонида Брежнева, Александра Бондаря, Ивана Варшавского, а Ленинский Комсомол был бы куда популярнее самого Ленина. Нижнеангарск переименовали бы однажды в Брежневск, а Ангою - в Алиевабад. На горячих источниках Хакусов действовала бы областная здравница, а здешние турклубы гремели бы на весь соцлагерь - ведь их домашними горами были бы "сибирские Гималаи" Кодар с маршрутами всех категорий...
15а.

....но всё сложилось иначе - вторую попытку Байкало-Амурского проекта оборвал распад СССР. В Тынде он наложился на завершение основной стройки, когда её многочисленные участники стали разъезжаться по домам, а вот горняки, лесорубы, пищевики, машиностроители и работники сферы услуг резко потеряли желание сюда ехать. За 30 лет Тында ужалась более чем вдвое, и кажется, стать похожей на Воркуту ей не дал Марк Шульц - мэр в 1992-2004 и 2008-12 годах. Свой пост он покинул естественным путём, на тот момент будучи старейшим (1935 года рождения) градоначальником России. В музее БАМа ему посвящён небольшой зал с интерьерами кабинета:
15.
Квартал вокруг музея примечателен обилием колоритных малых форм:
16.
17.
А типовые лавочки с орущим Солнцем типичны для всего города:
18.
Как и тумбы с вот такими плакатами - ведь говоря "Тында", подразумеваем "БАМ":
18а.

Но в первую очередь тындинский пейзаж определяют многоэтажки московских серий:
19.
Прежде подобное дежавю у меня вызвал Нижневартовск, так же строившийся москвичами среди югорских болот. Но что интересно - сами серии в Нижневартово и Тындино разные, так что два города не перепутать:
20.
Отдельно впечатляют совершенно московские подъезды с широкими лестницами и хитро запрятанным лифтом:
21.
И даже школы в Тынде совершенно такие же, как те две, в которые я ходил в детстве:
22.
Черкизона и Садовода в столица БАМа вроде не было, а вот Китай-город - есть, и этимология этого названия здесь куда умозрительнее, чем в Москве. Ещё есть "Икеа" - правда, не магазин, а клуб:
22а.

Нет в Тынде и Тверской - ведь когда Тында строилась, та была улицей Кой-кого. Ехать же за тридевять земель, чтобы воспроизвести там все эти Октябрьские и Советские романтикам 1970-х явно не хотелось, а потому главной в "самом дальнем районе Москвы" сделалась Красная Пресня.
23а.

Плавно изгибаясь, она тянется от трассы "Лена" на 2 километра параллельно реке в одном квартале от берега, и вся наша дальнейшая прогулка - не дальше половины квартала от Пресни. Начало улицы встречает совсем не московскими домами, но вон те справа, с мощными вытяжками на крышах, кажется, спроектированы специально для Тынды:
23.
К бульварчику со скульптурой богоматери спускается Школьная улица со странным фонарём. Школ в её дворах не больше, чем в среднем по Тынде, и я сразу подумал, что фонарь должен придать ей тот особый уют, которым славится московская тёзка. Но нет, тут сильнее БАМовское начало - это молекула титана, подаренная в 1996 году компанией "Амуртитан". Она тогда осваивала разведанное ещё при Советах Куранахское месторождение ильменито-титано-магнетитовых руд, где с той поры успели обанкротиться уже две компании, а третья зашла в 2021 году.
23б.

Троицкий собор (1994-2001) - один из самых неказистых на БАМе, зато строился почти одновременно с воссозданием Храма Христа Спасителя:
24.
Католического вида Богородица - на бульваре, а во дворе - армянский хачкар:
24а.

У собора спускается к Техническому мосту Профсоюзная улица, на которую глядит бывший кинотеатр "Гилюй", по совместительству с 1996 года Драмтеатр города Тында. Так, по-простому и без посвящения, он называется официально: писателей, поэтов, бардов на БАМе было много, а вот драматурга, кажется, не нашлось.
25.
За Профсоюзной начинается "самый центр", парадная часть Красной Пресни, которая здесь напоминает скорее огромную площадь, чем улицу:
26.
Тут вместо Богоматери - Серп и Молот, а вместо собора - мэрия:
27.
Доска почёта своим идеальным состояние напоминает, что у Тынды красное не только прошлое, но и настоящее - с 2018 года город возглавляет коммунистка Марина Михайлова, да и Новый Красный пояс в восточной половине страны становится всё большей реальностью.
27а.
Ну а символ всей Тынды вообще и Красной Пресни в частности - четыре 16-этажки, законченные в 1986 году и лет 20 остававшиеся высочайшими зданиями всей Амурской области. Как я понимаю, это не московская серия, а индивидуальный проект - и всё-таки московский почерк узнаётся безусловно.
28.
Вообще, изнутри МКАДа как-то не очевидно, что бескрайние московские микрорайоны не похожи своей архитектурой ни на один советский город тех же лет. Я бы сказал, от остальной России, Украины или Беларуси столица была обособлена немногим меньше, чем Средняя Азия или Прибалтика. В ещё большей степени это можно сказать и про Питер, а потому то, что проектировали москвичи и ленинградцы как правило узнаётся с первого взгляда:
29.
Дворовый проезд за высотками известен как БАМовский Арбат (на заглавном кадре), и на нём стоит не увиденный мной памятник "афганцам".
30.
За администрацией же склон образует хорошо заметную террасу:
31.
На ней громоздятся какие-то торговые комплексы, в ряду которых почти не выделяется городской ДК "Русь" (изначально - конечно же, ДК Железнодорожников), оформлением входа больше ассоциирующийся у меня с рестораном:
32.
Ансамбль двух линий Красной Пресни невозможно представить без угловатых арок между домов - они есть и на верхнем ярусе:
33.
Последний штрих к портрету - маячок у входа в кафе "Маяк" почти что на Школьной:
34.
Всё вместе - странный Тында-Сити, к которому, кажется, такое прозвище ещё не приросло. А вот, напротив башен - другая сторона Красной Пресни:
35.
Она примечательна ещё одним Арбатом - городить пешеходную улицу в строящемся посёлке не стали, но об Арбате как о месте отдыха и приятных прогулок первостроители помнили, а потому назвали так кафе. Оно давно закрылось, однако его здание с террасами называется так по сей день:
36.
36а.

Чуть дальше раскинулась вниз по склону площадь 25-летия БАМа, недавно приведённая в порядок после долгого мучительного ремонта. На её дальней стороне - нынешний небольшой ДК Железнодорожников, внешне столь невзрачный, что я его просто не заметил.
37.
Рядом с ним - главный памятник Тынды: камень с Первого километра. Так как направлений вокруг аж 4 штуки, можно уточнить, что имеется в виду первый километр Восточного БАМа: когда в 1975 году валун намертво застрял в ковше экскаватора, военные строители железнодорожных войск решили сохранить его как памятник. Затем они ушли, а глыба так и провалялась в заброшенной части, пока в 1999 году на 25-летие БАМа её не украсили надписью и не поставили здесь.
37а.

Ведь тогда город ещё по привычке ощущал здание районной администрации (1979) на другой стороне Красной Пресни как Управление Байкало-Амурской железной дороги имени Ленинского Комсомола. Откровенно сказать, внешне довольно скромное на фоне гигантских контор основных железных дорог вроде Куйбышевской, давно исчезнувшей Омской или управляющей тут ныне Дальневосточной. От самого термина "Байкало-Амурская железная дорога" веет чем-то из царских времён, когда стремительно росшая сеть состояла из единиц вроде Рязано-Уральской, Московско-Виндавской или Варшаво-Венской железных дорог под управлением где государства, где - многочисленных частных компаний. Но ведь и строятся железные дороги линиями из пункта А в пункт Б, поэтому сама подобная структура - примета эпохи роста. "Зрелую" железнодорожную сеть оказалось удобнее разделить на несколько регионов, а потому не исключаю, что при советской власти БАЖД упразднили бы ещё раньше. Однако в лихие 1990-е, когда стройка оборвалась, а критически упавших грузооборотов едва хватало на Транссиб, Управление было для Тынды градообразующим предприятием, и его ликвидация серьёзно подкосила город:
38.
А вместе с тем, как-то даже и радуешься, что БАМ как управленческая единица не дожил до эпохи оптимизаций и театров безопасности, оставшись достоянием славных времён. За препирательство с охранниками, узревшими в рюкзаке туриста газовый баллон, за камеры хранения по цене хостела и комнаты отдыха по цене дорогого отеля ругаешь не БАМ, а Дальневосточную или Восточно-Сибирскую железные дороги, между которыми его в 1996 году разделили по станции Хани.
38а.
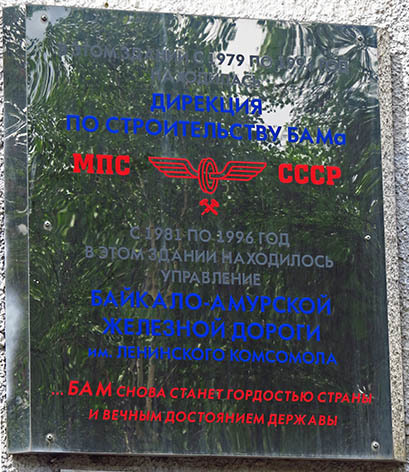
Управление БАЖД окружает изначальный центр города. Где-то здесь была Диогенова улица:
39.
Дальше по Пресне - гостиница "Юность", по сей день наводящая ужас на командировочных:
40.
Почти что за ней - неприятно громоздкое общежитие "Пионер", первое капитальное здание Тынды (1976), а ныне суровый сибирский деловой центр:
41.
В одном из его подъездов, по совету местных, обнаружилась не сказать чтобы очень вкусная, но прямо-таки зашкаливающе душевная кафешка, переделанная из квартиры. Причём совсем не удивлюсь, если ещё во времена "стройки века":
42.
Ещё на Красной Пресне есть бурятская столовая с угрюмым русским персоналом и отсутствием половины блюд, и сеть кондитерских "Два Грача" с очень вкусными, какими-то правильно-советскими пирожными.
43.
Кварталы выше "Пионера", бывший стройгородок, причудливо исчерчивает улица Московских Строителей - из тех, что то параллельны, то перпендикулярны сами себе. Совсем рядом с "Пионером", по адресу №7 - и первая многоэтажка Тынды, построенная в июне-ноябре 1975 года. Вернее, о том, кто первее, я слышал от местных жителей разные мнения, но может быть её начали позже, но закончили быстрее или позже достроенный "Пионер" раньше принял жильцов?
44.
Вновь спустимся на Красную Пресню, в этой части больше похожую на какую-нибудь Ташкентскую или Ауэзова - словом, что-нибудь из Алма-Аты:
45а.

С её верхней стороны примечательны Дом связи:
45.
И Штаб, откуда железнодорожные войска командовали Восточно-БАМовской кампанией:
46.
Вниз же уходит улица Константина Мохортова, названная в честь начальника ГлавБАМстроя комсомольских времён. Здесь находится гнездо мостовиков, которые наряду с тоннельщиками слыли элитой бамовцев, этакими ВДВ-от-гражданских. Их труд был самым сложным, а потому самым оплачиваемым, и ездить в годичный отпуск на большую землю, специально под него покупая машину, да сорить там деньгами - это в первую очередь про мостовиков. "Мостострой-10" существует и ныне, а самый зрелищный памятник Тынды поставлен ещё в 1984 году:
47.
Улица Мохортова - предпоследняя из спускающихся от Красной Пресни. Через квартал, у Штаба, Пресня упирается в Т-образный перекрёсток с улицей Кирова, за которой начинается глубокая долина ручья Шахтаум. По ту её сторону видны разноцветные крыши нового Таёжного микрорайона (2011-15), который строился для выселенцев из ветхого жилья, но сам оказался как бы не более ветхим, превратившись в одну из главных городских проблем.
48.
В конце же Красной Пресни стоит стоит такая неожиданная здесь организация, как Покровский женский монастырь. Он был основан в 2002-03 годах, и перввым сестринским корпусом на БАМе служил железнодорожный вагон. Церковь же впечатляет своей простотой, но при этом - какой-то стильностью:
49.
Община собирает средства на новый каменный храм, который вполне мог бы стоять в селе Тында, если бы староверы таки доехали сюда в начале ХХ века.
49а.
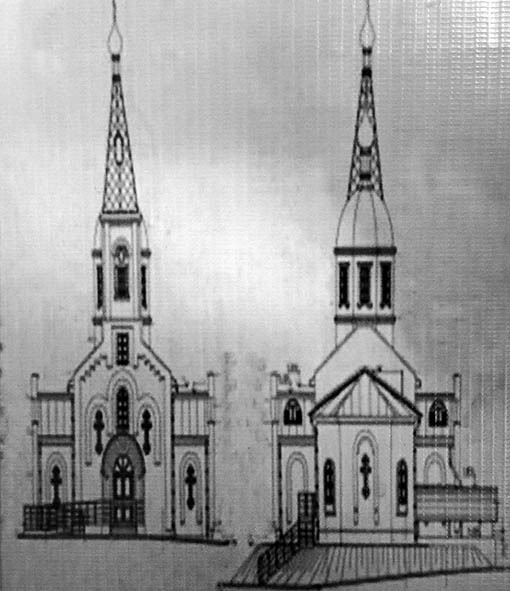
Официально с 2016 года это Святогорское Крестовоздвиженское подворье - сама обитель, сменив название, переехала на бывшую базу отдыха в Егорьевке близ Благовещенска.
50.
Как и всюду на БАМе, микрорайоны Тынды компактны и обрываются резко. Город облепил довольно крутую сопки, на дальней стороне которой есть даже горнолыжный спуск Усть-Корал (2007), на который ездят со всей Амурской области весной, когда горнолыжки поближе к Благовещенску тают. Если центр БАМовской столицы похож на спальные районы Москвы, то окраины здесь такие:
51.
Да и бамовцев при всём желании за москвичей не примешь:
52.
Хотя в целом по своему культурному и социальному уровню Тында не кажется 30-тысячным городом. Скорее правда кусок если не Москвы, то Благовещенска или Хабаровска, который отрезали ножом и перенесли в тайгу на вертолёте. Тут много совсем не провинциальных вещей (например, Тында - один из главных в России центров страйкбола), да и просто нет того сонного духа глуши, который можно ожидать от малого города среди таёжных дебрей.
53.
В следующей части осмотрим вокзал и поедем дальше на запад по БАМу.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкминск - Новая Чара. Вершина БАМа.
Две Чары и Чарские пески.
Чинейская железная дорога. Посёлок Чина.
Чинейская железная дорога. Трасса.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Северобайкальск - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Дальний Восток Тында БАМ транспорт дорожное Амурская область |
Теги |
А теперь - то, чего многие так долго ждали: я всё-таки решил организовать в своём блоге полноценную систему тэгов - по городам и регионам. Процесс это не мгновенный, так что тэги регионов пока далеки от полноты, и когда они будут заполнены на всю глубину блога, я сделаю отдельный пост.
Нынешние тэги я проставил давным-давно, и с тех пор они разрослись до такой степени, что найти в них что-то стало невозможно. Пройтись по старым тэгам у меня физически не было времени, а новые добавлять, понимая, что их охват будет неполным, не хотелось.
На фото - деревня Теги в Ханты-Мансийском автономном округе.

Да и в принципе основным средством навигации в своём блоге я всегда считал varandej_guide, и если мне самому нужно найти какой-нибудь свой старый пост - я ищу его там. Тем более в большинстве браузеров есть такая удобная функция, как поиск текста на странице.
varandej_guide, и если мне самому нужно найти какой-нибудь свой старый пост - я ищу его там. Тем более в большинстве браузеров есть такая удобная функция, как поиск текста на странице.
Но народу привычны тэги - значит, будут тэги. Я нашёл человека, которому можно поручить эту работу.
Само собой, не бесплатную, так что когда процесс приблизится к логическому завершению - надеюсь на благодарности в Варандей-Фонд.
Ну и небольшой опрос по такому случаю.
В перспективе же мне стоит разбить тэг "этнография" по народам, а тэг "транспорт" - по видам транспорта. Но это уже сам.
Нынешние тэги я проставил давным-давно, и с тех пор они разрослись до такой степени, что найти в них что-то стало невозможно. Пройтись по старым тэгам у меня физически не было времени, а новые добавлять, понимая, что их охват будет неполным, не хотелось.
На фото - деревня Теги в Ханты-Мансийском автономном округе.

Да и в принципе основным средством навигации в своём блоге я всегда считал
 varandej_guide, и если мне самому нужно найти какой-нибудь свой старый пост - я ищу его там. Тем более в большинстве браузеров есть такая удобная функция, как поиск текста на странице.
varandej_guide, и если мне самому нужно найти какой-нибудь свой старый пост - я ищу его там. Тем более в большинстве браузеров есть такая удобная функция, как поиск текста на странице.Но народу привычны тэги - значит, будут тэги. Я нашёл человека, которому можно поручить эту работу.
Само собой, не бесплатную, так что когда процесс приблизится к логическому завершению - надеюсь на благодарности в Варандей-Фонд.
Ну и небольшой опрос по такому случаю.
В перспективе же мне стоит разбить тэг "этнография" по народам, а тэг "транспорт" - по видам транспорта. Но это уже сам.
|
Метки: Варандей-фонд |
БАМ! Часть 5: самым медленным поездом России от Буреи до Зеи |
Восточный БАМ похож на Старо-Невский - сказочные красоты и прославленная романтика остаются там, в западной половине, но здесь - своя атмосфера, таинственная тишина и уют уединённых дворов. Ещё - постоянство: от Комсомольск-на-Амуре до Тынды ходит единственный и ежедневный поезд. До недавнего времени он считался самым медленным в России из дальних - 1469км преодолевает за 36 с половиной часов со средней скоростью 39км/ч. Задержаться где-либо тут можно только строго на сутки, ни часом больше и ни часом меньше, и именно так мы осмотрели в прошлых частях Новый Ургал (построенную украинцами столицу Восточного БАМа) и соседний шахтёрский Чегдомын. Ну а теперь продолжим путь на запад - по тонкой нити среди топких марей и маленьких станций с большими вокзалами.
Запад и Восток Байкало-Амурской магистрали отличает своеобразная симметрия: Тайшету на Транссибе противолежит Ванино на дальневосточном море, индустриальному гиганту Братску на Ангаре - индустриальный гигант Комсомольск-на-Амуре, но и а Новый Ургал - это, соответственно, анти-Усть-Кут. Обе станции были границами сталинских строек, с той разницей, что на Западе успели открыть полноценное движение, а на Востоке проект бросили с освобождением заключённых, и комсомольцам да железнодорожным войскам пришлось его возрождать в 1970-80-х. Границами романтичного вольного БАМа, не знавшего зэковских проклятий, стали Лена и Бурея, которую поезд пересекает в 10 километрах от Нового Ургала:
2.
Бурея - один из 4 главных притоков Амура, причём - наименьший из них, что не мешает ей с расходом воды 890 м³/с быть рекой масштабов Оки или Дона. Бурея довольно коротка - 623 километра от истока Левой Буреи или 739 от истока Правой. Первая течёт с хребта Эзоп, вторая - с Дуссе-Алиня, которые в совокупности образуют Буреинский хребет, отделённый долиной реки от хребта Турана. В её низовьях действует Бурейский каскад ГЭС из двух звеньев. Бурейская гидроэлектростанция в Талакане стала первой крупной советской стройкой, возрождённой в постсоветскую эпоху: начатая в 1978 году, она вошла в строй в 2003-2007-м, и ныне входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций России (2010 МВт). Нижне-Бурейская ГЭС поменьше (320 МВт) да помоложе (2010-17) регулирует её сток. Водохранилища занимают практически всю длину русла меж двух магистралей: Нижне-Бурейская ГЭС находится в посёлке Новобурейский у транссибовской станции Бурея, а Буреинское водохранилище тянется от Талакана вверх на 234 километра, заканчиваясь буквально за тем поворотом реки. Впрочем, сейчас, вполне может быть, оно продолжается и дальше: 11 декабря 2018 года на его замёрзшую воду сошёл грандиозный оползень, образовавший ещё одну дамбу. Поднятое им 50-метровое цунами с обломками льда смыло лес на другом берегу: масштаб Бурейского феномена был таков, что первые несколько дней его считали падением крупного метеорита. Из вагонного окна я фотографировал вниз по течению, где мой взгляд привлёк 600-метровый мост АвтоБАМа - построенный в 1975 году, он замышлялся как сугубо технический, однако по его узкому (двоим не разъехаться) деревянному полотну до сих пор ездят редкие в этой глухомани машины.
3.
Первая станция за Буреёй - Алонка всего в часе пути от Нового Ургала:
4.
Если Новый Ургал строила Украина, то Алонку - Молдавия, о чём здесь напоминают орнаменты молдавских ковров и барельефы с виноградом, а на родине молдавских строителей - сигареты "Алонка", которые выпускал в 1970-80-х годах Кишинёвский табачный комбинат.
5.
За деревьями виднеются неимоверно белые дома, к которым явно не липнут пыль и тепловозная сажа - в нынешнем посёлке нет и 300 жителей, и стены явно некому отмывать. Не знаю, много ли здесь молдаван (активнее всего на бамовскую романтику во всех республиках откликнулись славяне), но поселковый клуб по-прежнему красиво называется "Флераш" ("Дудочка"). А мог бы называться, скажем, "Ариран" - около четверти жителей Алонки корейцы, и если верить сайту Верхнебуреинского района, здешние дети даже ездили в пионерлагерь "Сандован" в Северной Корее.
6.
Постояли - едем дальше. Надо сказать, слава нашего поезда как "самого медленного" несколько устарела даже среди "дальних" поездов: в последние годы РЖД успела замедлить (чтобы пассажиры могли выспаться) ниже 40км/ч поезда Уфа-Сибай и Москва-Кинешма и запустить странный поезд Грозный - Волгоград, идущий по степям более суток. А кроме того, не стоит забывать про эпический поезд Воркута - Лабытнанги: едущий днём и укомплектованный в основном общими вагонами, он не похож на поезда дальнего следования, но всё же формально относится к ним и со скоростью 27км/ч в этой антигонке явно приходит последним. Если же брать ещё и пригородные поезда, то абсолютный анти-чемпион тут дизель Земцы - Жарковский в Тверской области, плетущийся через её мхи (аналог марей) немногим быстрее пешехода. Но ощущения - штука хитрая: на Восточном БАМе маленькую скорость подчёркивает большое расстояние. За вагонными окнами проплывают глухие полустанки с типовыми вокзалами по проектам железнодорожных войск:
7.
Но больше - природа, в которой поражают не красота отдельных мест, а необъятность и дикость:
8.
Так что и не скажешь сходу, сделаны эти фото на цифру из окна тёплого уютного вагона или же на старую плёнку с поляны привала:
9.
Однако на фото эти виды куда эффектнее, чем в жизни: одно дело - смотреть картинки с телефона, коротая рабочий день, и другое дело - созерцать их в пыльном окне час за часом и даже день за днём. Сопки, мари и гари - весь восточно-БАМовский пейзаж:
10.
Неспешность поезда и необозримость пространств дополняет устройство линии, вьющейся, как мелкая река. Через пару часов после Алонки из петель и кривых вдруг показываются лесопилки и дома, облик которых сразу вызвал у меня дежавю - даже не зная о том, что Этыркен (500 жителей) строила Куйбышевская область, я бы догадался об этом, вспомнив похожие дома на рабочих окраинах Самары.
11.
БАМ здесь взбирается на хребет Турана (1806м) - довольно пологий, но всё же достаточный, чтобы со станции в низинке стоящий на склоне Этыркэн был весь как на ладони. За вокзалом виден ТОЦ - ещё одна БАМовская специфика: в маленьких посёлках все актуальные для жителей заведения от дома культуры до гастронома собирались в торгово-общественные центры. Перед ним - и третий столь же обязательный атрибут: камень-памятник строителям, напоминающий о том, что 2 октября 1981 на этом месте первый десант высадился с вертолёта.
12.
Этыркэн провожает столь же типичной для БАМа электростанцией с автографом теперешней Самары:
13.
Минут 5, может 10 - и снова смыкается глушь:
14.
Турана выглядывает из шкуры тайги одинокими скалами:
15.
А её пологий гребень разделяет Хабаровский край и Амурскую область. Там стоит стела в виде "плоского" чума, которую я готовился снимать из окна - но она предательским образом оказалась чуть восточнее границы областей, приближение которой я отслеживал по maps.me. Так что вместо неё - будка охраны высочайшего на БАМе моста (45м) через Правую Ульму:
16.
Границы регионов России, как известно, видны из космоса, и здесь это особенно заметно - за Тураной фактически сходит на нет АвтоБАМ. В теории он тянется вдоль всей магистрали, на практике же в этой части её выглядит вот так:
17.
Здесь и часовой пояс сменяется с +7 к Москве на +6, и от Этыркэна до следующей станции Иса - то ли без пяти час вперёд, то ли пять минут вспять. Из тайги появляются краны и лесопилки - скорее всего, китайские, хотя сейчас на БАМе присутствие "братьев навек" не так заметно, как в "нулевые".
18.
Вот из тайги показались и мрачные приземистые дома:
19.
У Исы не было шефства или по крайней мере оно не известно рунету - на самом деле случай на БАМе не редкий, просто "шефские" станции как-то более на слуху:
20.
Вокзал примечателен надписью "Федькин Ключ" на фасаде - такое название станция носила первоначально. Конечно, восходит оно к какому-нибудь переселенцу 19 века или даже казаку, но бамстроевцы быстро сочинили легенду, что здесь Фёдор Гвоздевский (главный проектировщих "сталинского" БАМа) ключи потерял. Ну а учитывая, что первый десант на Исе высадился 6 октября 1980 года, а переименовали станцию в 1982-м, скорее всего надпись "Федькин Ключ" уже на момент открытия вокзала лишь напоминала о прошлом:
21.
В нынешней Исе порядка 400 жителей, но застроена она в основном бараками и частными домами - видимо, так сказывается отсутствие шефства:
22.
Местность за Тураной, между тем, совсем уж разгладилась - Байкало-Амурская магистраль выходит на Зейскую равнину. Ниже по течению, у Транссиба и Амура - плодородные прерии, в то время как здесь лишь бескрайняя марь:
23.
Над которой нам открылась радуга - мы въезжали в полосу дождей:
24.
Которые обильно поливали Февральск в междуречье Буссы и Селемджи:
25.
Звучное название - отнюдь не в честь Февральской революции, а от села Февральского, которое основали переселенцы, в феврале 1896 года забравшиеся выше всех по льду Селемджи. По ней же в 1974 прибыли первые строители - три солдата и три капитана, по сути разведчики. Основные силы подтянулись лишь в 1980-м, но зато было их порядка 6 тысяч человек со всего Союза, вскоре двинувших колонны сквозь тайгу. Февральск стал главной базой стройки от Тынды до Нового Ургала, а название оставляет полное ощущение, будто это третий (наряду с Тындой и Северобайкальском) на "комсомольском" БАМе полноценный город. На самом деле Февральск с 1982 года ПГТ, к тому же потерявший половину населения - с 8,8 тыс. жителей в 1989 году он ужался до нынешних 4,5 тысяч.
26.
На перроне - памятный камень военным строителям, а за ним здоровенный вокзал. Я бы назвал его самым унылым на всём БАМе, так что даже сайдингом нечего испортить - прежде здесь был не фактурный гранит, а серый шершавый бетон:
27.
Чуть лучше смотрится неольшой, но очень светлый зал ожидания:
28.
А так как поезд в Февральске стоит порядка 40 минут - мы отправились прогуляться. К вокзалу примыкает сквер с воинским памятником (по виду - уже постсоветских времён) и явно современными плакатами:
29.
Здесь же - церковь Рождества Богородицы (2013), ещё более сайдинговая, чем вокзал:
30.
Февральск строил Красноярский край, поэтому главная улица посёлка - Енисейская:
31.
А архитектура паннельных домов и организация пространства здорово напомнили мне построенный в схожих условиях Кодинск:
32.
33.
Смотреть в Февральске просто откровенно не на что - на общем фоне хоть как-то цепляют взгляд недостроенная пятиэтажка:
34.
И одинокая школа:
35.
А о том, что Февральск стоит на краю главной житницы Дальнего Востока, напоминает обилие скота, пасущегося на газонах. Парой кадров выше можно разглядеть коров, а вот по пути на станцию встретились лошади:
36.
Под ударом ливня устроившие нам небольшой цирк с конями:
37.
38.
39.
До нитки мокрыми мы добежали на вокзал:
40.
Через забрызганные окна я так и не заснял Селемджу - в переводе с эвенкийского Железную реку, вполне сравнимую с Буреей по длине (627км) и расходу воды (707 м³/с). Но в число главных притоков Амура она не входит потому, что впадает близ Свободного в Зею:
41.
Под стук дождя я задремал, зато верная Оля сфотографировала следующую станцию Дугда:
42.
А вот один из самых интересных вокзалов Байкало-Амурской магистрали на станции Тунгала уже не сфотографирует никто - несколько лет назад его снесли. Видимо, как и в Сулуке, из-за трещин от вечной мерзлоты и каких-то ошибок: на фото 2011 года в посте
 mikka видно, что здание обнесено забором и подперто срубами. Тунгалу, как и Постышево, строила Новосибирская область, проектировал тот же самый архитектор Владимир Авксентюк, и на мой взгляд, здесь вокзал был даже интереснее:
mikka видно, что здание обнесено забором и подперто срубами. Тунгалу, как и Постышево, строила Новосибирская область, проектировал тот же самый архитектор Владимир Авксентюк, и на мой взгляд, здесь вокзал был даже интереснее:43. фото 1980-х годов. Взято отсюда, автор неизвестен.

От Тунгалы рукой подать до разъезда Мирошниченко, где 17 апреля 1984 года строители железнодорожных войск сомкнули Восточный БАМ. Сам Виктор Мирошниченко, уроженец харьковской Мерефы, не имел отношения к северной магистрали, но был он из железнодорожных войск, а Звезду Героя посмертно получил за то, что в 1941 году на Орловщине взорвал на пути немцев железнодорожный мост. Считалось, что Мирошниченко сделал это ценой своей жизни (бикфордовы шнуры были перебиты обстрелом), и лишь в постсоветскую эпоху было установлено, что физически тогда выжил, а умер два года спустя в концлагере близ польской Ченстоховы. Для железнодорожных войск Виктор Петрович был кем-то вроде великомученика, и свою победу над стихией военные строители посвятили ему.
44.
Современные фото разъезда есть в том же посте Крайнова, как и вокзал следующей станции Огорон с чрезвычайно вычурными металлическими панно и надписью. Мы вновь въезжаем на теневую сторону БАМа, которую пассажирский поезд в обе стороны проходит по ночам. Однако в темноте мы всё же вышли из вагона на станции Верхнезейск с почти часовой стоянкой:
45.
Крошечный посёлок (1,3 тыс. жителей) на полуострове Зейского водохранилища строила Башкирия, и как бы не интереснее вокзала тут необычная малоэтажная застройка, в том числе деревянные коттеджи, слегка напомнившие мне знаменитые "ромбовидные дома" Роттердама. Но до посёлка от станции ещё пара километров, так что вновь отсылаю уже в другой пост Крайнова. Нам оставалось созерцать вокзал да памятник солдату Олегу Апетёнку из белорусской Вилейки, погибшему в июле 1984 года при наведении понтонного моста через реку Мульгуму:
46.
Верхнезейск я рассматривал наряду с Новым Ургалом как место, где можно сделать суточную остановку. С трёх сторон окружённый водой, он стоит в верховьях не просто Зеи, а заполненного в 1974-80 годах Зейского водохранилища - 6-го в России по площади (2420 км²), а по объёму (68,4 км³) так и вовсе 3-го в стране (после Братского и Красноярского) и 10-го в мире. Зейская ГЭС (1330 МВт, 1975-80) в 220 километрах ниже по течению располагается близ Зеи - купеческого городка (22 тыс. жителей), который начинался в 1879 году как пристань Верхне-Амурской золотодобывающей компании, но первым в Амурской области после Благовещенска получил в 1906 городской статус. Там есть музей амурской золотодобычи и вроде даже сохранилось немало деревянных домов наподобие уничтоженных Гражданской войной в Николаевске-на-Амуре и Свободном, который стоит ещё ниже по течению, там, где реку пересекает Транссиб. От Свободного же, через плодородные прерии, недалеко до устья, в котором расположен Благовещенск - Амурская область фактически скорее Зейская область.
На БАМе же через Зею перекинут железнодорожный мост (1,2км), за которым примечательны аэродромный Горный и станция Улак, от которой ответвляется чуть ли не крупнейшая в России (321км) частная железная дорога. Начатая ещё в 2001-02 годах государством и законченная уже проложена в 2008-12 годах на деньги "Мечела", она ведёт к Эльге - уже однозначно крупнейшему в России месторождению коксующихся углей, активно поставляемых на китайские и японские металлургические заводы. На железную дорогу "Эльга-Транс" (так называется её оператор) блогеров не зовёт, да и весь вид её призван показать, что развлекаться тут нечего - даже станции, помимо конечных Верхнего Улака и Эльги, называются просто А и Б, и уж тем более там нет интересных построек. Эльгой с растущими буквально на глазах разрезами мне повезло полюбоваться с самолёта, а подробный фоторассказ обо всём этом есть у
 gelio.
gelio.Ну а на теневой стороне от Зеи до Тынды остаются станции Тутаул и Дипкун, построенные Московской областью, и построенная Тульской областью станция Маревая, на которой ещё один, не слишком красивый вокзал, вокзал снесли не так давно. За фотографиями всего этого (кроме Тутаула - он по прошлой ссылке) могу лишь снова отослать в рассказ Крайнова.
47.
Нас на утро ждала стольная Тында, "самый дальний район Москвы", о котором, по итогам двух поездок разных лет - в следующей части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкминск - Новая Чара.
Две Чары и Чарские пески.
Чинейская железная дорога. Посёлок Чина.
Чинейская железная дорога. Трасса.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Северобайкальск - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Дальний Восток природа транспорт дорожное |
Чегдомын. Шахтёрский остров в бескрайних марях. |
Чегдомын - ПГТ (11,5 тыс. жителей) на одноимённой реке, центр Верхнебуреинского района Хабаровского края, в 35 километрах от показанной в прошлой части БАМовской станции Новый Ургал. Которую строила в 1970-80-х годах Украина, в особенности - отряд "Донбасс". Чегдомын же сам себе угольный бассейн, и поезда встречал задолго до прибытия на будущую Байкало-Амурскую магистраль первых комсомольцев. А вокруг двух посёлков на сотни километров нет ничего, кроме холодных гор, дикой тайги, топких комариных марей, среди которых вся цивилизация держится на тонких нитях железных дорог.
В Приамурье железные дороги образуют кольцо, на деле представляющее собой скорее трапецию. Её южная сторона - Амурский Транссиб, проложенный ещё в 1910-х годах; северная - Байкало-Амурская магистраль, которую в этой части начинали строить ещё зэки при Сталине, а закончили железнодорожные войска, две колонны которых встретились в 1979 году на разъезде Уркальту. На западе и востоке Еврейской автономной области же со сталинских времён уходят на север две линии, перпендикулярные Транссибу и БАМу - ВолК (Волочаевска - Комсомольск-на-Амуре) почти от Хабаровска и одинокая ветка вдоль Буреи. Первая из них понятна и закономерна - она соединяет Хабаровск с крупнейшим на Дальнем Востоке индустриальным гигантом, а вот Буреинская железная дорога тянется сквозь сопки, мари, годы и судьбы куда как более извилисто. Ещё в 1844 году остзейский немец Александр Миддендорф исследовал тайгу в глухом углу на тогдашней китайской границе, которая вскоре сместилась со Станового хребта на Амур. Из трудов Миддендорфа геологам было известно, что в верховьях Буреи и на её притоке Ниман есть выходы каменного угля, но без малого век это был просто географический факт: крупной промышленности в дореволюционном Приамурье не сложилось, а домам, паровозам и пароходам вполне хватало угля Сахалина и Сихотэ-Алиня. Совсем иное дело - советская эпоха: планы индустриализации и опасное соседство с воинственной Японией требовали поиска новых месторождений в глубине страны. В 1931-32 годах на Бурею послали Скорохода - Василия Захаровича Скорохода, руководителя геологической партии, вскоре разведавшей Буреинский угольный бассейн. По запасам и площади Бурбасс был невелик, но угли его представлялись очень качественными и очень доступными, если это слово уместно для копей за сотни вёрст от людского жилья. Следом за геологами, в 1933 году, в буреинскую тайгу отправились геодезисты Ургальской экспедиции, несколько лет в тяжелейших условиях искавшие трассу железной дороги. Её строительство от станции Известковая на Транссибе до реки Ургал (на фото) началось в 1938 году, и в ноябре 1941 года по новой линии длиной 339 километров пошли первые поезда.
2.
Думаю, не стоит пояснять, каково было значение этого угля для Дальнего Востока в последующие несколько лет, пока Донбасс был под пятой оккупанта, а Транссиб занимали военные эшелоны. В 1944 линию разобрали, перекинув её пути на Старый БАМ к Ванинскому порту... но уже в 1945-47 годах построили заново, видимо с учётом каких-то ошибок изначальной трассы. И - проложили чуть дальше: новая ветка длиной 363 километра не заканчивалась в Ургале, а доходила до шахт на берегу Чегдомына. В наше время в ней и вовсе 379 километров - в 2007 часть путей попали в зону затопления нового Буреинской ГЭС, так что пришлось строить чрезвычайно крутой обход возникшего залива. Сама линия Известковая - Чегдомын столь же малоизвестна путешественникам, сколь и красива: на ней нет интересных вокзалов (а вот деревянные пока сохранились), но есть прижимы к скалистым берегам Буреи, живописные виадуки (например, над рекой Яурин) и крошечные станционные посёлки посреди тайги. С Ургала на востоке же ещё в 1947-году начали строить БАМ, и хотя та попытка не удалась, к 1974 году в верховьях Буреи железнодорожные войска и комсомольцев "Укрстроя" ждали готовый плацдарм и тыловая база. Узлом таёжных рельс в итоге стал Новый Ургал - 12 километров до него теперь общие для двух линий, за Новым Ургалом расходящихся на запад, а за Старым - на восток. Там же, у Старого Ургала, от АвтоБАМа ответвляется куда как более накатанная дорога, пересекающая пути.
3.
Автодорога и соединяет два посёлка, и в сентябре 2020 года жители обоих в один голос говорили нам, что никакого рейсового транспорта по ней нет - ходил дескать раньше ПАЗик, пока кто-то из администрации Верхнебуреинского района не наложил волосатую лапу на таксопарк. В комментах к прошлой части это опровергают и
 mikka, догадавшийся посмотреть расписание в интернете, и сами ургальчане, каким-то образом обнаружившие мой пост. Но у автобуса в любом случае всего два рейса в день, между которыми есть лишь такси за 2000 рублей. Мы вышли на край Нового Ургала и вскоре поймали машину, за рулём которой была столь дальневосточная бодрая, даже удалая женщина со звонким голосом. По пути она ругала колдобины, рассказывала нам о проходимости АвтоБАМа (худо-бедно проезжая грунтовка заканчивается на станции Солони, а дальше только зимник без мостов до Герби) и о том, что Новый Ургал и Чегдомын существуют как одно целое - народ ездит между посёлками на работу, учёбы и отдых. При виде Олиных перьев женщина вспомнила, как недавно в Чегдомыне энтузиасты выхаживали подраненного нырка и отпустили обратно в природу. Что за нырок, мы ломали голову, пока водительница не показала фото на телефоне - у нас такую птицу называют баклан, но здесь, видимо, стар и мал знает, что баклан - это кое-что другое. Птичья тема же продолжилась на озерце, у которого мы остановились - в то лето на его воде можно было увидеть цаплю с выводком утят, для которых она подменила куда-то пропавшую утку. Об этом даже писали в местных газетах, а вот нам увидеть живую достопримечательность не повезло:
mikka, догадавшийся посмотреть расписание в интернете, и сами ургальчане, каким-то образом обнаружившие мой пост. Но у автобуса в любом случае всего два рейса в день, между которыми есть лишь такси за 2000 рублей. Мы вышли на край Нового Ургала и вскоре поймали машину, за рулём которой была столь дальневосточная бодрая, даже удалая женщина со звонким голосом. По пути она ругала колдобины, рассказывала нам о проходимости АвтоБАМа (худо-бедно проезжая грунтовка заканчивается на станции Солони, а дальше только зимник без мостов до Герби) и о том, что Новый Ургал и Чегдомын существуют как одно целое - народ ездит между посёлками на работу, учёбы и отдых. При виде Олиных перьев женщина вспомнила, как недавно в Чегдомыне энтузиасты выхаживали подраненного нырка и отпустили обратно в природу. Что за нырок, мы ломали голову, пока водительница не показала фото на телефоне - у нас такую птицу называют баклан, но здесь, видимо, стар и мал знает, что баклан - это кое-что другое. Птичья тема же продолжилась на озерце, у которого мы остановились - в то лето на его воде можно было увидеть цаплю с выводком утят, для которых она подменила куда-то пропавшую утку. Об этом даже писали в местных газетах, а вот нам увидеть живую достопримечательность не повезло:4.
Работала водительница на Ургальской ЦЭС (как тут по старинке называют ТЭЦ), у поворота на которую нас и высадила. Вскоре мы поймали другую машину с мужиками, направлявшимися на рудник, но ради нас заехавшими в центр посёлка. Всё показанное далее мы осмотрели уже пешком и в обратном порядке. Со стороны Ургала (другой стороны, впрочем, тут попросту нет!) Чегдомын встречает пассажирской станцией:
5.
Она была оборудована на безымянных шахтных ветках только в 1958 году, а невзрачное здание вокзала (кадр выше) явно построили и того позже:
6.
Однако поезд Хабаровск - Чегдомын курсирует ежедневно, и ехать ему более 16 часов с 45-минутными стоянками в Новом Ургале и Известковой. Раньше, уверен, ургальчане и чегдомынцы спокойно ездили меж двух посёлков "зайцами", но у нынешней РЖД, конечно, так не забалуешь.
7.
Перспектива станции упирается в таёжный склон, который делит Чегдомын на два посёлка. Нижний Чегдомын - исходный: первые палатки, землянки и бараки люди поставили здесь ещё в 1939 году, не дожидаясь железной дороги. От транссибовской станции Бурея их везли вверх по реке пароходы с донельзя соцреалистическими названиями "Свободный", "Экономный" и "Батрачка", и против течения, по мелям и перекатам путь занимал до 9 дней, заканчиваясь в тогдашнем райцентре Чекунда. Ему на смену строился посёлок Средний Ургал, но хоть туда, хоть напрямую в Чегдомын добирались в те времена только катером или лодкой.
8.
Деревянные домики и школа Нижнего Чегдомына - скорее ровесники станции:
9.
И облик лесопилки вряд ли изменился с тех времён, когда для них изготовлялись материалы. В позднесоветские годы Чегдомын, наряду со станцией Тырма по пути в Известковую, был одной из главных баз лесорубов из Северной Кореи, работавших в СССР. Жили они обособлено и впроголодь, со своими полицией и безопасниками, и мне рассказывали про заброшенный Корейский городок, слегка похожий на лагерь гулага - вплоть до изолятора... Однако рассказывали уже после поездки, так что найти его нам не случилось.
10.
А потом из-за деревье вдруг вырастает рукотворная гора - это отвалы Буреинского угольного разреза, давшего жизнь посёлку среди марей. Первые десанты строителей, среди которых, вопреки обычаю той эпохи, не было заключённых, лишь готовили место в ожидании морозов, с началом которых по зимникам на автомашинах сюда начали завозить оборудование. Строительство первых шахт началось в 1940 году, но они представляли собой самые примитивные штольни с конной тягой, а работали скорее потому, что в начавшейся войне выбирать не приходилось. Настоящее развитие пришло на Бурбасс в 1947 году, когда по воссозданной железной дороге сюда начала поступать современная техника, с помощью которой вскоре были построены и оснащены Буреинский разрез и шахта "Ургал". В 1950-60-х объёмы дОбычи увеличились в десятки раз, к началу 1970-х перевалив далеко за миллион тонн угля ежегодно.
11.
У поворота дороги - целая площадка, усыпанная фрагментами карьерной техники:
12.
В первую очередь - колёсами "белазов" (ну или их зарубежных аналогов) поперёк подошвы почти в человеческий рост:
13.
14.
Рядом - ковши экскаваторов и ещё бог весть что, а за этим странным полем обломков лепится к склону и явно сталинское здание с крыльями позднесоветской эпохи - видимо, контора "Буреяшахтстроя". Чегдомын стал тылом стройки Восточного БАМа, но завершённый БАМ принёс сюда следующую реконструкцию, начавшуюся в 1980-х годах шахтой "Северная", а продолженной уже в 2010-х обогатительной фабрикой "Чегдомын" и ещё одним Правобережным разрезом.
15.
Нынешний хозяин Чегдомына - учреждённый в 1994 году "Ургалуголь", часть крупнейшей в России и входящей в пятёрку крупнейших в мире Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК). Современный Чегдомын добывает 7,5 миллионов тонн угля в год - против 2,5 миллионов в 1980-е годы, и большая часть добытого экспортируется через Ванинский порт к всяческим Азиатским тиграм.
16.
Дорога тут делает крутой поворот, огибая свалку колёс и ковшей. С другой её стороны - площадка обеих шахт. У КПП стоит на постаменте (с 2013 года) проходчный комбайн-памятник 1ГКПС (такие делаются в Копейске близ Челябинска), а на одном из зданий завлекает гостей вывеска "Шахтёрская столовая".
17.
За подъездными путями, с которых открывается неплохой вид на двор шахты, дорога начинается набирать высоту так, словно мы сели по ошибке в "элочку", что летают с 2017 года в Хабаровск из расположенного неподалёку аэропорта. Впереди - мощный треугольный мыс меж пойм Ургала и Чегдомына. С подъёма открываются впечатляющие виды шахтёрской промзоны:
18.
По словам местных, туристу приезжать в Чегдомын лучше в будние дни - ежедвным зрелищем шахтёрского посёлка становятся взрывные работы в разрезе. В Чегдомыне от взрыва дрожат стёкла, а над отвалами поднимается ярко оранжевое, иногда отчётливо грибовидное облако. Момент взрыва есть на этом видео (если не переносите мат - смотреть без звука!), и ядовитый цвет пугает - хотя на самом деле это просто пыль здешних пород.
19.
Та же пыль висит над разрезами постоянно - даже по моим фото видно, насколько мутный в Чегдомыне воздух:
20.
Подъём отмечает памятник жертвам репрессий - угледобычу здесь поднимали добровольцы, но железную дорогу тянули Бамлаг, Амурлаг, Бурлаг...
21.
Там, где склон начинает выполаживаться, тянется частный сектор, на краю которого мы с Олей набрели вот на такую самодельную карусель. Не знаю, как такую называют здесь, а вот в моём пермском детстве она называлась гиганы:
22.
Подъём приводит в Верхний Чегдомын, становясь его главная улицей, которая здесь называется просто и техногенно - Центральная:
23.
Верху и Низу пришлось поначалу поспорить за то, какой район станет главным Первые бараки на сопке начали строиться ещё в 1940 году, но вскоре опустели и заросли малиной - народ предпочёл жить в низине, ближе к штольням и поездам, где разрослась Самостройка. В 1949 на косогоре был снова заложен Соцгородок, до 1960-х остававшийся в народе Стройгородком, и лишь в позднесоветское время, с появлением комфортабельного жилья и автобусов от дома до работы, окончательно ставший центром Чегдомына. Однако вдоль Центральной, Пионерской, Рабочей улиц ещё стоят деревянные дома времён его зарождения:
24.
И в некоторых из них явно живут интересные люди:
25.
Чегдомын отнюдь не бедствует, и хотя за пределами шахт тут немного работы, на шахтах никого не удивишь зарплатой в 100 тысяч рублей. Однако даже зажиточный шахтёрский посёлок в глуши остаётся шахтёрским посёлком в глуши, где нравы суровы, а жизнь однообразна и скучна. СУЭК, администрация и жители явно пытаются сделать посёлок красивее - но только явно не очень-то знают, как:
26.
А население тем временем убывает - с 1989 года, когда в Чегдомыне было 20 тыс. жителей, посёлок сдал примерно вдвое:
27.
На косогоре среди бараков встречает такая же деревянная церковь Новомученников Российских (2003-07):
28.
Неожиданно огромная и я бы сказал, довольно симпатичная для нынешних времён:
28а.
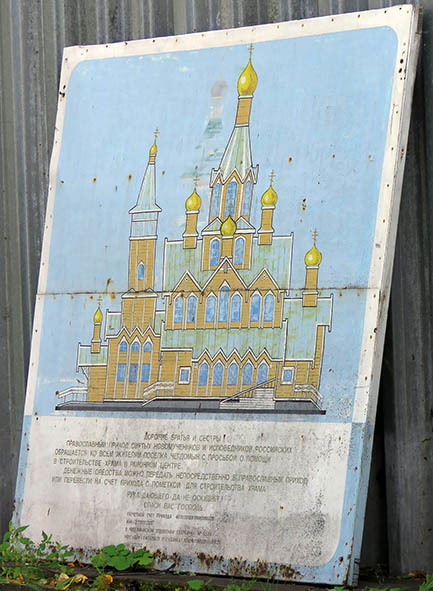
Особенно - минимализмом деревянных интерьеров:
29.
Окрестные дома и улицы можно попробовать соотнести с вот этим текстом, я же просто созерцал здесь колорит дальневосточной глухомани:
30.
А Чегдомын - он в первую очередь именно глухомань, и лишь во вторую шахтёрский посёлок. Если между окраинами Донецка или Прокопьевска, Караганды или Воркуты есть что-то неуловимо общее, то Чегдомын гораздо больше напоминает глухие станции БАМа или посёлки хоть на протоках Оби, хоть на притоках Амура, доступные лишь по воде.
31.
31а.

Чегдомын - не шахтёрский посёлок в глуши, а глушь, в которой трудятся шахтёры.
32.
Центр Чегдомына открывает импровизированная площадь Ленина с кинотеатром "Ургал" (1955). Обратите внимание на рукописные афиши вполне современных (на момент нашей поездки) фильмов:
33.
И не случайно именно тут стоит Ильич: открытие "Ургала" стало своеобразной вехой в истории Чегдомына. Ведь раз уж тут крутят кино, значит посёлок поставлен всерьёз и надолго, и люди пришли сюда не только работать, но и жить. Если верить заезжему урбанисту, этот подход не меняется - лет 5 назад главной мечтой чегдомынцев было достроить бассейн.
34.
Центральная улица тянется по гребню мыса своеобразной летописью, и после "Ургала" на ней встречают каменные дома 1950-х годов, да и деревянные назвать бараками язык не повернётся:
35.
У школы с плакатами для будущих тружеников подземелья - эффектный памятник Героям Космоса (1966):
36.
Дальше расположилась Аллея шахтёрской славы, состоящая по сути из одного валуна с надписью "Шахтёрам Ургала, погибшим на боевом и трудовом фронтах", который был поставлен в 2007 году на соседней площади Блюхера и в 2010-м перенесён сюда:
37.
К мемориалу "Последняя Атака" (1975) - явному символу Чегдомына. При первом взгляде он впечатляет странными пропорциями фигуры солдата, а при втором - размером списка павших воинов из этих, казалось бы, почти безлюдных мест.
38.
Ещё парой кварталов дальше - собственно, площадь Блюхера, "самый центр" Чегдомына на стыке сталинок и хрущоб. Название её не случайно: именно Василий Блюхер, так неудачно оступившийся в 1938 году на Хасане, был главным лоббистом освоения здешний углей. С одной стороны Центральной улицы стоит Дом культуры (1973), с другой ведёт вниз симпатичный бульвар, благоустроенный в 2019 году на деньги СУЭКа:
39.
Где-то на нём по идее должен стоять мемориальный камень БАМовцам, привезённый в 1983 году с заречного хребта Туран, но мы его не приметили и даже спросить у прохожих забыли. Нам на бульваре попались берёзы с глазами...
40.
...и пятиэтажки со счастьем:
41.
Бульвар упирается в здание Межшкольного учебного комбината (1977), вмещающее библиотеку и краеведческий музей. Музей нам очень рекомендовала та водительница, что показывала озеро с цаплей, но ещё больше она расхваливала турклуб "Янкан" и его руководителя, который знает про эти места всё и наверняка был бы рад нечастым в этих краях путешественниками. Увы, из всего перечисленного открыта оказалась лишь библиотека - у музея в воскресение выходной, а туристы ушли в поход в какие-то дикие горы.
42.
Благо, походы - тот вид развлечений, который Чегдомын может предложить в достатке. Посёлок действительно кажется островом, о который разбиваются волны, гонимые ветром по древесным кронам, и старожилы помнят, что бруснику и голубицу собирать тут можно было прямо во дворах. Теперь по грибы-ягоды придётся пройти пару километров, но самое, пожалуй, яркое, что только есть в невзрачном Чегдомыне - это виды на окрестную тайгу:
43.
Хорошо заметные склоны уходят в обе стороны от Центральной улицы, но явным "фасадом" Чегдомын обращён на юг, к долине Чегдомын-реки и далёкому Буреинскому хребту. Вытянутый на 400 километров, он представляет собой прямое, куда более мощное и высокое (2370м, хотя известнее вершина Город-Макит, 2298м) продолжение Малого Хингана. Хребет разделяет бассейны Среднего и Нижнего Амура: на запад с этих гор текут Бурея и другой крупный приток Селемджа, на восток - Амгунь, впадающая в Амур недалеко от устья. К Буреинскому хребту то ли принадлежат, то ли примыкают меньшие хребты со звучными названиями Эзоп (!), Ям-Алинь и Дуссе-Алинь, красотой и высотой не уступающие куда как более знаменитому Сихотэ-Алиню. В глубине Дуссе-Алиня скрыт горный лагерь "Гремячий Лог", куда можно попасть лишь вертолётом, а от него ещё дней десять идти туда, где смотрят в небо зубчатые скальные "замки", пики с названиями вроде Неприступный (2072м) и грандиозные каменные цирки, в которых хлещут водопады (как 70-метровый Медвежий) и лежат круглые тёмные озера, в первую очередь Корбохон - "Зелёный кристалл в чёрной оправе". Но я не знаю, видны ли те горы отсюда - туристов на Гремячий Лог забрасывают из Бриакана на восточной их стороне...
44.
Даже больше сопок в чегдомынских панорамах впечатляют мари, по-нашему болота - дальневосточное слово известно не так широко, как сопка или падь, однако не менее важно в местных реалиях. И глядя с Чегдомына на необозримое безлюдное пространство, совсем не удивляешься созвучию слов "марь" и "море":
45.
Как уже говорилось, всё это мы прошли в обратном порядке - мужики с рудника завезли на площадь Блюхера, а оттуда мы спустились пешком до вокзала. Вернее, последние полкилометра нас подвезли двое гастрбайтеров, которым русские пассажиры были нужны позарез - до отправления поезда было двадцать минут, а они не знали, где касса. Мы попытались было уехать в Новый Ургал на том же поезде, но билеты стоили по 500 с лишним рублей, а с проводницами договориться не вышло. Следующая машина вновь подвезла нас до поворота на ЦЭС, а там появились из-за поворота явно вахтовые ПАЗики, ехавшие в Новый Ургал порожняком. На них мы и вернулись ночевать в комнатах отдыха вокзала: самый медленный в России поезд Комсомольск-на-Амуре - Тында тут единственный и ежедневный, и Чегдомын мы осмотрели просто потому, что без смены направления приехать в эти края можно или на 40 минут, или на сутки. Ну а дальше на запад через бескрайние мари отправимся в следующей части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали. Горный БАМ.
Олёкминск - Новая Чара.
Две Чары и Чарские пески.
Чинейская железная дорога. Посёлок Чина.
Чинейская железная дорога. Трасса.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Северобайкальск - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Дальний Восток природа транспорт дорожное шахтёрское индустриальный гигант |
БАМ! Часть 4: Новый Ургал, столица Восточного БАМа |
Новый Ургал - ПГТ (6,1 тыс. жителей) в Хабаровском крае, куда в прошлой части мы доехали из Комсомольск-на-Амуре по Тёмному БАМу. Этот сегмент магистрали железнодорожные войска восстанавливали в 1970-х годах на основе незавершённых гулаговских строек, а пассажирские поезда неизменно проходят его по ночам. Свет дня же и комсомольскую романтику открывает Новый Ургал, административный центр и главная станция Восточного БАМа, который построила на островке среди сопок и марей тогда ещё братская Украина.
Ургал - это едва заметная на водообильном Дальнем Востоке река, впадающая неподалёку в Бурею. С 1934 года на ней работала Ургальская экспедиция: к тому времени Советы уже знали о богатейших угольных копях Чегдомына, а вот как до них добраться через безлюдные сопки, топкие мари и вечную мерзлоту - был ещё вопрос... В тяжелейших условиях, порой наблюдая пролетавшие над лагерем гидропланы БАМовской аэротофосъёмки, к 1938 году экспедиция разведала оптимальную трассу для железной дороги, которую потянули на север от транссибовской станции Известковая. Линия длиной 339 километров была завершена поздней осенью 1941 года, и для Дальнего Востока сделалась дорогой жизни - Донбасс вскоре оказался под пятой оккупанта, Транссиб был занят военными эшелеонами, а поставки сахалинского угля могла в любой момент оборвать Япония. Две угрозы из трёх были сняты к 1944 году, а вот третья вышла на передний план, поэтому Ургальскую ветку разобрали, отправив рельсы на строительство линии в Ванинский порт. Когда же 1945-м Красная Армия смела самураев на сопках Маньчжурии, железнодорожники поняли, что слегка погорячились, и к 1947 году, с учётом ошибок предшественницы, линия Известковая - Чегдомын длиной уже 363 километра была проложена во второй раз. От станции Ургал за два десятка километров до Чегдомына сталинская стройка поползла "по трассе БАМа" на восток, и к 1953 году зэки успели выкопать тоннель под хребтом Дуссе-Алинь и проложить пути до его начала - всё это я показывал в прошлой части. О той эпохе напоминает теперь ленд-лизовский паровоз Еа с номером 2015, поставленный в 2016 году на перроне Нового Ургала:
2.
Со смертью Сталина и освобождением заключённых строительство Байкало-Амурской магистрали остановилось, а вот на Чегдомыне дОбыча и жизнь только набирали обороты. На Известковую и дальше по Транссибу оттуда ходили пассажирские поезда и тяжёлые товарняки, а сам Чегдомын стал островом жизни среди бескрайних комариных марей. Потому совсем немудрено, что с возрождением Байкало-Амурской магистрали одним из ключевых узлов "стройки века" вновь сделался Ургал. В 1974 году сюда был переброшен целый корпус железнодорожных войск, начавших с боями (против тайги и её хитиновых обитателей) прорываться к Комсомольску и Тынде. Вот только сам Ургал I, как оказалась, был расположен не слишком удачно: достаточное обширное для узловой станции ровное место между топкой поймой Ургал-реки и её крутым коренным берегом нашлось лишь в 12 километрах западнее, у Разъезда №3, вскоре получившего полуофициальное название Ургал II.
2а.

Военные строители на Восточном БАМе прокладывали только сами пути, а вот посёлки, как и на Западном, строили комсомольцы. Третий центр БАМа и его ворота в Зелёный Клин взяла под опеку Советская Украина, и 25 октября 1974 года на Разъезде №3 высадился отряд "Донбасс" под началом Николая Лукъяненко. Год спустя подтянулись "Киев", "Харьков", "Днепр" и "Карпаты", и первыми домами хлопцев та дивчин были те же вагоны, снятые с путей. Поначалу "Укрстроевцы" вместе с военными будували станцию, и лишь после 1979 года, когда одна колонна железнодорожных войск замкнула рельсовое кольцо Дальнего Востока на разъезде Уркальту, а другая ушла далеко в сторону Тынды, за строительство "постоянного" посёлка взялись всерьёз.
3.
Всё это время он так и числился Посёлком Третьего разъезда, и лишь в 1985 году получил своё нынешнее название да статус ПГТ, а дальше лишь в силу известных событий ему не случилось стать городом. Подавляющее большинство капитальных зданий Нового Ургала строились в 1980-85 годах, и например вокзал был сдан в 1982-м:
4.
Снаружи он здесь, сказать прямо, один из самых невзрачных на БАМе. Даже сайдинг пошёл зданию только на пользу: прежде на месте этих пластиковых "полубрёвен" была такая же коричневая штукатурка.
5.
Единственное украшение фасадов - барельефы, на одном из которых со стороны путей запечатлено здание Верховной Рады:
5а.
Но ещё до поездки я знал, что главные красоты у вокзала внутри. Попасть туда оказалось не так-то просто: с обеих сторон центрального зала стоят посты с рамками, на каждом из которых дежурит по несколько человек охраны! Понятно, что таким образом в глуши решается проблема трудоустройства, но охранники, приметив туристов с парой больших рюкзаков,взялись демонстрировать всевидящему оку начальства, что хлеб свой не зря едят. Кажется, отряд "Донбасс" успел реорганизоваться в отряд "ДНР" - разбор рюкзаков и пояснение о каждой вещи, что это и зачем, слегка напомнил периодические задержания ополченцами в мою давнюю поездку по народным республикам. С той разницей, что где-то на трети рюкзаков охранникам это надоело, и они переключились на игру повеселее - заставили нас включить все гаджеты, как делают на входах в некоторые аэропорты. И лишь фотографировать нам пытались помешать не столько они, сколько тётка из комнат отдыха...
6.
Фотографировать же тут было что. Фризы и колонны с орнаментами вышиванок обрамляют мозаику, на которой нашлось место и девам "братских народов" в национальных костюмах, и терриконам и трубам Донбасса, и Всесоюзным Ударным Комсомольским будням в тайге:
7.
7а.

Бонусный уровень - майолика в буфете на втором этаже:
8.
Где ударники, выйдя на покой в квартирах "постоянок", могли бы выпить стопку горилки, навернуть борща с галушками да вообразить, будто за окном не трескучий мороз или тучи гнуса, а белый каштан на Крещатике, опаленные солнцем курганы, пихтовый воздух Карпат и прочий садок біля хати...
9.
9а.
10.
Мы же заявились на вокзал не только подивитися, но и переночевать - поезд по Восточному БАМу ходит всего один, то есть мы высадились здесь ровно на сутки. Дивиться, увы, пришлось не в украинском, а самом что ни на есть русскоязычном значении этого слова, причём - со знаком минус. На вопрос о комнате отдыха охранники во главе со строгой коренастой женщиной начали было возмущаться и посылать нас в поселковую гостиницу, но выпустив пар, понемногу стали проникаться к нам интересом и симпатией. Оказалось, что комната отдыха в Новом Ургале таки есть и стоит по 800 рублей за ночь с человека, что в общем вполне божеская цена для этих глухих мест. И - вполне неплохих условий: за дверью напротив буфета спрятано несколько двухместных номеров и общий на всех, очень чистый санузел. Но не успели мы обрадоваться, как смотрительница сообщила, что с большими рюкзаками она нас туда не пустит, и если мы хотим ночевать здесь - их придётся сдать в камеру хранения. Причём - на двое календарных суток, так как расчётный час у РЖД глубокой ночью. Таким образом к 800 рублям добавлялось ещё 360, то есть на двоих нам предлагалось заплатить 2320. Таких правил я не видел более ни на одном вокзале, ничего не сказано о них и на сайте РЖД, так что судя по всему мы столкнулись в Новом Ургале с обыкновенным самоуправством. Причём, как я понял, это даже не противоковидная инициатива: сотрудники вокзала уверяли нас, что такие правила у них были "всегда". Когда же я попытался добиться хоть какого-то обоснования, мне ответили, что комнаты отдыха в Новом Ургале - для работников РЖД, и согласившись нас заселить, нам ещё одолжение делают и работой рискуют, а рюкзаки нужно сдать потому, что тут везде камеры. "Везде камеры" - это верный маркер того, что договориться с исполнителями не удастся, и права качать имело бы смысл только начальству, которое, как ему и полагается, в тот день отсутствовало. Оставив Олю в зале ожидания, перво-наперво я пошёл в посёлок искать гостиницу.
11.
Вокзал в Новом Ургале стоит по сути дела в парке на краю приречной низины, по которой раскинулась станция. По аллее с полкилометра до местной Потёмкинской лестницы (странно, что тут не было отряда "Одесса!"), за которой начинается посёлок:
12.
Лестница выводит к кубическому памятнику строителям Восточного БАМа. Один из самых интересных монументов на всей магистрали, он был поставлен в 1980-м году, с началом стройки постоянного посёлка, и остался явным символом Нового Ургала. Справа от куба - грандиозный ДКЖД (1989), в ансамбле посёлка занимавший место кафедрального собора:
13.
Слева - торговый комплекс:
14.
Своей архитектурой напоминающий какое-то странное связующее звено современных ТРЦ и советских универмагов. В конце концов и строился он в те времена, когда капитализма ждали явно больше советских людей, чем коммунизма.
15.
Третье здания на площади - неожиданная в маленьком посёлке высотка бывшего Ургальского отделения Байкало-Амурской железной дороги. Последняя была упразднена как отдельный железнодорожный регион в 1997-м, но немалая часть служб и после этого осталась в своих кабинетах уже под началом Дальневосточной железной дороги.
16.
Между трёх зданий - сквер Николая Лукьяненко, под руководством которого "Укрстрой" в 1974-м году прибыл на БАМ. Здесь стоит россыпь памятников - скромный мемориал Победы (1995) по соседству с БАМовским Кубом:
17.
И глыба Строителям Ургала, перенесённая сюда в 1999 году. Изначально, с 1976 года, она стояла у первого каменного здания в посёлке:
18.
За сквером и пространством площади начинается Киевский микрорайон:
19.
Как я понимаю, дончане строили больше инфраструктуру, киевляне - жилые дома, и орнаменты их невольно заставляют вспомнить Чернигов или Полтаву:
19а.

На центральной Киевской улице, в подъезде многоэтажки, нашлась и гостиница. За стойкой встретила симпатичная молодая администраторша в каком-то винтажном камзоле, но за двухместный номер без удобств тут выходили примерно те же деньги, что и на вокзале, и я рассудил, что раз уж мы уезжаем с утра, лучше селиться поближе к перрону. Вернувшись на вокзал, перебрав рюкзак и сдав его в камеру хранения, дальше по посёлку гулять я пошёл уже с Ольгой...
20.
В одном из дворов нас окликнул с балкона мужичок, похожий на тех "каменных баб", что стоят у музея в Днепр(опетровск)е и университета в Луганске. Откуда-то из тех краёв он и приехал сюда в 1970-х, и всё вокруг тут строилось не просто на его глазах, но и с его участием. Балкон же его глядит на одну из достопримечательностей Нового Ургала. Несколько разлапистых елей, похожих на пихты в Карпатах, гораздо старше окрестных домов, и весь посёлок помнит (а Яндекс - почему-то нет) историю о том, как ургальчане намяли бока обнаглевшему мэру, вознамерившемуся срубить одну из них.
21.
Киевский микрорайон занимает добрую половину Нового Ургала, 3/4 его капитальной застройки. В глубине скрыта школа нетипового проекта:
22.
Она глядят фасадом на Ростовскую улицу - не очень понимаю, причём здесь был Ростов-на-Дону в 1980-х, но сейчас это название в контексте Украины звучит иронично. За Ростовской - Южный микрорайон, совместное творение дончан, харьковчан и днепропетровцев:
23.
Часть домов в Новом Ургале стоит на высоких подклетах (на кадре выше), как правило указывающих на вечную мерзлоту - под ними скрыты сваи, забитые ниже оттаивающего летом верхнего слоя. Однако у других домов входы на уровне земли и окна первых этажей не выше, чем в украинских чернозёмах:
24.
Киевская и Ростовская упираются в Донецкую улицу. За ней лежит сквер с Ильичом (1985), которому Ленинопад явно не угрожает. Более того, он и поставлен был неофициально - просто один из начальников стройки вспомнил, что у него есть друг-скульптор в Киеве, после чего "Укрстроевцы" скинулись и заказали ему монумент.
25.
На здании администрации - мотивы Петриковки, а вот что за странная лавочка на кадре выше - пусть кто-нибудь из урбанистов объяснит:
26.
Западнее Донецкой улицы ещё один микрорайон, который мне так и хотелось назвать Карпатским:
27.
Что по архитектуре домов, что по расположению на косогоре... Станция Новый Ургал в несколько раз (!) обширнее посёлка: БАМ здесь раздваивается, и на двух параллельных линиях расположены два парка - пассажирский у подножья и грузовой вдали. В советское время депо Новый Ургал считалось образцовым на всей Байкало-Амурской магистрали:
28.
"Карпатский" квартал же на самом деле Армейский - его строили ещё военные. С противоположной склону стороны, на Киевской, 10, стоит уже упоминавшийся первый в Новом Ургале капитальный дом (1976), краешек которого виден справа.
29.
Магазин "Харьков" когда-то дополнял столовая "Дончанка" и детский сад "Гуцулочка":
30.
О близости шахтёрского Чегдомына напоминают клумбы в колёсах карьерных машин:
31.
Подъезды Нового Ургала обшарпанные и тёмные, но двери их почти везде нараспашку:
32.
Наслышанный об упадке БАМа в 1990-2000-х, я ожидал увидеть здесь нищету, остервенение и блатные понятия для стара и млада. К счастью, я ошибался - в 1970-80-х на стройку века ехали не каторжане, а энергичные люди за длинным рублём и романтики за туманом, и именно вторые в большинстве своём остались. Трудные времена их лишь сплотили, а в 2010-х годах сюда вернулись уже не длинные рубли, но всё же некоторая зажиточность.
32а.

В БАМовских посёлках не растрачен некий особый душевный уют общего дома, построенного своими жильцами. В Новом Ургале он ещё и подкреплён той особой южной любовью к жизни, которой многих очаровывала старая добрая Украина.
33.
Третье поколенье бамовцев гуляет в зелёных дворах под присмотром лишь соседей из окон:
34.
35.
На Киевской улице попалась неожиданно симпатичная остановка без признаков вандализма. Уехать с неё можно только в Чегдомын - два посёлка образуют остров посреди тайги, с внешним миром связанный только по рельсам. При нас местные в один голос утверждали, что и между посёлками транспорта нет, но в комментариях к этому посту опять же местный житель это опровергает.
36.
Ловить попутку мы пошли на АвтоБАМ, который проходит как раз по подножью поселкового холма, между вокзальным парком и "потёмкинской" лестницей. На выезде в низинке попался ещё один, совсем новый памятник "Слава железнодорожным войскам" (2019), где мемориальные доски соседствуют с инфостендами.
37.
...Вернувшись из Чегдомына, мы ещё немного прошлись по Новому Ургалу купить себе еды на ужин - часть кадров снята с той, уже третьей прогулки. В одном из десятка магазинчиков (с неплохим, надо сказать, ассортиментом) я ухватил корейскую лапшу, которая на Дальнем Востоке действительно бывает из Кореи, Китай или Таиланда. Придя же на вокзал, мы обнаружили, что забыли в рюкзаке томатный соус, без которого любая лапша кажется мне малосъедобной - и извлечь его из камеры хранения выходило втрое дороже, чем сходить в магазин за новым. Но то была осенью 2020-го, а что мы видим зимой на 2022-й? Комнаты отдыха у РЖД теперь почти повсеместно стоят 2100 с чем-то рублей и не сдаются по часам, в один номер по антиковидным соображениям селят только близких родственников, а установленные повсеместно на крупных станциях камеры хранения обходятся в 600-800 рублей в сутки. И писал бы я о том путешествии по горячим следам - объявил бы Новый Ургал столицей маразмов на БАМе, но теперь у меня скорее ощущение, что здешние чиновники и безопасники просто склонны бежать впереди паровоза.
В следущей части, прежде чем отправиться дальше на запад, ненадолго сойдём с БАМа и съездим в соседний Чегдомын.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали. Горный БАМ.
Олёкминск - Новая Чара.
Две Чары и Чарские пески.
Чинейская железная дорога. Посёлок Чина.
Чинейская железная дорога. Трасса.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Северобайкальск - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Дальний Восток злободневное транспорт дорожное |
БАМ! Часть 3: Комсомольск-на-Амуре - Ургал, или Тёмная сторона БАМа |
По Байкало-Амурской магистрали, истории и колориту которой была посвящена прошлая часть (а позапрошлая - её коренным жителям эвенкам) обычно путешествуют с запада на восток. Но для туриста куда более правильный путь - с востока на запад: от Амура к Байкалу красоты за вагонным окном нарастают постепенно и неумолимо. Так что отправной точкой путешествия в 2020 году для нас стал индустриальный Комсомольск-на-Амуре, о котором я рассказывал примерно год назад. К Ванинскому порту от него уходит Старый БАМ, построенный в 1938-45 годах заключёнными. На запад до станции Ургал сделать при Сталине успели только насыпь с тоннелями и мостами, полотно на которую спустя 30 лет, как и всюду к востоку от Тынды, клали не романтики-комсомольцы, а железнодорожные войска. На Восточном БАМе - всего один пассажирский поезд, причём самый медленный в России (39км/ч), но зато - ежедневный. Однако и расписание его одинаково год от года: хоть из Тынды в Комсомольск, хоть из Комсомольска в Тынду он отправляется вечером, а прибывает утром третьего дня. Обычно покрытые мраком места, где до постройки БАМа жили староверы и коренной народ негидальцев, мы проехали по автодороге...
Комсомольск-на-Амуре - третий по величине город Дальнего Востока (если не включать в ДэВэ Якутию, Бурятию и Забайкалье, что я считаю административно-территориальным извращением), и он действительно большой. Здесь и живёт две с половиной сотни тысяч человек, а 4 завода-гиганта (судостроительный, авиастроительный, металлургический и нефтеперерабатывающий) растягивают Город Юности на два с половиной десятка километров. Железными дорогами он буквально пронизан: подъездные пути заводов и речного порта, линия ВолК к Хабаровску, ветка Старого БАМа за Амурский мост и собственно БАМ выглядят причудливым лабиринтом. С вокзала десяток лет назад ходил одинокий пригородный поезд, имевший народное прозвище Садовод и остановки с великолепными в своей конкретике названиями Сады-Первые, Сады-Вторые и далее до Четвёртвых. Но теперь нет и его, а потому на вокзал КнА мы только посмотрели:
2.
Отправным пунктом БАМа для нас стало Северное шоссе, выходящее из города перпендикулярно Амуру и параллельно путям. Пятым индустриальным гигантом Города Юности можно назвать Комсомольскую ТЭЦ-3 (1979-88) с высочайшей трубой на всём Дальнем Востоке (240м):
3.
Её градирни да барачные посёлки на сопках мы и созерцали ещё час-полтора: в центре города мы чуть-чуть опоздали на пригородный автобус, и доехав сюда на такси, стали ловить попутку. Машин мимо ехало много - но все по городу:
4.
Наконец нас подхватил какой-то компактный джип с интеллигентным водителем, который всю недолгую дорогу интересовался нашим мнением о народном протесте - то была осень 2020 года, то есть самый разгар "страстей по Фургалу". Пожурив нас напоследок, что плохо мы в своей Москве протестуем, он высадил нас у развилки, где вскоре показался автобус - следующий рейс того, на который мы опоздали. Покинув его на переезде у станции Хальгасо, мы впервые увидели БАМ, и легендарная магистраль предстала перед нами невзрачной пустой однопуткой:
5.
Расположившись на ближайшей остановке в донельзя дальневосточном пейзаже, мы начали голосовать проезжавшим раз в 10-20 минут машинам, но минус на минус в очередной раз дали плюс! Вскоре нас подхватил также донельзя дальневосточный джип со злыми колёсами, огромным гулким кузовом и завывающей вьюгой из кондиционера, а водитель его, такой же донельзя дальневосточный удалой мужик, был искренне рад пассажирам. Он жил в Постышево, куда нам было надо, работал там машинистом, и более того - везти нас дальше, уже за пультом локомотива, должен был тоже он! В Комсомольске же он накупил материалов для своей жены-парикмахера, и ехал теперь домой довольный покупкой, работой и солнечным днём. Экзотические пассажиры лишь дополнили набор радостей, а потому он предложил нам даже делать остановки, чтобы мы фоткали в красивых местах.
6.
...А вот прошлое у этих мест было вовсе не солнечным. В предыдущей части я рассказывал о том, что построить Байкало-Амурскую магистраль удалось лишь со второй попытки: старт первому БАМу был дан в 1932 году, и под это дело, по обычаям сталинской эпохи, учредили гигантский Бамлаг с центром в Свободном. Строил он, впрочем, больше второй путь Транссиба - изыскания Трассы БАМа заняли долгих 6 лет. Лишь в 1938 году, под началом прежде строившего Беломоро-Балтийский канал Нафталия Френкеля, Бамлаг таки взялся оправдывать своё название, но уже через несколько месяцев Френкель счёл, что лучше его разделить. Дальше лагеря делились, укрупнялись и переименовывались едва ли не ежегодно, но само строительство железных дорог в том углу страны, который в любой момент мог стать вторым фронтом, продолжалось всю войну. В 1945 году первый поезд ушёл из Хабаровска через Комсомольск-на-Амуре в Советскую Гавань. Линии вглубь страны повезло куда меньше: уложенные к 1940 году первые 105 километров на запад от Города Юности были разобраны в 1942-м и переброшены на Волжскую рокаду.
7.
После войны, однако, высвободив рабочую силу с хабаровской и совгаванской линий и докинув к ней пленных японцев, "Строительство 500" возобновило работы на будущем БАМе с удвоенной силой. Стройка продолжалась вплоть до смерти Сталина. Затем, как и на другой северной "Стройке 501", заключённых отпустили по домам, а проект бросили. И тем не менее насыпь успели положить до самого Ургала на всю длину сегодняшнего рассказа, а на 205 километров до станции Вели в 1952 году открылось движение поездов. Ломать уже построенное не стал даже Хрущёв, и ещё четверть века этот участок функционировал как малодеятельная тупиковая лесовозка. Однако о том, что в 1974-80 военные строители железнодорожных войск лишь реконструировали старый путь, напоминает отнюдь не брежневский облик мостов и дренажей:
8.
Где-то в стороне остались Хурмули - самая восточная из "шефских" станций, которую строила Тамбовская область. В 1970-х, конечно, а в 1940-43 годах среди её строителей был поэт-арестант Николай Заболоцкий. Тогда посёлок носил романтичное название Старт, а нынешнее получил в 1946-м, на год став центром строившего этот участок пути Амгуньлага. О мрачном прошлом теперь не напоминает, кажется, ничего, а в Хурмулях и соседнем Горине - довольно симпатичные, очень БАМовские по архитектуре вокзалы. Их фото есть в посте у
 mikka, мы же не стали просить водителя углубляться в посёлки, стоящие от трассы в стороне. На самой трассе асфальт быстро сменился бетонкой, а бетонка - пыльной грунтовкой, чего наш джип, впрочем, не очень-то и замечал:
mikka, мы же не стали просить водителя углубляться в посёлки, стоящие от трассы в стороне. На самой трассе асфальт быстро сменился бетонкой, а бетонка - пыльной грунтовкой, чего наш джип, впрочем, не очень-то и замечал:9.
Первой бамовской станцией, которую я увидел, стал разъезд Мавринский в 50 километрах от Комсомольска и километрах в 5 от Хурмули, на котором мы остановились просто потому, что его типовой вокзал - буквально между путями и трассой. Мы с Ольгой радостно разбрелись по пустой платформе, а потом откуда-то вышла могучая сторожиха и принялась биться в истерике, что у неё тут стратегический объект, который нельзя снимать. Вскочив в машину, мы дали по газам, но в общем где-то как-то сторожиху понимали - думаю, медведь у неё здесь куда более привычный и понятный гость, чем турист с фотиком.
10.
Следующую остановку мы сделали на мосту через реку Горин за одноимённым посёлком:
11.
Он был основан в 1934 году спецпереселенцами откуда-то из глубин России, а потому устаревшие названия этой реки - какие-то то ли тамбовские, то ли полесские Горюн или даже Горынь:
12.
-А на мари вы ещё насмотритесь, - сказал водитель, докуривая сигарету, и мы продолжили путь. Что холмы на Дальнем Востоке называют сопками, известно вроде всем, а вот мари - это по-местному болота:
13.
Завернуть же мы решили в следующей посёлок с прямо-таки эльфийским названием Эворон (1 тыс. жителей), отделённый от трассы станцией. Водитель, подъехав к путям, сразу глянул, под локомотивом ли товарняк на них, и убедившись, что на конце состава виден не только тепловоз, но и дымок над ним, подвёз нас до последнего вагона. Перейдя насыпь с неожиданно красивым разноцветным щебнем...
14.
...мы вышли на пустой перрон:
15.
Панно над платформой напоминает о том, что Эворон строил Алтайский край:
16а.

На поселковой же стороне воинский обелиск напоминает об алтайских ребятах из фронтовой прозы:
16.
Вокзал Эворона выглядит законсервированным - в нём действуют станционные службы, а вот зала ожидания нет давно: поезд делает здесь минутные стоянки поздно вечером и рано утром, и сложно представить, кто может ждать его иначе как в одном из окрестных домов.
17.
Историю Эворона же можно описать в трёх фактах: в 1945-47 годах здесь был лагерь пленных японцев, памятник Сталину в посёлке сломали только в 1978 году, а в 1987 местные жители отчаянно боролись против новой стройки века - Дальневосточной АЭС, агитировать за которую по программе "Мир, дружба, жвачка!" сюда приезжали аж французские атомщики. Но атомград на БАМе - это слишком красиво, чтобы стать правдой...
18.
Но в общем из всех бамовских посёлков, по которым у нас получилось пройтись, Эворон запомнился мне самым запущенным и мрачным. Объективно он как минимум не хуже глухих станций в тайге, где нет даже автодороги, по которой можно ездить на работу в Комсомольск. Но она же и нарушает ту особую уединённость посёлков БАМии, где живут люди, построившие их для себя.
19.
Дорога, между тем, пустела и сужалась, а водитель всё чаще махал рукой знакомым в проезжавших мимо машинах. Кто-то вёз бат - длинную тупоносую плоскодонку, слабо похожую на традиционные баты нанайцев и удэгейцев. Это скорее русский бат, сейчас выпускаемый каким-то заводом в Комсомольске-на-Амуре, но в нём переселенцы объединили копившийся тысячи лет опыт нижнеамурских рыбаков, и ныне это основная лодка на мелких быстрых реках Дальнего Востока.
20.
Между тем, в этих краях есть и свой коренной народ - негидальцы, себя называющие просто "амнгунь бэйнин" - "люди с Амгуни". В обширной тунгусо-маньчжурской языковой семье они занимают особое, пограничное место на стыке мира кочевых тунгусов, о которых я рассказывал в позапрошлой части, с миром рыбаков Нижнего Амура, который я раскрывал в посте про нанайский Сикачи-Алян. Эвенки, надо сказать, живут и в Хабаровском крае, и даже на Сахалине, но то племя, от которого произошли негидальцы, видимо пришло сюда гораздо раньше других. Как нанайцы и ульчи, негидальцы - оседлые рыбаки, жившие лососёвыми путинами с охотничьим подспорьем. Они строили, как и нанайцы, берёзовые фанзы, где нары обогревались трубами от очага - но называли эти фанзы юртами. Охотиться, подобно кочевникам-эвенкам, негидальцы ездили верхом на оленях, да и язык их, по сути тунгусский диалект, с эвенкийским взаимопонятен. Кое-что в их культуру привнесли и русские - в отличие от прочих тунгусо-маньчжур, в их мифологии было верховное божество, называвшееся попросту Бохга. У негидальцев был Медвежий праздник, но не как эвенков, просивших прощения у убитого Хозяина Тайги, а как у айнов, которые растили медвежонка на стойбище и приносили в жертву, когда подрастёт. Негидальское общество состояло из множества мелких родов, крупнейшие из которых Нясихагил и Чукчагил даже в лучшее время насчитывали по несколько десятков представителей, а потому более важными единицами были доха - союзы родов, причём порой межнациональные с эвенками, ульчами и нанайцами. Одежда амгунских людей, как и у всех амурских народов, впечатляла яркими красками и витиеватыми орнаментами, из которых чисто негидальским считался трилистник - на самом деле не клевер, а вахта трилистная, растущая на границе болот и таким образом предупреждавшая в них не вляпаться, да и сама целебна. Когда-то негидальцы заселили Амгунь до самого устья, образовав верхний (более охотничий) и нижний (более рыбацкий) субэтносы, но их ассимиляция фатальна даже на фоне прочих амурских народов. По переписи 1989 года негидальцев было около 800 человек, ныне - около 500, носителей языка осталось всего 4 старухи, а хоть несколько слов из речи предков поймёт дай бог один негидалец из десяти. Ещё мрачнее выглядит тот факт, что последний брак негидальца и негидалки был заключён в 2000 году. Словом, на наших глазах уходит последнее поколение негидальцев, но в отличие от остальных народов Приамурья они ещё и вниманием этнографов оказались странно обделены. Если костюмы, утварь, лодки, обереги эвенков, нанайцев, удэгейцев, ульчей, нивхов и даже ороков и орочей едва помещаются в музеях Дальнего Востока, то негидальцев мне и проиллюстрировать-то толком нечем. Современные фото негидальцев есть здесь, а исторические собраны в фотоархиве Кунсткамеры.
20а.

А вот по левую руку мелькнула Тавлинка - небольшое село (200 жителей), о котором в ту же самую поездку мне много рассказывали староверы Дерсу, вернувшиеся в Приморье из Южной Америки. На другую сторону Земли их предки попали через Китай, куда в 1932 году бежали от коллективизации. В Маньчжурии они пользовались благосклонностью японских властей, за что пострадали уже в 1945 году от Красной Армии, ну а когда красным сделался и сам Китай - большинство староверов уехали ещё дальше от родины. Большинство - да не все: в 1957 году дед Кондратий Басаргин, прослышав о смерти Сталина, привёл 17 семей обратно в Россию. С согласия властей они обосновались в бараках заброшенного лагпункта Амгунь, который лишь в 1981 году стал селом Тавлинка. Но тут стоит сказать, что и в Дерсу, и в Боливии с Уругваем Басаргины - одна из главных староверческих фамилий, и возвращаясь уже в постсовстскую Россию, репатрианты знали, что в Тавлинке у них есть дальняя родня. Два села образовали двойную систему: на Имане, вдали от сотовой связи и дорог, обосновались те, кто решил сознательно избегать соблазнов постсоветской цивилизации. На Амгуни же предпочли жить те, кому важнее возможность сходить в магазин или съездить одним днём в большой город. Как результат, в Дерсу - идеальная старая Русь среди полей сои, а Тавлинка - обычное с виду село, на улицах которого не увидеть женщин в сарафанах и мужиков в косоворотках. Староверов Дерсу соседи ненавидят за их переселенческие льготы и обретённую в тяжком труде зажиточность, староверов Тавлинки - скорее как-то жалеют, и лишь удивляются, что те по своей южно-американской привычке скупают в Постышево все завозимые лимоны. По словам нашего водителя, у здешних староверов молодёжь и пьёт, и курит, и сквернословит, а на вопрос, как же вера предков, скупо отвечает "Отмолю!". Но может и правда отмолит - крепких, достойных, хозяйственных взрослых людей с окладистыми бородами и старорусской речью наш водитель тоже знал и даже был готов нас с ними познакомить.
21.
Ну а вот и сама Амгунь, к которой Тавлинка выходит выше по течению другой околицей:
22.
Ниже по течению - железнодорожный мост, в нынешнем виде, конечно, уже современный, но изначально построенный здесь в 1951 году:
23.
Последний крупный приток Амура, Амгунь - могучая река: почти по прямой с юго-запада на северо-восток она течёт 723 километра, а полноводностью (488 м³/с) немногим уступает Шилке и в разы превосходит Аргунь. До 1858 года по Амгуни проходила и северная граница Китая, хотя китайцы и их монгольские и маньчжурские сюзерены бывали здесь за все века дай бог несколько раз - в основном чтоб обновить пограничные стелы на Тырском мысу против устья. В общем, Амгунь даже по дальневосточным меркам серьёзная река, ну а больше всего впечатляет в ней какая-то неистовая скорость течения:
24.
За мостом через Амгунь, на станции Вели, заканчивался путь, уложенный до смерти Сталина. Без регулярного движения и обслуживания мост быстро пришёл в негодность, и когда в 1962 году на берегу Амгуни снова раздался паровозный гудок, состав из 4 вагонов встал со стороны Тавлинки. Он привёз 40 семей лесорубов, на другом берегу заселивших постройки лагпункта Вели, ставшего посёлком Берёзовый, центром Среднеамгуньского леспромхоза. С населением 5,3 тыс. жителей, "по паспорту" он остаётся Берёзовым и ныне, но только я не уверен, что об этом знают сами жители - название это совсем не в ходу. Возрождённую в 1978 году станцию Берёзовка уже в 1981 переименовали в честь старого большевика Павла Постышева. Выходец из Иваново-Вознесенска, с самодержавием он боролся в Иркутске и Верхнеудинске, участвовал в создании Дальневосточной республики (см. Чита) и боях за Волочаевку, а в 1935 прославился и такой милой инициативой, как снятием клейма "буржуазного пережитка" с новогодней ёлки. Затем Постышев усомнился в виновности Бухарина и в 1939-м отправился вслед за ним. И есть что-то очень символичное в том, что строя новый БАМ на энтузиазме и длинном рубле, таким названием комсомольцы почтили память жертв репрессий, кровью, потом и слезами которых был залит путь их строительно-монтажных поездов. Мемориальный камень поставили у насыпи на дальнем краю посёлка уже в постсоветское время, и к нему водитель свозил нас, прежде чем оставить на вокзале.
25.
Станцию Постышево строила Новосибирская область, центр которой сам был рождён железной дорогой. И я бы сказал, здешний вокзал один из самых интересных на БАМе:
26.
С необычными формами сочетаются барельефы на поселковом...
27.
...и перронном фасадах:
28.
Где и сам Павел Постышев встречает ночные поезда:
29.
Не меньше впечатляют интерьеры:
30.
Не только и даже не столько архитектурой, сколько мрачной тишиной и пустотой. Ждать поезда нам предстояло несколько часов, и большую часть времени мы были одни в гулком холодном полутёмном каменном зале. Сюда и дверь-то бывает открыта далеко не всегда...
31.
...а ждут здесь не столько поезда, сколько автобуса фирмы "Пять звёзд", едущего в Комсомольск и Хабаровск из "столицы" негидальцев с чудесным названием Село имени Полины Осипенко (1,9 тыс. жителей). Стоящее ниже по Амгуни, оно служит центром одноимённого района, а предшественниками его были стойбище Хуен и, с 1870 года, база старателей Керби. В 1920 году близ Кербей был убит своими же соратниками красный партизан Яков Тряпицын, который собрал отряд из беглых каторжан, учинил резню японцев в Николаевске-на-Амуре, а когда те перешли в наступление - не придумал ничего умнее, чем сжечь дотла деревянный город. Расхлёбывала заваренную Тряпицыным кашу вся мощь советской дипломатии, а вот прикончили его николаевцы. Так что селом Тряпицыно Керби не стало, а вот в 1938 году в болоте неподалёку потерпел крушение АНТ-37 "Родина", совершавший рекордный полёт с женскими экипажем. Лётчицы, - Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, - выжили, и сидя в болоте видели, как столкнулись в небе два самолёта, посланные их искать. Осипенко разбилась год спустя близ Рязани, и в честь неё оперативно переименовали Керби. В СиПО и ведёт автодорога, от которой в Постышево ответвляется жмущийся к насыпи АвтоБАМ.
32.
Автобусы причаливают на краю бескрайней привокзальной площади, где есть и многоэтажки 1980-х, и деревянный барак, быть может уцелевший от разъезда Вели:
33.
С другой стороны - неожиданно симпатичная подстанция и сарай, переделанный из вагона:
34.
Сам же посёлок, лишённый асфальта и застроенный щитовками да засыпнухами, представляет собой удручающее зрелище. По крайней мере после затяжных дождей:
35.
Новосибирск не напоминает о себе нигде, кроме вокзала - но и Припять тут как-то правдоподобнее:
36.
Впрочем, всё при нём - Дом культуры:
37.
Воинский памятник за высоким ажурным забором и запертой крепко калиткой:
38.
Церковь Иоанна Воина (2005):
39.
Стадион с деревянными поодсобками и свежеотремонтированная школа:
40.
Щитовухи же окружены огородами, самая популярная культура которых - внезапно, подсолнух:
41.
По очереди сделав кружок по посёлку, мы вернулись на вокзал да поужинали тортиками, которые Оля ещё в хостеле Комсомольска-на-Амуре соорудила из вкуснейшей сметаны, подаренной нам староверами Дерсу. Я успел поспать сидя на стуле и лёжа на подоконнике, и вот наконец в темноте подъехал поезд - как и в 1962 году, из четырёх вагонов. Среди встречающих было несколько статных людей с окладистыми бородами, ну а водитель джипа повёз нас дальше до Ургала - теперь уже как машинист.
42.
Следующую пару сотен километров пути осмотреть - куда как более нетривиальная задача: АвтоБАМ представляет собой грейдер, по которому проезжает дай бог несколько машин в день. Поймав их, можно доехать до станций Амгунь (строила Пензенская область) и Джамку (Волгоградская область), а в первую очередь - разъезда Уркальту, где 30 июня 1979 года военные железнодорожники уложили "серебряное звено", замкнувшее возрождённую линию и железнодорожное кольцо из Хабаровска и Известковой на Транссибе и Комсомольска и Ургала на БАМе. Там стоит памятник - стела и путеукладчик, которыми мы полюбовались из ночного окна, а фото есть всё в том же посте
 mikka. Как и фото вокзала следующей станции Герби (строила Саратовская область), до которого уже и АвтоБАМ не был надёжным путём: мост через реку Герби открыли только в 2021 году, а прежде легковушки за очень солидную плату перевозил в кузове грузовик, выполнявший роль парома. Вокзала же стоящей ещё дальше станции Сулук, построенной Хабаровском краем, не увидишь теперь и днём - один из красивейших на БАМе благодаря своим мозаикам, он строился с какими-то ошибками, начал трескаться от вечной мерзлоты, уже в 1980-х был закрыт и в 2010-х доломан.
mikka. Как и фото вокзала следующей станции Герби (строила Саратовская область), до которого уже и АвтоБАМ не был надёжным путём: мост через реку Герби открыли только в 2021 году, а прежде легковушки за очень солидную плату перевозил в кузове грузовик, выполнявший роль парома. Вокзала же стоящей ещё дальше станции Сулук, построенной Хабаровском краем, не увидишь теперь и днём - один из красивейших на БАМе благодаря своим мозаикам, он строился с какими-то ошибками, начал трескаться от вечной мерзлоты, уже в 1980-х был закрыт и в 2010-х доломан.43. фото Сергея Балбашова, отсюда.

Ещё дальше начинается самое красивое место всего Восточного БАМа - горы Дуссе-Алинь, как минимум не уступающие красотой гораздо более знаменитому Сихотэ-Алиню. В абсолютных цифрах высота двух горных систем не сильно отличается - 2090м у Сихотэ-Алиня и 2175м у Дуссе-Алиня, вот только разница климата словно добавляет совсем не добрый километр высоты. Не на БАМе, конечно, а там, куда идти под рюкзаком несколько дней, на Дуссе-Алине есть зубчатые скальные "замки", пики с названиями вроде Неприступный (2072м) и грандиозные каменные цирки, в которых хлещут водопады (как 70-метровый Медвежий) и лежат круглые тёмные озера, в первую очередь Корбохон. Для дальневосточников Дуссе-Алинь - что для сибиряков Кодар: суровые красивые горы, о которых не положено знать людям из других регионов, и кажется, пока это не смог переломить даже горный лагерь "Гремячий Лог" с вертолётной заброской. Но увы, ночью с пассажирских поездов не увидишь даже силуэты этих гор на горизонте:
44.
И всё же в предрассветных сумерках я заснял из задней двери вагона Дуссе-Алиньский тоннель, уходящий сквозь гору на 1807 метров. Его строили в 1938-53 годах с перерывами на войну, а в 1975-76 полтора года (!) чистили ото льда:
44а.

От тоннеля до Амгуни при Сталине успели уложить только насыпь, а вот дальше снова начинался путь длиной около 85 километров, принятый в эксплуатацию в 1952 году, и позже, видимо, тоже служивший лесовозкой. В рассветных сумерках мы подъезжали к первой за перевалом станции Солони. Непременный атрибут БАМии - небольшая электростанция, хотя сам почти опустевший посёлок (240 жителей) скрыт в двух километрах за тайгой.
45.
Вокзал тут тоже интересный - это самая восточная из станции, построенных не регионами РСФСР, а другими ССРами:
46.
Арки и мозаики намекают, что здесь потрудился Таджикистан:
47.
Хотя сами узоры тут всё же скорее соцреалистические, чем ориентальные - в основном, даже из республик, ехали на БАМ славяне.
47а.

Если в Постышево вокзал кажется запущенным, то в Солонях явно прошёл недавний ремонт. И при этом, вот же ж неслыханное дело для РЖД, в сайдинге тут лишь балкон, пристроенный к посту дежурного:
48.
Ещё через пару часов поезд проходит неприметную станцию Ургал. В 1974-85 её окружал солидный ПГТ (4,5 тыс. жителей), главная база строительства Восточного БАМа, куда прибыл корпус железнодорожных войск и начал с боями продвигаться к Комсомольску (Уркальту) и Тынде (разъезд Мирошниченко):
49.
Дело в том, что здесь БАМ пересекает перпендикулярная линия (374км), проложенная в 1938-44 годах к угольным копям Чегдомына от станции Известковая на Транссибе. Сталинский БАМ также тянули от Ургала на восток, но станция продолжила работу и после закрытия стройки, и на ней даже стоял деревянный вокзал:
49а.

В 1970-х для главной станции Восточного БАМа подыскали место в 12 километрах западнее, у берега Буреи. Там теперь встречает Новый Ургал:
50.
Где, вместе с грузившейся на заброску группой бывалых туристов, мы и покинули вагон, чтобы продолжить путь ровно через сутки.
51.
Но о вокзале Нового Ургала и творящихся на нём маразмах я расскажу в части "через одну", а в следующей части погуляем по посёлку да скатаемся в соседний Чегдомын.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал.
Новый Ургал и Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында. Станция.
Тында - Новая Чара.
Две Чары и Чарские пески.
Чинейская железная дорога. Посёлок Чина.
Чинейская железная дорога. Трасса.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Северобайкальск - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).
|
Метки: Зона заражения невольничье природа дорожное Дальний Восток транспорт Раскол этнография староверы |
БАМ! Часть 2: Байкало-Амурский мир |
В описании Байкало-Амурской магистрали романтичнее любых метафор - цифры. Тонкая ниточка тянется сквозь тайгу от Тайшета до Советской Гавани на 4287 километров, пересекая 7 горных хребтов, 11 крупных и 3,5 тысячи малых рек через 10 тоннелей (суммарно 36км) и 2230 мостов. На ней 9 городов, лишь два из которых (Братск и Комсомольск-на-Амуре) крупнее 200 тыс. жителей, а в остальных редко больше 30 тыс.. Не знаю, в чём больше величия - сибирской природе за окнами вагона или труде человека, сумевшего её пронизать. Люди же на БАМе особые, в шутку говорящие о себе "есть такая национальность - бамовец": на Всесоюзную Ударную Комсомольскую стройку ехали и правда со всего Союза, и по облику посёлков нетрудно догадаться, что строила Литва, а что Казахстан. Байкало-Амурская магистраль пересекает Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, Якутию, Амурскую область и Хабаровский край, но фактически я бы назвал районы вдоль неё неофициальным, но вполне самодостаточным Байкало-Амурским автономным округом со столицей в Тынде общей площадью 435 тыс. км² и населением 203 тыс. человек. С Улан-Удэ, Читой, Благовещенском эти районы и логистически-то связаны еле-еле, а уж ментально - и вовсе почти никак.
В прошлой части, в музее и на живом стойбище, я рассказывал про эвенков, на землях которых и шла стройка века. Сегодня расскажу о магистрали в целом, опять же с фото из музея в Тынде - история строительства, особенности и колорит да краткий обзор всей "трассы БАМа".
Впервые о строительстве железной дороги на Тихий океан через Становое нагорье задумались ещё царские чиновники в 1906 году - скорее со страху по итогам русско-японской войны. В итоге предпочли куда более реалистичный проект Амурского Транссиба, однако и его можно назвать прото-БАМ: здесь русские железнодорожники впервые столкнулись с вечной мерзлотой и тысячами вёрст безлюдья, где цивилизацию строить приходилось самим. Однако параллельно тракторам и экскаваторам совершенствовались танки и пушки, новым "богом войны" неуклонно делалась авиация, и Советы понимали, что даже такой Транссиб лежит слишком близко к беспокойной границе, за которой самураи вострят мечи. По безлюдным холодным горам же, изредка пересекаясь с эвенками, всё больше ходили геологи, разведавшие в глубинах Сибири не только удобные тропы, но и сказочные богатства угля, самоцветов и металлических руд:
2.
Старожилы часто говорят не "по БАМу", а "по трассе БАМа" - трасса эта существовала много дольше, чем проложенная по ней магистраль. Разведку её начал ещё в 1928 году Эдгар Норман, целью которого были поиски оптимальных технических решений и самой возможности что-то здесь проложить. Они увенчались успехом, и 13 апреля 1932 года Совнарком СССР выпустил постановление "О строительстве Байкало-Амурской железной дороги". Нетривиальная задача требовала новых технологий, первой из которых стала аэрофотосъёмка. За невозможностью быстро развернуть в тайге сеть аэродромов, символом поисков БАМа сделался гидроплан, колыхавший в стальной воде отражения лиственниц. Для посадки на воду оснащались самолёты разных серий, получавшие здесь бортовой номер "Ж", и Ж1 стал в 1935 году отечественный МР-6 эстонского лётчика Леонарда Крузе. Главными базами железнодорожной авиации стали причалы Иркутска и строившегося Комсомольска-на-Амуре, а гидропорты были оборудованы в нынешних Братске на Ангаре, Нижнеангарске на Байкале, Нелятах на Витиме, на озере Иркана, в Среднеолёкминске, городе Зее и Норском Складе на Селемдже. 16 лётчиков на 26 машинах обследовали более 400 тысяч квадратных километров безлюдной тайги, и вот к 1938 году Байкало-Амурская магистраль была проложена на картах. Дальше нужно было материализовать её...
2а.

Тут советская власть столкнулась с той же проблемой, что и царская на Нерчинских Рудниках - критическим дефицитом рабочих рук. Длинных рублей в нищей осаждённой стране не водилось, а потому и решать эту проблему взялись проверенным способом - каторгой, продолжением которой по сути и стал ГУЛаг... В 1932 году был учреждён грандиозный Бамлаг с центром в Свободном, занимавшийся всем железнодорожным строительством в восточной половине страны. Лишь в последние месяцы своего существования Бамлаг стал оправдывать своё название, а в 1938 году был разделён аж на 6 лагерей.
3а.
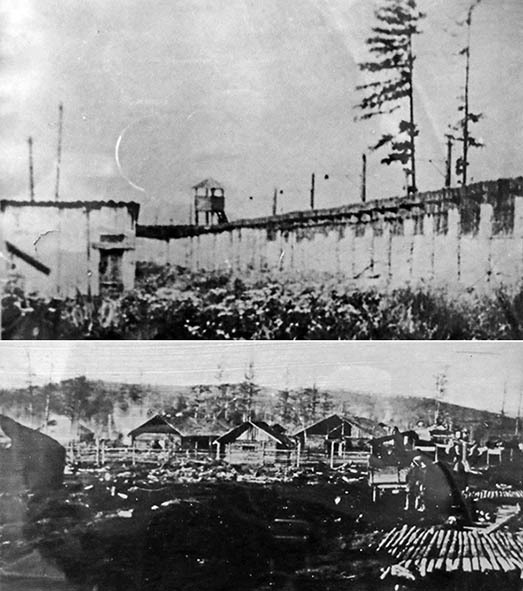
Там, "за проволокой ключей в самом сердце тайги дремучей" к концу 1930-х годов трудилось порядка 150 тысяч з/к. И периметры их лагерей были довольно условны, так как побег сулил почти неизбежную гибель, а из палаток да землянок даже бараки виделись элитным жильём.
3.
Стройка велась с трёх сторон, и первым, до начала войны, был закончен Малый БАМ - соединительная ветка, которая вела в Тынду от Транссиба, где разъезд у Сковородино так и назвали - Бамовский. Впрочем, уже в 1942 году пути Малого БАМа были разобраны и отправлены под Сталинград для строительства Волжской рокады. На востоке и западе стройка продолжалась, однако ещё раньше Бамлаг успел проложить второй путь Транссиба, гражданская война в Китае кончилась победой красных, а урановые рудники Кодара, на которые советская власть возлагала большие надежды, оказались довольно скудны. БАМ начал превращаться в утопию одного порядка с Транспоряркой...
4.
Старый БАМ включает линии Тайшет - Усть-Кут на западе и Советская Гавань - Комсомольск-на-Амуре на востоке да две ветки в Хабаровском крае от Транссиба - ВолК (Волочаевка - Комсомольск) и Известковая - Чегдомын, между которыми по Трассе БАМа построили насыпь, мосты и тоннель, но бросили всё это со смертью Сталина.
5.
Однако времена менялись, совершенствовались технологии войны и мира, а по мере нарастания Великой ссоры СССР и КНР тучи на амурской границе снова ходили всё более хмуро. Япония, напротив, была готова щедро инвестировать в советские рудники и транзит по железным дорогам. Проектно-изыскательные работы на трассе БАМа начали понемногу возобновляться уже в 1967 году, а 8 июля 1974 года постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" было выпущено во второй раз.
6а.
Так началась величайшая из великих строек советской эпохи, едва ли не самый дорогой и сложный инфраструктурный проект ХХ века. 3145 километров железной дороги предстояло проложить через труднопроходимые хребты, быстрые реки с мощными паводками, вечную мерзлоту и почти полное безлюдье.
6б.
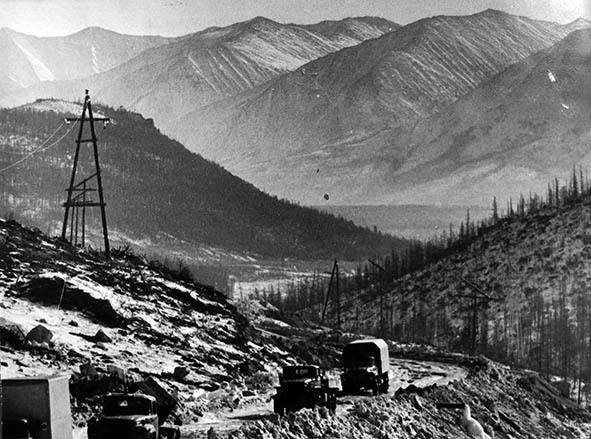
Технологии к тому времени частью ушли далеко вперёд, частью остались те же. Вот слева - нивелирная рейка и вешка, которыми работали ещё изыскатели Зейской экспедиции в 1960-х годах, справа - оборудование для измерения температур воздуха (внизу) и грунтов (вверху).
6.
Проекты полотна на вечной мерзлоте:
7.
Средства связи, такие как портативная радиостанция "Недра П" (выпускалась с 1964 года) или оперативный пульт (1980-е):
8.
Однако было в той задаче и ещё одно условие - не использовать рабский труд:
8а.
На Восточный БАМ от Тынды до Комсомольска зимой 1974 года были брошены два корпуса железнодорожных войск. Один прибыл в Тынду по зимникам, другой - поездами в Ургал.
9.
Это была самая настоящая военная кампания - десантники с вертолётов захватывали плацдармы будущих станций, где, окопавшись да поставив дерево-брезентовые времянки, готовились к наступлению основных сил.
9а.
На Западном и Малом БАМах же, от Сковородино до Беркакита и от Тынды до Усть-Кута основной ударной силой сделался комсомол. С которым и была связано вся эта особая Бамовская романтика, окружавшая стройку. Молодые смелые люди в неимоверно красивых пейзажах, бодрые призывы вроде "Расступись, тайга!", красивые песни наподобие "Бамовского вальса" - совсем не типично для себя поздний заскорузлый СССР смог не только развернуть грандиозную стройку, но и популяризировать её.
10.
Народ, конечно, всё равно насочинял анекдотов и хохм.
Армянское радио спросили:
-Что будет, если стукнуть Брежнева по голове?
-БАМ!
Там, где раньше тигры срали
Мы проложим магистрали!
10а.

Но особое место в бамовских мемах занимали такие: "А я еду, а я еду за деньгами - за туманом ездят только дураки" или "Надбавка - мой компас земной!". Бамовцев награждали не голой романтикой, а взаправдашним "длинным рублём", и это была едва ли не первая из великих строек коммунизма, где мотивация обогащения была вполне морально-легитимной.
11а.

Единовременно на "трассе БАМа" трудилось 130 тысяч человек, и многие из них выбирали здесь остаться. Хотя это были выходцы со всех 15 республик, преобладали среди них славяне, да возникшая самобытная общность со своими структурой и сленгом быстро стирала национальность. Особняком держались "старожилы" - эвенки, староверы, осевшие в тайге старатели и жители основанных ещё при Сталине сёл. Они поначалу глядели на бамовцев как на оккупантов, и тому были причины - на старожилов не распространялись льготы и надбавки, и даже в бамовские магазины их пускали не всегда. Сами бамовцы хоть и со всего Союза ехали, но делились на "западников" и на "местных", то есть прибывших из других районов тех же областей. Среди них обозначались профессиональные касты, отличавшиеся размером оплаты и льгот: мостовики и тоннельщики (элита), эсэмпэшники (работники строительно-монтажных поездов, "средний класс"), строители посёлков, механизаторы и работники сферы услуг. Ещё были "старые бамовцы", приехавшие с началом стройки, и "новые", присоединившиеся к ним в процессе - наверное, это было напоминало появление "новенького" в школьном классе. Следом добавились "дети БАМа", рождённые на новом месте, и "эксплуатационщики", которые как бы уже и не бамовцы, а так, салаги, на готовенькое пришли. Но в общем романтика облагораживала: всё это оставалось скорее на уровне шуток, и хоть трудившийся с 1974 года тоннельщик из Чегдомына, хоть приехавший в 1988 году из Рязани кассир хранили деньги в тумбочке, не запирая дверей.
11б.

Средняя зарплата на БАМе была вдвое выше, чем по Союзу (около 300 рублей), а к ней добавлялись подъёмные (в размере 50% от будущей зарплаты) и "колёсные" - 40%-надбавка за передвижной характер работ. Орсовские (от ОРС - "отдел рабочего снабжения"), или просто бамовские магазины с первым классом снабжения привлекали людей даже из других областей (поэтому в иных посёлках и были закрыты для посторонних), а многие ценные товары вроде шуб, ковров или бытовой техники и вовсе распределялись по талонам. Одной из главных бамовских льгот была покупка автомобиля вне очереди, по целевому чеку, на который можно было отчислять небольшую сумму с каждой зарплаты. Поэтому и чекист на БАМе - это не злодей в кожаной тужурке, а пронырливый грузин, который скупал у бамовцев "целевые" и загонял их в несколько раз дороже людям на большой земле. Неиспользованные отпуска на БАМе суммировались, а потому часто брались не на 2 месяца в год, а на год раз в пятилетку. Идеальный отпуск бамовца выглядел так: приехать в большой город, там купить машину, колесить на ней по Союзу между роднёй, столицами, друзьями и курортами, накупить полезных вещей и отослать их домой, а напоследок ещё и продать машину и уехать восвояси на поезде.
11в.
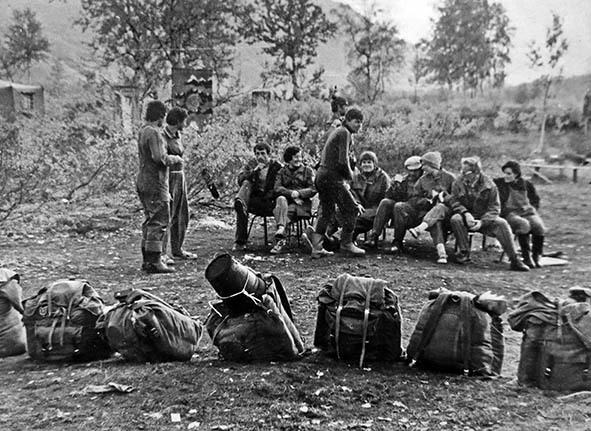
Разумеется, у всей этой сказки, которую видели жители большой земли, была и обратная сторона. Например - суровость быта и условий: красивые дома и школы на БАМе строились в основном уже в 1980-х, а жильём настоящего бамовца были балок (жилой вагончик), "диогенка" (круглый жилой модуль), барак или засыпнуха, отапливавшиеся "козлом" или "паровозом" - трубой, в которую погружали запитанный от электростанции кипятильник. Из балков и засыпнух состояли "времянки", где люди могли прожить и 10, и 20 лет до строительства "постоянок", а то и после них: на нынешнем БАМе времянки исчезли в основном по причине оттока населения. Жители времянок невольно становились временщиками, всё лучшее откладывая до отпуска или переезда в постоянку.
11г.
Длинный рубль же платили не за песни под гитару: ударная стройка - это ударный труд. И ни зима с морозами и чёрными пургами (это когда больше 40 и градусов ниже нуля, и метров в секунду), ни лето с тучами всепроникающего гнуса не должны были мешать этому труду.
11д.
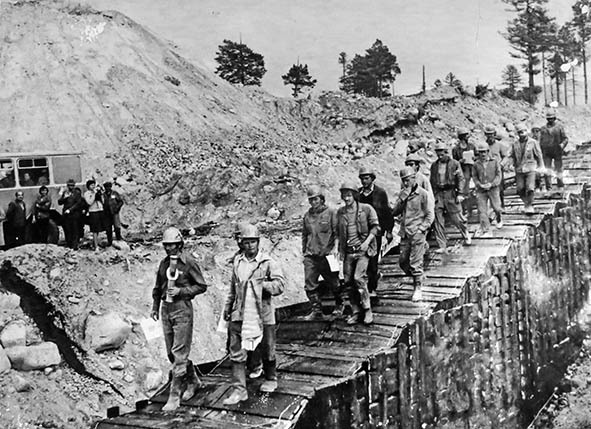
По сравнению с Амурской железной дорогой и Старым БАМом, тут трудилось на порядок больше машин: экскаваторы, краны, трактора, путеукладчики, не говоря уж о банальных грузовиках. Но и для гаечного ключа, и для лома тоже находилась задача:
12.
Более того, СССР не стеснялся закупать технику для БАМа у капиталистов. Тут работало порядка 800 японских экскаваторов, а одним из символов стройки сделался "Magírus-Deutz 232 D 19". Сформулировав требования к грузовику бамстроя, госпланщики обнаружили, что у СССР нужных технологий нет вообще, а чехословацкая "Татра" и югославский "ТАМ" не имеют достаточных мощностей. Зато в западно-германском Ульме с его высочайшими в мире собором барахтался некогда могущественный концерн KHD (Klöckner-Humboldt-Deutz AG), основанный в 1866 году Конрадом Дитрихом Магирусом и в 1917 году освоивший производство грузовиков. С 1936 года, после слияния с кёльнской фирмой "Humboldt-Deutzmotoren AG" KHD стал поставщиком вермахта, но и 1950-60-е годы обеспечивал в ФРГ до 20% большегрузного автопарка. "Магирус" тогда выпускал буквально всё тяжёлое и дизельное - грузовики, автобусы, тягачи, бетономешалки, снегоуборщики, мусоровозы... но на немецкий рынок зашли более современные конкуренты, и новый огромный завод в Ульме чуть не утянул "Магируса" на дно. Капиталистов, однако, спасли коммунисты, предложившие "Магирусу" проект "Дельта" - заказ века на поставку стройке века 10 тысяч машин! Грандиозная партия грузовиков, тягачей и погрузчиков была полностью изготовлена уже в 1975-76 годах, и вскоре танковый рёв "Магирусов" стал привычным фоном Бамстроя. Позже машины разошлись по всему Союзу, в основном в качестве карьерных самосвалов, их начали собирать вместе с "Уралами" в Миассе и по лицензии "Ивеко" (к тому времени купившей "Магирус") построили завода в Кустанае... Но в 1990-х всё это заглохло, а имевшиеся машины ушлые приватизаторы распродали целиком, на запчасти или на лом: качество всего этогооставалось немецким. На БАМе ныне осталось несколько десятков "Магирусов", крупнейшее их гнездо - Бодайбо, где по состоянию на осень 2020 года оставалось в строю 6 машин. Один из них и повстречался нам на таёжной дороге, где водитель маршрутки встал на перекур.
13.
Цвет этого "Магируса" не совсем каноничен - изначально машины были, по стандартам ФРГ, оранжевыми. Ещё водитель нахлобучил на своего "баубуллена" ("строительного быка", как этот тип машин называли в Германии) пару шильдиков других марок да где-то утратил фирменный шильдик "Магируса" с силуэтом Ульмского собора. Но в основном машина, одновременно с которой он прибыл на БАМ в 1975-м, почти такая же, какой покинула Ульм.
14.
На месте и главная особенность "Магируса" - двигатель с воздушным охлаждением "Deutz FL 413". Как кое-где пишут - от фашистского танка: создан к 1944 году он действительно был по заказу вермахта, а звучание его и правда какое-то танковое, но всё же в войну такие моторы ставились на австрийские гусеничные тягачи с говорящим названием "Ост". Главным требованиям вермахта после всех столкновений с Генералом Морозом была холодостойкость, которую инженеры "Магируса" обеспечили сполна - военный F 4L 514 (прототип FL 413) был рассчитан на мороз до -57.
15.
Переломить ход войны это, конечно же, немцам не помогло, а для капстран такая холодостойкость была явно избыточной. Более современные моторы ей уже не обладали - так и вышло, что во всём мире "Магирусу" не нашлось альтернатив.
16.
А стройка строилась... В 1979 году на разъезде Уркальту было уложено "серебряное звено" - возрождённая со сталинской эпохи линия Комсомольск - Ургал замкнула Восточное кольцо.
17а.

В апреле 1984 года на разъезде Мирошниченко сомкнулся Восточный БАМ:
17б.
А 29 сентября 1984 года на разъезде Балбухта встретились бригады Александра Бондаря и Ивана Варшавского, замкнувшие всю магистраль:
17.
Официально БАМ открывали 1 октября 1984 года на станции Куанда в 40 километрах западнее. Первоначально "Золотое звено" планировалось уложить там, но из-за аварии в Кодарском тоннеле, задержавшей восточную бригаду, западная ушла несколько дальше.
18.
В постоянную эксплуатацию, впрочем, БАМ приняли лишь 1 ноября 1989 года, когда на Северо-Муйском хребте вместо временного технического обхода через перевал был построен современный. И только в 2003 году, когда под перевалом открылся крупнейший в России 15-километровый тоннель, трасса БАМа обрела нынешний облик.
18а.
Распад Союза БАМ встретил 2-путным до Усть-Кута и электрифицированным до Таксимо, а на большей части своей протяжённости представляет собой тепловозную однопутку. Но таким же был Транссиб в первые годы после постройки.
19.
Посёлки и станции строились вместе с путями и даже отставая от них. Первые вокзалы БАМа тоже были времянками в загнанных на специальные тупики вагонах (на кадре выше фото правее таблички "Дипкун"). Постоянки же строились методом шефства, когда отдельные станции брались под опеку регионами РСФСР или союзными республиками. Сам эта практика была не уникальной (так же осваивалась Югра и строилась "преемник Чернобыля" Славутич), но она определила неповторимую архитектуру БАМа. Капитальные вокзалы строились явно "навырост" - на небольших станциях их огромные здания вмещают маленький зал ожидания и всякие путейские службы:
20.
По советскому госплану плану все эти Тында, Новая Чара или Таксимо должны были стать большими промышленными городами, вокруг которых, вероятно, и правда возник бы новый регион. Однако главному детищу советских строек эксплуатироваться было суждено в новой стране. Романтика обратилась вспять - в новой реальности таёжная магистраль стала такой же информационной мишенью, как космонавтика или Победа. БАМ заклеймили "самым длинным памятником советской глупости", а заодно смешали в одну кучу сталинских зэков и брежневский комсомол. Длинный рубль сменили голодные годы, а тайга из загадочной стихии превратилась в житницу - отняв её у эвенков, бамовцы сами теперь выживали собирательством и охотой. БАМ 1990-2000-х действительно опустел и выглядел дорогой вникуда, но единственной причиной тому было общее падение грузооборотов: Транссиб, в 1970-80-х задыхавшийся, в постсоветской России прекрасно справлялся один. Построенная и брошенная, лишь в 2010-х Байкало-Амурская магистрали начала оживать. У российской олигархии кончилась фаза первоначального накопления капитала, и среди прочего они начали приглядываться и к полезным ископаемым БАМии - например, углям Эльгинского месторождения (см. здесь с самолёта), к которому в 2008-11 годах была проложена железная дорога от станции Улак длиной 321 километр. Но не роль колониальной железной дороги для вывоза ресурсов в морской порт готовилась БАМу изначально: к концу 2010-х Транссиб вновь оказался загружен на пределе своих возможностей, а на БАМе тянут второй путь, пробивая в горах новые многокилометровые тоннели.
21.
Первый поезд Тында-Москва отправился уже 2 июля 1977 года - правда, по Малому БАМу:
22а.

По нему и ныне пассажирское движение активнее: сквозного поезда от Тайшета до СовГавани нет и не было никогда, а конечные большинства маршрутов с запада - Усть-Илимск и Северобайкальск. Восточнее всё держится на цепочке из 4 пар поездов: Москва/Кисловодск - Тында/Нерюнгри, Тында - Комсомольск-на-Амуре (самый медленный в России - в среднем 39км/ч) и Владивосток - Советская Гавань.
22.
На большей части БАМа остались пригородные поезда - хотя даже не везде они ежедневные. Более популярный транспорт - "бичевозы", рабочие поезда, в вагонах удивляться такому прозвищу не приходится. Официально они не берут пассажиров, но их расписание на станции подскажут и диспетчер, и кассир, а проводница пустит в вагон по неофициальному, но чёткому тарифу. 9/10 пассажиров тут путейцы, часто при инструментах, но 2-3 человека явно посторонних найдутся в вагоне почти всегда. Рабочий поезд, однако, есть рабочий поезд, пассажирам которого никто ничего не обещал: так, мы ехали бичевозом из Нового Уояна в Таксимо, но километрах в 30 до цели поезд встал, и проводница сообщила, что сейчас он постоит тут пару часов, а потом двинется обратно.
23.
Вершина же бамовской романтики - езда на локомотивах. В 1990-2000-х это была абсолютная обыденность, а сейчас... обще-РЖДшный театр безопасности заполонил и БАМ, и в отсутствии другой работы соблюдают его здесь с удвоенным рвением. Фразу "Молодые люди, вы такие интересные! Вы что, не понимаете - У НАС ВЕЗДЕ КАМЕРЫ!" я слышал по несколько раз в день по самым безобидным поводам: например, одна из проводниц не пускала нас в тамбур до полной остановки поезда. Фраза "у нас камеры!" произносилась с тем же особым надрывом, что и "у нас дети!" - потому что чем кормить детей, если камера спалит? Но там, где камер нет, бамовцы оказываются вдруг такими же душевными, как прежде: в 2020-м мы проехали в кабине электровоза один из самых красивых участков, а в 2021-м друзья-автостопщики весёлой толпой проскакали на локомотивах почти всю магистраль.
Ну а мы теперь пройдёмся по ней кратко:
24.

Началом её считается Тайшет - городок (33 тыс. жителей) в Иркутской области, но ближе к Красноярску, так что даже название его - из языка коттов (родичи енисейских кетов) и означает "Холодная река". В 1897 году, когда здесь появился разъезд, это был Канский уезд Енисейской губернии, но впрочем, и из нынешнего Красноярска удобнее всего попадать на БАМ. В рост Тайшет пошёл в 1904 году, когда здесь открыли депо, и в 1938 стал городом. По атмосфере и архитектуре, самыми яркими образцами которой служат водонапорная башня (1912) и воинский мемориал (1967) это типичный Транссиб без признаков БАМа. За пределами станции Тайшет абсолютно уныл, однако слывёт ни больше ни меньше Самым важным городом России: на западе Транссиб дублирован Южсибом (линия через Абакан и Новокузнецк), на востоке - БАМом, а вот сам Тайшет никак не обойти.
25.

Меньше месяца назад в 8км восточнее, у станции Акульшет, был пущен строившийся с 2016 года Тайшетский алюминиевый завод, который должен стать 3-м по величине в России. Крупнейший же алюминиевый завод страны и мира - в Братске, куда из Тайшета ведёт Старый БАМ, пущенный в 1947 году, а в 1951 продлённый до Усть-Кута. Об этом напоминает сталинская архитектура вокзалов:
26.

Правда, та железная дорога шла иначе: 140 её километров (!) оказались затоплены в 1961-66 годах Братской ГЭС. В своём нынешнем виде Западный Старый БАМ был закончен к 1958 году, но конечной оставался Усть-Кут, его главная станция Лена:
27.
Освоение Иркутского Севера, однако, сделалось ударным уже тогда: у Коршунихи-Ангарской был заложен гигантский железорудный карьер, а боковая ветка дала начало индустриальному гиганту Усть-Илимск. Вместе с тем, и Братск, и Коршуниха, и Усть-Кут выросли из старинных острогов: Старый БАМ проходит через места, по сибирским меркам обжитые. За Леной же начиналась глушь, где от села до села могло быть и несколько сот километров. Тот БАМ, где комсомольцы и солдаты стали первопроходцами - фактически скорее ЛАМ (Лено-Амурская магистраль), началом которой можно считать станцию Лена-Восточная, построенную Краснодарским краем в конце неимоверно длинного Усть-Кута:
28.
ЛАМ (это название я дал сам и оно нигде не в ходу) проходит большей частью по Становому нагорью (высшая точка - пик БАМ, 3072м), которое за Олёкмой сменяет Становой хребет (2412м) - одно разделяет бассейны Лены и Байкала, другой - Лены и Амура. От Усть-Кута до Тынды тянется Западный БАМ, который можно назвать ещё и Горным БАМом - здесь находятся самые красивые и сложные места магистрали среди неприступных хребтов Станового нагорья:
29.
Восточный БАМ от Тынды до Комсомольска менее зрелищен - за вагонным окном тянутся топкие мари, а сопки Станового хребта синеют вдали:
30.
Кое-где с поезда видна пыльная дорога и убогие ветхие мосты - это АвтоБАМ, официально "автодублёр Байкало-Амурской магистрали". Асфальт на нём только до Лены и на участке восточнее Северобайкальска, а после Таксимо это скорее зимник, которым отчаянные шофёры пользуются и летом, переезжая реки на импровизированных "паромах" в кузове самосвалов.
31.
И к западу, и к востоку от Тынды примечательны "шефские" станции. Столицу БАМа строила Москва:
32.
И главная улица Тынды называется Красная Пресня, а многоэтажки московских серий странно смотрятся на фоне тайги и хрустального неба:
33.
Ленинградцами построен Северобайкальск в Бурятии с самым, пожалуй, зрелищным вокзалом магистрали и широкими проспектами между домов-кораблей:
34.
Третья столица БАМа, главная станция его восточной части - Новый Ургал в Хабаровском крае:
35.
Его строила Украина, а точнее Киев и Донбасс:
36.
Совсем рядом, чуть западнее - Алонка, наследие Молдавии:
37.
Беларусь своей станции не имела, но совместно с Латвией создавала Таксимо - крупнейшую станцию между Тындой и Северобайкальском у начало дороги на золотое Бодайбо.
38.
Прибалтика старалась держаться западнее. В соседнем Новом Уояне, который строила Литва...
39.
...впечатляет архитектура не столько вокзала, сколько посёлка, пожалуй самого уютного в БАМии:
40.
Чуть западнее - станция Кичера, детище Эстонии:
41.
По соседству с ней - Ангоя, которую построил Азербайджан:
42.
А потому здесь так:
42а.

Гейдар Алиев на поздних этапах курировал бамовскую стройку и в 1984-м торжественно открывал магистраль. Видимо поэтому у 3 республик Закавказья на БАМе по 2 станции, 5 из которых сосредоточены к западу от Северо-Муйского перевала. Азербайджанский ещё Улькан:
43.
Армяне даже сюда привезли розовый туф. Ими построены первая за Леной станция Звёздная:
44.
И Кюхельбекерская у подножья Северо-Муйского хребта:
45.
Ещё больше впечатляют розовотуфовые дома, которые странно смотрятся без вулканических плато, глубоких каньонов и древних острокупольных монастырей:
46.
Дар Грузии - Ния:
47.
47а.

И Икабья - это та самая шестая станция вдали от остальных, в самой середине Горного БАМа:
48.
По соседству с Новой Чарой, которую можно назвать Вершиной БАМа - самой далёкой, высокой и холодной:
49.
Её строил Казахстан:
49а.

И сама Новая Чара действительно похожа на городок, затерянный где-то в степях между Карагандой и Жезказганом. С севера ней нависает самый высокий и суровый на Становом нагорье хребет Кодар, с юга - Удокан, сказочно богатый рудами. Там есть, например, третье по величине в мире (!) месторождения меди, где теперь Турция строит ГОК, и самая сложная в России, но заброшенная Чинейская железная дорога.
50.
Узбекистан строил ту самую Куанду, где уложили символическое "золотое звено":
51.
Туркмения отметилась станцией Ларба около Тынды:
52.
Таджикистан - самой восточной из перечисленных станцией Солони, и лишь Киргизия в БАМовском шефстве почему-то совсем не представлена:
53.
Немало интересного построили и регионы России - вот например станция Постышево под шефством Новосибирской области. Обратите внимание, что вокзалы не испоганены сайдингом в корпоративных цветах, хотя распространяться по России эта напасть начала как раз с ДВЖД. Там, где сайдинг всё же есть (как в Ургале на фото №35) - сохранены украшения и колористика. Вроде бы у вокзалов нет охранного статуса - но может их берегут старые бамовцы в железнодорожном начальстве?
54.
Второстепенные вокзалы - типовые. На Западном БАМе их украшает круглый портал:
55.
На Восточном чувствует почерк военных:
56.
Между Леной и Амуром стоит искать самих бамовцев: это очень странное чувство, когда раз за разом встречаешь людей, построивших свой город. И в Северобайкальске таксист был из Ленинграда, который для него не превратился в Петербург; мужичок из Нового Ургала приехал сюда с Донбасса, а в Новой Чаре - кто казахстанец, кто гуран. Многие, конечно, теперь уезжают, но молодёжи и детворы третьего поколения бамовцев на здешних улицах пожалуй даже больше, чем в среднем по стране. Впрочем, может быть, "на улицах" тут ключевое слово: жизнь на БАМе кажется какой-то более простой и бесхитростной, в мёлких посёлках есть настроение общего дома. В Новой Чаре мне рассказывали про обычное ДТП как про великую техногенную катастрофу, а в Новом Ургале - о том, как поколотили мэра, вознамерившегося спилить старую ель... Я ожидал увидеть в БАМии разруху и остервенение, но наверное я с этим опоздал: по состоянию на 2020-й год бамовские посёлки уютны, опрятны, и я бы сказал - зажиточны.
57.
Солони и Постышево находятся уже на том участке, где в 1940-х годах зэки уложили насыпь. О сталинском прошлом там напоминает облик мостов и дренажей, а вот первый за 3000 километров сталинский вокзал встречает в Комсомольске-на-Амуре:
58.
За Амуром возобновляется Старый БАМ, в восточной части пущенный в 1945-м. Дорога через Сихотэ-Алинь очень красива, но единственный поезд проходит её по ночам.
58а.

Однако на многих станциях тут уцелели деревянные вокзалы:
59.
В том числе и на конечной для пассажирских поездов тихой станции Советская Гавань - Сортировочная, расположенная в посёлке Октябрьской между Советской Гаванью и соседним Ванино:
60.
Ведь настоящий конец БАМа - это Ванинский порт, где магистраль выходит к Мировому океану:
61.
В следующих частях пойдём Трассой БАМа с востока на запад, сперва - от Комсомольска в Новый Ургал.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021).
|
Метки: невольничье Сибирь природа транспорт дорожное |
БАМ! Часть 1: подпространство эвенков |
Не последняя деталь БАМовской романтики - чарующая музыка географических названий: Уоян, Эворон, Таксимо, Окусикан, Ингамакит, Ангоя... Все они восходят к языку эвенков - малочисленного народа, расселённого на пространстве размером с Австралию, в 9 регионах России и 2 провинциях Китая от Енисея и Маньчжурии до Сахалина и Таймыра. В этом пространстве помещается и вся Байкало-Амурская магистраль, и более того, она проходит через нынешнее сердце эвенкийского мира на стыке Якутии, Амурской области и Забайкалья. Свой долгий БАМовский вальс я начну знакомством с историческими хозяевами этих мест - в музее Тынды и на стойбище в горах близ Новой Чары.
Пост подготовлен при поддержке сообщества "Тунгусские заметки" (вконтакте, инстаграм), посвященного традиционной культуре эвенков и эвенов.
Старое, до 1931 года официальное, название эвенков - тунгусы, и оно по-прежнему живо в термине "тунгусо-маньчжурская языковая семья". Её южная ветвь - маньчжурские народы Китая, одни из первых кочевников Великой Степи, за свою долгую историю возглавлявшие немало государств от древнего Бохая в Приморье до последней китайской монархии Цин. Восточная ветвь - братская семья народов Нижнего Приамурья, где тунгусо-маньчжурская культура легла на субстрат древних рыбаков, с каменного века живших оседло от путины к путине. Ну а северная ветвь - это тунгусы, сколько-нибудь достоверная история которых прослеживается с начала нашей эры у байкальских берегов, откуда около 1500 лет назад их выжили курыкане - воинственные тюрки во главе полиязычного союза племён (см. Ольхон). С восточного берега Байкала тунгусы откочевали в Даурию, где впервые засветились как эвенки - народ увань в трудах китайских хронистов, поменявший в степных просторах оленя на коня. Из Прибайкалья тунгусы в поисках столь же благодатных кочевий разбредались по бескрайней сибирской тайге, ассимилируя её народы. Остатки этих народов - кеты на западе и юкагиры на востоке, чьи языки не включить достоверно ни в одну языковую семью современного мира, но чаще единственным аборигеном на пути эвенков был медведь... Ещё через несколько веков уже курыкан потеснили с Байкала буряты, и те ушли на север вдоль Лены, в смешении с тамошними племенами превратившись в якутов. Придя в тайгу со многими достижениями тогдашнего прогресса, якуты стали злейшими врагами эвенков и рассекли тунгусский ареал на две неравные части. На востоке оказались обособлены племена Колымы и Индигирки, которых принято выделять в отдельный народ эвенов (21 тыс. человек; до 1930-х годов - ламуты). Миграции продолжались - одни племена встали под Восемь знамён империи Цин и ушли в Китай, другие дошли до Сахалина и низовий Амура, где на Амгуни сложился третий тунгусский народ - негидальцы (500-600 человек). У тунгусов был общий язык (у эвенков делившийся по хакающим, сэкающим и шекающим диалектам), на всём огромном пространстве остававшийся взаимопонятным. Куда как менее однородными оказались материальная и духовная культура, частью впитавшая древний субстрат кетов и самодийцев (эвенки), амурских народов (негидальцы), юкагиров, коряков и чукчей (эвены), частью сама ставшая субстратом для якутов, бурят или русских.
2.
Эвенки разделились на три хозяйственные общности - пешие (промысловики), оленные (орочоны) и конные (мурчены). Мурчены в России (см. Нерчинск) уже к началу ХХ века растворились почти без следа, оставив, однако, заметную прослойку креолов - русских гуранов в Забайкалье и бурят-хамниганов по обе стороны границ с Китаем и Монголией. В Китае, напротив, именно мурчены, в первую очередь крупное племя солонов, считаются эвенками "по умолчанию". Орочонов же (около 8 тыс. человек) китайцы выделяют в отдельный народ, в котором особое место занимает маленькая община "якутов" - это тоже эвенки, пришедшие в Китай из Якутии, причём к российским тунгусам ближе всего именно они. В царские времена из Китая в Амурские прерии заходили роды манегров и бираров (см. Албазин), в царских переписях значившиеся не тунгусами (как остальные эвенки), а, как и ещё несколько народов Дальнего Востока, орочонами. Коммунисты же пытались загнать едва ли не самый мелкодисперсный народ планеты в сетку административно-территориального деления словно из спортивного интереса. В 1930 году в России были созданы Витимо-Олёкминский и Эвенкийский национальные округа. Первый включал нынешние районы Забайкальского края к северу от Транссиба и Тындинский район Амурской области (210 тыс. км² и 9,5 тыс. жителей), центром его значилась Усть-Муя (близ Таксимо, то есть вне округа), а с 1933 года - село Усть-Калакан, так и не успевшее разрастись и в итоге опустевшее: уже в 1938 году ВОНО упразднили. Эвенкийский округ с центром в Туре оказался устойчивее: в 1977 году он из национального был переименован в автономный, а упразднён лишь в 2007-м. ЭАО лежал в бассейне двух Тунгусок, включая географический центр России у озера Виви, и всю свою историю был самым малолюдным регионом страны. На территории размером с Турцию (763 тыс. км²) к моменту распада Союза жило 30 тыс. человек, а к моменту упразднения округа - 15 тысяч, то есть один человек на 5 квадратных километров. И пожалуй только поэтому 30 июня 1908 года никого не убил Тунгусский метеорит, взорвавшийся как раз над этой территорией и так прославивший её на весь мир. Титульного региона у эвенков теперь нет, а вот единицы уровнем пониже - остались: в Якутии до сих пор есть Жиганский и Оленёкский эвенкийские национальные улусы, а в Бурятии - Баунтовский эвенкийский район, где остались последние в России мурчены, вернувшиеся в тайгу, но и там оставшиеся, в прямом смысле слова, на коне. Не отставал от "братьев навек" и Красный Китай, где есть Орочонский и Эвенкийский автономные хошууны Внутренней Монголии и десятки эвенкийских волостей в ней же и приамурской провинции Хэйлунцзян. Ныне эвенков порядка 75 тысяч человек, примерно поровну в России и Китае. Однако дело в том, что все эти цифры не значат ровным счётом ничего!
3.
В Китае родным языком владеет почти половина эвенков (19 тыс. чел.), у нас - не более 5%, да и тут ситуация очень неоднородна. В Якутии живёт половина российских эвенков (18 тыс. человек), в национальных улусах их доля достигает 75%, однако родным языком уже в 1989 году там владели 10-12% эвенков, а сейчас, наверное, и вовсе почти никто. В красноярской Эвенкии 67% населения русские, и лишь 21% - титульный народ; здешний диалект в эвенкийском языке считается литературным, но практически мёртв. И всё же только там сохранились традиционные эвенкийские родовые фамилии вроде Вакувагир, Хутокогир или Пуягир, а до 1930-х годов детям давались и традиционные имена. Самые известные из них, с лёгкой руки писателей и режиссёров - Синильга ("Снежная", то есть рождённая в метель) и Тыманча ("Утренний"). В остальных районах эвенки носят русские фамилии, но они примерно соответствуют древним родам. Центром эвенкийского мира в России стал частично совпадающий с Витимо-Олёкминским округом треугольник из современных Каларского района Забайкальского края, Тындинского района Амурской области и Нерюнгринского улуса Якутии (не входил в ВОНО). Здесь живёт около 4,5 тыс. эвенков, в первую очередь соответственно в сёлах Чапо-Олого (120 жит.), Усть-Нюкжа (500 жит.) и Иенгра (900 жит.). В 1989 году 98% из них знали родной язык, и только здесь дожило до 21 века эвенкийское оленеводство, в большинстве других уголков страны кончившееся с распадом Союза, когда совхозы были распущены, а олени - съедены. В советскую культуру же эвенки попали через кино - в 1970-х годах в таёжной глуши было снято несколько фильмов, где вместо профессиональных актёров роли исполняли местные жители. Уходящий мир эвенков Тунгуски запечатлён в ленте "Друг Тыманчи" (1970), а вот эвенки Станового нагорья стали героями фильма "Злой дух Ямбуя" по одноимённой повести писателя-геодезиста Григория Федосеева. Легенда Байкало-Амурской магистрали - его друг и проводник Улукиткан, которому "трасса БАМа" обязана многими своими поворотами. И далеко не все соплеменники ему за это благодарны: многие эвенки ценят те блага цивилизации, что принесла сюда железная дорога, для других же БАМ стал "железным чудищем", которое "прошлось по ним", превратив этот народ из хозяев Станового нагорья в меньшинство. Особенно это касается северобайкальских эвенков, не то что язык позабывших, а в преимущественно смешанных браков утрачивающих и свой фенотип.
4.
Так что само слово "эвенки" - абстрактное: из-за огромных различий в самой культуре и её сохранности всегда нужно иметь в виду, о каких именно эвенках говорится. В нашем случае - об эвенках Витимо-Олёкминского треугольника, которым посвящён и первый зал Музея БАМа в Тынде. На одной из фотографий - Шаман-камень с петроглифами, и ныне стоящий на Олёкме в 18 километрах от Усть-Нюкжи.
4а.

Большую часть своей истории эвенки - кочевники, в огромной тайге не имевшие чёткой системы угодий: их пути год от года проходили по новым местам. Транспортом тунгуса был, конечно же, олень.
5а. на фото - британский антрополог польского происхождения Мария Чаплицкая и её проводница Мичиха из рода Хукочар.
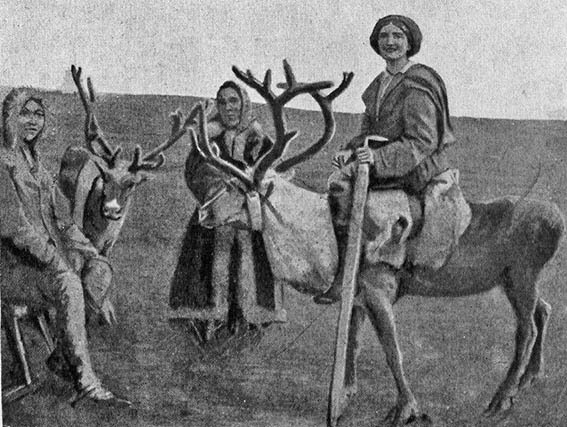
Вот в кадре - грузовые нарты сирга с вертикальными опорами, в отличие от косых опор у легковых нарт (олок или тэгэк). На нартах, как и в руках Чаплицкой - шест тыевун, которым не упряжку погоняли, а оленный всадник помогал себе при верховой езде, седло для которой (нама) лежит на фоне лыж (киглэ - голые, суксилла - меховые). Ещё были детские (эмкору и турул) и вьючные (эмэгэн и даннэ) сёдла, все располагались у животного на лопатках. В нартах эвенки кочевали, верхом на оленях - охотились.
5.
Здесь же представлена рыбацкая сеть, но нигде в музеях я не видел лодок, которые у эвенков тоже были разнообразны - долблёнки (онгочо), берестянки (дяв) и мурекэ - свёрток лосиной кожи, натягивавшийся на каркас, который изготовлялся на месте. Рыбу ловили сетями, удочками и острогами, зимой - в проруби, над которой ставили чум.
5б.

Ведь что мурчены, что орочоны не были скотоводами в чистом виде - стада их были невелики (десятки голов), а разводили животных именно как транспорт, "забирая" (на еду и шкуры) лишь в самые голодные годы. Да и к чему резать укчаков (ездовых быков) и нями (самок оленя), если по тайге обильно бегают согжои - дикие олени, которых загоняли, резали на переправах и даже ловили с помощью оленей-манщиков, чьи рога были перетянуты ремнями так, чтобы другие олени в них застревали своими рогами. Вот в кадре - ножи, пальма (алебарда) и стрелы (с двойным наконечником), которыми пользовались охотники издавна, и ружья, на которые они перешли лишь в советское время. Рядом - ловушки, рукавицы и обувь из грубой кожи (тергани), элементы оленьей сбруи и пример добычи - лисья шкура. Мехами эвенки платили ясак и торговали с другими народами:
6.
Когда-то у них были свои ремёсла, в большинстве своём отмершие в ХХ веке. Самой живучей осталась выделка шкур (как оленьих, так и всякой дичи), которой занимались в основном женщины. Больше всего у эвенкийских кожевниц впечатляют рецепты: так, дубили шкуру размоченной трухой гнилых лиственниц, а при копчении в специальном чуме пропитывали её варёными мозгами. Из шкур делали камус (оха), ровдугу (тэргэксэ), реже в ход шли рыбья кожа (сэвгу; более популярна у амурских народов) и лапки птиц (чэвэкэ).
7.
Другими материалами служили береста, мех, лосиный и олений волос (муйэлле) и покупные ткани (красноречиво называвшиеся "торга"), по которым шили вместо ниток звериными сухожилиями. Вот берестяные корзины и туеса (эхас) да элементы упряжи из кожи и ткани:
8.
Слева - берестяной гуявун для сбора ягод, а в витринах - мужская, женская и детская одежда, которую дополняют унты (в центре), чуни (слева), вьючные сёдла (справа) и специальные детские нарты с люлькой (касыма).
9.
9а.
Национальный костюм же лучше представлен в музее Иркутска, хотя в деталях они могут отличаться от витимо-олёкминских: заметная на карте длинная "лопасть" Иркутской области, выступающая на север - это Котангский район, где живёт довольно обособленная группа эвенков. Традиционно эвенки носили кафтан с завязками на груди - летний (сун) из ткани и зимний (хэгилмэ) из осенней шкуры оленя, под который надевали натазник и расшитый нагрудник до бёдер - женский (нэлли) с прямым и мужской (хэлми) с треугольным нижним краем, самый красивый элемент одеяния. Русская эпоха принесла ещё один элемент - урбакэ, что могло означать как мужскую рубаху, так и "разросшееся" из неё женское платье.
10.
Теперь это в прошлом, но куда лучше выдержала испытание временем обувь - так, именно из эвенкийского языка проихсодит слово "унты". Выше надевались арамусы, и конкретно вот эти носил не абы кто, а главный писатель народа бамовцев Иван Ефремов:
11.
Женский наряд с урбакэ, нагрудниками, поясам бусэ и сумками авса (верхняя и левая) и мурчун (правая сумка-шкатулка):
12.
В целом, эвенкийская одежда не поражает яркими красками и мудрёными орнаментами так, как нанайская или бурятская. В ней есть какая-то таёжная, первобытная суровость. И всё же орнаменты эвенков многообразны, а в основе их - оленьи рога, лапки гагары, чумы, сопки, ручьи и таёжные тропы:
13.
Современные изделия "по мотивам" радуют глаз:
14.
Но главный предмет эвенкийского искусства - кумаланы, круглые ковры из оленьих шкур, из которых получаются отличные эмблемы, как например на кадре №3. Здесь же внизу слева - олений манок и турукэрук: специальная сумочка для соли. Её назначение далёкому от оленеводства человеку не вполне очевидно: главное лакомство оленей - это соль, которой им постоянно не хватает. Соль даёт оленеводам определённую власть над стадом, и турукэрук тоже использовался как манок - отбившихся оленей привлекает звук соли, пересыпавшейся в нём.
15.
Письменности в нашем понимании у эвенков не было, но ведь и для всего человечества первыми иероглифами были звериные следы и отпечатки когтей на деревьях.
16. подробнее.
А кроме того, эвенки мастерили особые резные календари. 12 месяцев по Солнцу они позаимствовали у русских, но наполнили своим смыслом: месяцы оленят (май), зелени и гнуса (июнь; конец перекочёвки на летние пастбища), ягод, оводов и нереста (июль), оленьих рогов и мошки (август), гона оленей (сентябрь), начала охоты (октябрь), падения снегов (ноябрь; основная пушная охота), Верхний месяц (декабрь), месяцы сидения (январь; занимались ремёслами, пережидая мороз), ветров (февраль; охота на копытных с нарт), перелома свечения (март; охота на копытных с собакой), наста и прилёта ворон (апрель).
16а.

Жилищем эвенка давно стала изба из бруса - в коллективизацию кочевников собрали в деревнях, по большей части тогда и построенных. Впрочем, историческое зодчество эвенков отлично представлено в скансенах по обе стороны Байкала, таких как Тальцы близ Иркутска, Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ или "Ангарская деревня" в Братске. В прошлом тунгусы использовали и бурятские юрты, и якутские урасы. Но собственно эвенкийским считался дю - чум с каркасом из сложной системы жердей: туру (2 толстые с развилками на концах), икэптукан (главная жердь напротив входа) и серан (тонкие жерди). В больших чумах были ещё симка (средняя жердь-колонна) и икэптун (горизонтальная жердь над очагом).
17.
У входа в дю жила хозяйка, по бокам - остальная семья, а самым чтимым считалось место за очагом - маалу. Крыли чум ровдугой, берестой или тканью, пол устилали лапником, лишь поверх которого клали спальники и кумаланы. Но этим в тындинском музее решили пренебречь.
18.
Дю стоит в отдельном зале, а за ним справа видны сэргэ (атрибут многих народов Восточной Сибири, у бурят считающаяся ритуальной коновязью, а у эвенков - моделью сотворения мира) и идол Сэли - мамонт, вместе со змеем Дябдаром когда-то строивший мир из земли, что подняла со дна мирового океана лягушка (это именно местная версия - у большинства эвенков землю поднимала гагара). Заказчиками стройки были Сэвэки и Харги - два брата, один из которых создал всё доброе и полезное, другой - всё злое и опасное. Ещё в легендах разных групп были Дуннэ (хозяин тайги и родовых угодий), заступница людей Майи (в её руках - нити судьбы всего живого), громовержец Агды (иногда изображался в виде старика, иногда - человека с головой медведя и крыльями орла, иногда - как Гром-птица), Того Мусун, или Энекан-того (старуха-хранительница огня), Мудико, или Тэму (дух воды в виде старой четы на далёком острове), Синкэн (покровительница охоты, прекрасная дева-удача), Хэгэн (бегущая по небу лосиха, ведающая сменой дня и ночи: сама она - созвездие Большой Медведицы, её следы - Млечный путь), Торганай (Первомедведь, павший в схватке с братом-Первочеловеком - оба родились от женщины, упавшей в берлогу) и другие. По Земле бродили Калу (остроголовые когтистые копытные великаны, хранившие в сумках "щедрую шерсть" - талисман вечной удачи охотника), а у любого места, явления, рукотворного предмета и даже слова, подразумевающего переход к делу, был покровитель мусин - хоть дух перевала, хоть домовой под чумом. В общем-то, многое из перечисленного знакомо тем, кто помнит мой пост про Сикачи-Алян - язычество тунгусо-маньчжуров вплоть до своего забвения сохранило впечатляющее единство. И именно из эвенкийского языка, в переводе "беснующийся", происходит понятное на любом континенте слово "шаман":
19.
Сейчас, впрочем, обрусевшие эвенки называют своих шаманов Знающими - пляски с бубном ушли в прошлое под натиском миссионеров и политруков, и современные шаманы - это народные мудрецы, живущие в таёжных дебрях. Чужаков к ним эвенки не водят, состояние современного шаманства натурально покрыто мраком, но наиболее вероятно, что держится оно на последнем поколении стариков, получивших этот опыт от выживших в коллективизацию шаманов в середине ХХ века. Я не так давно писал о шаманском молебне на Ольхоне, и буряты убеждены, что эвенки своих шаманов давно потеряли. Убеждены не без доли злорадства - эвенкийские шаманы считались самыми сильными во всей Сибири после кетских. Обряды их, с безумными плясками и высокими прыжками, явно были гораздо зрелищнее бурятских, а вот костюм - наоборот, скромнее. Даже экипировку "светлых" и "тёмных" шаманов отличал в основном материал - лосиная или оленья ровдуга соответственно. Атрибутами шамана служили бубен (унтувун), шапка с рогами (иек) и рубаха с оберегами (самахик), в которой он напоминал огромную птицу. И, конечно, фигурки духов-помощников - сэвэнов или онгонов. Второе слово - бурятское, но так эти фигурки подписаны в музее Иркутска, где снят этот кадр:
20.
Храмами эвенков были шаманские дю в тайге. Вот один из них, сфотографированный в 1929 году на Енисее - привожу описание с "Тунгсских заметок": "Чум шамана находился в середине становища из шести чумов, расположенных по кругу. Вход в шаманский чум был ориентирован на север. Перед ним был настлан мостик из еловых круглых поленьев. По обеим сторонам на двухметровых еловых шестах были вырезаны изображения гагар. В два ряда стояли 17 фигур человекообразных божеств, причем изображения правой стороны были более примитивными. В чуме были найдены фигурки крылатых человечков. Рядом лежали деревянные жезлы и стрелы, а также изображение необычного животного. Оно имело длинное туловище, маленькую треугольную голову на удлиненной шее, четыре лапы и небольшой хвостик. (...) Позади чума в 10 м возвышался метровый помост для жертвоприношений размером 3,78 м на 2,55 м. (...) С трех сторон помост был окружен изгородью из березовых тонких деревьев. На помост вела примитивная лестница. На перекладинах помоста было подвешено деревянное изображение божества, обращенного лицом на запад, спиной к помосту. В 20 м от чума шамана за березовой изгородью были две ямы, засыпанная и провалившаяся яма."
20а.

Шаманы лечили больных, призывали удачу на промысел, сопровождали между миров, а дважды в год проводили родовые праздники. Майский Сэвэкэн - это Новый год, пробуждение природы, в котором шаман четырежды ходил к Энекан-Буга (Хозяйке Вселенной) - на первый и второй раз узнать, какие декорации и жертвы нужны для обряда, на третий - воздать почести, а на четвёртый - обрести и передать в мир жизненную силу мусин. Октябрьский Синкелаун открывал сезон охоты, и его этапами были изготовление бэюнов (фигурок животных), хождение шамана к Хозяйке с просьбой послать зверя, очищение охотников через идол-врата Чичипкан и наконец "добыча" бэюнов. Но и повседневная жизнь эвенка была полна обрядов и поверий. Например, имтэ - кормление огня, подобно христианской молитве совершавшееся ежедневно, перед едой или перед важным делом. В огонь нельзя было плевать, рубить рядом с ним дрова и класть ножи остриём к пламени. Аналогом крещения можно было назвать "приобщение к очагу", сажей из которого мазали лоб младенца. На перевалах и бродах оставлялись улгаани - подношения-лоскутки, а так же наконечники стрел и патроны. Был у эвенков и свой Медвежий праздник Такамин ("обмани медведя"), совсем не похожий на айнский и сильно упрощённый по сравнению с хантыйским, но по сути более близкий к нему: у убитого Хозяина Тайги просили прощения. С медведем человек старался лишний раз не враждовать, и охотился лишь на шатунов и подранков. В наши дни за косолапого могут жестоко покарать червяки - бичом таёжных сёл стал трихинеллёз, известный как "болезнь от медвежатины". К дух убитого медведя обращались возгласом "Кук!", и первым делом охотник созывал свидетелей, что это не он убил, а якутЫ там какие-нибудь или русские. Разделывали тушу там, где зверь погиб, а место забрасывали ветками и выставляли почётный караул из 4 идолов-ментаев. Мясо медведя на следующий день ели только мужчины, приговаривая "Кук!", со специальной посуды из рога лося, после чего кости клали на помост, а голову - на шест взглядом в ту сторону, в которую глядел зверь перед смертью. Ну а ключевым эвенкийским обрядом, актуальным и ныне, был нимат - строго регламентированный по ролям и долям раздел добычи между всей общиной, с согласия которой мата (участником делёжки) могли становиться и гости.
21.
Тунгусская вселенная состояла из множества миров, которые в поверьях западных эвенков соединяла Мировая река Энгдекит. Она брала начало в Нгактаре - мире оми, неродившихся душ, приходивший на Землю в виде хвоинок. Ниже по течению лежал Кутурук - мир нерождённых оленей, ну а в среднем течение находилась Буга - обитаемый мир. Здесь в Энгдекит впадало множество притоков, каждым из которых ведал свой шаман, а на боковых ручьях жили его сэвэны. В низовьях плескалось 7 порогов, на которых подстерегали духи смерти, и даже шаманы никогда не заходили за 4-й порог. У порогов раскинулся Буни - мир мёртвых, где всё как у нас, только наоборот: старое делается молодым, сломанное - целым, и живой человек там будет видеть тусклое солнце и землю, похожую на пар. Равно как и сам он обитателям страны мёртвых кажется призраком, а его речь звучит как треск огня или шум ветра. Ну а за последним порогом Энгдекит впадает в непостижимое безымянное запределье, куда уходят умершие в Буни, и что там, за устьем - не знает никто, ибо оттуда ни для кого нет возврата.... Все эти миры, только без связующей реки, были известны и восточным эвенкам. Из музейных залов перенесёмся в горы Удокан за сотню километров от БАМовской станции Новая Чара:
22.
Здесь, в сердце Станового нагорья, стоит посёлок Чина у так и не построенного рудника. В россыпи балков, похожей на "времянки" Бамстроя, живут два сторожа (сменяющихся дважды в месяц) и всякие заезжие охотники да рыбаки.
23.
В паре километров от Чины мы увидели убегающих в лес оленя - сперва самку, затем и самца:
24.
И привечавшие нас Два Александра (сторож с другом) такому известию обрадовались - "Завтра постреляем!":
24а.

К утру, однако, в оленях была вся Чина, и Александры поубавили пыла. Непуганые и наглые, быстро поранившие себе ноги всякими железяками, сюда явно пришли не согжои. А значит - где-то рядом и оленеводы:
25.
Нынешние эвенки кочуют отработанными маршрутами, и Александры знали, где искать их стойбище в 4 километрах от Чины:
26.
Дорога к стойбищу вся в отпечатках копыт:
27.
Александры подвезли нас на своём "Камазе" до брода через речку Катуга - главного препятствия на пути. Дальше есть ещё и заболоченный ручей:
28.
В редколесье за которым я приметил явные постройки:
29.
Стадо оленей:
30.
И людей, явно занятых делом:
31.
На краю стойбища первыми появились лайки, облизавшие нас с ног до головы и чуть не вытянувшие шнурки из ботинок:
32.
Лайки у эвенков дружелюбны к людям, но в этом и проблема - они часто увязываются за незадачливыми туристами так, что вернуться уже не могут. Поэтому если, уходя, видишь в паре километров от стойбища радостную лайку - надо искреннее её возненавидеть и быть готовым кинуть в неё камнем или ударить палкой, чтоб не ходила абы с кем.
33.
Хозяева же, - двое мужчин средних лет и подросток, - встретили нас на первый взгляд равнодушно. Но один из них сразу же повёл нас в куре, как тут называют кораль, где собралось стадо в три сотни голов. Для нас это была удача - большую часть времени олени пасутся ближе к гольцам, и лишь периодически, на несколько дней, стадо сгоняют к стойбищу. В куре животных пересчитывают, осматривают, угощают солью, и если надо - лечат.
34.
Первым вопросом эвенков было, не видели ли мы оленей в посёлке. Известие, что видели, не обрадовало пастухов - олени неизбежно ранят копыта о всякие железяки и едят пропитанные техническими жидкостями тряпки: запах топлива действует на них как наркотик. В природе, впрочем, оленя тоже сопровождает множество опасностей, будь то оводы или хищные звери. Да и согжой домашнему оленю враг - самцы-дикари настолько не считают домашних быков ровней, что даже не бодаются с ними, а просто убивают ударом копыт в позвоночник. Конечно же, они уводят нями, но те, погуляв в тайге, часто возвращаются в стадо беременными, и телята от согжоев способствуют улучшению породы.
35.
Эвенк рассказывал, как недавно столкнулся с медведем, который подрал оленя и преследовал его в стланике, а увидев человека - сослепу и в азарте погони бросился на него. Оленевод успел сделать два выстрела, и вторым всё же смертельно ранил зверя: по инерции медведь настиг его, сбил с ног и разодрал когтями одежду, но сильнее поранить уже не успел. И в общем схватка с дикими зверем тут примерно такая же обыденность, как для горожанина гоп-стоп.
36.
По диким пастбищам олени ходят против ветра, сбивающего с них насекомых. В первую очередь - оводов, откладывающих своих личинок под шкуру. Сбившись в кучу, олени похрюкивали (вернее, звук, издаваемый ими, имеет своё название - хорканье) и периодически чихали, и эвенк пояснил: "овода им в нос срут - вот они и чихают". На стойбище, однако, насекомых почти не было - по периметру кораля бочки курились каким-то травяным дымком:
37.
Пастух привёл вожака стада по кличке Братан:
38.
Кочуют трое эвенков круглый год, лишь изредка, не ежегодно, наведываясь в родное Чапо-Олого на большие праздники, как Новый год или День оленевода. В совхозах оленеводы работали вахтами, но эти - частники, и родня позаботится об их домочадцах, а если очень надо - подменит и на пастбище. За год эвенки совершают 10-12 перекочёвок по знакомым местам, без чёткого расписания: если олени начали чаще болеть - значит, пора сниматься с места.
39.
Всё стойбище в разобранном виде умещается на старом советском вездеходе. Но, как видите, тут и нарты в ходу:
40.
Тягатать их может как оленья упряжка, так и новенький "Буран". Благодаря своей компоновке (две гусницы и одна лыжа) он по сравнению с импортными снегоходами (у которых обычно две лыжи и одна гусеница) гораздо более маневрен в тайге, а по ровным местам может ездить и летом. "Бураны", на самом деле, и убили таёжное оленеводство в других районах - вопреки известной песне нанайца Кола Бельды, машина сильнее и надёжнее оленя.
41.
А лодочный моторчик напоминает, что на пути кочевников есть и реки, и богатые рыбой озёра:
42.
Скарб оленеводов сложен под навесами - от рыболовных сетей до дизель-генератора. Так как маршрут перекочёвок почти не меняется из года в год, деревянные изгороди и каркасы на стойбищах постоянные:
43.
Из этой древесины будет делаться много других вещей - те же нарты:
44.
Древки топоров или приклады для ружей:
45.
Отдельно впечатляет станок-кожемялка (кэдэрэ) - совсем такой же, как в музее. Шкура прилагается:
46.
Дю у эвенков давно вышел из обихода - оленеводы переняли у старателей и геологов брезентовые палатки:
47.
Но земляной пол, как и встарь, покрыт ковром из елового лапника. Домашний быт кочевника суров: вся обстановка жилища - лежанки вокруг печки-буржуйки. В отсутствие хозяев здесь отдыхают лайки да одинокая кошка, обороняющая припасы от всепроникающей мышей.
48.
Там, где в дю было маали, в палатке столик с колодами вместо ножек. За ним и посидели мы с хозяевами после "экскурсии" по коралю, угостив оленеводов брусничным компотом, который Ольга сварила в Чине. Через пару дней эвенки сами собирались в посёлок забирать своих оленей, а пока попросили нас напомнить тамошним мужикам, что за каждого убитого оленя положен штраф 100 тысяч рублей. Это стадо держат в основном на панты, и забивают оленей только в крайнем случае - например, если у животного серьёзные травмы.
49.
Отдельным впечатлениям стала речь кочевников - тихая, как у людей, которым не нужно перекрикивать шум машин, а важно не спугнуть зверя. Их интонации похожи не на цвета, а на полутона и едва различимые оттенки. По-русски эвенки общались и между собой, но как мне показалось - с небольшим акцентом: на самом деле это просто специфический такой специфический, но всё же русский говор. И всё же Витимо-Олёкминский треугольник - последнее место, где по-эвенкийски говорят не только старики, но и 30-летние, и даже какое-то очень небольшое число молодёжи.
50.
В эвенкийских деревнях, даже тех, куда добираться полдня вертолётом и неделю моторкой, смотреть, по словам знакомых этнологов, не на что: от русских деревень они отличаются разве что лицами жителей. От городских же можно услышать вместо "мы эвенки" - "мы кэмэнээсы": едва ли не последней причиной помнить свои корни остаются льготы, которые полагаются представителям коренных малочисленных народов Севера. Эта же ситуация препятствует смешанным бракам: кажется, даже воровство сибиряку простить легче, чем поблажки соседу, а потому русские и КМНСы в двунациональных посёлках недолюбливают друг друга и держатся особняком. Но по той же причине эвенки недолюбливали бамовцев, и дело тут даже не в том, что до постройки магистрали тунгусы были безраздельными хозяевами Станового нагорья, живя одни со своими оленями на сотни километров вокруг. С началом Великой стройки все эти оленеводы, звероводы и охотники так и остались в своих совхозах: их не приглашали строить БАМ, не награждали "длинным рублём" и даже не везде (это зависело от администрации) давали возможность отовариваться в бамовских магазинах. Станции БАМа и национальные посёлки сосуществовали, как два параллельных мира, но граница этих миров с каждым годом всё тоньше. Лихие 1990-е загнали бамовцев в тайгу выживать охотой и рыбалкой, а в наше время, с их оттоком на "материк", эвенки всё чаще устраиваются работать на железной дороге. Ну а где искать оленеводов среди этих гор - я не стал даже спрашивать: раньше, например, туристы часто встречали их на Кодаре, а затем кочевникам это надоело и они перестали ходить на Кодар.
51.
Ну а про сам БАМ в общих чертах расскажу в следующей части.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021).
|
Метки: Сибирь дорожное этнография |
Перейти брод. Итоги ушедшего года. |
В ушедшем году я не успел сделать одну вещь - подвести традиционные итоги.
2021-й мне запомнится не как отдельный год, а как странное продолжение 2020-го, этакий "Две Тысячи Двадцатый 2". В глобальном мире - всё тот же Царь-вирус (в короне же!), к которому мир привык, а я таки сподобился с ним познакомиться лично. В работе - всё тот же Яндекс-Дзен, доходы которого по сравнению с 2020-м заметно упали, и всё же пока остаются наибольшими в моей жизни. В путешествиях я ездил между Владивостоком и Иркутском почти теми же маршрутами, в 2020-м словно посетив их чётные, а в 2021 нечётные пункты. Моё присутствие в ЖЖ, да и вообще в соцсетях, продолжает сокращаться, и под кат я советую заглянуть хотя бы ради нескольких десятков фотографий из коротких поездок ушедшего года, о которых я не написал по горячим следам ни слова. И даже Прекрасная Незнакомка (имя её называть пока преждевременно) пришла в мою жизнь ещё в 2020 году, но её появление в некоторых из этих поездок я могу назвать для себя главным итогом 2021 года.
2021-й в этом блоге я встретил под завалом постом с благословенного 2019-го. Тогда я набрал какое-то неописуемое количество материала, и на мне до сих пор висят долгом летние Ленобласть и Карелия. Но тогда мне надо было закончить с осенним Закавказьем, которое я лишь иногда перемежал Прибайкальем уже другой, 2020-й, осени.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ну а посты про Ольхон, окрестности Иркутска, Байкало-Амурскую магистраль и другие впечатления осени 2020-го я решил отложить на следующую, то есть нынешнюю зиму: всё отчётливее вырисовывалась идея вновь вернуться в те места и собрать материал для более целостной картины. И первые месяцы 2021 года одним из главных мой сайтов стал Sputnik.Irk.ru. "Спутник" в данном случае не имеет отношения ни к вакцинам, ни к погромам, но картинка, которую он мне показывал, неизменно выглядела так:
8.
Я собирался на Байкал увидеть его знаменитый лёд, но вот со льдом-то и не задалось - зима выдалась аномально снежной, и хотя тогда на Славное море съездили пяток моих знакомых, я по итогам разглядывания спутниковых карт решил сдать билеты. Не последнюю роль в этом сыграло то, что Москве в кои-то веки природа подарила нормальную русскую зиму с сугробами в человеческий рост и морозными днями, а потому я не испытывал столь острого желания удрать из серости туда, где снег искрится в яркий день и громко скрипит под сапогами. Эту зиму удалось запечатлеть около Речного вокзала - у меня решила взять интервью Наталья
 pamsik с "Русского Блоггера", да к делу подошла так основательно, что специально для этого организовала мне фотосессию. Автор следующих двух кадров - Алексей Клиндухов:
pamsik с "Русского Блоггера", да к делу подошла так основательно, что специально для этого организовала мне фотосессию. Автор следующих двух кадров - Алексей Клиндухов:9.

10.

Ну а краешек зимы ухватить я решил уже в марте:
11.
Сначала отправившись в подмосковную Яхрому с Прекрасной Незнакомкой. Её я хотел порадовать горными лыжами, а себя - ретро-электричкой с Савёловского вокзала...
12.
...и ретро-икарусами до горнолыжных курортов на холмах Клинско-Дмитровской гряды:
13.
А по прибытии в Парк Яхрома...
14.
...было решено, что это не очень-то радостно - когда одна катается на горных лыжах, а другой переминается с ноги на ногу наверху.
15.
И потому кататься было решено на тюбингах:
16.
Возвращаясь обратно наверх на специальном подъёмнике:
17.
И небо не осталось в стороне, решив порадовать нас облачно-снежной феерией:
18.
19.
Напоследок заглянули в Дмитров, рассказ о котором в двух частях у меня тоже между прочим должок - причём не с 2019, а с лета 2018 Космического года. В этот раз же мы не столько смотрели город, сколько просто гуляли по валам да вкушали припасённые заранее ананасы в шампанском...
20.
В следующие мартовские снега я отправился со своими автостопными друзьями, среди которых были хорошо знакомая давним читателям Ольга и тогда ещё не знакомый Пётр. Он и предложил идею воспользоваться новым турпоездом РЖД, который ездил из Москвы в Москву через Великий Устюг и Кострому со стоянками на весь день и при этом обычными плацкартно-купейными тарифами. Маршрут его с парой пунктов менялся за последующий год не раз от Новгорода до Элисты, но кажется, неизменно пользовался спросом - вагон оказался набит битком.
21а.
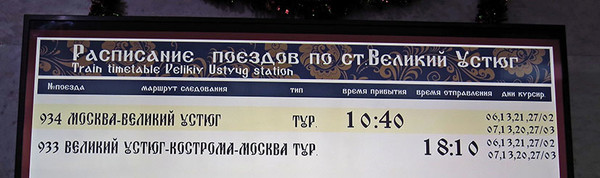
Вагон же был не простой, а модный хипстерский со шторочками - вроде и симпатичный с виду, но невыносимо тесный:
21.
В Великом Устюге для меня главной достопримечательностью стал вокзал - я вообще не знал, что таковой тут есть, однако ещё в 1982 году, когда про Деда Мороза тут никто слыхом не слыхивал, в древний город проложили тупиковую ветку.
22.
Вокзал тех же лет расположен в паре километров от города, и как я понимаю, редкие турпоезда - единственная возможность увидеть его изнутри. А интерьеры тут и впрямь крутые:
23.
24.
Сам Великий Устюг я посещал летом 2008 года, и тогда рассказал о нём в трёх частях (Соборное дворище и монастыри. || По городу. || Скитания за Сухоной.). И мой уровень проработки рассказа за эти годы несоизмеримо вырос, а вот в Устюге, кажется, не изменилось ничего. Туристический сезон тут слишком короткий, чтобы серьёзно влиять на город, поэтому улицы тут запущены, многие дома брошены, реставрация в монастырях продвинулась едва-едва, и даже поесть по-прежнему толком негде. Но вместе с тем устюжские древности всё так же прекрасны:
25.
А окрестности зимой гораздо более доступны:
26.
Ещё я посетил музеи, упущенные в тот раз, и впечатлился в них традиционными устюжскими промыслами - чернением по серебру:
27.
И морозью по металлу, рецепт которой, как считается, давно забыт:
28.
Новинкой же стала разве что популяризация Мурки, на которую так неудачно запал Рабинович - якобы, прототипом её был некая Мария Климова из Великого Устюга:
29.
Продвигает новый бренд местный пивзавод "Бавария" с пивом "Семён Дежнёв":
30.
К старинным зданиями которого мы дотопали под вечер:
31.
Из Устюга поезд отправился прямиком в Кострому, на станции Галич обзаведясь своей главной "фишкой" - паровозом:
32.
Который, впрочем, шёл до Костромы в паре с машиной поновее:
32а.

А потом долго стоял, пыхтел и гудел так, что было больно ушам, заполняя дымом станцию Кострома-Новая:
33.
Для тех, кто далёк от путешествий или от России, стоит сказать, что мимо моего блога совершенно прошёл Паровозный Ренессанс - в последние несколько лет благородные машины вернулись как рейсовые (!) локомотивы по выходным на такой количество маршрутов, что я уже перестал их считать. Более того, я к тому времени уже успел доехать на паровозе из Сортавалы в Рускеалу, но так об этом и не написал. Однако и на второй раз работающий паровоз впечатляет:
34.
35.
Только помните, что
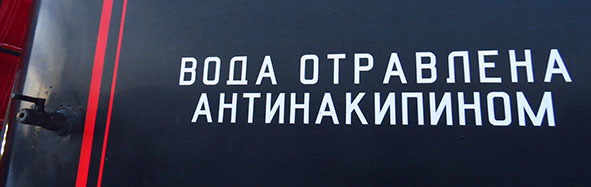
А вот такой кадр можно было бы снять и в музее...
36.
...но в музеях тендеры не бывают наполнены углём:
37.
А в кабине, если она и открыта...
38.
...нет злого резкого жара пылающей топки:
39.
Ну а массово лазил в кабину действующего паровоза народ именно потому, что здесь не рейсовый, а туристический маршрут, и паровоз на нём своё дело сделал.
40.
В Костроме я оказался то ли в третий, то ли в четвёртый раз, хорошо осмотрев центр города ещё в 2002-м и вновь душевно погуляв по нему в 2009-м. Однако более-менее подробного описания города в этом блоге так и не появилось, а если и появится - то после того, как я съезжу сюда летом да на 2-3 дня. В этот раз же я решил осмотреть "родину Снегурочки" (да, именно поэтому она вошла в маршрут!) точечно, вспомнив, что её вокзал не случайно называется Кострома-Новая. Новой она стала в 1932 году, а прежде поезда останавливались на правом берегу Волги и пассажиры их садились на паром. Мы же у Костромы-Новой сели на автобус да поехали за Волгу смотреть Старый вокзал (1887), который неожиданно хорошо сохранился:
41.
Хотя крылья его и выглядят так, будто стоять им осталось недолго.
42.
Куда лучше смотрелась каменная сердцевина, в которой обнаружился частный музей антиквариата:
43.
Вот только хозяин его так боялся ковида, что с нами разговаривал исключительно через дверь:
44.
Пути до вокзала теперь не доходят:
45.
Но сама пустая заснеженная станция Кострома так и лежит среди невзрачного района пятиэтажек и частного сектора:
46.
Дальше у меня были наполеоновские планы осмотреть заречные слободы, но в итоге мы дошли до церкви Спаса Преображения за Волгой (1685), с 1987 года принадлежащей староверам...
47.
....да нечаянно попали на мастер-класс по реставрации старинных книг:
48.
В котором нам без всяких вопросов разрешили поучаствовать:
49.
50.
51.
В центр, где воссоздаётся собор разобранного большевиками Костромского кремля, мы возвращались экстремально, пешком пересекая Волгу сквозь налетевшую метель:
52.
Вскоре поезд увёз нас в Москву, а там недалеко осталось и до новых, куда более основательных путешествий. В апреле я открыл для себя Северный Кавказ, решив начать сразу же по хардкору - с Ингушетии и Чечни.
53.

Часть маршрута я проделал с "Неизвестной Россией", которая уже не первый год организует авторские туры по десяткам регионов России. Моя дружба с ними началась ещё в 2020-м и обещает продолжиться в 2022-м:
54.

С ними я увидел Грозный, озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье и города с гигантскими мечетями, где теперь уже ничто не напоминает о войне и старом довоенном мире:
55.

56.

57.

И успел в Урус-Мартан, в его знаменитый музей Донди-Юрт, который Адам Сатуев по прозвищу Донди собирал прямо во время войны. Увы, теперь это история: полгода спустя Донди умер от короновируса... Светлая, вечная память достойному сыну Чечни!
58.

Самостоятельно, в компании Ольги, я осматривал равнинную Чечню, включая бывшие казачьи станицы с их трагической судьбой:
59.

И Ингушетию сверху и снизу:
60.

61.

Краешком задел я и Северную Осетию, начав путешествие в Моздоке, а закончив в Беслане. И пожалуй именно Беслан я назову в 2021 "городом года" своих путешествий (есть у меня такая традиция).
62.

На впечатлениях Кавказа сейчас не буду подробно акцентироваться - вот здесь у меня обзор поездки, а в конце его - и оглавление по всем постами, оперативно написанным в апреле-мае. Май стал рекордным по посещаемости месяцем в истории моего блога (ЖЖ умирает, говорили они!), и думаю, не стоит пояснять, что большая часть порождённых этим рекордом комментариев - безобразная ругань.
63.

От которой отдыхать мы ездили с Прекрасной Незнакомкой в майский Питер:
64.
Как всегда переполненный яркими событиями и колоритными сюжетами:
65.
66.
67.
68.
69.
Четыре дня вместили и величие Троице-Измайловского собора, близ которого мы жили в крошечной съёмной комнатке с полатями над санузлом.
70.
И пространственно-временные континуумым мрачной Апрашки, куда забрели случайно и потому внезапно:
71.
72.
И самую красивую парадную, которую долго искали, готовясь препираться с консьержкой, но на месте обнаружив, что туда теперь свободный платный вход:
73.
В первую очередь, однако, мы поехали в Северную столицу именно что отдыхать, а потому реперными точками маршрута стали кафе. От модных ресторанов в центре...
74.
...до точки с самой вкусной в Питере шавермой за Обводным каналом, которой видимо с тех пор пришлось поменять вывеску:
75.
А ещё, как заметила когда-то Масяня, в Питере есть настоящее море... Ну, по крайней мере с точки зрения москвича на это звание сгодится и Маркизова лужа:
76.
Мы поехали на мыс со странным названием Гора-Валдай (или Каравалдай), оставшийся чуть в стороне от автовояжа в благословенном 2019-м.
77.
Чтобы там увидеть сосны на морском берегу:
78.
А в основном мы гуляли не спеша вокруг Шепелёвского маяка (1910), любуясь им с разных сторон:
79.
80.
81.
На егерской вышке у берега Прекрасная Незнакомка призналась, что панически боится высоты...
81а.

Возвращались в Питер через Петергоф. Но как бы ни были поэтичны фонтаны в весеннем парке...
82.
...нашей целью были не они, а красивое возвращение в город. Ведь прямо в парке находится причал "Метеоров":
83.
Которых тут курсирует столько, что им даже приходится ждать своей очереди на рейде.
84.
Цена кусачая - 800-1500 рублей (в зависимости от компании, даты и места) за полчаса ходу, но от желающий промчаться по заливу и увидеть Питер с необычной стороны отбоя явно нет:
85.
Мы входили в город самым суровым и колоритным маршрутом - через Большую Неву:
86.
Мимо знаменитых верфей:
87.
88.
По возвращении в Москву мне оставалось лишь в марафонском темпе выложить последние посты с Кавказа да съездить на традиционный Лесной сход Академии Вольных Путешествий. Чтобы через пару дней после него сесть на самолёт да на фоне Третьей волны Царь-вируса улететь на просторы Сибири.
89.
Так началось Суровое Сибирское Лето, в итоге продлившееся ровно три месяца. И на моём пути тут вставали то вода, то огонь, то конфликты с близкими людьми, то бюрократия людей бесконечно далёких. Оно же было как мало какое из моих путешествий богато на яркие встречи. В Хабаровске меня встречала Айна, прежде мне знакомая по Донбассу, Латвии (заочно) и Москве. По диким степям Забайкалья, судьбу восхваляя, со мной вместе Пётр гулял с рюкзаком на плечах. В Иркутске я гостил в избе у трёх художниц, из которых прежде был знаком с автостопщицей Аделиной, а на Байкале встретился с мотоциклисткой и гражданкой мира Ольгой. В Долину вулканов мы ходили втроём с другой, более привычной Ольгой и автостопщицей Аней, а другая Аня, тоже автостопщица, прежде успевшая пожить в нескольких странах, показывала нам Владивосток. Об этом путешествии, коллизиях, трудностях и ярких встречах я рассказывал в 3 частях, а посты из отдельных мест по горячим следам выкладывал всю осень.
Даурия (июнь). Хабаровск - Свободный - Тында - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ.
Прибайкалье (июль). Иркутск - Окинский район Бурятии - Ольхон.
Второй путь БАМа (август-сентябрь). Чинейская железная дорога и Кодар - Хабаровск - Владивосток - остров Путятин.
Как ни странно, с 2020 у меня теперь больше долгов, чем с 2021-го: из того, что я планирую опубликовать, в блоге есть уже 3/4 этого путешествия. Пока же остановлюсь на нескольких особенно ярких моментах...
90.
В этом путешествии было много цветов. Прежде я был фанатом сибирской осени, но первая половина лета оказалась как бы не ярче. Вот - марьины коренья (дикие пионы) на Нерчинских рудниках:
91.
Вот - саранки на родине Чингисхина:
92.
93.
А вот - жарки на перевалах Восточных Саян:
94.
Под Хабаровском нанайцы показывали мне о том, как выделывать рыбью кожу:
95.
А на Ольхоне я посетил тайлган - молебен нескольких десятков бурятских шаманов:
96.
Я видел в ту поездку несколько старинных городов, самым ярким из которых ожидаемо был Нерчинск:
97.
Но всё же каркас этого путешествия образовали три пеших похода по горам. Первый - в Долину вулканов в Восточных Саянах, куда прорывались мы с боем, несколько раз отменяя поход и вновь намечая по мере введения и отмены локдаунов в Окинском районе Бурятии. Приключения продолжились и в Орлике, где мы долго и не с первого раза искали машину, и в самой Долине, где Оле из-за внезапного флюса пришлось эвакуироваться с встречной группой, а мы остались вдвоём с Аней. Об этом похоже я уже рассказал в 6 частях.
98. Окинский тракт.
99. Орлик и Окрестности Орлика.
100. Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
101.
102. Перевал Черби.
103. Долина вулканов.
104.
Другие два похода прошли подряд в августе, и их начальным пунктом была Новая Чара - станция на Байкало-Амурской магистрали, которую я бы назвал кульминацией БАМа.
105.
Сначала - на юг от железной дороги, на Удокан, по каньонам которого проложена самая высокогорная и самая технически сложная в России, но при всём том заброшенная Чинейская железная дорога:
106.
107.
В окрестностях которой нам повезло зайти в гости к оленеводам-эвенкам:
108.
Но кульминацией всего путешествия, да и года, стал Кодар - красивейшие горы, что я когда-либо видел:
109.
Но - лишь по хорошей погоде: при всей пронзительности впечатлений, Кодарский поход кончился неудачей - затяжные дожди заперли нас на избе ГМС, которая служит приютом для большинства туристов, и не успев сходить в три радиалки к достопримечательностям, мы были вынуждены эвакуироваться с другой группой, экипировка которой позволяла пересечь вздувшиеся реки.
110.
Тягостные, холодные, непредсказуемые броды остались для меня символом уходящего года. Каждый из них приходилось проходить по три раза - самому вперёд, самому налегке назад и снова вперёд с рюкзаком Ольги, держа её за руку. К одному из бродов пришлось целый день лезть без тропы через крутую сопку - в низовьях той речки вода была слишком высока. За одними бродами ждали другие броды, да неизвестные тропы, да густой туман...
111.
И что там, на том берегу?
112.
С Кодара, ещё два дня проведя в поезде...
113.
...мы спустились словно прямиком в Приморье, завершив путешествие на, натурально, райском тропическом острове Путятин:
114.
...где
 a_krotov организовал ещё один маленький сход АВП:
a_krotov организовал ещё один маленький сход АВП:115.
Ну а в Москве меня ждала Прекрасная Незнакомка, и после короткой передышки мы отправились в мою родную Пермь. Тут, конечно, мне стоит принести извинения тем своим пермским друзьям, с кем не встретился, но сам формат поездки третьих не предполагал. Мы поехали в мои любимые места всей России - на север Пермского края, в Усолье, Чердынь и Соликамск, где я оказался уже в пятый раз, но и в шестой приеду с удовольствием.
116.
Мои посты 2010 и 2018 годов:
Березники и окрестности. Березники. || Лёнва и Пыскор (а также штрихи к портрету) || Усолье.
Соликамск. Соборная площадь || Центр || Уездное и советское || Усть-Боровский сользавод.
Чердынь. Пейзажи и атмосфера || Архитектура и музеи.
Зачердынье. Пянтег и Рябинино || Покча || Ныробский тракт || Ныроб || Красновишерск.
Березники продолжают проваливаться и переезжать на другой берег Камы:
117.
Но химзаводы их всё так же дымят:
118.
Являя контраст с пасторалью Усолья:
119.
Где в этот раз я открыл для себя пару новых музеев:
120а.

И "секретные локации" - немало старопромышленных руин на берегу Камы находятся за пределами Строгановского ансамбля.
120.
121.
Чердынь же я увидел в новой для себя, осенней одежде:
122.
А в её музее помимо привычных за прошлые приезды вещей обнаружилась такая вот очаровательная карта Российской империи из местной уездной гимназии:
123.
Фотографий же с этой поездки почти что и не будет - в Ныробе у меня сломался фотоаппарат. Вскоре мы добрались до скалы Узкая Улочка, восхождение на которую сквозь узкую трещину, по народному поверию, отпускает все грехи. Впервые оказавшись тут в 2018 году после обильного дождя, я не рискнул на неё подниматься, но вдвоём - совсем иное дело... Несколько раз то я, то моя спутница пытались отступиться, но глядя друг на друга, вновь принимали решение лезть. Подъём оказался нелёгок в первую очередь из-за того, что в мире много любителей отпущения грехов на халяву, и от их ног дно Улочки скользкое, как лёд. Однако мы взобрались, и я не знаю насчёт отпущения грехов, а пару дней спустя в Перми на мосту через Каму моя спутница вдруг поняла, что ей совсем не страшно смотреть вниз. Победа над страхом высоты воодушевила её так, что в Москве она пошла на скалодром. Ну а таким в той поездке был я:
124.

По возвращении из Перми меня взял в оборот "Росатом" - ещё в 2020 году у них намечался блог-тур на Белоярскую АЭС, откладывавшийся в итоге столько раз, что я успел про него забыть. Однако блог-тур состоялся, и в конце сентября я совершил 3 перелёта за сутки с небольшим - из Перми в Москву, а потом из Москвы в Екатеринбург и обратно. В ночном автобусе, которым я ехал то ли в аэропорт, то ли из аэропорта, моими попутчиками стала вот такая вот колоритная пара, причём к собаке парень обращался не иначе как на Игорь Николаевич:
125.
На Белоярской АЭС нам показали самый настоящий Вечный Двигатель - реактор на быстрых нейтронах, который с обычными реакторами по очереди может использовать одно и то же топливо десятки, если не сотни лет.
126.
127. фото Валерия Грачикова.
128.
Перелётов же в итоге вышло 5 за неделю - буквально по пути из Заречного (где Белоярка) в Кольцово (аэропорт Екатеринбурга) мне было предложено слетать ещё и в Ростов-на-Дону:
129.
Из которого я видел лишь новый пафосный аэропорт "Платов" (кадр выше). Прилетев одним днём, мы сразу же помчались с лихой донской таксисткой Олесей в Волгодонск, на "Атоммаш", завод ядерных реакторов с неописуемо гигантскими цехами:
130.
Под сводами которых команда силачей буксировала ядерный реактор:
А по возвращении Олеся и её супруг, по виду классический донской казак словно из первых глав "Тихого Дона", угощали нас ужином. В завершение сезона - пиво с раками:
131.
Дальше я купил билеты на поезд и в конце октября готовился ехать смотреть сам Волгодонск, а заодно Армавир и Адыгею... Но судьба распорядилась иначе - третья волна Царь-вируса, не успев закончиться, перешла в четвёртую, которая накрыла и нас с Прекрасной Незнакомкой. Переболели мы в целом легко, без температуры и кашля, но с положенной потерей обоняния, а сильнее всего подлый вирус ударил меня и вовсе по нервам. Теперь и это позади, а судьба, кажется, уберегла нас и от пост-ковида. Год же как начался отменённой поездкой, так ей и закончился. Напоследок - вот такой сюжет: я наконец-то раздобыл пакколь, или шапку-пуштунку, которую Антон Кротов привёз под конец года в заснеженную Москву из знойного Пакистана.
1а.

2022-й я встречаю в плотной работе, давшей передышку на считанные дни. И надеюсь, что Варандей-Дзен, как и прежде, будет плодоносить, а путешествия продолжаться. Тем не менее, радует, что и Варандей-Фонд не совсем зачах - в 2021 году вы перевели мне 69 тыс. рублей, что меньше, чем в 2016-20 годах, но всё же больше, чем в первые годы проекта. Отдельное спасибо человеку, который не так давно прислал мне 7000 с чем-то - это крупнейший перевод в Варандей-Фонд 2021 года.
Вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
Чего я пожелал бы себе в предстоящем году, помимо путешествий, здоровья и доходов? Пожалуй, двух вещей.
1. Научиться уже ходить в пешие автономные маршруты, в идеале - вернувшись на Кодар.
2. Перейти, наконец, брод, чтобы Прекрасная перестала быть Незнакомкой.
А о планах напишу отдельный пост.
|
|
Олхинское плато. Часть 2: Олхинские скальники, или Иркутские Столбы |
Как ни странно, я до сих пор не был на Красноярских Столбах. Зато летом уходящего года нашёл Иркутские Столбы, и хотя иркутяне со всей сибирской серьёзностью каждый раз одёргивали меня, что здесь никто их так не называет, всё же понимали, что я говорю про Олхинские скальники. Каменные кусты и целые деревья, скульптуры и города скрыты на Олхинском плато, в неожиданном глухом для окрестностей субмиллионного города таёжном треугольнике между Ангарой, Кругобайкалкой и показанной в прошлой части Перевальной веткой Транссиба. Ну а написать этот пост в предновогодней суматохе я решил в благодарность одному человеку, который здесь выручил нас из передряги.
Не стоит думать, будто в сибирских городах по улицам бродят медведи, но какими бы ухоженными ни казались их улицы, какими модным ни слыли бы их кафе, а дикая стихия тут всё равно рядом. Вытянутая на 150 километров по Транссибу от Черемхова до Большого Луга агломерация Большой Иркутск напоминает побережье океана, о которое разбивается зелёная волна. Что старые купеческие тракты вдоль Иркута, что Транссиб вдоль Ангары и Байкала - все они огибали Олхинское плато, лежащее над юго-западной оконечностью Славного моря незыблемой плитой. Плавно подниаясь от Иркутска, к Байкалу оно обрывается крутыми ярами высотой в сотни метров, и вплоть до 1930-х годов в России просто не было колесного транспорта способного осилить этот подъём. Олхинское плато оставалось тупиком, куда ходили разве что охотники да хитники, между собой ориентировавшиеся по Шахтайским, Шинихтинским, Потайным и ещё бог весть каким камням. Наконец, в 1940-50-х, с появлением мощных паровозов последних поколений и электровозов, запитанных от Иркутской ГЭС, сквозь Олхинское плато была проложена Перевальная ветка Транссиба, ставшая магистральным путём вместо Кругобайкалки, которую та же самая ГЭС превратила в тупик. На таёжных полустанках, однако, стали появляться дачи, базы отдыха, детские лагеря, и на рубеже 1950-60-х годов тогда немногочисленное турсообщество Иркутска охватил первооткрывательский бум. Олхинския тайга преподносила всё новые и новые скальники, которым давались романтические названия, и туристы помнили, кто первым сыскал Идущего к воде или Белую Церковь... Найденные иркутскими турклубами, исхоженные несколькими поколениями их участников, Олхинские скальники так и остались достопримечательностью для иркутян, и может быть именно поэтому их и не называют Иркутскими Столбами, что не хотят для них повторения судьбы Красноярских Столбов. На самом деле скальников на Олхинском плато множество, и самое подробное их описание содержится на сайте турклуба "Наследники". Доступность скальников очень разная: к одним дорога требует серьёзных навыков ориентирования в дикой природе, к другим добраться не сложнее, чем погулять в городском парке. Самые доступные скальники находятся в окрестностях платформы Орлёнок между Большим Лугом и Подкаменной (см. прошлую часть), где электричку вместе с нами покинула целая толпа воодушевленных людей.
2.
Под ногами у высадившихся путалась собака, к которой вскоре добавилась ещё одна, и шедшие впереди мужики знали этих собак в лицо да делились впечатлениями об их характерах. У станционных домиков звучит лай и в воздухе висит запах псины - здесь обнаружился целый собачий питомник. Но - запомните эти домики и микроавтобус! Мы ещё вернёмся к ним в конце поста.
3.
Название Орлёнок намекает на пионерлагерь, руины которого и правда есть в лесу неподалёку. Здесь сливаются Малая Олха и Большая Олха, текущие буквально навстречу друг другу и вместе с "единой" Олхой образующие на карте подобие перевёрнутой буквы "Т". Пионерлагерь отделяла от станции именно единая Олха, мы же пересекли Малую Олху, за которую ушедшие было вперёд люди обнаружили комаров и достали репелленты. Судя по всему, в тайгу это толпа пошла впервые: комаров тут было не больше, чем на подмосковных дачах, однако репеллентов народ на себя вылил столько, что войдя в оставшееся за ними облако, мы чуть не сдохли сами вместо комаров и дальше старались держать дистанцию.
4.
Олхинским скальникам повезло с "хозяевами". Это оказался не Прибайкальский национальный парк, который обложил всё Прибайкалье платными пропусками с полным и циничным осознанием того, что инфраструктурой заниматься совсем не обязательно - деньги-то всё равно понесут. Вместо него Иркутские Столбы взяла под опеку "Большая Байкальская тропа", зарождавшаяся в далёком 1997 году как русско-американский проект благоустроенной пешеходной тропы (вроде Ликийской) вокруг всего Байкала. Это, конечно, не задалось, но в итоге проект перерос в волонтёрскую организацию, благоустроившую несколько небольших троп. Денег за вход они не просят, штрафы не взыскивают, а вот мусор убирают, мосты - наводят, таблички и указатели - ставят. Схема тропы висит в паре сотен метров от платформы по раскисшей грунтовке, на которой нас обогнал похожий на бегемота в грязных лужах охотничий УАЗ.
5.
Его дорога уходит от развилки влево, и по ней нам предстояло возвращаться. Утром же мы свернули направо, на пешеходную тропу, вьющуюся по лесу среди валунов и корней.
6.
Не понятно из схемы разве что расстояние, а оно немаленькое - от Орлёнка до Витязя в узле маршрута идти час-полтора.
7.
Я не припомню на тропе развилок, но обратите внимание, что некоторые деревья отмечены указателями. С валунов же тут и там улыбаются очаровательные коты - духи-хранители путника, призванные сюда волонтёрами:
8.
Тропа то рассеивается в валунах, то поднимается на гору, то идёт по гребню лесистой гряды... Мы с Олей поехали сюда налегке, одним днём, в то время как Аня, третья участница предстоящего похода в Долину вулканов, отправилась сюда днём ранее, чтобы пару ночей провести на природе, а день между ними погулять. И главной сложностью тут выходило встретиться - сеть на Олхинским скальниках почти нигде не ловит, и нам осталось лишь заранее наметить место встречи и там ждать. Таковым на Иркутских Столбах логично является Витязь, который нашёл в 1957 году сотрудник СИФИБРа (Сибирского института биологии и физиологии растений) Святослав Федченко, отправившийся в тайгу с группой школьников. Которые, видать, и приметили гигантского каменного воина в остром шлеме, вышедшего из-за деревьев. Витязь оказался всем хорош - эффектен внешне, удобен для скалолазания и расположен ближе всего к Орлёнку, а как результат, Витязь и Орлёнок стали почти синонимами: "поехать на Витязя" - значит, "пойти на те Олхинские скальники, к которым удобнее всего идти от платформы Орлёнок". У ног Витязя выросла турбаза с домиками, юртами и дождевыми навесами, и вот у её околицы навстречу нам вышла Аня.
9.
На Витязя есть несколько подъёмов, которые она успела разведать:
10.
По сути скала замыкает длинную гряду:
11.
Над обрывами которой мы и устроили первый привал:
12.
Любуясь каменистым руслом Большой Олхи и уединившейся среди таёжных гор турбазой:
13.
Между тем, мы были на скале не одни - ещё один парень блаженствовал на уступе. Обратите внимание на тросы, цепи и кольца - Витязь популярен как тренировочная скала у альпинистов. Самой известной "выпускницей" Олхинских скальников стала Екатерина Иванова, первая русская женщина, в 1990 году взошедшая на Эверест, а 4 года спустя сгинувшая на Канченджаге.
14.
Дальше мы спустились на другую сторону Витязя:
15.
Примечательную маленькими, и я бы даже сказал уютными гротами:
16.
Вместо котиков тут - лиса, а на заднем плане секретная беседка с навесом. На турбазе таких несколько, но для всех, кроме постояльцев, они платные, здесь же никто не следит.
17.
Тропа Витязя образует кольцо окружностью в 10-12 километров, и лисичка приглашает пройти это кольцо по часовой стрелке. Там больше концентрация красивых скал, таких как Верблюд или Зеркала, которые нам отдельно рекомендовал такой бывалый походник, как
 mikka. Но всё же если вы на Иркутских Столбах впервые, то главный скальник, который надо увидеть - Идол, расположенный в 2,5 километрах от Витязя против часовой стрелки. И я понимал, что мы вряд ли осилим всё кольцо, а потому решил идти в сторону Идола.
mikka. Но всё же если вы на Иркутских Столбах впервые, то главный скальник, который надо увидеть - Идол, расположенный в 2,5 километрах от Витязя против часовой стрелки. И я понимал, что мы вряд ли осилим всё кольцо, а потому решил идти в сторону Идола.18.
Витязя мы обогнули по подножью, узкому карнизу над Большой Олхой, и спросили дорогу на Идол у мужика, озадаченно глядевшего куда-то вверх. Мужик, не слушая вопроса, ответил "Отстаньте, мне сейчас вообще не до вас", и мы поняли, что он не любуется скалами, а мониторит скалолазку, видимо свою ученицу, карабкавшуюся наверх по стене с отрицательным уклоном.
19.
Тропа на Идол начинается прямо с турбазы, и гатями да мостиками турбаза по сути продолжается вдоль неё:
20.
В указателях на деревьях чувствуется неподдельная забота:
20а.

А скалы изобилуют петроглифами... жаль, что ценными лишь для исследователей из XXXI века:
21а.

На полпути до Идола - небольшие, я бы сказал "проходные", скальники Ангарский, Политехнический, Наполеон и Горилла. Последние два так прозваны, определённо, из-за формы, а вот первые напоминают о том, что их открыли люди из Ангарска и из иркутского Политеха соответственно.
21.
Ну а Идола не спутаешь ни с чем:
22.
Природная колонна 30-метровой высоты оставляет неизгладимое впечатление. Туристы же нашли её как раз в те времена, когда Тур Хейердал добрался до острова Пасхи и прославил в своих книгах тамошние изваяния. При скромном размере, Идол опутан несколькими альпинистскими маршрутами с колоритными названиями вроде "Синий электрик", а на вершине под камнем спрятана гостевая книга, непрерывно ведущаяся с 1970-х годов.
23.
С обратной стороны Идол смотрится скорее динозавром или длинношеей птицей. Его окружает около 20 скал-спутников со своими именами - Идолята, Перья, Циклопы, Пингвин и другие...
24.
Система Идола плавно переходит в систему Черепахи, до которой всего 400 метров. Сама Черепаха, впрочем, с тропы не видна, да и вообще чтобы оценить этот скальник во всей красе, его надо как-то хитро обойти или даже облезть.
25.
Мы не стали задерживаться - за Черепахой тропа резко прибавила уклон и через полкилометра вывела нас на Городище, действительно похожее на руины крепости с мощными бастионами, где даже бойницы есть:
26.
Ещё с тропы мы понимали, что за деревья мелькает дальняя даль, а забравшись на Городище, я поразился тому, что вокруг раскинулось самое что ни на есть Зелёное Море Тайги. И хотя сами таёжные сопки, тёмные пади, гольцы на вершинах я видел не раз, здесь больше всего поражает осознание, что по прямой мы в 30 километрах от центра крупного города. В 30 километрах от нас - шум машин, свет электрических ламп, блокбастер в кино, новозеландские пироги в кафешках 130-го квартала, а здесь - необозримая стихия, в которой сверху не видать натоптанных туристами тропинок.
27.
Слева, уже далеко внизу, виднеется голова Идола:
28.
Вправо тянется заросшее Городище:
29.
Но на дереве вместо следов от медвежьих когтей встречает указатель:
30.
Тропа спускается с городища так же круто, как поднималась на него:
31.
В распадках нет скальников, однако нам повстречался змей:
32.
Первая половина лета в Сибири немыслима без цветов, и здесь это саранки, уже знакомые мне по забайкальской родине Чингисхана:
33.
Цветок-символ Олхинских скальников - башмачки, но они отцветают раньше:
34.
Тропа вывела нас на лесовозную дорогу, проходящую по заболоченному дну пади, и отсюда мы могли бы кратчайшим путём вернуться на турбазу и затем не спеша пойти на электричку. Но я чувствовал, что мне пока что мало впечатлений, и мы пересекли дорогу да начали подниматься к следующем скальникам.
35.
Затяжной, выматывающий подъём вёл через сгоревший лес:
36.
Среди серых стволов которого затаились не пожелавшие вымирать динозавры:
37.
Эти мелкие скальники вроде бы безымянны, но по виду - один другого чуднее:
38.
А оглянувшись на таёжную даль, я понял, что не зря так вымотался на подъёме:
39.
Мы шли к скальнику Старуха, и при должной фантазии силуэт согбенной дряхлой женщины можно разглядеть на любой скале с прошлых кадров. Сгоревший лес скрывает целый Дом Престарелых, и вроде как выйдя на ту поляну, где должна была ждать нас Старуха, я увидел лишь вот эту скалу, и разочарованно решил, что мне надо просто сесть и отдохнуть. На самом деле это только Внучка...
40.
...а сама Старуха - вот. Своим именем она обязана, видимо, мультикам про крокодила Гену и старуху Шапокляк - слышал, что изначально это скала называлась Карета. И с головы её открывается вид на долину Большой Половинной, в устье которой самые длинные на Кругобайкалке мост и тоннель, а чуть поодаль есть ещё и Крепость с пучком башен, бойницами и даже воротами. Но я понимал, что если мы хотим успеть на электричку или хотя бы выйти с лесных троп дотемна - всё это увидеть лучше и не пытаться.
41.
По скалам мы гуляли не спеша, прогулочным шагом, и лишь на Старухе поняли, сколько упущено времени. Обратно мы шли стремительно, без привалов и перескусов, а я поминутно сверялся с картой maps.me, пытаясь понять, не идём ли мы куда-то не туда. Короткие тропы проложены в стороне от скальников, так что и смотреть по сторонам тут было не на что, и хоть чуть-чуть разбавляли монотонный путь рассказы Оли о старых походах на Алтай и Хамар-Дабан. Вот уже в сумерках мы выбрались на лесовозку да прошли мимо не в меру странной конструкции, где и не понять сходу, кто живёт - не деревня, не турбаза, а скорее какая-то очень оригинальная дача. И вот засмотревшись на неё, я таки проглядел развилку, упустив возможность срезать зигзаг по таёжной тропе и выиграть минут 10-15.
42а.

На отвороте с лесовозки к турбазе мы попрощались с Аней, да пошли быстрым шагом к Орлёнку. Я на ходу то смотрел на часы, то замерял по карте, сколько нам осталось, и настроение моё делалось всё более сумрачным, как и лес вокруг: я понимал, что на электричку мы опоздаем, причём скорее всего на считанные минуты. Вот начался дождь, вскоре перешедший в холодный ливень, а я запретил Оле останавливаться и доставать плащи - на счету каждая секунда. Вот мы увязли в грязи и попробовали прорваться к мостику, но быстро поняли, что это не тот мост - полуразрушенный, он вёл через Большую Олху к руинам пионерлагеря. Почти в темноте мы достигли правильного моста, перешли его - и вдруг услышали гудок электрички! Я бросился бежать со всех ног, думая, как удержать поезд голыми руками - ведь Оля за мной не угонится. Одновременно с электричкой я оказался у собачьего питомника - и понял, что не помню, где подъём на платформу. Пробежав сотню метров, я увидел лестницу и кинулся по ней, на верхней ступеньке увидев, как у электрички захлопываются двери. В вагонных окнах ярко горел свет, оттуда веяло теплом и сушью... но не для нас: я опоздал не на 10 минут, а на 10 секунд! Дождь, словно почуяв слабину, зарядил с удвоенной силой...
42.
Ситуация выглядела аховой: мы мокрые до нитки, на нас наползает холодная ночь, и что назад к турбазе, что вперёд к Большому Лугу идти час-полтора. В общем, для жизни угрозы тут вроде и не было, но проклянуть явно можно было всё. Я был готов вызвать такси за любые деньги, однако и этой возможности у нас не было - тут не ловилась сеть. Посовещавшись, мы решили, что я посижу на платформе с вещами, а Оля пойдёт к тем домикам у собачьего питомника и попробует, хоть бы за деньги, договориться на ночлег. Полчаса спустя она вернулась мокрая до нитки, но зато с хорошей новостью о том, что у собачьего питомника очень добрый интеллигентный хозяин, который пообещал отвезти нас до Большого Луга минут через 20, когда доделает кое-какие дела. Нам он сказал посидеть под навесом на платформе - подъехав, он посигналит. И всё же прождав сколько было сказано, мы вновь вошли под дождь да направились к питомнику. Из его ворот выезжал тот самый микроавтобус...
43.
Нашим спасителем стал Егор Шевчук, вот в этом посте по ссылке запечатлённый на первом фото. Он был родом из Большого Луга, а большую часть жизни прожил в Иркутске, где перебрал множество дел. Егор работал сварщиком, промальпом, гидом и наконец каюром - катать туристов по замёрзшему Байкалу на собачьей упряжке. И вдруг, в 2014 году, нашёл в этом своё призвание. Тут стоит оговориться, что любые развлечения с животными, будь то дельфинарии, контактные зоопарки или верховая езда, хороши ровно до тех пор, пока их проводят правильно: собака, дельфин или мышь - существа, как ни банально звучит, живые, а потому требующие не только внимания, но и понимания. Которое мало совместимо с коммерцией, тем более зажатой в узкие рамки сезона. Потому чаще всего катание на собачьих упряжках имеет такую изнанку: купить подешевле собак какой-нибудь северной породы, запрячь их, гонять на износ и по мере износа пристреливать. Своих первых собак Егор именно что спас от расстрела, а дальше решил сам заняться этим бизнесом - по-человечески... Правильное отношение к ездовым собакам от неправильного отличается даже столько не тем, как часто и как далеко они будут возить туристов, сколько тем, как они будут жить от сезона до сезона. Ездовой собаке мало иметь эффектную северную внешность - это животное-профессионал, которое, как и любой спортсмен, должно есть правильную еду и регулярно тренироваться. Вот это всё Егор и решил взять в свои руки, а вместе с делом жизни нашёл и напарницу Веронику, с которой познакомился в Иркутске как раз после покупки первых хаски и вскоре женился на ней. Дальше бизнес развивался постепенно, начинаясь с катания детей из окрестных домов по 200-метровому кругу: до туристов было ещё далеко. Как и всякие увлечённые люди, поначалу Егор и Вероника работали для души, в убыток, а если вдруг случалась прибыль - покупали на неё новых собак. Сейчас их у Егора 60, все сугубо ездовых пород - сибирские хаски из Владивостока, аляскинские хаски и еврохаунды из Карелии. Содержать такую свору нелегко: утром каждая собака получает по пол-рыбины, вечером - фарш с крупой, и за месяц выходит на всех тонна мяса и 250 кило гречки. По мере разрастания бизнеса и питомника, Егор уезжал всё дальше от города, и вот пару лет назад обосновался на Витязе, предварительно разобрав копившуюся не одно десятилетие свалку. Олхинские скальники, знакомые с детства, он счёл идеальным местом для круглогодичных тренировок, а кроме того, здешние ландшафты схожи с Европой, куда Егор мечтает отправиться на соревнования каюров после открытия границ. Летом здесь можно заказать дог-треккинг - поход по скальникам в связке с собакой, которая будет показывать дорогу и буксировать. Зимой же Егор и Вероника организуют ледовые туры с пересечением Байкала на собачьей упряжке, и в контексте всего вышесказанного цене в 49 тыс. рублей за 2 дня уже не удивляешься... Денег за подвоз он с нас не взял, так что не первый раз за эту серию постов я за помощь расплачиваюсь рекламой: вот его сайт "Хаски в лесу".
44.
Поймав сеть, Егор вызвал нам местное такси до Иркутска, и привёз к вокзалу Большого Луга (см. прошлую часть), напротив которого стояло странное дощатое сооружение с лестницей к мансарде. В эту мансарду, дрожа от холода, мы и поднялись, а там встретила нас основательная, уютная начальница и операторша таксопарка в одном лице. Работали у неё, судя по звонкам, сплошь девушки. Наш мокрый продрогший вид явно её впечатлил - всем, кто звонил позже, она отказывала, говоря, что машин нет, все уехали в Иркутск, и лишь за нами через полчаса, которые мы прождали в тепле на диване, приехала таксистка Катя. За рулём большой машины оказалась тонкая, хрупкая женщина в чёрной кожаной куртке. У неё были резкие черты лица, острый взгляд и хриплый голос, и всё же буквально с первых минут езды под ненавязчивые разговоры я почувствовал, что Катя - добрая женщина. За 40 километров (тут, увы, не по прямой ехать!) до Иркутска с нас взяли 1000 рублей, но по пути я понимал, как это мало - дождь всё хлестал и хлестал, превратив колеи в ручьи, а колдобины - в озёра. Тёмная боковая дорога сменилась ровным асфальтом и ярким огнями трассы "Байкал", но стоило нам пригреться и расслабиться - как Иркутск встретил нас сюжетами Всемирного потопа. Несколько раз машина садилась в лужи по брюхо и глохла, и лишь какими-то шаманскими плясками Кате удавалось её завести. Катя сокрушалась, что ей ещё и обратно ехать, и я предлагал ей переночевать с нами в гостинице, где как раз было место для трёх человек - я остановился в апартаментах "Баргузин", где за 1200 рублей имел 3-местный номер с кухней и ванной. Катя, конечно, ни на секунду не подумала о том, что мы просто приглашаем её переночевать в тепле, а утром спокойно посуху ехать домой: нравы в сибирской глубинке жёсткие, и на слове "съёмная квартира" удалая таксистка слегка поменялась в лице. У ворот гостиницы я попытался хотя бы дать ей больше денег, чем оговоренная 1000, но и тут Катя благородно отказалась. Ей я бы тоже с радостью сделал рекламу, да только работает Катя не на себя, а через таскопарк Большого Луга...
Но я чувствовал, что без благодарности этим людям не стоит провожать этот год. А пост с его итогами напишу уже в наступающем. С которым и поздравляю всех читающих эти строки!
ПРИБАЙКАЛЬЕ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Большой Иркутск - будет позже.
Ангара - см. оглавления.
Кругобайкальская железная дорога.
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки в городе).
Олхинское плато. Перевальная линия.
Олхинское плато. Олхинские скальники.
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Тункинская долина (2020)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район Бурятии
Окинский тракт.
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов на Ольхоне.
|
Метки: Сибирь природа дорожное с человеческим лицом |
Олхинское плато. Часть 1: Перевальная линия |
От Иркутска до Байкала на левом берегу Ангары лежит огромной каменной плитой Олхинское плато. Плавно поднимаясь от города на высоту до 1222м, оно отвесно обрывается к Байкалу и впадающей в него Култучной реке. На прошлом рубеже веков эти обрывы стали главной преградой для строительства Транссиба, и я уже писал о том, как их пытались обойти: о ледовой переправе через Байкал в Танхое и знаменитой Кругобайкальской железной дороге. Сегодня покажу то, что в 1940-е годы построили ей на замену - Перевальную ветку, самый молодой участок главного хода Транссиба длиной 119км, проходящий через тайгу от Култука до иркутских окраин. И если старая Кругобайкалка на 12% состоит из тоннелей, то здесь добрая треть крутых уклонов и петель: это самое высокое и сложное место Великого Сибирского пути наряду с показанным в прошлой части Западным Забайкальем.
Проложенный в 1890-1910-х годах Транссиб изначально представлял собой лёгкую однопутку с мизерной пропускной способностью. О необходимости её увеличения кто-то догадывался уже на стадии строительства, а всем это продемонстрировала русско-японская война: "первая победа азиатов над европейцами" далась Стране Восходящего Солнца ценой огромных людских потерь и напряжения экономики, и как писали в тогдашних газетах, Михаил Хилков (министр путей сообщения) был для самураев более опасным противником, чем Алексей Куропаткин (командующий армией в Маньчжурии). К началу войны Транссиб проходил через Байкал переправой, на которой по тонкому льду работал гигантский паром "Байкал", на более мощный лёд к нему присоединялся ледокол "Ангара", а под конец зимы пассажиров возили через озеро-море на санях, иногда проводя на конной тяге по вмороженным в лёд путям недостающие вагоны и паровозы. К концу войны экстренно строившаяся Кругобайкалка заработала, уже в 1910-х годах получила второй путь, а к 1930-м не отличалась пропускной способностью от большей части Транссиба.... если не считать того, что линию на узком карнизе преграждал то обвал, то торос. Где-то в байкальской воде до сих пор лежит паровоз, сброшенный туда упавшей глыбой, и кажется чудом, что эти обвалы не преградили путь ни одному эшелону Великой Отечественной во время переброски под Москву "сибирских дивизий". Паровозы, однако, с начала ХХ века сменили несколько поколений, и обновление их парка можно было сравнить с реконструкцией по влиянию на пропускную способность Транссиба. К концу 1930-х годов, когда советское руководство понимало неизбежной Второй Мировой войны, паровозам край Олхинского плато был уже вполне по силам. В 1941 году началось строительство Перевальной ветки, прерванное войной: большая часть работ завершили в 1947-49 годах. Поначалу это был скорее запасной путь на случай перебоев Кругобайкалки, однако на советских железных дорогах всё привычнее делалось новое чудо техники - электровоз, впервые вышедший на Транссибирскую магистраль в 1945 году на Урале. Электровозы не возили лишние тонны горючего, не жгли его с утроенной интенсивностью на подъёмах, и всё это превращало их в идеальные локомотивы для гор. Ну а рядом несла свои воды Ангара - река мощная, но при этом быстрая, и вдобавок с порогами и теснинами. Строительство в 1950-х годах Иркутской ГЭС, первенца Большой гидроэнергетики Сибири, позволило к 1956 году электрифицировать Перевальную ветку. Она стала основным ходом магистрали, а КБЖД превратилась в тупик - поднявшаяся Ангара затопила пути от Иркутска до Порта-Байкала. Великий Сибирский путь стал ещё на 33 километра короче, и от Иркутска до Владивостока пришлось менять несколько тысяч километровых столбов...
2.
В 1970-80-х годах Транссиб прошёл очередную реконструкцию, на этот раз связанную не столько со вторыми путями, мостами или тоннелями, сколько с усилением насыпей под тяжёлые ракетные поезда. И для военных по обе стороны океана этот проект оказался тупиком, а вот железнодорожники остались довольны. В черте Иркутска, к востоку от вокзала, поезда пошли по новому пути, а старая колея с дореволюционными мостами превратилась в подъездной путь железобетонного завода. Первый перегон они тянутся параллельно (кадр выше), но вот у платформы Академическая магистральный ход вдруг поворачивает перпендикулярно берегу. О прогулке по заброшенной старой ветке к подножью ГЭС я писал год назад, а теперь встанем тут ждать электричку:
3.
Оборудованная в 1956 году и принявшая нынешний вид спустя ровно полвека, за два долгих визита в Иркутска эта платформа стала для меня куда важнее вокзала: в 2020 году я снимал квартиру в 10 минутах ходьбы от неё, а в 2021 - в прямой видимости, но за Академическим мостом. Более того, лишь у немногих электричек Иркутск-Пассажирский - конечная: с востока они часто ходят до Иркутска-Сортировочного, с запада - до Каи, а иные и вовсе пересекают город насквозь. И в 2020 с Академической я ездил в Ангарск, Усолье-Сибирское и Черемхово, а в 2021 в Култук и на Олхинские скалы.
4.
Иркутская ГЭС же стала первенцем крупнейшего в мире на момент постройки (но, конечно, не сейчас) Ангаро-Енисейского каскада, и пущенные следом Братская и Усть-Илимская гидроэлектростанции сделали Иркутскую область регионом с самой дешёвой в России электроэнергией. Как результат, для электричек Иркутск - кажется, третья столица после Москвы и Питера: что-то проходит через Академическую практически ежечасно, а сидячих мест в вагонах не хватает разве что в час-пик. Парк вагонов довольно свеж - от рижских электричек последних поколений до демиховских, а в некоторых поездах осовременены и интерьеры:
5.
Линия в Академической, меж тем, поворачивает даже не под прямым, а под острым углом, огибая Кайскую гору. По правую руку остаётся Кайская роща с ботаническим садом Иркутского университета и одной из древнейших в Прибайкалье первобытных стоянок. Слева видны торговые центры в бывших цехах Иркутского завода радиоприёмников имени 50-летия СССР. Основанный в 1945 как автосборочный, радиотехнику он освоил в 1952 году, и выпускал в первую очередь армейские средства связи и глушилики, гражданским потребителям же был известен радиоприёмниками "Рекорд-И" и магнитолами "Скиф". Конечно же, с распадом Союза заводу не мог не прийти конец - формально он вроде как существует, а по факту от 10-тысячного штата осталось дай бог несколько процентов. Для персонала Радиозавода в 1970-х годах были построены микрорайоны Первомайский и Синюшина Гора, серые массивы многоэтажек которых так же тянутся по левую руку. И вот среди этой достаточно мрачной окраины встречает Кая - уже не платформа, а крупная станция, иркутские "ворота" Перевальной линии. Под профлистом, между прочим, скрывается вполне аутентичный деревянный вокзал (1949), уделанный буквально с года на год:
6.
Ещё пара коротких перегонов - и поезд покидает Иркутск, за пригородным селом Смоленщина (3,2 тыс. жителей) начиная подъём вдоль речки Олха:
7.
Однако вскоре в придорожный пейзаж возвращаются микрорайоны и трубы: город Иркутск - лишь часть Большого Иркутска, мощной агломерации в полторы сотни километров длинной вдоль Транссиба. Вниз по Ангаре стоят Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск и Черемхово, и только город Шелехов (48 тыс. жителей) расположился выше по течению Иркута. Он был основан в 1953 году как ПГТ Ирказ, который поначалу строили жители окрестных сёл, а с 1956 года - и комсомольцы, первая партия которых приехала из Орла. Тогда же посёлок был назван Шелеховом в честь, что странно для тех времён, не революционера и не героя войны, а вполне себе капиталиста 18 века Григория Шелехова - основателя Русско-Американской компании. Был ли в этом толстый хрущёвский намёк на скорое появлением в Советском Союзе Аляскинского края - понятия не имею, но уже в 1962 ПГТ получил статус города. С электричек видны верхушки его многоэтажек да вечно скрытый товарняками, но явно не типовой вокзал на станции Гончарово (основная в городе именно она, а не Шелехов). Но откровенно говоря, тут даже я готов признать, что в этом городе смотреть не на что, а лучший вид на его главную достопримечательность открывается дальше, с крутого поворота у платформы Олха. Это и есть Ирказ - не какое-нибудь слово из забытого языка саянских самодийцев, а жёсткая советская аббревиатура Иркутский алюминиевый завод:
8.
Как видите, на фоне мора у алюминиевых заводов в западной части страны, этот работает на полную мощность, густо загрязняя атмосферу. Дело в том, что производство алюминия требует неимоверного количества электроэнергии и воды, и та же Братская ГЭС 70% своей генераци отдаёт крупнейшему в мире БрАЗу. А потому с тех пор, как Олег Дерипаска подмял под себя всю алюминиевую промышленность России, сделав "Русал" крупнейшей в мире компанией в своей отрасли, её география начала радикально меняться. Хотя в целом производство "крылатого металла" в России и правда снижается (с 4,4 млн. т. в 2008 до 3,5 млн. сейчас), отрасль не умирает, а концентрируется, стягиваясь на Ангару и Енисей. Пока в Волгограде, Волхове, Краснотурьинске заводы закрываются, в Тайшете и Карабуле строятся новые сверхгиганты, и в целом Россия пока держится на 2-3-месте в мире после Китая, хотя и отставанием от него в 10 раз. Советским заводам в Восточной Сибири так же вряд ли что-то грозит, и входящий в пятёрку гигантов ИркАЗ только наращивает объёмы, обеспечивая стране около 10% производства алюминия.
9.
С другой стороны от путей - Никольская церковь, построенная в 2011 году на месте разрушенной при Советах предшественницы (1883). Здесь же, в Олхе, разливают минеральную воду "Иркутская", которой местные гордятся, а вот мне после забайкальской "Куки" было откровенно скучно её пить.
10.
Ну а название Олха в данном случае значащее: трубы ИркАЗа и многоэтажки Шелехова скрываются за поворотом, а Олхинское плато вступает в свои права. Вдоль линии ещё тянутся дачи, но с поворотов видно, что это узкая лента среди тёмной тайги:
11.
Полосу дач завершает Большой Луг - крупное село (6,5 тыс. жителей), в 1958-2019 годах числившееся посёлком городского типа. Это главная станция в середине Перевальной ветки, и здешний сталинский вокзал, совсем такой же, как на разрушенных войной станция западных областей - конечная для многих электричек. В том числе маршрута Большой Луг - Черемхово, то есть здесь южный край Большого Иркутска. И - северное подножье перевала с точки зрения логистики, а не рельфа: здесь к товарным поездам цепляют локомотивы подталкивания.
12.
У тех же, что идут дальше, и посреди тайги остановки каждые несколько километров - на турбазах, пионерских лагерях, мелких дачных посёлках и даже у начала популярных маршрутов к Олхинским скальникам.
13.
Среди всего этого выделяется крупный (700 жителей) посёлок Подкаменная с отчётливой сталинской архитектурой:
14.
И путейскими домами совершенно дореволюционного вида:
15.
Чуть дальше - станция Глубокая, представляющая собой довольно странное зрелище: платформы, путевое развитие и более ничего, кроме нескольких домиков. Что было здесь? Несостоявшийся посёлок, потерявший актуальность разъезд? Как бы то ни было, для некоторых электричек Глубокая служит конечной.
16.
Единственный смысл которой для пассажира - в том, что отсюда можно пройти пару километров до Култукского тракта и поймать попутку или маршрутку. Вторые, правда, на скоростной дороге посреди тайги не очень-то останавливаются, а первые берут примерно столько же, сколько от автовокзала в Иркутске.
17.
Самый интересный участок Перевальной ветки здесь только начинается. То пересекаясь с трактом, то вновь расходясь, Транссиб взбирается на Андриановскй перевал (880м) - третью по высоте точку всех 10 тыс. километров магистрали после Яблонового перевала (1040м) и станции Кижа в Западном Забайкалье. Но то - по абсолютной высоте, которая по всему Забайкалью не сильно меньше. Здесь же на оставшихся 32 километрах пути нам предстоит сбросить 420 вертикальных метров:
18.
А потому железная дорога после Андриановской (где строят новый парк толкачей) образует самый что ни на есть серпантин со множеством петель, где есть даже тупики-уловители на случай, если поезд понесёт - правда, давно заброшенные. Масштаб петель таков, что в левое окно я глядел как завороженный. Хотя и по правому борту кое-что есть - из тайги торчит несколько живописных скал во главе с не попавшим мне в кадр Гепардом:
18а.

Дальше встречает посёлок Ангасолка (600 жителей), разросшийся с 1959 года у щебёночных карьеров:
19.
Прямо под промышленными галереями грохочут поезда:
20.
Сам посёлок стоит ниже по склону, внутри крутой Ангасольской петли. Она самая длинная на всём Транссибе (около 7км), а крутая в самом что ни на есть смысле слова - линия тут поворачивает на 180 градусов:
21.
Замыкает петлю платформа Тёмная Падь, на которую из электрички в летний выходной всегда высаживается толпа людей с рюкзаками - отсюда 3 километра под гору до КБЖД, станции Старая Ангасолка, фактически ставшей западными воротами пеших походов вдоль заповедной колеи. Правда, через КПП Прибайкальского нацпарка, который не включает саму Кругобайкалку, но собирает по 200 рублей с каждого проходящего. В Тёмную Падь же зимой не заглядывает Солнце, и круглый год за ней поезд уходит в тёмный портал Верхнего Прибайкальского тоннеля (667м):
22.
По выходе из него Перевальная линия и КБЖД идут параллельно. Между ними полкилометра по горизонтали и пара сотен вертикальных метров, однако над Кругобайкалкой западнее Ангасолки часто слышен гром идущих по Транссибу поездов. За таёжной стеной всё чаще видна гладь Байкала и туманный Хамар-Дабан на той его стороне. Вот показательный вид: внизу станция Култук на Кругобайкалке и турбазы, на одной из которых мы ночевали в октябре 2020 года, завершив в последний день золотой осени пеший поход. Выше - юго-западная оконечности Байкала, перед которой - Бамовские причалы: в 1970-80-х с них отправляли груз на строившийся у противоположной оконечности озера-моря Северобайкальск. Ещё дальше - тёмный Шамансий мыс, а за ним Слюдянка, над которой мраморный карьер висит белым облаком:
23.
Над Култуком пологий и размашистый железнодорожный серпантин пересекается с куда более частым серпантином федеральной трассы "Байкал":
24.
С него тоже хорошие виды, а в лучших точках стоят кафе и палатки с несвежим омулем:
25.
Какие на нём уклоны - я не знаю, а вот на этих петлях они достигают 17 тысячных, что изрядно для железной дороги, и очень много для главной магистрали страны. Перевальная ветка - самое узкое место Транссиба, и к тяжёлым составам тут приходится цеплять дополнительные локомотивы подталкивания, а очереди на прохождение перевала поезда могут ждать по несколько часов:
26.
Спуск завершает ещё несколько петель (самая крупная - Медлянская), на карте образующих цветок с несколькими лепестками. На ней и Нижний Прибайкальский тоннель, или вернее, два тоннеля, из-за кривизны отличающиеся по длине - 473 с внутренней стороны петли и 500 метров с наружной:
27.
Виды на Байкальский серпантин через петлю:
28.
Ну а для пассажира главная засада в том, что фактически в Култуке нет магистральной станции - платформы Чёртова Гора (ближайшая к центру) и Вербный расположены на окраинах посёлка. На Тункинском тракте вечно опущенный шлагбаумы создают постоянную пробку для автомобилей, а вот так нужной именно там остановки - нет в радиусе 2-3 километров ходьбы.
29.
На кадре выше - Шаманский мыс и станция Слюдянка-2 рядом с ним, где Перевальная ветка сходится со старой Кругобайкалкой. А вот - вид на те самые обрывы Олхинского плато, под которыми отсюда даже не разглядеть КБЖД:
30.
У Бамовских причалов же заброшенный вид, хотя несколько рейсов за навигацию отсюда куда-то уходит:
31.
В общем, на этом можно было бы остановиться и сказать "В следующей части погуляем по Олхинским скальникам", однако для такого скоропостижного финала я слишком часто ездил Перевальной веткой в 2021 году. Из Читы в Иркутск, специально подгадав дневной поезд, чтобы полюбоваться с него на Байкал. От Академической до платформы Орлёнок у начала тропы на Олхинские скальники, которым будет посвящена следующая часть. И дважды - до Култука, который один раз стал для меня началом пути в далёкую Долину вулканов, а другой раз - просто местом встречи на Шаманском мысу. Оба раза моё прибытие в Култук было не слишком удачным: от Вербного к Тункинскому тракту мы шли буераками битый час, по дороге на Шаманский мыс же единственной удобной мне по времени оказалась та самая электричка до Глубокой. Выйдя на тракт, я поймал маршрутку, которую вёл печальный, кажется немой мужик - он ни разу мне не ответил, хотя явно слышал всё, что я ему говорил, и когда я сказал, что хочу на Шаманский мыс - остановил у начала потайной тропы, совершенно не заметной с трассы.
32.
В постах Сурового Сибирского Лета я не раз обращал внимание на цветы: марьины коренья Нерчинских рудников, жарки Саянских перевалов и саранки в степи на родине Чингисхана. Ну а цветами июльского Култука для меня стали дикие (чаще они в садах) лилейники:
33.
В знойный день над ледяным Байкалом клубился туман:
34.
А Слюдянка, как оказалось, вполне оправдывает своё название - у путей земля буквально усеяна мягкими слюдяными пластинами:
34а.

Я вышел к Слюдянке-2, где товарняки ждали своей очереди взбираться на Олхинское плато:
35.
Обогнув пробитое железнодорожными строителями основание мыса, я в очередной раз порадовался, что моё первое знакомство с Култуком пришлось на холодную прошлогоднюю осень. Насколько поэтичны берега Байкала в то время, настолько же страшно к ним приближаться летним днём. Причём если тёзка на Ольхоне (вернее, там скала Шаманка на мысу Бурхан) манит в основном туристов, то на Шаманский мыс съезжаются в первую очередь местные. Как результат, вечером выходного дня тут тянется вдоль пляжа непрерывный ряд палаток, а выше машины стоят одна на другой:
36.
Но детские крики, звонкий хохот, пьяный ор и звон гитары раз за разом тонут в грохоте тяжёлых поездов:
37.
Турист, тем более с рюкзаком и фотоаппаратом, тут непривычен - на пляже царит лихое и непритязательное русское веселье, в котором чужак волей-неволей превращается в аниматора. Но дойдя до берега, я скинул рюкзак в траву, а вскоре на грунтовой дороге показался одинокий мотоцикл с большой поклажей. Сняв красную куртку и шлем, с мотоцикла спрыгнула девушка, в своих дредах и доспехах похожая на героиню космоопер. Ради встречи с ней я и отправился сюда - это моя давняя знакомая Ольга Салий, профессиональный фотограф и автор блога-стендалона "Другие путешествия". Мы познакомились с ней ещё в 2015 году в бескрайнем машзале Богучанской ГЭС, куда она приехала с командой журналистов из Новосибирска. Ольга родилась в казахстанском Степнгорске, а позже жила в Алма-Ате, Новосибе и далее, натурально, везде - Москва и Питер, Вильнюс и Лиссабон, Катманду и Бангкок, Бали и Самуи и ещё натурально десятки точек Земли в разное время становились домом этой "граждански мира". Царь-вирус сделал Ольгиным портом приписки Шерегеш, горнолыжный курорт над Кузбассом, где застал её в марте 2020 года за кульбитами на сноуборде. Летом же, поняв, что мир перестал быть открытым, Ольга взяла отложенные на дальние путешествия деньги да купила на них мотоцикл и умчалась на нём на Алтай. В 2021 Ольга решила пойти в прямом и переносном смысле дальше - во Владивосток, откуда готовилась улететь на Камчатку, отправив туда морем своего коня. Одинокой девушке, да на эндуро (мотоцикле-внедорожнике, не очень удобном для далёких трасс) такой путь давался нелегко, зато открытием стал целый мир байк-постов - специальных непубличных хостелов "для своих", которые байкеры сами обустроили вдоль трасс после убийства их коллеги в Забайкалье. Со времён знакомства я несколько раз виделся с Ольгой в Москве, и вот теперь Дорога снова свела нас на берегу Байкала...
38.
Первым делом, в надвигавшихся сумерках, мы пошли на сам Шаманский мыс, со звучным названием которого в общем-то не связано каких-то выдающихся легенд, кроме могилы некоего великого шамана. Даже на Большой Ольхонский тайлган 13 Богам севера с этого мыса никакого духа не призвали, так что рискну предположить, здесь было святилище богов Байкала для хонгодоров - бурят из предгория Саяна.
39.
Священным считался даже не сам мыс, а Айхал-Шулун, дословно Страшный Камень - маленький скалистый островок, привязанный к основному мысу узким перешейком. В 2020 году по осени перешеек был затоплен, а вот в 2021-м, на фоне кругобайкальской станции Широкая Падь, я углядел людей, переходящих на остров.
40.
Туда, по тропе над высокими скалами, мы и пошли первым делом:
41.
Обнаружив несколько сэргэ (ритуальных коновязей, заменявших бурятам идолы), вновь вызвавших дежавю с Ольхоном, где на Шаманке тоже стоят сэргэ, только там они куда крупнее, и их 13, в то время как здесь - 5. Не знаю точно, каким они посвящены духам.
42.
Но куда больше рукотворных столпов нас впечатлили естественные: шаман этого мыса - явный Повелитель Мух, стоявших в воздухе чёрными колоннами!
43.
Но мухи были безобидны, и мимо их столпов мы вышли на конец мыса, похожий на нос корабля:
44.
Вернувшись на материк, Ольга присмотрела пляжик для своей палатки чуть в стороне от остального балагана, и перегнала туда байк. По пути перекинувшись короткими диалогами с местными байкерами, которые с рёвом и дымом взмывали по 30-40-градусными склонам. На пляже с нами сразу разговорились соседи - разбитной парень из Тюмени и симпатичная девушка из Кяхты: между этими двумя городами и пролегал их маршрут. Парень удивлённо расспрашивал Ольгу о её приключениях, я же расспрашивал девушке о Кяхте, старинной "песчаной Венеции" у монгольской границы, где я давно уже мечтаю побывать. Потом нас угостили шашлыком и виски с колой, которая подействовала на меня куда сильнее, чем я ожидал, а главное куда страннее - при полной ясности мыслей я совершенно утратил координацию и ходил по пляжу так, будто в одиночку вылакал пузырь водки в жаркий день на голодный желудок. Конечно же, мне ничего не оставалось, кроме как залечь в палатку. Ночью наполз туман, в котором поезда звучали как далёкое море...
45.
По утру в этом тумане мы снова побрели на мыс. В какой-то момент Ольга обогнала меня, обернулась - и потеряла дар речи, перейдя на восторженный писк. Я тоже обернулся и увидел пухлую нерпу, которая при виде наших фотоаппаратов соскользнула с камня и уплыла под водой.
46.
47.
48.
49.
49а. *

* - фото Ольги Салий (на таймере) из её блога, здесь размещено с её разрешения.
Ближе к полудню туман растянуло, а Ольга собралась да продолжила путь - в мотоцикле у неё что-то щёлкало, и местные байкеры подсказали проверенный сервис на окраине Слюдянки. Я купил пару омулей горячего копчения и вечером в иркутской гостинице отравился ими, оконфузившись перед автостопщицей Аней из Москвы - она прилетела, чтобы пойти с нами в Долину вулканов, вот только Бурятия ввела локдаун и закрыла тот район. В Бурятии и электричество вдвое дороже, поэтому дальше Выдрино на границе регионов электрички не ходят, а точечные достопримечательности этой части Транссиба можно осмотреть лишь заезжая к ним с трассы "Байкал". Что обидно: трасса скачет по сопкам, а вот Транссиб идёт прямо у воды, так в иные зимы тут на рельсы выползают торосы. По берегу, так что из вагонных окон виды как из иллюминаторов корабля, поезд идёт около 3 часов, но любоваться Славным морем остаётся только сквозь мутные стёкла.
50.
В Долину вулканов мы в итоге всё-таки добрались, но на неделю позже, а пока ждали - ходили и на Олхинские скальники, о которых будет следующая часть.
ПРИБАЙКАЛЬЕ (2020-2021)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Большой Иркутск - будет позже.
Ангара - см. оглавления.
Кругобайкальская железная дорога.
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки в городе).
Олхинское плато. Перевальная линия.
Олхинское плато. Олхинские скальники.
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Тункинская долина (2020)
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Окинский район Бурятии
Окинский тракт.
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.
Ольхон и Приольхонье
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота.
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон.
Тайлган бурятских шаманов на Ольхоне.
|
Метки: Сибирь природа транспорт дорожное индустриальный гигант с человеческим лицом |
Понравилось: 1 пользователю
Чита. Часть 5: Дальний вокзал и Западное Забайкалье |
|
Метки: Молох Сибирь транспорт дорожное деревянное |
Чита. Часть 4: от Читы-горы до Читы-реки |
Чита - это не только город: так называются речка и гора (1083м), между которыми стоит его центр. В прошлой части я показывал главные читинские площадь и улицу с самыми неоригинальными на просторах Необъятной названиями, в позапрошлой - вокзал и красивейшие районы начала ХХ века, ну а в первой части были панорамы с сопки напротив да старинное село Читинск, откуда начинался город. Сегодня погуляем по второстепенным, в основном деревянным улочкам читинского центра от дацана до парка Победы, не поместившимся в другие посты.
Центр Читы напоминает лестницу, первой ступенькой которой служит Транссиб, проходящий прямо по берегу Читинки под защитой мощных дамб. По этой лестнице мы и поднимаемся вот уже третий пост - сначала улицами Амурской и Анохина, затем - улицей Ленина, ну а ещё выше проходят улицы Чкалова (ранее Уссурийская) и Бабушкина (Бульварная), куда в начале ХХ века успел подняться принесённый Транссибом строительный бум. Перпендикулярно всему этому мимо двух главных площадей взбираются на горы улицы Бутина (Софийская) и Ленинградская (Корейская), и на углу последней с улицей Чкалова начнём сегодняшний рассказ. Угол этот отмечает дом Трухина и Смолянского (1916) - предпринимателей из Нерчинского Завода, преуспевших в Харбине и на станциях КВЖД, но прикупивших доходничек и в бурно строившейся столице Забайкалья. При Забайкальской Казачьей республике атамана Григория Семёнова тут размещался Офицерский клуб:
2.
Чуть восточнее по Чкалова, за деревянными домами с заглавного кадра, встречает знакомый нам по прошлой части Парк ОДОРА - уже советского Дома Офицеров. Его фасад глядит на улицу Ленина, самый уютный в Чите парк начинается на его заднем дворе, и как-то совсем не очевидно, что от Ленина до Чкалова в Чите ещё две "ступени" улиц Ангарской и Забайкальского Рабочего - в данном случае имеется в виду не сам рабочий, а газета его имени, начинавшаяся в 1906 году как официальное СМИ недолговечной красной Читинской республики. На Чкалова почти напротив опушки парка - пожарная каланча (1903) с основанным аж 1977 году музеем Забайкальской милиции, чья служба явно и опасна, и трудна:
3.
Ближе к Ленинградской на Чкалова есть ещё и музей Забайкальских пограничников, ну а памятник им (2001) глядит сквозь зелень Парка ОДОРА на установленный там сторожевой катер "Аист" (см. прошлую часть) с пограничных рек. Силовики и музейщики в этих кварталах образовали причудливый симбиоз: за памятником высится художественный музей (1981) с неожиданным здесь планом "зороастрийской" 8-конечной звезды. У него общий двор с Забайкальским краеведческим музеем имени Алексея Кузнецова - того самого, который вместе с нигилистом Сергеем Нечаевым убил студента Иванова, а отбыв каторгу - создавал по приглашению золотопромышленников Бутиных в Нерчинске первый музей Забайкалья. То было в 1886 году, а в 1895 уже в Чите учёный и общественный деятель Кузнецов возглавил областной музей, созданный под эгидой Русского Географического общества. Музей расположен в специально построенном здании (1914) на соседней улице Бабушкина... вот только я его не увидел - мы гуляли по Чите в понедельник, а в это время у музея заперт даже двор за высоким забором. Снаружи больше всего впечатлила постоянная (типа мемориальной доски) вывеска, приглашающая посетить экспозицию "Красный туризм" о русско-китайских отношениях.
4.
Ещё один музей - геологический при Забайкальском университете, с 1949 года занимает особнячок на углу улицы Бабушкина с улицей Горького (ранее Николаевской), представляющей собой уходящий вверх по склону бульвар. Открывает его опять же наследие людей в погонах - танк Т-34, установленный в 1967 году в память колонны "Комсомолец Забайкалья", построенной на пожертвования из Читинской области и прошедшей войну от Курской дуги до Венгрии.
5.
Рядом, торцом к Геологическому и фасадом к Краеведческом музею - старая мужская гимназия (1891), ныне главный корпус основанной в 1953 году Читинской медакадемии:
6.
При гимназии действовала небольшая церковка Антония Римлянина (1891), снесённая в 1927 году. В 2007 на её месте которой построили храм Святителя Луки. Само собой, Луки Войно-Ясенецкого - архиепископа-хирурга и лауреата Сталинской премии, причисленного к лику святых. Биография его была определённо одной из самых интересных в истории человечества, и проходила через десятки городов. В Чите Войно-Ясенецкий работал ещё в 1904 году в эвакогоспитале русско-японской войны, и здесь же женился на сестре милосердия Анне Ланской из Киева. Обвенчались они в деревянной Михайло-Архангельской церкви (см. первую часть), где прежде венчались со своими жёнами каторжные декабристы.
7.
Декабристы покинули тогда ещё село Читинское в 1830 году, но ссылка и каторга - остались. Немалую часть их контингента составляли польские повстанцы, в 1870-х годах сумевшие организовать в Чите католический приход. В 1898 году на углу Уссурийской и Сретенской (Чкалова и 9 Января) был освящён небольшой деревянный костёл Петра и Павла:
8а.
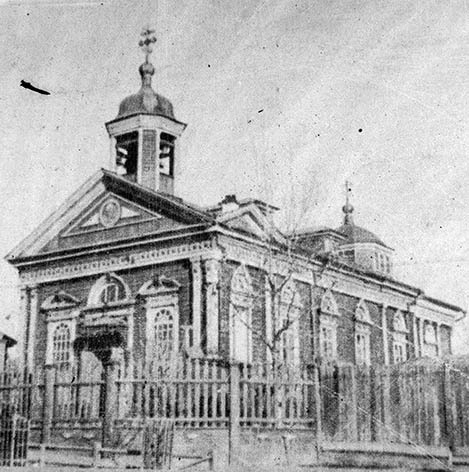
Закрытый в 1920-е годы, в 1945 он был возвращён верующим, вот только - православным как Воскресенская церковь, тогда единственная действующая на всю Читинскую область. В наши дни, даже после постройки гигантского собора на привокзальной площади (см. позапрошлую часть) она остаётся кафедральной:
8.
В её ограде - арматурные кресты:
8б.

А вокруг, между улиц Бабушкина и Ленина к востоку от парка ОДОРА, раскинулись основные районы Деревянной Читы. Ниже она, в том числе колоритные теремки, мелькавшие в прошлых частях на старых фото, была почти до основания сметена строительным бумом после пуска Транссиба, когда город за 15 лет разросся в 8 раз. Выше же исторические "деревяшки" мельчают до обычного частного сектора.
9.
Единицы из таких домов опрятны и ухожены, как скажем дом Китаевича (1910) близ Парка ОДОРА:
9а.

А в основном они выглядят как-то так:
10.
И совсем не факт, что стоят на своих местах полгода спустя после моей прогулки:
11.
Особенно хорош дом Шпанера (1903) на углу улиц Столярова и Забайкальского Рабочего:
12.
Я бы поставил его на второе место в читинском деревянном зодчестве после Дома с кометой из позапрошлой части:
12а.
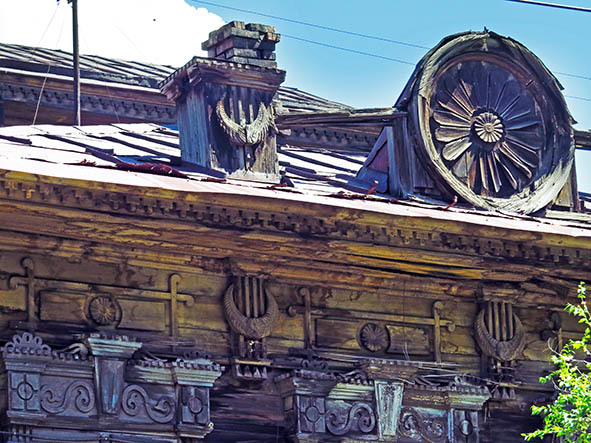
Какого-то единого узнаваемого стиля у читинского деревянного зодчества не сложилось, а из деталей сколько-нибудь характерными мне запомнились такие вот козырьки с округлым вырезом:
13.
Да наличники с резьбой в виде объёмных листьев:
14а.

В целом деревянная Чита смотрится поскромнее, чем деревянные Иркутск или Улан-Удэ, но не хуже Благовещенска, не говоря уж про откровенно обделённые деревянным зодчеством Хабаровск и Владивосток.
14.
Вот только деревянные дома во все эпохи остаются крайними. Остановленное было революцией наступление камня на сруб триумфально продолжилось в позднесоветское время - немалая часть центра Читы выглядит так:
15.
Обратите внимание, что у пятиэтажки с кадра выше 6 этажей!
15а.

На обоих "малых" кадрах - вполне типовые украшения читинских "панелек":
15б.

Застряв в 1990-х, Чита оказалась почти не затронута строительством высоких бизнес-центров и огромных торговых комплексов, но как уже не раз говорилось, из последнего десятилетия ХХ века город сразу перешёл в 3-десятилетие XXI. Поэтому в последние годы
16.
Вобравшей, в том числе, последние особняки читинского центра, видимо сооружённые местными смотрящими да авторитетами прошлых лет.
16а.

Три цвета непарадных районов читинского центра - оранжевый, серый и тёмной-коричневый. Ну а мы тем временем выходим на его самую верхнюю ступень - Петровско-Заводскую улицу. Именно так: Петровский Завод - это вовсе не Петрозаводск, а нынешний Петровск-Забайкальский. У её начала - местная киностудия в сталинском павильоне:
17.
А количество вдруг как-то очень резко переходит в качество: Чита - не Алма-Ата, и её центр вовсе не кажется наклонным, однако здесь вдруг понимаешь, как высоко залез. Наряду с Кызылом и Владикавказом, Чита - самый высокий (600-800м) региональный центр России.
18.
За домами близлежащих улиц - шахтёрские посёлки с копрами и вентиляционными башнями да пара аэродромов - гражданский Кадала и военный Черемушки.
19.
Над колокольней Святого Луки - дымящие трубы ТЭЦ-1 на просторном озере Кенон. А задний план - это Яблоновый хребет, отделяющий Сибирь от Дальнего Востока: ручьи того склона текут в Ледовитый океан через Селенгу, Витим, Енисей и Лену, а ручьи этого склона - в Тихий океан через Читинку, Ингоду, Шилку, Амур...
20.
За околицей когда-то лежало Старое кладбище, на котором хоронили как горожан, так и пленных чехов и австрийцев в годы Гражданской войны и красноармейцев, павших на Халхин-Голе. Но всё это не спасло некрополь от разрушения в позднесоветские годы, и только в 2009 году его небольшую часть облагородили как Парк Памяти:
21.
Тут есть Ильинская часовня в ансамбле с безумно красивыми соснами:
22.
И мемориал погибшим в 1939 году на Халхин-Голе, который можно считать главным в России - ведь эта полугодичная война, унёсшая полсотни тысяч жизней, с нашей стороны велась в основном силами Забайкальского военного округа. Главный её монумент (1984), впрочем, находится за пределами России, непосредственно на месте боёв - ведь официально воевали тогда Маньчжоу-го с Монголией.
23.
Ещё в Парке Памяти запомнился винт самолёта, вырезанный из засохшего дерева. Ворота самого Старого кладбища мы нашли не с первой попытки, но делать этого не посоветую никому - на месте некрополя дикий буш с подлеском из мусора, в котором обосновалось целое племя дикарей, и вполне может быть - людоедов.
24.
Ещё несколько памятников тем, чьи могилы тут были, можно обнаружить дальше по Петровско-Заводской. Вот этот скромный обелиск рассказывает о себе сам:
25а.

А вот во дворе Горного колледжа расположился Парк Сопроцветания... пардон, Мира и Сотрудничества России и Японии (1996)
25.
К моменту своего разрушения Старое кладбище было известно читинцам как Японское кладбищк из-за обилия заброшенных стел с иероглифами. Лежали под ними не военнопленные Второй Мировой войны, а интервенты Гражданской, на штыках которых держалась власть атамана Семёнова.
26.
Присутствие восточных стран в Чите сейчас пожалуй наименее заметно как бы не за всю её историю, кроме советских времён. Вот скажем на улице Бутина выше мест, куда мы доходили в прошлой части, стоит типичный для Читы дом купца Ореловича - два этажа, наличники, кованный балкон да модерновая завитушка на крыше. Но в 1924-49 годах здесь обитало консульство гоминьдановского Китая:
27.
А стоящий западнее по улице Бабушкина Дом с кариатидой (1911) был в 1933-45 годах консульством... нет, не Японии, а её марионетки Маньчжоу-го:
28.
До того здесь находился "Дом беспризорного ребёнка", построил же особнячок военный инженер Илларион Животовский, до революции пытавшийся осваивать вольфрамовый рудник на Хараноре:
28а.

Напротив - роскошная мозаика на одном из зданий Забайкальского государственного университета, мелкодисперсно рассеянного по всему центру. Это от того, что основанный в 1938 году вуз то разделялся, то вновь объединялся, и конкретно тут до 2012 года был пединститут им. Николая Чернышевского:
29.
Дальше на запад по улице Бабушкина - очень симпатичный теремок купца Михаила Лукина (1905), амурского пароходчика, другой деревянный особняк которого я уже показывал в Сретенске.
30.
Теперь здесь тождественность формы (резьба) и содержания (вывеска):
31.
Читинский центр впечатляюще асимметричен. 9/10 достопримечательностей лежат восточнее улицы Бутина, и лишь буквально несколько домиков западнее неё я счёл достойными целенаправленного осмотра. Ещё западнее подводит Старой Чите чёткую черту широкая шумная улица Богомякова (ранее Мариинская), и если для туристов центр - площадь Ленина, то для самих читинцев - скорее перекрёсток Богомякова и Бабушкина, где находится центральный рынок в окружении торговых центров поновее. К нему примыкают корпуса Винной монополии (1906-07) - типичный для Сибири комплекс казённых алкогольных складов:
32.
По улице Богомякова можно съездить на самый верх - к Читинскому дацану "Дамба Брайбунлинг" (2001-10), построенном между последних пятиэтажек и сосновым лесом на Чита-горе. Забористое тибетское название имеет поэтичный перевод "Место, где был собран рис учения Будды":
33.
Буряты в Чите не сказать, чтобы очень заметны - им неплохо и в своём Агинском, которое было даже центром Бурятского автономного округа, в 2008 году объединённого с Читинской областью в Забайкальский край. Однако за пределами Бурятии дацаны есть в России всего в трёх городах - Чите, Иркутске и Петербурге, и более того, со всей цепочкой преемственности читинский дацан старейший из них. Первый городской буддийский храм Российской империи ещё в 1899 году был возведён в нынешнем Саду ОДОРА. Формально - как павильон бурятского сектора Забайкальской сельскохозяйственной выставки, а фактически там проводились службы и собирались ламы. Тот храм сгорел в 1914 году, однако Цокчен-дуган (собор) нынешнего дацана определённо на него похож. Других примечательных зданий в ограде дацана нет, но отдельная достопримечательность "Дамбы Брайбунлинга" (видна на заднем плане) - трапезная, где нам пришлось ещё ждать, когда на длинных деревянных лавках у столов в клеёнчатых скатертях освободится хотя бы пара мест: по сочетанию качества и цены это лучшая позная в городе.
34.
Рядом - дорогущий ресторан "Звезда Кочевника", а выше через лес шумит трасса "Байкал". Хотя в масштабах России она продолжает трассу "Амур" на запад, в масштабах Читы две дороги идут параллельно - "Амуру" принадлежит объездная (где есть бурятское предместье Угдан с популярными в городе позными), а "Байкалу" - дорога сквозь город.
На фото, впрочем, не она, а вид вниз по улице Богомякова, широкой и совершенно прямой. Лесистая гора вдали стоит за Ингодой, а лысая Титовская сопка, с которой мы любовались городом в первой части - между Ингодой и Читинкой:
35.
Так что теперь спустимся прямо вниз, почти к её берегу, где улица Богомякова пересекается с вылетающей прочь из исторического центра улицей Ленина. Здесь раскинулась площадь Борцов Революции, советский ансамбль которой начал создаваться в 1977 году:
36.
Тогда был открыт монумент Борцам Революции, за которым к концу 1980-х выросли Дворец Молодёжи (за деревьями) и странное здание, видом куда больше напоминающее архитектуру первого и третьего миров, чем второго. Сейчас его занимает администрация Центрального района и всякая всячина, ну а каждому читинцу оно известно (несмотря на очевидную 4-угольность) как Пентагон.
37.
От площади Революции вдоль улицы Ленина пара километров до Парка Победы с Георгиевской часовней (2006) у ворот.
38.
Мы, впрочем, в эти ворота выходили, а зашли в другие, расположенные чуть ближе к центру города, да попали в странный чахлый парк, о назначении которого ни за что бы не догадались на местности - ближнюю его часть занимал Китайский рынок, изгнанный восвояси Царь-вирусом, а дальняя - и вовсе Ботанический сад. В парк Победы мы перелезли через забор, сразу оказавшись на аллее с пластиковыми стелами-орденами:
39.
В принципе оба монумента - и Революции, и Войны, - в Чите выглядят прикрученными к городу "чтоб было". Но в Парке Победы впечатляет как минимум размер - 900 на 500 метров. Занялись им, как и многим другим в Чите, видимо совсем недавно - на чужих фотографиях тут голая земля да чахлые деревца, едва выросшие с 1975 года, когда всё это было основано.
40.
Посреди рукотворной лесостепи стоят группки военной техники разных эпох и войн:
41.
Среди которых весело гуляет народ. Я с народом солидарен: деды пали за то, чтобы внуки жили и радовались Солнцу.
42.
Сам мемориал "Миг Победы" напоминает почему-то пусковую установку "Катюши":
43.
А вот при взгляде по сторонам солнечная улыбка сползает с лица - оцените размер эпитафии!
44.
Храбрые и простые ребята "откуда-то с Алтая", без которых немыслима фронтовая проза - на самом деле могут быть и с Яблонового хребта, и с изрытых каторжанами даурских сопок:
45.
С мемориала впечатляюще, как-то особенно романтично на фоне лесистых гор, смотрится многоэтажный город. Погожим вечером мы вспоминали и о том, что Чита - самый солнечный областной центр России, уступающий в этом отношении лишь некоторым своим райцентрам во главе с Борзей. Пасмурными над Забайкальем бывает 60-70 дней в году, но в основном - как раз-таки в конце весны и начале лета.
46.
Напротив ворот Парка Победы - главный в городе стадион "Юность" и дворец спорта "Мегаполис", больше всего впечатливший меня своим слоганом:
47.
Ещё дальше на запад Читинка делает крутой поворот, перед которым по её берегу проходит Малая Забайкальская железная дорога - одна из нескольких десятков узкоколейных (750мм) детских железных дорог, строившихся с 1930-х годов по всему Союзу как наглядные пособия для Школ Юного Железнодорожника. Довольно длинная в своём жанре (6,1км), она была проложена лишь в 1971-74 годах, гораздо позже Малой Амурской детской железной дороги в Свободном, который к тому времени так же входил в ЗабЖД. Вдоль Читинки линия вела в дачный Каштак, а потому пользовалась таким спросом, что курсировали по ней два поезда, на которых юные железнодорожники учились проходить разъезд. В 1981 году Малая Забайкальская была признана лучшей ДЖД Советского Союза, и готовился проект её удлинение до 12 километров, по которому она бы превзошла Малую Амурскую... Но вышло наоборот - в 2009 году по улице Ковыльной были разобраны под застройку 2 с лишним километра путей и станция Луговая (до 2000 года Комсомольская), так что Северный разъезд превратился в конечную. От дороги осталось 3,7км, и что ещё обиднее - так обошлись с ней уже после реконструкции 2000 года, которая и определила её главную "фишку": станция Спортивная, тогда переименованная в Поречье, была построена заново по типовому проекту 1913 года с деревянными вокзалом, служебными зданиями, отхожим местом (такое же я видел в Сретенске) и действующим Никольским храмом. И мы, конечно, очень хотели на них посмотреть, но увидели только вот это:
48.
Что periskop в 2007-м, что griphon в 2009 приходили сюда уже после закрытия линии, но спокойно осматривали станцию, а потому и мы с Петром не особо заморачивались, что последний по расписанию поезд уже прошёл. Однако Поречье оказалось окружено 2-метровым забором, а у ажурных ворот, увидев наши фотоаппараты, вылез недовольный охранник. На вопрос, во сколько завтра будут поезда, он как-то очень ехидно, издеваясь то ли над нами, то ли над своими работодателем, назвал время и добавил, что с рюкзаками проход запрещён, поскольку "вдруг у вас там бомба". Рюкзаки, чтоб не было кривотолков, на нас были городские, да и те почти пусты. Понятия не имею, правду ли сказал сторож и будет ли так в скором времени и на "взрослых" поездах, но после камер хранения по цене хостела и комнат отдыха без удобств по цене дорогого отеля я уже ничему не удивляюсь. Мне стало просто противно, и на следующий день я побрезговал возвращаться на ДЖД. Вот лишь её вид с Титовской сопки, из которого можно понять, что искомое должно быть видно с горловины:
49.
К подножью Титовской сопки и станции Чита-1 дойдём в следующей части - заключительной в рассказе о Даурии.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Чита. Колорит и виды.
Чита. Чита-2 и Амурская улица.
Чита. Площадь и улица Ленина.
Чита. Разное в центре.
Чита. Чита-1 и по Транссибу на запад.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности.
Нерчиский Завод. О рудниках.
По диким степям Забайкалья.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.
Кондуй.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Сибирь злободневное транспорт дорожное деревянное |
Чита. Часть 3: площадь и улица Ленина |
Центр Читы, колориту которой была посвящена первая часть, слагают две площади, каждая размером с ту пару кварталов, что их разделяет. На привокзальной - главные "ворота" и кафедральный собор, на площади Ленина - крайком, ЗабЖД и ЗабВО, а рядом и Дом Офицеров, расположением и масштабом сам достойный собора. С площади Ленина видна златоглавая колокольня у вокзала, а с привокзальной площади - золотой купол железнодорожной конторы. Привокзальную площадь пересекает самая красивая и целостная в городе Амурская улица - их я показывал в прошлой части. Через площадь Ленина проходит безусловно главная в городе улица Ленина, ранее просто Большая - по ним погуляем теперь.
Две главные площади Читы соединяют опять же две улицы, проходящие по их краям: если стоять к вокзалу спиной, то слева будет улица Бутина, а справа Ленинградская (ранее Корейская), начало которой с Губернаторским домом я уже показывал в прошлой части. Улица Бутина же в Чите может поспорить с улицей Ленина за роль самой главной, а с Амурской за звание самой красивой. Её название сразу заставляет вспомнить Нерчинск, где гигантский дворец золотопромышленников Бутиных известен как ни много ни мало Даурский Версаль. Но в те времена, когда в чести были купцы, эта улица называлась Софийской: Бутин - в принципе не редкая фамилия гуранов (забайкальских старожилов), и если в Нерчинске отличились Михаил и Николай Бутины, то в Чите увековечен Иван Бутин - молодой революционер, прославившийся в первую очередь тем, что сгинул в 1918 году в эпицентре "белого террора", Маккавеевском застенке Забайкальской Казачьей республики, где самозванец-атаман Григорий Семёнов со товарищи казнили не менее 5 тысяч человек. От вокзала у берега Читинки Бутинская улица поднимается на сотню метров к телевышке, но её первые кварталы как раз не примечательны почти ничем. Прежде тут стоял Мариинский театр (1909-11) Забайкальского казачьего войска (!), где выступали гастролёры, но он сгорел в 1970 году:
2а.

Доходный дом нерчинского купца Капитона Бушмакина (1914-17) стоит уже на углу площади Ленина. Вернее, для Бушмакина дом стал не очень-то доходным, а вот при Забайкальской Казачьей республике здесь размещались контрольная палата, белогвардейский Клуб Национального возрождения и французская военная миссия. В конце 1930-х же здесь находились штаб и офицерский клуб Забайкальского военного округа - учреждён он был в 1935 году экстренно, а здания для его комсостава строились несколько лет. Дом Бушмакина, однако, остался за военными: в 1970-2002 годах в нём находился штаб 53-й ракетной армии, подчинявшейся не ЗабВО, а РВСН напрямую. Среди прочего в её состав входила и 27-я дивизия в Углегорске, на базе которой теперь строится космодром Восточный.
2.
Дальше, уже откровенно на площади - одно из самых необычных зданий Читы: почтамт, законченный в 1893 году. То есть - до постройки Транссиба, по которому в столицу Забайкалья приехал такой строительный бум, что следов былого в Чите осталось меньше, чем довоенных домов в Калининграде. Пост-Транссибовская Чита, за 15 лет выросшая с 12 до 80 тыс. жителей, стала городом многоэтажных доходников, и кажется, случись революция лет на 10 попозже - сейчас напоминала бы имперскую Ригу. До-Транссибовская Чита же представляла собой город деревянных теремов один другого вычурнее, из которых лишь этот почтамт каким-то чудом пережил ХХ век:
3.
Улица Ленина отделяет от почтамта Полутовский квартал, который вполне мог бы называться Бутинским. И тут речь уже не про Ивана, а как раз-таки про Михаила Бутина, который начинал в 1850-х годах как приказчик у алчнных Кандинских (см. Нерчинский Завод), в 1860-70-х одним из первых частников подался в золотодобычу, сказочно разбогател и отгрохал себе дворец в родном Нерчинске, куда из Франции привёз крупнейшие в тогдашнем мире зеркала, а в 1880-х столь же стремительно разорился. Долги Бутинского дома, однако, унёс в могилу старший брат Николай, Михаил же осторожно подался на рынок недвижимости, накануне строительства Транссиба прикупив участок земли с артезианским колодцем у перекрёстка Большой и Софийской улиц. Построив на нём 8 деревянных домов и винный склад, в 1903 году он продал это всё по многократно выросшей цене своими коллегам-золотопромышленникам из старых забайкальских казаков - братьям Дмитрию, Александру, Василию, Ивану и Николаю Полутовым. Те активно участвовали в промышленности и торговле Забайкалья, и например в 1911 году спасли от гибели Петровский металлургический завод (в итоге всё-таки погибший с развалом Союза), оснастив его электростанцией и поменяв ассортимент. Полутовский квартал же сделался бизнес-центром "Товарищества..." пяти братьев, и фасадом его на Софийскую улицу служил 3-этажный доходный дом (1908-09), при Дальневосточной республике занятый её Министерством внутренних дел, а с 1931 года - городской администрацией Читы:
4.
За фасадом же спрятан квартал, когда-то включавший 12 деревянных зданий:
5.
Самое симпатичное из них - резной особняк Дмитрий Полутова (1903-05), по совместительству - контора товарищества 5 братьев:
6.
В глубине квартала стоит ещё один каменный доходный дом (1909):
7.
Необычная форма не случайна - построенный над тем самым артезианским колодцем, он был по совместительству водонапорной башней:
7а.

Ещё пара домов стоит дальше по улице Ленина, где вдоль них от мэрии тянется Аллея почётных граждан. На самом деле мы осмотрели лишь две стороны Полутовского квартала - свои симпатичные деревянные дома есть и на ограничивающих квартал с других сторон улицах Журавлёва и Чайковского. Очень подробный путеводитель по кварталу есть здесь, ну а мы спешили на площадь Ленина:
8.
Она в Чите ещё крупнее привокзальной - 260 на 230 метров, и улица Ленина пересекает её в самой середине, за колоннами с барельефами истории тогда ещё Читинской области (2003) ненадолго делаясь пешеходной. На велосипедистов и просто гуляющих взирает гранитный Ильич (1983), а самое крупное здание в этой части кадра - осовремененная гостиница "Забайкалье" 1960-х годов:
9.
Площадь, или вернее пустырь, была здесь и до революции. Прежде застраивать его было просто некому, а с началом строительного бума тут подсуетились государство и тогда ещё не отделённая от него церковь, да воздвигли в 1891-1912 годах кафедральный храм Александра Невского, читинцам известный как Новый собор. Впрочем, недолго - в 1936 году собор был взорван, а его кирпич пущен на строительство новых зданий на площади:
9а.

Например, штаба Забайкальского военного округа (1936-39), который вытянулся на 200 метров по всей южной стороне. На Ленинградской улице, по соседству с показанными в прошлой части Госбанком и Губернаторским домом, штаб вобрал в себя бывшее казначейство (1909-11), да и тому военный надстроили третий этаж и сделали декор более параллельно-перпендикулярным. И сейчас уже не вполне очевидно, что со времён Нерчинского (1689) и Кяхтинского (1727) договоров здешняя граница была одной из самых спокойных в России. Через неё мирно ходили чайные караваны, ну а Цинский Китай на той её стороне неуклонно сползал в глубокий упадок. Однако - по-прежнему мнил себя великой степной империей кочевников-маньчжур, запрещавших ханьцам селиться в своей вотчине. Те всё равно перелезали через Ивовый палисад, и к середине столетия их было в Маньчжурии уже гораздо больше, чем маньчжур, даур, эвенков и нанайцев вместе взятых. Возникла совершенно абсурдная ситуация, когда большая часть населения региона составляли нелегалы, которым ничего не оставалось, кроме как пуститься в нелегальные дела. Многие манзы (как называли маньчжурских китайцев) сбивались в разбойничьи шайки хунхузов, разгул которых можно сравнить с набегами степняков. Не указ хунхузам была и русская граница, и для образованного в 1851 году Забайкальского казачьего войска они стали проблемой гораздо хуже беглых каторжан. Сама же Маньчжурия выглядела явно бесхозной землёй, судьбу которой Россия решала не с Китаем (разок введя в него войска при подавлении Боксёрского восстания), а с Японией, да и ту фатально недооценив. И хотя по итогам русско-японской войны Северная Маньчжурия осталась в российской сфере влияния, было ясно, что здесь тот случай, когда аппетит приходит во время еды. В 1918-20 годах японские интервенты дошли уже до Байкала, и изгнать их дипломатически, не дав casus beli забрать оккупированную зону себе, было нетривиальной задачей, в которой целая Дальневосточная республика была лишь одним из инструментов.
10.
Тучи над границей ходили всё более хмуро, и уже в 1929 году, во время конфликта с Китаем за КВЖД Забайкалье оказалось тылом Красной Армии. Когда же в Маньчжурию вернулись самураи, готовые в любую ночь перейти границу у реки, стало ясно, что для контроля над ситуацией пора учреждать Забайкальский военный округ. Здешняя граница в последующие годы не отметилась таким количеством инцидентов и провокаций, как дальневосточная, и всё же за Хасаном (1938) в 1939 году последовал Халхин-Гол. В 1941-47 годах округ превратился в Забайкальский фронт, двинувшийся за Аргунь летом 1945-го. Свой окончательный вид ЗабВО принял к 1953 году, охватив две области (Читинскую и Иркутскую) и две республики (Бурятию и Якутию). Ещё говорят, что в округ входила Монголия - но речь тут, конечно же, не о стране и её вооружённых силах, а о многократно превосходивших их числом и оснащением гарнизонах Советской Армии. Расцвет ЗабВО наступил в 1960-е годы, когда Китайская компартия из "братьев навек" превратилась в "клику шовинистов". Зная склонность китайцев наступать малыми группами по 5-7 миллионов человек, Советы сделали Забайкалье одним из мировых центров военной силы. К концу 1980-х в состав ЗабВО входили 4 армии (3 общевойсковых и 1 воздушная) и десятки военных соединений поменьше с общим составом в 260 тыс. человек. Но китайцы сработали хитрее - пограничные инциденты вроде Даманского были лишь сигналом для американцев о том, что "враг моего врага - мой друг". Вскоре Китай завалил мир дешёвым ширпотребом капиталистических брендов, а СССР погряз в дефиците и упал. Нынешняя Россия, однако, с Китаем дружна как никогда, но чем лучше делались отношения двух стран - тем менее понятно становилось, к чему в Забайкалье всё это оружие. По новым договорам с Китаем войска и вовсе были отведены от границы (причём местные убеждены, что только с нашей стороны), и для бесчисленных посёлков в даурских степях это обернулось социальной катастрофой - заброшенные гарнизоны со скелетами офицерских домов там и ныне привычная часть пейзажа. Военные такому делу, конечно, сопротивлялись: хотя формально ЗабВО был упразднён первым из советских военных округов уже в 1998 году, фактически упразднили Сибирский военный округ, штаб которого переехал из Новосибирска в Читу. По-настоящему ЗабВО был ликвидирован в 2010 году в период "Сердюковщины", и над штабом в Чите теперь стоит штаб в Хабаровске. Но гигантское здание на площади Ленина по-прежнему выглядит неприступной крепостью с огневыми точками и вооружёнными солдатами за забором.
11.
С ЗабВО соседствует ЗабЖД - столь же огромное здание управления Забайкальской железной дороги начали строить в том же 1936-м, но закончили лишь в 1947-м. Прежние здания путейских контор я показывал в прошлой части, а вот сама Забайкальская - одна из немногих железных дорог России, которая с момента своего основания в 1895 году ни разу не упразднялась. Ныне ЗабЖД - это Транссиб с боковыми ветками к границам от Петровска-Забайкальского до Архары, его самые сложные глухие, сложные и "узкие" места. Ну а на здании ЗабЖД главной "фишкой" стал золотой купол, словно заменяющий разрушенный собор в городской панораме:
12.
На кадре выше - Каменный цветок (2003), ничего в общем не значащая композиция, поставленная к 250-летию первой русской заимки на месте Читы. Сама же площадь представляет собой два весьма уютный сквера, над которыми с северной стороны нависает Радиатор - так местные, за характерную форму, прозвали администрацию Забайкальского края 1970-х годов:
13.
Она стоит на месте Андреевской Крестовой церкви (1884-90), при Советах превращённой в кинотеатр и снесённой под строительство крайкома в 1973 году:
13а.
Вокруг церкви же группировался целый Архиерейский квартал, образованный в 1884 году, когда Забайкальская епархия выделилась из Иркутской. Из его построек уцелело миссионерской училище (1907-12) с домовым Преображенским храмом, ныне ставшее семинарией:
14.
Она стоит на углу улицы Бутина - мы почти замкнули периметр площади Ленина. Последнее здание на ней, напротив семинарии - кинотеатр "Родина" (1938-40), с 2006 года занятый Забайкальским фолк-театром:
15.
Однако прежде, чем пойти с площади по улице Ленина, заглянем чуть дальше по улице Бутина. За "Родиной" стоит Читинская филармония имени Олега Лундстрема, "посвящение" которой не менее оригинально, чем здание 1970-х годов. Потомок шведскподанных Лундстрем родился в 1916 году в Чите, ещё ребёнком был увезён в Харбин, где параллельно учился на инженера и скрипача, а в итоге увлёкся джазом и в 1934 году возглавил как бы не первый русский биг-бэнд. К 1947 году, через Францию, Оркестр Лундстрема доехал до СССР и осел в Казани, о чём, кажется, не слышали герои (или создатели?) фильма "Стиляги". Позже без Оркестра Лундстрема не обходилось ни одно музыкальной событие в социалистическом мире, и наверняка в своих гастролях Олег Леонидович посещал и родную Читу. Он умер в 2005 году в Подмосковье, а его имя было присвоено забайкальской филаморнии к 100-летию со дня рождения музыканта.
16.
Дальше по улице - архив, который я бы назвал забытым шедевром брутализма. У обоих зданий - памятники: перед филармонией - стела к 100-летию Забайкальской области (1951), а перед архивом - бюст Алексея Кузнецова, который здесь не подельник революционера-нигилста Сергея Нечаева в убийстве студента-скептика Ивана Иванова, а прошедший каторгу учёный, общественный деятель и основатель музея в Нерчинске. Для того и ссылали в Сибирь: "эту бы энергию - да в мирных целях".
17.
Следующий перекрёсток с улицей Чкалова примечателен ещё парой старых зданий: слева - дом купца Новикова, справа - Первая женская гимназия (1907-09), с 1940 года занятая пединститутом:
18.
Более всего она впечатляет тем, что при Забайкальской Казачьей республике в ней помещался Штаб Атаманских войск, фактически заменявший этому квазигосударству все гражданские органы. А при ДВР - её Министерство просвещения:
19.
Выше улицы Чкалова в сегодняшней прогулке подниматься не будем, так что вернёмся пока что на площадь Ленина. Над обелисками на улице Бутина развеваются флаги города (с белой полосой), над обелисками на Ленинградской - флаги Забайкальского края в совсем уж панафриканских цветах. Ворота улицы Ленина с этой стороны образуют панно на гостинице "Забайкалье" (1967) и тот самый купол ЗабЖД, с которым забавно перекликается самая заметная и самая старая читинская новостройка - бизнес-центр рубежа 1990-2000-х:
20.
Напротив ЗабЖД мама воронежской "Алёнки Апокалипсиса" завлекает народ в "Шоколадницу":
21.
А у начала узкой, тенистой, почти не заметной улицы Пушкина погожим днём почти всегда звучит музыка и гуляет колоритный народ:
22.
Чита вообще оставляет ощущение пространствено-временнного континуума, будто город засиделся в 1990-х, но вдруг обнаружил, что на дворе уже 2020-е, и не знает теперь, с чего бы начать. Вот и здесь остался самый настоящий пятак, где тусуются неформалы - на заре моих путешествий неизменный атрибут всякого крупного города, почти исчезнувший в эпоху соцсетей:
23.
Напротив, в сквере у нынешнего Драмтеатра (см. прошлую часть) - вотчина хипстеров с несколькими модными кафе, среди которых стоит удивлённый Пётр Бекетов - основатель в 1653 году... нет, не города, а лишь первой зимовки в устье Читы по дороге в Нерчинск. Более всего у памятника впечатляет табличка: "В лето 2002 года от Рождества Христова казаками Енисейскими установлен камень сей на месте памятника енисейскому сыну боярскому стрелецкому сотнику донскому казаку Петру Бекетову со товарищи". Сам памятник поставили в 2008-м:
24.
Ну а по той стороне улицы, где неформальский пятак, протянулось на 130 метров без преувеличение главное здание Читы, её атеистический кафедральный собор - ОДОРА (1938-40):
25.
Звучное слово означает Областной (прежде Окружной) Дом Офицеров Российской Армии, историческое же название - ОДКА: Обкружной Дом Красной Армии. Культурный центр всего Забайкальского военного округа и шедевр советской архитектуры на тысячи километров вокруг:
26.
На двух пилонах - повторяющийся фриз барельефов и композиции из трёх скульптур с одним сюжетом: военный на защите трудящихся.
27.
На пилонах крыльца, как на высоких берегах Амура, часовые родины стоят:
27а.

И не знаю точно, что символизируют лица солдат, глядящие вдоль здания из медальонов:
28а.

Всё вместе, заодно с микро-Лениным и парой пушек эпохи советско-японских войн, слагает целый эпос, от которого в уши так и входит боевой ударный батальон.
28.
Внутри ОДОРА - 6 залов, и в том числе музей, среди реликвий которого ракушечный стол последнего китайского императора Пу И, вместе с ними самим вывезенный сюда в 1945 году из Маньчжурии. Мы зайти в Дом офицеров не догадались, да и судя по чужим фотографиям, интерьеры его не слишком впечатляют.
29.
А вот Парк ОДОРА, к которому с улицы Ленина можно пройти через узкую арку - пожалуй, самое приятное место Читы:
30.
Сразу за аркой встречает небольшой музей военной техники, интереснейший образец которой - огнемётный танк ОТ-26 (1932) с непривычно тонкими пушками. Где-то дальше стоит тот самый ИС, абзац об "оресте" которого при "леквидации" 36-й армии я цитировал в посте про Борзю. Замыкает аллею обелиск (1992), и воины из его эпитафии пали в бою не с белокитайцами и японскими милитаристами на сопках Маньчжурии, а в бою с душманами на афганских перевалах:
31.
Парк же старше, чем сам ОДОРА - он был разбит в 1898-99 годах как площадка Забайкальской сельскохозяйственной и промышленной выставки под патронажем Русского Географического общества, призванной показать приехавшим по Транссибу предпринимателям, чем богат этот край. По окончании выставки назвали всё это Садом Жуковского - и не какого-нибудь однофамильца-градоначальника, а вполне себе среднерусского поэта Василия Андреевича.
32.
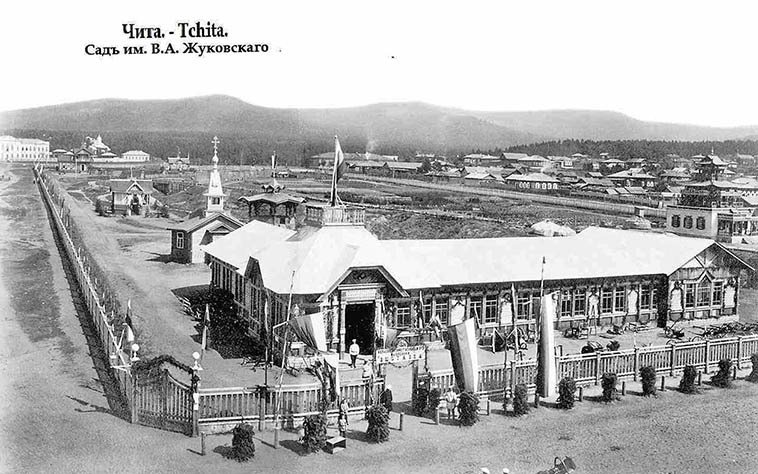
Здесь были посажены деревья и кустарники, сооружены беседки и выставочные павильоны, вырыт бассейн с трубой от речки Кайдаловки, на разных берегах которого поставили пару изб да часовню без посвящения...
32а.
...и бурятский дацан среди юрт - формально просто павильон, знакомивший посетителей с буддийской культурой, а фактически - действующий храм, где собирались ламы, китайские купцы и простые буряты. Первый городской буддийский храм России... но ещё в 1914 году он был уничтожен пожаром:
32б.

В 1912 году РГО передало сад городу, и здесь появились театр, библиотека, тир, не остававшиеся без посетителей в стремительно растущем городе:
32в.

Всё это пригодилось и в советскую эпоху, в которую парк был сначала Садом Профсоюзов, затем обычным ЦПКиО, и наконец с 1940 года - Садом Красной Армии. Реконструировался он не раз, последние здания Забайкальской выставки доломали в 1985-м, а "В печально известных 90-х годах парк Дома офицеров стал постепенно приходить в упадок. Бывать здесь было просто опасно. К 2010 году главный парк города представлял собой огромный захламлённый пустырь, заросший крапивой" - тут я процитировал инфостенд. Но с тех пор прошло ещё 10 лет, и к началу 2020-х небольшой Сад ОДОРА (370 на 130 метров) - один из самых милых парков всей России:
33.
О выставке напоминает беседка, воссозданная по историческим чертежам:
34.
Милитаристическая сущность лучше проглядывает в дальнем конце на улице Чкалова - вот например речной сторожевой катер "Аист" рубежа 1980-90-х. Я уже видел такие в Сретенске и Приаргунске - в Забайкалье это целый жанр:
35.
А вот вполне общероссийский МиГ-21 перевезли сюда в том же 2011 году с бывшего аэродрома Степь рядом с Цугольским дацаном:
36.
Парк явно реконструировался с севера на юг, и ближе к задворкам ОДОРА причастные вдруг поняли, что гуляющим людям совсем не интересен хмурый пафос стали и огня. Парк начал обрастать скульптурами попроще, как например срамная нимфа в фонтане, "Казак и медведь" или "Ёшкин кот", на кота не очень-то похожий. Здесь это отсылка к главному герою фильма "Любовь и голуби", которого играл уроженец Забайкалья Александр Михайлов:
37.
Его не надо путать с котом Бегемотом:
38.
Глыбы пород, резная сова и бюст Василия Жуковского в память о том, как раньше назывался сад:
39.
Гуран - в данном случае не забайкальский старожил, а косуля:
40.
И неожиданный Ждун на бескрайней асфальтовой площадке, одинокий, как тот петух с картины Карлсона:
41.
Улица правее парка (если стоять ко входу в ОДОРА лицом) по старинке называется Выставочной, а самое примечательное здание на ней - Второе Общественное собрание (1902). Первое, один из дотранссибовских теремков, я показывал в прошлой части, но - лишь на чёрно-белом фото:
42.
По Выставочной улице выходим на финишную прямую - остаток поста будем идти улицей Ленина на восток, уже никуда не сворачивая и пересекая улицы, знакомые по прошлой части. Там же, в прошлой части, фигурировал центр психотерапии "Кодар", а вот - кинотеатр "Удокан" (1976), так же названный в честь гор близ Новой Чары, где недавно нашли 3-е по величине в мире месторождение меди. Кодар и Удокан буквально глядят друг на друга через БАМ, а я два месяца спустя ходил по обоим нагорьям.
43.
Напротив, торцом к улице Полины Осипенко, высится Шумовской дворец (1913-15) - официально "красивейший дом Читы". Это местный ответ Бутинскому дворцу в Нерчинске: если братья Михаил и Николай Бутины вполне достоверно привезли с Всемирной выставки в Париже зеркало, то братья Константин и Алексей Шумовы - якобы, сам проект дворца.
44.
По сути это был, конечно же, доходник, большая часть которого стала уже третьим домом читинского Общественного собрания, где в 1918 году была провозглашена власть Советов. Ещё раньше, впрочем, во дворце устроили тюрьму для австрийских военнопленных. При ЗКР здесь находилась канцелярия, а при ДВР - консульство Японии и Правительство: до Совета Министров ДВР в пассаже Второвых (см. прошлую часть) как раз два квартала по Иркутской улице (ныне Осипенко). Со зловещего 1937 года Шумовской дворец - цитадель чекистов:
44а.

Дальше вдоль улицы Ленина тянутся мощные сталинки, одна из которых примечательна "Забайкальским художественным салоном", который держит наш коллега - блогер, путешественник и фотограф Александр
 lesnyanskiy. Там красивый интерьер, непривычно милые в общении сотрудницы, а среди прочего красивого можно купить украшения из местных минералов - в первую очередь зелёного нефрита и сиреневого чароита, что так же добывает близ Новой Чары в той части Забайкальского края, куда напрямик из Читы можно лишь долететь. И тем не менее именно чароит - главный художественный бренд Забайкалья.
lesnyanskiy. Там красивый интерьер, непривычно милые в общении сотрудницы, а среди прочего красивого можно купить украшения из местных минералов - в первую очередь зелёного нефрита и сиреневого чароита, что так же добывает близ Новой Чары в той части Забайкальского края, куда напрямик из Читы можно лишь долететь. И тем не менее именно чароит - главный художественный бренд Забайкалья.45.
По облику этих домов сложно понять, до- или послевоенный это вид сталианса. На самом деле всё просто - война была слишком далеко, и начатый в 1930-е ансамбль был закончен под конец 1940-х с минимальным коррективами:
45а.

Замыкает его почти столичная сталинка (1948) с многоярусной купольной башней:
46.
А во дворе её - неожиданно живописная котельная:
47.
Вид со двора - напротив что-то вроде бывшего Универмага или Дома быта:
48.
Внезапная лавочка. Достоевский в Забайкалье не бывал, однако именно упомянутые Алексей Кузнецов с Сергеем Нечаевым своим убийством студента Иванова дали пищу для "Бесов":
48а.

Между улиц Островского и Столярова - ещё одна большая и невзрачная площадь Декабристов с уютным сквером, аллеей звёзд и областной библиотекой:
49.
Здесь до 1930-х годов стоял деревянный Старый собор Казанской Богоматери (1866), перенявший роль кафедрального храма у нынешней Церкви Декабристов (см. первую часть).
49а.

На углу площади - странная многоэтажка из 1990-х, а у её подножья - дом купца Левенсона:
50.
Он - последний каменный дореволюционный на этой улице, а вот деревянные дома стоят и дальше:
51.
51а.

52а.

Причём иные, вполне может быть, с дотранссибовских лет:
52.
Затем дерево сходит на нет, уступая силикатному кирпичу. Посмотрим назад, на башни и купола по обе стороны улицы, лесистый Яблоновый хребет на водоразделе двух океанов да копёр угольной шахты где-то в предместьях Читы:
53.
В следующей части - о других домах и улицах читинского центра.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Чита. Колорит и виды.
Чита. Чита-2 и Амурская улица.
Чита. Площадь и улица Ленина.
Чита. Разное в центре.
Чита. Чита-1 и по Транссибу на запад.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности. Здесь же - о людях Забайкалья: исчезнувших мурченах, гуранах и этике общения с ними.
Нерчиский Завод. О рудниках.
По диким степям Забайкалья. Об исторической каторге и добыче золота в прошлом и настоящем.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.
Кондуй.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: Сибирь дорожное деревянное |
Чита. Часть 2: вокзал Чита-2 и Амурская улица |
Познакомившись в прошлой части с пейзажем, колоритом и историей Читы, погуляем по её районам. Сегодня - вдоль Амурской улицы, которая одна из немногих сохранила дореволюционное название, а с ним и застройку начала ХХ века, когда Чита за 15 лет выросла в 7 раз. Амурская соединяет показанный в прошлой части Старый Читинск с вокзалом Чита-2, которому город обязан этим ростом.
В городах на Транссибирской магистрали железнодорожные станции - как порты в городах у моря: к ним ведут все дороги, а жизнь немыслима без периодической посадки в жарко натопленный вагон. Но Чита тут выделяется особенно: в ней одна из главных городских площадей - привокзальная, а над станцией высится кафедральный собор:
2.
В отличие от большинства областных центров Сибири и Дальнего Востока, Чита обделена Большой рекой, которую Транссиб отчасти ей заменяет. Линия проходит прямо по берегу Читинки, чьё русло две городские станции на карте заметно превосходят шириной. Путепровод Читы-2 - одновременно и пешеходный мост к заречным районам. Однако даже тщедушные речки в Сибири порой показывают бурный норов, что и случилось в 1897 году, когда катастрофическое наводнение на Великом Азиатском водоразделе смыло десятки километров путей и станций, на 2 года задержав стройку Забайкальской железной дороги. Станция Чита-2 (до 1906 - Чита-Город) открылась со второй попытки лишь в 1900 году, ну а Читинку заковали, словно в каторжника в кандалы, в мощные дамбы, за кустами на которых не видать её быстрой мутной воды.
3.
На кадре выше - вид на восток, в сторону Старого Читинска, который отмечает вон та голубая крыша пятиэтажки, скрывающей во дворе деревянную Церковь Декабристов. Здесь же на путях обнаружился Никольский вагон-храм, с 2019 года периодически навещающий глухие станции Забайкалья и Приамурья.
4.
Вокзал стоит к западу от виадука:
5.
В моей шпаргалке было указано, что на его платформе установлен фрагмент тоннеля через Яблоновый перевал на одноимённом хребте у станции Тургутуй в 70 километрах западнее Читы. Это высшая точка Транссиба (1019м), ну а Яблоновый хребет является Великим Азиатским водоразделом, с которого ручьи текут как в Енисей и Лену (через Селенгу и Витим), так и в Амур (через Ингоду). В 1897 году, когда через него проложили первый однопутный Транссиб, на перевале был сооружён тоннель (или корректнее говоря - галерея, крытый участок пути) с надписями "Къ Великому океану" и "Къ Атлантическому океану" на порталах, уже при первой капитальной реконструкции в 1910-х годах сломанный вместе со скалами. Уцелела лишь табличка с путейской эмблемой, поставленная в 2007 году не в самом Тургутуе, а на перроне Читы:
6.
Изначально вокзал (1900-03) выглядел так, как на кадре выше - купольный зал между пары 2-этажных корпусов. В 1936 его как бы удлинили, добавив ещё один купол и 2-этажный корпус, но так тщательно выдержав стиль, что дореволюционную часть от сталинской на глаз отличить невозможно. Собственно, на кадре выше именно пристройка, а роскошная позднесоветская мозаика примыкает к первоначальному корпусу:
7
Внутри вокзал современен и невзрачен, а вот с площади его фасад совсем другой:
8.
Сейчас тут зал ожидания, пригородные кассы и автобусные кассы - полноценного автовокзала в Чите, как ни странно, нет, хотя Забайкалье не Чукотка и дорожная сеть тут разветвлённая и густая. Большая часть автобусов и маршруток, даже если ехать им полсуток, отправляется с привокзальной площади, и лишь на некоторые из них билеты продают в здешней кассе:
8а.
Рядом - бывший пригородный вокзал (1946, в сайдинге) и перпендикулярный станции Новый вокзал (1975) с характерной башней. В нём кассы дальнего следования, ещё один зал ожидания и утратившие актуальность по новой оптимизации камеры хранения (600-800р. в сутки) и комнаты отдыха (2000-2500р. в сутки). Причём расползалась эта напасть по стране постепенно, в Читу дошла, кажется, за считанные дни до нашего приезда, а потому мы обнаружили Новый вокзал полным взвинченными вахтовиками и измученными препирательством с ними сотрудниками.
9.
Читинская привокзальная площадь огромна (220 на 230м), и при том - безымянна. С восточной стороны (на кадре выше - за спиной) над ней нависает Забайкальский институт предпринимательства с неожиданно красивыми барельефами на бетонном фасаде:
10.
С запада - сталинка железнодорожного техникума:
11.
И кирпичное здание, в списках памятников архитектуры указанное как Доходный дом Забайкальского казачьего войска (1909-12), а на многих старых фотографиях подписанное как "управление Забайкальской железной дороги". Одно другому не мешает - к началу ХХ века казаки во многих областях Сибири и Кавказа всё больше походили на служилое дворянство, и например в Сретенске во время тамошнего бума отлично заработали, сдавая землю купцам.
12.
Тем более что привокзальная площадь в Чите старше самого вокзала, и когда на ней впервые прозвучал паровозный гудок, называлась она Атаманской площадью. Главной на ней тогда была не южная сторона, а северная - где-то в конце 19 века (точных дат я не нашёл, но видимо 1880-е) там были построены изящный резной теремок, в котором сложно было признать Офицерское собрание, и правление Забайкальского казачьего войска:
13.

Историю последнего я рассказывал уже не раз: до середины 19 века всё казачество за Уралом входило в Сибирское войско с центром в Омске, шедшее "встречь Солнцу" со времён Ермака. В 1849 году, однако, в Иркутск прибыл новый генерал-губернатор Николай Муравьёв, впоследствии Муравьёв-Амурский, увлечённый идеей присоединить к России Дальний Восток. В 1851 году он выделил восточные уезды Иркутской губернии в отдельную Забайкальскую область, назначил её центром расположенную между старыми уездными Нерчинском и Верхнеудинском Читу, да организовал в пределах нового региона Забайкальское казачье войско. Туда вошли как старые сибирские казаки, так и многие горнозаводские крестьяне, как раз оказавшиеся не у дел - спасительные для России рубежа 17-18 веков Нерчинские рудники к тому времени истощились, а вековые заводы, на которых выплавляли серебро и свинец, закрывались один за другим. Тут можно добавить и то, что многие крестьяне были потомками каторжан, по освобождении не решившихся повторить путь длиной в пять тысяч вёрст, а ещё - что и вольницы Дона, Днепра, Волги, Яика заселялись в основном беглыми преступниками. В общем, Забайкальское войско получилось странным, а немалая его часть в 1854-58 годах сплавилась вниз по Амуру, основав десятки станиц на пустых берегах, в 1858 году выделившихся в отдельное Амурское казачье войско. Забайкалье не было вольницей, атаманом здешних казаков числился военный губернатор, а в войске был постоянный недокомплект, из-за которого служить сюда офицеры приезжали даже из Прибалтики. И всё же рабоче-каторжное прошлое давало о себе знать: здешние казаки активно участвовали во всех революциях, причём отнюдь не в роли карателей: в Гражданскую войну поддержка советской власти в Даурии была даже выше средней по России. И вместе с тем самые одиозные фигуры белого движения - "Чёрный барон" Пётр Врангель, "новый Чингисхан" Роман фон Унгерн и просто отморозок Григорий Семёнов, - служили именно в Забайкальском казачестве.
13а.

Ну а друг на друга казаки и путейцы глядели совсем недолго: и Военное собрание, и Войсковое правление одно за другим сгорели в 1905 году, когда город был охвачен почти тотальным восстанием рабочих дружин и гарнизона, провозгласивших красную Читинскую республику. Причины пожаров, впрочем, официально были сугубо бытовыми, ну а на практике это и вовсе какие-нибудь дельцы могли под шумок расчищать место для застройки. В тех пожарах погибли не только здания, но и войсковый музей с реликвиями и знамёнами. Переписка с Петербургом о выделении средств на восстановление Атаманского квартала затянулась вплоть до тех времён, когда стало поздно, и лишь в 1930-х северная сторона площади наконец была застроена теми жёлтыми сталинками с заднего плана кадра №2. Дольше всех простояла часовня Александра Невского (1891), но и её сломали уже в 1922 году:
14а.
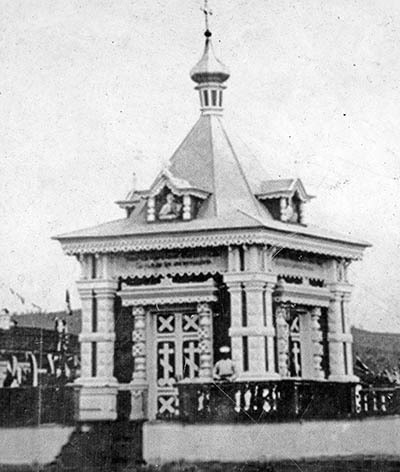
Однако в земле на площади словно остались её корни, из которых, стоило было кончиться атеистической засухе, начал расти Казанский собор (2001-06). Не слишком оригинальный, получился он каким-то неожиданно приятным взгляду, уж по крайней мере куда лучше бесчисленных дореволюционных "клонов ХХС", которым подражает. Высота его колокольни - 67 метров, но "на глаз" храм кажется раза этак в полтора крупнее.
14.
При этом он считается репликой деревянного Казанского собора на нынешней улице Ленина, который теперь воссоздавать просто негде. Часовня Александра Невского так же сместилась - к подножью Титовской сопки, где я уже показывал её реплику в прошлой части. Здесь же о ней напоминает не храм, а памятник Александру Невскому (2015):
15.
Ещё одна часовня на площади - памятник жертвам репрессий (1992) примерно на месте Военного собрания:
16.
От Атаманского квартала же уцелело деревянное (!) правление Забайкальское области (1903), по совместительству Губернаторский дом, когда-то глядевший фасадом на вокзал, но теперь скрытый от площади сталинками. Фасад его обращён во двор, а бок - на Ленинградскую (ранее, внезапно, Корейскую) улицу, поднимающуюся к новому управлению ЗабЖД на площади Ленина (также видна справа на кадре №2). Мемориальная доска на стене гласит, что в январе 1906 году в этом здании был отпечатан первый номер газеты "Забайкальский рабочий" - царский губернатор был перед Читинской республикой настолько пассивен, что позже чуть не пошёл под суд за сотрудничество с повстанцами:
17.
Почти что в бок губернаторскому дому упирается улица Анохина, по которой прогуляемся в конце поста. На её углу с Ленинградской - Госбанк (1909), и ныне используемый по\ назначению:
18.
Анохина - третья улица от Транссиба. Первая от путей Петровская улица - совершенно невзрачна и выглядит просто задворками станции:
19.
Амурская улица же, вторая от железной дороги, пересекает привокзальную площадь чуть выше собора. Большая её часть - к востоку от площади, но интересна и пара кварталов на западе. Здесь примечательна усадьба Коноваловых (1906), и если главный дом просто отличный образец строгого и пластичного сибирского модерна...
20.
...то маленький "Дом с кометой" - визитная карточка деревянной Читы:
21.
Чуть дальше, на задворках заправки местной сети "Нефтемаркет", где Амурская улица переходит в Кастринскую, можно обнаружить симпатичный особнячок, который в 1904 году построил для себя архитектор Гаврила Никитин. Сам он происходил из Екатеринодара, но в 1900 году получил должность главного архитектора Нерчинской каторги. Наверное, платить за это обещали хорошо, но масштаб проблемы зодчий недооценил, и чуть-чуть поработав в Чите, подал в отставку да занялся коммерческими проектами в бурно растущем городе. Главным поклонником его творчества же оказался вряд ли даже знавший его имя атаман-самозванец Семёнов, в Первой женской гимназии разместивший свой штаб, а в этом особнячке - личную резиденцию.
22.
Теперь вернёмся на привокзальную площадь и пойдём по Амурской на восток. Надо сказать, в начале поста я покривил душой, сказав, что она сохранила дореволюционное название: да, изначально эта дорога и правда называлась Амурской улицей, но уже в 1911 году её зачем-то нарекли Александровской, а в 1922-94 это и вовсе была куда как более банальная улица Калинина. Первый от площади её квартал невзрачен, и примечательно в нём разве что маленькое здание магазина Бутаковой (1913), а вернее - пристройка товарищества "Истисад" (1921) эпохи НЭПа:
23.
Напротив - сталинка геологического управления "Читанедра", на углу которой и сам геолог устало облокотился на валун. Весь его вид олицетворяет строки поэта-песенника Николая Добронравова с таблички:
А путь далёк и долог, и нельзя повернуть назад.
Держись, геолог, крепись, геолог, ты солнца и ветра брат..."
Памятник тут появился в 2020 году, а вот при каких обстоятельствах - я расскажу позже.
24.
За углом Профсоюзной улицы на кадре выше - здание Первой Читинской электростанции Николая Полякова (1908), проработавшей всего 20 лет до постройки советских ТЭЦ в городе и шахтёрских посёлках.
25.
В те же времена, когда Профсоюзная называлась Николаевской, её угол с Амурской смотрелся куда интереснее. Слева высился доходный дом Игнатьевых (1907), построенный на месте гостиницы "Даурское подворье", где в 1890 году останавливался Антон Чехов по пути на Сахалин. Вернее, гостиницу Игнатьевы лишь отстроили в камне и сделали двухэтажной, а на других этажах расположились магазины, кафе, парикмахерская и синематограф, за свою историю сменивший названия "Дон-Отелло", "Олимп", "Русь" (при Семёнове), "Красная Звезда" и "Пионер". В гостинице в 1920-22 годах размещалось военно-политическое управление Дальневосточной республики, а в годы НЭПа - "Деловой двор", центр треста из нескольких гостиниц по всей Чите. Гостинца обитает тут и ныне - вот только здание её в 1960-х годах обкарнали так, что я его не заметил:
25а.
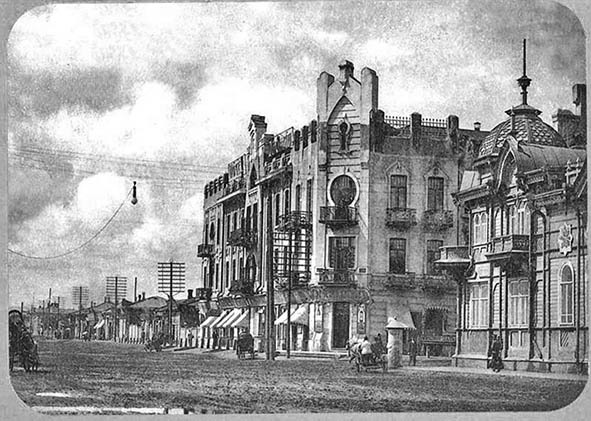
Частичной компенсацией за эту реконструкцию стали интерьеры ресторана "Даурия", но и им пришёл конец в 21 веке:
25б.

Напротив дальше по Амурской стояло деревянное 1-е Общественное собрание (1875) - губернская, но дожелезнодорожная Чита, размером (12 тыс. жителей в 1897 году) скорее уездная, была городом деревянных теремов.
26а.

Увы, тот город был сметён транссибовским бумом не хуже, чем стихийным бедствием или войной - навскидку я и не вспомню тут гражданских зданий той эпохи, кроме каких-нибудь изб. На месте Общественного собрания в 1913-15 годах вырос "самый петербургский дом Читы" - доходник Самсоновичей, более известный как гостиница "Селект":
26.
В Гражданскую здесь разместились канцелярия и приёмная Семёнова, так что формально отсюда (а фактически из особняка и штаба) управлялась Забайкальская Казачья республика. Отступая в 1920-м, семёновцы взорвали здание, реконструкция которого затянулась до 1931 года и внесла в модерн лёгкий налёт сталианса. Позже тут был Горком партии, а сейчас - всяческие областные министерства и службы.
27.
27а.

Странная особенность читинского центра - тут много красивых домов, но почти нет целостных перспектив. Причина проста - за безудержным ростом города было невозможно угнаться. Строили в тогдашней Чите масштабно, прогрессивно и богато, но - почти исключительно на перекрёстках, между которыми избы и лачуги простояли до позднесоветских времён. Вот и следующий перекрёсток Амурской и Полины Осипенко с одной стороны отмечает необычное здание прокуратуры 1980-90-х годов:
28.
А с трёх других сторон - памятники дореволюционной эпохи. Улица Осипенко тогда называлась Иркутской, и видимо поэтому на ней иркутский предприниматель со звучными именем Люциан Древневский построил свой торговый центр (1907), с советских времён он известный читинцам как Дом Книги:
29.
Наискось от него - кинотеатр "Центавр", с недавних пор снова используемый по назначению:
30.
А над перекрёстком, через улицу Осипенко от Дома Киниги, через Амурскую от "Центавра" и наискось от прокуратуры высится форменный "лежачий небоскрёб", одно из грандиознейших зданий Российской империи, вытянувшееся на сотню метров до улицы Анохина, за которой виден дом купцов Соломона и Зуси Зазовских (1910-11). В основе это пассаж Второва - так называется целый жанр, к которому почти в любом губернском городе Сибири принадлежит самый большой и красивый дореволюционный дом. Александр Второв был купцом из селения Лух в нынешней Ивановской области, но преуспел в Иркутске, куда подался ямщиком на таёжных дорогах. Разбогател он внезапно, то ли удачно женившись, то ли ограбив своего пассажира, но свалившиеся деньги не прогулял, а сохранил и приумножил, к концу жизни в 1911 году став богатейшим человеком всей Российской империи. По сути Второв создал первую в России сеть розничных магазинов, среди которых гигантские пассажи можно считать первыми отечественными ТЦ. Читинский пассаж Второва был выстроен всего за полтора года (1910-11), и проектировался явно "на вырост" - если за 15 лет Чита выросла в 7 раз (с 12 до 78 тыс. жителей), то ещё через пару десятилетий тут можно было ожидать появление города масштабов Киева или Риги. И хотя похороны Николая Второва, который при капитализме мог бы превзойти отца, лично Ленин в 1918 году одобрил как "последнее собрание буржуазии", капитализм кончился, а вместе с ним - и пышные пассажи, и безумный рост Читы. Пассажу Второва нашлось иное применение - по сути дела отсюда управлялась марионеточная Дальне-Восточная республика, созданная в 1920 году большевиками как буфер между Советской Россией и ждавшими повода для большой войны японскими интервентами. У республики, однако, были все органы государственной власти, из которых здесь смогли разместиться Совет Министров и три министерства - промышленность и торговли, народного хозяйства и транспорта. Последнее в 1925 году сменило управление Забайкальской железной дороги, а бывший кинотеатр стал ДКЖД. Позже госорганы отсюда уже не ушли, к 1960-м годам измельчав до всякой бюрократической всячины.
31.
Идём дальше по Амурской:
31а.

Следущая улица 9 Января прежде называлась Сретенской, причём не по церквий какой-нибудь, а по далёкому Сретенску, который название своё сохранил. На ней от Амурской до Анохина - самый цельный кусок рядовой застройки:
32.
В следующем квартале примечателен конструктивистский Генеральский дом (1936) для командного состава Забайкальского военного округа - среди его жильцов был целый Родион Малиновский. К дому прилагает симпатичный киоск, известный в народе как Пивная Гайка:
33.
Напротив - бывшее "Окуловское подворье" (1911), очередно купеческий торгово-гостиничный комплекс, в ХХ веке успевший побыть всем подряд от Особого отдела НКВД до кукольного театра:
34.
С 2001 года тут и вовсе центр борьбы со СПИДом, о чём напоминает памятник у ворот. За которые можно было бы спуститься на маленькое Банное озеро среди частного сектора и гаражей:
34а.

Его название напоминает, что совсем рядом Старый Читинск, так и оставшийся ветхим селом посреди шумного города. Но старейший район Читы я показывал в прошлой части, а скульптура "Любовь и верность" (2011) у начала главной сельской улицы Декабристов явно намекает на их героических жён:
35.
Амурская тянется ещё пару кварталов, но дойдя до её конца, пойдём назад к площади по соседней улице Анохина. Как ни странно, именно она, тогда называвшаяся Коротковской, отвечала за парадный въезд в Читу конца 19 века. Среди её избушек стояла деревянная Арка Цесаревича, пожалуй самая оригинальная из подобных арок, строившихся тогда в сибирских городах по всему маршруту будущего Николая II. Но в отличие от многих других городов, после советского разрушения в Чите её не воссоздали:
36а.

Первое капитальное здание за ней - Татарская мечеть (1909), типичная в общем для губернских центров России. Теперь основные её прихожане - таджики да азербайджанцы:
36.
На параллельной Ингодинской улице, похожей теперь на проезд в пыльных дворах многоэтажек, стояла синагога (1907). Зазовские, Соломоновичи и прочие характерные фамилии тут не случайны - в Сибири 19 века фактически сложилась Вторая Черта оседлости, куда деловитые евреи из настоящей Черты были даже рады сослаться. По переписи 1897 года из тогдашних 12 тыс. жителей Читы евреи составляли 10%.
37а.
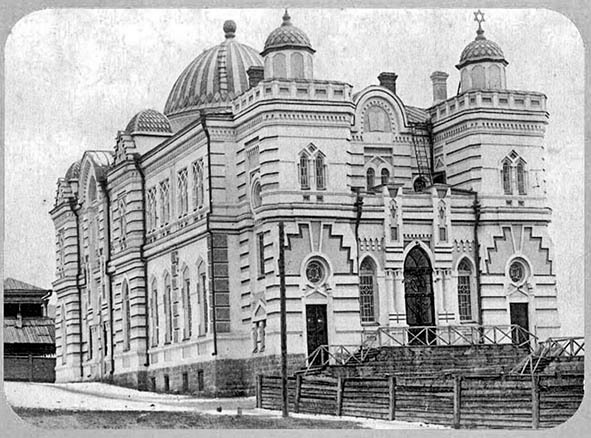
Здание синагоги стоит и ныне, успев послужить эвакогоспиталем в Великую Отечественную войну, но вид его печален, и двери заперты:
37.
Старые домики на улице Анохина сгущаются постепенно. Вот скажем особнячок Лангоцкого, в дореволюционном городе почти типовой: двухэтажная коробка, каменные наличники, кованные балкон да модерновая завитушка на крыше - я таких видел несколько на разных улицах, и на фото отличить их проще всего по цвету.
38.
Вот и улица 9 Января, уголок старого города с другой стороны:
39.
Севернее - бывший доходник Хлыновского (1901), переродившийся к нашему времени в Забайкальское Казачье общество. Вряд ли занимающее его целиком, да и судя по состоянию фасадов - явно не богатое:
40.
Ведь при Советах красные казаки по сути вернулись в состояние горнозаводских крестьян, то есть - колхозников и пролетариев. Белые забайкальцы, в основном подельники Семёнова, по большей части ушли в Китай, а когда и там взяли верх красные - в Австралию, став ядром её казачества, к которому примкнули беженцы из других войск. Словом, казак, сохранивший идентичность, тут по определению белый - за веру, царя и отечество, а все зверства Семёнова с Унгерном - гнусный большевистский оговор.
41.
Дальше по Анохина - ещё парочка домов Игнатьевых: изящный деревянный особняк (1903) работы того же Никитина и доходник, сдававшийся Русско-Азиатскому банку.
42.
Напротив - редкий в Чите дотранссибовский "теремок", построенный в 1884 купцом Иваном Козловым. Обратите внимание, что обшит он не досками, а профлистом - но к этому надо ещё приглядеться. Фотографировал же я ещё и вывеску: Кодар - это горы на самом севере Забайкальского края, близ Новой Чары на БАМе, куда из Читы можно только долететь, ну или ехать в обход через Амурскую или Иркутскую области. С психотерапией вот только не задалось - в горы эти под конец 3-месячного путешествия я даже сходил и порядочно там оконфузился.
43.
Дальше по Анохина - странный корпус в глубине квартала, уж не знаю, каких времён и назначений:
44.
И несколько скульптур в сквере на углу Осипенко:
45.
В том числе - ещё один памятник "Геологам Забайкалья", открытый в июне 2021 года чуть ли не между двух моих приездов в Читу. Ну а почему краевую столицу украсили сразу 3 бронзовых геолога в 2 монументах? Началось всё с того, что в 2019 году патриарх здешней геологоразведки 92-летний Иосиф Рутштейн выступил с инициативой увековечить своих коллег. Пока собирали деньги, по большей части пожертвованные одним золотопромышленником, вдруг подсуетилась "Опора России" - местный союз предпринимателей, всего за пару месяцев успевший собрать средства, спроектировать памятник и даже изготовить его. Геологи к тому времени всё-таки обзавелись проектом, одним из условий которого было увековечить не только мужчин, но и женщин в профессии. В итоге "опоровский" памятник был установлен на углу Профсоюзной, а "рутштейновский" - в сквере на Осипенко. На нём тоже стихи - самого Рутштейна:
Мне говорят - как много лет
Вы геологии отдали
Поразмышляв на сей предмет
Я соглашусь теперь едва ли
Нет, не отдал, а получил
Те ярко-пламенные годы
Когда упорно зуб точил
На тайны каменной породы
И заявляю не тая
В сомненьях путаться не надо
Жизнь в геологии, друзья
Сама прекрасная награда.
От их оценки, из уважения к сединам автора и его научным заслугам, воздержусь и других попрошу воздержаться.
46.
Вот и последняя перед площадью Профсоюзная улица. Здесь к бывшему "Даурскому подворью" примыкает очередной доходник (1908), который в 1916 году перешёл от Салфита и Шлеймы Фангольдов из Ачинска к Абраму и Моисею Бергутам из Харбина:
47.
Здесь жее с 1911 года, после того, как сгорела городская больница, власти арендовали место под лазарет на 250 коек. С ним, вероятно, связано зарождение Читинского медицинского колледжа, сталинка которого стоит в том же квартале:
48.
Из глубины квартала же глядит чрезвычайно странное здание то ли 1980-х, то ли скорее 1990-х годов:
49.
Напоследок заглянем на маленькую тихую улицу Лермонтова длиной всего в один квартал - тут есть сграффито на многоэтажке:
50а.

Заурядный, но красивый деревянный дом:
50.
И стоящий у начала улочки Забайкальский краевой драмтеатр (1971), который я застал в начале долгой реконструкции. Он был основан в 1937 году труппой из Горького, два года спустя приехавшей на гастроли в Читу и оставшейся тут. Но что удивительно в краю, который прошло столько вольнодумцев - так не обзавёлся посвящением. А например Театр Декабристов - красиво бы звучало, правда?
51.
Кадр выше снят с улицы Ленина, на которой стоит высотка с куполом - самая запоминающаяся новостройка Читы, как я понимаю - начала 2000-х.
52.
Но по улице Ленина погуляем уже в следующей части.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Чита. Колорит и виды.
Чита. Чита-2 и Амурская улица.
Чита. Площадь и улица Ленина.
Чита. Разное в центре.
Чита. Чита-1 и по Транссибу на запад.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности. Здесь же - о людях Забайкалья: исчезнувших мурченах, гуранах и этике общения с ними.
Нерчиский Завод. О рудниках.
По диким степям Забайкалья. Об исторической каторге и добыче золота в прошлом и настоящем.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.
Кондуй.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.
|
Метки: казаки Сибирь транспорт дорожное деревянное |






